
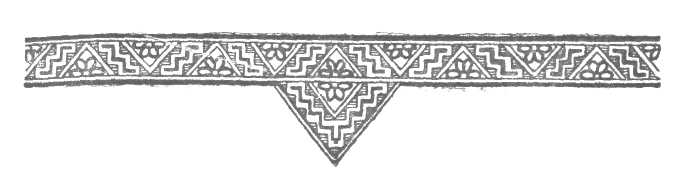

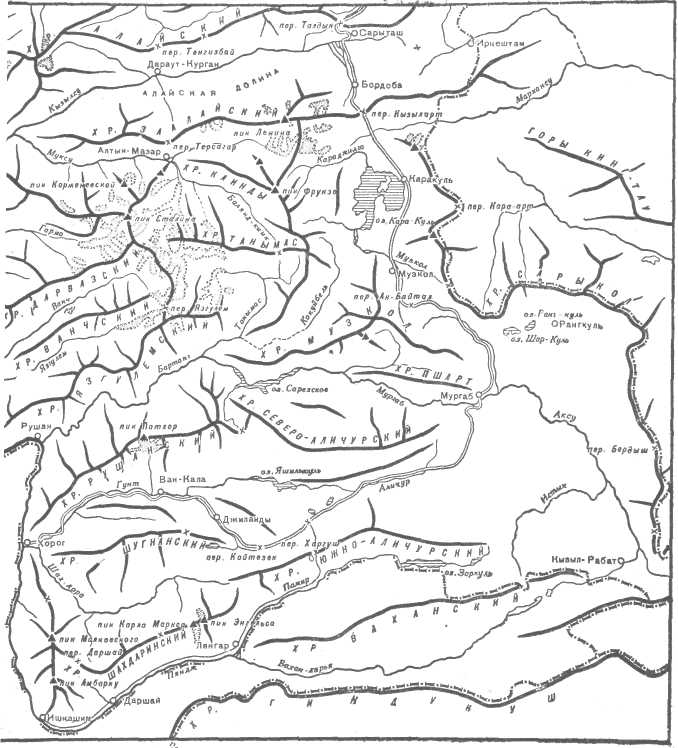 2 П. Лукницкий
Схема горных хребтов Памира.
сторону от этих маршрутов все горы оставались никому из исследователей
неведомыми.
Первым европейцем, прошедшим с севера на Памир до Аличурской долины,
был Н. А. Северцов -- в 1878 году. Первым европейцем, посетившим Шугнан, был
русский ботаник
A. Э. Регель -- в 1882 году. Первым русским геологом, совершившим
маршрут по Восточному Памиру, был горный инженер Г. Л. Иванов. Ряд других
исследователей Памира после них совершали разные маршруты, но начало
систематическому, всестороннему изучению Памира было положено лишь в 1928
году. Тогда на Памир отправилась комплексная экспедиция Академии наук СССР.
Ее участники прошли и изучили неведомую область самого большого на Памире
белого пятна -- область исполинского современного оледенения, Дотоле никто
не знал, что собою представляет высокогорный бассейн ледника Федченко,
открытого и названного так энтомологом
B. Ф. Ошаниным в 1878 году.
Рухнули легендарные, созданные прежними иностранными путешественниками,
близко не подходившими к этой области, фантастические представления о будто
бы обитавшем здесь "племени карликов" (датчанин Олуфсен и другие) и о разных
других чудесах. Появились первые точные знания -- географические,
климатические, гляциологические. Нужны были и точные геологические знания
обо всем Памире, на котором и после 1928 года все еще оставались белые
пятна, хоть и меньших размеров. Мне предстояло работать сначала на Восточном
Памире, пересеченном во многих направлениях уже многими исследователями, а
затем углубиться в никем не исследованное хаотическое сплетение горных
хребтов междуречья Пянджа и Шах-Дары. Долины Восточного Памира взнесены на
четыре тысячи метров над уровнем моря, а гребни гор возвышаются над долинами
еще километра на полтора, на два. Именно об этих местах писал Суэнь Цзянь:
"... царствует здесь страшная стужа, и дуют порывистые ветры. Снег идет и
зимою и летом. Почва пропитана солью и густо покрыта мелкой каменной
россыпью. Ни зерновой хлеб, ни плоды произрастать здесь не могут. Деревья и
другие растения встречаются редко. Всюду дикая пустыня, без следа
человеческого жилища... "
Столь же унылым представал передо мною Памир и в описании Марко Поло:
"... поднимаешься на самое высокое, говорят, место на свете...
Двенадцать дней едешь по той равнине, называется она Памиром; и во все время
нет ни жилья, ни травы, еду нужно нести с собой. Птиц тут нет оттого, что
высоко и холодно. От великого холода и огонь не так светел и не того цвета,
как в других местах... "
Отправляясь на Памир в 1930 году, я 'знал, что мой путь верхом, с
караваном, будет длиться несколько месяцев, что там, где не пройти лошадям,
придется пробираться пешком, что в разреженном воздухе будет трудно дышать,
что пульс у здорового человека на этих высотах достигает ста пятидесяти
ударов в минуту.
Отправляясь на Памир, я знал, что советская власть уже проводит на
Памире первые хозяйственные и культурные мероприятия, уже оказывает
всяческую помощь темному и отсталому местному населению. Но мог ли я себе
представить в, том 1930 году, что спустя всего лишь год мне в следующем моем
путешествии придется наблюдать поход двух первых в истории Памира автомашин
и что еще через год Восточный Памир пересечет первый автомобильный тракт? И
что вскоре в селениях по рекам Памира возникнут многие десятки школ,
амбулаторий, кооперативов, клубов? Что в областном центре -- Хороге --
появятся кинотеатр, кустарные фабрики, своя областная газета, а затем и
гидроэлектростанция, которая даст ток многим селениям в ущельях Гунта,
Пянджа и Шах-Дары? Мог ли я думать, что самолет будет совершать регулярные
пассажирские рейсы через высочайшие в Советском Союзе, обвешанные ледниками
хребты? Ничего этого не было в 1930 году, и тогда, изучая прошлое Памира,
наблюдая настоящее, о его будущем я мог только мечтать. И я понимал, как
трудны и опасны были путешествия первых научных исследователей: Северцова,
Грумм-Гржимайло, Громбчевского, Ошанина и других. Но, читая их дневники и
отчеты, я не догадывался, что мне самому предстоят столь неожиданные и
необычные происшествия, какие не выпадали и на долю тех пионеров русской
науки на Памире, которыми я так увлекался. Описанию этих происшествий и
будут посвящены некоторые из глав моей книги.
Все мои дни, с утра до глубокой ночи, я отдал чтению геологических
книг. Но времени было мало, и к моменту отъезда я никак не мог похвалиться
знаниями. Кроме того, я не знал еще очень многого: я не знал, какая разница
между узбекским и киргизским способами завьючивать лошадь, я не умел
обращаться с эклиметром и удивлялся, почему восток и запад в горном компасе
переменились местами? Неведомые мне геологические термины: синклиналь,
флексура, грабен и другие подобные им, казались мне иногда непостижимою
мудростью, и когда вдруг на каком-нибудь повороте строки их смысл для меня
неожиданно становился ясен, я убеждался, что погружаться в специальные
научные знания и весело и интересно, и жалел только, что остается так мало
времени до отъезда!
Юдин был по горло занят сметами, планами и расчетами. Мне он поручил
два основных дела: добыть все, что нужно для снаряжения и экипировки
экспедиции, и найти подходящего для путешествия топографа.
После долгих поисков топограф нашелся. Гигантского роста юноша -- Юрий
Владимирович Бойе -- вошел в мою комнату. Он был наивен, смешлив,
разговорчив. С ним вместе я поехал к Юдину. Юдин решил, что во всем, кроме
опытности, он человек подходящий, ну, а опытность... она явится на Памире.
Второе дело было труднее. В руках у меня был длинный список предметов,
которые надлежало добыть. Палатки, вьючные ящики, геологические инструменты,
седла, оружие, посуду, одежду, фотоматериалы, рыболовные и охотничьи
принадлежности, железные "кошки" для хождения по ледяным склонам,
консервированные и сухие продукты, географические карты, и мало ли что еще?
Продовольствия нужно было купить ровно столько, чтоб обеспечить себя на
четыре месяца, -- ведь, кроме мяса и кислого молока, на самом Памире мы
решительно ничего не найдем. Я рыскал по всему Ленинграду. Я избегал десятки
магазинов, складов, снабженческих баз, учреждений и, наконец, достал почти
все, что было обозначено в моем тщательно составленном списке. Все
приобретенное было зашито в мешки, упаковано в ящики и отправлено на вокзал.
18 апреля 1930 года, обвешанные биноклями, полевыми сумками,
фотоаппаратами, альтиметрами и всем, чем особенно дорожили, усталые от
хлопот, полные радостных размышлений о будущем, мы -- Юдин, Бойе и я -- сели
в поезд с билетами до Ташкента. Из Ташкента нам предстояло проехать по
железной дороге в Андижан, а оттуда на автомобиле в Ош.
Ферганская долина -- это огромный оазис, с трех сторон ограниченный
отрогами гор Тянь-Шаньской и Памиро-Алайской горных систем, а с четвертой
стороны, с запада, примыкающий к Голодной степи, которая дальше, на запад,
переходит в знойную пустыню, простирающуюся до самого Каспийского моря.
Ферганская долина -- это сплошные поля хлопчатника, абрикосовые сады, бахчи
с дынями и арбузами, это миндальные рощи, мудрая сетка оросительных каналов,
питающихся водой горных рек. Сотни кишлаков, десятки маленьких, полных
зелени городов. Три среднеазиатские республики: Узбекистан, Таджикистан и
Киргизия -- сплетают тут свои невидимые глазом границы. Летом здесь жарко и
душно. Весна -- мягка, тепла, невыразимо хороша. Тот, кто раз побывал в этих
краях весной, всю свою жизнь будет стремиться сюда.
В юго-восточном углу Ферганской долины расположен маленький город Ош.
Древний город, который упоминали китайские летописцы и другие азиатские
путешественники еще тысячу лет назад. Через этот город, расположенный на
пересечении больших караванных путей, монгольские ханы и китайские купцы
возили свои товары в пределы современной Европы. Через Ош проходили орды
завоевателей. Из Оша начинается караванный путь на Памир. Здесь
обосновываются исходные базы всех памирских экспедиций. На берегу реки
Ак-Бура, в маленьком доме местного агронома Кузьмы Яковлевича Жерденко,
организовали нашу базу и мы. Нам предстояло нанять лошадей для каравана,
закупить сахар, муку, рис, овощи и другие продукты, которые не было смысла
везти из Ленинграда. Мы провели в Оше почти две недели.
Я был молод, полон сил и энергии. Впервые пускаясь в столь дальнее
"настоящее" путешествие, я, конечно, был настроен романтически, а потому Ош
в том 1930 году представлялся мне городом необыкновенным. Казалось бы, какая
особая разница была между ним и другими известными мне городами? Я не говорю
о Ленинграде и о Москве: в них, конечно, совсем другая, суровая, северная
природа. Они провожали меня мутным апрельским небом, рыжим, тающим снегом
улиц, каменными громадами многоэтажных домов.
Но, например, Ташкент, Андижан, -- чем отличались они от Оша? Пожалуй,
только своими размерами. Те же аллеи зыблющихся тополей вместо улиц, такие
же арыки, омывающие корни тополей и ноги узбеков-прохожих. Такая же
насыщенность воздуха тонкими ароматами цветущих абрикосовых деревьев,
миндаля и акаций, такие же, наперекор дневному зною и ночной духоте,
холодные реки; такие же бледные, легкие очертания снежных гор по краям
голубого, словно занемевшего неба. В чем же дело? Может быть, Ош вообще не
был похож на город? Нет. Напротив. В нем дымила длинная труба большой
шелкомотальной фабрики. В нем, пересекая арыки, громыхали тяжелые тракторы,
проезжая по кратчайшему пути от одного колхоза к другому. В нем было много
мягких извозчичьих экипажей, запряженных парою лошадей, и были автобусы
Автопромторга. Может быть, Ош казался мне тише, спокойнее других городов?
Тоже нет. В нем бродили толпы народа -- узбеков, киргизов и русских, в нем
по пятницам шумели многоголосые пестрые базары, такие, что автомобиль и арба
одинаково вязли в гуще говорливых людей, а по другим дням шла буйная
торговля на маленьком новом "Пьяном базаре"; в нем физкультурники собирались
на площадках городского
сада, где по вечерам ревел духовой оркестр, кричали мороженщики; а в
другом саду шли спектакли... Может быть, в том тридцатом году этот город еще
сохранял в себе экзотичность древней Азии, превыше всего почитавшей пророка?
Того самою, уставшего от тяжелых странствий, который будто бы остановил
своих быков словом "ош" (в переводе на русский -- "стой") вот под этой
скалистой грядой, что от века называется Сулейман-и-тахта? Думаю, не
ошибусь, сказав еще раз: нет. Какая уж экзотичность, если громкоговорители
заливались соловьями над старинной крепостью и по всем углам города? Если с
каждым днем все ближе подбирался к нему железнодорожный путь от станции
Карасу? Если в школах мусульмане читали книги Ленина, Сталина, обсуждали
план пятилетка? Если в сельсоветах столь же горячо обсуждались сроки
тракторных полевых работ? Если продавцы газет осаждались толпами покупателей
в полосатых халатах, больные шли не к табибам, а в советские аптеки и
амбулатории, а в бывшей гарнизонной церкви библиотекарша перебирала книги,
зачитанные до дыр?.. И над всем этим по вечерам, прожигая густую черную
листву, висели яркие белые созвездья электрических лампочек. Природа в Оше
была такая же, как и всюду в предгорных городах Средней Азии, -- тихая,
теплая, благодатная. И только изредка в ее тишину врывались черные грозы,
гнувшие стройную выправку тополей, хлеставшие город струями теплой воды и
замешивавшие в липкое тесто слой тончайшей лессовой пыли.
И все-таки Ош казался мне необыкновенным.
Почему?
Потому, что я сам пребывал в необычайном душевном подъеме, и мне было
радостно все, все люди представлялись приветливыми, а если вдуматься, то и в
самом деле были гостеприимными, заботливыми, внимательными и
доброжелательными к нам, отправлявшимся на Памир.
Слово "Памир" здесь звучало иначе, чем в Ленинграде и в других городах
России. В Оше были люди, побывавшие на Памире. В Оше все знали, что те, кто
отправляется на Памир, не должны терпеть недостатка ни в чем. Самое
недоверчивое учреждение в Союзе -- Госбанк, и тот отступил от всегдашних
строгих своих правил, выдав Юдину деньги по переводу, в котором не были
соблюдены все формальности. Банк сделал это, чтоб ни на один день не
задержать наш отъезд. Все понимали, как трудна и нужна стране научная
экспедиция на Памир.
Мог ли Ош показаться мне обыкновенным? Ведь он был воротами в те края,
в которых так много еще было неведомого, неразгаданного!
... И, проверив все вещи и все записные книжки, я убедился, что
экспедиция экипирована и снабжена превосходно. У нас были отличные, сытые
лошади, караван с продовольствием и великолепное настроение.
Выступление из Оша
Три года подряд каждую весну я выезжал на Памир из Оша караваном. В
этом маленьком отрывке я описываю выступление из Оша в 1932 году, -- я был
тогда начальником центральной объединенной колонны огромной Таджикской
комплексной экспедиции и потому двигался с большим караваном. В 1930 году,
когда я впервые ехал на Памир с Юдиным, у нас был совсем маленький караван.
На пыльном дворе гора тяжелых мешков, кожаных вьючных сум, свертков,
бидонов.
Вьючка большого каравана -- важное, мудреное дело, в котором есть свои
законы и тайны, известные только самим караванщикам. С детства приучается
узбек-караванщик к этому трудному делу. Сначала он только ходит и смотрит и
юлит меж ног лошадей. Лошади относятся к нему с высокомерным презрением, не
кусают и не лягают его, пока он не наберется храбрости взять одну из них за
аркан. Если он сделал это, обиженная лошадь ткнет его головою так, что он
турманом летит, кувыркаясь в лессовой пыли. Перепуганный, он отступает и
снова ходит и смотрит, преодолевая робость. Однако слишком долго ходить и
смотреть не следует, иначе его засмеют караванщики. Понабравшись мужества,
он подходит к лошади, которая кажется ему смирнее других. Но самая смирная
лошадь уже издали косит на него рыжий выпуклый глаз. И когда очертя голову
он двумя руками вцепится в повод, лошадь срывается с места и летит карьером
вдоль глиняных дувалов, ограждающих улицу, волоча обмершего от страха, но не
выпускающего повода мальчугана. Лошадь попросту шутит с ним, но ему кажется,
что само небо рушится с грохотом на землю и что у него постепенно отрываются
руки, ноги и голова. Натешившись его страхом, взмыленная лошадь, наконец,
останавливается. Тогда мальчишка, еще не успев зареветь благим матом, слышит
одобрительный смех собравшихся зрителей и, шмыгнув носом, всхлипнув разок, в
первый раз воспламеняется гордостью и с видом победителя ведет назад
иронически настроенную лошадь и, по возможности незаметно, потирает
ушибленные места.
С этого дня мальчуган становится подмастерьем караванского цеха. С
этого дня он гордится своим общением с лошадьми. Лишь годам к восемнадцати
своей жизни он понимает, что все приобретенные им познания дают ему право
только подводить лошадей к вещам, которые будут навьючены на лошадь
взрослыми караванщиками.
В самом деле, ведь надо одним глазом рассчитать груз так, чтобы он
равномерно распределился на оба бока; надо без всяких весов подобрать мешки
так, чтобы каждая половина вьюка весила ровно три пуда, а если лошадь слаба,
то надо при этом придать обеим половинам вид такой, чтобы каждая из них
весила в глазах нанимателя каравана ровно три пуда, хотя бы действительный
их вес был в два раза меньше; надо положить груз на вьючное седло так, чтобы
он не свалился от тряски в пути, чтобы он не набил животному бока, чтоб он
не съехал на одну сторону, не нарушил равновесия лошади; надо угадать, где
именно всего удобней для каждой лошади должен прийтись центр тяжести вьюка,
где, с точки зрения закона о неравноплечих рычагах, надо приспособить
привьючки.
Кроме того, у каждой лошади имеется свое собственное отношение к грузу.
Одна ненавидит квадратные ящики, предпочитая им узкие и продолговатые,
другая в клочья изорвет о ближайшее дерево мешки с рисом, потому что ей не
нравится тугое поскрипывание риса в мешке, но ничего не имеет против мешков
с мукой... Словом, только к тридцати пяти -- сорока годам караванщик
научается с первого взгляда определять все самые затаенные черты лошадиных
характеров и узнает все премудрости водительства караванов.
Поэтому нет каравана без старшего караванщика -- караванбаши, что
значит на русском языке "глава каравана". Поэтому лучшие, опытнейшие
караванбаши славятся на всю Среднюю Азию.
Поэтому никогда не надо ничего советовать караванбаши в его деле, если
нет желанья испортить груз, загубить лошадей и прослыть навсегда невеждой и
глупцом среди всего племени караванщиков.
Зато честный и опытный караванбаши может провести караван за тысячи
километров по труднейшим горным тропинкам, по безводью и бездорожью, через
гигантские перевалы, провести так, что к последнему дню путешествия лошади
будут веселы, и резвы, и сыты и можно будет гордиться их развитой
мускулатурой, дыханием, поставленным, как у певца, крепостью копыт,
надлежащей сухостью ног и отличным, спокойным нравом.
А груз... Вы можете быть совершенно спокойны: ни грамма груза не
убавится в караване, если только по вашему приказанию он не будет
расходоваться в пути. Ни расписок, ни договоров не нужно. Узбеки-караванщики
не любят бумаг. Всякая бумага, по их мнению, подразумевает взаимное
недоверие. Каравайцик верит на слово и верен своему слову. И берегитесь
изменить слову. Если вы хоть раз изменили ему, лучше никогда вам не ездить
по караванным путям, лучше ждать, когда в горах и пустынях блеснут рельсы
железной дороги. Вы потеряли доверие караванщиков, и вы не можете нанимать
караваны!
Все это я знаю отлично. Поэтому, когда еще затемно на базу экспедиции в
городе Оше является караванбаши Турсун с оравою своих людей, я показываю ему
на гору тяжелых мешков, ящиков, кожаных вьючных сум, свертков, бидонов,
сосчитанных, перевешанных руками караванщиков, распределенных и перевязанных
арканами еще вчера, и говорю ему:
-- Ну, Турсун-ака, распоряжайся!.. А я пойду смотреть лошадей.
Лошади только в ночь приведены с пастбища, я их еще не видел. Я не мог
их видеть, потому что паслись они за много километров от города и выбирал их
из общего табуна специально назначенный человек. На лошадях -- вьючные
седла.
Караванщики группируются по трое. Один из трех подводит лошадь к грузу,
ставит ее меж двух половин вьюка и держит на коротком поводе. Лошадь тянет
голову вбок, пугливо озирается на лежащий на земле груз, словно пытаясь
определить его природу. Лошадь припрыгивает и дрожит всем телом в лошадиной,
особенной лихорадке. Но караванщик стоит, как железный столб, и лошадь может
податься только в сторону, а никак не вперед, не назад. По сторонам уже
наклонились над вьюком два других караванщика и, подняв груз, привалили его
к бокам лошади. Они сдавили ее двумя половинками вьюка, и, как в тисках,
лошадь никуда уже не может податься, она только похрапывает и нервно поводит
ушами, пока караванщики обвивают ее хитросплетеньем арканов. Они ухватывают
вьюк за углы и дергают его в разные стороны, словно ввинчивая его в
лошадиный бок, потом сверху на спину укладывают привьючку и долго притирают
и примащивают ее, чтоб легла она, как на спальное ложе. Лошадь превращается
в бочку, и эту бочку обводят последним длинным арканом. Запустив концы
аркана себе за плечи и обернув его вокруг поясницы, караванщики упираются
коленом в лошадиный дрожащий бок и отваливаются, кряхтя, натуживаясь до пота
на лбу, так что вены выступают из-под кожи лиловыми выпуклыми жгутами.
Лошадь покряхтывает, выдавливая из себя шипящий, протяжный выдох. И,
закрутив узлы, караванщики разом, стремительно, как от падающего камня,
отскакивают в разные стороны, потому что бочка становится внезапно
выпущенной пружиной, -- со всех четырех ног рванувшись от них, заломив
вспотевшие уши, лошадь несется по двору, как тяжелый снаряд, чтобы вдребезги
разбить все, рискнувшее оказаться на ее пути: на другую сторону двора, за
пролом в саманной стене, за арык, на пыльную улицу, туда, где сбились в кучу
другие, завьюченные, уже бессильные сбросить вьюк, уже присмиревшие лошади.
Долетев до них, разом повернув боком, тяжело дыша, она вдруг всеми копытами
упирается в землю и, ударившись о посторонние вьюки, испуганно
останавливается. И если вьюк остается цел, значит все в порядке, и
караванщики, как к эшафоту, ведут к горе груза следующую, полную подозрений
лошадь.
Вьючные ящики должны быть крепки; потому они оковываются железом и
плотно обшиваются парусиной. А в мягкие вьючные сумы нельзя класть твердых
предметов; даже толстые подошвы альпийской обуви свиваются от удара, как
закрутившийся тополевый листок. А жестяные керосиновые бидоны обжимаются
деревянной клеткой. И все-таки все это превращается в прах, если бесятся
лошади.
Вот почему я опасливо смотрю на вьючный ящик с необходимым для горных
работ динамитом, когда его взвьючивают на лошадь. И вот почему, приказав
везти этот вьюк отдельно от других лошадей, я поручаю ее отдельному
караванщику.
Русские рабочие обычно в лошадях понимают мало, а многие сотрудники
экспедиции глядят на них и вовсе бессмысленными глазами. Большинство
сотрудников отправляется на Памир в первый раз, и некоторые впервые садятся
в седло. Даже заседлать коней не умеют. Но у них воинственный вид, потому
что работа предположена у самой границы, из-за которой всегда возможен налет
басмачей. У всех за плечами торчат винтовки, сбоку болтаются наганы, а у
иных на животе даже поблескивают жестянкой бутылочные ручные гранаты.
Бывалые участники экспедиции хмуро оглядывают таких новичков, боясь не
басмачей, а этого воинства, потому что любой из новичков способен по
неосторожности и неопытности взорвать гранату на собственном животе или
вогнать наганную пулю в круп лошади. Но каждый такой всадник мнит себя
похожим, по меньшей мере, на партизана времен гражданской войны, и каждый
уверен в своей превосходной боеспособности. Наконец последняя завьюченная
лошадь, звеня тазами и ведрами, как пожарный автомобиль, вылетает на улицу.
Потный, возбужденный и охрипший, я вскакиваю в седло и даю распоряжение
выступать. Тут, решив в последний раз перед Памиром отведать мороженого,
один из коллекторов, одетый в алую фланелевую рубаху-ковбойку и бархатные
оливковые
шаровары, устремляет своего конягу к будке мороженщика, красующейся на
краю улицы, среди тополей. Коллектор этот, минуту назад не знавший, с какой
стороны подойти к седлу, нечаянно поднимает коня в галоп. Заждавшийся конь
рвется так, что коллектор, едва не вылетев из седла, вцепляется руками в
луку, а его осетинская широкополая шляпа съезжает с затылка и никнет на
своем ремешке у шеи.
-- Держи коня!.. Держи!.. -- яростно кричу я, но, поняв, что коллектор
не властен справиться с конем, вылетаю вперед и, настигнув коллектора,
хватаю за повод его коня.
Подбегает караванщик и ведет коня "храброго джигита" в поводу.
Караванщик ничему не удивляется и даже не позволяет себе улыбнуться. Караван
вытягивается, идет вниз по улице. Лошади, еще не привыкшие к вьюку,
бросаются в стороны и разбегаются. Караванщики, ругаясь, гоняются за ними,
тщетно стараясь наладить порядок.
Улица ведет к мосту через пенную Ак-Буру. За мостом -- базарчик, на
котором мелочные торговцы урюком и черешней состязаются с горланящими
лепешечниками в зазывании покупателей. Однако и те и другие умолкают, когда
караван проходит мимо разгульной ордой. А посетители чайханы, бросив свой
дымящийся кок-чай, толпятся у дверей и окон. Собаки визжат и лают.
Сразу за базаром, на узкой улице как с цепи срывается лошадь, груженная
динамитом. Она на полном скаку лягает другую лошадь, та оскорблена, и обе
выносятся вперед, растолкав всех лошадей каравана. На пути -- телеграфный
столб, краешком ящика лошадь за него задевает, вьюк съезжает на сторону,
лошадь окончательно перепугана, и... тут уж ничто в мире не может ее
удержать. Она мчится вперед скачками, беспрерывно давая козла, динамитные
ящики съезжают набок все больше и больше, наконец один из ящиков
вываливается из сдерживающих его пут и с треском падает в узкий арык. Метрах
в сорока дальше летит второй ящик, а еще дальше падают два других. Аркан
запутал лошади ноги, она подпрыгивает еще разок, но другой аркан оказывается
у нее на шее, и она, вся в пене, вздрагивая губами, останавливается.
Караванщики задерживают весь караван и бегут собирать ящики, которые, к
счастью, оказались слишком прочны для того, чтобы рассыпаться от такой
передряги. Через двадцать минут караван шествует дальше. Люди злы и
утомлены.
Через два часа караван выходит из закоулков старого города. Широкая
прямая дорога переваливается с холма на холм. То, что не могли сделать люди,
делает солнце. Оно так яростно припекает лошадей, что все теряют теперь
охоту носиться и сбрасывать вьюки. Люди качаются в седлах, как сонные мухи.
Ремни непривычных винтовок натирают им плечи. У многих ноют растертые ляжки.
Если не порядок, то тишина возникает сама собой. Отсель все будет нормально
и благополучно. Завтра все упорядочится, завтра у нас будет превосходное
настроение.
Караван научно-исследовательской экспедиции выступил в поход на Памир.
Наконец в седле... (Из записей 1931 года)
Есть особенно торжественные минуты, в какие человек почти физически
ощутимо сознает себя на грани двух совершенно различных существований. Когда
караван по пыльной дороге медленно взобрался на первый в пути перевал,
тяжело завьюченные лошади сами остановились, словно и в них проникло то же
сознание.
Сзади, в склон горы, в крупы лошадей уперлись красные, низко лежащие
над равниной воздушные столбы заката. Я повернулся боком в седле, уперся
рукою в заднюю его луку. Туда, на закат, сбегала к травянистым холмам
лессовая дорога. Она терялась вдали, в купах засиненных предвечернею дымкой
садов. За ними, под невысокой, но острой, истаивающей в красном тумане
горой, распростерся покинутый экспедицией город. Он казался плоским темным
пятном, в котором пробивались белые полоски и точки. Некоторые из них
поблескивали, как осколки красного зеркала. Отдельные купы деревьев, будто
оторвавшись от темного большого пятна, синели ближе, то здесь, то там. Это
были маленькие селения -- предместья города. Тона плодородной долины
казались такими нежными и мягкими, словно вся природа была одета в чехлы, --
скинуть бы их в парадный день -- и равнина засверкала бы ярким играющим
блеском.
Сзади -- нежнейших тонов равнина, заполненная закатом, город как
последний форпост привычного культурного быта, оставляемого, кажется,
навсегда: улицы, дома, фабрики, конторы, столовые, кинотеатры, автомобили,
извозчики, электричество, телефонные провода, магазины, киоски, библиотеки
-- весь сложный порядок шумного и деятельного человеческого сообщества.
Впереди -- только горы: вершины, ущелья, вспененные бурные реки, горные
хребты, врезавшиеся в голубое небо острыми снежными пиками. И дорога уходит
туда перевитой, небрежно брошенной желтою лентой. Впереди -- неизвестность,
долгие месяцы верхового пути, никаких населенных пунктов на Восточном
Памире, кроме Поста Памирского да редких киргизских кочевий. И только
далеко-далеко за ними, в глубочайших ущельях кишлаки Горного Бадахшана. И
главное впереди -- особенные скудость, ясность и простота форм жизни,
которые обозначат дни и месяцы каждого двинувшегося туда человека.
Еще вчера -- кипучая организационная деятельность, заботы, хлопоты, а
сейчас -- бездонная тишина, в которой только мягкий топот копыт, гортанные
понукания караванщиков, свист бичей да медлительный перезвон бубенчика под
гривой первой вьючной лошади каравана. Теперь каждый из путников
предоставлен себе самому. Все черты характера, все физические способности
каждого приобретают огромное, непосредственное, заметное всем значение.
Никаких условностей и прикрас: все как есть! Если ты мужествен, неутомим,
спокоен, энергичен, честен и смел, ты будешь уважаем, ценим, любим. Если нет
-- лучше вернись обратно, пока не поздно. Здесь, в долгом пути, время тебя
обнажит перед всеми, ты никого не одурачишь и не обманешь, все твои свойства
всплывут наружу. Ни красноречие, ни объем твоих знаний, ни степень
культурности -- ничто не возвысит тебя над твоими товарищами, не послужит
тебе в оправдание, если ты нарушишь точный, простой, неумолимый закон
путешественника.
Все это промельнуло в уме мгновенно, но с беспредельной отчетливостью,
-- так отчетлива, полна и мгновенна бывает предсмертная мысль, и, может
быть, именно поэтому созерцание дальних, вечных снегов влекло к раздумьям о
величии жизни и смерти. Горы -- это будет иное, для многих сейчас еще
неведомое существование, которым сменится прошлый, обычный образ городской
жизни.
Георгий Лазаревич! -- в задумчивости сказал я Юдину, который, подъехав
сзади, придержал рядом со мной своего коня. -- Вы никогда не испытывали
пространственного голода?
Какого голода? -- внимательно взглянув мне в глазка, переопросил Юдин.
Пространственного, -- почему-то вдруг смутившись, повторил я. -- Ну,
такого особого чувства тоски по постоянному передвижению.
Не знаю, пространственным ли его назвать, а голод я ощущаю. Еще какой!
Так и съел бы сейчас баранью ляжку! -- с веселой насмешливостью заявил Юдин.
-- Особенно если с лучком поджарить... С утра ничего не ел!
Понимаю, -- окончательно смутился я. -- Ну, это я так... Поезжайте, я
вас догоню!
А что, вы тоже объелись этого проклятого зеленого Урюка?.. Я говорил
вам: не увлекайтесь!
Я резко выпрямился в седле и хлестнул камчою по крупу коня. Бедняга,
озлившись на незаслуженный удар, рванулся вниз с перевала галопом.
-- Павел Николаевич! Ноги лошади поломаете! -- донесся сзади
(наставительный голос Юдина.
Я осадил коня, поехал медленным шагом, откинулся в стременах и только
тогда оглянулся.
А оглянувшись, увидел караван, вытянувшийся на спуске, и впереди
каравана группу всадников. Юдин, петрограф Н. С. Каткова, прораб, оба
коллектора... Трое караванщиков, спешившись с вьючных лошадей, шли, широко
размахивая рукавами ванных халатов. Позади всех, сблизив лошадей, стояли и
скручивали махорочные цыгарки двое рабочих. Гребень перевала скрыл равнину
вместе с городом и красными лучами заката.
Я вынул из, полевой сумки трубку, туго набил ее махоркой и закурил на
ходу.
Новая жизнь началась, надо было проверить себя, как проверяют перед
боем винтовку.
Вечером, когда караван остановился на ночлег под двумя холмами, на
густой травянистой лужайке, у спокойно журчащей речки; когда на большом
разостланном брезенте был прямо в котле подан и съеден плов, отлично
сваренный караванщиками; когда люди разлеглись на теплой траве под огромными
звездами, а спать еще не хотелось, Юдин, примяв траву, грузно распростерся
животом кверху рядом со мной.
-- Ну, здорово! -- добродушно пробурчал он. -- Теперь до утра не
захочется есть... Молодец Дада, умеет кухарить!
Я молчал.
-- А скажите, Павел Николаевич, -- повернувшись на локте, с интимными
нотками в тоне заговорил Юдин, -- вы, конечно, могли обидеться на меня
тогда, а только, честное слово, мне здорово есть хотелось... Что такое вы
мне хотели сказать об этом, -- как вы его назвали? -- пространственном
голоде?
Юдин редко говорил на отвлеченные темы, и я искоса взглянул на него: не
ждать ли опять насмешки? Но в щелочках глаз моего собеседника было одно
добродушие: ведь Юдин обливает меня ушатом холодной воды, только когда я
впадаю в романтический пыл, а сейчас я ничем не проявляю такого пыла.
-- Так, пустяки... ("Как бы это похолодней да попроще?") Может быть, я
не нашел слова. Неудачно выразился. Просто оглянулся на перевале: закат,
позади город, и все такое, а впереди... Ну, вспомнил о том, как я чувствовал
себя на севере, когда невмоготу стало брюки протирать за столом, заваленным
недописанными бумагами...
Юдин, деловито ковыряя травинкой в зубах и методически сплевывая на
сторону, спокойным взглядом изучал мерцающие звезды. Глухо, будто скрывая
никак не подобающую ему лиричность, проговорил:
-- А вы думаете, мне на перевале такие мысли не пришли в голову? Только
я не особенно умею въедаться в эту, ну, как сказать... в лирику. Вам, как
писателю, оно, конечно, и карты в руки... Ну, а что же такое все-таки этот
пространственный голод, как вы его называете?
Я заговорил медленно, прерывая слова паузами:
Вот, Георгий Лазаревич... Попробуйте поголодать суток трое, ручаюсь
вам, вы станете ни к чорту не годным. Потребность простейшая и здоровая. А,
например, потребность пьяницы в алкоголе, наркомана в наркотиках -- больные
потребности. Их, этих людей, лечат. Вы не пьете, не курите, а я вот курю и
чувствую, что мне это вредно. А бывают потребности, которые не назовешь ни
здоровыми, ни больными, для данного организма естественные, хоть многим они
и кажутся странными. Одна из них та, которую я называю, -- может быть,
неточно и неправильно называю, -- пространственный голод. Это потребность в
постоянном передвижении.
Так, пожалуй. Вот тут кашгарлыки скоро нам попадутся. Это самое чувство
их и заставляет кочевничать, -- спокойно заметил Юдин.
Нет, напротив, -- чуть улыбнулся я. -- В данном случае факторы
социальные. Кочевые народы в поисках пастбищ, воды -- словом, всего, без
чего им прожить нельзя, вынуждены были постоянно передвигаться с места на
место. Отсюда и чувство. Не причина, а следствие! Вкоренилось оно в людей,
превратилось в привычку. Цивилизация и культура устранили причину, а
следствие осталось и живет себе как атавистический пережиток. Мы с вами
дорвались до седел и оба счастливы, а есть миллионы людей в городах и селах,
каждый из которых двумя руками отмахнулся бы от этого. Вот проснулся, встал
человек. Утро. Служба. Работа. Обед. А вечером -- все, что на ум взбредет.
Нужное, может быть, и полезное. Так день, два, год... А то и за всю свою
жизнь из родного города носа не высунет.
Когда мы начинали организовывать экспедицию, помните, сколько
просителей было: ах, хотим, ах, так заманчиво, так интересно! А как до дела
дошло, все разбежались! По сути, любителей передвигаться мало!
Ну, это по другим причинам! Струсили, или условия вы им предложили
неподходящие. А по-моему, вовсе не мало,
а множество: моряки, паровозные машинисты, летчики, шоферы, даже
вагоновожатые -- словом, в первую очередь транспортники. Кто это, как не
люди с чувством пространственного голода? Потом, возьмите, какие-нибудь
агенты заготовительных организаций, да просто иного почтальона попробуйте
посадить за прилавок -- взвоет! Никто из них года на месте не усидит. Такого
в гроб положи, и то под землей ползать начнет! Различны только масштабы и
способы утоления этого голода, а никакой принципиальной разницы нет. А вы
думаете, туристы только за здоровьем да за умственным развитием ходят? Не
сидится, вот и идут. А мало таких бродяг, что к сидячей профессии не
способны, а подвижную сами не умели и никто им не помог подыскать? Весь
вопрос сводится к температуре этого чувства. Вот у меня, я сам знаю,
странническая горячка, а у вас...
Ну, это вы бросьте! -- засмеялся Юдин. -- У меня никакой горячки нет,
да, признаться, если б можно было заниматься геологией, лежа в постели,
разве стал бы я по всяким Памирам шататься?
Значит, я в вас ошибся, вы по существу своему -- лежебока, а к
путешествию вас вынуждают сугубые обстоятельства!
Чорт его знает, Павел Николаевич! -- беспечно заключил Юдин. -- Знаете
что? Завтра вставать до света... Сегодня спим без палаток? Теплынь!..
Юдин встал и двинулся, шурша травой, к свету костра, чтоб разыскать в
груде вьючных ящиков и кожаных сум 1 свою. Я выкурил папиросу, выдул искры
прямо в черное небо, вскочил на ноги и двинулся вслед за Юдиным.
Маслагат (Из записей 1932 года)
Маслагат -- совещание, и это был большой маслагат, затянувшийся до
глубины ночи. Придя в Гульчу, я получил сообщение из Мургаба, что нигде
дальше в пути на Памир для моего каравана не заготовлен фураж и надо взять с
coбою отсюда не меньше шести тонн ячменя. А между тем все сто шестьдесят
лошадей каравана завьючены доотказа. Я созвал в мою палатку всех
караванщиков, и они превзошли себя в желании помочь мне выйти из
затруднения. Они обсуждали по очереди каждый вьюк, они говорили:
-- Белая кобыла Османа Ходжи может взять биш кадак| (пять фунтов)...
-- Привьючки желтого мерина с рассеченным ухом и короткохвостой
лупоглазой кобылы можно переложить на длинношеего мерина, носящего гриву на
правую сторону. Тогда на желтого мерина положим полмешка ячменя...
Иргаш сидит на своем вьюке, Иргаш весит, наверно,
четыре пуда, Иргаш до Ак-Босоги пойдет пешком, вместо него мы прибавим
к вьюку три пуда (Иргаш -- живой, ячмень -- мертвый, надо поменьше); лошадь
сильная, может три дня нести восемь пудов, а в Ак-Босоге отдадим это зерно
лошадям, Иргаш опять может ехать...
Я точно рассчитываю каждодневную дачу. Норма караванных лошадей -- два
килограмма в день. От Гульчи до Мургаба с дневками -- четырнадцать дней. Сто
шестьдесят лошадей по два килограмма... Но зерно можно давать не каждый
день.
Турсун-ака, в Суфи-Кургане дать надо?
Конечно, надо.
А в Ак-Босоге можем не давать? Там ядовита трава, от нее лошади дохнут,
но это под самым перевалом Талдык, а ниже, -- мы можем стать ниже, --
знаешь, там, на левой стороне, у ручья, поближе к киргизской летовке...
Правда, там хорошая, как сахар, трава.
В Сарыташе не давать, там пустим лошадей в левую щель, там хватит
травы. В Алае -- и думать нечего: не давать, два дня не давать, потому что
дневка. В Бордобе, конечно, прокормимся, ерунда. Ну, потом -- Маркансу.
Давать: пустыня; Каракуль -- солончак, песок, травы там есть немножко, но
ее, может быть, уже съели, может, мороз, -- надо дать. Южный Каракуль --
дать, Муз-кол -- дать: лед и камни, Ак-Байтал -- там, под моренами, у
реки... впрочем, надо дать. Вот и Мургаб... Сколько всего?
Турсун считает по пальцам:
Старый холм -- раз, Мертвая Вода -- два, Черное Озеро -- три, еще
Черное Озеро -- четыре... Хамма сакыз...
Всего восемь? Правильно, восемь... Два на сто, шестьдесят на восемь...
Ну, в общем два с половиной, считая, что еще дневка в Суфи. Первые дни в
Мургабе -- одна, неприкосновенный запас -- полтонны, всего, следовательно,
четыре тонны, или восемьдесят три мешка. Первые Дни лошади повезут по восемь
пудов, с каждым днем продовольствие и фураж будут уменьшаться, словом...
возьмем, Турсун-ака?
Но Турсун еще не научился считать на тонны, я все пересчитываю в пуды,
и тогда он опять прикидывает:
-- Белая кобыла столько-то, черная кобыла... желтая кобыла... синяя
кобыла (у Турсуна есть даже синяя)...
** П. Лукницкий
Считает Турсун, считает Насыр, считает Иргаш, считают все шестнадцать
караванщиков. Когда хрипота одолела всех, когда головы мутны от усталости,
когда обсуждены качества каждой из ста шестидесяти лошадей, а ночь уже
наклонилась к рассвету, Турсун упирается ладонями в колени, медленно,
подбирая халат, встает и простирает над собранием руки:
Хоп, хоп, болды, келады ухлайдэн! * Хоп, товарыш началнык, пайдет.
Вот спасибо, Турсун... Ты большой караванбаши... Ну, ладно, ладно, айда
спать. Спать, товарищи, спать, спать!..
Караван может выступить утром. Утром -- радиограмма в Мургаб:
"Фуражом обеспечен. Задержки пути не будет".
* -- Довольно, пойдем спать!
2 П. Лукницкий
Схема горных хребтов Памира.
сторону от этих маршрутов все горы оставались никому из исследователей
неведомыми.
Первым европейцем, прошедшим с севера на Памир до Аличурской долины,
был Н. А. Северцов -- в 1878 году. Первым европейцем, посетившим Шугнан, был
русский ботаник
A. Э. Регель -- в 1882 году. Первым русским геологом, совершившим
маршрут по Восточному Памиру, был горный инженер Г. Л. Иванов. Ряд других
исследователей Памира после них совершали разные маршруты, но начало
систематическому, всестороннему изучению Памира было положено лишь в 1928
году. Тогда на Памир отправилась комплексная экспедиция Академии наук СССР.
Ее участники прошли и изучили неведомую область самого большого на Памире
белого пятна -- область исполинского современного оледенения, Дотоле никто
не знал, что собою представляет высокогорный бассейн ледника Федченко,
открытого и названного так энтомологом
B. Ф. Ошаниным в 1878 году.
Рухнули легендарные, созданные прежними иностранными путешественниками,
близко не подходившими к этой области, фантастические представления о будто
бы обитавшем здесь "племени карликов" (датчанин Олуфсен и другие) и о разных
других чудесах. Появились первые точные знания -- географические,
климатические, гляциологические. Нужны были и точные геологические знания
обо всем Памире, на котором и после 1928 года все еще оставались белые
пятна, хоть и меньших размеров. Мне предстояло работать сначала на Восточном
Памире, пересеченном во многих направлениях уже многими исследователями, а
затем углубиться в никем не исследованное хаотическое сплетение горных
хребтов междуречья Пянджа и Шах-Дары. Долины Восточного Памира взнесены на
четыре тысячи метров над уровнем моря, а гребни гор возвышаются над долинами
еще километра на полтора, на два. Именно об этих местах писал Суэнь Цзянь:
"... царствует здесь страшная стужа, и дуют порывистые ветры. Снег идет и
зимою и летом. Почва пропитана солью и густо покрыта мелкой каменной
россыпью. Ни зерновой хлеб, ни плоды произрастать здесь не могут. Деревья и
другие растения встречаются редко. Всюду дикая пустыня, без следа
человеческого жилища... "
Столь же унылым представал передо мною Памир и в описании Марко Поло:
"... поднимаешься на самое высокое, говорят, место на свете...
Двенадцать дней едешь по той равнине, называется она Памиром; и во все время
нет ни жилья, ни травы, еду нужно нести с собой. Птиц тут нет оттого, что
высоко и холодно. От великого холода и огонь не так светел и не того цвета,
как в других местах... "
Отправляясь на Памир в 1930 году, я 'знал, что мой путь верхом, с
караваном, будет длиться несколько месяцев, что там, где не пройти лошадям,
придется пробираться пешком, что в разреженном воздухе будет трудно дышать,
что пульс у здорового человека на этих высотах достигает ста пятидесяти
ударов в минуту.
Отправляясь на Памир, я знал, что советская власть уже проводит на
Памире первые хозяйственные и культурные мероприятия, уже оказывает
всяческую помощь темному и отсталому местному населению. Но мог ли я себе
представить в, том 1930 году, что спустя всего лишь год мне в следующем моем
путешествии придется наблюдать поход двух первых в истории Памира автомашин
и что еще через год Восточный Памир пересечет первый автомобильный тракт? И
что вскоре в селениях по рекам Памира возникнут многие десятки школ,
амбулаторий, кооперативов, клубов? Что в областном центре -- Хороге --
появятся кинотеатр, кустарные фабрики, своя областная газета, а затем и
гидроэлектростанция, которая даст ток многим селениям в ущельях Гунта,
Пянджа и Шах-Дары? Мог ли я думать, что самолет будет совершать регулярные
пассажирские рейсы через высочайшие в Советском Союзе, обвешанные ледниками
хребты? Ничего этого не было в 1930 году, и тогда, изучая прошлое Памира,
наблюдая настоящее, о его будущем я мог только мечтать. И я понимал, как
трудны и опасны были путешествия первых научных исследователей: Северцова,
Грумм-Гржимайло, Громбчевского, Ошанина и других. Но, читая их дневники и
отчеты, я не догадывался, что мне самому предстоят столь неожиданные и
необычные происшествия, какие не выпадали и на долю тех пионеров русской
науки на Памире, которыми я так увлекался. Описанию этих происшествий и
будут посвящены некоторые из глав моей книги.
Все мои дни, с утра до глубокой ночи, я отдал чтению геологических
книг. Но времени было мало, и к моменту отъезда я никак не мог похвалиться
знаниями. Кроме того, я не знал еще очень многого: я не знал, какая разница
между узбекским и киргизским способами завьючивать лошадь, я не умел
обращаться с эклиметром и удивлялся, почему восток и запад в горном компасе
переменились местами? Неведомые мне геологические термины: синклиналь,
флексура, грабен и другие подобные им, казались мне иногда непостижимою
мудростью, и когда вдруг на каком-нибудь повороте строки их смысл для меня
неожиданно становился ясен, я убеждался, что погружаться в специальные
научные знания и весело и интересно, и жалел только, что остается так мало
времени до отъезда!
Юдин был по горло занят сметами, планами и расчетами. Мне он поручил
два основных дела: добыть все, что нужно для снаряжения и экипировки
экспедиции, и найти подходящего для путешествия топографа.
После долгих поисков топограф нашелся. Гигантского роста юноша -- Юрий
Владимирович Бойе -- вошел в мою комнату. Он был наивен, смешлив,
разговорчив. С ним вместе я поехал к Юдину. Юдин решил, что во всем, кроме
опытности, он человек подходящий, ну, а опытность... она явится на Памире.
Второе дело было труднее. В руках у меня был длинный список предметов,
которые надлежало добыть. Палатки, вьючные ящики, геологические инструменты,
седла, оружие, посуду, одежду, фотоматериалы, рыболовные и охотничьи
принадлежности, железные "кошки" для хождения по ледяным склонам,
консервированные и сухие продукты, географические карты, и мало ли что еще?
Продовольствия нужно было купить ровно столько, чтоб обеспечить себя на
четыре месяца, -- ведь, кроме мяса и кислого молока, на самом Памире мы
решительно ничего не найдем. Я рыскал по всему Ленинграду. Я избегал десятки
магазинов, складов, снабженческих баз, учреждений и, наконец, достал почти
все, что было обозначено в моем тщательно составленном списке. Все
приобретенное было зашито в мешки, упаковано в ящики и отправлено на вокзал.
18 апреля 1930 года, обвешанные биноклями, полевыми сумками,
фотоаппаратами, альтиметрами и всем, чем особенно дорожили, усталые от
хлопот, полные радостных размышлений о будущем, мы -- Юдин, Бойе и я -- сели
в поезд с билетами до Ташкента. Из Ташкента нам предстояло проехать по
железной дороге в Андижан, а оттуда на автомобиле в Ош.
Ферганская долина -- это огромный оазис, с трех сторон ограниченный
отрогами гор Тянь-Шаньской и Памиро-Алайской горных систем, а с четвертой
стороны, с запада, примыкающий к Голодной степи, которая дальше, на запад,
переходит в знойную пустыню, простирающуюся до самого Каспийского моря.
Ферганская долина -- это сплошные поля хлопчатника, абрикосовые сады, бахчи
с дынями и арбузами, это миндальные рощи, мудрая сетка оросительных каналов,
питающихся водой горных рек. Сотни кишлаков, десятки маленьких, полных
зелени городов. Три среднеазиатские республики: Узбекистан, Таджикистан и
Киргизия -- сплетают тут свои невидимые глазом границы. Летом здесь жарко и
душно. Весна -- мягка, тепла, невыразимо хороша. Тот, кто раз побывал в этих
краях весной, всю свою жизнь будет стремиться сюда.
В юго-восточном углу Ферганской долины расположен маленький город Ош.
Древний город, который упоминали китайские летописцы и другие азиатские
путешественники еще тысячу лет назад. Через этот город, расположенный на
пересечении больших караванных путей, монгольские ханы и китайские купцы
возили свои товары в пределы современной Европы. Через Ош проходили орды
завоевателей. Из Оша начинается караванный путь на Памир. Здесь
обосновываются исходные базы всех памирских экспедиций. На берегу реки
Ак-Бура, в маленьком доме местного агронома Кузьмы Яковлевича Жерденко,
организовали нашу базу и мы. Нам предстояло нанять лошадей для каравана,
закупить сахар, муку, рис, овощи и другие продукты, которые не было смысла
везти из Ленинграда. Мы провели в Оше почти две недели.
Я был молод, полон сил и энергии. Впервые пускаясь в столь дальнее
"настоящее" путешествие, я, конечно, был настроен романтически, а потому Ош
в том 1930 году представлялся мне городом необыкновенным. Казалось бы, какая
особая разница была между ним и другими известными мне городами? Я не говорю
о Ленинграде и о Москве: в них, конечно, совсем другая, суровая, северная
природа. Они провожали меня мутным апрельским небом, рыжим, тающим снегом
улиц, каменными громадами многоэтажных домов.
Но, например, Ташкент, Андижан, -- чем отличались они от Оша? Пожалуй,
только своими размерами. Те же аллеи зыблющихся тополей вместо улиц, такие
же арыки, омывающие корни тополей и ноги узбеков-прохожих. Такая же
насыщенность воздуха тонкими ароматами цветущих абрикосовых деревьев,
миндаля и акаций, такие же, наперекор дневному зною и ночной духоте,
холодные реки; такие же бледные, легкие очертания снежных гор по краям
голубого, словно занемевшего неба. В чем же дело? Может быть, Ош вообще не
был похож на город? Нет. Напротив. В нем дымила длинная труба большой
шелкомотальной фабрики. В нем, пересекая арыки, громыхали тяжелые тракторы,
проезжая по кратчайшему пути от одного колхоза к другому. В нем было много
мягких извозчичьих экипажей, запряженных парою лошадей, и были автобусы
Автопромторга. Может быть, Ош казался мне тише, спокойнее других городов?
Тоже нет. В нем бродили толпы народа -- узбеков, киргизов и русских, в нем
по пятницам шумели многоголосые пестрые базары, такие, что автомобиль и арба
одинаково вязли в гуще говорливых людей, а по другим дням шла буйная
торговля на маленьком новом "Пьяном базаре"; в нем физкультурники собирались
на площадках городского
сада, где по вечерам ревел духовой оркестр, кричали мороженщики; а в
другом саду шли спектакли... Может быть, в том тридцатом году этот город еще
сохранял в себе экзотичность древней Азии, превыше всего почитавшей пророка?
Того самою, уставшего от тяжелых странствий, который будто бы остановил
своих быков словом "ош" (в переводе на русский -- "стой") вот под этой
скалистой грядой, что от века называется Сулейман-и-тахта? Думаю, не
ошибусь, сказав еще раз: нет. Какая уж экзотичность, если громкоговорители
заливались соловьями над старинной крепостью и по всем углам города? Если с
каждым днем все ближе подбирался к нему железнодорожный путь от станции
Карасу? Если в школах мусульмане читали книги Ленина, Сталина, обсуждали
план пятилетка? Если в сельсоветах столь же горячо обсуждались сроки
тракторных полевых работ? Если продавцы газет осаждались толпами покупателей
в полосатых халатах, больные шли не к табибам, а в советские аптеки и
амбулатории, а в бывшей гарнизонной церкви библиотекарша перебирала книги,
зачитанные до дыр?.. И над всем этим по вечерам, прожигая густую черную
листву, висели яркие белые созвездья электрических лампочек. Природа в Оше
была такая же, как и всюду в предгорных городах Средней Азии, -- тихая,
теплая, благодатная. И только изредка в ее тишину врывались черные грозы,
гнувшие стройную выправку тополей, хлеставшие город струями теплой воды и
замешивавшие в липкое тесто слой тончайшей лессовой пыли.
И все-таки Ош казался мне необыкновенным.
Почему?
Потому, что я сам пребывал в необычайном душевном подъеме, и мне было
радостно все, все люди представлялись приветливыми, а если вдуматься, то и в
самом деле были гостеприимными, заботливыми, внимательными и
доброжелательными к нам, отправлявшимся на Памир.
Слово "Памир" здесь звучало иначе, чем в Ленинграде и в других городах
России. В Оше были люди, побывавшие на Памире. В Оше все знали, что те, кто
отправляется на Памир, не должны терпеть недостатка ни в чем. Самое
недоверчивое учреждение в Союзе -- Госбанк, и тот отступил от всегдашних
строгих своих правил, выдав Юдину деньги по переводу, в котором не были
соблюдены все формальности. Банк сделал это, чтоб ни на один день не
задержать наш отъезд. Все понимали, как трудна и нужна стране научная
экспедиция на Памир.
Мог ли Ош показаться мне обыкновенным? Ведь он был воротами в те края,
в которых так много еще было неведомого, неразгаданного!
... И, проверив все вещи и все записные книжки, я убедился, что
экспедиция экипирована и снабжена превосходно. У нас были отличные, сытые
лошади, караван с продовольствием и великолепное настроение.
Выступление из Оша
Три года подряд каждую весну я выезжал на Памир из Оша караваном. В
этом маленьком отрывке я описываю выступление из Оша в 1932 году, -- я был
тогда начальником центральной объединенной колонны огромной Таджикской
комплексной экспедиции и потому двигался с большим караваном. В 1930 году,
когда я впервые ехал на Памир с Юдиным, у нас был совсем маленький караван.
На пыльном дворе гора тяжелых мешков, кожаных вьючных сум, свертков,
бидонов.
Вьючка большого каравана -- важное, мудреное дело, в котором есть свои
законы и тайны, известные только самим караванщикам. С детства приучается
узбек-караванщик к этому трудному делу. Сначала он только ходит и смотрит и
юлит меж ног лошадей. Лошади относятся к нему с высокомерным презрением, не
кусают и не лягают его, пока он не наберется храбрости взять одну из них за
аркан. Если он сделал это, обиженная лошадь ткнет его головою так, что он
турманом летит, кувыркаясь в лессовой пыли. Перепуганный, он отступает и
снова ходит и смотрит, преодолевая робость. Однако слишком долго ходить и
смотреть не следует, иначе его засмеют караванщики. Понабравшись мужества,
он подходит к лошади, которая кажется ему смирнее других. Но самая смирная
лошадь уже издали косит на него рыжий выпуклый глаз. И когда очертя голову
он двумя руками вцепится в повод, лошадь срывается с места и летит карьером
вдоль глиняных дувалов, ограждающих улицу, волоча обмершего от страха, но не
выпускающего повода мальчугана. Лошадь попросту шутит с ним, но ему кажется,
что само небо рушится с грохотом на землю и что у него постепенно отрываются
руки, ноги и голова. Натешившись его страхом, взмыленная лошадь, наконец,
останавливается. Тогда мальчишка, еще не успев зареветь благим матом, слышит
одобрительный смех собравшихся зрителей и, шмыгнув носом, всхлипнув разок, в
первый раз воспламеняется гордостью и с видом победителя ведет назад
иронически настроенную лошадь и, по возможности незаметно, потирает
ушибленные места.
С этого дня мальчуган становится подмастерьем караванского цеха. С
этого дня он гордится своим общением с лошадьми. Лишь годам к восемнадцати
своей жизни он понимает, что все приобретенные им познания дают ему право
только подводить лошадей к вещам, которые будут навьючены на лошадь
взрослыми караванщиками.
В самом деле, ведь надо одним глазом рассчитать груз так, чтобы он
равномерно распределился на оба бока; надо без всяких весов подобрать мешки
так, чтобы каждая половина вьюка весила ровно три пуда, а если лошадь слаба,
то надо при этом придать обеим половинам вид такой, чтобы каждая из них
весила в глазах нанимателя каравана ровно три пуда, хотя бы действительный
их вес был в два раза меньше; надо положить груз на вьючное седло так, чтобы
он не свалился от тряски в пути, чтобы он не набил животному бока, чтоб он
не съехал на одну сторону, не нарушил равновесия лошади; надо угадать, где
именно всего удобней для каждой лошади должен прийтись центр тяжести вьюка,
где, с точки зрения закона о неравноплечих рычагах, надо приспособить
привьючки.
Кроме того, у каждой лошади имеется свое собственное отношение к грузу.
Одна ненавидит квадратные ящики, предпочитая им узкие и продолговатые,
другая в клочья изорвет о ближайшее дерево мешки с рисом, потому что ей не
нравится тугое поскрипывание риса в мешке, но ничего не имеет против мешков
с мукой... Словом, только к тридцати пяти -- сорока годам караванщик
научается с первого взгляда определять все самые затаенные черты лошадиных
характеров и узнает все премудрости водительства караванов.
Поэтому нет каравана без старшего караванщика -- караванбаши, что
значит на русском языке "глава каравана". Поэтому лучшие, опытнейшие
караванбаши славятся на всю Среднюю Азию.
Поэтому никогда не надо ничего советовать караванбаши в его деле, если
нет желанья испортить груз, загубить лошадей и прослыть навсегда невеждой и
глупцом среди всего племени караванщиков.
Зато честный и опытный караванбаши может провести караван за тысячи
километров по труднейшим горным тропинкам, по безводью и бездорожью, через
гигантские перевалы, провести так, что к последнему дню путешествия лошади
будут веселы, и резвы, и сыты и можно будет гордиться их развитой
мускулатурой, дыханием, поставленным, как у певца, крепостью копыт,
надлежащей сухостью ног и отличным, спокойным нравом.
А груз... Вы можете быть совершенно спокойны: ни грамма груза не
убавится в караване, если только по вашему приказанию он не будет
расходоваться в пути. Ни расписок, ни договоров не нужно. Узбеки-караванщики
не любят бумаг. Всякая бумага, по их мнению, подразумевает взаимное
недоверие. Каравайцик верит на слово и верен своему слову. И берегитесь
изменить слову. Если вы хоть раз изменили ему, лучше никогда вам не ездить
по караванным путям, лучше ждать, когда в горах и пустынях блеснут рельсы
железной дороги. Вы потеряли доверие караванщиков, и вы не можете нанимать
караваны!
Все это я знаю отлично. Поэтому, когда еще затемно на базу экспедиции в
городе Оше является караванбаши Турсун с оравою своих людей, я показываю ему
на гору тяжелых мешков, ящиков, кожаных вьючных сум, свертков, бидонов,
сосчитанных, перевешанных руками караванщиков, распределенных и перевязанных
арканами еще вчера, и говорю ему:
-- Ну, Турсун-ака, распоряжайся!.. А я пойду смотреть лошадей.
Лошади только в ночь приведены с пастбища, я их еще не видел. Я не мог
их видеть, потому что паслись они за много километров от города и выбирал их
из общего табуна специально назначенный человек. На лошадях -- вьючные
седла.
Караванщики группируются по трое. Один из трех подводит лошадь к грузу,
ставит ее меж двух половин вьюка и держит на коротком поводе. Лошадь тянет
голову вбок, пугливо озирается на лежащий на земле груз, словно пытаясь
определить его природу. Лошадь припрыгивает и дрожит всем телом в лошадиной,
особенной лихорадке. Но караванщик стоит, как железный столб, и лошадь может
податься только в сторону, а никак не вперед, не назад. По сторонам уже
наклонились над вьюком два других караванщика и, подняв груз, привалили его
к бокам лошади. Они сдавили ее двумя половинками вьюка, и, как в тисках,
лошадь никуда уже не может податься, она только похрапывает и нервно поводит
ушами, пока караванщики обвивают ее хитросплетеньем арканов. Они ухватывают
вьюк за углы и дергают его в разные стороны, словно ввинчивая его в
лошадиный бок, потом сверху на спину укладывают привьючку и долго притирают
и примащивают ее, чтоб легла она, как на спальное ложе. Лошадь превращается
в бочку, и эту бочку обводят последним длинным арканом. Запустив концы
аркана себе за плечи и обернув его вокруг поясницы, караванщики упираются
коленом в лошадиный дрожащий бок и отваливаются, кряхтя, натуживаясь до пота
на лбу, так что вены выступают из-под кожи лиловыми выпуклыми жгутами.
Лошадь покряхтывает, выдавливая из себя шипящий, протяжный выдох. И,
закрутив узлы, караванщики разом, стремительно, как от падающего камня,
отскакивают в разные стороны, потому что бочка становится внезапно
выпущенной пружиной, -- со всех четырех ног рванувшись от них, заломив
вспотевшие уши, лошадь несется по двору, как тяжелый снаряд, чтобы вдребезги
разбить все, рискнувшее оказаться на ее пути: на другую сторону двора, за
пролом в саманной стене, за арык, на пыльную улицу, туда, где сбились в кучу
другие, завьюченные, уже бессильные сбросить вьюк, уже присмиревшие лошади.
Долетев до них, разом повернув боком, тяжело дыша, она вдруг всеми копытами
упирается в землю и, ударившись о посторонние вьюки, испуганно
останавливается. И если вьюк остается цел, значит все в порядке, и
караванщики, как к эшафоту, ведут к горе груза следующую, полную подозрений
лошадь.
Вьючные ящики должны быть крепки; потому они оковываются железом и
плотно обшиваются парусиной. А в мягкие вьючные сумы нельзя класть твердых
предметов; даже толстые подошвы альпийской обуви свиваются от удара, как
закрутившийся тополевый листок. А жестяные керосиновые бидоны обжимаются
деревянной клеткой. И все-таки все это превращается в прах, если бесятся
лошади.
Вот почему я опасливо смотрю на вьючный ящик с необходимым для горных
работ динамитом, когда его взвьючивают на лошадь. И вот почему, приказав
везти этот вьюк отдельно от других лошадей, я поручаю ее отдельному
караванщику.
Русские рабочие обычно в лошадях понимают мало, а многие сотрудники
экспедиции глядят на них и вовсе бессмысленными глазами. Большинство
сотрудников отправляется на Памир в первый раз, и некоторые впервые садятся
в седло. Даже заседлать коней не умеют. Но у них воинственный вид, потому
что работа предположена у самой границы, из-за которой всегда возможен налет
басмачей. У всех за плечами торчат винтовки, сбоку болтаются наганы, а у
иных на животе даже поблескивают жестянкой бутылочные ручные гранаты.
Бывалые участники экспедиции хмуро оглядывают таких новичков, боясь не
басмачей, а этого воинства, потому что любой из новичков способен по
неосторожности и неопытности взорвать гранату на собственном животе или
вогнать наганную пулю в круп лошади. Но каждый такой всадник мнит себя
похожим, по меньшей мере, на партизана времен гражданской войны, и каждый
уверен в своей превосходной боеспособности. Наконец последняя завьюченная
лошадь, звеня тазами и ведрами, как пожарный автомобиль, вылетает на улицу.
Потный, возбужденный и охрипший, я вскакиваю в седло и даю распоряжение
выступать. Тут, решив в последний раз перед Памиром отведать мороженого,
один из коллекторов, одетый в алую фланелевую рубаху-ковбойку и бархатные
оливковые
шаровары, устремляет своего конягу к будке мороженщика, красующейся на
краю улицы, среди тополей. Коллектор этот, минуту назад не знавший, с какой
стороны подойти к седлу, нечаянно поднимает коня в галоп. Заждавшийся конь
рвется так, что коллектор, едва не вылетев из седла, вцепляется руками в
луку, а его осетинская широкополая шляпа съезжает с затылка и никнет на
своем ремешке у шеи.
-- Держи коня!.. Держи!.. -- яростно кричу я, но, поняв, что коллектор
не властен справиться с конем, вылетаю вперед и, настигнув коллектора,
хватаю за повод его коня.
Подбегает караванщик и ведет коня "храброго джигита" в поводу.
Караванщик ничему не удивляется и даже не позволяет себе улыбнуться. Караван
вытягивается, идет вниз по улице. Лошади, еще не привыкшие к вьюку,
бросаются в стороны и разбегаются. Караванщики, ругаясь, гоняются за ними,
тщетно стараясь наладить порядок.
Улица ведет к мосту через пенную Ак-Буру. За мостом -- базарчик, на
котором мелочные торговцы урюком и черешней состязаются с горланящими
лепешечниками в зазывании покупателей. Однако и те и другие умолкают, когда
караван проходит мимо разгульной ордой. А посетители чайханы, бросив свой
дымящийся кок-чай, толпятся у дверей и окон. Собаки визжат и лают.
Сразу за базаром, на узкой улице как с цепи срывается лошадь, груженная
динамитом. Она на полном скаку лягает другую лошадь, та оскорблена, и обе
выносятся вперед, растолкав всех лошадей каравана. На пути -- телеграфный
столб, краешком ящика лошадь за него задевает, вьюк съезжает на сторону,
лошадь окончательно перепугана, и... тут уж ничто в мире не может ее
удержать. Она мчится вперед скачками, беспрерывно давая козла, динамитные
ящики съезжают набок все больше и больше, наконец один из ящиков
вываливается из сдерживающих его пут и с треском падает в узкий арык. Метрах
в сорока дальше летит второй ящик, а еще дальше падают два других. Аркан
запутал лошади ноги, она подпрыгивает еще разок, но другой аркан оказывается
у нее на шее, и она, вся в пене, вздрагивая губами, останавливается.
Караванщики задерживают весь караван и бегут собирать ящики, которые, к
счастью, оказались слишком прочны для того, чтобы рассыпаться от такой
передряги. Через двадцать минут караван шествует дальше. Люди злы и
утомлены.
Через два часа караван выходит из закоулков старого города. Широкая
прямая дорога переваливается с холма на холм. То, что не могли сделать люди,
делает солнце. Оно так яростно припекает лошадей, что все теряют теперь
охоту носиться и сбрасывать вьюки. Люди качаются в седлах, как сонные мухи.
Ремни непривычных винтовок натирают им плечи. У многих ноют растертые ляжки.
Если не порядок, то тишина возникает сама собой. Отсель все будет нормально
и благополучно. Завтра все упорядочится, завтра у нас будет превосходное
настроение.
Караван научно-исследовательской экспедиции выступил в поход на Памир.
Наконец в седле... (Из записей 1931 года)
Есть особенно торжественные минуты, в какие человек почти физически
ощутимо сознает себя на грани двух совершенно различных существований. Когда
караван по пыльной дороге медленно взобрался на первый в пути перевал,
тяжело завьюченные лошади сами остановились, словно и в них проникло то же
сознание.
Сзади, в склон горы, в крупы лошадей уперлись красные, низко лежащие
над равниной воздушные столбы заката. Я повернулся боком в седле, уперся
рукою в заднюю его луку. Туда, на закат, сбегала к травянистым холмам
лессовая дорога. Она терялась вдали, в купах засиненных предвечернею дымкой
садов. За ними, под невысокой, но острой, истаивающей в красном тумане
горой, распростерся покинутый экспедицией город. Он казался плоским темным
пятном, в котором пробивались белые полоски и точки. Некоторые из них
поблескивали, как осколки красного зеркала. Отдельные купы деревьев, будто
оторвавшись от темного большого пятна, синели ближе, то здесь, то там. Это
были маленькие селения -- предместья города. Тона плодородной долины
казались такими нежными и мягкими, словно вся природа была одета в чехлы, --
скинуть бы их в парадный день -- и равнина засверкала бы ярким играющим
блеском.
Сзади -- нежнейших тонов равнина, заполненная закатом, город как
последний форпост привычного культурного быта, оставляемого, кажется,
навсегда: улицы, дома, фабрики, конторы, столовые, кинотеатры, автомобили,
извозчики, электричество, телефонные провода, магазины, киоски, библиотеки
-- весь сложный порядок шумного и деятельного человеческого сообщества.
Впереди -- только горы: вершины, ущелья, вспененные бурные реки, горные
хребты, врезавшиеся в голубое небо острыми снежными пиками. И дорога уходит
туда перевитой, небрежно брошенной желтою лентой. Впереди -- неизвестность,
долгие месяцы верхового пути, никаких населенных пунктов на Восточном
Памире, кроме Поста Памирского да редких киргизских кочевий. И только
далеко-далеко за ними, в глубочайших ущельях кишлаки Горного Бадахшана. И
главное впереди -- особенные скудость, ясность и простота форм жизни,
которые обозначат дни и месяцы каждого двинувшегося туда человека.
Еще вчера -- кипучая организационная деятельность, заботы, хлопоты, а
сейчас -- бездонная тишина, в которой только мягкий топот копыт, гортанные
понукания караванщиков, свист бичей да медлительный перезвон бубенчика под
гривой первой вьючной лошади каравана. Теперь каждый из путников
предоставлен себе самому. Все черты характера, все физические способности
каждого приобретают огромное, непосредственное, заметное всем значение.
Никаких условностей и прикрас: все как есть! Если ты мужествен, неутомим,
спокоен, энергичен, честен и смел, ты будешь уважаем, ценим, любим. Если нет
-- лучше вернись обратно, пока не поздно. Здесь, в долгом пути, время тебя
обнажит перед всеми, ты никого не одурачишь и не обманешь, все твои свойства
всплывут наружу. Ни красноречие, ни объем твоих знаний, ни степень
культурности -- ничто не возвысит тебя над твоими товарищами, не послужит
тебе в оправдание, если ты нарушишь точный, простой, неумолимый закон
путешественника.
Все это промельнуло в уме мгновенно, но с беспредельной отчетливостью,
-- так отчетлива, полна и мгновенна бывает предсмертная мысль, и, может
быть, именно поэтому созерцание дальних, вечных снегов влекло к раздумьям о
величии жизни и смерти. Горы -- это будет иное, для многих сейчас еще
неведомое существование, которым сменится прошлый, обычный образ городской
жизни.
Георгий Лазаревич! -- в задумчивости сказал я Юдину, который, подъехав
сзади, придержал рядом со мной своего коня. -- Вы никогда не испытывали
пространственного голода?
Какого голода? -- внимательно взглянув мне в глазка, переопросил Юдин.
Пространственного, -- почему-то вдруг смутившись, повторил я. -- Ну,
такого особого чувства тоски по постоянному передвижению.
Не знаю, пространственным ли его назвать, а голод я ощущаю. Еще какой!
Так и съел бы сейчас баранью ляжку! -- с веселой насмешливостью заявил Юдин.
-- Особенно если с лучком поджарить... С утра ничего не ел!
Понимаю, -- окончательно смутился я. -- Ну, это я так... Поезжайте, я
вас догоню!
А что, вы тоже объелись этого проклятого зеленого Урюка?.. Я говорил
вам: не увлекайтесь!
Я резко выпрямился в седле и хлестнул камчою по крупу коня. Бедняга,
озлившись на незаслуженный удар, рванулся вниз с перевала галопом.
-- Павел Николаевич! Ноги лошади поломаете! -- донесся сзади
(наставительный голос Юдина.
Я осадил коня, поехал медленным шагом, откинулся в стременах и только
тогда оглянулся.
А оглянувшись, увидел караван, вытянувшийся на спуске, и впереди
каравана группу всадников. Юдин, петрограф Н. С. Каткова, прораб, оба
коллектора... Трое караванщиков, спешившись с вьючных лошадей, шли, широко
размахивая рукавами ванных халатов. Позади всех, сблизив лошадей, стояли и
скручивали махорочные цыгарки двое рабочих. Гребень перевала скрыл равнину
вместе с городом и красными лучами заката.
Я вынул из, полевой сумки трубку, туго набил ее махоркой и закурил на
ходу.
Новая жизнь началась, надо было проверить себя, как проверяют перед
боем винтовку.
Вечером, когда караван остановился на ночлег под двумя холмами, на
густой травянистой лужайке, у спокойно журчащей речки; когда на большом
разостланном брезенте был прямо в котле подан и съеден плов, отлично
сваренный караванщиками; когда люди разлеглись на теплой траве под огромными
звездами, а спать еще не хотелось, Юдин, примяв траву, грузно распростерся
животом кверху рядом со мной.
-- Ну, здорово! -- добродушно пробурчал он. -- Теперь до утра не
захочется есть... Молодец Дада, умеет кухарить!
Я молчал.
-- А скажите, Павел Николаевич, -- повернувшись на локте, с интимными
нотками в тоне заговорил Юдин, -- вы, конечно, могли обидеться на меня
тогда, а только, честное слово, мне здорово есть хотелось... Что такое вы
мне хотели сказать об этом, -- как вы его назвали? -- пространственном
голоде?
Юдин редко говорил на отвлеченные темы, и я искоса взглянул на него: не
ждать ли опять насмешки? Но в щелочках глаз моего собеседника было одно
добродушие: ведь Юдин обливает меня ушатом холодной воды, только когда я
впадаю в романтический пыл, а сейчас я ничем не проявляю такого пыла.
-- Так, пустяки... ("Как бы это похолодней да попроще?") Может быть, я
не нашел слова. Неудачно выразился. Просто оглянулся на перевале: закат,
позади город, и все такое, а впереди... Ну, вспомнил о том, как я чувствовал
себя на севере, когда невмоготу стало брюки протирать за столом, заваленным
недописанными бумагами...
Юдин, деловито ковыряя травинкой в зубах и методически сплевывая на
сторону, спокойным взглядом изучал мерцающие звезды. Глухо, будто скрывая
никак не подобающую ему лиричность, проговорил:
-- А вы думаете, мне на перевале такие мысли не пришли в голову? Только
я не особенно умею въедаться в эту, ну, как сказать... в лирику. Вам, как
писателю, оно, конечно, и карты в руки... Ну, а что же такое все-таки этот
пространственный голод, как вы его называете?
Я заговорил медленно, прерывая слова паузами:
Вот, Георгий Лазаревич... Попробуйте поголодать суток трое, ручаюсь
вам, вы станете ни к чорту не годным. Потребность простейшая и здоровая. А,
например, потребность пьяницы в алкоголе, наркомана в наркотиках -- больные
потребности. Их, этих людей, лечат. Вы не пьете, не курите, а я вот курю и
чувствую, что мне это вредно. А бывают потребности, которые не назовешь ни
здоровыми, ни больными, для данного организма естественные, хоть многим они
и кажутся странными. Одна из них та, которую я называю, -- может быть,
неточно и неправильно называю, -- пространственный голод. Это потребность в
постоянном передвижении.
Так, пожалуй. Вот тут кашгарлыки скоро нам попадутся. Это самое чувство
их и заставляет кочевничать, -- спокойно заметил Юдин.
Нет, напротив, -- чуть улыбнулся я. -- В данном случае факторы
социальные. Кочевые народы в поисках пастбищ, воды -- словом, всего, без
чего им прожить нельзя, вынуждены были постоянно передвигаться с места на
место. Отсюда и чувство. Не причина, а следствие! Вкоренилось оно в людей,
превратилось в привычку. Цивилизация и культура устранили причину, а
следствие осталось и живет себе как атавистический пережиток. Мы с вами
дорвались до седел и оба счастливы, а есть миллионы людей в городах и селах,
каждый из которых двумя руками отмахнулся бы от этого. Вот проснулся, встал
человек. Утро. Служба. Работа. Обед. А вечером -- все, что на ум взбредет.
Нужное, может быть, и полезное. Так день, два, год... А то и за всю свою
жизнь из родного города носа не высунет.
Когда мы начинали организовывать экспедицию, помните, сколько
просителей было: ах, хотим, ах, так заманчиво, так интересно! А как до дела
дошло, все разбежались! По сути, любителей передвигаться мало!
Ну, это по другим причинам! Струсили, или условия вы им предложили
неподходящие. А по-моему, вовсе не мало,
а множество: моряки, паровозные машинисты, летчики, шоферы, даже
вагоновожатые -- словом, в первую очередь транспортники. Кто это, как не
люди с чувством пространственного голода? Потом, возьмите, какие-нибудь
агенты заготовительных организаций, да просто иного почтальона попробуйте
посадить за прилавок -- взвоет! Никто из них года на месте не усидит. Такого
в гроб положи, и то под землей ползать начнет! Различны только масштабы и
способы утоления этого голода, а никакой принципиальной разницы нет. А вы
думаете, туристы только за здоровьем да за умственным развитием ходят? Не
сидится, вот и идут. А мало таких бродяг, что к сидячей профессии не
способны, а подвижную сами не умели и никто им не помог подыскать? Весь
вопрос сводится к температуре этого чувства. Вот у меня, я сам знаю,
странническая горячка, а у вас...
Ну, это вы бросьте! -- засмеялся Юдин. -- У меня никакой горячки нет,
да, признаться, если б можно было заниматься геологией, лежа в постели,
разве стал бы я по всяким Памирам шататься?
Значит, я в вас ошибся, вы по существу своему -- лежебока, а к
путешествию вас вынуждают сугубые обстоятельства!
Чорт его знает, Павел Николаевич! -- беспечно заключил Юдин. -- Знаете
что? Завтра вставать до света... Сегодня спим без палаток? Теплынь!..
Юдин встал и двинулся, шурша травой, к свету костра, чтоб разыскать в
груде вьючных ящиков и кожаных сум 1 свою. Я выкурил папиросу, выдул искры
прямо в черное небо, вскочил на ноги и двинулся вслед за Юдиным.
Маслагат (Из записей 1932 года)
Маслагат -- совещание, и это был большой маслагат, затянувшийся до
глубины ночи. Придя в Гульчу, я получил сообщение из Мургаба, что нигде
дальше в пути на Памир для моего каравана не заготовлен фураж и надо взять с
coбою отсюда не меньше шести тонн ячменя. А между тем все сто шестьдесят
лошадей каравана завьючены доотказа. Я созвал в мою палатку всех
караванщиков, и они превзошли себя в желании помочь мне выйти из
затруднения. Они обсуждали по очереди каждый вьюк, они говорили:
-- Белая кобыла Османа Ходжи может взять биш кадак| (пять фунтов)...
-- Привьючки желтого мерина с рассеченным ухом и короткохвостой
лупоглазой кобылы можно переложить на длинношеего мерина, носящего гриву на
правую сторону. Тогда на желтого мерина положим полмешка ячменя...
Иргаш сидит на своем вьюке, Иргаш весит, наверно,
четыре пуда, Иргаш до Ак-Босоги пойдет пешком, вместо него мы прибавим
к вьюку три пуда (Иргаш -- живой, ячмень -- мертвый, надо поменьше); лошадь
сильная, может три дня нести восемь пудов, а в Ак-Босоге отдадим это зерно
лошадям, Иргаш опять может ехать...
Я точно рассчитываю каждодневную дачу. Норма караванных лошадей -- два
килограмма в день. От Гульчи до Мургаба с дневками -- четырнадцать дней. Сто
шестьдесят лошадей по два килограмма... Но зерно можно давать не каждый
день.
Турсун-ака, в Суфи-Кургане дать надо?
Конечно, надо.
А в Ак-Босоге можем не давать? Там ядовита трава, от нее лошади дохнут,
но это под самым перевалом Талдык, а ниже, -- мы можем стать ниже, --
знаешь, там, на левой стороне, у ручья, поближе к киргизской летовке...
Правда, там хорошая, как сахар, трава.
В Сарыташе не давать, там пустим лошадей в левую щель, там хватит
травы. В Алае -- и думать нечего: не давать, два дня не давать, потому что
дневка. В Бордобе, конечно, прокормимся, ерунда. Ну, потом -- Маркансу.
Давать: пустыня; Каракуль -- солончак, песок, травы там есть немножко, но
ее, может быть, уже съели, может, мороз, -- надо дать. Южный Каракуль --
дать, Муз-кол -- дать: лед и камни, Ак-Байтал -- там, под моренами, у
реки... впрочем, надо дать. Вот и Мургаб... Сколько всего?
Турсун считает по пальцам:
Старый холм -- раз, Мертвая Вода -- два, Черное Озеро -- три, еще
Черное Озеро -- четыре... Хамма сакыз...
Всего восемь? Правильно, восемь... Два на сто, шестьдесят на восемь...
Ну, в общем два с половиной, считая, что еще дневка в Суфи. Первые дни в
Мургабе -- одна, неприкосновенный запас -- полтонны, всего, следовательно,
четыре тонны, или восемьдесят три мешка. Первые Дни лошади повезут по восемь
пудов, с каждым днем продовольствие и фураж будут уменьшаться, словом...
возьмем, Турсун-ака?
Но Турсун еще не научился считать на тонны, я все пересчитываю в пуды,
и тогда он опять прикидывает:
-- Белая кобыла столько-то, черная кобыла... желтая кобыла... синяя
кобыла (у Турсуна есть даже синяя)...
** П. Лукницкий
Считает Турсун, считает Насыр, считает Иргаш, считают все шестнадцать
караванщиков. Когда хрипота одолела всех, когда головы мутны от усталости,
когда обсуждены качества каждой из ста шестидесяти лошадей, а ночь уже
наклонилась к рассвету, Турсун упирается ладонями в колени, медленно,
подбирая халат, встает и простирает над собранием руки:
Хоп, хоп, болды, келады ухлайдэн! * Хоп, товарыш началнык, пайдет.
Вот спасибо, Турсун... Ты большой караванбаши... Ну, ладно, ладно, айда
спать. Спать, товарищи, спать, спать!..
Караван может выступить утром. Утром -- радиограмма в Мургаб:
"Фуражом обеспечен. Задержки пути не будет".
* -- Довольно, пойдем спать!


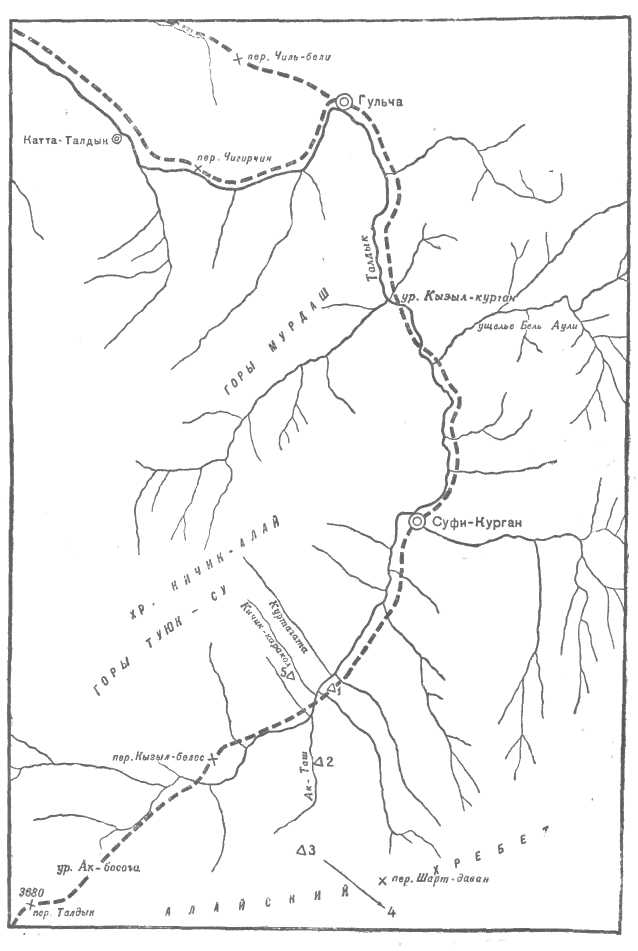 Путь экспедиции I960 года в Алай-Гульчинеком районе.
I. Место нападения басмачей. 2. Место первой ночевки в плену. 3. Здесь
стояли юрты Тахтарбая. 4. Сюда бежали басмачи. 5. Место последней ночевки в
плену.
Балансирую, стоя на четвереньках, поддерживая свою же точку опоры.
Ягтаны слабо, наспех, примотаны к бокам лошади. В темноте уже не вижу Юдина,
который едет верхом впереди. И Османа (он на крупе лошади, за спиной
басмача) я уже потерял. Понуканья, перезвякиванья стремян, щелканье копыт по
камням.
Куда нас увозят?
Чуть прозрачнее темноты -- звездное небо. Из темноты выплывают на нас и
снова удаляются всадники, перекрывая своими фигурами нижние звезды. Ледяной
ветер. Почему мне так холодно? Ах да... я же мокрый насквозь, ведь я бежал
вброд через реку. Насквозь... Только сейчас замечаю это. Горная ночь
морозна. Холодный ветер тянет от вечных снегов. Криками; камчами лошадей
гонят рысью. Но из всех лошадей только одна с вьюком, -- та, на которой
прыгаю я. Вьючная лошадь может итти только шагом. Моя задыхается, она
загнана, крутой подъем, она отстает. Кричу, хочу объяснить: "надо
перевьючить ягтаны, они падают, сейчас упадут... " Меня не слушают. С
полдюжины камчей впиваются в голову лошади, в шею, в круп. Лошадь хрипит.
Подпрыгивая на ней, изобретаю тысячи уловок, чтоб удержать равновесие. Конец
подъема, черная тьма, по отчаянной крутизне -- спуск. Лошадь изнемогла,
уперлась, подскочили темные, в мохнатых шапках, нещадно лупят ее, она
дрожит, тяжело дышит, стоит. Мне жалко ее, спрыгиваю. Ноги еще не
отморожены: больно. Тяну лошадь за повод, через плечо. Ступаю -- каждый шаг
на полметра ниже, босиком по острым заиндевевшим камням, словно по
раскаленным осколкам стекла. Меня с моей лошадью гонят рысью, бегу,
проваливаясь все ниже в темную пропасть. Пересиливаю боль.
Спуск окончился. Срыв вниз, река. Поняли наконец, -- ругаясь,
перевьючивают ягтаны. Опять взбираюсь на них, еду вприскачку, вброд через
реку: вода как черное масло, тяжело шумит и бурлит. Зги не видать. Нет ни
Юдина, ни Османа, вокруг чужие, темные и молчаливые всадники.
До сих пор я угадывал знакомые мне места. Отсюда к АкБосоге -- направо.
А мы прямо -- в неизвестность -- вверх по реке, по какому-то притоку. Едем
по самому руслу, по мелкой воде, густые брызги как лед. Я коченею. От реки
-- влево вверх, на кручу, непонятно куда. Из-под копыт осыпаются камни, и
падения их я не слышу. На миг внизу отразились звезды. Пытаюсь запомнить
направление. Черные пятна, -- продираемся сквозь виснущие кусты. Шум реки
все слабее, все глуше, далеко внизу, подо мной. Все яростней ветер. Ночь.
Ночь... Меня не трогают и не разговаривают со мной. Сколько мы едем -- не
знаю.
Басмаческий лагерь
Ночью мы сидели в юрте, в кругу тридцати басмачей, по каменным лицам
прыгали отблески красного, жаркого пламени. Тянули руки и ноги к костру,
чтоб красный жар вытеснил из нас тот леденящий холод, от которого мы
содрогались. Шел пар от нашей мокрой и рваной одежды. С отвращением
отворачивались от еды и питья, поглощаемых басмачами, хоть и не имели ни
маковой росинки во рту с утра. И руками, на которых запеклась кровь Бойе,
смешавшаяся с глиной и конским потом, я отстранил чай, предложенный мне
тайно сочувствовавшей нам киргизкой, забитой женой курбаши Тюряхана.
Смотрели на деловитую дележку имущества, вынимаемого из наших ягтанов, и
угрюмо молчали, когда ценнейший хрупкий альтиметр басмачи перешвыривали друг
другу, и нюхали его, и прикладывали к ушам: не тикает ли? Уславливались не
говорить ни слова друг другу, чтоб басмачи не заподозрили нас в сговоре о
бегстве и, зажегшись яростью, тут же не прикончили бы нас. Беспокоились о
судьбе Османа, который исчез на пути сюда и о котором басмач сказал: "Узбека
увез к себе Суфи-бек. Узбеку хорошо". Слушали завывания ветра, когда вокруг
нас вповалку завалились спать басмачи, и передумывали прошедший день,
показавшийся длиннее и многообразнее целого года. И, помню, не удержались от
печальной улыбки, когда Юдин положил мокрые свои сапоги под голову -- "чтоб
не украли". Лежали, тесно прижимаясь друг к другу, чтобы усмирить холодную
дрожь хоть своим собственным теплом, когда погас костер и ледяной ветер,
поддувавший сквозь рваную боковую кошму, пронизывал нас до костей. Спали, не
заботясь о том, прирежут нас спящих или отложат резню до утра. Проснулись от
грубых толчков и запомнили: черное небо и великолепные звезды, стоявшие над
отверстием в своде юрты. И не верили сами себе, что на час или два сон увел
нас от всей этой почти фантастической обстановки. Слушали, как трещала
ветвями арчи киргизка, вновь раскладывая костер. Снаружи храпели лошади, и
до нас доносились понимаемые Юдиным крики спорящих:
-- Куда их еще таскать? Надо тут, сейчас, кончать с ними, зачем
откладывать это дело?..
... И снова ехали на острых, больно поддающих крупах басмаческих
лошадей, держась за спину сидящего в седле, владеющего нами врага. Ехали из
темной предутренней мглы в розовое утро, в солнечный тихий день. По узкому,
как труба, ущелью, по чуть заметной скалистой тропе, над лепечущим ручьем...
Громоздились над нами черные скалы, зава
ленные глыбами снега; всей весенней сочностью дышала в лощинах трава;
цеплялись за нас, словно предупреждая о чем-то, темнозеленые лапы арчи.
Голод и жажда, неукротимые, мучили нас.
Дальше некуда. Врезались в самый Алайский хребет. Высоко, почти прямо
над нами, -- снега. Они тают, и вода бежит вниз множеством тоненьких струй.
Они соединяются в ручейки, несутся по скалам вниз, распыляются в воздухе
тонкими водопадами. Отсюда видно, где родился тот ручей, над которым мы
ехал". Расширившись, он бежит мимо нас, несет с собой мелкие камешки,
скрывается за поворотом. Там, ниже, как и десятки других ручьев, он вольется
в мутную реку Гульчинку, вдоль которой вчера мы двигались караваном.
Помутнев от размытой глины, он сольет свои воды с ней. И эти воды помчатся
вниз в широком течении Гульчинки. Будут ворочать острые камни, окатывать их,
полировать, пока не станут они круглыми валунами. Еще на несколько
•миллиметров углубят дно долины, помогая тем водам, которые за тысячи
лет углубили долину на сотни метров, прорезали в ней крутостенные глухие
ущелья... Шумя и плещась, промчатся мимо заставы Суфи-Курган, мимо Гульчи,
до Ферганской долины. Здесь, нагретые солнцем, успокоенные, разойдутся
арыками по хлопковым полям, по садам абрикосов, дадут им веселую жизнь.
Опять соединятся с другими водами, текущими с гор так же, как и они... И все
вместе ринутся в многоводную, великую Сыр-Дарью, которая понесет их сквозь
пески и барханы пустынь до самого Аральского моря, где забудут они о своем
рожденье в горах, о снегах и отвесных скалах, о своем родстве со всеми
среднеазиатскими реками, составляющими Сыр-Дарью и Аму-Дарью и бесследно
исчезающими в знойных азиатских пустынях...
Долгая жизнь и долгий путь у ручья, который сейчас струится над нами,
распыляясь в тонкие водопады. А наша жизнь и наш путь не здесь ли теперь
окончатся?..
Налево от нас -- очень крутой, высокий травянистый склон. Направо --
причудливые башни и колодцы конгломератов, когда-то размытых все теми же
горными водами.
А здесь, на дне каменной пробирки, -- арчовый лес, травяная лужайка,
перерезанная ручьями. Отсюда не убежишь...
На лужайке -- скрытая от всех человеческих взоров кочевка курбаши
Закирбая: шесть юрт. По зеленому склону и в арче -- мирный, хоть и
басмаческий скот: яки, бараны. А здесь -- женщины, дети, -- у курбаши
большая родовая семья. Все повылезли из юрт поглазеть на пленных.
Нас вводят в юрту. Поднимает голову, в упор глядит на нас из глубины
юрты старик Зауэрман. Впрочем, мы не удивлены.
-- Вы здесь?
Моргает красными глазами, удрученно здоровается: -- И вас?..
Да, вот видите.
А где ваш третий?
Убит.
А... а... убит... Мерзавцы!.. Ну и нам скоро туда же дорога... на этот
раз живым не уйду... -- старик умолкает, понурив голову.
Коротко о том, что было дальше
Находясь в басмаческом плену, мы с Юдиным и Зауэрманом оказались
свидетелями многих интересных событий. Обо всех этих событиях рассказывается
подробно в другой моей книге -- в повести, полностью посвященной описанию
басмачества в Алай-Гульчинском районе и борьбе с бандою Закирбая. Здесь же
нет места для столь подробного рассказа об одном коротком, хотя и
примечательном эпизоде из наших длительных экспедиционных странствий.
Поэтому для того только, чтоб сохранить нить повествования, сообщу самую
суть дальнейшего.
Помещенные в юрту Тахтарбая, родного брата Закирбая -- главаря банды,
мы были совершенно изолированы от внешнего мира. Запертое со всех сторон
глухое ущелье, похожее на каменную пробирку, исключало всякую возможность
бегства. Нам, однако, симпатизировала жена Тахтарбая, умная женщина,
считавшая, что участие ее мужа и его брата в басмачестве -- величайший позор
и бедствие для всего рода. Прекрасное знание Юдиным киргизского языка
оказало нам неоценимую услугу, -- тайно от всех старуха осве. домляла нас о
положении в банде, о решениях и замыслах ее главарей.
Не слишком приятно было узнать, что Закирбай хочет лично руководить
процедурой казни своих пленников, но это желание курбаши давало нам
некоторую отсрочку: в ожидании его "победоносного" возвращения из-под
осажденной им заставы Суфи-Курган нас не трогали. Обстановка несколько раз
менялась то в нашу пользу, то против нас. Неизменно заставляя себя сохранять
внешнее спокойствие, не ведая, что произойдет с нами через минуту, мы
старались не терять надежды, ждали счастливой случайности, перемены, какой
можно было б воспользоваться.
Одной из таких случайностей было появление в кочевье молодого киргиза
Джирона, бедняка, за два года перед тем работавшего в Памирской экспедиции
Академии наук и хорошо знавшего Юдина. Через Джирона нам удалось установить
письменную связь с пограничной заставой.
Семьсот басмачей осаждали эту заставу, но горстке пограничников удалось
отстоять себя до прибытия подкрепления. А когда два эскадрона маневренной
группы прибыли на помощь заставе и погнали банду, для нас наступили новые
критические часы: Закирбай примчался в кочевье с приказанием всем немедленно
бежать через закрытый снегами горный хребет, за границу. В банде началась
паника, а многие бедняки, понимая, что им, плохо одетым, разутым, переход
через снега грозит гибелью, стали возмущаться. Приближенные Закирбая хотели
теперь на скорую руку избавиться от обременявших их пленников, но Юдин,
умело оценив обстановку, стал исподволь, с огромною силой духа, убеждать
Закирбая, что "кончать" нас тому невыгодно: вот, мол, все Закирбаево
"воинство" уже восстает против него, он остается один, у него нет иного
выхода, кроме как сдаться Красной Армии; и если, мол, он сохранит нам жизнь,
то и мы, в свою очередь, гарантируем ему жизнь..
Юдин прекрасно понимал психологию жадного, жестокого, корыстолюбивого,
вероломного и трусливого Закирбая. Юдин с удивительным хладнокровием,
сохраняя в разговорах с Закирбаем чувство собственного достоинства, придавая
все большую уверенность и даже властность своему тону, постепенно
воздействовал на Закирбая в нужном нам направлении.
Закирбай метался. То ему приходило в голову немедленно покончить с
нами, то страх перед будущим заставлял его верить Юдину, и он оберегал нас
от ярости наиболее фанатичных своих соратников... Наконец, когда Закирбай
убедился, что бежать вместе со всей бандой не может, потому что ему грозит
опасность быть убитым своими же; когда скорое появление отряда
красноармейцев в кочевье стало уже несомненным; когда Юдину удалось вселить
в голову растерянного курбаши мысль, что единственное спасение для него --
положиться на наше обещание сохранить ему жизнь, -- он предоставил нам
лошадей: скачите сами к заставе, скажите там, какой я, Закирбай, хороший; и
если командир Красной Армии пришлет за мною гонца с обещанием, что меня не
тронут, я приеду на заставу Суфи-Курган и уже никогда больше не стану
выступать против советской власти!
Но местность между кочевьем Закирбая, откуда вся банда уже бежала, и
пограничной заставой Суфи-Курган была еще в руках тех сподвижников Закирбая,
которые не сложили оружия. От нас самих зависело, сумеем ли мы прорваться
сквозь эту группировку басмачей.
Мы выехали. И о том, что последовало за этим, можно рассказать
подробнее.
Освобождение
А ну, нажмем?
Давайте.
Мы нагнулись над карими шеями, земля, сплываясь, рванулась назад и
пошла под нами сухою рыжезеленою радугой.
Кобыла распласталась и повисла в яростной быстроте. Ветер остался
сзади. Ветром стали мы сами. С острой, внезапной нежностью я провел ладонью
по темной гриве и понял, что эту породу нельзя оскорбить прикосновением
камчи -- на такой лошади мне никогда не приходилось сидеть. С нервною
чуткостью она лежала на поводу и на поворотах кренилась так, что я едва не
зачерпывал землю стременем.
Подъемы, спуски, обрывы, ручьи, рытвины, камни -- она все сглаживала
неоглядной своей быстротой. Я верил, что она не может споткнуться. Если б
она споткнулась, мы бы рухнули так, что от нас бы ничего не осталось. Кобыла
курбаши, главаря басмачей Закирбая, хорошо знала, как нужно вынести всадника
из опасности. Мы устремились по руслу реки. Две рыжие отвесные стены
неслись, как нарезы ствола от вылетающей на свободу пули. Отвесные стены
были пропилены водой, в сухих извилистых промывинах, мы знали, сидят
басмачи. Между этими щелями я немного сдерживал кобылу, здесь было меньше
вероятия получить в спину свинец. И кобыла меня поняла: она сама уменьшала
ход между промывинами и сама выгибалась в стрелу, когда мы проносились мимо
щели, из которой мог грохнуть внезапный и ожидаемый выстрел. Я неизменно
опережал всех: у всех лошади были хуже. Что было делать? Я домчался бы до
заставы на час раньше других, но мог ли я оставить других позади себя?
Вырвись басмачи из щелки -- меня б они не догнали, но зато наверняка
столкнулись бы с Юдиным и Зауэрманом, потому что, выскочив при виде меня,
они оказались бы впереди моих спутников. Они перегородили бы им дорогу. И я
останавливался. Трудно было заставить себя решиться на это, и трудно было
сдержать разгоряченную кобылу, но я все-таки останавливался и поджидал
остальных. Я стоял, и кобыла нервно топталась на месте. Я стоял и был
отличной мишенью, и мне было страшно, и страх мой передавался кобыле: она
нервничала и пыталась встать на дыбы. Когда Юдин, Зауэрман и киргиз догоняли
меня, я отпускал повод и срывался с места в гудящее быстротой пространство.
Навстречу нам попался киргиз. Мы осадили лошадей и наспех прочитали
переданную им записку. Это была записка с заставы, в ней начальник отряда
беспокоился о нашей судьбе. Мы рванулись дальше, а посланец повернул своего
коня и тоже помчался с нами. У него был отличный конь, он не отставал от
меня, и теперь у меня был спутник, равный мне по скорости хода. Мы неслись
рядом, и на полном скаку я закидывал его вопросами. Прерывисто дыша, ломая
русский язык, киргиз рассказал мне, что он почтальон, что обычно он возит
почту из Суфи-Кургана, через Алай, в Иркештам, а сейчас живет на заставе.
Эту записку он вызвался передать нам потому, что его конь быстр, "как
телеграф", -- это его сравнение, и потому, что на таком коне он проскочит
всюду, хоть через головы басмачей. Пригибаясь к шее коня, мой спутник
поглядывал по сторонам и бормотал коню: "эш... ыш... " -- и только одного не
хотел: не хотел останавливаться, чтоб поджидать вместе со мною остальных. Мы
все-таки останавливались и снова неслись. Наши лошади косили друг на друга
крутые глаза, и ветер падал, оставаясь за нами. Стены конгломератов казались
огнем, сквозь который мы должны проскочить, не сгорев. Спутник мой хвалил
закирбаевскую кобылу. Халат его надулся за его спиной, как воздушный шар. Я
знал, что кобыла моя чудесна, я почти не верил, что четверо суток до
сегодняшнего дня Закирбай сам ветром носился на ней, почти не поил, почти не
кормил ее, гонял ее дни и ночи. Всякая другая лошадь неминуемо пала бы, а
эта вот никому не сдает замечательной быстроты.
До заставы оставалось несколько километров, разум уже уверял меня в
удаче, а чувства еще спорили с ним. Я волновался и даже на этом скаку
прижимал рукой сердце, так размашисто стучавшее, и сотню раз повторял себе:
"Неужели проскочим? Проскочим, проскочим!" И в цокоте копыт было
"проскочим", и уже в последней долине, перед той, где застава, у развалин
старого могильника, на зеленой траве я осадил кобылу, спешился и сел на
траву, чтоб в последний раз подождать остальных. Мой спутник спешился тоже и
угостил меня папиросой, и когда я закурил ее (я не курил уже сутки), я
почувствовал, что мы, наконец, спасены. Вскочив на коней, мы присоединились
ко всем и ехали дальше рысью. За последним мысом открылась последняя долина,
и в дальнем ее конце я увидел белую полоску заставы. Мы ехали шагом, зная
уже, что теперь можно ехать шагом, и чтобы продлить ощущение радости --
такой полной, что в горле от нее была теснота. Медленно мы подъезжали к
заставе. На площадке ее, над рекой толпились люди, и я понял, что нас
разглядывают в бинокли. Лучшим цветом на земле показался мне зеленый
цвет гимнастерок этих людей. Переехав вброд реку, уже различая
улыбающиеся нам лица, я взял крутую тропинку в галоп и выехал наверх, на
площадку, в гущу пограничников, шумно и почтительно обступивших меня. Нам
жали наперебой руки, со всех сторон бежали красноармейцы, чтоб взглянуть на
нас хоть одним глазком сквозь толпу, и усатый командир отряда, крякнув,
улыбнувшись и положив на плечо мне ладонь, сказал:
-- Вот это я понимаю... Выскочить живыми от басмачей!.. Меня трогали,
щупали рваную одежду, нас торжественно
повели в здание заставы, и командир отряда откупорил бутылку
шампанского. Я спросил, откуда шампанское здесь, и он, добродушно
усмехнувшись, сказал:
-- Пейте!.. Для вас все найдем... Потом объясню.
А Любченко, милый Любченко, начальник заставы, уже тащил нам чистое
красноармейское белье, полотенце и мыло и настраивал свой фотоаппарат.
Вымывшись в фанерной беседке, где желоб превращал горный ручей в душ,
вымывшись там, потому что баня была временно занята запасами фуража, мы
вернулись в здание заставы, и здесь неожиданно кинулся к нам Осман. Он
плакал от радости (я раньше не верил, что мужчины плачут от радости, но он
плакал крупными, быстрыми слезами) и прижимался к нам, говорил, путая слова,
сбиваясь и размазывая по лицу слезы рукавом халата. Осман!.. Живой Осман!..
Он рассказывал и показывал нам свои руки, свое тело, свои босые ноги. И ноги
его были в ранах, и руки и тело в ссадинах и крови. И тут мы узнали: Осман
прибежал на заставу сейчас, за пятнадцать минут до нас.
Нам рассказали комвзводы:
-- Наблюдали мы за долиной, вдруг видим, из-за мыса показался кто-то.
Смотрим -- всадник. Быстро-быстро скачет... Кто такой? -- думаем. Взяли
бинокль, смотрим и видим: лошади нет, один человек бежит. Ну, как быстро
бежал! Упадет, вскочит, опять бежит -- скорей лошади, честное слово.
Прибежал сюда -- и бух в ноги, плачет, смеется, вставать не хочет, хлопнет
ладонями и твердит: "Мэн наш человек... мэн наш человек". Затвердил одно и
сказать ничего не может... Потом руками всплеснул и еще пуще плачет: "Юдин
убит, другой товарищ убит, третий тоже убит... Все убиты... Шара-бара взял,
всех убивал... Вай!... Совсем ничего нет... " Ну, подняли мы его, успокоили,
еле добились толку. Повар он ваш, оказывается... "Мэн наш человек... " Ну и
чудак! Кое-как мы в себя его привели...
Туго пришлось бедняге Осману. Когда нас везли от места нападения в юрту
Тюряхана, Суфи-бек с несколькими басмачами отделился и взял Османа с собой.
Привез Османа в свою юрту. Фанатик Суфи-бек бил Османа, раздел его догола,
связал в юрте и издевался над ним.
Говорил ему:
-- Ты мусульманин? Ты продался неверным? Ты ездишь с ними? Ты не
мусульманин. Ты хуже собаки, все вы, сарты, продались неверным, все вы
"коммунист", "коммунист"! Да сгорит ваша земля! Зачем с неверными ездишь?
Плюю на твои глаза!..
На ночь положил Суфи-бек связанного и голого (в одном халате на голое
тело) Османа в юрте между басмачами и объяснил, что утром зарежет его,
утром, когда все приедут сюда, чтоб было всем посмотреть, как карает аллах
отступников от "священной воли пророка".
Кочевка Суфи-бека стояла ближе к заставе. Осман знал с детства каждый
куст этой местности. Ночью ему удалось бежать. Он сумел развязать веревки,
схватил две лепешки и, проскользнув между задремавшими стражами, выскочил в
ночь. По снегам, в морозные ночи, голодный, босой и голый -- он бежал. Днем
он прятался среди камней. Он пытался пробраться на заставу в обход, через
снежный хребет, но едва не погиб в снегах. Он возвращался и кружил по горам.
Он скрывался от всякого человека. За ним гнались, его искали, но не нашли.
Его долго искали, потому что он был свидетелем преступлений банды и знал по
именам главарей. Убедившись, что Осман спасся, Закирбай понял, что теперь
все известно заставе. Не поэтому ли еще он переменил свое отношение к нам?
На заставе нам предлагали спать, но до сна ли нам было? Весь день с
комсоставом заставы мы обсуждали, как спасти мургабцев, если все-таки они
еще живы, как вырвать их -- живых или мертвых -- у басмачей, как доставить
на заставу тело Бойе и какие предпринять меры для скорейшей ликвидации
банды.
Вечер на погранзаставе. Первый вечер после нашего возвращения из плена.
Керосиновая лампа на столе коптит, но мы этого не замечаем. Комвзводы спят
на полу, на подстеленных бурках. Юдин играет в шахматы с Моором. Я
разговариваю с Янкелевичем о шолоховском "Тихом Доне". Янкелевичу быт
казаков хорошо знаком; он прожил среди них многие годы.
Янкелевич хвалит "Тихий Дон" и рассказывает о казаках, покручивая
необъятные усы. Янкелевич сам как хорошая книга. Рассказчик он превосходный.
За стеной удумывает веселые коленца гармонь, слышу топот сапог и в перерывах
приглушенный стенкою хохот.
Разлив гармони резко обрывается, в тишине множится топот сапог. Стук в
дверь -- и взволнованный голос:
Товарищ начальник!.. Янкелевич вскакивает:
Можно. Что там такое? В дверях боец:
Товарищ начальник!.. Вас требуется...
Янкелевич поспешно выходит. Прислушиваюсь. Смутные голоса. Слышу
далекий голос Янкелевича:
-- Все из казармы... Построиться!
Громыхая винтовками и сапогами, топают пограничники. Комвзводы
вскакивают и выбегают из комнаты, на бегу подтягивая ремни. Выхожу и я с
Юдиным. Тяжелая тьма. Снуют, выстраиваясь, бойцы. Впереди на площадке
'чьи-то ноги, ярко освещаемые фонарем "летучая мышь". Человек покачивает
фонарем, круг света мал, ломаются длинные тени, сначала ничего не понять.
Мерцающий свет фонаря снизу трогает подбородки Янкелевича, Любченки и
комвзводов. Подхожу к ним, -- в темноте что-то смутное, пересекаемое белою
полосой. "Летучая мышь" поднимается -- передо мною всадник, киргиз, и
поперек его седла свисающий длинный брезентовый, перевязанный веревками
сверток. Фонарь опускается, глухой голос:
-- Веди его на середину...
Фонарь идет дальше, поднимается, -- второй всадник с таким же свертком.
Черная тьма. Фонарь качается, ходит, вырывая из мрака хмурые лица, я
понимаю, что это за свертки, меня берет жуть, кругом вполголоса хриплые
слова: "Давай их сюда... ", "Заходи с того боку... ", "Снимай... ", "Тише,
тише, осторожнее... ", "Вот... Еще... вот так... теперь на землю клади... ",
"И этого... рядом... ", "Развязывай... ", "Ну, ну... спокойно... "
Голоса очень деловиты и очень тихи. Два свертка лежат на земле.
Комсостав и несколько бойцов сгрудились вокруг. Черная тьма за их спинами и
над ними. Чья-то рука держит фонарь над свертками. Желтым мерцанием освещены
только они да груди, руки и лица стоящих над ними. Двое бойцов, стоя на
коленях, распутывают веревки.
В брезентах -- трупы двух замученных и расстрелянных басмачами
красноармейцев...
Янкелевич подошел к фронту выстроенных бойцов:
Это Бирюков и Олейников, -- командир говорил резко и решительно. --
Завтра выступим. Камня на камне не оставить. Зубами рвать... Понятно?
Понятно. -- ответил глухой гул голосов.
А теперь расходись по казарме. Бирюкова и Олейникова обмыть, одеть.
Сейчас же отправим их в Ош.
С начала революции традиция: убитых басмачами в Алае пограничников
хоронят в Оше...
Их было трое, на хороших конях. Поверх полушубков -- брезентовые плащи.
За плечами винтовки, в патронташах -- по двести пятьдесят патронов. На
опущенных шлемах красные пятиконечные звезды. Они возвращались из Иркештама.
Одного звали -- Олейников, другого -- Бирюков, третий -- лекпом, фамилии его
я не знаю.
Завалив телеграфные столбы, лежал снег в Алайской долине. Бухлый и
рыхлый, предательский снег. Три с половиной километра над уровнем моря. В
разреженном воздухе бойцы трудно дышали. На родине их, там, где соломою
кроют избы, высота над уровнем моря была в десятки раз меньше. Там дышалось
легко, и никто не задумывался о странах, в которых кислорода для дыхания не
хватает. Там жила в новом колхозе жена Бирюкова, отдавшая в детдом своих
пятерых детей. Она не знала, что муж ее на такой высоте. Она никогда не
видела гор. Жена Олейникова жила в Оше и перед собою видела горы. Горы, как
белое пламя, мерцали на горизонте. Голубое небо касалось дальних,
ослепительно снежных вершин. Вверху белели снега, а внизу, в долине, в Оше
цвели абрикосы и миндаль. Жители Оша ходили купаться к холодной реке
Ак-Бура, чтоб спастись от знойного солнца. Жена Олейникова ходила по жарким
и пыльным улицам, гуляла в тенистом саду. Жена лекпома жила где-то там, где
земля черна и где сейчас сеют рожь.
Их было трое, на хороших конях. Они возвращались на погранзаставу
Суфи-Курган. Иногда они проходили только по полтора километра за день.
Лошади проваливались в снегу, бились и задыхались. Пограничники задыхались
тоже, но вытаскивали лошадей и ехали дальше. У них был хороший запас сахара,
сухарей и консервов. У них были саратовская махорка и спички. Больше ничего
им не требовалось. На ночь они зарывались в снег и спали по очереди. Из
вихрей бурана, из припавшего к земле облака, в ночной темноте к ним могли
подойти волки, барсы и басмачи. По утрам бойцы вставали и ехали дальше.
Ветер продувал их тулупы насквозь. Держась за хвосты лошадей, они взяли
перевал Шарт-Даван. Здесь
высота была около четырех километров. Спускаясь с перевала они
постепенно встречали весну. Весна росла с каждым часом. Через день будет
лето. Кони ободрялись, выходя на склоны, где стремена цепляли ветви арчи,
где в полпальца ростом зеленела трава. Завтра пограничники въедут во двор
заставы.
О чем говорили они, я не знаю. Вероятно, о том, что скоро оканчивается
их срок и они вернутся в родные колхозы и расскажут женам об этих горах.
В узком ущелье шумела перепадами белесой воды река. Солнце накалило
камни. Пограничники сняли брезентовые плащи и тулупы. С каждым часом они
ехали все веселей.
Но в узком ущелье послышался клич басмачей и со стен вниз разом
посыпались пули. Пограничники помчались, отстреливаясь на скаку. Кони знали,
что значит винтовочный треск, коням не нужно было оглаживать шеи. Они
вынесли пограничников из ущелья, но тут вся банда остервенело рванулась на
них.
Пограничники прорвались на вершину ближайшей горы. Здесь банда взяла их
в кольцо. Пограничники спешились и залегли на вершине. Тут оказалось два
больших камня. Между камнями пограничники спрятали лошадей. Прилегли за
камнями и защелкали затворами -- быстро и механически точно. Басмачи падали
с лошадей. Воя по-волчьи, басмачи кидались к вершине и умолкали, в тишине
уносясь обратно, перекидывая через луку убитых. Пограничники работали
методично. Тогда началась осада, и басмачи не жалели патронов. Много раз они
предлагали пограничникам сдаться. Пограничников было трое, но они отвечали
пулями. Так прошел день. А к вечеру у пограничников не осталось патронов.
Жалобно ржала раненная в ключицу лошадь. Тогда пограничники поняли, что срок
их кончается раньше, чем они думали. Басмачи опять нажимали на них.
Пограничники сломали винтовки и, оголив клинки, бросились вниз. Выбора у них
не было. В гуще копыт, лошадиных морд и халатов пограничники бились
клинками. Но басмачей было двести, и пограничников они взяли живыми.
Об этом позже рассказали нам сдавшиеся басмачи.
Снова в путь!
4 июня, на рассвете, не выпив даже чаю от спешки, мы -- Юдин, Зауэрман,
Осман и я -- выехали с заставы. В первой части пути нас сопровождал эскорт в
десять сабель, предоставленный нам Янкелевичем: нам предстояло проскочить
мимо ущелья Бель-Аули, занятого бандой Ады Ходжи. Длинной цепочкой всадников
растянулись мы по дороге. Нашего возвращения не буду описывать. Ущелье
Бель-Аули мы проскочили благополучно. Сделав тридцать километров в урочище
Казыл-Курган, мы расстались с эскортом: отсюда дорога была, спокойна. В
Гульче простились с Зауэрманом, его встретила здесь жена. Сменив лошадей в
Гульче, мы уже втроем: Юдин, я и Осман -- сейчас же двинулись дальше. В этот
день мы делали восемьдесят три километра по горной дороге, через перевал
Чигирчик, и ночевали в совхозе Катта-Талдык -- первом совхозе по дороге к
культурным местам.
Радость, заботливость и сочувствие всюду встречали нас. В Оше нас ждали
сотрудники других научных партий, готовившихся к экспедиции на Памир.
Я взял на себя тяжелое дело -- извещение родителей Бойе о смерти их
сына.
Осман отказался ехать вторично. Он дрожал и начинал всплакивать при
одном упоминании о Памире.
В Оше, как дома, как на курорте, в чудесном, жарком, зеленом, полном
запахов цветущего миндаля, урюка, акаций а яблонь Оше мы прожили двадцать
дней. Мы снаряжались, "ездил в Андижан, Наманган, Фергану, добывал все, что
нам было нужно. Все экспедиционные партии объединились, чтобы выйти на Памир
вместе с первой колонной Памиротряда. Эта колонна разбредется по всему
Памиру, чтоб сменить на постах красноармейцев, проживших в жестоком
высокогорном климате положенный год.
22 июня, ровно через месяц со дня первого моего знакомства с басмачами,
мы выехали на Памир. Всех нас, сотрудников экспедиции, и красноармейцев,
кроме караванщиков, было шестьдесят всадников. Большой караван верблюдов,
вьючных лошадей и ишаков шел с нами. Мы двигались медленно.
1 июля мы пришли в Суфи-Курган. Здесь мы узнали новости: вся банда
Закирбая разоружилась и взялась за мирный труд. Осталась только ничтожная
горсточка непримиримых, где-то под самым небом, в снегах горных зубцов, над
ущельем Куртагата: Боабек и с ним девятнадцать джигитов. Это те, у которых
руки в крови, которые не рассчитывают на прощение. На поимку их Янкелевич
послал кавалерийский взвод под командой И. Н. Мутерко.
Тела мургабцев и Бойе не удалось разыскать. (Только месяца два спустя,
на Памире, до нас дошла весть о том, что останки Бойе найдены и погребены в
Гульче. ) Узбеки -- друзья караванщика группы мургабцев Мамаджана -- искали
его труп много дней подряд, излазали все горы. Накануне нашего приезда в
Суфи-Курган они сообщили, что видели под
обрывом, у разрушенной мельницы, в ложе реки Талдык три трупа: мужчины,
женщины и ребенка. Вероятно, это была семья Погребицкого. Посланный сейчас
же отряд там не нашел ничего.
В сторону Алайской долины отряды не выходили, чтоб не спугнуть тех
басмачей, которые взялись за мирный труд.
Суфи-бек и Закирбай, приезжавшие для переговоров, больше не появлялись.
Киргизы сообщили, что они бежали в Китай, опасаясь мести бывших своих
соратников.
Нам надо было итти на Памир, и мы послали в Алай киргизов с поручением
передать всем, чтобы нас не боялись, потому что хотя мы и идем с отрядом, но
намерения у нас мирные и никого из бывших басмачей карать мы не собираемся.
Нам поручено было провести на Алае разъяснительную работу среди
кочующих там киргизов.
Путь экспедиции I960 года в Алай-Гульчинеком районе.
I. Место нападения басмачей. 2. Место первой ночевки в плену. 3. Здесь
стояли юрты Тахтарбая. 4. Сюда бежали басмачи. 5. Место последней ночевки в
плену.
Балансирую, стоя на четвереньках, поддерживая свою же точку опоры.
Ягтаны слабо, наспех, примотаны к бокам лошади. В темноте уже не вижу Юдина,
который едет верхом впереди. И Османа (он на крупе лошади, за спиной
басмача) я уже потерял. Понуканья, перезвякиванья стремян, щелканье копыт по
камням.
Куда нас увозят?
Чуть прозрачнее темноты -- звездное небо. Из темноты выплывают на нас и
снова удаляются всадники, перекрывая своими фигурами нижние звезды. Ледяной
ветер. Почему мне так холодно? Ах да... я же мокрый насквозь, ведь я бежал
вброд через реку. Насквозь... Только сейчас замечаю это. Горная ночь
морозна. Холодный ветер тянет от вечных снегов. Криками; камчами лошадей
гонят рысью. Но из всех лошадей только одна с вьюком, -- та, на которой
прыгаю я. Вьючная лошадь может итти только шагом. Моя задыхается, она
загнана, крутой подъем, она отстает. Кричу, хочу объяснить: "надо
перевьючить ягтаны, они падают, сейчас упадут... " Меня не слушают. С
полдюжины камчей впиваются в голову лошади, в шею, в круп. Лошадь хрипит.
Подпрыгивая на ней, изобретаю тысячи уловок, чтоб удержать равновесие. Конец
подъема, черная тьма, по отчаянной крутизне -- спуск. Лошадь изнемогла,
уперлась, подскочили темные, в мохнатых шапках, нещадно лупят ее, она
дрожит, тяжело дышит, стоит. Мне жалко ее, спрыгиваю. Ноги еще не
отморожены: больно. Тяну лошадь за повод, через плечо. Ступаю -- каждый шаг
на полметра ниже, босиком по острым заиндевевшим камням, словно по
раскаленным осколкам стекла. Меня с моей лошадью гонят рысью, бегу,
проваливаясь все ниже в темную пропасть. Пересиливаю боль.
Спуск окончился. Срыв вниз, река. Поняли наконец, -- ругаясь,
перевьючивают ягтаны. Опять взбираюсь на них, еду вприскачку, вброд через
реку: вода как черное масло, тяжело шумит и бурлит. Зги не видать. Нет ни
Юдина, ни Османа, вокруг чужие, темные и молчаливые всадники.
До сих пор я угадывал знакомые мне места. Отсюда к АкБосоге -- направо.
А мы прямо -- в неизвестность -- вверх по реке, по какому-то притоку. Едем
по самому руслу, по мелкой воде, густые брызги как лед. Я коченею. От реки
-- влево вверх, на кручу, непонятно куда. Из-под копыт осыпаются камни, и
падения их я не слышу. На миг внизу отразились звезды. Пытаюсь запомнить
направление. Черные пятна, -- продираемся сквозь виснущие кусты. Шум реки
все слабее, все глуше, далеко внизу, подо мной. Все яростней ветер. Ночь.
Ночь... Меня не трогают и не разговаривают со мной. Сколько мы едем -- не
знаю.
Басмаческий лагерь
Ночью мы сидели в юрте, в кругу тридцати басмачей, по каменным лицам
прыгали отблески красного, жаркого пламени. Тянули руки и ноги к костру,
чтоб красный жар вытеснил из нас тот леденящий холод, от которого мы
содрогались. Шел пар от нашей мокрой и рваной одежды. С отвращением
отворачивались от еды и питья, поглощаемых басмачами, хоть и не имели ни
маковой росинки во рту с утра. И руками, на которых запеклась кровь Бойе,
смешавшаяся с глиной и конским потом, я отстранил чай, предложенный мне
тайно сочувствовавшей нам киргизкой, забитой женой курбаши Тюряхана.
Смотрели на деловитую дележку имущества, вынимаемого из наших ягтанов, и
угрюмо молчали, когда ценнейший хрупкий альтиметр басмачи перешвыривали друг
другу, и нюхали его, и прикладывали к ушам: не тикает ли? Уславливались не
говорить ни слова друг другу, чтоб басмачи не заподозрили нас в сговоре о
бегстве и, зажегшись яростью, тут же не прикончили бы нас. Беспокоились о
судьбе Османа, который исчез на пути сюда и о котором басмач сказал: "Узбека
увез к себе Суфи-бек. Узбеку хорошо". Слушали завывания ветра, когда вокруг
нас вповалку завалились спать басмачи, и передумывали прошедший день,
показавшийся длиннее и многообразнее целого года. И, помню, не удержались от
печальной улыбки, когда Юдин положил мокрые свои сапоги под голову -- "чтоб
не украли". Лежали, тесно прижимаясь друг к другу, чтобы усмирить холодную
дрожь хоть своим собственным теплом, когда погас костер и ледяной ветер,
поддувавший сквозь рваную боковую кошму, пронизывал нас до костей. Спали, не
заботясь о том, прирежут нас спящих или отложат резню до утра. Проснулись от
грубых толчков и запомнили: черное небо и великолепные звезды, стоявшие над
отверстием в своде юрты. И не верили сами себе, что на час или два сон увел
нас от всей этой почти фантастической обстановки. Слушали, как трещала
ветвями арчи киргизка, вновь раскладывая костер. Снаружи храпели лошади, и
до нас доносились понимаемые Юдиным крики спорящих:
-- Куда их еще таскать? Надо тут, сейчас, кончать с ними, зачем
откладывать это дело?..
... И снова ехали на острых, больно поддающих крупах басмаческих
лошадей, держась за спину сидящего в седле, владеющего нами врага. Ехали из
темной предутренней мглы в розовое утро, в солнечный тихий день. По узкому,
как труба, ущелью, по чуть заметной скалистой тропе, над лепечущим ручьем...
Громоздились над нами черные скалы, зава
ленные глыбами снега; всей весенней сочностью дышала в лощинах трава;
цеплялись за нас, словно предупреждая о чем-то, темнозеленые лапы арчи.
Голод и жажда, неукротимые, мучили нас.
Дальше некуда. Врезались в самый Алайский хребет. Высоко, почти прямо
над нами, -- снега. Они тают, и вода бежит вниз множеством тоненьких струй.
Они соединяются в ручейки, несутся по скалам вниз, распыляются в воздухе
тонкими водопадами. Отсюда видно, где родился тот ручей, над которым мы
ехал". Расширившись, он бежит мимо нас, несет с собой мелкие камешки,
скрывается за поворотом. Там, ниже, как и десятки других ручьев, он вольется
в мутную реку Гульчинку, вдоль которой вчера мы двигались караваном.
Помутнев от размытой глины, он сольет свои воды с ней. И эти воды помчатся
вниз в широком течении Гульчинки. Будут ворочать острые камни, окатывать их,
полировать, пока не станут они круглыми валунами. Еще на несколько
•миллиметров углубят дно долины, помогая тем водам, которые за тысячи
лет углубили долину на сотни метров, прорезали в ней крутостенные глухие
ущелья... Шумя и плещась, промчатся мимо заставы Суфи-Курган, мимо Гульчи,
до Ферганской долины. Здесь, нагретые солнцем, успокоенные, разойдутся
арыками по хлопковым полям, по садам абрикосов, дадут им веселую жизнь.
Опять соединятся с другими водами, текущими с гор так же, как и они... И все
вместе ринутся в многоводную, великую Сыр-Дарью, которая понесет их сквозь
пески и барханы пустынь до самого Аральского моря, где забудут они о своем
рожденье в горах, о снегах и отвесных скалах, о своем родстве со всеми
среднеазиатскими реками, составляющими Сыр-Дарью и Аму-Дарью и бесследно
исчезающими в знойных азиатских пустынях...
Долгая жизнь и долгий путь у ручья, который сейчас струится над нами,
распыляясь в тонкие водопады. А наша жизнь и наш путь не здесь ли теперь
окончатся?..
Налево от нас -- очень крутой, высокий травянистый склон. Направо --
причудливые башни и колодцы конгломератов, когда-то размытых все теми же
горными водами.
А здесь, на дне каменной пробирки, -- арчовый лес, травяная лужайка,
перерезанная ручьями. Отсюда не убежишь...
На лужайке -- скрытая от всех человеческих взоров кочевка курбаши
Закирбая: шесть юрт. По зеленому склону и в арче -- мирный, хоть и
басмаческий скот: яки, бараны. А здесь -- женщины, дети, -- у курбаши
большая родовая семья. Все повылезли из юрт поглазеть на пленных.
Нас вводят в юрту. Поднимает голову, в упор глядит на нас из глубины
юрты старик Зауэрман. Впрочем, мы не удивлены.
-- Вы здесь?
Моргает красными глазами, удрученно здоровается: -- И вас?..
Да, вот видите.
А где ваш третий?
Убит.
А... а... убит... Мерзавцы!.. Ну и нам скоро туда же дорога... на этот
раз живым не уйду... -- старик умолкает, понурив голову.
Коротко о том, что было дальше
Находясь в басмаческом плену, мы с Юдиным и Зауэрманом оказались
свидетелями многих интересных событий. Обо всех этих событиях рассказывается
подробно в другой моей книге -- в повести, полностью посвященной описанию
басмачества в Алай-Гульчинском районе и борьбе с бандою Закирбая. Здесь же
нет места для столь подробного рассказа об одном коротком, хотя и
примечательном эпизоде из наших длительных экспедиционных странствий.
Поэтому для того только, чтоб сохранить нить повествования, сообщу самую
суть дальнейшего.
Помещенные в юрту Тахтарбая, родного брата Закирбая -- главаря банды,
мы были совершенно изолированы от внешнего мира. Запертое со всех сторон
глухое ущелье, похожее на каменную пробирку, исключало всякую возможность
бегства. Нам, однако, симпатизировала жена Тахтарбая, умная женщина,
считавшая, что участие ее мужа и его брата в басмачестве -- величайший позор
и бедствие для всего рода. Прекрасное знание Юдиным киргизского языка
оказало нам неоценимую услугу, -- тайно от всех старуха осве. домляла нас о
положении в банде, о решениях и замыслах ее главарей.
Не слишком приятно было узнать, что Закирбай хочет лично руководить
процедурой казни своих пленников, но это желание курбаши давало нам
некоторую отсрочку: в ожидании его "победоносного" возвращения из-под
осажденной им заставы Суфи-Курган нас не трогали. Обстановка несколько раз
менялась то в нашу пользу, то против нас. Неизменно заставляя себя сохранять
внешнее спокойствие, не ведая, что произойдет с нами через минуту, мы
старались не терять надежды, ждали счастливой случайности, перемены, какой
можно было б воспользоваться.
Одной из таких случайностей было появление в кочевье молодого киргиза
Джирона, бедняка, за два года перед тем работавшего в Памирской экспедиции
Академии наук и хорошо знавшего Юдина. Через Джирона нам удалось установить
письменную связь с пограничной заставой.
Семьсот басмачей осаждали эту заставу, но горстке пограничников удалось
отстоять себя до прибытия подкрепления. А когда два эскадрона маневренной
группы прибыли на помощь заставе и погнали банду, для нас наступили новые
критические часы: Закирбай примчался в кочевье с приказанием всем немедленно
бежать через закрытый снегами горный хребет, за границу. В банде началась
паника, а многие бедняки, понимая, что им, плохо одетым, разутым, переход
через снега грозит гибелью, стали возмущаться. Приближенные Закирбая хотели
теперь на скорую руку избавиться от обременявших их пленников, но Юдин,
умело оценив обстановку, стал исподволь, с огромною силой духа, убеждать
Закирбая, что "кончать" нас тому невыгодно: вот, мол, все Закирбаево
"воинство" уже восстает против него, он остается один, у него нет иного
выхода, кроме как сдаться Красной Армии; и если, мол, он сохранит нам жизнь,
то и мы, в свою очередь, гарантируем ему жизнь..
Юдин прекрасно понимал психологию жадного, жестокого, корыстолюбивого,
вероломного и трусливого Закирбая. Юдин с удивительным хладнокровием,
сохраняя в разговорах с Закирбаем чувство собственного достоинства, придавая
все большую уверенность и даже властность своему тону, постепенно
воздействовал на Закирбая в нужном нам направлении.
Закирбай метался. То ему приходило в голову немедленно покончить с
нами, то страх перед будущим заставлял его верить Юдину, и он оберегал нас
от ярости наиболее фанатичных своих соратников... Наконец, когда Закирбай
убедился, что бежать вместе со всей бандой не может, потому что ему грозит
опасность быть убитым своими же; когда скорое появление отряда
красноармейцев в кочевье стало уже несомненным; когда Юдину удалось вселить
в голову растерянного курбаши мысль, что единственное спасение для него --
положиться на наше обещание сохранить ему жизнь, -- он предоставил нам
лошадей: скачите сами к заставе, скажите там, какой я, Закирбай, хороший; и
если командир Красной Армии пришлет за мною гонца с обещанием, что меня не
тронут, я приеду на заставу Суфи-Курган и уже никогда больше не стану
выступать против советской власти!
Но местность между кочевьем Закирбая, откуда вся банда уже бежала, и
пограничной заставой Суфи-Курган была еще в руках тех сподвижников Закирбая,
которые не сложили оружия. От нас самих зависело, сумеем ли мы прорваться
сквозь эту группировку басмачей.
Мы выехали. И о том, что последовало за этим, можно рассказать
подробнее.
Освобождение
А ну, нажмем?
Давайте.
Мы нагнулись над карими шеями, земля, сплываясь, рванулась назад и
пошла под нами сухою рыжезеленою радугой.
Кобыла распласталась и повисла в яростной быстроте. Ветер остался
сзади. Ветром стали мы сами. С острой, внезапной нежностью я провел ладонью
по темной гриве и понял, что эту породу нельзя оскорбить прикосновением
камчи -- на такой лошади мне никогда не приходилось сидеть. С нервною
чуткостью она лежала на поводу и на поворотах кренилась так, что я едва не
зачерпывал землю стременем.
Подъемы, спуски, обрывы, ручьи, рытвины, камни -- она все сглаживала
неоглядной своей быстротой. Я верил, что она не может споткнуться. Если б
она споткнулась, мы бы рухнули так, что от нас бы ничего не осталось. Кобыла
курбаши, главаря басмачей Закирбая, хорошо знала, как нужно вынести всадника
из опасности. Мы устремились по руслу реки. Две рыжие отвесные стены
неслись, как нарезы ствола от вылетающей на свободу пули. Отвесные стены
были пропилены водой, в сухих извилистых промывинах, мы знали, сидят
басмачи. Между этими щелями я немного сдерживал кобылу, здесь было меньше
вероятия получить в спину свинец. И кобыла меня поняла: она сама уменьшала
ход между промывинами и сама выгибалась в стрелу, когда мы проносились мимо
щели, из которой мог грохнуть внезапный и ожидаемый выстрел. Я неизменно
опережал всех: у всех лошади были хуже. Что было делать? Я домчался бы до
заставы на час раньше других, но мог ли я оставить других позади себя?
Вырвись басмачи из щелки -- меня б они не догнали, но зато наверняка
столкнулись бы с Юдиным и Зауэрманом, потому что, выскочив при виде меня,
они оказались бы впереди моих спутников. Они перегородили бы им дорогу. И я
останавливался. Трудно было заставить себя решиться на это, и трудно было
сдержать разгоряченную кобылу, но я все-таки останавливался и поджидал
остальных. Я стоял, и кобыла нервно топталась на месте. Я стоял и был
отличной мишенью, и мне было страшно, и страх мой передавался кобыле: она
нервничала и пыталась встать на дыбы. Когда Юдин, Зауэрман и киргиз догоняли
меня, я отпускал повод и срывался с места в гудящее быстротой пространство.
Навстречу нам попался киргиз. Мы осадили лошадей и наспех прочитали
переданную им записку. Это была записка с заставы, в ней начальник отряда
беспокоился о нашей судьбе. Мы рванулись дальше, а посланец повернул своего
коня и тоже помчался с нами. У него был отличный конь, он не отставал от
меня, и теперь у меня был спутник, равный мне по скорости хода. Мы неслись
рядом, и на полном скаку я закидывал его вопросами. Прерывисто дыша, ломая
русский язык, киргиз рассказал мне, что он почтальон, что обычно он возит
почту из Суфи-Кургана, через Алай, в Иркештам, а сейчас живет на заставе.
Эту записку он вызвался передать нам потому, что его конь быстр, "как
телеграф", -- это его сравнение, и потому, что на таком коне он проскочит
всюду, хоть через головы басмачей. Пригибаясь к шее коня, мой спутник
поглядывал по сторонам и бормотал коню: "эш... ыш... " -- и только одного не
хотел: не хотел останавливаться, чтоб поджидать вместе со мною остальных. Мы
все-таки останавливались и снова неслись. Наши лошади косили друг на друга
крутые глаза, и ветер падал, оставаясь за нами. Стены конгломератов казались
огнем, сквозь который мы должны проскочить, не сгорев. Спутник мой хвалил
закирбаевскую кобылу. Халат его надулся за его спиной, как воздушный шар. Я
знал, что кобыла моя чудесна, я почти не верил, что четверо суток до
сегодняшнего дня Закирбай сам ветром носился на ней, почти не поил, почти не
кормил ее, гонял ее дни и ночи. Всякая другая лошадь неминуемо пала бы, а
эта вот никому не сдает замечательной быстроты.
До заставы оставалось несколько километров, разум уже уверял меня в
удаче, а чувства еще спорили с ним. Я волновался и даже на этом скаку
прижимал рукой сердце, так размашисто стучавшее, и сотню раз повторял себе:
"Неужели проскочим? Проскочим, проскочим!" И в цокоте копыт было
"проскочим", и уже в последней долине, перед той, где застава, у развалин
старого могильника, на зеленой траве я осадил кобылу, спешился и сел на
траву, чтоб в последний раз подождать остальных. Мой спутник спешился тоже и
угостил меня папиросой, и когда я закурил ее (я не курил уже сутки), я
почувствовал, что мы, наконец, спасены. Вскочив на коней, мы присоединились
ко всем и ехали дальше рысью. За последним мысом открылась последняя долина,
и в дальнем ее конце я увидел белую полоску заставы. Мы ехали шагом, зная
уже, что теперь можно ехать шагом, и чтобы продлить ощущение радости --
такой полной, что в горле от нее была теснота. Медленно мы подъезжали к
заставе. На площадке ее, над рекой толпились люди, и я понял, что нас
разглядывают в бинокли. Лучшим цветом на земле показался мне зеленый
цвет гимнастерок этих людей. Переехав вброд реку, уже различая
улыбающиеся нам лица, я взял крутую тропинку в галоп и выехал наверх, на
площадку, в гущу пограничников, шумно и почтительно обступивших меня. Нам
жали наперебой руки, со всех сторон бежали красноармейцы, чтоб взглянуть на
нас хоть одним глазком сквозь толпу, и усатый командир отряда, крякнув,
улыбнувшись и положив на плечо мне ладонь, сказал:
-- Вот это я понимаю... Выскочить живыми от басмачей!.. Меня трогали,
щупали рваную одежду, нас торжественно
повели в здание заставы, и командир отряда откупорил бутылку
шампанского. Я спросил, откуда шампанское здесь, и он, добродушно
усмехнувшись, сказал:
-- Пейте!.. Для вас все найдем... Потом объясню.
А Любченко, милый Любченко, начальник заставы, уже тащил нам чистое
красноармейское белье, полотенце и мыло и настраивал свой фотоаппарат.
Вымывшись в фанерной беседке, где желоб превращал горный ручей в душ,
вымывшись там, потому что баня была временно занята запасами фуража, мы
вернулись в здание заставы, и здесь неожиданно кинулся к нам Осман. Он
плакал от радости (я раньше не верил, что мужчины плачут от радости, но он
плакал крупными, быстрыми слезами) и прижимался к нам, говорил, путая слова,
сбиваясь и размазывая по лицу слезы рукавом халата. Осман!.. Живой Осман!..
Он рассказывал и показывал нам свои руки, свое тело, свои босые ноги. И ноги
его были в ранах, и руки и тело в ссадинах и крови. И тут мы узнали: Осман
прибежал на заставу сейчас, за пятнадцать минут до нас.
Нам рассказали комвзводы:
-- Наблюдали мы за долиной, вдруг видим, из-за мыса показался кто-то.
Смотрим -- всадник. Быстро-быстро скачет... Кто такой? -- думаем. Взяли
бинокль, смотрим и видим: лошади нет, один человек бежит. Ну, как быстро
бежал! Упадет, вскочит, опять бежит -- скорей лошади, честное слово.
Прибежал сюда -- и бух в ноги, плачет, смеется, вставать не хочет, хлопнет
ладонями и твердит: "Мэн наш человек... мэн наш человек". Затвердил одно и
сказать ничего не может... Потом руками всплеснул и еще пуще плачет: "Юдин
убит, другой товарищ убит, третий тоже убит... Все убиты... Шара-бара взял,
всех убивал... Вай!... Совсем ничего нет... " Ну, подняли мы его, успокоили,
еле добились толку. Повар он ваш, оказывается... "Мэн наш человек... " Ну и
чудак! Кое-как мы в себя его привели...
Туго пришлось бедняге Осману. Когда нас везли от места нападения в юрту
Тюряхана, Суфи-бек с несколькими басмачами отделился и взял Османа с собой.
Привез Османа в свою юрту. Фанатик Суфи-бек бил Османа, раздел его догола,
связал в юрте и издевался над ним.
Говорил ему:
-- Ты мусульманин? Ты продался неверным? Ты ездишь с ними? Ты не
мусульманин. Ты хуже собаки, все вы, сарты, продались неверным, все вы
"коммунист", "коммунист"! Да сгорит ваша земля! Зачем с неверными ездишь?
Плюю на твои глаза!..
На ночь положил Суфи-бек связанного и голого (в одном халате на голое
тело) Османа в юрте между басмачами и объяснил, что утром зарежет его,
утром, когда все приедут сюда, чтоб было всем посмотреть, как карает аллах
отступников от "священной воли пророка".
Кочевка Суфи-бека стояла ближе к заставе. Осман знал с детства каждый
куст этой местности. Ночью ему удалось бежать. Он сумел развязать веревки,
схватил две лепешки и, проскользнув между задремавшими стражами, выскочил в
ночь. По снегам, в морозные ночи, голодный, босой и голый -- он бежал. Днем
он прятался среди камней. Он пытался пробраться на заставу в обход, через
снежный хребет, но едва не погиб в снегах. Он возвращался и кружил по горам.
Он скрывался от всякого человека. За ним гнались, его искали, но не нашли.
Его долго искали, потому что он был свидетелем преступлений банды и знал по
именам главарей. Убедившись, что Осман спасся, Закирбай понял, что теперь
все известно заставе. Не поэтому ли еще он переменил свое отношение к нам?
На заставе нам предлагали спать, но до сна ли нам было? Весь день с
комсоставом заставы мы обсуждали, как спасти мургабцев, если все-таки они
еще живы, как вырвать их -- живых или мертвых -- у басмачей, как доставить
на заставу тело Бойе и какие предпринять меры для скорейшей ликвидации
банды.
Вечер на погранзаставе. Первый вечер после нашего возвращения из плена.
Керосиновая лампа на столе коптит, но мы этого не замечаем. Комвзводы спят
на полу, на подстеленных бурках. Юдин играет в шахматы с Моором. Я
разговариваю с Янкелевичем о шолоховском "Тихом Доне". Янкелевичу быт
казаков хорошо знаком; он прожил среди них многие годы.
Янкелевич хвалит "Тихий Дон" и рассказывает о казаках, покручивая
необъятные усы. Янкелевич сам как хорошая книга. Рассказчик он превосходный.
За стеной удумывает веселые коленца гармонь, слышу топот сапог и в перерывах
приглушенный стенкою хохот.
Разлив гармони резко обрывается, в тишине множится топот сапог. Стук в
дверь -- и взволнованный голос:
Товарищ начальник!.. Янкелевич вскакивает:
Можно. Что там такое? В дверях боец:
Товарищ начальник!.. Вас требуется...
Янкелевич поспешно выходит. Прислушиваюсь. Смутные голоса. Слышу
далекий голос Янкелевича:
-- Все из казармы... Построиться!
Громыхая винтовками и сапогами, топают пограничники. Комвзводы
вскакивают и выбегают из комнаты, на бегу подтягивая ремни. Выхожу и я с
Юдиным. Тяжелая тьма. Снуют, выстраиваясь, бойцы. Впереди на площадке
'чьи-то ноги, ярко освещаемые фонарем "летучая мышь". Человек покачивает
фонарем, круг света мал, ломаются длинные тени, сначала ничего не понять.
Мерцающий свет фонаря снизу трогает подбородки Янкелевича, Любченки и
комвзводов. Подхожу к ним, -- в темноте что-то смутное, пересекаемое белою
полосой. "Летучая мышь" поднимается -- передо мною всадник, киргиз, и
поперек его седла свисающий длинный брезентовый, перевязанный веревками
сверток. Фонарь опускается, глухой голос:
-- Веди его на середину...
Фонарь идет дальше, поднимается, -- второй всадник с таким же свертком.
Черная тьма. Фонарь качается, ходит, вырывая из мрака хмурые лица, я
понимаю, что это за свертки, меня берет жуть, кругом вполголоса хриплые
слова: "Давай их сюда... ", "Заходи с того боку... ", "Снимай... ", "Тише,
тише, осторожнее... ", "Вот... Еще... вот так... теперь на землю клади... ",
"И этого... рядом... ", "Развязывай... ", "Ну, ну... спокойно... "
Голоса очень деловиты и очень тихи. Два свертка лежат на земле.
Комсостав и несколько бойцов сгрудились вокруг. Черная тьма за их спинами и
над ними. Чья-то рука держит фонарь над свертками. Желтым мерцанием освещены
только они да груди, руки и лица стоящих над ними. Двое бойцов, стоя на
коленях, распутывают веревки.
В брезентах -- трупы двух замученных и расстрелянных басмачами
красноармейцев...
Янкелевич подошел к фронту выстроенных бойцов:
Это Бирюков и Олейников, -- командир говорил резко и решительно. --
Завтра выступим. Камня на камне не оставить. Зубами рвать... Понятно?
Понятно. -- ответил глухой гул голосов.
А теперь расходись по казарме. Бирюкова и Олейникова обмыть, одеть.
Сейчас же отправим их в Ош.
С начала революции традиция: убитых басмачами в Алае пограничников
хоронят в Оше...
Их было трое, на хороших конях. Поверх полушубков -- брезентовые плащи.
За плечами винтовки, в патронташах -- по двести пятьдесят патронов. На
опущенных шлемах красные пятиконечные звезды. Они возвращались из Иркештама.
Одного звали -- Олейников, другого -- Бирюков, третий -- лекпом, фамилии его
я не знаю.
Завалив телеграфные столбы, лежал снег в Алайской долине. Бухлый и
рыхлый, предательский снег. Три с половиной километра над уровнем моря. В
разреженном воздухе бойцы трудно дышали. На родине их, там, где соломою
кроют избы, высота над уровнем моря была в десятки раз меньше. Там дышалось
легко, и никто не задумывался о странах, в которых кислорода для дыхания не
хватает. Там жила в новом колхозе жена Бирюкова, отдавшая в детдом своих
пятерых детей. Она не знала, что муж ее на такой высоте. Она никогда не
видела гор. Жена Олейникова жила в Оше и перед собою видела горы. Горы, как
белое пламя, мерцали на горизонте. Голубое небо касалось дальних,
ослепительно снежных вершин. Вверху белели снега, а внизу, в долине, в Оше
цвели абрикосы и миндаль. Жители Оша ходили купаться к холодной реке
Ак-Бура, чтоб спастись от знойного солнца. Жена Олейникова ходила по жарким
и пыльным улицам, гуляла в тенистом саду. Жена лекпома жила где-то там, где
земля черна и где сейчас сеют рожь.
Их было трое, на хороших конях. Они возвращались на погранзаставу
Суфи-Курган. Иногда они проходили только по полтора километра за день.
Лошади проваливались в снегу, бились и задыхались. Пограничники задыхались
тоже, но вытаскивали лошадей и ехали дальше. У них был хороший запас сахара,
сухарей и консервов. У них были саратовская махорка и спички. Больше ничего
им не требовалось. На ночь они зарывались в снег и спали по очереди. Из
вихрей бурана, из припавшего к земле облака, в ночной темноте к ним могли
подойти волки, барсы и басмачи. По утрам бойцы вставали и ехали дальше.
Ветер продувал их тулупы насквозь. Держась за хвосты лошадей, они взяли
перевал Шарт-Даван. Здесь
высота была около четырех километров. Спускаясь с перевала они
постепенно встречали весну. Весна росла с каждым часом. Через день будет
лето. Кони ободрялись, выходя на склоны, где стремена цепляли ветви арчи,
где в полпальца ростом зеленела трава. Завтра пограничники въедут во двор
заставы.
О чем говорили они, я не знаю. Вероятно, о том, что скоро оканчивается
их срок и они вернутся в родные колхозы и расскажут женам об этих горах.
В узком ущелье шумела перепадами белесой воды река. Солнце накалило
камни. Пограничники сняли брезентовые плащи и тулупы. С каждым часом они
ехали все веселей.
Но в узком ущелье послышался клич басмачей и со стен вниз разом
посыпались пули. Пограничники помчались, отстреливаясь на скаку. Кони знали,
что значит винтовочный треск, коням не нужно было оглаживать шеи. Они
вынесли пограничников из ущелья, но тут вся банда остервенело рванулась на
них.
Пограничники прорвались на вершину ближайшей горы. Здесь банда взяла их
в кольцо. Пограничники спешились и залегли на вершине. Тут оказалось два
больших камня. Между камнями пограничники спрятали лошадей. Прилегли за
камнями и защелкали затворами -- быстро и механически точно. Басмачи падали
с лошадей. Воя по-волчьи, басмачи кидались к вершине и умолкали, в тишине
уносясь обратно, перекидывая через луку убитых. Пограничники работали
методично. Тогда началась осада, и басмачи не жалели патронов. Много раз они
предлагали пограничникам сдаться. Пограничников было трое, но они отвечали
пулями. Так прошел день. А к вечеру у пограничников не осталось патронов.
Жалобно ржала раненная в ключицу лошадь. Тогда пограничники поняли, что срок
их кончается раньше, чем они думали. Басмачи опять нажимали на них.
Пограничники сломали винтовки и, оголив клинки, бросились вниз. Выбора у них
не было. В гуще копыт, лошадиных морд и халатов пограничники бились
клинками. Но басмачей было двести, и пограничников они взяли живыми.
Об этом позже рассказали нам сдавшиеся басмачи.
Снова в путь!
4 июня, на рассвете, не выпив даже чаю от спешки, мы -- Юдин, Зауэрман,
Осман и я -- выехали с заставы. В первой части пути нас сопровождал эскорт в
десять сабель, предоставленный нам Янкелевичем: нам предстояло проскочить
мимо ущелья Бель-Аули, занятого бандой Ады Ходжи. Длинной цепочкой всадников
растянулись мы по дороге. Нашего возвращения не буду описывать. Ущелье
Бель-Аули мы проскочили благополучно. Сделав тридцать километров в урочище
Казыл-Курган, мы расстались с эскортом: отсюда дорога была, спокойна. В
Гульче простились с Зауэрманом, его встретила здесь жена. Сменив лошадей в
Гульче, мы уже втроем: Юдин, я и Осман -- сейчас же двинулись дальше. В этот
день мы делали восемьдесят три километра по горной дороге, через перевал
Чигирчик, и ночевали в совхозе Катта-Талдык -- первом совхозе по дороге к
культурным местам.
Радость, заботливость и сочувствие всюду встречали нас. В Оше нас ждали
сотрудники других научных партий, готовившихся к экспедиции на Памир.
Я взял на себя тяжелое дело -- извещение родителей Бойе о смерти их
сына.
Осман отказался ехать вторично. Он дрожал и начинал всплакивать при
одном упоминании о Памире.
В Оше, как дома, как на курорте, в чудесном, жарком, зеленом, полном
запахов цветущего миндаля, урюка, акаций а яблонь Оше мы прожили двадцать
дней. Мы снаряжались, "ездил в Андижан, Наманган, Фергану, добывал все, что
нам было нужно. Все экспедиционные партии объединились, чтобы выйти на Памир
вместе с первой колонной Памиротряда. Эта колонна разбредется по всему
Памиру, чтоб сменить на постах красноармейцев, проживших в жестоком
высокогорном климате положенный год.
22 июня, ровно через месяц со дня первого моего знакомства с басмачами,
мы выехали на Памир. Всех нас, сотрудников экспедиции, и красноармейцев,
кроме караванщиков, было шестьдесят всадников. Большой караван верблюдов,
вьючных лошадей и ишаков шел с нами. Мы двигались медленно.
1 июля мы пришли в Суфи-Курган. Здесь мы узнали новости: вся банда
Закирбая разоружилась и взялась за мирный труд. Осталась только ничтожная
горсточка непримиримых, где-то под самым небом, в снегах горных зубцов, над
ущельем Куртагата: Боабек и с ним девятнадцать джигитов. Это те, у которых
руки в крови, которые не рассчитывают на прощение. На поимку их Янкелевич
послал кавалерийский взвод под командой И. Н. Мутерко.
Тела мургабцев и Бойе не удалось разыскать. (Только месяца два спустя,
на Памире, до нас дошла весть о том, что останки Бойе найдены и погребены в
Гульче. ) Узбеки -- друзья караванщика группы мургабцев Мамаджана -- искали
его труп много дней подряд, излазали все горы. Накануне нашего приезда в
Суфи-Курган они сообщили, что видели под
обрывом, у разрушенной мельницы, в ложе реки Талдык три трупа: мужчины,
женщины и ребенка. Вероятно, это была семья Погребицкого. Посланный сейчас
же отряд там не нашел ничего.
В сторону Алайской долины отряды не выходили, чтоб не спугнуть тех
басмачей, которые взялись за мирный труд.
Суфи-бек и Закирбай, приезжавшие для переговоров, больше не появлялись.
Киргизы сообщили, что они бежали в Китай, опасаясь мести бывших своих
соратников.
Нам надо было итти на Памир, и мы послали в Алай киргизов с поручением
передать всем, чтобы нас не боялись, потому что хотя мы и идем с отрядом, но
намерения у нас мирные и никого из бывших басмачей карать мы не собираемся.
Нам поручено было провести на Алае разъяснительную работу среди
кочующих там киргизов.

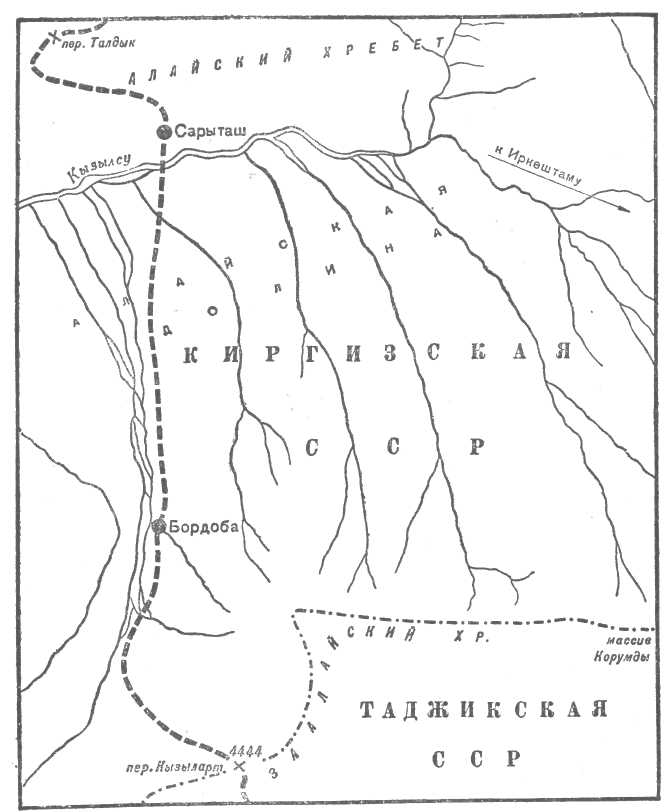 Маршрут по Алайской долине.
тык, Сарык-Могол, Киндык, Туз-Ашу, Тенгиз-Бай. Самый известный перевал
через Алайский хребет -- перевал Талдык (3 651, а по другим данным -- 3 680
метров). Через него с 1932 года проходит автомобильная дорога Ош -- Хорог.
Огромный массив Заалайокого хребта еще менее доступен и до сих пор
далеко не весь подробно исследован. До 1932 года в нем были известны только
два перевала -- Кизыл-Арт (высотой 4 444 метра), через который в том году
был проложен на Памир автомобильный тракт, заменивший прежнюю колесную
дорогу, созданную в 1891 -- 1892 годах русским памирским отрядом, и
Терс-Агар -- в западной части хребта, выводящий к урочищу Алтын-Мазар,
откуда можно пробраться: вверх по реке Мук-су к языку ледника Федченко;
двигаясь же вниз по реке -- в Каратегин и далее в средний Таджикистан. По
рекам Каинды и Балянд-Киик из Алтын-Maeapa есть тропы на Восточный Памир.
На востоке Алайская долина (или, как ее здесь называют, Баш-Алай,
то-есть "Голова Алая") начинается у самых границ Китая, -- там, где проходит
пологий хребет Тау-Мурун. Постепенно снижаясь к западу, по Алайской долине
бежит от ТауМуруна красноводная река Кизыл-су.
В западном конце Алайской долины, там, где Кизыл-су вступает в холмы,
издавна известна была старинная киргизская крепостца Дараут-Курган.
Созданный здесь районный центр в последние годы превратился в крупный
благоустроенный поселок.
Ландшафт восточной части долины типичен для высокогорной степи. Здесь,
на межгорном плато, климат суров к жесток. Здесь невозможны посевы, здесь
только травы густы и обильны: сочные альпийские травы, прекрасный подножный
корм для скота -- в прошлом киргизских кочевников, в наши дни -- богатых
колхозов Киргизии, Узбекистана и Таджикистана; в летнее время на
великолепных отгонных пастбищах Алая собираются огромные отары и стада,
принадлежащие даже отдаленным колхозам Ишкашима, Вахана, Шугнана.
Климат долины подчинен постепенному снижению ее с востока на запад. На
западе климат значительно мягче, там сеют злаки -- рожь и ячмень, там всегда
было много киргизских селений, летовок, зимовок. Оттуда уже можно не уходить
на зиму вниз или в защищенные от яростных ветров боковые ущелья. Для
западной части долины характерен ландшафт горной полупустыни.
О древнем ледяном панцыре
Но есть еще третий ландшафт в Алайской долине, он в ней наблюдается
повсюду -- это особенный ландшафт отложений покровного древнего оледенения.
В отдаленную от нас эпоху вся Алайская долина была покрыта ледниковым
потоком, -- исполинский ледяной панцырь
сковывал ее всю, сверху донизу. Спускаясь с гребней Заалайского хребта,
боковые ледники протягивались, изгибаясь, на полсотни километров каждый. Все
они смыкались внизу в один мощный массив, который медленно оползал вдоль
подножия хребта по долине, следуя ее плавному наклону с востока на запад.
Этот ледяной панцырь весил биллионы тонн, и, двигаясь между двумя хребтами
-- Алайским и Заалайоким, он выпахивал ложе, которое все углублялось под его
непомерной тяжестью по мере того, как измельченные породы выносились им к
западу.
Это ложе оставалось все-таки перекошенным, наклоненным к северу, потому
что Заалайокий хребет был выше Алайского, потому что на южном склоне
последнего почти не было ледников, в то время как северный склон Заалайского
хребта весь был затянут ледяными потоками. Стекая с крутых склонов на север
и постепенно, в силу собственной тяжести, поворачивая по наклону долины на
запад, они несли на себе искрошенные ими громады скал. Каменное месиво
загромождало левый борт долины, еще более увеличивая ее наклон. А потому вся
пода, образовывавшаяся от постепенного таяния ледников, окатывалась к
правому борту долины и текла вдоль подножия Алайского хребта -- рекой
Кизыл-су, -- единственной рекой, собиравшей в себя все талые воды с двух
гигантских параллельных хребтов, между которыми тянулась долина. Только там,
где Заалайский хребет рассекался сверху донизу рекою Мук-су, вытекавшей из
другой колоссальной ледниковой системы -- системы ледника Федченко, воды
двух рек сливались.
Постепенно алайский "Ледник Подножия" таял, питавшие его боковые
ледники отступали, оставляя после себя громады моренных нагромождений.
"Ледник Подножия" умирал медленно, он, казалось, долго боролся за свое
существование, он то совсем был близок к истаиванию, то снова набирался
силы, увеличиваясь в размерах. Периоды этой титанической борьбы -- периоды
наступлений и отступлений -- не прошли бесследно. Свидетельствами ее
остались моренные отложения и продольные троги в долине.
Моренные отложения сохранились до наших дней во всей своей свежести, по
ним можно судить, сколько раз повторялось оледенение, сколько раз оно
исчезало. Ущелья хребтов и сама долина рассказывают об этом тем людям,
которые умеют вглядываться взором исследователя в их оригинальные и
поучительные формы.
Наконец "Ледник Подножия" исчез. Но все, что он нес •на себе, все,
что он сокрушил, измельчил, набросал, столкнул между собою, -- гигантское
моренное наследство его -- осталось в виде исполинских каменистых барьеров,
перегораживающих долину, в виде бесчисленных холмов, бугров и врезанных в
склоны ледниковых "заплечиков".
На размытых отложениях эпохи первого -- покровного -- оледенения
покоится все то, что оставили после себя позднейшие оледенения. Ученые
насчитывают их четыре стадии, но все они были уже не так мощны, все были
неспособны воссоздать древний "Ледник Подножия".
Все меньше становилось льда на склонах Заалайского хребта и в Алайской
долине, все выше поднималась линия снегов, питавших ледники, -- она
приближалась к гребням хребта.
И, наконец, наступила эпоха современного оледенения. Размеры и мощность
его не идут ни в какое сравнение с размерами и мощностью древнего. Ледники,
опускающиеся по северным склонам Заалайского хребта, уже не дотягиваются до
Алайской долины. Они ползут, заполняя собою поперечные ущелья и долины
хребта, -- тесные, глубоко врезанные; они внезапно обрываются на высоте,
положив свои короткие и широкие языки на уступы, образованные древними
моренами. Они похожи на ледяных изогнувшихся змей, свесивших свои плоские
головы над Алайской долиной, -- тем более похожи на змей, что их тела
самостоятельны и раздельны, боковых притоков они не имеют. Они не опускаются
ниже четырех километров над уровнем моря, не дотягиваясь до Алайской долины
на полкилометра по отвесу, иногда почти на километр. Есть, правда, среди них
ледник и другого типа -- сложный, разветвленный, образованный из ряда
притоков долинный ледник Корженевского, самый большой из всех современных
ледников Заалая; он спускается ниже других, но он исключение.
И все-таки, на наш человеческий взгляд, современное оледенение Заалая
грандиозно. Оно представляется нам таким потому, что наверху, под гребнем
хребта, все ледники, как бы сросшись своими хвостами, как бы рожденные из
одного тела, соединены в сплошной сверкающий массив, лоскут древнего
всеохватного панцыря. Этот лоскут покрывает весь Заалайский хребет, начиная
от высоты в 4 700 метров и до самых гребней, то-есть в среднем поясом
высотой в километр, а там, где гребень выгнут к небесам высочайшими пиками,
еще больше -- до их вершин. Эти вершины: пик Ленина и немногим не
достигающие его по высоте пик Дзержинского -- 6 713, пик Кзыл-Агин -- 6 679,
пик Корумды -- 6 555, пик Заря Востока -- 6 346, гора Корженевского -- 6 005
метров, и многие другие, сверкающие в ясный день великаны.
Боковые ледники Заалая, которые считаются маленькими, прославили бы
собой любые горы Европы, если бы оползали не со склонов высочайшего в
Советском Союзе хребта. Так длина ледника Корженевского (исток реки
Джанайдар) --
больше двадцати километров. Но кому он известен, этот запрятанный под
пиком Ленина в отроги хребта ледник? Не насчитать и полусотни людей,
ступавших по его обнаженному, кристаллически чистому льду. В Заалайском
хребте и поныне существуют десятки ущелий и ледников, не пройденных ни одним
человеком.
Как ни громадны эти вершины, как ни массивен хребет, но в розовых лучах
восходящего солнца он представляется наблюдателю из Алайской долины легким,
-- великолепные льды, кажется, парят над миром, исполинские в своей мощи,
воздушные и прекрасные, они словно налиты вечностью.
Но в дурную погоду страшно даже представить себе, какие дикие ураганы и
бури, пурги и бураны беснуются в этих облаках, кажущихся из Алайской долины
только белосерыми клубящимися туманами высоких пространств.
Исследователи Алая
Первым исследователем, увидевшим Заалайский хребет, был известный и
талантливый ученый Алексей Павлович Федченко, проникший через перевал
Тенгиз-Бай (3 801 метр над уровнем моря) в Алайскую долину, к киргизской
крепости Дараут-Курган. 20 июля 1871 года А. П. Федченко со своей женой
Ольгой Александровной, столь же знаменитой русской
женщиной-путешественницей, поднялся на перевал.
"... Вид с перевала заставил нас остановиться: перед нами открылась
панорама исполинских снеговых гор, -- пишет А. П. Федченко о своем первом
впечатлении от созерцания неведомого мира, открывшегося ему в тот день. --
Горы эти, впрочем, не все были видны с перевала. Ближайшие гряды отчасти
закрывали их. Между тем мне хотелось видеть возможно более; перед нами была
местность, едва известная по имени Алай, а что лежало за нею, было никому не
известно... "
Федченко двинулся дальше, пока не увидел все:
"Горы вдали незаметно пропадали, и между ними и горами по правому
берегу расстилалось ровное степное пространство Алай, без границ сливавшееся
на северо-востоке с горизонтом... "
Алай был владением кокандского хана, и кокандокие власти не пропустили
русских путешественников в восточную часть долины.
Вместе со своей женой исследователь собрал обширную коллекцию флоры и
фауны и дал первое описание Заалайского хребта. Высочайшую в цепи других
вершину хребта он назвал пиком Кауфмана. Памирская экспедиция Академии наук
СССР 1928 года переименовала эту взятую альпинистами в том же году
вершину в пик Ленина и определила ее высоту в 7 129 метров над уровнем моря
*. Эта же экспедиция дала названия ряду других, до той поры безыменных,
высочайших вершин хребта: пик Якова Свердлова, гора Цюрупы, гора Красина,
лик Дзержинского, пик Архар, пик Пограничник, пик Заря Востока и -- между
пиком Ленина и Кзыл-Агином -- хребет Баррикады.
Через несколько лет после путешествия А. П. Федченко, в 1876 году,
состоялась военная Алайская экспедиция генерала Скобелева. Вместе со всем
Кокандским ханством Алай был присоединен к России. Военные топографы, сделав
полуинструментальную съемку долины, нанесли ее на карту; участники
экспедиции А. Ф. Костенко и В. Л. Коростовцев опубликовали о ней первые
очерки. В 1877 году Алай исследовал геолог И. В. Мушкетов, прошедший долину
от устья реки Коксу до перевала Тау-Мурун. В 1878 году Алай посетит зоолог
Н. А. Северцов и В. Ф. Ошанин. Участник экспедиции Северцова Скасси произвел
нивелировку долины и впервые определил высоты главных вершин Заалайского и
Алайского хребтов. В следующие годы Алайскую долину изучали многочисленные
географы, геодезисты, геологи, горные инженеры, ботаники. В числе наиболее
известных исследователей были Путята, Н. А. Бендерский, Д. Л. Иванов, Г. Е.
Грумм-Гржимайло, Б. Л. Громбчевский, С. П. Коржинокий, Б. А. Федченко, Н. Л.
Корженевский и другие.
Колонизаторские устремления мирового империализма в Центральную Азию
нашли свое выражение и в путешествиях иностранцев, среди которых почти не
было подлинных ученых, -- большинство их оказалось попросту авантюристами,
агентами иностранных разведок. Царское правительство, преклонявшееся перед
иностранщиной, не ограничивалось предоставлением пропуска через территорию
России всем желающим, но и предоставляло им различные привилегии, каких
часто не могли добиться от российского правительства русские ученые. С
помощью царской администрации и под охраной казачьих конвоев через Алайскую
долину прошли: в 1894 году-- швед Свэн Гедин, в 1896 году -- датчанин
Олуфсен, в 1903 году -- американцы Пемпелли и Хентингтон, в 1909 году --
француз Ив, в 1911 году -- немец Шульц и другие.
Почти все путешественники конца XIX и начала XX века только пересекали
Алайскую долину и оставляли лишь поверхностные ее описания. Поэтому,
несмотря на множество упоминаний об Алае всех, кто проникал на Памир, Алай
до последнего времени не мог считаться хорошо исследованным.
* Недавно высота пика уточнена: 7 134 метра. Уточнены и некоторые
другие упоминаемые в книге отметки высот. -- П. Л.
Первую серьезную научную работу по оледенению Алая опубликовал в 1918
году Д. И. Мушкетов, а подробнейшее географическое исследование издал в 1930
году географ и гляциолог профессор Н. Л. Корженевский, давний памирский
исследователь, к этому времени совершивший свое десятое, начиная с 1903
года, путешествие по Алаю.
Таким образом, к 1930 году, когда я впервые пересекал Алай, эта долина
была уже прекрасно исследована, и если бы не особые обстоятельства,
связанные с прокатившейся в том году волною басмачества, участники нашей
экспедиции могли бы чувствовать себя здесь "как дома".
Но разведка империалистических государств, провоцировавшая басмаческие
выступления в пограничных зонах Памиро-Алая, делала все от нее зависевшее,
чтоб сорвать любую советскую работу в этих отдаленных и труднодоступных
местах.
Еще в первые годы Октябрьской революции, когда Алай стал ареной
ожесточенной классовой борьбы, британские империалисты усиленно
способствовали разжиганию здесь гражданской войны. Именно через Алай прошла
направлявшаяся в Ташкент из Китая английская миссия (в составе кашгарокого
консула Маккартнея, полковника Бейли и других), которая стала центром
вооруженной контрреволюции в Средней Азии. Именно здесь, в конце Алайской
долины, в старинной крепости Иркештам, находилось сформированное на
английские деньги, руководимое английской разведкой контрреволюционное
"Временное правительство Ферганы"; сюда, в Алай, из Оша, из Ферганской
долины бежали от Красной Армии и революционных дехкан белогвардейские банды
Монстрова и басмаческая, панисламистокая армия Мадамин-бека; именно здесь, в
глухих ущельях, на скрытых от мира пастбищах, прятались банды басмачей,
состоявшие из местных киргизских баев.
Советская власть была установлена здесь в конце 1922 года, после
ликвидации бандитских шаек "Временного правительства Ферганы". Первый
революционный комитет был организован 9 декабря 1922 года.
Первая техника на Алае
Примыкая к государственной границе СССР, отрезаемая в зимнее время
снегами от всего мира, труднодоступная весною и поздней осенью, Алайская
долина и после 1922 года
еще не раз подвергалась налетам басмаческих банд и своими скрытыми
ущельицами, лабиринтами моренных холмов служила для басмачей удобным
убежищем.
В моем путешествии 1930 года мне пришлось самому убедиться в этом.
В 1931 году басмачество разыгрывалось главным образом в других районах,
-- старый агент империалистов, правая рука эмира Бухары, изгнанного
таджикским народам, Ибрагим-бек перешел советскую государственную границу на
реке Пяндж, в южном Таджикистане. Но его крупная, многотысячная банда в
кратчайший срок была разгромлена Красной Армией и добровольными отрядами
таджикских дехкан -- "краснопалочниками". Сам Ибрагим-бек, в июне 1931 года
пытавшийся с последними из своих приближенных спастись бегством в
Афганистан, был пойман таджикским колхозником Мукумом Султановым и передан
пограничникам.
Все эти события происходили далеко юго-западнее Алайской долины, и хотя
нам, ехавшим на Памир, следовало быть начеку, сама Алайская долина
показалась мне гораздо более приветливой и гостеприимной, чем год назад. В
1931 году, когда я вторично пересекал Алай, геологическая экспедиция Юдина
двигалась с большим караваном пограничников, которые направлялись на Памир,
чтобы закрыть государственную границу, до того времени остававшуюся там
открытой. Впереди каравана шли две грузовые автомашины-полуторки. Впервые в
истории Алая и Памира в том 1931 году вступал туда автомобиль.
Вот запись в моем путевом дневнике 1931 года:
"5 июля. Лагерь No 7, у Сарыташа... Автомобиль вчера ходил на разведку
дороги к перевалу Талдык. Сегодня обе машины ушли вперед. А мы верхами
поднимаемся на перевал Кой-Джулы. Подъем зигзагами, по крутой осыпи, с
остановками, чтоб давать лошадям передышку. Дождь. Фигуры всадников в
плащах. Киргизы, рубящие арчу на топливо. Облака на скалах. А потом --
быстрый спуск с перевала, скользкая глина, едва удерживаемся, ведя лошадей в
поводу; наконец выпадаем из облака и видим внизу, в рваных облачных
лоскутах, Сарыташ; сквозь разрывы облаков зеленеют куски глубоких лощин,
юрты и стада; в стороне вьется дорога, спускающаяся с перевала Талдык.
Встречные киргизы, угощающие нас кумысом, говорят мне, что "машины еще
не проходили".
Спустя полчаса вижу вдали группу всадников и за ней, словно двух
ползущих жуков, автомобили! Они спускаются к рабату Сарыташ, и из юрт
выбегают навстречу им женщины, дети.
Скачу к рабату. Две тяжело груженные полуторки стоят у стены рабата.
Шофер Стасевич, выбив пробку из бутылки, поит свою закоченевшую, промокшую
под дождем жену коньяком. Шофер Гончаров проверяет двигатель машины. Не
обращая внимания на хлещущий дождь, всадники -- участники экспедиции и
съехавшиеся киргизы топчутся вокруг невиданных здесь никогда машин.
Удивительно: автомобили взяли перевал Талдык самоходом, на первой скорости,
на малом газу. А верблюды на перевале скользили и падали...
7 июля. Рабат Бордоба... Вчера здесь поставлено шесть юрт, и одна из
них занята динамомашиной. Впервые в истории в Бордобе, под Заалайским
хребтом работают крошечная электростанция и радиостанция! Ночью впервые
здесь сверкал электрический свет и была установлена в эфире связь с
Ташкентом. Все, кто был в юрте, слушали ташкентскую оперу!.. "
Альпинисты и геологи в Бордобе
В 1932 году по Алайской долине, во всех направлениях потянулись
караваны и отряды Таджикской комплексной экспедиции.
Строившийся в том году автомобильный тракт Ош -- Хорог проходил по
трассе старой колесной дороги и только на перевалах, где зигзаги
("серпантины") были слишком круты, отступал от нее. Поэтому на Талдыке и на
Кизыл-Арте сосредоточились временные базы строительной организации
"Памирстроя". Там, где еще за год перед тем было безлюдно и дико, выросли
многолюдные городки. Везде виднелись палатки, юрты, походные кухни, склады
материалов, фуража, продовольствия. Сотни рабочих -- мужчин и женщин,
русских, узбеков, киргизов -- жили здесь огромными таборами. Большая часть
памирстроевцев жила в Бордобе -- урочище, расположенном на трассе у подножия
Заалайского хребта. Когда-то тут была почтовая станция -- маленький каменный
рабат, одинокий и неуютный. Во времена басмачества рабат был разрушен, и еще
в 1930 году урочище Бордоба ничем не отличалось от прочих безлюдных мест
Алая и Памира. Но в 1932 году жизнь здесь закипела. Другой лагерь
памирстроевцев находился на северном краю Алайской долины, в урочище
Сарыташ, дотоле обитаемом только в летнее время кочевниками.
Сюда, в Сарыташ и Бордобу, весной тридцать второго года съехались
сотрудники самых разнохарактерных отрядов Таджикской комплексной экспедиции.
В Бордобе разместились в палатках геологи группы Д. В. Наливкина, альпинисты
центральной группы, ботаники, зоологи, киноработники, художники П.
Староносов и Н. Котов, фотограф-художник В. Лебедев.
Те, кто никогда не бывал на Алае раньше, не могли себе даже
представить, как пусто и одиноко чувствовал себя тут случайный путник,
ехавший с Памира или на Памир. В период последней волны басмачества это
место считалось одним из самых опасных. Басмачи, скрывавшиеся по
бесчисленным боковым ущельям Алая и Заалая, всегда могли неожиданно напасть
на проходящий караван, на случайно здесь заночевавшего путника.
В тридцать втором году все бордобинские палатки и юрты были освещены
электричеством, под стенами заново строившегося рабата лежали запасы
топлива, вокруг паслись табуны лошадей, радиостанция вела непрерывные
разговоры с Ошем и с Ташкентом, и о прежней "пустынности" этого места люди
только делились воспоминаниями за чайным столом.
Днем в ясный день здесь было жарко -- люди ходили в майках, по ночам
наваливался мороз -- люди забирались в пуховые спальные мешки или бродили по
лагерю, ежась, в полушубках и меховых шапках-ушанках. Три с половиной тысячи
метров над уровнем моря давали о себе знать резкими скачками термометра,
пронзительными ветрами, холодными густыми дождями, а в перерывах между ними
-- нестерпимо жгучими солнечными лучами. Загар срывал кожу с носа и шеи,
обветренные губы распухали и трескались, а сердце постепенно приучалось
стучать быстрее обычного.
Понаехали к нам сюда эти самые альпинисты! Что их носит? Кому от них
толк? -- обиженно говорил какой-нибудь не слишком молодой научный работник.
-- Лучше бы еще геологов с полдесятка, чем этих лазателей!
Товарищи! -- в другом месте, тренируясь на скалах, говорил альпинист.
-- Не забывайте, что мы не спортом заниматься сюда приехали, а помогать
научной работе. Вон геологи уже ворчат, что мы ничего не делаем... На
сегодня довольно, идемте-ка поскорее к лагерю, надо еще плов варить, а потом
ведь на вечер назначена лекция Наливкина. Ну-ка, милый, что такое
палеозой?..
А бес его знает, -- неуверенно отвечал второй альпинист. -- Порода, что
ли, такая... А, нет, вспомнил -- не порода, а возраст!
То-то, возраст! Смотри, пропишет тебе Дмитрий Васильевич породу... Ты
при всех-то хоть не срамись!..
В лагере шел длинный разговор о геологии, о различных породах:
-- Вот старик Мушкетов говорил: Алай и Заалай -- ничего схожего. Алай
-- серые палеозойские известняки, древние породы. Заалай -- красные, -- вон
видишь, в снегах? Значит, мел! Под этим самым массивом Корумды -- складки
меловых песчаников. Ты слыхал про идею о громадном тектоническом сближении
двух территорий? Индийский континентальный щит, подъезжает к сибирскому...
Знаешь, что параллельно Алайской долине проходит громадная линия надвига или
даже шариажа...
-- Постой, постой! -- перебил альпинист. -- Что такое шариаж? Я
забыл...
Шариаж? Эх ты, память! Перемещение гигантского размера масс по пологим
или горизонтальным плоскостям на многие сотни километров. Вот что такое
шариаж. Беда!
Какая беда?
С тобою, дружок, беда, никак тебя не научишь!.. Это название из
геологии Альп -- покровная структура. "Наб де шариаж" -- салазки перекрытия,
понимаешь? Да что я буду тебе рассказывать, на вот, прочти сам!
Всезнающий коллектор отчеркивал ногтем абзац истрепанной книги и
досадливо совал ее в руки сконфуженному альпинисту.
К этому разговору теперь, спустя почти четверть века, надо добавить,
что те прежние представления о строении Заалая давно устарели, что мел
определен теперь и в Алайском хребте -- между Суфи-Курганом и Ак-Босогой;
что сейчас спор шел бы о палеогене и неогене; что Алайская долина признана
тектонической, ограниченной разрывами впадиной; что устарело само понятие
"шариаж" и никто им теперь не пользуется.
Наука ушла вперед. А сейчас я лишь передаю обстановку далекого тридцать
второго года. Дождь, дождь, затяжной, унылый, холодный. Обычный период
весенних дождей в Алайской долине. На Памире дождей не будет. На Памире
почти не бывает дождей. А сейчас дождь -- и с Заалайского хребта разлившейся
грязной громадой несется река Кизыл-Арт. Через нее нельзя переправиться:
обычное весеннее бедствие всех геологов. Сиди в Бордобе и жди, когда
откроются пути на Памир. Геологи ждут, скулят, забавляются фотосъемками,
спорят на сугубо-теоретические темы и гуляют... Но гуляют по-своему, --
гуляют "с геологической точки зрения". Бродят по окрестным моренам с
молотками и лупами, прыгают с камня на камень, разглядывают камешки,
кажется, так, между прочим, а у каждого в голове свои схемы, свои положения,
которые нужно доказать, к которым нужно найти подтверждения.
Вот, например, возраст Заалая. Как будто бы ясно: мезокайнозой -- и
никаких гвоздей. Ну, ясно же, до самых снегов, -- ведь сколько было
исследований!
Но однажды дождливым вечером один из геологов явился в лагерь
необычайно возбужденным. Он что-то такое сказал, чтото такое показал на
раскрытой ладони, и сразу вокруг столпились геологи, обступили его, рванули
из рук самый обыкновенный маленький камешек, в котором никто из
непосвященных не узрел бы окаменелости. До ночи и весь следующий день в
лагере геологов творилось неописуемое. Ученые мужи бегали из палатки в
палатку, никто не пошел "гулять", кипели по палаткам какие-то таинственные
пререкания, споры, выкрики, уверения во взаимном уважении и такие же
уверения во взаимном невежестве. Работники других научных специальностей
шарахались от геологов, как прохожий шарахается от одержимого безумием.
Во всех криках, спорах, пререканиях из уст в уста перекатывалось новое,
никому из непосвященных не понятное слово:
-- Фузулина...
С фузулиной обедали, с фузулиной ложились спать, с фузулиной на устах
чуть не дрались.
-- Да что же это за чертовщина такая? -- наконец взмолился один из
заинтригованных альпинистов. -- Объясните же мне, пожалуйста...
Молодой, но уже известный геолог, белобрысый и ядовитый в речах,
смилостивился, наконец, и, усевшись вместе с альпинистом на большой
"верблюжий" вьючный ящик, поглубже уткнув подбородок в воротник полушубка,
изрек:
-- Самый старинный вид фузулины называется: Fusulina granum avenae,
то-есть по-российски "фузулина зерно овса". Первая фузулина, -- вот
слушайте, -- была описана в России сто лет назад немцем-ученым. Написал он
статью, и называлась эта статья: "Об окаменелых овсяных зернах из Тульской
губернии". Понимаете, старый дурень принял фузулину, самую обыкновенную
фузулину, за окаменело... -- геолог подавился смешком, -- окаменелое овсяное
зерно. Вы думаете, история знает только один такой случай? Да я вам десяток
таких расскажу! Вот, например, известный современный английский палеоботаник
Сьюорд. Так он, бродяга, решил сделать ревизию окаменелых растений, которые
собраны в коллекции Британского музея. Однажды нашел он один образец
сердцевины окаменелого папоротника. Ну, такая гладкая, слабо изогнутая,
невыразительная загогулина. Недавно еще она была описана в ученом журнале с
таблицами. Чтоб не было сомнений, что образец, выставленный в музее, и есть
тот самый, который описан в этом журнале, на загогулине автором описания
была наклеена этикетка с латинским названием. Ходили люди, смотрели на
загогулину и не понимали: до дьявола она похожа на что-то знакомое. Вдруг
один из посетителей, -- умный, полагаю, был парень, -- возьми да и хлопни
себя по бокам и расхохотался на весь музей. "Что с вами, мистер?" --
подбежали к нему взволнованные ученые хранители. А он показал на загогулину
и опять хохочет, этот самый-то англичанин спокойный. Ну и оказалось, что не
папоротник это, а обыкновеннейшая обломанная ручка глиняного чайника...
Альпинист сдержанно улыбнулся:
Александр Васильевич... Ну, а фузулина здесь при чем?
Да ни при чем, просто я так рассказал. А фузулина... Ну, понимаете?
Вчера фузулину нашли. В куске валуна -- фузулина. А фузулина -- это такое
ископаемое, которое обязательно в палеозое бывает. А валун откуда? С
Заалайского хребта. Значит, какой же Заалай -- мезокайнозой? Палеозой,
значит! Гораздо древнее. Понимаете? Ну, вот мы и спорим. Одни говорят, что
существующее представление о строении Заалайского хребта неверно, а другие
вопят, что находка палеозойских валунов в реке еще ничего не доказывает.
Мало ли? Были большие древние ледники. Они могли притащитъ материал из более
далеких мест. Во всяком случае -- доказательство сомнительное. Надо найти
палеозой в коренном выходе. Значит, где-то высоко в снегах. Понимаете, к
чему речь веду?
Кажется, начинаю понимать, -- задумчиво произнес альпинист.
Ага. Ну, отлично! Пусть будет вам ясно: у нас кое-кто говорит, что вы,
альпинисты, лазите хорошо, а собственно говоря, неизвестно зачем.
Слушайте... Достать бы палеозой! А? Наши больно тяжеловаты, туда не долезут,
а вам, как говорится, сам бог велел. Ну, что скажете?
Альпинист оживился:
Завтра же лезу. Организую небольшую группку, честное слово, Александр
Васильевич, вы меня разожгли...
Лезете?
Ну, конечно!..
Тогда имейте в виду: на дрянь не обращайте внимания.
Что -- дрянь?
Да так, вы слишком обращаете внимание на окраску породы да на разные
дурацкие разводы, которые бывают на выветрелых камнях. Надо искать ракушку.
Понимаете: ракушку! Ракушка дороже золота.
Даже золота? Ну, это вы уж слишком!..
И золота! -- обиделся геолог. -- Поймите же, ведь она датирует возраст
слоев!.. Ну, ладно. Нумеруйте камни. Точно
указывайте место, где их нашли. Отмечайте: как лежат пласты, куда
наклонены, какие толщи покоятся одна над другой. А почему, -- геолог
небрежно указал пальцем на скалы, торчащие над ледником, -- почему вот они
там встали на дыбы? Все важно, все нужно определить... Впрочем... напрасно я
говорю...
Как это напрасно? В чем дело?
А в том, что уважающий себя геолог ни вам, ни даже своему коллектору ни
в чем не поверит. Он все должен увидеть своими глазами... Ваша задача найти,
рассказать, а потом помочь нам пойти по вашим пятам. И уже вместе мы будем
определять, всему искать причины: складчатости, горообразованию, разрывным
дислокациям, катаклизмам... Понятно?
Меньше половины! -- смеется альпинист. -- Но не беда. Мы завтра
полезем... Значит, эту самую, как ее -- фузулину -- искать?..
Вечер. Темнеет. Снова начинает накрапывать дождь. Низко-низко, отсекая
весь верхний ряд гор, опущены облака. Словно все живое здесь -- под водой,
ниже ватерлинии судна, а там, наверху, на поверхности, наверно, и свет, и
солнце, и тепло, и радостно, и можно по-настоящему жить.
Геолог и альпинист расходятся по палаткам.
На следующий день группа альпинистов уходит в горы. Здоровые, веселые,
загорелые лица. Шутки и смех. Молодой парень в свитере, выбежав на зеленую
лужайку, лихо перекувыркивается через голову под хохот рабочих и
альпинистов.
-- Вот мальчишка! -- снисходительно улыбается геолог, которого зовут
Александром Васильевичем.
Веревки, шакельтоны, ледорубы, алюминиевые крючья -- все проверено,
точно рассчитано, разделено. Альпинисты выходят из лагеря. Через час высоко,
на фирновом склоне, видны четыре крошечные черные фигурки с рюкзаками за
спиной. Медленно, как водолазы, они поднимаются к острозубому, черному
гребню, длинным мысом торчащему из лакированной белизны снежника. Светит
солнце, облака отступили: налево -- за массив Корумды и направо, закутав
мятущейся пеленой подножие Кзыл-Агина.
Еще через час фигурки скрываются в облаке.
Внизу им завидуют:
Ишь, козлята, как ходят!
Вот я и говорю вам, -- рассуждает другой, тощий и всегда угрюмый
геолог, о котором все говорят, что он хороший специалист, но грешит излишним
пристрастием к иностранщине. -- Почему до сих пор Центральный Тянь-Шаеь не
изучен? Геология темна? Потому что, кроме немцев, никто там не был. Кто?
Мерцбахер, Кайдель. Они в равной степени и геологи и альпинисты, -- они
члены альпийского клуба, могут лазать...
А мы, что ли, не можем? -- с горячей обидой прерывает его молодой
краснощекий геолог.
Вы... Ну, ты-то полезешь, о тебе я не говорю. Ты, так сказать, молодое
поколение геологов. А вот я о Тянь-Шане... В царские времена поехали наши
туда -- географы, статские советники, директора департамента, большие
животы. Доехали до ледника и повернули назад. Потому что для этого дела
нужна тренировка...
А что, я, по-твоему, не тренируюсь? -- опять вспылил молодой. -- Вчера
только все сапоги изодрал вон на этой чертовине...
Ты, опять ты! Ты больше привык сидеть в седле, чем читать доклады.
И то нужно, и это нужно! -- рассудительно произнес угрюмый и тощий, с
козлоподобной бородкой. -- Разве это геолог с одышкой и брюхом? Ты вот
видел, как вчера Дмитрий Васильевич вскочил в седло, не коснувшись ногою
стремени? Вот и профессор, известность, -- Наливкин, -- и скоро уже старик,
а как вскочил! Позавидовать можно. Надо, чтоб вся молодежь такою была...
Почему не полез сегодня с альпинистами?
Я-- я... Да просто нужно разобрать вчерашние образцы! -- замялся
молодой, смущенный неожиданным поворотом разговора.
Угрюмый и тощий, с козлоподобною бородой, искоса хитро взглянул на
него:
А что твой коллектор делает?
Ну, ясно что, этикетажем заниматься будет...
Сказав это, молодой геолог глянул еще раз на облако, в котором скрылись
альпинисты, повернулся и, насвистывая, с совершенно независимым видом отошел
в сторону.
К вечеру альпинисты вернулись недовольные и усталые.
Нашли фузулину?
Найдешь эту пакость! -- сердито буркнул один. -- Вот какие-то тут
красные, -- он протянул геологам мешочек с образцами, -- и зеленые, и еще
какая-то дребедень... Поглядите сами...
И зеленые, говорите вы? А ну-ка...
Через час весь лагерь облетела весть, что альпинистами сделана новая
важная находка -- зеленые метаморфические сланцы. Ага: сланцы... Такие же,
как в Саук-Сае, там у Алтын-Мазара!
И пошли рассуждения о том, что именно в Саук-Сае связано с такими же
сланцами. А Александр Васильевич кричал:
-- Но ведь это же, товарищи, большое открытие!.. Вот что
значит не только ракушка, а порой даже и простой камень дороже золота!
Я говорил вам, хватит сувениров, всяких мелких кристалликов колчедана,
разводов, щеток кальцита!..
Так шли в Бордобе дни за днями. Отсюда, от Бордобы, начались те
догадки, которые определили работу многих геологов на целое лето. Ища фауну,
определяя возраст пород, слагающих гигантские горные хребты, геологи думали
о рудных богатствах, какими не может не быть чреват Памир.
К осени многие из гипотез, выдвинутых в ту весну, подтвердились,
превратились в теории, теория повела к практическим изысканиям и находкам.
В наше время уже никто не спорит о том, что альпинизм не только
прекрасный вид спорта, но и первый помощник науке в высокогорье. А в те
годы, о которых я говорю, советский альпинизм, особенно в Средней Азии, еще
только начинал развиваться, впервые -- и именно здесь, на Памире, -- заводил
тесную дружбу с наукой.
Мир становится шире
Лето на Алае проходит в оживленной работе. Геологи делают ряд маршрутов
по Алайской долине и Заалайскому хребту. Геолог Марковский слышит от
киргизов, что в районе КараМук есть уголь; он едет туда, но оказывается, что
киргизы ошиблись: это не уголь, это палеозойские углистые сланцы, которые
никак не могут гореть. Киргизы говорят, что у Дараут-Кургана, в арыке, есть
ртуть. Геолог Марковский находит несколько капелек ртути, но он осторожен и,
допуская, что это, может быть, явление случайное, рассуждает так: "комплекс
отложений, слагающих бассейн реки Дараут, близок к имеющимся в районе... " И
называет район, где с древних времен известны месторождения ртути:
"некоторые общие черты имеются и в характере строения... Эти обстоятельства
заставляют отнестись к данному явлению осторожно, впредь до более детальной
работы в этом районе... " Ох, как осторожны геологи! Сотню раз взвесить,
много ночей думать, много раз обсудить... Что может быть хуже, чем
раскричаться о несуществующем месторождении? Но и что может быть вреднее
бездоказательного, легкомысленного "закрытия" ценного месторождения?
Геологи пьют кумыс в Дараут-Кургане, в урочищах Курумды-Чукур и
Арча-Булак; размышляют о новых сообщениях киргизов. А кочевые киргизы
называют места, где имеются древние разработки, штольни, отвалы рудоносных
пород... Каждое сообщение нужно проверить. Может быть, далеко не все
интересно. Но важно, что алайские киргизы активны, что они уже не таят
стариковских тайн и легенд, что они приезжают в лагери экспедиции, хотят
помочь тем, кто помогает им посоветски изучать и развивать их малоизведанную
страну.
Попрежнему верещат сурки и, вставая на задние лапки у своих норок,
удивленно, по-человечьи, глядят на проезжих. Попрежнему цветут эдельвейсы,
тюльпаны, типчак, первоцвет и ирис. Попрежнему кузнечики нагибают
серебристые метелки сочного ковыля. А вокруг Дараут-Кургана попрежнему дики
кусты эфедры, пронзителен запах полыни, жестки заросли облепихи, чия,
тамарикса. И ветер все тот же -- тысячелетний. Но в Дараут-Кургане --
советском центре Алая -- звонит телефон. В Дараут-Кургане кочевники толпятся
у кооператива, а другие, организовав добровольный отряд, стерегут от лихих
людей склады и табуны и свой сельсовет, непосредственно подчиненный
киргизскому ЦИКу. В Алае уже есть партийные группы, и десятки кандидатов
партии, и много комсомольских ячеек -- сотни комсомольцев, ведущих яростную
борьбу с вредными байскими пережитками, с дикостью и неграмотностью... И
главное, в Алае уже нет басмачей. Их уже никогда больше не будет! Алайцы
становятся колхозниками, посылают своих детей в школы.
Небольшая группа сотрудников экспедиции, сложив палатки, отправляется
из Бордобы в дальний маршрут. В этой группе -- топограф, ботаник, несколько
альпинистов, художник Н. Котов и начальник пограничной заставы, который
хочет получше узнать свой район. Они едут верхом пока можно, пока горы не
слишком круты, а снег не слишком глубок. Они оставляют лошадей там, где уже
невозможно ехать верхом. Неделю они скитаются по ледниками и белым склонам
восточного Заалая. Их осаждают бури, и они отсиживаются в заваленных снегом
палатках. Они ушли из Бордобы на юг, через КизылАрт на Памир. Они
возвращаются в Бордобу с севера, из Алайс-кой долины, откуда их никто не мог
ждать. Они перевалили Заалайский хребет там, где он от века считался
непроходимым.
Они открыли новый перевал и назвали его перевалом Контрабандистов,
потому что этот неведомый перевал мог оказаться единственным до тех пор
бесконтрольным путем для незваных пришельцев из-за рубежа. С этого времени
на картах в Заалайском хребте будет помечено не два перевала, а три. И чужой
человек уже не проскользнет к Алайской долине в обход пограничной заставы!
Какие неожиданности предстоят дальнейшим исследователям? У перевала
Контрабандистов обнаружен восемнадцатикилометровый ледник Корумды, текущий
параллельно Заалайскому хребту, питаемый пятью мощными ледниками,
чрезвычайно крутыми, с множеством ледопадов. И ползет этот ледник не по
самому Заалаю, а между ним и параллельным ему, до сих пор неизвестным
гигантским хребтом, не названным, не описанным. Сделана топографическая
съемка -- район оказался не маленьким, во всех отношениях интересным.
На Памире все так: чуть только в сторону от известных путей -- и
неожиданностей целый ворох. Многие величайшие хребты и вершины до сих пор
еще даже не замечены ни одним исследователем! Здесь совсем иные масштабы.
Здесь еще бесконечно многое надо сделать.
Первыми идут топограф, географ. За ними в неизвестную область вступают
геоморфолог, геолог, ботаник, зоолог, метеоролог... За ними приходят
строители и изменяют первозданный облик еще недавно никому не известного
края. Так расширяется мир!
Что я думал о будущем? (Из записей 1932 года)
Алай... Я не оговорился, сказав, что люди в нем кажутся микроскопически
малыми. Это оттого, что над волнистой зеленой степью долины гигантским
барьером, колоссальным фасадом Памира, высится Заалайский хребет. От
солнечного восхода до солнечного заката тянется цепь исполинских гор,
величие и красота которых поистине необычайны.
Июнь. Кончается период дождей. По Алайской долине незримо малыми
пунктирными линиями тянутся караваны. Мелкими жучками проползают автомобили,
-- в тридцатом году их еще не было, в тридцать первом они появились
впервые... В тридцать втором -- в экспедиции работает шесть машин, а от Оша
до Алая ходят десятки.
Я всматриваюсь в даль Алайской долины и хорошо представляю себе ее
близкое будущее.
Нет лучше пастбищ, чем в Алайской долине. Она может прокормить миллиона
полтора овец. Не кочевые хозяйства киргизов-единоличников, а колхозы и
огромные, оснащенные превосходной техникой совхозы разрешат задачу создания
здесь крупнейшей животноводческой базы. Всю Среднюю Азию обеспечит Алайская
долина своим великолепным скотом. Потому что мало где есть такие
пространства сочнейших альпийских трав. Здесь будут образцовые молочные
фермы. У подножия гигантских хребтов возникнут санатории для легочных
больных, здравницы для малокровных, дома отдыха для всех, кто нуждается в
целительном горном воздухе. Туристские базы расположатся над обрывами, у
ледяных гротов, на горбах морен. Отсюда комсомольцы всего Союза, всего мира
станут
штурмовать памирские снеговые вершины. Вдоль и поперек по Алаю лягут,
как стрелы, автомобильные шоссе. На просторах Алая будут происходить
состязания призовых лошадей, вскормленных на конных заводах Киргизии.
Все, что делалось в тридцатых годах, было только началом. Самое трудное
всегда начало. Тогда я думал о том, что киргизы Алая скоро станут не темными
кочевниками, зябнущими в рваных халатах, бедняками, еще боящимися злобы и
мести баев, а иными людьми -- зажиточными, образованными, культурными,
гордыми своей свободой и независимостью.
Теперь все то, о чем мечтали мы в те давние годы, осуществилось. Теперь
я думаю о том, как поразительно быстро все это произошло! Сознательно и
умело пользуются теперь мирные, трудолюбивые колхозники огромной
высокогорной долины всеми благами советской науки и экономики; умно и
деловито управляют богатым социалистическим советским районом -- цветущей
долиной Алая.
Маршрут по Алайской долине.
тык, Сарык-Могол, Киндык, Туз-Ашу, Тенгиз-Бай. Самый известный перевал
через Алайский хребет -- перевал Талдык (3 651, а по другим данным -- 3 680
метров). Через него с 1932 года проходит автомобильная дорога Ош -- Хорог.
Огромный массив Заалайокого хребта еще менее доступен и до сих пор
далеко не весь подробно исследован. До 1932 года в нем были известны только
два перевала -- Кизыл-Арт (высотой 4 444 метра), через который в том году
был проложен на Памир автомобильный тракт, заменивший прежнюю колесную
дорогу, созданную в 1891 -- 1892 годах русским памирским отрядом, и
Терс-Агар -- в западной части хребта, выводящий к урочищу Алтын-Мазар,
откуда можно пробраться: вверх по реке Мук-су к языку ледника Федченко;
двигаясь же вниз по реке -- в Каратегин и далее в средний Таджикистан. По
рекам Каинды и Балянд-Киик из Алтын-Maeapa есть тропы на Восточный Памир.
На востоке Алайская долина (или, как ее здесь называют, Баш-Алай,
то-есть "Голова Алая") начинается у самых границ Китая, -- там, где проходит
пологий хребет Тау-Мурун. Постепенно снижаясь к западу, по Алайской долине
бежит от ТауМуруна красноводная река Кизыл-су.
В западном конце Алайской долины, там, где Кизыл-су вступает в холмы,
издавна известна была старинная киргизская крепостца Дараут-Курган.
Созданный здесь районный центр в последние годы превратился в крупный
благоустроенный поселок.
Ландшафт восточной части долины типичен для высокогорной степи. Здесь,
на межгорном плато, климат суров к жесток. Здесь невозможны посевы, здесь
только травы густы и обильны: сочные альпийские травы, прекрасный подножный
корм для скота -- в прошлом киргизских кочевников, в наши дни -- богатых
колхозов Киргизии, Узбекистана и Таджикистана; в летнее время на
великолепных отгонных пастбищах Алая собираются огромные отары и стада,
принадлежащие даже отдаленным колхозам Ишкашима, Вахана, Шугнана.
Климат долины подчинен постепенному снижению ее с востока на запад. На
западе климат значительно мягче, там сеют злаки -- рожь и ячмень, там всегда
было много киргизских селений, летовок, зимовок. Оттуда уже можно не уходить
на зиму вниз или в защищенные от яростных ветров боковые ущелья. Для
западной части долины характерен ландшафт горной полупустыни.
О древнем ледяном панцыре
Но есть еще третий ландшафт в Алайской долине, он в ней наблюдается
повсюду -- это особенный ландшафт отложений покровного древнего оледенения.
В отдаленную от нас эпоху вся Алайская долина была покрыта ледниковым
потоком, -- исполинский ледяной панцырь
сковывал ее всю, сверху донизу. Спускаясь с гребней Заалайского хребта,
боковые ледники протягивались, изгибаясь, на полсотни километров каждый. Все
они смыкались внизу в один мощный массив, который медленно оползал вдоль
подножия хребта по долине, следуя ее плавному наклону с востока на запад.
Этот ледяной панцырь весил биллионы тонн, и, двигаясь между двумя хребтами
-- Алайским и Заалайоким, он выпахивал ложе, которое все углублялось под его
непомерной тяжестью по мере того, как измельченные породы выносились им к
западу.
Это ложе оставалось все-таки перекошенным, наклоненным к северу, потому
что Заалайокий хребет был выше Алайского, потому что на южном склоне
последнего почти не было ледников, в то время как северный склон Заалайского
хребта весь был затянут ледяными потоками. Стекая с крутых склонов на север
и постепенно, в силу собственной тяжести, поворачивая по наклону долины на
запад, они несли на себе искрошенные ими громады скал. Каменное месиво
загромождало левый борт долины, еще более увеличивая ее наклон. А потому вся
пода, образовывавшаяся от постепенного таяния ледников, окатывалась к
правому борту долины и текла вдоль подножия Алайского хребта -- рекой
Кизыл-су, -- единственной рекой, собиравшей в себя все талые воды с двух
гигантских параллельных хребтов, между которыми тянулась долина. Только там,
где Заалайский хребет рассекался сверху донизу рекою Мук-су, вытекавшей из
другой колоссальной ледниковой системы -- системы ледника Федченко, воды
двух рек сливались.
Постепенно алайский "Ледник Подножия" таял, питавшие его боковые
ледники отступали, оставляя после себя громады моренных нагромождений.
"Ледник Подножия" умирал медленно, он, казалось, долго боролся за свое
существование, он то совсем был близок к истаиванию, то снова набирался
силы, увеличиваясь в размерах. Периоды этой титанической борьбы -- периоды
наступлений и отступлений -- не прошли бесследно. Свидетельствами ее
остались моренные отложения и продольные троги в долине.
Моренные отложения сохранились до наших дней во всей своей свежести, по
ним можно судить, сколько раз повторялось оледенение, сколько раз оно
исчезало. Ущелья хребтов и сама долина рассказывают об этом тем людям,
которые умеют вглядываться взором исследователя в их оригинальные и
поучительные формы.
Наконец "Ледник Подножия" исчез. Но все, что он нес •на себе, все,
что он сокрушил, измельчил, набросал, столкнул между собою, -- гигантское
моренное наследство его -- осталось в виде исполинских каменистых барьеров,
перегораживающих долину, в виде бесчисленных холмов, бугров и врезанных в
склоны ледниковых "заплечиков".
На размытых отложениях эпохи первого -- покровного -- оледенения
покоится все то, что оставили после себя позднейшие оледенения. Ученые
насчитывают их четыре стадии, но все они были уже не так мощны, все были
неспособны воссоздать древний "Ледник Подножия".
Все меньше становилось льда на склонах Заалайского хребта и в Алайской
долине, все выше поднималась линия снегов, питавших ледники, -- она
приближалась к гребням хребта.
И, наконец, наступила эпоха современного оледенения. Размеры и мощность
его не идут ни в какое сравнение с размерами и мощностью древнего. Ледники,
опускающиеся по северным склонам Заалайского хребта, уже не дотягиваются до
Алайской долины. Они ползут, заполняя собою поперечные ущелья и долины
хребта, -- тесные, глубоко врезанные; они внезапно обрываются на высоте,
положив свои короткие и широкие языки на уступы, образованные древними
моренами. Они похожи на ледяных изогнувшихся змей, свесивших свои плоские
головы над Алайской долиной, -- тем более похожи на змей, что их тела
самостоятельны и раздельны, боковых притоков они не имеют. Они не опускаются
ниже четырех километров над уровнем моря, не дотягиваясь до Алайской долины
на полкилометра по отвесу, иногда почти на километр. Есть, правда, среди них
ледник и другого типа -- сложный, разветвленный, образованный из ряда
притоков долинный ледник Корженевского, самый большой из всех современных
ледников Заалая; он спускается ниже других, но он исключение.
И все-таки, на наш человеческий взгляд, современное оледенение Заалая
грандиозно. Оно представляется нам таким потому, что наверху, под гребнем
хребта, все ледники, как бы сросшись своими хвостами, как бы рожденные из
одного тела, соединены в сплошной сверкающий массив, лоскут древнего
всеохватного панцыря. Этот лоскут покрывает весь Заалайский хребет, начиная
от высоты в 4 700 метров и до самых гребней, то-есть в среднем поясом
высотой в километр, а там, где гребень выгнут к небесам высочайшими пиками,
еще больше -- до их вершин. Эти вершины: пик Ленина и немногим не
достигающие его по высоте пик Дзержинского -- 6 713, пик Кзыл-Агин -- 6 679,
пик Корумды -- 6 555, пик Заря Востока -- 6 346, гора Корженевского -- 6 005
метров, и многие другие, сверкающие в ясный день великаны.
Боковые ледники Заалая, которые считаются маленькими, прославили бы
собой любые горы Европы, если бы оползали не со склонов высочайшего в
Советском Союзе хребта. Так длина ледника Корженевского (исток реки
Джанайдар) --
больше двадцати километров. Но кому он известен, этот запрятанный под
пиком Ленина в отроги хребта ледник? Не насчитать и полусотни людей,
ступавших по его обнаженному, кристаллически чистому льду. В Заалайском
хребте и поныне существуют десятки ущелий и ледников, не пройденных ни одним
человеком.
Как ни громадны эти вершины, как ни массивен хребет, но в розовых лучах
восходящего солнца он представляется наблюдателю из Алайской долины легким,
-- великолепные льды, кажется, парят над миром, исполинские в своей мощи,
воздушные и прекрасные, они словно налиты вечностью.
Но в дурную погоду страшно даже представить себе, какие дикие ураганы и
бури, пурги и бураны беснуются в этих облаках, кажущихся из Алайской долины
только белосерыми клубящимися туманами высоких пространств.
Исследователи Алая
Первым исследователем, увидевшим Заалайский хребет, был известный и
талантливый ученый Алексей Павлович Федченко, проникший через перевал
Тенгиз-Бай (3 801 метр над уровнем моря) в Алайскую долину, к киргизской
крепости Дараут-Курган. 20 июля 1871 года А. П. Федченко со своей женой
Ольгой Александровной, столь же знаменитой русской
женщиной-путешественницей, поднялся на перевал.
"... Вид с перевала заставил нас остановиться: перед нами открылась
панорама исполинских снеговых гор, -- пишет А. П. Федченко о своем первом
впечатлении от созерцания неведомого мира, открывшегося ему в тот день. --
Горы эти, впрочем, не все были видны с перевала. Ближайшие гряды отчасти
закрывали их. Между тем мне хотелось видеть возможно более; перед нами была
местность, едва известная по имени Алай, а что лежало за нею, было никому не
известно... "
Федченко двинулся дальше, пока не увидел все:
"Горы вдали незаметно пропадали, и между ними и горами по правому
берегу расстилалось ровное степное пространство Алай, без границ сливавшееся
на северо-востоке с горизонтом... "
Алай был владением кокандского хана, и кокандокие власти не пропустили
русских путешественников в восточную часть долины.
Вместе со своей женой исследователь собрал обширную коллекцию флоры и
фауны и дал первое описание Заалайского хребта. Высочайшую в цепи других
вершину хребта он назвал пиком Кауфмана. Памирская экспедиция Академии наук
СССР 1928 года переименовала эту взятую альпинистами в том же году
вершину в пик Ленина и определила ее высоту в 7 129 метров над уровнем моря
*. Эта же экспедиция дала названия ряду других, до той поры безыменных,
высочайших вершин хребта: пик Якова Свердлова, гора Цюрупы, гора Красина,
лик Дзержинского, пик Архар, пик Пограничник, пик Заря Востока и -- между
пиком Ленина и Кзыл-Агином -- хребет Баррикады.
Через несколько лет после путешествия А. П. Федченко, в 1876 году,
состоялась военная Алайская экспедиция генерала Скобелева. Вместе со всем
Кокандским ханством Алай был присоединен к России. Военные топографы, сделав
полуинструментальную съемку долины, нанесли ее на карту; участники
экспедиции А. Ф. Костенко и В. Л. Коростовцев опубликовали о ней первые
очерки. В 1877 году Алай исследовал геолог И. В. Мушкетов, прошедший долину
от устья реки Коксу до перевала Тау-Мурун. В 1878 году Алай посетит зоолог
Н. А. Северцов и В. Ф. Ошанин. Участник экспедиции Северцова Скасси произвел
нивелировку долины и впервые определил высоты главных вершин Заалайского и
Алайского хребтов. В следующие годы Алайскую долину изучали многочисленные
географы, геодезисты, геологи, горные инженеры, ботаники. В числе наиболее
известных исследователей были Путята, Н. А. Бендерский, Д. Л. Иванов, Г. Е.
Грумм-Гржимайло, Б. Л. Громбчевский, С. П. Коржинокий, Б. А. Федченко, Н. Л.
Корженевский и другие.
Колонизаторские устремления мирового империализма в Центральную Азию
нашли свое выражение и в путешествиях иностранцев, среди которых почти не
было подлинных ученых, -- большинство их оказалось попросту авантюристами,
агентами иностранных разведок. Царское правительство, преклонявшееся перед
иностранщиной, не ограничивалось предоставлением пропуска через территорию
России всем желающим, но и предоставляло им различные привилегии, каких
часто не могли добиться от российского правительства русские ученые. С
помощью царской администрации и под охраной казачьих конвоев через Алайскую
долину прошли: в 1894 году-- швед Свэн Гедин, в 1896 году -- датчанин
Олуфсен, в 1903 году -- американцы Пемпелли и Хентингтон, в 1909 году --
француз Ив, в 1911 году -- немец Шульц и другие.
Почти все путешественники конца XIX и начала XX века только пересекали
Алайскую долину и оставляли лишь поверхностные ее описания. Поэтому,
несмотря на множество упоминаний об Алае всех, кто проникал на Памир, Алай
до последнего времени не мог считаться хорошо исследованным.
* Недавно высота пика уточнена: 7 134 метра. Уточнены и некоторые
другие упоминаемые в книге отметки высот. -- П. Л.
Первую серьезную научную работу по оледенению Алая опубликовал в 1918
году Д. И. Мушкетов, а подробнейшее географическое исследование издал в 1930
году географ и гляциолог профессор Н. Л. Корженевский, давний памирский
исследователь, к этому времени совершивший свое десятое, начиная с 1903
года, путешествие по Алаю.
Таким образом, к 1930 году, когда я впервые пересекал Алай, эта долина
была уже прекрасно исследована, и если бы не особые обстоятельства,
связанные с прокатившейся в том году волною басмачества, участники нашей
экспедиции могли бы чувствовать себя здесь "как дома".
Но разведка империалистических государств, провоцировавшая басмаческие
выступления в пограничных зонах Памиро-Алая, делала все от нее зависевшее,
чтоб сорвать любую советскую работу в этих отдаленных и труднодоступных
местах.
Еще в первые годы Октябрьской революции, когда Алай стал ареной
ожесточенной классовой борьбы, британские империалисты усиленно
способствовали разжиганию здесь гражданской войны. Именно через Алай прошла
направлявшаяся в Ташкент из Китая английская миссия (в составе кашгарокого
консула Маккартнея, полковника Бейли и других), которая стала центром
вооруженной контрреволюции в Средней Азии. Именно здесь, в конце Алайской
долины, в старинной крепости Иркештам, находилось сформированное на
английские деньги, руководимое английской разведкой контрреволюционное
"Временное правительство Ферганы"; сюда, в Алай, из Оша, из Ферганской
долины бежали от Красной Армии и революционных дехкан белогвардейские банды
Монстрова и басмаческая, панисламистокая армия Мадамин-бека; именно здесь, в
глухих ущельях, на скрытых от мира пастбищах, прятались банды басмачей,
состоявшие из местных киргизских баев.
Советская власть была установлена здесь в конце 1922 года, после
ликвидации бандитских шаек "Временного правительства Ферганы". Первый
революционный комитет был организован 9 декабря 1922 года.
Первая техника на Алае
Примыкая к государственной границе СССР, отрезаемая в зимнее время
снегами от всего мира, труднодоступная весною и поздней осенью, Алайская
долина и после 1922 года
еще не раз подвергалась налетам басмаческих банд и своими скрытыми
ущельицами, лабиринтами моренных холмов служила для басмачей удобным
убежищем.
В моем путешествии 1930 года мне пришлось самому убедиться в этом.
В 1931 году басмачество разыгрывалось главным образом в других районах,
-- старый агент империалистов, правая рука эмира Бухары, изгнанного
таджикским народам, Ибрагим-бек перешел советскую государственную границу на
реке Пяндж, в южном Таджикистане. Но его крупная, многотысячная банда в
кратчайший срок была разгромлена Красной Армией и добровольными отрядами
таджикских дехкан -- "краснопалочниками". Сам Ибрагим-бек, в июне 1931 года
пытавшийся с последними из своих приближенных спастись бегством в
Афганистан, был пойман таджикским колхозником Мукумом Султановым и передан
пограничникам.
Все эти события происходили далеко юго-западнее Алайской долины, и хотя
нам, ехавшим на Памир, следовало быть начеку, сама Алайская долина
показалась мне гораздо более приветливой и гостеприимной, чем год назад. В
1931 году, когда я вторично пересекал Алай, геологическая экспедиция Юдина
двигалась с большим караваном пограничников, которые направлялись на Памир,
чтобы закрыть государственную границу, до того времени остававшуюся там
открытой. Впереди каравана шли две грузовые автомашины-полуторки. Впервые в
истории Алая и Памира в том 1931 году вступал туда автомобиль.
Вот запись в моем путевом дневнике 1931 года:
"5 июля. Лагерь No 7, у Сарыташа... Автомобиль вчера ходил на разведку
дороги к перевалу Талдык. Сегодня обе машины ушли вперед. А мы верхами
поднимаемся на перевал Кой-Джулы. Подъем зигзагами, по крутой осыпи, с
остановками, чтоб давать лошадям передышку. Дождь. Фигуры всадников в
плащах. Киргизы, рубящие арчу на топливо. Облака на скалах. А потом --
быстрый спуск с перевала, скользкая глина, едва удерживаемся, ведя лошадей в
поводу; наконец выпадаем из облака и видим внизу, в рваных облачных
лоскутах, Сарыташ; сквозь разрывы облаков зеленеют куски глубоких лощин,
юрты и стада; в стороне вьется дорога, спускающаяся с перевала Талдык.
Встречные киргизы, угощающие нас кумысом, говорят мне, что "машины еще
не проходили".
Спустя полчаса вижу вдали группу всадников и за ней, словно двух
ползущих жуков, автомобили! Они спускаются к рабату Сарыташ, и из юрт
выбегают навстречу им женщины, дети.
Скачу к рабату. Две тяжело груженные полуторки стоят у стены рабата.
Шофер Стасевич, выбив пробку из бутылки, поит свою закоченевшую, промокшую
под дождем жену коньяком. Шофер Гончаров проверяет двигатель машины. Не
обращая внимания на хлещущий дождь, всадники -- участники экспедиции и
съехавшиеся киргизы топчутся вокруг невиданных здесь никогда машин.
Удивительно: автомобили взяли перевал Талдык самоходом, на первой скорости,
на малом газу. А верблюды на перевале скользили и падали...
7 июля. Рабат Бордоба... Вчера здесь поставлено шесть юрт, и одна из
них занята динамомашиной. Впервые в истории в Бордобе, под Заалайским
хребтом работают крошечная электростанция и радиостанция! Ночью впервые
здесь сверкал электрический свет и была установлена в эфире связь с
Ташкентом. Все, кто был в юрте, слушали ташкентскую оперу!.. "
Альпинисты и геологи в Бордобе
В 1932 году по Алайской долине, во всех направлениях потянулись
караваны и отряды Таджикской комплексной экспедиции.
Строившийся в том году автомобильный тракт Ош -- Хорог проходил по
трассе старой колесной дороги и только на перевалах, где зигзаги
("серпантины") были слишком круты, отступал от нее. Поэтому на Талдыке и на
Кизыл-Арте сосредоточились временные базы строительной организации
"Памирстроя". Там, где еще за год перед тем было безлюдно и дико, выросли
многолюдные городки. Везде виднелись палатки, юрты, походные кухни, склады
материалов, фуража, продовольствия. Сотни рабочих -- мужчин и женщин,
русских, узбеков, киргизов -- жили здесь огромными таборами. Большая часть
памирстроевцев жила в Бордобе -- урочище, расположенном на трассе у подножия
Заалайского хребта. Когда-то тут была почтовая станция -- маленький каменный
рабат, одинокий и неуютный. Во времена басмачества рабат был разрушен, и еще
в 1930 году урочище Бордоба ничем не отличалось от прочих безлюдных мест
Алая и Памира. Но в 1932 году жизнь здесь закипела. Другой лагерь
памирстроевцев находился на северном краю Алайской долины, в урочище
Сарыташ, дотоле обитаемом только в летнее время кочевниками.
Сюда, в Сарыташ и Бордобу, весной тридцать второго года съехались
сотрудники самых разнохарактерных отрядов Таджикской комплексной экспедиции.
В Бордобе разместились в палатках геологи группы Д. В. Наливкина, альпинисты
центральной группы, ботаники, зоологи, киноработники, художники П.
Староносов и Н. Котов, фотограф-художник В. Лебедев.
Те, кто никогда не бывал на Алае раньше, не могли себе даже
представить, как пусто и одиноко чувствовал себя тут случайный путник,
ехавший с Памира или на Памир. В период последней волны басмачества это
место считалось одним из самых опасных. Басмачи, скрывавшиеся по
бесчисленным боковым ущельям Алая и Заалая, всегда могли неожиданно напасть
на проходящий караван, на случайно здесь заночевавшего путника.
В тридцать втором году все бордобинские палатки и юрты были освещены
электричеством, под стенами заново строившегося рабата лежали запасы
топлива, вокруг паслись табуны лошадей, радиостанция вела непрерывные
разговоры с Ошем и с Ташкентом, и о прежней "пустынности" этого места люди
только делились воспоминаниями за чайным столом.
Днем в ясный день здесь было жарко -- люди ходили в майках, по ночам
наваливался мороз -- люди забирались в пуховые спальные мешки или бродили по
лагерю, ежась, в полушубках и меховых шапках-ушанках. Три с половиной тысячи
метров над уровнем моря давали о себе знать резкими скачками термометра,
пронзительными ветрами, холодными густыми дождями, а в перерывах между ними
-- нестерпимо жгучими солнечными лучами. Загар срывал кожу с носа и шеи,
обветренные губы распухали и трескались, а сердце постепенно приучалось
стучать быстрее обычного.
Понаехали к нам сюда эти самые альпинисты! Что их носит? Кому от них
толк? -- обиженно говорил какой-нибудь не слишком молодой научный работник.
-- Лучше бы еще геологов с полдесятка, чем этих лазателей!
Товарищи! -- в другом месте, тренируясь на скалах, говорил альпинист.
-- Не забывайте, что мы не спортом заниматься сюда приехали, а помогать
научной работе. Вон геологи уже ворчат, что мы ничего не делаем... На
сегодня довольно, идемте-ка поскорее к лагерю, надо еще плов варить, а потом
ведь на вечер назначена лекция Наливкина. Ну-ка, милый, что такое
палеозой?..
А бес его знает, -- неуверенно отвечал второй альпинист. -- Порода, что
ли, такая... А, нет, вспомнил -- не порода, а возраст!
То-то, возраст! Смотри, пропишет тебе Дмитрий Васильевич породу... Ты
при всех-то хоть не срамись!..
В лагере шел длинный разговор о геологии, о различных породах:
-- Вот старик Мушкетов говорил: Алай и Заалай -- ничего схожего. Алай
-- серые палеозойские известняки, древние породы. Заалай -- красные, -- вон
видишь, в снегах? Значит, мел! Под этим самым массивом Корумды -- складки
меловых песчаников. Ты слыхал про идею о громадном тектоническом сближении
двух территорий? Индийский континентальный щит, подъезжает к сибирскому...
Знаешь, что параллельно Алайской долине проходит громадная линия надвига или
даже шариажа...
-- Постой, постой! -- перебил альпинист. -- Что такое шариаж? Я
забыл...
Шариаж? Эх ты, память! Перемещение гигантского размера масс по пологим
или горизонтальным плоскостям на многие сотни километров. Вот что такое
шариаж. Беда!
Какая беда?
С тобою, дружок, беда, никак тебя не научишь!.. Это название из
геологии Альп -- покровная структура. "Наб де шариаж" -- салазки перекрытия,
понимаешь? Да что я буду тебе рассказывать, на вот, прочти сам!
Всезнающий коллектор отчеркивал ногтем абзац истрепанной книги и
досадливо совал ее в руки сконфуженному альпинисту.
К этому разговору теперь, спустя почти четверть века, надо добавить,
что те прежние представления о строении Заалая давно устарели, что мел
определен теперь и в Алайском хребте -- между Суфи-Курганом и Ак-Босогой;
что сейчас спор шел бы о палеогене и неогене; что Алайская долина признана
тектонической, ограниченной разрывами впадиной; что устарело само понятие
"шариаж" и никто им теперь не пользуется.
Наука ушла вперед. А сейчас я лишь передаю обстановку далекого тридцать
второго года. Дождь, дождь, затяжной, унылый, холодный. Обычный период
весенних дождей в Алайской долине. На Памире дождей не будет. На Памире
почти не бывает дождей. А сейчас дождь -- и с Заалайского хребта разлившейся
грязной громадой несется река Кизыл-Арт. Через нее нельзя переправиться:
обычное весеннее бедствие всех геологов. Сиди в Бордобе и жди, когда
откроются пути на Памир. Геологи ждут, скулят, забавляются фотосъемками,
спорят на сугубо-теоретические темы и гуляют... Но гуляют по-своему, --
гуляют "с геологической точки зрения". Бродят по окрестным моренам с
молотками и лупами, прыгают с камня на камень, разглядывают камешки,
кажется, так, между прочим, а у каждого в голове свои схемы, свои положения,
которые нужно доказать, к которым нужно найти подтверждения.
Вот, например, возраст Заалая. Как будто бы ясно: мезокайнозой -- и
никаких гвоздей. Ну, ясно же, до самых снегов, -- ведь сколько было
исследований!
Но однажды дождливым вечером один из геологов явился в лагерь
необычайно возбужденным. Он что-то такое сказал, чтото такое показал на
раскрытой ладони, и сразу вокруг столпились геологи, обступили его, рванули
из рук самый обыкновенный маленький камешек, в котором никто из
непосвященных не узрел бы окаменелости. До ночи и весь следующий день в
лагере геологов творилось неописуемое. Ученые мужи бегали из палатки в
палатку, никто не пошел "гулять", кипели по палаткам какие-то таинственные
пререкания, споры, выкрики, уверения во взаимном уважении и такие же
уверения во взаимном невежестве. Работники других научных специальностей
шарахались от геологов, как прохожий шарахается от одержимого безумием.
Во всех криках, спорах, пререканиях из уст в уста перекатывалось новое,
никому из непосвященных не понятное слово:
-- Фузулина...
С фузулиной обедали, с фузулиной ложились спать, с фузулиной на устах
чуть не дрались.
-- Да что же это за чертовщина такая? -- наконец взмолился один из
заинтригованных альпинистов. -- Объясните же мне, пожалуйста...
Молодой, но уже известный геолог, белобрысый и ядовитый в речах,
смилостивился, наконец, и, усевшись вместе с альпинистом на большой
"верблюжий" вьючный ящик, поглубже уткнув подбородок в воротник полушубка,
изрек:
-- Самый старинный вид фузулины называется: Fusulina granum avenae,
то-есть по-российски "фузулина зерно овса". Первая фузулина, -- вот
слушайте, -- была описана в России сто лет назад немцем-ученым. Написал он
статью, и называлась эта статья: "Об окаменелых овсяных зернах из Тульской
губернии". Понимаете, старый дурень принял фузулину, самую обыкновенную
фузулину, за окаменело... -- геолог подавился смешком, -- окаменелое овсяное
зерно. Вы думаете, история знает только один такой случай? Да я вам десяток
таких расскажу! Вот, например, известный современный английский палеоботаник
Сьюорд. Так он, бродяга, решил сделать ревизию окаменелых растений, которые
собраны в коллекции Британского музея. Однажды нашел он один образец
сердцевины окаменелого папоротника. Ну, такая гладкая, слабо изогнутая,
невыразительная загогулина. Недавно еще она была описана в ученом журнале с
таблицами. Чтоб не было сомнений, что образец, выставленный в музее, и есть
тот самый, который описан в этом журнале, на загогулине автором описания
была наклеена этикетка с латинским названием. Ходили люди, смотрели на
загогулину и не понимали: до дьявола она похожа на что-то знакомое. Вдруг
один из посетителей, -- умный, полагаю, был парень, -- возьми да и хлопни
себя по бокам и расхохотался на весь музей. "Что с вами, мистер?" --
подбежали к нему взволнованные ученые хранители. А он показал на загогулину
и опять хохочет, этот самый-то англичанин спокойный. Ну и оказалось, что не
папоротник это, а обыкновеннейшая обломанная ручка глиняного чайника...
Альпинист сдержанно улыбнулся:
Александр Васильевич... Ну, а фузулина здесь при чем?
Да ни при чем, просто я так рассказал. А фузулина... Ну, понимаете?
Вчера фузулину нашли. В куске валуна -- фузулина. А фузулина -- это такое
ископаемое, которое обязательно в палеозое бывает. А валун откуда? С
Заалайского хребта. Значит, какой же Заалай -- мезокайнозой? Палеозой,
значит! Гораздо древнее. Понимаете? Ну, вот мы и спорим. Одни говорят, что
существующее представление о строении Заалайского хребта неверно, а другие
вопят, что находка палеозойских валунов в реке еще ничего не доказывает.
Мало ли? Были большие древние ледники. Они могли притащитъ материал из более
далеких мест. Во всяком случае -- доказательство сомнительное. Надо найти
палеозой в коренном выходе. Значит, где-то высоко в снегах. Понимаете, к
чему речь веду?
Кажется, начинаю понимать, -- задумчиво произнес альпинист.
Ага. Ну, отлично! Пусть будет вам ясно: у нас кое-кто говорит, что вы,
альпинисты, лазите хорошо, а собственно говоря, неизвестно зачем.
Слушайте... Достать бы палеозой! А? Наши больно тяжеловаты, туда не долезут,
а вам, как говорится, сам бог велел. Ну, что скажете?
Альпинист оживился:
Завтра же лезу. Организую небольшую группку, честное слово, Александр
Васильевич, вы меня разожгли...
Лезете?
Ну, конечно!..
Тогда имейте в виду: на дрянь не обращайте внимания.
Что -- дрянь?
Да так, вы слишком обращаете внимание на окраску породы да на разные
дурацкие разводы, которые бывают на выветрелых камнях. Надо искать ракушку.
Понимаете: ракушку! Ракушка дороже золота.
Даже золота? Ну, это вы уж слишком!..
И золота! -- обиделся геолог. -- Поймите же, ведь она датирует возраст
слоев!.. Ну, ладно. Нумеруйте камни. Точно
указывайте место, где их нашли. Отмечайте: как лежат пласты, куда
наклонены, какие толщи покоятся одна над другой. А почему, -- геолог
небрежно указал пальцем на скалы, торчащие над ледником, -- почему вот они
там встали на дыбы? Все важно, все нужно определить... Впрочем... напрасно я
говорю...
Как это напрасно? В чем дело?
А в том, что уважающий себя геолог ни вам, ни даже своему коллектору ни
в чем не поверит. Он все должен увидеть своими глазами... Ваша задача найти,
рассказать, а потом помочь нам пойти по вашим пятам. И уже вместе мы будем
определять, всему искать причины: складчатости, горообразованию, разрывным
дислокациям, катаклизмам... Понятно?
Меньше половины! -- смеется альпинист. -- Но не беда. Мы завтра
полезем... Значит, эту самую, как ее -- фузулину -- искать?..
Вечер. Темнеет. Снова начинает накрапывать дождь. Низко-низко, отсекая
весь верхний ряд гор, опущены облака. Словно все живое здесь -- под водой,
ниже ватерлинии судна, а там, наверху, на поверхности, наверно, и свет, и
солнце, и тепло, и радостно, и можно по-настоящему жить.
Геолог и альпинист расходятся по палаткам.
На следующий день группа альпинистов уходит в горы. Здоровые, веселые,
загорелые лица. Шутки и смех. Молодой парень в свитере, выбежав на зеленую
лужайку, лихо перекувыркивается через голову под хохот рабочих и
альпинистов.
-- Вот мальчишка! -- снисходительно улыбается геолог, которого зовут
Александром Васильевичем.
Веревки, шакельтоны, ледорубы, алюминиевые крючья -- все проверено,
точно рассчитано, разделено. Альпинисты выходят из лагеря. Через час высоко,
на фирновом склоне, видны четыре крошечные черные фигурки с рюкзаками за
спиной. Медленно, как водолазы, они поднимаются к острозубому, черному
гребню, длинным мысом торчащему из лакированной белизны снежника. Светит
солнце, облака отступили: налево -- за массив Корумды и направо, закутав
мятущейся пеленой подножие Кзыл-Агина.
Еще через час фигурки скрываются в облаке.
Внизу им завидуют:
Ишь, козлята, как ходят!
Вот я и говорю вам, -- рассуждает другой, тощий и всегда угрюмый
геолог, о котором все говорят, что он хороший специалист, но грешит излишним
пристрастием к иностранщине. -- Почему до сих пор Центральный Тянь-Шаеь не
изучен? Геология темна? Потому что, кроме немцев, никто там не был. Кто?
Мерцбахер, Кайдель. Они в равной степени и геологи и альпинисты, -- они
члены альпийского клуба, могут лазать...
А мы, что ли, не можем? -- с горячей обидой прерывает его молодой
краснощекий геолог.
Вы... Ну, ты-то полезешь, о тебе я не говорю. Ты, так сказать, молодое
поколение геологов. А вот я о Тянь-Шане... В царские времена поехали наши
туда -- географы, статские советники, директора департамента, большие
животы. Доехали до ледника и повернули назад. Потому что для этого дела
нужна тренировка...
А что, я, по-твоему, не тренируюсь? -- опять вспылил молодой. -- Вчера
только все сапоги изодрал вон на этой чертовине...
Ты, опять ты! Ты больше привык сидеть в седле, чем читать доклады.
И то нужно, и это нужно! -- рассудительно произнес угрюмый и тощий, с
козлоподобной бородкой. -- Разве это геолог с одышкой и брюхом? Ты вот
видел, как вчера Дмитрий Васильевич вскочил в седло, не коснувшись ногою
стремени? Вот и профессор, известность, -- Наливкин, -- и скоро уже старик,
а как вскочил! Позавидовать можно. Надо, чтоб вся молодежь такою была...
Почему не полез сегодня с альпинистами?
Я-- я... Да просто нужно разобрать вчерашние образцы! -- замялся
молодой, смущенный неожиданным поворотом разговора.
Угрюмый и тощий, с козлоподобною бородой, искоса хитро взглянул на
него:
А что твой коллектор делает?
Ну, ясно что, этикетажем заниматься будет...
Сказав это, молодой геолог глянул еще раз на облако, в котором скрылись
альпинисты, повернулся и, насвистывая, с совершенно независимым видом отошел
в сторону.
К вечеру альпинисты вернулись недовольные и усталые.
Нашли фузулину?
Найдешь эту пакость! -- сердито буркнул один. -- Вот какие-то тут
красные, -- он протянул геологам мешочек с образцами, -- и зеленые, и еще
какая-то дребедень... Поглядите сами...
И зеленые, говорите вы? А ну-ка...
Через час весь лагерь облетела весть, что альпинистами сделана новая
важная находка -- зеленые метаморфические сланцы. Ага: сланцы... Такие же,
как в Саук-Сае, там у Алтын-Мазара!
И пошли рассуждения о том, что именно в Саук-Сае связано с такими же
сланцами. А Александр Васильевич кричал:
-- Но ведь это же, товарищи, большое открытие!.. Вот что
значит не только ракушка, а порой даже и простой камень дороже золота!
Я говорил вам, хватит сувениров, всяких мелких кристалликов колчедана,
разводов, щеток кальцита!..
Так шли в Бордобе дни за днями. Отсюда, от Бордобы, начались те
догадки, которые определили работу многих геологов на целое лето. Ища фауну,
определяя возраст пород, слагающих гигантские горные хребты, геологи думали
о рудных богатствах, какими не может не быть чреват Памир.
К осени многие из гипотез, выдвинутых в ту весну, подтвердились,
превратились в теории, теория повела к практическим изысканиям и находкам.
В наше время уже никто не спорит о том, что альпинизм не только
прекрасный вид спорта, но и первый помощник науке в высокогорье. А в те
годы, о которых я говорю, советский альпинизм, особенно в Средней Азии, еще
только начинал развиваться, впервые -- и именно здесь, на Памире, -- заводил
тесную дружбу с наукой.
Мир становится шире
Лето на Алае проходит в оживленной работе. Геологи делают ряд маршрутов
по Алайской долине и Заалайскому хребту. Геолог Марковский слышит от
киргизов, что в районе КараМук есть уголь; он едет туда, но оказывается, что
киргизы ошиблись: это не уголь, это палеозойские углистые сланцы, которые
никак не могут гореть. Киргизы говорят, что у Дараут-Кургана, в арыке, есть
ртуть. Геолог Марковский находит несколько капелек ртути, но он осторожен и,
допуская, что это, может быть, явление случайное, рассуждает так: "комплекс
отложений, слагающих бассейн реки Дараут, близок к имеющимся в районе... " И
называет район, где с древних времен известны месторождения ртути:
"некоторые общие черты имеются и в характере строения... Эти обстоятельства
заставляют отнестись к данному явлению осторожно, впредь до более детальной
работы в этом районе... " Ох, как осторожны геологи! Сотню раз взвесить,
много ночей думать, много раз обсудить... Что может быть хуже, чем
раскричаться о несуществующем месторождении? Но и что может быть вреднее
бездоказательного, легкомысленного "закрытия" ценного месторождения?
Геологи пьют кумыс в Дараут-Кургане, в урочищах Курумды-Чукур и
Арча-Булак; размышляют о новых сообщениях киргизов. А кочевые киргизы
называют места, где имеются древние разработки, штольни, отвалы рудоносных
пород... Каждое сообщение нужно проверить. Может быть, далеко не все
интересно. Но важно, что алайские киргизы активны, что они уже не таят
стариковских тайн и легенд, что они приезжают в лагери экспедиции, хотят
помочь тем, кто помогает им посоветски изучать и развивать их малоизведанную
страну.
Попрежнему верещат сурки и, вставая на задние лапки у своих норок,
удивленно, по-человечьи, глядят на проезжих. Попрежнему цветут эдельвейсы,
тюльпаны, типчак, первоцвет и ирис. Попрежнему кузнечики нагибают
серебристые метелки сочного ковыля. А вокруг Дараут-Кургана попрежнему дики
кусты эфедры, пронзителен запах полыни, жестки заросли облепихи, чия,
тамарикса. И ветер все тот же -- тысячелетний. Но в Дараут-Кургане --
советском центре Алая -- звонит телефон. В Дараут-Кургане кочевники толпятся
у кооператива, а другие, организовав добровольный отряд, стерегут от лихих
людей склады и табуны и свой сельсовет, непосредственно подчиненный
киргизскому ЦИКу. В Алае уже есть партийные группы, и десятки кандидатов
партии, и много комсомольских ячеек -- сотни комсомольцев, ведущих яростную
борьбу с вредными байскими пережитками, с дикостью и неграмотностью... И
главное, в Алае уже нет басмачей. Их уже никогда больше не будет! Алайцы
становятся колхозниками, посылают своих детей в школы.
Небольшая группа сотрудников экспедиции, сложив палатки, отправляется
из Бордобы в дальний маршрут. В этой группе -- топограф, ботаник, несколько
альпинистов, художник Н. Котов и начальник пограничной заставы, который
хочет получше узнать свой район. Они едут верхом пока можно, пока горы не
слишком круты, а снег не слишком глубок. Они оставляют лошадей там, где уже
невозможно ехать верхом. Неделю они скитаются по ледниками и белым склонам
восточного Заалая. Их осаждают бури, и они отсиживаются в заваленных снегом
палатках. Они ушли из Бордобы на юг, через КизылАрт на Памир. Они
возвращаются в Бордобу с севера, из Алайс-кой долины, откуда их никто не мог
ждать. Они перевалили Заалайский хребет там, где он от века считался
непроходимым.
Они открыли новый перевал и назвали его перевалом Контрабандистов,
потому что этот неведомый перевал мог оказаться единственным до тех пор
бесконтрольным путем для незваных пришельцев из-за рубежа. С этого времени
на картах в Заалайском хребте будет помечено не два перевала, а три. И чужой
человек уже не проскользнет к Алайской долине в обход пограничной заставы!
Какие неожиданности предстоят дальнейшим исследователям? У перевала
Контрабандистов обнаружен восемнадцатикилометровый ледник Корумды, текущий
параллельно Заалайскому хребту, питаемый пятью мощными ледниками,
чрезвычайно крутыми, с множеством ледопадов. И ползет этот ледник не по
самому Заалаю, а между ним и параллельным ему, до сих пор неизвестным
гигантским хребтом, не названным, не описанным. Сделана топографическая
съемка -- район оказался не маленьким, во всех отношениях интересным.
На Памире все так: чуть только в сторону от известных путей -- и
неожиданностей целый ворох. Многие величайшие хребты и вершины до сих пор
еще даже не замечены ни одним исследователем! Здесь совсем иные масштабы.
Здесь еще бесконечно многое надо сделать.
Первыми идут топограф, географ. За ними в неизвестную область вступают
геоморфолог, геолог, ботаник, зоолог, метеоролог... За ними приходят
строители и изменяют первозданный облик еще недавно никому не известного
края. Так расширяется мир!
Что я думал о будущем? (Из записей 1932 года)
Алай... Я не оговорился, сказав, что люди в нем кажутся микроскопически
малыми. Это оттого, что над волнистой зеленой степью долины гигантским
барьером, колоссальным фасадом Памира, высится Заалайский хребет. От
солнечного восхода до солнечного заката тянется цепь исполинских гор,
величие и красота которых поистине необычайны.
Июнь. Кончается период дождей. По Алайской долине незримо малыми
пунктирными линиями тянутся караваны. Мелкими жучками проползают автомобили,
-- в тридцатом году их еще не было, в тридцать первом они появились
впервые... В тридцать втором -- в экспедиции работает шесть машин, а от Оша
до Алая ходят десятки.
Я всматриваюсь в даль Алайской долины и хорошо представляю себе ее
близкое будущее.
Нет лучше пастбищ, чем в Алайской долине. Она может прокормить миллиона
полтора овец. Не кочевые хозяйства киргизов-единоличников, а колхозы и
огромные, оснащенные превосходной техникой совхозы разрешат задачу создания
здесь крупнейшей животноводческой базы. Всю Среднюю Азию обеспечит Алайская
долина своим великолепным скотом. Потому что мало где есть такие
пространства сочнейших альпийских трав. Здесь будут образцовые молочные
фермы. У подножия гигантских хребтов возникнут санатории для легочных
больных, здравницы для малокровных, дома отдыха для всех, кто нуждается в
целительном горном воздухе. Туристские базы расположатся над обрывами, у
ледяных гротов, на горбах морен. Отсюда комсомольцы всего Союза, всего мира
станут
штурмовать памирские снеговые вершины. Вдоль и поперек по Алаю лягут,
как стрелы, автомобильные шоссе. На просторах Алая будут происходить
состязания призовых лошадей, вскормленных на конных заводах Киргизии.
Все, что делалось в тридцатых годах, было только началом. Самое трудное
всегда начало. Тогда я думал о том, что киргизы Алая скоро станут не темными
кочевниками, зябнущими в рваных халатах, бедняками, еще боящимися злобы и
мести баев, а иными людьми -- зажиточными, образованными, культурными,
гордыми своей свободой и независимостью.
Теперь все то, о чем мечтали мы в те давние годы, осуществилось. Теперь
я думаю о том, как поразительно быстро все это произошло! Сознательно и
умело пользуются теперь мирные, трудолюбивые колхозники огромной
высокогорной долины всеми благами советской науки и экономики; умно и
деловито управляют богатым социалистическим советским районом -- цветущей
долиной Алая.

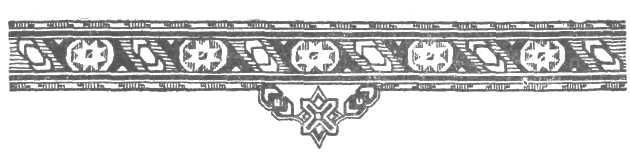

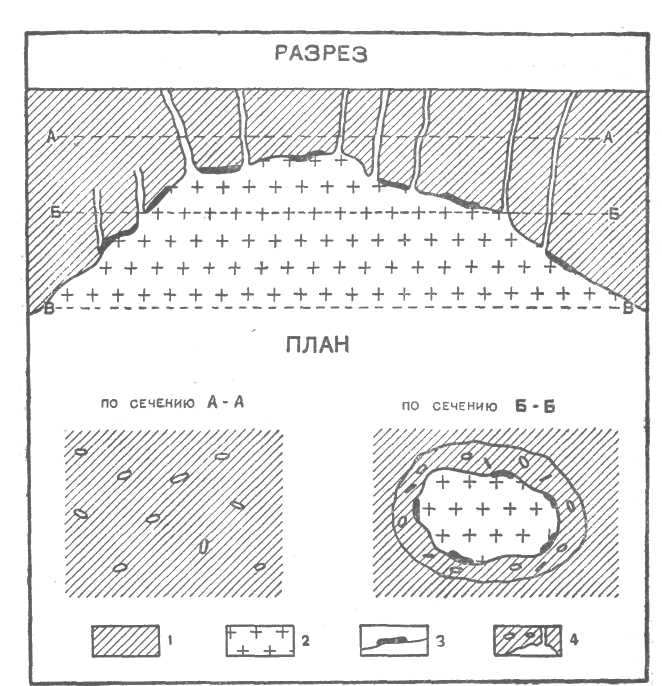 * Схема расположения контактовых и жильных месторождений вокруг
гранитного массива (составлена А. Ф. Соседко).
Условные обозначения: 1. Вмещающие породы. 2. Гранитная интрузия 3
Контактовые месторождения. 4. Пегматитовые и гидротермальные жилы.
Разрез: По сечению А--А: граниты не выходят на поверхность По сечению
Б-Б: обнажается верхняя часть гранитной интрузии
По сечению В -- В: верхняя часть гранитной интрузии смыта; все
контактовые и жильные месторождения также смыты. 1
План: По сечению А--А: выходят на поверхность только пегматитовые
кварцевые жилы
Характерно для очень молодых гор
По сечению Б-Б: верхняя часть гранитных интрузий сопровождается
разнообразием контактовых и жильных проявлении. Контактовые -- по границе
гранита и вмещающих пород; жильные -- обычно вокруг гранита, в пределах
узкого ореола в один-три километра шириной. Характерно для Алтая, Средней
Азии, Урала, Забайкалья.
Существовало и существует много гипотез о строении и о движениях земной
коры, о причинах тех или иных процессов горообразования, происхождения
горных хребтов, но все они исходили из господствовавшей основной гипотезы о
"горячем" происхождении земного шара и о том, что он постепенно, на
протяжении сотен миллионов лет, охлаждается.
Но сейчас я хочу говорить не о происхождении Земли, а о том, что
происходит в ее недрах, независимо от тех или иных космогонических
объяснений. Я хочу говорить об огненно-жидких массах, существующих в глубине
Земли, -- о магмах, поднимающихся, прорывающихся сквозь толщи пород,
образованных осадками древних морей.
Вырываются ли магмы по трещинам земной коры наружу (при вулканических
извержениях) или, гораздо чаще, не достигая поверхности, охлаждаются в
толщах окружающих их пород, застывают, затвердевают, заполнив трещины, по
которым шли, -- во всех случаях они претерпевают те или иные изменения,
соответствующие их объему, температуре и газоносности. Претерпевают
изменения и вмещающие породы. Область этих изменений простирается от явлений
только термического воздействия магмы на вмещающие породы (обжига) до
образования сложных пород, совершенно не похожих на исходные.
Это происходит оттого, что жидкая магма содержит большое количество
газов и паров воды. В газообразном состоянии в магме находятся многие
ценнейшие химические элементы. Газы, естественно, стремятся подняться вверх,
и по мере застывания магмы в верхней части ее собирается много газообразных
веществ. Они вступают во взаимодействие с окружающими магму породами, и на
их контакте -- в месте их соприкосновения -- могут образоваться скопления
полезных ископаемых, которые называются контактовыми.
Газообразные продукты магмы проникают по трещинам в толщу окружающих
пород, удаляясь от материнской магмы на некоторое расстояние. Застывая в
трещинах, они также образуют месторождения редких и весьма ценных полезных
ископаемых.
Таким образом, после окончательного застывания магмы в верхних ее
частях, в кровле, образуется ореол -- венчик вокруг гранита, чрезвычайно
заманчивый для геолога-поисковика, гоняющегося за месторождениями.
Магма, застывшая на глубине в виде различных пород,
называется интрузией. Считается, что чем больше интрузия, тем больше
месторождений может встретиться вокруг нее.
Интрузии могут обнажиться, "увидеть дневной свет" и, следовательно,
стать доступными человеку, если самые хребты, внутри которых застыла магма,
окажутся сильно разрушенными (процессами размывания и выветривания) и
верхняя часть их, покрывающая скрытые интрузии, будет снесена.
На практике многие металлические месторождения чаще всего связаны с
интрузиями гранитов.
В вопросах геологии, кроме состава самих пород, придается исключительно
большое значение их возрасту, определяемому различными способами.
Если процессы размывания и выветривания пород, закрывающих гранитную
интрузию, начались в очень давние геологические времена, скажем, в эру
палеозоя (то-есть от двухсот до пятисот миллионов лет назад), то эта
интрузия, хорошо вскрытая в верхней своей части к настоящему времени, дает
нам богатые месторождения. К такому типу месторождений (связанных с весьма
древними породами) принадлежат, например, те, которые обнаружены в горах
Урала и в горах Алтая. Чаще, однако, бывает, что к настоящему времени
верхние части такой интрузии совершенно разрушены, размыты, разнесены,
выветрены. В этих случаях вокруг интрузии уже не будет скоплений металлов.
Поэтому вполне логично искать металлические месторождения в краях
гранитных интрузий, верхние части которых только вскрыты, но не разрушены.
Именно к таким интрузиям относятся интрузии Забайкалья, Колымы, Кавказа,
Урала. Но, в частности, на Кавказе эти интрузии еще недостаточно вскрыты и
потому месторождений полезных ископаемых здесь сравнительно (конечно, только
сравнительно) мало и они менее разнообразны.
Еще одно представление было у некоторых геологов: чем моложе граниты,
тем больше они содержат газообразных продуктов и, следовательно, тем богаче
будут контакты вокруг гранитных интрузий. На Памире граниты считались
альпийскими, потому что образовались в период самого молодого на планете
горообразовательного цикла, носящего название альпийского. Альпийский
возраст -- это конец третичного периода (кайнозойской эры). Впервые
установленный в Альпах, этот возраст является единым для всей системы
складчатых гор так называемой средиземноморской: геосинклинали (то-есть для
всех гор, протянувшихся от Пиринеев, через юг Европы, Кавказ, Копет-Даг до
Памира и далее, на восток).
Вот почему, когда Юдин встретил на еще очень мало тогда исследованном в
геологическом отношении Памире гранитные интрузии, он прежде всего старался
определить их возраст, узнать, относятся ли они к древнему вулканическому
циклу или к молодому -- альпийскому. Определение возраста гранитов -- задача
очень сложная и ответственная. Если граниты "интрудируют" палеозой, то-есть
проплавляют, внедряются в толщу осадочных пород геологически древнего
(палеозойского) возраста, то они, вероятно, и сами древни. Если же они
ворвались в молодые, сравнительно недавние осадочные породы (например,
мезозойского возраста, то-есть образовавшиеся от ста двадцати пяти до ста
восьмидесяти миллионов лет назад), то они, очевидно, сделали это тогда,
когда эти молодые породы уже существовали, то-есть, в геологическом смысле,
недавно. Значит, и сами они молоды, значит, они принадлежат к молодому --
альпийскому -- вулканическому циклу, значит, они альпийские граниты.
Казалось бы, дело совсем нетрудное: определи, какие породы проплавила,
в какие породы внедрилась интрузия, сейчас же узнаешь и возраст самой
интрузии. Но тут начинается новая трудность. Во-первых, не всегда удается
определить возраст этих осадочных пород, не удается, например, найти в них
характеризующую их окаменелость -- ракушку, флору. Во-вторых, интрузия
переплавила соприкасающиеся с ней породы, видоизменила до неузнаваемости
(метаморфизовала) соседствующие с нею породы. Метаморфизованные их края --
если интрузия велика -- могут быть не узенькими, могут простираться на
десятки километров, и тогда остатки фауны и флоры исчезнут. Вот, скажем,
взять ложку расплавленного свинца, вылить ее на толстый слоеный пирог, такой
толстый, чтоб свинец застыл в нем где-нибудь посередине. Он все вокруг себя
пережжет, все слои переплавит в какую-то неопределенную массу. Счисти все
сверху до свинца и разбирайся: из каких составных частей, из каких слоев
состоит пирог по соседству с ним!
Дело, очевидно, не легкое и рискованное!
Истина всегда рождается в спорах. И если говорить о Памире, в ту пору
еще малоисследованном, то надо сказать, что, ища истину, геологи -- и в
самих экспедициях и после них -- вступали в жестокие споры между собой. Я не
могу уделить в этой книге внимания всем известным мне спорам, происходившим
между учеными. Но я хочу упомянуть об одном из итогов этих споров.
После ряда геологических экспедиций старым па мирским исследователем
геологом Д. В. Наливкиным (ныне академиком) и его учениками, молодыми в ту
пору геологами
П. П. Чуенко, В. И. Поповым и Г. Л. Юдиным, был совместно написан и
выпущен в 1932 году научный труд, в котором объединялись все основные
результаты исследований, касающихся геологического строения Памира.
И вот что сказано в предисловии к этому труду:
"... До работ экспедиции Памир рассматривался как палеозойская горная
область, по строению тождественная с Тянь-Шанем и Уралом. Эта точка зрения
нашла отражение в обзорной геологической карте Средней Азии, Туркестана,
изданной б. Геологическим комитетом в 1925 году. Эта точка зрения впервые
была отвергнута в докладе Д. В. Наливкина в г. Хороге, летом 1927 года, на
котором было проведено сравнение Памира с Уралом и было подчеркнуто различие
между древней горной страной -- Уралом и молодой горной страной -- Памиром,
Образовавшейся в самое последнее время. На основании этого сравнения был
сделан вывод о том, что рудные месторождения уральского типа на Памире не
могут быть встречены. Этот вывод остается в силе и в настоящее время. К
сожалению, во время доклада не была учтена возможность развития и на Памире
рудных месторождений кавказского и забайкальского типа... "
Дальше в предисловии говорится о том, что уже во время полевых работ на
самом Памире выяснились три главнейших результата работ экспедиции:
установление громадного распространения молодых мезозойских отложений;
первое нахождение молодых изверженных пород, в том числе альпийских
гранитов; и первое нахождение месторождений альпийского металлогенического
цикла среди осадочных мезозойских пород в некоторых из районов Памира.
"Эти выводы, -- говорится далее в предисловии, -- были вполне
подтверждены работами других экспедиций в последовавшие годы. Особенно много
дали работы Ю. Л. Юдина *, доказавшего громадное распространение альпийских
гранитов и широкое развитие связанного с ними молодого металлогенического
цикла... "
Из этого свидетельства, под которым подписался прежде всего
авторитетнейший ученый -- Д. В. Наливкин, видно, что Юдин трудился на Памире
не зря. I
Многое в наше время в области объяснения тех или иных геологических
особенностей Памира изменилось, -- за четверть века наука прошла огромный
путь! Современные представления геологов о Памире весьма отличаются от
представлений, созданных в первые годы его систематического изучения.
* Г. Л. Юдин иногда именуется Ю. Л. Юдиным (Юрием Лазаревичем).
Но все, что когда-либо было сделано для поступательного хода науки,
все, что в любые времена двигало науку вперед, -- все ценно и не должно быть
предано забвению последующими исследователями-учеными.
Юдин, в ту пору молодой исследователь, упорный, упрямый, дерзкий, может
быть, слишком самоуверенный, может быть, многими проявлениями своей личности
вызывавший к себе отрицательное отношение некоторых других участников
экспедиций, был, во всяком случае, энтузиастом развитой им для Памира теории
"альпийского вулканического цикла и связанной с ним металлогении". Эта
теория была, несомненно, полезна, прежде всего потому, что обосновывала
практические поисковые работы.
Юдин увлеченно искал ее подтверждений, из года в год рвался на Памир,
проделывал огромные маршруты по высокогорью, разыскивал гранитные интрузии,
определял их возраст, составлял новую карту, на которой они были обозначены.
А встретив на своем пути граниты, он искал место их соприкосновения с
осадочными породами, он искал край, самую кромку интрузии и затем спешил
проследить ее по всему ее протяжению; он стремился объехать эту интрузию
верхом, обойти пешком и обозначить на карте ee контуры, то-есть, выражаясь
геологическим языком, "оконтурить гранитное поле". Он был опьянен этой своей
теорией, он по краям альпийских гранитов искал месторождения полезных
ископаемых.
Но ведь Памир грандиозен, труднопроходим, геологически совсем мало
исследован. Но ведь передвигаться можно только по опасным тропинкам на
западе, по каменистым высокогорным ложам долин на востоке. В лоб хребты не
возьмешь, всего не объедешь!.. Осенью надо покинуть Памир -- он вовсе
непроходим зимой, да зимой под снегом так или иначе ничего не увидишь.
Значит, надо гнать, гнать и гнать верховых лошадей! Значит, надо в день
делать как можно больше километров! Теория требует доказательства, а их еще
мало, их надо искать... Надо искать самому, надо ехать, ехать, а где
невозможно проехать -- надо итти пешком, карабкаться на перевалы, ломать все
преграды, кто бы ни ставил их: природа или человек. Надо "оконтурить" как
можно больше гранитных полей!
Но "гранитное поле" -- это вовсе не поле, это высочайшие земные хребты,
это узлы почти недоступных гор. Юдина увлекает теория, он не знает
усталости, он молод, здоров, у него огромный запас физических сил... Но
некоторые из его коллекторов не знают этой его теории, не хотят думать о
ней: ведь Юдину, им известно, была задана только съемка! А караванщики,
знающие толк только в лошадях, отказываются двигаться дальше, морить своих
лошадей.
Юдин рассуждал так: можно ли из-за какой-то "ерунды", срывать работу,
замедлять ее темп? Такая огромная, сверкающая цель! Спокойный, всегда
невозмутимый Юдин обуреваем своей теорией как некоей фанатической страстью.
Он считает, что если караванщика не уговоришь, то надо соблазнить его
каким-нибудь обещанием. Ну, хотя бы деньгами!.. Юдин не думает, что денег
может ему не хватить. Что вся его смета невелика, что ему поручено сделать
маленькую карту в маленьком отдельном районе. А он не хочет удовлетвориться
этим районом, он должен объехать в десятки раз больший район, на который
денег ему не дано, который в Геолкоме не считается интересным... Разве само
по себе это плохо?..
Караванщик согласен. Юдин скачет на лошадях дальше. Басмачи? Местные
жители предупреждают его, что там, куда он стремится, шатается банда, что
банда может всех перебить... Пустяки! Что значит банда, когда у него
открывается такое прекрасное будущее! "Проскочим", -- сурово говорит Юдин и,
думая прежде всего о том, что проскочит он сам, гонит лошадей дальше. Раз мы
побывали уже в руках басмачей, потеряли убитым товарища, сами едва уцелели.
Второй раз живыми от басмачей не уйдешь!.. Но... "проскочим"! Праздновать ли
труса или презреть трусость? И мы проскакиваем на авось. Караванщики злятся.
Они не хотят рисковать жизнью для какой-то им непонятной теории.
Но дело еще и не в этом. Приходит время расплачиваться с караванщиками.
Юдин не в силах выполнить данные сгоряча обещания. Он начинает увиливать и
выкручиваться. Караванщики привыкли верить на слово, караванщики не
заключали договоров, они люди честные. И вдруг их начальник не выплачивает
всего им обещанного. Начинается возмущение. В конце концов Юдину приходится
платить деньги. Может быть, из собственного кармана. Но приятно ли слушать
то, что караванщики говорят? Страдает экспедиционное имя исследователя!
Но и это еще не все. Юдин возвращается в Ленинград. Он привез
столько-то доказательств своей теории. Вот шлихи, вот крупинки металла,
такого-то и такого, найденного там-то и там-то. Находятся, однако, люди,
справедливо сомневающиеся: позвольте, но такая крупинка с булавочную головку
еще не доказательство полезности месторождения!..
Юдин и сам знает, что это, в сущности, не доказательства. Он искренне
верит, что доказательства будут найдены. Но
вместо того чтоб дождаться, пока он их -- бесспорные, всеубеждающие --
найдет, он начинает обвинять в "семи смертных грехах" всякого
сомневающегося, спорящего с ним, его критикующего геолога. Он идет на все,
чтоб "вырвать" кредиты для следующей поездки. В глубине души он твердо
убежден, что эти деньги будут оправданы теми открытиями, которые он,
несомненно же, сделает!
Но ему говорят, что в науке никто никому не имеет права поверить на
слово.
Наконец Юдин привозит нужные доказательства. Но вместо радости
всеобщего признания он испытывает горечь, потому что никто не прощает ему
всего того недопустимого, что было в образе его действий. В итоге дело
передается в руки других работников, а Юдину приходится вместо Памира
выбирать для своей экспедиционной деятельности другой район.
Многие геологи упрекали Юдина в верхоглядстве. Но, кстати сказать,
такие же упреки мне приходилось слышать и по адресу одного очень известного
исследователя. Из-за своей тучности ленясь подняться пешком на гору, он
посылал за образцами пород кучера, а иногда даже делал определения попросту
издали, на глазок. И потому, мол, в его работах впоследствии обнаруживалось
немало неточностей и ошибок.
Я знаю теперь, через четверть века после моих первых путешествий с
Юдиным, что многие из его предположений не оправдались. Но мне трудно
разобраться в правильности тех или иных заключений по этому поводу: я не
геолог, а спрашивая геологов, натыкался па самые различные, порой
противоречивые мнения. Но так или иначе, в ту пору я был уверен, что Юдин
прав, что он в самом деле умеет отлично работать и его работа полезна, а
разные личные недостатки... Как хочется всем нам, чтоб в людях не было
недостатков, они всегда мешают успеху дела, да ведь, кто же, однако, от них
избавлен? Я не придумал фигуры человека, коего постоянным спутником был
несколько лет на Памире; и я не стремлюсь в моей книге сделать из этого
человека "литературный тип". И очень надеюсь, что читатель сам хорошо
разберется в положительных и отрицательных качествах того, по возможности
беспристрастно описываемого мною человека, который в тридцатых годах в
области геологии был одним из первых молодых исследователей Памира.
И, разобравшись, читатель, конечно, согласится со мною, что путь
советского ученого должен быть прям и чист!
Все больше и больше научных работников с каждым голом вовлекалось в
дело изучения геологии Памира. Уже в 1932 году в состав огромной Таджикской
комплексной
экспедиции вошли десятки геологических, геохимических, гравиметрических
и других отрядов. Виднейшие геологи -- специалисты по изучению Средней Азии
-- взялись за анализ всего созданного на Памире до них в этих областях
знания. На основании бесчисленных новых исследований, критикуя, утверждая
правильное, отбрасывая неправильное, привлекая новые факты и доказательства,
развивая всякое зерно истины, десятки советских научных работников и ученых,
коммунисты и беспартийные, люди беспристрастные, объективные, устремленные к
единственной цели -- принести пользу Родине, за последнюю четверть века
сделали на Памире так много, что ныне его исследованности, его изученности
может позавидовать немало других областей нашей великой страны.
* Схема расположения контактовых и жильных месторождений вокруг
гранитного массива (составлена А. Ф. Соседко).
Условные обозначения: 1. Вмещающие породы. 2. Гранитная интрузия 3
Контактовые месторождения. 4. Пегматитовые и гидротермальные жилы.
Разрез: По сечению А--А: граниты не выходят на поверхность По сечению
Б-Б: обнажается верхняя часть гранитной интрузии
По сечению В -- В: верхняя часть гранитной интрузии смыта; все
контактовые и жильные месторождения также смыты. 1
План: По сечению А--А: выходят на поверхность только пегматитовые
кварцевые жилы
Характерно для очень молодых гор
По сечению Б-Б: верхняя часть гранитных интрузий сопровождается
разнообразием контактовых и жильных проявлении. Контактовые -- по границе
гранита и вмещающих пород; жильные -- обычно вокруг гранита, в пределах
узкого ореола в один-три километра шириной. Характерно для Алтая, Средней
Азии, Урала, Забайкалья.
Существовало и существует много гипотез о строении и о движениях земной
коры, о причинах тех или иных процессов горообразования, происхождения
горных хребтов, но все они исходили из господствовавшей основной гипотезы о
"горячем" происхождении земного шара и о том, что он постепенно, на
протяжении сотен миллионов лет, охлаждается.
Но сейчас я хочу говорить не о происхождении Земли, а о том, что
происходит в ее недрах, независимо от тех или иных космогонических
объяснений. Я хочу говорить об огненно-жидких массах, существующих в глубине
Земли, -- о магмах, поднимающихся, прорывающихся сквозь толщи пород,
образованных осадками древних морей.
Вырываются ли магмы по трещинам земной коры наружу (при вулканических
извержениях) или, гораздо чаще, не достигая поверхности, охлаждаются в
толщах окружающих их пород, застывают, затвердевают, заполнив трещины, по
которым шли, -- во всех случаях они претерпевают те или иные изменения,
соответствующие их объему, температуре и газоносности. Претерпевают
изменения и вмещающие породы. Область этих изменений простирается от явлений
только термического воздействия магмы на вмещающие породы (обжига) до
образования сложных пород, совершенно не похожих на исходные.
Это происходит оттого, что жидкая магма содержит большое количество
газов и паров воды. В газообразном состоянии в магме находятся многие
ценнейшие химические элементы. Газы, естественно, стремятся подняться вверх,
и по мере застывания магмы в верхней части ее собирается много газообразных
веществ. Они вступают во взаимодействие с окружающими магму породами, и на
их контакте -- в месте их соприкосновения -- могут образоваться скопления
полезных ископаемых, которые называются контактовыми.
Газообразные продукты магмы проникают по трещинам в толщу окружающих
пород, удаляясь от материнской магмы на некоторое расстояние. Застывая в
трещинах, они также образуют месторождения редких и весьма ценных полезных
ископаемых.
Таким образом, после окончательного застывания магмы в верхних ее
частях, в кровле, образуется ореол -- венчик вокруг гранита, чрезвычайно
заманчивый для геолога-поисковика, гоняющегося за месторождениями.
Магма, застывшая на глубине в виде различных пород,
называется интрузией. Считается, что чем больше интрузия, тем больше
месторождений может встретиться вокруг нее.
Интрузии могут обнажиться, "увидеть дневной свет" и, следовательно,
стать доступными человеку, если самые хребты, внутри которых застыла магма,
окажутся сильно разрушенными (процессами размывания и выветривания) и
верхняя часть их, покрывающая скрытые интрузии, будет снесена.
На практике многие металлические месторождения чаще всего связаны с
интрузиями гранитов.
В вопросах геологии, кроме состава самих пород, придается исключительно
большое значение их возрасту, определяемому различными способами.
Если процессы размывания и выветривания пород, закрывающих гранитную
интрузию, начались в очень давние геологические времена, скажем, в эру
палеозоя (то-есть от двухсот до пятисот миллионов лет назад), то эта
интрузия, хорошо вскрытая в верхней своей части к настоящему времени, дает
нам богатые месторождения. К такому типу месторождений (связанных с весьма
древними породами) принадлежат, например, те, которые обнаружены в горах
Урала и в горах Алтая. Чаще, однако, бывает, что к настоящему времени
верхние части такой интрузии совершенно разрушены, размыты, разнесены,
выветрены. В этих случаях вокруг интрузии уже не будет скоплений металлов.
Поэтому вполне логично искать металлические месторождения в краях
гранитных интрузий, верхние части которых только вскрыты, но не разрушены.
Именно к таким интрузиям относятся интрузии Забайкалья, Колымы, Кавказа,
Урала. Но, в частности, на Кавказе эти интрузии еще недостаточно вскрыты и
потому месторождений полезных ископаемых здесь сравнительно (конечно, только
сравнительно) мало и они менее разнообразны.
Еще одно представление было у некоторых геологов: чем моложе граниты,
тем больше они содержат газообразных продуктов и, следовательно, тем богаче
будут контакты вокруг гранитных интрузий. На Памире граниты считались
альпийскими, потому что образовались в период самого молодого на планете
горообразовательного цикла, носящего название альпийского. Альпийский
возраст -- это конец третичного периода (кайнозойской эры). Впервые
установленный в Альпах, этот возраст является единым для всей системы
складчатых гор так называемой средиземноморской: геосинклинали (то-есть для
всех гор, протянувшихся от Пиринеев, через юг Европы, Кавказ, Копет-Даг до
Памира и далее, на восток).
Вот почему, когда Юдин встретил на еще очень мало тогда исследованном в
геологическом отношении Памире гранитные интрузии, он прежде всего старался
определить их возраст, узнать, относятся ли они к древнему вулканическому
циклу или к молодому -- альпийскому. Определение возраста гранитов -- задача
очень сложная и ответственная. Если граниты "интрудируют" палеозой, то-есть
проплавляют, внедряются в толщу осадочных пород геологически древнего
(палеозойского) возраста, то они, вероятно, и сами древни. Если же они
ворвались в молодые, сравнительно недавние осадочные породы (например,
мезозойского возраста, то-есть образовавшиеся от ста двадцати пяти до ста
восьмидесяти миллионов лет назад), то они, очевидно, сделали это тогда,
когда эти молодые породы уже существовали, то-есть, в геологическом смысле,
недавно. Значит, и сами они молоды, значит, они принадлежат к молодому --
альпийскому -- вулканическому циклу, значит, они альпийские граниты.
Казалось бы, дело совсем нетрудное: определи, какие породы проплавила,
в какие породы внедрилась интрузия, сейчас же узнаешь и возраст самой
интрузии. Но тут начинается новая трудность. Во-первых, не всегда удается
определить возраст этих осадочных пород, не удается, например, найти в них
характеризующую их окаменелость -- ракушку, флору. Во-вторых, интрузия
переплавила соприкасающиеся с ней породы, видоизменила до неузнаваемости
(метаморфизовала) соседствующие с нею породы. Метаморфизованные их края --
если интрузия велика -- могут быть не узенькими, могут простираться на
десятки километров, и тогда остатки фауны и флоры исчезнут. Вот, скажем,
взять ложку расплавленного свинца, вылить ее на толстый слоеный пирог, такой
толстый, чтоб свинец застыл в нем где-нибудь посередине. Он все вокруг себя
пережжет, все слои переплавит в какую-то неопределенную массу. Счисти все
сверху до свинца и разбирайся: из каких составных частей, из каких слоев
состоит пирог по соседству с ним!
Дело, очевидно, не легкое и рискованное!
Истина всегда рождается в спорах. И если говорить о Памире, в ту пору
еще малоисследованном, то надо сказать, что, ища истину, геологи -- и в
самих экспедициях и после них -- вступали в жестокие споры между собой. Я не
могу уделить в этой книге внимания всем известным мне спорам, происходившим
между учеными. Но я хочу упомянуть об одном из итогов этих споров.
После ряда геологических экспедиций старым па мирским исследователем
геологом Д. В. Наливкиным (ныне академиком) и его учениками, молодыми в ту
пору геологами
П. П. Чуенко, В. И. Поповым и Г. Л. Юдиным, был совместно написан и
выпущен в 1932 году научный труд, в котором объединялись все основные
результаты исследований, касающихся геологического строения Памира.
И вот что сказано в предисловии к этому труду:
"... До работ экспедиции Памир рассматривался как палеозойская горная
область, по строению тождественная с Тянь-Шанем и Уралом. Эта точка зрения
нашла отражение в обзорной геологической карте Средней Азии, Туркестана,
изданной б. Геологическим комитетом в 1925 году. Эта точка зрения впервые
была отвергнута в докладе Д. В. Наливкина в г. Хороге, летом 1927 года, на
котором было проведено сравнение Памира с Уралом и было подчеркнуто различие
между древней горной страной -- Уралом и молодой горной страной -- Памиром,
Образовавшейся в самое последнее время. На основании этого сравнения был
сделан вывод о том, что рудные месторождения уральского типа на Памире не
могут быть встречены. Этот вывод остается в силе и в настоящее время. К
сожалению, во время доклада не была учтена возможность развития и на Памире
рудных месторождений кавказского и забайкальского типа... "
Дальше в предисловии говорится о том, что уже во время полевых работ на
самом Памире выяснились три главнейших результата работ экспедиции:
установление громадного распространения молодых мезозойских отложений;
первое нахождение молодых изверженных пород, в том числе альпийских
гранитов; и первое нахождение месторождений альпийского металлогенического
цикла среди осадочных мезозойских пород в некоторых из районов Памира.
"Эти выводы, -- говорится далее в предисловии, -- были вполне
подтверждены работами других экспедиций в последовавшие годы. Особенно много
дали работы Ю. Л. Юдина *, доказавшего громадное распространение альпийских
гранитов и широкое развитие связанного с ними молодого металлогенического
цикла... "
Из этого свидетельства, под которым подписался прежде всего
авторитетнейший ученый -- Д. В. Наливкин, видно, что Юдин трудился на Памире
не зря. I
Многое в наше время в области объяснения тех или иных геологических
особенностей Памира изменилось, -- за четверть века наука прошла огромный
путь! Современные представления геологов о Памире весьма отличаются от
представлений, созданных в первые годы его систематического изучения.
* Г. Л. Юдин иногда именуется Ю. Л. Юдиным (Юрием Лазаревичем).
Но все, что когда-либо было сделано для поступательного хода науки,
все, что в любые времена двигало науку вперед, -- все ценно и не должно быть
предано забвению последующими исследователями-учеными.
Юдин, в ту пору молодой исследователь, упорный, упрямый, дерзкий, может
быть, слишком самоуверенный, может быть, многими проявлениями своей личности
вызывавший к себе отрицательное отношение некоторых других участников
экспедиций, был, во всяком случае, энтузиастом развитой им для Памира теории
"альпийского вулканического цикла и связанной с ним металлогении". Эта
теория была, несомненно, полезна, прежде всего потому, что обосновывала
практические поисковые работы.
Юдин увлеченно искал ее подтверждений, из года в год рвался на Памир,
проделывал огромные маршруты по высокогорью, разыскивал гранитные интрузии,
определял их возраст, составлял новую карту, на которой они были обозначены.
А встретив на своем пути граниты, он искал место их соприкосновения с
осадочными породами, он искал край, самую кромку интрузии и затем спешил
проследить ее по всему ее протяжению; он стремился объехать эту интрузию
верхом, обойти пешком и обозначить на карте ee контуры, то-есть, выражаясь
геологическим языком, "оконтурить гранитное поле". Он был опьянен этой своей
теорией, он по краям альпийских гранитов искал месторождения полезных
ископаемых.
Но ведь Памир грандиозен, труднопроходим, геологически совсем мало
исследован. Но ведь передвигаться можно только по опасным тропинкам на
западе, по каменистым высокогорным ложам долин на востоке. В лоб хребты не
возьмешь, всего не объедешь!.. Осенью надо покинуть Памир -- он вовсе
непроходим зимой, да зимой под снегом так или иначе ничего не увидишь.
Значит, надо гнать, гнать и гнать верховых лошадей! Значит, надо в день
делать как можно больше километров! Теория требует доказательства, а их еще
мало, их надо искать... Надо искать самому, надо ехать, ехать, а где
невозможно проехать -- надо итти пешком, карабкаться на перевалы, ломать все
преграды, кто бы ни ставил их: природа или человек. Надо "оконтурить" как
можно больше гранитных полей!
Но "гранитное поле" -- это вовсе не поле, это высочайшие земные хребты,
это узлы почти недоступных гор. Юдина увлекает теория, он не знает
усталости, он молод, здоров, у него огромный запас физических сил... Но
некоторые из его коллекторов не знают этой его теории, не хотят думать о
ней: ведь Юдину, им известно, была задана только съемка! А караванщики,
знающие толк только в лошадях, отказываются двигаться дальше, морить своих
лошадей.
Юдин рассуждал так: можно ли из-за какой-то "ерунды", срывать работу,
замедлять ее темп? Такая огромная, сверкающая цель! Спокойный, всегда
невозмутимый Юдин обуреваем своей теорией как некоей фанатической страстью.
Он считает, что если караванщика не уговоришь, то надо соблазнить его
каким-нибудь обещанием. Ну, хотя бы деньгами!.. Юдин не думает, что денег
может ему не хватить. Что вся его смета невелика, что ему поручено сделать
маленькую карту в маленьком отдельном районе. А он не хочет удовлетвориться
этим районом, он должен объехать в десятки раз больший район, на который
денег ему не дано, который в Геолкоме не считается интересным... Разве само
по себе это плохо?..
Караванщик согласен. Юдин скачет на лошадях дальше. Басмачи? Местные
жители предупреждают его, что там, куда он стремится, шатается банда, что
банда может всех перебить... Пустяки! Что значит банда, когда у него
открывается такое прекрасное будущее! "Проскочим", -- сурово говорит Юдин и,
думая прежде всего о том, что проскочит он сам, гонит лошадей дальше. Раз мы
побывали уже в руках басмачей, потеряли убитым товарища, сами едва уцелели.
Второй раз живыми от басмачей не уйдешь!.. Но... "проскочим"! Праздновать ли
труса или презреть трусость? И мы проскакиваем на авось. Караванщики злятся.
Они не хотят рисковать жизнью для какой-то им непонятной теории.
Но дело еще и не в этом. Приходит время расплачиваться с караванщиками.
Юдин не в силах выполнить данные сгоряча обещания. Он начинает увиливать и
выкручиваться. Караванщики привыкли верить на слово, караванщики не
заключали договоров, они люди честные. И вдруг их начальник не выплачивает
всего им обещанного. Начинается возмущение. В конце концов Юдину приходится
платить деньги. Может быть, из собственного кармана. Но приятно ли слушать
то, что караванщики говорят? Страдает экспедиционное имя исследователя!
Но и это еще не все. Юдин возвращается в Ленинград. Он привез
столько-то доказательств своей теории. Вот шлихи, вот крупинки металла,
такого-то и такого, найденного там-то и там-то. Находятся, однако, люди,
справедливо сомневающиеся: позвольте, но такая крупинка с булавочную головку
еще не доказательство полезности месторождения!..
Юдин и сам знает, что это, в сущности, не доказательства. Он искренне
верит, что доказательства будут найдены. Но
вместо того чтоб дождаться, пока он их -- бесспорные, всеубеждающие --
найдет, он начинает обвинять в "семи смертных грехах" всякого
сомневающегося, спорящего с ним, его критикующего геолога. Он идет на все,
чтоб "вырвать" кредиты для следующей поездки. В глубине души он твердо
убежден, что эти деньги будут оправданы теми открытиями, которые он,
несомненно же, сделает!
Но ему говорят, что в науке никто никому не имеет права поверить на
слово.
Наконец Юдин привозит нужные доказательства. Но вместо радости
всеобщего признания он испытывает горечь, потому что никто не прощает ему
всего того недопустимого, что было в образе его действий. В итоге дело
передается в руки других работников, а Юдину приходится вместо Памира
выбирать для своей экспедиционной деятельности другой район.
Многие геологи упрекали Юдина в верхоглядстве. Но, кстати сказать,
такие же упреки мне приходилось слышать и по адресу одного очень известного
исследователя. Из-за своей тучности ленясь подняться пешком на гору, он
посылал за образцами пород кучера, а иногда даже делал определения попросту
издали, на глазок. И потому, мол, в его работах впоследствии обнаруживалось
немало неточностей и ошибок.
Я знаю теперь, через четверть века после моих первых путешествий с
Юдиным, что многие из его предположений не оправдались. Но мне трудно
разобраться в правильности тех или иных заключений по этому поводу: я не
геолог, а спрашивая геологов, натыкался па самые различные, порой
противоречивые мнения. Но так или иначе, в ту пору я был уверен, что Юдин
прав, что он в самом деле умеет отлично работать и его работа полезна, а
разные личные недостатки... Как хочется всем нам, чтоб в людях не было
недостатков, они всегда мешают успеху дела, да ведь, кто же, однако, от них
избавлен? Я не придумал фигуры человека, коего постоянным спутником был
несколько лет на Памире; и я не стремлюсь в моей книге сделать из этого
человека "литературный тип". И очень надеюсь, что читатель сам хорошо
разберется в положительных и отрицательных качествах того, по возможности
беспристрастно описываемого мною человека, который в тридцатых годах в
области геологии был одним из первых молодых исследователей Памира.
И, разобравшись, читатель, конечно, согласится со мною, что путь
советского ученого должен быть прям и чист!
Все больше и больше научных работников с каждым голом вовлекалось в
дело изучения геологии Памира. Уже в 1932 году в состав огромной Таджикской
комплексной
экспедиции вошли десятки геологических, геохимических, гравиметрических
и других отрядов. Виднейшие геологи -- специалисты по изучению Средней Азии
-- взялись за анализ всего созданного на Памире до них в этих областях
знания. На основании бесчисленных новых исследований, критикуя, утверждая
правильное, отбрасывая неправильное, привлекая новые факты и доказательства,
развивая всякое зерно истины, десятки советских научных работников и ученых,
коммунисты и беспартийные, люди беспристрастные, объективные, устремленные к
единственной цели -- принести пользу Родине, за последнюю четверть века
сделали на Памире так много, что ныне его исследованности, его изученности
может позавидовать немало других областей нашей великой страны.
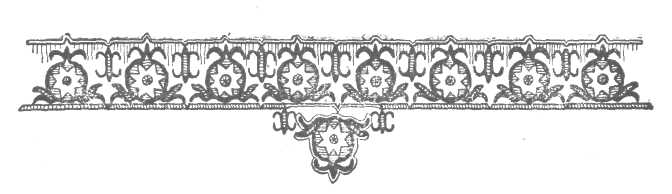
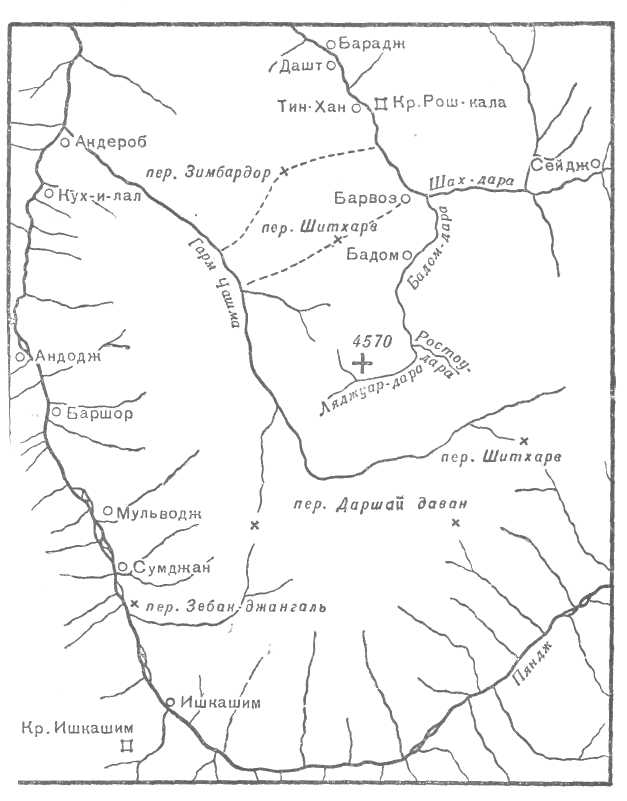 Путь экспедиции 1930 года к месторождению лазурита.
Реки Вадом-Дара и Ляджуар-Дара нанесены по глазомерной съемке А. В.
Хабакова. Вся остальная местность показана так, как она изображалась на
картах до исследований автора книги в тридцатых годах.
Ляджуар!
Мы нашли ляджуар!
Я бегу, я прыгаю с камня на камень, я не разбираю провалов и темных
колодцев между холодными глыбами. Ляджуар! Вот он: вот она подо мной, синяя
жила, я опускаюсь на камень, касаюсь жилы руками, -- я еще не верю в нее, --
я оглаживаю ее ладонями, я вволю дышу. Дышит Юдин, дышат шугнанцы. Хорошо!..
Здесь надо уметь дышать.
Синяя жила толще моей руки. Глыба, которую прорезает она, больше серого
носа линкора. Кругом такие же -- серые, черные, белые. Безразличная,
какая-то чопорная тень тяжелит эти глыбы.
Усталости нет, усталость сразу прошла. И такой здесь холод, что
невозможно не двигаться. Я поднимаю осколок ляджуара -- величиной с
человечью голову. Я бросаю его: вон другой -- больше и лучше. Мы лазаем по
глыбам, мы расползлись, сейчас мы просто любуемся и торжествуем. Все эти
глыбы сорвались оттуда -- сверху, с мраморной этой стены. Стена недоступна.
Легенда права.
А где Хабаков? Нет Хабакова. Мы забыли о нем. Сразу встревожившись,
ждем. Зовем его, кличем... Никакого ответа. Юдин посылает за ним вниз
Пазора. Пазор уходит, и мы слыжим его затихающий голос:
-- Кабахо!.. Кабахо!.. Ка-а-ба-хо!
Бледный, потный, до крайности утомленный, наконец, появляется Хабаков.
Что с вами?
Понимаете... вот тут... уже совсем близко, вдруг сердце отказывается
работать...
Понимаем, очень хорошо понимаем. Называется это -- тутэк. Роговые очки
запотели, волосы взмокли, слиплись, гребнем загибаются под затылком у
воротника свитера. Штаны -- в клочьях. Хабаков похож на солдата, вышедшего
из самой гущи смертельного боя. Он ожесточен. Ему нужно прежде всего
отдышаться, тогда он посмотрит на себя, оправит ремень, оботрет лицо от
разводов грязи и пота... Впрочем, мы и сами с виду не лучше.
С мраморной стены, сверху, падают камни. Здесь небезопасно стоять.
И неожиданно -- грохот, многопушечный грохот. Замираем: где? что это?
-- и разом оглядываемся. Это не здесь... Не вверху... Это далеко... Грохот
ширится и растет: на противоположной горе -- грандиозный снежный обвал,
видим его от возникновения до конца. Оседает белая громада горы, оседает,
скользит и летит вниз со стремительной пьяною быстротой, а внизу,
рассыпавшись, взрывается белым, огромнейшим белым облаком, -- и удар
сотрясает почву, тяжкий гром дрожит, перекатываясь десятками эхо, облако
снега клубится и медленно распадается, оседая, как дымовая завеса. Зрелище
великолепно. Обвал расколыхал спокойствие гор, раздражил равновесие скал, и
через минуту, словно заразившись грохотом, по соседству, через висячий
ледник, -- второй обвал, значительно меньший. А во мне вдруг ощущение
одиночества и затерянности. Как далеко мы от всего на свете живого!
Анероид показывал 4 570 метров. На Восточном Памире мы бывали на
больших высотах, но ощущение высоты там скрадывали пологие перевалы.
Вокруг нас, как пули, ложились осколки камней, падающих с холодной
отвесной стены. Мы стояли на больших, остро расколотых глыбах, сорвавшихся
оттуда, быть может, вчера.
Ниили -- самый дорогой и красивый, цвета индиго; асмани --
светлоголубой и суфси -- низший сорт, зеленоватого цвета. Так разделяют
афганцы ляджуар в тех, считающихся собственностью падишаха копях. А здесь?
Все три сорта. Вот он -- ниили, в белоснежных извивах мрамора, в
крупнокристаллическом сахаре отвесной скалы, поднимающийся над нами на сто
двадцать метров. Синие гнезда, прожилки, жеоды -- словно синяя кровь
забрызгала эту беломраморную гигантскую стену. А вот -- бутылочно-зеленая
шпинель в кварцево-слюдистых жилах, словно выплески зеленых глубин
Каспийского моря. Вот в осыпях, под скалою, обломки ляджуара в три пуда, в
четыре, в пять. Здесь, там, всюду, куда ни посмотришь! Сколько всего? Не
знаю. Много. Это здесь, в осыпях, сорвавшегося со скалы. А сколько его там,
в скале? А сколько его в тех же породах по всей округе? Не знаю, не знаю,
это сейчас невозможно узнать!
Мы смотрим вокруг, вниз, туда, откуда пришли. Мы стараемся разобраться
в геологии. Мраморы -- массивны. Под ними -- темносерые, биотитовые гнейсы,
очень похожие на те, которые встречались нам на Бадом-Даре, когда мы
поднимались сюда. Среди мраморов -- пятна рыжевато-бурых, охристых,
содержащих железистые соединения прослоек. Вся ЛяджуарДара, вся Бадом-Дара
рассекают почти отвесные скалы и обрывы, состоящие из той, о которой я
размышлял в Хороге, -- гнейсово-сланцево-мраморной свиты.
Высота отвесных берегов над Ляджуар-Дарой и Бадом-Дарой грандиозна:
шестьсот-семьсот метров, местами почти до километра! А острые зубчатые
гребни хребтов с прилепившимися к ним висячими ледниками много выше. Что за
горы на юг? Там, на ослепительных фирновых склонах, на ледниках, никто
никогда не бывал. Шугнанцы, наши спутники, говорят: "Там нет пути человеку!"
А у меня внезапно желание проникнуть туда. Разгадать эти исполинские
горы, нанести их на карту, узнать, что находится за этими вот зубчатыми
водораздельными гребнями? Какие ледники? Какие реки?
-- Отсюда никто никогда не ходил туда! -- упрямо повторяет Карашир. --
На Пяндж ходили кругом!
Я и сам отлично знаю, что там дальше, за этими горами, -- Пяндж, к
которому легко и просто пройти, вернувшись в Хорог. Путь обратно в Хорог --
одна сторона треугольника. Путь из Хорога вверх по Пянджу -- вторая сторона
треугольника. А третья сторона -- вот эта линия отсюда, сквозь все эти горы,
-- прямо на юг. Что встретится географу, геологу, картографу на этой
неведомой линии?
А что, если отделиться от всей нашей группы и заняться самостоятельными
исследованиями?
В другом очерке я расскажу, куда привела меня эта мысль.
А сейчас...
Зикрак очень внимательно смотрит на фирновый склон по ту сторону
Ляджуар-Дары. Внезапно оборачивается к нам, указывает на снега рукой и очень
торжественно рассказывает: когда он был юношей, старик Наджав из Барвоза,
доживший до ста двадцати лет, ослепший, а теперь уже давно умерший, сообщил
ему, что ляджуар есть вот там, по хребту правого берега Ляджуар-Дары.
-- Да, -- вдруг подтверждает он. -- Мой отец, НазарМамат...
И мы слушаем рассказ о том, как Назар-Мамат однажды в жизни ходил туда,
и нашел там ляджуар, и принес синий
камень в Барвоз. Потом, когда он ходил сюда с Караширом, он искал и то
место, но весь склон оказался под рухнувшими сверху снегами. С тех пор как
Назар-Мамат умер, никто вверх по Ляджуар-Даре не ходил.
Что нужно сделать, чтоб определить ценность открытого нами
месторождения? Нужно провести здесь месяц-два; нужно поднять сюда
инструменты и продовольствие, нужно исследовать все. Нужна специальная
экспедиция. Мы свое дело сделали. Мы стучим молотками. Сколько можем мы
унести на своих плечах? Карманы, сумки, рюкзаки -- все набиваем мы
ляджуаром. Мы берем образцы. В Ленинграде будут жечь их белым пламенем;
ляджуар улучшается в белом пламени, он темнеет, он приближается к цвету
ниили; а ниили не нужно и пробовать, он синее всего на свете. Мы берем
образцы для музеев, для испытания огнем, для славы Шугнана, для зависти
всего мира к СССР. Для промышленности же, для гранильных фабрик ляджуар
возьмут отсюда те, кто придет вслед за нами.
В этот день мы шли, карабкались и ползли ровно двенадцать часов подряд.
К вечеру Ляджуар-Дара и Бадом-Дара разрастались, и мы обходили поверху
высокие мысы. Как обезьяны на ветках, мы перебрасывались от куста к кусту в
цирках осыпей, над каменными воронками в пустоту. А перед тем, спускаясь
другим путем от месторождения ляджуара, гребли, по примеру шугнанцев, крутую
осыпь длинными палками, держа их посредине, как держат двухлопастное весло
байдарки. Мы плыли вниз вместе с потоком камней. Хабаков только силою воли
преодолевал свое полное изнеможение, огрызаясь в ответ на вопросы о его
самочувствии. Но он все-таки двигался, и я уважал в нем самолюбивое это
упорство. И все свои передышки он превосходно использовал: когда мы пришли в
летовку, в его пикетажной тетради был рельеф топографической съемки.
Впрочем, нам он его не показал. А у меня в дневнике еще несколько страниц
были исписаны беглым, неровным почерком.
За три дня моя новая, ни разу не надеванная обувь превратилась в
лоскутья.
Внизу, в Барвозе, заболели Маслов и Юдин -- странное недомогание, жар,
слабость, ломота и головокружение. Оба не спали по ночам, а днем засыпали в
седле. Все мы, и здоровые и больные, глотали хину в непомерных количествах,
потому что заболевание было похоже на малярию, хотя мы знали, что малярии на
Шах-Даре не бывает. Тропическая малярия и "персидский тиф" -- папатач в том
тридцатом году свирепствовали много ниже Хорога, по Пянджу -- в Рушане.
Теперь с этими болезнями и там справилась советская медицина.
В Рошт-Кале, против кооператива, мы расстались с Хувакбеком. Он сказал,
что остается здесь "проводить собрание, говорить разные слова на собрании".
Юдин хотел заплатить ему за сопровождение нас к ляджуару, но Хувак-бек, едва
не обидевшись, наотрез отказался от вознаграждения. "У меня есть партбилет,
и не ради денег я с вами ходил!" -- так перевел Зикрак горячее его
возражение.
С Зикраком мы расстались в Тавдыме, и на следующий день крупной рысью,
оставив позади Маслова с вьючной лошадью, въехали в ворота хорогской
крепости, распахнутые перед нами штыком часового. Он издали радостно
заулыбался, увидев нас. Красный плакат "Добро пожаловать" снова мелькнул
перед нами.
Вавилон и Передняя Азия вывозили ляджуар, считавшийся священным камнем,
в Египет. В эпоху Нового Царства, середины второго тысячелетия до нашей эры,
князьки Передней Азии посылали ляджуар, как лучшую дань, фараону. Мы
отправили ляджуар в Академию наук и в Геолком Ленинграда.
Александр Евгеньевич Ферсман был несказанно обрадован нашей находкой.
Как только не пробовал он, не испытывал образцы! По его приглашению в
Минералогическом обществе я сделал о найденной нами ляпис-лазури доклад.
Написанная Юдиным, Хабаковым и мною научная статья была опубликована в
"Трудах Памирской экспедиции 1930 года".
В следующие годы
1931 год. Снова медленно, шаг за шагом движутся лохматые киргизские
лошади. Снова покачиваются в седлах участники геологической экспедиции:
массивный, дородный, грубоватый Юдин; петрограф Н. С. Каткова; коллекторы В.
Н. Жуков и В. А. Зимин -- простые русские парни; молодой художник Д. С.
Данилов.
Пустыня Маркансу, Пшарт, Аличур, Сарезское озеро, Кумды, Тамды,
Кизыл-Рабат, озеро Зор-Куль и много других восточнопамирских названий.
В ежедневном пути проходят май, июнь, июль...
Через Турумтай-Куль и Кок-бай экспедиция спустилась в долину реки
Шах-Дара и 7 августа вышла из кишлака Барвоз вновь к месторождению ляджуара.
Поднимаются все шестеро постоянных участников экспедиции и шесть
шугнанцевносилыциков. С нами -- мохнатый, тяжело завьюченный як,
которого мы рассчитываем провести к самому месторождению. Все мы придем
и уйдем. Жуков останется там: он принял на себя обязанности производителя
работ по добыче и вывозу ляджуара. На Памире он никогда не бывал. Но человек
он физически крепкий, упорный. Работа на высоте 4 570 метров -- нелегкое
дело, но Жуков -- коммунист, он выдержит и обязанности, взятые на себя,
выполнит!
К месторождению мы поднимались два дня. Яка удалось довести до подножия
отвесной мраморной скалы, -- там, прямо в русле высохшего ручья, была
поставлена палатка.
Я с Даниловым, Зиминым и Жуковым решили подняться на вершину скалы.
Карабкаясь по узкой расселине, обошли скалу с тыла и забрались на ее
вершину. Мы надеялись найти здесь новые точки выходов ляджуара. Но их здесь
не оказалось. Мы спустились к Ляджуар-Даре и снова поднялись вдоль ручья,
туда, где Юдин и прочие поставили палатку. Это было 8 августа.
На следующий день я, как было условлено, отправился один к истокам реки
Ляджуар-Дара: возникшая в прошлом году мысль -- исследовать неведомые
ледники и водораздел главного Шах-Даринского хребта не давала мне покоя. С
этого дня я надолго оторвался от экспедиции. Мои странствия привели меня к
открытию пика высотой в 6 096 метров, который я назвал пиком Маяковского.
Опишу я эти странствия в другом месте.
10 августа все, кроме Жукова и одного носильщика, ушли вниз. А Жуков
остался на месторождении в ожидании рабочих и группы саперов-пограничников,
которых предоставляло экспедиции командование памирского отряда для
прокладки к месторождению вьючной тропы и для помощи в организации вывоза
ляджуара.
Никому неведомое прежде, безлюдное, глухое ущелье Ляджуар-Дары
наполнилось грохотом взрывов, звонким стуком мотыг и ломов, ржаньем
пробирающихся по дикой тропе лошадей, голосами людей, упорно работавших на
отвесных скалах. Десять бойцов-пограничников и сорок рабочих-шугнанцев
принимали участие в этой трудной работе.
Во второй половине августа пять с половиной тонн синего памирского
камня, выбранного из осыпей под отвесною мраморною стеной, были вывезены с
месторождения, с величайшими трудностями доставлены в Хорог.
Жуков выполнил порученную ему работу. Погода испортилась. Дальнейший
вывоз камня пришлось прекратить.
В сентябре, соединившись в Хороге, все участники экспедиции двинулись
караваном вниз по Пянджу -- к Рушану, Ванчу, Кала-и-Хумбу, Сталинабаду.
1932 год.
Пограничники год назад пришли на памирскуьо государственную границу и
накрепко закрыли ее. Кончилось басмачество. Пути на Памир стали безопасными,
мирными и спокойными. От Оша до Хорога прошли первые автомобили... Началось
строительство восточнопамирской автодороги. На Пяндже, на Гунте, на Шах-Даре
дехкане готовились к вступлению в первые колхозы, открывалось все больше
школ.
Памир переставал быть таинственной, заповедной страной. Легенды
уступали место строгим расчетам и точным цифрам. Началась всеобъемлющая,
будничная, плановая работа по превращению Памира в область во всех
отношениях и в подлинном смысле слова советскую. Героический период
маленьких, уходивших как на иную планету экспедиций закончился. Романтика
медленных, дальних странствий сменялась повсеместным торопливым движением,
календарными неумолимыми сроками. На Памир вступили десятки научных отрядов
огромной Таджикской комплексной экспедиции.
Романтическими становились сами дела, их широкие масштабы, их огромное
научное и социально-экономическое значение, их необъятная перспективность.
Восторженный тон моих рассказов о Памире, записей в путевых дневниках
сменялся строгими сжатыми докладами, сообщениями, короткими распоряжениями и
сухими, деловыми заметками.
Обязанности, которые я выполнял теперь в экспедиции, научили меня, как
никогда прежде, ценить время. И в лунные ночи, в палатке, поставленной у
бурлящего ручья, под льдистыми гребнями гор, я размышлял уже не о космосе и
не о драконах, а о том, как согласовать работу ботаников с работой
гидроэнергетиков; работу геохимиков -- с работой гляциологов; и о том, где
взять сегодня фураж для множества лошадей караванов, и о том, как
переправить вьючную радиостанцию за этот вот перевал, и еще о том, как
наладить работу шлиховой лаборатории под обрывом, где ей угрожают обвалы?
Лазурит стал только одной из нескольких сотен "точек", которые
семидесяти двум отрядам экспедиции надо было посетить, осмотреть,
обследовать, изучить. Синий памирский камень никто теперь уже не называл
памирским неведомым словом "ляджуар". Ему были прочно присвоены строго
научные, принятые во всех учебниках минералогии и петрографии названия:
ляпис-лазурь, или лазурит. Второе было короче и проще, а потому и
утвердилось во всех последующих научных трудах.
Среди открытых экспедицией различных крупных месторождений лазурит
теперь был подобен маленькой синей звездочке в небе, сверкающем звездами
первой величины. Но и эта крошечная звездочка не была забыта. Для полного
изучения ее в составе экспедиции был сформирован маленький лазуритовый
отряд. Но в том 1932 году лазуриту не повезло. Сотни прекрасных,
добросовестных научных специалистов ехали на Памир. Но бывают же
несчастливые исключения: начальником лазуритового отряда был человек,
оказавшийся позже проходимцем и жуликом. Я не стесняюсь назвать так этого
недостойного человека и не скрываю его фамилии. Его фамилия -- Левит.
Любезнейший и скользкий в отношениях, этот юркий человек разговаривал о
науке так, словно она его осеняла свыше, и при этом, вероятно, думал, что
взять синий памирский камень так же легко, как бриллиант из витрины музея,
стоит только протянуть руку. Позже выяснилось, что, получая образцы внизу, в
долинном экспедиционном лагере, он вообще не побывал на месторождении,
испугавшись ли трудностей или занявшись другими корыстными делами. По
окончании экспедиции, спасаясь от ответственности, он попросту куда-то
сбежал. Это еще раз говорит о том, как важно выбирать в состав экспедиции
только людей выверенных, всесторонне испытанных, опытных и главное --
бескорыстных, чуждых авантюризму.
К месторождению лазурита отправились несколько других серьезных и
опытных участников экспедиции, -- по пути, который теперь уже можно было
считать торным.
Побывал на месторождении и известный, авторитетный геолог В. А.
Николаев. В своей отчетной статье "Петрология Памира" он сделал печальное
заключение:
"Посещенное мною месторождение ляпис-лазури на р. Ляджуар-Дара в той
части его, которая является относительно доступной, именно в осыпи, --
промышленного значения не имеет. Коренные выходы остались неисследованными,
так как залегают в почти отвесном обрыве мраморов... "
Но о том, что из осыпи вывезено пять с половиной тонн лучших камней,
он, очевидно, не знал. По вине все того же Левита, который, имея все данные
о месторождении у себя, ни с кем ими не поделился, авторитетный ученый В. А.
Николаев был введен в заблуждение бедностью осмотренной им осыпи, -- как
гласит памирская поговорка, он "судил о вкусе плова по облизанному котлу",
-- и, конечно, иного заключения в тех обстоятельствах, он и не мог бы
вывести.
О работах 1931 года, о проложенной к лазуриту тропе, о вывозе от
месторождения камня не знал, очевидно, и другой добросовестнейший,
облазавший все горы Юго-Западного Памира геолог С. И. Клунников, который
посетил месторождение в 1934 году. Не знал, судя по тому, что в своей
(написанной совместно с А. И. Поповым) очень содержательной книге
"Метаморфические толщи Юго-Западного Памира", говорит:
".. по той дороге, которая описана как весьма трудная пешая, нам в 1934
году удалось провести лошадей к самому подножию месторождения".
И в другом месте своей работы, описывая скалу, в которой было в 1930
году обнаружено месторождение, он говорит, что юго-западный фас ее
"совершенно недоступен, хотя к его подножию довольно легко можно провести
лошадей".
Но провести лошадей ему удалось именно потому, что в 1931 году к
месторождению была проложена тропа.
Не знал, -- еще и потому что пишет далее:
"Никаких признаков ведения горных работ на месторождении нет; однако в
осыпи, с новой точки, под одним крупным обломком обнаружены сложенные в одно
место обломки лазурита По всей вероятности, эти обломки были собраны
какимлибо пастухом или охотником... "
Нет! Они были собраны в 1931 году Жуковым и его рабочими; испортившаяся
на этой огромной высоте погода, вьюги и лавины не позволили Жукову вывезти
все, что было им заготовлено!
Но С. И. Клунников, человек с сильной волей, мужественный,
бескорыстный, влюбленный в свое дело геолога, не побоявшись оставаться на
почти пятикилометровой высоте столько времени, сколько нужно было для
приобретения полной ясности, -- подробнейше исследовал месторождение.
Клунников и его спутник А. И. Попов облазали все склоны вокруг.
Составили детальную геологическую карту района месторождения. "Максимальные
высоты, -- пишут они, -- здесь достигают свыше 6 000 м. Эта расчлененность
рельефа обуславливает существование труднодоступных скальных участков. Одним
из таких участков является мраморный массив, в котором находится
месторождение".
Клунников и Попов применили в дело взрывчатку. И их усилия оправдались.
"Нам, -- пишут они, -- в совместной работе в 1934 году удалось найти
новую точку лазурита в том же массиве мраморов и добраться до коренного
выхода".
И еще:
"В дальнейшем выходы лазурита были прослежены по осыпям и к северу от
ранее известной точки. Таким образом, лазурит прослеживается по простиранию
на расстоянии около 1 000 м и на 10--15 м по падению. Наличие ряда мелких
разрезов гнезд лазурита заставляет предполагать возможность нахождения новых
гнезд".
Клунников и Попов описывают все сорта лазурита -- от зеленоватого до
темносинего. Делая вывод о ценности открыгого в 1930 году месторождения,
признавая, что "точного
опробования с целью выяснения количества каждого сорта лазурита
произвести не представлялось возможным", они тем не менее подсчитывают, что
"запасы темноокрашенного лазурита достигают, повидимому, свыше 30 тонн, а
общее количество лазурита синих оттенков достигает 150 тонн... ".
Так, С. И. Клунниковым и А. И. Поповым была вновь подтверждена
пошатнувшаяся было слава легендарного синего памирского камня.
После С. И. Клунникова, насколько мне известно, несколько лет
месторождения не посещал никто. К работам на месторождении готовилась
крупная экспедиция. Но началась Великая Отечественная война. Мой друг Сергей
Иванович Клунников добровольно пошел на фронт. Он погиб смертью героя при
форсировании Днепра. Все, кто знал этого отличного знатока Юго-Западного
Памира, все, кто любил его -- энергичного, всегда загорелого здоровяка,
хорошего товарища, талантливого, неустрашимого и неутомимого человека, до
сих пор без горечи и грусти не могут говорить об его утрате. Но он отдал
свою жизнь за Родину -- честь и вечная память ему!
Кончилась война. На Памире совершены новые великие социалистические
дела. Но те геологи, кто двадцать лет назад поднимался к месторождению, по
своему возрасту уже не могут подниматься на памирские пятитысячные высоты,
-- они работают в других местах. В 1952 году вновь побывал в Шугнане и я.
Директор Памирского ботанического сада А. В. Гурский, сидя за рулем своей
дряхлой полуторки, возил меня по Шах-Даре, показывая колхозные сады,
возникшие при помощи возглавляемого им коллектива. Я видел издали те же,
вставшие словно из забытого сновидения, ледяные хребты. Но если нормальный
пульс молодого, здорового человека на тех высотах равняется ста двадцати --
ста тридцати ударам в минуту, то мне теперь подняться на главные
водораздельные гребни сердце уже не позволило. Дело теперь за молодыми
исследователями и прежде всего за самими памирцами, за бадахшанцами.
Около тысячи памирцев за последние пять лет отправились из школ Памира
учиться в высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда, Ташкента,
Сталинабада. Многие из них скоро станут горными инженерами, геологами,
геофизиками, геохимиками. Вооруженные не легендами своих отцов и дедов, а
точными знаниями и великолепными приборами, выйдут шахдаринцы, горанцы и
ишкашимцы из родных кишлаков на гигантские горные хребты, высящиеся над их
цветущими ныне долинами.
И переберут пожелтевшие листки научных отчетов и дневников их
предшественников. И прочтут в них полузабытые путеводные указания.
Перечитают отчет русского путешественника, побывавшего в 1928 году в
Бадахшане, и найдут там такие строки:
"По сведениям от жителей Западного Памира, лазурит, хотя и очень редко,
встречался ими в выносах речки ДарайЗарев, северо-восточнее поста Ишкашим.
Мои поиски лазурита в долине этой речки оказались безрезультатными, но если
провести линию от копей лазурита в Бадахшане (афганском. -- П. Л. )
параллельно хр. Гиндукуш к СВ, то нахождение лазурита в районе Ишкашима
вполне вероятно и соответствует общей схеме распределения пород и минералов
в Бадахшане и Западном Памире... "
А в трудах Клунникова найдут и другие строки:
"Помимо Ляджвар-Даринской (Шах-Даринской) группы выходов лазурита,
новых месторождений его обнаружить не удалось, но, по словам местных
жителей, в сае, впадающем в р. Пяндж, у кишлака Рын, имеется лазурит. У
одного таджика был куплен кусок лазурита якобы оттуда. Ввиду того, что
лазурит этот резко отличается как от афганского, так и от шах-даринского,
является правдоподобным, что здесь мы действительно имеем дело с новым
месторождением. Проверить это, однако, не удалось из-за раннего снегопада".
Не сомневаюсь: много есть на Памире еще не открытых месторождений
синего камня, кроме того, что открыто нами.
"А что еще скрыто в недоступных нам горных хребтах Памира?" -- вопрошал
лучший знаток камней академик А. Е. Ферсман в своей книге "Воспоминания о
камне".
И если те молодые люди, памирцы, о которых я говорю, окажутся такими же
неутомимыми, любознательными и любящими самоцветные камни, как учитель всех
советских минералогов академик А. Е. Ферсман, то они захотят вновь
исследовать засыпанные древние "рубиновые копи" КугиЛяля, ущелья Ямчина и
Ямга в поисках благородной шпинели, захотят изучить те гранаты, от которых
даже отмели по Шах-Даре становятся красноватыми, и малахиты у кишлака
Сендив, и халцедон неподалеку от Шаргина, и множество других минеральных
образований, что встречаются в гнейсах и в мраморах, в обрывах и на отвесных
скатах грандиозных западнопамирских круч. И уже не возникнут теперь
опасения, что стоимость вывоза окажется слишком высокой, -- вдоль всех
главных рек Памира теперь ходят автомобили и лишь восемьдесят минут летит
пассажирский самолет в Сталинабад из Хорога. |
Нет сомнения: не одни только фрукты, пшеница и коконы шелковичных
червей принесут богатство Шугнану и Ишкашиму. Синий памирский камень и много
других ценнейших камней ждут энергичных советских людей, чтоб обогатить их
искусство и поднять славу его выше памирских гор!
А таджикские писатели и поэты, из которых в Шугнане, Ишкашиме, на
Восточном Памире, кроме родившегося на Шах-Даре Миршакара, до сих пор не
побывал ни один (да простится мне этот упрек!), создадут реалистические
романы и поэмы о легендарном синем памирском камне и о молодых таджиках --
петрографах и минералогах!
"Вот лазурит -- то яркосиний, горящий тем синим огнем, который... жжет
глаза, то бледноголубоватый камень, с нежностью тона, почти доходящей до
бирюзы, то сплошной однородной синей окраски, то с красивым узором сизых или
белых пятен, переплетающихся и мягко сплетающихся в пестрый и разнообразный
узор.
Мы знаем камни из Афганистана, из почти недоступных заоблачных высот
Памира то с многочисленными точками золотистого колчедана, которые рассеяны,
подобно звездам на темном фоне южного неба, то с белым узором пятен и жилок;
мы знаем в камнях с отрогов Саян, близ берегов Байкала все окраски от
темнозеленого до густомалинового, и еще со времени арабов нам известно, что
путем нагревания на огне эти цвета можно перевести в темносиний. "Настоящий
драгоценный лазурит только тот, который десять дней может пробыть в огне, не
теряя своего цвета", -- говорят нам армянские рукописи XVII века".
В таких поэтических выражениях -- перед витриной музея -- способен был
говорить о камне геолог, географ, геохимик Александр Евгеньевич Ферсман. У
него следует нам учиться находить истинное наслаждение в красоте камней.
Всему советскому народу доступно ныне это прекрасное наслаждение!
... Над мирной, спокойной Невой -- величественное здание Эрмитажа.
Среди залов, наполненных мировыми сокровищами, нас привлекает тот, вся стена
которого занята огромной картой СССР, сделанной из самоцветных камней.
Эта мозаичная, драгоценная карта побывала на выставке в Париже, потом
совершила путь через океан, была выставлена в Нью-Йорке, а когда вернулась в
Советский Союз, то ей было отведено почетное место в Эрмитаже.
После победной Отечественной войны, когда линия границ нашей страны
изменилась, эту карту необходимо было переделать. Карта была разобрана.
Нужно было установить новые границы СССР; нужно было переставить все
рубиновые красные звезды, обозначавшие прежде промышленные объекты и
стройки, а отныне призванные обозначать города (так как раньше это была
"карта индустриализации СССР", а теперь она становилась административной).
Камнерезчики -- ученики 24-го ремесленного училища, расположенного
неподалеку от Эрмитажа, эту трудную и искусную работу превосходно проделали.
Карта была выставлена в Эрмитаже на постоянное обозрение.
Снова вернувшись из путешествия на Памир, я смотрю на эту карту с
волнением. Все моря, озера и реки -- синие и голубые, сделаны из того синего
памирского камня, из лазурита, из ляджуара, который был вывезен с открытого
нами месторождения.
Скоро, очень скоро карту придется опять переделывать, понадобятся новые
куски драгоценного ляджуара: Волго-Дон уже выстроен, в близком будущем будут
закончены другие великие стройки; синие полосы гигантских каналов нужно
будет протянуть и на этой карте.
И я мечтаю о том, чтоб одна из новых московских или ленинградских
станций метро была облицована памирской ляпис-лазурью, так же как некогда по
замыслу знаменитого архитектора Камерона был облицован сибирским и афганским
лазуритом Лионский зал Царскосельского дворца. Это великолепное произведение
искусства, варварски уничтоженное разгромившими город Пушкин фашистскими
захватчиками, может быть превзойдено только в нашей социалистической стране,
в которой советский народ щедрой и талантливою рукой создает для себя
невиданные художественные ценности.
Синий памирский камень достоин того, чтоб украшать им все великие
творения нашего искусства; Горы сурового Памира склонят свои седые главы
перед великим советским нарадом, даря ему свои необычайные богатства!
Путь экспедиции 1930 года к месторождению лазурита.
Реки Вадом-Дара и Ляджуар-Дара нанесены по глазомерной съемке А. В.
Хабакова. Вся остальная местность показана так, как она изображалась на
картах до исследований автора книги в тридцатых годах.
Ляджуар!
Мы нашли ляджуар!
Я бегу, я прыгаю с камня на камень, я не разбираю провалов и темных
колодцев между холодными глыбами. Ляджуар! Вот он: вот она подо мной, синяя
жила, я опускаюсь на камень, касаюсь жилы руками, -- я еще не верю в нее, --
я оглаживаю ее ладонями, я вволю дышу. Дышит Юдин, дышат шугнанцы. Хорошо!..
Здесь надо уметь дышать.
Синяя жила толще моей руки. Глыба, которую прорезает она, больше серого
носа линкора. Кругом такие же -- серые, черные, белые. Безразличная,
какая-то чопорная тень тяжелит эти глыбы.
Усталости нет, усталость сразу прошла. И такой здесь холод, что
невозможно не двигаться. Я поднимаю осколок ляджуара -- величиной с
человечью голову. Я бросаю его: вон другой -- больше и лучше. Мы лазаем по
глыбам, мы расползлись, сейчас мы просто любуемся и торжествуем. Все эти
глыбы сорвались оттуда -- сверху, с мраморной этой стены. Стена недоступна.
Легенда права.
А где Хабаков? Нет Хабакова. Мы забыли о нем. Сразу встревожившись,
ждем. Зовем его, кличем... Никакого ответа. Юдин посылает за ним вниз
Пазора. Пазор уходит, и мы слыжим его затихающий голос:
-- Кабахо!.. Кабахо!.. Ка-а-ба-хо!
Бледный, потный, до крайности утомленный, наконец, появляется Хабаков.
Что с вами?
Понимаете... вот тут... уже совсем близко, вдруг сердце отказывается
работать...
Понимаем, очень хорошо понимаем. Называется это -- тутэк. Роговые очки
запотели, волосы взмокли, слиплись, гребнем загибаются под затылком у
воротника свитера. Штаны -- в клочьях. Хабаков похож на солдата, вышедшего
из самой гущи смертельного боя. Он ожесточен. Ему нужно прежде всего
отдышаться, тогда он посмотрит на себя, оправит ремень, оботрет лицо от
разводов грязи и пота... Впрочем, мы и сами с виду не лучше.
С мраморной стены, сверху, падают камни. Здесь небезопасно стоять.
И неожиданно -- грохот, многопушечный грохот. Замираем: где? что это?
-- и разом оглядываемся. Это не здесь... Не вверху... Это далеко... Грохот
ширится и растет: на противоположной горе -- грандиозный снежный обвал,
видим его от возникновения до конца. Оседает белая громада горы, оседает,
скользит и летит вниз со стремительной пьяною быстротой, а внизу,
рассыпавшись, взрывается белым, огромнейшим белым облаком, -- и удар
сотрясает почву, тяжкий гром дрожит, перекатываясь десятками эхо, облако
снега клубится и медленно распадается, оседая, как дымовая завеса. Зрелище
великолепно. Обвал расколыхал спокойствие гор, раздражил равновесие скал, и
через минуту, словно заразившись грохотом, по соседству, через висячий
ледник, -- второй обвал, значительно меньший. А во мне вдруг ощущение
одиночества и затерянности. Как далеко мы от всего на свете живого!
Анероид показывал 4 570 метров. На Восточном Памире мы бывали на
больших высотах, но ощущение высоты там скрадывали пологие перевалы.
Вокруг нас, как пули, ложились осколки камней, падающих с холодной
отвесной стены. Мы стояли на больших, остро расколотых глыбах, сорвавшихся
оттуда, быть может, вчера.
Ниили -- самый дорогой и красивый, цвета индиго; асмани --
светлоголубой и суфси -- низший сорт, зеленоватого цвета. Так разделяют
афганцы ляджуар в тех, считающихся собственностью падишаха копях. А здесь?
Все три сорта. Вот он -- ниили, в белоснежных извивах мрамора, в
крупнокристаллическом сахаре отвесной скалы, поднимающийся над нами на сто
двадцать метров. Синие гнезда, прожилки, жеоды -- словно синяя кровь
забрызгала эту беломраморную гигантскую стену. А вот -- бутылочно-зеленая
шпинель в кварцево-слюдистых жилах, словно выплески зеленых глубин
Каспийского моря. Вот в осыпях, под скалою, обломки ляджуара в три пуда, в
четыре, в пять. Здесь, там, всюду, куда ни посмотришь! Сколько всего? Не
знаю. Много. Это здесь, в осыпях, сорвавшегося со скалы. А сколько его там,
в скале? А сколько его в тех же породах по всей округе? Не знаю, не знаю,
это сейчас невозможно узнать!
Мы смотрим вокруг, вниз, туда, откуда пришли. Мы стараемся разобраться
в геологии. Мраморы -- массивны. Под ними -- темносерые, биотитовые гнейсы,
очень похожие на те, которые встречались нам на Бадом-Даре, когда мы
поднимались сюда. Среди мраморов -- пятна рыжевато-бурых, охристых,
содержащих железистые соединения прослоек. Вся ЛяджуарДара, вся Бадом-Дара
рассекают почти отвесные скалы и обрывы, состоящие из той, о которой я
размышлял в Хороге, -- гнейсово-сланцево-мраморной свиты.
Высота отвесных берегов над Ляджуар-Дарой и Бадом-Дарой грандиозна:
шестьсот-семьсот метров, местами почти до километра! А острые зубчатые
гребни хребтов с прилепившимися к ним висячими ледниками много выше. Что за
горы на юг? Там, на ослепительных фирновых склонах, на ледниках, никто
никогда не бывал. Шугнанцы, наши спутники, говорят: "Там нет пути человеку!"
А у меня внезапно желание проникнуть туда. Разгадать эти исполинские
горы, нанести их на карту, узнать, что находится за этими вот зубчатыми
водораздельными гребнями? Какие ледники? Какие реки?
-- Отсюда никто никогда не ходил туда! -- упрямо повторяет Карашир. --
На Пяндж ходили кругом!
Я и сам отлично знаю, что там дальше, за этими горами, -- Пяндж, к
которому легко и просто пройти, вернувшись в Хорог. Путь обратно в Хорог --
одна сторона треугольника. Путь из Хорога вверх по Пянджу -- вторая сторона
треугольника. А третья сторона -- вот эта линия отсюда, сквозь все эти горы,
-- прямо на юг. Что встретится географу, геологу, картографу на этой
неведомой линии?
А что, если отделиться от всей нашей группы и заняться самостоятельными
исследованиями?
В другом очерке я расскажу, куда привела меня эта мысль.
А сейчас...
Зикрак очень внимательно смотрит на фирновый склон по ту сторону
Ляджуар-Дары. Внезапно оборачивается к нам, указывает на снега рукой и очень
торжественно рассказывает: когда он был юношей, старик Наджав из Барвоза,
доживший до ста двадцати лет, ослепший, а теперь уже давно умерший, сообщил
ему, что ляджуар есть вот там, по хребту правого берега Ляджуар-Дары.
-- Да, -- вдруг подтверждает он. -- Мой отец, НазарМамат...
И мы слушаем рассказ о том, как Назар-Мамат однажды в жизни ходил туда,
и нашел там ляджуар, и принес синий
камень в Барвоз. Потом, когда он ходил сюда с Караширом, он искал и то
место, но весь склон оказался под рухнувшими сверху снегами. С тех пор как
Назар-Мамат умер, никто вверх по Ляджуар-Даре не ходил.
Что нужно сделать, чтоб определить ценность открытого нами
месторождения? Нужно провести здесь месяц-два; нужно поднять сюда
инструменты и продовольствие, нужно исследовать все. Нужна специальная
экспедиция. Мы свое дело сделали. Мы стучим молотками. Сколько можем мы
унести на своих плечах? Карманы, сумки, рюкзаки -- все набиваем мы
ляджуаром. Мы берем образцы. В Ленинграде будут жечь их белым пламенем;
ляджуар улучшается в белом пламени, он темнеет, он приближается к цвету
ниили; а ниили не нужно и пробовать, он синее всего на свете. Мы берем
образцы для музеев, для испытания огнем, для славы Шугнана, для зависти
всего мира к СССР. Для промышленности же, для гранильных фабрик ляджуар
возьмут отсюда те, кто придет вслед за нами.
В этот день мы шли, карабкались и ползли ровно двенадцать часов подряд.
К вечеру Ляджуар-Дара и Бадом-Дара разрастались, и мы обходили поверху
высокие мысы. Как обезьяны на ветках, мы перебрасывались от куста к кусту в
цирках осыпей, над каменными воронками в пустоту. А перед тем, спускаясь
другим путем от месторождения ляджуара, гребли, по примеру шугнанцев, крутую
осыпь длинными палками, держа их посредине, как держат двухлопастное весло
байдарки. Мы плыли вниз вместе с потоком камней. Хабаков только силою воли
преодолевал свое полное изнеможение, огрызаясь в ответ на вопросы о его
самочувствии. Но он все-таки двигался, и я уважал в нем самолюбивое это
упорство. И все свои передышки он превосходно использовал: когда мы пришли в
летовку, в его пикетажной тетради был рельеф топографической съемки.
Впрочем, нам он его не показал. А у меня в дневнике еще несколько страниц
были исписаны беглым, неровным почерком.
За три дня моя новая, ни разу не надеванная обувь превратилась в
лоскутья.
Внизу, в Барвозе, заболели Маслов и Юдин -- странное недомогание, жар,
слабость, ломота и головокружение. Оба не спали по ночам, а днем засыпали в
седле. Все мы, и здоровые и больные, глотали хину в непомерных количествах,
потому что заболевание было похоже на малярию, хотя мы знали, что малярии на
Шах-Даре не бывает. Тропическая малярия и "персидский тиф" -- папатач в том
тридцатом году свирепствовали много ниже Хорога, по Пянджу -- в Рушане.
Теперь с этими болезнями и там справилась советская медицина.
В Рошт-Кале, против кооператива, мы расстались с Хувакбеком. Он сказал,
что остается здесь "проводить собрание, говорить разные слова на собрании".
Юдин хотел заплатить ему за сопровождение нас к ляджуару, но Хувак-бек, едва
не обидевшись, наотрез отказался от вознаграждения. "У меня есть партбилет,
и не ради денег я с вами ходил!" -- так перевел Зикрак горячее его
возражение.
С Зикраком мы расстались в Тавдыме, и на следующий день крупной рысью,
оставив позади Маслова с вьючной лошадью, въехали в ворота хорогской
крепости, распахнутые перед нами штыком часового. Он издали радостно
заулыбался, увидев нас. Красный плакат "Добро пожаловать" снова мелькнул
перед нами.
Вавилон и Передняя Азия вывозили ляджуар, считавшийся священным камнем,
в Египет. В эпоху Нового Царства, середины второго тысячелетия до нашей эры,
князьки Передней Азии посылали ляджуар, как лучшую дань, фараону. Мы
отправили ляджуар в Академию наук и в Геолком Ленинграда.
Александр Евгеньевич Ферсман был несказанно обрадован нашей находкой.
Как только не пробовал он, не испытывал образцы! По его приглашению в
Минералогическом обществе я сделал о найденной нами ляпис-лазури доклад.
Написанная Юдиным, Хабаковым и мною научная статья была опубликована в
"Трудах Памирской экспедиции 1930 года".
В следующие годы
1931 год. Снова медленно, шаг за шагом движутся лохматые киргизские
лошади. Снова покачиваются в седлах участники геологической экспедиции:
массивный, дородный, грубоватый Юдин; петрограф Н. С. Каткова; коллекторы В.
Н. Жуков и В. А. Зимин -- простые русские парни; молодой художник Д. С.
Данилов.
Пустыня Маркансу, Пшарт, Аличур, Сарезское озеро, Кумды, Тамды,
Кизыл-Рабат, озеро Зор-Куль и много других восточнопамирских названий.
В ежедневном пути проходят май, июнь, июль...
Через Турумтай-Куль и Кок-бай экспедиция спустилась в долину реки
Шах-Дара и 7 августа вышла из кишлака Барвоз вновь к месторождению ляджуара.
Поднимаются все шестеро постоянных участников экспедиции и шесть
шугнанцевносилыциков. С нами -- мохнатый, тяжело завьюченный як,
которого мы рассчитываем провести к самому месторождению. Все мы придем
и уйдем. Жуков останется там: он принял на себя обязанности производителя
работ по добыче и вывозу ляджуара. На Памире он никогда не бывал. Но человек
он физически крепкий, упорный. Работа на высоте 4 570 метров -- нелегкое
дело, но Жуков -- коммунист, он выдержит и обязанности, взятые на себя,
выполнит!
К месторождению мы поднимались два дня. Яка удалось довести до подножия
отвесной мраморной скалы, -- там, прямо в русле высохшего ручья, была
поставлена палатка.
Я с Даниловым, Зиминым и Жуковым решили подняться на вершину скалы.
Карабкаясь по узкой расселине, обошли скалу с тыла и забрались на ее
вершину. Мы надеялись найти здесь новые точки выходов ляджуара. Но их здесь
не оказалось. Мы спустились к Ляджуар-Даре и снова поднялись вдоль ручья,
туда, где Юдин и прочие поставили палатку. Это было 8 августа.
На следующий день я, как было условлено, отправился один к истокам реки
Ляджуар-Дара: возникшая в прошлом году мысль -- исследовать неведомые
ледники и водораздел главного Шах-Даринского хребта не давала мне покоя. С
этого дня я надолго оторвался от экспедиции. Мои странствия привели меня к
открытию пика высотой в 6 096 метров, который я назвал пиком Маяковского.
Опишу я эти странствия в другом месте.
10 августа все, кроме Жукова и одного носильщика, ушли вниз. А Жуков
остался на месторождении в ожидании рабочих и группы саперов-пограничников,
которых предоставляло экспедиции командование памирского отряда для
прокладки к месторождению вьючной тропы и для помощи в организации вывоза
ляджуара.
Никому неведомое прежде, безлюдное, глухое ущелье Ляджуар-Дары
наполнилось грохотом взрывов, звонким стуком мотыг и ломов, ржаньем
пробирающихся по дикой тропе лошадей, голосами людей, упорно работавших на
отвесных скалах. Десять бойцов-пограничников и сорок рабочих-шугнанцев
принимали участие в этой трудной работе.
Во второй половине августа пять с половиной тонн синего памирского
камня, выбранного из осыпей под отвесною мраморною стеной, были вывезены с
месторождения, с величайшими трудностями доставлены в Хорог.
Жуков выполнил порученную ему работу. Погода испортилась. Дальнейший
вывоз камня пришлось прекратить.
В сентябре, соединившись в Хороге, все участники экспедиции двинулись
караваном вниз по Пянджу -- к Рушану, Ванчу, Кала-и-Хумбу, Сталинабаду.
1932 год.
Пограничники год назад пришли на памирскуьо государственную границу и
накрепко закрыли ее. Кончилось басмачество. Пути на Памир стали безопасными,
мирными и спокойными. От Оша до Хорога прошли первые автомобили... Началось
строительство восточнопамирской автодороги. На Пяндже, на Гунте, на Шах-Даре
дехкане готовились к вступлению в первые колхозы, открывалось все больше
школ.
Памир переставал быть таинственной, заповедной страной. Легенды
уступали место строгим расчетам и точным цифрам. Началась всеобъемлющая,
будничная, плановая работа по превращению Памира в область во всех
отношениях и в подлинном смысле слова советскую. Героический период
маленьких, уходивших как на иную планету экспедиций закончился. Романтика
медленных, дальних странствий сменялась повсеместным торопливым движением,
календарными неумолимыми сроками. На Памир вступили десятки научных отрядов
огромной Таджикской комплексной экспедиции.
Романтическими становились сами дела, их широкие масштабы, их огромное
научное и социально-экономическое значение, их необъятная перспективность.
Восторженный тон моих рассказов о Памире, записей в путевых дневниках
сменялся строгими сжатыми докладами, сообщениями, короткими распоряжениями и
сухими, деловыми заметками.
Обязанности, которые я выполнял теперь в экспедиции, научили меня, как
никогда прежде, ценить время. И в лунные ночи, в палатке, поставленной у
бурлящего ручья, под льдистыми гребнями гор, я размышлял уже не о космосе и
не о драконах, а о том, как согласовать работу ботаников с работой
гидроэнергетиков; работу геохимиков -- с работой гляциологов; и о том, где
взять сегодня фураж для множества лошадей караванов, и о том, как
переправить вьючную радиостанцию за этот вот перевал, и еще о том, как
наладить работу шлиховой лаборатории под обрывом, где ей угрожают обвалы?
Лазурит стал только одной из нескольких сотен "точек", которые
семидесяти двум отрядам экспедиции надо было посетить, осмотреть,
обследовать, изучить. Синий памирский камень никто теперь уже не называл
памирским неведомым словом "ляджуар". Ему были прочно присвоены строго
научные, принятые во всех учебниках минералогии и петрографии названия:
ляпис-лазурь, или лазурит. Второе было короче и проще, а потому и
утвердилось во всех последующих научных трудах.
Среди открытых экспедицией различных крупных месторождений лазурит
теперь был подобен маленькой синей звездочке в небе, сверкающем звездами
первой величины. Но и эта крошечная звездочка не была забыта. Для полного
изучения ее в составе экспедиции был сформирован маленький лазуритовый
отряд. Но в том 1932 году лазуриту не повезло. Сотни прекрасных,
добросовестных научных специалистов ехали на Памир. Но бывают же
несчастливые исключения: начальником лазуритового отряда был человек,
оказавшийся позже проходимцем и жуликом. Я не стесняюсь назвать так этого
недостойного человека и не скрываю его фамилии. Его фамилия -- Левит.
Любезнейший и скользкий в отношениях, этот юркий человек разговаривал о
науке так, словно она его осеняла свыше, и при этом, вероятно, думал, что
взять синий памирский камень так же легко, как бриллиант из витрины музея,
стоит только протянуть руку. Позже выяснилось, что, получая образцы внизу, в
долинном экспедиционном лагере, он вообще не побывал на месторождении,
испугавшись ли трудностей или занявшись другими корыстными делами. По
окончании экспедиции, спасаясь от ответственности, он попросту куда-то
сбежал. Это еще раз говорит о том, как важно выбирать в состав экспедиции
только людей выверенных, всесторонне испытанных, опытных и главное --
бескорыстных, чуждых авантюризму.
К месторождению лазурита отправились несколько других серьезных и
опытных участников экспедиции, -- по пути, который теперь уже можно было
считать торным.
Побывал на месторождении и известный, авторитетный геолог В. А.
Николаев. В своей отчетной статье "Петрология Памира" он сделал печальное
заключение:
"Посещенное мною месторождение ляпис-лазури на р. Ляджуар-Дара в той
части его, которая является относительно доступной, именно в осыпи, --
промышленного значения не имеет. Коренные выходы остались неисследованными,
так как залегают в почти отвесном обрыве мраморов... "
Но о том, что из осыпи вывезено пять с половиной тонн лучших камней,
он, очевидно, не знал. По вине все того же Левита, который, имея все данные
о месторождении у себя, ни с кем ими не поделился, авторитетный ученый В. А.
Николаев был введен в заблуждение бедностью осмотренной им осыпи, -- как
гласит памирская поговорка, он "судил о вкусе плова по облизанному котлу",
-- и, конечно, иного заключения в тех обстоятельствах, он и не мог бы
вывести.
О работах 1931 года, о проложенной к лазуриту тропе, о вывозе от
месторождения камня не знал, очевидно, и другой добросовестнейший,
облазавший все горы Юго-Западного Памира геолог С. И. Клунников, который
посетил месторождение в 1934 году. Не знал, судя по тому, что в своей
(написанной совместно с А. И. Поповым) очень содержательной книге
"Метаморфические толщи Юго-Западного Памира", говорит:
".. по той дороге, которая описана как весьма трудная пешая, нам в 1934
году удалось провести лошадей к самому подножию месторождения".
И в другом месте своей работы, описывая скалу, в которой было в 1930
году обнаружено месторождение, он говорит, что юго-западный фас ее
"совершенно недоступен, хотя к его подножию довольно легко можно провести
лошадей".
Но провести лошадей ему удалось именно потому, что в 1931 году к
месторождению была проложена тропа.
Не знал, -- еще и потому что пишет далее:
"Никаких признаков ведения горных работ на месторождении нет; однако в
осыпи, с новой точки, под одним крупным обломком обнаружены сложенные в одно
место обломки лазурита По всей вероятности, эти обломки были собраны
какимлибо пастухом или охотником... "
Нет! Они были собраны в 1931 году Жуковым и его рабочими; испортившаяся
на этой огромной высоте погода, вьюги и лавины не позволили Жукову вывезти
все, что было им заготовлено!
Но С. И. Клунников, человек с сильной волей, мужественный,
бескорыстный, влюбленный в свое дело геолога, не побоявшись оставаться на
почти пятикилометровой высоте столько времени, сколько нужно было для
приобретения полной ясности, -- подробнейше исследовал месторождение.
Клунников и его спутник А. И. Попов облазали все склоны вокруг.
Составили детальную геологическую карту района месторождения. "Максимальные
высоты, -- пишут они, -- здесь достигают свыше 6 000 м. Эта расчлененность
рельефа обуславливает существование труднодоступных скальных участков. Одним
из таких участков является мраморный массив, в котором находится
месторождение".
Клунников и Попов применили в дело взрывчатку. И их усилия оправдались.
"Нам, -- пишут они, -- в совместной работе в 1934 году удалось найти
новую точку лазурита в том же массиве мраморов и добраться до коренного
выхода".
И еще:
"В дальнейшем выходы лазурита были прослежены по осыпям и к северу от
ранее известной точки. Таким образом, лазурит прослеживается по простиранию
на расстоянии около 1 000 м и на 10--15 м по падению. Наличие ряда мелких
разрезов гнезд лазурита заставляет предполагать возможность нахождения новых
гнезд".
Клунников и Попов описывают все сорта лазурита -- от зеленоватого до
темносинего. Делая вывод о ценности открыгого в 1930 году месторождения,
признавая, что "точного
опробования с целью выяснения количества каждого сорта лазурита
произвести не представлялось возможным", они тем не менее подсчитывают, что
"запасы темноокрашенного лазурита достигают, повидимому, свыше 30 тонн, а
общее количество лазурита синих оттенков достигает 150 тонн... ".
Так, С. И. Клунниковым и А. И. Поповым была вновь подтверждена
пошатнувшаяся было слава легендарного синего памирского камня.
После С. И. Клунникова, насколько мне известно, несколько лет
месторождения не посещал никто. К работам на месторождении готовилась
крупная экспедиция. Но началась Великая Отечественная война. Мой друг Сергей
Иванович Клунников добровольно пошел на фронт. Он погиб смертью героя при
форсировании Днепра. Все, кто знал этого отличного знатока Юго-Западного
Памира, все, кто любил его -- энергичного, всегда загорелого здоровяка,
хорошего товарища, талантливого, неустрашимого и неутомимого человека, до
сих пор без горечи и грусти не могут говорить об его утрате. Но он отдал
свою жизнь за Родину -- честь и вечная память ему!
Кончилась война. На Памире совершены новые великие социалистические
дела. Но те геологи, кто двадцать лет назад поднимался к месторождению, по
своему возрасту уже не могут подниматься на памирские пятитысячные высоты,
-- они работают в других местах. В 1952 году вновь побывал в Шугнане и я.
Директор Памирского ботанического сада А. В. Гурский, сидя за рулем своей
дряхлой полуторки, возил меня по Шах-Даре, показывая колхозные сады,
возникшие при помощи возглавляемого им коллектива. Я видел издали те же,
вставшие словно из забытого сновидения, ледяные хребты. Но если нормальный
пульс молодого, здорового человека на тех высотах равняется ста двадцати --
ста тридцати ударам в минуту, то мне теперь подняться на главные
водораздельные гребни сердце уже не позволило. Дело теперь за молодыми
исследователями и прежде всего за самими памирцами, за бадахшанцами.
Около тысячи памирцев за последние пять лет отправились из школ Памира
учиться в высшие учебные заведения Москвы, Ленинграда, Ташкента,
Сталинабада. Многие из них скоро станут горными инженерами, геологами,
геофизиками, геохимиками. Вооруженные не легендами своих отцов и дедов, а
точными знаниями и великолепными приборами, выйдут шахдаринцы, горанцы и
ишкашимцы из родных кишлаков на гигантские горные хребты, высящиеся над их
цветущими ныне долинами.
И переберут пожелтевшие листки научных отчетов и дневников их
предшественников. И прочтут в них полузабытые путеводные указания.
Перечитают отчет русского путешественника, побывавшего в 1928 году в
Бадахшане, и найдут там такие строки:
"По сведениям от жителей Западного Памира, лазурит, хотя и очень редко,
встречался ими в выносах речки ДарайЗарев, северо-восточнее поста Ишкашим.
Мои поиски лазурита в долине этой речки оказались безрезультатными, но если
провести линию от копей лазурита в Бадахшане (афганском. -- П. Л. )
параллельно хр. Гиндукуш к СВ, то нахождение лазурита в районе Ишкашима
вполне вероятно и соответствует общей схеме распределения пород и минералов
в Бадахшане и Западном Памире... "
А в трудах Клунникова найдут и другие строки:
"Помимо Ляджвар-Даринской (Шах-Даринской) группы выходов лазурита,
новых месторождений его обнаружить не удалось, но, по словам местных
жителей, в сае, впадающем в р. Пяндж, у кишлака Рын, имеется лазурит. У
одного таджика был куплен кусок лазурита якобы оттуда. Ввиду того, что
лазурит этот резко отличается как от афганского, так и от шах-даринского,
является правдоподобным, что здесь мы действительно имеем дело с новым
месторождением. Проверить это, однако, не удалось из-за раннего снегопада".
Не сомневаюсь: много есть на Памире еще не открытых месторождений
синего камня, кроме того, что открыто нами.
"А что еще скрыто в недоступных нам горных хребтах Памира?" -- вопрошал
лучший знаток камней академик А. Е. Ферсман в своей книге "Воспоминания о
камне".
И если те молодые люди, памирцы, о которых я говорю, окажутся такими же
неутомимыми, любознательными и любящими самоцветные камни, как учитель всех
советских минералогов академик А. Е. Ферсман, то они захотят вновь
исследовать засыпанные древние "рубиновые копи" КугиЛяля, ущелья Ямчина и
Ямга в поисках благородной шпинели, захотят изучить те гранаты, от которых
даже отмели по Шах-Даре становятся красноватыми, и малахиты у кишлака
Сендив, и халцедон неподалеку от Шаргина, и множество других минеральных
образований, что встречаются в гнейсах и в мраморах, в обрывах и на отвесных
скатах грандиозных западнопамирских круч. И уже не возникнут теперь
опасения, что стоимость вывоза окажется слишком высокой, -- вдоль всех
главных рек Памира теперь ходят автомобили и лишь восемьдесят минут летит
пассажирский самолет в Сталинабад из Хорога. |
Нет сомнения: не одни только фрукты, пшеница и коконы шелковичных
червей принесут богатство Шугнану и Ишкашиму. Синий памирский камень и много
других ценнейших камней ждут энергичных советских людей, чтоб обогатить их
искусство и поднять славу его выше памирских гор!
А таджикские писатели и поэты, из которых в Шугнане, Ишкашиме, на
Восточном Памире, кроме родившегося на Шах-Даре Миршакара, до сих пор не
побывал ни один (да простится мне этот упрек!), создадут реалистические
романы и поэмы о легендарном синем памирском камне и о молодых таджиках --
петрографах и минералогах!
"Вот лазурит -- то яркосиний, горящий тем синим огнем, который... жжет
глаза, то бледноголубоватый камень, с нежностью тона, почти доходящей до
бирюзы, то сплошной однородной синей окраски, то с красивым узором сизых или
белых пятен, переплетающихся и мягко сплетающихся в пестрый и разнообразный
узор.
Мы знаем камни из Афганистана, из почти недоступных заоблачных высот
Памира то с многочисленными точками золотистого колчедана, которые рассеяны,
подобно звездам на темном фоне южного неба, то с белым узором пятен и жилок;
мы знаем в камнях с отрогов Саян, близ берегов Байкала все окраски от
темнозеленого до густомалинового, и еще со времени арабов нам известно, что
путем нагревания на огне эти цвета можно перевести в темносиний. "Настоящий
драгоценный лазурит только тот, который десять дней может пробыть в огне, не
теряя своего цвета", -- говорят нам армянские рукописи XVII века".
В таких поэтических выражениях -- перед витриной музея -- способен был
говорить о камне геолог, географ, геохимик Александр Евгеньевич Ферсман. У
него следует нам учиться находить истинное наслаждение в красоте камней.
Всему советскому народу доступно ныне это прекрасное наслаждение!
... Над мирной, спокойной Невой -- величественное здание Эрмитажа.
Среди залов, наполненных мировыми сокровищами, нас привлекает тот, вся стена
которого занята огромной картой СССР, сделанной из самоцветных камней.
Эта мозаичная, драгоценная карта побывала на выставке в Париже, потом
совершила путь через океан, была выставлена в Нью-Йорке, а когда вернулась в
Советский Союз, то ей было отведено почетное место в Эрмитаже.
После победной Отечественной войны, когда линия границ нашей страны
изменилась, эту карту необходимо было переделать. Карта была разобрана.
Нужно было установить новые границы СССР; нужно было переставить все
рубиновые красные звезды, обозначавшие прежде промышленные объекты и
стройки, а отныне призванные обозначать города (так как раньше это была
"карта индустриализации СССР", а теперь она становилась административной).
Камнерезчики -- ученики 24-го ремесленного училища, расположенного
неподалеку от Эрмитажа, эту трудную и искусную работу превосходно проделали.
Карта была выставлена в Эрмитаже на постоянное обозрение.
Снова вернувшись из путешествия на Памир, я смотрю на эту карту с
волнением. Все моря, озера и реки -- синие и голубые, сделаны из того синего
памирского камня, из лазурита, из ляджуара, который был вывезен с открытого
нами месторождения.
Скоро, очень скоро карту придется опять переделывать, понадобятся новые
куски драгоценного ляджуара: Волго-Дон уже выстроен, в близком будущем будут
закончены другие великие стройки; синие полосы гигантских каналов нужно
будет протянуть и на этой карте.
И я мечтаю о том, чтоб одна из новых московских или ленинградских
станций метро была облицована памирской ляпис-лазурью, так же как некогда по
замыслу знаменитого архитектора Камерона был облицован сибирским и афганским
лазуритом Лионский зал Царскосельского дворца. Это великолепное произведение
искусства, варварски уничтоженное разгромившими город Пушкин фашистскими
захватчиками, может быть превзойдено только в нашей социалистической стране,
в которой советский народ щедрой и талантливою рукой создает для себя
невиданные художественные ценности.
Синий памирский камень достоин того, чтоб украшать им все великие
творения нашего искусства; Горы сурового Памира склонят свои седые главы
перед великим советским нарадом, даря ему свои необычайные богатства!


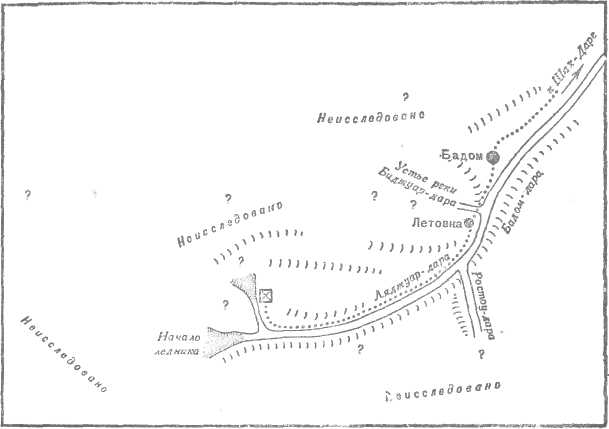 Результат маршрута 1930 года.
Какие из высящихся вокруг гребней были основным хребтом, разделяющим
бассейны Гарм-Чашмы и Шах-Дары, можно было только гадать. Все, что было
известно об этой области, укладывалось в изображенную выше схему.
Рано утром я вышел от месторождения и направился вверх по руслу
безыменного ручья и по леднику, из которого этот ручей вытекал. Поднявшись к
юго-западному склону хребта, я оказался в замкнутом ледниковом цирке. Меня
окружали скалистые отвесы и чрезвычайно крутые склоны фирна, разорванного
поперечными трещинами. Ни о каком перевале здесь нечего было и думать. После
восьмичасовых блужданий я вернулся к месторождению ляпис-лазури, решив на
следующий день спуститься в ущелье реки Ляджуар-Дара и исследовать ее
верховья. В палатке меня встретили все участники экспедиции. Вокруг
громоздились дикие скалы и льды. Никакого топлива не было уже утром;
шугнанцы, изломав свои палки, с которыми шли накануне, вскипятили чай.
Каждому из нас досталось всего по полкружке. Наступила ночь, и мы легли
спать.
Палатка стояла посредине замерзшего ручья. Мы не могли найти для нее
другого достаточно ровного места. Если бы не мороз, ручей ворвался бы ночью
в середину палатки.
Ночью скрипели камни, и справа от палатки долго рушился длинный обвал.
Где-то позади прошумела лавина, и, наталкиваясь на скалы, с глухим шумом
прыгали камни. Слева разрывался змеистыми трещинами лед, и камни долго
шипели, сползая в открывшиеся провалы.
Вторая попытка. Над истоками Ляджуар-Дары
10 августа Юдин со всеми участниками экспедиции ушел вниз, к Шах-Даре,
чтобы больше не возвращаться сюда. На месторождении, в палатке остались
только Жуков, которому предстояло руководить вывозом ляпис-лазури,
боец-пограничник Мешков -- мой спутник в дальнейшем путешествии, да два
шупнанца-носилыцика.
Попрощавшись со всеми, я один в тот же рассветный час вышел в верховья
реки Ляджуар-Дара. На мне был свитер. Чтобы не отягощать себя, я не взял с
собой другой теплой одежды. Все мое продовольствие заключалось в плитке
побелевшего (от высоты, что ли?) шоколада.
Я спустился по крутой осыпи к ручью, бегущему вниз к Ляджуар-Даре.
Переправился через ручей. Поднялся по противоположному склону. Стремление
"не терять высоты" и для этого, не спускаясь дальше, пересекать склон горы
поперек, привело к тому, что я забрался в такое место, откуда был путь
только вверх по необычайно крутой осыпи. Лез я туда с риском сорваться и с
горьким сознанием, что иного способа выбраться из этого скверного места нет.
Все-таки вылез наверх. Тут оказались массивные глыбы камней. По вершинам,
скалистым и диким, прошел вперед, пока передо мною не лег отвес в боковое
ущелье. Пришлось спускаться, -- спуск был труден, -- по осыпям, по снежным
склонам, на голову скалы, высящейся над ледником, из которого ниже брала
свое начало река Ляджуар-Дара. Отсюда, со скалы, видно было большое
пространство ледника, заполнявшего все ущелье. Противоположные стены ущелья
были отвесны или очень круты, обрывисты, облеплены мелкими висячими
ледниками и изборождены следами лавин и обвалов. Левый борт ущелья -- тот,
на котором находился я, казался значительно положе, был во многих местах
прорезан боковыми притоками, заполнен моренным материалом.
Со скалы я осторожно спустился на фирн, примыкающий к леднику, и побрел
вверх по ущелью.
Я спешил добраться до водораздела, чтобы сегодня же успеть вернуться в
палатку. Справа и слева сыпались камни. Они долго прыгали по снегу, дырявя
его, потом катились, оставляя следы, похожие на след лыжи.
Солнце на снегу ослепляло меня, глазу не на чем было отдохнуть. Я шел в
желтых очках, очень неудобных: они давили мне на глаза. Снег, подобный
застывшим гребням волн, следы обвалов. Ни птицы, ни звука, кроме посвиста
ветра и грохота обвалов. Как холодно, должно быть, здесь ночью!
Я замечал по компасу направления, брал азимуты... Там, где россыпь
камней, снег был рыхлым -- я проваливался. На крутых склонах остерегался
поскользнуться, -- поскользнувшись, полетишь вниз, где озера в снегу, обрывы
ледников, длинные -- в километр -- трещины. Все это -- цирк снега. Стены
цирка -- гигантские скалы. Гребень хребта, возносившегося над палаткой на
километр вверх, сейчас приходился почти на уровне моих глаз, а ведь палатка
стояла на высоте 4 570 метров над уровнем моря! За ним, за этим хребтом,
открывались новые громады скал, камня и льда: вероятно, те, что высятся над
Ростоу-Дарой (одна из двух рек, составляющих Бадом-Дару). Снежное поле
поднималось к верхним ярусам цирка. Я заметил на снегу полосу, похожую на
след человека. Подошел. Нет, это разлом всего поля, трещина узенькая, но
очень злая. Направо, на север, в гребне водораздела -- седловина, метров в
сто длиной. Она чуть пониже всего гребня, острозубого и неприступного. Я
решил взобраться туда. Последний клочок пути по чертовски крутому фирнику.
Врубался палкой, носками туфель (я шел в простых парусиновых туфлях, а
вместо ледоруба у меня была обыкновенная палка), останавливался каждые
три-четыре шага, чтобы отдышаться, и все же долез.
Да, это водораздел! На север простиралась великолепная панорама.
Высота, на которой я находился, -- 5 690 метров -- превышала высоту
Эльбруса. Я поднимался сюда семь часов. Исключительное зрелище: метров на
четыреста ниже меня -- цирк, снежный, кажущийся почти плоским. Еще ниже,
направо -- начало долины, верховья какой-то реки. Какой -- я не знаю.
Вероятно, она течет в Шах-Дару. Цирк замыкался гребнем водораздела,
скалистым и острым. Это был водораздел на запад. Я видел, что западная
сторона этого гребня отвесна, но можно ли там спуститься, отсюда угадать я
не мог. Налево и направо по горизонту тянулись цепи снежных хребтов, покуда
хватал глаз, покуда пространство ясное и прозрачное не становилось миражным,
дымчатым и расплывчатым от огромного
Результат маршрута 1930 года.
Какие из высящихся вокруг гребней были основным хребтом, разделяющим
бассейны Гарм-Чашмы и Шах-Дары, можно было только гадать. Все, что было
известно об этой области, укладывалось в изображенную выше схему.
Рано утром я вышел от месторождения и направился вверх по руслу
безыменного ручья и по леднику, из которого этот ручей вытекал. Поднявшись к
юго-западному склону хребта, я оказался в замкнутом ледниковом цирке. Меня
окружали скалистые отвесы и чрезвычайно крутые склоны фирна, разорванного
поперечными трещинами. Ни о каком перевале здесь нечего было и думать. После
восьмичасовых блужданий я вернулся к месторождению ляпис-лазури, решив на
следующий день спуститься в ущелье реки Ляджуар-Дара и исследовать ее
верховья. В палатке меня встретили все участники экспедиции. Вокруг
громоздились дикие скалы и льды. Никакого топлива не было уже утром;
шугнанцы, изломав свои палки, с которыми шли накануне, вскипятили чай.
Каждому из нас досталось всего по полкружке. Наступила ночь, и мы легли
спать.
Палатка стояла посредине замерзшего ручья. Мы не могли найти для нее
другого достаточно ровного места. Если бы не мороз, ручей ворвался бы ночью
в середину палатки.
Ночью скрипели камни, и справа от палатки долго рушился длинный обвал.
Где-то позади прошумела лавина, и, наталкиваясь на скалы, с глухим шумом
прыгали камни. Слева разрывался змеистыми трещинами лед, и камни долго
шипели, сползая в открывшиеся провалы.
Вторая попытка. Над истоками Ляджуар-Дары
10 августа Юдин со всеми участниками экспедиции ушел вниз, к Шах-Даре,
чтобы больше не возвращаться сюда. На месторождении, в палатке остались
только Жуков, которому предстояло руководить вывозом ляпис-лазури,
боец-пограничник Мешков -- мой спутник в дальнейшем путешествии, да два
шупнанца-носилыцика.
Попрощавшись со всеми, я один в тот же рассветный час вышел в верховья
реки Ляджуар-Дара. На мне был свитер. Чтобы не отягощать себя, я не взял с
собой другой теплой одежды. Все мое продовольствие заключалось в плитке
побелевшего (от высоты, что ли?) шоколада.
Я спустился по крутой осыпи к ручью, бегущему вниз к Ляджуар-Даре.
Переправился через ручей. Поднялся по противоположному склону. Стремление
"не терять высоты" и для этого, не спускаясь дальше, пересекать склон горы
поперек, привело к тому, что я забрался в такое место, откуда был путь
только вверх по необычайно крутой осыпи. Лез я туда с риском сорваться и с
горьким сознанием, что иного способа выбраться из этого скверного места нет.
Все-таки вылез наверх. Тут оказались массивные глыбы камней. По вершинам,
скалистым и диким, прошел вперед, пока передо мною не лег отвес в боковое
ущелье. Пришлось спускаться, -- спуск был труден, -- по осыпям, по снежным
склонам, на голову скалы, высящейся над ледником, из которого ниже брала
свое начало река Ляджуар-Дара. Отсюда, со скалы, видно было большое
пространство ледника, заполнявшего все ущелье. Противоположные стены ущелья
были отвесны или очень круты, обрывисты, облеплены мелкими висячими
ледниками и изборождены следами лавин и обвалов. Левый борт ущелья -- тот,
на котором находился я, казался значительно положе, был во многих местах
прорезан боковыми притоками, заполнен моренным материалом.
Со скалы я осторожно спустился на фирн, примыкающий к леднику, и побрел
вверх по ущелью.
Я спешил добраться до водораздела, чтобы сегодня же успеть вернуться в
палатку. Справа и слева сыпались камни. Они долго прыгали по снегу, дырявя
его, потом катились, оставляя следы, похожие на след лыжи.
Солнце на снегу ослепляло меня, глазу не на чем было отдохнуть. Я шел в
желтых очках, очень неудобных: они давили мне на глаза. Снег, подобный
застывшим гребням волн, следы обвалов. Ни птицы, ни звука, кроме посвиста
ветра и грохота обвалов. Как холодно, должно быть, здесь ночью!
Я замечал по компасу направления, брал азимуты... Там, где россыпь
камней, снег был рыхлым -- я проваливался. На крутых склонах остерегался
поскользнуться, -- поскользнувшись, полетишь вниз, где озера в снегу, обрывы
ледников, длинные -- в километр -- трещины. Все это -- цирк снега. Стены
цирка -- гигантские скалы. Гребень хребта, возносившегося над палаткой на
километр вверх, сейчас приходился почти на уровне моих глаз, а ведь палатка
стояла на высоте 4 570 метров над уровнем моря! За ним, за этим хребтом,
открывались новые громады скал, камня и льда: вероятно, те, что высятся над
Ростоу-Дарой (одна из двух рек, составляющих Бадом-Дару). Снежное поле
поднималось к верхним ярусам цирка. Я заметил на снегу полосу, похожую на
след человека. Подошел. Нет, это разлом всего поля, трещина узенькая, но
очень злая. Направо, на север, в гребне водораздела -- седловина, метров в
сто длиной. Она чуть пониже всего гребня, острозубого и неприступного. Я
решил взобраться туда. Последний клочок пути по чертовски крутому фирнику.
Врубался палкой, носками туфель (я шел в простых парусиновых туфлях, а
вместо ледоруба у меня была обыкновенная палка), останавливался каждые
три-четыре шага, чтобы отдышаться, и все же долез.
Да, это водораздел! На север простиралась великолепная панорама.
Высота, на которой я находился, -- 5 690 метров -- превышала высоту
Эльбруса. Я поднимался сюда семь часов. Исключительное зрелище: метров на
четыреста ниже меня -- цирк, снежный, кажущийся почти плоским. Еще ниже,
направо -- начало долины, верховья какой-то реки. Какой -- я не знаю.
Вероятно, она течет в Шах-Дару. Цирк замыкался гребнем водораздела,
скалистым и острым. Это был водораздел на запад. Я видел, что западная
сторона этого гребня отвесна, но можно ли там спуститься, отсюда угадать я
не мог. Налево и направо по горизонту тянулись цепи снежных хребтов, покуда
хватал глаз, покуда пространство ясное и прозрачное не становилось миражным,
дымчатым и расплывчатым от огромного
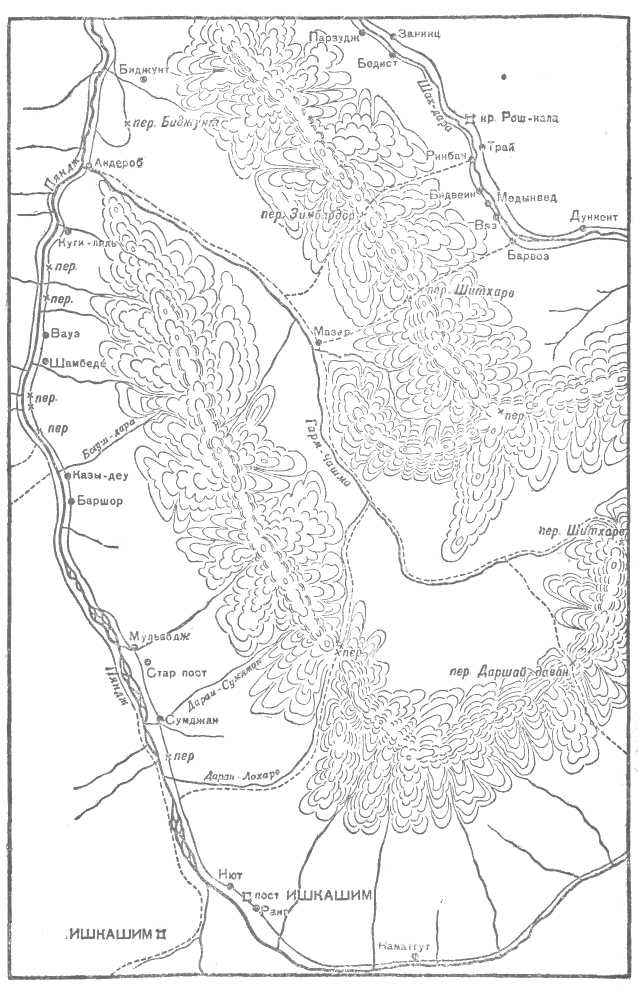 Карта междуречья Шах-Дара -- Пяндж до исследований автора книги.
Река Гарм-Чашма покачана втрое длиннее действительно существующей.
Направление хребтов, перевалы и многие названия помечены на белом пятне по
расспросным сведеV ниям произвольно и абсолютно неверно.
Карта междуречья Шах-Дара -- Пяндж до исследований автора книги.
Река Гарм-Чашма покачана втрое длиннее действительно существующей.
Направление хребтов, перевалы и многие названия помечены на белом пятне по
расспросным сведеV ниям произвольно и абсолютно неверно.
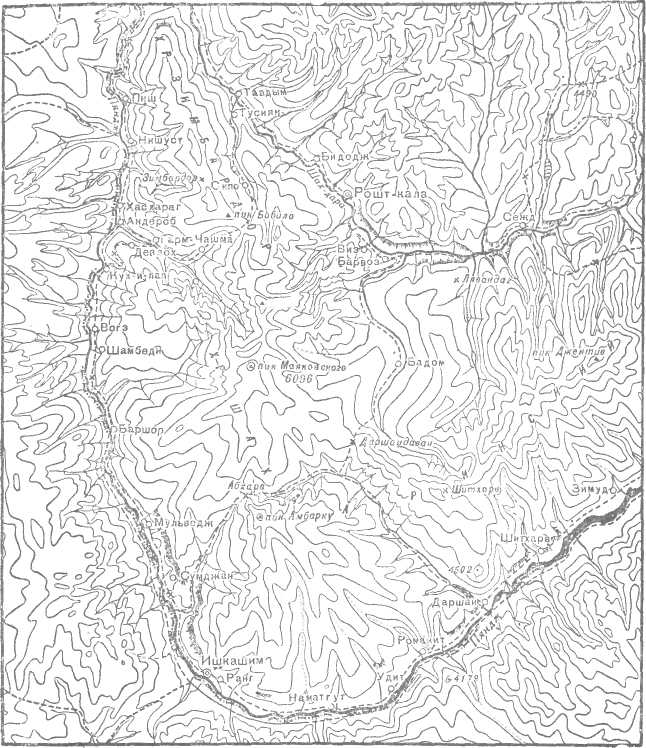 Карта междуречья Шах-Дара -- Пяндж, изданная Таджикско-Памирской
экспедицией и включающая результаты исследований автора.
расстояния. Напротив были видны водоразделы Шах-Дары и Гунта, а налево
-- Пянджа и афганской реки Кокча.
Внизу, за гребнем, замыкающим снежный цирк, я видел короткий отрезок
долины. Это была долина какой-то реки, текущей на северо-запад. Должно быть,
это была река Гарм-Чашма, но попробуй узнай наверное!
Прямо впереди, на севере было сплетение снежных хребтов, пиков,
ледников, скал -- все зубчатое, резкое, обрывистое.
Я стоял на остром гребне водораздела. С северной стороны к нему
прилегал снег, как волнистая прилепившаяся подушка -- по ней нужно было
пройти шагов двадцать до крутого скольжения вниз. Но когда я сделал эти
двадцать шагов, я провалился по пояс. Меня спасла палка, быстро повернутая
поперек груди, но все же я едва выбрался назад. Я попробовал еще раз, в
другом направлении -- и провалился снова, а весь массив снега угрожающе
заскрипел. Опасаясь обвала, я вернулся на зубья водораздела. Свистел ветер
-- неистовый ветер севера. Солнце светило ослепительно, но вовсе не грело. Я
знал, что больше здесь оставаться нельзя, а жаль было уходить отсюда.
Хотелось устремиться по этому снегу и скользить и лететь вниз по белой
крутизне с неизведанной быстротой. Если при этом останешься живым, то там,
внизу, конечно, можно найти перевал. Но... попытка спуска туда возможна была
бы только группе отлично экипированных альпинистов с "кошками", ледорубами,
с длинными веревками.
Я сделал наброски местности и показал на моих "роках безыменный пик,
высящийся в западном направлении от меня, над гребнем водораздела, на
котором я находился. Высоту этого пика я определил примерно в 5 800 метров.
Пробыв здесь двадцать минут, я с сожалением двинулся назад.
Обратный путь был быстр и весел, потому что я не шел, а катился, как на
лыжах, на подошвах моих туфель, управляя палкой. Ниже -- я бежал, потому что
это было гораздо легче, чем итти медленно. Через два часа я вышел из снежных
пределов. Я устал и сел у ручья на осыпи отдохнуть. Лег на камни. Ел снег.
Пил воду, съел плитку шоколада. Лежал, слушал и думал. Слушал -- обвалы. То
здесь, то там срывались снега и белым пожаром неслись вниз. Через полчаса я
двинулся дальше.
В шесть вечера я был в палатке. Шугнанцы еще таскали к палатке куски
ляпис-лазури. Боец Мешков "до обеда", тоже по своему почину, работал.
Ляпис-лазурь лежала перед палаткой двумя выросшими "штабелями небес",
величиною каждый в квадратный метр. Ближе к палатке -- синяя, дальше --
зеленая и голубая. Было ее уже около двух тонн. Отдохнув, я пил со всеми
чай, вскипяченный на остатках палок. Чай заменил нам обед. Из оставшихся
тринадцати лепешек мы съели восемь. Сегодня продовольствия нам снизу не
принесут. Принесут ли завтра?
Схема моя несколько расширилась (рис. на стр. 265), но в ней было
больше загадок, чем чего-либо определенного. Я убедился, что в верховьях
Ляджуар-Дары перевала на юг нет, перевал надо было искать в другом месте.
Решил: завтра с Мешковым и с шугнанцами иду вниз. Шугнанцев отправлю за
продовольствием для Жукова, который здесь остается один, а сам пойду на
разведку в верховья реки Биджуар-Дара -- притока Бадом-Дары. А если перевала
не найду и там, то двинусь на Шах-Дару, спущусь по ней до реки Вяз-Дара и
отправлюсь в ее верховья. Не могу поверить, что и там взять гребень
водораздела невозможно!
Карта междуречья Шах-Дара -- Пяндж, изданная Таджикско-Памирской
экспедицией и включающая результаты исследований автора.
расстояния. Напротив были видны водоразделы Шах-Дары и Гунта, а налево
-- Пянджа и афганской реки Кокча.
Внизу, за гребнем, замыкающим снежный цирк, я видел короткий отрезок
долины. Это была долина какой-то реки, текущей на северо-запад. Должно быть,
это была река Гарм-Чашма, но попробуй узнай наверное!
Прямо впереди, на севере было сплетение снежных хребтов, пиков,
ледников, скал -- все зубчатое, резкое, обрывистое.
Я стоял на остром гребне водораздела. С северной стороны к нему
прилегал снег, как волнистая прилепившаяся подушка -- по ней нужно было
пройти шагов двадцать до крутого скольжения вниз. Но когда я сделал эти
двадцать шагов, я провалился по пояс. Меня спасла палка, быстро повернутая
поперек груди, но все же я едва выбрался назад. Я попробовал еще раз, в
другом направлении -- и провалился снова, а весь массив снега угрожающе
заскрипел. Опасаясь обвала, я вернулся на зубья водораздела. Свистел ветер
-- неистовый ветер севера. Солнце светило ослепительно, но вовсе не грело. Я
знал, что больше здесь оставаться нельзя, а жаль было уходить отсюда.
Хотелось устремиться по этому снегу и скользить и лететь вниз по белой
крутизне с неизведанной быстротой. Если при этом останешься живым, то там,
внизу, конечно, можно найти перевал. Но... попытка спуска туда возможна была
бы только группе отлично экипированных альпинистов с "кошками", ледорубами,
с длинными веревками.
Я сделал наброски местности и показал на моих "роках безыменный пик,
высящийся в западном направлении от меня, над гребнем водораздела, на
котором я находился. Высоту этого пика я определил примерно в 5 800 метров.
Пробыв здесь двадцать минут, я с сожалением двинулся назад.
Обратный путь был быстр и весел, потому что я не шел, а катился, как на
лыжах, на подошвах моих туфель, управляя палкой. Ниже -- я бежал, потому что
это было гораздо легче, чем итти медленно. Через два часа я вышел из снежных
пределов. Я устал и сел у ручья на осыпи отдохнуть. Лег на камни. Ел снег.
Пил воду, съел плитку шоколада. Лежал, слушал и думал. Слушал -- обвалы. То
здесь, то там срывались снега и белым пожаром неслись вниз. Через полчаса я
двинулся дальше.
В шесть вечера я был в палатке. Шугнанцы еще таскали к палатке куски
ляпис-лазури. Боец Мешков "до обеда", тоже по своему почину, работал.
Ляпис-лазурь лежала перед палаткой двумя выросшими "штабелями небес",
величиною каждый в квадратный метр. Ближе к палатке -- синяя, дальше --
зеленая и голубая. Было ее уже около двух тонн. Отдохнув, я пил со всеми
чай, вскипяченный на остатках палок. Чай заменил нам обед. Из оставшихся
тринадцати лепешек мы съели восемь. Сегодня продовольствия нам снизу не
принесут. Принесут ли завтра?
Схема моя несколько расширилась (рис. на стр. 265), но в ней было
больше загадок, чем чего-либо определенного. Я убедился, что в верховьях
Ляджуар-Дары перевала на юг нет, перевал надо было искать в другом месте.
Решил: завтра с Мешковым и с шугнанцами иду вниз. Шугнанцев отправлю за
продовольствием для Жукова, который здесь остается один, а сам пойду на
разведку в верховья реки Биджуар-Дара -- притока Бадом-Дары. А если перевала
не найду и там, то двинусь на Шах-Дару, спущусь по ней до реки Вяз-Дара и
отправлюсь в ее верховья. Не могу поверить, что и там взять гребень
водораздела невозможно!
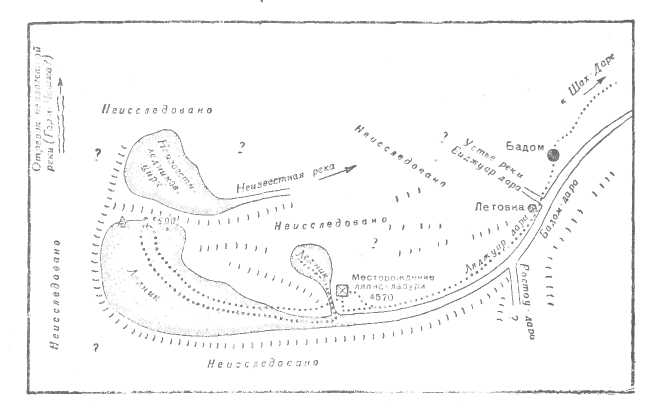 Результат первых маршрутов автора в 1931 году.
Ночью мне довелось услышать тихий шопот шугнанцев. Один из них -- Мирзо
Абод Бале -- долго ворочался с боку на бок в своем шерстяном халате,
ворочался от холода и тревоживших его мыслей. Я достаточно понимал
по-шугнански, чтобы уловить следующие слова:
Он, наверное, стороной обошел озеро, которое наверху ледников... Это
его счастье, иначе голубые драконы бросились бы на него... Он все-таки
хитрый -- всегда носит с собой счастье! И зачем он ходил туда? Хорошо, что
мы завтра спустимся. Разве ледяная вода делает сытым желудок, а сердце
горячим? А мы пьем ледяную воду, потому что уже нет чая... И нет дров, чтобы
его вскипятить... И разве можно есть эти лепешки, которые превратились в
камень? Он считал: осталось пять... Слушай... А если тучи придут сюда -- как
тогда возвратиться обратно?
Ты не думай о тучах! -- послышался другой шопот. -- Будешь думать --
придут.
Я улыбнулся и повернулся на другой бок. Неужели до сих пор еще живы
легенды о тайнах гор? Конечно, утром я расскажу шугнанцам, зачем я ходил
"туда" и объясню, почему на меня не набросились голубые драконы!
Возвращение в кишлак Бадом
11 августа с Мешковым и двумя шугаанцами я спустился по Ляджуар-Даре
вниз до Бадом-Дары и по ней дошел до первого (и единственного на всем ее
течении) крошечного, изолированного в горах кишлачка Бадом. В прошлом году
Юдин, геолог Хабаков и я были первыми исследователями и вообще первыми
русскими людьми, посетившими этот кишлак. В нем живут всего три семейства
шугнанцев. Жуков остался наверху с пятью лепешками и... большим количеством
ледяной воды.
Мы шли долго по крутому склону и по самому берегу реки.
Местами выламывали ветви, норовившие сбросить нас в воду, местами
переползали по ветвям и всюду карабкались по камням, по осыпям и по скалам.
Иногда камни, маленькие и громадные, когда мы ступали по ним, теряли
равновесие и срывались в бурлящий поток. Все время, пока шли до БиджуарДары
* (кишлак Бадом находится за ней, надо ее пересечь), мы занимались
упражнениями рук, ног и всех мышц тела. Впрочем, путь мне понравился: я
убедился, что можно пройти и по самому берегу. Раньше, на этом пути, мы
карабкались высоко над берегом -- по террасам, пересекая крутые осыпи.
Перед Биджуар-Дарою -- знакомая мне пустая летовка, -- никого, ничего.
Только следы пребывания группы Юдина: бумажки от шоколада. Зашел в летовку.
Ящик. Откуда? Ящик зашит в мешок. Мешок -- из каравана экспедиции Юдина.
Вскрыли. В ящике -- огурцы и урюк.
Естественно, набросились (ведь мы, в сущности, уже четыре дня
голодали). Непонятно: раньше ли завезен сюда ящик или его бросили здесь
носильщики, посланные Юдиным к Жукову с продовольствием? Но носильщиков мы
неминуемо встретили бы на пути. За весь день нам никто не попадался
навстречу. Никакой записки в ящике не оказалось. Он, несомненно, привезен из
Хорога -- больше неоткуда быть огурцам. Впрочем, не путаясь в неразрешимых
загадках, мы с наслаждением ели, а поев, взяли себе десять огурцов в запас.
Я написал Жукову записку, вложил ее в ящик, и мы зашили его. Об огурцах мы
мечтали с выезда из Оша -- с начала июня!
Пенится, убегая от нас вниз, широкая Бадом-Дара. Она зажата между
левобережной террасой и отвесной гигантской стеной правого борта ущелья. А
сбоку, из узкой отвесностенной щели, врывается в нее белесая Биджуар-Дара,
образуя в Бадом-Даре водовороты и перепады. Нам надо перейти эту
Биджуар-Дару вброд. Я разделся и с палкой, не снимая туфель, все же перешел
без посторонней помощи. Мешков -- маленький, коренастый уфимец, изумительно
спокойный, всегда на все согласный, -- пожалел мочить сапоги, сунулся было
босиком, да не решился. Босиком устоять на скользких и колючих камнях
гораздо труднее, чем в обуви. Вернулся назад, пошел искать брода в другом
месте. Я с шугнанцами просидел на левом берегу час, пока Мешков совался то
туда, то сюда и не мог перейти. Наконец он вернулся к нашему броду -- к
самому устью, разлившемуся широко, страшному пенными гребнями, но зато
мелкому и менее опасному. С помощью шугнанцев он все же одолел свирепую
реку.
* Иначе называемой: Горун-Дара.
В этот день поздно вечером мы пришли в Бадом и встретили здесь нашего
караванщика Мамат-Ахуна. У него -- чай, сахар, лепешки, мясо!.. Ящик с
огурцами и урюком, оказывается, привез из Хорога он. Носильщики с
продовольствием для Жукова еще и не думали выходить в путь. После моих
настояний они обещали утром обязательно выйти к месторождению. Закончив
хлопоты, я занялся жирготом (кислым молоком) и мясом, сваренным для
пришедших Мамат-Ахуном. Решил итти на Биджуар-Дару один, потому что шугнанцы
уверяют, что туда вообще нет никакой тропы, что ущелье непроходимо и
направление верховьев никому не известно... Я чувствую, что просто им не
хочется туда итти.
Разведочный маршрут к истокам Биджуар-Дары
12 августа утром я все же уговорил одного из жителей Бадома, рослого и
красивого парня Чушчака, пойти со мной. Решил до переправы через
Биджуар-Дару, до летовки, ехать верхом, а там оставить лошадь на попечении
Мамат-Ахуна, который должен проследить за отправлением продовольствия
Жукову. Мамат-Ахун, веселый кашгарец, с черными китайскими усиками, всегда
полон "купеческих" инстинктов и сегодня, видимо затеяв какие-то таинственные
"товарообменные операции", заявил мне, что хочет оставаться здесь, "чтоб
постирать свой халат". Я доказал ему, что стиркой он с равным успехом может
заняться и в летовке, и дал ему кусок мыла. Мы выехали, и Чушчак, накануне
уверявший меня, что ущелье и пешком-то непроходимо, неожиданно оказался, как
и мы, на лошади. Подъезжая к летовке, он заявил, что по Биджуар-Даре
тропа есть и что туда можно проехать верхом. Конечно, я решил ехать
верхом, посмеиваясь над вчерашними россказнями шугнанцев.
Сразу за летовкой -- узкое ущелье, а за ним -- лес. Тропа хороша и
ведет по лесу. Мы едем вдвоем: Чушчак и я. Он хороший жизнерадостный парень,
мы дружно болтаем по-шугнански. Местами приходится спешиваться -- стволы и
ветви образуют низкие арки. Еду, часто останавливаясь, веду глазомерную
топографическую съемку. Определяю горные породы: все больше гнейсы, на
высоких гребнях хребтов видны охристые мраморы. День жаркий. Никаких
летовок, шалашей, жилищ нет. По мере подъема лес редеет, заменяется
кустарником, здесь река резко, под прямым углом, поворачивает на юг. За
поворотом участки длинностебельного дикого лука -- последнее, что в этих
местах бывает перед снегом и льдом. Мы едем по левому берегу *. Правый берег
реки -- великолепная, фантастическая отвесная стена высотой километра в
полтора. Закинув голову, вижу вверху висячие ледники. Эта стена так и уходит
вперед, мы едем вдоль нее, впереди она выгибается, закрывая весь горизонт,
превращаясь в острозубый, сверкающий фирнами хребет и сбрасывая с себя
длинный, изогнутый ледник, из которого и вытекает наша Биджуар-Дара. А
справа на нас один за другим надвигаются, как ребра чудовищного скелета,
длинные скалистые мысы. Между ними -- хаотические нагромождения морен.
Мы въезжаем на морены и едем, пока могут двигаться лошади. Я собираю
геологические образцы, вычерчиваю карту, работаю с увлечением: ведь, кроме
пастухов из Бадома и меня, никто этих мест не видал. Проехав по моренам
далеко за язык ледника, спешиваемся, и Чушчак остается здесь с лошадьми.
Дальше иду один пешком и, наконец, останавливаюсь под большим скалистым
пиком. Время уже позднее, собрались тучи, повалил снег с градом, задул
ветер, а я не взял с собой даже свитера. Вся река исследована, впереди
только льды и снега, я торопливо произвожу все необходимые наблюдения, делаю
записи, замечаю с десяток пиков (названий им не даю, только нумерую их) и,
окончательно промерзнув, спешу назад.
Поздно вечером мы -- в кишлаке Бадом. Разобравшись во всех наблюдениях,
я понимаю, что река Биджуар-Дара и ледниковый цирк ее верховьев и есть те
самые, которые я видел несколько дней назад сверху, когда с водораздела
смотрел вниз, под четырехсотметровый склон.
* Здесь, как и во всей книге, правая и левая стороны понимаются
орографически, то-есть глядя сверху вниз по течению реки.
Ночью идет дождь. Лежу на глинобитной террасе шугнанского дома, не сплю
и размышляю: что может быть там, за ледником Биджуар-Дары? Действительно ли
та река, которую я видел с водораздела, -- Гарм-Чашма? Как проникнуть туда?
Куда я попаду, если, спустившись на реку Шах-Дара, снова двинусь вверх, по
притоку ее Вяз-Даре?. Не находятся ли ее верховья за хребтами, к северу от
ледника Биджуар-Дары? Горы, горы, горы -- так трудно разгадать их сплетенье!
Надо бы сделать попытку перевалить хребет, тот, что высится над
ледником Биджуар-Дары, но у меня уже нет продуктов, и местные жители итти
никуда не хотят.
Отступление к Шах-Даре
13 августа я решил двинуться с Мешковым вниз, к реке Шах-Дара,
спуститься по ней до устья впадающей в нее реки Вяз-Дара, никем не
исследованной и не нанесенной на карту, и, поднявшись к ее верховьям, искать
перевал.
Утром жители кишлака Бадом толпятся вокруг меня. Они любопытствуют по
всем поводам: по поводу консервных банок, оружия, карандашей. Маленький их
кишлак заброшен в дикие горы, они пока еще не тронуты культурой. Женщины
здесь, как тени, -- скользнут и исчезнут. Дома -- низкие складни из
разноуголыных камней. Я угощаю всех последним сахаром, чаем, я размышляю о
том, что скоро и здесь начнется иная жизнь, что эти дети обязательно будут
учиться в ближайшей школе, строящейся в Барвозе, на Шах-Даре. В кишлаке
Бадом живут пять мужчин, шесть женщин, семь мальчиков и шесть девочек. Никто
из них не бывал даже в Хороге, и только двое из них бывали на Шах-Даре.
Через два с половиной часа езды верхом, взяв небольшой перевал, мы
спустились в шах-даринский кишлак Барвоз, где есть и сельсовет, где
осведомлены о том, что делает экспедиция; где тепло и привольно, -- вокруг
кишлака чудесный лес и пастбища с многочисленными стадами. В Барвозе -- база
экспедиции Юдина, запасы продуктов, все наши вещи. В палатке живут двое из
наших красноармейцев Панков и Таран. Они уже сдружились с местным
населением, обмениваются визитами, угощениями, волнуют воображение шугнанцев
рассказами о советской культуре, о городах, о тысяче здесь непонятных вещей.
Я прожил в кишлаке три дня, один из которых посвятил вычерчиванию
топографической карты, а два -- поискам людей, знающих Вяз-Дару, и
носильщиков, которые пошли бы туда со мной и Мешковым. В Барвозе все
свободные от сельскохозяйственных работ жители заняты на постройке начальной
школы, и никто не соглашается итти со мной в горы. Я разъезжал по всей
округе, разговаривал с сельсоветчиками, с дехканами, а нужных мне людей
все-таки не нашел.
15 августа я двинулся с Мешковым пешком в кишлак Вяз (в устье реки
Вяз-Дара), надеясь найти проводника и носильщиков. Я не мог обойтись без
носильщиков, -- итти на поиски перевала во льды и снега, рассчитывая
спуститься в ГармЧашму, и потом продвигаться до Хорога, быть может, неделю,
нельзя без теплой одежды, без запаса продуктов, без инструментов. Все это,
конечно, одному не унести на себе.
Вяз -- маленький кишлачок: несколько шугнанских домов, окруженных
посевами, в узком развилке ущелья, раскидистые тутовые деревья. Меня
встретили старики с обычным гостеприимством. Но когда я объяснил им мое
дело, начались бесконечные разговоры: все поголовно уверяли, что хребет
непроходим, что только Иорик может найти туда дорогу. Йорик -- старик,
живущий в нескольких часах ходьбы отсюда вниз по ШахДаре, в кишлаке
Рошт-Кала. Без Йорика никто не брался итти. Впрочем, один молодой парнишка
изъявил желание быть носильщиком, но он был мал и слабосилен. Мне сказали,
что если я согласен здесь ждать до вечера, то мне сегодня же представят
Йорика. Тоскуя о каждой потерянной минуте, я ждал целый день.
Вечером верхом на ослике явился дряхлый шугнанец Иорик, с широкою
бородой, вежливый и спокойный. Он не знал -- посланцы не сказали ему, зачем
его вызвали в Вяз. Когда я объяснил ему, что надо подниматься на перевал, он
явно смутился. Он заговорил о том, что перевал там действительно есть, но
что только один раз, в молодости, он рискнул пройти через него. С тех пор к
этому перевалу никто даже не приближался. Тогда, в тот год было мало снега,
но Иорик испытал величайшие трудности. Там узкие карнизы, покатые и покрытые
льдом. Снег там глубок и неверен. Тогда он, Иорик, мог рискнуть, потому что
был молод, силен, ловок, бесстрашен, а сейчас у него болят ноги и он не
пройдет. Он рассказал мне, что там глубокие пропасти, надо огибать их по
нависшему льду.
Иорик говорил с несомненной искренностью, и все же я не знал, верить
ему или нет. Я думал, что трудности преувеличены, что просто по старости лет
ему неохота итти. Я Не сдавался. Иорик сказал мне, что часть пути до начала
ледника можно проехать верхом, я предложил ему ехать на моей лошади, обещав,
что сам двинусь пешком.
-- Ты говоришь, в этом году много снегу? Хорошо. Мы же не птицы, летать
не будем, если невозможно будет пройти -- вернемся. Наконец, только укажи
мне дорогу, дальше я двинусь без тебя, ты вернешься домой.
Иорик советовал мне спуститься по Шах-Даре до кишлака Тусиян и
объяснил, что в верховьях реки Тусиян тоже есть перевал, а в кишлаке живет
молодой, здоровый, храбрый охотник, который согласится со мной пойти. Я
продолжал уговаривать старика. И он сдался. Он оказал, что завтра на
рассвете пойдет, потому что это нужно для "высокой науки", а сейчас поедет
домой ночевать, пусть я поверю ему, -- на рассвете он будет здесь. Едва я
сказал "хорошо", Иорик вышел за дверь и исчез в темноте. Я был уверен, что
он не придет, но у меня не хватило духа удерживать его здесь, тащить старика
силком.
16 августа Иорик не явился. Я был полон горьких мыслей: когда же я
одолею этот хребет? Гарм-Чашма становится какой-то заповедной рекой и
дразнит мое воображение. Ведь чего бы, кажется, проще: спуститься в Хорог по
Шах-Даре, обогнуть этот хребет, подняться по Пянджу и войти в долину реки
Гарм-Чашма снизу, от устья. Но нет, сдаваться нельзя. Неудачи только
подстегивают меня. Я найду перевал и возьму его. Не могу больше терять ни
одного дня! Ждать здесь бессмысленно. Этак можно и месяц потерять. Решаю
двинуться на Тусиян. Во время чаепития подходит какой-то шугнанец,
рассказывает, что он идет на ляпис-лазурь помогать Жукову. Вчера туда же
двинулось несколько человек. Зовут шугнанца Мамат-Раим.
В девять утра выхожу с Мешковым вниз по Шах-Даре в Рошт-Калу, чтобы там
достать лошадей и выехать дальше в Тусиян. Около одиннадцати, пройдя с
десяток километров, мы в Рошт-Кале. С трудом достаем лошадей. Когда
выезжаем, шугнанцы показывают на фигуру, движущуюся верхом на осле по
дальней тропе:
-- Иорик поехал в Вяз...
Значит, не обманул! Но теперь уже поздно, -- не возвращаться же в Вяз,
все равно там носильщиков нет. Посылаю мальчика вернуть Йорика.
Вечером -- зыбкий мост через Шах-Дару. Ущелье, над ущельем скала, на
скале маленький кишлачок, за ним дальше -- в долине, подковою врезанной в
горы, -- большой просторный кишлак Тусиян. Белое здание -- строится школа,
работают тридцать-сорок шугнанцев. Меня приглашают в дом председателя
сельсовета, и сюда собираются жители, дружелюбно приветствуют, несут молоко,
яйца, чай, стелют паласы и кошмы. Председатель -- раис -- образец радушия и
благорасположения. Да, слышали о том, что перевал есть. Но знают только
одного человека, который там побывал: это охотник Шоик.
Шоик приходит к нам -- рослый, здоровый красавец, в чистом, аккуратном
халате. Открытое лицо -- в нем твердость и мужественность. Шоик согласен
итти, если мы дадим ему стрелять из нашей винтовки в кииков (козлов) и даже
не говорит о деньгах: "Сколько считаешь нужным -- столько дашь". Шоик
обещает достать двух носильщиков. Превосходно. Путь? "Да, труден, очень
труден -- много снегу и льда. Но пойдем. Я сам хочу знать все мои горы!" --
с гордостью произносит Шоик.
До ночи разговоры с шугнанцами, расспрашивающими меня обо всем. Теплая
ночь. Молодая луна. Тишина.
Третья попытка найти перевал. Вверх по Тусиян-Даре
Утром семнадцатого все-таки бесконечное ожидание. Наконец приходит
Шоик, словно рыцарь в боевых доспехах: на нем шугнанский охотничий пояс,
обвешанный пороховницами из рога кииков, огнивом, мешочками для самодельных
пуль. За плечами -- цан, допотопное фитильное ружье с массивным стволом,
оканчивающимся широким раструбом, с двумя кривыми ножками -- подставками для
прицеливания, с полочкой для насыпки пороха. Появляются носильщики --
Назар-Мамат и Мамад-Кадам с двумя лошадьми. Значит, можно было бы ехать
верхом? Да, сегодня полдороги можно, завтра -- нельзя. Носильщики предлагают
нам сесть на тюки. Что ж, не отказываемся: ехать приятнее, чем итти на
подъем пешком. Выступаем в путь, солнце уже очень высоко. Река Тусиян в
среднем и верхнем течении тоже не исследована никем, поэтому занимаюсь по
пути глазомерной топографической съемкой. Идем весь день по узкой чудесной
долине. Несколько летовок, на зеленых луговинах пасется скот кишлака Тусиян:
много быков, коров, ослов, коз, овец. За скотом бегают тусиянские ребятишки.
Долина все уже, переходит в скалистое ущелье, вокруг нет ничего живого,
кончилась и трава, льды нависли над нами, холодно, дико. Мы спешиваемся,
ведем лошадей в поводу.
Я иду, часто останавливаясь, беру по компасу азимуты, заношу в
пикетажную книжку кроки маршрута, время, показания анероида, записываю все
особенности пути.
Иду дальше, проверяя показания шагомера счетом своих шагов. Шаги я
считаю тройками, чтоб не сбиться, и стараюсь ступать как можно ровнее и
равномернее.
Мешков устал. У него нет такой тренировки, как у меня: я брожу по горам
уже четыре месяца и привык. Чтобы ободрить Мешкова, объясняю ему:
-- Наша задача -- провести глазомерную съемку маршрута. Карту сделать.
При слове "карта" Мешков оживляется.
Это правильно, -- говорит он, -- карта в горах -- первое дело. У нас на
заставе в картах даже очень большой недостаток. В степи едешь -- гладко, все
окруженье видать, а вот здесь без этого шагу ступить невозможно... Упрешься
в гору лбом, ни обойти, ни объехать, а там, может, басмач, нарушитель или
контрабандист. Дадут тебе карту, а в ней набрехано столько, что и не
разберешь, то ли горы с места на место ходят, то ли нарочно вредил, кто ее
делал...
Не ходят и не вредил, -- улыбаюсь я, -- а просто эта местность еще мало
исследована. Тот, кто составлял карту, не мог сразу разобраться во всем.
Сами видите -- путаница какая в этих горах!
Мешков охотно соглашается, что "путаница", и предлагает помочь мне в
моей работе.
Я прошу помочь в счете шагов. Он покорно начинает отсчитывать шаги
тройками.
Двести пятьдесят, -- говорю я останавливаясь.
А у меня двести тридцать семь, -- сконфуженно отвечает Мешков. --
Неужели сшибся? Кажись, считал правильно.
Не ошибся, просто шаги у вас подлиннее моих. Буду записывать свой счет
и ваш.
К вечеру ущелье сузилось в тесный проход. Я останавливаюсь.
Товарищ Мешков, теперь прямо туда полезем. Как окажете?
Куда? Туда, что ли?
Над нами темнеет крутая каменистая осыпь. Она уходит высоко вверх, под
нависшие черные скалы. Кажется, и козлу туда ввек не добраться.
-- Крутенько! -- с сомнением произносит Мешков. -- А только раз надо...
-- и умолкает, примеряясь к осыпи глазом.
Оставляю лошадей мальчику, который шел с нами от последней летовки.
Нагрузившись вещами, лезем по осыпи вверх. Целый час, пересиливая себя,
карабкаемся к скалам. Разреженный воздух дает себя чувствовать.
Осыпь кончилась. Начались нагромождения морен. Целый мир открылся
внизу: долина, ущелья с серебристыми лентами речек, а вокруг -- ряд за рядом
-- цепи остроконечных гор, со снежными пиками и крутыми сверкающими скатами
фирна. Только в одном направлении -- куда надо итти -- виднеется длинный
ледник, из которого по бокам торчат огромные острые черные скалы,
соединенные между собой заснеженными перепадами седловин.
Холодно, очень холодно, потому что солнце уже скрылось, и нас бьет
ветер, рвущийся от ледников. Впереди над нами
18 П. Лукницкий
Результат первых маршрутов автора в 1931 году.
Ночью мне довелось услышать тихий шопот шугнанцев. Один из них -- Мирзо
Абод Бале -- долго ворочался с боку на бок в своем шерстяном халате,
ворочался от холода и тревоживших его мыслей. Я достаточно понимал
по-шугнански, чтобы уловить следующие слова:
Он, наверное, стороной обошел озеро, которое наверху ледников... Это
его счастье, иначе голубые драконы бросились бы на него... Он все-таки
хитрый -- всегда носит с собой счастье! И зачем он ходил туда? Хорошо, что
мы завтра спустимся. Разве ледяная вода делает сытым желудок, а сердце
горячим? А мы пьем ледяную воду, потому что уже нет чая... И нет дров, чтобы
его вскипятить... И разве можно есть эти лепешки, которые превратились в
камень? Он считал: осталось пять... Слушай... А если тучи придут сюда -- как
тогда возвратиться обратно?
Ты не думай о тучах! -- послышался другой шопот. -- Будешь думать --
придут.
Я улыбнулся и повернулся на другой бок. Неужели до сих пор еще живы
легенды о тайнах гор? Конечно, утром я расскажу шугнанцам, зачем я ходил
"туда" и объясню, почему на меня не набросились голубые драконы!
Возвращение в кишлак Бадом
11 августа с Мешковым и двумя шугаанцами я спустился по Ляджуар-Даре
вниз до Бадом-Дары и по ней дошел до первого (и единственного на всем ее
течении) крошечного, изолированного в горах кишлачка Бадом. В прошлом году
Юдин, геолог Хабаков и я были первыми исследователями и вообще первыми
русскими людьми, посетившими этот кишлак. В нем живут всего три семейства
шугнанцев. Жуков остался наверху с пятью лепешками и... большим количеством
ледяной воды.
Мы шли долго по крутому склону и по самому берегу реки.
Местами выламывали ветви, норовившие сбросить нас в воду, местами
переползали по ветвям и всюду карабкались по камням, по осыпям и по скалам.
Иногда камни, маленькие и громадные, когда мы ступали по ним, теряли
равновесие и срывались в бурлящий поток. Все время, пока шли до БиджуарДары
* (кишлак Бадом находится за ней, надо ее пересечь), мы занимались
упражнениями рук, ног и всех мышц тела. Впрочем, путь мне понравился: я
убедился, что можно пройти и по самому берегу. Раньше, на этом пути, мы
карабкались высоко над берегом -- по террасам, пересекая крутые осыпи.
Перед Биджуар-Дарою -- знакомая мне пустая летовка, -- никого, ничего.
Только следы пребывания группы Юдина: бумажки от шоколада. Зашел в летовку.
Ящик. Откуда? Ящик зашит в мешок. Мешок -- из каравана экспедиции Юдина.
Вскрыли. В ящике -- огурцы и урюк.
Естественно, набросились (ведь мы, в сущности, уже четыре дня
голодали). Непонятно: раньше ли завезен сюда ящик или его бросили здесь
носильщики, посланные Юдиным к Жукову с продовольствием? Но носильщиков мы
неминуемо встретили бы на пути. За весь день нам никто не попадался
навстречу. Никакой записки в ящике не оказалось. Он, несомненно, привезен из
Хорога -- больше неоткуда быть огурцам. Впрочем, не путаясь в неразрешимых
загадках, мы с наслаждением ели, а поев, взяли себе десять огурцов в запас.
Я написал Жукову записку, вложил ее в ящик, и мы зашили его. Об огурцах мы
мечтали с выезда из Оша -- с начала июня!
Пенится, убегая от нас вниз, широкая Бадом-Дара. Она зажата между
левобережной террасой и отвесной гигантской стеной правого борта ущелья. А
сбоку, из узкой отвесностенной щели, врывается в нее белесая Биджуар-Дара,
образуя в Бадом-Даре водовороты и перепады. Нам надо перейти эту
Биджуар-Дару вброд. Я разделся и с палкой, не снимая туфель, все же перешел
без посторонней помощи. Мешков -- маленький, коренастый уфимец, изумительно
спокойный, всегда на все согласный, -- пожалел мочить сапоги, сунулся было
босиком, да не решился. Босиком устоять на скользких и колючих камнях
гораздо труднее, чем в обуви. Вернулся назад, пошел искать брода в другом
месте. Я с шугнанцами просидел на левом берегу час, пока Мешков совался то
туда, то сюда и не мог перейти. Наконец он вернулся к нашему броду -- к
самому устью, разлившемуся широко, страшному пенными гребнями, но зато
мелкому и менее опасному. С помощью шугнанцев он все же одолел свирепую
реку.
* Иначе называемой: Горун-Дара.
В этот день поздно вечером мы пришли в Бадом и встретили здесь нашего
караванщика Мамат-Ахуна. У него -- чай, сахар, лепешки, мясо!.. Ящик с
огурцами и урюком, оказывается, привез из Хорога он. Носильщики с
продовольствием для Жукова еще и не думали выходить в путь. После моих
настояний они обещали утром обязательно выйти к месторождению. Закончив
хлопоты, я занялся жирготом (кислым молоком) и мясом, сваренным для
пришедших Мамат-Ахуном. Решил итти на Биджуар-Дару один, потому что шугнанцы
уверяют, что туда вообще нет никакой тропы, что ущелье непроходимо и
направление верховьев никому не известно... Я чувствую, что просто им не
хочется туда итти.
Разведочный маршрут к истокам Биджуар-Дары
12 августа утром я все же уговорил одного из жителей Бадома, рослого и
красивого парня Чушчака, пойти со мной. Решил до переправы через
Биджуар-Дару, до летовки, ехать верхом, а там оставить лошадь на попечении
Мамат-Ахуна, который должен проследить за отправлением продовольствия
Жукову. Мамат-Ахун, веселый кашгарец, с черными китайскими усиками, всегда
полон "купеческих" инстинктов и сегодня, видимо затеяв какие-то таинственные
"товарообменные операции", заявил мне, что хочет оставаться здесь, "чтоб
постирать свой халат". Я доказал ему, что стиркой он с равным успехом может
заняться и в летовке, и дал ему кусок мыла. Мы выехали, и Чушчак, накануне
уверявший меня, что ущелье и пешком-то непроходимо, неожиданно оказался, как
и мы, на лошади. Подъезжая к летовке, он заявил, что по Биджуар-Даре
тропа есть и что туда можно проехать верхом. Конечно, я решил ехать
верхом, посмеиваясь над вчерашними россказнями шугнанцев.
Сразу за летовкой -- узкое ущелье, а за ним -- лес. Тропа хороша и
ведет по лесу. Мы едем вдвоем: Чушчак и я. Он хороший жизнерадостный парень,
мы дружно болтаем по-шугнански. Местами приходится спешиваться -- стволы и
ветви образуют низкие арки. Еду, часто останавливаясь, веду глазомерную
топографическую съемку. Определяю горные породы: все больше гнейсы, на
высоких гребнях хребтов видны охристые мраморы. День жаркий. Никаких
летовок, шалашей, жилищ нет. По мере подъема лес редеет, заменяется
кустарником, здесь река резко, под прямым углом, поворачивает на юг. За
поворотом участки длинностебельного дикого лука -- последнее, что в этих
местах бывает перед снегом и льдом. Мы едем по левому берегу *. Правый берег
реки -- великолепная, фантастическая отвесная стена высотой километра в
полтора. Закинув голову, вижу вверху висячие ледники. Эта стена так и уходит
вперед, мы едем вдоль нее, впереди она выгибается, закрывая весь горизонт,
превращаясь в острозубый, сверкающий фирнами хребет и сбрасывая с себя
длинный, изогнутый ледник, из которого и вытекает наша Биджуар-Дара. А
справа на нас один за другим надвигаются, как ребра чудовищного скелета,
длинные скалистые мысы. Между ними -- хаотические нагромождения морен.
Мы въезжаем на морены и едем, пока могут двигаться лошади. Я собираю
геологические образцы, вычерчиваю карту, работаю с увлечением: ведь, кроме
пастухов из Бадома и меня, никто этих мест не видал. Проехав по моренам
далеко за язык ледника, спешиваемся, и Чушчак остается здесь с лошадьми.
Дальше иду один пешком и, наконец, останавливаюсь под большим скалистым
пиком. Время уже позднее, собрались тучи, повалил снег с градом, задул
ветер, а я не взял с собой даже свитера. Вся река исследована, впереди
только льды и снега, я торопливо произвожу все необходимые наблюдения, делаю
записи, замечаю с десяток пиков (названий им не даю, только нумерую их) и,
окончательно промерзнув, спешу назад.
Поздно вечером мы -- в кишлаке Бадом. Разобравшись во всех наблюдениях,
я понимаю, что река Биджуар-Дара и ледниковый цирк ее верховьев и есть те
самые, которые я видел несколько дней назад сверху, когда с водораздела
смотрел вниз, под четырехсотметровый склон.
* Здесь, как и во всей книге, правая и левая стороны понимаются
орографически, то-есть глядя сверху вниз по течению реки.
Ночью идет дождь. Лежу на глинобитной террасе шугнанского дома, не сплю
и размышляю: что может быть там, за ледником Биджуар-Дары? Действительно ли
та река, которую я видел с водораздела, -- Гарм-Чашма? Как проникнуть туда?
Куда я попаду, если, спустившись на реку Шах-Дара, снова двинусь вверх, по
притоку ее Вяз-Даре?. Не находятся ли ее верховья за хребтами, к северу от
ледника Биджуар-Дары? Горы, горы, горы -- так трудно разгадать их сплетенье!
Надо бы сделать попытку перевалить хребет, тот, что высится над
ледником Биджуар-Дары, но у меня уже нет продуктов, и местные жители итти
никуда не хотят.
Отступление к Шах-Даре
13 августа я решил двинуться с Мешковым вниз, к реке Шах-Дара,
спуститься по ней до устья впадающей в нее реки Вяз-Дара, никем не
исследованной и не нанесенной на карту, и, поднявшись к ее верховьям, искать
перевал.
Утром жители кишлака Бадом толпятся вокруг меня. Они любопытствуют по
всем поводам: по поводу консервных банок, оружия, карандашей. Маленький их
кишлак заброшен в дикие горы, они пока еще не тронуты культурой. Женщины
здесь, как тени, -- скользнут и исчезнут. Дома -- низкие складни из
разноуголыных камней. Я угощаю всех последним сахаром, чаем, я размышляю о
том, что скоро и здесь начнется иная жизнь, что эти дети обязательно будут
учиться в ближайшей школе, строящейся в Барвозе, на Шах-Даре. В кишлаке
Бадом живут пять мужчин, шесть женщин, семь мальчиков и шесть девочек. Никто
из них не бывал даже в Хороге, и только двое из них бывали на Шах-Даре.
Через два с половиной часа езды верхом, взяв небольшой перевал, мы
спустились в шах-даринский кишлак Барвоз, где есть и сельсовет, где
осведомлены о том, что делает экспедиция; где тепло и привольно, -- вокруг
кишлака чудесный лес и пастбища с многочисленными стадами. В Барвозе -- база
экспедиции Юдина, запасы продуктов, все наши вещи. В палатке живут двое из
наших красноармейцев Панков и Таран. Они уже сдружились с местным
населением, обмениваются визитами, угощениями, волнуют воображение шугнанцев
рассказами о советской культуре, о городах, о тысяче здесь непонятных вещей.
Я прожил в кишлаке три дня, один из которых посвятил вычерчиванию
топографической карты, а два -- поискам людей, знающих Вяз-Дару, и
носильщиков, которые пошли бы туда со мной и Мешковым. В Барвозе все
свободные от сельскохозяйственных работ жители заняты на постройке начальной
школы, и никто не соглашается итти со мной в горы. Я разъезжал по всей
округе, разговаривал с сельсоветчиками, с дехканами, а нужных мне людей
все-таки не нашел.
15 августа я двинулся с Мешковым пешком в кишлак Вяз (в устье реки
Вяз-Дара), надеясь найти проводника и носильщиков. Я не мог обойтись без
носильщиков, -- итти на поиски перевала во льды и снега, рассчитывая
спуститься в ГармЧашму, и потом продвигаться до Хорога, быть может, неделю,
нельзя без теплой одежды, без запаса продуктов, без инструментов. Все это,
конечно, одному не унести на себе.
Вяз -- маленький кишлачок: несколько шугнанских домов, окруженных
посевами, в узком развилке ущелья, раскидистые тутовые деревья. Меня
встретили старики с обычным гостеприимством. Но когда я объяснил им мое
дело, начались бесконечные разговоры: все поголовно уверяли, что хребет
непроходим, что только Иорик может найти туда дорогу. Йорик -- старик,
живущий в нескольких часах ходьбы отсюда вниз по ШахДаре, в кишлаке
Рошт-Кала. Без Йорика никто не брался итти. Впрочем, один молодой парнишка
изъявил желание быть носильщиком, но он был мал и слабосилен. Мне сказали,
что если я согласен здесь ждать до вечера, то мне сегодня же представят
Йорика. Тоскуя о каждой потерянной минуте, я ждал целый день.
Вечером верхом на ослике явился дряхлый шугнанец Иорик, с широкою
бородой, вежливый и спокойный. Он не знал -- посланцы не сказали ему, зачем
его вызвали в Вяз. Когда я объяснил ему, что надо подниматься на перевал, он
явно смутился. Он заговорил о том, что перевал там действительно есть, но
что только один раз, в молодости, он рискнул пройти через него. С тех пор к
этому перевалу никто даже не приближался. Тогда, в тот год было мало снега,
но Иорик испытал величайшие трудности. Там узкие карнизы, покатые и покрытые
льдом. Снег там глубок и неверен. Тогда он, Иорик, мог рискнуть, потому что
был молод, силен, ловок, бесстрашен, а сейчас у него болят ноги и он не
пройдет. Он рассказал мне, что там глубокие пропасти, надо огибать их по
нависшему льду.
Иорик говорил с несомненной искренностью, и все же я не знал, верить
ему или нет. Я думал, что трудности преувеличены, что просто по старости лет
ему неохота итти. Я Не сдавался. Иорик сказал мне, что часть пути до начала
ледника можно проехать верхом, я предложил ему ехать на моей лошади, обещав,
что сам двинусь пешком.
-- Ты говоришь, в этом году много снегу? Хорошо. Мы же не птицы, летать
не будем, если невозможно будет пройти -- вернемся. Наконец, только укажи
мне дорогу, дальше я двинусь без тебя, ты вернешься домой.
Иорик советовал мне спуститься по Шах-Даре до кишлака Тусиян и
объяснил, что в верховьях реки Тусиян тоже есть перевал, а в кишлаке живет
молодой, здоровый, храбрый охотник, который согласится со мной пойти. Я
продолжал уговаривать старика. И он сдался. Он оказал, что завтра на
рассвете пойдет, потому что это нужно для "высокой науки", а сейчас поедет
домой ночевать, пусть я поверю ему, -- на рассвете он будет здесь. Едва я
сказал "хорошо", Иорик вышел за дверь и исчез в темноте. Я был уверен, что
он не придет, но у меня не хватило духа удерживать его здесь, тащить старика
силком.
16 августа Иорик не явился. Я был полон горьких мыслей: когда же я
одолею этот хребет? Гарм-Чашма становится какой-то заповедной рекой и
дразнит мое воображение. Ведь чего бы, кажется, проще: спуститься в Хорог по
Шах-Даре, обогнуть этот хребет, подняться по Пянджу и войти в долину реки
Гарм-Чашма снизу, от устья. Но нет, сдаваться нельзя. Неудачи только
подстегивают меня. Я найду перевал и возьму его. Не могу больше терять ни
одного дня! Ждать здесь бессмысленно. Этак можно и месяц потерять. Решаю
двинуться на Тусиян. Во время чаепития подходит какой-то шугнанец,
рассказывает, что он идет на ляпис-лазурь помогать Жукову. Вчера туда же
двинулось несколько человек. Зовут шугнанца Мамат-Раим.
В девять утра выхожу с Мешковым вниз по Шах-Даре в Рошт-Калу, чтобы там
достать лошадей и выехать дальше в Тусиян. Около одиннадцати, пройдя с
десяток километров, мы в Рошт-Кале. С трудом достаем лошадей. Когда
выезжаем, шугнанцы показывают на фигуру, движущуюся верхом на осле по
дальней тропе:
-- Иорик поехал в Вяз...
Значит, не обманул! Но теперь уже поздно, -- не возвращаться же в Вяз,
все равно там носильщиков нет. Посылаю мальчика вернуть Йорика.
Вечером -- зыбкий мост через Шах-Дару. Ущелье, над ущельем скала, на
скале маленький кишлачок, за ним дальше -- в долине, подковою врезанной в
горы, -- большой просторный кишлак Тусиян. Белое здание -- строится школа,
работают тридцать-сорок шугнанцев. Меня приглашают в дом председателя
сельсовета, и сюда собираются жители, дружелюбно приветствуют, несут молоко,
яйца, чай, стелют паласы и кошмы. Председатель -- раис -- образец радушия и
благорасположения. Да, слышали о том, что перевал есть. Но знают только
одного человека, который там побывал: это охотник Шоик.
Шоик приходит к нам -- рослый, здоровый красавец, в чистом, аккуратном
халате. Открытое лицо -- в нем твердость и мужественность. Шоик согласен
итти, если мы дадим ему стрелять из нашей винтовки в кииков (козлов) и даже
не говорит о деньгах: "Сколько считаешь нужным -- столько дашь". Шоик
обещает достать двух носильщиков. Превосходно. Путь? "Да, труден, очень
труден -- много снегу и льда. Но пойдем. Я сам хочу знать все мои горы!" --
с гордостью произносит Шоик.
До ночи разговоры с шугнанцами, расспрашивающими меня обо всем. Теплая
ночь. Молодая луна. Тишина.
Третья попытка найти перевал. Вверх по Тусиян-Даре
Утром семнадцатого все-таки бесконечное ожидание. Наконец приходит
Шоик, словно рыцарь в боевых доспехах: на нем шугнанский охотничий пояс,
обвешанный пороховницами из рога кииков, огнивом, мешочками для самодельных
пуль. За плечами -- цан, допотопное фитильное ружье с массивным стволом,
оканчивающимся широким раструбом, с двумя кривыми ножками -- подставками для
прицеливания, с полочкой для насыпки пороха. Появляются носильщики --
Назар-Мамат и Мамад-Кадам с двумя лошадьми. Значит, можно было бы ехать
верхом? Да, сегодня полдороги можно, завтра -- нельзя. Носильщики предлагают
нам сесть на тюки. Что ж, не отказываемся: ехать приятнее, чем итти на
подъем пешком. Выступаем в путь, солнце уже очень высоко. Река Тусиян в
среднем и верхнем течении тоже не исследована никем, поэтому занимаюсь по
пути глазомерной топографической съемкой. Идем весь день по узкой чудесной
долине. Несколько летовок, на зеленых луговинах пасется скот кишлака Тусиян:
много быков, коров, ослов, коз, овец. За скотом бегают тусиянские ребятишки.
Долина все уже, переходит в скалистое ущелье, вокруг нет ничего живого,
кончилась и трава, льды нависли над нами, холодно, дико. Мы спешиваемся,
ведем лошадей в поводу.
Я иду, часто останавливаясь, беру по компасу азимуты, заношу в
пикетажную книжку кроки маршрута, время, показания анероида, записываю все
особенности пути.
Иду дальше, проверяя показания шагомера счетом своих шагов. Шаги я
считаю тройками, чтоб не сбиться, и стараюсь ступать как можно ровнее и
равномернее.
Мешков устал. У него нет такой тренировки, как у меня: я брожу по горам
уже четыре месяца и привык. Чтобы ободрить Мешкова, объясняю ему:
-- Наша задача -- провести глазомерную съемку маршрута. Карту сделать.
При слове "карта" Мешков оживляется.
Это правильно, -- говорит он, -- карта в горах -- первое дело. У нас на
заставе в картах даже очень большой недостаток. В степи едешь -- гладко, все
окруженье видать, а вот здесь без этого шагу ступить невозможно... Упрешься
в гору лбом, ни обойти, ни объехать, а там, может, басмач, нарушитель или
контрабандист. Дадут тебе карту, а в ней набрехано столько, что и не
разберешь, то ли горы с места на место ходят, то ли нарочно вредил, кто ее
делал...
Не ходят и не вредил, -- улыбаюсь я, -- а просто эта местность еще мало
исследована. Тот, кто составлял карту, не мог сразу разобраться во всем.
Сами видите -- путаница какая в этих горах!
Мешков охотно соглашается, что "путаница", и предлагает помочь мне в
моей работе.
Я прошу помочь в счете шагов. Он покорно начинает отсчитывать шаги
тройками.
Двести пятьдесят, -- говорю я останавливаясь.
А у меня двести тридцать семь, -- сконфуженно отвечает Мешков. --
Неужели сшибся? Кажись, считал правильно.
Не ошибся, просто шаги у вас подлиннее моих. Буду записывать свой счет
и ваш.
К вечеру ущелье сузилось в тесный проход. Я останавливаюсь.
Товарищ Мешков, теперь прямо туда полезем. Как окажете?
Куда? Туда, что ли?
Над нами темнеет крутая каменистая осыпь. Она уходит высоко вверх, под
нависшие черные скалы. Кажется, и козлу туда ввек не добраться.
-- Крутенько! -- с сомнением произносит Мешков. -- А только раз надо...
-- и умолкает, примеряясь к осыпи глазом.
Оставляю лошадей мальчику, который шел с нами от последней летовки.
Нагрузившись вещами, лезем по осыпи вверх. Целый час, пересиливая себя,
карабкаемся к скалам. Разреженный воздух дает себя чувствовать.
Осыпь кончилась. Начались нагромождения морен. Целый мир открылся
внизу: долина, ущелья с серебристыми лентами речек, а вокруг -- ряд за рядом
-- цепи остроконечных гор, со снежными пиками и крутыми сверкающими скатами
фирна. Только в одном направлении -- куда надо итти -- виднеется длинный
ледник, из которого по бокам торчат огромные острые черные скалы,
соединенные между собой заснеженными перепадами седловин.
Холодно, очень холодно, потому что солнце уже скрылось, и нас бьет
ветер, рвущийся от ледников. Впереди над нами
18 П. Лукницкий
 Рисунок сделан автором 17 августа 1931 года у "охотничьего" камня
в истоках реки Тусиян-Дара, на высоте 4 280 метров. Вид к
востоко-северо-востоку (60°) на водораздельный хребет Вяз-Дара --
Тусиян-Дара.
1. Обнажения мощных мраморных свит. 2. Предполагаемый перевал к реке
Вяз-Дара.
вырастает острым концом пик -- Шоик сказал, что его называют "Бобило".
Из-за пика плывут рыжие, мрачные тучи.
Шоик указывает мне камень -- "охотничий" камень с расщелиной, к которой
самим Шоиком прилажена стенка из мелких камней, чтоб было где спать на
киичьей охоте. Конура -- щель под камнем -- для одного. Впрочем, очень
потеснившись, можно забраться в нее вдвоем.
-- Вы здесь гости, -- торжественно говорит Шоик мне и Мешкову, -- вы
будете спать здесь
Забираюсь под камень с Мешковым. Отлично! Похоже на каменный гроб, в
котором даже не растянуться, но отлично! Уместимся!
До полной темноты делаю зарисовки и занимаюсь съемкой. Высота камня над
уровнем моря -- 4 280 метров по моему анероиду. Горит костер из кизяков,
набранных носильщиками по пути сюда. Едим мясные консервы. Изумительный
ландшафт: пики, зубцы, хребты, отвесы, скалы, и всюду -- снег и лед, при
луне таинственная синь, кажущийся неземным холод. Тяжелые тучи в лунном
сиянии стоят над пиком Бобило. Этот пик, как и многие другие, я нанес на
карту.
Забравшись с Мешковым в нору, тратим не менее получаса, чтоб, не
поднимая головы, не садясь (ибо это невозможно),
разостлать одеяла, раздеться и улечься на ночь. Здесь тепло. Шугнанцы
спят снаружи, соорудив себе загородку из камней, свернувшись в клубок,
укрывшись шерстяными халатами и
всем теплым.
Перевал найден!
Восемнадцатого утром -- холод. Пока кипятился чай, я занимался
зарисовками окружающего рельефа. Шоик сегодня, не в пример вчерашнему,
торопит всех. Быстро собравшись, выходим к перевалу.
Крутой подъем, пересекаем речку, в которой валуны оледенели. Громадные
камни. Шугнанцы останавливаются, часто отдыхают.
Пользуюсь этим, чтоб рисовать и делать съемку. Иду с палкой. Мешков
палки не признает и шагает себе в высоких сапогах.
Перед нами -- язык ледника. Грязный, засыпанный моренной трухой лед
вздыбился над нами огромными, веющими холодом буграми. Только в одном месте
зияет ослепительно чистыми гранями высокий ледяной грот, из которого, бурля,
выбиваются струи прозрачнейшей, чистейшей воды. Извиваясь и журча, они
соединяются в веселый ручей, сразу убегающий под камни морены.
Рисунок сделан автором 17 августа 1931 года у "охотничьего" камня
в истоках реки Тусиян-Дара, на высоте 4 280 метров. Вид к
востоко-северо-востоку (60°) на водораздельный хребет Вяз-Дара --
Тусиян-Дара.
1. Обнажения мощных мраморных свит. 2. Предполагаемый перевал к реке
Вяз-Дара.
вырастает острым концом пик -- Шоик сказал, что его называют "Бобило".
Из-за пика плывут рыжие, мрачные тучи.
Шоик указывает мне камень -- "охотничий" камень с расщелиной, к которой
самим Шоиком прилажена стенка из мелких камней, чтоб было где спать на
киичьей охоте. Конура -- щель под камнем -- для одного. Впрочем, очень
потеснившись, можно забраться в нее вдвоем.
-- Вы здесь гости, -- торжественно говорит Шоик мне и Мешкову, -- вы
будете спать здесь
Забираюсь под камень с Мешковым. Отлично! Похоже на каменный гроб, в
котором даже не растянуться, но отлично! Уместимся!
До полной темноты делаю зарисовки и занимаюсь съемкой. Высота камня над
уровнем моря -- 4 280 метров по моему анероиду. Горит костер из кизяков,
набранных носильщиками по пути сюда. Едим мясные консервы. Изумительный
ландшафт: пики, зубцы, хребты, отвесы, скалы, и всюду -- снег и лед, при
луне таинственная синь, кажущийся неземным холод. Тяжелые тучи в лунном
сиянии стоят над пиком Бобило. Этот пик, как и многие другие, я нанес на
карту.
Забравшись с Мешковым в нору, тратим не менее получаса, чтоб, не
поднимая головы, не садясь (ибо это невозможно),
разостлать одеяла, раздеться и улечься на ночь. Здесь тепло. Шугнанцы
спят снаружи, соорудив себе загородку из камней, свернувшись в клубок,
укрывшись шерстяными халатами и
всем теплым.
Перевал найден!
Восемнадцатого утром -- холод. Пока кипятился чай, я занимался
зарисовками окружающего рельефа. Шоик сегодня, не в пример вчерашнему,
торопит всех. Быстро собравшись, выходим к перевалу.
Крутой подъем, пересекаем речку, в которой валуны оледенели. Громадные
камни. Шугнанцы останавливаются, часто отдыхают.
Пользуюсь этим, чтоб рисовать и делать съемку. Иду с палкой. Мешков
палки не признает и шагает себе в высоких сапогах.
Перед нами -- язык ледника. Грязный, засыпанный моренной трухой лед
вздыбился над нами огромными, веющими холодом буграми. Только в одном месте
зияет ослепительно чистыми гранями высокий ледяной грот, из которого, бурля,
выбиваются струи прозрачнейшей, чистейшей воды. Извиваясь и журча, они
соединяются в веселый ручей, сразу убегающий под камни морены.
 Рисунок сделан автором 18 августа 1931 года под пиком Бобило, у
фирнового цирка, на высоте 4 510 метров. Вид на восток (90°).
1. Обнажение мраморной свиты. 2. Предполагаемый перевал к реке
Вяз-Дара. 3. Отвесные стены.
Это исток той речки, по которой мы шли с утра, -- объясняю Мешкову,
тыча палкой в ледяную поверхность грота. -- Только мы сократили путь, взяв
по осыпи, напрямик. Вот так, товарищ Мешков, рождаются реки.
А ведь сколько воды в ней внизу! -- вдумчиво замечает Мешков.
Ну, пошли дальше, что ли?
Пошли, теперь ничего, будто легче стало! Самое скверное дело, это когда
под тобой птицы, а ты прямо вверх лезешь!
Однако путь по леднику оказался не легче. Его рассекают поперечные
трещины, извилистые, кажется -- бездонные: дневной свет, если заглянуть в
них, сгущается в зеленый, страшноватый мрак. Через узкие трещины надо
перепрыгивать, а широкие приходится обходить, подолгу шагая вдоль ледяных
кромок, путаясь в ледяных лабиринтах, иногда спускаясь в расщелины, по дну
которых бежит вода, иногда карабкаясь на острые зубья.
Шугнанцы по леднику идут неуверенно. Они совершенно бесстрашны на любых
скалах, но лед их пугает.
Вступаем на фирн, поднимаемся к снежному цирку. Ледник покрыт фирном.
Озерки и ручьи в снегу и во льду. Последняя упрямая снежная крутизна --
гребень водораздела. Врубаемся в снег, поминутно отдыхаем, но лезем
уверенно. Наконец высота 4 880 метров -- перевал.
Огромная видимость! Я не скрываю восторга от окружающих. Видны сотни
хребтов вокруг: хребты Индии, Афганистана, Памира. Это водораздел. Внизу
видна Гарм-Чашма--именно она, теперь уж нет сомнения. Ее верховья теряются
где-то среди гигантских пиков, их -- самых больших, приближающихся к 6 000
метров -- не менее полудюжины. Они не открыты исследователями, не названы до
сих пор. Среди них смутно виднеется еще более высокий, весь белый пик.
Облака мешают мне точно разглядеть его очертания. Он дразнит мое
воображение, но оставаться дольше на перевале в надежде, что дальние те
облака рассеются, конечно, нельзя.
Час двадцать минут пробыли мы на перевале. Я торопливо брал азимуты,
делал съемку, рисовал, записывал геологию: гнейсы, гнейсо-сланцы, пропластки
мраморов, голубовато-зеленые пегматитовые жилы, с роговой обманкой, биотитом
и другими цветными слюдами.
Спуск перед нами -- необычайно крутой гребень, скалы выветрены и
обесснежены. Начали спускаться прямо по отвесу,
вися на руках над пропастью, -- отвратительное место. Ниже -- крутая
осыпь мокрого мелкого щебня, плывущая вниз под ногами. Осторожно катимся
вместе с камнями. Один из сзади идущих нечаянно обрушил большой камень,
увлекший за собой грохочущую лавину камней. Она ураганом промчалась мимо
меня и Шоика, -- едва-едва успели мы отскочить. В несколько минут
стремительно мы окатились по осыпи на снег, на маленький ледничок и по снегу
побежали дальше, управляя палками. Ущелье закрыло от нас окружающий мир. Так
мчались, пока не добежали до первой травянистой лужайки. Бросились на нее
отдыхать вповалку. Я взглянул на мой анероид: за час такого сумасшедшего
бега мы спустились на семьсот метров по вертикали.
Шоик где-то высоко на скалах заметил кииков. Указывает мне пальцем -- с
трудом различаю две черные точки на дальнем снегу. Просит дать винтовку.
Стрелять бессмысленно: киики не ближе чем в километре, но я даю Шоику
винтовку, пусть побалуется. Шоик стреляет дважды, конечно, безрезультатно,
но все же доволен. Ниже -- ущелье, похожее на все узкие ущелья здешних мест.
Никакой тропы. Признаки тропы появились через несколько километров. Видим:
маленькая летовка, перед ней две женщины, боязливые и любопытствующие. Они
что-то крикнули, из летовки выбежали люди, окружили нас с восклицаниями
удивления, -- отсюда никогда не приходили люди!
Это горанская летовка Хэвдж, а река, по которой мы спустились сюда,
называется Хэвдж-Дара. Никогда не посещалась русскими и, конечно, ни на
каких картах не показана.
Излуками, вдоль самого русла, мимо лесочка, через маленький из ветвей
мостик, перекинутый на левый берег, мы спускаемся все ниже и ниже -- и
неожиданно: лес, тень, узкая долина и проносящаяся мимо тяжелыми волнами
река ГармЧашма. Но в каком ее месте, недалеко ли от устья, у самых ли
верховьев находимся мы -- не знаем.
Носильщики мои -- Назар-Мамат и Мамад-Кадам устали, но всех больше
жалуется на усталость Шоик. Мешков хладнокровен и невозмутим, как всегда, а
мне обнаруживать усталость уж просто по положению не приходится: надо всех
ободрять. И хотя тропа вниз по Гарм-Чашме хороша, и хоть в ближайшем же
оросительном канале мы с Мешковым выкупались, и хоть деревья закрывают нас
благодатной тенью, путь кажется длинным и утомительным. По пути -- посевы:
ячмень, пшеница, горох, просо, рожь, бобы, а среди них -- маленькие,
безлюдные сейчас летовки. Кишлачок Хосгунэ, за ним тропа -- обрывиста и
крута и, наконец, кишлак Гарм-Чашма. Всего этого нет на десятиверстке, и я
продолжаю съемку.
Рисунок сделан автором 18 августа 1931 года под пиком Бобило, у
фирнового цирка, на высоте 4 510 метров. Вид на восток (90°).
1. Обнажение мраморной свиты. 2. Предполагаемый перевал к реке
Вяз-Дара. 3. Отвесные стены.
Это исток той речки, по которой мы шли с утра, -- объясняю Мешкову,
тыча палкой в ледяную поверхность грота. -- Только мы сократили путь, взяв
по осыпи, напрямик. Вот так, товарищ Мешков, рождаются реки.
А ведь сколько воды в ней внизу! -- вдумчиво замечает Мешков.
Ну, пошли дальше, что ли?
Пошли, теперь ничего, будто легче стало! Самое скверное дело, это когда
под тобой птицы, а ты прямо вверх лезешь!
Однако путь по леднику оказался не легче. Его рассекают поперечные
трещины, извилистые, кажется -- бездонные: дневной свет, если заглянуть в
них, сгущается в зеленый, страшноватый мрак. Через узкие трещины надо
перепрыгивать, а широкие приходится обходить, подолгу шагая вдоль ледяных
кромок, путаясь в ледяных лабиринтах, иногда спускаясь в расщелины, по дну
которых бежит вода, иногда карабкаясь на острые зубья.
Шугнанцы по леднику идут неуверенно. Они совершенно бесстрашны на любых
скалах, но лед их пугает.
Вступаем на фирн, поднимаемся к снежному цирку. Ледник покрыт фирном.
Озерки и ручьи в снегу и во льду. Последняя упрямая снежная крутизна --
гребень водораздела. Врубаемся в снег, поминутно отдыхаем, но лезем
уверенно. Наконец высота 4 880 метров -- перевал.
Огромная видимость! Я не скрываю восторга от окружающих. Видны сотни
хребтов вокруг: хребты Индии, Афганистана, Памира. Это водораздел. Внизу
видна Гарм-Чашма--именно она, теперь уж нет сомнения. Ее верховья теряются
где-то среди гигантских пиков, их -- самых больших, приближающихся к 6 000
метров -- не менее полудюжины. Они не открыты исследователями, не названы до
сих пор. Среди них смутно виднеется еще более высокий, весь белый пик.
Облака мешают мне точно разглядеть его очертания. Он дразнит мое
воображение, но оставаться дольше на перевале в надежде, что дальние те
облака рассеются, конечно, нельзя.
Час двадцать минут пробыли мы на перевале. Я торопливо брал азимуты,
делал съемку, рисовал, записывал геологию: гнейсы, гнейсо-сланцы, пропластки
мраморов, голубовато-зеленые пегматитовые жилы, с роговой обманкой, биотитом
и другими цветными слюдами.
Спуск перед нами -- необычайно крутой гребень, скалы выветрены и
обесснежены. Начали спускаться прямо по отвесу,
вися на руках над пропастью, -- отвратительное место. Ниже -- крутая
осыпь мокрого мелкого щебня, плывущая вниз под ногами. Осторожно катимся
вместе с камнями. Один из сзади идущих нечаянно обрушил большой камень,
увлекший за собой грохочущую лавину камней. Она ураганом промчалась мимо
меня и Шоика, -- едва-едва успели мы отскочить. В несколько минут
стремительно мы окатились по осыпи на снег, на маленький ледничок и по снегу
побежали дальше, управляя палками. Ущелье закрыло от нас окружающий мир. Так
мчались, пока не добежали до первой травянистой лужайки. Бросились на нее
отдыхать вповалку. Я взглянул на мой анероид: за час такого сумасшедшего
бега мы спустились на семьсот метров по вертикали.
Шоик где-то высоко на скалах заметил кииков. Указывает мне пальцем -- с
трудом различаю две черные точки на дальнем снегу. Просит дать винтовку.
Стрелять бессмысленно: киики не ближе чем в километре, но я даю Шоику
винтовку, пусть побалуется. Шоик стреляет дважды, конечно, безрезультатно,
но все же доволен. Ниже -- ущелье, похожее на все узкие ущелья здешних мест.
Никакой тропы. Признаки тропы появились через несколько километров. Видим:
маленькая летовка, перед ней две женщины, боязливые и любопытствующие. Они
что-то крикнули, из летовки выбежали люди, окружили нас с восклицаниями
удивления, -- отсюда никогда не приходили люди!
Это горанская летовка Хэвдж, а река, по которой мы спустились сюда,
называется Хэвдж-Дара. Никогда не посещалась русскими и, конечно, ни на
каких картах не показана.
Излуками, вдоль самого русла, мимо лесочка, через маленький из ветвей
мостик, перекинутый на левый берег, мы спускаемся все ниже и ниже -- и
неожиданно: лес, тень, узкая долина и проносящаяся мимо тяжелыми волнами
река ГармЧашма. Но в каком ее месте, недалеко ли от устья, у самых ли
верховьев находимся мы -- не знаем.
Носильщики мои -- Назар-Мамат и Мамад-Кадам устали, но всех больше
жалуется на усталость Шоик. Мешков хладнокровен и невозмутим, как всегда, а
мне обнаруживать усталость уж просто по положению не приходится: надо всех
ободрять. И хотя тропа вниз по Гарм-Чашме хороша, и хоть в ближайшем же
оросительном канале мы с Мешковым выкупались, и хоть деревья закрывают нас
благодатной тенью, путь кажется длинным и утомительным. По пути -- посевы:
ячмень, пшеница, горох, просо, рожь, бобы, а среди них -- маленькие,
безлюдные сейчас летовки. Кишлачок Хосгунэ, за ним тропа -- обрывиста и
крута и, наконец, кишлак Гарм-Чашма. Всего этого нет на десятиверстке, и я
продолжаю съемку.
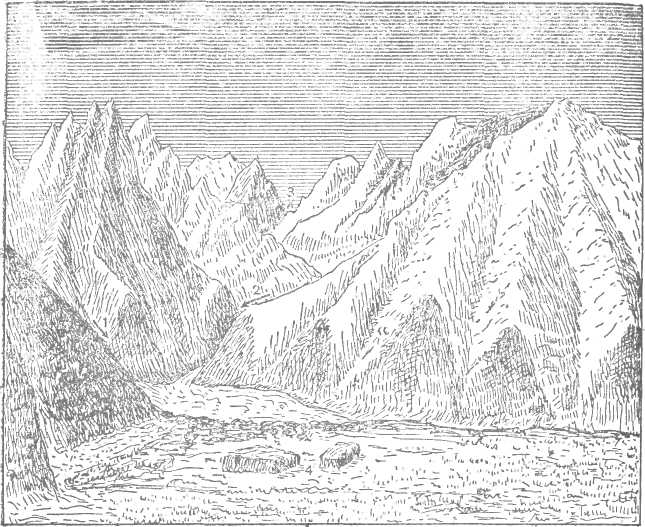 Рисунок сделан автором 18 августа 1931 года у летовки Хэвдж, на высоте
3 645 метров. Вид на ущелье реки Ростоу-Дара:
1. Река Хэвдж-Дара, 2. Река Ростоу-Дара. 3. Предполагаемый перевал к
реке Вяз-Дара.
4. Летовка Хэвдж.
У источника Гарм-Чашма
В кишлаке Гарм-Чашма (в нем всего восемь домов) мы остановились на
ночь, и я услышал от жителей странные вещи: что серный источник, показанный
на десятиверстке километрах в тридцати от устья, находится в
действительности здесь, у кишлака; что до кишлака Андероб на Пяндже отсюда
всего восемь километров; что перевал Зимбардор не выше нас, как можно судить
по карте, а ниже; что ведет этот перевал не в Шугнан, а в гора некую же,
параллельную Гарм-Чашме реку Биджунт; и, наконец, самое главное, что отсюда
до верховьев реки Гарм-Чашма пути не два-три дня, а всего один день, то-есть
что река эта вдвое или втрое короче показанной на десятиверстке. Все это
невероятно, но я верю старику, который мне это рассказывает, а потому меняю
все мои планы: завтра -- дневка и осмотр серных источников, работа над
картой; послезавтра -- путь вверх, к истокам Гарм-Чашмы, двадцать первого --
путь обратно, двадцать второго -- путь через перевал Девлох (оказывается,
есть и такой) в кишлак Куги-Ляль, на Пяндже, к старинному месторождению
рубинов, вернее -- благородной шпинели. А затем -- по Пянджу наверх, в
Ишкашим, где до сих пор мне еще не пришлось побывать. Говорю об этом
Мешкову. Он согласен на все, хотя сапоги его окончательно изорвались.
Укладываемся на одном из далицев (веранда). Но ночью, несмотря на
усталость, спать невозможно. Нас загрызают какие-то насекомые.
Жжем костер всю ночь. Засыпаем под утро, совершенно измученные.
Утром идем к источнику. В 1928 году он исследован минералогом А. Н.
Лабунцовым и его помощником Н. И. Березкиным, которые поднимались сюда снизу
-- от кишлака Андероб на Пяндже, а потом тщетно пытались взять перевал
Зимбардор, чтобы выйти на Шах-Дару. Они вынуждены были вернуться к Пянджу у
кишлака Хас-Хараг.
Источник -- отдельная известковая горка посередине долины, на правом
берегу реки, метрах в двухстах ниже кишлака. Горка, совершенно белая, вся
состоит из серии "ванн", одна над другой, -- маленьких водоемов, над
которыми фонтанчиками бьет горячая сернистая вода. Вся горка -- продукт
отложения извести. Там, где фонтанчики бьют особенно сильно, -- желтые
набухания серы. Вода в "ваннах" разной температуры -- от двадцати до
шестидесяти градусов. Тут же, на горке, в пещерах, образованных старым,
давно иссякшим источником, -- ибодатгох (молельня, "святое место") с шестом
и белой тряпкой на шесте.
Замечательное купанье: вымылись исключительно, как не вымоешься ни в
какой бане. Выстирали все, что есть, до кепки и пиджака включительно. После
этого купались в ледяной воде Гарм-Чашмы. Возвратились в кишлак
обновленными, бодрыми и веселыми...
К истокам реки Гарм-Чашма
На следующий день, рано утром, мы вышли в верховья реки Гарм-Чашма,
дошли только к вечеру. По пути, выше ХэвджДары, попались нам две летовки, в
верхней (Истыдойджайляк) около пятнадцати женщин и четверо мужчин пасли
большое стадо скота, принадлежащего нижним кишлакам.
Здесь ко мне принесли страшного ребенка -- все лицо черное, как уголь.
Я думал, он обгорел, нет, оказывается, упал в реку, изранен камнями и
для излечения вымазан сажей с жиром. Я попробовал отмыть сажу, чтоб смазать
лицо вазелином, но это оказалось большой работой. Решил заняться ребенком
на обратном пути, тем более, что ребенок уже дней пять ходит в таком виде.
Рисунок сделан автором 18 августа 1931 года у летовки Хэвдж, на высоте
3 645 метров. Вид на ущелье реки Ростоу-Дара:
1. Река Хэвдж-Дара, 2. Река Ростоу-Дара. 3. Предполагаемый перевал к
реке Вяз-Дара.
4. Летовка Хэвдж.
У источника Гарм-Чашма
В кишлаке Гарм-Чашма (в нем всего восемь домов) мы остановились на
ночь, и я услышал от жителей странные вещи: что серный источник, показанный
на десятиверстке километрах в тридцати от устья, находится в
действительности здесь, у кишлака; что до кишлака Андероб на Пяндже отсюда
всего восемь километров; что перевал Зимбардор не выше нас, как можно судить
по карте, а ниже; что ведет этот перевал не в Шугнан, а в гора некую же,
параллельную Гарм-Чашме реку Биджунт; и, наконец, самое главное, что отсюда
до верховьев реки Гарм-Чашма пути не два-три дня, а всего один день, то-есть
что река эта вдвое или втрое короче показанной на десятиверстке. Все это
невероятно, но я верю старику, который мне это рассказывает, а потому меняю
все мои планы: завтра -- дневка и осмотр серных источников, работа над
картой; послезавтра -- путь вверх, к истокам Гарм-Чашмы, двадцать первого --
путь обратно, двадцать второго -- путь через перевал Девлох (оказывается,
есть и такой) в кишлак Куги-Ляль, на Пяндже, к старинному месторождению
рубинов, вернее -- благородной шпинели. А затем -- по Пянджу наверх, в
Ишкашим, где до сих пор мне еще не пришлось побывать. Говорю об этом
Мешкову. Он согласен на все, хотя сапоги его окончательно изорвались.
Укладываемся на одном из далицев (веранда). Но ночью, несмотря на
усталость, спать невозможно. Нас загрызают какие-то насекомые.
Жжем костер всю ночь. Засыпаем под утро, совершенно измученные.
Утром идем к источнику. В 1928 году он исследован минералогом А. Н.
Лабунцовым и его помощником Н. И. Березкиным, которые поднимались сюда снизу
-- от кишлака Андероб на Пяндже, а потом тщетно пытались взять перевал
Зимбардор, чтобы выйти на Шах-Дару. Они вынуждены были вернуться к Пянджу у
кишлака Хас-Хараг.
Источник -- отдельная известковая горка посередине долины, на правом
берегу реки, метрах в двухстах ниже кишлака. Горка, совершенно белая, вся
состоит из серии "ванн", одна над другой, -- маленьких водоемов, над
которыми фонтанчиками бьет горячая сернистая вода. Вся горка -- продукт
отложения извести. Там, где фонтанчики бьют особенно сильно, -- желтые
набухания серы. Вода в "ваннах" разной температуры -- от двадцати до
шестидесяти градусов. Тут же, на горке, в пещерах, образованных старым,
давно иссякшим источником, -- ибодатгох (молельня, "святое место") с шестом
и белой тряпкой на шесте.
Замечательное купанье: вымылись исключительно, как не вымоешься ни в
какой бане. Выстирали все, что есть, до кепки и пиджака включительно. После
этого купались в ледяной воде Гарм-Чашмы. Возвратились в кишлак
обновленными, бодрыми и веселыми...
К истокам реки Гарм-Чашма
На следующий день, рано утром, мы вышли в верховья реки Гарм-Чашма,
дошли только к вечеру. По пути, выше ХэвджДары, попались нам две летовки, в
верхней (Истыдойджайляк) около пятнадцати женщин и четверо мужчин пасли
большое стадо скота, принадлежащего нижним кишлакам.
Здесь ко мне принесли страшного ребенка -- все лицо черное, как уголь.
Я думал, он обгорел, нет, оказывается, упал в реку, изранен камнями и
для излечения вымазан сажей с жиром. Я попробовал отмыть сажу, чтоб смазать
лицо вазелином, но это оказалось большой работой. Решил заняться ребенком
на обратном пути, тем более, что ребенок уже дней пять ходит в таком виде.
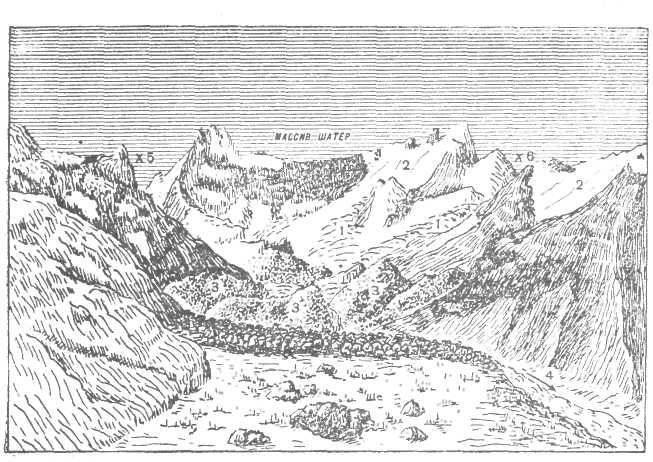 Рисунок сделан автором 21 августа 1931 года в верховьях реки Гарм-Чашма,
у "охотничьего" камня, на высоте 3 930 метров. Вид к юго-востоку (150 o), на
истоки реки Гарм-Чашма и массив Шатер:
1. Ледники. 2. Вечные снега, фирны. 3. Моренные нагромождения. 4. Русло
реки Гарм-Чашма. 5. Предполагаемый перевал. 6. Перевал к Богуш-Даре.
Мы дошли до истоков и заночевали, вдвоем с Мешковым, под "охотничьим"
камнем.
Гарм-Чашма вытекает из больших ледников, спадающих, с грандиозной стены
массива, увенчанного двумя характерными пиками, абсолютная высота которых не
менее 6 000 метров, по самым осторожным глазомерным расчетам. Этот массив
назван мною массивом Шатер.
Мне удалось узнать вверху, на востоке, над Гарм-Чашмой, тот самый
водораздел, с которого две недели тому назад, я впервые увидел неизвестную
реку, принятую мною тогда за Гарм-Чашму. Значит, все мои предположения
оправдались, и составленная мною карта, к великой моей радости, превосходно
замкнулась. Неясным оставался только центр этой области -- территория между
Биджуар-Дарой и пройденным мною перевалом. Она оставалась белым пятном,
разгадать которое мне удалось только на следующий год.
Продукты у нас все без исключения кончились. Поэтому на следующий день
мы двинулись вниз. Я был доволен, мне все было ясно. Что же касается реки
Гарм-Чашма, то она оказалась длиной всего в тридцать километров, я нанес на
карту около тридцати мелких и крупных ее притоков... Только значительно
позднее я узнал, что до меня на реке Гарм-Чашма побывал ботаник Б. А.
Федченко, в 1904 году. К верховьям Гарм-Чашмы он проник с другой стороны,
чем я, а именно: с юго-запада, от Пянджа, от кишлака Казы-Деу, через перевал
Богуш-Дара. Борису Алексеевичу Федченко и принадлежит честь первого
исследования течения реки Гарм-Чашма, вниз до Андероба. Но данные Б. А.
Федченко (он сам сообщил мне их в 1932 году), к сожалению, не были отражены
на десятиверстной карте, хотя она печаталась в 1925 году.
Мне были приятны результаты, которые дали мне маршруты этого месяца:
сплетение горных хребтов к северу и востоку от Гарм-Чашмы было расшифровано,
открыто четыре больших и несколько маленьких ледников, несколько крупных рек
исследовано от устья до истоков, несколько кишлаков нанесено на карту и
открыт ряд высочайших пиков, из которых не меньше шести приближались к 6 000
метров или достигали их. Мешков, разделявший со мной все трудности
странствий и вместе со мной сделавший все открытия, по справедливости
заслужил, чтоб его именем назван был взятый нами перевал. Этот перевал я
обозначил на карте перевалом Мешкова.
На обратном пути я занялся лечением ребенка в Истыдойдж-айляке.
22 августа я пересек верхом нетрудный перевал Девлох, спустился в
кишлак Куги-Ляль и, обследовав древние копи шпинели, выехал на одну из
пограничных застав. Здесь я засел на целую неделю за вычерчивание
составленной мною карты.
Через ледник перевала Шитхарв
На следующий, 1932 год после долгих странствий по Восточному Памиру я с
небольшой группой участников Таджикской комплексной экспедиции оказался в
верховьях Пянджана реке Памир. Отсюда мы спустились в Вахан, прошли по
Пянджу через Зунг в кишлак Шигхарз.
На десятиверстной карте, в верховьях реки, впадающей здесь в Пяндж, был
обозначен перевал Шитхарв (который, о чем я уже упоминал, существовал в
действительности, но, как
оказалось позже, находился совсем в другом месте, чем было указано на
карте).
Путь через перевал Шитхарв один только раз был пройден исследователем:
ботаником Б. А. Федченко в 1904 году.
Я с тремя научными работниками и несколькими носильщиками отделился от
группы, направлявшейся далее вниз по Пянджу. Мы решили: перевалив через
Шитхарв, пройти в ущелье Бадом-Дара. Мои спутники хотели подняться оттуда к
месторождению ляпис-лазури, а я -- довершить мои исследования того белого
пятна, которое в основном уже было расшифровано в 1930 и 1931 годах.
Перевал Шитхарв дался нам нелегко. Путь оказался много длиннее, чем мы
ожидали. До перевала мы шли два дня, поднимаясь сначала вдоль реки, затем по
хаотическим моренам, потом по фирну и леднику.
Пересекая на крутизне фирновый склон, один из наших носильщиков чуть не
погиб, сорвавшись и прокатившись вниз по откосу добрых сто метров. К
счастью, неведомо как, он задержался перед самой грудой скал и испуганный,
но невредимый, кружным путем снова поднялся к нам.
Перед гребнем перевала огромная стена фирна встала перед нами отвесом.
Замерзшие и очень усталые, мы все же взобрались на нее. Был уже поздний
вечер, дул леденящий ветер, он едва не сдул нас в пропасть, когда мы брали
перевал, переползая через острый, как лезвие пилы, гребень. Носильщики
начали замерзать. Мы поторопились спуститься на длинный ледник и отправили
носильщиков вниз к речным долинам, чтоб они переночевали в тепле и там
дождались нас утром. Сами мы заночевали на леднике, на высоте 5 200 метров
над уровнем моря, положив свои спальные мешки прямо на лед, из которого,
врезаясь нам в бока, выпирали острые, мелкие камни.
Всю ночь мы почти не спали от холода, мороз был за двадцать градусов.
Луна, казалось, не двигалась по небу, издеваясь над нами. Льды, снега,
острые зубцы вершин были великолепны и фантастичны в зеленом призрачном
свете. Разреженный воздух действовал на нас, как веселящий наркотик, мне
казалось, что я переселился на другую планету и витаю над ней. Эта явная
галлюцинация лишний раз доказывала, что трезвое мышление было нарушено
действующей на весь организм высотой. В эту ночь, без палатки, на льду, мы
едва не замерзли.
Утром 16 августа мы двинулись вниз -- в Шугнан. Чуть дальше со мной и с
одним из моих спутников случилось неприятное происшествие.
Спускаясь с ледника к нижним моренам, я зашел далеко вперед. Ледник был
выгнут кверху дугой, и мне казалось, что
по этой дуге я прямиком спущусь на морену. Только что взошедшее солнце
еще не растопило верхних покровов льда, -- я не скользил в своих горных,
подбитых триконями ботинках ("кошек" мы в тот раз не брали с собой) и
спускался бегом. Но ледник оказался подобным половине гигантского яблока, --
чем дальше, тем все круче он падал вниз. Внезапно заметив, что дальше он
становится вовсе отвесным и что я мчусь по кривой, переходящей в отвес, я
попытался остановиться. Но инерция была уже так сильна, что остановиться мне
не удалось. Я бежал все быстрее, понимая, что мой бег сейчас превратится в
падение -- и тогда... Я полетел бы вниз с высоты в полторастадвести метров
на камни морены, то-есть, как прикидываю сейчас, больше, чем с высоты
Исаакиевского собора. Но я увидел перед собой крупный камень, как зуб
торчавший из ледника. Мне удалось чуть-чуть изменить направление, и со всего
размаха, сильно ударившись в этот камень, я уперся и разом остановился.
Оглянувшись, я увидел, что таким же манером ко мне катится мой молодой
спутник. Через минуту он также с размаху уперся в мой камень, причем я
протянул руки, чтобы смягчить его удар. Остальные, следя за нами сверху,
издалека, сообразили, что здесь спускаться не следует и пошли в сторону
искать кружной, но более безопасный путь.
Мы вдвоем принялись обсуждать, что делать нам дальше? Подняться обратно
казалось немыслимым: так крут был предательский ледяной склон. Мы
попробовали рубить ступеньки вниз, спустили вниз несколько камней. Но камни,
прокатившись с десяток метров по крутизне, отделились от поверхности льда и
полетели отвесно вниз. Что делалось там, нам не было видно, но,
прислушавшись, мы услышали далекий звук падения камней. Веревки у нас не
было. Страховать друг друга на спуске -- без веревок и "кошек" -- мы не
могли. Мы провозились не меньше получаса, примеряясь и так и этак, но
спуститься было явно немыслимо.
Далеко внизу на морене мы увидели наших товарищей, которые знаками
показывали нам, что метров на двести в сторону есть возможность спуститься.
Но как пройти эти двести метров, пересекая почти отвесную стену льда? Мы
могли бы провести здесь в размышлениях целый день. Солнце, однако, заставило
нас поспешить: верхний слой льда стал таять, сверху побежали струйки воды, и
вслед за струйками, мимо нас, как ядра, со свистом начали пролетать камни,
примороженные ночью ко льду, а сейчас оторвавшиеся и потерявшие равновесие.
Следовало немедленно выбираться из этого проклятого места. Оставалось
одно: лезть вверх по склону, навстречу падающим камням, рубя ступеньки и
рискуя если не быть убитыми камнями, то просто сорваться к разбиться
насмерть.
Оба мы старались казаться друг другу спокойными, придавая своим голосам
уверенность и беспечность, но перекидываясь что-то очень уж обрывистыми,
лаконичными фразами. Мы взялись рубить ступеньки. Однако едва я вырубил
ступеньку (ту мою ногу, что была внизу, в это время рукою поддерживал мой
спутник), как ненавистная льющаяся сверху вода вымыла ступеньку почти до
основания. Камни продолжали свистеть мимо нас. Я рубил пятнадцать-двадцать
ступенек (не слишком легкое дело на такой высоте и имея в виду, что всякое
неловкое движение грозило потерей равновесия), потом пропускал вперед моего
товарища по беде, и он заменял меня, а я страховал его, поддерживая его
"нижнюю" ногу.
Вот когда мы ругали себя за то, что легкомысленно не взяли на перевал
веревки и "кошек"!
Несколько камней, к счастью мелких, ударило нас с основательной силой.
Нам пришлось вырубить около ста пятидесяти ступеней, прежде чем мы
выбрались на пологое место. От усталости мы изнемогали, но на радостях, что
выбрались невредимыми, без всякого отдыха, другим путем двинулись вниз.
Мы догнали своих на морене. Они и не догадывались, в какую переделку
пришлось нам попасть.
В этот день, уже в темноте, мы дошли до шугнанской реки -- Бадом-Дара.
"Ваханский период" нашего путешествия кончился.
К истокам реки Вяз-Дара
17 августа, в давно уже знакомом мне кишлачке Бадом, я распрощался со
своими спутниками, условившись встретиться с ними через полтора месяца на
леднике Федченко, и остался один.
Придя в этот день в Барвоз, на реке Шах-Дара, я занялся подготовкой к
маршруту туда, куда мне не удалось проникнуть год назад -- в верховья реки
Вяз-Дара. Я хорошо помнил рассказ престарелого Иорика о "величайших
трудностях", о "покатых и покрытых льдом узких карнизах", о "глубоких
снегах" и о "пропастях", над которыми надо проходить по нависшему льду. Но я
полагал, что все эти страхи преувеличены и что мне удастся найти перевал к
Гарм-Чашме.
Подготовка моя к маршруту заключалась в одном: необходимо было найти
носильщиков. В поисках же самого перевала мне предстояло положиться только
на удачу да на собственную сообразительность, так как, кроме
восьмидесятилетнего Йорика, никто пути туда не знал, а Иорик итти со мной,
конечко, не мог.
Мой старый знакомый Карашир, провожавший нашу экспедицию в 1930 году к
месторождению ляпис-лазури, пригласил меня ночевать к себе и взялся помочь
мне найти досильщиков.
На рассвете 18 августа, после короткого сна на крыше маленького
каменного дома Карашира, я вместе с Караширом, погрузившим мои вещи на
ишака, явился в кишлак Медеинвед, к председателю местного сельсовета. К
этому времени трудные поиски носильщиков уже завершились успехом: со мной
согласились итти два жителя кишлака Вяз: Бондай-Шо и Хасоф-бек. Но им нужно
было заняться пошивками и испечь лепешки.
Поднявшись в кишлак Вяз, я встретился с ними, уже готовыми к
путешествию. Бондай-Шо, высокий ростом, мужественный, красивый, с энергичным
лицом. Черная, но не очень, бритая голова, складки у рта, безбородый, но
давно не бритый. Серые с зеленцой глаза, широкий разлет темносерых бровей,
прямой нос, на лбу ряд мелких морщин. Налаживая свою амуницию, возясь с
шилом, он поджимает губы. Одет Бондай-Шо в добротные рыжие суконные штаны, в
красную рубаху с черной оторочкой воротника. На нем великолепные узорчатые
шерстяные чулки -- джюрапы, новые, хорошие сыромятные пехи. Поверх красной
рубахи на плечи накинут белый суконный чекмень. Про запас Бондай-Шо берет с
собой такой же, как штаны, рыжий суконный френч афганского покроя. На голове
-- белая тюбетейка с черным ободком, поверх нее твердый белый с красным
днищем кашгарский колпак. Охотничий пояс со всеми принадлежностями довершает
строго выдержанный облик горца-охотника, что-то орлиное есть во всей его
мужественной фигуре. Его лицо, смелое и открытое, глаза с блеском иронии и
веселья, решительная, правдивая речь сразу же расположили меня к нему, и я с
удовольствием подумал, что с этим человеком в пути не пропадешь. Таких
охотников, как БондайШо, шугнанцы зовут палавонами -- богатырями.
Совсем не таков был Хасоф-бек, маленький, чернявый, юркий в своих
движениях и, как видно, слабый духом в минуту опасности, но зато слишком
самоуверенный и горделивый, когда в спокойный час вокруг него собираются
собеседники. Он только тщился изобразить из себя палавона: ружье и доспехи
были ему совсем не к лицу... Я забыл сказать, что мои спутники брали с собой
цан -- уже описанные мною огромные фитильные самопалы с деревянными ножками,
на которые ружье устанавливается для того, чтобы охотник мог точнее
прицелиться.
Вещей у меня было совсем немного -- спальный мешок да рюкзак, поэтому
оба мои спутника охотно нанялись в носильщики в надежде поохотиться на диких
козлов -- кииков.
Рисунок сделан автором 21 августа 1931 года в верховьях реки Гарм-Чашма,
у "охотничьего" камня, на высоте 3 930 метров. Вид к юго-востоку (150 o), на
истоки реки Гарм-Чашма и массив Шатер:
1. Ледники. 2. Вечные снега, фирны. 3. Моренные нагромождения. 4. Русло
реки Гарм-Чашма. 5. Предполагаемый перевал. 6. Перевал к Богуш-Даре.
Мы дошли до истоков и заночевали, вдвоем с Мешковым, под "охотничьим"
камнем.
Гарм-Чашма вытекает из больших ледников, спадающих, с грандиозной стены
массива, увенчанного двумя характерными пиками, абсолютная высота которых не
менее 6 000 метров, по самым осторожным глазомерным расчетам. Этот массив
назван мною массивом Шатер.
Мне удалось узнать вверху, на востоке, над Гарм-Чашмой, тот самый
водораздел, с которого две недели тому назад, я впервые увидел неизвестную
реку, принятую мною тогда за Гарм-Чашму. Значит, все мои предположения
оправдались, и составленная мною карта, к великой моей радости, превосходно
замкнулась. Неясным оставался только центр этой области -- территория между
Биджуар-Дарой и пройденным мною перевалом. Она оставалась белым пятном,
разгадать которое мне удалось только на следующий год.
Продукты у нас все без исключения кончились. Поэтому на следующий день
мы двинулись вниз. Я был доволен, мне все было ясно. Что же касается реки
Гарм-Чашма, то она оказалась длиной всего в тридцать километров, я нанес на
карту около тридцати мелких и крупных ее притоков... Только значительно
позднее я узнал, что до меня на реке Гарм-Чашма побывал ботаник Б. А.
Федченко, в 1904 году. К верховьям Гарм-Чашмы он проник с другой стороны,
чем я, а именно: с юго-запада, от Пянджа, от кишлака Казы-Деу, через перевал
Богуш-Дара. Борису Алексеевичу Федченко и принадлежит честь первого
исследования течения реки Гарм-Чашма, вниз до Андероба. Но данные Б. А.
Федченко (он сам сообщил мне их в 1932 году), к сожалению, не были отражены
на десятиверстной карте, хотя она печаталась в 1925 году.
Мне были приятны результаты, которые дали мне маршруты этого месяца:
сплетение горных хребтов к северу и востоку от Гарм-Чашмы было расшифровано,
открыто четыре больших и несколько маленьких ледников, несколько крупных рек
исследовано от устья до истоков, несколько кишлаков нанесено на карту и
открыт ряд высочайших пиков, из которых не меньше шести приближались к 6 000
метров или достигали их. Мешков, разделявший со мной все трудности
странствий и вместе со мной сделавший все открытия, по справедливости
заслужил, чтоб его именем назван был взятый нами перевал. Этот перевал я
обозначил на карте перевалом Мешкова.
На обратном пути я занялся лечением ребенка в Истыдойдж-айляке.
22 августа я пересек верхом нетрудный перевал Девлох, спустился в
кишлак Куги-Ляль и, обследовав древние копи шпинели, выехал на одну из
пограничных застав. Здесь я засел на целую неделю за вычерчивание
составленной мною карты.
Через ледник перевала Шитхарв
На следующий, 1932 год после долгих странствий по Восточному Памиру я с
небольшой группой участников Таджикской комплексной экспедиции оказался в
верховьях Пянджана реке Памир. Отсюда мы спустились в Вахан, прошли по
Пянджу через Зунг в кишлак Шигхарз.
На десятиверстной карте, в верховьях реки, впадающей здесь в Пяндж, был
обозначен перевал Шитхарв (который, о чем я уже упоминал, существовал в
действительности, но, как
оказалось позже, находился совсем в другом месте, чем было указано на
карте).
Путь через перевал Шитхарв один только раз был пройден исследователем:
ботаником Б. А. Федченко в 1904 году.
Я с тремя научными работниками и несколькими носильщиками отделился от
группы, направлявшейся далее вниз по Пянджу. Мы решили: перевалив через
Шитхарв, пройти в ущелье Бадом-Дара. Мои спутники хотели подняться оттуда к
месторождению ляпис-лазури, а я -- довершить мои исследования того белого
пятна, которое в основном уже было расшифровано в 1930 и 1931 годах.
Перевал Шитхарв дался нам нелегко. Путь оказался много длиннее, чем мы
ожидали. До перевала мы шли два дня, поднимаясь сначала вдоль реки, затем по
хаотическим моренам, потом по фирну и леднику.
Пересекая на крутизне фирновый склон, один из наших носильщиков чуть не
погиб, сорвавшись и прокатившись вниз по откосу добрых сто метров. К
счастью, неведомо как, он задержался перед самой грудой скал и испуганный,
но невредимый, кружным путем снова поднялся к нам.
Перед гребнем перевала огромная стена фирна встала перед нами отвесом.
Замерзшие и очень усталые, мы все же взобрались на нее. Был уже поздний
вечер, дул леденящий ветер, он едва не сдул нас в пропасть, когда мы брали
перевал, переползая через острый, как лезвие пилы, гребень. Носильщики
начали замерзать. Мы поторопились спуститься на длинный ледник и отправили
носильщиков вниз к речным долинам, чтоб они переночевали в тепле и там
дождались нас утром. Сами мы заночевали на леднике, на высоте 5 200 метров
над уровнем моря, положив свои спальные мешки прямо на лед, из которого,
врезаясь нам в бока, выпирали острые, мелкие камни.
Всю ночь мы почти не спали от холода, мороз был за двадцать градусов.
Луна, казалось, не двигалась по небу, издеваясь над нами. Льды, снега,
острые зубцы вершин были великолепны и фантастичны в зеленом призрачном
свете. Разреженный воздух действовал на нас, как веселящий наркотик, мне
казалось, что я переселился на другую планету и витаю над ней. Эта явная
галлюцинация лишний раз доказывала, что трезвое мышление было нарушено
действующей на весь организм высотой. В эту ночь, без палатки, на льду, мы
едва не замерзли.
Утром 16 августа мы двинулись вниз -- в Шугнан. Чуть дальше со мной и с
одним из моих спутников случилось неприятное происшествие.
Спускаясь с ледника к нижним моренам, я зашел далеко вперед. Ледник был
выгнут кверху дугой, и мне казалось, что
по этой дуге я прямиком спущусь на морену. Только что взошедшее солнце
еще не растопило верхних покровов льда, -- я не скользил в своих горных,
подбитых триконями ботинках ("кошек" мы в тот раз не брали с собой) и
спускался бегом. Но ледник оказался подобным половине гигантского яблока, --
чем дальше, тем все круче он падал вниз. Внезапно заметив, что дальше он
становится вовсе отвесным и что я мчусь по кривой, переходящей в отвес, я
попытался остановиться. Но инерция была уже так сильна, что остановиться мне
не удалось. Я бежал все быстрее, понимая, что мой бег сейчас превратится в
падение -- и тогда... Я полетел бы вниз с высоты в полторастадвести метров
на камни морены, то-есть, как прикидываю сейчас, больше, чем с высоты
Исаакиевского собора. Но я увидел перед собой крупный камень, как зуб
торчавший из ледника. Мне удалось чуть-чуть изменить направление, и со всего
размаха, сильно ударившись в этот камень, я уперся и разом остановился.
Оглянувшись, я увидел, что таким же манером ко мне катится мой молодой
спутник. Через минуту он также с размаху уперся в мой камень, причем я
протянул руки, чтобы смягчить его удар. Остальные, следя за нами сверху,
издалека, сообразили, что здесь спускаться не следует и пошли в сторону
искать кружной, но более безопасный путь.
Мы вдвоем принялись обсуждать, что делать нам дальше? Подняться обратно
казалось немыслимым: так крут был предательский ледяной склон. Мы
попробовали рубить ступеньки вниз, спустили вниз несколько камней. Но камни,
прокатившись с десяток метров по крутизне, отделились от поверхности льда и
полетели отвесно вниз. Что делалось там, нам не было видно, но,
прислушавшись, мы услышали далекий звук падения камней. Веревки у нас не
было. Страховать друг друга на спуске -- без веревок и "кошек" -- мы не
могли. Мы провозились не меньше получаса, примеряясь и так и этак, но
спуститься было явно немыслимо.
Далеко внизу на морене мы увидели наших товарищей, которые знаками
показывали нам, что метров на двести в сторону есть возможность спуститься.
Но как пройти эти двести метров, пересекая почти отвесную стену льда? Мы
могли бы провести здесь в размышлениях целый день. Солнце, однако, заставило
нас поспешить: верхний слой льда стал таять, сверху побежали струйки воды, и
вслед за струйками, мимо нас, как ядра, со свистом начали пролетать камни,
примороженные ночью ко льду, а сейчас оторвавшиеся и потерявшие равновесие.
Следовало немедленно выбираться из этого проклятого места. Оставалось
одно: лезть вверх по склону, навстречу падающим камням, рубя ступеньки и
рискуя если не быть убитыми камнями, то просто сорваться к разбиться
насмерть.
Оба мы старались казаться друг другу спокойными, придавая своим голосам
уверенность и беспечность, но перекидываясь что-то очень уж обрывистыми,
лаконичными фразами. Мы взялись рубить ступеньки. Однако едва я вырубил
ступеньку (ту мою ногу, что была внизу, в это время рукою поддерживал мой
спутник), как ненавистная льющаяся сверху вода вымыла ступеньку почти до
основания. Камни продолжали свистеть мимо нас. Я рубил пятнадцать-двадцать
ступенек (не слишком легкое дело на такой высоте и имея в виду, что всякое
неловкое движение грозило потерей равновесия), потом пропускал вперед моего
товарища по беде, и он заменял меня, а я страховал его, поддерживая его
"нижнюю" ногу.
Вот когда мы ругали себя за то, что легкомысленно не взяли на перевал
веревки и "кошек"!
Несколько камней, к счастью мелких, ударило нас с основательной силой.
Нам пришлось вырубить около ста пятидесяти ступеней, прежде чем мы
выбрались на пологое место. От усталости мы изнемогали, но на радостях, что
выбрались невредимыми, без всякого отдыха, другим путем двинулись вниз.
Мы догнали своих на морене. Они и не догадывались, в какую переделку
пришлось нам попасть.
В этот день, уже в темноте, мы дошли до шугнанской реки -- Бадом-Дара.
"Ваханский период" нашего путешествия кончился.
К истокам реки Вяз-Дара
17 августа, в давно уже знакомом мне кишлачке Бадом, я распрощался со
своими спутниками, условившись встретиться с ними через полтора месяца на
леднике Федченко, и остался один.
Придя в этот день в Барвоз, на реке Шах-Дара, я занялся подготовкой к
маршруту туда, куда мне не удалось проникнуть год назад -- в верховья реки
Вяз-Дара. Я хорошо помнил рассказ престарелого Иорика о "величайших
трудностях", о "покатых и покрытых льдом узких карнизах", о "глубоких
снегах" и о "пропастях", над которыми надо проходить по нависшему льду. Но я
полагал, что все эти страхи преувеличены и что мне удастся найти перевал к
Гарм-Чашме.
Подготовка моя к маршруту заключалась в одном: необходимо было найти
носильщиков. В поисках же самого перевала мне предстояло положиться только
на удачу да на собственную сообразительность, так как, кроме
восьмидесятилетнего Йорика, никто пути туда не знал, а Иорик итти со мной,
конечко, не мог.
Мой старый знакомый Карашир, провожавший нашу экспедицию в 1930 году к
месторождению ляпис-лазури, пригласил меня ночевать к себе и взялся помочь
мне найти досильщиков.
На рассвете 18 августа, после короткого сна на крыше маленького
каменного дома Карашира, я вместе с Караширом, погрузившим мои вещи на
ишака, явился в кишлак Медеинвед, к председателю местного сельсовета. К
этому времени трудные поиски носильщиков уже завершились успехом: со мной
согласились итти два жителя кишлака Вяз: Бондай-Шо и Хасоф-бек. Но им нужно
было заняться пошивками и испечь лепешки.
Поднявшись в кишлак Вяз, я встретился с ними, уже готовыми к
путешествию. Бондай-Шо, высокий ростом, мужественный, красивый, с энергичным
лицом. Черная, но не очень, бритая голова, складки у рта, безбородый, но
давно не бритый. Серые с зеленцой глаза, широкий разлет темносерых бровей,
прямой нос, на лбу ряд мелких морщин. Налаживая свою амуницию, возясь с
шилом, он поджимает губы. Одет Бондай-Шо в добротные рыжие суконные штаны, в
красную рубаху с черной оторочкой воротника. На нем великолепные узорчатые
шерстяные чулки -- джюрапы, новые, хорошие сыромятные пехи. Поверх красной
рубахи на плечи накинут белый суконный чекмень. Про запас Бондай-Шо берет с
собой такой же, как штаны, рыжий суконный френч афганского покроя. На голове
-- белая тюбетейка с черным ободком, поверх нее твердый белый с красным
днищем кашгарский колпак. Охотничий пояс со всеми принадлежностями довершает
строго выдержанный облик горца-охотника, что-то орлиное есть во всей его
мужественной фигуре. Его лицо, смелое и открытое, глаза с блеском иронии и
веселья, решительная, правдивая речь сразу же расположили меня к нему, и я с
удовольствием подумал, что с этим человеком в пути не пропадешь. Таких
охотников, как БондайШо, шугнанцы зовут палавонами -- богатырями.
Совсем не таков был Хасоф-бек, маленький, чернявый, юркий в своих
движениях и, как видно, слабый духом в минуту опасности, но зато слишком
самоуверенный и горделивый, когда в спокойный час вокруг него собираются
собеседники. Он только тщился изобразить из себя палавона: ружье и доспехи
были ему совсем не к лицу... Я забыл сказать, что мои спутники брали с собой
цан -- уже описанные мною огромные фитильные самопалы с деревянными ножками,
на которые ружье устанавливается для того, чтобы охотник мог точнее
прицелиться.
Вещей у меня было совсем немного -- спальный мешок да рюкзак, поэтому
оба мои спутника охотно нанялись в носильщики в надежде поохотиться на диких
козлов -- кииков.
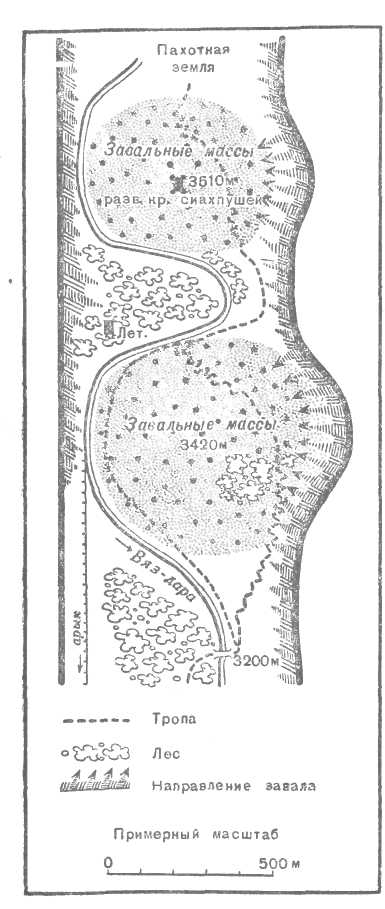 Рисунок сделан автором 18 августа 1932 года в низовьях реки Вяз-Дара.
Схема ВязДаринского завала.
В 2 часа 50 минут дня мы втроем выступили в маршрут. В моем дневнике
появилась запись:
"Анероид. Термометр -- пращ. Съемка: горный компас No 6572; азимуты
беру на 0; румбы отмечаю по показанию N стрелки; расстояние -- по часам и на
глаз. Первый азимут 240°; беру его из кишлака Вяз, вверх по ущелью Вяз-Дара,
до поворота -- расстояние 1 километр".
В начале узкой долипы -- густая растительность: тополь, тал, облепиха,
шиповник. Мы поднимаемся по тропе вдоль правого берега. Через полчаса лес
кончается: тропа упирается в полуторастаметровый скалистый отвес; она
продолжается по другой стороне реки, -- перед нами зыбкий мостик, но он
разрушен. С трудом переправляемся вброд. Впереди вся долина перегорожена
интереснейшим двойным завалом коренных пород, во всем подобным тому, который
образовал известное Сарезское озеро, но только многим меньше по объему. Этот
завал необходимо исследовать. Миновав деревья и кустарник перед завалом,
носильщики мои направляются по низу тропинкой, в обход завала, а я, делая
отметки высот, набрасывая рисунки и схему завала, поднимаюсь сначала по
очень крутой мелкой осыпи, потом по другой -- крупнокаменистой, на его
вершину, на которой на высоте 3 420 метров растет арча.
Подробно исследовав завал, я определил, что здесь было когда-то озеро,
образованное им, но оно, сравнительно недавно прорвав плотину, вытекло; в
наши дни дно его покрыто густым и девственным лесом. Общую массу
обвалившихся пород я исчислил примерно в шестьдесят миллионов кубических
метров.
В 4 часа дня я начал спускаться с завала и, снизившись на сто метров по
вертикали, двинулся дальше, вверх по долине. Через полчаса на вершине
второго завала я увидел руины старинной топхана -- сторожевой башни,
вероятно сиахпушей. Долина с посевами и летовкой, расположенными выше
завала, замкнулась узким ущельем, у входа в которое тропинка по прутяному
мостику перебросилась обратно на правый берег, а выше ущелья снова по такому
же мостику вернулась на левобережье. Береговые склоны приобрели здесь
характер речных террас, правобережный водораздельный хребет отступил далеко,
река стала виться в галечном ложе, поросшем ивой и талом. Через час пути от
завала, перед необитаемой летовкой, мы набрели на холодный ключ и, конечно,
с наслаждением приникли к нему все сразу. На северо-западе открылась цепь
снежных вершин Вяз-Тусиянского водораздела, а на юго-западе -- снежный пик,
высящийся над истоками реки Вяз-Дара. Растительность кончилась, долина была
все больше заполнена хаотическим нагромождением мощного моренного материала,
и только на высоте 4 060 метров оказалась маленькая луговина с сочной
альпийской травой.
В 8 часов вечера под крупнокаманистой гнейсовой осыпью я остановился на
ночлег у "охотничьего" камня. Мой анероид показывал 4 200 метров. Только
теперь, пока, разлегшись на камнях, мои спутники готовили чай, я стал
внимательно разглядывать исполинскую, встающую надо мной скалистую стену.
Она давно уже нависала над нами слева, составляя собою весь правый "борт"
долины, -- грандиозная, обрывистая, почти всюду отвесная. И этот отвес
поднимался над нами на 1 000 -- 1 500 метров! Вверху эта поражающая меня
своей гран, диозностью стена была обвешана небольшими висячими ледниками, а
в нижней части простирала длинные шлейфы осыпей. Над осыпями обнажались
могучие волнистые складки, по которым я мог представить себе неизмеримую,
поистине титаническую силу давления, испытанного земной корой, когда она
выпучиваясь, сминалась.
Рельеф левого "борта" долины был сравнительно мягок, оглажен и богат
боковыми моренами -- следами исчезнувших ледников, сползавших некогда с
северного, удаленного от нас километров на пять водораздельного хребта.
И здесь, вспоминая особенности всех исследованных мною ранее, текущих к
востоку рек -- Ляджуар-Дары, Бадо-м-Дары, Биджуар-Дары, я обратил внимание
на то, что правобережные их долины всегда обрывисты, всегда высятся
гигантской, почти отвесной стеной вплотную над ложем реки, а левобережные --
оглажены, сравнительно пологи, прорезаны боковыми притоками, загромождающими
долину обильным моренным материалом. Живые, сохранившиеся доныне долинные
ледники этих рек, следуя той же особенности, в своем течении делают заметный
излук от севера к востоку.
Вечерело. Наступил холод -- уже привычный мне холод высот; костер --
одинокий в этих безмерно молчаливых пространствах -- потрескивал все тише и
тише. Мои носильщики давно уже спали, а я, низко склонясь над тетрадкой
дневника, ловил последние отсветы затухающего костра, чтобы сделать беглые
записи и зарисовки.
Я не чувствовал себя одиноким в этих диких горах: слишком увлекательной
была моя работа.
Но вот и снежный пик над верховьем Вяз-Дары, обозначенный в кроках
набросанного мною рельефа как "вершина No 9", отдал всевластной ночи
последние свои мерцания. Весь мир погрузился во тьму. Я забрался в мой
спальный мешок и мгновенно заснул.
Пик Маяковского
19 августа, в 6 часов 30 минут утра, я проверил показания анероида и
праща и записал в тетради: "4 195 м = 45, 1 = 6°, пращ -- 4о". Проверил
также и азимут от места ночевки на "вершину No 1", видневшуюся далеко позади
меня в просвете ущелья и возвышавшуюся за оставленной мною накануне рекой
Шах-Дара. Эта вершина служила мне контрольной опорной точкой для всех
азимутов, которые я брал по компасу. И, взяв новый азимут на "вершину No
13", в 7 часов 18 минут утра я вышел в дальнейший путь. Мои носильщики
Бондай-Шо и Хасоф-бек были сегодня особенно молчаливы и с сомнением
поглядывали на снега вверху, которые нам предстояло преодолеть.
Мы сразу же стали подниматься на морены; в 7 часов 43 минуты, на высоте
4 380 метров достигли истоков реки Вяз-Дара; здесь была большая моренная
яма, река вытекала из-под морены, закрывающей язык крупного долинного
ледника. Поднявшись еще на девяносто метров, мы поравнялись с линией снега,
а на высоте 4 630 метров достигли осыпи, состоявшей из многотонных обломков
гнейсов и мраморов, в которых сверкали бесчисленные вкрапления гранатов и
турмалина. По этим огромным обвальным камням мы приблизились к фирновому
цирку. Некоторые из вершин, накануне сверкавших в поднебесье, теперь
оказались ниже меня.
Дальше мы карабкались по пухлым моренным холмам ледника, мелкая щебенка
этих холмов промерзла, между крупными камнями был лед, мы переходили по
ледяным подтаивающим мостикам, перекинувшимся между огромными глыбами, --
путь был очень труден, тяжел, опасен, но совсем не так страшен, как описывал
его Иорик. Среди морен виднелись два маленьких озерка, а выше их -- на
высоте 4 800 метров -- большое, примерно полкилометра в диаметре.
... И вот передо мной к юго-западу высится несколько снеговых пиков и
среди них "пик No 9" с характерной, торчащей на его вершине скалой, похожей
на гигантский, указующий в небо палец. Держу направление севернее этого
пика, -- высота уже 5 040 метров, -- начинается сплошной, мглистый, покрытый
щебеночной пылью, словно затянутый паутиной фирновый склон. Пересекаю его в
направлении на юго-запад. Отсюда открывается вид на водораздельный хребет
между реками Биджуар-Дара и Ляджуар-Дара.
Гребень водораздела, к которому я стремлюсь, льдистый, острозубчатый,
все еще высоко надо мной; шаг за шагом поднимаюсь по фирну -- мокрому, в
острых, как иглы, ропаках. Трудно дышать, -- теперь все внимание
сосредоточено на дыхании. Бондай-Шо и Хасоф-бек идут за мной, часто
останавливаясь для передышки и, конечно, совсем не думая об охоте на диких
козлов.
Пересекаю продольные трещины оседаний, прыгая через них или выискивая
снежные мостики. И, наконец, в 12 часов 15 минут достигаю гребня.
Перевал! Высота -- 5 440 метров. Сначала дышу, дышу, выравнивая
дыхание, успокаивая разбушевавшееся сердце. Затем осматриваюсь. Огромная
видимость. Впереди, на одном со мной уровне тянутся гребни гор Афганистана и
Индии: Куги-Ляля, Гиндукуша, за ними -- массивов Султан-Хазрет, Дераим...
Оглядываюсь на пройденный путь: верхняя кромка гигантской стены,
накануне так поразившей меня своими отвесными обрывами, сейчас приходится
вровень со мною, а вдали -- на сто, на сто пятьдесят километров и больше --
видны встающие ряд за рядом горные цепи Памира.
Все ярко освещено солнцем, и горизонт истаивает за пределами моей
дальнозоркости.
19 П. Лукницкий
Рисунок сделан автором 18 августа 1932 года в низовьях реки Вяз-Дара.
Схема ВязДаринского завала.
В 2 часа 50 минут дня мы втроем выступили в маршрут. В моем дневнике
появилась запись:
"Анероид. Термометр -- пращ. Съемка: горный компас No 6572; азимуты
беру на 0; румбы отмечаю по показанию N стрелки; расстояние -- по часам и на
глаз. Первый азимут 240°; беру его из кишлака Вяз, вверх по ущелью Вяз-Дара,
до поворота -- расстояние 1 километр".
В начале узкой долипы -- густая растительность: тополь, тал, облепиха,
шиповник. Мы поднимаемся по тропе вдоль правого берега. Через полчаса лес
кончается: тропа упирается в полуторастаметровый скалистый отвес; она
продолжается по другой стороне реки, -- перед нами зыбкий мостик, но он
разрушен. С трудом переправляемся вброд. Впереди вся долина перегорожена
интереснейшим двойным завалом коренных пород, во всем подобным тому, который
образовал известное Сарезское озеро, но только многим меньше по объему. Этот
завал необходимо исследовать. Миновав деревья и кустарник перед завалом,
носильщики мои направляются по низу тропинкой, в обход завала, а я, делая
отметки высот, набрасывая рисунки и схему завала, поднимаюсь сначала по
очень крутой мелкой осыпи, потом по другой -- крупнокаменистой, на его
вершину, на которой на высоте 3 420 метров растет арча.
Подробно исследовав завал, я определил, что здесь было когда-то озеро,
образованное им, но оно, сравнительно недавно прорвав плотину, вытекло; в
наши дни дно его покрыто густым и девственным лесом. Общую массу
обвалившихся пород я исчислил примерно в шестьдесят миллионов кубических
метров.
В 4 часа дня я начал спускаться с завала и, снизившись на сто метров по
вертикали, двинулся дальше, вверх по долине. Через полчаса на вершине
второго завала я увидел руины старинной топхана -- сторожевой башни,
вероятно сиахпушей. Долина с посевами и летовкой, расположенными выше
завала, замкнулась узким ущельем, у входа в которое тропинка по прутяному
мостику перебросилась обратно на правый берег, а выше ущелья снова по такому
же мостику вернулась на левобережье. Береговые склоны приобрели здесь
характер речных террас, правобережный водораздельный хребет отступил далеко,
река стала виться в галечном ложе, поросшем ивой и талом. Через час пути от
завала, перед необитаемой летовкой, мы набрели на холодный ключ и, конечно,
с наслаждением приникли к нему все сразу. На северо-западе открылась цепь
снежных вершин Вяз-Тусиянского водораздела, а на юго-западе -- снежный пик,
высящийся над истоками реки Вяз-Дара. Растительность кончилась, долина была
все больше заполнена хаотическим нагромождением мощного моренного материала,
и только на высоте 4 060 метров оказалась маленькая луговина с сочной
альпийской травой.
В 8 часов вечера под крупнокаманистой гнейсовой осыпью я остановился на
ночлег у "охотничьего" камня. Мой анероид показывал 4 200 метров. Только
теперь, пока, разлегшись на камнях, мои спутники готовили чай, я стал
внимательно разглядывать исполинскую, встающую надо мной скалистую стену.
Она давно уже нависала над нами слева, составляя собою весь правый "борт"
долины, -- грандиозная, обрывистая, почти всюду отвесная. И этот отвес
поднимался над нами на 1 000 -- 1 500 метров! Вверху эта поражающая меня
своей гран, диозностью стена была обвешана небольшими висячими ледниками, а
в нижней части простирала длинные шлейфы осыпей. Над осыпями обнажались
могучие волнистые складки, по которым я мог представить себе неизмеримую,
поистине титаническую силу давления, испытанного земной корой, когда она
выпучиваясь, сминалась.
Рельеф левого "борта" долины был сравнительно мягок, оглажен и богат
боковыми моренами -- следами исчезнувших ледников, сползавших некогда с
северного, удаленного от нас километров на пять водораздельного хребта.
И здесь, вспоминая особенности всех исследованных мною ранее, текущих к
востоку рек -- Ляджуар-Дары, Бадо-м-Дары, Биджуар-Дары, я обратил внимание
на то, что правобережные их долины всегда обрывисты, всегда высятся
гигантской, почти отвесной стеной вплотную над ложем реки, а левобережные --
оглажены, сравнительно пологи, прорезаны боковыми притоками, загромождающими
долину обильным моренным материалом. Живые, сохранившиеся доныне долинные
ледники этих рек, следуя той же особенности, в своем течении делают заметный
излук от севера к востоку.
Вечерело. Наступил холод -- уже привычный мне холод высот; костер --
одинокий в этих безмерно молчаливых пространствах -- потрескивал все тише и
тише. Мои носильщики давно уже спали, а я, низко склонясь над тетрадкой
дневника, ловил последние отсветы затухающего костра, чтобы сделать беглые
записи и зарисовки.
Я не чувствовал себя одиноким в этих диких горах: слишком увлекательной
была моя работа.
Но вот и снежный пик над верховьем Вяз-Дары, обозначенный в кроках
набросанного мною рельефа как "вершина No 9", отдал всевластной ночи
последние свои мерцания. Весь мир погрузился во тьму. Я забрался в мой
спальный мешок и мгновенно заснул.
Пик Маяковского
19 августа, в 6 часов 30 минут утра, я проверил показания анероида и
праща и записал в тетради: "4 195 м = 45, 1 = 6°, пращ -- 4о". Проверил
также и азимут от места ночевки на "вершину No 1", видневшуюся далеко позади
меня в просвете ущелья и возвышавшуюся за оставленной мною накануне рекой
Шах-Дара. Эта вершина служила мне контрольной опорной точкой для всех
азимутов, которые я брал по компасу. И, взяв новый азимут на "вершину No
13", в 7 часов 18 минут утра я вышел в дальнейший путь. Мои носильщики
Бондай-Шо и Хасоф-бек были сегодня особенно молчаливы и с сомнением
поглядывали на снега вверху, которые нам предстояло преодолеть.
Мы сразу же стали подниматься на морены; в 7 часов 43 минуты, на высоте
4 380 метров достигли истоков реки Вяз-Дара; здесь была большая моренная
яма, река вытекала из-под морены, закрывающей язык крупного долинного
ледника. Поднявшись еще на девяносто метров, мы поравнялись с линией снега,
а на высоте 4 630 метров достигли осыпи, состоявшей из многотонных обломков
гнейсов и мраморов, в которых сверкали бесчисленные вкрапления гранатов и
турмалина. По этим огромным обвальным камням мы приблизились к фирновому
цирку. Некоторые из вершин, накануне сверкавших в поднебесье, теперь
оказались ниже меня.
Дальше мы карабкались по пухлым моренным холмам ледника, мелкая щебенка
этих холмов промерзла, между крупными камнями был лед, мы переходили по
ледяным подтаивающим мостикам, перекинувшимся между огромными глыбами, --
путь был очень труден, тяжел, опасен, но совсем не так страшен, как описывал
его Иорик. Среди морен виднелись два маленьких озерка, а выше их -- на
высоте 4 800 метров -- большое, примерно полкилометра в диаметре.
... И вот передо мной к юго-западу высится несколько снеговых пиков и
среди них "пик No 9" с характерной, торчащей на его вершине скалой, похожей
на гигантский, указующий в небо палец. Держу направление севернее этого
пика, -- высота уже 5 040 метров, -- начинается сплошной, мглистый, покрытый
щебеночной пылью, словно затянутый паутиной фирновый склон. Пересекаю его в
направлении на юго-запад. Отсюда открывается вид на водораздельный хребет
между реками Биджуар-Дара и Ляджуар-Дара.
Гребень водораздела, к которому я стремлюсь, льдистый, острозубчатый,
все еще высоко надо мной; шаг за шагом поднимаюсь по фирну -- мокрому, в
острых, как иглы, ропаках. Трудно дышать, -- теперь все внимание
сосредоточено на дыхании. Бондай-Шо и Хасоф-бек идут за мной, часто
останавливаясь для передышки и, конечно, совсем не думая об охоте на диких
козлов.
Пересекаю продольные трещины оседаний, прыгая через них или выискивая
снежные мостики. И, наконец, в 12 часов 15 минут достигаю гребня.
Перевал! Высота -- 5 440 метров. Сначала дышу, дышу, выравнивая
дыхание, успокаивая разбушевавшееся сердце. Затем осматриваюсь. Огромная
видимость. Впереди, на одном со мной уровне тянутся гребни гор Афганистана и
Индии: Куги-Ляля, Гиндукуша, за ними -- массивов Султан-Хазрет, Дераим...
Оглядываюсь на пройденный путь: верхняя кромка гигантской стены,
накануне так поразившей меня своими отвесными обрывами, сейчас приходится
вровень со мною, а вдали -- на сто, на сто пятьдесят километров и больше --
видны встающие ряд за рядом горные цепи Памира.
Все ярко освещено солнцем, и горизонт истаивает за пределами моей
дальнозоркости.
19 П. Лукницкий
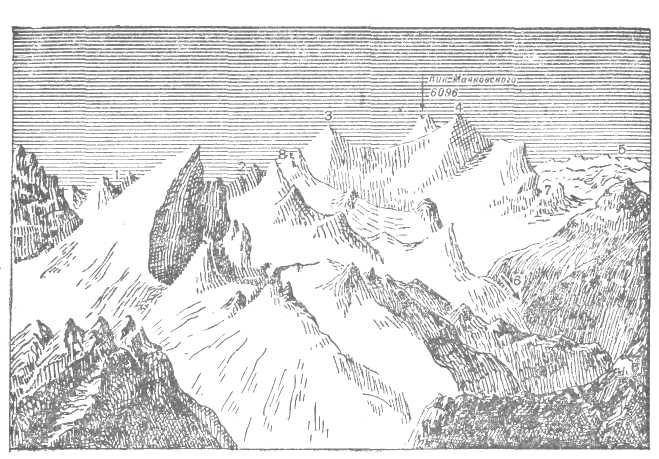 Рисунок сделан автором 19 августа 1932 года на перевальной точке между
реками Вяз-Дара и Гарм-Чашма, на высоте 5 440 метров.
Вид к юго-западу на пик Маяковского и массив Шатер:
1. Бадом-Даринский хребет. 2. Направление истоков реки Биджуар -- Дара
(Горун-Дара. ) 3 и 4. Восточная и западная вершины массива Шатер. 5.
Гиндукуш и другие примыкающие к нему хребты. 6. Верховья реки Гарм-Чашма. 7.
Перевал к Богуш-Даре. 8. Предполагаемый перевал к Ляджуар-Даре.
Незаштрихованные места обозначают вершины и склоны, покрытые ледниками и
фирном.
Носильщики, едва дыша, выбираются на гребень, снимают с себя длинные
древние самопалы, устало сбрасывают ноши и приваливаются к ним, обтирая
потные лица.
Присаживаюсь на камень и я, чтоб вдоволь насмотреться на великолепный,
открывшийся мне за водоразделом мир. Прежде всего: можно ли считать этот
гребень перевалом? Можно ли спуститься вниз? Под ногами вниз, уклоном
градусов в тридцать пять -- сорок, уходит крутая осыпь. Под нею виден
ледник. Полагаю, спуститься можно!
И я начинаю изучать удивительную панораму, открывшуюся передо мной. Мое
поле зрения ограничено пиками, встающими левей и правей меня. Влево граница
поля зрения тянется вдоль румба сто семьдесят градусов, вправо -- вдоль
румба двести шестьдесят пять градусов. Это значит, я вижу весь секатор от
юга до запада. Вправо, подо мной -- верховья реки Гарм-Чашма, за ними --
хребет с тремя огромными снежными пиками. В просветы между пиками различима
долина -- долина реки Пяндж, за ней тянется гребень Гиндукуша. горы
КугиЛяль.
Прямо предо мной врезаются в небеса два характерных, знакомых мне,
соединенных перемычкою, пика массива Шатер, названного мною так год назад.
Левый из них приходится на линии 180 градусов, -- значит, строго на юг. А
между ним и правым пиком массива Шатер, позади них, я вижу белую
конусообразную вершину, пик-исполин -- тот гигантский пик, который я смутно
различал в дымке еще с перевала Мешкова в 1931 году... Но с той точки я не
решился определить его высоту, а теперь я сам значительно ближе и выше, и
мне ясно, что он превышает все видимые мною вершины, что он узловой пик,
главенствующий во всем исследуемом мною районе.
Делаю засечки, рассчитываю, сверяюсь с инструментами, черчу
треугольники, схемы, рисую... И, наконец, определив его высоту в 6 500
метров *, я размышляю, как же его назвать.
Первая мысль о поэте, которого я люблю, о великом поэте современности
-- Маяковском, маленький томик стихов которого у меня с собой, в полевой
сумке. Я знаю: имена поэтов еще не давались горным вершинам. Пусть же это
произойдет впервые.
И, тщательно сделав рисунок находящихся в поле моего зрения одиннадцати
крупных снежных пиков, я нумерую их, а над высочайшими из них, слева по
счету пятым, пишу: "Пик Маяковского".
Спуск к Истыдойдж-айляку
Два часа пятнадцать минут пробыл я на перевале. Пока носильщики спали,
я выложил из камней два опознавательных тура, сделав масляной краской
надпись: дату моего пребывания здесь, и, подумав, что никогда б не
насытиться мне волнующим созерцанием этого сверкающего мира, разбудил
Хасоф-бека и Бондай-Шо.
-- Пора итти!
В 2 часа 30 минут дня мы двинулись вниз с перевала и, плывя по
крутейшей осыпи, управляя палками (а я ледорубом) в сыпучей щебенке, как в
течении быстрой шумливой реки, через десять минут оказались почти на
четыреста метров ниже, на небольшом леднике.
Дальше спуск продолжался по леднику, затем по моренам и фирну и по
сухой затвердевшей осыпи, до отметки 4 570 метров.
* Впоследствии, при производстве топографами-геодезистами
инструментальной съемки, высота пика была уточнена: 6 096 метров. -- П. Л.
Рисунок сделан автором 19 августа 1932 года на перевальной точке между
реками Вяз-Дара и Гарм-Чашма, на высоте 5 440 метров.
Вид к юго-западу на пик Маяковского и массив Шатер:
1. Бадом-Даринский хребет. 2. Направление истоков реки Биджуар -- Дара
(Горун-Дара. ) 3 и 4. Восточная и западная вершины массива Шатер. 5.
Гиндукуш и другие примыкающие к нему хребты. 6. Верховья реки Гарм-Чашма. 7.
Перевал к Богуш-Даре. 8. Предполагаемый перевал к Ляджуар-Даре.
Незаштрихованные места обозначают вершины и склоны, покрытые ледниками и
фирном.
Носильщики, едва дыша, выбираются на гребень, снимают с себя длинные
древние самопалы, устало сбрасывают ноши и приваливаются к ним, обтирая
потные лица.
Присаживаюсь на камень и я, чтоб вдоволь насмотреться на великолепный,
открывшийся мне за водоразделом мир. Прежде всего: можно ли считать этот
гребень перевалом? Можно ли спуститься вниз? Под ногами вниз, уклоном
градусов в тридцать пять -- сорок, уходит крутая осыпь. Под нею виден
ледник. Полагаю, спуститься можно!
И я начинаю изучать удивительную панораму, открывшуюся передо мной. Мое
поле зрения ограничено пиками, встающими левей и правей меня. Влево граница
поля зрения тянется вдоль румба сто семьдесят градусов, вправо -- вдоль
румба двести шестьдесят пять градусов. Это значит, я вижу весь секатор от
юга до запада. Вправо, подо мной -- верховья реки Гарм-Чашма, за ними --
хребет с тремя огромными снежными пиками. В просветы между пиками различима
долина -- долина реки Пяндж, за ней тянется гребень Гиндукуша. горы
КугиЛяль.
Прямо предо мной врезаются в небеса два характерных, знакомых мне,
соединенных перемычкою, пика массива Шатер, названного мною так год назад.
Левый из них приходится на линии 180 градусов, -- значит, строго на юг. А
между ним и правым пиком массива Шатер, позади них, я вижу белую
конусообразную вершину, пик-исполин -- тот гигантский пик, который я смутно
различал в дымке еще с перевала Мешкова в 1931 году... Но с той точки я не
решился определить его высоту, а теперь я сам значительно ближе и выше, и
мне ясно, что он превышает все видимые мною вершины, что он узловой пик,
главенствующий во всем исследуемом мною районе.
Делаю засечки, рассчитываю, сверяюсь с инструментами, черчу
треугольники, схемы, рисую... И, наконец, определив его высоту в 6 500
метров *, я размышляю, как же его назвать.
Первая мысль о поэте, которого я люблю, о великом поэте современности
-- Маяковском, маленький томик стихов которого у меня с собой, в полевой
сумке. Я знаю: имена поэтов еще не давались горным вершинам. Пусть же это
произойдет впервые.
И, тщательно сделав рисунок находящихся в поле моего зрения одиннадцати
крупных снежных пиков, я нумерую их, а над высочайшими из них, слева по
счету пятым, пишу: "Пик Маяковского".
Спуск к Истыдойдж-айляку
Два часа пятнадцать минут пробыл я на перевале. Пока носильщики спали,
я выложил из камней два опознавательных тура, сделав масляной краской
надпись: дату моего пребывания здесь, и, подумав, что никогда б не
насытиться мне волнующим созерцанием этого сверкающего мира, разбудил
Хасоф-бека и Бондай-Шо.
-- Пора итти!
В 2 часа 30 минут дня мы двинулись вниз с перевала и, плывя по
крутейшей осыпи, управляя палками (а я ледорубом) в сыпучей щебенке, как в
течении быстрой шумливой реки, через десять минут оказались почти на
четыреста метров ниже, на небольшом леднике.
Дальше спуск продолжался по леднику, затем по моренам и фирну и по
сухой затвердевшей осыпи, до отметки 4 570 метров.
* Впоследствии, при производстве топографами-геодезистами
инструментальной съемки, высота пика была уточнена: 6 096 метров. -- П. Л.
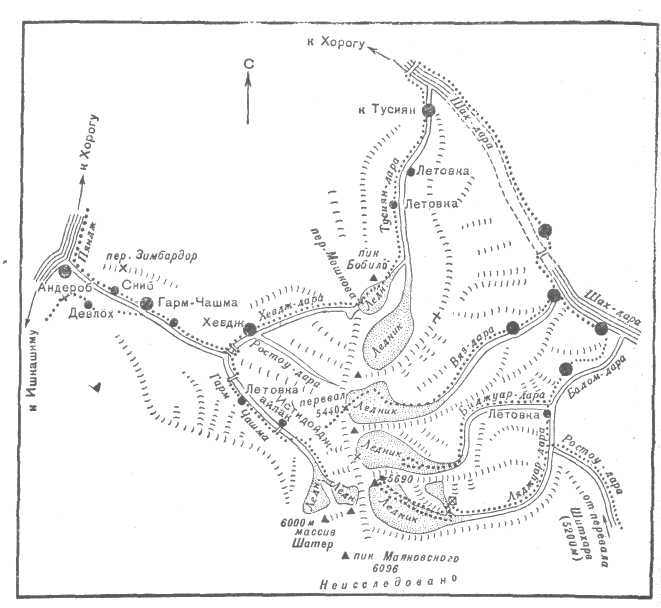 Результат всех маршрутов автора в 1930, 1931 и 1932 годах.
С левого "борта" узкой долины надо мной нависли два небольших ледника.
На высоте 4 520 метров, ниже истоков речки (оказавшейся позже рекой
Дукиль-Дор-Дара) мы вышли на зеленую луговину, на которой густо рос дикий
лук. Подпруженная моренным холмом речка блуждала и разливалась по луговине
и, найдя себе выход, круто падала к лежащим ниже моренным нагромождениям.
Вся луговина на пространстве почти в квадратный километр была изрыта и
испещрена следами кииков, -- здесь было недавно огромное, никогда прежде не
виданное мною лежбище диких козлов. Бондай-Шо и Хасоф-бек в охотничьем
азарте принялись их искать.
Мы всматривались во все окружающие нас ледники, но ни одного козла не
приметили.
Спускаясь дальше ущельем речки, в 5 часов 30 минут дня на высоте 3 780
метров мы достигли знакомой мне долины реки
Результат всех маршрутов автора в 1930, 1931 и 1932 годах.
С левого "борта" узкой долины надо мной нависли два небольших ледника.
На высоте 4 520 метров, ниже истоков речки (оказавшейся позже рекой
Дукиль-Дор-Дара) мы вышли на зеленую луговину, на которой густо рос дикий
лук. Подпруженная моренным холмом речка блуждала и разливалась по луговине
и, найдя себе выход, круто падала к лежащим ниже моренным нагромождениям.
Вся луговина на пространстве почти в квадратный километр была изрыта и
испещрена следами кииков, -- здесь было недавно огромное, никогда прежде не
виданное мною лежбище диких козлов. Бондай-Шо и Хасоф-бек в охотничьем
азарте принялись их искать.
Мы всматривались во все окружающие нас ледники, но ни одного козла не
приметили.
Спускаясь дальше ущельем речки, в 5 часов 30 минут дня на высоте 3 780
метров мы достигли знакомой мне долины реки
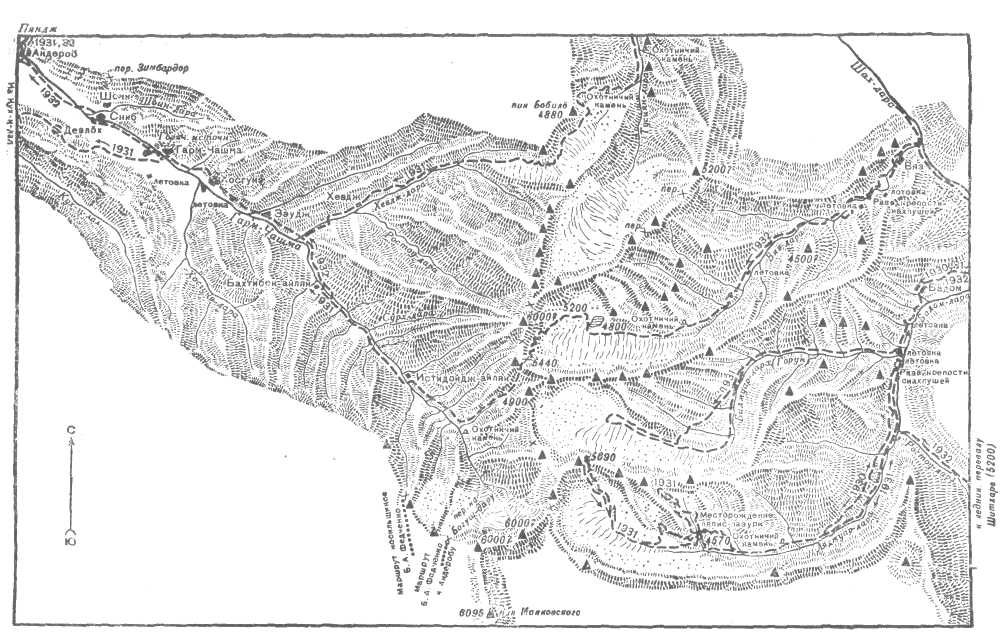 Карта области Шугнано-Горанского водораздела, составленная автором
после его исследований произведенных в 1930, 1931 и 1932 годах.
Гарм-Чашма и, дойдя через час до летовки Истыдойдж-айляк, были
гостеприимно приняты старым пастухом Юсуф-беком. Он угостил нас жирготом
(кислым молоком) и пока готовил махордж (гороховую похлебку), я, в блаженном
настроении разлегшись в траве на спальном мешке, сделал в дневнике запись:
"Рискованное мое предприятие кончилось благополучно. Я шел искать
неизвестный перевал. Я знал, что придется рыскать по снегам и ледникам на
высоте больше 5 000 метров. Я шел без проводника, ибо таких не оказалось.
Шел без веревок и теплой одежды, ибо свитер, ватник да трусики и "штурмовые"
штаны явно недостаточны на случай непогоды. Шел почти без продовольствия --
ни консервов, ни мяса, ни иных продуктов, кроме двух банок сгущенного
молока, полбанки какао и пяти черствых лепешек, у меня не было. Натерты и
болят ноги, изодраны руки, но все-таки удалось сделать то, что хотел. Мне
повезло: хорошая погода -- это первая удача; вторая удача -- когда на
фирновом поле и на моренах, перед стеной ледников, носильщики спросили меня,
в каком месте итти на водораздельный хребет, я наугад выбрал место и показал
рукою: "Туда!" Мы пошли, перелезли через висячий ледник, через его чуть
покрытую снегом трещину и вышли в то единственное место, где можно было
перевалить через хребет. Если бы мы вышли не туда, спускаться и искать
перевал снова у меня не хватило бы сил и, кроме того, предстояло бы ночевать
почти на пятикилометровой высоте, на льду.
Впрочем... У меня есть немного сухого спирта и кухня для него. При
плохой погоде, если бы не замерз, продержался бы на ледниках дня два.
Я рад, что моя прошлогодняя карта и все мои предположения о не
нанесенных на карту местах оказались правильными. Я вышел туда, куда и
предполагал выйти... ".
Мы шутим, смеемся, радуемся... И утром, на следующий день, в дневнике
моем записано:
"Вечером -- два цана (охотничьи ружья на ножках) перед моей головой. К
ним подошел теленок, нюхая их. Я крикнул спавшему рядом Бондай-Шо: "Киик
пришел!" Оба носильщика проснулись и долго хохотали... "
И много других записей о таких же простодушных шутках и смехе.
Белого пятна больше нет
Утром 20 августа мы вышли вниз по долине реки Гарм-Чашма. через час
сорок минут миновали устье Хэвдж-Дары, а еще через два часа достигли кишлака
Гарм-Чашма и горячих термальных источников, в которых с наслаждением
выкупались.
21 августа я уже был в Андеробе на Пяндже, куда приехал верхом, так
как, вопреки прошлогодним уверениям местных жителей, сюда вела совсем не
плохая тропа.
Вместе с Бондай-Шо и Хасоф-беком отсюда я направился дальше -- в Хорог.
Мои носильщики, с которыми я успел понастоящему подружиться, решили
вернуться к себе домой через Хорог, по легкой, торной, всем давно известной
тропе.
Мои исследования в этом районе были завершены. Все мои прежние
предположения счастливо подтвердились, бассейн Вяз-Дары с ледником занял все
пространство оставшегося в 1931 году белого пятна, и карта района была
закончена полностью.
Я рад, что на картах Таджикистана есть маленький уголок, который
скупыми штрихами напоминает мне о днях, полных азарта и уверенности в своих
силах. Мне хотелось бы, чтоб молодые альпинисты почаще заглядывали в этот
уголок, в котором есть еще много вершин и ледников, до сих пор не получивших
названия. Грозные, величественные горы в этих местах так красивы, что любой
человек, пришедший в эти столь редко посещаемые места, будет щедро
вознагражден самими картинами природы за те трудности, какие ему придется
испытать при восхождении на гребни водораздельных хребтов и ледяных вершин.
Карта области Шугнано-Горанского водораздела, составленная автором
после его исследований произведенных в 1930, 1931 и 1932 годах.
Гарм-Чашма и, дойдя через час до летовки Истыдойдж-айляк, были
гостеприимно приняты старым пастухом Юсуф-беком. Он угостил нас жирготом
(кислым молоком) и пока готовил махордж (гороховую похлебку), я, в блаженном
настроении разлегшись в траве на спальном мешке, сделал в дневнике запись:
"Рискованное мое предприятие кончилось благополучно. Я шел искать
неизвестный перевал. Я знал, что придется рыскать по снегам и ледникам на
высоте больше 5 000 метров. Я шел без проводника, ибо таких не оказалось.
Шел без веревок и теплой одежды, ибо свитер, ватник да трусики и "штурмовые"
штаны явно недостаточны на случай непогоды. Шел почти без продовольствия --
ни консервов, ни мяса, ни иных продуктов, кроме двух банок сгущенного
молока, полбанки какао и пяти черствых лепешек, у меня не было. Натерты и
болят ноги, изодраны руки, но все-таки удалось сделать то, что хотел. Мне
повезло: хорошая погода -- это первая удача; вторая удача -- когда на
фирновом поле и на моренах, перед стеной ледников, носильщики спросили меня,
в каком месте итти на водораздельный хребет, я наугад выбрал место и показал
рукою: "Туда!" Мы пошли, перелезли через висячий ледник, через его чуть
покрытую снегом трещину и вышли в то единственное место, где можно было
перевалить через хребет. Если бы мы вышли не туда, спускаться и искать
перевал снова у меня не хватило бы сил и, кроме того, предстояло бы ночевать
почти на пятикилометровой высоте, на льду.
Впрочем... У меня есть немного сухого спирта и кухня для него. При
плохой погоде, если бы не замерз, продержался бы на ледниках дня два.
Я рад, что моя прошлогодняя карта и все мои предположения о не
нанесенных на карту местах оказались правильными. Я вышел туда, куда и
предполагал выйти... ".
Мы шутим, смеемся, радуемся... И утром, на следующий день, в дневнике
моем записано:
"Вечером -- два цана (охотничьи ружья на ножках) перед моей головой. К
ним подошел теленок, нюхая их. Я крикнул спавшему рядом Бондай-Шо: "Киик
пришел!" Оба носильщика проснулись и долго хохотали... "
И много других записей о таких же простодушных шутках и смехе.
Белого пятна больше нет
Утром 20 августа мы вышли вниз по долине реки Гарм-Чашма. через час
сорок минут миновали устье Хэвдж-Дары, а еще через два часа достигли кишлака
Гарм-Чашма и горячих термальных источников, в которых с наслаждением
выкупались.
21 августа я уже был в Андеробе на Пяндже, куда приехал верхом, так
как, вопреки прошлогодним уверениям местных жителей, сюда вела совсем не
плохая тропа.
Вместе с Бондай-Шо и Хасоф-беком отсюда я направился дальше -- в Хорог.
Мои носильщики, с которыми я успел понастоящему подружиться, решили
вернуться к себе домой через Хорог, по легкой, торной, всем давно известной
тропе.
Мои исследования в этом районе были завершены. Все мои прежние
предположения счастливо подтвердились, бассейн Вяз-Дары с ледником занял все
пространство оставшегося в 1931 году белого пятна, и карта района была
закончена полностью.
Я рад, что на картах Таджикистана есть маленький уголок, который
скупыми штрихами напоминает мне о днях, полных азарта и уверенности в своих
силах. Мне хотелось бы, чтоб молодые альпинисты почаще заглядывали в этот
уголок, в котором есть еще много вершин и ледников, до сих пор не получивших
названия. Грозные, величественные горы в этих местах так красивы, что любой
человек, пришедший в эти столь редко посещаемые места, будет щедро
вознагражден самими картинами природы за те трудности, какие ему придется
испытать при восхождении на гребни водораздельных хребтов и ледяных вершин.
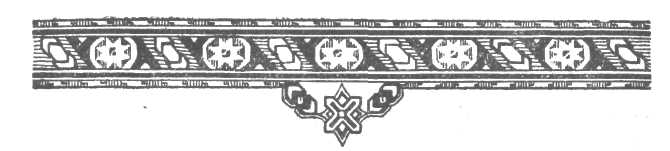

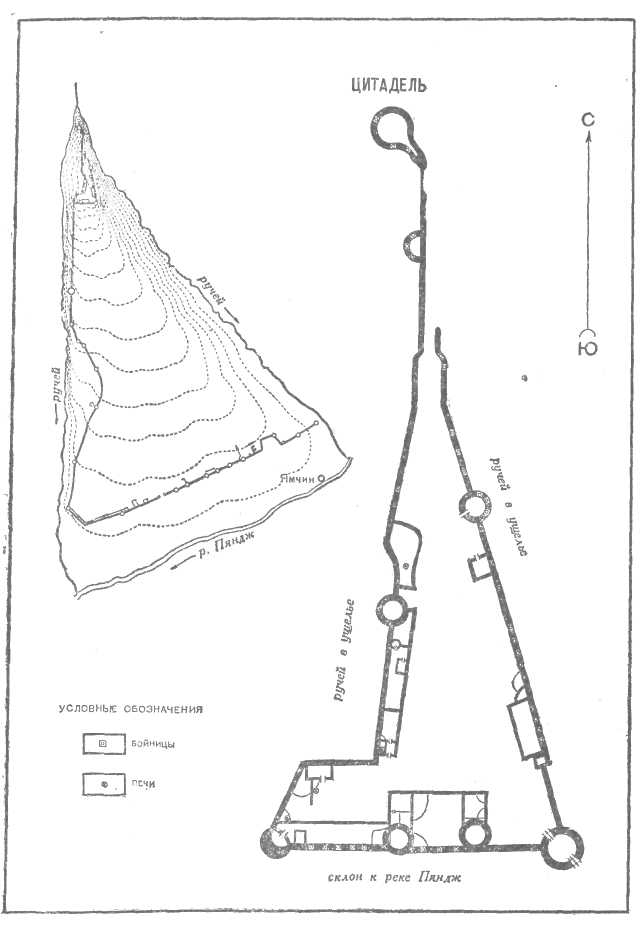 План Замр-и-аташ-Параст (Кафыр-кала) -- крепости
сиахпушей-огнепоклонников у кишлака Ямчин. Составлен автором в 1932 году.
Справа: план руин древней цитадели на вершине горы. Слева: общий план
остатков древних укреплений по склону горы, к югу от цитадели.
Через двадцать лет я вновь посетил эту крепость, поднявшись к ней
вместе с несколькими пограничниками верхом по тропинке из кишлака Тухгос и
миновав два из семи хозяйств -- зеленых оазисов, составляющих разбросанный
по склону высоко над долиной Пянджа кишлачок Вичкуд. Тот день отмечен в моем
путевом дневнике такой записью:
"Тропа ведет прямиком по склону горы. Внизу -- долина Пянджа, широкая
здесь, гладкая и розная, занятая -- ближе к склону -- посевами Ямчина и
Тухгоса, ближе к реке -- зеленеющая заболоченной поймой, а за Пянджем
перекрытая огромным серым конусом выноса, в вершине которого виднеется
маленький кишлачок.
Речка, текущая с гор выше крепости, разделяется на два потока; один из
них, основной, прорезав глубокое ущелье, бежит к Пянджу восточнее мыса, на
вершине которого стоит цитадель; другой, с западной стороны, пропилив в
скалах щель глубиной метров в двести, устремляется водопадом и проходит ниже
отдельного хозяйства, относящегося к кишлачку Вичкуд, а затем вырывается из
щели в долину Пянджа.
Древняя крепость Замр-и-аташ-Параст занимает своей огромной территорией
всю гору между этими двумя потоками, изолирующими ее от всех окрестностей, а
потому является прекрасной точкой обороны, искусно выбранной древними
людьми. Даже с тыла, с северной стороны, она отделена от мира прорезью,
сделанной в скалах той же речкой, спадавшей здесь прежде в восточное ущелье,
а затем повернутой в обход крепости к западу. Сама ли природа сделала этот
обход или строители помогли природе, стремясь обеспечить крепость водой,
сказать трудно, но, судя по тому, что с тыла речка протекает явно, как
оросительный канал, можно думать, что путь для нее проложили люди.
Главная часть крепости -- цитадель, крепостное городище -- возвышается
над долиной Пянджа не меньше чем на пятьсот метров по вертикали.
Мы поднялись на конях выше крепости, оставили здесь, на скалах, лошадей
коноводу, а сами, спустившись к чистейшей воде древнего канала, пересекли
его и взобрались в крепость, к самой северной ее хорошо сохранившейся башне,
с амбразурами на три стороны: на запад, на север, на восток. Внутри этой
круглой башни ясно видны следы второго этажа -- дыры от бревен, на которых
покоилось междуэтажное перекрытие. Амбразуры были в обоих этажах, но второй
провалился, и первый наполовину завален плотно слежавшейся землей. От этой
башни расходятся под острым углом стены, обрамляющие территорию городища и
высящиеся вдоль западного
и восточного обрывов. Территория цитадели занимает плоскую вершину
горы, составляя треугольник, -- третья стена проходит параллельно Пянджу и
представляет собою фасад крепости. Ниже, по склону горы к Пянджу, идет
параллельно реке несколько стен, а по западной бровке склона, нависая над
боковым ущельем, тянется, уходя вниз, двойная стена, -- она достигает
округлой скалы, занятой форпостным укреплением -- маленькой самостоятельной
крепостцы на краю обрыва. Эта двойная стена и коридор между ними (узкий ход
сообщения) также с бойницами, дающими возможность обстрела на запад и на
восток; последнее предусмотрено на тот случай, если штурмующие войска
ворвутся на склон, обведенный предкрепостными стенами.
Все стены связаны чередою башен -- круглых, с амбразурами, со стенами
толщиною в метр и более; все башни, как и стены, сложены из больших камней
на глиняном, сохранившемся доныне растворе. Центральная часть городища
внутри стен представляет собою сложное сплетение каменных комнат-залов,
соединенных между собой проходами, а иногда -- изолированных. Стены между
залами раза в полтора-два выше человеческого роста, а в древности были еще
выше; это ясно из того, что бойницы в наружных стенах этих залов приходятся
изнутри почти на уровне земли -- уровень ее повысился вследствие завалов,
ведь бойницы, конечно, создавались так, чтоб стрелять сквозь них можно было
стоя, а не лежа. Только средняя часть городища -- ровная площадь, ничем не
занятая, кроме случайных больших глыб -- скал. Вероятно, эта территория и
была внутрикрепостной площадью, а может быть, ее занимало центральное
здание, ныне не существующее.
Амбразуры во фронтальной стене изнутри обложены плоскими плитами и
наклонены под небольшим углом вниз, так, чтоб давать стрелкам, защитникам
крепости, возможность обстрела долины Пянджа и боковых ущелий. Толщина этих
стен не меньше полутора метров.
Складывая стены, строители кое-где для прочности прослаивали камни
тонкими бревнами, суковатыми кусками древесных стволов, и надо удивляться
искусству древних людей, несомненно имевших в виду угрозу землетрясений и
сумевших сделать эти стены и башни антисейсмическими.
С севера, на высотах над крепостью, где есть тропа к перевалу через
Шах-Даринский хребет (выходящая на реку Шах-Дара у кишлака Сейдж, как сказал
мне житель Вичкуда Шаболь), простирается ровная полоса -- дашт, занятый
зерновыми посевами. Этот дашт похож па древнюю террасу речки Ямчин. Еще выше
к северу виднеется другая, наклоненная в сторону наблюдателя терраса, также
покрытая посевами; все же остальное к северной половине горизонта --
нагромождение высочайших гор, область главного водораздельного гребня.
Камни, из коих сооружена крепость (а камней таких сотни тысяч), --
тяжелые, большие глыбы, доставленные рабами -- строителями крепости из
разных, даже очень отдаленных мест, судя по тому, что здесь есть и
гнейсовые, и гранитные, и сланцевые породы, есть куски биотита и других
слюд, есть много мраморов с вкраплениями граната, словно забрызганных
кровью, а я такие вкрапления помню на шах-даринских склонах основного
хребта. Значит, камни были принесены издалека и даже с самых высоких
горизонтов Гиндукуша и Шах-Даринского хребтов. Труд строителей крепости был
поистине исполинским, -- человек мог нести на себе не больше одного-двух
камней; с таким грузом нужно было переправляться через речные потоки,
пересекать ледники, виснуть на отвесных обрывах скалистых круч и, наконец,
взбираться на макушку горы, на которой расположена центральная часть
крепости. Значит, над сооружением этой твердыни трудились десятки тысяч
людей, значит, тысячи -- погибали! Вот почему среди населения Вахана и
Ишкашима бытуют легенды о древних богатырях, о жестоком силаче Каахка,
швырявшем скалы с одного берега Пянджа на другой.
Размеры и мощь крепости поражают ее посетителя. Эта крепость должна
была быть исключительно важной по своему значению, знаменитой на сотни
километров окрест. Защищая подступы со всех сторон, стратегически она
исключительно точно и умно поставлена. Меня удивляет только одно
обстоятельство: долина Пянджа, с поймой реки, против крепости широка (от
двух с половиной до трех километров) и совершенно гладкая, причем Пяндж
течет, прижимаясь не к северному, а к южному -- гиндукушскому склону. Как
могли древние люди обстреливать эту долину, владеть ею, если стреляли только
из луков? Конечно, дальность полета стрелы не могла быть такой большой. А
крепость, несомненно, владела поймой реки. Может быть, Пяндж в древности
имел другое русло? Тек ближе к правобережному склону, даже подпирал его?
Может быть, перегороженный обвалом, мореной или ледником, спускавшимся с
Гиндукуша, он образовывал здесь озеро, как образовывал озера во многих
других местах?"
Археологи впервые осматривали пянджские крепости в 1947 году, -- тут
побывала экспедиция Академии наук, руководимая А. Н. Бернштамом. Ученый
утверждает, что эти крепости -- и первая из них крепость Ратм (у слияния
реки Памир с Вахан-Дарьей) -- призваны были защищать выход
с высокогорий Большого Памира, откуда двигались потоки кочевников в
древние Тохаристан и Бактрию и далее в Индию и Иран.
"За Ратмом по Пянджу, -- пишет в своем отчете руководитель
археологической экспедиции, -- отмечу крепости Исор, Зунк, Даршай и ряд
других. Однако наиболее значительными здесь были поселения крепости Ямчун *
(Замр-и-аташ-Параст или Кафыр-кала) и Каахка в южном Ишкашиме... "
И далее:
"Письменные источники позволили нам отождествить крепость Ямчун с
упоминаемым в китайских источниках столичным городом страны Бохо (Вахан)
"Сакским городом Гашэнь". Характерно то, что в названии города отмечено --
"сакский". Этим подчеркиваются роль и значение саков в исторических судьбах
Вахана. Вторым, более поздним центром Вахана и столицей Памира был город
Кухань (Каахка), или -- в VI -- VIII вв. -- Ябгукат, с которым мы связываем
руины Каахка на берегу Пянджа... "
Еще никто не производил раскопок ни в этой, ни в других крепостях
Вахана и Ишкашима. Их с нетерпением ждут все, кто заинтересован в том, чтобы
тайны глубин истории этой части Центральной Азии были, наконец, раскрыты для
народа советской наукой.
Под ледниками Гиндукуша
Однако вернемся к оставленному нами где-то в пути по Вахану каравану
венецианцев. Вот он поднимается к перевалу через огромную морену, которая
перегораживает долину и обрывается мысом, надвинувшимся на ложе реки.
Сколько веков понадобилось Пянджу, чтоб прорвать эту морену, чтоб внезапно
обрушить свои воды из образованного мореною озера, а потом устремиться
плавно, выгнув крутой и красивый излук? С вершины мыса Марко Поло глядит на
противобережный склон Гиндукуша. Огромный, могучий ледник, извившись
выпуклым своим телом по тесному, дикому ущелью, сползает с великолепного
белого массива, увенчанного группой грозных ледяных, заснеженных пиков,
ослепительно сияющих и представляющихся из долины Пянджа необыкновенно
величественными. На три тысячи метров над уровнем моря взнесена здесь долина
Пянджа, но еще не меньше чем
* Общепринята транскрипция: "Зунг", "Ямчин", "Вичкуд", а не "Зунк",
"Ямчун", "Викхут", как у А. Н. Бернштама. См. "Мат. и исслед. по арх. СССР"
No 26, 1952, стр. 281--233.
на три километра превышают пики долину. Серый, заваленный моренными
отложениями ледник, дойдя почти до самой долины Пянджа, нависает отвесной
стеной над раструбом ущелья, из которого выдвигается огромный "конус
выноса". В середине ледяной стены чернеет глубокий грот. Из него вырывается
бушующая река, ее путь короток: всего два-три километра; она мчится по
конусу выноса, разбегаясь множеством рукавов. Мутными потоками, цвета
сгущенного молока, они вливаются в Пяндж, оставляют у берега Пянджа, в его
серой воде белые бороды, пока воды, наконец, не смешиваются и не приобретают
единый цвет. На самом берегу, на краю конуса, усеянного россыпью битых скал
видна еще одна крепость, и путешественники с удовольствием думают о том, что
от этой крепости их отделяет река.
Все, что описано здесь, со времен Марко Поло, конечно, не изменилось.
Только крепости стали руинами, рядом с руиной Кала-и-Пянджа в наши дни стоит
современное афганское укрепление, проходит автомобильная дорога, построенная
американцами, на которой за год наши колхозники только два раза видели
автомобиль. В автомобилях были американские офицеры: эта дорога построена
явно не для мирных надобностей местного населения!
Марко Поло перед подъемом на мыс мог и не заметить на правом берегу
маленький кишлак Вранг: он ничем не отличался от других таких же маленьких
кишлаков Вахана!
Но я останавливаюсь в этом кишлаке, увидев на склоне горы большое белое
здание; мне говорят, что это здание -- школа-десятилетка колхоза имени
Сталина.
В самой глуби Вахана, в колхозе, ограниченном неприступными горами, не
начальная, не семилетняя, а полная средняя школа!
Снизу и сверху новое красивое здание обведено садом, орошаемым
схваченной каналом быстротечной горной водой. Вхожу в сад и встречаюсь с
учителем этой школы -- школы имени Горького, стройным ваханцем Гульбеком
Асадбековым, знакомлюсь с ним и... останавливаюсь в кишлаке Вранг на весь
день.
Вот что узнаю я, осмотрев школу, поговорив с ее директором, с веселыми,
чисто одетыми учениками и ученицами.
Начальная школа во Вранге создана в 1933 году. В ней было четыре
учителя и полсотни учеников. В 1940 году школа преобразована в семилетнюю,
-- в ней было девять учителей, сто учеников. В 1948 году в школе стало
девять классов, училось в ней триста детей. В следующем году был образован
десятый класс, -- к этому времени из Хорога приехали учителя: первые
закончившие там высшее образование памирцы.
В 1952 году, когда я осматривал эту школу, в ней было триста шестьдесят
учеников, из них сто сорок шесть девушек. В 1950 году произошел первый
выпуск десятиклассников: сорок пять юношей и двадцать пять девушек, сыновья
и дочери ваханцев -- колхозников из кишлака Вранг и трех ближайших к нему
кишлаков: Внукут, Ямг, Ширгин. Из этих двадцати пяти девушек четыре ныне
учатся в Ленинабаде в Женском учительском институте, одна из девушек,
Зульзула Зарикова, уже окончила институт, а три другие -- Холисамо
Кильтабоева, Азизбеги Камбарова, Далимо Шабозбекова через два года
оканчивают институт. Остальные девушки работают в Сталинабаде, в Хороге, в
колхозах Вахана, став библиотекаршами, учительницами начальных школ,
служащими разных учреждений, колхозницами в родных кишлаках. Юноши
продолжают учиться в высших учебных заведениях Сталинабада, Самарканда,
Хорога.
В школе -- семнадцать учителей, из них двое русских -- преподавателей
русского языка, остальные ваханцы, шугнанцы, ишкашимцы -- все бадахшанцы.
В школьной библиотеке, кроме учебников, две тысячи книг и много
наглядных пособий. Имеется в школе лаборатория; штатный лаборант по кабинету
физики и химии -- житель Вранга.
В 1942 году школьники вместе с учителями заложили сад. Дети впервые
сажали на отведенной для сада площади и возле своих домов иву, пирамидальный
тополь, яблони, персики. С 1950 года на пришкольном участке впервые созрели
арбузы, дыни, разные овощи, каких жители Вранга прежде не знали. Изучая
науку Мичурина и Лысенко, школьники теперь помогают в садоводстве
колхозникам, объясняют им новейшие правила агротехники.
Я осматривал эту школу вместе с ее директором Кучакшо Гуломшаевым,
имеющим высшее педагогическое образование; он рассказывал мне о своей школе
с большим знанием дела, показывал все классы и кабинеты с любовью, и в эти
часы я просто позабыл, в какой удивительной местности я нахожусь.
Ледяные зубцы Гиндукуша были облиты сиянием луны, когда я вновь
спустился к дороге, чтобы сесть в автомобиль и двигаться по пути Марко Поло
дальше. Но у машины меня встретил председатель колхоза имени Сталина и, не
приняв никаких моих возражений, повел к себе в дом ночевать. И весь мой
следующий день был посвящен осмотру колхоза. Я начал осмотр с колхозного
магазина, в котором было полно товаров и продовольствия. Я спросил директора
магазина Ады-ШоибШо Алимшоева, что больше всего требуют покупатели. И он
сказал мне, что из продуктов больше всего требуют рис, а из товаров --
коверкотовые костюмы, бостон, часы, радиоприемники. Алимшоев очень обиженно
заявил мне, что снабжающие магазин торговые организации отпускают слишком
мало этих товаров, а что, мол, дешевые костюмы, дешевый материал -- вот,
глядите, -- лежат на полках, уже никто дешевенького не хочет брать.
Я подумал о том, что на противоположной афганской стороне Пянджа жители
ваханских кишлаков ходят в тех же лохмотьях, голодают так же, как во времена
Марко Поло, и грамотных людей среди них попрежнему нет. "Ученых и
обучающихся науке у них пет", -- коротко и определенно пишет о ваханцах в
своей книге "Каттаган и Бадахшан" афганский географ
Бурхан-уд-Дин-хан-и-Кушкеки и рассказывает о "мужчинах и женщинах,
подверженных употреблению опиума и гашиша". На советской стороне Пяпджа ни
посевов мака, ни контрабандной торговли этим зельем уже больше двадцати лет
нет, и в последнем моем путешествии по Бадахшану я не только не встречал ни
одного курильщика опиума или гашиша, но даже не слышал, чтобы такой
где-нибудь был. "Ночью мужчины и женщины спят все вместе голыми, по
нескольку на одном паласе, укрываются теми же армяками и шкурами, которые
носят днем", -- на следующей странице своей книги сообщает тот же географ о
ваханцах Афганистана. "Керосиновых ламп у них нет и для освещения служит...
светильник "сиях-чераг" (масляная коптилка. -- П. Л. ). И еще говорит о
посевах "келюля", называемого в Вахане "патек". "... Патекзерновой злак, из
которого приготовляют похлебку. Большая часть тех, кто съест его и затем
поспит в теплом месте, делаются хромыми, так что можно видеть несколько
человек, которые охромели и лишились трудоспособности от употребления в пищу
патека".
На советской стороне Пянджа патек (патук) давно забыт ваханцами, как
забыты опиум и гашиш, а первобытный обычай спать так, как это описано
афганским географом, советские ваханцы считают неудобным даже и вспоминать.
Продолжая осмотр колхоза, я зашел в интернат, организованный для
восьмидесяти сирот -- детей тех ваханцев, что погибли на фронте в дни
Отечественной войны. Затем на крутом притоке Пянджа мне показывали площадку,
расчищаемую для строительства колхозной гидроэлектростанции, -- таких уже
построенных станций в Бадахшане я видел несколько. Шофер-ваханец уговаривал
меня прокатиться на колхозной автомашине, другой колхозник, киномеханик,
обязательно хотел задержать меня в клубе на вечерний киносеанс, но я
предпочел осмотреть радиоузел, медпункт и колхозную библиотеку. После
обильного ужина меня уложили спать на чистой постели в мехмонхоне -- комнате
для гостей при колхозной чайхане.
На следующий день я ехал дальше, и ветер Гиндукуша дул мне в спину, как
во времена путешествия Марко Поло, но я не сердился на этот пронзительный
ветер, наблюдая, как вертит он большие пропеллеры маленьких
ветроэлектростанций в озелененных, укрытых молодыми садами кишлаках Вахана.
И, наконец, впереди меня, в долину Пянджа, раздвоив ее, вдвинулся огромным,
прорезающим облака мысом Ваханский хребет. Справа, навстречу мне, вдоль
подножия Гиндукуша бежала Вахан-Дарья. В прорези ущелья над ней, уже в
пределах Читрала, над облаками, высился треугольный, белый, словно
лакированный, пик. Где-то под ним находились перевал Ионова и перевал.
Барогиль, ведущие к столице Кашмира. Слева с высей Большого Памира, от озера
Зор-Куль, низвергалась, прорезав ступени высоких террас, река Памир, по
которой на северо-восток уходила государственная граница СССР. Обе реки
сливались передо мной в одну: здесь начинался Пяндж! Здесь три венецианца
могли выбирать дорогу в Китай: либо через Малый, либо через Большой Памир.
И, повидимому, они повернули свой караван налево и, пройдя последнее, самое
высокое селение ваханцев -- кишлак Ратм, двинулись отсюда к Зор-Кулю.
"Отсюда три дня едешь на северо-восток, все по горам, и поднимаешься на
самое высокое, говорят, место на свете... " (Марко Поло).
Дальше, до самой границы с Китаем, не было населенных пунктов, кроме
кочевий восточнопамирских киргизов, и мне остается рассказать о колхозе
имени Кагановича, в который вместе с последними пянджскими кишлаками --
Зигвандом, Зунгом, Дырчем, Исором и Лянгаром -- входит расположенный над
рекою Памир маленький кишлак Ратм.
Я осмотрел в этом колхозе кишлак Зигванд. До коллективизации он состоял
всего лишь из трех хозяйств. Огромный труд был положен колхозниками и
помогавшими им пограничниками, чтобы расчистить от камней площади для
посевов. Сейчас в кишлаке Зигванд двадцать три хозяйства, владеющих
тридцатью шестью гектарами садов и посевов. Раньше сеяли только ячмень и
просо. Пшеница в здешнем климате не вызревала. Ячмень давал урожай не больше
десяти центнеров, а просо -- двенадцати центнеров с гектара. Колхозники
собирают с каждого гектара тридцать пять центнеров ячменя, сорок центнеров
проса и до шестнадцати центнеров выведенного в условиях высокогорья
селекционного сорта пшеницы.
В 1939 году колхозники впервые взялись за посадки неведомого прежде в
Вахане картофеля; в прошлом году с каждого из двенадцати занятых картофелем
гектаров собрали с помощью пограничников по 110 центнеров урожая. Огурцов,
капусты, моркови, укропа, редиса, дынь здесь тоже не было никогда, а в
колхозе имени Кагановича они успешно выращиваются.
Возле дома лянгарского ишана некогда был маленький, чахлый сад. Теперь
в Зунге пять гектаров земли занято плодоносящими садами, в Лянгаре под
садами -- два гектара земли; отборные, улучшенные сорта абрикосов и яблок
дают хорошие урожаи; в Зунге имеется питомник, раздающий саженцы тополя и
тутовника всем окрестным кишлакам; дороги обсажены тополями; на два десятка
километров тянутся новые оросительные каналы, давшие жизнь растительности на
полусотне гектаров прежде пустынной земли. Яблоки, тутовник, абрикосы
вызревают ныне во всех кишлаках колхоза, а ведь еще совсем недавно эти
деревья не давали плодов, как не дают их и сейчас на противоположном
афганском берегу Пянджа! Каждый год производится все больше посадок, за ними
наблюдает агроном, их производят опытные садоводы, обучившиеся тайнам
селекции в Хороге.
Все эти чудеса происходят на высоте в три тысячи метров над уровнем
моря.
Колхозники -- хлебопашцы и садоводы -- вырабатывают по четыреста и
больше трудодней в год, на каждый трудодень в 1951 году они получили по два
с половиной килограмма зерна, получили масло, овощи, фрукты, мясо. Стада
колхозников -- бараны и овцы, коровы, яки -- пасутся на отгонных пастбищах
на Восточном Памире и в Алайской долине. К услугам пастухов -- радиостанции,
автотранспорт, зоотехнические, медицинские и ветеринарные пункты,
передвижные киноустановки, библиотеки, свежие газеты, а во время отпуска --
путевки в дома отдыха и санатории на любые курорты СССР.
Колхозники высокогорного, сурового, холодного Вахана сыты, обуты,
одеты, здоровы, но, конечно, условия их существования не дают им тех
материальных возможностей, какие есть у колхозников Шугнана или Рушана,
живущих в теплых, благодатных, плодородных долинах. Поэтому государство не
только освободило ваханцев от всяких налогов зерном и мясом, по и оказывает
им постоянно материальную помощь, бесплатно раздавая мануфактуру и обувь. В
1952 году, в дни моего посещения колхоза имени Кагановича, каждому
нуждающемуся колхознику было выдано по пятнадцать метров мануфактуры, по
паре ботинок, паре калош и много других предметов одежды и домашнего
обихода.
И этому, пожалуй, больше всего удивился бы здесь любой купец от времен
Марко Поло до наших дней. Купцу не понять, как может быть что-либо дано
трудящемуся человеку безвозмездно, с единственной целью улучшить его
благосостояние!
... Вслед за караваном трех венецианцев я поднимался к Зор-Кулю. Так же
как и они, я любовался, оглянувшись на юг, поразительным по красоте,
прорезанным широкими ледниковыми долинами Ваханским хребтом. Так же как и
они, задыхался от недостатка воздуха и ел недоваривавшуюся на
четырехкилометровой высоте пищу. Три венецианца, оставив Памир, спускались
отсюда на восток к виноградникам и хлопковым полям Кашгара. Я повернул на
запад, чтобы спуститься к виноградникам и хлопковым полям Таджикистана.
План Замр-и-аташ-Параст (Кафыр-кала) -- крепости
сиахпушей-огнепоклонников у кишлака Ямчин. Составлен автором в 1932 году.
Справа: план руин древней цитадели на вершине горы. Слева: общий план
остатков древних укреплений по склону горы, к югу от цитадели.
Через двадцать лет я вновь посетил эту крепость, поднявшись к ней
вместе с несколькими пограничниками верхом по тропинке из кишлака Тухгос и
миновав два из семи хозяйств -- зеленых оазисов, составляющих разбросанный
по склону высоко над долиной Пянджа кишлачок Вичкуд. Тот день отмечен в моем
путевом дневнике такой записью:
"Тропа ведет прямиком по склону горы. Внизу -- долина Пянджа, широкая
здесь, гладкая и розная, занятая -- ближе к склону -- посевами Ямчина и
Тухгоса, ближе к реке -- зеленеющая заболоченной поймой, а за Пянджем
перекрытая огромным серым конусом выноса, в вершине которого виднеется
маленький кишлачок.
Речка, текущая с гор выше крепости, разделяется на два потока; один из
них, основной, прорезав глубокое ущелье, бежит к Пянджу восточнее мыса, на
вершине которого стоит цитадель; другой, с западной стороны, пропилив в
скалах щель глубиной метров в двести, устремляется водопадом и проходит ниже
отдельного хозяйства, относящегося к кишлачку Вичкуд, а затем вырывается из
щели в долину Пянджа.
Древняя крепость Замр-и-аташ-Параст занимает своей огромной территорией
всю гору между этими двумя потоками, изолирующими ее от всех окрестностей, а
потому является прекрасной точкой обороны, искусно выбранной древними
людьми. Даже с тыла, с северной стороны, она отделена от мира прорезью,
сделанной в скалах той же речкой, спадавшей здесь прежде в восточное ущелье,
а затем повернутой в обход крепости к западу. Сама ли природа сделала этот
обход или строители помогли природе, стремясь обеспечить крепость водой,
сказать трудно, но, судя по тому, что с тыла речка протекает явно, как
оросительный канал, можно думать, что путь для нее проложили люди.
Главная часть крепости -- цитадель, крепостное городище -- возвышается
над долиной Пянджа не меньше чем на пятьсот метров по вертикали.
Мы поднялись на конях выше крепости, оставили здесь, на скалах, лошадей
коноводу, а сами, спустившись к чистейшей воде древнего канала, пересекли
его и взобрались в крепость, к самой северной ее хорошо сохранившейся башне,
с амбразурами на три стороны: на запад, на север, на восток. Внутри этой
круглой башни ясно видны следы второго этажа -- дыры от бревен, на которых
покоилось междуэтажное перекрытие. Амбразуры были в обоих этажах, но второй
провалился, и первый наполовину завален плотно слежавшейся землей. От этой
башни расходятся под острым углом стены, обрамляющие территорию городища и
высящиеся вдоль западного
и восточного обрывов. Территория цитадели занимает плоскую вершину
горы, составляя треугольник, -- третья стена проходит параллельно Пянджу и
представляет собою фасад крепости. Ниже, по склону горы к Пянджу, идет
параллельно реке несколько стен, а по западной бровке склона, нависая над
боковым ущельем, тянется, уходя вниз, двойная стена, -- она достигает
округлой скалы, занятой форпостным укреплением -- маленькой самостоятельной
крепостцы на краю обрыва. Эта двойная стена и коридор между ними (узкий ход
сообщения) также с бойницами, дающими возможность обстрела на запад и на
восток; последнее предусмотрено на тот случай, если штурмующие войска
ворвутся на склон, обведенный предкрепостными стенами.
Все стены связаны чередою башен -- круглых, с амбразурами, со стенами
толщиною в метр и более; все башни, как и стены, сложены из больших камней
на глиняном, сохранившемся доныне растворе. Центральная часть городища
внутри стен представляет собою сложное сплетение каменных комнат-залов,
соединенных между собой проходами, а иногда -- изолированных. Стены между
залами раза в полтора-два выше человеческого роста, а в древности были еще
выше; это ясно из того, что бойницы в наружных стенах этих залов приходятся
изнутри почти на уровне земли -- уровень ее повысился вследствие завалов,
ведь бойницы, конечно, создавались так, чтоб стрелять сквозь них можно было
стоя, а не лежа. Только средняя часть городища -- ровная площадь, ничем не
занятая, кроме случайных больших глыб -- скал. Вероятно, эта территория и
была внутрикрепостной площадью, а может быть, ее занимало центральное
здание, ныне не существующее.
Амбразуры во фронтальной стене изнутри обложены плоскими плитами и
наклонены под небольшим углом вниз, так, чтоб давать стрелкам, защитникам
крепости, возможность обстрела долины Пянджа и боковых ущелий. Толщина этих
стен не меньше полутора метров.
Складывая стены, строители кое-где для прочности прослаивали камни
тонкими бревнами, суковатыми кусками древесных стволов, и надо удивляться
искусству древних людей, несомненно имевших в виду угрозу землетрясений и
сумевших сделать эти стены и башни антисейсмическими.
С севера, на высотах над крепостью, где есть тропа к перевалу через
Шах-Даринский хребет (выходящая на реку Шах-Дара у кишлака Сейдж, как сказал
мне житель Вичкуда Шаболь), простирается ровная полоса -- дашт, занятый
зерновыми посевами. Этот дашт похож па древнюю террасу речки Ямчин. Еще выше
к северу виднеется другая, наклоненная в сторону наблюдателя терраса, также
покрытая посевами; все же остальное к северной половине горизонта --
нагромождение высочайших гор, область главного водораздельного гребня.
Камни, из коих сооружена крепость (а камней таких сотни тысяч), --
тяжелые, большие глыбы, доставленные рабами -- строителями крепости из
разных, даже очень отдаленных мест, судя по тому, что здесь есть и
гнейсовые, и гранитные, и сланцевые породы, есть куски биотита и других
слюд, есть много мраморов с вкраплениями граната, словно забрызганных
кровью, а я такие вкрапления помню на шах-даринских склонах основного
хребта. Значит, камни были принесены издалека и даже с самых высоких
горизонтов Гиндукуша и Шах-Даринского хребтов. Труд строителей крепости был
поистине исполинским, -- человек мог нести на себе не больше одного-двух
камней; с таким грузом нужно было переправляться через речные потоки,
пересекать ледники, виснуть на отвесных обрывах скалистых круч и, наконец,
взбираться на макушку горы, на которой расположена центральная часть
крепости. Значит, над сооружением этой твердыни трудились десятки тысяч
людей, значит, тысячи -- погибали! Вот почему среди населения Вахана и
Ишкашима бытуют легенды о древних богатырях, о жестоком силаче Каахка,
швырявшем скалы с одного берега Пянджа на другой.
Размеры и мощь крепости поражают ее посетителя. Эта крепость должна
была быть исключительно важной по своему значению, знаменитой на сотни
километров окрест. Защищая подступы со всех сторон, стратегически она
исключительно точно и умно поставлена. Меня удивляет только одно
обстоятельство: долина Пянджа, с поймой реки, против крепости широка (от
двух с половиной до трех километров) и совершенно гладкая, причем Пяндж
течет, прижимаясь не к северному, а к южному -- гиндукушскому склону. Как
могли древние люди обстреливать эту долину, владеть ею, если стреляли только
из луков? Конечно, дальность полета стрелы не могла быть такой большой. А
крепость, несомненно, владела поймой реки. Может быть, Пяндж в древности
имел другое русло? Тек ближе к правобережному склону, даже подпирал его?
Может быть, перегороженный обвалом, мореной или ледником, спускавшимся с
Гиндукуша, он образовывал здесь озеро, как образовывал озера во многих
других местах?"
Археологи впервые осматривали пянджские крепости в 1947 году, -- тут
побывала экспедиция Академии наук, руководимая А. Н. Бернштамом. Ученый
утверждает, что эти крепости -- и первая из них крепость Ратм (у слияния
реки Памир с Вахан-Дарьей) -- призваны были защищать выход
с высокогорий Большого Памира, откуда двигались потоки кочевников в
древние Тохаристан и Бактрию и далее в Индию и Иран.
"За Ратмом по Пянджу, -- пишет в своем отчете руководитель
археологической экспедиции, -- отмечу крепости Исор, Зунк, Даршай и ряд
других. Однако наиболее значительными здесь были поселения крепости Ямчун *
(Замр-и-аташ-Параст или Кафыр-кала) и Каахка в южном Ишкашиме... "
И далее:
"Письменные источники позволили нам отождествить крепость Ямчун с
упоминаемым в китайских источниках столичным городом страны Бохо (Вахан)
"Сакским городом Гашэнь". Характерно то, что в названии города отмечено --
"сакский". Этим подчеркиваются роль и значение саков в исторических судьбах
Вахана. Вторым, более поздним центром Вахана и столицей Памира был город
Кухань (Каахка), или -- в VI -- VIII вв. -- Ябгукат, с которым мы связываем
руины Каахка на берегу Пянджа... "
Еще никто не производил раскопок ни в этой, ни в других крепостях
Вахана и Ишкашима. Их с нетерпением ждут все, кто заинтересован в том, чтобы
тайны глубин истории этой части Центральной Азии были, наконец, раскрыты для
народа советской наукой.
Под ледниками Гиндукуша
Однако вернемся к оставленному нами где-то в пути по Вахану каравану
венецианцев. Вот он поднимается к перевалу через огромную морену, которая
перегораживает долину и обрывается мысом, надвинувшимся на ложе реки.
Сколько веков понадобилось Пянджу, чтоб прорвать эту морену, чтоб внезапно
обрушить свои воды из образованного мореною озера, а потом устремиться
плавно, выгнув крутой и красивый излук? С вершины мыса Марко Поло глядит на
противобережный склон Гиндукуша. Огромный, могучий ледник, извившись
выпуклым своим телом по тесному, дикому ущелью, сползает с великолепного
белого массива, увенчанного группой грозных ледяных, заснеженных пиков,
ослепительно сияющих и представляющихся из долины Пянджа необыкновенно
величественными. На три тысячи метров над уровнем моря взнесена здесь долина
Пянджа, но еще не меньше чем
* Общепринята транскрипция: "Зунг", "Ямчин", "Вичкуд", а не "Зунк",
"Ямчун", "Викхут", как у А. Н. Бернштама. См. "Мат. и исслед. по арх. СССР"
No 26, 1952, стр. 281--233.
на три километра превышают пики долину. Серый, заваленный моренными
отложениями ледник, дойдя почти до самой долины Пянджа, нависает отвесной
стеной над раструбом ущелья, из которого выдвигается огромный "конус
выноса". В середине ледяной стены чернеет глубокий грот. Из него вырывается
бушующая река, ее путь короток: всего два-три километра; она мчится по
конусу выноса, разбегаясь множеством рукавов. Мутными потоками, цвета
сгущенного молока, они вливаются в Пяндж, оставляют у берега Пянджа, в его
серой воде белые бороды, пока воды, наконец, не смешиваются и не приобретают
единый цвет. На самом берегу, на краю конуса, усеянного россыпью битых скал
видна еще одна крепость, и путешественники с удовольствием думают о том, что
от этой крепости их отделяет река.
Все, что описано здесь, со времен Марко Поло, конечно, не изменилось.
Только крепости стали руинами, рядом с руиной Кала-и-Пянджа в наши дни стоит
современное афганское укрепление, проходит автомобильная дорога, построенная
американцами, на которой за год наши колхозники только два раза видели
автомобиль. В автомобилях были американские офицеры: эта дорога построена
явно не для мирных надобностей местного населения!
Марко Поло перед подъемом на мыс мог и не заметить на правом берегу
маленький кишлак Вранг: он ничем не отличался от других таких же маленьких
кишлаков Вахана!
Но я останавливаюсь в этом кишлаке, увидев на склоне горы большое белое
здание; мне говорят, что это здание -- школа-десятилетка колхоза имени
Сталина.
В самой глуби Вахана, в колхозе, ограниченном неприступными горами, не
начальная, не семилетняя, а полная средняя школа!
Снизу и сверху новое красивое здание обведено садом, орошаемым
схваченной каналом быстротечной горной водой. Вхожу в сад и встречаюсь с
учителем этой школы -- школы имени Горького, стройным ваханцем Гульбеком
Асадбековым, знакомлюсь с ним и... останавливаюсь в кишлаке Вранг на весь
день.
Вот что узнаю я, осмотрев школу, поговорив с ее директором, с веселыми,
чисто одетыми учениками и ученицами.
Начальная школа во Вранге создана в 1933 году. В ней было четыре
учителя и полсотни учеников. В 1940 году школа преобразована в семилетнюю,
-- в ней было девять учителей, сто учеников. В 1948 году в школе стало
девять классов, училось в ней триста детей. В следующем году был образован
десятый класс, -- к этому времени из Хорога приехали учителя: первые
закончившие там высшее образование памирцы.
В 1952 году, когда я осматривал эту школу, в ней было триста шестьдесят
учеников, из них сто сорок шесть девушек. В 1950 году произошел первый
выпуск десятиклассников: сорок пять юношей и двадцать пять девушек, сыновья
и дочери ваханцев -- колхозников из кишлака Вранг и трех ближайших к нему
кишлаков: Внукут, Ямг, Ширгин. Из этих двадцати пяти девушек четыре ныне
учатся в Ленинабаде в Женском учительском институте, одна из девушек,
Зульзула Зарикова, уже окончила институт, а три другие -- Холисамо
Кильтабоева, Азизбеги Камбарова, Далимо Шабозбекова через два года
оканчивают институт. Остальные девушки работают в Сталинабаде, в Хороге, в
колхозах Вахана, став библиотекаршами, учительницами начальных школ,
служащими разных учреждений, колхозницами в родных кишлаках. Юноши
продолжают учиться в высших учебных заведениях Сталинабада, Самарканда,
Хорога.
В школе -- семнадцать учителей, из них двое русских -- преподавателей
русского языка, остальные ваханцы, шугнанцы, ишкашимцы -- все бадахшанцы.
В школьной библиотеке, кроме учебников, две тысячи книг и много
наглядных пособий. Имеется в школе лаборатория; штатный лаборант по кабинету
физики и химии -- житель Вранга.
В 1942 году школьники вместе с учителями заложили сад. Дети впервые
сажали на отведенной для сада площади и возле своих домов иву, пирамидальный
тополь, яблони, персики. С 1950 года на пришкольном участке впервые созрели
арбузы, дыни, разные овощи, каких жители Вранга прежде не знали. Изучая
науку Мичурина и Лысенко, школьники теперь помогают в садоводстве
колхозникам, объясняют им новейшие правила агротехники.
Я осматривал эту школу вместе с ее директором Кучакшо Гуломшаевым,
имеющим высшее педагогическое образование; он рассказывал мне о своей школе
с большим знанием дела, показывал все классы и кабинеты с любовью, и в эти
часы я просто позабыл, в какой удивительной местности я нахожусь.
Ледяные зубцы Гиндукуша были облиты сиянием луны, когда я вновь
спустился к дороге, чтобы сесть в автомобиль и двигаться по пути Марко Поло
дальше. Но у машины меня встретил председатель колхоза имени Сталина и, не
приняв никаких моих возражений, повел к себе в дом ночевать. И весь мой
следующий день был посвящен осмотру колхоза. Я начал осмотр с колхозного
магазина, в котором было полно товаров и продовольствия. Я спросил директора
магазина Ады-ШоибШо Алимшоева, что больше всего требуют покупатели. И он
сказал мне, что из продуктов больше всего требуют рис, а из товаров --
коверкотовые костюмы, бостон, часы, радиоприемники. Алимшоев очень обиженно
заявил мне, что снабжающие магазин торговые организации отпускают слишком
мало этих товаров, а что, мол, дешевые костюмы, дешевый материал -- вот,
глядите, -- лежат на полках, уже никто дешевенького не хочет брать.
Я подумал о том, что на противоположной афганской стороне Пянджа жители
ваханских кишлаков ходят в тех же лохмотьях, голодают так же, как во времена
Марко Поло, и грамотных людей среди них попрежнему нет. "Ученых и
обучающихся науке у них пет", -- коротко и определенно пишет о ваханцах в
своей книге "Каттаган и Бадахшан" афганский географ
Бурхан-уд-Дин-хан-и-Кушкеки и рассказывает о "мужчинах и женщинах,
подверженных употреблению опиума и гашиша". На советской стороне Пяпджа ни
посевов мака, ни контрабандной торговли этим зельем уже больше двадцати лет
нет, и в последнем моем путешествии по Бадахшану я не только не встречал ни
одного курильщика опиума или гашиша, но даже не слышал, чтобы такой
где-нибудь был. "Ночью мужчины и женщины спят все вместе голыми, по
нескольку на одном паласе, укрываются теми же армяками и шкурами, которые
носят днем", -- на следующей странице своей книги сообщает тот же географ о
ваханцах Афганистана. "Керосиновых ламп у них нет и для освещения служит...
светильник "сиях-чераг" (масляная коптилка. -- П. Л. ). И еще говорит о
посевах "келюля", называемого в Вахане "патек". "... Патекзерновой злак, из
которого приготовляют похлебку. Большая часть тех, кто съест его и затем
поспит в теплом месте, делаются хромыми, так что можно видеть несколько
человек, которые охромели и лишились трудоспособности от употребления в пищу
патека".
На советской стороне Пянджа патек (патук) давно забыт ваханцами, как
забыты опиум и гашиш, а первобытный обычай спать так, как это описано
афганским географом, советские ваханцы считают неудобным даже и вспоминать.
Продолжая осмотр колхоза, я зашел в интернат, организованный для
восьмидесяти сирот -- детей тех ваханцев, что погибли на фронте в дни
Отечественной войны. Затем на крутом притоке Пянджа мне показывали площадку,
расчищаемую для строительства колхозной гидроэлектростанции, -- таких уже
построенных станций в Бадахшане я видел несколько. Шофер-ваханец уговаривал
меня прокатиться на колхозной автомашине, другой колхозник, киномеханик,
обязательно хотел задержать меня в клубе на вечерний киносеанс, но я
предпочел осмотреть радиоузел, медпункт и колхозную библиотеку. После
обильного ужина меня уложили спать на чистой постели в мехмонхоне -- комнате
для гостей при колхозной чайхане.
На следующий день я ехал дальше, и ветер Гиндукуша дул мне в спину, как
во времена путешествия Марко Поло, но я не сердился на этот пронзительный
ветер, наблюдая, как вертит он большие пропеллеры маленьких
ветроэлектростанций в озелененных, укрытых молодыми садами кишлаках Вахана.
И, наконец, впереди меня, в долину Пянджа, раздвоив ее, вдвинулся огромным,
прорезающим облака мысом Ваханский хребет. Справа, навстречу мне, вдоль
подножия Гиндукуша бежала Вахан-Дарья. В прорези ущелья над ней, уже в
пределах Читрала, над облаками, высился треугольный, белый, словно
лакированный, пик. Где-то под ним находились перевал Ионова и перевал.
Барогиль, ведущие к столице Кашмира. Слева с высей Большого Памира, от озера
Зор-Куль, низвергалась, прорезав ступени высоких террас, река Памир, по
которой на северо-восток уходила государственная граница СССР. Обе реки
сливались передо мной в одну: здесь начинался Пяндж! Здесь три венецианца
могли выбирать дорогу в Китай: либо через Малый, либо через Большой Памир.
И, повидимому, они повернули свой караван налево и, пройдя последнее, самое
высокое селение ваханцев -- кишлак Ратм, двинулись отсюда к Зор-Кулю.
"Отсюда три дня едешь на северо-восток, все по горам, и поднимаешься на
самое высокое, говорят, место на свете... " (Марко Поло).
Дальше, до самой границы с Китаем, не было населенных пунктов, кроме
кочевий восточнопамирских киргизов, и мне остается рассказать о колхозе
имени Кагановича, в который вместе с последними пянджскими кишлаками --
Зигвандом, Зунгом, Дырчем, Исором и Лянгаром -- входит расположенный над
рекою Памир маленький кишлак Ратм.
Я осмотрел в этом колхозе кишлак Зигванд. До коллективизации он состоял
всего лишь из трех хозяйств. Огромный труд был положен колхозниками и
помогавшими им пограничниками, чтобы расчистить от камней площади для
посевов. Сейчас в кишлаке Зигванд двадцать три хозяйства, владеющих
тридцатью шестью гектарами садов и посевов. Раньше сеяли только ячмень и
просо. Пшеница в здешнем климате не вызревала. Ячмень давал урожай не больше
десяти центнеров, а просо -- двенадцати центнеров с гектара. Колхозники
собирают с каждого гектара тридцать пять центнеров ячменя, сорок центнеров
проса и до шестнадцати центнеров выведенного в условиях высокогорья
селекционного сорта пшеницы.
В 1939 году колхозники впервые взялись за посадки неведомого прежде в
Вахане картофеля; в прошлом году с каждого из двенадцати занятых картофелем
гектаров собрали с помощью пограничников по 110 центнеров урожая. Огурцов,
капусты, моркови, укропа, редиса, дынь здесь тоже не было никогда, а в
колхозе имени Кагановича они успешно выращиваются.
Возле дома лянгарского ишана некогда был маленький, чахлый сад. Теперь
в Зунге пять гектаров земли занято плодоносящими садами, в Лянгаре под
садами -- два гектара земли; отборные, улучшенные сорта абрикосов и яблок
дают хорошие урожаи; в Зунге имеется питомник, раздающий саженцы тополя и
тутовника всем окрестным кишлакам; дороги обсажены тополями; на два десятка
километров тянутся новые оросительные каналы, давшие жизнь растительности на
полусотне гектаров прежде пустынной земли. Яблоки, тутовник, абрикосы
вызревают ныне во всех кишлаках колхоза, а ведь еще совсем недавно эти
деревья не давали плодов, как не дают их и сейчас на противоположном
афганском берегу Пянджа! Каждый год производится все больше посадок, за ними
наблюдает агроном, их производят опытные садоводы, обучившиеся тайнам
селекции в Хороге.
Все эти чудеса происходят на высоте в три тысячи метров над уровнем
моря.
Колхозники -- хлебопашцы и садоводы -- вырабатывают по четыреста и
больше трудодней в год, на каждый трудодень в 1951 году они получили по два
с половиной килограмма зерна, получили масло, овощи, фрукты, мясо. Стада
колхозников -- бараны и овцы, коровы, яки -- пасутся на отгонных пастбищах
на Восточном Памире и в Алайской долине. К услугам пастухов -- радиостанции,
автотранспорт, зоотехнические, медицинские и ветеринарные пункты,
передвижные киноустановки, библиотеки, свежие газеты, а во время отпуска --
путевки в дома отдыха и санатории на любые курорты СССР.
Колхозники высокогорного, сурового, холодного Вахана сыты, обуты,
одеты, здоровы, но, конечно, условия их существования не дают им тех
материальных возможностей, какие есть у колхозников Шугнана или Рушана,
живущих в теплых, благодатных, плодородных долинах. Поэтому государство не
только освободило ваханцев от всяких налогов зерном и мясом, по и оказывает
им постоянно материальную помощь, бесплатно раздавая мануфактуру и обувь. В
1952 году, в дни моего посещения колхоза имени Кагановича, каждому
нуждающемуся колхознику было выдано по пятнадцать метров мануфактуры, по
паре ботинок, паре калош и много других предметов одежды и домашнего
обихода.
И этому, пожалуй, больше всего удивился бы здесь любой купец от времен
Марко Поло до наших дней. Купцу не понять, как может быть что-либо дано
трудящемуся человеку безвозмездно, с единственной целью улучшить его
благосостояние!
... Вслед за караваном трех венецианцев я поднимался к Зор-Кулю. Так же
как и они, я любовался, оглянувшись на юг, поразительным по красоте,
прорезанным широкими ледниковыми долинами Ваханским хребтом. Так же как и
они, задыхался от недостатка воздуха и ел недоваривавшуюся на
четырехкилометровой высоте пищу. Три венецианца, оставив Памир, спускались
отсюда на восток к виноградникам и хлопковым полям Кашгара. Я повернул на
запад, чтобы спуститься к виноградникам и хлопковым полям Таджикистана.
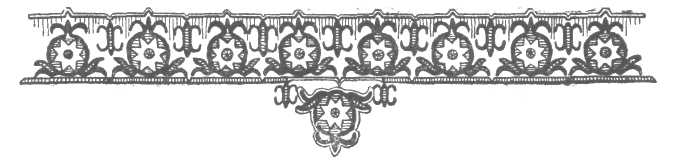
 Схематическая карта Бартанга.
"Дорога, -- пишет И. И. Зарубин, -- от Яшиль-Куля до Ирхта на
10-верстной карте не обозначена вовсе; вообще, по справедливому замечанию
начальника Памирского отряда подполковника Шпилько, местность эта на карте
искажена до неузнаваемости".
С величайшими трудностями, миновав Ирхт, пешком по зыбким, громадным и
невероятно крутым осыпям, с которых в озеро срывались камни, по
нагромождению исполинских каменных глыб, путешественники добрались до
Бартанга и здесь, в кишлаке Барчидив, после нескольких дней пути увидели
траву, и кусты, и абрикосовые деревья и могли отдохнуть среди гостеприимных
бартангцев. В этом кишлаке, состоявшем из одиннадцати домов, оказалось около
сотни жителей.
Почти месяц провели исследователи в кишлаках Бартанга, прошли весь его,
до устья, собрали интереснейший материал.
"... По всему Бартангу бедность горцев поразительна: нужно долго
присматриваться, иногда просто разыскивать по всей сакле, чтобы найти
какую-нибудь домашнюю утварь. Верхний Бартанг в особенности беден
материальной культурой... "
"... Бартанг (равно как и Язгулем) выделяется даже среди памирских рек
суровостью и мрачностью своей природы. Эта река глубже, чем другие,
врезается в материк и почти повсюду течет среди отвесных и недоступных скал,
замыкающих ее русло. Лишь изредка встречаются небольшие отмели, годные для
земледелия, и ширина их нигде не превышает ста сажен; здесь и ютятся поселки
таджиков... "
"... В узкой полосе, у подножия горных склонов, среди разбросанных
утесов и громадных, скатившихся с гор камней, расположены жилища и пашни
таджиков. Но и такая ничтожная полоса доступной для земледельческой культуры
земли не идет непрерывно по всему течению реки. Очень часто русле реки
представляет узкий и глубокий коридор, образованный отвесными и нависшими
скалами; всего на несколько часов в день попадают сюда солнечные лучи. Ни о
какой культуре в таких местах не может быть речи".
Этот впервые точно и правдиво освещавший жизнь неведомой долины отчет
исследователя Бартанга был опубликован только в дни Октябрьской революции --
в октябре 1917 года. Лишь отдельные заметки публиковались И. И. Зарубиным
раньше, в дни мировой войны.
Так до самой Октябрьской революции жизнь бартангцев для всего мира
оставалась неведомой.
Но еще немало лет прошло, прежде чем сведения о Бартанге пополнились. С
1918 по 1924 год Бартанг назывался "Бартангскою волостью Памирского района
Туркестанской АССР". С января по декабрь 1925 года Памир назывался
"Особой Памирской областью". Неизвестно, побывал ли ктолибо из
областных памирских советских работников в эти годы на Бартанге. Только с
1926 года, когда была создана ГорноБадахшанская автономная область
Таджикской АССР и в состав этой области вошла "Бартангская волость",
партийные и советские работники начали проникать на Бартанг, закладывать
первые основы советского строительства в этой заповедной долине.
Пробираясь по отвесным скалам, они преодолевали исключительные
трудности; в эти годы сложилась на Памире поговорка: "Кто в Барганге не
бывал, тот Памира не видал!"
В эти годы на Бартанге побывали статистики, один или два врача,
работники обкома и облисполкома, несколько комсомольцев. Они думали только о
своей повседневной работе -- советской, партийной, комсомольской, они вели
ее упорно и скромно, и теперь вряд ли возможно даже узнать их имена. А из
специалистов, научных исследователей, насколько мне известно, до 1928 года
на Бартанге не был никто.
В 1928 году, когда Памир изучала первая крупная научная экспедиция
Академии наук СССР, основная часть экспедиции устремилась в загадочную
область большого белого пятна -- в необитаемую ледниковую область бассейна
ледника Федченко. Из Танымасского лагеря экспедиции к верховьям Бартанга
спустились пятеро участников экспедиции. В их числе были Н. П. Горбунов, Д.
И. Щербаков и студент горного института, молодой геолог Г. Л. Юдин. Впервые
вступали геологи на Бартанг!
Группа прошла Бартанг сверху до середины его течения, достигла
волостного центра -- кишлака Си-Пондж и, поднявшись отсюда на водораздельный
хребет, через перевал КумочДара, спустилась в Язгулем. Впервые давалась
Бартангу геологическая характеристика. Она была крайне нужна для общего
представления о строении Памира, который планомерно стал изучаться геологами
только за год перед тем. Тогда, в 1927 году, Д. В. Наливкин (ныне академик),
вторично посетив Памир после одиночного маршрута 1915 года, на этот раз с
группой других геологов принялся приводить в систему все разрозненные
наблюдения отдельных геологов, совершивших по Памиру маршруты, начатые в
этой высокогорной стране в 1883 году Д. Л. Ивановым.
Термины: мезозой, рэтически-юрские сланцы, мраморы, гранитные интрузии,
метаморфизованные красноцветные песчаники и конгломераты -- навсегда
запечатлевались на впервые составляемой геологической карте Бартанга.
"Боковые притоки, часто многоводные и бурные, -- писал после этого
путешествия Г. Л. Юдин, -- имеют еще более дикие и малодоступные ущелья; все
это создавало для топографов, снимавших эту местность, иногда непреодолимые
препятствия, а потому притоки нанесены на карту по расспросным сведениям.
Таким же образом определяются истоки притоков и помечаются перевалы в
верховьях, если они имеются. При этом ошибки нанесения перевалов иногда
достигают величины в несколько десятков километров. Пространство же между
указанными реками, занятое высокими водораздельными гребнями, достигающими
до 6 000 м абсолютной высоты, покрыто фантастическими горными хребтами,
выраженными в горизонталях, не соединенных между собой и имеющих целью дать
только общее представление о рельефе. БартангГунтский водораздел съемками
нигде не пройден; БартангЯзгулемский имеет два пересечения в нижнем течении
через пер. Одуди и Кумоч-Дара... Все же, расположенное выше, на В. --
представляет собою "неисследованную" область, и хотя на карте нет белых
мест, но, что еще хуже, изображено не существующим в действительности
рельефом... "
Ничего лично о себе не пишет Юдин, но в корреспонденции о работе всей
экспедиции, посланной ее руководством в газету "Известия", есть такие слова,
касающиеся бартангской группы:
"Во время перехода группы через перевал Кумоч-Дара от каменной лавины
едва не погиб студент горного института Юдин... "
На обратном пути Д. И. Щербаков и Г. Л. Юдин прошли через перевал
Хурджин в Рошорв (Орошор).
И снова долго никто из исследователей не посетил бы Бартанга, если б
увлеченный первыми своими открытиями, окончивший горный институт Г. Л. Юдин
вновь не явился сюда в следующем, 1929 году.
А в 1930 году Юдин в третий раз шел на Бартанг, в этот раз вдвоем с
автором этих строк, молодым писателем, взявшим на себя в той геологической
экспедиции обязанности коллектора.
Ночь с Иор-Мастоном
Светит луна. Так пронзительно светит, так насыщает сиянием ущелье, что
мне не спится на плоском камне. Пораженный красотою ночи, я сбрасываю с себя
белый, из козьей шерсти халат, под которым мне душно лежать, приподымаюсь,
гляжу на моих спутников, спящих рядом на камне, сижу осматриваясь.
Ослепительная луна стоит в зените, но почти до нее, немного не дотянувшись,
высится острый пик, венчающий правобережную стену ущелья, -- она встает
отвесно над шумящей
глубоко внизу рекой. Пик сверкает всеми гранями скал, ярко освещенный,
словно составленный из осколков хорошо отшлифованных, воткнувшихся в лунное
небо зеркал.
Все другие скалистые громады, серебряная вода бурлящей внизу реки,
шелковичные деревья, обступившие камень, на котором я и мои спутники
расположились на ночь, словно повиснув над рекою в лунном пространстве,
освещены столь же ярко, и ночь мне кажется фантастической, и все еще
слышится мне дробный рокот невидимых бубнов: та-та, та-та-та, которым
бартангские женщины весь вечер отгоняли от своих микроскопических посевов
упрямых и жадных птиц.
Изогнутый отрезок реки виден только от мыса до мыса. Вертикальные,
изборожденные трещинами плоскости скал запирают выходы из этого мира.
Левобережье -- сыпучий конус, громада глыб и камней, вынесенных к реке
боковым притоком, вырывающимся из узкой, глубокой, извилистой щели. Вошедший
в щель по каменистой тропинке не увидит оттуда ни луны, ни солнца, -- туда
не доходят лучи.
А сыпучий конус, громада камней, оснащен трудом человека. Лесенкой одно
над другим -- человеческие жилища. Лесенкой одна над другой -- крошечные
площадки посевов. Сколько камней можно навалить на одном квадратном метре
пространства? А если все пространство, от века, нагроможденье камней, --
сколько усилий нужно, чтоб очистить от них каждый квадратный метр площади?
Занявшись очисткой, надо тут же, рядом, по краям площадок, сложить башенки
из камней (куда же иначе девать камни?). В бесконечном лабиринте оград нет
площадок длиною больше двух десятков шагов. Устроить на площадке посев --
значит натаскать сюда на носилках земли, оплести эту землю паутиной канавок,
оторвать от ручья бегущую воду и пустить ее по канавкам так, чтоб она не
растерялась по пути. А путь ее -- иногда по воздуху, над обрывами, и потому
над пропастью висят деревянные, долбленые желобы, прикрепленные к скалам
сухими берестяными веревками да вбитыми в трещины кольями.
Над посевами -- скрипучее собранье деревьев: яблони, грецкий орех,
абрикосы и тутовник. Они, чахлые и низкорослые, потому что их корни
упираются в камень. Полгода в году жизнь селения зависит от этих деревьев,
-- ведь только их плодами можно питаться, когда кончается все другое.
Две скалы, как два волчьих клыка, торчат в середине селения, над
обрывом к реке. На одной из них -- дом, такой же, как все: каменная берлога.
Он обведен обваливающейся стеной. Он украшен по углам вздыбленными рогами
архаров, ячьими хвостами на длинных жердях. Кажется, прямо в пропасть
выводит резная деревянная дверь, и только если очень внимательно
присмотреться, можно различить в вертикальной плоскости скалы узенькие
ступени.
На другой скале -- плоский камень, тот камень, на котором ночую я. Если
чуть выдвинуться над краем этого камня, то река, большая река Бартанг,
окажется прямо подо мною, -- высок и грозен обрыв в пенную, бурливую
глубину. Никто никогда не перейдет эту реку вброд. Никто не знает ее
глубины. Никто никогда не бывал против селения на другой стороне ее, -- там
нет ни отмелей, ни песка: скала уходит в воду отвесно. Вечно шумит Бартанг,
стучит и грохочет, забивая шумом уши людей, заглушая все голоса.
Если долго смотреть на его течение, он обязательно представится
спутанной бородой взбешенного духа гор. Иначе зачем бы колотиться о камни с
такой злобной силой? Катить с грохотом валуны? Ломать берега, рушить на себя
подмытые осыпи, долбить скалистые мысы, отполированные до черного блеска?
Разве может быть доброй эта таинственная сила воды? Сколько людей и скота
она погубила?
Конечно, это дух гор борется с вечностью и она треплет его белую
бороду, а люди в назидание должны на это смотреть. Смотреть и быть,
устрашась, покорными.
Так думает Иор-Мастон, белобородый старик, проснувшийся, не спящий, как
и я, на плоском камне. Я знаю, что он думает так: весь вечер он делился со
мною своими думами.
Он очень стар, Иор-Мастон, он прожил в здешних горах семь десятков лет.
За все эти десятки лет он побывал только в трех-четырех ближайших селениях,
таких же, как это. Незачем ему было ходить дальше. Только однажды в жизни он
ходил дальше -- ходил за солью в область Восточных Долин, привесив для
храбрости к своему белому халату когти убитого его отцом барса, когти,
всегда висящие на деревянном гвозде, вбитом между камнями в его неказистом
жилище. Иор-Мастон завязал в широкую тряпку пять лепешек из гороховой муки,
пять шариков крута -- пресного овечьего сыра и, опоясавшись этой тряпкой,
отправился в зимний путь. Это было давно. Тогда он мог ходить по горам один.
Тогда мускулы его были достаточно молоды для того, чтоб половину месяца изо
дня в день, от восхода до заката солнца он нес на своей спине полтора пуда
соли, добытой в Восточных Долинах. Эта соль была нужна всему селению, ею
Иор-Мастон хотел хоть чуточку уменьшить горсть золотого песка, которую
потребовал с его отца и старших братьев пришедший снизу, за податью, халифа,
-- эту подать каждый год он передавал сборщикам зякета, уходившим трудной
тропою в Афганистан и дальше -- к самому Ага-хану.
Когти барса помогли в тот раз Иор-Мастону. Он не испугался ни ледяных
переправ, ни морозных ночей в пустынных Восточных Долинах, ни диких зверей,
ни жестокого ветра, ни разреженного воздуха страшных высот. Он дошел до
Восточных Долин, не ошибся дорогой, нашел Тростниковое озеро и рядом Соленое
озеро; не испугавшись драконов, обитавших в нем, выломал из пласта большие
куски крупнозернистой самосадочной соли и, навьючив их на себя, потихоньку
побрел назад, ночуя под камнями, в охотничьих норах.
Он шел две недели тем же путем, но, придя в родные места, испугался.
Впервые он так испугался. Будь на его месте кто угодно другой -- любой
человек не меньше бы испугался: в своем ущелье, обрамленном отвесными
скалами и выше снежными пиками, Иор-Мастон не нашел ни реки, которая текла
здесь тысячи лет, ни родного селения, испокон века прижимавшегося к реке, ни
маленьких пастбищ, лепившихся по склонам, высоко над селением. Все вокруг
было незнакомо, непонятно и страшно. Длинное озеро сверкало там, где была
река. Оно упиралось в огромное нагромождение каменных глыб, перекрывших
ущелье во всю его ширину. А половины горы, нависавшей над селением прежде,
не было. Вместо нее стояла чуть не до неба каменная стена, обрывистая,
невиданная им никогда.
Сначала Иор-Мастон подумал, что заблудился, что это не то ущелье, в
котором жили его деды, в котором родился и вырос он сам.
Иор-Мастон взобрался на вершину хаотического нагромождения скал, чтобы
сверху определить, куда же попал он из-за своей непонятной ошибки? Он
привалил к расщелине камня мешок соли, решив, что вернется за ним, когда
отыщет правильный путь. Прыгая с камня на камень, переползая с одной
скалистой громадины на другую, протискиваясь в щели между остроугольными
рваными камнями, он углублялся все дальше в этот зловещий мир и не мог
разобраться ни в чем.
Он смотрел вверх, на снежные кромки высоких хребтов, на острые гребни
водораздела. Наконец он узнал, хорошо узнал, все то, что было видно вверху,
-- очертания этих горных массивов были знакомы ему с детства. Но все внизу
было незнакомо ему. Там должно было находиться его селение, а селения не
было.
Внезапно он понял все. Ему стало так страшно, что, сразу вспотев, он
бессильно опустился на камень. Медленно, словно притирая взор к высящейся
над ним скалистой стене, он оглядел ее всю -- снизу доверху. И теперь он уже
не сомневался ни в чем. Истина была проста, отчетлива, беспощадна. Селение
находилось где-то глубоко, под хаотическим нагромождением скал, поглощенное
небывалым обвалом.
Иор-Мастону показалось вдруг, что теперь он один во всем мире, один,
единственное существо, оставшееся в живых.
С пересохшим горлом, с таким выражением глаз, словно два дня подряд
беспрерывно дышал только дымом опиума, которым всегда смердил в его селении
халифа, с потерянным сердцем и мокрыми от испуга руками, Иор-Мастон побежал
вперед, не разбирая пути, не глядя себе под ноги, не думая. Всякий, кто
взглянул бы на него со стороны, сказал бы, что этот человек спасается
бегством от несущихся за ним, только одному ему привидевшихся драконов. И
сказал бы себе, что этот бегущий по кручам одержим дэвами, вероятно, за
большие грехи и ему все равно где бежать, потому что ненадежная его жизнь
хуже смерти.
Но на Иор-Мастона никто не смотрел со стороны, ибо не не было вокруг
ничего живого -- одни голые, бесформенные, корявые, огромные камни завала,
двенадцать квадратных километров хаоса, а под ним -- исчезнувшие навеки,
погребенные навсегда тутовые деревья, крошечные участки посевов, маленькое
селение, больше ста мужчин и женщин и детей, -- селение Усой, уничтоженное
титанической силой природы.
... Через многие дни, через горы, ледники и снега, медленно, гораздо
медленней ветра тянулась к первому телеграфу весть о грандиозном Усойском
завале. Короткая телеграмма скользнула по столбцам городских газет. Она
взволновала только немногих специалистов -- гидрогеологов и сейсмологов,
заставила их записать несколько знаменательных цифр, заставила подумать, что
следовало бы направить в район катастрофы научную экспедицию, да откуда
взять средства, да и как добраться туда?
В скором времени вода реки Мургаб, которой некуда было деваться,
поднимаясь все выше, затопила кишлак Сарез, расположенный выше завала, --
озеро, названное Сарезским, быстро увеличивалось и становилось все глубже. В
1930 году, ночуя в одном из маленьких кишлаков в ущелье над рекою Бартанг, я
из уст старика Иор-Мастона услышал рассказ об этой катастрофе, который
передан мною выше.
Дальше я сообщу читателю все научные данные, какие известны мне о
Сарезском озере на Памире, а сейчас вернусь к старику Иор-Мастону,
проводящему вместе со мною фантастически красивую лунную ночь на плоском
камне, над обрывом к реке Бартанг.
Иор-Мастон тогда пустился вниз по ущелью Бартанг, прошел мимо многих
селений и, наконец, остановился в том,
в котором я и застал его спустя девятнадцать лет, после того как он,
одинокий, потерявший всех своих родных и близких, поселился в нем и уже
никуда больше, кроме как в соседние селения, не ходил.
В эту ночь я долго смотрел на изборожденное глубокими морщинами лицо
старика, устремившего в бессонном раздумье свой взор на кипящую под нами
реку Бартанг, хорошо представляя себе все думы этого человека, казавшегося
мне выходцем из первобытного мира, в который привели меня мои экспедиционные
странствия.
За горами создавались колхозы, в разгаре своей победной работы кипела
первая пятилетка, перестраивала, расширяла свои улицы наша столица Москва,
боролись со всякими пережитками и суевериями десятки тысяч комсомольцев моей
великой Советской Родины, а здесь, в ущелье реки Бартанг, куда пробраться
можно было только пешком, цепляясь за выступы диких скал, здесь еще
существовал древний мир, едва только освобождавшийся от тысячелетнего мрака
феодализма.
И в эту лунную ночь над рекой, осеннюю ночь 1930 года, я раздумывал о
том, каковы представления о мире у старых бартангцев. До сих пор большинство
из них смотрело на заезжих, неведомых им людей, как на могущественных,
богатых, сытых пришельцев из иного мира, за плечами которых -- власть, а в
руках -- оружие; их слова -- повелительны и беспрекословны. Даже если эти
люди ничем не угрожают, входя в селение, не повышают тона, то можно ли их
ослушаться? Кто эти люди? Откуда они?
Старик Иор-Мастон накануне высказывал мне свои соображения об этих
столь редко появлявшихся в его селении людях. Эти люди -- "от власти". Люди
-- от "накалая". "Накалая" -- переиначенное: "Николая"; что значит
"накалай", что значит люди "накалай"? "Кала" -- означает "крепость". "Калай"
-- по-русски "крепостницы", люди из крепости. А что значит "на"? Вероятно,
что-либо вроде титула "ша", который у бартангцев прилагается к именам
владетелей, местных шахов. А может быть, "на", "нау" -- означает "новый"?
"Новые люди из крепости"? Старые люди из крепости были афганцы, они
оккупировали весь Бадахшан, они завладели и Бартангом. А после них пришли,
их изгнали новые люди -- русские.
Так было до революции. Русский географ Б. Л. Громбчевский, известный
исследователь Центральной Азии, описывает, как в Канджуте, где население так
же относилось к путешественникам, как и на Бартанге, местные жители, видя у
него различные геодезические инструменты и приборы, обратились
к нему с просьбой помочь им его "машинами" изменить погоду, прекратить
дожди, насланные на них недружественными соседями, дожди, губящие их посевы;
убрать холода, дать дорогу солнцу. Они верили, что этот человек, пришедший
из неведомой им России, своими приборами может испортить посевы, увеличить
льды ледников, вызвать землетрясение. Они просили его не делать этого, а,
напротив, сделать им благо.
Вот не "накалай" ли вызвали землетрясение на Сарезе?
Иор-Мастон очень тактично, исподволь высказал мне это свое сомнение.
Иор-Мастон признался, что прежде жители его гор стремились держаться
подальше от всяких пришельцев, особенно от тех, кого он называл "судьями
камней" -- людьми, ищущими в горах всякие дорогие камни или металлы. Он,
конечно, имел в виду геологов, изредка появлявшихся в соседних с Бартангом
ущельях; он считал, что если им показать, где есть металлы и ценные камни,
то они заставят бартангцев работать там, устраивать обвалы, носить на себе
тяжести; значит, люди Бартанга, слабые, всегда голодные люди, будут умирать
от усталости, будут погибать под обвалами; ничего хорошего не жди!
Он слыхал, что на рубиновых копях в Куги-Ляле, -- это далеко от
Бартанга, это в Горане, на реке Пяндж, -- много людей погибло, когда
афганские кефтаны заставляли горанцев добывать лалы.
Но и Иор-Мастон в дни, когда я познакомился с ним, уже переменил свое
отношение к приходящим издалека русским людям, которые называли себя
большевиками: эти люди были совсем не похожи на всех других, от них была
польза, большая польза, они никого не обижают, они не берут у бартангцев
последние сухие ягоды тута, они сами приносят в селение еду, они раздают ее
безвозмездно всем беднякам, -- уже много муки роздали, много зерна для
посева, много одежды. Они не заставляют работать на себя, лечат больных,
помогают во всем, -- это хорошие люди, удивительна и непонятна новая власть,
но она -- хорошая, и вот "ты, рафик, тоже человек от новой, советской
власти, и с тобой я могу говорить обо всем, знаю, от тебя огорчений не
будет, вот ты... " -- и ИорМастон начинал перечислять все то хорошее, что,
по его суждению, я мог бы не делать для него и его соседей, но что я сделал
по доброй воле, как человек от новой, советской власти.
И именно потому он, Иор-Мастон, взялся сопровождать меня всюду, куда б
ни надумал я итти по Бартангу, -- это второй раз в жизни, когда Иор-Мастон
решился уйти от своего селения далеко. Он еще крепкий, ему только семьдесят
лет, он еще хорошо ходит по скалам, по таким скалам, по
каким русский человек без помощи Иор-Мастона не сумеет пройти.
Вот таков был старик Иор-Мастон, проводивший ту лунную ночь на плоском
камне без сна, и таковы были мои думы в ту странную ночь на Бартанге.
Бартангские овринги
Старик Иор-Мастон шел последним. В его обязанности не входило нести на
своей спине груз. Два носильщика, нанявшихся к нам в устье Бартанга, были
молоды и сильны. Одного из них звали Ходжа-Мамат, второго -- Палавон-Назар.
Слово "палавон" значит -- богатырь, но богатырями были оба наших носильщика,
а это значит еще, что оба были смелы и готовы ко всяким опасностям. У обоих
за спиной висели рюкзаки весом пуда по полтора: в рюкзаках -- палатка, запас
продуктов, спальные мешки, образцы геологических пород, набранных нами в
пути. Палавон-Назар шел первым, выбирая и указывая нам путь. Ходжа-Мамат шел
позади меня и ступавшего мне вслед Юдина. На мне было много ремней с
подвешенными к ним полевой, набитой доотказа сумкой, фотоаппаратом,
анероидом, пистолетом в кожаной кобуре, геологическим молотком и всем
прочим, необходимым для работы в пути. Юдин не слишком любил носить тяжести,
но и у него имелись пистолет, геологический молоток, полевая сумка. Рослый,
тяжелый, дородный с молодости, он с трудом протискивался там, где мне
удавалось пролезть, не зацепившись за выступ скалы. Рюкзаки за спиной у
носильщиков были огромными, но бартангцы привыкли ходить по своему ущелью с
объемистым грузом, бартангский народ славится своей "легкой ногой", --
жилистые, худые, ловкие, не знающие, что такое боязнь высоты, не
испытывающие головокружения, поистине способные "войти в рай по волоску из
бороды пророка", они без труда и без страха уверенно проносили свой груз
там, где даже горный козел призадумался бы перед опасным прыжком.
Мы шли день за днем, от восхода солнца и до заката, по десять, по
двенадцать, были дни и по четырнадцать часов кряду, захватывая порой темноту
в пути, потому что негде бывало расположиться на ночлег: не находилось такой
площадки, да и ночевать хотелось там, где сверху струился или летел
тоненьким водопадом ручей. Мы прошли уже много оврингов.
Рассказать о каждом из оврингов невозможно, они были самыми
разнообразными. Да и свыкнувшись с трудностями
24 П. Лукницкий
пути, занятые геологической работой, ради которой приходилось
останавливаться порой в самых неудобных местах, мы на некоторые из этих
оврингов не обращали внимания: прошли кое-как, не сорвались, и ладно. Отерев
пот со лба, вписав на ходу в полевую тетрадь название очередного овринга,
чувствуя, что до следующего, который вот виднеется впереди, чуть-чуть
полегчало, я забывал о том, что осталось, слава богу, уже позади. Правда,
нам предстоял еще и обратный путь, но о нем мы старались не думать.
Голова Палавон-Назара была обмотана огромной, рыжей чалмой, сделанной
из домотканной, крашенной луком маты. Благородное, честное, смелое лицо
Палавон-Назара оборачивалось ко мне всякий раз, когда он сомневался: найду
ли я место, куда надо поставить ногу? Вольным жестом, словно предлагая мне в
подарок всю гигантскую гору, по обрыву которой мы пробирались на высоте,
Палавон-Назар указывал какую-нибудь едва заметную выбоинку в скале,
достаточную, чтоб опереться на нее носком парусиновой туфли и продержаться
навесу мгновенье, необходимое для того, чтоб перенести вторую ногу к
следующей зацепинке.
В работе, необходимой для передвижения, принимали участие все мышцы
моего тела -- от шеи до пальцев ног. Работа была напряженной и непрерывной,
и я хорошо понимал, что только человек может пробраться в таких местах, где
даже горный козел остановится перед непреодолимым для него препятствием,
потому что у козла нет рук, на которых он мог бы на секунду повиснуть, не
имея под собой точки опоры. Но человеку в здешних местах нельзя иметь
излишней обостренности чувств, потому что если раз испугаться, то двигаться
дальше окажется невозможным.
Этнограф И. И. Зарубин так говорит об оврингах:
"... Так называемые овринги даже нельзя назвать дорогой; овринги -- это
соединение в одном месте всех трудностей и опасностей пути, встречаемых
обыкновенно порознь. Они отличаются друг от друга только различными
сочетаниями и степенью этих трудностей. Приближающемуся к оврингу кажется,
что дальше итти нет никакой возможности. Но после внимательного осмотра он
находит впереди какой-нибудь выступ, на который можно перешагнуть, хотя с
большим трудом; дальше виден какой-нибудь колышек, заменяющий ступеньку,
колеблющаяся висячая лестница из прутьев, балкон, громадный утес, на который
можно взобраться, прижимаясь к нему всем телом и едва-едва схватившись
руками за верхний выступ... Вернуться назад нельзя: сзади идут другие, а
разойтись немыслимо. Идущие впереди, более опытные, указывают, на какой
выступ какую ногу нужно поставить и за какой камень держаться: если
поставить ногу немного ближе, чем нужно, то при следующем шаге нельзя будет
достать ногой до другого выступа. При этом все овринги расположены на очень
большой высоте над рекой... "
И еще:
"... Местами путь преграждается совершенно, и в таких местах нужно
прибегать в турсукам. И редкие путешественники и туземцы единодушно
утверждают, что труднее и непроходимее долин, чем долина Бартанга, не
существует; туземцы, впрочем, благоразумно прибавляют, что путь по Язгулему
такой же... "
В Памирской экспедиции 1928 года участвовал один бывший летчик; он
выполнял обязанности охотника, ему нужно было наловить диких зверей для
Московского зоологического сада. Когда экспедиция закончилась, и он
отправлял из Андижана в Москву зверей, посаженных в клетки и погруженных в
товарный вагон, дверца одной из клеток открылась, и огромный барс выскочил
из нее. Двери теплушки были, к счастью, закрыты, но отправлять поезд с
барсом, свободно разгуливавшим по вагону, было, конечно, нельзя. Никто не
решался отодвинуть дверь теплушки. Барса хотели застрелить, просунув
винтовку в верхнее окошечко. Но человек, о котором я говорю, слишком много
трудов положил на то, чтобы захватить в горах живьем этого барса и доставить
его в Андижан. Экземпляр хищника был великолепен. И бывший летчик, приоткрыв
дверь теплушки, вспрыгнул, безоружный, в вагон. Затаив дыхание, люди слушали
доносившиеся изнутри увещевания, которые в другую минуту могли бы вызвать
хохот: "Барсик... Барсик... Иди в клетку! Ну, иди же, барсик!.. " Самое
удивительное в этой истории: барс действительно вошел в клетку, смелый
человек захлопнул за ним дверцу и выскочил из вагона с таким видом, как
будто ничего особенного не произошло. Так вот, этот человек, несомненно
бесстрашный и уж, конечно, навидавшийся за свою жизнь всяких высот, не мог
итти по ущелью Бартанга. У него кружилась голова, он был бледен, и, застряв
на одном из опасных мест, над пропастью, он отказался двигаться дальше,
заявив, что если сделает еще хоть шаг, то погибнет. Его пришлось нести на
спине одному из бартангцев, который, кстати, принял его страх серьезнее, чем
участники экспедиции, пытавшиеся понукать и увещевать своего товарища. "Он
все равно сорвется! -- сказал горец. -- Пусть я, как больного, его понесу!"
И пока не кончились самые трудные овринги, этот человек, привязанный к спине
своего спасителя, был ни жив ни мертв. Вот что такое боязнь высоты,
вызываемая оврингами Бартанга!
И когда я сам испытал, что такое бартангские овринги, я решил, что
второй раз в моей жизни никогда не пойду на Бартанг, прежде чем тропа туда
не будет улучшена.
Но в первом моем путешествии -- в тридцатом году -- мне все-таки
удалось справиться со своим страхом: я прошел весь намеченный по карте
маршрут и удивлялся Юдину, двинувшемуся по этому пути уже в третий раз.
Увлечение геологической теорией, которую в ту пору разрабатывал его ищущий
мозг, оказывалось для него побудителем, заставлявшим итти на любой риск,
пренебрегать любой, смертельной опасностью... И за это одно я уважаю Юдина,
многие черты характера которого мне так же не нравились, как и другим
сотрудникам памирских экспедиций тех лет.
Но о Юдине у меня уже был случай поговорить, а сейчас я хочу описать
подробно хотя бы один или два запомнившихся мне овринга.
Так вот, вниз, по отвесу, -- около трехсот метров (вспомните: это в два
раза больше, чем высота нового здания Московского университета). А внизу --
никогда не умеряющий своей ярости, негодующий на сжимающие его скалистые
стены Бартанг. Даже с этой высоты видно, как воды его бурунят, выгибаясь над
разбросанными по дну реки каменными глыбами. Мы идем по тропе, скала тянется
отвесом и вверх, и что там лад нами, с тропы не видно. Тропа, по которой мы
шли, прямо перед нами обрывается. Ее нет: голая скала уходит вниз. И в том
месте, где она обрывается, торчком стоит длинная иссохшая жердь, чуть
потолще, чем моя рука у плеча. Верхний конец этой жерди прислонен метрах в
трех над нами к расщелине скалы, от которой там, наверху, тропа идет дальше,
сначала по каменному карнизу, выступу известнякового пласта, а потом по
прилепленным к скале бревнышкам. Они покоятся на вбитых в трещины деревянных
клиньях, серых от ветхости, растрескавшихся. К клиньям бревнышки прикручены
сухою, свитой в подобье веревки берестой. Чтобы продолжать путь, нам нужно
поочередно влезть по вертикально стоящей жерди, как по мачте, туда наверх.
Внизу, у наших ног жердь прикреплена к выступу скалы такой же берестяной
веревкой, а вверху к расщелинке не прикреплена ничем: предполагается, что
прислоненная к расщелинке она зажата ею достаточно надежно. Но это только
предположение. И кажется сомнительным, что эта иссохшая жердь могла
выдержать тяжесть карабкающегося по ней человека, который к тому же должен
забыть о том, что под ним трехсотметровый отвесный обрыв.
Нам, четверым, конечно, лучше, чем Палавон-Назару: он должен лезть
первым, и пока он будет лезть, наверху некому придержать конец прислоненной
к расщелинке жерди; я могу
придерживать руками только нижний ее конец. А что, если жердь
отклонится? Но если Палавон-Назар влезет на верхний выступ, то,
примостившись на нем (хотя выступ так мал, что и примоститься там, кажется,
негде), он прижмет руками верхний конец жерди к скале, и мой путь наверх
окажется более надежным. Внизу жердь будет под наблюдением Юдина, вверху --
Палавон-Назара, и весь вопрос в том, сумею ли я преодолеть мой страх,
карабкаясь над пропастью вверх по жерди. Физических сил-то у меня хватит, в
этих странствиях все мы натренировались, руки мои сильны. Но одна мысль о
том, что от меня до реки по отвесу триста метров высоты, заставляет меня
содрогаться, и я гляжу на приступающего к штурму этого препятствия
Палавон-Назара едва ли не с ужасом: мне кажется, его жизненный путь окончен,
еще секунда, я увижу промелькнувшее мимо меня тело, закрою глаза и стану
ждать только далекого всплеска внизу. Впрочем, если бы Палавон-Назар
сорвался, всплеска, пожалуй, мы и не услышали бы!..
Но Палавон-Назар охватывает жердь руками, ногами, спокойно и, я бы
сказал, деловито. Подтягивается на руках, обжимая ногами жердь. Уверенными
движениями он лезет все выше, и мой взор прикован к верхнему концу жерди,
поерзывающему в расщелине скалы. Жердь прогибается и чуть-чуть, едва слышно,
потрескивает. Переломится?
Позади меня раздается вздох, -- это Юдин, у которого, видимо, тоже
замерло сердце, перевел дух. О Ходжа-Мамате и Иор-Мастоне, стоящих над
пропастью позади него, я не думаю: они к этим делам привыкли!
Я забыл сказать, что свой огромный рюкзак, перед тем как лезть по
жерди, Палавои-Назар положил у моих ног, -- я сам помогал ему с величайшей
осторожностью освободиться от этого груза, -- неверное движение, и оба мы
вместе с рюкзаком сорвались бы с узкой тропы. А теперь я грудью лежу на
рюкзаке, руки мои сжимают нижний конец жерди, прикрученный к скале
берестяною веревкой, голова моя неестественно повернута: я смотрю наверх.
Жердь дрожит под тяжестью взбирающегося по ней Палавон-Назара, и эта дрожь
передается моим рукам, а от рук -- передается сердцу, и дыханье мое
разрешается отрывистым, глубоким вздохом, таким же, как вздох Юдина, который
только что послышался позади меня.
Последний рывок Палавон-Назара, жердь дернулась, мне показалось на миг:
"все пропало", и потом голос:
-- Ий-о, рафик!.. Теперь ты иди!
Я вижу над собой загорелые, жилистые, крепкие руки Палавон-Назара,
ухватившие конец жерди, я чувствую за собой молчаливое ожидание моих
спутников, которым чертовски
неудобно стоять в напряженных позах над пропастью, на узкой тропе,
ощущаю холодок в сердце, но податься мне некуда, выбора у меня нет, -- я
ведь сам, по доброй воле, отправился в эту многотрудную экспедицию! -- я
поднимаюсь на ноги, переступаю через огромный рюкзак, к которому сейчас
привалится Юдин, накладываю ладони на жердь чуть повыше моей головы,
невольно кидаю взгляд вниз, где на дне бездны клокочет, вся в пене, река, и
вдруг, сразу набравшись решимости, стиснув зубы, подтягиваюсь на руках, и
жердь, охваченная мною, вибрирует под моей тяжестью...
Через минуту Палавон-Назар протягивает мне свою сильную, волосатую
руку, она безмерно надежна, моя жизнь сразу же гарантирована этой рукой. Еще
рывок вверх, и я -- на той крошечной площадке, с которой Палавон-Назар
отступил по верхней тропе, чтобы освободить мне место. Вздох облегчения
таков, что, наверное, его слышат внизу, и почти с чувством злорадства я
думаю: "Ну-ка, Георгий Лазаревич, посмотрим, как влезешь ты!.. "
Теперь я крепко прижимаю верхний конец жерди к расщелине, сразу
проснулось чувство товарищества, -- крепче, крепче держать! -- и я с опаской
гляжу на подтягивающегося ко мне снизу Юдина: ведь он тяжел, гораздо тяжелее
меня, выдержит ли эта проклятая жердь?
Потом Юдин вытаскивал на веревке рюкзаки, тот, что лежал на тропе, и
тот, который снял со своих плеч ХоджаМамат, потом поднялись к нам оба
оставшихся внизу бартангца, и я с удивлением глядел на семидесятилетнего
Иор-Мастона, -- каким могучим человеком надо быть, чтобы в таком возрасте
подтягиваться на руках над пропастью!
С тех пор навсегда я полюбил бартангцев за их удивительные ловкость,
выносливость и бесстрашие!
... И еще один овринг запомнился мне хорошо. Этот овринг назывался
"Овчак", повидимому, правильней было бы называть его "Об-чак" -- "Капающая
вода". О нем сами бартангцы говорили за несколько дней до того, как мы к
нему приблизились, говорили, цокая языком, с недоверием поглядывая на нас. Я
понял, что это особенно страшный овринг.
Когда мы к нему приблизились, я был удивлен: при первом взгляде в нем
не было ничего страшного. Тропа в этом месте проходила совсем невысоко над
рекой, всего в нескольких метрах. Разъяренный Бартанг, казалось, яростно
рвал скалу, входившую в воду под сравнительно острым углом, а совсем не
отвесно. Уклон скалы был, вероятно, градусов в сорок.
Мы подступили к оврингу по таким же, как уже описанные мною,
бревнышкам, наложенным на деревянные клинья, вбитые в трещины скалы. Правда,
вода кипела под самыми этими бревнышками, нависшими над ней наподобие
балкона, но эта вода была так близка под нами, 'что никакая боязнь высоты
проснуться здесь во мне не могла, а вода, как бы она ни бесилась, меня
вообще никогда не пугала, может быть, потому что я с детства был хорошим
пловцом.
-- Овчак! -- многозначительно сказал, оглянувшись на меня
Палавон-Назар, неизменно шедший впереди, и я подумал: "Что же может грозить
нам на этом овринге?"
Но когда Палавон-Назар остановился (за ним остановились мы все) и я
разглядел наклонную скалу, которую предстояло нам пересечь по горизонтали, я
просто решил, что пройти здесь немыслимо. Скала была гладкой, словно
отполированной. Всю ее покрывал микроскопический, зеленый мох, сквозь
который сочилась, скатываясь к реке, вода -- тоненькая водяная пленка. Вся
эта наклонная скала, уходившая высоко вверх и врезавшаяся совсем близко под
нами в бурлящую реку, была шириною в каких-нибудь три метра. За нею тропа
продолжалась, надежная, идущая по естественному карнизу тропа.
Но как преодолеть эти три метра? Ведь если поставить на наклонную скалу
ногу, нога не удержится, скользнет вниз, руками держаться тоже решительно не
за что.
Палавон-Назар, присев на тропе, развязал шерстяные тесемки, стягивающие
у щиколоток его пехи -- местные, сыромятные сапоги. Снял их, стянул с ног
шерстяные, узорчатые джюрапы, повел пальцами босых ног, словно проверяя
пружинистость своих пальцев. Потом показал нам впереди, на замшелой скале,
крошечную выбоинку, в которой, как в чайной ложке, держалась вода, и
объяснил, что ежели поставить туда большой палец правой ноги, а ладонями на
мгновенье опереться о плоскость скалы, то на этой точке опоры можно
продержаться, пока будешь переносить левую ногу к следующей, такой же
крошечной выбоинке. А там -- будет еще одна!
И предупредил, что все нужно проделать мгновенно, как бы одним скачком,
иначе ничего не получится. Слова "не получится" означают, что человек
скользнет вниз по скале, через мгновенье окажется в бурной воде Бартанга, и
уже никто никогда его не увидит, потому что бурун втянет его под воду, а там
грохочут непрерывно перекатываемые по дну камни.
-- Ты смотри, хорошо смотри! -- сказал Палавон-Назар мне. -- Я пойду,
смотри, как я пойду, потом ты пойдешь!
Я смотрел с предельным вниманием, но увидел только легкий, как балетное
па, скачок Палавон-Назара. Я едва заметил,
как босые ноги его мгновенно прикоснулись в трех точках к скале, и он
оказался за ней, на хорошей площадке, откуда продолжалась тропа.
Палавон-Назар как бы перелетел по воздуху.
Он стоял на той стороне, спокойный, ободрительно улыбающийся: вот же,
мол, видал? Ничего трудного!
Но я понял, что мне такого прыжка не сделать. Я рассчитывал: даже если
палец правой ноги не соскользнет вниз, то как я, обращенный к скале лицом,
перенесу левую ногу к следующей выемке? Ведь мне придется ступить на нее
мизинцем и на нем одном удержать вес тела?
Конечно же, не получится!
И я стоял, не решаясь прыгнуть, в позорном страхе, не зная, что делать
дальше.
И Палавон-Назар понял, что убеждения были бы бесполезны: этот русский
человек здесь не пройдет. Такой путь годится только для них, бартангцев!
И он нашел выход из положения. Быстро размотав свою чалму, он накрутил
один ее конец себе на руку, в другой конец заложил увесистый камень и кинул
его мне. Я поймал его.
Все дальнейшее было просто: привязав конец к поясному ремню, я кинулся
в прыжок очертя голову и, конечно, сорвался, но, повиснув на чалме, описал,
как маятник, дугу и оказался у площадки, на которой стоял Палавон-Назар. Мне
осталось только крепко ухватиться за выступ скалы и выбраться на нее.
Так же перебирался и Юдин, а Ходжа-Мамат и Иор-Мастон перепорхнули
через скалу без посторонней помощи.
Это ничего сейчас! -- сказал нам Палавон-Назар. -- Сейчас тепло, вода
ничего... Зимой, правда, плохо. Очень плохо зимой: здесь лед! Много наших
людей здесь в воду падало!..
И что же? -- не совсем умно спросил я.
Ничего. Пропали люди. Ий-о, дух гор! Нам здесь надо колючку, дрова
носить. Мы овец носим здесь, все, что надо, носим! Плохой овринг!
На нашем пути по Бартангу было несколько десятков оврингов. Очень
разнообразных.
Теперь этих оврингов нет. Аммонал и динамит поработали здесь. По всей
Бартангской тропе, когда нет камнепадов и лавин, можно проехать верхом, хотя
во многих местах и приходится спешиваться, проводить коней в поводу.
Со времени первого моего путешествия по Бартангу прошло двадцать три
года. Но я до сих пор хорошо помню все ощущения, испытанные мною на Бартанге
тогда. Очень хорошо помню!
На плавательном снаряде
Овринг Овчак находился выше устья правого притока Бартанга -- речки
Биджраф. Это был второй по счету овринг, на пути от Си-Понджа, вверх по
Бартангу. За один только день пути от Си-Понджа, через кишлак Разудж, речку
Кумоч-Дара и Биджраф до кишлака Аджирх надо было преодолеть пять труднейших
оврингов.
Кроме того, перед кишлаком Аджйрх необходимо было переправиться с
правого берега Бартанга на левый. Эта переправа, совершалась на плоту из
надутых воздухом бараньих шкур. Такой плот бартангцы называют сааль, а
каждую надутую воздухом шкуру, отдельно, -- з и н о т ц, или с а н а ч.
Ниже Си-Понджа такую же переправу, с одного берега на другой, мы
совершали дважды, а вообще в моих путешествиях по Памиру мне пришлось
пользоваться саалями, или, как мы называли их, турсуками, довольно часто.
Вот что записано у меня в путевом дневнике 1930 года:
"... Утром из кишлаков Багу и Рида бартангцы принесли восемь турсуков и
несколько лепешек. Лепешки были сразу же съедены нашими носильщиками. Все
занялись вязкой плота из свежих ветвей: девять веток в одном направлении,
три -- в другом. Ветви обвязываются зеленой корой, сорванной с лозняка,
растущего тут же на берегу. Такой каркас, или "палуба", плота укладывается
на семь надутых ртом турсуков. Готовый плот был отнесен к осыпи, выше по
течению места намеченной переправы. Юдин разделся, спрятал всю одежду и вещи
в мой рюкзак. Я не захотел раздеваться, снял только парусиновые туфли и
уселся на плоту с полевой сумкой и всем тем снаряжением, что висит на
ремнях. Юдин расположился рядом со мною. Перевозчик -- житель Рида, закатав
свой халат себе на плечи и оставшись голым, оседлал восьмой турсук, взялся
за плот руками и оттолкнулся от берега. Громко фыркая в такт сильным
"лягушачьим" движениям нот, перевозчик направлял стремительно несшийся плот
к середине реки. Выйдя на середину, он перестал работать ногами и фыркать,
пока плот несся прямо по течению, раскачиваясь на волнах.
Перевозчик снова взялся за свое занятие, когда мы оказались уже в сфере
влияния течения левого берега; оно вынесло нас на отмель, где меня ожидало
несколько жителей кишлака Рид... Переправа показалась мне приятной, я
проделывал ее с удовольствием... "
Вот другая запись -- в конце августа того же года:
"... Перед Аджирхом опять переправа, потому что впереди мыс, который
врезается в воду. Мы долго ждем, размышляя, не придется ли тут заночевать.
Наконец турсуки появляются:
вверху по течению, за поворотом, от левого берега отделяется плот. Я
отсчитываю секунды. Через сорок пять секунд плот причаливает к нам,
отнесенный вниз приблизительно на полкилометра. Его привел Палавон-Назар. Он
-- в задранной на грудь рубашке, голый, вокруг бедер -- повязка. Плот -- из
пяти турсуков. Они привязаны тонкими шерстяными веревками к двум, положенным
крестообразно жердям. На шестом турсуке-- сам Палавон-Назар, капитан этого
необыкновенного корабля. Плот мал -- переправляться надо поодиночке. Солнца
уже нет, вовсе не жарко после очень жаркого, раскаленного камнями душного
дня. Сперва отправляем вещи: два мешка, на них рюкзак Юдина с
фотографическим аппаратом и прочими ценностями. Как бы не подмокли, ведь
ниже по течению -- буруны!
Бартангцы надувают сильней турсуки, затыкают отверстия палочками,
накрепко их обвязывают.
Палавон-Назар отправляется, следим за ним. Вот его несет вниз, вот
запрыгал на бурунах. Перевернулся? Нет!.. Но пронесло его гораздо ниже, чем
он хотел, ниже места, где его дожидаются Иор-Мастон и два бартангца,
пришедшие из Аджирха. Еще немного, и его понесло бы в такие буруны, под
скалами, где ему не избежать гибели. Но, сильно работая ногами, он выправил
плот и выплыл к берегу.
Разгрузились. Идут с турсуками вверх по берегу для второго рейса.
Юдин раздевается, снял с себя все, кроме нижнего белья, положил одежду
в мой рюкзак, рюкзак оставил мне. ПалавонНазар подплыл, но опять ниже места,
где мы ждем его.
Вновь поднадув турсуки, Юдин ложится на плот, как жирный барашек. Его
двигают, передвигают ему ноги, зад, чтоб установить равновесие; он лежит
неподвижно. Плот "под управлением" Палавон-Назара отправляется. На бурунах
Юдина забрызгало, но плот выплыл к берегу хорошо. Вижу: Юдин стаскивает с
себя мокрую рубашку.
Раздеваюсь и я, остаюсь в трусиках и рубашке, оставляю на себе полевую
сумку, пистолет, анероид... Плот подкатывает в третий раз. Рюкзак
привязывают. Я ложусь на плоть -- и пускаемся в путь. Палавон-Назар устал и
в буруны попал не так, как нужно, а потому меня трижды накрывает волной.
Вода ледяная! Смеюсь в ответ на смех Юдина и бартангцев, сидящих на берегу.
Хорошо! Холодно, но хорошо!
Меня занесло далеко, как в первый рейс. Ждем на берегу. После этой
шестой по счету переправы Палавон-Назар дрожит от холода. Плот разбирают, и
другой бартанжец с пятью турсуками, голый плывет на правый берег, где
остался ХоджаМамат. Они переправляются к нам с меньшим "комфортом":
Схематическая карта Бартанга.
"Дорога, -- пишет И. И. Зарубин, -- от Яшиль-Куля до Ирхта на
10-верстной карте не обозначена вовсе; вообще, по справедливому замечанию
начальника Памирского отряда подполковника Шпилько, местность эта на карте
искажена до неузнаваемости".
С величайшими трудностями, миновав Ирхт, пешком по зыбким, громадным и
невероятно крутым осыпям, с которых в озеро срывались камни, по
нагромождению исполинских каменных глыб, путешественники добрались до
Бартанга и здесь, в кишлаке Барчидив, после нескольких дней пути увидели
траву, и кусты, и абрикосовые деревья и могли отдохнуть среди гостеприимных
бартангцев. В этом кишлаке, состоявшем из одиннадцати домов, оказалось около
сотни жителей.
Почти месяц провели исследователи в кишлаках Бартанга, прошли весь его,
до устья, собрали интереснейший материал.
"... По всему Бартангу бедность горцев поразительна: нужно долго
присматриваться, иногда просто разыскивать по всей сакле, чтобы найти
какую-нибудь домашнюю утварь. Верхний Бартанг в особенности беден
материальной культурой... "
"... Бартанг (равно как и Язгулем) выделяется даже среди памирских рек
суровостью и мрачностью своей природы. Эта река глубже, чем другие,
врезается в материк и почти повсюду течет среди отвесных и недоступных скал,
замыкающих ее русло. Лишь изредка встречаются небольшие отмели, годные для
земледелия, и ширина их нигде не превышает ста сажен; здесь и ютятся поселки
таджиков... "
"... В узкой полосе, у подножия горных склонов, среди разбросанных
утесов и громадных, скатившихся с гор камней, расположены жилища и пашни
таджиков. Но и такая ничтожная полоса доступной для земледельческой культуры
земли не идет непрерывно по всему течению реки. Очень часто русле реки
представляет узкий и глубокий коридор, образованный отвесными и нависшими
скалами; всего на несколько часов в день попадают сюда солнечные лучи. Ни о
какой культуре в таких местах не может быть речи".
Этот впервые точно и правдиво освещавший жизнь неведомой долины отчет
исследователя Бартанга был опубликован только в дни Октябрьской революции --
в октябре 1917 года. Лишь отдельные заметки публиковались И. И. Зарубиным
раньше, в дни мировой войны.
Так до самой Октябрьской революции жизнь бартангцев для всего мира
оставалась неведомой.
Но еще немало лет прошло, прежде чем сведения о Бартанге пополнились. С
1918 по 1924 год Бартанг назывался "Бартангскою волостью Памирского района
Туркестанской АССР". С января по декабрь 1925 года Памир назывался
"Особой Памирской областью". Неизвестно, побывал ли ктолибо из
областных памирских советских работников в эти годы на Бартанге. Только с
1926 года, когда была создана ГорноБадахшанская автономная область
Таджикской АССР и в состав этой области вошла "Бартангская волость",
партийные и советские работники начали проникать на Бартанг, закладывать
первые основы советского строительства в этой заповедной долине.
Пробираясь по отвесным скалам, они преодолевали исключительные
трудности; в эти годы сложилась на Памире поговорка: "Кто в Барганге не
бывал, тот Памира не видал!"
В эти годы на Бартанге побывали статистики, один или два врача,
работники обкома и облисполкома, несколько комсомольцев. Они думали только о
своей повседневной работе -- советской, партийной, комсомольской, они вели
ее упорно и скромно, и теперь вряд ли возможно даже узнать их имена. А из
специалистов, научных исследователей, насколько мне известно, до 1928 года
на Бартанге не был никто.
В 1928 году, когда Памир изучала первая крупная научная экспедиция
Академии наук СССР, основная часть экспедиции устремилась в загадочную
область большого белого пятна -- в необитаемую ледниковую область бассейна
ледника Федченко. Из Танымасского лагеря экспедиции к верховьям Бартанга
спустились пятеро участников экспедиции. В их числе были Н. П. Горбунов, Д.
И. Щербаков и студент горного института, молодой геолог Г. Л. Юдин. Впервые
вступали геологи на Бартанг!
Группа прошла Бартанг сверху до середины его течения, достигла
волостного центра -- кишлака Си-Пондж и, поднявшись отсюда на водораздельный
хребет, через перевал КумочДара, спустилась в Язгулем. Впервые давалась
Бартангу геологическая характеристика. Она была крайне нужна для общего
представления о строении Памира, который планомерно стал изучаться геологами
только за год перед тем. Тогда, в 1927 году, Д. В. Наливкин (ныне академик),
вторично посетив Памир после одиночного маршрута 1915 года, на этот раз с
группой других геологов принялся приводить в систему все разрозненные
наблюдения отдельных геологов, совершивших по Памиру маршруты, начатые в
этой высокогорной стране в 1883 году Д. Л. Ивановым.
Термины: мезозой, рэтически-юрские сланцы, мраморы, гранитные интрузии,
метаморфизованные красноцветные песчаники и конгломераты -- навсегда
запечатлевались на впервые составляемой геологической карте Бартанга.
"Боковые притоки, часто многоводные и бурные, -- писал после этого
путешествия Г. Л. Юдин, -- имеют еще более дикие и малодоступные ущелья; все
это создавало для топографов, снимавших эту местность, иногда непреодолимые
препятствия, а потому притоки нанесены на карту по расспросным сведениям.
Таким же образом определяются истоки притоков и помечаются перевалы в
верховьях, если они имеются. При этом ошибки нанесения перевалов иногда
достигают величины в несколько десятков километров. Пространство же между
указанными реками, занятое высокими водораздельными гребнями, достигающими
до 6 000 м абсолютной высоты, покрыто фантастическими горными хребтами,
выраженными в горизонталях, не соединенных между собой и имеющих целью дать
только общее представление о рельефе. БартангГунтский водораздел съемками
нигде не пройден; БартангЯзгулемский имеет два пересечения в нижнем течении
через пер. Одуди и Кумоч-Дара... Все же, расположенное выше, на В. --
представляет собою "неисследованную" область, и хотя на карте нет белых
мест, но, что еще хуже, изображено не существующим в действительности
рельефом... "
Ничего лично о себе не пишет Юдин, но в корреспонденции о работе всей
экспедиции, посланной ее руководством в газету "Известия", есть такие слова,
касающиеся бартангской группы:
"Во время перехода группы через перевал Кумоч-Дара от каменной лавины
едва не погиб студент горного института Юдин... "
На обратном пути Д. И. Щербаков и Г. Л. Юдин прошли через перевал
Хурджин в Рошорв (Орошор).
И снова долго никто из исследователей не посетил бы Бартанга, если б
увлеченный первыми своими открытиями, окончивший горный институт Г. Л. Юдин
вновь не явился сюда в следующем, 1929 году.
А в 1930 году Юдин в третий раз шел на Бартанг, в этот раз вдвоем с
автором этих строк, молодым писателем, взявшим на себя в той геологической
экспедиции обязанности коллектора.
Ночь с Иор-Мастоном
Светит луна. Так пронзительно светит, так насыщает сиянием ущелье, что
мне не спится на плоском камне. Пораженный красотою ночи, я сбрасываю с себя
белый, из козьей шерсти халат, под которым мне душно лежать, приподымаюсь,
гляжу на моих спутников, спящих рядом на камне, сижу осматриваясь.
Ослепительная луна стоит в зените, но почти до нее, немного не дотянувшись,
высится острый пик, венчающий правобережную стену ущелья, -- она встает
отвесно над шумящей
глубоко внизу рекой. Пик сверкает всеми гранями скал, ярко освещенный,
словно составленный из осколков хорошо отшлифованных, воткнувшихся в лунное
небо зеркал.
Все другие скалистые громады, серебряная вода бурлящей внизу реки,
шелковичные деревья, обступившие камень, на котором я и мои спутники
расположились на ночь, словно повиснув над рекою в лунном пространстве,
освещены столь же ярко, и ночь мне кажется фантастической, и все еще
слышится мне дробный рокот невидимых бубнов: та-та, та-та-та, которым
бартангские женщины весь вечер отгоняли от своих микроскопических посевов
упрямых и жадных птиц.
Изогнутый отрезок реки виден только от мыса до мыса. Вертикальные,
изборожденные трещинами плоскости скал запирают выходы из этого мира.
Левобережье -- сыпучий конус, громада глыб и камней, вынесенных к реке
боковым притоком, вырывающимся из узкой, глубокой, извилистой щели. Вошедший
в щель по каменистой тропинке не увидит оттуда ни луны, ни солнца, -- туда
не доходят лучи.
А сыпучий конус, громада камней, оснащен трудом человека. Лесенкой одно
над другим -- человеческие жилища. Лесенкой одна над другой -- крошечные
площадки посевов. Сколько камней можно навалить на одном квадратном метре
пространства? А если все пространство, от века, нагроможденье камней, --
сколько усилий нужно, чтоб очистить от них каждый квадратный метр площади?
Занявшись очисткой, надо тут же, рядом, по краям площадок, сложить башенки
из камней (куда же иначе девать камни?). В бесконечном лабиринте оград нет
площадок длиною больше двух десятков шагов. Устроить на площадке посев --
значит натаскать сюда на носилках земли, оплести эту землю паутиной канавок,
оторвать от ручья бегущую воду и пустить ее по канавкам так, чтоб она не
растерялась по пути. А путь ее -- иногда по воздуху, над обрывами, и потому
над пропастью висят деревянные, долбленые желобы, прикрепленные к скалам
сухими берестяными веревками да вбитыми в трещины кольями.
Над посевами -- скрипучее собранье деревьев: яблони, грецкий орех,
абрикосы и тутовник. Они, чахлые и низкорослые, потому что их корни
упираются в камень. Полгода в году жизнь селения зависит от этих деревьев,
-- ведь только их плодами можно питаться, когда кончается все другое.
Две скалы, как два волчьих клыка, торчат в середине селения, над
обрывом к реке. На одной из них -- дом, такой же, как все: каменная берлога.
Он обведен обваливающейся стеной. Он украшен по углам вздыбленными рогами
архаров, ячьими хвостами на длинных жердях. Кажется, прямо в пропасть
выводит резная деревянная дверь, и только если очень внимательно
присмотреться, можно различить в вертикальной плоскости скалы узенькие
ступени.
На другой скале -- плоский камень, тот камень, на котором ночую я. Если
чуть выдвинуться над краем этого камня, то река, большая река Бартанг,
окажется прямо подо мною, -- высок и грозен обрыв в пенную, бурливую
глубину. Никто никогда не перейдет эту реку вброд. Никто не знает ее
глубины. Никто никогда не бывал против селения на другой стороне ее, -- там
нет ни отмелей, ни песка: скала уходит в воду отвесно. Вечно шумит Бартанг,
стучит и грохочет, забивая шумом уши людей, заглушая все голоса.
Если долго смотреть на его течение, он обязательно представится
спутанной бородой взбешенного духа гор. Иначе зачем бы колотиться о камни с
такой злобной силой? Катить с грохотом валуны? Ломать берега, рушить на себя
подмытые осыпи, долбить скалистые мысы, отполированные до черного блеска?
Разве может быть доброй эта таинственная сила воды? Сколько людей и скота
она погубила?
Конечно, это дух гор борется с вечностью и она треплет его белую
бороду, а люди в назидание должны на это смотреть. Смотреть и быть,
устрашась, покорными.
Так думает Иор-Мастон, белобородый старик, проснувшийся, не спящий, как
и я, на плоском камне. Я знаю, что он думает так: весь вечер он делился со
мною своими думами.
Он очень стар, Иор-Мастон, он прожил в здешних горах семь десятков лет.
За все эти десятки лет он побывал только в трех-четырех ближайших селениях,
таких же, как это. Незачем ему было ходить дальше. Только однажды в жизни он
ходил дальше -- ходил за солью в область Восточных Долин, привесив для
храбрости к своему белому халату когти убитого его отцом барса, когти,
всегда висящие на деревянном гвозде, вбитом между камнями в его неказистом
жилище. Иор-Мастон завязал в широкую тряпку пять лепешек из гороховой муки,
пять шариков крута -- пресного овечьего сыра и, опоясавшись этой тряпкой,
отправился в зимний путь. Это было давно. Тогда он мог ходить по горам один.
Тогда мускулы его были достаточно молоды для того, чтоб половину месяца изо
дня в день, от восхода до заката солнца он нес на своей спине полтора пуда
соли, добытой в Восточных Долинах. Эта соль была нужна всему селению, ею
Иор-Мастон хотел хоть чуточку уменьшить горсть золотого песка, которую
потребовал с его отца и старших братьев пришедший снизу, за податью, халифа,
-- эту подать каждый год он передавал сборщикам зякета, уходившим трудной
тропою в Афганистан и дальше -- к самому Ага-хану.
Когти барса помогли в тот раз Иор-Мастону. Он не испугался ни ледяных
переправ, ни морозных ночей в пустынных Восточных Долинах, ни диких зверей,
ни жестокого ветра, ни разреженного воздуха страшных высот. Он дошел до
Восточных Долин, не ошибся дорогой, нашел Тростниковое озеро и рядом Соленое
озеро; не испугавшись драконов, обитавших в нем, выломал из пласта большие
куски крупнозернистой самосадочной соли и, навьючив их на себя, потихоньку
побрел назад, ночуя под камнями, в охотничьих норах.
Он шел две недели тем же путем, но, придя в родные места, испугался.
Впервые он так испугался. Будь на его месте кто угодно другой -- любой
человек не меньше бы испугался: в своем ущелье, обрамленном отвесными
скалами и выше снежными пиками, Иор-Мастон не нашел ни реки, которая текла
здесь тысячи лет, ни родного селения, испокон века прижимавшегося к реке, ни
маленьких пастбищ, лепившихся по склонам, высоко над селением. Все вокруг
было незнакомо, непонятно и страшно. Длинное озеро сверкало там, где была
река. Оно упиралось в огромное нагромождение каменных глыб, перекрывших
ущелье во всю его ширину. А половины горы, нависавшей над селением прежде,
не было. Вместо нее стояла чуть не до неба каменная стена, обрывистая,
невиданная им никогда.
Сначала Иор-Мастон подумал, что заблудился, что это не то ущелье, в
котором жили его деды, в котором родился и вырос он сам.
Иор-Мастон взобрался на вершину хаотического нагромождения скал, чтобы
сверху определить, куда же попал он из-за своей непонятной ошибки? Он
привалил к расщелине камня мешок соли, решив, что вернется за ним, когда
отыщет правильный путь. Прыгая с камня на камень, переползая с одной
скалистой громадины на другую, протискиваясь в щели между остроугольными
рваными камнями, он углублялся все дальше в этот зловещий мир и не мог
разобраться ни в чем.
Он смотрел вверх, на снежные кромки высоких хребтов, на острые гребни
водораздела. Наконец он узнал, хорошо узнал, все то, что было видно вверху,
-- очертания этих горных массивов были знакомы ему с детства. Но все внизу
было незнакомо ему. Там должно было находиться его селение, а селения не
было.
Внезапно он понял все. Ему стало так страшно, что, сразу вспотев, он
бессильно опустился на камень. Медленно, словно притирая взор к высящейся
над ним скалистой стене, он оглядел ее всю -- снизу доверху. И теперь он уже
не сомневался ни в чем. Истина была проста, отчетлива, беспощадна. Селение
находилось где-то глубоко, под хаотическим нагромождением скал, поглощенное
небывалым обвалом.
Иор-Мастону показалось вдруг, что теперь он один во всем мире, один,
единственное существо, оставшееся в живых.
С пересохшим горлом, с таким выражением глаз, словно два дня подряд
беспрерывно дышал только дымом опиума, которым всегда смердил в его селении
халифа, с потерянным сердцем и мокрыми от испуга руками, Иор-Мастон побежал
вперед, не разбирая пути, не глядя себе под ноги, не думая. Всякий, кто
взглянул бы на него со стороны, сказал бы, что этот человек спасается
бегством от несущихся за ним, только одному ему привидевшихся драконов. И
сказал бы себе, что этот бегущий по кручам одержим дэвами, вероятно, за
большие грехи и ему все равно где бежать, потому что ненадежная его жизнь
хуже смерти.
Но на Иор-Мастона никто не смотрел со стороны, ибо не не было вокруг
ничего живого -- одни голые, бесформенные, корявые, огромные камни завала,
двенадцать квадратных километров хаоса, а под ним -- исчезнувшие навеки,
погребенные навсегда тутовые деревья, крошечные участки посевов, маленькое
селение, больше ста мужчин и женщин и детей, -- селение Усой, уничтоженное
титанической силой природы.
... Через многие дни, через горы, ледники и снега, медленно, гораздо
медленней ветра тянулась к первому телеграфу весть о грандиозном Усойском
завале. Короткая телеграмма скользнула по столбцам городских газет. Она
взволновала только немногих специалистов -- гидрогеологов и сейсмологов,
заставила их записать несколько знаменательных цифр, заставила подумать, что
следовало бы направить в район катастрофы научную экспедицию, да откуда
взять средства, да и как добраться туда?
В скором времени вода реки Мургаб, которой некуда было деваться,
поднимаясь все выше, затопила кишлак Сарез, расположенный выше завала, --
озеро, названное Сарезским, быстро увеличивалось и становилось все глубже. В
1930 году, ночуя в одном из маленьких кишлаков в ущелье над рекою Бартанг, я
из уст старика Иор-Мастона услышал рассказ об этой катастрофе, который
передан мною выше.
Дальше я сообщу читателю все научные данные, какие известны мне о
Сарезском озере на Памире, а сейчас вернусь к старику Иор-Мастону,
проводящему вместе со мною фантастически красивую лунную ночь на плоском
камне, над обрывом к реке Бартанг.
Иор-Мастон тогда пустился вниз по ущелью Бартанг, прошел мимо многих
селений и, наконец, остановился в том,
в котором я и застал его спустя девятнадцать лет, после того как он,
одинокий, потерявший всех своих родных и близких, поселился в нем и уже
никуда больше, кроме как в соседние селения, не ходил.
В эту ночь я долго смотрел на изборожденное глубокими морщинами лицо
старика, устремившего в бессонном раздумье свой взор на кипящую под нами
реку Бартанг, хорошо представляя себе все думы этого человека, казавшегося
мне выходцем из первобытного мира, в который привели меня мои экспедиционные
странствия.
За горами создавались колхозы, в разгаре своей победной работы кипела
первая пятилетка, перестраивала, расширяла свои улицы наша столица Москва,
боролись со всякими пережитками и суевериями десятки тысяч комсомольцев моей
великой Советской Родины, а здесь, в ущелье реки Бартанг, куда пробраться
можно было только пешком, цепляясь за выступы диких скал, здесь еще
существовал древний мир, едва только освобождавшийся от тысячелетнего мрака
феодализма.
И в эту лунную ночь над рекой, осеннюю ночь 1930 года, я раздумывал о
том, каковы представления о мире у старых бартангцев. До сих пор большинство
из них смотрело на заезжих, неведомых им людей, как на могущественных,
богатых, сытых пришельцев из иного мира, за плечами которых -- власть, а в
руках -- оружие; их слова -- повелительны и беспрекословны. Даже если эти
люди ничем не угрожают, входя в селение, не повышают тона, то можно ли их
ослушаться? Кто эти люди? Откуда они?
Старик Иор-Мастон накануне высказывал мне свои соображения об этих
столь редко появлявшихся в его селении людях. Эти люди -- "от власти". Люди
-- от "накалая". "Накалая" -- переиначенное: "Николая"; что значит
"накалай", что значит люди "накалай"? "Кала" -- означает "крепость". "Калай"
-- по-русски "крепостницы", люди из крепости. А что значит "на"? Вероятно,
что-либо вроде титула "ша", который у бартангцев прилагается к именам
владетелей, местных шахов. А может быть, "на", "нау" -- означает "новый"?
"Новые люди из крепости"? Старые люди из крепости были афганцы, они
оккупировали весь Бадахшан, они завладели и Бартангом. А после них пришли,
их изгнали новые люди -- русские.
Так было до революции. Русский географ Б. Л. Громбчевский, известный
исследователь Центральной Азии, описывает, как в Канджуте, где население так
же относилось к путешественникам, как и на Бартанге, местные жители, видя у
него различные геодезические инструменты и приборы, обратились
к нему с просьбой помочь им его "машинами" изменить погоду, прекратить
дожди, насланные на них недружественными соседями, дожди, губящие их посевы;
убрать холода, дать дорогу солнцу. Они верили, что этот человек, пришедший
из неведомой им России, своими приборами может испортить посевы, увеличить
льды ледников, вызвать землетрясение. Они просили его не делать этого, а,
напротив, сделать им благо.
Вот не "накалай" ли вызвали землетрясение на Сарезе?
Иор-Мастон очень тактично, исподволь высказал мне это свое сомнение.
Иор-Мастон признался, что прежде жители его гор стремились держаться
подальше от всяких пришельцев, особенно от тех, кого он называл "судьями
камней" -- людьми, ищущими в горах всякие дорогие камни или металлы. Он,
конечно, имел в виду геологов, изредка появлявшихся в соседних с Бартангом
ущельях; он считал, что если им показать, где есть металлы и ценные камни,
то они заставят бартангцев работать там, устраивать обвалы, носить на себе
тяжести; значит, люди Бартанга, слабые, всегда голодные люди, будут умирать
от усталости, будут погибать под обвалами; ничего хорошего не жди!
Он слыхал, что на рубиновых копях в Куги-Ляле, -- это далеко от
Бартанга, это в Горане, на реке Пяндж, -- много людей погибло, когда
афганские кефтаны заставляли горанцев добывать лалы.
Но и Иор-Мастон в дни, когда я познакомился с ним, уже переменил свое
отношение к приходящим издалека русским людям, которые называли себя
большевиками: эти люди были совсем не похожи на всех других, от них была
польза, большая польза, они никого не обижают, они не берут у бартангцев
последние сухие ягоды тута, они сами приносят в селение еду, они раздают ее
безвозмездно всем беднякам, -- уже много муки роздали, много зерна для
посева, много одежды. Они не заставляют работать на себя, лечат больных,
помогают во всем, -- это хорошие люди, удивительна и непонятна новая власть,
но она -- хорошая, и вот "ты, рафик, тоже человек от новой, советской
власти, и с тобой я могу говорить обо всем, знаю, от тебя огорчений не
будет, вот ты... " -- и ИорМастон начинал перечислять все то хорошее, что,
по его суждению, я мог бы не делать для него и его соседей, но что я сделал
по доброй воле, как человек от новой, советской власти.
И именно потому он, Иор-Мастон, взялся сопровождать меня всюду, куда б
ни надумал я итти по Бартангу, -- это второй раз в жизни, когда Иор-Мастон
решился уйти от своего селения далеко. Он еще крепкий, ему только семьдесят
лет, он еще хорошо ходит по скалам, по таким скалам, по
каким русский человек без помощи Иор-Мастона не сумеет пройти.
Вот таков был старик Иор-Мастон, проводивший ту лунную ночь на плоском
камне без сна, и таковы были мои думы в ту странную ночь на Бартанге.
Бартангские овринги
Старик Иор-Мастон шел последним. В его обязанности не входило нести на
своей спине груз. Два носильщика, нанявшихся к нам в устье Бартанга, были
молоды и сильны. Одного из них звали Ходжа-Мамат, второго -- Палавон-Назар.
Слово "палавон" значит -- богатырь, но богатырями были оба наших носильщика,
а это значит еще, что оба были смелы и готовы ко всяким опасностям. У обоих
за спиной висели рюкзаки весом пуда по полтора: в рюкзаках -- палатка, запас
продуктов, спальные мешки, образцы геологических пород, набранных нами в
пути. Палавон-Назар шел первым, выбирая и указывая нам путь. Ходжа-Мамат шел
позади меня и ступавшего мне вслед Юдина. На мне было много ремней с
подвешенными к ним полевой, набитой доотказа сумкой, фотоаппаратом,
анероидом, пистолетом в кожаной кобуре, геологическим молотком и всем
прочим, необходимым для работы в пути. Юдин не слишком любил носить тяжести,
но и у него имелись пистолет, геологический молоток, полевая сумка. Рослый,
тяжелый, дородный с молодости, он с трудом протискивался там, где мне
удавалось пролезть, не зацепившись за выступ скалы. Рюкзаки за спиной у
носильщиков были огромными, но бартангцы привыкли ходить по своему ущелью с
объемистым грузом, бартангский народ славится своей "легкой ногой", --
жилистые, худые, ловкие, не знающие, что такое боязнь высоты, не
испытывающие головокружения, поистине способные "войти в рай по волоску из
бороды пророка", они без труда и без страха уверенно проносили свой груз
там, где даже горный козел призадумался бы перед опасным прыжком.
Мы шли день за днем, от восхода солнца и до заката, по десять, по
двенадцать, были дни и по четырнадцать часов кряду, захватывая порой темноту
в пути, потому что негде бывало расположиться на ночлег: не находилось такой
площадки, да и ночевать хотелось там, где сверху струился или летел
тоненьким водопадом ручей. Мы прошли уже много оврингов.
Рассказать о каждом из оврингов невозможно, они были самыми
разнообразными. Да и свыкнувшись с трудностями
24 П. Лукницкий
пути, занятые геологической работой, ради которой приходилось
останавливаться порой в самых неудобных местах, мы на некоторые из этих
оврингов не обращали внимания: прошли кое-как, не сорвались, и ладно. Отерев
пот со лба, вписав на ходу в полевую тетрадь название очередного овринга,
чувствуя, что до следующего, который вот виднеется впереди, чуть-чуть
полегчало, я забывал о том, что осталось, слава богу, уже позади. Правда,
нам предстоял еще и обратный путь, но о нем мы старались не думать.
Голова Палавон-Назара была обмотана огромной, рыжей чалмой, сделанной
из домотканной, крашенной луком маты. Благородное, честное, смелое лицо
Палавон-Назара оборачивалось ко мне всякий раз, когда он сомневался: найду
ли я место, куда надо поставить ногу? Вольным жестом, словно предлагая мне в
подарок всю гигантскую гору, по обрыву которой мы пробирались на высоте,
Палавон-Назар указывал какую-нибудь едва заметную выбоинку в скале,
достаточную, чтоб опереться на нее носком парусиновой туфли и продержаться
навесу мгновенье, необходимое для того, чтоб перенести вторую ногу к
следующей зацепинке.
В работе, необходимой для передвижения, принимали участие все мышцы
моего тела -- от шеи до пальцев ног. Работа была напряженной и непрерывной,
и я хорошо понимал, что только человек может пробраться в таких местах, где
даже горный козел остановится перед непреодолимым для него препятствием,
потому что у козла нет рук, на которых он мог бы на секунду повиснуть, не
имея под собой точки опоры. Но человеку в здешних местах нельзя иметь
излишней обостренности чувств, потому что если раз испугаться, то двигаться
дальше окажется невозможным.
Этнограф И. И. Зарубин так говорит об оврингах:
"... Так называемые овринги даже нельзя назвать дорогой; овринги -- это
соединение в одном месте всех трудностей и опасностей пути, встречаемых
обыкновенно порознь. Они отличаются друг от друга только различными
сочетаниями и степенью этих трудностей. Приближающемуся к оврингу кажется,
что дальше итти нет никакой возможности. Но после внимательного осмотра он
находит впереди какой-нибудь выступ, на который можно перешагнуть, хотя с
большим трудом; дальше виден какой-нибудь колышек, заменяющий ступеньку,
колеблющаяся висячая лестница из прутьев, балкон, громадный утес, на который
можно взобраться, прижимаясь к нему всем телом и едва-едва схватившись
руками за верхний выступ... Вернуться назад нельзя: сзади идут другие, а
разойтись немыслимо. Идущие впереди, более опытные, указывают, на какой
выступ какую ногу нужно поставить и за какой камень держаться: если
поставить ногу немного ближе, чем нужно, то при следующем шаге нельзя будет
достать ногой до другого выступа. При этом все овринги расположены на очень
большой высоте над рекой... "
И еще:
"... Местами путь преграждается совершенно, и в таких местах нужно
прибегать в турсукам. И редкие путешественники и туземцы единодушно
утверждают, что труднее и непроходимее долин, чем долина Бартанга, не
существует; туземцы, впрочем, благоразумно прибавляют, что путь по Язгулему
такой же... "
В Памирской экспедиции 1928 года участвовал один бывший летчик; он
выполнял обязанности охотника, ему нужно было наловить диких зверей для
Московского зоологического сада. Когда экспедиция закончилась, и он
отправлял из Андижана в Москву зверей, посаженных в клетки и погруженных в
товарный вагон, дверца одной из клеток открылась, и огромный барс выскочил
из нее. Двери теплушки были, к счастью, закрыты, но отправлять поезд с
барсом, свободно разгуливавшим по вагону, было, конечно, нельзя. Никто не
решался отодвинуть дверь теплушки. Барса хотели застрелить, просунув
винтовку в верхнее окошечко. Но человек, о котором я говорю, слишком много
трудов положил на то, чтобы захватить в горах живьем этого барса и доставить
его в Андижан. Экземпляр хищника был великолепен. И бывший летчик, приоткрыв
дверь теплушки, вспрыгнул, безоружный, в вагон. Затаив дыхание, люди слушали
доносившиеся изнутри увещевания, которые в другую минуту могли бы вызвать
хохот: "Барсик... Барсик... Иди в клетку! Ну, иди же, барсик!.. " Самое
удивительное в этой истории: барс действительно вошел в клетку, смелый
человек захлопнул за ним дверцу и выскочил из вагона с таким видом, как
будто ничего особенного не произошло. Так вот, этот человек, несомненно
бесстрашный и уж, конечно, навидавшийся за свою жизнь всяких высот, не мог
итти по ущелью Бартанга. У него кружилась голова, он был бледен, и, застряв
на одном из опасных мест, над пропастью, он отказался двигаться дальше,
заявив, что если сделает еще хоть шаг, то погибнет. Его пришлось нести на
спине одному из бартангцев, который, кстати, принял его страх серьезнее, чем
участники экспедиции, пытавшиеся понукать и увещевать своего товарища. "Он
все равно сорвется! -- сказал горец. -- Пусть я, как больного, его понесу!"
И пока не кончились самые трудные овринги, этот человек, привязанный к спине
своего спасителя, был ни жив ни мертв. Вот что такое боязнь высоты,
вызываемая оврингами Бартанга!
И когда я сам испытал, что такое бартангские овринги, я решил, что
второй раз в моей жизни никогда не пойду на Бартанг, прежде чем тропа туда
не будет улучшена.
Но в первом моем путешествии -- в тридцатом году -- мне все-таки
удалось справиться со своим страхом: я прошел весь намеченный по карте
маршрут и удивлялся Юдину, двинувшемуся по этому пути уже в третий раз.
Увлечение геологической теорией, которую в ту пору разрабатывал его ищущий
мозг, оказывалось для него побудителем, заставлявшим итти на любой риск,
пренебрегать любой, смертельной опасностью... И за это одно я уважаю Юдина,
многие черты характера которого мне так же не нравились, как и другим
сотрудникам памирских экспедиций тех лет.
Но о Юдине у меня уже был случай поговорить, а сейчас я хочу описать
подробно хотя бы один или два запомнившихся мне овринга.
Так вот, вниз, по отвесу, -- около трехсот метров (вспомните: это в два
раза больше, чем высота нового здания Московского университета). А внизу --
никогда не умеряющий своей ярости, негодующий на сжимающие его скалистые
стены Бартанг. Даже с этой высоты видно, как воды его бурунят, выгибаясь над
разбросанными по дну реки каменными глыбами. Мы идем по тропе, скала тянется
отвесом и вверх, и что там лад нами, с тропы не видно. Тропа, по которой мы
шли, прямо перед нами обрывается. Ее нет: голая скала уходит вниз. И в том
месте, где она обрывается, торчком стоит длинная иссохшая жердь, чуть
потолще, чем моя рука у плеча. Верхний конец этой жерди прислонен метрах в
трех над нами к расщелине скалы, от которой там, наверху, тропа идет дальше,
сначала по каменному карнизу, выступу известнякового пласта, а потом по
прилепленным к скале бревнышкам. Они покоятся на вбитых в трещины деревянных
клиньях, серых от ветхости, растрескавшихся. К клиньям бревнышки прикручены
сухою, свитой в подобье веревки берестой. Чтобы продолжать путь, нам нужно
поочередно влезть по вертикально стоящей жерди, как по мачте, туда наверх.
Внизу, у наших ног жердь прикреплена к выступу скалы такой же берестяной
веревкой, а вверху к расщелинке не прикреплена ничем: предполагается, что
прислоненная к расщелинке она зажата ею достаточно надежно. Но это только
предположение. И кажется сомнительным, что эта иссохшая жердь могла
выдержать тяжесть карабкающегося по ней человека, который к тому же должен
забыть о том, что под ним трехсотметровый отвесный обрыв.
Нам, четверым, конечно, лучше, чем Палавон-Назару: он должен лезть
первым, и пока он будет лезть, наверху некому придержать конец прислоненной
к расщелинке жерди; я могу
придерживать руками только нижний ее конец. А что, если жердь
отклонится? Но если Палавон-Назар влезет на верхний выступ, то,
примостившись на нем (хотя выступ так мал, что и примоститься там, кажется,
негде), он прижмет руками верхний конец жерди к скале, и мой путь наверх
окажется более надежным. Внизу жердь будет под наблюдением Юдина, вверху --
Палавон-Назара, и весь вопрос в том, сумею ли я преодолеть мой страх,
карабкаясь над пропастью вверх по жерди. Физических сил-то у меня хватит, в
этих странствиях все мы натренировались, руки мои сильны. Но одна мысль о
том, что от меня до реки по отвесу триста метров высоты, заставляет меня
содрогаться, и я гляжу на приступающего к штурму этого препятствия
Палавон-Назара едва ли не с ужасом: мне кажется, его жизненный путь окончен,
еще секунда, я увижу промелькнувшее мимо меня тело, закрою глаза и стану
ждать только далекого всплеска внизу. Впрочем, если бы Палавон-Назар
сорвался, всплеска, пожалуй, мы и не услышали бы!..
Но Палавон-Назар охватывает жердь руками, ногами, спокойно и, я бы
сказал, деловито. Подтягивается на руках, обжимая ногами жердь. Уверенными
движениями он лезет все выше, и мой взор прикован к верхнему концу жерди,
поерзывающему в расщелине скалы. Жердь прогибается и чуть-чуть, едва слышно,
потрескивает. Переломится?
Позади меня раздается вздох, -- это Юдин, у которого, видимо, тоже
замерло сердце, перевел дух. О Ходжа-Мамате и Иор-Мастоне, стоящих над
пропастью позади него, я не думаю: они к этим делам привыкли!
Я забыл сказать, что свой огромный рюкзак, перед тем как лезть по
жерди, Палавои-Назар положил у моих ног, -- я сам помогал ему с величайшей
осторожностью освободиться от этого груза, -- неверное движение, и оба мы
вместе с рюкзаком сорвались бы с узкой тропы. А теперь я грудью лежу на
рюкзаке, руки мои сжимают нижний конец жерди, прикрученный к скале
берестяною веревкой, голова моя неестественно повернута: я смотрю наверх.
Жердь дрожит под тяжестью взбирающегося по ней Палавон-Назара, и эта дрожь
передается моим рукам, а от рук -- передается сердцу, и дыханье мое
разрешается отрывистым, глубоким вздохом, таким же, как вздох Юдина, который
только что послышался позади меня.
Последний рывок Палавон-Назара, жердь дернулась, мне показалось на миг:
"все пропало", и потом голос:
-- Ий-о, рафик!.. Теперь ты иди!
Я вижу над собой загорелые, жилистые, крепкие руки Палавон-Назара,
ухватившие конец жерди, я чувствую за собой молчаливое ожидание моих
спутников, которым чертовски
неудобно стоять в напряженных позах над пропастью, на узкой тропе,
ощущаю холодок в сердце, но податься мне некуда, выбора у меня нет, -- я
ведь сам, по доброй воле, отправился в эту многотрудную экспедицию! -- я
поднимаюсь на ноги, переступаю через огромный рюкзак, к которому сейчас
привалится Юдин, накладываю ладони на жердь чуть повыше моей головы,
невольно кидаю взгляд вниз, где на дне бездны клокочет, вся в пене, река, и
вдруг, сразу набравшись решимости, стиснув зубы, подтягиваюсь на руках, и
жердь, охваченная мною, вибрирует под моей тяжестью...
Через минуту Палавон-Назар протягивает мне свою сильную, волосатую
руку, она безмерно надежна, моя жизнь сразу же гарантирована этой рукой. Еще
рывок вверх, и я -- на той крошечной площадке, с которой Палавон-Назар
отступил по верхней тропе, чтобы освободить мне место. Вздох облегчения
таков, что, наверное, его слышат внизу, и почти с чувством злорадства я
думаю: "Ну-ка, Георгий Лазаревич, посмотрим, как влезешь ты!.. "
Теперь я крепко прижимаю верхний конец жерди к расщелине, сразу
проснулось чувство товарищества, -- крепче, крепче держать! -- и я с опаской
гляжу на подтягивающегося ко мне снизу Юдина: ведь он тяжел, гораздо тяжелее
меня, выдержит ли эта проклятая жердь?
Потом Юдин вытаскивал на веревке рюкзаки, тот, что лежал на тропе, и
тот, который снял со своих плеч ХоджаМамат, потом поднялись к нам оба
оставшихся внизу бартангца, и я с удивлением глядел на семидесятилетнего
Иор-Мастона, -- каким могучим человеком надо быть, чтобы в таком возрасте
подтягиваться на руках над пропастью!
С тех пор навсегда я полюбил бартангцев за их удивительные ловкость,
выносливость и бесстрашие!
... И еще один овринг запомнился мне хорошо. Этот овринг назывался
"Овчак", повидимому, правильней было бы называть его "Об-чак" -- "Капающая
вода". О нем сами бартангцы говорили за несколько дней до того, как мы к
нему приблизились, говорили, цокая языком, с недоверием поглядывая на нас. Я
понял, что это особенно страшный овринг.
Когда мы к нему приблизились, я был удивлен: при первом взгляде в нем
не было ничего страшного. Тропа в этом месте проходила совсем невысоко над
рекой, всего в нескольких метрах. Разъяренный Бартанг, казалось, яростно
рвал скалу, входившую в воду под сравнительно острым углом, а совсем не
отвесно. Уклон скалы был, вероятно, градусов в сорок.
Мы подступили к оврингу по таким же, как уже описанные мною,
бревнышкам, наложенным на деревянные клинья, вбитые в трещины скалы. Правда,
вода кипела под самыми этими бревнышками, нависшими над ней наподобие
балкона, но эта вода была так близка под нами, 'что никакая боязнь высоты
проснуться здесь во мне не могла, а вода, как бы она ни бесилась, меня
вообще никогда не пугала, может быть, потому что я с детства был хорошим
пловцом.
-- Овчак! -- многозначительно сказал, оглянувшись на меня
Палавон-Назар, неизменно шедший впереди, и я подумал: "Что же может грозить
нам на этом овринге?"
Но когда Палавон-Назар остановился (за ним остановились мы все) и я
разглядел наклонную скалу, которую предстояло нам пересечь по горизонтали, я
просто решил, что пройти здесь немыслимо. Скала была гладкой, словно
отполированной. Всю ее покрывал микроскопический, зеленый мох, сквозь
который сочилась, скатываясь к реке, вода -- тоненькая водяная пленка. Вся
эта наклонная скала, уходившая высоко вверх и врезавшаяся совсем близко под
нами в бурлящую реку, была шириною в каких-нибудь три метра. За нею тропа
продолжалась, надежная, идущая по естественному карнизу тропа.
Но как преодолеть эти три метра? Ведь если поставить на наклонную скалу
ногу, нога не удержится, скользнет вниз, руками держаться тоже решительно не
за что.
Палавон-Назар, присев на тропе, развязал шерстяные тесемки, стягивающие
у щиколоток его пехи -- местные, сыромятные сапоги. Снял их, стянул с ног
шерстяные, узорчатые джюрапы, повел пальцами босых ног, словно проверяя
пружинистость своих пальцев. Потом показал нам впереди, на замшелой скале,
крошечную выбоинку, в которой, как в чайной ложке, держалась вода, и
объяснил, что ежели поставить туда большой палец правой ноги, а ладонями на
мгновенье опереться о плоскость скалы, то на этой точке опоры можно
продержаться, пока будешь переносить левую ногу к следующей, такой же
крошечной выбоинке. А там -- будет еще одна!
И предупредил, что все нужно проделать мгновенно, как бы одним скачком,
иначе ничего не получится. Слова "не получится" означают, что человек
скользнет вниз по скале, через мгновенье окажется в бурной воде Бартанга, и
уже никто никогда его не увидит, потому что бурун втянет его под воду, а там
грохочут непрерывно перекатываемые по дну камни.
-- Ты смотри, хорошо смотри! -- сказал Палавон-Назар мне. -- Я пойду,
смотри, как я пойду, потом ты пойдешь!
Я смотрел с предельным вниманием, но увидел только легкий, как балетное
па, скачок Палавон-Назара. Я едва заметил,
как босые ноги его мгновенно прикоснулись в трех точках к скале, и он
оказался за ней, на хорошей площадке, откуда продолжалась тропа.
Палавон-Назар как бы перелетел по воздуху.
Он стоял на той стороне, спокойный, ободрительно улыбающийся: вот же,
мол, видал? Ничего трудного!
Но я понял, что мне такого прыжка не сделать. Я рассчитывал: даже если
палец правой ноги не соскользнет вниз, то как я, обращенный к скале лицом,
перенесу левую ногу к следующей выемке? Ведь мне придется ступить на нее
мизинцем и на нем одном удержать вес тела?
Конечно же, не получится!
И я стоял, не решаясь прыгнуть, в позорном страхе, не зная, что делать
дальше.
И Палавон-Назар понял, что убеждения были бы бесполезны: этот русский
человек здесь не пройдет. Такой путь годится только для них, бартангцев!
И он нашел выход из положения. Быстро размотав свою чалму, он накрутил
один ее конец себе на руку, в другой конец заложил увесистый камень и кинул
его мне. Я поймал его.
Все дальнейшее было просто: привязав конец к поясному ремню, я кинулся
в прыжок очертя голову и, конечно, сорвался, но, повиснув на чалме, описал,
как маятник, дугу и оказался у площадки, на которой стоял Палавон-Назар. Мне
осталось только крепко ухватиться за выступ скалы и выбраться на нее.
Так же перебирался и Юдин, а Ходжа-Мамат и Иор-Мастон перепорхнули
через скалу без посторонней помощи.
Это ничего сейчас! -- сказал нам Палавон-Назар. -- Сейчас тепло, вода
ничего... Зимой, правда, плохо. Очень плохо зимой: здесь лед! Много наших
людей здесь в воду падало!..
И что же? -- не совсем умно спросил я.
Ничего. Пропали люди. Ий-о, дух гор! Нам здесь надо колючку, дрова
носить. Мы овец носим здесь, все, что надо, носим! Плохой овринг!
На нашем пути по Бартангу было несколько десятков оврингов. Очень
разнообразных.
Теперь этих оврингов нет. Аммонал и динамит поработали здесь. По всей
Бартангской тропе, когда нет камнепадов и лавин, можно проехать верхом, хотя
во многих местах и приходится спешиваться, проводить коней в поводу.
Со времени первого моего путешествия по Бартангу прошло двадцать три
года. Но я до сих пор хорошо помню все ощущения, испытанные мною на Бартанге
тогда. Очень хорошо помню!
На плавательном снаряде
Овринг Овчак находился выше устья правого притока Бартанга -- речки
Биджраф. Это был второй по счету овринг, на пути от Си-Понджа, вверх по
Бартангу. За один только день пути от Си-Понджа, через кишлак Разудж, речку
Кумоч-Дара и Биджраф до кишлака Аджирх надо было преодолеть пять труднейших
оврингов.
Кроме того, перед кишлаком Аджйрх необходимо было переправиться с
правого берега Бартанга на левый. Эта переправа, совершалась на плоту из
надутых воздухом бараньих шкур. Такой плот бартангцы называют сааль, а
каждую надутую воздухом шкуру, отдельно, -- з и н о т ц, или с а н а ч.
Ниже Си-Понджа такую же переправу, с одного берега на другой, мы
совершали дважды, а вообще в моих путешествиях по Памиру мне пришлось
пользоваться саалями, или, как мы называли их, турсуками, довольно часто.
Вот что записано у меня в путевом дневнике 1930 года:
"... Утром из кишлаков Багу и Рида бартангцы принесли восемь турсуков и
несколько лепешек. Лепешки были сразу же съедены нашими носильщиками. Все
занялись вязкой плота из свежих ветвей: девять веток в одном направлении,
три -- в другом. Ветви обвязываются зеленой корой, сорванной с лозняка,
растущего тут же на берегу. Такой каркас, или "палуба", плота укладывается
на семь надутых ртом турсуков. Готовый плот был отнесен к осыпи, выше по
течению места намеченной переправы. Юдин разделся, спрятал всю одежду и вещи
в мой рюкзак. Я не захотел раздеваться, снял только парусиновые туфли и
уселся на плоту с полевой сумкой и всем тем снаряжением, что висит на
ремнях. Юдин расположился рядом со мною. Перевозчик -- житель Рида, закатав
свой халат себе на плечи и оставшись голым, оседлал восьмой турсук, взялся
за плот руками и оттолкнулся от берега. Громко фыркая в такт сильным
"лягушачьим" движениям нот, перевозчик направлял стремительно несшийся плот
к середине реки. Выйдя на середину, он перестал работать ногами и фыркать,
пока плот несся прямо по течению, раскачиваясь на волнах.
Перевозчик снова взялся за свое занятие, когда мы оказались уже в сфере
влияния течения левого берега; оно вынесло нас на отмель, где меня ожидало
несколько жителей кишлака Рид... Переправа показалась мне приятной, я
проделывал ее с удовольствием... "
Вот другая запись -- в конце августа того же года:
"... Перед Аджирхом опять переправа, потому что впереди мыс, который
врезается в воду. Мы долго ждем, размышляя, не придется ли тут заночевать.
Наконец турсуки появляются:
вверху по течению, за поворотом, от левого берега отделяется плот. Я
отсчитываю секунды. Через сорок пять секунд плот причаливает к нам,
отнесенный вниз приблизительно на полкилометра. Его привел Палавон-Назар. Он
-- в задранной на грудь рубашке, голый, вокруг бедер -- повязка. Плот -- из
пяти турсуков. Они привязаны тонкими шерстяными веревками к двум, положенным
крестообразно жердям. На шестом турсуке-- сам Палавон-Назар, капитан этого
необыкновенного корабля. Плот мал -- переправляться надо поодиночке. Солнца
уже нет, вовсе не жарко после очень жаркого, раскаленного камнями душного
дня. Сперва отправляем вещи: два мешка, на них рюкзак Юдина с
фотографическим аппаратом и прочими ценностями. Как бы не подмокли, ведь
ниже по течению -- буруны!
Бартангцы надувают сильней турсуки, затыкают отверстия палочками,
накрепко их обвязывают.
Палавон-Назар отправляется, следим за ним. Вот его несет вниз, вот
запрыгал на бурунах. Перевернулся? Нет!.. Но пронесло его гораздо ниже, чем
он хотел, ниже места, где его дожидаются Иор-Мастон и два бартангца,
пришедшие из Аджирха. Еще немного, и его понесло бы в такие буруны, под
скалами, где ему не избежать гибели. Но, сильно работая ногами, он выправил
плот и выплыл к берегу.
Разгрузились. Идут с турсуками вверх по берегу для второго рейса.
Юдин раздевается, снял с себя все, кроме нижнего белья, положил одежду
в мой рюкзак, рюкзак оставил мне. ПалавонНазар подплыл, но опять ниже места,
где мы ждем его.
Вновь поднадув турсуки, Юдин ложится на плот, как жирный барашек. Его
двигают, передвигают ему ноги, зад, чтоб установить равновесие; он лежит
неподвижно. Плот "под управлением" Палавон-Назара отправляется. На бурунах
Юдина забрызгало, но плот выплыл к берегу хорошо. Вижу: Юдин стаскивает с
себя мокрую рубашку.
Раздеваюсь и я, остаюсь в трусиках и рубашке, оставляю на себе полевую
сумку, пистолет, анероид... Плот подкатывает в третий раз. Рюкзак
привязывают. Я ложусь на плоть -- и пускаемся в путь. Палавон-Назар устал и
в буруны попал не так, как нужно, а потому меня трижды накрывает волной.
Вода ледяная! Смеюсь в ответ на смех Юдина и бартангцев, сидящих на берегу.
Хорошо! Холодно, но хорошо!
Меня занесло далеко, как в первый рейс. Ждем на берегу. После этой
шестой по счету переправы Палавон-Назар дрожит от холода. Плот разбирают, и
другой бартанжец с пятью турсуками, голый плывет на правый берег, где
остался ХоджаМамат. Они переправляются к нам с меньшим "комфортом":
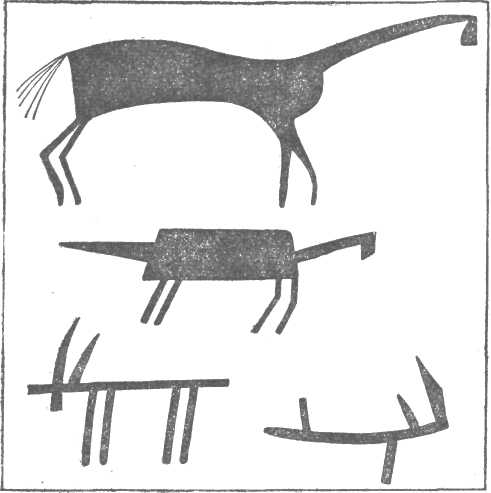 Рисунок сделан автором 28 августа 1930 года. Изображения животных,
высеченные на мраморной скале перед кишлаком Зарджив, на Бартанге.
плывут по отдельности, оба сразу, в бурунах волны их вертят и окатывают
с головой; все их пожитки, прикрученные к голове, промокли.
Идем в Аджирх по тропе. Против Аджирха, по правому берегу -- отвесная
скала, метров триста, над рекой.
-- А вот смотрите, что ожидало бы вас, если б мы не переправлялись на
турсуках, а выбрали бы другую дорогу, -- сказал мне Юдин, когда мы пришли в
Аджирх.
Вглядываюсь в стену отвесного обрыва, замечаю намеки на тропу, -- как
по ней итти и не представляю себе. В 1928 году по этой скале поднялись Н. П.
Горбунов, Д. И. Щербаков, Юдин и два их спутника".
В пути вверх по Бартангу мы столько раз подвергались опасностям на
оврингах и так измучились, преодолевая каждый из них, что ни я, ни Юдин не
удивились предложению Ходжа-Мамата: совершить обратный путь там, где это
возможно, на турсуках. Я сразу же и охотно согласился. Мы отлично понимали,
что если говорить об опасности... конечно
же, путь на плоту из бараньих шкур по стремнинам Бартачга не менее
опасен, чем путь пешком по оврингам, но зато никаких физических усилий,
никакого перенапряжения сердца! И главное -- быстро!
Мы долго советовались по этому поводу с жителями кишлаков Верхнего
Аджирха и Зарджива, но выяснили, что вниз до Си-Понджа и далее до Багу
спуститься по течению на плоту немыслимо. Не в человеческих силах вынести
плот из стремительного течения перед перепадами, какие надо было бы обходить
по берегу. Но от Багу до низовьев Бартанга перепадов нет, и на том участке
воспользоваться советом ХоджаМамата можно.
Поэтому весь обратный путь -- до кишлака Багу -- мы совершали пешком.
Все овринги повторились, с той лишь разницей, что овринг Овчак на этот раз я
прошел без чьей бы то ни было помощи, а перед Падрузом мы обошлись без тех
двух переправ, какие избавляли нас от необходимости пересекать
отвратительную, исполинскую осыпь, где всякий прохожий, нарушая равновесие
камней, невольно создавал такой камнепад, от которого отбежать было очень
трудно. На обратном пути мы одолели и эту осыпь, запасшись, по совету
бартангцев, длинными палками, которые помогали нам "грести" в щебнистом,
осыпающемся склоне. В этом месте все шли поверху, а я, идя впереди, выбрал
себе другой путь: под осыпью, по воде, и едва не был унесен Бартангом,
потому что зыбкая ссыпь продолжалась и под водою. Держась за береговой
склон, я обрушил на себя щебень и мелкие камни, но все же сумел уклониться
от последовавшей за ними каменной лавины. Сильhg перепугав моих спутников,
наблюдавших сверху и выкрикивавших мне какие-то бесполезные советы, я
выбрался из этого малоприятного места самостоятельно.
Кстати, через двадцать два года, в 1952 году, проезжая это же место
верхом по проделанной здесь, но постоянно засыпаемой камнями тропе, я вместе
с лошадью едва не был увлечен камнями в реку и только случайности обязан
своим спасением. Это место на многие годы вперед, при любой
дорожностроительной технике, останется одним из самых опасных на всем
Бартанге.
В Багу мы ночевали под деревом, на глинобитном ложе у ручья. 1 сентября
1930 года я записал в полевую тетрадь:
"Всю ночь -- сильный ветер, низкие облака, закрывающие горы, порывами
-- дождь. Спали под одеялами, было холодно. С гор падали камни. Проснулись
рано, ночь для меня была почти бессонной из-за скверного самочувствия и
головной боли.
Поедем ли на турсуках? Но бартангцы не возражают против плавания в
такую погоду и готовят плот. Значит, плывем. Не завидую им. Плот из
жердочек: десять в одном направлении, три -- в другом.
Наши три носильщика со всеми вещами ушли в Шуджэн по оврингам.
Управлять плотом взялись три жителя Багу. Еще с вечера они разошлись
собирать турсуки, -- к утру принесли: часть из Рида, часть из Имца, да
несколько нашлось здесь, в Багу. Набралось десять турсуков на плот и два --
для пловцов.
Тучи бродят, пасутся по горам, как животные. Дождь, сыро, мокро,
скользко, холодно, серо. Плот готов. Идем к реке и переходим вброд несколько
ручьев. На плот настилают два снопа сена, кладут сверху нашу войлочную
кошму, и мы садимся. Два бартангца, закрутивших за шею свои глимы (суконные
халаты), в которые закручена и обувь, оседлывают два турсука и, оказавшись
по живот в студеной воде, толкают наш плавательный снаряд. Мы отплываем. Я
-- в свитере, Юдин -- в зеленой рубашке... Третий бартанжец сидит на плоту
между нами.
Затычки в турсуках на этот раз более "совершенные": катушки из-под
ниток, затыкаемые палочками.
Плывем. Турсуки шипят, выпуская воздух. Бартангцы фыркают, загребая
ногами. Все трое -- и те два, что ведут наш "корабль", и тот, что сидит с
нами на "палубе", прикладываются ртом к катушечным вентилям и поддувают
турсуки на ходу.
Скалистые берега стремительно мчатся мимо. На бурунах нас подбрасывает
и обрызгивает. Мы идем со скоростью быстроходной моторной лодки, лавируя
между порогами и камнями. Очень холодно и мокро, даже нам, сидящим на плоту,
а каково нашим "кормщикам"?
Скоро (через полчаса?) -- кишлак Имц. Причаливаем к берегу, дождь
шпарит, мы промокли окончательно. Жидкая грязь. Босиком идем по ней, потом
надеваем мокрые туфли и, пройдя весь кишлак, входим в чод сельсовета.
Сельсовет -- темная комнатушка, одинокие плакаты на стенах, ломаная
скамейка. Разговор с председателем сельсовета, угощающим нас абрикосовыми
косточками и чаем.
Наши пловцы в халатах греются у очага и дрожат. Им готовят атталя
(гороховую похлебку).
В Имце -- 175 жителей. Земли -- "сто пудов в кишлаке и двадцать --
высоко на горе". Там, на горе, нужно бы шашку динамита -- подорвать скалу и
снег: освободится площадь для посева -- еще "сто пудов земли". Но этого пока
не сделано.
Дождь усиливается. Под дождем идем к реке -- опять переходим ручьи
вброд. Жители Имца просят нас посадить на плот
больную женщину, довезти ее до Шуджана. Соглашаемся. Сажаем ее между
нами вместо того, третьего бартангца, который плыл сюда от Багу и которого
мы оставляем в Имце.
Высокие скалы плывут назад, как на экране кинематографа, мысы срезают
ущелья, ущелья меняют горы на горы; вершины -- в облаках, осаждающих снег,
-- крутятся и вырастают одна за другой. Берега плывут стремительно, --
скалы, скалы, чортовы скалы! Перед Шуджаном -- буруны, нас несет и наносит
на них, плот пляшет и прыгает, больную женщину заливает холодной водой, мы
оба стоим на четвереньках, на нашей "подводной" кошме, плот уже почти
погрузился в воду, наши руки рассекают ее; избавленья от воды и холода нет,
но, наконец, на полном ходу мы подходим к галечному берегу Шуджана.
Передаем больную женщину местным жителям, отсюда на носилках ее отнесут
в Кала-и-Вамар, где в восьми километрах отсюда есть недавно открытая
больница. Сами, расплатившись с пловцами, также спешим в Кала-и-Вамар --
пешком, полубегом, чтобы согреться. От русла реки поднимаемся на гору,
форсированным шагом берем перевал, кажется, разорвется сердце, а все еще не
согрелись. Дождь продолжается, но вдали уже виден просторный, весь в зелени
Кала-и-Вамар. Там ждет нас, с нашими вьючными лошадьми больной тропической
малярией наш старший рабочий Егор Маслов... "
Читатель вправе спросить меня: переправляются ли бартангцы через свою
реку на саалях в наши дни?
Да. Этот древнейший способ сообщения и переправ, даже перевозки грузов
существует и ныне. Но в наши дни для пользования саалями становится все
меньше поводов. От Кала-и-Вамара до Шуджана и до Имца ходят автомашины. Выше
Имца -- ни один из описанных мною оврингов не сохранился: вместо них вдоль
Бартанга проходит расширенная, улучшенная аммоналом тропа, по которой ездят
верхом, а груз перевозят во вьюках. Овринги описанного мною типа существуют
только по боковым ущельям притоков Бартанга и по той стороне реки, по
которой не проходит большая тропа. Бартангцы пользуются ими, так сказать,
для "местного сообщения" между соседними кишлаками да между долиной реки и
верхними пастбищами. Но и там все упорнее работает аммонал, потому что и
пастбища и кишлаки Бартанга давно стали колхозными.
В Имце ныне находится центр колхоза "Комсомол", охватывающего также
хозяйства кишлаков Рид, Багу, летовки и пастбища -- от гребня до гребня
исполинских водораздельных хребтов.
Колхозу принадлежит и прежний сад ишана в Падрузе, а единственный
приютившийся на скале над пропастью дом стал теперь колхозного чайханой --
приютом для путников, застигаемых ночью на Бартангской тропе. В колхозном
кишлаке Имц в наши дни расположена база райпотребсоюза, сюда доходят по
новой дороге автомобили; есть теперь в Имце открытая в 1940 году
школа-семилетка, есть библиотека и магазин, есть тридцать радиоприемников,
работающих на батареях, и телефон. На берегу реки зеленеет большой новый
плодовый сад.
Выше по Бартангу расположен колхоз "Интернационал", в Си-Пондже --
колхоз "Большевик", еще выше, в Разудже, -- колхоз имени Энгельса, в Басите
и Аджирхе -- имени Карла Маркса, за ним -- колхоз имени Ленина, а всего по
Бартангу -- десять укрупненных (в 1950 году) колхозов, и верхний из них --
на реке Кударе и на притоке ее -- реке Танымас, под самым ледником
Грумм-Тржимайло, -- колхоз имени Димитрова.
И каждый колхозник Бартанга знает теперь, кем был Димитров, и каждый
школьник Бартанга может рассказать путнику о Марксе и Энгельсе, а школы есть
в каждом колхозе, и нет на Бартанге мальчика или девочки, которые не знали
бы пути в школу.
Си-Пондж
Я хочу рассказать о районном центре Бартанг. Так называется он теперь в
административной переписке и на некоторых географических картах. Но везде в
Бадахшане и прежде всего сами бартангцы называют его попрежнему: кишлаком
Си-Пондж, оставляя общее название "Бартанг" реке, долине, району. На старой
"десятиверстке" -- карте, составленной до революции, кишлак этот назван
"Си-Пяндж", но я предпочитаю произношение местных жителей.
Первый раз в Си-Пондже мне пришлось побывать в 1930 году. Что
представлял собой этот кишлак тогда?
Мы шли от низовьев реки. Мы одолели последний перед Си-Понджем подъем,
-- лиловые породы, миновали высокую террасу. В то время она была пустынной и
неприветливой, не такой, как в наши дни, когда к ней со страшных высот
проведен оросительный канал и она зеленеет пашнями и молодыми садами нового
кишлачка Дашт, выросшего здесь после Отечественной войны. Терраса обрывается
массивным мысом, вдвигающимся в ущелье. Отсюда хорошо виден поражающий своей
грандиозностью шлейф каменной осыпи, под которой, на противоположном левом
берегу Бартанга приютился кишлак
Усавн. Эта осыпь низвергается от самого водораздельного гребня,
возвышающегося над рекой не меньше чем на полтора километра по вертикали.
По тропе, круто падающей со скалы на скалу, мы спустились в долину,
которая лежит между чуть-чуть расширившимися отвесными громадами. Тропа
повела нас вдоль правого берега, сплошь усыпанного камнями, и впереди мы
увидели крутой излук реки, образуемый следующим мысом, протянувшимся поперек
долины. Под ним правобережье реки выгибается неожиданной, почти плоской
площадкой; в здешних теснинах она представляется взору путника просторной,
на ней отдыхает глаз.
Кишлак, располагавшийся на этой площадке в тридцатом году, считался
большим: он состоял из тридцати трех приземистых жилищ, сложенных из
неотесанных камней. Чтобы построить эти жилища, камни не нужно было искать
или нести издалека, достаточно было собрать их на том самом месте, где
решено было сложить стены чода (так местные жители называют свои
примитивные, продымленные дома).
Си-Пондж считался тогда волостным центром: один из тридцати трех домов
был занят волостным исполкомом, другой -- сельсоветом; в третьем помещалось
"милицейское управление". В этом доме жил, представляя своей особой все
"управление", единственный в волости милиционер -- местный бартангский
житель.
По случаю появления в Си-Понджг двух пришельцев с низовьев реки, а
значит, и еще более издалека, наверное из Хорога, сей милиционер произвел
приветственный выстрел. На дверях дома, в котором жил милиционер и
помещалось его "управление", я увидел вырезанное ножом изображение ладони --
символ исмаилитской религии. И милиционер, коренной сипонджец, объяснил нам:
-- Тут жил учитель, он свою руку изобразил!
В четвертом доме помещался магазин Узбекторга, но единственным товаром,
какой мы обнаружили в нем, оказались спички.
Никаких других "учреждений" в Си-Пондже не было. Купы чахлых деревьев
возле нескольких прочих домов кишлака давали жителям тень и мелкие плоды:
яблоки, абрикосы, тутовник. Этих плодов владельцам деревьев хватало на
месяц, на два. Несколько кур, несколько ослов, исхудалых рабочих быков,
три-четыре тощие маленькие коровенки -- вот и все, чем обладали жители
кишлака.
В волостном исполкоме я записал тогда сведения о Бартангской волости,
простиравшейся на двести километров по долине реки от кишлака Имц в низовьях
Бартанга до реки
Кудара, впадающей в нее в верховьях. Эти сведения интересны: во всей
волости насчитывался четыреста сорок один дом, и вот каково было хозяйство
всех двадцати трех кишлаков этой волости в том тридцатом году:
пшеницы на поливной земле было посеяно 952 пуда, а на неполивной,
богарной (такая пшеница называлась ляльм) -- 95 пудов 10 фунтов; ржи (л а ш
а к) --255 пудов 10 фунтов; ячменя (д ж а у) -- 1217 пудов 5 фунтов; гороха
(мах) -- 413 пудов 30 фунтов; проса -- 529 пудов 25 фунтов; капусты (карам)
посажено 1 фунт; картофеля (картошка) -- 2 пуда 3 фунта; клевера -- 3 пуда
20 фунтов...
Больше ничего бартангцы в ту пору не сеяли. Каждое дерево было у них на
счету. Тутовых (т у т) деревьев во всей долине насчитывалось 2 246, яблонь
(м а у н) -- 726, абрикосов (нож) и ореха (г у з) было 2 035 деревьев, груш
(м ар уд) -- 159 деревьев. Подсчитано было и каждое не плодовое дерево, --
их было 7 670 штук.
284 быка (ходж), 174 осла (маркаб), 59 лошадей (в о р д ж), 21 верблюд
(у х т о р) -- вот весь скот, который был записан в ведомостях волостного
исполкома. Поголовье коров и овец в ведомостях обозначено не было.
Мерой веса в ту пору считался а м б а н (5 пудов). Урожай пшеницы в
лучших местах достигал четырех амбанов с пуда, а на плохой земле пуд
посеянного зерна давал не больше одного пуда урожая...
Так беден, так нищ был Бартанг!
Не надолго хватало бартангцам размолотого на примитивных водяных
мельницах зерна. Хлебные или гороховые лепешки считались лакомством. Мясо
люди пробовали только в редких случаях, когда овцы, корова или верблюд
разбивались, сорвавшись в пропасть, или бывали задавлены камнепадом. Вкуса
сахара бартангцы не знали, соль была роскошью, доступной не всем. Большую
часть года бартангцы питались сушеными тутовыми ягодами, из которых
изготовляли подобие халвы (тут-пист), а в зимние месяцы варили траву,
выкопанную из-под снежных сугробов.
Голод и болезни были постоянными, неразлучными спутниками бартангцев.
Лихорадка, трахома, оспа обессиливали людей. Последняя из частых до этого
эпидемий желудочных заболеваний была в 1928 году. Но с тех пор Бартанг все
чаще посещали врачи, в 1930 году в Си-Пондже уже существовала амбулатория, в
декабре 1929 года в Си-Пондж пришел пешком присланный из Хорога врач
Канцевич. Он прожил здесь до июня 1930 года, но, изголодавшись и заболев
сам, не выдержал трудностей существования и ушел в Хорог (в июле, худой,
изможденный, усталый, он встретился мне на Восточном Памире; на чахлой
лошаденке он уезжал навсегда с Памира). В августе, когда я посетил Си-Пондж,
амбулатория была заперта на замок, в Си-Пондже и по всей долине Бартанга не
жил ни один русский человек. В 1930 году однажды приходил в. Си-Пондж только
хорогский дорожный мастер Ступницкий, а за год перед тем, кроме геолога
Юдина с его коллектором Лавровым, приходили сюда из областного центра лишь
техник Беляев да один из членов хорогской партийной организации, Майский.
Так редки, так единичны были здесь в ту пору советские работники!
От последней ночевки, в кишлаке Рид, Юдин и я шли сюда двенадцать
часов, пришли уже в темноте и под дробный грохот бубнов, отгонявший птиц от
посевов, едва нашли в себе сил разостлать у ручья кошму.
Утром, наблюдая солнечные лучи, что радиусами расходились от зубцов
высившегося над нами скалистого гребня, дрожа от холода в ожидании, когда
солнце само выглянет изза горы, мы завели беседу с бартангцами, обступившими
нас. Они курили чилим, передавая его один другому. В отрепьях глимов,
надетых на голое тело, босые, покрытые язвами и болячками -- явным
следствием авитаминоза, исхудалые, истощенные, впалогрудые, они ожидали, что
мы, пришельцы, угостим их хоть какой-нибудь едой. Мы, по совести говоря,
ожидали того же от них, пока шли в Си-Пондж, -- все же "волостной центр"!
Ведь запасы продуктов в наших рюкзаках были почти израсходованы, путь же
вверх по Бартангу, а потом вниз до обильного продуктами Рушана предстоял еще
большой!
Мы "помирились" на том, что стали вместе пить чай, благо вода здесь
кристальной чистоты и прозрачности. После чая Юдин, вглядываясь в
водораздельный гребень левобережья, занялся изучением полосы светлых пород,
повидимому мраморов, я же добивался точности транскрипции и перевода местных
бартангских слов, записывая их в мой путевой дневник.
И снова гремели бубны на крошечных посевах Си-Понджа. Был конец
августа. Неподалеку от нас быки, расхаживая по кругу, вытаптывали из
разминаемых ими снопов пшеницы зерно, и шустрая девочка, понукая скучных,
покорных животных, била их хворостиной.
Все бартангцы в один голос бранили дорогу сюда, говорили: "Дороги нет,
ходить мы не можем. У нас нет ни одного человека, который не голодал бы.
Советская власть должна сделать дорогу. Если не будет дороги -- не надо
тогда и вика и сельсовета, ничего не надо, будем страдать, как в старые
времена!"
А когда чай был выпит, бартангцы начали балаганить, как дети, под общий
смех поливая друг друга из чайника холодной водой.
... И вот я в Си-Пондже через двадцать два года. Я приехал сюда верхом.
Строящаяся широкая дорога в этот последний, еще не "автомобилизированный"
районный центр на Памире доходит до кишлака Имц, дальше, вверх по Бартангу
проложена пока верховая тропа. Она стоила больших денег и многих усилий.
В 1936 году в Си-Пондже был создан колхоз "Большевик"--первый колхоз на
Бартанге. Си-Пондж стал районным центром. Уже издали, сверху, спускаясь с
крутого мыса, я увидел внизу, на дне долины густые сады и посевы кишлака,
разросшегося, заполнившего все полукружие правого берега реки. Белые
аккуратные домики сквозили в листве деревьев. Въехав в райцентр по его
улочкам, мимо конторы связи, вдоль аллеи молодых деревьев и чистеньких
домов, окруженных посевами и садами, я и мой спутник -- солдат-пограничник
Шаламанов, предоставленный мне в качестве конюшего на ближайшей к устью
Бартанга пограничной заставе, привлекли общее внимание жителей кишлака:
заезжие люди и ныне редки в Си-Пондже, путь труден и теперь, хоть и
несравнимы нынешние дорожные трудности с прежними. Русская девушка указала
мне путь к райкому партии. По аллее тонкоствольных тополей я въехал во двор,
засаженный цветами, и остановил коня перед группой бартангцев, которые вышли
из дома, очевидно узнав, что к Си-Понджу приближаются, спускаясь по тропе,
два всадника.
Один из бартангцев -- молодой, с энергичным, загорелым лицом человек, в
костюме, сшитом из синего бостона, при воротничке и галстуке, в
проутюженных, с аккуратной складочкой брюках, -- оказался секретарем райкома
партии, уроженцем Си-Понджа, Абдул-Назаром Курбан-Ассейновым. Его спутники,
столь же чисто, по-городскому одетые, назвали себя, кто работником райкома и
исполкома, кто учителем. Я представился всем. Курбан-Ассейнов дал
распоряжение отвести коней на конюшню и повел меня в белый дом райкома по
длинному коридору (я обратил внимание на потолок, сделанный из тесно
сомкнутых тополевых жердочек). Миновав хорошо обставленный мебелью зал
заседаний, я вошел в маленький кабинет секретаря, увидел письменный стол
буквой "Т", затянутый синим сукном и заваленный книгами, телефонный аппарат,
радиоприемник, на стене -- полку с художественной литературой и пачками
последних газет.
Вслед за мной в кабинет вошел высокорослый мужчина с портфелем и сумкой
через плечо, пожал руку секретарю, сел
рядом со мной, -- это был уже знакомый мне по совместной ночевке в пути
почтальон Шарипов. Он пришел в Си-Пондж пешком, сделав почти одновременно со
мной тот же путь, который я одолел верхом. Вынимая из портфеля пакеты с
печатями, а из сумки -- пачки газет и писем, он передавал их через стол
Курбан-Аосейнову, и тот торопливо распечатывал их.
Через час, на берегу Бартанга, там, где еще не очень давно виднелись
руины старинной крепости и где теперь пестрели цветы в палисаднике возле
хорошего двухквартирного дома, я вошел в мехмонхоне -- комнату для гостей,
устроенную рядом с квартирой секретаря. Перед верандою дома, на хорошо
разделанном огороде, розовели созревающие помидоры, -- никогда прежде на
Бартанге не бывало помидоров! Над этим домом, так же как и над многими
другими, мимо которых я проходил, виднелись мачты телефона и радиоантенны.
В свежевыбеленной, предоставленной мне комнате, с большим окном на
шумливый Бартанг, я увидел две чисто застеленные кровати, стол, накрытый
клеенкой, лампу...
Но провести ночь я захотел все же на вольном воздухе, на открытой
террасе дома, называемой здесь дуккон.
Мой спутник -- солдат Шаламанов провел весь вечер на гулянке,
устроенной в его честь жителями Си-Понджа. Появление пограничника в
Си-Пондже -- редкость. Вся молодежь, включая сипонджских девушек, хотела
оказать молодому солдату внимание; было устроено чаепитие, слышались хоровые
песни и музыка; звуки гармони смешивались со звуками бартангских струнных
инструментов и бубнов, и, во всяком случае, там, под тутовыми деревьями в
центре Си-Понджа, где происходила вечеринка, было очень весело.
... Утро. Лежу на дуккон, обдуваемый свежим горным ветром, который
порывами налетал на меня всю ночь. Надо мною шуршит сухая листва-навеса из
жердочек, из тонких тополевинок; подо мной на обмазанном глиною каменном
ложе вчетверо сложены одеяла, а одним из таких ватных одеял я накрыт. За
спиной только что говорил радиорупор, я слушал Москву, далекую отсюда
Москву, из которой в Си-Пондже за вce времена побывали, может быть, не
больше полутора-двух десятков людей. Громкоговоритель висит над дверью в
дом, дверь открыта, и мимо меня -- тихо-тихо, чтоб не разбудить гостя, --
ходит немолодая, но удивительно грациозная и красивая жена Курбан-Ассейнова,
хлопочущая по хозяйству. Ее зовут Нордона. Вот из дома в белом платье вышла
их дочь, маленькая и тоже безупречно-красивая тринадцатилетняя Ватан-Султан.
В переводе это имя значит: "Властительница родины". Она направилась к реке
мыться.
Передо мной -- огород. Белеют цветки картофеля, розовеют
наливающиеся солнцем, еще зеленые помидоры, растет капуста, которую
громко жует рыжая, с крутыми серыми рожками коза. "Кец-кец!" -- зовет ее
хозяйка, ставя на землю деревянную чашку. По краям огорода -- цветник, в
метр высотой стебли цветов, красных, крупных, как розы, похожих на наши
пионы, и другие -- синие, напоминающие "иван-да-марью".
Коза подошла к грациозной Ватан-Султан, и та, в своем белом платье, в
цветистой красной тюбетейке, с коралловыми бусами на шее, загорелая,
внимательная, присев на корточки, доит козу.
Цветник обведен оградой, сложенной из камней, составлявших некогда
стены крепости, что высилась на этом месте и исчезла навеки. В крепости был
глубокий колодец, вода просачивалась в него под почвой из реки Бартанг, и
потому защитники крепости на случай осады не нуждались в вылазках к реке.
Курбан-Ассейнов, работая на огороде, за год до моего приезда нашел
наконечник стрелы и несколько монет.
Дальше за оградой -- сжатые поля, за ними, полукружьем, поселок
Си-Пондж, деревья его плодовых садов, в просветах между деревьями серые и
белые дома, с открытыми дуккон, с застекленными окнами, с квадратными
башенками-кладовками во дворах. Крыши домов -- плоские, все дома либо
выбелены мелом, либо чисто обмазаны глиной. Как особенность Си-Понджа, редко
встречаемая в других кишлаках, вдоль оросительных каналов устроены под
деревьями открытые "спальные сооружения": глиняные возвышения с бортиками,
куда кладутся одеяла и подушки и к которым в наши дни там и здесь примыкают
поставленные над каналом городские железные кровати, включенные в "спальный
ансамбль". Эти сооружения придают всему поселку очень живописный и какой-то
особенно "домашний" уют, особенно потому, что никаких замков, никаких
запертых дверей в Си-Пондже не существует: здесь чужих людей нет!
За садами, над всем селением (надо запрокинуть голову, чтоб увидеть
вершины гребня) многоярусной стеной встает горный склон, изрезанний, с
осыпями под резкими, скалистыми обрывами. Вершины только что тронуты
солнцем. На моих глазах начинает розоветь весь гребень, затем в просвете
рассекающего склон ущелья солнце зажигает другой, еще более высокий, более
отдаленный гребень. Из розового он постепенно становится серо-солнечным,
светлым, обнажая белые пятна снегов.
На двести метров от дна долины, на которой расположен Си-Пондж, вверх
по вертикали, горный склон составляется отвесной стеною конгломератов, --
это разрез бывшего дна реки, которая некогда текла на эти двести метров
выше. "Заплечики" древней речной террасы -- узкие, плоские полоски древнего
берега -- кое-где сохранились доныне, но в других местах все формы древнего
рельефа погребены под исполинскими каменными осыпями, которые круто падают в
долину из-под самого водораздельного гребня, венчающего весь склон, а внизу
расходятся шлейфами.
В центре полукружия долины, передо мной, обрывок той речной террасы
уцелел, потому что подперт монолитной скалой, которую воде не удалось смыть.
Подобные бастионам старинной крепости, видны разъединенные вертикальными
проМывинами естественные выступы конгломератовой стены. В этих
выступах-башнях зияет с десяток огромных, похожих на бойницы дыр: шесть в
один ряд, одна ниже, еще три в ряд... Это пещеры древних людей. Одна из них
называется "Мобегим бавун" ("Женщина зашла в яму").
Оглядываюсь: такие же и на левобережной стороне Бартанга. В пещерах
сохранились следы костров, об этом мне накануне рассказали сипонджцы.
Ниже и правее стены, впереди меня, поперек осыпи выложена из белых
камней огромная надпись: "Зиндабод хокумати совета!" ("Да здравствует
советская власть!"), а еще ниже, сквозь сады кишлака, белеет здание средней
школы-десятилетки.
Я вижу: Ватан-Султан выходит с другими девочками из соседнего дома (там
помещается районная больница). Все чисто, опрятно одеты, принаряжены, у
каждой в руках учебники, и одна из девочек, проходя мимо меня, глядит в
раскрытую на ладонях тетрадь и что-то шепчет -- повторяет на ходу урок. Две
косички ее раскачиваются, и Ватан-Султан, шаловливо ухватив одну из них,
вплетает в нее синий цветок.
Высоко-высоко, метров на семьсот над кишлаком, выше всех осыпей,
обрывистые склоны тоненьким пояском пересекает ниточка оросительного канала.
Он берет воду в ущелье, глубоко врезанном, похожем на трубку воронки. Ручей
в глубине его низвергается с огромной высоты непрерывным каскадом и исчезает
в скалистой воронке.
Ущелье это называется Вож-Дара (от Вордж-Дара -- "Лошадиный лог").
Поразителен канал, проложенный на такой страшной высоте над многими
пропастями! Он протянулся на пять километров, он построен колхозниками в
1950 году, на него потрачено шестьсот килограммов аммонала, он орошает
двадцать пять гектаров сухого в прошлом горного склона, а мог бы оросить и
сто двадцать гектаров, если бы в питающем его каскаде хватало воды. На
орошенной земле посеяны пшеница и люцерна и закладываются молодые сады.
Другой сипонджский канал -- Ходарджиф (получивший название от ходордж
-- маленькой, притулившейся к нему водяной мельницы) берет начало от речки
Рошар-вэджхуф, круто мчащейся по узкому, почти недоступному для людей
ущелью. Канал, опоясывающий скалистые кручи на полукилометровой высоте над
долиной реки, тянется к дашту -- высокому обрывку древней речной террасы,
под которой в конгломератовой стене зияют пещеры древних людей. Этот канал
сипонджцы начали строить еще в 1932 году, но не могли ничего сделать без
технической помощи. Труднейшая работа возобновилась, когда здесь
организовался колхоз, и колхозники, пользуясь аммоналом и советами хорогских
техников, уже в 1938 году проложили первые четыре километра канала, оросив
двадцать два гектара земли. Так была построена "первая очередь" канала.
Теперь работа продолжается; тридцать-пятьдесят строителей все лето проводят
на скалах, обрушивая их вниз, давая путь воде дальше...
Можно часами, оставаясь на одном месте, вглядываться в великолепные,
рассеченные тесными щелями, недоступные вершины, обступившие маленький,
полукруглый клочок прибрежной земли, на которой расположен Си-Пондж. К
юго-западу от райцентра высится снежный пик, называемый здесь Цокжир
("Высокий камень"); чуть северней, рядом с ним врезается в глубину небес
скалистая вершина Нау-джирас-банд: "там только начинает зеленеть трава,
когда внизу пашут", -- говорят про ее склоны бартангцы. Над левым берегом
устремляет вверх свой острый гребень Иокгаль, а к востоку от него белеет
вечными снегами вершина над ущельем Равив-Дара. С севера все полукружие
долины отсечено низким, протянувшимся поперек нее мысом Парингаль,
заставляющим реку делать крутой излук. Здесь, в середине излука, через
Бартанг переброшен узкий и зыбкий мост без перил; проходить по нему,
применяясь к его пружинистому качанью, люди могут только поодиночке. Этот
мост существует здесь много десятилетий, сокрушаемый водой и людьми, но
неизменно восстанавливаемый сипонджцами.
Я знаю: никто до меня не интересовался всеми перечисленными выше
названиями, никто не описывал в деталях местность, окружающую Си-Пондж.
Пожалуй, из всех районных центров Советской страны этот -- один из наименее
посещаемых.
Вопреки бездорожью
Двести тринадцать километров пути от Кала-и-Вамара на Пяндже до верхней
границы Бартангского района -- реки Кудара (или, как теперь бартангцы
называют ее, Гудара), где кончается самый верхний на Бартанге колхоз имени
Димитрова, -- эти двести тринадцать километров и в наши дни не везде и не
всегда можно проехать верхом. Немало таких мест, где надо пробираться
пешком, рискуя сорваться в пропасть, или быть раздавленным камнепадами. И
это даже в летнее время! А уж зимой, когда в ущелье с высот в тысячу и две
тысячи метров там и здесь соскальзывают лавины, от кишлака к кишлаку на
Бартанге во многих местах не проберется даже горный козел. Всякое сообщение
между населением кишлаков прекращается.
И потому мне особенно удивительно, что, несмотря на такую
труднодоступность, районный центр Си-Пондж на Бартанге, благодаря работе
партийных и советских организаций, выглядит совсем не столь глухим и
отрешенным от мира, как можно бы при подобных обстоятельствах ожидать. То,
на что в других местах не обратил бы внимания, как на предельно привычное и
естественное, здесь поражает и удивляет.
В районном отделении Госбанка я увидел обыкновенный стальной сейф, -- в
каком городке, в каком районном центре нашей страны нет теперь таких сейфов
и кого может он удивить?
Но, посмотрев на него в Си-Пондже, я задумался и опросил: сколько этот
сейф весит? И мне ответили: сто сорок килограммов. Я еще раз посмотрел на
сейф, прикинул глазом его объемы, на мгновенье представил себе тропинку, по
которой сам явился в Си-Пондж...
А как же он доставлен сюда? Работник райфо улыбнулся:
Его принес один человек!
Как принес? На своих плечах?
-- Правильно, на плечах. Вьюком разве можно везти такую тяжесть? На
спину лошади не положишь, два вместе по бокам привьючить -- получится почти
триста килограммов, разве лошадь может нести на себе восемнадцать пудов, да
еще по такой "дороге"? Тропа узкая, слева -- скала, справа -- пропасть...
Говорим: один человек принес! Вернее, два человека несли, сами вызвались,
есть у нас в Имце два таких богатыря -- палавона!.. По очереди несли:
километр несет один, устанет, километр несет другой, а потом -- опять
первый. Так тридцать пять километров несли. У нас в Си-Пондже есть два
сейфа, один весит сто сорок, другой -- сто шестьдесят килограммов. Третий
сейф -- тоже сто шестьдесят килограммов -- лежит в Имце, не можем доставить
сюда, потому что эти палавоны спросили за доставку тысячу рублей. Какой
финансовый орган может разрешить такой расход? По закону полагается девять
рублей за тоннокилометр. Так ведь закон думал об автомобилях и гужевом
транспорте. Разве в законах обозначен кишлак Си-Пондж? Кто
i
знает, что у нас такая дорога? Мы, правда, считаем: тысяча рублей за
такую работу совсем недорого, простой человек -- вы, и я, и любой колхозник
у нас -- за десять тысяч не понесет десять пудов на своей спине. Кого
просить можем? Это сама наша природа двух таких людей выдумала, бартангские
матери родили двух таких палавонов, -- если б они в Москву поехали, они
стали бы чемпионами мира... А у нас они скромные люди!
Но не одни эти сейфы удивили меня в Си-Пондже. Меня удивили железные
кровати, на которых в своих домах опят колхозники. Меня удивила стационарная
киноустановка, прекрасный аппарат для демонстрации звукового фильма,
ежевечерне работающий в маленьком кинотеатре Си-Понджа. В летнее время
кинофильмы демонстрируются рядом с залом клуба, в саду, под открытым, полным
звезд небом, а яркая электрическая лампочка, ослепительно сверкающая в
антрактах между сеансами над кинобудкой, видна и из любого места Си-Понджа и
со всех окружающих гор, -- она пока единственный представитель
электрификации в кишлаке Си-Пондж! И не потому ли в черной ночи, сгущенной
громадами обступающих Си-Пондж гор, эта лампочка кажется особенно
неправдоподобно яркой?!. Я смотрел "Великий перелом" и "Незабываемый 1919-й"
вместе с колхозниками, учителями, школьниками, садовниками и милиционерами
Бартанга -- все они были хорошо одеты, все они ничуть не отличались от
публики любого кинозала таджикской страны, разве только что шерстяные глимы
и тюбетейки колхозников были именно бартангского, а не какого-либо иного
типа... А в клубе я, к своему удивлению, нашел свежие номера журнала
"Театр". Значит, кто-то читает их?
Меня удивляли в Си-Погадже хорошие, застекленные оконные рамы в домах
колхозников, и пишущие машинки в учреждениях, и доски, из которых сделаны
прилавки в районном кооперативе: как привезти сюда длинную доску -- ведь в
самом Си-Пондже такую доску не сделаешь, ведь каждое плодовое дерево здесь
-- драгоценность! За весь 1952 год удалось привезти на ишаках из Имца только
два кубометра длинных досок! Все грузы -- продовольствие и товары --
путешествуют по Памиру на автомашинах, но все предназначенное для
Бартангского района сгружается с автомашин в Имце -- первом снизу кишлаке
района! Из Имца путь только вьючный, но не всякий груз можно уложить во вьюк
и не всякий вьюк можно протащить по узкой, головокружительной тропе. И есть
у сипонджских организаций трудности, о которых никто не знает! Не в чем,
например, доставлять в Си-Пондж керосин: бочку не привезешь, а бидонов в
Си-Пондже нет, -- и несут бартангские жители керосин на себе -- в ведрах, в
бутылках, в глиняных
сосудах, несут по осыпям и по узким, нависшим над рекою карнизам,
поднимают на перевалы, спускают, рискуя споткнуться, по крутейшим склонам...
Дать бы Си-Понджу хоть сотню обыкновенных автомобильных двадцатилитровых
канистр, тех, какими пользуются десятки тысяч шоферов в Советском Союзе. Но
никто об этом, кроме самих бартангцев, не думает, а бартангцам таких канистр
не добыть. И я должен об этом сказать, чтоб эти мои слова были прочитаны
всеми, и я знаю, среди моих читателей найдется много отзывчивых и энергичных
людей, которые хоть почтовыми посылками, а отправят сипонджцам в подарок
такие канистры, прежде чем автомобильная дорога, для прокладки которой нужно
взорвать аммоналом миллионы тонн монолитных скал, будет доведена до
Си-Понджа и дальше -- до самых верховьев Бартанга, откуда ее нужно будет
продолжить по Восточному Памиру до стыка с Восточно-Памирским трактом, тогда
канет в прошлое географическая изолированность Бартанга--последнего и
единственного населенного района Памира, куда сегодня еще не может
пробраться автомобиль.
Люди Бартанга в своем самосознании, в своем культурном развитии уже
давно переросли высочайшие свои горы, им тесно в сдавливающих их быт и
потребности узких ущельях, они не хотят покоряться слепой природе, они не
верят больше в духов гор, некогда представлявшихся им всесильными, они хотят
знания и ищут знания, они советские люди, им горько, что такая глупость,
такая случайность: невозможность проехать к ним на автомашине, невозможность
улететь из Си-Понджа по воздуху, потому что в их ущельях не может сесть
самолет, мешает им жить так же, как живут все в Советской стране, как живут
теперь их соседи -- рушанцы, шугнанцы, ваханцы, ишкашимцы, горанцы -- все
горные бадахшанцы, разъединенные прежде на мелкие народности, на
разноязычные (враждовавшие между собой) племена, а теперь равноправные,
такие же, как все таджики, члены единой огромной семьи строителей
коммунизма. Я не встречал бартангца, который с горечью не говорил бы мне об
отсутствии в их районе автомобильной дороги, который с радостью и надеждой
не предлагал бы свои собственные проекты этой дороги добавляя: "Вот только
привезли бы сотнюдругую тонн аммонала!"
Я знаю, что могут бартангцы, я наблюдал их тягу к знанию, их поистине
всесильную волю к труду!
Вот -- простите, читатель, -- еще несколько цифр, характеризующих рост
урожайности зерновых во всех десяти колхозах района:
В 1941 году урожай зерновых был 5 228 центнеров.
В 1942 году, когда многие бартангцы ушли на фронт, -- 4 617 центнеров.
В 1943 году -- 4 636 центнеров.
В 1944 году -- 5047 центнеров.
В 1945 году, когда зима была необычайно суровой и снег в долинах лежал
до апреля, -- 4 117 центнеров.
В 1946 году -- 5 004 центнера.
В 1947 году -- 6 100 центнеров.
В 1948 году -- 7 305 центнеров.
В 1949 году --8 242 центнера.
В 1950 году -- 8 000 центнеров.
В 1951 году, когда снег лежал почти до мая, а лето было дождливым,
обильным обвалами и камнепадами, -- 7 000 центнеров.
В 1952 году -- 10 500 центнеров.
Во всем районе в том же году распахано 810 гектаров земли, сенокосов на
поливной земле -- 180 гектаров, а на богарной (неполивной) -- 1 000
гектаров, садов в районе -- 28 гектаров, кустарников на колхозной земле --
10, а на земле лесхоза -- 30 гектаров, бахчей и огородов -- 10 гектаров.
Во всем районе к дню, когда я приехал в Си-Пондж, к сентябрю 1952 года
было 1 775 избирателей!
Мало на Бартанге людей и мало у них земли, потому что горы тесны,
высоки, скалисты и дики. Каждый квадратный метр земли нужно очистить от
снежных завалов, от навалившихся со страшных высот камней, вспахать без
всяких машин, потому что машины не могут двигаться на крошечных клочках
посевов, круто наклоненных, нависших над пропастями. Каждый метр новой,
впервые осваиваемой земли нужно вырвать у скал, оросить водой, проведенной
по крутым и отвесным скалам.
Но у меня есть цифры, которые я предлагаю сравнить с только что
приведенными. В 1926 году, при составлении "хозплана" Горно-Бадахшанской
области, впервые были собраны точные данные о Бартанге. Вот они (я позволил
себе только произвести перерасчет с десятин на гектары). Число хозяйств:
398. Занимаемая ими площадь -- 335, 07 гектара. В том числе в процентах:
пашня -- 70, 35; усадьбы -- 6, 56; травы -- 11, 59; сады2, 7; пустует 8, 8.
А хозяйств в 1952 году во всех десяти колхозах было 469, то-есть на 71
больше.
Увеличить посевную площадь на один гектар -- значит совершить подвиг,
подвиг бесстрашного, упорного, вдохновенного труда!
С величавой гордостью, как о выигранных тяжелых сражениях, рассказывали
мне колхозники на Бартанге:
-- В нашем колхозе имени Карла Маркса мы построили новый канал
Шамор-Сафэд-Дара. Мы построили его за год --
в тысяча девятьсот сорок восьмом и сорок девятом годах. Канал тянется
на одиннадцать километров! Без техники и без руководства, -- мы сами его
построили. Вот слушай, товарищ! Он идет на птичьей высоте над долитой.
Мирзо-Мамадов, Назар, -- наш раис; председатель колхоза строил, потому что
техник из Хорога пришел, посмотрел, отказался: "Невозможно здесь строить
канал!" А мы собрались вместе с раисом, сказали: "У нас земель нет: или
умирать, или строить!" Ты слушай, ты всем расскажи, товарищ: у нас было пять
гектаров земли в колхозе, разве это колхоз? Мы год канал строили и через год
кончили, и у нас теперь триста гектаров земли, но воды хватает только на
пятьдесят. Мы эту землю освоили, она у нас в котловине, труда много
расходуется, надо тонко воду пускать, наши люди на каждом клочке земли
сидят, управляют водой, как нитку в иголку вдевают. Сады у нас не растут --
слишком высоко мы, под самым ледником, в октябре уже снега. Мы сеем пшеницу,
ячмень, горох, мы собираем разные урожаи, когда хорошая погода, когда много
солнца, -- лед тает и воды много. Когда плохая погода -- воды нет, мы только
слушаем ветер и слышим, как трещат на морозе льды.
Ты понимаешь, товарищ, что такое наш колхозный кишлак Басит? Раньше мы
думали: духи гор, когда вниз под землю по узкой щели опускались, поставили
наш кишлак на половине спуска в ад, чтоб было им где во тьме ночевать по
дороге в ад, а нас в этом кишлаке поселили, чтоб мы, как в гостинице, их,
нечестивых, кормили! Мы только вниз, как в дыру, в темный ад, и смотрели,
сами были голодными! А теперь мы смотрим наверх, мы смотрим на солнце, от
самого солнца мы воду к себе провели. Поживи у нас год, товарищ, послушай,
как под солнцем тают над нами льды!
И еще в Савнибе мы другой канал провели в два километра длиной, оросили
четыре гектара, земля каменистая, мы сеем на ней люцерну, трижды в год
косим, а в этом году косили четыре раза, потому что почва уже укрепилась и
влажности стало больше. В сорок девятом году мы строили этот канал.
В нашем колхозе всего шестьдесят пять хозяйств, мы все ив Басита за
сорок пять километров ходили, в такое ущелье, где только барсы бегали
раньше, -- мы построили там наш большой канал Шамор-Сафэд-Дара, одиннадцать
километров течет по нему вода!
Ты понимаешь, товарищ? Одиннадцать километров мы оторвали у горных
духов из той их дороги в ад, и теперь духи не могут перепрыгнуть через эти
одиннадцать километров, и мы сказали духам: пускай сидят в аду, как в
тюрьме, а наша советская жизнь -- человеческая, мы смотрим на солнце! А
когда автомобильная дорога дойдет до нас, когда нам привезут сто
тонн аммонала... ий-о, товарищ, сколько у нас будет земли тогда!..
И секретарь райкома Курбан-Ассейнов к этому рассказу добавил:
-- Они правильно говорят. Кишлак Басит может получить в верхней части
ущелья еще двести гектаров земли, если речка Девтох-Дара, которая сейчас
уходит в Бартанг, будет перехвачена каналом, который отведет от нее воду к
верхнему дашту кишлака Басит. Нужен аммонал, тонны четыре. Если все это не
будет делаться, то останется один выход: переселить верхние колхозы в другие
районы республики, а райцентр Си-Пондж соединить с Рушанским районом, это
будет лучше, чем здесь на спинах таскать сейфы по сто шестьдесят
килограммов. Экономически невозможно работать здесь, если не будет
автомобильной дороги...
Вот кишлак Вринджав, в колхозе "Социализм", -- некоторые называют этот
кишлак Шуроабадом, потому что он построен при советской власти. Проложили
колхозники канал в один километр длиной; прямо из реки Бартанг он забирает
воду, орошает пять гектаров, и сеют на них ячмень и пшеницу. Эта земля ниже
кишлака Рошорв, центрального кишлака колхоза "Социализм". Поэтому на ней
после того, как ее оросили, растут абрикос, и тополь, и ива, а пшеница
вызревает на двадцать дней раньше, чем в Рошорве. И потому люди могут
соблюдать очередность во времени и обеспечивают колхоз зерном раньше, чем
получают его в Рошорве.
Вы скажете, канал маленький, только один километр? Но потребовал он
много трудов. Еще в 1932 году орошорцы пытались строить его, но не вышло.
Взялись снова в пятидесятом году и кончили, потому что нам удалось забросить
туда сто килограммов аммонала и прислать техника из райводхоза. Половину
канала провели по склонам, половину -- по песку, закрепили его колючкой
(по-бартангски она называется ш а х г, по-шугнански -- ш у у д, по-таджикски
-- хор), вот этой колючкой. Одно плохо: канал -- на левом берегу Бартанга, а
Рошорв -- на правом и в двенадцати километрах от берега, в боковом ущелье.
Поэтому требуется мост через Бартанг, нужен трос, а пока колхозники, чтобы
поливать новую землю, переплывают Бартанг на с а н а ч а х, или,
по-здешнему, на з и н о т ц, --на надутых козьих или бараньих шкурах.
... Мы беседовали у ручья, под тутовым деревом, сидя на разостланном
шерстяном паласе. Колхозники щелкали камнями абрикосовые косточки, ели
ядрышки, угощали меня. Самый старый колхозник, белобородый, одетый в рыжий
глим, с умным и добрым лицом, разливал по пиалам чай и, прикладывая
морщинистую, коричневую руку к сердцу, другой передавал пиалы
гостям. Я записывал историю постройки каждого из каналов Бартанга, -- я
знал кишлаки Бартанга и хорошо представлял себе, где и как трудились
колхозники, прокладывая эти каналы. Я записал больше десятка таких историй,
в каждой из которых были свои герои. Я узнал, что все колхозы Бартанга имеют
теперь своих техников-ирригаторов и подрывников, что взрывчатка для
колхозников теперь самый драгоценный дар, помогающий им твориггь чудеса. Я
узнал, что на каждый гектар они кладут теперь по двадцать пять -- тридцать
тонн навоза и поэтому урожайность их маленьких полей поднялась; что новая
агротехника применяется в каждом колхозе; что организация труда с каждым
годом становится лучше; я узнал многое о воле к труду и о любви к труду
бартангских колхозников, живущих в таких тяжелых условиях, какие колхозники
наших полей даже представить себе не могут. Жизнерадостные,
доброжелательные, веселые, они знают, что надо делать, чтоб лучше жить, они
не требуют помощи, но эта помощь им очень нужна.
Разговор наш был мирным, спокойным, но вот к нам подошел пожилой
мужчина в ветхом бартангском глиме. В руке подошедшего была тяжелая горбатая
палка, сам он был прям и суров, его здоровое, продубленное солнцем и горными
ветрами лицо казалось лицом русского колхозника откуда-нибудь из-под
Астрахани или Калуги, -- в этом лице не было ничего "восточного", даже глаза
бартангца были голубовато-серыми, губы -- мясисты, нос -- прям и широк, и
только по одежде -- по глиму, по выцветшей, неопределенного цвета тюбетейке
да по сыромятной обуви -- пехам в нем можно было определить горца.
Полный достоинства, он поздоровался с Курбан-Ассейновым, и со мной, и
со всеми, кто вместе с нами полулежал или сидел на паласе, под добрым
тутовым деревом, постоял, послушал наш разговор, а потом грузно сел, положил
палку поперек колен, сложил поверх нее свои сильные, заскорузлые руки и,
выждав паузу в нашей беседе, оказал:
-- Хорошо!.. Все хорошо у нас на Бартанге! А по-моему, не все хорошо! Я
вижу, ты, секретарь, не все приезжему товарищу говоришь. А ты говори ему
все, нам от этого польза будет! Если товарищ из Москвы, он так просто
глотать слушанное не будет. Он кому надо скажет, ему радиотелефон не нужен,
ему бумажку с печатью писать не нужно. Он сам приедет в Сталинабад и приедет
в Москву, своим языком расскажет. Пусть там рассудят! Вот! Я пастух, ты
знаешь меня хорошо. У нас на Бартанге план сто сорок тонн сена, а мы можем
накопить столько? Неправда! Не можем. Шестьдесят тонн -- это хорошо.
Семьдесят тонн, это всего больше. Колхозный максимум! Вот!
Он так и сказал: "максимум", и я удивился, откуда на Бартанге стало
известно такое слово. Он продолжал:
-- Поголовье скота у нас планируется на сто сорок тонн сена, а косим мы
в два раза меньше. Потому -- падеж! Сенокосы вспахали под пашню. Это хорошо?
Нет, плохо, если падеж скота. Мы должны расширять люцерну в орошать новые
земли, иначе каждый год десять процентов, пятнадцать процентов окота мы
будем терять, понимаешь, нехватка кормов! Что получается? Личный скот
колхозники продают колхозу, потому что сами не могут прокормить. Это
законно? Нет такого закона, неправильно это!
Посмотри на эту гору туда! За горой -- Язгулем, такое же место, как наш
Бартанг, в самой верхней части хорошие пастбища есть, долина Рохдзау. Кругом
лед, снег, сверху льется вода, внизу, как в чашке, -- кругло, тепло:
долина!.. Язгулем, ты знаешь, принадлежит не нам -- Ванчекому району,
Ванчский район пастбища Рохдзау отдал Рушану, потому что из Ванча через горы
туда невозможно ходить. А ты думаешь, из Рушана возможно? От самого Пянджа,
по всему Язгулему вверх надо пройти, а дорога там хуже нашей тропы. Из
Рушана скот не ходит туда...
Нам через перевал Биджраф туда день пути. А мы скот гоняем... ты,
товарищ, знаешь, что мы скот гоняем к Кара-Булаку, за двести километров, за
Сарезское озеро? Мы можем там половину нашего окота держать, пастбище
хорошее, но двести километров по такой дороге гонять, как ты думаешь, что от
окота останется?
Так что же ты предлагаешь? -- перебил пастуха КурбанАссейнов. -- В
Рохдзау тоже нельзя гонять, ведь перевал Биджраф месяца три проходим,
остальное время закрыт снегами!
Это правильно! Рохдзау -- тоже нехорошо! -- невозмутимо согласился
колхозный пастух. -- Я предлагаю... Я предлагаю скот на машинах к
Кара-Булаку возить, и продукты возить на машинах, и самим на машинах ездить!
Рохдзау я предлагаю, как временную меру, а потом -- все на машинах, ты
слушай меня, секретарь, мы не в старое время живем, чтобы груз на себе
таскать. Вьючного скота у нас, сам знаешь, сколько: тридцать лошадей,
шестнадцать верблюдов, двести ишаков, а нам надо на Бартанг одной муки сто
пятьдесят тонн привезти, нам надо привезти на два миллиона рублей остальных
грузов. Мы половину груза таскаем на плечах. Если ты секретарь, ты должен
ночи не спать, хлеба не есть, с женой не разговаривать, пока не добьешься,
чтобы нам здесь построить дорогу. Большую дорогу. Для сильных машин дорогу!
Как везде на Памире, такую! Вот что я предлагаю. А не с этой палкой ходить.
Я эту палку внуку
хочу оставить, чтоб он по могиле твоей стучал, если ты не добьешься для
нас дороги!
Все рассмеялись, Курбан-Ассейнов тоже. И сказал пастуху сквозь смех:
Когда ты подошел сюда, мы о дороге и говорили!
Не говорить надо, делать дорогу надо! -- сухо и коротко произнес
пастух, встал, поклонился всем и, не оглядываясь, пошел дальше.
И смеха как не бывало. Мы все задумались. И мне стало ясно, что когда
речь заходит о том, какая же именно помощь нужна Бартангу, то надо говорить
прежде всего о дороге. Бартангу необходим пусть хоть очень извилистый, пусть
хоть очень опасный и трудный, но автомобильный тракт!
Я не сомневаюсь: эта дорога будет построена.
И тот, кому через немного лет доведется сесть в Мургабе в пассажирский
автобус и за один день проехать все двести километров бартангской долины,
пусть вспомнит все, что рассказано мною на этих страницах, как сам я теперь,
разъезжая на автомобиле по другим районам Памира, вспоминаю длинные и
трудные верховые и пешие маршруты, совершенные мною по этим районам четверть
века назад, когда ни один автомобиль еще не пробирался на казавшиеся
недоступными для колесного транспорта памирские выси.
К этому остается добавить: в 1951 году, в бартангский кишлак Имц, на
"Победе", которую вел курган-тюбинский таджик, шофер Одинаев, приехал из
Хорога партийный работник В. Е. Медведев. С тех пор автомашины, грузовые и
легковые, стали обычным способом сообщения Имца с остальным миром.
Кишлак Имц -- начало пути по Бартангу. От Имца до СиПонджа остается
всего тридцать пять километров! От Имца до Кудары -- сто шестьдесят пять!
Молодость
Сначала мы ходили по саду, по тому колхозному саду, что расположен под
конгломератовою стеною древней речной террасы, -- садовник Ясаки-Муборак
Кадамов, житель Си-Понджа, член колхоза "Большевик", худощавый, бородатый,
степенный, и две молодые учительницы средней школы имени Сталина. Одна из
девушек -- рушанка Зулейхо Тахойшоева, комсомолка, окончившая педагогическое
училище в Хороге, была учительницей второго класса. Вторая -- Назар-Малик
Шабозова, член партии с трехлетним стажем, родилась в СиПондже, училась в
Си-Пондже, а сейчас, уча школьников четвертого класса по всем предметам,
сама продолжает учиться: она заочница Хорогского педагогического училища.
Обе девушки, загорелые, здоровые, носили, по бартангскому обычаю,
красные шерстяные косы, которые были вплетены в их собственные косы,
скинутые с плеч на грудь... Такие привязные косы -- кюльбитс -- сбрасываются
вперед только девушками. Замужние молодые женщины закидывают их за спину;
пожилые замужние женщины вместо красных кос вплетают черные и тоже носят их
за спиной, а вдовы перекидывают свои черные привязные косы вперед. Это
древний обычай, соблюдаемый и поныне не только на Бартанге, но и в некоторых
других районах Горного Бадахшана.
Обе молодые учительницы были одеты и украшены по всем бартангским
правилам: от белого платка, называемого на Бартанге и в Рушане -- циль, а в
Шугнане тит, наброшенного поверх п а к к о л (узорчатой тюбетейки), до
красных ситцевых шальвар (по-бартангски т а м б у н, по-таджикски лозме и
изор), от черных с красными вкраплениями бус (цемак), плотно охватывающих
горло, до больших ожерелий, спускающихся к животу (с о х г и) и отличающихся
от обыкновенных ожерелий (марджони) именно своей длиной, до латунных
браслетов, что называются у таджиков дастбанда, ау бартангцев парзист, и
колец (ч и л л я -- по-бартангски и по-шугнански, или по-таджикски).
Обе девушки были хороши и естественны в своих национальных платьях,
свободно облегающих фигуру и не мешающих вольным и плавным движениям.
Они ходили со мной по саду, слушая объяснения садовника Ясаки, а когда
он заметил, что они устали, он сорвал огромную спелую дыню и, предложив нам
сесть на траву, взрезал ее кривым ножом.
И как раз подоспел председатель колхоза "Большевик",
тридцативосьмилетний, но, к сожалению, малограмотный, окончивший только
ликбез, Ак-Назар Сафаров, член партии с тридцатого года, комсомолец с 1925
года. Для Бартанга это огромный, удивительный стаж, потому что в те годы
партийцев и комсомольцев на Бартанге, за единичными исключениями, не было.
Ак-Назар Сафаров, преданнейший советскому строю и Коммунистической партии
человек, сделал очень много для населения Бартанга. И будь он более
грамотным, сделал бы еще больше!
Председателем колхоза он избран в 1938 году, и никто не скажет, что он
плохо руководит колхозом: уважение, которым он пользуется, искреннее и
всеобщее, потому что он был и остается новатором.
26 П. Лукницкий
Это его идея была -- создать в Си-Пондже колхозный сад. Это он
самолично учил на практике премудростям садоводства Курбона Бахтаалиева,
который сейчас пришел с ним и сел возле меня и с аппетитом ест протянутый
ему садовником Ясаки ломоть дыни. И молодой ученик председателя, Курбон
Бахтаалиев, -- ему и сейчас-то всего двадцать пять лет, -- был выбран
бригадиром садоводческой бригады уже в 1948 году; перед тем, после окончания
семилетки, он был бригадиром по зерну.
Мы ели дыню. И ели персики, принесенные нам в тюбетейке садовником
Ясаки, и вставали, и осматривали деревья и их плоды, и присаживались снова,
и постепенно я все узнавал о саде.
Прежде в Си-Пондже было, например, только два сорта абрикосов:
"сафэдак" и "цоузнуляк". Других не было. В 1948 году из Хорогского
ботанического сада были привезены саженцы лучших сортов: "мамури", "руми",
"чапарак", в 1950 году -- "раматуллоэ" и "гуро-и-балх". Все эти сорта стали
вызревать в саду, кроме единственного невызревшего сорта, называемого
"хинакнош". В этом году посадили пятьсот абрикосовых деревьев, а всего в
саду больше трех тысяч.
Персиков в саду -- сорок деревьев, трех сортов, вызревающих один после
другого, яблонь триста, а среди них питомцы Ботанического сада "гуломади" и
"самарканды" -- сорта, которых прежде здесь не было. Тутовых деревьев --
пять тысяч, а старых в этом саду было всего семьдесят штук. Старые были трех
сортов -- "аслитут", "бедона" и "чаудуд". Все семь новых сортов, дающих
теперь здесь отличные урожаи, доставлены из Ботанического сада. Это "шатут",
"чаудуд", "тыыр-дуд", "нирдуд" и другие. Все пять тысяч деревьев, кроме
посаженных в последние три года, дают плоды, -- ведь тутовник дает плоды на
четвертый год. В этом году из Хорога привезено шестьсот саженцев и из
питомника, что есть теперь в семи километрах выше Си-Понджа, в Дарджомче, --
четыреста саженцев, и все пошли хорошо.
Тутовник в Си-Пондже теперь нужен и для шелководства, которое стало
развиваться на Бартанге с 1938 года, но тогда общественного шелководства
здесь еще не было, появлялось только личное, в отдельных хозяйствах.
Колхозное шелководство на Бартанге началось с 1951 года, началось оно с
тридцати коробок грены, из которых выращено и сдано было девятьсот пятьдесят
килограммов коконов. В 1952 году было тридцать восемь коробок грены, и к
тому сентябрьскому дню, когда я осматривал этот сад, сдана была ровно тонна
коконов, а надлежало сдать по плану еще четыреста килограммов. Выкормка
червей пока производится колхозниками на дому, общественной червоводни здесь
еще нет, но дело развивается все успешнее, и председатель колхоза заверил
меня, что на следующий год
на Бартанге будет построено три червоводни: в Си-Пондже, в Висау, в
Дарджомче.
Груш в саду -- двадцать, они росли здесь и раньше; грецкого ореха в
Си-Пондже было шестьдесят деревьев, из них два росли прежде тут же, в саду,
а осталось всего тридцать -- остальные деревья погибли. Дыни и арбузы
созревали в СиПондже издавна, но с 1950 года, когда из Хорога, из Поршнева,
из Рушана колхозники стали доставлять сюда семена улучшенных местных сортов
дынь -- "андалак", "тукча", "дурух-дуст", дынь стало не только больше, но
они стали вкуснее, сочнее. Завезен сюда и кормовой сорт арбуза (длинный),
которого здесь прежде не было.
В 1948 году завезена сюда была первая слива (тэрмива), которая прежде
росла только в ишанском саду в Падрузе. Теперь сливовые деревья размножены,
их уже полсотни, но плодоносит пока только одна -- черная слива. В колхозных
огородах Си-Понджа есть теперь помидоры, капуста, морковь (зардак) и никому
неведомая здесь прежде свекла (ляблябун), лук и два гектара картофеля. Все
эти огороды впервые появились перед Отечественной войной.
-- С апреля мы хотим все пахать, -- объяснил мне председатель колхоза,
-- пахать под деревьями, а межи убрать; хотим убавить декоративных деревьев,
на их место посадить плодовые; хотим создать новый сад на той стороне реки,
пересадить туда деревья из загущенных мест; раздадим много деревьев другим
колхозам из наших питомников. Все это мы делаем под руководством нашего
местного агронома Аюба, который родился в Рушане, а теперь живет здесь. К
нам теперь часто приходит и агроном из области, а постоянно нами руководит
здесь начальник райсельхозотдела, -- он живет здесь, рядом с садом, в
Си-Пондже... Вот так мы работаем здесь, всего этого не было раньше, -- ни.
сада, ни огородов, ни агрономов, ни колхоза, ни воды, ни семян, ни саженцев,
ни орошенной этой земли. Мы создали этот сад по инициативе райкома и
исполкома, мы решили это дело на правлении и на общем собрании колхозников,
мы всем колхозом занимались садом в первый, 1948 год. А теперь каждый год мы
выбираем садовую бригаду, -- вот теперь работает бригада Курбона
Бахтаалиева, но у сада есть свой постоянный садовник, -- вот он, Ясаки, а у
бригады, кроме этого сада, есть и другие сады, в других кишлаках колхоза.
Беда наша только в том, что мы не можем реализовать урожай, потому что вывоз
фруктов отсюда невозможен, -- некуда вывезти их для продажи... Вот колхозы
Ванча вывозят на машинах свои фрукты в Хорог, а что делать нам без дороги?
Если б хоть до низовьев Бартанга возить, до Шуджана, там у парома можно было
бы открыть чайхану...
Опять -- в который раз! -- разговор о дороге!
Из сада я иду к зданию средней школы. Хорошее здание, и мне
удивительно, что школа в Си-Пондже не начальная, не семилетка, аполная
средняя, то-есть десятилетка! Здание школы построено в 1935 году -- сначала
в нем был интернат. Сейчас с интернатами дело обстоит плохо, считается, что
раз население живет теперь зажиточно, то интернаты не обязательны, поэтому,
несмотря на просьбы бартангцев, на это дело министерство не отпускает
средств. И все-таки интернаты в других районах Горно-Бадахшанской области
существуют. Они есть в Мургабе, на Ванче, в Ишкашиме, в Шугнане; на Гунте,
например, в кишлаке Дебаста. Там всюду, кстати, есть теперь и автомобильное
сообщение. А вот на Бартанге интерната нет. И это неправильно: кишлак от
кишлака отстоит далеко, зимою сообщение между кишлаками вообще прерывается,
где же жить и где питаться школьникам старших классов, которые учатся в
средней школе Си-Понджа, собираясь сюда со всего Бартанга? Хорошо,
колхозники Си-Понджа распределили их по своим семьям, приютили их, школьники
сыты, обуты, одеты, но не потому, что о них позаботилось министерство
народного просвещения, а потому только, что колхозники Си-Понджа --
советские люди, которые не могут не помочь им учиться. Но такая практика не
способствует ни успешности обучения школьников старших классов, ни
привлечению детей этого возраста в школу, потому что не все родители охотно
отпускают своих детей, особенно девочек, в чужой дом, в Си-Пондж, где нет
интерната!
После посещения школы я разговаривал в райкоме партии с одним из его
работников. Он сказал мне:
-- Интернаты нужны нам и для младших классов, для начальных школ. По
плану народного хозяйства в начальных школах можно открывать класс, если для
него есть не меньше шестнадцати детей. Это у нас называется
"классокомплект". Что? Вы удивляетесь этому слову. Не по-русски? Ну, я
таджик, я знаю, что это не по-таджикски, а по-русски ли это -- вам видней...
Да, так я продолжаю: а у нас -- бездорожье. Особенно зимой трудно нам.
Обвалы, полная изоляция, даже взрослые не могут никуда выходить из своих
кишлаков. А уж, конечно, можно ли выпустить из кишлака детей! И потому на
каждый класс во многих школах у нас имеется всего шестьсемь детей. По закону
мы не можем открыть класс, но тогда дети останутся без учебы... Мы пока
пооткрывали классы, но боимся ревизора...
Мой собеседник помолчал. Потом, хитро прищурив глаз, посмотрел на меня:
-- Впрочем, пока ревизор доберется к нам, наши дети,
пожалуй, успеют окончить школу!.. К нам не очень-то ездят сюда
работники, даже из обкома. А уж из министерства вообще никто никогда не
бывал!..
... В восьмом, девятом и десятом классах си-понджекой школы в год моего
посещения было семьдесят два ученика, из них двадцать девочек. Старшие эти
классы в школе существуют с 1950 года, до того школа была семилетней. В
числе тринадцати учителей школы три учительницы -- таджички, одна --
русская; большинство учителей имеет неполное высшее образование, которое
получали в Хороге, в Самарканде, в Сталинабаде. Директор школы
Соиб-Назар-Давлят Мамадов, из кишлака Раумид на Бартанге, два года учился в
Сталинабадском педагогическом институте и теперь продолжает учиться в нем
заочно.
Кроме этой десятилетки, в кишлаках Бартанга есть еще шесть семилетних и
двенадцать начальных школ, -- это значит, что на всем протяжении до сих пор
труднодоступной долины не найти колхоза, в котором не было бы примерно двух
школ или в среднем по одной школе на каждый кишлак, хотя бы находящийся в
почти неприступных ущельях.
Окружившие меня учителя и ученики школы охотно назвали мне всех
бартангцев, уже имеющих высшее образование. Среди них Нодыр Карамхудоев из
Раумида, учитель, окончивший литературный факультет педагогического
института в Сталинабаде; Карам Шодыев из Си-Понджа -- учащийся в высшей
партийной школе в Москве; Абдул-Ассейн Кульмамадов из Раумида, оканчивающий
Центральную комсомольскую школу в Москве; двенадцать человек учатся в
Сталинабадском педагогическом институте, один -- в республиканском
университете, девять -- в сельскохозяйственном институте, трое -- в
медицинском институте, трое в юридической школе, в разных техникумах --
больше сорока человек!
И это люди того самого Бартанга, о неприступности, дикости,
отдаленности которого даже на самом Памире еще недавно ходили легенды!
Я побывал на занятиях в школе, послушал толковые ответы смышленых,
быстроглазых учениц и младших и старших классов, послушал отрывок из книги
Ильина "Наша Родина", прочитанный перед доской шестиклассницей Алиоровой, --
она держала книгу двумя руками, стоя, немножечко запинаясь от смущения,
чистенько, по-городски одетая. А потом пересказывала прочитанное; и на
вопрос, чем богата наша Родина, отвечала: "алюми", желая сказать
"алюминием"; "светные металлы", желая сказать "цветные", но это были ошибки
произношения, а по существу ее ответы были обстоятельны, правильны и
толковы.
И когда орава детей, веселых, щебечущих, здоровых, чисто и опрятно
одетых, провожала меня до середины кишлака СиПондж, и аллеи, по которым мы
шли, были наполнены радостным детским щебетом, и когда дети по-хозяйски
рассаживались под деревьями, требуя, чтоб я их сфотографировал, и лезли ко
мне на колени, чтоб я и сам с ними сфотографировался, я думал о том
Бартанге, который впервые посетил в 1930 году, -- заповедном горном крае, в
ту пору еще не избавившемся от голодовок, нищеты, болезней, невежества,
предрассудков и суеверий...
Теперь здесь все было иначе. И только дороги, широкой, спокойной
автомобильной дороги сюда, среди диких скал, все еще не было... Но она
будет!..
Об одном постановлении
Уже когда этот очерк был мною написан, я узнал, что постановлением
Верховного Совета Таджикской ССР Бартангский район в Горно-Бадахшанской
автономной области ликвидирован -- он слит с Рушанским районом. Таким
образом, СиПондж перестал быть районным центром. Отныне там будет только
сельский Совет.
Вероятно, для такого решения у правительства Таджикистана есть веские
основания. Об одном хочется мне предупредить работников Горно-Бадахшанской
области. Пусть в своих сводках они не пишут теперь, что на Памире нет ни
одного района, куда не были бы проложены автомобильные дороги. Такая
формулировка оказалась бы удобной лазейкой для бюрократов и формалистов: "На
Бартанг дороги нет?.. Позвольте, позвольте же, такого и района на свете не
существует!.. " Нет! Пусть будет иначе. Пусть работники области сделают так,
чтоб иметь право сказать: "У нас в области нет ни одного сельсовета, куда не
мог бы проехать автомобиль". И пусть прямо говорят: какую заботу область
проявляет о долине Бартанга и об ее жителях?
Потому что люди Бартанга -- живые, энергичные, жадно стремящиеся к
знаниям и к культуре, борющиеся за коммунизм, как и люди всех других районов
Советской страны. Они заслужили неподдельного к себе внимания, искренних о
себе забот и ничем не затуманенного светлого будущего!
Они заслужили большего, чем восемь строк в Большой советской
энциклопедии!
Рисунок сделан автором 28 августа 1930 года. Изображения животных,
высеченные на мраморной скале перед кишлаком Зарджив, на Бартанге.
плывут по отдельности, оба сразу, в бурунах волны их вертят и окатывают
с головой; все их пожитки, прикрученные к голове, промокли.
Идем в Аджирх по тропе. Против Аджирха, по правому берегу -- отвесная
скала, метров триста, над рекой.
-- А вот смотрите, что ожидало бы вас, если б мы не переправлялись на
турсуках, а выбрали бы другую дорогу, -- сказал мне Юдин, когда мы пришли в
Аджирх.
Вглядываюсь в стену отвесного обрыва, замечаю намеки на тропу, -- как
по ней итти и не представляю себе. В 1928 году по этой скале поднялись Н. П.
Горбунов, Д. И. Щербаков, Юдин и два их спутника".
В пути вверх по Бартангу мы столько раз подвергались опасностям на
оврингах и так измучились, преодолевая каждый из них, что ни я, ни Юдин не
удивились предложению Ходжа-Мамата: совершить обратный путь там, где это
возможно, на турсуках. Я сразу же и охотно согласился. Мы отлично понимали,
что если говорить об опасности... конечно
же, путь на плоту из бараньих шкур по стремнинам Бартачга не менее
опасен, чем путь пешком по оврингам, но зато никаких физических усилий,
никакого перенапряжения сердца! И главное -- быстро!
Мы долго советовались по этому поводу с жителями кишлаков Верхнего
Аджирха и Зарджива, но выяснили, что вниз до Си-Понджа и далее до Багу
спуститься по течению на плоту немыслимо. Не в человеческих силах вынести
плот из стремительного течения перед перепадами, какие надо было бы обходить
по берегу. Но от Багу до низовьев Бартанга перепадов нет, и на том участке
воспользоваться советом ХоджаМамата можно.
Поэтому весь обратный путь -- до кишлака Багу -- мы совершали пешком.
Все овринги повторились, с той лишь разницей, что овринг Овчак на этот раз я
прошел без чьей бы то ни было помощи, а перед Падрузом мы обошлись без тех
двух переправ, какие избавляли нас от необходимости пересекать
отвратительную, исполинскую осыпь, где всякий прохожий, нарушая равновесие
камней, невольно создавал такой камнепад, от которого отбежать было очень
трудно. На обратном пути мы одолели и эту осыпь, запасшись, по совету
бартангцев, длинными палками, которые помогали нам "грести" в щебнистом,
осыпающемся склоне. В этом месте все шли поверху, а я, идя впереди, выбрал
себе другой путь: под осыпью, по воде, и едва не был унесен Бартангом,
потому что зыбкая ссыпь продолжалась и под водою. Держась за береговой
склон, я обрушил на себя щебень и мелкие камни, но все же сумел уклониться
от последовавшей за ними каменной лавины. Сильhg перепугав моих спутников,
наблюдавших сверху и выкрикивавших мне какие-то бесполезные советы, я
выбрался из этого малоприятного места самостоятельно.
Кстати, через двадцать два года, в 1952 году, проезжая это же место
верхом по проделанной здесь, но постоянно засыпаемой камнями тропе, я вместе
с лошадью едва не был увлечен камнями в реку и только случайности обязан
своим спасением. Это место на многие годы вперед, при любой
дорожностроительной технике, останется одним из самых опасных на всем
Бартанге.
В Багу мы ночевали под деревом, на глинобитном ложе у ручья. 1 сентября
1930 года я записал в полевую тетрадь:
"Всю ночь -- сильный ветер, низкие облака, закрывающие горы, порывами
-- дождь. Спали под одеялами, было холодно. С гор падали камни. Проснулись
рано, ночь для меня была почти бессонной из-за скверного самочувствия и
головной боли.
Поедем ли на турсуках? Но бартангцы не возражают против плавания в
такую погоду и готовят плот. Значит, плывем. Не завидую им. Плот из
жердочек: десять в одном направлении, три -- в другом.
Наши три носильщика со всеми вещами ушли в Шуджэн по оврингам.
Управлять плотом взялись три жителя Багу. Еще с вечера они разошлись
собирать турсуки, -- к утру принесли: часть из Рида, часть из Имца, да
несколько нашлось здесь, в Багу. Набралось десять турсуков на плот и два --
для пловцов.
Тучи бродят, пасутся по горам, как животные. Дождь, сыро, мокро,
скользко, холодно, серо. Плот готов. Идем к реке и переходим вброд несколько
ручьев. На плот настилают два снопа сена, кладут сверху нашу войлочную
кошму, и мы садимся. Два бартангца, закрутивших за шею свои глимы (суконные
халаты), в которые закручена и обувь, оседлывают два турсука и, оказавшись
по живот в студеной воде, толкают наш плавательный снаряд. Мы отплываем. Я
-- в свитере, Юдин -- в зеленой рубашке... Третий бартанжец сидит на плоту
между нами.
Затычки в турсуках на этот раз более "совершенные": катушки из-под
ниток, затыкаемые палочками.
Плывем. Турсуки шипят, выпуская воздух. Бартангцы фыркают, загребая
ногами. Все трое -- и те два, что ведут наш "корабль", и тот, что сидит с
нами на "палубе", прикладываются ртом к катушечным вентилям и поддувают
турсуки на ходу.
Скалистые берега стремительно мчатся мимо. На бурунах нас подбрасывает
и обрызгивает. Мы идем со скоростью быстроходной моторной лодки, лавируя
между порогами и камнями. Очень холодно и мокро, даже нам, сидящим на плоту,
а каково нашим "кормщикам"?
Скоро (через полчаса?) -- кишлак Имц. Причаливаем к берегу, дождь
шпарит, мы промокли окончательно. Жидкая грязь. Босиком идем по ней, потом
надеваем мокрые туфли и, пройдя весь кишлак, входим в чод сельсовета.
Сельсовет -- темная комнатушка, одинокие плакаты на стенах, ломаная
скамейка. Разговор с председателем сельсовета, угощающим нас абрикосовыми
косточками и чаем.
Наши пловцы в халатах греются у очага и дрожат. Им готовят атталя
(гороховую похлебку).
В Имце -- 175 жителей. Земли -- "сто пудов в кишлаке и двадцать --
высоко на горе". Там, на горе, нужно бы шашку динамита -- подорвать скалу и
снег: освободится площадь для посева -- еще "сто пудов земли". Но этого пока
не сделано.
Дождь усиливается. Под дождем идем к реке -- опять переходим ручьи
вброд. Жители Имца просят нас посадить на плот
больную женщину, довезти ее до Шуджана. Соглашаемся. Сажаем ее между
нами вместо того, третьего бартангца, который плыл сюда от Багу и которого
мы оставляем в Имце.
Высокие скалы плывут назад, как на экране кинематографа, мысы срезают
ущелья, ущелья меняют горы на горы; вершины -- в облаках, осаждающих снег,
-- крутятся и вырастают одна за другой. Берега плывут стремительно, --
скалы, скалы, чортовы скалы! Перед Шуджаном -- буруны, нас несет и наносит
на них, плот пляшет и прыгает, больную женщину заливает холодной водой, мы
оба стоим на четвереньках, на нашей "подводной" кошме, плот уже почти
погрузился в воду, наши руки рассекают ее; избавленья от воды и холода нет,
но, наконец, на полном ходу мы подходим к галечному берегу Шуджана.
Передаем больную женщину местным жителям, отсюда на носилках ее отнесут
в Кала-и-Вамар, где в восьми километрах отсюда есть недавно открытая
больница. Сами, расплатившись с пловцами, также спешим в Кала-и-Вамар --
пешком, полубегом, чтобы согреться. От русла реки поднимаемся на гору,
форсированным шагом берем перевал, кажется, разорвется сердце, а все еще не
согрелись. Дождь продолжается, но вдали уже виден просторный, весь в зелени
Кала-и-Вамар. Там ждет нас, с нашими вьючными лошадьми больной тропической
малярией наш старший рабочий Егор Маслов... "
Читатель вправе спросить меня: переправляются ли бартангцы через свою
реку на саалях в наши дни?
Да. Этот древнейший способ сообщения и переправ, даже перевозки грузов
существует и ныне. Но в наши дни для пользования саалями становится все
меньше поводов. От Кала-и-Вамара до Шуджана и до Имца ходят автомашины. Выше
Имца -- ни один из описанных мною оврингов не сохранился: вместо них вдоль
Бартанга проходит расширенная, улучшенная аммоналом тропа, по которой ездят
верхом, а груз перевозят во вьюках. Овринги описанного мною типа существуют
только по боковым ущельям притоков Бартанга и по той стороне реки, по
которой не проходит большая тропа. Бартангцы пользуются ими, так сказать,
для "местного сообщения" между соседними кишлаками да между долиной реки и
верхними пастбищами. Но и там все упорнее работает аммонал, потому что и
пастбища и кишлаки Бартанга давно стали колхозными.
В Имце ныне находится центр колхоза "Комсомол", охватывающего также
хозяйства кишлаков Рид, Багу, летовки и пастбища -- от гребня до гребня
исполинских водораздельных хребтов.
Колхозу принадлежит и прежний сад ишана в Падрузе, а единственный
приютившийся на скале над пропастью дом стал теперь колхозного чайханой --
приютом для путников, застигаемых ночью на Бартангской тропе. В колхозном
кишлаке Имц в наши дни расположена база райпотребсоюза, сюда доходят по
новой дороге автомобили; есть теперь в Имце открытая в 1940 году
школа-семилетка, есть библиотека и магазин, есть тридцать радиоприемников,
работающих на батареях, и телефон. На берегу реки зеленеет большой новый
плодовый сад.
Выше по Бартангу расположен колхоз "Интернационал", в Си-Пондже --
колхоз "Большевик", еще выше, в Разудже, -- колхоз имени Энгельса, в Басите
и Аджирхе -- имени Карла Маркса, за ним -- колхоз имени Ленина, а всего по
Бартангу -- десять укрупненных (в 1950 году) колхозов, и верхний из них --
на реке Кударе и на притоке ее -- реке Танымас, под самым ледником
Грумм-Тржимайло, -- колхоз имени Димитрова.
И каждый колхозник Бартанга знает теперь, кем был Димитров, и каждый
школьник Бартанга может рассказать путнику о Марксе и Энгельсе, а школы есть
в каждом колхозе, и нет на Бартанге мальчика или девочки, которые не знали
бы пути в школу.
Си-Пондж
Я хочу рассказать о районном центре Бартанг. Так называется он теперь в
административной переписке и на некоторых географических картах. Но везде в
Бадахшане и прежде всего сами бартангцы называют его попрежнему: кишлаком
Си-Пондж, оставляя общее название "Бартанг" реке, долине, району. На старой
"десятиверстке" -- карте, составленной до революции, кишлак этот назван
"Си-Пяндж", но я предпочитаю произношение местных жителей.
Первый раз в Си-Пондже мне пришлось побывать в 1930 году. Что
представлял собой этот кишлак тогда?
Мы шли от низовьев реки. Мы одолели последний перед Си-Понджем подъем,
-- лиловые породы, миновали высокую террасу. В то время она была пустынной и
неприветливой, не такой, как в наши дни, когда к ней со страшных высот
проведен оросительный канал и она зеленеет пашнями и молодыми садами нового
кишлачка Дашт, выросшего здесь после Отечественной войны. Терраса обрывается
массивным мысом, вдвигающимся в ущелье. Отсюда хорошо виден поражающий своей
грандиозностью шлейф каменной осыпи, под которой, на противоположном левом
берегу Бартанга приютился кишлак
Усавн. Эта осыпь низвергается от самого водораздельного гребня,
возвышающегося над рекой не меньше чем на полтора километра по вертикали.
По тропе, круто падающей со скалы на скалу, мы спустились в долину,
которая лежит между чуть-чуть расширившимися отвесными громадами. Тропа
повела нас вдоль правого берега, сплошь усыпанного камнями, и впереди мы
увидели крутой излук реки, образуемый следующим мысом, протянувшимся поперек
долины. Под ним правобережье реки выгибается неожиданной, почти плоской
площадкой; в здешних теснинах она представляется взору путника просторной,
на ней отдыхает глаз.
Кишлак, располагавшийся на этой площадке в тридцатом году, считался
большим: он состоял из тридцати трех приземистых жилищ, сложенных из
неотесанных камней. Чтобы построить эти жилища, камни не нужно было искать
или нести издалека, достаточно было собрать их на том самом месте, где
решено было сложить стены чода (так местные жители называют свои
примитивные, продымленные дома).
Си-Пондж считался тогда волостным центром: один из тридцати трех домов
был занят волостным исполкомом, другой -- сельсоветом; в третьем помещалось
"милицейское управление". В этом доме жил, представляя своей особой все
"управление", единственный в волости милиционер -- местный бартангский
житель.
По случаю появления в Си-Понджг двух пришельцев с низовьев реки, а
значит, и еще более издалека, наверное из Хорога, сей милиционер произвел
приветственный выстрел. На дверях дома, в котором жил милиционер и
помещалось его "управление", я увидел вырезанное ножом изображение ладони --
символ исмаилитской религии. И милиционер, коренной сипонджец, объяснил нам:
-- Тут жил учитель, он свою руку изобразил!
В четвертом доме помещался магазин Узбекторга, но единственным товаром,
какой мы обнаружили в нем, оказались спички.
Никаких других "учреждений" в Си-Пондже не было. Купы чахлых деревьев
возле нескольких прочих домов кишлака давали жителям тень и мелкие плоды:
яблоки, абрикосы, тутовник. Этих плодов владельцам деревьев хватало на
месяц, на два. Несколько кур, несколько ослов, исхудалых рабочих быков,
три-четыре тощие маленькие коровенки -- вот и все, чем обладали жители
кишлака.
В волостном исполкоме я записал тогда сведения о Бартангской волости,
простиравшейся на двести километров по долине реки от кишлака Имц в низовьях
Бартанга до реки
Кудара, впадающей в нее в верховьях. Эти сведения интересны: во всей
волости насчитывался четыреста сорок один дом, и вот каково было хозяйство
всех двадцати трех кишлаков этой волости в том тридцатом году:
пшеницы на поливной земле было посеяно 952 пуда, а на неполивной,
богарной (такая пшеница называлась ляльм) -- 95 пудов 10 фунтов; ржи (л а ш
а к) --255 пудов 10 фунтов; ячменя (д ж а у) -- 1217 пудов 5 фунтов; гороха
(мах) -- 413 пудов 30 фунтов; проса -- 529 пудов 25 фунтов; капусты (карам)
посажено 1 фунт; картофеля (картошка) -- 2 пуда 3 фунта; клевера -- 3 пуда
20 фунтов...
Больше ничего бартангцы в ту пору не сеяли. Каждое дерево было у них на
счету. Тутовых (т у т) деревьев во всей долине насчитывалось 2 246, яблонь
(м а у н) -- 726, абрикосов (нож) и ореха (г у з) было 2 035 деревьев, груш
(м ар уд) -- 159 деревьев. Подсчитано было и каждое не плодовое дерево, --
их было 7 670 штук.
284 быка (ходж), 174 осла (маркаб), 59 лошадей (в о р д ж), 21 верблюд
(у х т о р) -- вот весь скот, который был записан в ведомостях волостного
исполкома. Поголовье коров и овец в ведомостях обозначено не было.
Мерой веса в ту пору считался а м б а н (5 пудов). Урожай пшеницы в
лучших местах достигал четырех амбанов с пуда, а на плохой земле пуд
посеянного зерна давал не больше одного пуда урожая...
Так беден, так нищ был Бартанг!
Не надолго хватало бартангцам размолотого на примитивных водяных
мельницах зерна. Хлебные или гороховые лепешки считались лакомством. Мясо
люди пробовали только в редких случаях, когда овцы, корова или верблюд
разбивались, сорвавшись в пропасть, или бывали задавлены камнепадом. Вкуса
сахара бартангцы не знали, соль была роскошью, доступной не всем. Большую
часть года бартангцы питались сушеными тутовыми ягодами, из которых
изготовляли подобие халвы (тут-пист), а в зимние месяцы варили траву,
выкопанную из-под снежных сугробов.
Голод и болезни были постоянными, неразлучными спутниками бартангцев.
Лихорадка, трахома, оспа обессиливали людей. Последняя из частых до этого
эпидемий желудочных заболеваний была в 1928 году. Но с тех пор Бартанг все
чаще посещали врачи, в 1930 году в Си-Пондже уже существовала амбулатория, в
декабре 1929 года в Си-Пондж пришел пешком присланный из Хорога врач
Канцевич. Он прожил здесь до июня 1930 года, но, изголодавшись и заболев
сам, не выдержал трудностей существования и ушел в Хорог (в июле, худой,
изможденный, усталый, он встретился мне на Восточном Памире; на чахлой
лошаденке он уезжал навсегда с Памира). В августе, когда я посетил Си-Пондж,
амбулатория была заперта на замок, в Си-Пондже и по всей долине Бартанга не
жил ни один русский человек. В 1930 году однажды приходил в. Си-Пондж только
хорогский дорожный мастер Ступницкий, а за год перед тем, кроме геолога
Юдина с его коллектором Лавровым, приходили сюда из областного центра лишь
техник Беляев да один из членов хорогской партийной организации, Майский.
Так редки, так единичны были здесь в ту пору советские работники!
От последней ночевки, в кишлаке Рид, Юдин и я шли сюда двенадцать
часов, пришли уже в темноте и под дробный грохот бубнов, отгонявший птиц от
посевов, едва нашли в себе сил разостлать у ручья кошму.
Утром, наблюдая солнечные лучи, что радиусами расходились от зубцов
высившегося над нами скалистого гребня, дрожа от холода в ожидании, когда
солнце само выглянет изза горы, мы завели беседу с бартангцами, обступившими
нас. Они курили чилим, передавая его один другому. В отрепьях глимов,
надетых на голое тело, босые, покрытые язвами и болячками -- явным
следствием авитаминоза, исхудалые, истощенные, впалогрудые, они ожидали, что
мы, пришельцы, угостим их хоть какой-нибудь едой. Мы, по совести говоря,
ожидали того же от них, пока шли в Си-Пондж, -- все же "волостной центр"!
Ведь запасы продуктов в наших рюкзаках были почти израсходованы, путь же
вверх по Бартангу, а потом вниз до обильного продуктами Рушана предстоял еще
большой!
Мы "помирились" на том, что стали вместе пить чай, благо вода здесь
кристальной чистоты и прозрачности. После чая Юдин, вглядываясь в
водораздельный гребень левобережья, занялся изучением полосы светлых пород,
повидимому мраморов, я же добивался точности транскрипции и перевода местных
бартангских слов, записывая их в мой путевой дневник.
И снова гремели бубны на крошечных посевах Си-Понджа. Был конец
августа. Неподалеку от нас быки, расхаживая по кругу, вытаптывали из
разминаемых ими снопов пшеницы зерно, и шустрая девочка, понукая скучных,
покорных животных, била их хворостиной.
Все бартангцы в один голос бранили дорогу сюда, говорили: "Дороги нет,
ходить мы не можем. У нас нет ни одного человека, который не голодал бы.
Советская власть должна сделать дорогу. Если не будет дороги -- не надо
тогда и вика и сельсовета, ничего не надо, будем страдать, как в старые
времена!"
А когда чай был выпит, бартангцы начали балаганить, как дети, под общий
смех поливая друг друга из чайника холодной водой.
... И вот я в Си-Пондже через двадцать два года. Я приехал сюда верхом.
Строящаяся широкая дорога в этот последний, еще не "автомобилизированный"
районный центр на Памире доходит до кишлака Имц, дальше, вверх по Бартангу
проложена пока верховая тропа. Она стоила больших денег и многих усилий.
В 1936 году в Си-Пондже был создан колхоз "Большевик"--первый колхоз на
Бартанге. Си-Пондж стал районным центром. Уже издали, сверху, спускаясь с
крутого мыса, я увидел внизу, на дне долины густые сады и посевы кишлака,
разросшегося, заполнившего все полукружие правого берега реки. Белые
аккуратные домики сквозили в листве деревьев. Въехав в райцентр по его
улочкам, мимо конторы связи, вдоль аллеи молодых деревьев и чистеньких
домов, окруженных посевами и садами, я и мой спутник -- солдат-пограничник
Шаламанов, предоставленный мне в качестве конюшего на ближайшей к устью
Бартанга пограничной заставе, привлекли общее внимание жителей кишлака:
заезжие люди и ныне редки в Си-Пондже, путь труден и теперь, хоть и
несравнимы нынешние дорожные трудности с прежними. Русская девушка указала
мне путь к райкому партии. По аллее тонкоствольных тополей я въехал во двор,
засаженный цветами, и остановил коня перед группой бартангцев, которые вышли
из дома, очевидно узнав, что к Си-Понджу приближаются, спускаясь по тропе,
два всадника.
Один из бартангцев -- молодой, с энергичным, загорелым лицом человек, в
костюме, сшитом из синего бостона, при воротничке и галстуке, в
проутюженных, с аккуратной складочкой брюках, -- оказался секретарем райкома
партии, уроженцем Си-Понджа, Абдул-Назаром Курбан-Ассейновым. Его спутники,
столь же чисто, по-городскому одетые, назвали себя, кто работником райкома и
исполкома, кто учителем. Я представился всем. Курбан-Ассейнов дал
распоряжение отвести коней на конюшню и повел меня в белый дом райкома по
длинному коридору (я обратил внимание на потолок, сделанный из тесно
сомкнутых тополевых жердочек). Миновав хорошо обставленный мебелью зал
заседаний, я вошел в маленький кабинет секретаря, увидел письменный стол
буквой "Т", затянутый синим сукном и заваленный книгами, телефонный аппарат,
радиоприемник, на стене -- полку с художественной литературой и пачками
последних газет.
Вслед за мной в кабинет вошел высокорослый мужчина с портфелем и сумкой
через плечо, пожал руку секретарю, сел
рядом со мной, -- это был уже знакомый мне по совместной ночевке в пути
почтальон Шарипов. Он пришел в Си-Пондж пешком, сделав почти одновременно со
мной тот же путь, который я одолел верхом. Вынимая из портфеля пакеты с
печатями, а из сумки -- пачки газет и писем, он передавал их через стол
Курбан-Аосейнову, и тот торопливо распечатывал их.
Через час, на берегу Бартанга, там, где еще не очень давно виднелись
руины старинной крепости и где теперь пестрели цветы в палисаднике возле
хорошего двухквартирного дома, я вошел в мехмонхоне -- комнату для гостей,
устроенную рядом с квартирой секретаря. Перед верандою дома, на хорошо
разделанном огороде, розовели созревающие помидоры, -- никогда прежде на
Бартанге не бывало помидоров! Над этим домом, так же как и над многими
другими, мимо которых я проходил, виднелись мачты телефона и радиоантенны.
В свежевыбеленной, предоставленной мне комнате, с большим окном на
шумливый Бартанг, я увидел две чисто застеленные кровати, стол, накрытый
клеенкой, лампу...
Но провести ночь я захотел все же на вольном воздухе, на открытой
террасе дома, называемой здесь дуккон.
Мой спутник -- солдат Шаламанов провел весь вечер на гулянке,
устроенной в его честь жителями Си-Понджа. Появление пограничника в
Си-Пондже -- редкость. Вся молодежь, включая сипонджских девушек, хотела
оказать молодому солдату внимание; было устроено чаепитие, слышались хоровые
песни и музыка; звуки гармони смешивались со звуками бартангских струнных
инструментов и бубнов, и, во всяком случае, там, под тутовыми деревьями в
центре Си-Понджа, где происходила вечеринка, было очень весело.
... Утро. Лежу на дуккон, обдуваемый свежим горным ветром, который
порывами налетал на меня всю ночь. Надо мною шуршит сухая листва-навеса из
жердочек, из тонких тополевинок; подо мной на обмазанном глиною каменном
ложе вчетверо сложены одеяла, а одним из таких ватных одеял я накрыт. За
спиной только что говорил радиорупор, я слушал Москву, далекую отсюда
Москву, из которой в Си-Пондже за вce времена побывали, может быть, не
больше полутора-двух десятков людей. Громкоговоритель висит над дверью в
дом, дверь открыта, и мимо меня -- тихо-тихо, чтоб не разбудить гостя, --
ходит немолодая, но удивительно грациозная и красивая жена Курбан-Ассейнова,
хлопочущая по хозяйству. Ее зовут Нордона. Вот из дома в белом платье вышла
их дочь, маленькая и тоже безупречно-красивая тринадцатилетняя Ватан-Султан.
В переводе это имя значит: "Властительница родины". Она направилась к реке
мыться.
Передо мной -- огород. Белеют цветки картофеля, розовеют
наливающиеся солнцем, еще зеленые помидоры, растет капуста, которую
громко жует рыжая, с крутыми серыми рожками коза. "Кец-кец!" -- зовет ее
хозяйка, ставя на землю деревянную чашку. По краям огорода -- цветник, в
метр высотой стебли цветов, красных, крупных, как розы, похожих на наши
пионы, и другие -- синие, напоминающие "иван-да-марью".
Коза подошла к грациозной Ватан-Султан, и та, в своем белом платье, в
цветистой красной тюбетейке, с коралловыми бусами на шее, загорелая,
внимательная, присев на корточки, доит козу.
Цветник обведен оградой, сложенной из камней, составлявших некогда
стены крепости, что высилась на этом месте и исчезла навеки. В крепости был
глубокий колодец, вода просачивалась в него под почвой из реки Бартанг, и
потому защитники крепости на случай осады не нуждались в вылазках к реке.
Курбан-Ассейнов, работая на огороде, за год до моего приезда нашел
наконечник стрелы и несколько монет.
Дальше за оградой -- сжатые поля, за ними, полукружьем, поселок
Си-Пондж, деревья его плодовых садов, в просветах между деревьями серые и
белые дома, с открытыми дуккон, с застекленными окнами, с квадратными
башенками-кладовками во дворах. Крыши домов -- плоские, все дома либо
выбелены мелом, либо чисто обмазаны глиной. Как особенность Си-Понджа, редко
встречаемая в других кишлаках, вдоль оросительных каналов устроены под
деревьями открытые "спальные сооружения": глиняные возвышения с бортиками,
куда кладутся одеяла и подушки и к которым в наши дни там и здесь примыкают
поставленные над каналом городские железные кровати, включенные в "спальный
ансамбль". Эти сооружения придают всему поселку очень живописный и какой-то
особенно "домашний" уют, особенно потому, что никаких замков, никаких
запертых дверей в Си-Пондже не существует: здесь чужих людей нет!
За садами, над всем селением (надо запрокинуть голову, чтоб увидеть
вершины гребня) многоярусной стеной встает горный склон, изрезанний, с
осыпями под резкими, скалистыми обрывами. Вершины только что тронуты
солнцем. На моих глазах начинает розоветь весь гребень, затем в просвете
рассекающего склон ущелья солнце зажигает другой, еще более высокий, более
отдаленный гребень. Из розового он постепенно становится серо-солнечным,
светлым, обнажая белые пятна снегов.
На двести метров от дна долины, на которой расположен Си-Пондж, вверх
по вертикали, горный склон составляется отвесной стеною конгломератов, --
это разрез бывшего дна реки, которая некогда текла на эти двести метров
выше. "Заплечики" древней речной террасы -- узкие, плоские полоски древнего
берега -- кое-где сохранились доныне, но в других местах все формы древнего
рельефа погребены под исполинскими каменными осыпями, которые круто падают в
долину из-под самого водораздельного гребня, венчающего весь склон, а внизу
расходятся шлейфами.
В центре полукружия долины, передо мной, обрывок той речной террасы
уцелел, потому что подперт монолитной скалой, которую воде не удалось смыть.
Подобные бастионам старинной крепости, видны разъединенные вертикальными
проМывинами естественные выступы конгломератовой стены. В этих
выступах-башнях зияет с десяток огромных, похожих на бойницы дыр: шесть в
один ряд, одна ниже, еще три в ряд... Это пещеры древних людей. Одна из них
называется "Мобегим бавун" ("Женщина зашла в яму").
Оглядываюсь: такие же и на левобережной стороне Бартанга. В пещерах
сохранились следы костров, об этом мне накануне рассказали сипонджцы.
Ниже и правее стены, впереди меня, поперек осыпи выложена из белых
камней огромная надпись: "Зиндабод хокумати совета!" ("Да здравствует
советская власть!"), а еще ниже, сквозь сады кишлака, белеет здание средней
школы-десятилетки.
Я вижу: Ватан-Султан выходит с другими девочками из соседнего дома (там
помещается районная больница). Все чисто, опрятно одеты, принаряжены, у
каждой в руках учебники, и одна из девочек, проходя мимо меня, глядит в
раскрытую на ладонях тетрадь и что-то шепчет -- повторяет на ходу урок. Две
косички ее раскачиваются, и Ватан-Султан, шаловливо ухватив одну из них,
вплетает в нее синий цветок.
Высоко-высоко, метров на семьсот над кишлаком, выше всех осыпей,
обрывистые склоны тоненьким пояском пересекает ниточка оросительного канала.
Он берет воду в ущелье, глубоко врезанном, похожем на трубку воронки. Ручей
в глубине его низвергается с огромной высоты непрерывным каскадом и исчезает
в скалистой воронке.
Ущелье это называется Вож-Дара (от Вордж-Дара -- "Лошадиный лог").
Поразителен канал, проложенный на такой страшной высоте над многими
пропастями! Он протянулся на пять километров, он построен колхозниками в
1950 году, на него потрачено шестьсот килограммов аммонала, он орошает
двадцать пять гектаров сухого в прошлом горного склона, а мог бы оросить и
сто двадцать гектаров, если бы в питающем его каскаде хватало воды. На
орошенной земле посеяны пшеница и люцерна и закладываются молодые сады.
Другой сипонджский канал -- Ходарджиф (получивший название от ходордж
-- маленькой, притулившейся к нему водяной мельницы) берет начало от речки
Рошар-вэджхуф, круто мчащейся по узкому, почти недоступному для людей
ущелью. Канал, опоясывающий скалистые кручи на полукилометровой высоте над
долиной реки, тянется к дашту -- высокому обрывку древней речной террасы,
под которой в конгломератовой стене зияют пещеры древних людей. Этот канал
сипонджцы начали строить еще в 1932 году, но не могли ничего сделать без
технической помощи. Труднейшая работа возобновилась, когда здесь
организовался колхоз, и колхозники, пользуясь аммоналом и советами хорогских
техников, уже в 1938 году проложили первые четыре километра канала, оросив
двадцать два гектара земли. Так была построена "первая очередь" канала.
Теперь работа продолжается; тридцать-пятьдесят строителей все лето проводят
на скалах, обрушивая их вниз, давая путь воде дальше...
Можно часами, оставаясь на одном месте, вглядываться в великолепные,
рассеченные тесными щелями, недоступные вершины, обступившие маленький,
полукруглый клочок прибрежной земли, на которой расположен Си-Пондж. К
юго-западу от райцентра высится снежный пик, называемый здесь Цокжир
("Высокий камень"); чуть северней, рядом с ним врезается в глубину небес
скалистая вершина Нау-джирас-банд: "там только начинает зеленеть трава,
когда внизу пашут", -- говорят про ее склоны бартангцы. Над левым берегом
устремляет вверх свой острый гребень Иокгаль, а к востоку от него белеет
вечными снегами вершина над ущельем Равив-Дара. С севера все полукружие
долины отсечено низким, протянувшимся поперек нее мысом Парингаль,
заставляющим реку делать крутой излук. Здесь, в середине излука, через
Бартанг переброшен узкий и зыбкий мост без перил; проходить по нему,
применяясь к его пружинистому качанью, люди могут только поодиночке. Этот
мост существует здесь много десятилетий, сокрушаемый водой и людьми, но
неизменно восстанавливаемый сипонджцами.
Я знаю: никто до меня не интересовался всеми перечисленными выше
названиями, никто не описывал в деталях местность, окружающую Си-Пондж.
Пожалуй, из всех районных центров Советской страны этот -- один из наименее
посещаемых.
Вопреки бездорожью
Двести тринадцать километров пути от Кала-и-Вамара на Пяндже до верхней
границы Бартангского района -- реки Кудара (или, как теперь бартангцы
называют ее, Гудара), где кончается самый верхний на Бартанге колхоз имени
Димитрова, -- эти двести тринадцать километров и в наши дни не везде и не
всегда можно проехать верхом. Немало таких мест, где надо пробираться
пешком, рискуя сорваться в пропасть, или быть раздавленным камнепадами. И
это даже в летнее время! А уж зимой, когда в ущелье с высот в тысячу и две
тысячи метров там и здесь соскальзывают лавины, от кишлака к кишлаку на
Бартанге во многих местах не проберется даже горный козел. Всякое сообщение
между населением кишлаков прекращается.
И потому мне особенно удивительно, что, несмотря на такую
труднодоступность, районный центр Си-Пондж на Бартанге, благодаря работе
партийных и советских организаций, выглядит совсем не столь глухим и
отрешенным от мира, как можно бы при подобных обстоятельствах ожидать. То,
на что в других местах не обратил бы внимания, как на предельно привычное и
естественное, здесь поражает и удивляет.
В районном отделении Госбанка я увидел обыкновенный стальной сейф, -- в
каком городке, в каком районном центре нашей страны нет теперь таких сейфов
и кого может он удивить?
Но, посмотрев на него в Си-Пондже, я задумался и опросил: сколько этот
сейф весит? И мне ответили: сто сорок килограммов. Я еще раз посмотрел на
сейф, прикинул глазом его объемы, на мгновенье представил себе тропинку, по
которой сам явился в Си-Пондж...
А как же он доставлен сюда? Работник райфо улыбнулся:
Его принес один человек!
Как принес? На своих плечах?
-- Правильно, на плечах. Вьюком разве можно везти такую тяжесть? На
спину лошади не положишь, два вместе по бокам привьючить -- получится почти
триста килограммов, разве лошадь может нести на себе восемнадцать пудов, да
еще по такой "дороге"? Тропа узкая, слева -- скала, справа -- пропасть...
Говорим: один человек принес! Вернее, два человека несли, сами вызвались,
есть у нас в Имце два таких богатыря -- палавона!.. По очереди несли:
километр несет один, устанет, километр несет другой, а потом -- опять
первый. Так тридцать пять километров несли. У нас в Си-Пондже есть два
сейфа, один весит сто сорок, другой -- сто шестьдесят килограммов. Третий
сейф -- тоже сто шестьдесят килограммов -- лежит в Имце, не можем доставить
сюда, потому что эти палавоны спросили за доставку тысячу рублей. Какой
финансовый орган может разрешить такой расход? По закону полагается девять
рублей за тоннокилометр. Так ведь закон думал об автомобилях и гужевом
транспорте. Разве в законах обозначен кишлак Си-Пондж? Кто
i
знает, что у нас такая дорога? Мы, правда, считаем: тысяча рублей за
такую работу совсем недорого, простой человек -- вы, и я, и любой колхозник
у нас -- за десять тысяч не понесет десять пудов на своей спине. Кого
просить можем? Это сама наша природа двух таких людей выдумала, бартангские
матери родили двух таких палавонов, -- если б они в Москву поехали, они
стали бы чемпионами мира... А у нас они скромные люди!
Но не одни эти сейфы удивили меня в Си-Пондже. Меня удивили железные
кровати, на которых в своих домах опят колхозники. Меня удивила стационарная
киноустановка, прекрасный аппарат для демонстрации звукового фильма,
ежевечерне работающий в маленьком кинотеатре Си-Понджа. В летнее время
кинофильмы демонстрируются рядом с залом клуба, в саду, под открытым, полным
звезд небом, а яркая электрическая лампочка, ослепительно сверкающая в
антрактах между сеансами над кинобудкой, видна и из любого места Си-Понджа и
со всех окружающих гор, -- она пока единственный представитель
электрификации в кишлаке Си-Пондж! И не потому ли в черной ночи, сгущенной
громадами обступающих Си-Пондж гор, эта лампочка кажется особенно
неправдоподобно яркой?!. Я смотрел "Великий перелом" и "Незабываемый 1919-й"
вместе с колхозниками, учителями, школьниками, садовниками и милиционерами
Бартанга -- все они были хорошо одеты, все они ничуть не отличались от
публики любого кинозала таджикской страны, разве только что шерстяные глимы
и тюбетейки колхозников были именно бартангского, а не какого-либо иного
типа... А в клубе я, к своему удивлению, нашел свежие номера журнала
"Театр". Значит, кто-то читает их?
Меня удивляли в Си-Погадже хорошие, застекленные оконные рамы в домах
колхозников, и пишущие машинки в учреждениях, и доски, из которых сделаны
прилавки в районном кооперативе: как привезти сюда длинную доску -- ведь в
самом Си-Пондже такую доску не сделаешь, ведь каждое плодовое дерево здесь
-- драгоценность! За весь 1952 год удалось привезти на ишаках из Имца только
два кубометра длинных досок! Все грузы -- продовольствие и товары --
путешествуют по Памиру на автомашинах, но все предназначенное для
Бартангского района сгружается с автомашин в Имце -- первом снизу кишлаке
района! Из Имца путь только вьючный, но не всякий груз можно уложить во вьюк
и не всякий вьюк можно протащить по узкой, головокружительной тропе. И есть
у сипонджских организаций трудности, о которых никто не знает! Не в чем,
например, доставлять в Си-Пондж керосин: бочку не привезешь, а бидонов в
Си-Пондже нет, -- и несут бартангские жители керосин на себе -- в ведрах, в
бутылках, в глиняных
сосудах, несут по осыпям и по узким, нависшим над рекою карнизам,
поднимают на перевалы, спускают, рискуя споткнуться, по крутейшим склонам...
Дать бы Си-Понджу хоть сотню обыкновенных автомобильных двадцатилитровых
канистр, тех, какими пользуются десятки тысяч шоферов в Советском Союзе. Но
никто об этом, кроме самих бартангцев, не думает, а бартангцам таких канистр
не добыть. И я должен об этом сказать, чтоб эти мои слова были прочитаны
всеми, и я знаю, среди моих читателей найдется много отзывчивых и энергичных
людей, которые хоть почтовыми посылками, а отправят сипонджцам в подарок
такие канистры, прежде чем автомобильная дорога, для прокладки которой нужно
взорвать аммоналом миллионы тонн монолитных скал, будет доведена до
Си-Понджа и дальше -- до самых верховьев Бартанга, откуда ее нужно будет
продолжить по Восточному Памиру до стыка с Восточно-Памирским трактом, тогда
канет в прошлое географическая изолированность Бартанга--последнего и
единственного населенного района Памира, куда сегодня еще не может
пробраться автомобиль.
Люди Бартанга в своем самосознании, в своем культурном развитии уже
давно переросли высочайшие свои горы, им тесно в сдавливающих их быт и
потребности узких ущельях, они не хотят покоряться слепой природе, они не
верят больше в духов гор, некогда представлявшихся им всесильными, они хотят
знания и ищут знания, они советские люди, им горько, что такая глупость,
такая случайность: невозможность проехать к ним на автомашине, невозможность
улететь из Си-Понджа по воздуху, потому что в их ущельях не может сесть
самолет, мешает им жить так же, как живут все в Советской стране, как живут
теперь их соседи -- рушанцы, шугнанцы, ваханцы, ишкашимцы, горанцы -- все
горные бадахшанцы, разъединенные прежде на мелкие народности, на
разноязычные (враждовавшие между собой) племена, а теперь равноправные,
такие же, как все таджики, члены единой огромной семьи строителей
коммунизма. Я не встречал бартангца, который с горечью не говорил бы мне об
отсутствии в их районе автомобильной дороги, который с радостью и надеждой
не предлагал бы свои собственные проекты этой дороги добавляя: "Вот только
привезли бы сотнюдругую тонн аммонала!"
Я знаю, что могут бартангцы, я наблюдал их тягу к знанию, их поистине
всесильную волю к труду!
Вот -- простите, читатель, -- еще несколько цифр, характеризующих рост
урожайности зерновых во всех десяти колхозах района:
В 1941 году урожай зерновых был 5 228 центнеров.
В 1942 году, когда многие бартангцы ушли на фронт, -- 4 617 центнеров.
В 1943 году -- 4 636 центнеров.
В 1944 году -- 5047 центнеров.
В 1945 году, когда зима была необычайно суровой и снег в долинах лежал
до апреля, -- 4 117 центнеров.
В 1946 году -- 5 004 центнера.
В 1947 году -- 6 100 центнеров.
В 1948 году -- 7 305 центнеров.
В 1949 году --8 242 центнера.
В 1950 году -- 8 000 центнеров.
В 1951 году, когда снег лежал почти до мая, а лето было дождливым,
обильным обвалами и камнепадами, -- 7 000 центнеров.
В 1952 году -- 10 500 центнеров.
Во всем районе в том же году распахано 810 гектаров земли, сенокосов на
поливной земле -- 180 гектаров, а на богарной (неполивной) -- 1 000
гектаров, садов в районе -- 28 гектаров, кустарников на колхозной земле --
10, а на земле лесхоза -- 30 гектаров, бахчей и огородов -- 10 гектаров.
Во всем районе к дню, когда я приехал в Си-Пондж, к сентябрю 1952 года
было 1 775 избирателей!
Мало на Бартанге людей и мало у них земли, потому что горы тесны,
высоки, скалисты и дики. Каждый квадратный метр земли нужно очистить от
снежных завалов, от навалившихся со страшных высот камней, вспахать без
всяких машин, потому что машины не могут двигаться на крошечных клочках
посевов, круто наклоненных, нависших над пропастями. Каждый метр новой,
впервые осваиваемой земли нужно вырвать у скал, оросить водой, проведенной
по крутым и отвесным скалам.
Но у меня есть цифры, которые я предлагаю сравнить с только что
приведенными. В 1926 году, при составлении "хозплана" Горно-Бадахшанской
области, впервые были собраны точные данные о Бартанге. Вот они (я позволил
себе только произвести перерасчет с десятин на гектары). Число хозяйств:
398. Занимаемая ими площадь -- 335, 07 гектара. В том числе в процентах:
пашня -- 70, 35; усадьбы -- 6, 56; травы -- 11, 59; сады2, 7; пустует 8, 8.
А хозяйств в 1952 году во всех десяти колхозах было 469, то-есть на 71
больше.
Увеличить посевную площадь на один гектар -- значит совершить подвиг,
подвиг бесстрашного, упорного, вдохновенного труда!
С величавой гордостью, как о выигранных тяжелых сражениях, рассказывали
мне колхозники на Бартанге:
-- В нашем колхозе имени Карла Маркса мы построили новый канал
Шамор-Сафэд-Дара. Мы построили его за год --
в тысяча девятьсот сорок восьмом и сорок девятом годах. Канал тянется
на одиннадцать километров! Без техники и без руководства, -- мы сами его
построили. Вот слушай, товарищ! Он идет на птичьей высоте над долитой.
Мирзо-Мамадов, Назар, -- наш раис; председатель колхоза строил, потому что
техник из Хорога пришел, посмотрел, отказался: "Невозможно здесь строить
канал!" А мы собрались вместе с раисом, сказали: "У нас земель нет: или
умирать, или строить!" Ты слушай, ты всем расскажи, товарищ: у нас было пять
гектаров земли в колхозе, разве это колхоз? Мы год канал строили и через год
кончили, и у нас теперь триста гектаров земли, но воды хватает только на
пятьдесят. Мы эту землю освоили, она у нас в котловине, труда много
расходуется, надо тонко воду пускать, наши люди на каждом клочке земли
сидят, управляют водой, как нитку в иголку вдевают. Сады у нас не растут --
слишком высоко мы, под самым ледником, в октябре уже снега. Мы сеем пшеницу,
ячмень, горох, мы собираем разные урожаи, когда хорошая погода, когда много
солнца, -- лед тает и воды много. Когда плохая погода -- воды нет, мы только
слушаем ветер и слышим, как трещат на морозе льды.
Ты понимаешь, товарищ, что такое наш колхозный кишлак Басит? Раньше мы
думали: духи гор, когда вниз под землю по узкой щели опускались, поставили
наш кишлак на половине спуска в ад, чтоб было им где во тьме ночевать по
дороге в ад, а нас в этом кишлаке поселили, чтоб мы, как в гостинице, их,
нечестивых, кормили! Мы только вниз, как в дыру, в темный ад, и смотрели,
сами были голодными! А теперь мы смотрим наверх, мы смотрим на солнце, от
самого солнца мы воду к себе провели. Поживи у нас год, товарищ, послушай,
как под солнцем тают над нами льды!
И еще в Савнибе мы другой канал провели в два километра длиной, оросили
четыре гектара, земля каменистая, мы сеем на ней люцерну, трижды в год
косим, а в этом году косили четыре раза, потому что почва уже укрепилась и
влажности стало больше. В сорок девятом году мы строили этот канал.
В нашем колхозе всего шестьдесят пять хозяйств, мы все ив Басита за
сорок пять километров ходили, в такое ущелье, где только барсы бегали
раньше, -- мы построили там наш большой канал Шамор-Сафэд-Дара, одиннадцать
километров течет по нему вода!
Ты понимаешь, товарищ? Одиннадцать километров мы оторвали у горных
духов из той их дороги в ад, и теперь духи не могут перепрыгнуть через эти
одиннадцать километров, и мы сказали духам: пускай сидят в аду, как в
тюрьме, а наша советская жизнь -- человеческая, мы смотрим на солнце! А
когда автомобильная дорога дойдет до нас, когда нам привезут сто
тонн аммонала... ий-о, товарищ, сколько у нас будет земли тогда!..
И секретарь райкома Курбан-Ассейнов к этому рассказу добавил:
-- Они правильно говорят. Кишлак Басит может получить в верхней части
ущелья еще двести гектаров земли, если речка Девтох-Дара, которая сейчас
уходит в Бартанг, будет перехвачена каналом, который отведет от нее воду к
верхнему дашту кишлака Басит. Нужен аммонал, тонны четыре. Если все это не
будет делаться, то останется один выход: переселить верхние колхозы в другие
районы республики, а райцентр Си-Пондж соединить с Рушанским районом, это
будет лучше, чем здесь на спинах таскать сейфы по сто шестьдесят
килограммов. Экономически невозможно работать здесь, если не будет
автомобильной дороги...
Вот кишлак Вринджав, в колхозе "Социализм", -- некоторые называют этот
кишлак Шуроабадом, потому что он построен при советской власти. Проложили
колхозники канал в один километр длиной; прямо из реки Бартанг он забирает
воду, орошает пять гектаров, и сеют на них ячмень и пшеницу. Эта земля ниже
кишлака Рошорв, центрального кишлака колхоза "Социализм". Поэтому на ней
после того, как ее оросили, растут абрикос, и тополь, и ива, а пшеница
вызревает на двадцать дней раньше, чем в Рошорве. И потому люди могут
соблюдать очередность во времени и обеспечивают колхоз зерном раньше, чем
получают его в Рошорве.
Вы скажете, канал маленький, только один километр? Но потребовал он
много трудов. Еще в 1932 году орошорцы пытались строить его, но не вышло.
Взялись снова в пятидесятом году и кончили, потому что нам удалось забросить
туда сто килограммов аммонала и прислать техника из райводхоза. Половину
канала провели по склонам, половину -- по песку, закрепили его колючкой
(по-бартангски она называется ш а х г, по-шугнански -- ш у у д, по-таджикски
-- хор), вот этой колючкой. Одно плохо: канал -- на левом берегу Бартанга, а
Рошорв -- на правом и в двенадцати километрах от берега, в боковом ущелье.
Поэтому требуется мост через Бартанг, нужен трос, а пока колхозники, чтобы
поливать новую землю, переплывают Бартанг на с а н а ч а х, или,
по-здешнему, на з и н о т ц, --на надутых козьих или бараньих шкурах.
... Мы беседовали у ручья, под тутовым деревом, сидя на разостланном
шерстяном паласе. Колхозники щелкали камнями абрикосовые косточки, ели
ядрышки, угощали меня. Самый старый колхозник, белобородый, одетый в рыжий
глим, с умным и добрым лицом, разливал по пиалам чай и, прикладывая
морщинистую, коричневую руку к сердцу, другой передавал пиалы
гостям. Я записывал историю постройки каждого из каналов Бартанга, -- я
знал кишлаки Бартанга и хорошо представлял себе, где и как трудились
колхозники, прокладывая эти каналы. Я записал больше десятка таких историй,
в каждой из которых были свои герои. Я узнал, что все колхозы Бартанга имеют
теперь своих техников-ирригаторов и подрывников, что взрывчатка для
колхозников теперь самый драгоценный дар, помогающий им твориггь чудеса. Я
узнал, что на каждый гектар они кладут теперь по двадцать пять -- тридцать
тонн навоза и поэтому урожайность их маленьких полей поднялась; что новая
агротехника применяется в каждом колхозе; что организация труда с каждым
годом становится лучше; я узнал многое о воле к труду и о любви к труду
бартангских колхозников, живущих в таких тяжелых условиях, какие колхозники
наших полей даже представить себе не могут. Жизнерадостные,
доброжелательные, веселые, они знают, что надо делать, чтоб лучше жить, они
не требуют помощи, но эта помощь им очень нужна.
Разговор наш был мирным, спокойным, но вот к нам подошел пожилой
мужчина в ветхом бартангском глиме. В руке подошедшего была тяжелая горбатая
палка, сам он был прям и суров, его здоровое, продубленное солнцем и горными
ветрами лицо казалось лицом русского колхозника откуда-нибудь из-под
Астрахани или Калуги, -- в этом лице не было ничего "восточного", даже глаза
бартангца были голубовато-серыми, губы -- мясисты, нос -- прям и широк, и
только по одежде -- по глиму, по выцветшей, неопределенного цвета тюбетейке
да по сыромятной обуви -- пехам в нем можно было определить горца.
Полный достоинства, он поздоровался с Курбан-Ассейновым, и со мной, и
со всеми, кто вместе с нами полулежал или сидел на паласе, под добрым
тутовым деревом, постоял, послушал наш разговор, а потом грузно сел, положил
палку поперек колен, сложил поверх нее свои сильные, заскорузлые руки и,
выждав паузу в нашей беседе, оказал:
-- Хорошо!.. Все хорошо у нас на Бартанге! А по-моему, не все хорошо! Я
вижу, ты, секретарь, не все приезжему товарищу говоришь. А ты говори ему
все, нам от этого польза будет! Если товарищ из Москвы, он так просто
глотать слушанное не будет. Он кому надо скажет, ему радиотелефон не нужен,
ему бумажку с печатью писать не нужно. Он сам приедет в Сталинабад и приедет
в Москву, своим языком расскажет. Пусть там рассудят! Вот! Я пастух, ты
знаешь меня хорошо. У нас на Бартанге план сто сорок тонн сена, а мы можем
накопить столько? Неправда! Не можем. Шестьдесят тонн -- это хорошо.
Семьдесят тонн, это всего больше. Колхозный максимум! Вот!
Он так и сказал: "максимум", и я удивился, откуда на Бартанге стало
известно такое слово. Он продолжал:
-- Поголовье скота у нас планируется на сто сорок тонн сена, а косим мы
в два раза меньше. Потому -- падеж! Сенокосы вспахали под пашню. Это хорошо?
Нет, плохо, если падеж скота. Мы должны расширять люцерну в орошать новые
земли, иначе каждый год десять процентов, пятнадцать процентов окота мы
будем терять, понимаешь, нехватка кормов! Что получается? Личный скот
колхозники продают колхозу, потому что сами не могут прокормить. Это
законно? Нет такого закона, неправильно это!
Посмотри на эту гору туда! За горой -- Язгулем, такое же место, как наш
Бартанг, в самой верхней части хорошие пастбища есть, долина Рохдзау. Кругом
лед, снег, сверху льется вода, внизу, как в чашке, -- кругло, тепло:
долина!.. Язгулем, ты знаешь, принадлежит не нам -- Ванчекому району,
Ванчский район пастбища Рохдзау отдал Рушану, потому что из Ванча через горы
туда невозможно ходить. А ты думаешь, из Рушана возможно? От самого Пянджа,
по всему Язгулему вверх надо пройти, а дорога там хуже нашей тропы. Из
Рушана скот не ходит туда...
Нам через перевал Биджраф туда день пути. А мы скот гоняем... ты,
товарищ, знаешь, что мы скот гоняем к Кара-Булаку, за двести километров, за
Сарезское озеро? Мы можем там половину нашего окота держать, пастбище
хорошее, но двести километров по такой дороге гонять, как ты думаешь, что от
окота останется?
Так что же ты предлагаешь? -- перебил пастуха КурбанАссейнов. -- В
Рохдзау тоже нельзя гонять, ведь перевал Биджраф месяца три проходим,
остальное время закрыт снегами!
Это правильно! Рохдзау -- тоже нехорошо! -- невозмутимо согласился
колхозный пастух. -- Я предлагаю... Я предлагаю скот на машинах к
Кара-Булаку возить, и продукты возить на машинах, и самим на машинах ездить!
Рохдзау я предлагаю, как временную меру, а потом -- все на машинах, ты
слушай меня, секретарь, мы не в старое время живем, чтобы груз на себе
таскать. Вьючного скота у нас, сам знаешь, сколько: тридцать лошадей,
шестнадцать верблюдов, двести ишаков, а нам надо на Бартанг одной муки сто
пятьдесят тонн привезти, нам надо привезти на два миллиона рублей остальных
грузов. Мы половину груза таскаем на плечах. Если ты секретарь, ты должен
ночи не спать, хлеба не есть, с женой не разговаривать, пока не добьешься,
чтобы нам здесь построить дорогу. Большую дорогу. Для сильных машин дорогу!
Как везде на Памире, такую! Вот что я предлагаю. А не с этой палкой ходить.
Я эту палку внуку
хочу оставить, чтоб он по могиле твоей стучал, если ты не добьешься для
нас дороги!
Все рассмеялись, Курбан-Ассейнов тоже. И сказал пастуху сквозь смех:
Когда ты подошел сюда, мы о дороге и говорили!
Не говорить надо, делать дорогу надо! -- сухо и коротко произнес
пастух, встал, поклонился всем и, не оглядываясь, пошел дальше.
И смеха как не бывало. Мы все задумались. И мне стало ясно, что когда
речь заходит о том, какая же именно помощь нужна Бартангу, то надо говорить
прежде всего о дороге. Бартангу необходим пусть хоть очень извилистый, пусть
хоть очень опасный и трудный, но автомобильный тракт!
Я не сомневаюсь: эта дорога будет построена.
И тот, кому через немного лет доведется сесть в Мургабе в пассажирский
автобус и за один день проехать все двести километров бартангской долины,
пусть вспомнит все, что рассказано мною на этих страницах, как сам я теперь,
разъезжая на автомобиле по другим районам Памира, вспоминаю длинные и
трудные верховые и пешие маршруты, совершенные мною по этим районам четверть
века назад, когда ни один автомобиль еще не пробирался на казавшиеся
недоступными для колесного транспорта памирские выси.
К этому остается добавить: в 1951 году, в бартангский кишлак Имц, на
"Победе", которую вел курган-тюбинский таджик, шофер Одинаев, приехал из
Хорога партийный работник В. Е. Медведев. С тех пор автомашины, грузовые и
легковые, стали обычным способом сообщения Имца с остальным миром.
Кишлак Имц -- начало пути по Бартангу. От Имца до СиПонджа остается
всего тридцать пять километров! От Имца до Кудары -- сто шестьдесят пять!
Молодость
Сначала мы ходили по саду, по тому колхозному саду, что расположен под
конгломератовою стеною древней речной террасы, -- садовник Ясаки-Муборак
Кадамов, житель Си-Понджа, член колхоза "Большевик", худощавый, бородатый,
степенный, и две молодые учительницы средней школы имени Сталина. Одна из
девушек -- рушанка Зулейхо Тахойшоева, комсомолка, окончившая педагогическое
училище в Хороге, была учительницей второго класса. Вторая -- Назар-Малик
Шабозова, член партии с трехлетним стажем, родилась в СиПондже, училась в
Си-Пондже, а сейчас, уча школьников четвертого класса по всем предметам,
сама продолжает учиться: она заочница Хорогского педагогического училища.
Обе девушки, загорелые, здоровые, носили, по бартангскому обычаю,
красные шерстяные косы, которые были вплетены в их собственные косы,
скинутые с плеч на грудь... Такие привязные косы -- кюльбитс -- сбрасываются
вперед только девушками. Замужние молодые женщины закидывают их за спину;
пожилые замужние женщины вместо красных кос вплетают черные и тоже носят их
за спиной, а вдовы перекидывают свои черные привязные косы вперед. Это
древний обычай, соблюдаемый и поныне не только на Бартанге, но и в некоторых
других районах Горного Бадахшана.
Обе молодые учительницы были одеты и украшены по всем бартангским
правилам: от белого платка, называемого на Бартанге и в Рушане -- циль, а в
Шугнане тит, наброшенного поверх п а к к о л (узорчатой тюбетейки), до
красных ситцевых шальвар (по-бартангски т а м б у н, по-таджикски лозме и
изор), от черных с красными вкраплениями бус (цемак), плотно охватывающих
горло, до больших ожерелий, спускающихся к животу (с о х г и) и отличающихся
от обыкновенных ожерелий (марджони) именно своей длиной, до латунных
браслетов, что называются у таджиков дастбанда, ау бартангцев парзист, и
колец (ч и л л я -- по-бартангски и по-шугнански, или по-таджикски).
Обе девушки были хороши и естественны в своих национальных платьях,
свободно облегающих фигуру и не мешающих вольным и плавным движениям.
Они ходили со мной по саду, слушая объяснения садовника Ясаки, а когда
он заметил, что они устали, он сорвал огромную спелую дыню и, предложив нам
сесть на траву, взрезал ее кривым ножом.
И как раз подоспел председатель колхоза "Большевик",
тридцативосьмилетний, но, к сожалению, малограмотный, окончивший только
ликбез, Ак-Назар Сафаров, член партии с тридцатого года, комсомолец с 1925
года. Для Бартанга это огромный, удивительный стаж, потому что в те годы
партийцев и комсомольцев на Бартанге, за единичными исключениями, не было.
Ак-Назар Сафаров, преданнейший советскому строю и Коммунистической партии
человек, сделал очень много для населения Бартанга. И будь он более
грамотным, сделал бы еще больше!
Председателем колхоза он избран в 1938 году, и никто не скажет, что он
плохо руководит колхозом: уважение, которым он пользуется, искреннее и
всеобщее, потому что он был и остается новатором.
26 П. Лукницкий
Это его идея была -- создать в Си-Пондже колхозный сад. Это он
самолично учил на практике премудростям садоводства Курбона Бахтаалиева,
который сейчас пришел с ним и сел возле меня и с аппетитом ест протянутый
ему садовником Ясаки ломоть дыни. И молодой ученик председателя, Курбон
Бахтаалиев, -- ему и сейчас-то всего двадцать пять лет, -- был выбран
бригадиром садоводческой бригады уже в 1948 году; перед тем, после окончания
семилетки, он был бригадиром по зерну.
Мы ели дыню. И ели персики, принесенные нам в тюбетейке садовником
Ясаки, и вставали, и осматривали деревья и их плоды, и присаживались снова,
и постепенно я все узнавал о саде.
Прежде в Си-Пондже было, например, только два сорта абрикосов:
"сафэдак" и "цоузнуляк". Других не было. В 1948 году из Хорогского
ботанического сада были привезены саженцы лучших сортов: "мамури", "руми",
"чапарак", в 1950 году -- "раматуллоэ" и "гуро-и-балх". Все эти сорта стали
вызревать в саду, кроме единственного невызревшего сорта, называемого
"хинакнош". В этом году посадили пятьсот абрикосовых деревьев, а всего в
саду больше трех тысяч.
Персиков в саду -- сорок деревьев, трех сортов, вызревающих один после
другого, яблонь триста, а среди них питомцы Ботанического сада "гуломади" и
"самарканды" -- сорта, которых прежде здесь не было. Тутовых деревьев --
пять тысяч, а старых в этом саду было всего семьдесят штук. Старые были трех
сортов -- "аслитут", "бедона" и "чаудуд". Все семь новых сортов, дающих
теперь здесь отличные урожаи, доставлены из Ботанического сада. Это "шатут",
"чаудуд", "тыыр-дуд", "нирдуд" и другие. Все пять тысяч деревьев, кроме
посаженных в последние три года, дают плоды, -- ведь тутовник дает плоды на
четвертый год. В этом году из Хорога привезено шестьсот саженцев и из
питомника, что есть теперь в семи километрах выше Си-Понджа, в Дарджомче, --
четыреста саженцев, и все пошли хорошо.
Тутовник в Си-Пондже теперь нужен и для шелководства, которое стало
развиваться на Бартанге с 1938 года, но тогда общественного шелководства
здесь еще не было, появлялось только личное, в отдельных хозяйствах.
Колхозное шелководство на Бартанге началось с 1951 года, началось оно с
тридцати коробок грены, из которых выращено и сдано было девятьсот пятьдесят
килограммов коконов. В 1952 году было тридцать восемь коробок грены, и к
тому сентябрьскому дню, когда я осматривал этот сад, сдана была ровно тонна
коконов, а надлежало сдать по плану еще четыреста килограммов. Выкормка
червей пока производится колхозниками на дому, общественной червоводни здесь
еще нет, но дело развивается все успешнее, и председатель колхоза заверил
меня, что на следующий год
на Бартанге будет построено три червоводни: в Си-Пондже, в Висау, в
Дарджомче.
Груш в саду -- двадцать, они росли здесь и раньше; грецкого ореха в
Си-Пондже было шестьдесят деревьев, из них два росли прежде тут же, в саду,
а осталось всего тридцать -- остальные деревья погибли. Дыни и арбузы
созревали в СиПондже издавна, но с 1950 года, когда из Хорога, из Поршнева,
из Рушана колхозники стали доставлять сюда семена улучшенных местных сортов
дынь -- "андалак", "тукча", "дурух-дуст", дынь стало не только больше, но
они стали вкуснее, сочнее. Завезен сюда и кормовой сорт арбуза (длинный),
которого здесь прежде не было.
В 1948 году завезена сюда была первая слива (тэрмива), которая прежде
росла только в ишанском саду в Падрузе. Теперь сливовые деревья размножены,
их уже полсотни, но плодоносит пока только одна -- черная слива. В колхозных
огородах Си-Понджа есть теперь помидоры, капуста, морковь (зардак) и никому
неведомая здесь прежде свекла (ляблябун), лук и два гектара картофеля. Все
эти огороды впервые появились перед Отечественной войной.
-- С апреля мы хотим все пахать, -- объяснил мне председатель колхоза,
-- пахать под деревьями, а межи убрать; хотим убавить декоративных деревьев,
на их место посадить плодовые; хотим создать новый сад на той стороне реки,
пересадить туда деревья из загущенных мест; раздадим много деревьев другим
колхозам из наших питомников. Все это мы делаем под руководством нашего
местного агронома Аюба, который родился в Рушане, а теперь живет здесь. К
нам теперь часто приходит и агроном из области, а постоянно нами руководит
здесь начальник райсельхозотдела, -- он живет здесь, рядом с садом, в
Си-Пондже... Вот так мы работаем здесь, всего этого не было раньше, -- ни.
сада, ни огородов, ни агрономов, ни колхоза, ни воды, ни семян, ни саженцев,
ни орошенной этой земли. Мы создали этот сад по инициативе райкома и
исполкома, мы решили это дело на правлении и на общем собрании колхозников,
мы всем колхозом занимались садом в первый, 1948 год. А теперь каждый год мы
выбираем садовую бригаду, -- вот теперь работает бригада Курбона
Бахтаалиева, но у сада есть свой постоянный садовник, -- вот он, Ясаки, а у
бригады, кроме этого сада, есть и другие сады, в других кишлаках колхоза.
Беда наша только в том, что мы не можем реализовать урожай, потому что вывоз
фруктов отсюда невозможен, -- некуда вывезти их для продажи... Вот колхозы
Ванча вывозят на машинах свои фрукты в Хорог, а что делать нам без дороги?
Если б хоть до низовьев Бартанга возить, до Шуджана, там у парома можно было
бы открыть чайхану...
Опять -- в который раз! -- разговор о дороге!
Из сада я иду к зданию средней школы. Хорошее здание, и мне
удивительно, что школа в Си-Пондже не начальная, не семилетка, аполная
средняя, то-есть десятилетка! Здание школы построено в 1935 году -- сначала
в нем был интернат. Сейчас с интернатами дело обстоит плохо, считается, что
раз население живет теперь зажиточно, то интернаты не обязательны, поэтому,
несмотря на просьбы бартангцев, на это дело министерство не отпускает
средств. И все-таки интернаты в других районах Горно-Бадахшанской области
существуют. Они есть в Мургабе, на Ванче, в Ишкашиме, в Шугнане; на Гунте,
например, в кишлаке Дебаста. Там всюду, кстати, есть теперь и автомобильное
сообщение. А вот на Бартанге интерната нет. И это неправильно: кишлак от
кишлака отстоит далеко, зимою сообщение между кишлаками вообще прерывается,
где же жить и где питаться школьникам старших классов, которые учатся в
средней школе Си-Понджа, собираясь сюда со всего Бартанга? Хорошо,
колхозники Си-Понджа распределили их по своим семьям, приютили их, школьники
сыты, обуты, одеты, но не потому, что о них позаботилось министерство
народного просвещения, а потому только, что колхозники Си-Понджа --
советские люди, которые не могут не помочь им учиться. Но такая практика не
способствует ни успешности обучения школьников старших классов, ни
привлечению детей этого возраста в школу, потому что не все родители охотно
отпускают своих детей, особенно девочек, в чужой дом, в Си-Пондж, где нет
интерната!
После посещения школы я разговаривал в райкоме партии с одним из его
работников. Он сказал мне:
-- Интернаты нужны нам и для младших классов, для начальных школ. По
плану народного хозяйства в начальных школах можно открывать класс, если для
него есть не меньше шестнадцати детей. Это у нас называется
"классокомплект". Что? Вы удивляетесь этому слову. Не по-русски? Ну, я
таджик, я знаю, что это не по-таджикски, а по-русски ли это -- вам видней...
Да, так я продолжаю: а у нас -- бездорожье. Особенно зимой трудно нам.
Обвалы, полная изоляция, даже взрослые не могут никуда выходить из своих
кишлаков. А уж, конечно, можно ли выпустить из кишлака детей! И потому на
каждый класс во многих школах у нас имеется всего шестьсемь детей. По закону
мы не можем открыть класс, но тогда дети останутся без учебы... Мы пока
пооткрывали классы, но боимся ревизора...
Мой собеседник помолчал. Потом, хитро прищурив глаз, посмотрел на меня:
-- Впрочем, пока ревизор доберется к нам, наши дети,
пожалуй, успеют окончить школу!.. К нам не очень-то ездят сюда
работники, даже из обкома. А уж из министерства вообще никто никогда не
бывал!..
... В восьмом, девятом и десятом классах си-понджекой школы в год моего
посещения было семьдесят два ученика, из них двадцать девочек. Старшие эти
классы в школе существуют с 1950 года, до того школа была семилетней. В
числе тринадцати учителей школы три учительницы -- таджички, одна --
русская; большинство учителей имеет неполное высшее образование, которое
получали в Хороге, в Самарканде, в Сталинабаде. Директор школы
Соиб-Назар-Давлят Мамадов, из кишлака Раумид на Бартанге, два года учился в
Сталинабадском педагогическом институте и теперь продолжает учиться в нем
заочно.
Кроме этой десятилетки, в кишлаках Бартанга есть еще шесть семилетних и
двенадцать начальных школ, -- это значит, что на всем протяжении до сих пор
труднодоступной долины не найти колхоза, в котором не было бы примерно двух
школ или в среднем по одной школе на каждый кишлак, хотя бы находящийся в
почти неприступных ущельях.
Окружившие меня учителя и ученики школы охотно назвали мне всех
бартангцев, уже имеющих высшее образование. Среди них Нодыр Карамхудоев из
Раумида, учитель, окончивший литературный факультет педагогического
института в Сталинабаде; Карам Шодыев из Си-Понджа -- учащийся в высшей
партийной школе в Москве; Абдул-Ассейн Кульмамадов из Раумида, оканчивающий
Центральную комсомольскую школу в Москве; двенадцать человек учатся в
Сталинабадском педагогическом институте, один -- в республиканском
университете, девять -- в сельскохозяйственном институте, трое -- в
медицинском институте, трое в юридической школе, в разных техникумах --
больше сорока человек!
И это люди того самого Бартанга, о неприступности, дикости,
отдаленности которого даже на самом Памире еще недавно ходили легенды!
Я побывал на занятиях в школе, послушал толковые ответы смышленых,
быстроглазых учениц и младших и старших классов, послушал отрывок из книги
Ильина "Наша Родина", прочитанный перед доской шестиклассницей Алиоровой, --
она держала книгу двумя руками, стоя, немножечко запинаясь от смущения,
чистенько, по-городски одетая. А потом пересказывала прочитанное; и на
вопрос, чем богата наша Родина, отвечала: "алюми", желая сказать
"алюминием"; "светные металлы", желая сказать "цветные", но это были ошибки
произношения, а по существу ее ответы были обстоятельны, правильны и
толковы.
И когда орава детей, веселых, щебечущих, здоровых, чисто и опрятно
одетых, провожала меня до середины кишлака СиПондж, и аллеи, по которым мы
шли, были наполнены радостным детским щебетом, и когда дети по-хозяйски
рассаживались под деревьями, требуя, чтоб я их сфотографировал, и лезли ко
мне на колени, чтоб я и сам с ними сфотографировался, я думал о том
Бартанге, который впервые посетил в 1930 году, -- заповедном горном крае, в
ту пору еще не избавившемся от голодовок, нищеты, болезней, невежества,
предрассудков и суеверий...
Теперь здесь все было иначе. И только дороги, широкой, спокойной
автомобильной дороги сюда, среди диких скал, все еще не было... Но она
будет!..
Об одном постановлении
Уже когда этот очерк был мною написан, я узнал, что постановлением
Верховного Совета Таджикской ССР Бартангский район в Горно-Бадахшанской
автономной области ликвидирован -- он слит с Рушанским районом. Таким
образом, СиПондж перестал быть районным центром. Отныне там будет только
сельский Совет.
Вероятно, для такого решения у правительства Таджикистана есть веские
основания. Об одном хочется мне предупредить работников Горно-Бадахшанской
области. Пусть в своих сводках они не пишут теперь, что на Памире нет ни
одного района, куда не были бы проложены автомобильные дороги. Такая
формулировка оказалась бы удобной лазейкой для бюрократов и формалистов: "На
Бартанг дороги нет?.. Позвольте, позвольте же, такого и района на свете не
существует!.. " Нет! Пусть будет иначе. Пусть работники области сделают так,
чтоб иметь право сказать: "У нас в области нет ни одного сельсовета, куда не
мог бы проехать автомобиль". И пусть прямо говорят: какую заботу область
проявляет о долине Бартанга и об ее жителях?
Потому что люди Бартанга -- живые, энергичные, жадно стремящиеся к
знаниям и к культуре, борющиеся за коммунизм, как и люди всех других районов
Советской страны. Они заслужили неподдельного к себе внимания, искренних о
себе забот и ничем не затуманенного светлого будущего!
Они заслужили большего, чем восемь строк в Большой советской
энциклопедии!
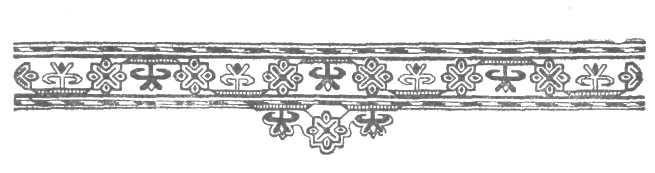
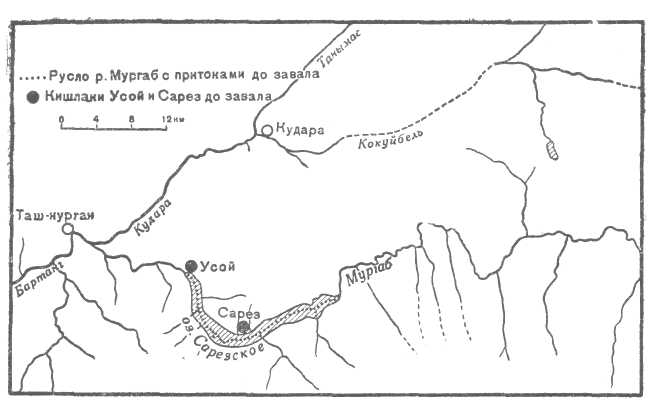
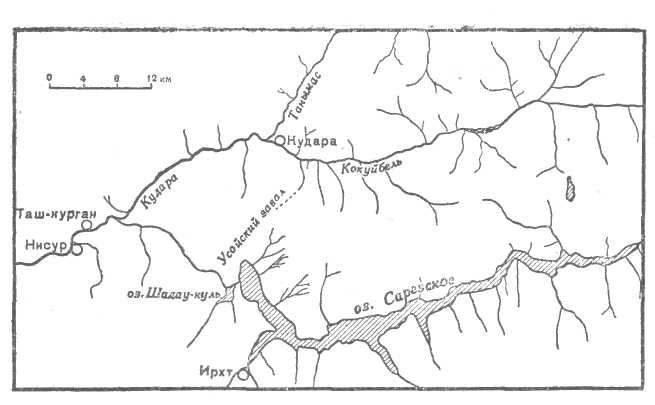 Район Сареза до и после завала (по схеме П. П. Чуенко).
На верхней схеме пунктиром показаны река Мургаб до завала и озеро,
таким, каким оно стало к 1913 году. На нижней схеме: озеро в 1934 году.
Кабулова был построен маленький домик. Прибывавшая вода в первый же год
поглотила все восемь реек, только в следующие годы уровень озера начал
повышаться медленнее.
Первые сведения об озере, названном Сарезским, проникли в печать. В
"Туркестанских ведомостях" 3 ноября 1913 года было опубликовано сообщение
"Экспедиция для исследования Сарезского озера".
В этом сообщении было много фантастики. Капитан Г. А. Шпилько
опубликовал в тех же "Туркестанских ведомостях" письмо в редакцию, в котором
сообщал проверенные им, точные данные. В следующем году статьи Шпилько были
опубликованы в "Известиях Русского географического общества".
В том же году об Усоиском землетрясении и его последствиях сообщил в
"Русских ведомостях" путешествовавший по Памиру ботаник Д. Д. Букинич, а с
1914 года после статьи Шпилько в "Известиях Русского географического
общества" и других сообщений весть о новом, феноменальном озере облетела
весь мир, им заинтересовались, о нем писали крупнейшие ученые, такие, как В.
Н. Вебер и Л. С. Берг.
Упорно воюя с завалом, вода озера начала просачиваться сквозь
пятикилометровую толщу плотины. В апреле 1914 года профильтрованные
чистейшие ключи забили с другой ее стороны. Сливаясь в один поток, они
родили новую реку, -- соединившись с текущей из танымасских ледников
Кударой, река снова стала называться Бартангом. Пенная, бурлящая, холодная,
она неслась вниз по извивающемуся ущелью, чтобы в двухстах километрах ниже
слиться с водами могучего Пянджа.
Один за другим к озеру стали стремиться различные путешественники.
В 1915 году, побывав на озере, сделав новую съемку и некоторые
наблюдения, вернулся в Петербург и выступил с подробным докладом об озере И.
А. Преображенский. Его доклад в Географическом обществе обсуждали крупнейшие
ученые: К. И. Богданович, Д. И. Мушкетов, Д. Д. Букинич... Много говорилось
об угрозе прорыва озера сквозь плотину. Но до Октябрьской революции, кроме
отдельных путешественников, устремлявшихся к озеру на свой страх и риск (и
даже не всегда способных до него добраться), никто больше им не
интересовался.
А оставленный у озера наблюдатель Нияз Кабулов, неграмотный, не
сведущий в науке, но преданный порученному ему делу, еще несколько лет
продолжал отмечать на новых рейках повышение уровня озера. Вода давно смыла
отстроенный для него домик. Он жил в ближайшем кишлаке и, приходя к завалу,
каждый раз наблюдал, как уровень поверхности озера становится все ближе к
гребню завала...
Советские исследования на Сарезском озере
Первая научная экспедиция на Памир после Октябрьской революции
состоялась в 1923 году. Это была экспедиция ташкентского географа Н. Л.
Корженевского, уже не раз бывавшего на Памире. В экспедиции участвовала
ботаник И. А. Райкова, впоследствии ставшая крупным ученым.
Экспедиция достигла и Сарезского озера, произвела на его берегах ряд
наблюдений.
В 1925 году топограф В. С. Колесников, побывав у озера, увидел бьющую
из-под плотины огромную реку: из озера вытекало семьдесят восемь кубометров
воды в секунду.
Озеро, поверхность которого находилась на высоте 3 400 метров над
уровнем моря, быстро росло, угрожая жителям Бартанга новой грандиозною
катастрофой. Если бы вдруг прорвалась плотина, миллионы тонн воды Сарезского
озера, хлынув вниз по ущелью, чудовищным валом смыли бы все кишлаки Бартанга
и понеслись бы дальше, уничтожая все живое по берегам Пявджа, вплоть до
Термеза. Десятки тысяч людей погибли бы от этого "каприза природы".
А толком никто ничего о Сарезе не знал. Длина озера увеличивалась с
тридцати до сорока, до пятидесяти километров. Пробраться к озеру становилось
все труднее, потому что его воды омывали теперь исключительно крутые, а
местами отвесные скалы. Эти колоссальные скалы возвышались над поверхностью
озера на два с половиной километра по вертикали; врезаясь в
кристально-чистую зеленоватую воду, они столь же круто или отвесно уходили в
ее глубину, и эта глубина с каждым годом все увеличивалась.
Среди советских ученых, в советских гидрологических организациях росла
тревога. Надо было принимать срочные меры.
В мае 1926 года на пленуме Средазэкономбюро состоялось обсуждение
вопросов, связанных с организацией постоянного наблюдения за Сарезским
озером. В том же году к озеру проникли известный гидролог О. К. Ланге и
топограф Тейхман, которым была произведена фототеодолитная съемка озера в
масштабе 1: 50 000.
Через два года, когда для изучения Памира впервые была организована
крупная экспедиция Академии наук СССР, О. K. Ланге вновь побывал на озере
вместе с несколькими другими учеными. Впервые зародилась мысль об
организации на берегу озера постоянно действующей гидрометеорологической
станции.
Но до осуществления этой идеи было еще далеко. Географические условия
оставались исключительно трудными.
В январе 1929 года состоянию Сарезского озера было посвящено заседание
Средне-Азиатского географического общества. Летом того же года с перевала
Кара-Булак к озеру спустился геолог Г. Л. Юдин вместе со своими сотрудниками
Е. Г. Андреевым и М. М. Лавровым. Они зафиксировали новое положение головы
Сарезского озера. В 1930 году к озеру пыталась проникнуть экспедиция В. А.
Афанасьева, организованная Госпланом Узбекистана. Она не добралась до озера,
но ей удалось направить туда водомерщика, местного жителя. С октября того
года на озере возобновилась водомерная работа: старик водомерщик делал
отметки четыре-пять раз в месяц, кроме зимнего времени, когда на озере
образуется лед толщиною до одного метра.
Отправляясь в 1931 году вместе с Юдиным на Памир, я заказал в
ленинградском яхт-клубе лодку, на которой мы рассчитывали совершить плавание
по Сарезскому озеру. Эта лодка была привезена в Ош, но навьючить на
верблюдов ее не удалось, а иного способа перебросить ее от Оша к Сарезскому
озеру не было. Лодку пришлось оставить в Оше. В 1932 году, пользуясь
широкими возможностями Таджикской комплексной экспедиции, Юдину удалось
добыть и доставить к Сарезскому озеру легкую парусиновую байдарку. Юдин и
его спутник вдвоем проплыли на этой багвдарке от самого Усойокого завала до
головы озера, то-есть прошли его по всей длине -- больше семидесяти
километров. Это было первое плавание по Сарезскому озеру!
Работая веслами, на большой высоте, почти в три с половиной тысячи
метров (над уровнем моря, борясь с сильным ветром и волнами, ежеминутно
рискуя перевернуться, Юдин и его спутник не имели возможности произвести
даже глазомерной съемки новых участков долины, к этому времени захваченных
озером. Пришлось ограничиться геологическими наблюдениями.
Группа гидроэнергетика Караулова
Планомерное изучение Памира, начатое Таджикской комплексной
экспедицией, в 1932 году охватило и бассейн Сарезского озера. Здесь
производил магнитную съемку отряд И. Д. Жонголовича. Сюда был направлен
начальник гидроэнергетической группы инженер Н. А. Караулов.
Он должен был подробно обследовать озеро и вывести заключение: угрожает
ли плотина прорывом? Он должен был также решить: возможно ли использовать в
будущем водную энергию озера для строительства гидроэлектростанции?
К 1932 году озеро простиралось почти на семьдесят пять километров. Все
то, что было узнано о нем отдельными, с величайшим трудом проникавшими сюда
исследователями, было ничтожно малым, почти ничего не определяющим знанием.
Николай Александрович Караулов, один из крупнейших специалистов в
Советском Союзе, человек тихий, нервный, самоуглубленный, никак не
альпинист, не спортсмен, должен был в Таджикской комплексной экспедиции
изучить все главные реки Таджикистана. Его сотрудники разбрелись по
разнообразнейшим направлениям. Сам он со своим братом, специалистом по
линиям электропередачи, и с одним сотрудником двинулся на Памир и после
долгих, тяжелых странствий верхом и пешком добрался до Сарезского озера. Он
окреп, загорел, закалился за это время. Он, как и все, научился спокойно
рисковать своей жизнью на переправах, на кручах, на льду. Поставив маленький
лагерь на крутом берегу озера, он спокойно занимался метеорологией,
гидрологией, топографией, -- на любом камне раскладывал свои схемы и
чертежи, углублялся в вычисления и расчеты так, словно сидел за большим
столом у себя в кабинете.
Выл ветер, полыхал языками костер, мороз пробирался за воротник и
рукава овчинного полушубка, а Николай Александрович обсуждал со своим
братом: можно ли здесь, на Сарезском озере, построить гигантскую
гидроэнергетическую станцию? Ведь если пустить воду Сареза в турбины,
просачивание сквозь плотину прекратится, опасность прорыва исчезает.
Турбины!.. Гидростанция на Сарезе!.. Какому фантазеру может явиться в
голову такая идея?
Когда незадолго перед появлением на озере Караулова Юдин, рассуждая об
озере, усмехнувшись, оказал мне: "Вот бы построить здесь гидростанцию!" --
оба мы рассмеялись: эта мысль показалась нам фантастической.
Но фантазия в трезвом уме гидроэнергетика Караулова облеклась в цифры.
Он слишком хорошо знал, сколько его фантазий за предшествующие годы
претворилось в реальное дело. Его работа должна была пригодиться не в
ближайшем будущем, а в то время, когда Памир окажется настолько освоен, что
и электрическая энергия понадобится там в большом количестве. И теперь на
диком, почти недоступном берегу Сарезского озера он разговаривал со стариком
таджиком, который с 1930 года жил здесь в жалкой каменной лачуге и
производил простейшие, но регулярные наблюдения над уровнем воды, над
состоянием погоды.
Старик ничего не знал об остальном мире. Старик бывал только в Хороге,
-- там его научили отсчитывать деления на рейке, записывать арабским
алфавитом даты своих наблюдений. Старик, в оборванном халате, со спутанной
бородой,
с глубоким убеждением, что озеро создано дэвами -- духами гор, честно и
аккуратно делал то, что ему поручили. Он сам не понимал цены своим записям,
он просто относился к ним с благоговением, веря ученым, оказавшим ему, что
его работа -- великое дело, что от нее зависит благополучие живущих по
Бартангу людей.
Но в уме Караулова эти цифры заговорили иначе. Они помогли ему
рассуждать.
И Караулов рассуждал так:
"... Фильтрация вызывает угрозу размыва? Надо, значит, устранить
фильтрацию. Как это сделать?.. Снизить горизонт озера... А это как
сделать?.. В самом деле, как опустить горизонт? Сбросить лишнюю воду. Как и
куда?"
Инженер Караулов, забывая опасности и усталость, лазал по отвесным
обрывам берега. Как и куда?.. Глазом, биноклем, рукою -- на ощупь примерялся
к завалу. Гигантские стены ущелья вставали над громадой завала. Сверху, от
вечных снегов стекали ручьи. Как и куда?.. Караулов по ночам, в палатке,
ворочался в спальном мешке. Караулов курил, как курят в своих кабинетах,
продумывая сложные проекты, все инженеры.
И однажды весело сообщил старику бартангцу:
Знаешь, рафик! Надо устроить тоннельный водосброс...
Чиз? (Что?) -- почтительно, по-таджикски переспросил старик.
Надо прорыть трехкилометровый тоннель, вот от этого маленького озерка
Шадау-Куль до того вон ручья, как он называется? Хурмы-хац, что ли? Мидони?
(Понимаешь?)
-- Ич-но мидонам! (Ничего не понимаю!)--покачал головою старик, и
Караулов принялся объяснять ему свою идею комбинациями бесчисленных и
многоречивых жестов.
-- В самом деле, --торячо обсуждали вопрос два инженера, братья
Карауловы, -- здесь тоннель, а чтоб вода из Сареза могла попасть в озерко
Шадау-Куль, надо в перешейке между ними прорыть канал. А потом принять меры
к кольматированию верхней грани завала. Вот используя эти текущие с верхних
снежников ручьи, системой деревянных лотков и труб подавать на завал мелкий
глинистый материал. Он засосет все щели... Ну-ка, давай мой расчет!..
Дальше следовали всевозможные цифры и термины. Инженеры пока еще в
воображении строили здание станции на реке Бартанг у кишлака Нисур, выбирали
лучший из вариантов использования энергии Сарезского озера, спорили,
нервничали, ссорились, мирились, набрасывали в полевые книжки сложные
графики и, наконец, уехали на своих заморенных лошадях, чтоб сообщить
ученому совету, руководившему экспедицией, что ими сделана "схема с
тоннельной деривацией", что мощность гидроэлектрической установки на
Сарезском озере (не фантастической, о нет, самой реальной, вполне
осуществимой!) составит четыреста тысяч лошадиных сил -- триста тысяч
киловатт. А если сделать водохранилище, чтобы регулировать расход воды в
зимнее время, то мощность этой станции можно довести до одного миллиона
киловатт.
Сразу окажем! Сарезское озеро и сейчас так же недоступно и дико. Работа
Караулова дала только проект. Еще неизвестно, куда девать такую энергию. Но
этот проект есть точное знание о районе, который до того времени был
загадкой. А то, что сегодня советскими людьми проектируется, завтра
осуществится. И можно не сомневаться, что это завтра с развитием горной
промышленности и народного хозяйства Памира придет. Пока же упорная работа
по изучению озера и наблюдению за его режимом продолжается. В 1934 году
геологи Таджикско-Памйрской экспедиции Академии наук привезли на Сарезское
озеро разборную деревянную лодку, ходили на ней под парусом и на веслах.
Вторую такую же лодку в том же году доставила сюда экспедиция В. А.
Афанасьева, организованная на этот раз одним из среднеазиатских
научно-исследовательских институтов. Орография, гидрология, геология озера
были подробно изучены.
Научная станция "Сарез"
7 февраля 1936 года в "Правде" появилась следующая заметка:
"Научная станция у Сарезского озера.
Таджикское правительство решило построить на Памире, на берегу
Сарезского озера, на высоте 3 060 метров над уровнем моря
гидрометеорологическую станцию... "
Дальше рассказывалась история образования озера. Заметка заканчивалась
так:
"По мнению ряда ученых, имеется опасность, что под колоссальным
давлением воды завал может прорваться. Организуемая гидрометеорологическая
станция будет вести наблюдения над завалом. Одновременно будет изучаться
режим Сарезского озера.
В Сталинабаде готовится оборудование для станции. Снаряжается
экспедиция, которая выступит к озеру, как только позволит погода".
Гидрометеорологическая станция "Сарез" была создана и в 1938 году
начала работу. Впервые режим озера изучался зимою. Наблюдения над озером
стали круглогодичными, круглосуточными, непрерывными. Вскоре на озеро была
доставлена моторная лодка. Сложнейшие приборы были привезены по головоломным
тропинкам на станцию. На станции появились постоянные жители: научные
работники -- коммунисты и комсомольцы.
Они работают неустанно. Они скромны: редко-редко сообщают они в печать
о своей жизни и о своей работе.
Но в канун нового, 1941 года зимовщики полярных и арктических станций
обменялись по радио приветом и поздравлениями с зимовщиками
метеорологических станций пустыни Кара-Кумы и высокогорий Памира. И 1 января
1941 года читатели "Комсомольской правды" прочитали сообщение:
"Радио с высокогорной гидрометеостанции "Сарез":
Холодно и ветрено. Мороз 35 градусов. Ночная тишина часто нарушается
громовыми раскатами горных обвалов. Наш домик окружают хищные звери --
барсы. По-звериному завывает суровый памирский ветер.
Новый год ждем с нетерпением. Новогодний ужин проведем в дружеской
беседе. Меню ужина составлено из восьми блюд: каждому будут поданы
фаршированный горный заяц и зимующая на озере утка-лысуха.
Самочувствие зимовщиков бодрое, несмотря на долгую оторванность от
населенных мест, от окружающего мира. Поздравляем молодежь цветущей великой
Родины с Новым годом, желаем еще лучше учиться, работать, творить чудеса на
благо родного советского народа.
С комсомольским приветом коллектив зимовщиков озера Сарез: Берсонов,
Градсков, Перченко, Полехин, Мурин, Мухина, Зайцев, Тростянский".
Большую часть года зимовщики "Сареза" бывают отрезаны от всего внешнего
мира. Только поздней весною стаивает снег на перевале Лянгар-кутал. Путь
через него даже летом опасен и чрезвычайно труден. Но это единственный путь,
которым может прийти к гидрометеостанции "Сарез" караван от перевалочной
базы, расположенной на Восточном Памире, у озера Яшиль-Куль, куда в наши дни
легко доехать на автомобиле.
И надо сказать: этим путем почти каждое лето к зимовщикам станции
приезжают гости. Альпинисты, топографы, гляциологи, ботаники, магнитологи,
геологи все чаще посещают этот интереснейший, теперь уже не заповедный, хотя
и попрежмему труднодоступный район. Станция "Сарез" для них -- опорная база.
Каждый приехавший сюда хочет прокатиться на моторной лодке по огромному
озеру, даже не для работы, а просто, чтоб увидеть своими глазами и запомнить
на всю жизнь удивительную красоту его берегов и его прозрачно-зеленой воды,
толща которой над дном достигает полукилометра.
Сейчас у работников станции есть новый моторный баркас и резиновая
лодка. Опыт плаваний по озеру многому научил работников станции. Они всегда
стараются держаться подальше от берегов, потому что у отвесных береговых
круч им угрожают камнепады, "каменные дожди", каменные лавины... Со страшным
грохотом рушатся горные породы в прозрачную воду, пораженный участок озера
закрывается густым облаком пыли, она оседает медленно, распространяясь над
поверхностью слабеющей мглой.
Бывают периоды, когда обвалы следуют один за другим, и тогда пыль
поднимается до гребней высоких гор. В 1932 году такие обвалы часто бывали в
том районе, где произошел Усойский завал и где после него обнажились те
горы, от которых отделилась, соскользнув в долину, вся исполинская масса
завала. Н. А. Караулов, работавший в то время на озере, слушал гул этих
обвалов примерно каждые полчаса, а облака пыли не расходились над горами
иногда по целым дням. Это было похоже на глухое ворчание готовящегося к
извержению вулкана, хотя каждому известно, что на Памире вулканов нет.
Природа в районе озера грозна, сурова, капризна. Но людям надо знать
главное: многолетнее изучение озера дало ученым право утверждать, что в
ближайшее время опасности прорыва завальной плотины нет. А если б такая
опасность возникла, точнейшие приборы, внимательнейшие наблюдения указали бы
на нее заблаговременно. Население Бартанга и других угрожаемых мест было бы
во-время предупреждено.
Работники станции гордятся ответственностью, лежащей на них. Они
бдительны!
Обузданный Гунт
Инженер Н. А. Караулов в период работы Таджикской комплексной
экспедиции объехал почти весь Памир. Он изучил повадки Пянджа, Гунта,
Висхарви, Каинды, Балянд-Киика, Кокджара, Танымаса и других рек Памира. Он
рассчитал, какой энергией обладает каждая из них, примерился, где и какие
можно построить электростанции. Он побывал на озере Яшиль-Куль, которое в
древние времена образовано завалом, подобным Сарезскому. И потом приехал в
Хорог и поставил свою палатку в абрикосовом саду, под огромным тутовым
деревом. И 10 сентября 1932 года здесь, в областном центре Памира, в столице
Горно-Бадахшанской автономной области,
люди из обкома партии -- таджики и русские -- собрались слушать доклад
начальника гидроэнергетической группы.
В маленьком белом домике, над пенными водами Гунта, тускло светили,
мигая и затухая, две электрические лампочки: работал движок, привезенный в
Хорог пограничниками за год перед тем. Надоедливый стук одноцилиндрового
мотора, казалось, изрядно мешал докладу инженера-гидроэнергетика. Начальник
пограничного отряда смотрел на мигающие лампочки и что-то шептал на ухо
начальнику строительства Памирского автомобильного тракта. И председатель
правительственной комиссии, посетивший Хорог, толкнул их тихонько под
локоть, чтоб не мешали слушать.
И когда Караулов окончил доклад, с места поднялся один из старых
большевиков Памира, местный житель, шугнанец. Он очень серьезно оказал:
-- Гидроэлектростанцию на Гунте нужно построить. И откладывать этого
дела незачем. У нас есть средства. Мы должны добиться включения
строительства в последний год второй пятилетки... или, в крайнем случае, в
первый год третьей... Не только Хорог -- пусть весь Шугнан, весь пянджский
берег Рушана мы осветим электрическим светом. Напротив, на афганской
стороне, попрежнему будут мерцать во тьме масляные ч и р о к и, а у нас
будет свет!
И оба начальника его поддержали и добавили от себя, что топливный голод
в Хороге скоро станет подлинным бедствием, ибо шах-даринский лес больше
нельзя вырубать, а других лесов здесь нет. Гидростанция должна обеспечить
Хорог тепловою энергией.
-- А что это значит? -- спросил молодой шугнанец-комсомолец.
И, прервав на минуту собрание, председательствующий все подробно ему
объяснил.
В постановление обкома партии был включен пункт:
"Просить инженера Караулова взять на себя консультирование при
разработке детального проекта гидроэлектрической установки на реке Гунт".
Весной 1935 года строительство гидроэлектростанции в Хороге началось.
Через несколько лет станция -- первая мощная гидроэлектростанция на Памире
-- вступила в строй. Она работает безотказно, питая Хорог и весь Шугнанский
район энергией -- дает свет и тепло. Она изменила весь быт шугнанцев --
горожан и колхозников. Я уже упоминал, например, о том, что в колхозе имени
Сталина производится электромолотьба. Достаточно сказать, что по степени
электрифицированности Хорог стоит на одном из первых мест среди городов
Таджикской республики.
О культуре рек
Гидроэнергетическая группа Таджикской комплексной экспедиции в 1932
году изучила все главные реки центрального Таджикистана и несколько рек
Памира. Изучить их -- это значит прежде всего пройти их по всему протяжению,
от истоков до устья. Уже одно это было огромной работой. Ведь все они текут
в узких долинах, сжатых скалистыми, отвесными стенами, где иногда по
опасным, неверным тропинкам не только лошадь, а и человек едва может
пробраться.
Работники группы определили скорость течения, расход и температуру
воды, изучили русла, мощности боковых притоков, условия образования
грязе-камемных, катастрофических силей... Всюду, на каждой реке были выбраны
наиболее удобные места для постройки в будущем гидроэлектрических станций,
водохранилищ, ирригационных сооружений. Ведь в республике все уверенней
организовывались колхозы, ведь коммунисты знали, что колхозам не век жить во
тьме, весь народ знал, что ленинский план электрификации нашей страны должен
быть и будет осуществлен!
Почти половина сотрудников группы болела тропической малярией, но никто
не покинул работ до их окончания.
В следующем, тридцать третьем году работы группы были продолжены --
экспедиция в том году уже была переименована в Таджикско-Памирскую, объем
работ ее все увеличивался. На этот раз исследования производились на
территории тех районов республики, которым предстояло стать центрами
развития будущей промышленности Таджикистана. Само изучение речных бассейнов
было более углубленным, чем в 1932 году, когда проводилось общее, широкое
предварительное обследование. В 1932 году группа изучала главным образом
юго-восточные области Таджикистана: Каратегин, Дарваз, Памир. В 1933 году
все внимание было сосредоточено на северных, хлопковых и горнорудных
районах, на юго-западе, в среднем и нижнем течении Вахша и в бассейне реки
Зеравшан.
Собраны были огромнейшие материалы и составлена карта
"Гидроэнергетических ресурсов Таджикистана". Это весьма любопытная карта,
сплошь усыпанная большими и маленькими кружочками. Таких кружочков оказалось
пятьдесят восемь, и каждый из них обозначал место будущей
гидроэлектростанции. Два кружка, огромные, как лики планет на
астрономической карте, легли: один на Восточном Памире и другой на середине
течения Вахша. В первом из них вписано: " "Сарезская -- 600 000".
Десятки кружков легли в северном Таджикистане -- это
станции мощностью от трех до ста тысяч киловатт. Сумма мощностей всех
станций выразилась в гигантской цифре, равной цифре, обозначающей мощность
всех электростанций шести Ленинградов, почти шести Днепростроев... Это
означало сотни будущих заводов и фабрик в Таджикистане, миллионы гектаров
хлопчатника. Это означало, что страна еще недавнего рабства, бесправия,
дикого деспотизма и угнетения станет одной из самых передовых
социалистических стран!
Путешествуя, исследуя, рассчитывая, проектируя, перевидав сотни горных
рек Средней Азии, Н. А. Караулов и сотрудники его группы сделали и общие,
исключительно интересные выводы: реки Средней Азии находятся в диком
состоянии, но их можно и нужно сделать культурными. Каждая горная река
должна находиться под таким же тщательным наблюдением, под каким находится
сад у хорошего садовода; реку нужно приручать, как приручают дикого зверя,
-- воспитывать, дрессировать, искоренять все ее дурные повадки.
Дикая, находящаяся в первобытном состоянии река кидается из стороны в
сторону, размывает свои берега, устраивает бедствия паводками, швыряет на
прибрежные селения громады камней, заливает их силевыми потоками --
глинистой жижей, грязью с размельченными скалами, разбивает головы
оросительных каналов, устраивает грандиознейшие обвалы, смывает фруктовые
сады, посевы, мосты, прибрежные дороги и тропы, вообще ведет себя
непристойно, порой вредоносно...
Надо сооружать перепады на размываемых оврагах; запруды, удерживающие
донный, твердый сток рек; на береговых горных склонах развивать зеленые
насаждения; строить дамбы, чтоб реки не виляли из стороны в сторону, не
могли ничего подмывать; нужно множеством других горномелиоративных работ
укрощать дикий нрав горных рек.
В ту пору, о которой я пишу, одни среднеазиатские шоферы да караванщики
знали, сколько драгоценного времени -- иногда недели и месяцы! -- уходило на
поиски или на ожидание переправы. Только статистики вели счет погибшим в
реках людям и грузам. Материальные убытки от дикости рек исчислялись
миллиардами рублей. В одном лишь 1931 году в одной только Ферганской долине
убытки от силей составили три с половиной миллиона рублей.
"Недооценка этого обстоятельства, -- взволнованно, хотя и строго
"техническим" языком писал инженер Караулов, -- при возведении
гидротехнических сооружений на реках Средней Азии может привести к крупным
неожиданностям и дать гораздо более низкие технические и экономические
показатели
эксплуатации этих сооружений. Параллельно с возведением в системах
горных рек Средней Азии крупных гидроэлектрических установок, плотин и т. д.
надлежит интенсивно и непрерывно вести работы по речной и горной мелиорации,
систематически приводить реки в культурное состояние... Новейшая
гидротехника может дать должный эффект только в том случае, если культурное
состояние рек будет также соответствовать современному уровню".
Никакой анархии! Воды Средней Азии должны быть взяты в крепкие руки и
дисциплинированы. Нужно создать горные научно-исследовательские станции,
которые изучали бы весь комплекс природных условий в высоких горах!
Такая станция -- первая в Таджикистане -- уже в 1929 году была создана
на озере Искандер-Куль, в горах к северу от Сталинабада.
Такая станция -- высочайшая в мире -- была создана на леднике Федченко
в 1932--1933 годах.
Такая станция была создана в 1938 году на Сарезском озере.
Десятки таких станций были созданы в Таджикистане, в частности и на
Памире, на горных реках и озерах в предвоенные годы и после Отечественной
войны.
Огромные работы по строительству дамб, плотин, акведуков, силедуков,
всевозможных гидротехнических сооружений велись с тех пор и ведутся сейчас
во всех областях и районах Таджикской республики, конечно, и на Памире!
Горные реки в этих областях год от году становятся все более
дисциплинированными, все более культурными. Впереди еще очень много работы,
но каждый день, каждый час работа идет!..
Краткосрочное озеро
Это явление природы бывает только в горах. В разных странах горцы
называют его по-разному: во Франции -- нант, в Швейцарии -- руфф, в Германии
-- мур...
В нашей стране на (Кавказе его называют сель, в Средней Азии --силь.
Силь -- это катастрофический, внезапно образующийся, срывающийся по
ущелью поток, влекущий вниз огромные массы камней и разжиженных горных
пород. Вырываясь из ущелья в долину, растекаясь по ней, силь затягивает и
разрушает все на своем пути. Известны случаи, когда силь разрушал селения и
даже города: такие грязе-каменные потоки, например, произвели трижды (в
1914, 1934 и 1938 годах) большие разрушения в американском городе
Лос-Анжелосе,
расположенном у подножия Кордильер на берегу Тихого океана. Последний
из этих силей оставил без крова десять тысяч жителей города, более двухсот
из них погибли. Отдельные камни, проносимые силевым потоком по улицам,
весили до пяти тонн.
Силевые потоки возникают в горах, чаще всего после обильных ливней, то
иногда бывают и при ясной, сухой погоде. Основная причина их -- внезапное
сползание крутых, исподволь напитанных водою, "подточенных" ею горных
склонов, которые затем уносятся вниз по ущелью в виде густого месива.
Низвергаясь в теснине, силевой поток захватывает разрушаемые им берега, а
потому стремительно разрастается. Иногда, наталкиваясь на скалистые породы,
он образует заторы, которые затем, по мере накопления силевой массы,
прорываются и еще более увеличивают мощь и скорость потока.
В горах Средней Азии, в частности Таджикистана, где мне приходилось
наблюдать силевые потоки, они явление частое. В населенных долинах с ними
успешно ведется борьба. Советские люди научились различными мерами
предупреждать возникновение силей там, где они могли бы угрожать колхозным
полям, дорогам, человеческому жилью. К таким мерам относятся террасирование
склонов, посадки лесов по ущельям вдоль берегов рек, организация постоянной
службы наблюдения за мелкими оползнями на горных склонах... Там, где можно
опасаться прохождения силевых потоков, уже возведены (например, в Ферганской
долине) различные системы направляющих дамб, силедуков и других крупных
ограждающих сооружений.
Но в малонаселенных районах стихия гор и поныне еще не обуздана. Мне
хочется рассказать читателю об одном из силей, случившемся в долине реки
Хингоу, о том, как этот силь образовал озеро в несколько километров длиной и
оно четыре недели мешало людям, и о том, как люди устранили созданную для
них природой помеху и как в долине восстановилось прежнее положение.
Мне пришлось побывать на этом озере.
С высочайших ледников Памира, с высот, увенчанных пиками Щербакова,
Пулковским, Сакко, Ванцетти, и от гребней водораздела, за которым
протягивается к Пянджу долина Ванча, бежит несколько горных рек. Все они
сливаются в одну, которая называется Оби-Хингоу и течет в узкой долине между
склонами двух огромных горных хребтов: Петра Первого и Дарвазского. Склоны
этих хребтов круты и прорезаны множеством узких ущелий, образованных
боковыми притоками Оби-Хингоу.
Каждый, кто едет теперь на Памир из Сталинабада по Западно-Памирскому
автомобильному тракту имени Сталина, не минует этой долины и запомнит ее:
дорога кружится над нею, пересекая горные склоны, делая петли и то спускаясь
к самой реке, то поднимаясь на высокие осыпи, на площадки древних речных
террас, на причудливые нагромождения древних и современных силевых
выносов...
Выше районного центра Тавиль-Дары, пробежав по долине еще десятка два
километров, дорога сворачивает в ущелье Дарвазского хребта, чтобы подняться
к высотам Сагирдашта, где уже нет деревьев, где, впрочем, колхозники
собирают отличные урожаи зерна. Там, после многих крутых и опасных зигзагов,
за перевалом Терри-куртар, дорога спускается в каменную межгорную щель
Кала-и-Хумба, средневековую столицу феодального Дарваза, а ныне цветущий
районный центр на самом берегу Пянджа.
Вот о местности между Тавиль-Дарой и поворотом в ущелье, где расположен
кишлачок Кала-и-Гуссейн, я и хочу рассказать.
Этот участок долины ничем как будто не примечателен. Склоны гор над
долиной поросли арчой, облепихой, мелкою пастбищной травкой. Несколько
маленьких кишлаков, расположенных высоко над долиной, уже давно объединены в
колхозы. В узком месте, где река бежит единым потоком, некогда был кишлак
Иофташ. Его жители в 1940 году переселились в Вахшскую долину, на новые,
орошенные земли. А с тех пор -- со времени строительства Памирского тракта
имени Сталина -- здесь существует паромная, переправа и возле нее вырос
маленький поселок: несколько домиков, в которых живут со своими семьями
паромщики, а для проезжающих есть чайхана, -- в ней ночуют, когда слишком
стремительна и высока вода, шоферы и путники, по старинке едущие верхом на
дарвазских лошадках или на ослах.
Проезжая это место в автомобиле, обычно не замечаешь его, -- оно ничем
не отличается от многих других участков дороги. Те же снежные гребни далеко
вверху, те же излучины реки внизу.
В этой местности, в восьми километрах выше Тавиль-Дары по долине, есть
боковое ущельице. Оно прорезает правобережный склон и выходит в долину
небольшим раструбом. Ручей, текущий в этом ущельице от гребней хребта Петра
Первого, промыл овраг, пересекающий долину от раструба ущельица до самой
реки Хингоу.
День 20 июня 1952 года был солнечным, тихим, никаких дождей в этой
местности уже несколько дней не было. Не наблюдалось и никаких подземных
толчков, хотя в этих местах,
отличающихся высокой сейсмичностью, в другое время нередко бывают и
землетрясения. Словом, все было спокойно, обычно. Но вот где-то в верховьях
ущелья, без особого шума, неожиданно сползла в русло ручья часть крутой
горы. Ущелье в этом месте было совсем узким, не шире тридцати-сорока метров.
Соскользнувшая масса горной породы запрудила русло ручья и остановилась.
В это время года снега в горах уже начинают интенсивно таять.
Запруженный ручей, увеличиваясь, к середине дня образовал выше завала озерко
из разжиженной водою глины. Все больше скапливалось воды, все больше
напитывала она массу завала. Эта масса тронулась с места, начала пробиваться
вниз по ущелью, вовлекая в себя и таща все, что попадалось на пути: валуны,
которые здесь лежали, быть может, столетиями, деревья, росшие над ручьем.
Двигаясь дальше, силевая масса замешивала все захваченное, как в
бетономешалке. Силь, однако, вначале двигался медленно и каждые пять-шесть
минут приостанавливался. Его задерживали крупные валуны, встречавшиеся на
его пути. Масса накапливалась, прорывалась через преграду, увлекала ее с
собой и вновь неслась вниз, теперь уже со скоростью трехсот-четырехсот
метров в минуту. Пройдя несколько сот метров с такой скоростью, силь вновь
задерживался, и все повторялось.
Первыми заметили силь колхозные пастухи. Они сообщили о нем старшему
паромщику Бегаку Шарипову и его помощникам, жившим в четырех километрах выше
ущелья, по долине Хингоу. Там возле парома стояли их домики и тянулись вдоль
берега их маленькие огороды и молодые сады...
Возле парома работали инженер дорожно-эксплуатационного участка Вилков
и бурильный мастер. Они бурили скважину глубиной в двенадцать-пятнадцать
метров: здесь вместо парома предполагалось построить мост. Инженер и мастер
узнали о силе вечером.
В 8 часов утра 21 июня они выехали верхами к ущелью. Перед ущельем им
встретился таджик-колхозник.
-- Не проедете! -- сказал он. -- Силь!
Они подъехали к мостику через овраг, где дорога проходила мимо раструба
ущелья. И увидели, что силь уже прошел по оврагу к реке Хингоу, не выходя из
берегов оврага и только заполнив его жидкой глиной, валунами, изломанным,
замешанным в глине лесом. Мостик через овраг был сорван.
Через три-четыре минуты послышался страшный шум. Вверху, в глубине
ущелья все закрылось туманом, но этот туман оказался вихрями пыли, и когда
он расходился по сторонам, то сметал со склонов ущелья кустарник и почву,
мгновенно превращая ее в пылевое облако. Через пять-шесть минут Вилков
и его спутник увидели несущийся со скоростью двадцать -- двадцать пять
километров в час силь. Все сокрушая на своем пути, он мчался вниз по ущелью.
Надо было спасаться. Инженер с мастером кинулись бегом по направлению к
Тавиль-Даре. Дорога заходила за мыс, достаточно было пробежать с полсотни
метров, чтобы укрыться от силя. Они успели забежать за мыс, стали
карабкаться по склону.
С оглушительным шумом силь промчался по оврагу, не уместившись в его
берегах, разлился по долине Хингоу и замер. Казалось, масса камней и глины
иссякла.
Но через десять-двенадцать минут новый силевой вал вырвался из ущелья,
перекрыл нагромождения от предыдущего вала, распространился по долине шире и
дальше. Это означало, что где-то вверху образовывались заторы, которые по
мере накопления силевых масс прорывались.
С этого момента каждые десять-двенадцать минут все новые и новые
силевые валы выкатывались из ущелья непрерывно в течение полутора суток, как
лавой затягивая долину Хингоу. Перегородив всю долину, силь добрался до
русла Хингоу. Мощная река долго боролась с силем, отбивала нагромождаемые на
нее завальные массы, смывала глину, ворочала огромные принесенные с гор
камни, но справиться с ним не могла. К вечеру вода реки еще пробивалась
сквозь завальную массу. К полуночи силь прекратился. Река была перекрыта
полностью. Высота завала равнялась примерно двадцати одному метру.
Всю ночь и все утро перегороженная река Хингоу, бешено кружась, ища
себе выхода и не находя его, заполняла долину выше завала. На следующий день
вода заполнила долину, образовала озеро. К вечеру она смыла паром, огороды и
сады паромщиков, подступила к их маленькому поселку, к счастью,
расположенному сравнительно высоко. Река стала подмывать дома, ворвалась в
них, поднялась сантиметров на десять, но выше уже не пошла, потому что,
дойдя до гребня завала, начала понемногу переливаться через образованную
стихией плотину.
В следующие дни силь продолжался порывами. Вода озера частично смыла
гребень завала, и он опустился сантиметра на три-четыре, судя по измерению,
сделанному с помощью нивелира Вилковым. Длина озера от завала до места, где
был паром, достигала 3 100 метров, а ширина в самом широком месте -- 800
метров.
27 июня силь кончился. До этого он шел спорадически: то остановится, то
хлынет из ущелья вновь. Небольшие силевые выносы продолжались еще с неделю.
С первого же дня силя колхозники установили постоянную связь с районным
центром, учредили ночные дежурства и организовали сбор унесенного силем
леса.
По словам очевидцев, валуны, которые нес в своей гуще силь, были до
пятидесяти кубических метров объема, до ста тонн весом.
Специальная комиссия, прибывшая из Сталинабада, решила, что необходимо
мелкими взрывами снизить уровень озера. Взорвать же плотину всю целиком не
рискнули: хлынув вниз, вода озера могла бы затопить многие населенные пункты
по долине Хингоу.
На месте завала ширина русла достигала тридцати метров. Глубина озера
доходила до двадцати метров, а в верхнем конце, у парома, равнялась шести
метрам. Силевые нагромождения растянулись на километр по ширине долины и
метров на шестьсот по длине, в виде гигантского хаотического нагромождения
камней, торчавших из затянувшей их вязкой, топкой, медленно просыхающей
глины. Вся эта масса состояла из известняков, песчаников, желтоцветных
конгломератов.
Много дней спустя после силя по этой массе еще нельзя было пройти
пешком: она была настолько жидкой и вязкой, что поглотила бы, как болотная
трясина, всякого осмелившегося ступить на нее человека. Но все население
здешних мест веками знакомо с силями. Отдельные смельчаки рисковали
перебираться по силевой массе, ступая, как по мосткам, по набросанным
бревнам и доскам. Ни одной человеческой жертвы во время этого стихийного
события не было.
Работы на озере начались сразу же после приезда комиссии. Сюда были
доставлены бульдозер, трактор "С-80", перфоратор и другая дорожная техника,
аммонал, все необходимое для того, чтоб постепенно взрывать плотину,
спускать воду озера, строить в обход его дорогу вместо прежней, затопленной.
Сотни окрестных колхозников вышли на помощь дорожникам, строителям.
Дорогу в обход озера вместо затопленной сделали за одиннадцать дней. Еще
несколько дней пришлось потратить на восстановление парома.
26 июля первые автомашины двинулись по новой дороге. К этому времени
длина озера уменьшилась до 2 600 метров, потому что плотина была частично
взорвана. Решено было прекратить работы на озере, -- оно больше никому не
мешало, а оставшаяся часть плотины была надежной и не угрожала внезапным
размывом.
Ниже озера только огромное нагромождение камней и глины, перекрывших на
большом пространстве долину, осталось следом стихийного происшествия. Да
овраг бокового
ручья, по которому пронесся силь, остался глубоко прорытым, -- его
стенки возвышались теперь на шестьдесят метров. Его ширина -- тридцать-сорок
метров -- не изменилась, а глубина увеличилась больше чем вдвое.
Такова история одного из силей, каких в Таджикистане бывало, бывает и
еще будет множество.
Я рассказал об этой истории сухо и коротко, чтобы ни в чем не нарушить
точности и строгости при изложении известных мне фактов, записанных в
сентябре 1952 года, при посещении озера.
Но первый раз я видел это озеро еще в начале августа, видел его с
самолета, когда летел из Сталинабада в Хорог. Оно казалось сверху голубою,
овальной жемчужиной, и никто в ту пору не знал, сохранится ли это озеро на
долгие годы, как сохранились в Таджикистане некоторые озера такого же
происхождения, или исчезнет навеки, как исчезли многие другие, следы которых
встречаешь везде на Памире и в прочих горных районах Таджикистана, --
какой-нибудь каменный ригель, размытая плотина завала, затянутое почвой,
зеленой травой конусообразное нагромождение силевого выноса. Некоторые из
этих озер существовали дни или недели, другие -- десятилетия и даже века. Но
теперь их нет, и о них знают только геологи да геоморфологи, да еще кое-где
о них существуют представляющиеся нам фантастическими легенды...
Район Сареза до и после завала (по схеме П. П. Чуенко).
На верхней схеме пунктиром показаны река Мургаб до завала и озеро,
таким, каким оно стало к 1913 году. На нижней схеме: озеро в 1934 году.
Кабулова был построен маленький домик. Прибывавшая вода в первый же год
поглотила все восемь реек, только в следующие годы уровень озера начал
повышаться медленнее.
Первые сведения об озере, названном Сарезским, проникли в печать. В
"Туркестанских ведомостях" 3 ноября 1913 года было опубликовано сообщение
"Экспедиция для исследования Сарезского озера".
В этом сообщении было много фантастики. Капитан Г. А. Шпилько
опубликовал в тех же "Туркестанских ведомостях" письмо в редакцию, в котором
сообщал проверенные им, точные данные. В следующем году статьи Шпилько были
опубликованы в "Известиях Русского географического общества".
В том же году об Усоиском землетрясении и его последствиях сообщил в
"Русских ведомостях" путешествовавший по Памиру ботаник Д. Д. Букинич, а с
1914 года после статьи Шпилько в "Известиях Русского географического
общества" и других сообщений весть о новом, феноменальном озере облетела
весь мир, им заинтересовались, о нем писали крупнейшие ученые, такие, как В.
Н. Вебер и Л. С. Берг.
Упорно воюя с завалом, вода озера начала просачиваться сквозь
пятикилометровую толщу плотины. В апреле 1914 года профильтрованные
чистейшие ключи забили с другой ее стороны. Сливаясь в один поток, они
родили новую реку, -- соединившись с текущей из танымасских ледников
Кударой, река снова стала называться Бартангом. Пенная, бурлящая, холодная,
она неслась вниз по извивающемуся ущелью, чтобы в двухстах километрах ниже
слиться с водами могучего Пянджа.
Один за другим к озеру стали стремиться различные путешественники.
В 1915 году, побывав на озере, сделав новую съемку и некоторые
наблюдения, вернулся в Петербург и выступил с подробным докладом об озере И.
А. Преображенский. Его доклад в Географическом обществе обсуждали крупнейшие
ученые: К. И. Богданович, Д. И. Мушкетов, Д. Д. Букинич... Много говорилось
об угрозе прорыва озера сквозь плотину. Но до Октябрьской революции, кроме
отдельных путешественников, устремлявшихся к озеру на свой страх и риск (и
даже не всегда способных до него добраться), никто больше им не
интересовался.
А оставленный у озера наблюдатель Нияз Кабулов, неграмотный, не
сведущий в науке, но преданный порученному ему делу, еще несколько лет
продолжал отмечать на новых рейках повышение уровня озера. Вода давно смыла
отстроенный для него домик. Он жил в ближайшем кишлаке и, приходя к завалу,
каждый раз наблюдал, как уровень поверхности озера становится все ближе к
гребню завала...
Советские исследования на Сарезском озере
Первая научная экспедиция на Памир после Октябрьской революции
состоялась в 1923 году. Это была экспедиция ташкентского географа Н. Л.
Корженевского, уже не раз бывавшего на Памире. В экспедиции участвовала
ботаник И. А. Райкова, впоследствии ставшая крупным ученым.
Экспедиция достигла и Сарезского озера, произвела на его берегах ряд
наблюдений.
В 1925 году топограф В. С. Колесников, побывав у озера, увидел бьющую
из-под плотины огромную реку: из озера вытекало семьдесят восемь кубометров
воды в секунду.
Озеро, поверхность которого находилась на высоте 3 400 метров над
уровнем моря, быстро росло, угрожая жителям Бартанга новой грандиозною
катастрофой. Если бы вдруг прорвалась плотина, миллионы тонн воды Сарезского
озера, хлынув вниз по ущелью, чудовищным валом смыли бы все кишлаки Бартанга
и понеслись бы дальше, уничтожая все живое по берегам Пявджа, вплоть до
Термеза. Десятки тысяч людей погибли бы от этого "каприза природы".
А толком никто ничего о Сарезе не знал. Длина озера увеличивалась с
тридцати до сорока, до пятидесяти километров. Пробраться к озеру становилось
все труднее, потому что его воды омывали теперь исключительно крутые, а
местами отвесные скалы. Эти колоссальные скалы возвышались над поверхностью
озера на два с половиной километра по вертикали; врезаясь в
кристально-чистую зеленоватую воду, они столь же круто или отвесно уходили в
ее глубину, и эта глубина с каждым годом все увеличивалась.
Среди советских ученых, в советских гидрологических организациях росла
тревога. Надо было принимать срочные меры.
В мае 1926 года на пленуме Средазэкономбюро состоялось обсуждение
вопросов, связанных с организацией постоянного наблюдения за Сарезским
озером. В том же году к озеру проникли известный гидролог О. К. Ланге и
топограф Тейхман, которым была произведена фототеодолитная съемка озера в
масштабе 1: 50 000.
Через два года, когда для изучения Памира впервые была организована
крупная экспедиция Академии наук СССР, О. K. Ланге вновь побывал на озере
вместе с несколькими другими учеными. Впервые зародилась мысль об
организации на берегу озера постоянно действующей гидрометеорологической
станции.
Но до осуществления этой идеи было еще далеко. Географические условия
оставались исключительно трудными.
В январе 1929 года состоянию Сарезского озера было посвящено заседание
Средне-Азиатского географического общества. Летом того же года с перевала
Кара-Булак к озеру спустился геолог Г. Л. Юдин вместе со своими сотрудниками
Е. Г. Андреевым и М. М. Лавровым. Они зафиксировали новое положение головы
Сарезского озера. В 1930 году к озеру пыталась проникнуть экспедиция В. А.
Афанасьева, организованная Госпланом Узбекистана. Она не добралась до озера,
но ей удалось направить туда водомерщика, местного жителя. С октября того
года на озере возобновилась водомерная работа: старик водомерщик делал
отметки четыре-пять раз в месяц, кроме зимнего времени, когда на озере
образуется лед толщиною до одного метра.
Отправляясь в 1931 году вместе с Юдиным на Памир, я заказал в
ленинградском яхт-клубе лодку, на которой мы рассчитывали совершить плавание
по Сарезскому озеру. Эта лодка была привезена в Ош, но навьючить на
верблюдов ее не удалось, а иного способа перебросить ее от Оша к Сарезскому
озеру не было. Лодку пришлось оставить в Оше. В 1932 году, пользуясь
широкими возможностями Таджикской комплексной экспедиции, Юдину удалось
добыть и доставить к Сарезскому озеру легкую парусиновую байдарку. Юдин и
его спутник вдвоем проплыли на этой багвдарке от самого Усойокого завала до
головы озера, то-есть прошли его по всей длине -- больше семидесяти
километров. Это было первое плавание по Сарезскому озеру!
Работая веслами, на большой высоте, почти в три с половиной тысячи
метров (над уровнем моря, борясь с сильным ветром и волнами, ежеминутно
рискуя перевернуться, Юдин и его спутник не имели возможности произвести
даже глазомерной съемки новых участков долины, к этому времени захваченных
озером. Пришлось ограничиться геологическими наблюдениями.
Группа гидроэнергетика Караулова
Планомерное изучение Памира, начатое Таджикской комплексной
экспедицией, в 1932 году охватило и бассейн Сарезского озера. Здесь
производил магнитную съемку отряд И. Д. Жонголовича. Сюда был направлен
начальник гидроэнергетической группы инженер Н. А. Караулов.
Он должен был подробно обследовать озеро и вывести заключение: угрожает
ли плотина прорывом? Он должен был также решить: возможно ли использовать в
будущем водную энергию озера для строительства гидроэлектростанции?
К 1932 году озеро простиралось почти на семьдесят пять километров. Все
то, что было узнано о нем отдельными, с величайшим трудом проникавшими сюда
исследователями, было ничтожно малым, почти ничего не определяющим знанием.
Николай Александрович Караулов, один из крупнейших специалистов в
Советском Союзе, человек тихий, нервный, самоуглубленный, никак не
альпинист, не спортсмен, должен был в Таджикской комплексной экспедиции
изучить все главные реки Таджикистана. Его сотрудники разбрелись по
разнообразнейшим направлениям. Сам он со своим братом, специалистом по
линиям электропередачи, и с одним сотрудником двинулся на Памир и после
долгих, тяжелых странствий верхом и пешком добрался до Сарезского озера. Он
окреп, загорел, закалился за это время. Он, как и все, научился спокойно
рисковать своей жизнью на переправах, на кручах, на льду. Поставив маленький
лагерь на крутом берегу озера, он спокойно занимался метеорологией,
гидрологией, топографией, -- на любом камне раскладывал свои схемы и
чертежи, углублялся в вычисления и расчеты так, словно сидел за большим
столом у себя в кабинете.
Выл ветер, полыхал языками костер, мороз пробирался за воротник и
рукава овчинного полушубка, а Николай Александрович обсуждал со своим
братом: можно ли здесь, на Сарезском озере, построить гигантскую
гидроэнергетическую станцию? Ведь если пустить воду Сареза в турбины,
просачивание сквозь плотину прекратится, опасность прорыва исчезает.
Турбины!.. Гидростанция на Сарезе!.. Какому фантазеру может явиться в
голову такая идея?
Когда незадолго перед появлением на озере Караулова Юдин, рассуждая об
озере, усмехнувшись, оказал мне: "Вот бы построить здесь гидростанцию!" --
оба мы рассмеялись: эта мысль показалась нам фантастической.
Но фантазия в трезвом уме гидроэнергетика Караулова облеклась в цифры.
Он слишком хорошо знал, сколько его фантазий за предшествующие годы
претворилось в реальное дело. Его работа должна была пригодиться не в
ближайшем будущем, а в то время, когда Памир окажется настолько освоен, что
и электрическая энергия понадобится там в большом количестве. И теперь на
диком, почти недоступном берегу Сарезского озера он разговаривал со стариком
таджиком, который с 1930 года жил здесь в жалкой каменной лачуге и
производил простейшие, но регулярные наблюдения над уровнем воды, над
состоянием погоды.
Старик ничего не знал об остальном мире. Старик бывал только в Хороге,
-- там его научили отсчитывать деления на рейке, записывать арабским
алфавитом даты своих наблюдений. Старик, в оборванном халате, со спутанной
бородой,
с глубоким убеждением, что озеро создано дэвами -- духами гор, честно и
аккуратно делал то, что ему поручили. Он сам не понимал цены своим записям,
он просто относился к ним с благоговением, веря ученым, оказавшим ему, что
его работа -- великое дело, что от нее зависит благополучие живущих по
Бартангу людей.
Но в уме Караулова эти цифры заговорили иначе. Они помогли ему
рассуждать.
И Караулов рассуждал так:
"... Фильтрация вызывает угрозу размыва? Надо, значит, устранить
фильтрацию. Как это сделать?.. Снизить горизонт озера... А это как
сделать?.. В самом деле, как опустить горизонт? Сбросить лишнюю воду. Как и
куда?"
Инженер Караулов, забывая опасности и усталость, лазал по отвесным
обрывам берега. Как и куда?.. Глазом, биноклем, рукою -- на ощупь примерялся
к завалу. Гигантские стены ущелья вставали над громадой завала. Сверху, от
вечных снегов стекали ручьи. Как и куда?.. Караулов по ночам, в палатке,
ворочался в спальном мешке. Караулов курил, как курят в своих кабинетах,
продумывая сложные проекты, все инженеры.
И однажды весело сообщил старику бартангцу:
Знаешь, рафик! Надо устроить тоннельный водосброс...
Чиз? (Что?) -- почтительно, по-таджикски переспросил старик.
Надо прорыть трехкилометровый тоннель, вот от этого маленького озерка
Шадау-Куль до того вон ручья, как он называется? Хурмы-хац, что ли? Мидони?
(Понимаешь?)
-- Ич-но мидонам! (Ничего не понимаю!)--покачал головою старик, и
Караулов принялся объяснять ему свою идею комбинациями бесчисленных и
многоречивых жестов.
-- В самом деле, --торячо обсуждали вопрос два инженера, братья
Карауловы, -- здесь тоннель, а чтоб вода из Сареза могла попасть в озерко
Шадау-Куль, надо в перешейке между ними прорыть канал. А потом принять меры
к кольматированию верхней грани завала. Вот используя эти текущие с верхних
снежников ручьи, системой деревянных лотков и труб подавать на завал мелкий
глинистый материал. Он засосет все щели... Ну-ка, давай мой расчет!..
Дальше следовали всевозможные цифры и термины. Инженеры пока еще в
воображении строили здание станции на реке Бартанг у кишлака Нисур, выбирали
лучший из вариантов использования энергии Сарезского озера, спорили,
нервничали, ссорились, мирились, набрасывали в полевые книжки сложные
графики и, наконец, уехали на своих заморенных лошадях, чтоб сообщить
ученому совету, руководившему экспедицией, что ими сделана "схема с
тоннельной деривацией", что мощность гидроэлектрической установки на
Сарезском озере (не фантастической, о нет, самой реальной, вполне
осуществимой!) составит четыреста тысяч лошадиных сил -- триста тысяч
киловатт. А если сделать водохранилище, чтобы регулировать расход воды в
зимнее время, то мощность этой станции можно довести до одного миллиона
киловатт.
Сразу окажем! Сарезское озеро и сейчас так же недоступно и дико. Работа
Караулова дала только проект. Еще неизвестно, куда девать такую энергию. Но
этот проект есть точное знание о районе, который до того времени был
загадкой. А то, что сегодня советскими людьми проектируется, завтра
осуществится. И можно не сомневаться, что это завтра с развитием горной
промышленности и народного хозяйства Памира придет. Пока же упорная работа
по изучению озера и наблюдению за его режимом продолжается. В 1934 году
геологи Таджикско-Памйрской экспедиции Академии наук привезли на Сарезское
озеро разборную деревянную лодку, ходили на ней под парусом и на веслах.
Вторую такую же лодку в том же году доставила сюда экспедиция В. А.
Афанасьева, организованная на этот раз одним из среднеазиатских
научно-исследовательских институтов. Орография, гидрология, геология озера
были подробно изучены.
Научная станция "Сарез"
7 февраля 1936 года в "Правде" появилась следующая заметка:
"Научная станция у Сарезского озера.
Таджикское правительство решило построить на Памире, на берегу
Сарезского озера, на высоте 3 060 метров над уровнем моря
гидрометеорологическую станцию... "
Дальше рассказывалась история образования озера. Заметка заканчивалась
так:
"По мнению ряда ученых, имеется опасность, что под колоссальным
давлением воды завал может прорваться. Организуемая гидрометеорологическая
станция будет вести наблюдения над завалом. Одновременно будет изучаться
режим Сарезского озера.
В Сталинабаде готовится оборудование для станции. Снаряжается
экспедиция, которая выступит к озеру, как только позволит погода".
Гидрометеорологическая станция "Сарез" была создана и в 1938 году
начала работу. Впервые режим озера изучался зимою. Наблюдения над озером
стали круглогодичными, круглосуточными, непрерывными. Вскоре на озеро была
доставлена моторная лодка. Сложнейшие приборы были привезены по головоломным
тропинкам на станцию. На станции появились постоянные жители: научные
работники -- коммунисты и комсомольцы.
Они работают неустанно. Они скромны: редко-редко сообщают они в печать
о своей жизни и о своей работе.
Но в канун нового, 1941 года зимовщики полярных и арктических станций
обменялись по радио приветом и поздравлениями с зимовщиками
метеорологических станций пустыни Кара-Кумы и высокогорий Памира. И 1 января
1941 года читатели "Комсомольской правды" прочитали сообщение:
"Радио с высокогорной гидрометеостанции "Сарез":
Холодно и ветрено. Мороз 35 градусов. Ночная тишина часто нарушается
громовыми раскатами горных обвалов. Наш домик окружают хищные звери --
барсы. По-звериному завывает суровый памирский ветер.
Новый год ждем с нетерпением. Новогодний ужин проведем в дружеской
беседе. Меню ужина составлено из восьми блюд: каждому будут поданы
фаршированный горный заяц и зимующая на озере утка-лысуха.
Самочувствие зимовщиков бодрое, несмотря на долгую оторванность от
населенных мест, от окружающего мира. Поздравляем молодежь цветущей великой
Родины с Новым годом, желаем еще лучше учиться, работать, творить чудеса на
благо родного советского народа.
С комсомольским приветом коллектив зимовщиков озера Сарез: Берсонов,
Градсков, Перченко, Полехин, Мурин, Мухина, Зайцев, Тростянский".
Большую часть года зимовщики "Сареза" бывают отрезаны от всего внешнего
мира. Только поздней весною стаивает снег на перевале Лянгар-кутал. Путь
через него даже летом опасен и чрезвычайно труден. Но это единственный путь,
которым может прийти к гидрометеостанции "Сарез" караван от перевалочной
базы, расположенной на Восточном Памире, у озера Яшиль-Куль, куда в наши дни
легко доехать на автомобиле.
И надо сказать: этим путем почти каждое лето к зимовщикам станции
приезжают гости. Альпинисты, топографы, гляциологи, ботаники, магнитологи,
геологи все чаще посещают этот интереснейший, теперь уже не заповедный, хотя
и попрежмему труднодоступный район. Станция "Сарез" для них -- опорная база.
Каждый приехавший сюда хочет прокатиться на моторной лодке по огромному
озеру, даже не для работы, а просто, чтоб увидеть своими глазами и запомнить
на всю жизнь удивительную красоту его берегов и его прозрачно-зеленой воды,
толща которой над дном достигает полукилометра.
Сейчас у работников станции есть новый моторный баркас и резиновая
лодка. Опыт плаваний по озеру многому научил работников станции. Они всегда
стараются держаться подальше от берегов, потому что у отвесных береговых
круч им угрожают камнепады, "каменные дожди", каменные лавины... Со страшным
грохотом рушатся горные породы в прозрачную воду, пораженный участок озера
закрывается густым облаком пыли, она оседает медленно, распространяясь над
поверхностью слабеющей мглой.
Бывают периоды, когда обвалы следуют один за другим, и тогда пыль
поднимается до гребней высоких гор. В 1932 году такие обвалы часто бывали в
том районе, где произошел Усойский завал и где после него обнажились те
горы, от которых отделилась, соскользнув в долину, вся исполинская масса
завала. Н. А. Караулов, работавший в то время на озере, слушал гул этих
обвалов примерно каждые полчаса, а облака пыли не расходились над горами
иногда по целым дням. Это было похоже на глухое ворчание готовящегося к
извержению вулкана, хотя каждому известно, что на Памире вулканов нет.
Природа в районе озера грозна, сурова, капризна. Но людям надо знать
главное: многолетнее изучение озера дало ученым право утверждать, что в
ближайшее время опасности прорыва завальной плотины нет. А если б такая
опасность возникла, точнейшие приборы, внимательнейшие наблюдения указали бы
на нее заблаговременно. Население Бартанга и других угрожаемых мест было бы
во-время предупреждено.
Работники станции гордятся ответственностью, лежащей на них. Они
бдительны!
Обузданный Гунт
Инженер Н. А. Караулов в период работы Таджикской комплексной
экспедиции объехал почти весь Памир. Он изучил повадки Пянджа, Гунта,
Висхарви, Каинды, Балянд-Киика, Кокджара, Танымаса и других рек Памира. Он
рассчитал, какой энергией обладает каждая из них, примерился, где и какие
можно построить электростанции. Он побывал на озере Яшиль-Куль, которое в
древние времена образовано завалом, подобным Сарезскому. И потом приехал в
Хорог и поставил свою палатку в абрикосовом саду, под огромным тутовым
деревом. И 10 сентября 1932 года здесь, в областном центре Памира, в столице
Горно-Бадахшанской автономной области,
люди из обкома партии -- таджики и русские -- собрались слушать доклад
начальника гидроэнергетической группы.
В маленьком белом домике, над пенными водами Гунта, тускло светили,
мигая и затухая, две электрические лампочки: работал движок, привезенный в
Хорог пограничниками за год перед тем. Надоедливый стук одноцилиндрового
мотора, казалось, изрядно мешал докладу инженера-гидроэнергетика. Начальник
пограничного отряда смотрел на мигающие лампочки и что-то шептал на ухо
начальнику строительства Памирского автомобильного тракта. И председатель
правительственной комиссии, посетивший Хорог, толкнул их тихонько под
локоть, чтоб не мешали слушать.
И когда Караулов окончил доклад, с места поднялся один из старых
большевиков Памира, местный житель, шугнанец. Он очень серьезно оказал:
-- Гидроэлектростанцию на Гунте нужно построить. И откладывать этого
дела незачем. У нас есть средства. Мы должны добиться включения
строительства в последний год второй пятилетки... или, в крайнем случае, в
первый год третьей... Не только Хорог -- пусть весь Шугнан, весь пянджский
берег Рушана мы осветим электрическим светом. Напротив, на афганской
стороне, попрежнему будут мерцать во тьме масляные ч и р о к и, а у нас
будет свет!
И оба начальника его поддержали и добавили от себя, что топливный голод
в Хороге скоро станет подлинным бедствием, ибо шах-даринский лес больше
нельзя вырубать, а других лесов здесь нет. Гидростанция должна обеспечить
Хорог тепловою энергией.
-- А что это значит? -- спросил молодой шугнанец-комсомолец.
И, прервав на минуту собрание, председательствующий все подробно ему
объяснил.
В постановление обкома партии был включен пункт:
"Просить инженера Караулова взять на себя консультирование при
разработке детального проекта гидроэлектрической установки на реке Гунт".
Весной 1935 года строительство гидроэлектростанции в Хороге началось.
Через несколько лет станция -- первая мощная гидроэлектростанция на Памире
-- вступила в строй. Она работает безотказно, питая Хорог и весь Шугнанский
район энергией -- дает свет и тепло. Она изменила весь быт шугнанцев --
горожан и колхозников. Я уже упоминал, например, о том, что в колхозе имени
Сталина производится электромолотьба. Достаточно сказать, что по степени
электрифицированности Хорог стоит на одном из первых мест среди городов
Таджикской республики.
О культуре рек
Гидроэнергетическая группа Таджикской комплексной экспедиции в 1932
году изучила все главные реки центрального Таджикистана и несколько рек
Памира. Изучить их -- это значит прежде всего пройти их по всему протяжению,
от истоков до устья. Уже одно это было огромной работой. Ведь все они текут
в узких долинах, сжатых скалистыми, отвесными стенами, где иногда по
опасным, неверным тропинкам не только лошадь, а и человек едва может
пробраться.
Работники группы определили скорость течения, расход и температуру
воды, изучили русла, мощности боковых притоков, условия образования
грязе-камемных, катастрофических силей... Всюду, на каждой реке были выбраны
наиболее удобные места для постройки в будущем гидроэлектрических станций,
водохранилищ, ирригационных сооружений. Ведь в республике все уверенней
организовывались колхозы, ведь коммунисты знали, что колхозам не век жить во
тьме, весь народ знал, что ленинский план электрификации нашей страны должен
быть и будет осуществлен!
Почти половина сотрудников группы болела тропической малярией, но никто
не покинул работ до их окончания.
В следующем, тридцать третьем году работы группы были продолжены --
экспедиция в том году уже была переименована в Таджикско-Памирскую, объем
работ ее все увеличивался. На этот раз исследования производились на
территории тех районов республики, которым предстояло стать центрами
развития будущей промышленности Таджикистана. Само изучение речных бассейнов
было более углубленным, чем в 1932 году, когда проводилось общее, широкое
предварительное обследование. В 1932 году группа изучала главным образом
юго-восточные области Таджикистана: Каратегин, Дарваз, Памир. В 1933 году
все внимание было сосредоточено на северных, хлопковых и горнорудных
районах, на юго-западе, в среднем и нижнем течении Вахша и в бассейне реки
Зеравшан.
Собраны были огромнейшие материалы и составлена карта
"Гидроэнергетических ресурсов Таджикистана". Это весьма любопытная карта,
сплошь усыпанная большими и маленькими кружочками. Таких кружочков оказалось
пятьдесят восемь, и каждый из них обозначал место будущей
гидроэлектростанции. Два кружка, огромные, как лики планет на
астрономической карте, легли: один на Восточном Памире и другой на середине
течения Вахша. В первом из них вписано: " "Сарезская -- 600 000".
Десятки кружков легли в северном Таджикистане -- это
станции мощностью от трех до ста тысяч киловатт. Сумма мощностей всех
станций выразилась в гигантской цифре, равной цифре, обозначающей мощность
всех электростанций шести Ленинградов, почти шести Днепростроев... Это
означало сотни будущих заводов и фабрик в Таджикистане, миллионы гектаров
хлопчатника. Это означало, что страна еще недавнего рабства, бесправия,
дикого деспотизма и угнетения станет одной из самых передовых
социалистических стран!
Путешествуя, исследуя, рассчитывая, проектируя, перевидав сотни горных
рек Средней Азии, Н. А. Караулов и сотрудники его группы сделали и общие,
исключительно интересные выводы: реки Средней Азии находятся в диком
состоянии, но их можно и нужно сделать культурными. Каждая горная река
должна находиться под таким же тщательным наблюдением, под каким находится
сад у хорошего садовода; реку нужно приручать, как приручают дикого зверя,
-- воспитывать, дрессировать, искоренять все ее дурные повадки.
Дикая, находящаяся в первобытном состоянии река кидается из стороны в
сторону, размывает свои берега, устраивает бедствия паводками, швыряет на
прибрежные селения громады камней, заливает их силевыми потоками --
глинистой жижей, грязью с размельченными скалами, разбивает головы
оросительных каналов, устраивает грандиознейшие обвалы, смывает фруктовые
сады, посевы, мосты, прибрежные дороги и тропы, вообще ведет себя
непристойно, порой вредоносно...
Надо сооружать перепады на размываемых оврагах; запруды, удерживающие
донный, твердый сток рек; на береговых горных склонах развивать зеленые
насаждения; строить дамбы, чтоб реки не виляли из стороны в сторону, не
могли ничего подмывать; нужно множеством других горномелиоративных работ
укрощать дикий нрав горных рек.
В ту пору, о которой я пишу, одни среднеазиатские шоферы да караванщики
знали, сколько драгоценного времени -- иногда недели и месяцы! -- уходило на
поиски или на ожидание переправы. Только статистики вели счет погибшим в
реках людям и грузам. Материальные убытки от дикости рек исчислялись
миллиардами рублей. В одном лишь 1931 году в одной только Ферганской долине
убытки от силей составили три с половиной миллиона рублей.
"Недооценка этого обстоятельства, -- взволнованно, хотя и строго
"техническим" языком писал инженер Караулов, -- при возведении
гидротехнических сооружений на реках Средней Азии может привести к крупным
неожиданностям и дать гораздо более низкие технические и экономические
показатели
эксплуатации этих сооружений. Параллельно с возведением в системах
горных рек Средней Азии крупных гидроэлектрических установок, плотин и т. д.
надлежит интенсивно и непрерывно вести работы по речной и горной мелиорации,
систематически приводить реки в культурное состояние... Новейшая
гидротехника может дать должный эффект только в том случае, если культурное
состояние рек будет также соответствовать современному уровню".
Никакой анархии! Воды Средней Азии должны быть взяты в крепкие руки и
дисциплинированы. Нужно создать горные научно-исследовательские станции,
которые изучали бы весь комплекс природных условий в высоких горах!
Такая станция -- первая в Таджикистане -- уже в 1929 году была создана
на озере Искандер-Куль, в горах к северу от Сталинабада.
Такая станция -- высочайшая в мире -- была создана на леднике Федченко
в 1932--1933 годах.
Такая станция была создана в 1938 году на Сарезском озере.
Десятки таких станций были созданы в Таджикистане, в частности и на
Памире, на горных реках и озерах в предвоенные годы и после Отечественной
войны.
Огромные работы по строительству дамб, плотин, акведуков, силедуков,
всевозможных гидротехнических сооружений велись с тех пор и ведутся сейчас
во всех областях и районах Таджикской республики, конечно, и на Памире!
Горные реки в этих областях год от году становятся все более
дисциплинированными, все более культурными. Впереди еще очень много работы,
но каждый день, каждый час работа идет!..
Краткосрочное озеро
Это явление природы бывает только в горах. В разных странах горцы
называют его по-разному: во Франции -- нант, в Швейцарии -- руфф, в Германии
-- мур...
В нашей стране на (Кавказе его называют сель, в Средней Азии --силь.
Силь -- это катастрофический, внезапно образующийся, срывающийся по
ущелью поток, влекущий вниз огромные массы камней и разжиженных горных
пород. Вырываясь из ущелья в долину, растекаясь по ней, силь затягивает и
разрушает все на своем пути. Известны случаи, когда силь разрушал селения и
даже города: такие грязе-каменные потоки, например, произвели трижды (в
1914, 1934 и 1938 годах) большие разрушения в американском городе
Лос-Анжелосе,
расположенном у подножия Кордильер на берегу Тихого океана. Последний
из этих силей оставил без крова десять тысяч жителей города, более двухсот
из них погибли. Отдельные камни, проносимые силевым потоком по улицам,
весили до пяти тонн.
Силевые потоки возникают в горах, чаще всего после обильных ливней, то
иногда бывают и при ясной, сухой погоде. Основная причина их -- внезапное
сползание крутых, исподволь напитанных водою, "подточенных" ею горных
склонов, которые затем уносятся вниз по ущелью в виде густого месива.
Низвергаясь в теснине, силевой поток захватывает разрушаемые им берега, а
потому стремительно разрастается. Иногда, наталкиваясь на скалистые породы,
он образует заторы, которые затем, по мере накопления силевой массы,
прорываются и еще более увеличивают мощь и скорость потока.
В горах Средней Азии, в частности Таджикистана, где мне приходилось
наблюдать силевые потоки, они явление частое. В населенных долинах с ними
успешно ведется борьба. Советские люди научились различными мерами
предупреждать возникновение силей там, где они могли бы угрожать колхозным
полям, дорогам, человеческому жилью. К таким мерам относятся террасирование
склонов, посадки лесов по ущельям вдоль берегов рек, организация постоянной
службы наблюдения за мелкими оползнями на горных склонах... Там, где можно
опасаться прохождения силевых потоков, уже возведены (например, в Ферганской
долине) различные системы направляющих дамб, силедуков и других крупных
ограждающих сооружений.
Но в малонаселенных районах стихия гор и поныне еще не обуздана. Мне
хочется рассказать читателю об одном из силей, случившемся в долине реки
Хингоу, о том, как этот силь образовал озеро в несколько километров длиной и
оно четыре недели мешало людям, и о том, как люди устранили созданную для
них природой помеху и как в долине восстановилось прежнее положение.
Мне пришлось побывать на этом озере.
С высочайших ледников Памира, с высот, увенчанных пиками Щербакова,
Пулковским, Сакко, Ванцетти, и от гребней водораздела, за которым
протягивается к Пянджу долина Ванча, бежит несколько горных рек. Все они
сливаются в одну, которая называется Оби-Хингоу и течет в узкой долине между
склонами двух огромных горных хребтов: Петра Первого и Дарвазского. Склоны
этих хребтов круты и прорезаны множеством узких ущелий, образованных
боковыми притоками Оби-Хингоу.
Каждый, кто едет теперь на Памир из Сталинабада по Западно-Памирскому
автомобильному тракту имени Сталина, не минует этой долины и запомнит ее:
дорога кружится над нею, пересекая горные склоны, делая петли и то спускаясь
к самой реке, то поднимаясь на высокие осыпи, на площадки древних речных
террас, на причудливые нагромождения древних и современных силевых
выносов...
Выше районного центра Тавиль-Дары, пробежав по долине еще десятка два
километров, дорога сворачивает в ущелье Дарвазского хребта, чтобы подняться
к высотам Сагирдашта, где уже нет деревьев, где, впрочем, колхозники
собирают отличные урожаи зерна. Там, после многих крутых и опасных зигзагов,
за перевалом Терри-куртар, дорога спускается в каменную межгорную щель
Кала-и-Хумба, средневековую столицу феодального Дарваза, а ныне цветущий
районный центр на самом берегу Пянджа.
Вот о местности между Тавиль-Дарой и поворотом в ущелье, где расположен
кишлачок Кала-и-Гуссейн, я и хочу рассказать.
Этот участок долины ничем как будто не примечателен. Склоны гор над
долиной поросли арчой, облепихой, мелкою пастбищной травкой. Несколько
маленьких кишлаков, расположенных высоко над долиной, уже давно объединены в
колхозы. В узком месте, где река бежит единым потоком, некогда был кишлак
Иофташ. Его жители в 1940 году переселились в Вахшскую долину, на новые,
орошенные земли. А с тех пор -- со времени строительства Памирского тракта
имени Сталина -- здесь существует паромная, переправа и возле нее вырос
маленький поселок: несколько домиков, в которых живут со своими семьями
паромщики, а для проезжающих есть чайхана, -- в ней ночуют, когда слишком
стремительна и высока вода, шоферы и путники, по старинке едущие верхом на
дарвазских лошадках или на ослах.
Проезжая это место в автомобиле, обычно не замечаешь его, -- оно ничем
не отличается от многих других участков дороги. Те же снежные гребни далеко
вверху, те же излучины реки внизу.
В этой местности, в восьми километрах выше Тавиль-Дары по долине, есть
боковое ущельице. Оно прорезает правобережный склон и выходит в долину
небольшим раструбом. Ручей, текущий в этом ущельице от гребней хребта Петра
Первого, промыл овраг, пересекающий долину от раструба ущельица до самой
реки Хингоу.
День 20 июня 1952 года был солнечным, тихим, никаких дождей в этой
местности уже несколько дней не было. Не наблюдалось и никаких подземных
толчков, хотя в этих местах,
отличающихся высокой сейсмичностью, в другое время нередко бывают и
землетрясения. Словом, все было спокойно, обычно. Но вот где-то в верховьях
ущелья, без особого шума, неожиданно сползла в русло ручья часть крутой
горы. Ущелье в этом месте было совсем узким, не шире тридцати-сорока метров.
Соскользнувшая масса горной породы запрудила русло ручья и остановилась.
В это время года снега в горах уже начинают интенсивно таять.
Запруженный ручей, увеличиваясь, к середине дня образовал выше завала озерко
из разжиженной водою глины. Все больше скапливалось воды, все больше
напитывала она массу завала. Эта масса тронулась с места, начала пробиваться
вниз по ущелью, вовлекая в себя и таща все, что попадалось на пути: валуны,
которые здесь лежали, быть может, столетиями, деревья, росшие над ручьем.
Двигаясь дальше, силевая масса замешивала все захваченное, как в
бетономешалке. Силь, однако, вначале двигался медленно и каждые пять-шесть
минут приостанавливался. Его задерживали крупные валуны, встречавшиеся на
его пути. Масса накапливалась, прорывалась через преграду, увлекала ее с
собой и вновь неслась вниз, теперь уже со скоростью трехсот-четырехсот
метров в минуту. Пройдя несколько сот метров с такой скоростью, силь вновь
задерживался, и все повторялось.
Первыми заметили силь колхозные пастухи. Они сообщили о нем старшему
паромщику Бегаку Шарипову и его помощникам, жившим в четырех километрах выше
ущелья, по долине Хингоу. Там возле парома стояли их домики и тянулись вдоль
берега их маленькие огороды и молодые сады...
Возле парома работали инженер дорожно-эксплуатационного участка Вилков
и бурильный мастер. Они бурили скважину глубиной в двенадцать-пятнадцать
метров: здесь вместо парома предполагалось построить мост. Инженер и мастер
узнали о силе вечером.
В 8 часов утра 21 июня они выехали верхами к ущелью. Перед ущельем им
встретился таджик-колхозник.
-- Не проедете! -- сказал он. -- Силь!
Они подъехали к мостику через овраг, где дорога проходила мимо раструба
ущелья. И увидели, что силь уже прошел по оврагу к реке Хингоу, не выходя из
берегов оврага и только заполнив его жидкой глиной, валунами, изломанным,
замешанным в глине лесом. Мостик через овраг был сорван.
Через три-четыре минуты послышался страшный шум. Вверху, в глубине
ущелья все закрылось туманом, но этот туман оказался вихрями пыли, и когда
он расходился по сторонам, то сметал со склонов ущелья кустарник и почву,
мгновенно превращая ее в пылевое облако. Через пять-шесть минут Вилков
и его спутник увидели несущийся со скоростью двадцать -- двадцать пять
километров в час силь. Все сокрушая на своем пути, он мчался вниз по ущелью.
Надо было спасаться. Инженер с мастером кинулись бегом по направлению к
Тавиль-Даре. Дорога заходила за мыс, достаточно было пробежать с полсотни
метров, чтобы укрыться от силя. Они успели забежать за мыс, стали
карабкаться по склону.
С оглушительным шумом силь промчался по оврагу, не уместившись в его
берегах, разлился по долине Хингоу и замер. Казалось, масса камней и глины
иссякла.
Но через десять-двенадцать минут новый силевой вал вырвался из ущелья,
перекрыл нагромождения от предыдущего вала, распространился по долине шире и
дальше. Это означало, что где-то вверху образовывались заторы, которые по
мере накопления силевых масс прорывались.
С этого момента каждые десять-двенадцать минут все новые и новые
силевые валы выкатывались из ущелья непрерывно в течение полутора суток, как
лавой затягивая долину Хингоу. Перегородив всю долину, силь добрался до
русла Хингоу. Мощная река долго боролась с силем, отбивала нагромождаемые на
нее завальные массы, смывала глину, ворочала огромные принесенные с гор
камни, но справиться с ним не могла. К вечеру вода реки еще пробивалась
сквозь завальную массу. К полуночи силь прекратился. Река была перекрыта
полностью. Высота завала равнялась примерно двадцати одному метру.
Всю ночь и все утро перегороженная река Хингоу, бешено кружась, ища
себе выхода и не находя его, заполняла долину выше завала. На следующий день
вода заполнила долину, образовала озеро. К вечеру она смыла паром, огороды и
сады паромщиков, подступила к их маленькому поселку, к счастью,
расположенному сравнительно высоко. Река стала подмывать дома, ворвалась в
них, поднялась сантиметров на десять, но выше уже не пошла, потому что,
дойдя до гребня завала, начала понемногу переливаться через образованную
стихией плотину.
В следующие дни силь продолжался порывами. Вода озера частично смыла
гребень завала, и он опустился сантиметра на три-четыре, судя по измерению,
сделанному с помощью нивелира Вилковым. Длина озера от завала до места, где
был паром, достигала 3 100 метров, а ширина в самом широком месте -- 800
метров.
27 июня силь кончился. До этого он шел спорадически: то остановится, то
хлынет из ущелья вновь. Небольшие силевые выносы продолжались еще с неделю.
С первого же дня силя колхозники установили постоянную связь с районным
центром, учредили ночные дежурства и организовали сбор унесенного силем
леса.
По словам очевидцев, валуны, которые нес в своей гуще силь, были до
пятидесяти кубических метров объема, до ста тонн весом.
Специальная комиссия, прибывшая из Сталинабада, решила, что необходимо
мелкими взрывами снизить уровень озера. Взорвать же плотину всю целиком не
рискнули: хлынув вниз, вода озера могла бы затопить многие населенные пункты
по долине Хингоу.
На месте завала ширина русла достигала тридцати метров. Глубина озера
доходила до двадцати метров, а в верхнем конце, у парома, равнялась шести
метрам. Силевые нагромождения растянулись на километр по ширине долины и
метров на шестьсот по длине, в виде гигантского хаотического нагромождения
камней, торчавших из затянувшей их вязкой, топкой, медленно просыхающей
глины. Вся эта масса состояла из известняков, песчаников, желтоцветных
конгломератов.
Много дней спустя после силя по этой массе еще нельзя было пройти
пешком: она была настолько жидкой и вязкой, что поглотила бы, как болотная
трясина, всякого осмелившегося ступить на нее человека. Но все население
здешних мест веками знакомо с силями. Отдельные смельчаки рисковали
перебираться по силевой массе, ступая, как по мосткам, по набросанным
бревнам и доскам. Ни одной человеческой жертвы во время этого стихийного
события не было.
Работы на озере начались сразу же после приезда комиссии. Сюда были
доставлены бульдозер, трактор "С-80", перфоратор и другая дорожная техника,
аммонал, все необходимое для того, чтоб постепенно взрывать плотину,
спускать воду озера, строить в обход его дорогу вместо прежней, затопленной.
Сотни окрестных колхозников вышли на помощь дорожникам, строителям.
Дорогу в обход озера вместо затопленной сделали за одиннадцать дней. Еще
несколько дней пришлось потратить на восстановление парома.
26 июля первые автомашины двинулись по новой дороге. К этому времени
длина озера уменьшилась до 2 600 метров, потому что плотина была частично
взорвана. Решено было прекратить работы на озере, -- оно больше никому не
мешало, а оставшаяся часть плотины была надежной и не угрожала внезапным
размывом.
Ниже озера только огромное нагромождение камней и глины, перекрывших на
большом пространстве долину, осталось следом стихийного происшествия. Да
овраг бокового
ручья, по которому пронесся силь, остался глубоко прорытым, -- его
стенки возвышались теперь на шестьдесят метров. Его ширина -- тридцать-сорок
метров -- не изменилась, а глубина увеличилась больше чем вдвое.
Такова история одного из силей, каких в Таджикистане бывало, бывает и
еще будет множество.
Я рассказал об этой истории сухо и коротко, чтобы ни в чем не нарушить
точности и строгости при изложении известных мне фактов, записанных в
сентябре 1952 года, при посещении озера.
Но первый раз я видел это озеро еще в начале августа, видел его с
самолета, когда летел из Сталинабада в Хорог. Оно казалось сверху голубою,
овальной жемчужиной, и никто в ту пору не знал, сохранится ли это озеро на
долгие годы, как сохранились в Таджикистане некоторые озера такого же
происхождения, или исчезнет навеки, как исчезли многие другие, следы которых
встречаешь везде на Памире и в прочих горных районах Таджикистана, --
какой-нибудь каменный ригель, размытая плотина завала, затянутое почвой,
зеленой травой конусообразное нагромождение силевого выноса. Некоторые из
этих озер существовали дни или недели, другие -- десятилетия и даже века. Но
теперь их нет, и о них знают только геологи да геоморфологи, да еще кое-где
о них существуют представляющиеся нам фантастическими легенды...

 ГЛАВА XIV
Река Ванч -- большой приток Пянджа, вытекающий из ледника
Географического общества и других примыкающих к нему ледников.
Мне привелось посетить долину Ванча четыре раза -- последний раз в 1952
году, а до этого трижды в первых моих экспедиционных странствиях по Памиру,
когда Ванч еще причислялся к Дарвазу, входил в Кала-и-Хумбский район и когда
в этой долине еще не существовало ни одного колхоза, а истоки реки были
пройдены только немногими первыми их исследователями.
Долина Ванча, ограниченная Дарвазским и Язгулемским хребтами, в наши
дни -- один из наиболее плодородных районов Горно-Бадахшанской автономной
области. В административном отношении этот район (созданный в 1937 году)
охватывает и всю тесную, доныне труднодоступную долину реки Язгулем и часть
кишлаков по Пянджу.
Ванч стал богатым колхозным районом. В нем двенадцать (укрупненных в
1950 году) колхозов, из которых три расположены в долине Язгулема, а один --
на Пяндже.
Ванчские колхозы богаты урожаями зерна, бобовых, плодов, овощей,
шелковичных коконов.
В каждом из колхозов есть по две, по три, по четыре семилетние и
начальные школы, а в двух колхозах -- имени Фрунзе и имени Сталина -- даже
по пять школ. В каждом колхозе есть клуб, и чайхана, и по нескольку
библиотек (всего в районе их двадцать девять).
Многие ванчцы получили не только среднее, но и высшее образование,
многие колхозники и колхозницы стали знатными людьми. Уроженка глухого
язгулемского кишлака Вишхарв Кабилмо Баратова -- председатель крупнейшего на
Ванче, имеющего полмиллиона годового дохода колхоза имени Сталина; я видел
ее, когда она -- депутат в Совет Национальностей СССР -- скромная, пожилая
женщина, в своем национальном платье ехала в автомобиле вдоль Пянджа.
Русские офицеры, начальники пограничных застав, с почетом встречали ее на
дороге и, как члену правительства Советской державы, отдавали ей рапорт,
докладывая о положении на вверенном им участке границы.
Правление колхоза имени Сталина помещается в доме, принадлежавшем
бывшему мирахуру (чиновнику) эмира бухарского -- местному феодалу
Абдулло-беку, который владел всем Ванчем и который, став впоследствии
главарем басмачей, совершив в 1929 году налет на Ванч с территории
Афганистана, зверски пытал и убивал всех советских работников, комсомольцев,
учителей -- в прошлом подвластных ему бедняков.
В 1930 году я еще видел в административном центре Ванча, кишлаке
Рохарв, остатки цитадели феодализма -- старинной крепости Кала-и-Ванч,
посещенной в 1905 году и позднее подробно описанной Д. И. Мушкетовым.
Эта крепость, столица древних правителей Ванча -- "ша", расположенная
над мостом, за которым начинается тропа к перевалу Гушхон, запирала собой
единственный в ту пору конный путь на Язгулем, в Рушан, на Памир.
Она потеряла свое значение только тогда, когда головоломная тропинка по
Пянджу была настолько улучшена русскими саперами, что по ней стало возможным
проводить лошадей.
В наши дни от крепости не осталось и следа. На ее месте стоят здания
клуба, райкома партии, базы райпотребсоюза и метеорологической станции.
Районный центр Рохарв (чаще называемый теперь Ванч) широко раскинулся вокруг
по всей береговой террасе над рекою. Сады, колхозные поля, улицы и дома
райцентра простираются от реки до подножия Дарвазского хребта. В райцентре
много организаций и учреждений, в том числе средняя школа имени Ленина
(ставшая десятилеткой в 1943 году), редакция газеты "Хакикати Ванч" ("Правда
Ванча"), больница с хирургическим отделением и родильным домом, библиотека,
столовая, магазины, кино, почтово-телеграфное отделение, радиоузел,
электростанция, управление одной из постоянно работающих в высочайших горах
над истоками Ванча геологических экспедиций. Начальником партии в этой
экспедиции работает мой старый памирский приятель, ныне горный директор II
ранга, Е. Г. Андреев, до сих пор не
боящийся ни арктического климата ледников, ни разреженного воздуха
четырех- и пятикилометровой высоты.
Только изредка удается геологам спускаться с ледников к ожидающему их в
верховьях Ванча автомобилю, чтоб приехать на несколько дней в районный центр
Ванч, где высота над уровнем моря всего 1 800 метров, где климат
великолепен, где в любом плодовом саду можно отдохнуть от ледяного дыхания
ураганных ветров, от шелеста лавин, треска льда, грохота камнепадов...
Первый в средних широтах мира
Куда бы, находясь в районном центре, ни обратить взор, всегда в ясный
день увидишь снеговые вершины. Повернувшись лицом к низовьям реки, видишь
горы Ку-и-бараси. Так называют ванчцы снеговые гребни Афганистана. Взглянув
же на северо-восток, вдоль долины, туда, где верховья реки, над темнеющими
вдали бесчисленными зубцами различишь в небесах бледные, призрачно-белеющие
пятна. Они не похожи на облака, они скорее похожи на легкое бесцветное
пламя. Местные жители называют их Ку-и-кашола-ях.
В 1952 году секретарь Ванчского райкома партии, местный житель
Аскарбаев, перевел мне это название словами: "Горы Ледяная завеса". И
добавил: "А еще точнее: "Горы нависающих льдов".
Но людьми, не знавшими местного языка, это название в старину было
произнесено, как Кашал-аяк, в таком начертании перешло к географам и стало с
тех пор общепринятым.
На листах десятиверстной карты, напечатанных в 1925 и 1927 годах, в
верховьях Ванча значился кишлак Ванван, в десяти верстах выше -- кишлак
Пой-Мазар, и этим кишлаком кончался мир: на три стороны света отсюда
начинались фантастика, белое пятно, много тысяч квадратных километров
территории, никем не исследованной. Там, наугад поставленные на карте,
значились слова: "Пик Гармо", "Ледник Гармо", "бывший перевал Кашал-аяк" и
"бывший перевал Танымас". Верховья других больших рек, расходящихся во все
стороны света, тянулись от этого пятна неопределенными пунктирными линиями.
На севере из этого пятна выдвигалась надпись: "ледник Федченко (Сель-Дара)".
Эти овеянные легендами названия попали на карту с тех пор, как в 1878
году энтомолог В. Ф. Ошанин сделал неожиданно для себя свое замечательное
открытие.
С группой казаков и местных киргизов он поднимался по реке Мук-су,
впервые исследованной за два года перед тем
28 П. Лукницкий
участниками военной экспедиции Л. Ф. Костенко и топографом Жилиным и
бегло описанной в 1877 году геологом И. В. Мушкетовым, видевшим ее с
перевала Терс-Агар.
Ошанин продвинулся на юг дальше Жилина и на пути вдруг, как пишет он в
своем сообщении "На верховьях Муксу", "разглядел, что поперек долины
проходит какой-то вал, который нигде не представлял значительного понижения,
и я недоумевал, каким образом река не размыла этого, повидимому, ничтожного
препятствия. По мере того как мы подъезжали ближе, на темной поверхности
этого вала стали выделяться белые блестящие пятна и в одном месте виднелось
углубление, похожее на вход в пещеру. Я был сильно заинтересован этим
странным образованием и долго не мог понять, что бы это могло быть. Наконец,
когда мы приблизились на какие-нибудь полверсты, дело разъяснилось. Перед
нами был конец громадного ледника".
Изучая окрестные горы, гигантские обломки скал, покрывавших язык
ледника, шестидесятиметровые обрывы обнаженного зеленоватого льда, Ошанин
решил, что судить об истинной длине ледника он не может, но думает, что этот
ледник не короче пятнадцати-двадцати километров, а значит, по мощности один
из первых в Средней Азии.
Никакая фантазия не подсказала осторожному в своих выводах
исследователю, что в действительности он открыл величайший в средних широтах
мира ледник, истинные размеры которого были определены только пятьдесят лет
спустя!
После неудавшейся попытки продолжать дальше путь с караваном В. Ф.
Ошанин двинулся обратно по реке к урочищу Алтын-Мазар, и здесь старик киргиз
рассказал путешественнику, что знает этот ледник, потому что в юности ходил
туда охотиться на козлов; что ледник тянется вверх верст на тридцать-сорок и
что где-то в его верховьях существует перевал Кашал-аяк, которым в далекие
прошлые времена изредка пользовались люди, ходившие в долину Ванча.
Увлеченный этим рассказом, В. Ф. Ошанин, взяв с собою двух спутников,
вернулся к леднику, с трудом поднялся на его язык, но, не имея опыта
восхождений по ледникам, вернулся вниз, справедливо впоследствии приравняв
стремление изучать ледник без такого опыта к попытке "отправиться на тигра
без всякого оружия".
И все же через тридцать один год нашелся смельчак, рискнувший без
всякого опыта восхождения на ледники подняться на ледник Федченко и изучать
его в поисках легендарного перевала Кашал-аяк.
Таким смельчаком оказался топограф Н. И. Косиненко. С группой казаков
верхами, перевалив в июне 1908 года перевал Терс-Агар, он по крутым зигзагам
тропы спустился к Муксу у Алтын-Мазара. Он так описывает свой путь:
"С перевала долина Муук-Су представляется громадным провалом, глубиной
около трех тысяч футов, по дну которого разбегаются многочисленные рукава
Муук-Су. Впереди за нею возвышаются три пика высотою не менее двадцати тысяч
футов, более чем наполовину покрытых снегом. Здесь, южнее подошвы перевала
Терс-Агар, имеется обширный тугай из тала, облепихи и шиповника с
разбросанными по нему ветхими зимовками Алтын-Мазара.
В нем находятся пятнадцать кибиток киргизов, на лето откочевывающих на
северный склон Терс-Агара. Они занимаются скотоводством и земледелием, и
поэтому необходимое в поездке продовольствие у них достать возможно.
Летом здесь жарко, но зимою (декабрь -- март) снег до пояса, хотя сама
река льдом никогда не покрывается.
Киргизы заверили меня, что далее пройти летом невозможно: в Сель-Даре
(верховья Муук-Су), благодаря сильному таянию ледников, так много воды, что
переправиться нельзя ни под каким видом, -- такая попытка допустима только
позднею осенью, когда таяние прекращается и вода в реках спадает до
минимума. "Дороги нет, вода глубока", -- был один ответ киргизов на просьбу
проводить хотя бы только до ледника Федченко. Пришлось до ледника произвести
самому предварительную разведку, налегке, без вьюков, с трудом убедив одного
престарелого киргиза, Махмет-куль-бая, сделать только попытку.
Широкая стремительная река действительно представляет серьезное
препятствие. Она разбилась на множество рукавов на мелкокаменистом речном
ложе шириною более двух верст. Прохождение каждого рукава сопряжено с
большою опасностью. Оступись лошадь, и спасения почти нет, а оступиться
легко, потому что течение непрерывно ворочает по дну большие камни.
Махмет-куль-бай останавливался перед каждым таким рукавом, со слезами на
глазах упрашивая вернуться, тем более, что вода прибывала с каждой минутой.
Тем не менее рекогносцировка была удачна: хотя с большим трудом, но
после полудня мы дошли до конечных морен ледника Федченко, из-под которых
вырывается, обильная водою, мутная Сель-Дара; от русла ее конца моренному
нагромождению не видать.
Обратный путь пришлось уже карабкаться по скалистой почти козьей тропе
правого берега реки вследствие большой прибыли воды.
После дневки рано утром 1 июля выступили с вьюками и проводниками по
усеянному щебнем и гальками дну долины. Двигались быстрее -- путь был уже
знаком. Но на одном из
рукавов шедший отдельно начальник отряда неожиданно попал на такое
глубокое место, что погрузился с лошадью в ледяную воду. Лошадь
опрокинулась, и, отделившись от нее, разведчик был увлечен быстрым течением
Сель-Дары.
Совершенно изнемогший и почти теряющий сознание, он был вытащен из воды
казаками и киргизами другого разведочного отряда (капитана Романовского и
кн. Трубецкого), случайно шедшего в полуверсте сзади в этот единственный
совместный переход. Через час, под самым ледником Федченко, потерпевший
аварию еще раз встретился со своими спасителями. Рукав Балянд-Киик,
впадающий здесь в Сель-Дару, оказался вброд непроходимым и преградил дорогу
к левому его берегу. Пришлось подниматься прямо вверх по отвратительной
гальке и щебню конечной морены ледника Федченко.
Подъем на ледник крут и труден. Попытка пройти по левой боковой морене
не удалась: "хаос" глыб и скал преградил нам дорогу. Пришлось заночевать под
ледником.
На следующий день снова двинулись по моренному нагромождению
оконечности ледника, но по середине его ложа. Лошади скользили по
обнажавшемуся от мелкого щебня льду и падали, с трудом поднимаясь. От
острого щебня кровавые следы их ног обозначали наш путь. Часа четыре мы шли,
ведя в поводу своих лошадей и поднимаясь с одного гребня морены на другой.
Верст через шесть с конечной морены ледника мы вступили на чистый лед, где
можно было сесть на коней, хотя с ежеминутным риском кувыркнуться. Впереди
расстилалась пустынная ледяная поверхность. Жутко было ступать по этой
неведомой, никогда не знавшей человеческих следов области, где ожидало нас
много опасностей, свойственных этому царству льда.
Все чаще и чаще наш путь преграждали ледяные трещины шириною от фута до
сажени, но пока обходить их было легко.
Затем снова пришлось двигаться между грядами морен и колоссальными
ледяными пирамидами. Количество трещин так увеличилось, что на 25-й версте
от бивака мы попали в целую сеть их, преградивших нам путь на все стороны, и
едва удалось найти обратный выход -- следы копыт на льду были почти
незаметны.
Тогда свернули в правый боковой ледник, весь загроможденный моренами,
но по бокам ложа которого на скалах зеленела трава. С большим трудом мы
пересекли несколько мощных морен, прежде чем попали на этот ледник, и только
к вечеру, после невыносимо трудного перехода, мы расположились на бивак,
верстах в шести от слияния ледников, и простояли на нем целую неделю, за что
и самый ледник получил название "Бивачного".
На биваке дней, благодаря таянию льда, -- непрерывный треск и грохот от
скатывающихся галек и щебня в ледниковые трещины и озера.
У ледников не видно и следа древесной растительности, но, к счастью,
предвидя отсутствие топлива, мы захватили с собой небольшие запасы его, дней
на пять, при условии, что чай можно себе допустить только раз в день -- во
время варки пищи.
Отсюда был предпринят ряд разведок без проводника, для отыскания пути в
долину Ванча. На другой день возобновили попытку пройти без вьюков к пер.
Кашал-аяк левою стороною ледника Федченко, но верстах в десяти от Бивачного
ледника опять целый лабиринт трещин преградил нам дорогу, причем одна лошадь
едва не погибла, попав в трещину, -- с трудом вытащив ее, вернулись на
ночлег.
На следующий день отправились втроем налегке вверх по Бивачному
леднику. Движение было очень трудным. Сначала двигались крутым щебнистым
косогором правого берега ледника, прошли несколько грязных оползней, на
которых люди и лошади сползали вниз вместе со щебнем... "
Косиненко описывает дальнейшие поиски перевала, страшную одышку и
сердцебиение от высоты, падения лошадей в глубоком снегу, незатихающий гул и
грохот от массовых каменистых и снежных обвалов, снежную пургу, ночевку на
камне и рассвет, при котором он увидел под собою пропасть: "отвесные
скалистые и снежные обрывы в глубочайшую котловину, а впереди, кроме гор,
ничего не было видно. О спуске не могло быть и речи... Был ли это перевал
Кашал-аяк? -- трудно сказать... Он не вполне соответствует положению своему
на существующей карте. Солдаты назвали его перевалом Разведчиков. Итак, все
возможные попытки найти путь в долину Ванча через этот "Ледовитый океан"
потерпели неудачу. В общей сложности здесь по ледникам было сделано свыше
полутораста верст... "
Косиненко вернулся обратно, к Балянд-Киику, затем другим путем проник
на ледник Танымас, по которому продвигаться оказалось еще трудней, чем по
леднику Федченко. Попытка пройти через Танымас в Язгулем также окончилась
неудачей, и Косиненко спустился вниз по реке Танымас в Кудару, а отсюда
прошел в верховья реки Бартанг.
И все-таки слова В. Ф. Ошанина об "охоте на тигра без всякого оружия"
оказались во многом справедливыми. Если бы Н. И. Косиненко обладал не только
огромной смелостью, но и опытом высокогорных исследований, то он,
безусловно, не повернул бы назад от того гребня, за которым открылись ему
отвесные обрывы в глубочайшую котловину. Он, конечно,
рискнул бы оторваться от своего каравана, но он не был альпинистом и
лазать по отвесным ледяным кручам не умел.
Почти нет сомнений, что перед Н. И. Косиненко и был перевал Кашал-аяк.
Но у путешественника не хватило данных, чтобы утверждать и доказать это.
С тех пор стало известно только, что ледник Федченко имеет не меньше
тридцати километров в длину, что среди его притоков есть другой мощный
ледник -- Бивачный и что легендарный перевал, должно быть, "где-то там"
действительно существует.
Но еще девятнадцать лет никто не вступал на этот ледник.
И только в 1928 году оправдалось удивительное по своей научной
проницательности предположение, высказанное русским ученым еще в 1885 году,
на которое, к сожалению, никто в свое время не обратил внимания и которое
было забыто позже.
Ученым, высказавшим это предположение, был Г. Е. ГруммГржимайло,
который пытался, но не мог проникнуть в загадочную область с западной
стороны. В своем докладе в общем собрании Русского географического общества
4 декабря 1885 года * замечательный ученый говорил:
"... В особенности любопытна северная часть этих нагорий, любопытна
потому, что здесь мы должны предполагать громаднейшее поднятие, узел, от
которого, как от центра, во все стороны разбегаются громадные кряжи неравной
длины.
Этот узел у туземцев носит название Сель-тау, что значит "Ледяная
гора". С нее то к северу, то к югу и к западу спускаются ледники, о
грандиозных размерах которых мы можем судить только приблизительно. Северный
из них назван В. Ф. Ошаниным ледником Федченко, повидимому, самый д л и н н
ы й из них и находится в полной связи с другим ледником, идущим на запад
(выделено мной. -- П. Л. ) и, повидимому, замкнутым между упомянутой выше
Сель-тау и горой Узтерги, что значит в переводе "болит голова", "кружит
голова", название, которое прямо указывает на замечательную высоту этой
горы. И действительно, туземцы уверяли меня, что выше этой горы нет в мире
другой... влезть на нее невозможно... "
Г. Е. Грумм-Гржимайло приводил слышанные им от горных таджиков
утверждения, что от верховий долины Ванча существует трудный, но доступный
человеку перевал, после которого, пройдя десять "ташей" по ледникам, можно
достигнуть реки Сель-су.
* Опубликован в 1886 году под названием "Очерк припамирских стран"
(оттиск из т. XXII "Известий Русского географического общества").
"Таш" ("камень") -- это примерно восемь километров -- мера длины, а
река Сель-су (иначе Сель-Дара) есть верхний приток Мук-су.
И только почти через полвека, в 1928 году, стало ясно, какая огромная
научная ценность заключалась в высказывании Г. Е. Грумм-Гржимайло.
Участник Памирской экспедиции Академии наук 1928 года топограф И. Г.
Дорофеев первый, вступив в верховья огромного неизвестного ледника и пройдя
его до середины, установил, что находится на леднике Федченко и что,
следовательно, этот ледник громаден.
И когда И. Г. Дорофеев исходил его во всех направлениях и первый прошел
его весь -- сверху донизу, то оказалось, что длина ледника превышает
семьдесят километров.
"Повидимому, самый длинный" ледник, по точным измерениям Р. Д. Забирова
(1951 г. ) имеющий 71, 2 километра длины, оказался величайшим в средних
широтах мира, которому уступают в длине даже все ледники Гималаев и
Гиндукуша и за которым на втором месте стоит тянь-шаньский ледник Инылчек.
В период же древнего оледенения, по исследованиям Н. Л. Корженевского,
изучавшего Мук-су еще в 1904 и в 1910 годах, а затем и в следующих годах,
ледник Федченко достигал длины в сто семьдесят пять километров. Мощность его
ледового тела, достигающего в наши дни семьсот метров (три четверти
километра толщины!), в древние времена была не меньше километра.
Вспомним и сообщение Г. Е. Грумм-Гржимайло: "туземцы уверяли меня, что
выше этой горы нет в мире другой... влезть на нее невозможно... "
Пик Сталина, открытый в этом районе, оказался высочайшим в СССР, и
только утверждение, что влезть на него невозможно, было опровергнуто
советским альпинистом Евгением Абалаковым, взявшим эту вершину 3 сентября
1933 года, и группой других советских альпинистов, повторивших восхождение
на пик Сталина в 1937 году.
В Ванване и Пой-Мазаре
Хлопотливое поручение -- провести по всем пянджским оврингам, от Хорога
до Ванча, основной караван ТКЭ -- мне удалось выполнить. 26 сентября 1932
года на двенадцатый день мучительного пути все шестьдесят две лошади
каравана с десятью караванщиками, все научные работники, ехавшие с
караваном, художник Н. Г. Котов, фотограф В. Лебедев, завхоз экспедиции и
несколько русских рабочих были благодаря помощи, оказанной местным
населением в пути на пянджских оврингах, благополучно приведены мною в
Кала-и-Ванч.
В караване было много образцов горных пород, гербарий, зоологические
коллекции, собранные в разных местах Памира, сотни непроявленных
фотонегативов. Кроме того, была большая этнографическая коллекция, больше
трехсот предметов материальной культуры горных таджиков, собранная мною в
Вахане, Шугнане, Рушане; эту коллекцию позже, в Ленинграде, я сдал в Совет
по изучению производительных сил Академии наук.
Словом, в большинстве вьюков каравана были результаты многомесячных
работ центральной группы экспедиции.
В труднейшем -- для такого огромного каравана -- пути по оврингам ни
одна из лошадей не погибла, ни один вьюк не разбился, не утонул, не пропал.
Только я один знал, каких сил и нервного напряжения это мне стоило!
В Кала-и-Ванче (Рохарве) я не задержался и на полдня: на своей усталой
лошади выехал в верховья Ванча. Мне предстояло через ледопад Кашал-аяк
подняться на ледник Федченко.
В августе -- сентябре 1932 года перевал Кашал-аяк (после открытия его в
1928 году снова не посещавшийся никем) стал Вдруг "торной дорогой"
Таджикской комплексной экспедиции. Этой "дорогою" должен был пройти и я для
того, чтобы на леднике Федченко сомкнуть свой маршрут с маршрутом группы Н.
П. Горбунова, которая, поднявшись на ледник с севера, искала подступы к
высочайшему в Советском Союзе пику, в том году позже названному пиком
Сталина. Было условлено, что вместе с группой, которой я шел навстречу, мне,
как ученому секретарю экспедиции, нужно будет участвовать в осмотре места,
выбранного у борта ледника Федченко, для строительства высочайшей в мире
гидро-гляцио-метеорологической обсерватории.
Перехожу к записям в моем путевом дневнике:
... 27 сентября. Еще при солнце, проехав узкую осыпь, я достиг Ванвана
-- второго, верхнего Ванвана, ибо их, маленьких одноименных кишлачков, на
Ванче два.
Здесь, под громадным деревом, грецким орехом, наши: геолог А. А. Сауков
со своими сотрудниками Голубевым и Каргиным; альпинист Коровин и переводчик
Азиз, только что пришедшие за мною с ледника Федченко; художник П.
Староносов, с которым я расстался в Вахане, и другие.
Я подъехал как раз в момент, когда дружно опустошался огромный котел
супа.
Прежде всего -- взаимное фотографирование, потом сумбурные расспросы, а
после супа я с Сауковым пошел через
мост в самый верхний кишлак Ванча -- Пой-Мазар, до которого отсюда
километра полтора.
Сегодня в Пой-Мазар, в одно время со мной, с разных сторон явились:
геолог Д. И. Щербаков с молодым геохимиком Н. В. Тагеевой и
топограф-геодезист И. Г. Дорофеев со своим юным помощником, которого зовут
Леней.
Встреча замечательная, сошлись, словно не на краю земли, а в городе, на
одной квартире. Кстати, "квартиры" местных жителей здесь тоже замечательные:
буквально избушки на курьих ножках, -- свайные постройки, шалаши на высоких
столбах, как в фильме "Чанг". Высоко от земли, между деревьями и на деревьях
живут люди. Не хватает только кремневых топоров, даже луки есть, из которых
дети охотятся на птиц. Есть тут, конечно, и каменные жилища -- это зимние
обиталища людей, а шалаши на столбах -- это, так сказать, летние "дачи". Это
одно из самых далеких от культуры селений в Советском Союзе.
Усталость незаметна, хоть я и проехал сегодня километров шестьдесят
пять. До полуночи -- разговоры и чаепитие. Узнал все новости о последних
открытиях на ледниках, об отрядах экспедиции там работающих. Сообщил все,
что знаю сам.
Решили: для подъема на ледник Федченко я объединяюсь в одну группу с А.
А. Сауковым и его помощниками, с Н. В. Тагеевой, а из своей группы приглашаю
ботаника Л. Б. Ланину и завхоза (к которым завтра посылаю гонца с письмом в
Рохарв). Поведут нас Коровин и Азиз. Выходим 30 сентября.
Ночью я с Сауковым вернулся в Ванван.
28 сентября. День -- в Ванване. У нас Д. И. Щербаков. Вечером
отправился с ним "в гости" в Пой-Мазар. Карабкались в темноте на береговой
откос, сквозь кустарник. У костра разговоры до ночи.
Возвращался ночью, один, и чуть не утонул в реке, выйдя по ошибке на
старый, разрушенный мост и провалившись в воду... А потом "дома" сушился у
костра и, пока все спали, делал долгие записи...
29 сентября. В Ванване, сборы. Скверное самочувствие, воспалены гланды,
сильно простужен. Спать было очень холодно. Тучи, днем холодно даже в
свитерах.
Сегодня Щербаков, Дорофеев, весь пой-мазарский лагерь ушли вниз по
Ванчу, "сдав" нам Надежду Викторовну Тагееву.
30 сентября. Ванван. Около полудня -- всадники: Ланина, Каргин, завхоз
и другие с двумя лошадьми, навьюченными продовольствием и снаряжением.
Завхоз "забыл" привезти карту ледника Федченко, запас сухого спирта;
кроме того, на последней ночевке, в Сетарге, забыл мешок с веревками и
рюкзаками. Поразительная небрежность! Пришлось за этим мешком сейчас же
послать караванщика. Без сухого спирта как-нибудь обойдемся: у Саукова есть
немного бензина.
По всем этим причинам выступление пришлось отложить до завтра.
Неожиданно с ледника Федченко явились два молодых альпиниста Гог и
Птенчик, бодрые и веселые, -- они посланы в Хорог и дальше -- на
месторождение ляпис-лазури. Дал им денег, двух лошадей с седлами, кучу
советов, записку в Рохарв о продовольствии из моего каравана -- и через два
часа они отправились вниз по Ванчу.
Завтра выходим на ледник Географического общества и дальше -- к
легендарному ледопаду Кашал-аяк.
О хорошем, настоящем исследователе
Но сначала я хочу рассказать, как легенда о Кашал-аяке рухнула.
Ледник Федченко был открыт с северного конца. Все позднейшие
исследователи ледника направлялись к нему также либо с севера (от реки
Мук-су), либо с востока (от реки Танымас). Кажется, никто из исследователей,
кроме астронома Я. И. Беляева и сопровождавшего его геоморфолога П. И.
Беседина, поднимавшихся по Ванчу в 1916 году и установивших в Пой-Мазаре
астрономический пункт, не пытался искать подступы к леднику с юго-запада из
ванчской долины. Горцы Ванча привыкли считать, что существующая над
верховьями их реки таинственная область закрыта от них недоступною "Ледяною
завесой". Они были твердо убеждены, что человеку в наши времена пути сквозь
эту "завесу" нет.
Правда, русский путешественник Кузнецов в своем труде "Дарвоз" передает
рассказ ванчцев о том, что "лет сто пятьдесят назад управитель Ванча
Шабос-Хан ходил через единственный здесь доступный перевал Кашал-аяк грабить
киргизов, но с тех пор ледники значительно увеличились и теперь доступ к
перевалу преграждается совершенно отвесным ледником".
Правда также, Н. И. Косиненко передает сообщенную ему в 1908 году
алтын-мазарским киргизом, семидесятилетним стариком Махмет-Куль-баем
легенду, которую тот, "не допускавший и мысли о возможном когда бы то ни
было прохождении этого ледника", слышал однажды в детстве. Легенда гласила,
что "когда-то этими ледниками пытались вернуться в Дарваз таджики, пришедшие
через Каратегин, но о них больше никто не слышал -- все они погибли".
ГЛАВА XIV
Река Ванч -- большой приток Пянджа, вытекающий из ледника
Географического общества и других примыкающих к нему ледников.
Мне привелось посетить долину Ванча четыре раза -- последний раз в 1952
году, а до этого трижды в первых моих экспедиционных странствиях по Памиру,
когда Ванч еще причислялся к Дарвазу, входил в Кала-и-Хумбский район и когда
в этой долине еще не существовало ни одного колхоза, а истоки реки были
пройдены только немногими первыми их исследователями.
Долина Ванча, ограниченная Дарвазским и Язгулемским хребтами, в наши
дни -- один из наиболее плодородных районов Горно-Бадахшанской автономной
области. В административном отношении этот район (созданный в 1937 году)
охватывает и всю тесную, доныне труднодоступную долину реки Язгулем и часть
кишлаков по Пянджу.
Ванч стал богатым колхозным районом. В нем двенадцать (укрупненных в
1950 году) колхозов, из которых три расположены в долине Язгулема, а один --
на Пяндже.
Ванчские колхозы богаты урожаями зерна, бобовых, плодов, овощей,
шелковичных коконов.
В каждом из колхозов есть по две, по три, по четыре семилетние и
начальные школы, а в двух колхозах -- имени Фрунзе и имени Сталина -- даже
по пять школ. В каждом колхозе есть клуб, и чайхана, и по нескольку
библиотек (всего в районе их двадцать девять).
Многие ванчцы получили не только среднее, но и высшее образование,
многие колхозники и колхозницы стали знатными людьми. Уроженка глухого
язгулемского кишлака Вишхарв Кабилмо Баратова -- председатель крупнейшего на
Ванче, имеющего полмиллиона годового дохода колхоза имени Сталина; я видел
ее, когда она -- депутат в Совет Национальностей СССР -- скромная, пожилая
женщина, в своем национальном платье ехала в автомобиле вдоль Пянджа.
Русские офицеры, начальники пограничных застав, с почетом встречали ее на
дороге и, как члену правительства Советской державы, отдавали ей рапорт,
докладывая о положении на вверенном им участке границы.
Правление колхоза имени Сталина помещается в доме, принадлежавшем
бывшему мирахуру (чиновнику) эмира бухарского -- местному феодалу
Абдулло-беку, который владел всем Ванчем и который, став впоследствии
главарем басмачей, совершив в 1929 году налет на Ванч с территории
Афганистана, зверски пытал и убивал всех советских работников, комсомольцев,
учителей -- в прошлом подвластных ему бедняков.
В 1930 году я еще видел в административном центре Ванча, кишлаке
Рохарв, остатки цитадели феодализма -- старинной крепости Кала-и-Ванч,
посещенной в 1905 году и позднее подробно описанной Д. И. Мушкетовым.
Эта крепость, столица древних правителей Ванча -- "ша", расположенная
над мостом, за которым начинается тропа к перевалу Гушхон, запирала собой
единственный в ту пору конный путь на Язгулем, в Рушан, на Памир.
Она потеряла свое значение только тогда, когда головоломная тропинка по
Пянджу была настолько улучшена русскими саперами, что по ней стало возможным
проводить лошадей.
В наши дни от крепости не осталось и следа. На ее месте стоят здания
клуба, райкома партии, базы райпотребсоюза и метеорологической станции.
Районный центр Рохарв (чаще называемый теперь Ванч) широко раскинулся вокруг
по всей береговой террасе над рекою. Сады, колхозные поля, улицы и дома
райцентра простираются от реки до подножия Дарвазского хребта. В райцентре
много организаций и учреждений, в том числе средняя школа имени Ленина
(ставшая десятилеткой в 1943 году), редакция газеты "Хакикати Ванч" ("Правда
Ванча"), больница с хирургическим отделением и родильным домом, библиотека,
столовая, магазины, кино, почтово-телеграфное отделение, радиоузел,
электростанция, управление одной из постоянно работающих в высочайших горах
над истоками Ванча геологических экспедиций. Начальником партии в этой
экспедиции работает мой старый памирский приятель, ныне горный директор II
ранга, Е. Г. Андреев, до сих пор не
боящийся ни арктического климата ледников, ни разреженного воздуха
четырех- и пятикилометровой высоты.
Только изредка удается геологам спускаться с ледников к ожидающему их в
верховьях Ванча автомобилю, чтоб приехать на несколько дней в районный центр
Ванч, где высота над уровнем моря всего 1 800 метров, где климат
великолепен, где в любом плодовом саду можно отдохнуть от ледяного дыхания
ураганных ветров, от шелеста лавин, треска льда, грохота камнепадов...
Первый в средних широтах мира
Куда бы, находясь в районном центре, ни обратить взор, всегда в ясный
день увидишь снеговые вершины. Повернувшись лицом к низовьям реки, видишь
горы Ку-и-бараси. Так называют ванчцы снеговые гребни Афганистана. Взглянув
же на северо-восток, вдоль долины, туда, где верховья реки, над темнеющими
вдали бесчисленными зубцами различишь в небесах бледные, призрачно-белеющие
пятна. Они не похожи на облака, они скорее похожи на легкое бесцветное
пламя. Местные жители называют их Ку-и-кашола-ях.
В 1952 году секретарь Ванчского райкома партии, местный житель
Аскарбаев, перевел мне это название словами: "Горы Ледяная завеса". И
добавил: "А еще точнее: "Горы нависающих льдов".
Но людьми, не знавшими местного языка, это название в старину было
произнесено, как Кашал-аяк, в таком начертании перешло к географам и стало с
тех пор общепринятым.
На листах десятиверстной карты, напечатанных в 1925 и 1927 годах, в
верховьях Ванча значился кишлак Ванван, в десяти верстах выше -- кишлак
Пой-Мазар, и этим кишлаком кончался мир: на три стороны света отсюда
начинались фантастика, белое пятно, много тысяч квадратных километров
территории, никем не исследованной. Там, наугад поставленные на карте,
значились слова: "Пик Гармо", "Ледник Гармо", "бывший перевал Кашал-аяк" и
"бывший перевал Танымас". Верховья других больших рек, расходящихся во все
стороны света, тянулись от этого пятна неопределенными пунктирными линиями.
На севере из этого пятна выдвигалась надпись: "ледник Федченко (Сель-Дара)".
Эти овеянные легендами названия попали на карту с тех пор, как в 1878
году энтомолог В. Ф. Ошанин сделал неожиданно для себя свое замечательное
открытие.
С группой казаков и местных киргизов он поднимался по реке Мук-су,
впервые исследованной за два года перед тем
28 П. Лукницкий
участниками военной экспедиции Л. Ф. Костенко и топографом Жилиным и
бегло описанной в 1877 году геологом И. В. Мушкетовым, видевшим ее с
перевала Терс-Агар.
Ошанин продвинулся на юг дальше Жилина и на пути вдруг, как пишет он в
своем сообщении "На верховьях Муксу", "разглядел, что поперек долины
проходит какой-то вал, который нигде не представлял значительного понижения,
и я недоумевал, каким образом река не размыла этого, повидимому, ничтожного
препятствия. По мере того как мы подъезжали ближе, на темной поверхности
этого вала стали выделяться белые блестящие пятна и в одном месте виднелось
углубление, похожее на вход в пещеру. Я был сильно заинтересован этим
странным образованием и долго не мог понять, что бы это могло быть. Наконец,
когда мы приблизились на какие-нибудь полверсты, дело разъяснилось. Перед
нами был конец громадного ледника".
Изучая окрестные горы, гигантские обломки скал, покрывавших язык
ледника, шестидесятиметровые обрывы обнаженного зеленоватого льда, Ошанин
решил, что судить об истинной длине ледника он не может, но думает, что этот
ледник не короче пятнадцати-двадцати километров, а значит, по мощности один
из первых в Средней Азии.
Никакая фантазия не подсказала осторожному в своих выводах
исследователю, что в действительности он открыл величайший в средних широтах
мира ледник, истинные размеры которого были определены только пятьдесят лет
спустя!
После неудавшейся попытки продолжать дальше путь с караваном В. Ф.
Ошанин двинулся обратно по реке к урочищу Алтын-Мазар, и здесь старик киргиз
рассказал путешественнику, что знает этот ледник, потому что в юности ходил
туда охотиться на козлов; что ледник тянется вверх верст на тридцать-сорок и
что где-то в его верховьях существует перевал Кашал-аяк, которым в далекие
прошлые времена изредка пользовались люди, ходившие в долину Ванча.
Увлеченный этим рассказом, В. Ф. Ошанин, взяв с собою двух спутников,
вернулся к леднику, с трудом поднялся на его язык, но, не имея опыта
восхождений по ледникам, вернулся вниз, справедливо впоследствии приравняв
стремление изучать ледник без такого опыта к попытке "отправиться на тигра
без всякого оружия".
И все же через тридцать один год нашелся смельчак, рискнувший без
всякого опыта восхождения на ледники подняться на ледник Федченко и изучать
его в поисках легендарного перевала Кашал-аяк.
Таким смельчаком оказался топограф Н. И. Косиненко. С группой казаков
верхами, перевалив в июне 1908 года перевал Терс-Агар, он по крутым зигзагам
тропы спустился к Муксу у Алтын-Мазара. Он так описывает свой путь:
"С перевала долина Муук-Су представляется громадным провалом, глубиной
около трех тысяч футов, по дну которого разбегаются многочисленные рукава
Муук-Су. Впереди за нею возвышаются три пика высотою не менее двадцати тысяч
футов, более чем наполовину покрытых снегом. Здесь, южнее подошвы перевала
Терс-Агар, имеется обширный тугай из тала, облепихи и шиповника с
разбросанными по нему ветхими зимовками Алтын-Мазара.
В нем находятся пятнадцать кибиток киргизов, на лето откочевывающих на
северный склон Терс-Агара. Они занимаются скотоводством и земледелием, и
поэтому необходимое в поездке продовольствие у них достать возможно.
Летом здесь жарко, но зимою (декабрь -- март) снег до пояса, хотя сама
река льдом никогда не покрывается.
Киргизы заверили меня, что далее пройти летом невозможно: в Сель-Даре
(верховья Муук-Су), благодаря сильному таянию ледников, так много воды, что
переправиться нельзя ни под каким видом, -- такая попытка допустима только
позднею осенью, когда таяние прекращается и вода в реках спадает до
минимума. "Дороги нет, вода глубока", -- был один ответ киргизов на просьбу
проводить хотя бы только до ледника Федченко. Пришлось до ледника произвести
самому предварительную разведку, налегке, без вьюков, с трудом убедив одного
престарелого киргиза, Махмет-куль-бая, сделать только попытку.
Широкая стремительная река действительно представляет серьезное
препятствие. Она разбилась на множество рукавов на мелкокаменистом речном
ложе шириною более двух верст. Прохождение каждого рукава сопряжено с
большою опасностью. Оступись лошадь, и спасения почти нет, а оступиться
легко, потому что течение непрерывно ворочает по дну большие камни.
Махмет-куль-бай останавливался перед каждым таким рукавом, со слезами на
глазах упрашивая вернуться, тем более, что вода прибывала с каждой минутой.
Тем не менее рекогносцировка была удачна: хотя с большим трудом, но
после полудня мы дошли до конечных морен ледника Федченко, из-под которых
вырывается, обильная водою, мутная Сель-Дара; от русла ее конца моренному
нагромождению не видать.
Обратный путь пришлось уже карабкаться по скалистой почти козьей тропе
правого берега реки вследствие большой прибыли воды.
После дневки рано утром 1 июля выступили с вьюками и проводниками по
усеянному щебнем и гальками дну долины. Двигались быстрее -- путь был уже
знаком. Но на одном из
рукавов шедший отдельно начальник отряда неожиданно попал на такое
глубокое место, что погрузился с лошадью в ледяную воду. Лошадь
опрокинулась, и, отделившись от нее, разведчик был увлечен быстрым течением
Сель-Дары.
Совершенно изнемогший и почти теряющий сознание, он был вытащен из воды
казаками и киргизами другого разведочного отряда (капитана Романовского и
кн. Трубецкого), случайно шедшего в полуверсте сзади в этот единственный
совместный переход. Через час, под самым ледником Федченко, потерпевший
аварию еще раз встретился со своими спасителями. Рукав Балянд-Киик,
впадающий здесь в Сель-Дару, оказался вброд непроходимым и преградил дорогу
к левому его берегу. Пришлось подниматься прямо вверх по отвратительной
гальке и щебню конечной морены ледника Федченко.
Подъем на ледник крут и труден. Попытка пройти по левой боковой морене
не удалась: "хаос" глыб и скал преградил нам дорогу. Пришлось заночевать под
ледником.
На следующий день снова двинулись по моренному нагромождению
оконечности ледника, но по середине его ложа. Лошади скользили по
обнажавшемуся от мелкого щебня льду и падали, с трудом поднимаясь. От
острого щебня кровавые следы их ног обозначали наш путь. Часа четыре мы шли,
ведя в поводу своих лошадей и поднимаясь с одного гребня морены на другой.
Верст через шесть с конечной морены ледника мы вступили на чистый лед, где
можно было сесть на коней, хотя с ежеминутным риском кувыркнуться. Впереди
расстилалась пустынная ледяная поверхность. Жутко было ступать по этой
неведомой, никогда не знавшей человеческих следов области, где ожидало нас
много опасностей, свойственных этому царству льда.
Все чаще и чаще наш путь преграждали ледяные трещины шириною от фута до
сажени, но пока обходить их было легко.
Затем снова пришлось двигаться между грядами морен и колоссальными
ледяными пирамидами. Количество трещин так увеличилось, что на 25-й версте
от бивака мы попали в целую сеть их, преградивших нам путь на все стороны, и
едва удалось найти обратный выход -- следы копыт на льду были почти
незаметны.
Тогда свернули в правый боковой ледник, весь загроможденный моренами,
но по бокам ложа которого на скалах зеленела трава. С большим трудом мы
пересекли несколько мощных морен, прежде чем попали на этот ледник, и только
к вечеру, после невыносимо трудного перехода, мы расположились на бивак,
верстах в шести от слияния ледников, и простояли на нем целую неделю, за что
и самый ледник получил название "Бивачного".
На биваке дней, благодаря таянию льда, -- непрерывный треск и грохот от
скатывающихся галек и щебня в ледниковые трещины и озера.
У ледников не видно и следа древесной растительности, но, к счастью,
предвидя отсутствие топлива, мы захватили с собой небольшие запасы его, дней
на пять, при условии, что чай можно себе допустить только раз в день -- во
время варки пищи.
Отсюда был предпринят ряд разведок без проводника, для отыскания пути в
долину Ванча. На другой день возобновили попытку пройти без вьюков к пер.
Кашал-аяк левою стороною ледника Федченко, но верстах в десяти от Бивачного
ледника опять целый лабиринт трещин преградил нам дорогу, причем одна лошадь
едва не погибла, попав в трещину, -- с трудом вытащив ее, вернулись на
ночлег.
На следующий день отправились втроем налегке вверх по Бивачному
леднику. Движение было очень трудным. Сначала двигались крутым щебнистым
косогором правого берега ледника, прошли несколько грязных оползней, на
которых люди и лошади сползали вниз вместе со щебнем... "
Косиненко описывает дальнейшие поиски перевала, страшную одышку и
сердцебиение от высоты, падения лошадей в глубоком снегу, незатихающий гул и
грохот от массовых каменистых и снежных обвалов, снежную пургу, ночевку на
камне и рассвет, при котором он увидел под собою пропасть: "отвесные
скалистые и снежные обрывы в глубочайшую котловину, а впереди, кроме гор,
ничего не было видно. О спуске не могло быть и речи... Был ли это перевал
Кашал-аяк? -- трудно сказать... Он не вполне соответствует положению своему
на существующей карте. Солдаты назвали его перевалом Разведчиков. Итак, все
возможные попытки найти путь в долину Ванча через этот "Ледовитый океан"
потерпели неудачу. В общей сложности здесь по ледникам было сделано свыше
полутораста верст... "
Косиненко вернулся обратно, к Балянд-Киику, затем другим путем проник
на ледник Танымас, по которому продвигаться оказалось еще трудней, чем по
леднику Федченко. Попытка пройти через Танымас в Язгулем также окончилась
неудачей, и Косиненко спустился вниз по реке Танымас в Кудару, а отсюда
прошел в верховья реки Бартанг.
И все-таки слова В. Ф. Ошанина об "охоте на тигра без всякого оружия"
оказались во многом справедливыми. Если бы Н. И. Косиненко обладал не только
огромной смелостью, но и опытом высокогорных исследований, то он,
безусловно, не повернул бы назад от того гребня, за которым открылись ему
отвесные обрывы в глубочайшую котловину. Он, конечно,
рискнул бы оторваться от своего каравана, но он не был альпинистом и
лазать по отвесным ледяным кручам не умел.
Почти нет сомнений, что перед Н. И. Косиненко и был перевал Кашал-аяк.
Но у путешественника не хватило данных, чтобы утверждать и доказать это.
С тех пор стало известно только, что ледник Федченко имеет не меньше
тридцати километров в длину, что среди его притоков есть другой мощный
ледник -- Бивачный и что легендарный перевал, должно быть, "где-то там"
действительно существует.
Но еще девятнадцать лет никто не вступал на этот ледник.
И только в 1928 году оправдалось удивительное по своей научной
проницательности предположение, высказанное русским ученым еще в 1885 году,
на которое, к сожалению, никто в свое время не обратил внимания и которое
было забыто позже.
Ученым, высказавшим это предположение, был Г. Е. ГруммГржимайло,
который пытался, но не мог проникнуть в загадочную область с западной
стороны. В своем докладе в общем собрании Русского географического общества
4 декабря 1885 года * замечательный ученый говорил:
"... В особенности любопытна северная часть этих нагорий, любопытна
потому, что здесь мы должны предполагать громаднейшее поднятие, узел, от
которого, как от центра, во все стороны разбегаются громадные кряжи неравной
длины.
Этот узел у туземцев носит название Сель-тау, что значит "Ледяная
гора". С нее то к северу, то к югу и к западу спускаются ледники, о
грандиозных размерах которых мы можем судить только приблизительно. Северный
из них назван В. Ф. Ошаниным ледником Федченко, повидимому, самый д л и н н
ы й из них и находится в полной связи с другим ледником, идущим на запад
(выделено мной. -- П. Л. ) и, повидимому, замкнутым между упомянутой выше
Сель-тау и горой Узтерги, что значит в переводе "болит голова", "кружит
голова", название, которое прямо указывает на замечательную высоту этой
горы. И действительно, туземцы уверяли меня, что выше этой горы нет в мире
другой... влезть на нее невозможно... "
Г. Е. Грумм-Гржимайло приводил слышанные им от горных таджиков
утверждения, что от верховий долины Ванча существует трудный, но доступный
человеку перевал, после которого, пройдя десять "ташей" по ледникам, можно
достигнуть реки Сель-су.
* Опубликован в 1886 году под названием "Очерк припамирских стран"
(оттиск из т. XXII "Известий Русского географического общества").
"Таш" ("камень") -- это примерно восемь километров -- мера длины, а
река Сель-су (иначе Сель-Дара) есть верхний приток Мук-су.
И только почти через полвека, в 1928 году, стало ясно, какая огромная
научная ценность заключалась в высказывании Г. Е. Грумм-Гржимайло.
Участник Памирской экспедиции Академии наук 1928 года топограф И. Г.
Дорофеев первый, вступив в верховья огромного неизвестного ледника и пройдя
его до середины, установил, что находится на леднике Федченко и что,
следовательно, этот ледник громаден.
И когда И. Г. Дорофеев исходил его во всех направлениях и первый прошел
его весь -- сверху донизу, то оказалось, что длина ледника превышает
семьдесят километров.
"Повидимому, самый длинный" ледник, по точным измерениям Р. Д. Забирова
(1951 г. ) имеющий 71, 2 километра длины, оказался величайшим в средних
широтах мира, которому уступают в длине даже все ледники Гималаев и
Гиндукуша и за которым на втором месте стоит тянь-шаньский ледник Инылчек.
В период же древнего оледенения, по исследованиям Н. Л. Корженевского,
изучавшего Мук-су еще в 1904 и в 1910 годах, а затем и в следующих годах,
ледник Федченко достигал длины в сто семьдесят пять километров. Мощность его
ледового тела, достигающего в наши дни семьсот метров (три четверти
километра толщины!), в древние времена была не меньше километра.
Вспомним и сообщение Г. Е. Грумм-Гржимайло: "туземцы уверяли меня, что
выше этой горы нет в мире другой... влезть на нее невозможно... "
Пик Сталина, открытый в этом районе, оказался высочайшим в СССР, и
только утверждение, что влезть на него невозможно, было опровергнуто
советским альпинистом Евгением Абалаковым, взявшим эту вершину 3 сентября
1933 года, и группой других советских альпинистов, повторивших восхождение
на пик Сталина в 1937 году.
В Ванване и Пой-Мазаре
Хлопотливое поручение -- провести по всем пянджским оврингам, от Хорога
до Ванча, основной караван ТКЭ -- мне удалось выполнить. 26 сентября 1932
года на двенадцатый день мучительного пути все шестьдесят две лошади
каравана с десятью караванщиками, все научные работники, ехавшие с
караваном, художник Н. Г. Котов, фотограф В. Лебедев, завхоз экспедиции и
несколько русских рабочих были благодаря помощи, оказанной местным
населением в пути на пянджских оврингах, благополучно приведены мною в
Кала-и-Ванч.
В караване было много образцов горных пород, гербарий, зоологические
коллекции, собранные в разных местах Памира, сотни непроявленных
фотонегативов. Кроме того, была большая этнографическая коллекция, больше
трехсот предметов материальной культуры горных таджиков, собранная мною в
Вахане, Шугнане, Рушане; эту коллекцию позже, в Ленинграде, я сдал в Совет
по изучению производительных сил Академии наук.
Словом, в большинстве вьюков каравана были результаты многомесячных
работ центральной группы экспедиции.
В труднейшем -- для такого огромного каравана -- пути по оврингам ни
одна из лошадей не погибла, ни один вьюк не разбился, не утонул, не пропал.
Только я один знал, каких сил и нервного напряжения это мне стоило!
В Кала-и-Ванче (Рохарве) я не задержался и на полдня: на своей усталой
лошади выехал в верховья Ванча. Мне предстояло через ледопад Кашал-аяк
подняться на ледник Федченко.
В августе -- сентябре 1932 года перевал Кашал-аяк (после открытия его в
1928 году снова не посещавшийся никем) стал Вдруг "торной дорогой"
Таджикской комплексной экспедиции. Этой "дорогою" должен был пройти и я для
того, чтобы на леднике Федченко сомкнуть свой маршрут с маршрутом группы Н.
П. Горбунова, которая, поднявшись на ледник с севера, искала подступы к
высочайшему в Советском Союзе пику, в том году позже названному пиком
Сталина. Было условлено, что вместе с группой, которой я шел навстречу, мне,
как ученому секретарю экспедиции, нужно будет участвовать в осмотре места,
выбранного у борта ледника Федченко, для строительства высочайшей в мире
гидро-гляцио-метеорологической обсерватории.
Перехожу к записям в моем путевом дневнике:
... 27 сентября. Еще при солнце, проехав узкую осыпь, я достиг Ванвана
-- второго, верхнего Ванвана, ибо их, маленьких одноименных кишлачков, на
Ванче два.
Здесь, под громадным деревом, грецким орехом, наши: геолог А. А. Сауков
со своими сотрудниками Голубевым и Каргиным; альпинист Коровин и переводчик
Азиз, только что пришедшие за мною с ледника Федченко; художник П.
Староносов, с которым я расстался в Вахане, и другие.
Я подъехал как раз в момент, когда дружно опустошался огромный котел
супа.
Прежде всего -- взаимное фотографирование, потом сумбурные расспросы, а
после супа я с Сауковым пошел через
мост в самый верхний кишлак Ванча -- Пой-Мазар, до которого отсюда
километра полтора.
Сегодня в Пой-Мазар, в одно время со мной, с разных сторон явились:
геолог Д. И. Щербаков с молодым геохимиком Н. В. Тагеевой и
топограф-геодезист И. Г. Дорофеев со своим юным помощником, которого зовут
Леней.
Встреча замечательная, сошлись, словно не на краю земли, а в городе, на
одной квартире. Кстати, "квартиры" местных жителей здесь тоже замечательные:
буквально избушки на курьих ножках, -- свайные постройки, шалаши на высоких
столбах, как в фильме "Чанг". Высоко от земли, между деревьями и на деревьях
живут люди. Не хватает только кремневых топоров, даже луки есть, из которых
дети охотятся на птиц. Есть тут, конечно, и каменные жилища -- это зимние
обиталища людей, а шалаши на столбах -- это, так сказать, летние "дачи". Это
одно из самых далеких от культуры селений в Советском Союзе.
Усталость незаметна, хоть я и проехал сегодня километров шестьдесят
пять. До полуночи -- разговоры и чаепитие. Узнал все новости о последних
открытиях на ледниках, об отрядах экспедиции там работающих. Сообщил все,
что знаю сам.
Решили: для подъема на ледник Федченко я объединяюсь в одну группу с А.
А. Сауковым и его помощниками, с Н. В. Тагеевой, а из своей группы приглашаю
ботаника Л. Б. Ланину и завхоза (к которым завтра посылаю гонца с письмом в
Рохарв). Поведут нас Коровин и Азиз. Выходим 30 сентября.
Ночью я с Сауковым вернулся в Ванван.
28 сентября. День -- в Ванване. У нас Д. И. Щербаков. Вечером
отправился с ним "в гости" в Пой-Мазар. Карабкались в темноте на береговой
откос, сквозь кустарник. У костра разговоры до ночи.
Возвращался ночью, один, и чуть не утонул в реке, выйдя по ошибке на
старый, разрушенный мост и провалившись в воду... А потом "дома" сушился у
костра и, пока все спали, делал долгие записи...
29 сентября. В Ванване, сборы. Скверное самочувствие, воспалены гланды,
сильно простужен. Спать было очень холодно. Тучи, днем холодно даже в
свитерах.
Сегодня Щербаков, Дорофеев, весь пой-мазарский лагерь ушли вниз по
Ванчу, "сдав" нам Надежду Викторовну Тагееву.
30 сентября. Ванван. Около полудня -- всадники: Ланина, Каргин, завхоз
и другие с двумя лошадьми, навьюченными продовольствием и снаряжением.
Завхоз "забыл" привезти карту ледника Федченко, запас сухого спирта;
кроме того, на последней ночевке, в Сетарге, забыл мешок с веревками и
рюкзаками. Поразительная небрежность! Пришлось за этим мешком сейчас же
послать караванщика. Без сухого спирта как-нибудь обойдемся: у Саукова есть
немного бензина.
По всем этим причинам выступление пришлось отложить до завтра.
Неожиданно с ледника Федченко явились два молодых альпиниста Гог и
Птенчик, бодрые и веселые, -- они посланы в Хорог и дальше -- на
месторождение ляпис-лазури. Дал им денег, двух лошадей с седлами, кучу
советов, записку в Рохарв о продовольствии из моего каравана -- и через два
часа они отправились вниз по Ванчу.
Завтра выходим на ледник Географического общества и дальше -- к
легендарному ледопаду Кашал-аяк.
О хорошем, настоящем исследователе
Но сначала я хочу рассказать, как легенда о Кашал-аяке рухнула.
Ледник Федченко был открыт с северного конца. Все позднейшие
исследователи ледника направлялись к нему также либо с севера (от реки
Мук-су), либо с востока (от реки Танымас). Кажется, никто из исследователей,
кроме астронома Я. И. Беляева и сопровождавшего его геоморфолога П. И.
Беседина, поднимавшихся по Ванчу в 1916 году и установивших в Пой-Мазаре
астрономический пункт, не пытался искать подступы к леднику с юго-запада из
ванчской долины. Горцы Ванча привыкли считать, что существующая над
верховьями их реки таинственная область закрыта от них недоступною "Ледяною
завесой". Они были твердо убеждены, что человеку в наши времена пути сквозь
эту "завесу" нет.
Правда, русский путешественник Кузнецов в своем труде "Дарвоз" передает
рассказ ванчцев о том, что "лет сто пятьдесят назад управитель Ванча
Шабос-Хан ходил через единственный здесь доступный перевал Кашал-аяк грабить
киргизов, но с тех пор ледники значительно увеличились и теперь доступ к
перевалу преграждается совершенно отвесным ледником".
Правда также, Н. И. Косиненко передает сообщенную ему в 1908 году
алтын-мазарским киргизом, семидесятилетним стариком Махмет-Куль-баем
легенду, которую тот, "не допускавший и мысли о возможном когда бы то ни
было прохождении этого ледника", слышал однажды в детстве. Легенда гласила,
что "когда-то этими ледниками пытались вернуться в Дарваз таджики, пришедшие
через Каратегин, но о них больше никто не слышал -- все они погибли".
 Схема бассейна ледника Федченко (по карте И. Г. Дорофеева 1928--1929
годов).
Это и все, что можно было услышать у ванчских таджиков и у
восточнопамирских киргизов о Кашал-аяке.
Но однажды в 1928 году случилось невероятное.
Дело происходило так.
Пастухи из последнего ванчского кишлака Пой-Мазар пасли скот у летовки
на верхнем пастбище; в конце августа ночью здесь было холодно, пастухи в
джангале -- в зарослях колючек набрали сухих ветвей, разожгли костер.
Вскипятили воду, согрелись, поели лепешек, пощелкали камнем грецких орехов,
которых в верхних кишлаках Ванча растет так много.
Один из пастухов отошел от костра, чтобы согнать с кручи овец. Зорко
всматриваясь в кромешную тьму, обратив свой взор в сторону "Ледяной завесы",
он неожиданно увидел высоко и далеко во тьме маленький огонек. Он долго
всматривался, тер себе глаза, не веря недопустимому... Но сомнений не было:
там, где начинаются льды, мерцал небольшой костер.
Испуганный пастух закричал, подбежал к своим, все вместе, суеверные,
неграмотные пой-мазарские пастухи, стали вглядываться в таинственный огонек.
Но... Ведь никто, ни один человек с Ванча, не проходил мимо них туда; а
все свои были налицо... А ведь и духи гор -- дэвы не разжигают костров. Что
это могло бы значить? Может быть, оттуда на Ванч надвигается какая-то
непонятная опасность?
Надо было что-то решить, что-то предпринимать.
Но что решили и что предприняли ванчцы, я скажу позже.
А сейчас расскажу о том, что в такую же ночь, 28 сентября 1932 года,
расположившись у костра, в кишлаке Пой-Мазар, я впервые во всех подробностях
услышал от Ивана Георгиевича Дорофеева.
За полтора месяца перед тем я расстался с ним в Вахане, у подъема на
перевал Шитхарв, куда я двинулся, чтоб закончить исследования района пика
Маяковского. Он тогда со своим фототеодолитным отрядом ушел по Пянджу вниз,
к Ишкашиму.
Теперь мы сошлись в Пой-Мазаре, двигаясь с разных сторон: я с низовьев
Ванча, а он откуда-то с ледников, кажется от Язгулема. Здесь же, у костра,
расположился, пришедший в этот день с третьей стороны, Дмитрий Иванович
Щербаков, с ним была его помощница геохимик Н. В. Тагеева.
Я хорошо знал о замечательных исследованиях Дорофеева, произведенных им
за четыре года перед тем в области ледника Федченко и продолжавшихся во все
последующие годы.
Простодушный, всегда удивительно скромный, даже застенчивый человек,
рослый, сильный, выносливый и очень
спокойный, он в тяжелых памирских странствиях был искренним тружеником,
непритязательным, не считающимся ни с какими лишениями. Он мог чуть не по
нескольку суток не спать и не есть. Когда другие, больше заботившиеся о себе
участники экспедиции питались специально приготовленными для высокогорных
восхождений продуктами, он, не любя терять время, скажем, на ожидание их
доставки, уходил в свой всегда опасный и трудный маршрут с двумя-тремя
глубоко преданными ему красноармейцами, сунув в рюкзаки по куску вареной
баранины и по две сухие лепешки... Когда "завзятые" альпинисты спали в
пуховых спальных мешках, в специальных шелковых "шустеровских" палатках,
Иван Георгиевич Дорофеев и его верные помощники ночевали на льду в овчинных
полушубках и при этом -- удивительное дело! -- не простужались, оставались
полными сил, всегда энергичными, способными отказывать себе в самом
необходимом отдыхе.
Впервые нанесший на карту несколько тысяч квадратных километров
территории высочайших ледников, И. Г. Дорофеев только через двадцать три
года -- в 1951 году -- решился опубликовать предельно сжатую и предельно
содержательную статью; она называется: "По белому пятну Западного Памира". В
предисловии к ней академик Д. И. Щербаков, сам один из наиболее смелых
исследователей Памира, так характеризует сделанные И. Г. Дорофеевым (только
в 1928 году!) замечательные географические открытия:
"... Его съемкой по р. Кара-Джилга, впадающей в оз. Каракуль, и по ее
притокам был добыт новый картографический материал, изменяющий прежние
представления об этом районе. Было открыто много ущелий и 23 ледника,
определено много новых высот. Выполнена съемка по долине р. Карачим, где
открыто три ледника, и нивелировка от р. Кокуй-бель до р. Джир-уй на
протяжении 16 километров.
Впервые произведено обследование и съемка верховья долины р. Танымас с
ее ледниками, установлена возможность прохода от Танымаса по леднику
Федченко в долину р. Муксу. Открыто свыше 20 новых ледников в бассейне
ледника Федченко.
Впервые были пройдены перевалы Кашал-аяк, Танымас и новые, ведущие из
Абдукагора на ледники Федченко и Академии; произведена полуинструментальная
съемка верховьев рек Ванч, Язгулем, Абдукагор. В низовьях ледника Федченко
открыто, кроме заснятых мензулой, два новых больших ледника: один, стекающий
со склонов пика Сталина длиной около 20 км, другой--с восточного хребта
длиной также около 20 км.
Свыше 40 дней пробыл на ледниках И. Г. Дорофеев. На высотах,
превышающих 4 км, он работал более 50 дней.
Особая ценность работы И. Г. Дорофеева заключается
в том, что им были пройдены "мертвые" пространства, которые не
покрывались еще фототеодолитною съемкой, и, что еще важнее, результаты его
съемки были готовы непосредственно после ее выполнения на месте и могли быть
использованы для нужд других сотрудников экспедиции.
... Таким образом, И. Г. Дорофееву принадлежит часть существенных
географических открытий, его работа является примером самоотверженной
деятельности исследователя-топографа в высокогорном районе... "
Так вот... В тот памятный сентябрьский вечер 1932 года, когда перед
восхождением через Кашал-аяк на ледник Федченко я особенно жадно
расспрашивал о них людей, уже побывавших там, И. Г. Дорофеев рассказал мне
много интересного и поучительного о своем путешествии 1928 года.
В подробностях узнал я тогда, как искал он легендарный Кашал-аяк, как
разведывал гребень хребта Академии наук, через который, словно через край
чаши, ледник Федченко переливается и круто, со страшной высоты, на полтора
километра вниз, "дочерними" ледниками низвергается в долины Западного
Памира.
Любуясь звездами, я слушал рассказ о восхождении по леднику No 8 (так
обозначил его И. Г. Дорофеев на своей карте) и о том, как 20 августа 1928
года вместе с О. Ю. Шмидтом И. Г. Дорофеев впервые обнаружил перевал.
Это был Кашал-аяк!
Я узнал, как связанные обещанием вернуться с результатами
географической разведки к основному лагерю, исследователи удержались от
соблазна немедленно пойти вниз. И как, только выполнив обещание, И. Г.
Дорофеев вновь направился к найденному им перевалу Кашал-аяк.
Первыми, кто 25 августа спустился с перевала в бассейн реки Ванч на
другой неизвестный ледник, были два красноармейца из трех, сопровождавших
исследователя. И вот причина того, почему этот ледник И. Г. Дорофеевым
назван был Красноармейским.
Я смотрел на освещенное затухающим костром простое, русское лицо
человека, который первым из всех людей земного шара ступал совсем недавно
вот там... в ту минуту я сам находился в тех горах, которые вот там, чуть
подальше, в нескольких километрах от меня, вставали высоко-высоко огромной,
иззубренной тенью, отсекая собою все нижние звезды безмерно глубокого неба.
Я следил за короткими, не замечаемыми самим рассказчиком жестами,
какими указывал он мне туда, где все для него было ясно и где я пока, уже
хорошо изучив составленную им
же, И. Г. Дорофеевым, карту, представлял себе только замысловатые линии
горизонталей, только ветвистую схему топографических обозначений.
Вот где-то там, по леднику Красноармейскому, Иван Георгиевич со своими
спутниками в тот же день дошел до третьего, большого неведомого ледника;
ниже из него вытекала уходящая на запад река, та шумливая, быстрая река, на
высоком берегу которой, в глухих верховьях долины, совсем близко от ледника,
мы полулежали на траве у костра.
Но тогда И. Г. Дорофеев не знал, что это за река.
Язгулем или Ванч?
Как просто сейчас, найдя на карте ледник Географического общества,
сказать, что из него вытекает Ванч!
Но как невероятно трудно было разгадать тайну сплетения гор, ледников и
хребтов, когда эту карту еще только нужно было составить, когда все названия
еще только нужно было придумать!
Вокруг были льды, уже нависшие сверху; скалистые стены ущелья,
нагромождение морен, и -- под ледником -- маленькая травянистая зеленая
площадка, нежданная, благоуханная, густая трава, и цветы, и воздух, впервые
за долгое время нежащий, теплый...
И, глядя на мерцание звезд, вот тех же, какие теперь видел и я, можно
было забыть о всех нечеловеческих трудностях, о всех опасностях, оставшихся
позади, даже о том, что все продукты уже на исходе, а людей, людей, никаких
обитателей, вот все еще нет!.. Последние местные жители, каких видел И. Г.
Дорофеев, были киргизы у озера Каракуль, -- это было, кажется, месяц назад
и, кажется, безмерно далеко отсюда!..
И все-таки Дорофеев не поспешил двинуться вниз... Он считал своим
долгом прежде всего исследовать тот большой ледник, к которому они вышли. И
на следующий день он отправился вверх по этому леднику, по его
остро-каменистым моренным буграм, каждый из которых был высотою в полсотяю
метров. И, только найдя в верховьях огромный ледопад, который, несомненно,
был вторым перевалом Кашал-аяк (Дорофеев обозначил его на карте No 1, а
пройденный накануне-- No 2), Дорофеев к вечеру, при луне вернулся вниз,
пройдя пятнадцать километров по отвратительным буграм и ямам морен, по
снежным мостикам через тысячи трещин, к той травянистой площадке, где его
дожидались красноармейцы.
Продукты кончились. Если здесь был Ванч, то до ближайшего кишлака
Пой-Мазара оставалось итти недолго. Если здесь был Язгулем, положение могло
оказаться катастрофическим, -- кишлаки Язгулема, по всем сведениям,
начинались очень далеко от истоков реки.
И вдруг красноармеец Гизятов, справедливо гордившийся своим зрением,
увидел далеко внизу огонь. И закричал:
-- Огонь!
Но, кажется, ему это только привиделось. Никто другой не мог во тьме
разглядеть огня. И. Г. Дорофеев не обнаружил его даже в бинокль.
На следующий день исследователь со своими спутниками двинулся вниз по
долине. Вся группа едва не погибла на переправе через неведомую реку, о
которой позже стало известно, что у горцев верховьев Ванча она называется
Абдукагор.
И еще ночь -- у неодоленной реки.
Теперь Дорофеев жег большой костер в надежде, что люди, которые -- надо
же думать! -- есть где-то внизу, заметят огонь. И теперь уже все увидели:
внизу сверкнул огонек. Ктото, какие-то люди внизу зажгли ответный костер!..
Можно было не сомневаться: внизу, недалеко, есть люди!
Впрочем... В числе слышанных И. Г. Дорофеевым легенд была и легенда о
существовании где-то, среди этих гор дикого, враждебного цивилизованным
людям племени.
Утром 28 августа группа И. Г. Дорофеева, не в силах одолеть реку,
вернулась к языку ледника, поднялась на него, обогнула сверху исток главной
реки и вдоль другого -- правого -- берега, карабкаясь по отвесным скалам,
двинулась вниз.
Когда путники огибали один из скалистых мысов, уходивших отвесно в воду
и, как во льду, выламывали в нем ледорубом ступеньки, они вдруг увидели...
Однако я расскажу об этом словами самого И. Г. Дорофеева:
"-- И вдруг кто-то закричал: "Смотрите, люди!" По левому берегу на двух
лошадях ехали люди по двое на каждой лошади, один шел пешком. В бинокль мы
разглядели, что это таджики. Мы сигнализировали им, кричали, хотя и знали,
что из-за шума реки они нас не услышат. Когда мы спустились со скалы,
незнакомые люди подъехали к берегу и один из них что-то кинул в нас. Камни?
Нет, яблоки! "Ура нашим спасителям!" -- закричали мы".
И в ответ на вопрос, что это за река, люди ответили им: Ванч! И один из
них переправился через реку на турсуке. Путешественники обнимали его, трясли
ему руки.
"-- Это был председатель сельсовета кишлака Пой-Мазар в долине Ванч. Со
своими товарищами он приехал узнать, что за огонь видели пастухи, пасущие
стада в горах. Когда я рассказал, что мы спустились сюда именно через эти
горы и льды, он был сильно поражен и не сразу поверил, что я говорю правду.
Узнав, что мы голодны, он знаками распорядился, чтоб его товарищи ехали
вперед в Пой-Мазар и сварили барана, а пока угощал нас яблоками и
лепешками... "
К этому рассказу надо добавить, что, узнав от ванчцев о существовании
перевала, ведущего в соседнее ущелье Язгулем, И. Г. Дорофеев на следующее же
утро, не дав себе отдыха, отправился в путь и уже вечером того дня снова был
на новом, дотоле науке неведомом, леднике, на водораздельном гребне. А затем
спустился в Язгулем, начал поиски перевала из Язгулема на ледник Федченко и
через несколько дней труднейшего и опаснейшего пути оказался на высотах в
пять с лишним километров, на неведомых фирновых полях исполинского
ледникового цирка, который, -- к счастью для исследователя и для его
спутников, измученных и уже голодающих, -- оказался верховьями ледника
Федченко. Отсюда было недалеко до середины ледника, где О. Ю. Шмидтом был
организован полный запасов продовольствия лагерь.
Круг был замкнут, вся область большого белого пятна расшифрована!
По леднику Географического общества
Ледник Географического общества назван так И. Г. Дорофеевым, который,
спустившись с открытого им перевала Кашал-аяк (No 2), впервые нанес этот
ледник на карту. Для этой работы И. Г. Дорофеев 26 августа 1928 года прошел
весь ледник снизу до ледопада Кашал-аяк (No 1) и обратно.
Дорофеев определил длину ледника в восемнадцать километров, а площадь
-- в тридцать шесть квадратных километров.
С тех пор ровно двадцать лет, до 1948 года, никто специальными
исследованиями ледника не занимался, и всякий желавший что-нибудь узнать о
нем должен был ограничиваться только данными И. Г. Дорофеева.
В 1948 и 1949 годах ледник, наконец, как и многие другие ледники этого
бассейна, во всех подробностях был изучен экспедицией известного
геоморфолога профессора И. С. Щукина. За двадцать лет конец ледника отступил
на 2 600 метров от того места, где он был в 1928 году.
Длина ледника до ледопада Кашал-аяк оказалась 12, 8 километра, а общая
длина до верховий-- 21, 5 километра.
Площадь же ледника со всеми фирновыми и снежными полями была определена
почти в восемьдесят два квадратных километра. Средняя скорость течения
ледника равнялась почти ста четырем метрам в год.
29 П. Лукницкий
В 1932 году, поднимаясь по леднику Географического общества к ледопаду
Кашал-аяк, я сделал в дневнике следующую запись:
... 1 октября. Встали с рассветом, напились чаю (получив каждый по два
куска сахара и лепешке) и в 7 часов 40 минут утра вышли из Ванвана на ледник
Федченко.
Мы сразу же разделились: я с караванщиком Мирзоджаном и вьючной лошадью
двинулся через кишлак Пой-Мазар по левому берегу, а все остальные -- по
правому. Уговорились встретиться на леднике, там, где его подмывает
вырывающаяся сбоку река Абдукагор.
Я шел к переправе через Абдукагор до 12 часов 30 минут дня. Кустарник,
а иногда густой джангаль -- заросли колючки -- постепенно редели. Миновал
последнее человеческое жилье -- одинокую, пустую хижину: летовку ванчских
пастухов.
Перед долиной Абдукагора долина Ванча сузилась, начались морены и
открылся вид на морены ледника Географического общества, захламленного,
грязного и бугристого, по которому мы пойдем на ледопад. Ходят тучи, ими
закрыты все вершины, солнце появляется только на короткие минуты. Прохладно.
И вот я у переправы. Четыре года назад здесь едва не погиб И, Г,
Дорофеев со своими спутниками. На пути от ледника Красноармейского, стремясь
в долину Ванча, его группа подошла сверху сюда, еще не зная, что это за
река, -- название Абдукагор тогда было миру неведомо. Перед И. Г. Дорофеевым
оказались четыре рукава реки, такой же бурной, какой два часа назад она
предстала перед моими глазами. По сравнительно мелкой воде путники
переправились через три рукава, а четвертый -- вот тот, что сейчас передо
мною был первым, -- одолеть им не удалось: воды в нем было по пояс, она
перекатывала по дну крупные валуны. Обессилев в борьбе с водой, Дорофеев и
его спутники решили было отойти назад. Но оказалось, что в трех пройденных
рукавах воды прибавилось столько, что и обратный путь отрезан. Все четыре
рукава, стремительно увеличиваясь, должны были вот-вот соединиться, поглотив
тот галечный островок, на котором в плену оказались Дорофеев и его спутники.
Только героизм самого Дорофеева и его трех красноармейцев, спасавших
друг друга с помощью веревки, помог им в последнюю минуту одолеть бешеное
течение реки и вырваться из гибельного плена.
В том же году здесь при переправе был сильно покалечен один из
участников альпинистской группы. Ему потом пришлось лежать две недели.
Теперь испробовать эту переправу предстояло и мне. Я осторожно вступил
в воду, но уже через несколько шагов понял, что еще шаг, и течение собьет
меня с ног. Я вернулся и, обвязавшись веревкой, а другой конец ее передав
Мирзоджану, сунулся в воду снова. Но... безуспешно.
В конце концов мне удалось перебраться через реку на вьючной лошади,
разделив предварительно вьюк на две части. Переправившись, таким образом,
дважды, сложив груз на камнях и погнав лошадь обратно, я крикнул Мирзоджану,
чтобы он возвращался в Пой-Мазар, и мой испытанный караванщик уехал, оставив
меня одного.
И вот уже 3 часа дня -- никаких признаков нашей группы, хотя мы
условились, что с ледника сюда спустятся носильщики за вещами и тогда я
пойду дальше, вместе со всеми...
Около часа столбом стоял на вершине моренного бугра, -- никого не
видно. Дал выстрел из нагана, -- он только чуть слышно пикнул. Вернулся,
ждал; ходил к мысу Абдукагор. Наконец услышал сзади свист. Азиз, переводчик,
нашел меня. Оказывается, группа блуждала в моренных буграх.
На поиски и ожидание ушло четыре часа. Вместе мы прошли по буграм с
полчаса, но двигаться дальше -- поздно, и вскоре мы располагаемся на
ночевку. Поднимая облако пыли, разравниваем моренный бугор ледорубами,
палаток не расставляем, -- для них нет места, расстилаем общее ложе --
брезент. Набрав среди морен обломки арчи, очевидно сброшенной обвалами со
склонов, высящихся над ледником, разжигаем костер, спускаемся за водой по
камням моренного бугра: в леднике -- грот и ледяной мост и, если пробить
ледяную корку, -- вода.
Быстро темнеет. На ужин для всех две банки грушевого компота и чай с
половиной лепешки на каждого. Нудная перезарядка пластинок в спальном мешке,
когда все уже спят.
2 октября. Ночью был мороз, но в спальном мешке -- тепло. Утром, до
солнца, на морозце, каждому -- по половине кружки чаю, по банке консервов и
по три куска сахару.
Желание -- сегодня дойти До ледопада, который хорошо виден был уже
вчера. Обманчивое впечатление о его близости.
... Идем с частыми передышками, прыгая с камня на камень, по морене,
закрывающей ледник. Постепенно раскрывается грандиозная перспектива на
другие ледники, -- системы пика Дарваз *, пика Коммунистической академии,
Абдуцагора и Кашал-аяка: мы все глубже входим в мир льда.
* Этот пик при сличении всех топографических материалов экспедиций 1932
года оказался настоящим пиком Гармо, за который до того принимали другой пик
-- пик Сталина.
Справа и слева -- отвесные стены, "обработанные" проползавшим ледником,
который когда-то был метров на сто выше теперешнего. Левее нас -- ледник
обнажен, изборожден трещинами, покрыт фирном. Правее -- громадные холмы,
морены, ямы и трещины между холмами. Идем по гребню средней морены.
Нам не до разговоров, потому что легкие заняты трудным делом --
дыханием. Хочется пить, пить; пью часто по одному, по два глотка. Рюкзак
надоел, как легко было бы без него! Впрочем, итти по сравнению с прежними
моими хождениями по Памиру не трудно.
Погода хорошая, но через пики перебираются облака, а от Абдукагора на
ледник Федченко, минуя нас, ползут тяжелые тучи.
Среди дня -- остановка. Сауков, Голубев, Каргин, я и завхоз
отправляемся влево, к правому борту, через фирн, трещины и ледяные глыбы,
искать под осыпями дрова. Мы хотим взять с собой дров на вечер, на утро и,
если удастся, наверх...
Высоко, на склонах боковых гор видна арча. Поиски, разочарование: дров
нет, есть только сухие, ломкие куски стеблей ферулы, которых даже не
соберешь, -- они в руках рассыпаются. Поэтому разделились: я полез вверх по
осыпи, откуда струится ручей, -- по замшелому камню; думал вылезти,
подобраться к арче. Оказалось, слишком круто и скользко. Спустился обратно
и, набрав охапку веток, корней и стеблей ферулы, балансируя на гребнях
ледяных холмов, выбрался к своим. Они за этот час хорошо отдохнули.
Двинулись дальше, немного поплутали среди трещин, через которые все
чаще приходится прыгать, и перед самой темнотой стали на ледяном холме, у
снежного бугра, против висячего ледника левого борта, следующего за ледником
Красноармейским. До сверкавшей весь день стены ледопада осталось как будто
совсем немного, но сегодня дойти все же не удалось.
Мороз -- градусов десять, вода в кружках замерзает быстро. Всем нам
пришлось вырубать себе в смерзшихся, схваченных льдом камнях спальные ложа.
Ланина и Тагеева поставили себе белую палатку; для носильщиков мы расставили
зеленую, шестиместную, а сами решили спать без палаток. Сегодня какао на
скудном, принесенном с собою топливе, по банке рыбных консервов и по
половине лепешки. Носильщики не хотят есть рыбных консервов, ибо "никогда
такой вещи не ели". Уговариваем, и наиболее смелые решаются.
Завхоз кипятит воду для какао, и все с затаенной жадностью следят за
этим его занятием, сидя вокруг крошечного костра. Завхоз приступает к
дележке, выдавая по полкружке на человека. После дележки с веселой
перебранкой (настроение у всех отличное) получаем добавку: еще по полкружке,
и забираемся в спальные мешки.
На ледник Федченко через Кашал-аяк
3 октября 1932 года. Ночью над нами -- звезды, глубокие и удивительно
точные; под нами -- неверный, трескучий и глубокий лед; вокруг -- снег, и
все это сковано тяжелым морозом. Отогревшись в мешке, перезаряжаю кассеты,
курю трубку и -- не сразу -- засыпаю.
Перед темнотой я сосчитал окружающие нас ледники. Их со всех сторон
около двадцати.
Всю ночь трещит лед и где-то слышны обвалы.
Проснулись рано, чтобы как можно раньше выйти. Мороз. Завхоз выдал по
банке мясных консервов. Остатки дров ушли на кипячение чая, по полкружке на
человека, на сей раз -- строго. Двух носильщиков из шести, тех, кто по вине
завхоза оказался без полушубков, мы отправляем назад. Перераспределение
груза на четырех носильщиков и на каждого из нас, мужчин.
Оставляем здесь девятнадцать банок рыбных консервов в рюкзаке,
соорудили над ним пирамиду из камней, запомнили место. Вышли в десятом часу.
Погода хорошая, хотя с утра все небо было в тучах, на вершинах и на леднике
Красной Армии выпал снег. К нашему выходу тучи рассеялись.
Идем медленно, все поднимаясь. Иногда забираемся в такой лабиринт
трещин, ям и холмов, что приходится возвращаться и высылать разведку, обычно
Коровина и переводчика Азиза.
Меня поражает рюкзак Коровина: он больше, чем у всех других. Как можно
тащить на эту высоту такую тяжесть?
Выходим к левому борту ледника, но не к самому борту, а к морене,
последней в этой стороне. По ней добираемся до ледопада, минуем первый его
язык и под вторым останавливаемся, дожидаясь носильщиков. Один из них,
увидев, куда ему придется лезть, до крайности испуганный ледопадом, намазал
себе назом (подъязычным табаком) глаза и ноющим тоном заявил, что он больной
и итти не может. При этом он снял подбитые триконями ботинки и, сев на
камень, хотел уже сбросить с себя рюкзак.
Я осмотрел его глаза и убедился, что зрение его не пострадало, а кроме
того, понимая, что одного оставить его здесь нельзя, сурово заявил, что
обманывать нас не позволю. Он потребовал себе очки, но когда ему дали
очки-консервы, он
30 П. Лукницкий
надел их на лоб, а не на глаза, ноя, что, мол, очки мешают ему
смотреть, а без очков он итти не хочет. Только когда другие носильщики,
также получив очки, высмеяли его, он снова надел ботинки и двинулся к
ледопаду.
Пройдя по низу мимо второго языка, мы начали подъем слева (вдоль
правого его борта), по стыку ледника со скалой. Пришлось лезть по скале. В
одном месте -- крутом, сыпучем, трудном -- нужно было пролезать, прижимаясь
животом к скале. Азиз, Коровин и завхоз вылезли вперед и наверх, а я
застрял, зацепившись фотоаппаратом, съехавшим мне на живот. Сзади напирали
все остальные, -- им некуда было деться, они стояли на таком месте, где
опасно было пошевелиться, поэтому я не мог отступить назад. Просил Азиза
подать мне ледоруб, но он ушел вперед, сказав, что ему самому не на что
опереться.
Точка опоры у меня была весьма относительная. Завхоз сверху спустил
веревку, и мы все выбрались, держась за нее. Отказалась от веревки Лавина:
смело и легко пролезла без посторонней помощи.
Взобравшись выше, я размотал свою веревку, спустил ее носильщикам;
пользуясь моей поддержкой, они пробрались благополучно.
Мы поднимались по осыпи, перерезая ее чуть выше перегиба, где она
обрывалась отвесом. И там, где нам пришлось огибать мыс скалы над отвесом,
оказалось следующее скверное место, которое каждый из нас одолел с большой
осторожностью.
Мы вылезли на фирновую площадку между двумя ступенями ледопада; тут
позволили себе краткий отдых: ледяной водой каждый из нас запил кусочек
шоколада и несколько штук печенья. Занялись фотографированием, а потом,
надев "кошки", двинулись к подножию верхней гряды ледопада. Коровин, Сауков
и завхоз впереди рубили ступеньки, а я, Каргин и Голубев помогали
носильщикам, соединили их всех и себя с ними веревками и медленно
поднимались, страхуя друг друга, руководя каждым движением носильщиков,
потому что никаких альпинистских приемов они, конечно, не знали.
Затем я один без веревки полез вперед, рубя ступени и расширяя для
носильщиков сделанные тремя моими товарищами.
От ледопада я ждал больших трудностей, оказалось, что подъем с
"кошками" вовсе не труден и прост, Главная опасность была в угрозе обвалов,
Все нижнее поле фирна, далеко под нами, было сплошь завалено глыбами свежих
лавин и ледяных обвалов, и каждую минуту мы могли оказаться сметены
следующим.
Поднявшись по ледопаду, наперерез ему, к левому его борату, к скале,
что высилась "островом" между двумя языками ледопадного потока и выдвигалась
над ними острым черным балконом, все мы собрались вместе, сняли "кошки" и
полезли вверх по каменной осыпи. Она была предельно крута, но не опасна, и
если б не тяжесть подъема с рюкзаками, то мы утомились бы гораздо меньше.
Ушедшие вперед спустили вниз большой камень; он долго, большими
скачками летел, направляясь на меня. Я стремительно отскочил в сторону, и он
промчался, ударившись в то место, где я только что стоял.
Носильщики отстали опять. Пока мы поднимались по осыпи, солнце зашло за
вершины гор. Выбравшись на голову скалы, после небольшого фирнового ската,
мы оказались на превосходной, ровной, закрытой со всех сторон скалистой
площадке. Она походила на ладонь, услужливо протянутую нам гигантской
скалой, чтоб мы, пигмеи, могли все спокойно на этой ладони расположиться.
Она состояла из черного, затейливо отполированного ледником, монолитного
скального выступа. Мы решили на ней заночевать, потому что здесь были в
безопасности от лавин " обвалов, -- они обязательно прошли бы либо левее,
либо правее нас.
Примерно через час сюда поднялись носильщики. Женщины (очень смело и
хорошо поднимавшиеся весь день) расставили себе палатку, носильщики сделали
то же, завхоз, как всегда, устроил себе ложе из продовольственных рюкзаков,
я с Каргиным, Сауковым, Голубевым и Коровиным, положив на скалу палатку,
развернули на ней спальные мешки, решив спать под открытым небом.
Не было ни воды, ни огня, поэтому я изобрел такой ужин: по полбанке
сгущенного молока и по две ложки сухого, замешанного в это молоко какао.
Стемнело. Мороз усилился. Отогревшись в спальных мешках, я с Каргиным
съели свои порции. Оказалось, очень сытно, но достаточно противно: женщины и
завхоз возмущались такой едой. Я занялся перезарядкой пластинок, а потом
созерцанием звездного неба, сопровождаемым подробными астрономическими
объяснениями Каргина.
Высунув нос из спального мешка, я вижу и Кассиопею, и Пегаса, и Малую
Медведицу, и Змею, и Полярную звезду, и какую-то, с правой стороны, звезду
южного неба, Я уже давно не любовался столь удивительно чистыми звездами.
4 октября 1932 года. Ночью было холодно и сверху и снизу; гудели
обвалы, внизу и вверху трещал лед, и сны были странными. Встали мы рано и
вышли рано, ничего не съев и не выпив, решив отогреться подъемом. Сразу
полезли по скале, без особых трудностей вылезли к верхнему фирну, где уже
кончался ледопад.
Здесь, пробив ледорубами в трещине лед, обнаружили воду и пили ее из
лунки в ожидании носильщиков.
Вышли на фирн и двинулись по фирну, и тут появилось изза гор солнце,
осветив снег и лед, которые искрились вокруг, пленяя нас бесчисленными
оттенками всех -- и нежных и строгих -- тонов.
Завхоз один ушел далеко вперед. Мы кричали ему, требуя, чтоб он
остановился, подчинился альпинистской дисциплине.
Шли, лавируя между трещинами и прыгая через них. Без труда добрались до
перевала, почти неощутимого, здесь расселись на снегу отдохнуть. Я дрожал от
холода, потому что, перед тем, выйдя на фирн, когда из-за гор показалось
солнце, решил было, что будет тепло, снял ватник и свитер, шел в одной
рубашке. Теперь же, сидя на снегу, одетый во все теплое, никак не мог
отогреться.
Сидели мы с полчаса, делясь имуществом и продуктами: путь Саукова,
Каргина, Голубева и двух носильщиков лежал к Танымасу, а мы, остальные,
направлялись отсюда по направлению к Бивачному леднику, чтобы встретиться у
места, выбранного для строительства обсерватории, с группой, движущейся по
леднику Федченко с севера; Коровин и Азиз спешат: они завтра должны быть в
Алтын-Мазаре, где из Алайской долины ожидается караван со строительными
материалами для обсерватории.
Разделившись на две группы, в каждой связавшись веревками, мы пошли в
разные стороны.
Я со своими пустился вниз, по фирну, сразу же пришлось прыгать через
бесчисленные трещины. Многие из них были прикрыты снегом, поэтому
приходилось прощупывать путь ледорубом и проваливать вниз карнизы
обнаруженных под снегом трещин. Дойдя до левого скалистого мыса -- ригеля,
на котором должна быть сооружена обсерватория, и не найдя здесь никого и
ничего, мы сняли с себя веревку, немного отдохнули и, пройдя чуть дальше,
увидели каменный тур. Под ним в консервной банке оказались записки двух
незадолго до нашего прихода ночевавших здесь групп, в их числе Птенчика и
Гога -- двух молодых альпинистов, которым я в Ванване дал лошадей в Хорог.
Оставили свою записку и мы. Ледник Федченко, грандиозный, величайший в
средних широтах мира ледник, лежал перед нами, не видно было только его
верховьев за поворотом.
Группа, с которой мы должны были встретиться, еще не пришла сюда.
Поэтому мы спустились на ледник Федченко и, выйдя на его середину, быстро
пошли вниз, сначала по одной
из моренных "дорожек", а когда ее стали беспрестанно перерезать
непроходимые, глубочайшие трещины, по самому леднику, лавируя между
трещинами и прыгая через те из них, ширина которых не превышала полутора
метров. Шли очень быстро, торопясь сегодня дойти до Бивачного ледника, где,
как мы знали, располагался большой альпинистский лагерь и где мы предвкушали
горячую пищу и новости.
Раза два мы останавливались для короткого отдыха, а на третий раз, едва
я остановился, кто-то громко крикнул, и я увидел идущую по морене к нам,
снизу, цепочку людей. Я выхватил наган, дал в воздух три выстрела. Меня
увидели. Мы быстро сошлись, и я сфотографировал момент встречи.
А Коровин (и тут только я понял, почему его рюкзак был так непосильно
тяжел!) вынул из своего рюкзака огромную сочную ванчскую дыню, груду яблок и
торжественно, со счастливой улыбкой положил их на лед перед своими
товарищами, которые уже с месяц находились на ледниках.
И простецкое, добродушное, веселое лицо Коровина было таким хорошим,
что я невольно залюбовался им!..
Схема бассейна ледника Федченко (по карте И. Г. Дорофеева 1928--1929
годов).
Это и все, что можно было услышать у ванчских таджиков и у
восточнопамирских киргизов о Кашал-аяке.
Но однажды в 1928 году случилось невероятное.
Дело происходило так.
Пастухи из последнего ванчского кишлака Пой-Мазар пасли скот у летовки
на верхнем пастбище; в конце августа ночью здесь было холодно, пастухи в
джангале -- в зарослях колючек набрали сухих ветвей, разожгли костер.
Вскипятили воду, согрелись, поели лепешек, пощелкали камнем грецких орехов,
которых в верхних кишлаках Ванча растет так много.
Один из пастухов отошел от костра, чтобы согнать с кручи овец. Зорко
всматриваясь в кромешную тьму, обратив свой взор в сторону "Ледяной завесы",
он неожиданно увидел высоко и далеко во тьме маленький огонек. Он долго
всматривался, тер себе глаза, не веря недопустимому... Но сомнений не было:
там, где начинаются льды, мерцал небольшой костер.
Испуганный пастух закричал, подбежал к своим, все вместе, суеверные,
неграмотные пой-мазарские пастухи, стали вглядываться в таинственный огонек.
Но... Ведь никто, ни один человек с Ванча, не проходил мимо них туда; а
все свои были налицо... А ведь и духи гор -- дэвы не разжигают костров. Что
это могло бы значить? Может быть, оттуда на Ванч надвигается какая-то
непонятная опасность?
Надо было что-то решить, что-то предпринимать.
Но что решили и что предприняли ванчцы, я скажу позже.
А сейчас расскажу о том, что в такую же ночь, 28 сентября 1932 года,
расположившись у костра, в кишлаке Пой-Мазар, я впервые во всех подробностях
услышал от Ивана Георгиевича Дорофеева.
За полтора месяца перед тем я расстался с ним в Вахане, у подъема на
перевал Шитхарв, куда я двинулся, чтоб закончить исследования района пика
Маяковского. Он тогда со своим фототеодолитным отрядом ушел по Пянджу вниз,
к Ишкашиму.
Теперь мы сошлись в Пой-Мазаре, двигаясь с разных сторон: я с низовьев
Ванча, а он откуда-то с ледников, кажется от Язгулема. Здесь же, у костра,
расположился, пришедший в этот день с третьей стороны, Дмитрий Иванович
Щербаков, с ним была его помощница геохимик Н. В. Тагеева.
Я хорошо знал о замечательных исследованиях Дорофеева, произведенных им
за четыре года перед тем в области ледника Федченко и продолжавшихся во все
последующие годы.
Простодушный, всегда удивительно скромный, даже застенчивый человек,
рослый, сильный, выносливый и очень
спокойный, он в тяжелых памирских странствиях был искренним тружеником,
непритязательным, не считающимся ни с какими лишениями. Он мог чуть не по
нескольку суток не спать и не есть. Когда другие, больше заботившиеся о себе
участники экспедиции питались специально приготовленными для высокогорных
восхождений продуктами, он, не любя терять время, скажем, на ожидание их
доставки, уходил в свой всегда опасный и трудный маршрут с двумя-тремя
глубоко преданными ему красноармейцами, сунув в рюкзаки по куску вареной
баранины и по две сухие лепешки... Когда "завзятые" альпинисты спали в
пуховых спальных мешках, в специальных шелковых "шустеровских" палатках,
Иван Георгиевич Дорофеев и его верные помощники ночевали на льду в овчинных
полушубках и при этом -- удивительное дело! -- не простужались, оставались
полными сил, всегда энергичными, способными отказывать себе в самом
необходимом отдыхе.
Впервые нанесший на карту несколько тысяч квадратных километров
территории высочайших ледников, И. Г. Дорофеев только через двадцать три
года -- в 1951 году -- решился опубликовать предельно сжатую и предельно
содержательную статью; она называется: "По белому пятну Западного Памира". В
предисловии к ней академик Д. И. Щербаков, сам один из наиболее смелых
исследователей Памира, так характеризует сделанные И. Г. Дорофеевым (только
в 1928 году!) замечательные географические открытия:
"... Его съемкой по р. Кара-Джилга, впадающей в оз. Каракуль, и по ее
притокам был добыт новый картографический материал, изменяющий прежние
представления об этом районе. Было открыто много ущелий и 23 ледника,
определено много новых высот. Выполнена съемка по долине р. Карачим, где
открыто три ледника, и нивелировка от р. Кокуй-бель до р. Джир-уй на
протяжении 16 километров.
Впервые произведено обследование и съемка верховья долины р. Танымас с
ее ледниками, установлена возможность прохода от Танымаса по леднику
Федченко в долину р. Муксу. Открыто свыше 20 новых ледников в бассейне
ледника Федченко.
Впервые были пройдены перевалы Кашал-аяк, Танымас и новые, ведущие из
Абдукагора на ледники Федченко и Академии; произведена полуинструментальная
съемка верховьев рек Ванч, Язгулем, Абдукагор. В низовьях ледника Федченко
открыто, кроме заснятых мензулой, два новых больших ледника: один, стекающий
со склонов пика Сталина длиной около 20 км, другой--с восточного хребта
длиной также около 20 км.
Свыше 40 дней пробыл на ледниках И. Г. Дорофеев. На высотах,
превышающих 4 км, он работал более 50 дней.
Особая ценность работы И. Г. Дорофеева заключается
в том, что им были пройдены "мертвые" пространства, которые не
покрывались еще фототеодолитною съемкой, и, что еще важнее, результаты его
съемки были готовы непосредственно после ее выполнения на месте и могли быть
использованы для нужд других сотрудников экспедиции.
... Таким образом, И. Г. Дорофееву принадлежит часть существенных
географических открытий, его работа является примером самоотверженной
деятельности исследователя-топографа в высокогорном районе... "
Так вот... В тот памятный сентябрьский вечер 1932 года, когда перед
восхождением через Кашал-аяк на ледник Федченко я особенно жадно
расспрашивал о них людей, уже побывавших там, И. Г. Дорофеев рассказал мне
много интересного и поучительного о своем путешествии 1928 года.
В подробностях узнал я тогда, как искал он легендарный Кашал-аяк, как
разведывал гребень хребта Академии наук, через который, словно через край
чаши, ледник Федченко переливается и круто, со страшной высоты, на полтора
километра вниз, "дочерними" ледниками низвергается в долины Западного
Памира.
Любуясь звездами, я слушал рассказ о восхождении по леднику No 8 (так
обозначил его И. Г. Дорофеев на своей карте) и о том, как 20 августа 1928
года вместе с О. Ю. Шмидтом И. Г. Дорофеев впервые обнаружил перевал.
Это был Кашал-аяк!
Я узнал, как связанные обещанием вернуться с результатами
географической разведки к основному лагерю, исследователи удержались от
соблазна немедленно пойти вниз. И как, только выполнив обещание, И. Г.
Дорофеев вновь направился к найденному им перевалу Кашал-аяк.
Первыми, кто 25 августа спустился с перевала в бассейн реки Ванч на
другой неизвестный ледник, были два красноармейца из трех, сопровождавших
исследователя. И вот причина того, почему этот ледник И. Г. Дорофеевым
назван был Красноармейским.
Я смотрел на освещенное затухающим костром простое, русское лицо
человека, который первым из всех людей земного шара ступал совсем недавно
вот там... в ту минуту я сам находился в тех горах, которые вот там, чуть
подальше, в нескольких километрах от меня, вставали высоко-высоко огромной,
иззубренной тенью, отсекая собою все нижние звезды безмерно глубокого неба.
Я следил за короткими, не замечаемыми самим рассказчиком жестами,
какими указывал он мне туда, где все для него было ясно и где я пока, уже
хорошо изучив составленную им
же, И. Г. Дорофеевым, карту, представлял себе только замысловатые линии
горизонталей, только ветвистую схему топографических обозначений.
Вот где-то там, по леднику Красноармейскому, Иван Георгиевич со своими
спутниками в тот же день дошел до третьего, большого неведомого ледника;
ниже из него вытекала уходящая на запад река, та шумливая, быстрая река, на
высоком берегу которой, в глухих верховьях долины, совсем близко от ледника,
мы полулежали на траве у костра.
Но тогда И. Г. Дорофеев не знал, что это за река.
Язгулем или Ванч?
Как просто сейчас, найдя на карте ледник Географического общества,
сказать, что из него вытекает Ванч!
Но как невероятно трудно было разгадать тайну сплетения гор, ледников и
хребтов, когда эту карту еще только нужно было составить, когда все названия
еще только нужно было придумать!
Вокруг были льды, уже нависшие сверху; скалистые стены ущелья,
нагромождение морен, и -- под ледником -- маленькая травянистая зеленая
площадка, нежданная, благоуханная, густая трава, и цветы, и воздух, впервые
за долгое время нежащий, теплый...
И, глядя на мерцание звезд, вот тех же, какие теперь видел и я, можно
было забыть о всех нечеловеческих трудностях, о всех опасностях, оставшихся
позади, даже о том, что все продукты уже на исходе, а людей, людей, никаких
обитателей, вот все еще нет!.. Последние местные жители, каких видел И. Г.
Дорофеев, были киргизы у озера Каракуль, -- это было, кажется, месяц назад
и, кажется, безмерно далеко отсюда!..
И все-таки Дорофеев не поспешил двинуться вниз... Он считал своим
долгом прежде всего исследовать тот большой ледник, к которому они вышли. И
на следующий день он отправился вверх по этому леднику, по его
остро-каменистым моренным буграм, каждый из которых был высотою в полсотяю
метров. И, только найдя в верховьях огромный ледопад, который, несомненно,
был вторым перевалом Кашал-аяк (Дорофеев обозначил его на карте No 1, а
пройденный накануне-- No 2), Дорофеев к вечеру, при луне вернулся вниз,
пройдя пятнадцать километров по отвратительным буграм и ямам морен, по
снежным мостикам через тысячи трещин, к той травянистой площадке, где его
дожидались красноармейцы.
Продукты кончились. Если здесь был Ванч, то до ближайшего кишлака
Пой-Мазара оставалось итти недолго. Если здесь был Язгулем, положение могло
оказаться катастрофическим, -- кишлаки Язгулема, по всем сведениям,
начинались очень далеко от истоков реки.
И вдруг красноармеец Гизятов, справедливо гордившийся своим зрением,
увидел далеко внизу огонь. И закричал:
-- Огонь!
Но, кажется, ему это только привиделось. Никто другой не мог во тьме
разглядеть огня. И. Г. Дорофеев не обнаружил его даже в бинокль.
На следующий день исследователь со своими спутниками двинулся вниз по
долине. Вся группа едва не погибла на переправе через неведомую реку, о
которой позже стало известно, что у горцев верховьев Ванча она называется
Абдукагор.
И еще ночь -- у неодоленной реки.
Теперь Дорофеев жег большой костер в надежде, что люди, которые -- надо
же думать! -- есть где-то внизу, заметят огонь. И теперь уже все увидели:
внизу сверкнул огонек. Ктото, какие-то люди внизу зажгли ответный костер!..
Можно было не сомневаться: внизу, недалеко, есть люди!
Впрочем... В числе слышанных И. Г. Дорофеевым легенд была и легенда о
существовании где-то, среди этих гор дикого, враждебного цивилизованным
людям племени.
Утром 28 августа группа И. Г. Дорофеева, не в силах одолеть реку,
вернулась к языку ледника, поднялась на него, обогнула сверху исток главной
реки и вдоль другого -- правого -- берега, карабкаясь по отвесным скалам,
двинулась вниз.
Когда путники огибали один из скалистых мысов, уходивших отвесно в воду
и, как во льду, выламывали в нем ледорубом ступеньки, они вдруг увидели...
Однако я расскажу об этом словами самого И. Г. Дорофеева:
"-- И вдруг кто-то закричал: "Смотрите, люди!" По левому берегу на двух
лошадях ехали люди по двое на каждой лошади, один шел пешком. В бинокль мы
разглядели, что это таджики. Мы сигнализировали им, кричали, хотя и знали,
что из-за шума реки они нас не услышат. Когда мы спустились со скалы,
незнакомые люди подъехали к берегу и один из них что-то кинул в нас. Камни?
Нет, яблоки! "Ура нашим спасителям!" -- закричали мы".
И в ответ на вопрос, что это за река, люди ответили им: Ванч! И один из
них переправился через реку на турсуке. Путешественники обнимали его, трясли
ему руки.
"-- Это был председатель сельсовета кишлака Пой-Мазар в долине Ванч. Со
своими товарищами он приехал узнать, что за огонь видели пастухи, пасущие
стада в горах. Когда я рассказал, что мы спустились сюда именно через эти
горы и льды, он был сильно поражен и не сразу поверил, что я говорю правду.
Узнав, что мы голодны, он знаками распорядился, чтоб его товарищи ехали
вперед в Пой-Мазар и сварили барана, а пока угощал нас яблоками и
лепешками... "
К этому рассказу надо добавить, что, узнав от ванчцев о существовании
перевала, ведущего в соседнее ущелье Язгулем, И. Г. Дорофеев на следующее же
утро, не дав себе отдыха, отправился в путь и уже вечером того дня снова был
на новом, дотоле науке неведомом, леднике, на водораздельном гребне. А затем
спустился в Язгулем, начал поиски перевала из Язгулема на ледник Федченко и
через несколько дней труднейшего и опаснейшего пути оказался на высотах в
пять с лишним километров, на неведомых фирновых полях исполинского
ледникового цирка, который, -- к счастью для исследователя и для его
спутников, измученных и уже голодающих, -- оказался верховьями ледника
Федченко. Отсюда было недалеко до середины ледника, где О. Ю. Шмидтом был
организован полный запасов продовольствия лагерь.
Круг был замкнут, вся область большого белого пятна расшифрована!
По леднику Географического общества
Ледник Географического общества назван так И. Г. Дорофеевым, который,
спустившись с открытого им перевала Кашал-аяк (No 2), впервые нанес этот
ледник на карту. Для этой работы И. Г. Дорофеев 26 августа 1928 года прошел
весь ледник снизу до ледопада Кашал-аяк (No 1) и обратно.
Дорофеев определил длину ледника в восемнадцать километров, а площадь
-- в тридцать шесть квадратных километров.
С тех пор ровно двадцать лет, до 1948 года, никто специальными
исследованиями ледника не занимался, и всякий желавший что-нибудь узнать о
нем должен был ограничиваться только данными И. Г. Дорофеева.
В 1948 и 1949 годах ледник, наконец, как и многие другие ледники этого
бассейна, во всех подробностях был изучен экспедицией известного
геоморфолога профессора И. С. Щукина. За двадцать лет конец ледника отступил
на 2 600 метров от того места, где он был в 1928 году.
Длина ледника до ледопада Кашал-аяк оказалась 12, 8 километра, а общая
длина до верховий-- 21, 5 километра.
Площадь же ледника со всеми фирновыми и снежными полями была определена
почти в восемьдесят два квадратных километра. Средняя скорость течения
ледника равнялась почти ста четырем метрам в год.
29 П. Лукницкий
В 1932 году, поднимаясь по леднику Географического общества к ледопаду
Кашал-аяк, я сделал в дневнике следующую запись:
... 1 октября. Встали с рассветом, напились чаю (получив каждый по два
куска сахара и лепешке) и в 7 часов 40 минут утра вышли из Ванвана на ледник
Федченко.
Мы сразу же разделились: я с караванщиком Мирзоджаном и вьючной лошадью
двинулся через кишлак Пой-Мазар по левому берегу, а все остальные -- по
правому. Уговорились встретиться на леднике, там, где его подмывает
вырывающаяся сбоку река Абдукагор.
Я шел к переправе через Абдукагор до 12 часов 30 минут дня. Кустарник,
а иногда густой джангаль -- заросли колючки -- постепенно редели. Миновал
последнее человеческое жилье -- одинокую, пустую хижину: летовку ванчских
пастухов.
Перед долиной Абдукагора долина Ванча сузилась, начались морены и
открылся вид на морены ледника Географического общества, захламленного,
грязного и бугристого, по которому мы пойдем на ледопад. Ходят тучи, ими
закрыты все вершины, солнце появляется только на короткие минуты. Прохладно.
И вот я у переправы. Четыре года назад здесь едва не погиб И, Г,
Дорофеев со своими спутниками. На пути от ледника Красноармейского, стремясь
в долину Ванча, его группа подошла сверху сюда, еще не зная, что это за
река, -- название Абдукагор тогда было миру неведомо. Перед И. Г. Дорофеевым
оказались четыре рукава реки, такой же бурной, какой два часа назад она
предстала перед моими глазами. По сравнительно мелкой воде путники
переправились через три рукава, а четвертый -- вот тот, что сейчас передо
мною был первым, -- одолеть им не удалось: воды в нем было по пояс, она
перекатывала по дну крупные валуны. Обессилев в борьбе с водой, Дорофеев и
его спутники решили было отойти назад. Но оказалось, что в трех пройденных
рукавах воды прибавилось столько, что и обратный путь отрезан. Все четыре
рукава, стремительно увеличиваясь, должны были вот-вот соединиться, поглотив
тот галечный островок, на котором в плену оказались Дорофеев и его спутники.
Только героизм самого Дорофеева и его трех красноармейцев, спасавших
друг друга с помощью веревки, помог им в последнюю минуту одолеть бешеное
течение реки и вырваться из гибельного плена.
В том же году здесь при переправе был сильно покалечен один из
участников альпинистской группы. Ему потом пришлось лежать две недели.
Теперь испробовать эту переправу предстояло и мне. Я осторожно вступил
в воду, но уже через несколько шагов понял, что еще шаг, и течение собьет
меня с ног. Я вернулся и, обвязавшись веревкой, а другой конец ее передав
Мирзоджану, сунулся в воду снова. Но... безуспешно.
В конце концов мне удалось перебраться через реку на вьючной лошади,
разделив предварительно вьюк на две части. Переправившись, таким образом,
дважды, сложив груз на камнях и погнав лошадь обратно, я крикнул Мирзоджану,
чтобы он возвращался в Пой-Мазар, и мой испытанный караванщик уехал, оставив
меня одного.
И вот уже 3 часа дня -- никаких признаков нашей группы, хотя мы
условились, что с ледника сюда спустятся носильщики за вещами и тогда я
пойду дальше, вместе со всеми...
Около часа столбом стоял на вершине моренного бугра, -- никого не
видно. Дал выстрел из нагана, -- он только чуть слышно пикнул. Вернулся,
ждал; ходил к мысу Абдукагор. Наконец услышал сзади свист. Азиз, переводчик,
нашел меня. Оказывается, группа блуждала в моренных буграх.
На поиски и ожидание ушло четыре часа. Вместе мы прошли по буграм с
полчаса, но двигаться дальше -- поздно, и вскоре мы располагаемся на
ночевку. Поднимая облако пыли, разравниваем моренный бугор ледорубами,
палаток не расставляем, -- для них нет места, расстилаем общее ложе --
брезент. Набрав среди морен обломки арчи, очевидно сброшенной обвалами со
склонов, высящихся над ледником, разжигаем костер, спускаемся за водой по
камням моренного бугра: в леднике -- грот и ледяной мост и, если пробить
ледяную корку, -- вода.
Быстро темнеет. На ужин для всех две банки грушевого компота и чай с
половиной лепешки на каждого. Нудная перезарядка пластинок в спальном мешке,
когда все уже спят.
2 октября. Ночью был мороз, но в спальном мешке -- тепло. Утром, до
солнца, на морозце, каждому -- по половине кружки чаю, по банке консервов и
по три куска сахару.
Желание -- сегодня дойти До ледопада, который хорошо виден был уже
вчера. Обманчивое впечатление о его близости.
... Идем с частыми передышками, прыгая с камня на камень, по морене,
закрывающей ледник. Постепенно раскрывается грандиозная перспектива на
другие ледники, -- системы пика Дарваз *, пика Коммунистической академии,
Абдуцагора и Кашал-аяка: мы все глубже входим в мир льда.
* Этот пик при сличении всех топографических материалов экспедиций 1932
года оказался настоящим пиком Гармо, за который до того принимали другой пик
-- пик Сталина.
Справа и слева -- отвесные стены, "обработанные" проползавшим ледником,
который когда-то был метров на сто выше теперешнего. Левее нас -- ледник
обнажен, изборожден трещинами, покрыт фирном. Правее -- громадные холмы,
морены, ямы и трещины между холмами. Идем по гребню средней морены.
Нам не до разговоров, потому что легкие заняты трудным делом --
дыханием. Хочется пить, пить; пью часто по одному, по два глотка. Рюкзак
надоел, как легко было бы без него! Впрочем, итти по сравнению с прежними
моими хождениями по Памиру не трудно.
Погода хорошая, но через пики перебираются облака, а от Абдукагора на
ледник Федченко, минуя нас, ползут тяжелые тучи.
Среди дня -- остановка. Сауков, Голубев, Каргин, я и завхоз
отправляемся влево, к правому борту, через фирн, трещины и ледяные глыбы,
искать под осыпями дрова. Мы хотим взять с собой дров на вечер, на утро и,
если удастся, наверх...
Высоко, на склонах боковых гор видна арча. Поиски, разочарование: дров
нет, есть только сухие, ломкие куски стеблей ферулы, которых даже не
соберешь, -- они в руках рассыпаются. Поэтому разделились: я полез вверх по
осыпи, откуда струится ручей, -- по замшелому камню; думал вылезти,
подобраться к арче. Оказалось, слишком круто и скользко. Спустился обратно
и, набрав охапку веток, корней и стеблей ферулы, балансируя на гребнях
ледяных холмов, выбрался к своим. Они за этот час хорошо отдохнули.
Двинулись дальше, немного поплутали среди трещин, через которые все
чаще приходится прыгать, и перед самой темнотой стали на ледяном холме, у
снежного бугра, против висячего ледника левого борта, следующего за ледником
Красноармейским. До сверкавшей весь день стены ледопада осталось как будто
совсем немного, но сегодня дойти все же не удалось.
Мороз -- градусов десять, вода в кружках замерзает быстро. Всем нам
пришлось вырубать себе в смерзшихся, схваченных льдом камнях спальные ложа.
Ланина и Тагеева поставили себе белую палатку; для носильщиков мы расставили
зеленую, шестиместную, а сами решили спать без палаток. Сегодня какао на
скудном, принесенном с собою топливе, по банке рыбных консервов и по
половине лепешки. Носильщики не хотят есть рыбных консервов, ибо "никогда
такой вещи не ели". Уговариваем, и наиболее смелые решаются.
Завхоз кипятит воду для какао, и все с затаенной жадностью следят за
этим его занятием, сидя вокруг крошечного костра. Завхоз приступает к
дележке, выдавая по полкружке на человека. После дележки с веселой
перебранкой (настроение у всех отличное) получаем добавку: еще по полкружке,
и забираемся в спальные мешки.
На ледник Федченко через Кашал-аяк
3 октября 1932 года. Ночью над нами -- звезды, глубокие и удивительно
точные; под нами -- неверный, трескучий и глубокий лед; вокруг -- снег, и
все это сковано тяжелым морозом. Отогревшись в мешке, перезаряжаю кассеты,
курю трубку и -- не сразу -- засыпаю.
Перед темнотой я сосчитал окружающие нас ледники. Их со всех сторон
около двадцати.
Всю ночь трещит лед и где-то слышны обвалы.
Проснулись рано, чтобы как можно раньше выйти. Мороз. Завхоз выдал по
банке мясных консервов. Остатки дров ушли на кипячение чая, по полкружке на
человека, на сей раз -- строго. Двух носильщиков из шести, тех, кто по вине
завхоза оказался без полушубков, мы отправляем назад. Перераспределение
груза на четырех носильщиков и на каждого из нас, мужчин.
Оставляем здесь девятнадцать банок рыбных консервов в рюкзаке,
соорудили над ним пирамиду из камней, запомнили место. Вышли в десятом часу.
Погода хорошая, хотя с утра все небо было в тучах, на вершинах и на леднике
Красной Армии выпал снег. К нашему выходу тучи рассеялись.
Идем медленно, все поднимаясь. Иногда забираемся в такой лабиринт
трещин, ям и холмов, что приходится возвращаться и высылать разведку, обычно
Коровина и переводчика Азиза.
Меня поражает рюкзак Коровина: он больше, чем у всех других. Как можно
тащить на эту высоту такую тяжесть?
Выходим к левому борту ледника, но не к самому борту, а к морене,
последней в этой стороне. По ней добираемся до ледопада, минуем первый его
язык и под вторым останавливаемся, дожидаясь носильщиков. Один из них,
увидев, куда ему придется лезть, до крайности испуганный ледопадом, намазал
себе назом (подъязычным табаком) глаза и ноющим тоном заявил, что он больной
и итти не может. При этом он снял подбитые триконями ботинки и, сев на
камень, хотел уже сбросить с себя рюкзак.
Я осмотрел его глаза и убедился, что зрение его не пострадало, а кроме
того, понимая, что одного оставить его здесь нельзя, сурово заявил, что
обманывать нас не позволю. Он потребовал себе очки, но когда ему дали
очки-консервы, он
30 П. Лукницкий
надел их на лоб, а не на глаза, ноя, что, мол, очки мешают ему
смотреть, а без очков он итти не хочет. Только когда другие носильщики,
также получив очки, высмеяли его, он снова надел ботинки и двинулся к
ледопаду.
Пройдя по низу мимо второго языка, мы начали подъем слева (вдоль
правого его борта), по стыку ледника со скалой. Пришлось лезть по скале. В
одном месте -- крутом, сыпучем, трудном -- нужно было пролезать, прижимаясь
животом к скале. Азиз, Коровин и завхоз вылезли вперед и наверх, а я
застрял, зацепившись фотоаппаратом, съехавшим мне на живот. Сзади напирали
все остальные, -- им некуда было деться, они стояли на таком месте, где
опасно было пошевелиться, поэтому я не мог отступить назад. Просил Азиза
подать мне ледоруб, но он ушел вперед, сказав, что ему самому не на что
опереться.
Точка опоры у меня была весьма относительная. Завхоз сверху спустил
веревку, и мы все выбрались, держась за нее. Отказалась от веревки Лавина:
смело и легко пролезла без посторонней помощи.
Взобравшись выше, я размотал свою веревку, спустил ее носильщикам;
пользуясь моей поддержкой, они пробрались благополучно.
Мы поднимались по осыпи, перерезая ее чуть выше перегиба, где она
обрывалась отвесом. И там, где нам пришлось огибать мыс скалы над отвесом,
оказалось следующее скверное место, которое каждый из нас одолел с большой
осторожностью.
Мы вылезли на фирновую площадку между двумя ступенями ледопада; тут
позволили себе краткий отдых: ледяной водой каждый из нас запил кусочек
шоколада и несколько штук печенья. Занялись фотографированием, а потом,
надев "кошки", двинулись к подножию верхней гряды ледопада. Коровин, Сауков
и завхоз впереди рубили ступеньки, а я, Каргин и Голубев помогали
носильщикам, соединили их всех и себя с ними веревками и медленно
поднимались, страхуя друг друга, руководя каждым движением носильщиков,
потому что никаких альпинистских приемов они, конечно, не знали.
Затем я один без веревки полез вперед, рубя ступени и расширяя для
носильщиков сделанные тремя моими товарищами.
От ледопада я ждал больших трудностей, оказалось, что подъем с
"кошками" вовсе не труден и прост, Главная опасность была в угрозе обвалов,
Все нижнее поле фирна, далеко под нами, было сплошь завалено глыбами свежих
лавин и ледяных обвалов, и каждую минуту мы могли оказаться сметены
следующим.
Поднявшись по ледопаду, наперерез ему, к левому его борату, к скале,
что высилась "островом" между двумя языками ледопадного потока и выдвигалась
над ними острым черным балконом, все мы собрались вместе, сняли "кошки" и
полезли вверх по каменной осыпи. Она была предельно крута, но не опасна, и
если б не тяжесть подъема с рюкзаками, то мы утомились бы гораздо меньше.
Ушедшие вперед спустили вниз большой камень; он долго, большими
скачками летел, направляясь на меня. Я стремительно отскочил в сторону, и он
промчался, ударившись в то место, где я только что стоял.
Носильщики отстали опять. Пока мы поднимались по осыпи, солнце зашло за
вершины гор. Выбравшись на голову скалы, после небольшого фирнового ската,
мы оказались на превосходной, ровной, закрытой со всех сторон скалистой
площадке. Она походила на ладонь, услужливо протянутую нам гигантской
скалой, чтоб мы, пигмеи, могли все спокойно на этой ладони расположиться.
Она состояла из черного, затейливо отполированного ледником, монолитного
скального выступа. Мы решили на ней заночевать, потому что здесь были в
безопасности от лавин " обвалов, -- они обязательно прошли бы либо левее,
либо правее нас.
Примерно через час сюда поднялись носильщики. Женщины (очень смело и
хорошо поднимавшиеся весь день) расставили себе палатку, носильщики сделали
то же, завхоз, как всегда, устроил себе ложе из продовольственных рюкзаков,
я с Каргиным, Сауковым, Голубевым и Коровиным, положив на скалу палатку,
развернули на ней спальные мешки, решив спать под открытым небом.
Не было ни воды, ни огня, поэтому я изобрел такой ужин: по полбанке
сгущенного молока и по две ложки сухого, замешанного в это молоко какао.
Стемнело. Мороз усилился. Отогревшись в спальных мешках, я с Каргиным
съели свои порции. Оказалось, очень сытно, но достаточно противно: женщины и
завхоз возмущались такой едой. Я занялся перезарядкой пластинок, а потом
созерцанием звездного неба, сопровождаемым подробными астрономическими
объяснениями Каргина.
Высунув нос из спального мешка, я вижу и Кассиопею, и Пегаса, и Малую
Медведицу, и Змею, и Полярную звезду, и какую-то, с правой стороны, звезду
южного неба, Я уже давно не любовался столь удивительно чистыми звездами.
4 октября 1932 года. Ночью было холодно и сверху и снизу; гудели
обвалы, внизу и вверху трещал лед, и сны были странными. Встали мы рано и
вышли рано, ничего не съев и не выпив, решив отогреться подъемом. Сразу
полезли по скале, без особых трудностей вылезли к верхнему фирну, где уже
кончался ледопад.
Здесь, пробив ледорубами в трещине лед, обнаружили воду и пили ее из
лунки в ожидании носильщиков.
Вышли на фирн и двинулись по фирну, и тут появилось изза гор солнце,
осветив снег и лед, которые искрились вокруг, пленяя нас бесчисленными
оттенками всех -- и нежных и строгих -- тонов.
Завхоз один ушел далеко вперед. Мы кричали ему, требуя, чтоб он
остановился, подчинился альпинистской дисциплине.
Шли, лавируя между трещинами и прыгая через них. Без труда добрались до
перевала, почти неощутимого, здесь расселись на снегу отдохнуть. Я дрожал от
холода, потому что, перед тем, выйдя на фирн, когда из-за гор показалось
солнце, решил было, что будет тепло, снял ватник и свитер, шел в одной
рубашке. Теперь же, сидя на снегу, одетый во все теплое, никак не мог
отогреться.
Сидели мы с полчаса, делясь имуществом и продуктами: путь Саукова,
Каргина, Голубева и двух носильщиков лежал к Танымасу, а мы, остальные,
направлялись отсюда по направлению к Бивачному леднику, чтобы встретиться у
места, выбранного для строительства обсерватории, с группой, движущейся по
леднику Федченко с севера; Коровин и Азиз спешат: они завтра должны быть в
Алтын-Мазаре, где из Алайской долины ожидается караван со строительными
материалами для обсерватории.
Разделившись на две группы, в каждой связавшись веревками, мы пошли в
разные стороны.
Я со своими пустился вниз, по фирну, сразу же пришлось прыгать через
бесчисленные трещины. Многие из них были прикрыты снегом, поэтому
приходилось прощупывать путь ледорубом и проваливать вниз карнизы
обнаруженных под снегом трещин. Дойдя до левого скалистого мыса -- ригеля,
на котором должна быть сооружена обсерватория, и не найдя здесь никого и
ничего, мы сняли с себя веревку, немного отдохнули и, пройдя чуть дальше,
увидели каменный тур. Под ним в консервной банке оказались записки двух
незадолго до нашего прихода ночевавших здесь групп, в их числе Птенчика и
Гога -- двух молодых альпинистов, которым я в Ванване дал лошадей в Хорог.
Оставили свою записку и мы. Ледник Федченко, грандиозный, величайший в
средних широтах мира ледник, лежал перед нами, не видно было только его
верховьев за поворотом.
Группа, с которой мы должны были встретиться, еще не пришла сюда.
Поэтому мы спустились на ледник Федченко и, выйдя на его середину, быстро
пошли вниз, сначала по одной
из моренных "дорожек", а когда ее стали беспрестанно перерезать
непроходимые, глубочайшие трещины, по самому леднику, лавируя между
трещинами и прыгая через те из них, ширина которых не превышала полутора
метров. Шли очень быстро, торопясь сегодня дойти до Бивачного ледника, где,
как мы знали, располагался большой альпинистский лагерь и где мы предвкушали
горячую пищу и новости.
Раза два мы останавливались для короткого отдыха, а на третий раз, едва
я остановился, кто-то громко крикнул, и я увидел идущую по морене к нам,
снизу, цепочку людей. Я выхватил наган, дал в воздух три выстрела. Меня
увидели. Мы быстро сошлись, и я сфотографировал момент встречи.
А Коровин (и тут только я понял, почему его рюкзак был так непосильно
тяжел!) вынул из своего рюкзака огромную сочную ванчскую дыню, груду яблок и
торжественно, со счастливой улыбкой положил их на лед перед своими
товарищами, которые уже с месяц находились на ледниках.
И простецкое, добродушное, веселое лицо Коровина было таким хорошим,
что я невольно залюбовался им!..

 Схема оледенения истоков рек Ванч и Язгулем (по схеме Р. Д. Забирова,
участника гляциологической экспедиции профессора И С Щукина
1947--1948 годов).
неизмеримые массы сыпучего, похожего на манную крупу горного снега,
нагромождают сугробы высотою с башню Кремля. С ребра пика Сталина и других
пиков соскальзывают лавины шириною в несколько километров. С Алтын-Мазарских
Альп рушатся "обвалы ветров", такие, будто падает вниз само небо. Из "окон"
Сауксайского и других каньонов вырываются столь мощные потоки вихрей, что
нет, кажется, силы в мире, способной противостоять им.
Вся эта область -- средоточие исключительных климатических явлений,
находящихся в вечной схватке между собой.
В этом бешеном круговороте стихий человек представляется силой так
ничтожно малой, что ему даже и пытаться проникнуть сюда кажется невозможным.
Но советский человек всегда отличался бесстрашием и умением справляться
с любой стихией. И решение наших ученых было дерзким: следует в этой
безжизненной, суровой, холодной, похожей на мертвый лик луны области
поселить людей, таких людей, которые не побоятся ни разреженного воздуха, ни
диких полярных морозов, ни физического одиночества, которые ничего не боятся
и готовы самоотверженно отдать жизнь за каждое драгоценное показание
прибора. Надо разгадать капризный характер льдов; надо узнать законы их
таяния в различных природных условиях; измерить скорость движения ледяных
потоков; выяснить, сколько влаги они отдают в атмосферу; надо день за днем,
час за часом, придирчиво наблюдать, измерять и выведывать, разгадывать тайну
за тайной.
На леднике Федченко надо построить постоянную научную станцию, какие бы
трудности ни пришлось для этого преодолеть!
На той высоте, где будет поставлена станция, барометрическое давление
снижается до четырехсот миллиметров, почти вдвое ниже обычного; поэтому
пульс человека там равен ста двадцати -- ста тридцати ударам в минуту; в
разреженном воздухе трудно ходить и дышать. Станция должна находиться там,
где ураганные ветры давят на каждый квадратный метр с силой до трехсот
шестидесяти килограммов, нетерпимой для человека!
Предполагалось, что метеорологическая станция будет совсем небольшая. О
капитальном строительстве ледниковой обсерватории никто вначале не думал.
Существовало твердое убеждение, созданное исследователями-высокогорниками,
что пробраться к верховьям этого гигантского ледяного потока можно только
пешком, с небольшим грузом за плечами, рискуя на каждом шагу сломать себе
шею. Тащить же на ледник кирпичи, цемент, кровельное железо и доски казалось
безумием. В период, когда Таджикская комплексная экспедиция организовывалась
в Москве и Ленинграде, большинство специалистов сходилось на том, что
строить станцию невозможно, но следует поставить на леднике киргизскую юрту,
втащив ее сюда по частям с помощью таджиков-носильщиков, отеплить ее,
занести в нее приборы, доставить на спинах людей запас топлива и продуктов и
поселить здесь одного-двух зимовщиков. Эту идею поддерживал и
Средне-Азиатский гидрометеорологический комитет. Но руководство экспедиции,
несколько наиболее смелых специалистов из Бюро высокогорных исследований
(имевших опыт постройки Тянь-Шаньской высокогорной станции, незадолго перед
тем оконченной), утверждало, что нельзя ограничиваться полумерами, следует
решать проблему по-большевистски: если уж надо оставлять на такой высоте
зимовщиков, то необходимо и создать наилучшие условия для их жизни.
Решено было: станцию строить капитально, с отдельными комнатами-каютами
для каждого из зимовщиков, с настоящей лабораторией, с хорошей
радиостанцией, со всем тем необходимым, что способствовало бы как успеху
научных работ, так и хорошему физическому и моральному состоянию зимовщиков.
Проект станции был составлен инженером Владимиром Рихардовичем Блезе.
Ему же было поручено и руководить на месте строительством. Все годы первой
пятилетки он занимался строительством высокогорных научных станций на
ТяньШане и по всей Средней Азии. Он был известен как едва ли не единственный
знаток в своей редкой специальности.
Необыкновенное строительство
С весны 1932 года началась напряженная организационная и
подготовительная работа. Были заготовлены материалы, подобраны кадры
строителей.
Обсерватория строилась в Ташкенте, с тем чтобы в разобранном виде
перевезти ее по железной дороге в Ош, а оттуда вьюками и на руках доставить
за четыреста девяносто километров на ледник. Поэтому каждая деталь
обсерватории должна была весить не более тридцати двух -- сорока
килограммов. Каждый гвоздь, каждый брусок, каждое крепление нужно было
только по леднику протащить несколько десятков километров. Сама станция
весила четыре тонны, а приборы, запасы топлива и продовольствия на год еще
девяносто шесть тонн. Это значит, что для перевозки грузов требовалось свыше
трех тысяч вьюков.
Часть грузов была доставлена по Алайской долине до Дараут-Кургана на
пароконных бричках, -- ими вдоль Алая впервые была проложена колесная
дорога. В Алтын-Мазар грузы перебрасывались верблюдами и лошадными
караванами. Они начали туда приходить с июля, и ранней осенью там была
организована база.
Все работы проводились в тесном содружестве с возглавляемым В. И.
Поповым гляцио-метеорологическим отрядом Таджикской комплексной экспедиции.
Только 3 сентября этому отряду с группой включенных в него альпинистов
удалось пробраться на ледник Федченко из Алтын-Мазара. Все попытки
переправиться через реку Мук-су до этого были неудачны и едва не кончились
гибелью людей.
Отряд дошел до ледника Бивачного, раскинул палатки на льду, а у ледника
Малый Танымас устроил временную метеорологическую станцию.
Лагерь отряда сразу же стал "гостиницей для проходящих". Сюда, уже за
три дня пути мечтая о кружке хорошего горячего чая, заходили те альпинисты,
которые помогали топографам распутывать географические загадки в узле
высочайших гор. Здесь, в лагере, кинематографисты с факелами лазили в
трещины, чтобы снять кадры никогда не виданной хроники. Сюда же сваливались
первые материалы для будущей станции, топливо и фураж. Альпинисты,
работавшие в составе отряда, с утра до ночи прокладывали ледорубами во льду
тропу для вьючных караванов. Эти караваны в Алтын-Мазаре ждали наступления
осени, когда воды в реках поубавится, когда можно будет одолеть вброд
Мук-су, Сель-Дару и подняться сюда, на ледник.
Руководить организацией всей метеорологической службы был назначен
директор бюро высокогорных исследований Иван Емельянович Бойков. 7 сентября
он вышел из Алтын-Мазара на ледник. Однако первое же путешествие с лошадьми
по тропе, прорубленной во льду альпинистами, убедило И. Е. Бойкова и ехавших
вместе с ним студента и проводников-караванщиков Ураза и Колыбая в том, что
провести по такой тропе караван невозможно.
Ураз и Колыбай, расспросив жителей Алтын-Мазара и окрестных кочевок,
установили, что когда-то ледник можно было пройти по створу. Отправив назад
проводников, Бойков и его спутник двинулись к устью ледника Наливкина, где
намечалось строительство.
Двенадцать суток И. Е. Бойков со своим спутником блуждали в лабиринте
ледниковых трещин, отступая и все-таки шаг за шагом пробираясь вперед. Свой
путь, чтобы не заблудиться, чтобы найти потом свои же следы, они отмечали
каменными башенками. Ночевать приходилось на льду. Питались впроголодь.
Только на пятые сутки добрались до "Чертова гроба" -- убежища альпинистов,
где предполагалось устроить промежуточную базу строительства. Место это
недаром получило такое название. Над площадкой, приютившей людей и
нескольких лошадей, высилась огромная скала. С нее беспрестанно сыпались
камни, они пролетали над головами людей. Другого места, получше, здесь
нельзя было выбрать. Бойков и его спутник заночевали в "Чортовом гробу"
вместе с альпинистами, которые шутили, что до самой смерти они уж, наверное,
доживут. Ночью палатка обрушилась на головы спящих. Люди выскочили на мороз
в испуге и увидели хрипящих, навалившихся на палатки лошадей.
Утром на снегу обнаружились следы когтистых лап медведя, который тоже,
повидимому, собирался переночевать в "Чортовом гробу".
Продвигаясь вверх по леднику Федченко, И. Е. Бойков и его спутник
обратили внимание на ригель, врезавшийся в ледник крутолобым мысом; этот мыс
возвышался над. ледником метров на двести, а у подножия был обведен
каменистым "берегом". Мыс был единственным неподвижным местом, которому не
угрожали лавины и камнепады, потому что он был расположен достаточно далеко
от склона огромной вершины, возносящейся над левым бортом ледника.
Первоначально обсерваторию было предположено строить километров на
восемнадцать выше этого места -- у впадения в ледник Федченко ледника
Наливкина. Но, выяснив, что путь туда для вьючных животных невозможен из-за
бесчисленных огромных трещин, образующихся там, где ледник делает крутой
поворот, И. Е. Бойков решил строить обсерваторию именно на выступе ригеля,
на высоте 4 300 метров над уровнем моря. Ригель находился в тридцати двух
километрах от конца ледника Федченко, и этот путь, хоть с большим трудом,
можно было преодолевать караванами лошадей.
Возвратившись от ледника Наливкина к ригелю, произведя съемку, И, Е.
Бойков и его спутник, у которых на три дня пути оставалась одна лепешка и
банка консервов, поспешили к Бивачному леднику. Двигаясь вниз по моренам,
оборванные, голодные, предельно измученные, они все же значительно быстрей,
чем рассчитывали, вернулись в лагерь гляцио-метеорологического отряда.
Гостеприимные и радушные научные работники, не видевшие их четырнадцать
дней, сказали, что, беспокоясь о них, собрались было уже посылать за ними
спасательный отряд.
Тем временем 14 сентября -- через десять дней после установки первой
временной метеорологической станции у Малого Танымаса -- начала работать
вторая полевая станция, у ледпика No 5. До этого станция непрерывно работала
в АлтынМазаре,
Всеми станциями производились наблюдения: метеорологические (давление,
температура и влажность воздуха, направление и скорость ветра, облачность,
осадки и пр. ), актинометрические (изучение солнечной радиации),
гидрологические (скорости течения в реках и межледниковых потоках, расход
воды, определения взвешенных наносов, наблюдения над радиоактивностью воды,
условиями формирования русла, уклонами, образованием донного льда и др. ),
гляциологические (изучение ледника как продукта гидрометеорологического
комплекса, изучение структуры ледникового льда, его образования и
особенностей и пр. ).
Считалось, что уже в конце сентября жить в палатках на леднике Федченко
невозможно. Начинались осенние бураны, закрывались перевалы. Опасность для
жизни всех, кто рисковал в эту пору оставаться на ледниках, с каждым днем
увеличивалась,
И, однако, все прежние представления об опасностях были опровергнуты
героизмом работавших на ледниках советских людей.
Только 17 октября, когда вода в Мук-су значительно спала, на ледник из
Алтын-Мазара вышел первый большой караван -- сто восемьдесят восемь
верблюдов и шестьдесят лошадей. Через день с величайшими усилиями караван
поднялся на ледник. Но оказалось, что верблюды двигаться дальше по льду не
могут. Они скользили и падали, калечили себе ноги на острых камнях морены.
Груз пришлось сложить на конечной морене, а верблюдов отправить назад.
Люди энергично взялись за прокладку тропинки через камни морены, ямы,
бугры и трещины ледника.
Отряд строителей и научных работников, возглавляемый В. Р. Блезе, с
частью самых необходимых грузов 20 октября достиг ригеля, выбранного как
место строительства обсерватории. Люди и лошади были совершенно изнурены. У
людей едва хватило сил, чтобы поставить палатки. Без еды и питья все
повалились спать.
С 23 октября В. Р. Блезе приступил к строительству обсерватории.
Научные работники расчистили площадку для метеорологических приборов,
установили их, и через день систематические наблюдения начались...
Над бортом ледника, на каменном мысу, стояли палатки. Невиданными
чудищами на метеорологической площадке высились будки с термографами,
гидрографами-испарителями, флюгеры, дождемеры, барографы, актинометры,
снегомеры, гелиографы...
Рядом строилась обсерватория. Люди жили не только на каменном ригеле,
но и на льду, а лед двигался, таял, трещал. По ночам, когда мороз,
доходивший до 30 градусов, сжимал ледяные массы, ледник растрескивался по
всем направлениям. Трещины раскрывались мгновенно и неожиданно, иногда
разделяя ночующих на льду работников экспедиции. Провалиться в такую трещину
значило навеки исчезнуть. По утрам из-за гор всходило великолепное солнце,
лучи его жгли сквозь мороз, подтапливали снега. Гигантские лавины с
угрожающим шипеньем летели вниз, сметая все, что лежало на их пути.
Камнепады рвали жутким грохотом горную тишину. Днем подтаявшие глыбы льда
кувыркались и, разбиваясь вдребезги, с мелодическим звоном летели в трещины.
Солнце обжигало лица и руки. Без желтых очков человек ослеп бы наверняка.
Кожа на губах и на щеках трескалась, а сухие ветры шершавили ее, и она
сходила с лица целыми лоскутами. Теплой воды не было или было ровно столько,
чтобы дважды в сутки обогреться строго отмеренной порцией чая; топливо
вымерялось на вес золота -- его доставляли снизу, издалека.
К ноябрю уже никаких "посторонних" людей не было ни на леднике
Федченко, ни в Алтын-Мазаре. Уже закончила почти все свои полевые работы
Таджикская комплексная экспедиция. Ее отряды вернулись с Памира в Москву, в
Ленинград, в Ташкент и в Сталинабад. Сквозь ветер, и снег, и мглу все по тем
же моренам и ледяным зубьям пробивались караваны Петра Кузьмича Жерденко, --
попросту Пети Жерденко, сына ошского агронома, ведавшего транспортировкой
грузов к месту строительства.
Чувство товарищества и дружбы, дисциплина, энтузиазм, бодрое, веселое
настроение были характерными чертами строителей.
Но с каждым днем все усиливались страшные снежные ураганы,
свирепствовавшие на леднике Федченко, отрезанном от всего на свете живого.
Скорость ветра достигала тридцати пяти -- сорока метров в секунду.
Пробиваться сквозь такие ураганы ни люди, ни лошади больше не могли.
Дальнейшее пребывание на леднике было бы безумием, -- дело могло кончиться
гибелью всех строителей. Работы решено было прекратить до весны.
3 декабря произведены были последние наблюдения. На рассвете следующего
дня метеорологи и строители двинулись в путь вниз по леднику, оставив на
ригеле поставленный за полтора месяца каркас здания.
Новый год все праздновали в Ташкенте.
Дом на нелюдимых высотах
В 1933 году строительный отряд выступил в горы 15 июня и на десятый
день прибыл в Алтын-Мазар. Но реки в том году отличались исключительной
многоводностью. Все бесчисленные попытки переправить караван через бешеную
Сель-Дару оказывались напрасными. Дорог был каждый день, но только через дна
месяца, 17 августа, строителям удалось, наконец, одолеть все рукава
Сель-Дары. Через два дня отряд достиг места строительства и после суточного
отдыха приступил к работам.
Еще через несколько дней к строящемуся зданию обсерватории прибыл и
отряд No 21, руководимый В. И. Поповым, гляциологический отряд
Таджикско-Памирской экспедиции, сделавший путь по Алайской долине до
Дараут-Кургана, на двух грузовых автомашинах. В Алтын-Мазаре художник Н. Г.
Котов и все научные работники отряда похоронили молодого художника А. А.
Зеленского; вместе с конем он утонул при переправе через свирепую Сель-Дару.
В том обильном паводками году это был в экспедиции не единственный случай на
переправах через памирские реки.
Окруженные снегами и льдами, строители несколько месяцев жили в
палатках и киргизских юртах.
Ветры достигали такой силы, что сбивали с ног человека и разбрасывали
по леднику тяжелые строительные материалы. Разреженный воздух, в котором не
хватало кислорода, сказывался на работоспособности людей. После двух-трех
ударов лопатой или киркой человек начинал задыхаться и должен был прерывать
работу, чтоб наглотать в свои легкие побольше воздуха. Передохнув, он
трудился дальше, снова тяжело дышал и снова брался за инструмент. Рабочий
день на постройке начинался до света и кончался при фонарях, когда люди
валились с ног от усталости. Все оказавшиеся слабыми телом или духом были
отправлены вниз, остались только те, кто задался целью не покидать работ до
их окончания. Коллектив строителей дал торжественное обещание закончить
основные работы к годовщине Октября.
Попрежнему не было воды, а чтобы растапливать лед, приходилось
расходовать топливо, доставленное снизу. Строители экономили воду даже для
питья. Из-за отсутствия воды долгое время стояли бетонные работы. Тот самый
ледяной поток, который внизу рождал бешено бурлящие реки, здесь, в
верховьях, не мог бы напоить даже птицу. Штукатуры и каменщики искали глину,
-- но где здесь можно было б ее найти?
Ветер сбивал палатки, ломал стойки, рвал боковины, разрушал сделанную
работу. Несясь от Кашал-аяка, он переходил в ураган, вынуждая строителей
прятаться в обледенелые
палатки и юрты. Однажды утром строители не нашли своего "ресторана" --
той юрты, в которой помещалась лагерная кухня. Ее разыскали, только услышав
отчаянные крики повара, погребенного под огромным сугробом вместе со всеми
своими орудиями производства.
Морозы доходили до сорока градусов при ураганном ветре. Люди не могли
мыться и только мазали лица салом и вазелином. В. Р. Блезе первое время
стоически растирал свое тело снегом, но скоро и он бросил эту "спартанскую"
затею. Несмотря ни на что, все были здоровы и веселы.
Заведующий промежуточной базой Константин Карабастов громким голосом
орал стихи, которые сам сочинял. Стихи были из рук вон плохие, но они
развлекали всех: пробиравшиеся наверх караваны привозили эти стихи
строителям, и они их повторяли поодиночке и хором. На шутки и юмор всегда
оставалось время, а здесь они были очень нужны.
С природою на битву человек Выходит на арену... --
этих строк не напечатал бы ни один журнал, но здесь каждый с гордостью
их повторял, сознавая, что именно он-то и есть тот человек. И плотник
Шлыков, о котором говорили, что он никогда не предаст и не подведет, и
мастер на все руки Дюдяев, и бывший беспризорник Ванька Старухин, завидев
возникающих из снежной пурги лошадей, в один голос кричали:
Сквозь бурю, мглу, непроницаемый туман На помощь человеку приходит
караван...
Ванька Старухин, который за свою беспризорную жизнь узнал и голодовки
под Илецком, и скитанья под вагонами по Украине, Кавказу и Средней Азии, и
драки с самой черной шпаной, и ядовитый дым анаши, и бегства из детских
домов и из участков милиции, -- этот самый Ванька Старухин говорил, что
первым днем его "настоящей" жизни был день зачисления его кладовщиком
отряда. Он вел себя великолепно, ничем не подрывал доверия к себе и даже
находил время учиться грамоте.
Другой примечательной фигурой на строительстве был казах Колыбай,
которого все считали киргизом. Он участвовал в экспедиции с 1932 года. В
далеком прошлом--до революции -- он был крупным конокрадом, пользовавшимся
печальной славой у сородичей. Здесь о своей бесшабашной молодости он даже не
любил вспоминать. Рослый, высокий старик атлетического сложения, кажется,
насквозь прожженный солнцем, обветренный, с множеством глубоких складок на
здоровом и мужественном лице, Колыбай был человеком изумительной
находчивости и самообладания. Много раз он спасал при переправах людей и
коней, вытаскивал их из трещин, уберегал от падающих камней. Постоянно
пешком пробивался в опасном, закрывающем провалы снегу, чтоб разыскать
дорогу для лошадей каравана. Однажды он один вытащил лошадь из глубокой
трещины, и в это можно было поверить, взглянув на него. Встретив голодного,
он развязывал поясной платок и, вынув из-под халата грязный кусок лепешки --
последний кусок на несколько дней, -- отдавал его встречному. Он делал это
просто и даже грубо, но с таким видом, словно за пазухой у него хранился
запас продуктов самое малое на неделю.
Он был караванщиком экспедиции, но все звали его только "ака", потому
что действительно он был братом и другом каждого из строителей.
С ним вместе работали два других, таких же энергичных и сильных духом
киргиза-караванщика -- Ураз и Каримбай.
К 7 ноября строительство станции было закончено. Над ледником, на скале
возникло приземистое, сплошь покрытое оцинкованным железом, здание.
Полукруглого сечения крыша, рассчитанная на сопротивление ужасным
господствующим здесь зимою ветрам, делала его похожим на здание ангара или
пакгауза. Из больших застекленных в восемь слоев окон, часть которых
приходится над самым краем скалы, открывался вид на все стороны: вниз и
вверх по леднику Федченко змеились морены главного его русла, его
глубочайшие трещины, исчезающие в дымке боковые притоки; на западе высились
пики Кагановича и Коммунистической академии; на юго-западе, за приборами
метеоплощадки, белели фирны перевала Кашалаяк; на востоке, за руслом
ледника, чернели, прорывая снега, скалистые громады правобережного хребта.
Юрты и палатки еще стояли вокруг. Нужно было заняться сборкой мебели и
деталями оборудования внутренних помещений. В каждой кабинке, похожей на
"увеличенное купе вагона, была откидная кровать, которая днем превращалась в
диван; другая, запасная, кровать "для гостей"; письменный стол, шифоньерка,
полка для книг; Все кабины имели выход в центтральное помещение --
кают-компанию с полукруглыми креслами и круглым столом, с библиотечкой,
патефоном, гимнастическими приборами, шахматами и шашками. Из кают-компании
-- проход в метеорологический кабинет, радиокабинет, фотолабораторию; а с
другой стороны -- выход в сени и переднюю, и сквозь них -- в машинное
отделение, электростанцию, кладовую керосина, теплую уборную. К жилым
кабинам примыкала ванная, а снаружи эти кабины были обведены кладовыми и
коридором. Общая полезная площадь всех двадцати шести внутренних помещений
этой удивительной обсерватории равнялась ста тридцати шести квадратным
метрам.
20 ноября 1933 года все главные доделки были закончены, и строители
стали готовиться к спуску. Накануне, девятнадцатого, начался буран, сквозь
него едва пробился сотрудник строительства, приведший с собой последний
караван из шести лошадей. Если б ему не удалось пробиться на ледник,
строители обсерватории были бы обречены на голодовку, так как расходовать
запасы продовольствия, предназначенные для зимовщиков, никто, конечно, не
согласился бы...
Строители ежедневно собирались уходить вниз, но буран все усиливался,
достиг жесточайшей силы и совершенно прервал всякое сообщение с внешним
миром. Ураганный ветер стих только в ночь с 7 на 8 декабря. Тучи рассеялись,
в черносинем небе зажглись незыбкие, точные звезды.
До рассвета строители торопливо занимались последними сборами. Они
соорудили из листового железа сани, на которых предстояло тащить вниз личные
вещи, палатки, остаток продовольствия, документы и фотонегативы. Ближайшая
конная база -- "Чортов гроб" -- находилась в пятнадцати километрах ниже по
леднику.
Утром, простившись с зимовщиками, строители начали спуск по фирну.
Инженер В. Р. Блезе описывает первые дни пути следующими словами:
"С обсерватории уходили последние пятнадцать строителей: бригадир т.
Дюдяев, столяры -- тт. Ткачев, Еракин, Касьянов, Велашвиши, печник Зубрелян,
каменщик Журавлев, слесарь Никитин, повар Жерехов, подручный рабочий
Емельянов, бухгалтер Мельников, агент снабжения и обойщик т. Зайдентрегер и
я -- начальник отряда и строительства.
Было тяжело и в то же время отрадно уходить вниз к культурной жизни.
Ведь шесть месяцев строители работали не покладая рук, не пользуясь ни днями
отдыха, ни правом уменьшенного рабочего дня.
В это утро и горы и ледник представляли чарующую панораму. Все бело
кругом, все сверкает мириадами ослепительных точек. Теперь ледник
представляет собою ловушку на каждом шагу. Под белым снеговым покровом --
сотни и тысячи больших и малых трещин.
Идем по колено в снегу.
Чем ближе к фирну, к спуску, тем глубже вязнем в снегу.
... Сани начинают обгонять людей. Наконец сдерживать их становится
невозможно. Решаемся на отчаянный шаг: ложимся на сани и с нарастающей
быстротой летим вниз по фирну -- туда, где под снегом -- глыбы камня и
трещины.
Только бы не потерять управление ногами, не свалиться с саней, не
наскочить на камень. Не дать саням пойти направо, по естественному уклону --
прямо в пропасть...
Начался буран, а до дров еще километр. Быстро сползают сумерки. Через
час из-за тьмы бурана ничего не видно. Тащимся наугад, напрягая последние
силы. Более ослабевшие в изнеможении падают на снег, настаивают на ночевке.
-- Товарищи! Еще немного... триста метров... Там, впереди, два больших
камня, там дрова!
Я совершенно выбился из сил. Отстаю. Бросаю сани и, поминутно падая от
усталости, доползаю до товарищей.
Людей засыпает снегом.
Приказываю ставить палатки.
... Дров нет. Придется жечь сухой спирт, а его у нас всего пять банок.
Укрывшись от ветра, заметили, что многие отморозили ноги. Спиртом, снегом,
упорством удалось всем, исключая т. Никитина, вернуть отмороженные
конечности к жизни".
На третий день, когда изнуренный, вышедший на разведку пути В. Р. Блезе
провалился в трещину, он был вытащен пробивавшимся навстречу вместе с
караванщиками старшим техником Розовым. Внизу обессиленных людей ждали
лошади и продовольствие.
За три дня, при тридцатиградусном морозе и непрерывном буране,
строители прошли пятнадцать километров. Только благодаря Розову и
караванщикам, вышедшим пешком на помощь строителям, их удалось спасти вместе
со всем грузом.
Спуск с величайшего в средник широтах мира ледника в декабре -- факт
сам по себе исключительный и необычайный. Выйти в такой путь решился бы не
каждый многоопытный альпинист. А этот "ледниковый поход" совершали
обремененные тяжелым грузом люди, не претендовавшие ни на какие спортивные
рекорды!
Зимовщики
Строители ушли. Но в горах осталась -- привожу стихотворение
Константина Карабастова:
Гидрометстанция средь скал и льдов -- Жизнью пылающий костер. Он много
лет будет светить На окружающий простор.
Остались зимовщики -- трое мужчин и одна женщина: начальник В. М.
Бодрицкий, наблюдатели-вычислители П. А. Бладыко и Л. Ф. Шарова, повар П. А.
Пройдохин. Людмиле Федоровне Шаровой было двадцать лет, а самому старшему из
зимовщиков -- тридцать три года.
Условия, в которых находились зимовщики, были (даже если забыть о
разреженности воздуха!) более суровыми, чем на арктических станциях: средняя
годовая температура в оайоне обсерватории равна семи градусам мороза. Но
первая зимовка была особенно трудной: радиостанцию в том году не удалось
наладить, потому что присланный для организации станции радист оказался
неопытным. До весны зимовщики были полностью изолированы от внешнего мира.
Только 16 мая к ним пробрался из Алтын-Мазара рабочий строительства Мансур.
Он доставил письма и унес записи наблюдений. И снова долго никто на ледник
проникнуть не мог.
Всю зиму обсерваторию заметало буранами. Ее откапывали из-под снега при
жестоких ветрах и морозах. Извлеченные из-под сугробов приборы не раз
приходилось перемещать с места на место. Топлива ушло гораздо больше, чем
можно было рассчитывать, его не хватало, им пользовались только для
приготовления пищи. Пришлось отказаться от отопления, температура в кабинах
приближалась к нулю. Несмотря ни на что, срочные наблюдения производились
регулярно семь раз в сутки. Больше половины наблюдений -- в ночное время.
Лучше всего характеризует жизнь зимовщиков дневник начальника
обсерватории В. М. Бодрицкого. Вот несколько отрывков из этого дневника:
"9 декабря 1933 г.
Эллингообразное здание обсерватории готово. Чередующиеся слои кошмы,
фанеры, дерева и воздушных пространств заключены в сплошной непроницаемый
железный панцырь... Наша "тихая обитель" может противостоять ураганным
шквалам ветра, полярной температуре и с успехом выдерживать массы снега.
Через восьмислойные стекла проникает к нам свет. Удобообтекаемая форма
обсерватории смягчает порывы ветра, мчащегося здесь с быстротой до 40 метров
в секунду...
Началась ультраполярная жизнь под облаками.
27 декабря 1933 г.
Громадные сугробы завалили здание совершенно. Всю ночь откапываем
верхний люк -- единственный выход наружу.
С 6 часов утра начался жестокий шторм. Снежинки мчатся со скоростью 35
метров в секунду. Штормовой трос, при помощи которого мы ориентировались,
идя к приборам, занесен. Но наблюдения ведутся, ведь "нет таких крепостей...
".
Наблюдатели пробиваются, уцепившись друг за друга. Ветер валит с ног,
забивает глаза, дышать трудно.
6 января 1934 г.
Петр Алексеевич Пройдохин забрал в плен солнце. Сегодня ясный день. В
прозрачной атмосфере почти полное отсутствие пылинок дает громадное
напряжение солнечной радиации. Петр Алексеевич обрадовался этому напряжению.
"Фабрику-кухню" он раскинул на воздухе. Наложив котел снега, он,
используя солнечную радиацию, получал кипяченую
воду. Мы с аппетитом уничтожали чай, приготовленный гелиокухней.
8 января 1934 г.
Буран. Метелица. Страшное беспокойство. Уже вечер, а Бладыко и
Пройдохина нет. Они ушли к леднику на гляциологическую съемку. Что делать?
Неужели потеряли товарищей? Ведь так много опасностей!
Собрали тряпки, облили их керосином и бензином. Людмила Федоровна
поддерживает костер. Я сигналю выстрелами и ракетами. Но что наша
сигнализация по сравнению с той канонадой и шумом, которые принес буран?..
9 января 1934 г.
Вечером Бладыко рассказывал:
-- Я упал в трещину. Пройдохин пошел за помощью в обсерваторию, но
вернулся. Мешал буран. Была опасность не попасть на зимовку и потерять
трещину, куда я провалился.
Пройдохин решил спасать меня. Он связал все ремешки от приборов, скинул
одежду и применил ее как веревку. Вырубив во льду ступеньки, он спустился ко
мне. Чтобы вызволить погибающего товарища, было потрачено 4 часа. А тут --
буран. Без спальных мешков зарылись в снег. Крепко прижались друг к другу.
Щипали и толкали друг друга всю ночь, чтобы не уснуть навечно. Мороз был 25
градусов. Спички отсырели и разжечь банку сухого спирта не удалось.
6 мая 1934 г.
В ночь с 5 на 6-е во время снежной бури наблюдали СентЭльмские огни.
Голубоватые свечки, иногда достигающие полуметра в высоту, горели на
выступах скал, они вспыхивали над головами, на поднятых пальцах...
Все светилось. Какая замечательная картина!
15 июня 1934 г.
... Продукты иссякают. Остались мука, рис, соль, сахар. Кислоты
кончены, овощей и жиров нет. Бладыко, Шарова, а затем и я заболели цынгой.
Неприятная вещь. Ощущение такое, что будто бы каждый зуб можно вытащить
без труда. Десны распухли. Кровотечение. Опухоль ног и ломота в суставах --
признаки скорбута.
Стараюсь, насколько могу, ободрять товарищей.
2 июля 1934 г.
Вчера пришла смена.
Мы везем в Ташкент полный материал наблюдений, который даст возможность
осветить климатический режим района оледенения, разрешить вопросы
существования оледенения и зависимости его от метеорологических факторов. Мы
везем материал, при помощи которого есть возможность дать прогноз
водоносности рек, питающих Аму-Дарью. А она дает жизнь миллиардам
коробочек хлопка... "
Опыт первой зимовки помог исправить те недостатки, которые так тяжело
сказывались на жизни высокогорников. Следующие смены зимовщиков располагали
бесперебойно работающей радиостанцией. Установленная на ригеле ветросиловая
станция избавила зимовщиков от забот о топливе, от экономии электроэнергии.
Специальные продукты забрасывались уже в таком количестве, что случаев
заболевания цьнгой больше не было.
Само представление следующих зимовщиков о трудностях изменилось: никто
уже не считал, что больше одной зимы па леднике нельзя выдержать. Нашлись
охотники зимовать по несколько лет подряд. Два года подряд, с 1938 по
1940-й, прожил на леднике начальник обсерватории С. П. Чертанов. Он
настолько сроднился со своей особенной, высокогорной жизнью, что захотел
снова вернуться на ледник Федченко, и еще три года подряд (с 1941 по 1944 г.
) пробыл начальником обсерватории. Его товарищ Н. Н. Аршинов, зимовавший с
1943 года, став начальником обсерватории после него, бессменно прожил на
леднике Федченко пять лет.
Жизнь зимовщиков полна и интересна.
Метеорологи-наблюдатели несут по очереди суточные дежурства. Радист
пять раз в сутки ведет разговоры с соседними высокогорными станциями и с
радиометеорологическим центром. Программа ежесуточных наблюдений,
производимых на обсерватории, столь велика, что в деловой, требующей
непрестанной энергии обстановке скучать никому не приходится. Работа на
леднике дает хорошую физическую закалку, настроение у всех создается бодрое
и веселое. По вечерам, собираясь в кают-компании, зимовщики слушают по радио
последние известия, концерты из Москвы, Ташкента, Сталинабада и других
городов страны.
Незаметно приходит весна, а за ней и лето. Гремят обвалы, звенит вода.
Днем температура воздуха повышается да 15 градусов, -- только ночи всегда
морозны. Между камнями на склонах ригеля развивается растительность: мхи,
лишайники; появляются даже тонко пахнущие цветы. Через перевал Кашал-аяк
изредка залетают птицы.
Ранней осенью на ледник поднимается новый большой караван...
Схема оледенения истоков рек Ванч и Язгулем (по схеме Р. Д. Забирова,
участника гляциологической экспедиции профессора И С Щукина
1947--1948 годов).
неизмеримые массы сыпучего, похожего на манную крупу горного снега,
нагромождают сугробы высотою с башню Кремля. С ребра пика Сталина и других
пиков соскальзывают лавины шириною в несколько километров. С Алтын-Мазарских
Альп рушатся "обвалы ветров", такие, будто падает вниз само небо. Из "окон"
Сауксайского и других каньонов вырываются столь мощные потоки вихрей, что
нет, кажется, силы в мире, способной противостоять им.
Вся эта область -- средоточие исключительных климатических явлений,
находящихся в вечной схватке между собой.
В этом бешеном круговороте стихий человек представляется силой так
ничтожно малой, что ему даже и пытаться проникнуть сюда кажется невозможным.
Но советский человек всегда отличался бесстрашием и умением справляться
с любой стихией. И решение наших ученых было дерзким: следует в этой
безжизненной, суровой, холодной, похожей на мертвый лик луны области
поселить людей, таких людей, которые не побоятся ни разреженного воздуха, ни
диких полярных морозов, ни физического одиночества, которые ничего не боятся
и готовы самоотверженно отдать жизнь за каждое драгоценное показание
прибора. Надо разгадать капризный характер льдов; надо узнать законы их
таяния в различных природных условиях; измерить скорость движения ледяных
потоков; выяснить, сколько влаги они отдают в атмосферу; надо день за днем,
час за часом, придирчиво наблюдать, измерять и выведывать, разгадывать тайну
за тайной.
На леднике Федченко надо построить постоянную научную станцию, какие бы
трудности ни пришлось для этого преодолеть!
На той высоте, где будет поставлена станция, барометрическое давление
снижается до четырехсот миллиметров, почти вдвое ниже обычного; поэтому
пульс человека там равен ста двадцати -- ста тридцати ударам в минуту; в
разреженном воздухе трудно ходить и дышать. Станция должна находиться там,
где ураганные ветры давят на каждый квадратный метр с силой до трехсот
шестидесяти килограммов, нетерпимой для человека!
Предполагалось, что метеорологическая станция будет совсем небольшая. О
капитальном строительстве ледниковой обсерватории никто вначале не думал.
Существовало твердое убеждение, созданное исследователями-высокогорниками,
что пробраться к верховьям этого гигантского ледяного потока можно только
пешком, с небольшим грузом за плечами, рискуя на каждом шагу сломать себе
шею. Тащить же на ледник кирпичи, цемент, кровельное железо и доски казалось
безумием. В период, когда Таджикская комплексная экспедиция организовывалась
в Москве и Ленинграде, большинство специалистов сходилось на том, что
строить станцию невозможно, но следует поставить на леднике киргизскую юрту,
втащив ее сюда по частям с помощью таджиков-носильщиков, отеплить ее,
занести в нее приборы, доставить на спинах людей запас топлива и продуктов и
поселить здесь одного-двух зимовщиков. Эту идею поддерживал и
Средне-Азиатский гидрометеорологический комитет. Но руководство экспедиции,
несколько наиболее смелых специалистов из Бюро высокогорных исследований
(имевших опыт постройки Тянь-Шаньской высокогорной станции, незадолго перед
тем оконченной), утверждало, что нельзя ограничиваться полумерами, следует
решать проблему по-большевистски: если уж надо оставлять на такой высоте
зимовщиков, то необходимо и создать наилучшие условия для их жизни.
Решено было: станцию строить капитально, с отдельными комнатами-каютами
для каждого из зимовщиков, с настоящей лабораторией, с хорошей
радиостанцией, со всем тем необходимым, что способствовало бы как успеху
научных работ, так и хорошему физическому и моральному состоянию зимовщиков.
Проект станции был составлен инженером Владимиром Рихардовичем Блезе.
Ему же было поручено и руководить на месте строительством. Все годы первой
пятилетки он занимался строительством высокогорных научных станций на
ТяньШане и по всей Средней Азии. Он был известен как едва ли не единственный
знаток в своей редкой специальности.
Необыкновенное строительство
С весны 1932 года началась напряженная организационная и
подготовительная работа. Были заготовлены материалы, подобраны кадры
строителей.
Обсерватория строилась в Ташкенте, с тем чтобы в разобранном виде
перевезти ее по железной дороге в Ош, а оттуда вьюками и на руках доставить
за четыреста девяносто километров на ледник. Поэтому каждая деталь
обсерватории должна была весить не более тридцати двух -- сорока
килограммов. Каждый гвоздь, каждый брусок, каждое крепление нужно было
только по леднику протащить несколько десятков километров. Сама станция
весила четыре тонны, а приборы, запасы топлива и продовольствия на год еще
девяносто шесть тонн. Это значит, что для перевозки грузов требовалось свыше
трех тысяч вьюков.
Часть грузов была доставлена по Алайской долине до Дараут-Кургана на
пароконных бричках, -- ими вдоль Алая впервые была проложена колесная
дорога. В Алтын-Мазар грузы перебрасывались верблюдами и лошадными
караванами. Они начали туда приходить с июля, и ранней осенью там была
организована база.
Все работы проводились в тесном содружестве с возглавляемым В. И.
Поповым гляцио-метеорологическим отрядом Таджикской комплексной экспедиции.
Только 3 сентября этому отряду с группой включенных в него альпинистов
удалось пробраться на ледник Федченко из Алтын-Мазара. Все попытки
переправиться через реку Мук-су до этого были неудачны и едва не кончились
гибелью людей.
Отряд дошел до ледника Бивачного, раскинул палатки на льду, а у ледника
Малый Танымас устроил временную метеорологическую станцию.
Лагерь отряда сразу же стал "гостиницей для проходящих". Сюда, уже за
три дня пути мечтая о кружке хорошего горячего чая, заходили те альпинисты,
которые помогали топографам распутывать географические загадки в узле
высочайших гор. Здесь, в лагере, кинематографисты с факелами лазили в
трещины, чтобы снять кадры никогда не виданной хроники. Сюда же сваливались
первые материалы для будущей станции, топливо и фураж. Альпинисты,
работавшие в составе отряда, с утра до ночи прокладывали ледорубами во льду
тропу для вьючных караванов. Эти караваны в Алтын-Мазаре ждали наступления
осени, когда воды в реках поубавится, когда можно будет одолеть вброд
Мук-су, Сель-Дару и подняться сюда, на ледник.
Руководить организацией всей метеорологической службы был назначен
директор бюро высокогорных исследований Иван Емельянович Бойков. 7 сентября
он вышел из Алтын-Мазара на ледник. Однако первое же путешествие с лошадьми
по тропе, прорубленной во льду альпинистами, убедило И. Е. Бойкова и ехавших
вместе с ним студента и проводников-караванщиков Ураза и Колыбая в том, что
провести по такой тропе караван невозможно.
Ураз и Колыбай, расспросив жителей Алтын-Мазара и окрестных кочевок,
установили, что когда-то ледник можно было пройти по створу. Отправив назад
проводников, Бойков и его спутник двинулись к устью ледника Наливкина, где
намечалось строительство.
Двенадцать суток И. Е. Бойков со своим спутником блуждали в лабиринте
ледниковых трещин, отступая и все-таки шаг за шагом пробираясь вперед. Свой
путь, чтобы не заблудиться, чтобы найти потом свои же следы, они отмечали
каменными башенками. Ночевать приходилось на льду. Питались впроголодь.
Только на пятые сутки добрались до "Чертова гроба" -- убежища альпинистов,
где предполагалось устроить промежуточную базу строительства. Место это
недаром получило такое название. Над площадкой, приютившей людей и
нескольких лошадей, высилась огромная скала. С нее беспрестанно сыпались
камни, они пролетали над головами людей. Другого места, получше, здесь
нельзя было выбрать. Бойков и его спутник заночевали в "Чортовом гробу"
вместе с альпинистами, которые шутили, что до самой смерти они уж, наверное,
доживут. Ночью палатка обрушилась на головы спящих. Люди выскочили на мороз
в испуге и увидели хрипящих, навалившихся на палатки лошадей.
Утром на снегу обнаружились следы когтистых лап медведя, который тоже,
повидимому, собирался переночевать в "Чортовом гробу".
Продвигаясь вверх по леднику Федченко, И. Е. Бойков и его спутник
обратили внимание на ригель, врезавшийся в ледник крутолобым мысом; этот мыс
возвышался над. ледником метров на двести, а у подножия был обведен
каменистым "берегом". Мыс был единственным неподвижным местом, которому не
угрожали лавины и камнепады, потому что он был расположен достаточно далеко
от склона огромной вершины, возносящейся над левым бортом ледника.
Первоначально обсерваторию было предположено строить километров на
восемнадцать выше этого места -- у впадения в ледник Федченко ледника
Наливкина. Но, выяснив, что путь туда для вьючных животных невозможен из-за
бесчисленных огромных трещин, образующихся там, где ледник делает крутой
поворот, И. Е. Бойков решил строить обсерваторию именно на выступе ригеля,
на высоте 4 300 метров над уровнем моря. Ригель находился в тридцати двух
километрах от конца ледника Федченко, и этот путь, хоть с большим трудом,
можно было преодолевать караванами лошадей.
Возвратившись от ледника Наливкина к ригелю, произведя съемку, И, Е.
Бойков и его спутник, у которых на три дня пути оставалась одна лепешка и
банка консервов, поспешили к Бивачному леднику. Двигаясь вниз по моренам,
оборванные, голодные, предельно измученные, они все же значительно быстрей,
чем рассчитывали, вернулись в лагерь гляцио-метеорологического отряда.
Гостеприимные и радушные научные работники, не видевшие их четырнадцать
дней, сказали, что, беспокоясь о них, собрались было уже посылать за ними
спасательный отряд.
Тем временем 14 сентября -- через десять дней после установки первой
временной метеорологической станции у Малого Танымаса -- начала работать
вторая полевая станция, у ледпика No 5. До этого станция непрерывно работала
в АлтынМазаре,
Всеми станциями производились наблюдения: метеорологические (давление,
температура и влажность воздуха, направление и скорость ветра, облачность,
осадки и пр. ), актинометрические (изучение солнечной радиации),
гидрологические (скорости течения в реках и межледниковых потоках, расход
воды, определения взвешенных наносов, наблюдения над радиоактивностью воды,
условиями формирования русла, уклонами, образованием донного льда и др. ),
гляциологические (изучение ледника как продукта гидрометеорологического
комплекса, изучение структуры ледникового льда, его образования и
особенностей и пр. ).
Считалось, что уже в конце сентября жить в палатках на леднике Федченко
невозможно. Начинались осенние бураны, закрывались перевалы. Опасность для
жизни всех, кто рисковал в эту пору оставаться на ледниках, с каждым днем
увеличивалась,
И, однако, все прежние представления об опасностях были опровергнуты
героизмом работавших на ледниках советских людей.
Только 17 октября, когда вода в Мук-су значительно спала, на ледник из
Алтын-Мазара вышел первый большой караван -- сто восемьдесят восемь
верблюдов и шестьдесят лошадей. Через день с величайшими усилиями караван
поднялся на ледник. Но оказалось, что верблюды двигаться дальше по льду не
могут. Они скользили и падали, калечили себе ноги на острых камнях морены.
Груз пришлось сложить на конечной морене, а верблюдов отправить назад.
Люди энергично взялись за прокладку тропинки через камни морены, ямы,
бугры и трещины ледника.
Отряд строителей и научных работников, возглавляемый В. Р. Блезе, с
частью самых необходимых грузов 20 октября достиг ригеля, выбранного как
место строительства обсерватории. Люди и лошади были совершенно изнурены. У
людей едва хватило сил, чтобы поставить палатки. Без еды и питья все
повалились спать.
С 23 октября В. Р. Блезе приступил к строительству обсерватории.
Научные работники расчистили площадку для метеорологических приборов,
установили их, и через день систематические наблюдения начались...
Над бортом ледника, на каменном мысу, стояли палатки. Невиданными
чудищами на метеорологической площадке высились будки с термографами,
гидрографами-испарителями, флюгеры, дождемеры, барографы, актинометры,
снегомеры, гелиографы...
Рядом строилась обсерватория. Люди жили не только на каменном ригеле,
но и на льду, а лед двигался, таял, трещал. По ночам, когда мороз,
доходивший до 30 градусов, сжимал ледяные массы, ледник растрескивался по
всем направлениям. Трещины раскрывались мгновенно и неожиданно, иногда
разделяя ночующих на льду работников экспедиции. Провалиться в такую трещину
значило навеки исчезнуть. По утрам из-за гор всходило великолепное солнце,
лучи его жгли сквозь мороз, подтапливали снега. Гигантские лавины с
угрожающим шипеньем летели вниз, сметая все, что лежало на их пути.
Камнепады рвали жутким грохотом горную тишину. Днем подтаявшие глыбы льда
кувыркались и, разбиваясь вдребезги, с мелодическим звоном летели в трещины.
Солнце обжигало лица и руки. Без желтых очков человек ослеп бы наверняка.
Кожа на губах и на щеках трескалась, а сухие ветры шершавили ее, и она
сходила с лица целыми лоскутами. Теплой воды не было или было ровно столько,
чтобы дважды в сутки обогреться строго отмеренной порцией чая; топливо
вымерялось на вес золота -- его доставляли снизу, издалека.
К ноябрю уже никаких "посторонних" людей не было ни на леднике
Федченко, ни в Алтын-Мазаре. Уже закончила почти все свои полевые работы
Таджикская комплексная экспедиция. Ее отряды вернулись с Памира в Москву, в
Ленинград, в Ташкент и в Сталинабад. Сквозь ветер, и снег, и мглу все по тем
же моренам и ледяным зубьям пробивались караваны Петра Кузьмича Жерденко, --
попросту Пети Жерденко, сына ошского агронома, ведавшего транспортировкой
грузов к месту строительства.
Чувство товарищества и дружбы, дисциплина, энтузиазм, бодрое, веселое
настроение были характерными чертами строителей.
Но с каждым днем все усиливались страшные снежные ураганы,
свирепствовавшие на леднике Федченко, отрезанном от всего на свете живого.
Скорость ветра достигала тридцати пяти -- сорока метров в секунду.
Пробиваться сквозь такие ураганы ни люди, ни лошади больше не могли.
Дальнейшее пребывание на леднике было бы безумием, -- дело могло кончиться
гибелью всех строителей. Работы решено было прекратить до весны.
3 декабря произведены были последние наблюдения. На рассвете следующего
дня метеорологи и строители двинулись в путь вниз по леднику, оставив на
ригеле поставленный за полтора месяца каркас здания.
Новый год все праздновали в Ташкенте.
Дом на нелюдимых высотах
В 1933 году строительный отряд выступил в горы 15 июня и на десятый
день прибыл в Алтын-Мазар. Но реки в том году отличались исключительной
многоводностью. Все бесчисленные попытки переправить караван через бешеную
Сель-Дару оказывались напрасными. Дорог был каждый день, но только через дна
месяца, 17 августа, строителям удалось, наконец, одолеть все рукава
Сель-Дары. Через два дня отряд достиг места строительства и после суточного
отдыха приступил к работам.
Еще через несколько дней к строящемуся зданию обсерватории прибыл и
отряд No 21, руководимый В. И. Поповым, гляциологический отряд
Таджикско-Памирской экспедиции, сделавший путь по Алайской долине до
Дараут-Кургана, на двух грузовых автомашинах. В Алтын-Мазаре художник Н. Г.
Котов и все научные работники отряда похоронили молодого художника А. А.
Зеленского; вместе с конем он утонул при переправе через свирепую Сель-Дару.
В том обильном паводками году это был в экспедиции не единственный случай на
переправах через памирские реки.
Окруженные снегами и льдами, строители несколько месяцев жили в
палатках и киргизских юртах.
Ветры достигали такой силы, что сбивали с ног человека и разбрасывали
по леднику тяжелые строительные материалы. Разреженный воздух, в котором не
хватало кислорода, сказывался на работоспособности людей. После двух-трех
ударов лопатой или киркой человек начинал задыхаться и должен был прерывать
работу, чтоб наглотать в свои легкие побольше воздуха. Передохнув, он
трудился дальше, снова тяжело дышал и снова брался за инструмент. Рабочий
день на постройке начинался до света и кончался при фонарях, когда люди
валились с ног от усталости. Все оказавшиеся слабыми телом или духом были
отправлены вниз, остались только те, кто задался целью не покидать работ до
их окончания. Коллектив строителей дал торжественное обещание закончить
основные работы к годовщине Октября.
Попрежнему не было воды, а чтобы растапливать лед, приходилось
расходовать топливо, доставленное снизу. Строители экономили воду даже для
питья. Из-за отсутствия воды долгое время стояли бетонные работы. Тот самый
ледяной поток, который внизу рождал бешено бурлящие реки, здесь, в
верховьях, не мог бы напоить даже птицу. Штукатуры и каменщики искали глину,
-- но где здесь можно было б ее найти?
Ветер сбивал палатки, ломал стойки, рвал боковины, разрушал сделанную
работу. Несясь от Кашал-аяка, он переходил в ураган, вынуждая строителей
прятаться в обледенелые
палатки и юрты. Однажды утром строители не нашли своего "ресторана" --
той юрты, в которой помещалась лагерная кухня. Ее разыскали, только услышав
отчаянные крики повара, погребенного под огромным сугробом вместе со всеми
своими орудиями производства.
Морозы доходили до сорока градусов при ураганном ветре. Люди не могли
мыться и только мазали лица салом и вазелином. В. Р. Блезе первое время
стоически растирал свое тело снегом, но скоро и он бросил эту "спартанскую"
затею. Несмотря ни на что, все были здоровы и веселы.
Заведующий промежуточной базой Константин Карабастов громким голосом
орал стихи, которые сам сочинял. Стихи были из рук вон плохие, но они
развлекали всех: пробиравшиеся наверх караваны привозили эти стихи
строителям, и они их повторяли поодиночке и хором. На шутки и юмор всегда
оставалось время, а здесь они были очень нужны.
С природою на битву человек Выходит на арену... --
этих строк не напечатал бы ни один журнал, но здесь каждый с гордостью
их повторял, сознавая, что именно он-то и есть тот человек. И плотник
Шлыков, о котором говорили, что он никогда не предаст и не подведет, и
мастер на все руки Дюдяев, и бывший беспризорник Ванька Старухин, завидев
возникающих из снежной пурги лошадей, в один голос кричали:
Сквозь бурю, мглу, непроницаемый туман На помощь человеку приходит
караван...
Ванька Старухин, который за свою беспризорную жизнь узнал и голодовки
под Илецком, и скитанья под вагонами по Украине, Кавказу и Средней Азии, и
драки с самой черной шпаной, и ядовитый дым анаши, и бегства из детских
домов и из участков милиции, -- этот самый Ванька Старухин говорил, что
первым днем его "настоящей" жизни был день зачисления его кладовщиком
отряда. Он вел себя великолепно, ничем не подрывал доверия к себе и даже
находил время учиться грамоте.
Другой примечательной фигурой на строительстве был казах Колыбай,
которого все считали киргизом. Он участвовал в экспедиции с 1932 года. В
далеком прошлом--до революции -- он был крупным конокрадом, пользовавшимся
печальной славой у сородичей. Здесь о своей бесшабашной молодости он даже не
любил вспоминать. Рослый, высокий старик атлетического сложения, кажется,
насквозь прожженный солнцем, обветренный, с множеством глубоких складок на
здоровом и мужественном лице, Колыбай был человеком изумительной
находчивости и самообладания. Много раз он спасал при переправах людей и
коней, вытаскивал их из трещин, уберегал от падающих камней. Постоянно
пешком пробивался в опасном, закрывающем провалы снегу, чтоб разыскать
дорогу для лошадей каравана. Однажды он один вытащил лошадь из глубокой
трещины, и в это можно было поверить, взглянув на него. Встретив голодного,
он развязывал поясной платок и, вынув из-под халата грязный кусок лепешки --
последний кусок на несколько дней, -- отдавал его встречному. Он делал это
просто и даже грубо, но с таким видом, словно за пазухой у него хранился
запас продуктов самое малое на неделю.
Он был караванщиком экспедиции, но все звали его только "ака", потому
что действительно он был братом и другом каждого из строителей.
С ним вместе работали два других, таких же энергичных и сильных духом
киргиза-караванщика -- Ураз и Каримбай.
К 7 ноября строительство станции было закончено. Над ледником, на скале
возникло приземистое, сплошь покрытое оцинкованным железом, здание.
Полукруглого сечения крыша, рассчитанная на сопротивление ужасным
господствующим здесь зимою ветрам, делала его похожим на здание ангара или
пакгауза. Из больших застекленных в восемь слоев окон, часть которых
приходится над самым краем скалы, открывался вид на все стороны: вниз и
вверх по леднику Федченко змеились морены главного его русла, его
глубочайшие трещины, исчезающие в дымке боковые притоки; на западе высились
пики Кагановича и Коммунистической академии; на юго-западе, за приборами
метеоплощадки, белели фирны перевала Кашалаяк; на востоке, за руслом
ледника, чернели, прорывая снега, скалистые громады правобережного хребта.
Юрты и палатки еще стояли вокруг. Нужно было заняться сборкой мебели и
деталями оборудования внутренних помещений. В каждой кабинке, похожей на
"увеличенное купе вагона, была откидная кровать, которая днем превращалась в
диван; другая, запасная, кровать "для гостей"; письменный стол, шифоньерка,
полка для книг; Все кабины имели выход в центтральное помещение --
кают-компанию с полукруглыми креслами и круглым столом, с библиотечкой,
патефоном, гимнастическими приборами, шахматами и шашками. Из кают-компании
-- проход в метеорологический кабинет, радиокабинет, фотолабораторию; а с
другой стороны -- выход в сени и переднюю, и сквозь них -- в машинное
отделение, электростанцию, кладовую керосина, теплую уборную. К жилым
кабинам примыкала ванная, а снаружи эти кабины были обведены кладовыми и
коридором. Общая полезная площадь всех двадцати шести внутренних помещений
этой удивительной обсерватории равнялась ста тридцати шести квадратным
метрам.
20 ноября 1933 года все главные доделки были закончены, и строители
стали готовиться к спуску. Накануне, девятнадцатого, начался буран, сквозь
него едва пробился сотрудник строительства, приведший с собой последний
караван из шести лошадей. Если б ему не удалось пробиться на ледник,
строители обсерватории были бы обречены на голодовку, так как расходовать
запасы продовольствия, предназначенные для зимовщиков, никто, конечно, не
согласился бы...
Строители ежедневно собирались уходить вниз, но буран все усиливался,
достиг жесточайшей силы и совершенно прервал всякое сообщение с внешним
миром. Ураганный ветер стих только в ночь с 7 на 8 декабря. Тучи рассеялись,
в черносинем небе зажглись незыбкие, точные звезды.
До рассвета строители торопливо занимались последними сборами. Они
соорудили из листового железа сани, на которых предстояло тащить вниз личные
вещи, палатки, остаток продовольствия, документы и фотонегативы. Ближайшая
конная база -- "Чортов гроб" -- находилась в пятнадцати километрах ниже по
леднику.
Утром, простившись с зимовщиками, строители начали спуск по фирну.
Инженер В. Р. Блезе описывает первые дни пути следующими словами:
"С обсерватории уходили последние пятнадцать строителей: бригадир т.
Дюдяев, столяры -- тт. Ткачев, Еракин, Касьянов, Велашвиши, печник Зубрелян,
каменщик Журавлев, слесарь Никитин, повар Жерехов, подручный рабочий
Емельянов, бухгалтер Мельников, агент снабжения и обойщик т. Зайдентрегер и
я -- начальник отряда и строительства.
Было тяжело и в то же время отрадно уходить вниз к культурной жизни.
Ведь шесть месяцев строители работали не покладая рук, не пользуясь ни днями
отдыха, ни правом уменьшенного рабочего дня.
В это утро и горы и ледник представляли чарующую панораму. Все бело
кругом, все сверкает мириадами ослепительных точек. Теперь ледник
представляет собою ловушку на каждом шагу. Под белым снеговым покровом --
сотни и тысячи больших и малых трещин.
Идем по колено в снегу.
Чем ближе к фирну, к спуску, тем глубже вязнем в снегу.
... Сани начинают обгонять людей. Наконец сдерживать их становится
невозможно. Решаемся на отчаянный шаг: ложимся на сани и с нарастающей
быстротой летим вниз по фирну -- туда, где под снегом -- глыбы камня и
трещины.
Только бы не потерять управление ногами, не свалиться с саней, не
наскочить на камень. Не дать саням пойти направо, по естественному уклону --
прямо в пропасть...
Начался буран, а до дров еще километр. Быстро сползают сумерки. Через
час из-за тьмы бурана ничего не видно. Тащимся наугад, напрягая последние
силы. Более ослабевшие в изнеможении падают на снег, настаивают на ночевке.
-- Товарищи! Еще немного... триста метров... Там, впереди, два больших
камня, там дрова!
Я совершенно выбился из сил. Отстаю. Бросаю сани и, поминутно падая от
усталости, доползаю до товарищей.
Людей засыпает снегом.
Приказываю ставить палатки.
... Дров нет. Придется жечь сухой спирт, а его у нас всего пять банок.
Укрывшись от ветра, заметили, что многие отморозили ноги. Спиртом, снегом,
упорством удалось всем, исключая т. Никитина, вернуть отмороженные
конечности к жизни".
На третий день, когда изнуренный, вышедший на разведку пути В. Р. Блезе
провалился в трещину, он был вытащен пробивавшимся навстречу вместе с
караванщиками старшим техником Розовым. Внизу обессиленных людей ждали
лошади и продовольствие.
За три дня, при тридцатиградусном морозе и непрерывном буране,
строители прошли пятнадцать километров. Только благодаря Розову и
караванщикам, вышедшим пешком на помощь строителям, их удалось спасти вместе
со всем грузом.
Спуск с величайшего в средник широтах мира ледника в декабре -- факт
сам по себе исключительный и необычайный. Выйти в такой путь решился бы не
каждый многоопытный альпинист. А этот "ледниковый поход" совершали
обремененные тяжелым грузом люди, не претендовавшие ни на какие спортивные
рекорды!
Зимовщики
Строители ушли. Но в горах осталась -- привожу стихотворение
Константина Карабастова:
Гидрометстанция средь скал и льдов -- Жизнью пылающий костер. Он много
лет будет светить На окружающий простор.
Остались зимовщики -- трое мужчин и одна женщина: начальник В. М.
Бодрицкий, наблюдатели-вычислители П. А. Бладыко и Л. Ф. Шарова, повар П. А.
Пройдохин. Людмиле Федоровне Шаровой было двадцать лет, а самому старшему из
зимовщиков -- тридцать три года.
Условия, в которых находились зимовщики, были (даже если забыть о
разреженности воздуха!) более суровыми, чем на арктических станциях: средняя
годовая температура в оайоне обсерватории равна семи градусам мороза. Но
первая зимовка была особенно трудной: радиостанцию в том году не удалось
наладить, потому что присланный для организации станции радист оказался
неопытным. До весны зимовщики были полностью изолированы от внешнего мира.
Только 16 мая к ним пробрался из Алтын-Мазара рабочий строительства Мансур.
Он доставил письма и унес записи наблюдений. И снова долго никто на ледник
проникнуть не мог.
Всю зиму обсерваторию заметало буранами. Ее откапывали из-под снега при
жестоких ветрах и морозах. Извлеченные из-под сугробов приборы не раз
приходилось перемещать с места на место. Топлива ушло гораздо больше, чем
можно было рассчитывать, его не хватало, им пользовались только для
приготовления пищи. Пришлось отказаться от отопления, температура в кабинах
приближалась к нулю. Несмотря ни на что, срочные наблюдения производились
регулярно семь раз в сутки. Больше половины наблюдений -- в ночное время.
Лучше всего характеризует жизнь зимовщиков дневник начальника
обсерватории В. М. Бодрицкого. Вот несколько отрывков из этого дневника:
"9 декабря 1933 г.
Эллингообразное здание обсерватории готово. Чередующиеся слои кошмы,
фанеры, дерева и воздушных пространств заключены в сплошной непроницаемый
железный панцырь... Наша "тихая обитель" может противостоять ураганным
шквалам ветра, полярной температуре и с успехом выдерживать массы снега.
Через восьмислойные стекла проникает к нам свет. Удобообтекаемая форма
обсерватории смягчает порывы ветра, мчащегося здесь с быстротой до 40 метров
в секунду...
Началась ультраполярная жизнь под облаками.
27 декабря 1933 г.
Громадные сугробы завалили здание совершенно. Всю ночь откапываем
верхний люк -- единственный выход наружу.
С 6 часов утра начался жестокий шторм. Снежинки мчатся со скоростью 35
метров в секунду. Штормовой трос, при помощи которого мы ориентировались,
идя к приборам, занесен. Но наблюдения ведутся, ведь "нет таких крепостей...
".
Наблюдатели пробиваются, уцепившись друг за друга. Ветер валит с ног,
забивает глаза, дышать трудно.
6 января 1934 г.
Петр Алексеевич Пройдохин забрал в плен солнце. Сегодня ясный день. В
прозрачной атмосфере почти полное отсутствие пылинок дает громадное
напряжение солнечной радиации. Петр Алексеевич обрадовался этому напряжению.
"Фабрику-кухню" он раскинул на воздухе. Наложив котел снега, он,
используя солнечную радиацию, получал кипяченую
воду. Мы с аппетитом уничтожали чай, приготовленный гелиокухней.
8 января 1934 г.
Буран. Метелица. Страшное беспокойство. Уже вечер, а Бладыко и
Пройдохина нет. Они ушли к леднику на гляциологическую съемку. Что делать?
Неужели потеряли товарищей? Ведь так много опасностей!
Собрали тряпки, облили их керосином и бензином. Людмила Федоровна
поддерживает костер. Я сигналю выстрелами и ракетами. Но что наша
сигнализация по сравнению с той канонадой и шумом, которые принес буран?..
9 января 1934 г.
Вечером Бладыко рассказывал:
-- Я упал в трещину. Пройдохин пошел за помощью в обсерваторию, но
вернулся. Мешал буран. Была опасность не попасть на зимовку и потерять
трещину, куда я провалился.
Пройдохин решил спасать меня. Он связал все ремешки от приборов, скинул
одежду и применил ее как веревку. Вырубив во льду ступеньки, он спустился ко
мне. Чтобы вызволить погибающего товарища, было потрачено 4 часа. А тут --
буран. Без спальных мешков зарылись в снег. Крепко прижались друг к другу.
Щипали и толкали друг друга всю ночь, чтобы не уснуть навечно. Мороз был 25
градусов. Спички отсырели и разжечь банку сухого спирта не удалось.
6 мая 1934 г.
В ночь с 5 на 6-е во время снежной бури наблюдали СентЭльмские огни.
Голубоватые свечки, иногда достигающие полуметра в высоту, горели на
выступах скал, они вспыхивали над головами, на поднятых пальцах...
Все светилось. Какая замечательная картина!
15 июня 1934 г.
... Продукты иссякают. Остались мука, рис, соль, сахар. Кислоты
кончены, овощей и жиров нет. Бладыко, Шарова, а затем и я заболели цынгой.
Неприятная вещь. Ощущение такое, что будто бы каждый зуб можно вытащить
без труда. Десны распухли. Кровотечение. Опухоль ног и ломота в суставах --
признаки скорбута.
Стараюсь, насколько могу, ободрять товарищей.
2 июля 1934 г.
Вчера пришла смена.
Мы везем в Ташкент полный материал наблюдений, который даст возможность
осветить климатический режим района оледенения, разрешить вопросы
существования оледенения и зависимости его от метеорологических факторов. Мы
везем материал, при помощи которого есть возможность дать прогноз
водоносности рек, питающих Аму-Дарью. А она дает жизнь миллиардам
коробочек хлопка... "
Опыт первой зимовки помог исправить те недостатки, которые так тяжело
сказывались на жизни высокогорников. Следующие смены зимовщиков располагали
бесперебойно работающей радиостанцией. Установленная на ригеле ветросиловая
станция избавила зимовщиков от забот о топливе, от экономии электроэнергии.
Специальные продукты забрасывались уже в таком количестве, что случаев
заболевания цьнгой больше не было.
Само представление следующих зимовщиков о трудностях изменилось: никто
уже не считал, что больше одной зимы па леднике нельзя выдержать. Нашлись
охотники зимовать по несколько лет подряд. Два года подряд, с 1938 по
1940-й, прожил на леднике начальник обсерватории С. П. Чертанов. Он
настолько сроднился со своей особенной, высокогорной жизнью, что захотел
снова вернуться на ледник Федченко, и еще три года подряд (с 1941 по 1944 г.
) пробыл начальником обсерватории. Его товарищ Н. Н. Аршинов, зимовавший с
1943 года, став начальником обсерватории после него, бессменно прожил на
леднике Федченко пять лет.
Жизнь зимовщиков полна и интересна.
Метеорологи-наблюдатели несут по очереди суточные дежурства. Радист
пять раз в сутки ведет разговоры с соседними высокогорными станциями и с
радиометеорологическим центром. Программа ежесуточных наблюдений,
производимых на обсерватории, столь велика, что в деловой, требующей
непрестанной энергии обстановке скучать никому не приходится. Работа на
леднике дает хорошую физическую закалку, настроение у всех создается бодрое
и веселое. По вечерам, собираясь в кают-компании, зимовщики слушают по радио
последние известия, концерты из Москвы, Ташкента, Сталинабада и других
городов страны.
Незаметно приходит весна, а за ней и лето. Гремят обвалы, звенит вода.
Днем температура воздуха повышается да 15 градусов, -- только ночи всегда
морозны. Между камнями на склонах ригеля развивается растительность: мхи,
лишайники; появляются даже тонко пахнущие цветы. Через перевал Кашал-аяк
изредка залетают птицы.
Ранней осенью на ледник поднимается новый большой караван...
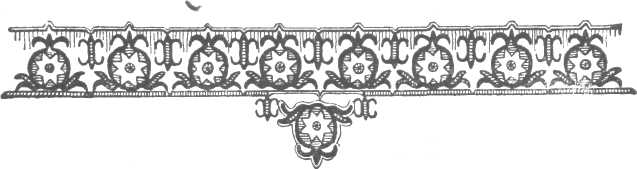 ГЛАВА XVI
В Шугнане
В этой главе я расскажу о пути от Хорога до районного центра (а в
прошлом -- феодальной столицы Дарваза) Калаи-Хумба; о тропинке вдоль Пянджа,
по которой трижды довелось мне проехать верхом с караванными, вьючными
лошадьми; тропинка теперь превратилась в Большой Памирский тракт имени
Сталина, -- я проехал и по этому тракту, но уже в автомобиле.
Река Пяндж здесь совершает большую дугу, направляясь сначала на север,
потом от устья Ванча, на северо-запад, а дальше, от реки Висхарви -- на
запад, чтобы за Кала-и-Хумбом отклониться к югу, забирая все круче и круче,
пока не расступятся теснины сжимающих ее гор.
На этом пути река Пяндж пропиливает высочайшие, островерхие горные
хребты, то растекаясь перед ними по ложу спокойной долины, что когда-то была
дном подпертого гранитною перемычкою озера, то бунтуя в узких ущельях, в
которые вода прорывается с удесятеренною силой сжатая, швыряемая с перепада
на перепад, превращенная в пену и водяную пыль.
Реке Пяндж людьми "вменено в обязанность" быть границей двух
государств. На правом берегу Пянджа люди строят коммунизм, на левом -- в
древних крепостях сегодня живут феодалы, покорные богу и своему эмиру.
Пяндж подобен экрану уэллсовской "машины времени": людям, смотрящим с
правого берега на левый, видно все то, что происходило у них самих сто и
тысячу лет назад. Людям, которые смотрят с левого берега на правый, видно
все, что когда-нибудь их потомкам, детям ли, внукам ли, принесет грядущее.
Через реку Пяндж нет ни одного моста, и на левом берегу от Хорога до
Кала-и-Хумба нет ни одной электрической лампочки, ни одной автомашины.
Река Пяндж -- древняя авестийская Ардвисура, древний Оке, о которой уже
Птолемею было известно, что она одна из величайших рек Азии и впадает в
Каспийское море; река Пяндж -- верховья Аму-Дарьи; она вырезала себе ложе в
таких диких, таких недоступных горах, что люди еще совсем недавно не везде
могли пробираться вдоль ее берегов, потому что эти ее берега встают
высочайшими отвесными, скалистыми стенами.
Такова река и выше Хорога, там, где она проходит Горан и Ишкашим,
сбегая с высот Вахана; такова она и ниже Хорога, на том пути, где она
пересекает Шугнан, Рушан, Язгулем и Ванч, уходя с Памира, из Горного
Бадахшана, вступая в пределы Дарваза, сжимающего ее столь же узкими
теснинами.
Однажды, в 1932 году, мне пришлось спуститься и ниже Кала-и-Хумба вдоль
Пянджа. Там перед кишлаками Сангоу, Дурвак, Паткан-об и Иогид тропинка на
выступах отвесных скал оказалась такой же узкой, неверною и опасной, как в
самых труднодоступных ущельях Памира, и усталому от многомесячных странствий
по кручам путешественнику казалось, что век ему не выбраться из душных
ущелий к равнинам, где и небу просторно над головой, где и взор есть куда
устремить вдаль...
Большой западный путь с Памира доходит по Пянджу только до
Кала-и-Хумба. Оттуда, покинув Пяндж, он резко поворачивает на север, круто
поднимаясь на перевал Хобурабат -- последнее препятствие, грозящее не
пропустить к Сталинабаду человека с Памира. В зимние месяцы это препятствие
и поныне может одолеть только очень смелый пешеход, не боящийся глубоких
снегов, лавин, воющих буранов. Всякое иное сообщение Кала-и-Хумба с внешним
миром в зимние месяцы прекращается...
Но летом и осенью в колхозных кишлаках в тех местах благодать, и о них
я тоже расскажу в этой главе.
Тридцатые годы!..
Кончены дни в Хороге -- дни отдыха и общения с живущими обычной жизнью
людьми. В эти дни мы не седлали и не вьючили лошадей, не ставили палаток, не
разжигали костров,
не намечали по утрам маршрут на неверной карте. Вся амуниция висела на
гвоздиках на стене, мы (единственный период за все путешествие по Памиру!)
разгуливали в белых парусиновых брюках и без полевых сумок; обедали за
столом в столовой, ходили по вечерам з гости; иногда смотрели кинокартины.
Но такой отдых скоро подходил к концу. Это было переломное время: до него,
где бы мы ни блуждали по Памиру, считалось, что мы идем вперед. После Хорога
мы знали: мы возвращаемся с Памира, наш путь -- на Сталинабад, и, значит,
все ближе к дому!..
Наступало, наконец, то утро, когда ставший родным запах конского пота
снова бил в нос, когда мы в истрепанных брезентовых сапогах, обвешанные с
плеча на плечо амуницией, вновь топтались вокруг завьючиваемых,
заседлываемых, кряхтящих, нетерпеливых и -- с отвычки -- капризничающих
лошадей.
Вокруг нас, уже ничем не похожих на горожан походных людей, толпились
обретенные в Хороге друзья, их жены, их дети, насовавшие нам в полевые сумки
толстые пачки писем... Нас провожали с грустью, и мы расставались с
хорогцами с той же грустью, -- пожить бы еще в Хороге!
Но... в путь!
Резким движением я переносил правую ногу через круп коня, садился в
седло, пробовал стремена, и мой застоявшийся конь выносился вперед.
Счастливый путь!..
Осторожней на оврингах!..
Ни пуха ни пера до самого Дюшамбе!
В тридцатом году старое название таджикской столицы еще не исчезло из
обращения. В тридцать первом году никто в Хороге, кроме дряхлых стариков
дехкан, уже не говорил Дюшамбе.
Караван вытягивался по длинной хорогской улице, знакомый звон подков по
камням мелодично отдавался в ушах, еще долго-долго за уходящей из Хорога
экспедицией бежали мальчишки, -- кто из них тянул двумя ручонками к седлу
спелую дыню, кто, суя мятую абрикосину, выпрашивал карандаш; щебет, гомон
шугнанских мальчишек оставался последним впечатлением от Хорога, город
отсекался надвинувшимся с правой стороны скалистым мысом, хаосом битых,
острых, нагроможденных под мысом скал; тропинка, вырубленная в каменном
массиве, извивалась у самой гунтской воды, Гунт отступал, начиналась широкая
песчаная и мелкокаменистая отмель устья. Слева уже широко и свободно лился
спокойный
мутновато-серый Пяндж, за ним высоким горным склоном надвигался
афганский берег, мы проезжали через маленький кишлачок Тым.
Теперь в этом кишлачке новый плодовый сад колхоза имени Сталина; тогда
сада не было, росли только высокие тополи, но уже и тогда слева от Тыма
плоский берег реки назывался аэродромом: именно сюда дважды в истории Памира
опускался самолет летчика Баранова, первый раз в 1929 году, второй раз 18
августа 1930 года.
Есть у меня рассказ о том, как жители афганских кишлаков Шив и Крондиз,
расположенных над берегом Пянджа, приняли первый советский самолет,
показавшийся в небесах, за "живого бога" своей исмаилитской религии, и была
паника в кишлаках, по призыву местного халифа все попадали лицом вниз и
молили о милости, -- ведь бог мог явиться самолично только за тем, чтоб
карать отступников, не уплативших вовремя зякет (религиозную подать) главе
местных религиозных сил -- пиру.
Но нашлись два-три жителя, что решились вполглаза следить за
приближением ревущего "живого бога", -- он опустился на другом берегу. Он,
конечно, прежде всего решил покарать неверных... И, однако, все дальше
произошло не так, как ожидали и пир, и халифа, и их "пасомые": на том
берегу, на советском берегу, люди из Хорога вышли навстречу приземлившемуся
"богу" с красными флагами, с музыкою и пением, и был большой праздник на
берегу, и два самых смелых афганистанца переплыли Пяндж на турсуках и
попросили у русского командира разрешения потрогать этого... "бога"! Им
разрешили; летчик Баранов, стоя на фюзеляже, произносил речь.
В тот день я познакомился с летчиком Барановым, с летчиком Машковым и
бортмехаником Яницким; они были весело настроены и радовались, что их второй
рейс на Памир совершился так удачно.
А в тридцать втором году мне посчастливилось присутствовать здесь, в
Тыме, при событии, в ту пору для Памира исключительном. 23 августа 1932 года
на новом хорогском аэродроме был устроен аэропраздник. Он так и назывался:
не авио, как мы говорим сейчас, а аэропраздник. Накануне сюда прилетел
самолет из Сталинабада. И решено было собрать с утра в аэропорту население
Хорога и ближайших кишлаков, впервые устроить публичные полеты.
Многие сотни людей собрались с утра: дехкане из Хорога, из Поршнева, из
Сучана -- со всех сторон. Люди шли с семьями, -- никогда прежде вместе с
мужчинами не собиралось
столько женщин! В белых покрывалах, скрывавших от мужских взоров нижнюю
часть лица, женщины шугнанки расположились большою отдельной группой. На
афганском берегу тоже собрались сотни любопытствующих людей. Работники
обкома и исполкома, сотрудники Таджикской комплексной экспедиции, летчики
выступали с речами. Красные флаги, плакаты расцветили замкнутую серыми
крутыми горами долину Пянджа. Многие шугнанцы пришли со своими старинными
струнными инструментами: дуторами, сэторами и рабобами, и мотивы старинного
"печалования" сливались с гулом опробываемого мотора самолета. Летчики
объявили, что первый рейс над Хорогом будет бесплатным и что лететь может
любой шугнанский дехканин -- кто хочет.
Никто из шугнанцев не решался подойти к самолету, страх перед неведомою
машиной был сильнее любопытства. У самолета стояли коммунисты и комсомольцы
из местного шугнанского руководства, с большой охотою готовые совершить
полет. Но гораздо важнее было, чтобы захотел лететь какойлибо дехканин --
землепашец или садовод.
Летчики долго ждать не могли. Мотор самолета "Р-5" работал, тихонько
крутился винт.
Из огромной толпы медленным шагом вышел белобородый старик, в белом
суконном халате, в сыромятных пехах и шерстяных узорных чулках -- джюрапах.
Лоскут ветхой материи заменял на его голове чалму. Он вышел и остановился,
обернувшись к своему народу, торжественный, гордый, заговорил. Он говорил о
том, что он старый человек, он, Одильбек из Сучана. Он прожил много лет, и
его жизнь уже мало стоит, и если он умрет -- ничего, пусть живут молодые!
"Советская власть -- наша власть, -- говорил Одильбек, -- сделала для
нас много. Советская власть каждый день показывает нам новое. Много нового,
хорошего мы узнали. Теперь советская власть просит: кто хочет слетать на
небеса и вернуться опять на землю? Кто хочет быть первым из моего народа?
Хорошо! Пусть я буду первым!"
И старик Одильбек торжественно провозгласил, что он готов полететь в
небеса и если останется там -- "ничего, разве я пожалею жизнь для советской
власти?" Если вернется, "тогда все наши люди станут летать, крылья вырастут
у моего народа!"
Речь старого Одильбека была очень торжественной, он отвечал за весь
свой народ, как в древности, богатыри -- палавоны, выходившие один на один
бороться с драконами и побеждать их. Он с готовностью подошел к летчикам,
наклонил голову, чтоб поверх чалмы его обрядили в летный шлем. Поверх халата
на него надели черное летное кожаное, на меху, пальто. На
руки -- меховые рукавицы, и затянули их ремешками. Одильбек стал
неузнаваем; только седая борода развевалась, когда его провели под струею
ветра от работающего винта. Он поднялся по лесенке сам.
За ним, так же одетый, поднялся второй смельчак, вызвавшийся лететь, --
молодой дехканин Назар-Худо.
Через минуту самолет был в воздухе. Через две минуты он исчез в
раструбе ущелья Гунта. Через пять минут -- пять минут поразительного
молчания толпы -- самолет стремительно пошел на посадку и сел, и вся долина
Пянджа огласилась торжествующими криками огромной толпы, которую едва
удалось сдержать, чтобы она не хлынула, не раздавила на радостях самолет.
Второй рейс самолета был платным. Летели: председатель облпрофбюро
Саин-Али Наврузшоев и директор педтехникума Джават-зали-зода. В третий рейс
отправились заведующий областным отделом народного образования Гуломшоев и
председатель народного суда.
Самолет еще был в воздухе, когда, неожиданно для всех, произошло нечто
необычайное: со стороны Хорога показалась колонна автомашин, первая колонна,
пришедшая в Хорог за все времена существования города. Правда, за год перед
тем одна из двух впервые вступивших на Памир автомашин побывала в Хороге, но
мало кто из дехкан окрестных кишлаков видел ее, -- она пришла и ушла, и
только разговоры о ней быстро растеклись по всему Горному Бадахшану. Теперь
дехкане, уже возбужденные полетами, уже воодушевленные смелым стариком
Одильбеком и дехканином Назар-Худо, воочию увидели восемь украшенных
флагами, медленно переваливающихся с камня на камень по еще не
приспособленной для автомобилей дороге полуторатонных грузовиков. Это были
пришедшие с Восточного Памира в полном составе автоколонна ТКЭ -- Таджикской
комплексной экспедиции -- и две машины Памирстроя. Все восемь машин пришли в
Хорог случайно именно в этот день!
Я помню восторг, охвативший всех, кто находился в тот день на берегу
Пянджа, -- всех до единого человека. Боюсь, что не разделяли этот восторг
только шоферы автомашин и начальник автоколонны Г. Н. Соколов, которых толпа
стащила с машин в ту минуту, когда, развернувшись и подровнявшись, они
остановились. Запыленных, усталых водителей обнимали, целовали, качали, мяли
столь эмоционально, что нам пришлось приложить немало усилий для их
освобождения.
Аэропраздник в Хороге не забудет никто из тех, кто на нем
присутствовал. С того дня местные жители, памирцы, стали пользоваться
воздушною трассой Хорог -- Сталинабад. С того
дня хорогцы стали пользоваться автомашинами для поездок в Мургаб и Ош.
В наши дни рядом с Тымом вырос новый, весь в зелени, кишлачок --
маленький поселок Хорогского авиапорта, с двухэтажным белым чистеньким
зданием вокзала в центре. Под тополями стоит трактор, которому зимой
приходится разгребать снег на аэродроме. Автомашины "Победа", два автобуса,
десятки грузовиков всегда снуют под деревьями авиапорта, здесь всегда
оживленно и весело.
В 1930 году здесь не было ничего. Медленно миновал я огромный пустырь,
что тянулся вдоль берега Пянджа, за мною ехали верхами, жуя на ходу
хорогские яблоки, мои спутники. За нами шел маленький караван.
У нас было время вглядываться в круто вздымающийся слева за Пянджем
склон горного хребта, по которому высоко над рекой разбегаются сады, дома и
клочковатые посевы афганского кишлака, что обступил древнюю крепость
Кала-ибар-Пяндж -- "Высокую крепость над Пянджем", былую феодальную столицу
Шугнана. Она и поныне осталась твердынею феодализма на той стороне.
Вот скала -- отвесная скала прямо над Пянджем, с которой поныне
сбрасывают казнимых, с которой сброшено за тысячелетия так много людей.
Здесь в давности правил всем Шугнаном, еще не разделенным на две половины,
шугнанский шах Юсуф-Али-Шо. Даже афганский географ
Бурхан-уд-Динхан-и-Кушкеки так говорит о нем:
"Его правление отличалось полным произволом, когда он, считая
имущество, жизнь, доброе имя и честь жителей Шугнана за свою собственность,
не стеснялся убивать людей, грабить их имущество, продавать жен, сыновей и
дочерей их и дарить в подарок знатным людям, причем никто не осмеливался
заявить ему, почему он производит такие бесчинства, беспричинно грабя
имущество своих подданных и забирая их жен и сестер... "
Между афганскими эмирами, их братьями и сыновьями в это самое время шла
борьба за власть, тайно разжигаемая британскими империалистами. Англичане в
своей агрессии стремились на север, стараясь надвинуться на загадочный,
стратегически важный Памир прежде, чем на нем укрепятся русские, хотя между
Россией и Англией еще в 1873 году был заключен договор о разграничении сфер
влияния: за Россией признавались все территории правого берега Пянджа
(верховьев Аму-Дарьи) и Англия обязывалась не делать никаких попыток
распространять свое влияние дальше левого берега. Неудачи, которые потерпела
Англия в войнах с Афганистаном,
боровшимся за свою независимость, не остановили империалистических
устремлений "островной державы", -- ее разведка начала действовать иными
методами, организуя в Афганистане внутренние раздоры, пытаясь после многих
казней и тайных убийств добиться трона для своих ставленников. При этом
некоторые правители страны умело провоцировались на вражеские действия,
имевшие целью ущемить интересы России.
Так, появление в Шугнане первого русского ученого-путешественника
(который был вообще первым европейцем, побывавшим в Шугнане) ботаника А. Е.
Регеля, хорошо принятого шугнанским шахом, было использовано как предлог для
последовавших кровавых событий: Юсуф-Али-Шо был свергнут и брошен в тюрьму
афганским эмиром, и афганские войска в 1883 году перешли Пяндж и
оккупировали Шугнан, Рушан, Вахан -- те области правобережья Пянджа, которые
принадлежали России не только по договору 1873 года, но и потому, что
входили в состав Кокандского ханства, присоединенного к России в 1876 году.
Нападение на эти области произошло при афганском эмире Абду-р-Рахмане.
Население Вахана, Шугнана, Рушана бежало от ужасов оккупации на
Восточный Памир и в самые недоступные, глухие ущелья Бартанга. Началась
борьба населения этих маленьких стран за свою независимость, но силы были
слишком неравны. Шугнанцы и рушанцы послали своих представителей в еще
неведомую им Россию с мольбой о помощи и заступничестве. В 1886 году один из
таких ходоков достиг Петербурга.
Вскоре в северном Афганистане вспыхнуло восстание против власти эмира
Абду-р-Рахмана. В это время Шугнану, Рушану, Вахану удалось было
восстановить свою независимость. Но восстание было жестоко подавлено, и на
маленькие народности Горного Бадахшана обрушились еще более страшные беды.
Русский путешественник капитан Б. Л. Громбчевский, пересекавший Памир в 1889
году, свидетельствует о диких расправах:
"Казни производились ежедневно. Деревни, заподозренные в сочувствии к
Сейид Акбар-ша (последнему шаху Шугнана. -- П. Л. ), выжигались, а поля
вытравлялись лошадьми. Все девушки и более красивые женщины в стране были
отобраны и частью отправлены к эмиру Абду-р-Рахману, частью же розданы
войскам в жены и наложницы. Из Шугнана набрано 600 человек мальчиков в
возрасте от 7 до 14 лет, детей более влиятельных родителей; мальчики были
отправлены в Кабул на воспитание. Население изнемогало под афганским
гнетом, а в перспективе ожидался голод и связанные с ним бедствия".
Б. Л. Громбчевский описывает паническое бегство населения от афганцев:
"Спустившись в долину Мургаба, мы в продолжение трех дней по дороге
встречали сплошные толпы шугнанцев, направлявшихся в пределы России...
Беглецы шли быстро, бросая по дороге уставший скот и имущество, стараясь
уйти, по возможности дальше от афганцев... Бедствие этих несчастных не
поддается описанию. Все в рубищах, с котомками за плечами, несли на себе,
кроме домашнего скарба, грудных и маленьких детей. Тут же гнался домашний
скот, половина которого подохла или же разграблена была памирскими
киргизами. Дорога буквально устлана была трупами животных, которые,
разлагаясь на солнце, заражали воздух невыносимым зловонием. За каждым
табором тянулась вереница больных и отсталых, преимущественно стариков и
женщин с детьми. Столь ужасную картину народного бедствия воображение
европейцев вряд ли может себе представить... "
Рассказывая о жесточайших зверствах афганцев, Б. Л. Громбчевский
описывает, как в верховьях реки Гунт "женщины изнасилованы были на глазах
отцов и мужей, дети бросались в пылающие костры, а затем вся партия
подвергалась поголовному избиению".
Совершенно естественно, что когда вступивший на Памир русский военный
отряд полковника Ионова в 1891 и 1892 годах изгнал оккупантов за пределы
Пянджа, все местное население встречало русских как своих освободителей,
оказывало им всяческое содействие, умоляло не уходить от берегов Пянджа.
В 1895 году действовавшая на Памире русско-английская разграничительная
комиссия окончательно установила, что государственная граница России
проходит по реке Пяндж.
Войны, казни, рабство на правобережье Пянджа кончились. Исторические
пути афганского и русского Шугнана, Вахана, Рушана с тех пор разошлись.
Через четверть века на правом берегу Пянджа полную свободу и независимость
народам принесла Великая Октябрьская революция, на левом же берегу все
осталось, как прежде, как сто и как тысячу лет назад: высится дряхлая
феодальная крепость над Пянджем, в ней живут афганские нукеры.
На правом берегу тоже была небольшая старинная крепость. Теперь нет
даже ее руин. Из тех камней, какими были сложены стены крепости, построены
здания семилетней школы колхоза имени Карла Маркса, а рядом со школою --
колхозный магазин. Фундаменты крепости превратились в ограду плодового сада.
Чуть ниже их из-под камня выбивается ключ чистейшей горной воды. Камни
вокруг испещрены религиозными изречениями; это место когда-то считалось
священным, здесь в кишлаке Поршнев уже при советской власти жил последний из
оставшихся в советском Бадахшане ишанов, печальноизвестный всему местному
населению поршневский ишан. Здесь был его дворец с искусной резьбою по
дереву на столбах, подпиравших террасу, на щитах, укрывавших ее от ветра и
солнца. Сохранился лишь сад, тот, что был когда-то единственным в кишлаке --
он устроен рабским трудом "пасомых", в нем был даже виноград, неведомый в ту
пору в других местах Шугнана.
В 1920 году, когда у поршневского ишана гостили чиновники эмира Бухары,
захватившие на короткое время власть в Бадахшане, на деревьях сада были
повешены четыре комсомольца шугнанца. Это были первые комсомольцы Памира из
первой на Памире поршневской ячейки комсомола.
Здесь, в Поршневе, была создана первая на Памире школа, -- кишлак
Поршнев был в ту пору больше Хорога: Поршнев состоял из двухсот хозяйств,
когда в Хороге насчитывалось всего лишь девяносто.
Здесь, между Хорогом и Поршневом, развевались на длинных шестах
тряпочки, лоскутья халатов и чалм паломников, приходивших к мазару имама
Зайин-аль-Обедина, и здесь же в наши дни виднеется каменная трибуна, которая
стала центром советских праздников в дни 1 Мая и 7 ноября: сотни колхозников
и хорогских горожан веселятся на берегу Пянджа, устраивая спортивные
состязания, традиционную памирскую игру "гуйбози" (конное поло),
мотоциклетные и велосипедные гонки, скачки на бадахшанских конях. И сотни
других людей -- по ту сторону Пянджа -- собираются на крышах домов, на
скалах смотреть на советский праздник, размышлять обо всем том, что доступно
счастливым людям, установившим у себя советскую власть.
Полный день -- от утра до вечера -- требовался мне в тридцатых годах,
чтобы проехать от Хорога, через Тым и Поршнев, мимо афганского
Кала-и-бар-Пянджа, до кишлака Сохчарв, где становился на ночь лагерем мой
караван.
В 1952 году на колхозном грузовике я проделал этот же путь за час
пятнадцать минут. Я ехал сплошными садами и пашнями, пересекая сотни
оросительных канавок, избороздивших все склоны правобережья Пянджа. И та
молодежь, которая встречала меня в колхозах, уже с трудом представляла себе,
что такое ишаны, и ша, и халифа. Только вглядываясь в селения за рекой,
видя, как человек становится на четвереньки, чтобы подставить свою спину,
как ступеньку для ноги садящегося на лошадь важного господина, слыша, как
плачут женщины, избиваемые плетьми, советская молодежь понимала, что такое
тот старый мир, в каком жили деды колхозных школьников, в каком родились и с
каким боролись отцы.
Кишлак Сохчарв, -- над ним высятся отвесные гранитные стены --
высочайшие стены ущелья, и за ним Пяндж впервые после Хорога сжимается
каменными теснинами, и шумит, и ревет, ворочаясь с перепада на перепад, --
кишлак Сохчарв принял меня в один из своих плодовых садов, и усталый путник
у чистейшего ручья под абрикосовым деревом мог задуматься о величии того
мира, в котором ему выпало счастье жить. А на самой высокой вершине, что
ощерилась скалистым зубцом в небеса, я разглядел указанное мне алое
пятнышко: это был бившийся в порывах ветра большой красный флаг, -- его
утвердила там молодежь, назвав эту вершину над Сохчарвом пиком имени
Комсомола.
В Рушане
От Сохчарва до старинной столицы Рушана -- Кала-иВамара -- один дневной
переход каравана или, как ездят теперь, часа полтора пути в автомашине.
На середине этого пути, вправо от прежней летовки (а теперь -- кишлака)
Пас-Хуф, прорезью в высоких скалистых горах поднимается крутое ущелье. Там,
вверху, -- изолированная от всего мира узкая долина Хуф. Ее жителям посвятил
свои многолетние исследования известный этнограф М. С. Андреев. Когда в 1907
году, возвращаясь верхом из Индии в Туркестан, он посетил это селение
впервые, то оказалось, что он первый русский человек, проникший в эту
замкнутую, неведомую внешнему миру долину.
"До этого времени, -- сообщает М. С. Андреев, -- как это ни странно, но
и самое существование ее не было известно даже начальнику русского
памирского отряда, штаб-квартира которого находилась в Хороге -- километрах
в 50 от Хуфа, вверх по Пянджу... "
Вновь посетив эту долину в 1929 и 1943 годах, М. С. Андреев получил
возможность не только написать свой замечательный труд о патриархальных
отношениях, о необыкновенных обычаях, верованиях и других особенностях
местного хуфского населения, но и сделать заключение об удивительных
переменах, внесенных в жизнь хуфцев советским колхозным строем.
Даже и в наши дни почти никто из пассажиров бесчисленных автомашин,
пробегающих из Хорога в Рушан по Пянджу, не заглядывает в эту долину:
тропинка, вьющаяся от Пянджа, крута. Кому придет в голову подниматься по
ней, если у него нет прямого отношения к делам хуфского колхоза
"Аскар-и-сурх"?..
Перед устьем Бартанга долина Пянджа широко распахивается. Береговые
склоны высоких гор отступают один от другого километра на два, на три. Воды
Бартанга растекаются десятками рукавов, -- только здесь и можно
переправиться через эту многоводную реку вброд.
И в прошлом веке и в нынешнем -- до середины тридцатых годов -- здесь
всегда содержались три-четыре пары верблюдов, на которых и совершалась
переправа через Бартанг. Так, чтоб не подмочить вьюков, в этом месте не раз
перекладывал их с лошадей на верблюдов и я. Впрочем, сами мы, всадники,
сотрудники экспедиции, привыкшие на Памире ко всяческим рискованным речным
переправам, не оставляли здесь седел своих лошадей. И хотя вода здесь
касалась не только стремян, но и крыльев седел, переправлялись верхами.
"Воды разных рукавов реки, -- записал я однажды в дневнике, -- сливаясь
и прыгая волнами на мелях, образуют много сталкивающихся течений, иногда
почти встречных одно другому. Все они отражают краснеющий блеск заходящего
солнца, оно низко над поверхностью воды, вода горит серебром и золотом,
мчится так стремительно, что кружится голова. Сверкающая, слепящая глаза
вода обдает нас пеной, бурлит и стучит камнями, обгоняя нас, затевается мне
за голенища. Моя лошадь держится отлично. Переезжая верхом такую воду, надо
в седле отклоняться в сторону течения, чтоб возместить угол наклона
наваливающейся на течение лошади. И приходится преодолевать инстинкт,
заставляющий наклоняться как раз в другую сторону: туда же, куда и лошадь.
Инстинкт обманывает и может привести к падению лошади вместе с всадником, а
это в памирских реках нередко кончается гибелью обоих... "
Опытом мы уже обладали немалым, и потому все переправы верхом на
лошадях для нас обычно оканчивались благополучно.
В пятьдесят втором году никаких верблюдов здесь я уже не увидел, а
легко и просто, не выходя из кабины грузовой автомашины, переправился на
надежном пароме, там, против кишлака Шуджан, где единый поток Бартанга еще
не разбежался на рукава.
С нетерпением приближался я к старинной крепости Кала-иВамар, памятной
мне с тех лет, когда в ней еще жил прежний
правитель Рушана, старый хан Абдул-Гияз. Он сдавал в аренду
красноармейскому посту и помещение крепости и хороший плодовый сад, а взамен
ему и трем его молодым женам постом были выстроены два маленьких домика в
саду, у самой стены над Пянджем (теперь этих домиков не существует).
В тридцатом году, остановившись в Кала-и-Вамаре на гостеприимном
красноармейском посту, я побывал в гостях и у хана. В моем путевом дневнике
от 23 августа того года записано:
"... После обеда в крепости, иду через сад к хану АбдулГиязу. В саду
меня встречают красивые девушки, объясняют: дальше нельзя, там -- марджи,
жены хана. Зовут его. Он выходит, высокий, дипломатически приветливый старик
в туфлях на босу ногу, в серых штанах, в жилете афганского покроя поверх
серой рубашки, подпоясанной красным платком. Садимся под яблоней, служанка
выносит сушеные абрикосы на деревянном блюде, затем -- чай ("без сахара!" --
извиняется хан). Хоть и с трудом, но объясняется он по-русски.
На воткнутой ханом в землю толстой палке, охватив когтями ее
шарообразный, украшенный мелкой бирюзой набалдашник, сидит, прислушиваясь к
нашей беседе, старый ручной сокол, с которым хан некогда охотился...
Абдул-Гияз (мне известно о нем, что он тайком занимается контрабандной
продажей опиума) рассказывает мне о себе. Чванливо перечисляет все ветви
своей родословной, хвалится своим прапрадедом -- "большим ханом, владевшим
Шугнаном и Рушаном" и "взявшим однажды Кашгар". Рассказывает о своем детстве
в Кабуле, куда его отец был доставлен закованным в кандалы по приказанию
эмира Абду-р-Рахмана; о медресе, где учился вместе с Амануллой-ханом; о
бегстве в Россию в период первой мировой войны...
Затем Абдул-Гияз показывает мне тщательно завернутый в белый платок
обрывок черной парчи, привезенный из Каабы его отцом, -- на лоснящейся парче
вижу матовые части крупных арабских букв. Потом хан читает свои стихи,
демонстрирует свое искусство в игре на примитивной трехструнке и, наконец,
приносит серьги с алмазами, купленные по его словам за большие деньги, и
просит сказать, хороши ли эти заделанные в золото алмазы?... Передо мною
грубая подделка, не алмазы, а горный хрусталь, и старик весьма огорчается,
когда я ему говорю об этом... "
АбдулТияз-хан умер через год после моей встречи с ним, объевшись
опиума. Старое реакционное духовенство называло и его могилу "вамар",
то-есть "свет", стараясь превратить ее в доходное место поклонения. Народ
Рушана, однако, на том
32 П. Лукницкий
месте, где была могила хана, поставил другой источник света: в 1952
году я увидел здесь, в устье реки Одуди, маленькую, достраивающуюся
колхозную гидроэлектростанцию. Слово "вамар" -- "свет" теперь относилось к
ней.
Сторож и завхоз станции Азизмамадов Палла узнал меня и напомнил, что в
1932 году именно он был одним из носильщиков, шедших со мною на ледопад
Кашал-аяк. А теперь он почтенный отец семейства. Его старший сын служит в
Советской Армии, его второй сын -- Меджнун Палаев -- учится в десятом классе
средней школы в кишлаке Барушан и скоро станет студентом. Его дочь учится во
втором классе, а двое последних детей еще не доросли до школьного возраста.
Азизмамадов Палла и сам теперь грамотный человек, зрелым мужчиной
окончив семь классов школы, живет он неплохо, и есть у него медаль "За
доблестный труд в Отечественной войне", и его имя упоминалось в рушанской
районной газете, потому что он недурно работал на строительстве Дирзудского
оросительного канала и еще потому, что до пятьдесят второго года был
заведующим колхозной фермой и считался передовиком.
Я разговаривал с этим старым своим знакомым (которого не сразу узнал),
размышляя о разных судьбах людей, о том, какими были рушанцы во времена
Абдул-Гияз-хана и какими стали теперь. И я, наконец, вглядываясь в черты
лица моего собеседника -- плотного, коренастого человека, хорошо узнал моего
спутника по подъему на легендарный Кашал-аяк: Азизмамадов Палла был тем
самым Азизом, который пришел за мною вместе с альпинистом Коровиным, чтоб
проводить меня на ледник Федченко. Каким робким, неграмотным, неведающим был
этот человек тогда! Но он тогда проявил большое мужество, решившись
устремиться в страшные для темных в те годы рушанцев, неведомые им Высокие
Льды!
В новом свете видел теперь я весь ставший районным центром Рушан,
прежний кишлак Кала-и-Вамар. Я прожил в нем несколько дней, знакомясь с
рушанскими колхозами, одними из самых богатых и благоустроенных на Памире,
хотя в Рушане и до сих пор нет МТС (а она могла бы быть, могла бы своими
тракторами поднять немало целинных земель в широкой здесь пянджской
долине!). Моя полевая тетрадь полна записей о новых, высокоурожайных сортах
абрикосов, таких, как "раматуллоэ" и "гуро-и-балх", в садах рушанского
колхоза "Социализм"; о виноградарстве, картофелеводстве и шелководстве; о
шестистах деревьях "чормакса" ("четыре мозга") -- грецкого ореха, и
пятнистых яблонях, и почти трех тысячах тутовых деревьев, прекрасных сортов:
"бедона", и "усляй", и "хит-хогдуд", и "музафари", и "чаудуд", и
"халангдуд", и "нирдуд", и черноягодных "шаартут", и "тыыр-дуд"...
Груши, вишни, черешни, яблони, персики -- сотни и тысячи саженцев
каждый год высаживаются колхозниками и школьниками Рушана.
Газета "Советский Рушан" часто критикует районные организации, работу
правлений колхозов, райшелка, автотранспортников, взрывпрома, медработников,
директоров школ. С возмущением пишут сельские корреспонденты газеты, что в
1954 году в Рушане сменилось четыре директора промкомбината; что сельэлектро
не выполняет своих договоров с колхозами; что невкусно готовят обеды в
столовых; плох ассортимент товаров в магазинах кишлаков Вознаута и
Дарджомча. Да! Коммунисты и комсомольцы борются с множеством недостатков и
неполадок, наблюдаемых ими.
Но кто теперь вспоминает о той борьбе, что велась здесь двадцатилетие
назад? Такие слова, как "опиум", "оспа", "холера", "басмач", уже забыты в
Рушане. Даже слова "ликбез", "бедняк" уже никому не нужны.
В богатом колхозном Рушанском районе -- лучшие на Памире средние
школы-десятилетки, такие, как в кишлаках Барушан и Дирзуд, расположенных в
широко раскинувшейся долине Пянджа.
Я посетил барушанскую среднюю школу имени Ленина. В ней тридцать
учителей, из них четыре с высшим образованием и восемь с незаконченным
высшим. Из шестисот выпускников этой школы многие десятки получили высшее
образование в Сталинабаде, Ташкенте, Ленинграде, Москве. Музыканты,
оканчивающие Московскую консерваторию; офицеры в званиях майоров и
подполковников; артисты и артистки, известные всей стране; художники,
режиссеры, врачи, инженеры и агрономы -- вот те уроженцы Рушана, что, став
советскими интеллигентами, работают и учатся во всех районах Таджикистана, в
разных городах всей Советской страны. Больше ста человек, окончивших высшие
или специальные средние учебные заведения, вернулись в Рушан и теперь
работают здесь.
Рушан справедливо считается кузницей кадров памирской интеллигенции.
Людей, получивших среднее и высшее образование в нем, пожалуй, больше, чем
даже в Хороге.
А я хорошо помню, когда медленно-медленно, от кишлака к кишлаку, в
которых не найти было азбучно грамотных людей, двигался караван экспедиции,
а навстречу ему шел полтора месяца из Сталинабада в Кала-и-Вамар караван с
почтой, с газетами, устаревшими на полгода. И измученные лошади экспедиции,
израненные почтовые ослики срывались в Пяндж на обрушивающихся оврингах.
У меня есть рассыпающаяся рукописная книга -- "Тавизкитоб".. Ее
страницы желты, -- бумага сделана из тутового корня. Этой книге
приблизительно четыреста лет. Она написана неизвестно кем. Я купил ее в 1932
году у брата ишана ЮсуфАли-Шо -- дряхлого духовного грамотея
Шо-зода-Магомата. Он сказал, что это "Книга Тимуров". Вот единственный вид
литературы, какую тогда можно было встретить в Бадахшане.
Теперь в рушаиских библиотеках я видел многие тысячи книг. В кишлачных
чайханах-читальнях памирцы на родном и на русском языке читают Пушкина и
Горького, Ленина и Сталина, романы своего классика Айни, "Индийские баллады"
Мирзо Турсун-заде и поэмы о Пяндже своего Миршакара.
На тридцать пять километров тянется по почти недоступным скалистым
обрывам, высоко-высоко над долиной Пянджа, великолепный Дирзудский канал,
построенный в 1938--1939 годах. Этот канал, обеспечивший водой половину
Рушанского района, -- подлинное чудо строительного искусства горцев,
свидетельство их необыкновенной трудовой доблести. Из кишлаков долины,
всматриваясь простым глазом в нависшие на чудовищной высоте скалы, этот
канал разглядеть можно только едва-едва. Все население Рушана строило этот
канал, так же как все население Рушана строило в 1940 году автомобильную
дорогу -- Западно-Памирский тракт имени Сталина -- в таких же отвесных
скалах. Это был не только добровольный труд, необходимость которого
сознавалась каждым рушанцем. Это был труд, в котором впервые весь рушанский
народ зажегся одним порывом, ощутил вдохновение строителей своей судьбы,
своего счастья. Каждый знал, что вода и дорога дадут рушанцам все, о чем они
прежде едва смели мечтать.
Построив Дирзудский канал и Памирский тракт, построив колхозы и школы,
советские рушанцы узнали большее: они узнали, что на этой стороне Пянджа
есть радость в сегодняшнем дне, уверенность в завтрашнем, а значит, есть
счастье, которого у другой половины рушанского народа, -- у рушанцев,
живущих на т о й стороне реки, -- нет!
"... Светлые сердца у рушанцев, прозрачные, как стекло. Всю печаль с
сердца странника снимают!"
Так в XI веке сказал, пройдя через Бадахшан, предтеча современных
таджикских поэтов Шо-Насыр-и-Хосроу.
Как странник, несколько раз прошедший через Рушан, я подтверждаю
справедливость слов большого поэта древности!
В теснинах Пянджа
Просторен Рушанский район, но только для тех, кто привык к теснинам.
Разве это простор, если между двумя горными склонами всего каких-нибудь пять
километров? На дно глубокой продолговатой чаши похожа в Рушане долина
Пянджа... Впрочем, разве только похожа?
"... Долина р. Пяндж, между к. Хыць (правильно: Хидз. -- П. Л. ) и
Кала-и-Вомар, бывшее обвальное озеро, чрезвычайно живописна и красива... "
Эти слова написал в своем отчете геолог Д. В. Наливкин, впервые в 1915
году совершив путешествие на Памир.
Итак, Рушан -- дно бывшего озера. Оно существовало тогда, когда Пяндж
еще не мог пропилить грандиозный Язгулемокий хребет, когда, подпруженный им,
метался, ища себе выхода, и сворачивал вдоль хребта на запад, на югозапад.
Барзуд, Дирзуд, Барушан, Дерушан -- вот и все кишлаки советского
Рушана, расположенные в спокойной долине, там, где могучая река, разлившись
на множество рукавов, образовав травянистые острова, словно отдыхает перед
новой схваткой с громадами скал. Уже у Ваамта, готовясь к бою с этими
громадами, Пяндж собирает свои рукава в одно русло, словно полководец,
собирающий под одно знамя полки. Вокруг нависают утесы. Кишлак расположен
среди низвергнутых скал. Легенда гласит: на проходившего здесь
Шо-Насыр-и-Хосроу кишлак произвел такое удручающее впечатление, что он
назвал его "вамд" ("сумасшедший") и добавил: "бебин бегузор", то-есть:
"увидев -- проходи".
Ниже Ваамта Пяндж вдруг под прямым углом поворачивается на
северо-запад. Долина стремительно сужается, и в конце ее, размещаясь уже на
исполинских глыбах древнего обвала, лепится красивейший кишлак Хидз. Слово
"хидз" означает "ключ". Этим кишлаком Рушан заперт как на замок. Вдоль
Пянджа к нему не подступишься. За Хидзом -- теснина, узкая, грозная,
грандиозная. И не зря Хидз с времен глубочайшей древности был крепостью, --
руины Кала-и-Чуби и доныне громоздятся на отвесных скалах Над кишлаком.
Словно свитый в жгут и переломленный, Пяндж, весь в пене, грохочет,
низвергаясь между стенами теснины, и слух наполнен стоном могучей,
искромсанной острыми скалами царицы рек. До самого Вознаута продолжается
хаос скал, нагроможденных древним обвалом. Последний рушанский кишлак
Вознаут зажат, как в рачьей клешне, в скалистых слюдяных сланцах с серым
гранитом и в гнейсовых толщах. Ниже по Пянджу, до устья Язгу-Овринги на
Пянджской тропе в пределах Западного Памира.
ГЛАВА XVI
В Шугнане
В этой главе я расскажу о пути от Хорога до районного центра (а в
прошлом -- феодальной столицы Дарваза) Калаи-Хумба; о тропинке вдоль Пянджа,
по которой трижды довелось мне проехать верхом с караванными, вьючными
лошадьми; тропинка теперь превратилась в Большой Памирский тракт имени
Сталина, -- я проехал и по этому тракту, но уже в автомобиле.
Река Пяндж здесь совершает большую дугу, направляясь сначала на север,
потом от устья Ванча, на северо-запад, а дальше, от реки Висхарви -- на
запад, чтобы за Кала-и-Хумбом отклониться к югу, забирая все круче и круче,
пока не расступятся теснины сжимающих ее гор.
На этом пути река Пяндж пропиливает высочайшие, островерхие горные
хребты, то растекаясь перед ними по ложу спокойной долины, что когда-то была
дном подпертого гранитною перемычкою озера, то бунтуя в узких ущельях, в
которые вода прорывается с удесятеренною силой сжатая, швыряемая с перепада
на перепад, превращенная в пену и водяную пыль.
Реке Пяндж людьми "вменено в обязанность" быть границей двух
государств. На правом берегу Пянджа люди строят коммунизм, на левом -- в
древних крепостях сегодня живут феодалы, покорные богу и своему эмиру.
Пяндж подобен экрану уэллсовской "машины времени": людям, смотрящим с
правого берега на левый, видно все то, что происходило у них самих сто и
тысячу лет назад. Людям, которые смотрят с левого берега на правый, видно
все, что когда-нибудь их потомкам, детям ли, внукам ли, принесет грядущее.
Через реку Пяндж нет ни одного моста, и на левом берегу от Хорога до
Кала-и-Хумба нет ни одной электрической лампочки, ни одной автомашины.
Река Пяндж -- древняя авестийская Ардвисура, древний Оке, о которой уже
Птолемею было известно, что она одна из величайших рек Азии и впадает в
Каспийское море; река Пяндж -- верховья Аму-Дарьи; она вырезала себе ложе в
таких диких, таких недоступных горах, что люди еще совсем недавно не везде
могли пробираться вдоль ее берегов, потому что эти ее берега встают
высочайшими отвесными, скалистыми стенами.
Такова река и выше Хорога, там, где она проходит Горан и Ишкашим,
сбегая с высот Вахана; такова она и ниже Хорога, на том пути, где она
пересекает Шугнан, Рушан, Язгулем и Ванч, уходя с Памира, из Горного
Бадахшана, вступая в пределы Дарваза, сжимающего ее столь же узкими
теснинами.
Однажды, в 1932 году, мне пришлось спуститься и ниже Кала-и-Хумба вдоль
Пянджа. Там перед кишлаками Сангоу, Дурвак, Паткан-об и Иогид тропинка на
выступах отвесных скал оказалась такой же узкой, неверною и опасной, как в
самых труднодоступных ущельях Памира, и усталому от многомесячных странствий
по кручам путешественнику казалось, что век ему не выбраться из душных
ущелий к равнинам, где и небу просторно над головой, где и взор есть куда
устремить вдаль...
Большой западный путь с Памира доходит по Пянджу только до
Кала-и-Хумба. Оттуда, покинув Пяндж, он резко поворачивает на север, круто
поднимаясь на перевал Хобурабат -- последнее препятствие, грозящее не
пропустить к Сталинабаду человека с Памира. В зимние месяцы это препятствие
и поныне может одолеть только очень смелый пешеход, не боящийся глубоких
снегов, лавин, воющих буранов. Всякое иное сообщение Кала-и-Хумба с внешним
миром в зимние месяцы прекращается...
Но летом и осенью в колхозных кишлаках в тех местах благодать, и о них
я тоже расскажу в этой главе.
Тридцатые годы!..
Кончены дни в Хороге -- дни отдыха и общения с живущими обычной жизнью
людьми. В эти дни мы не седлали и не вьючили лошадей, не ставили палаток, не
разжигали костров,
не намечали по утрам маршрут на неверной карте. Вся амуниция висела на
гвоздиках на стене, мы (единственный период за все путешествие по Памиру!)
разгуливали в белых парусиновых брюках и без полевых сумок; обедали за
столом в столовой, ходили по вечерам з гости; иногда смотрели кинокартины.
Но такой отдых скоро подходил к концу. Это было переломное время: до него,
где бы мы ни блуждали по Памиру, считалось, что мы идем вперед. После Хорога
мы знали: мы возвращаемся с Памира, наш путь -- на Сталинабад, и, значит,
все ближе к дому!..
Наступало, наконец, то утро, когда ставший родным запах конского пота
снова бил в нос, когда мы в истрепанных брезентовых сапогах, обвешанные с
плеча на плечо амуницией, вновь топтались вокруг завьючиваемых,
заседлываемых, кряхтящих, нетерпеливых и -- с отвычки -- капризничающих
лошадей.
Вокруг нас, уже ничем не похожих на горожан походных людей, толпились
обретенные в Хороге друзья, их жены, их дети, насовавшие нам в полевые сумки
толстые пачки писем... Нас провожали с грустью, и мы расставались с
хорогцами с той же грустью, -- пожить бы еще в Хороге!
Но... в путь!
Резким движением я переносил правую ногу через круп коня, садился в
седло, пробовал стремена, и мой застоявшийся конь выносился вперед.
Счастливый путь!..
Осторожней на оврингах!..
Ни пуха ни пера до самого Дюшамбе!
В тридцатом году старое название таджикской столицы еще не исчезло из
обращения. В тридцать первом году никто в Хороге, кроме дряхлых стариков
дехкан, уже не говорил Дюшамбе.
Караван вытягивался по длинной хорогской улице, знакомый звон подков по
камням мелодично отдавался в ушах, еще долго-долго за уходящей из Хорога
экспедицией бежали мальчишки, -- кто из них тянул двумя ручонками к седлу
спелую дыню, кто, суя мятую абрикосину, выпрашивал карандаш; щебет, гомон
шугнанских мальчишек оставался последним впечатлением от Хорога, город
отсекался надвинувшимся с правой стороны скалистым мысом, хаосом битых,
острых, нагроможденных под мысом скал; тропинка, вырубленная в каменном
массиве, извивалась у самой гунтской воды, Гунт отступал, начиналась широкая
песчаная и мелкокаменистая отмель устья. Слева уже широко и свободно лился
спокойный
мутновато-серый Пяндж, за ним высоким горным склоном надвигался
афганский берег, мы проезжали через маленький кишлачок Тым.
Теперь в этом кишлачке новый плодовый сад колхоза имени Сталина; тогда
сада не было, росли только высокие тополи, но уже и тогда слева от Тыма
плоский берег реки назывался аэродромом: именно сюда дважды в истории Памира
опускался самолет летчика Баранова, первый раз в 1929 году, второй раз 18
августа 1930 года.
Есть у меня рассказ о том, как жители афганских кишлаков Шив и Крондиз,
расположенных над берегом Пянджа, приняли первый советский самолет,
показавшийся в небесах, за "живого бога" своей исмаилитской религии, и была
паника в кишлаках, по призыву местного халифа все попадали лицом вниз и
молили о милости, -- ведь бог мог явиться самолично только за тем, чтоб
карать отступников, не уплативших вовремя зякет (религиозную подать) главе
местных религиозных сил -- пиру.
Но нашлись два-три жителя, что решились вполглаза следить за
приближением ревущего "живого бога", -- он опустился на другом берегу. Он,
конечно, прежде всего решил покарать неверных... И, однако, все дальше
произошло не так, как ожидали и пир, и халифа, и их "пасомые": на том
берегу, на советском берегу, люди из Хорога вышли навстречу приземлившемуся
"богу" с красными флагами, с музыкою и пением, и был большой праздник на
берегу, и два самых смелых афганистанца переплыли Пяндж на турсуках и
попросили у русского командира разрешения потрогать этого... "бога"! Им
разрешили; летчик Баранов, стоя на фюзеляже, произносил речь.
В тот день я познакомился с летчиком Барановым, с летчиком Машковым и
бортмехаником Яницким; они были весело настроены и радовались, что их второй
рейс на Памир совершился так удачно.
А в тридцать втором году мне посчастливилось присутствовать здесь, в
Тыме, при событии, в ту пору для Памира исключительном. 23 августа 1932 года
на новом хорогском аэродроме был устроен аэропраздник. Он так и назывался:
не авио, как мы говорим сейчас, а аэропраздник. Накануне сюда прилетел
самолет из Сталинабада. И решено было собрать с утра в аэропорту население
Хорога и ближайших кишлаков, впервые устроить публичные полеты.
Многие сотни людей собрались с утра: дехкане из Хорога, из Поршнева, из
Сучана -- со всех сторон. Люди шли с семьями, -- никогда прежде вместе с
мужчинами не собиралось
столько женщин! В белых покрывалах, скрывавших от мужских взоров нижнюю
часть лица, женщины шугнанки расположились большою отдельной группой. На
афганском берегу тоже собрались сотни любопытствующих людей. Работники
обкома и исполкома, сотрудники Таджикской комплексной экспедиции, летчики
выступали с речами. Красные флаги, плакаты расцветили замкнутую серыми
крутыми горами долину Пянджа. Многие шугнанцы пришли со своими старинными
струнными инструментами: дуторами, сэторами и рабобами, и мотивы старинного
"печалования" сливались с гулом опробываемого мотора самолета. Летчики
объявили, что первый рейс над Хорогом будет бесплатным и что лететь может
любой шугнанский дехканин -- кто хочет.
Никто из шугнанцев не решался подойти к самолету, страх перед неведомою
машиной был сильнее любопытства. У самолета стояли коммунисты и комсомольцы
из местного шугнанского руководства, с большой охотою готовые совершить
полет. Но гораздо важнее было, чтобы захотел лететь какойлибо дехканин --
землепашец или садовод.
Летчики долго ждать не могли. Мотор самолета "Р-5" работал, тихонько
крутился винт.
Из огромной толпы медленным шагом вышел белобородый старик, в белом
суконном халате, в сыромятных пехах и шерстяных узорных чулках -- джюрапах.
Лоскут ветхой материи заменял на его голове чалму. Он вышел и остановился,
обернувшись к своему народу, торжественный, гордый, заговорил. Он говорил о
том, что он старый человек, он, Одильбек из Сучана. Он прожил много лет, и
его жизнь уже мало стоит, и если он умрет -- ничего, пусть живут молодые!
"Советская власть -- наша власть, -- говорил Одильбек, -- сделала для
нас много. Советская власть каждый день показывает нам новое. Много нового,
хорошего мы узнали. Теперь советская власть просит: кто хочет слетать на
небеса и вернуться опять на землю? Кто хочет быть первым из моего народа?
Хорошо! Пусть я буду первым!"
И старик Одильбек торжественно провозгласил, что он готов полететь в
небеса и если останется там -- "ничего, разве я пожалею жизнь для советской
власти?" Если вернется, "тогда все наши люди станут летать, крылья вырастут
у моего народа!"
Речь старого Одильбека была очень торжественной, он отвечал за весь
свой народ, как в древности, богатыри -- палавоны, выходившие один на один
бороться с драконами и побеждать их. Он с готовностью подошел к летчикам,
наклонил голову, чтоб поверх чалмы его обрядили в летный шлем. Поверх халата
на него надели черное летное кожаное, на меху, пальто. На
руки -- меховые рукавицы, и затянули их ремешками. Одильбек стал
неузнаваем; только седая борода развевалась, когда его провели под струею
ветра от работающего винта. Он поднялся по лесенке сам.
За ним, так же одетый, поднялся второй смельчак, вызвавшийся лететь, --
молодой дехканин Назар-Худо.
Через минуту самолет был в воздухе. Через две минуты он исчез в
раструбе ущелья Гунта. Через пять минут -- пять минут поразительного
молчания толпы -- самолет стремительно пошел на посадку и сел, и вся долина
Пянджа огласилась торжествующими криками огромной толпы, которую едва
удалось сдержать, чтобы она не хлынула, не раздавила на радостях самолет.
Второй рейс самолета был платным. Летели: председатель облпрофбюро
Саин-Али Наврузшоев и директор педтехникума Джават-зали-зода. В третий рейс
отправились заведующий областным отделом народного образования Гуломшоев и
председатель народного суда.
Самолет еще был в воздухе, когда, неожиданно для всех, произошло нечто
необычайное: со стороны Хорога показалась колонна автомашин, первая колонна,
пришедшая в Хорог за все времена существования города. Правда, за год перед
тем одна из двух впервые вступивших на Памир автомашин побывала в Хороге, но
мало кто из дехкан окрестных кишлаков видел ее, -- она пришла и ушла, и
только разговоры о ней быстро растеклись по всему Горному Бадахшану. Теперь
дехкане, уже возбужденные полетами, уже воодушевленные смелым стариком
Одильбеком и дехканином Назар-Худо, воочию увидели восемь украшенных
флагами, медленно переваливающихся с камня на камень по еще не
приспособленной для автомобилей дороге полуторатонных грузовиков. Это были
пришедшие с Восточного Памира в полном составе автоколонна ТКЭ -- Таджикской
комплексной экспедиции -- и две машины Памирстроя. Все восемь машин пришли в
Хорог случайно именно в этот день!
Я помню восторг, охвативший всех, кто находился в тот день на берегу
Пянджа, -- всех до единого человека. Боюсь, что не разделяли этот восторг
только шоферы автомашин и начальник автоколонны Г. Н. Соколов, которых толпа
стащила с машин в ту минуту, когда, развернувшись и подровнявшись, они
остановились. Запыленных, усталых водителей обнимали, целовали, качали, мяли
столь эмоционально, что нам пришлось приложить немало усилий для их
освобождения.
Аэропраздник в Хороге не забудет никто из тех, кто на нем
присутствовал. С того дня местные жители, памирцы, стали пользоваться
воздушною трассой Хорог -- Сталинабад. С того
дня хорогцы стали пользоваться автомашинами для поездок в Мургаб и Ош.
В наши дни рядом с Тымом вырос новый, весь в зелени, кишлачок --
маленький поселок Хорогского авиапорта, с двухэтажным белым чистеньким
зданием вокзала в центре. Под тополями стоит трактор, которому зимой
приходится разгребать снег на аэродроме. Автомашины "Победа", два автобуса,
десятки грузовиков всегда снуют под деревьями авиапорта, здесь всегда
оживленно и весело.
В 1930 году здесь не было ничего. Медленно миновал я огромный пустырь,
что тянулся вдоль берега Пянджа, за мною ехали верхами, жуя на ходу
хорогские яблоки, мои спутники. За нами шел маленький караван.
У нас было время вглядываться в круто вздымающийся слева за Пянджем
склон горного хребта, по которому высоко над рекой разбегаются сады, дома и
клочковатые посевы афганского кишлака, что обступил древнюю крепость
Кала-ибар-Пяндж -- "Высокую крепость над Пянджем", былую феодальную столицу
Шугнана. Она и поныне осталась твердынею феодализма на той стороне.
Вот скала -- отвесная скала прямо над Пянджем, с которой поныне
сбрасывают казнимых, с которой сброшено за тысячелетия так много людей.
Здесь в давности правил всем Шугнаном, еще не разделенным на две половины,
шугнанский шах Юсуф-Али-Шо. Даже афганский географ
Бурхан-уд-Динхан-и-Кушкеки так говорит о нем:
"Его правление отличалось полным произволом, когда он, считая
имущество, жизнь, доброе имя и честь жителей Шугнана за свою собственность,
не стеснялся убивать людей, грабить их имущество, продавать жен, сыновей и
дочерей их и дарить в подарок знатным людям, причем никто не осмеливался
заявить ему, почему он производит такие бесчинства, беспричинно грабя
имущество своих подданных и забирая их жен и сестер... "
Между афганскими эмирами, их братьями и сыновьями в это самое время шла
борьба за власть, тайно разжигаемая британскими империалистами. Англичане в
своей агрессии стремились на север, стараясь надвинуться на загадочный,
стратегически важный Памир прежде, чем на нем укрепятся русские, хотя между
Россией и Англией еще в 1873 году был заключен договор о разграничении сфер
влияния: за Россией признавались все территории правого берега Пянджа
(верховьев Аму-Дарьи) и Англия обязывалась не делать никаких попыток
распространять свое влияние дальше левого берега. Неудачи, которые потерпела
Англия в войнах с Афганистаном,
боровшимся за свою независимость, не остановили империалистических
устремлений "островной державы", -- ее разведка начала действовать иными
методами, организуя в Афганистане внутренние раздоры, пытаясь после многих
казней и тайных убийств добиться трона для своих ставленников. При этом
некоторые правители страны умело провоцировались на вражеские действия,
имевшие целью ущемить интересы России.
Так, появление в Шугнане первого русского ученого-путешественника
(который был вообще первым европейцем, побывавшим в Шугнане) ботаника А. Е.
Регеля, хорошо принятого шугнанским шахом, было использовано как предлог для
последовавших кровавых событий: Юсуф-Али-Шо был свергнут и брошен в тюрьму
афганским эмиром, и афганские войска в 1883 году перешли Пяндж и
оккупировали Шугнан, Рушан, Вахан -- те области правобережья Пянджа, которые
принадлежали России не только по договору 1873 года, но и потому, что
входили в состав Кокандского ханства, присоединенного к России в 1876 году.
Нападение на эти области произошло при афганском эмире Абду-р-Рахмане.
Население Вахана, Шугнана, Рушана бежало от ужасов оккупации на
Восточный Памир и в самые недоступные, глухие ущелья Бартанга. Началась
борьба населения этих маленьких стран за свою независимость, но силы были
слишком неравны. Шугнанцы и рушанцы послали своих представителей в еще
неведомую им Россию с мольбой о помощи и заступничестве. В 1886 году один из
таких ходоков достиг Петербурга.
Вскоре в северном Афганистане вспыхнуло восстание против власти эмира
Абду-р-Рахмана. В это время Шугнану, Рушану, Вахану удалось было
восстановить свою независимость. Но восстание было жестоко подавлено, и на
маленькие народности Горного Бадахшана обрушились еще более страшные беды.
Русский путешественник капитан Б. Л. Громбчевский, пересекавший Памир в 1889
году, свидетельствует о диких расправах:
"Казни производились ежедневно. Деревни, заподозренные в сочувствии к
Сейид Акбар-ша (последнему шаху Шугнана. -- П. Л. ), выжигались, а поля
вытравлялись лошадьми. Все девушки и более красивые женщины в стране были
отобраны и частью отправлены к эмиру Абду-р-Рахману, частью же розданы
войскам в жены и наложницы. Из Шугнана набрано 600 человек мальчиков в
возрасте от 7 до 14 лет, детей более влиятельных родителей; мальчики были
отправлены в Кабул на воспитание. Население изнемогало под афганским
гнетом, а в перспективе ожидался голод и связанные с ним бедствия".
Б. Л. Громбчевский описывает паническое бегство населения от афганцев:
"Спустившись в долину Мургаба, мы в продолжение трех дней по дороге
встречали сплошные толпы шугнанцев, направлявшихся в пределы России...
Беглецы шли быстро, бросая по дороге уставший скот и имущество, стараясь
уйти, по возможности дальше от афганцев... Бедствие этих несчастных не
поддается описанию. Все в рубищах, с котомками за плечами, несли на себе,
кроме домашнего скарба, грудных и маленьких детей. Тут же гнался домашний
скот, половина которого подохла или же разграблена была памирскими
киргизами. Дорога буквально устлана была трупами животных, которые,
разлагаясь на солнце, заражали воздух невыносимым зловонием. За каждым
табором тянулась вереница больных и отсталых, преимущественно стариков и
женщин с детьми. Столь ужасную картину народного бедствия воображение
европейцев вряд ли может себе представить... "
Рассказывая о жесточайших зверствах афганцев, Б. Л. Громбчевский
описывает, как в верховьях реки Гунт "женщины изнасилованы были на глазах
отцов и мужей, дети бросались в пылающие костры, а затем вся партия
подвергалась поголовному избиению".
Совершенно естественно, что когда вступивший на Памир русский военный
отряд полковника Ионова в 1891 и 1892 годах изгнал оккупантов за пределы
Пянджа, все местное население встречало русских как своих освободителей,
оказывало им всяческое содействие, умоляло не уходить от берегов Пянджа.
В 1895 году действовавшая на Памире русско-английская разграничительная
комиссия окончательно установила, что государственная граница России
проходит по реке Пяндж.
Войны, казни, рабство на правобережье Пянджа кончились. Исторические
пути афганского и русского Шугнана, Вахана, Рушана с тех пор разошлись.
Через четверть века на правом берегу Пянджа полную свободу и независимость
народам принесла Великая Октябрьская революция, на левом же берегу все
осталось, как прежде, как сто и как тысячу лет назад: высится дряхлая
феодальная крепость над Пянджем, в ней живут афганские нукеры.
На правом берегу тоже была небольшая старинная крепость. Теперь нет
даже ее руин. Из тех камней, какими были сложены стены крепости, построены
здания семилетней школы колхоза имени Карла Маркса, а рядом со школою --
колхозный магазин. Фундаменты крепости превратились в ограду плодового сада.
Чуть ниже их из-под камня выбивается ключ чистейшей горной воды. Камни
вокруг испещрены религиозными изречениями; это место когда-то считалось
священным, здесь в кишлаке Поршнев уже при советской власти жил последний из
оставшихся в советском Бадахшане ишанов, печальноизвестный всему местному
населению поршневский ишан. Здесь был его дворец с искусной резьбою по
дереву на столбах, подпиравших террасу, на щитах, укрывавших ее от ветра и
солнца. Сохранился лишь сад, тот, что был когда-то единственным в кишлаке --
он устроен рабским трудом "пасомых", в нем был даже виноград, неведомый в ту
пору в других местах Шугнана.
В 1920 году, когда у поршневского ишана гостили чиновники эмира Бухары,
захватившие на короткое время власть в Бадахшане, на деревьях сада были
повешены четыре комсомольца шугнанца. Это были первые комсомольцы Памира из
первой на Памире поршневской ячейки комсомола.
Здесь, в Поршневе, была создана первая на Памире школа, -- кишлак
Поршнев был в ту пору больше Хорога: Поршнев состоял из двухсот хозяйств,
когда в Хороге насчитывалось всего лишь девяносто.
Здесь, между Хорогом и Поршневом, развевались на длинных шестах
тряпочки, лоскутья халатов и чалм паломников, приходивших к мазару имама
Зайин-аль-Обедина, и здесь же в наши дни виднеется каменная трибуна, которая
стала центром советских праздников в дни 1 Мая и 7 ноября: сотни колхозников
и хорогских горожан веселятся на берегу Пянджа, устраивая спортивные
состязания, традиционную памирскую игру "гуйбози" (конное поло),
мотоциклетные и велосипедные гонки, скачки на бадахшанских конях. И сотни
других людей -- по ту сторону Пянджа -- собираются на крышах домов, на
скалах смотреть на советский праздник, размышлять обо всем том, что доступно
счастливым людям, установившим у себя советскую власть.
Полный день -- от утра до вечера -- требовался мне в тридцатых годах,
чтобы проехать от Хорога, через Тым и Поршнев, мимо афганского
Кала-и-бар-Пянджа, до кишлака Сохчарв, где становился на ночь лагерем мой
караван.
В 1952 году на колхозном грузовике я проделал этот же путь за час
пятнадцать минут. Я ехал сплошными садами и пашнями, пересекая сотни
оросительных канавок, избороздивших все склоны правобережья Пянджа. И та
молодежь, которая встречала меня в колхозах, уже с трудом представляла себе,
что такое ишаны, и ша, и халифа. Только вглядываясь в селения за рекой,
видя, как человек становится на четвереньки, чтобы подставить свою спину,
как ступеньку для ноги садящегося на лошадь важного господина, слыша, как
плачут женщины, избиваемые плетьми, советская молодежь понимала, что такое
тот старый мир, в каком жили деды колхозных школьников, в каком родились и с
каким боролись отцы.
Кишлак Сохчарв, -- над ним высятся отвесные гранитные стены --
высочайшие стены ущелья, и за ним Пяндж впервые после Хорога сжимается
каменными теснинами, и шумит, и ревет, ворочаясь с перепада на перепад, --
кишлак Сохчарв принял меня в один из своих плодовых садов, и усталый путник
у чистейшего ручья под абрикосовым деревом мог задуматься о величии того
мира, в котором ему выпало счастье жить. А на самой высокой вершине, что
ощерилась скалистым зубцом в небеса, я разглядел указанное мне алое
пятнышко: это был бившийся в порывах ветра большой красный флаг, -- его
утвердила там молодежь, назвав эту вершину над Сохчарвом пиком имени
Комсомола.
В Рушане
От Сохчарва до старинной столицы Рушана -- Кала-иВамара -- один дневной
переход каравана или, как ездят теперь, часа полтора пути в автомашине.
На середине этого пути, вправо от прежней летовки (а теперь -- кишлака)
Пас-Хуф, прорезью в высоких скалистых горах поднимается крутое ущелье. Там,
вверху, -- изолированная от всего мира узкая долина Хуф. Ее жителям посвятил
свои многолетние исследования известный этнограф М. С. Андреев. Когда в 1907
году, возвращаясь верхом из Индии в Туркестан, он посетил это селение
впервые, то оказалось, что он первый русский человек, проникший в эту
замкнутую, неведомую внешнему миру долину.
"До этого времени, -- сообщает М. С. Андреев, -- как это ни странно, но
и самое существование ее не было известно даже начальнику русского
памирского отряда, штаб-квартира которого находилась в Хороге -- километрах
в 50 от Хуфа, вверх по Пянджу... "
Вновь посетив эту долину в 1929 и 1943 годах, М. С. Андреев получил
возможность не только написать свой замечательный труд о патриархальных
отношениях, о необыкновенных обычаях, верованиях и других особенностях
местного хуфского населения, но и сделать заключение об удивительных
переменах, внесенных в жизнь хуфцев советским колхозным строем.
Даже и в наши дни почти никто из пассажиров бесчисленных автомашин,
пробегающих из Хорога в Рушан по Пянджу, не заглядывает в эту долину:
тропинка, вьющаяся от Пянджа, крута. Кому придет в голову подниматься по
ней, если у него нет прямого отношения к делам хуфского колхоза
"Аскар-и-сурх"?..
Перед устьем Бартанга долина Пянджа широко распахивается. Береговые
склоны высоких гор отступают один от другого километра на два, на три. Воды
Бартанга растекаются десятками рукавов, -- только здесь и можно
переправиться через эту многоводную реку вброд.
И в прошлом веке и в нынешнем -- до середины тридцатых годов -- здесь
всегда содержались три-четыре пары верблюдов, на которых и совершалась
переправа через Бартанг. Так, чтоб не подмочить вьюков, в этом месте не раз
перекладывал их с лошадей на верблюдов и я. Впрочем, сами мы, всадники,
сотрудники экспедиции, привыкшие на Памире ко всяческим рискованным речным
переправам, не оставляли здесь седел своих лошадей. И хотя вода здесь
касалась не только стремян, но и крыльев седел, переправлялись верхами.
"Воды разных рукавов реки, -- записал я однажды в дневнике, -- сливаясь
и прыгая волнами на мелях, образуют много сталкивающихся течений, иногда
почти встречных одно другому. Все они отражают краснеющий блеск заходящего
солнца, оно низко над поверхностью воды, вода горит серебром и золотом,
мчится так стремительно, что кружится голова. Сверкающая, слепящая глаза
вода обдает нас пеной, бурлит и стучит камнями, обгоняя нас, затевается мне
за голенища. Моя лошадь держится отлично. Переезжая верхом такую воду, надо
в седле отклоняться в сторону течения, чтоб возместить угол наклона
наваливающейся на течение лошади. И приходится преодолевать инстинкт,
заставляющий наклоняться как раз в другую сторону: туда же, куда и лошадь.
Инстинкт обманывает и может привести к падению лошади вместе с всадником, а
это в памирских реках нередко кончается гибелью обоих... "
Опытом мы уже обладали немалым, и потому все переправы верхом на
лошадях для нас обычно оканчивались благополучно.
В пятьдесят втором году никаких верблюдов здесь я уже не увидел, а
легко и просто, не выходя из кабины грузовой автомашины, переправился на
надежном пароме, там, против кишлака Шуджан, где единый поток Бартанга еще
не разбежался на рукава.
С нетерпением приближался я к старинной крепости Кала-иВамар, памятной
мне с тех лет, когда в ней еще жил прежний
правитель Рушана, старый хан Абдул-Гияз. Он сдавал в аренду
красноармейскому посту и помещение крепости и хороший плодовый сад, а взамен
ему и трем его молодым женам постом были выстроены два маленьких домика в
саду, у самой стены над Пянджем (теперь этих домиков не существует).
В тридцатом году, остановившись в Кала-и-Вамаре на гостеприимном
красноармейском посту, я побывал в гостях и у хана. В моем путевом дневнике
от 23 августа того года записано:
"... После обеда в крепости, иду через сад к хану АбдулГиязу. В саду
меня встречают красивые девушки, объясняют: дальше нельзя, там -- марджи,
жены хана. Зовут его. Он выходит, высокий, дипломатически приветливый старик
в туфлях на босу ногу, в серых штанах, в жилете афганского покроя поверх
серой рубашки, подпоясанной красным платком. Садимся под яблоней, служанка
выносит сушеные абрикосы на деревянном блюде, затем -- чай ("без сахара!" --
извиняется хан). Хоть и с трудом, но объясняется он по-русски.
На воткнутой ханом в землю толстой палке, охватив когтями ее
шарообразный, украшенный мелкой бирюзой набалдашник, сидит, прислушиваясь к
нашей беседе, старый ручной сокол, с которым хан некогда охотился...
Абдул-Гияз (мне известно о нем, что он тайком занимается контрабандной
продажей опиума) рассказывает мне о себе. Чванливо перечисляет все ветви
своей родословной, хвалится своим прапрадедом -- "большим ханом, владевшим
Шугнаном и Рушаном" и "взявшим однажды Кашгар". Рассказывает о своем детстве
в Кабуле, куда его отец был доставлен закованным в кандалы по приказанию
эмира Абду-р-Рахмана; о медресе, где учился вместе с Амануллой-ханом; о
бегстве в Россию в период первой мировой войны...
Затем Абдул-Гияз показывает мне тщательно завернутый в белый платок
обрывок черной парчи, привезенный из Каабы его отцом, -- на лоснящейся парче
вижу матовые части крупных арабских букв. Потом хан читает свои стихи,
демонстрирует свое искусство в игре на примитивной трехструнке и, наконец,
приносит серьги с алмазами, купленные по его словам за большие деньги, и
просит сказать, хороши ли эти заделанные в золото алмазы?... Передо мною
грубая подделка, не алмазы, а горный хрусталь, и старик весьма огорчается,
когда я ему говорю об этом... "
АбдулТияз-хан умер через год после моей встречи с ним, объевшись
опиума. Старое реакционное духовенство называло и его могилу "вамар",
то-есть "свет", стараясь превратить ее в доходное место поклонения. Народ
Рушана, однако, на том
32 П. Лукницкий
месте, где была могила хана, поставил другой источник света: в 1952
году я увидел здесь, в устье реки Одуди, маленькую, достраивающуюся
колхозную гидроэлектростанцию. Слово "вамар" -- "свет" теперь относилось к
ней.
Сторож и завхоз станции Азизмамадов Палла узнал меня и напомнил, что в
1932 году именно он был одним из носильщиков, шедших со мною на ледопад
Кашал-аяк. А теперь он почтенный отец семейства. Его старший сын служит в
Советской Армии, его второй сын -- Меджнун Палаев -- учится в десятом классе
средней школы в кишлаке Барушан и скоро станет студентом. Его дочь учится во
втором классе, а двое последних детей еще не доросли до школьного возраста.
Азизмамадов Палла и сам теперь грамотный человек, зрелым мужчиной
окончив семь классов школы, живет он неплохо, и есть у него медаль "За
доблестный труд в Отечественной войне", и его имя упоминалось в рушанской
районной газете, потому что он недурно работал на строительстве Дирзудского
оросительного канала и еще потому, что до пятьдесят второго года был
заведующим колхозной фермой и считался передовиком.
Я разговаривал с этим старым своим знакомым (которого не сразу узнал),
размышляя о разных судьбах людей, о том, какими были рушанцы во времена
Абдул-Гияз-хана и какими стали теперь. И я, наконец, вглядываясь в черты
лица моего собеседника -- плотного, коренастого человека, хорошо узнал моего
спутника по подъему на легендарный Кашал-аяк: Азизмамадов Палла был тем
самым Азизом, который пришел за мною вместе с альпинистом Коровиным, чтоб
проводить меня на ледник Федченко. Каким робким, неграмотным, неведающим был
этот человек тогда! Но он тогда проявил большое мужество, решившись
устремиться в страшные для темных в те годы рушанцев, неведомые им Высокие
Льды!
В новом свете видел теперь я весь ставший районным центром Рушан,
прежний кишлак Кала-и-Вамар. Я прожил в нем несколько дней, знакомясь с
рушанскими колхозами, одними из самых богатых и благоустроенных на Памире,
хотя в Рушане и до сих пор нет МТС (а она могла бы быть, могла бы своими
тракторами поднять немало целинных земель в широкой здесь пянджской
долине!). Моя полевая тетрадь полна записей о новых, высокоурожайных сортах
абрикосов, таких, как "раматуллоэ" и "гуро-и-балх", в садах рушанского
колхоза "Социализм"; о виноградарстве, картофелеводстве и шелководстве; о
шестистах деревьях "чормакса" ("четыре мозга") -- грецкого ореха, и
пятнистых яблонях, и почти трех тысячах тутовых деревьев, прекрасных сортов:
"бедона", и "усляй", и "хит-хогдуд", и "музафари", и "чаудуд", и
"халангдуд", и "нирдуд", и черноягодных "шаартут", и "тыыр-дуд"...
Груши, вишни, черешни, яблони, персики -- сотни и тысячи саженцев
каждый год высаживаются колхозниками и школьниками Рушана.
Газета "Советский Рушан" часто критикует районные организации, работу
правлений колхозов, райшелка, автотранспортников, взрывпрома, медработников,
директоров школ. С возмущением пишут сельские корреспонденты газеты, что в
1954 году в Рушане сменилось четыре директора промкомбината; что сельэлектро
не выполняет своих договоров с колхозами; что невкусно готовят обеды в
столовых; плох ассортимент товаров в магазинах кишлаков Вознаута и
Дарджомча. Да! Коммунисты и комсомольцы борются с множеством недостатков и
неполадок, наблюдаемых ими.
Но кто теперь вспоминает о той борьбе, что велась здесь двадцатилетие
назад? Такие слова, как "опиум", "оспа", "холера", "басмач", уже забыты в
Рушане. Даже слова "ликбез", "бедняк" уже никому не нужны.
В богатом колхозном Рушанском районе -- лучшие на Памире средние
школы-десятилетки, такие, как в кишлаках Барушан и Дирзуд, расположенных в
широко раскинувшейся долине Пянджа.
Я посетил барушанскую среднюю школу имени Ленина. В ней тридцать
учителей, из них четыре с высшим образованием и восемь с незаконченным
высшим. Из шестисот выпускников этой школы многие десятки получили высшее
образование в Сталинабаде, Ташкенте, Ленинграде, Москве. Музыканты,
оканчивающие Московскую консерваторию; офицеры в званиях майоров и
подполковников; артисты и артистки, известные всей стране; художники,
режиссеры, врачи, инженеры и агрономы -- вот те уроженцы Рушана, что, став
советскими интеллигентами, работают и учатся во всех районах Таджикистана, в
разных городах всей Советской страны. Больше ста человек, окончивших высшие
или специальные средние учебные заведения, вернулись в Рушан и теперь
работают здесь.
Рушан справедливо считается кузницей кадров памирской интеллигенции.
Людей, получивших среднее и высшее образование в нем, пожалуй, больше, чем
даже в Хороге.
А я хорошо помню, когда медленно-медленно, от кишлака к кишлаку, в
которых не найти было азбучно грамотных людей, двигался караван экспедиции,
а навстречу ему шел полтора месяца из Сталинабада в Кала-и-Вамар караван с
почтой, с газетами, устаревшими на полгода. И измученные лошади экспедиции,
израненные почтовые ослики срывались в Пяндж на обрушивающихся оврингах.
У меня есть рассыпающаяся рукописная книга -- "Тавизкитоб".. Ее
страницы желты, -- бумага сделана из тутового корня. Этой книге
приблизительно четыреста лет. Она написана неизвестно кем. Я купил ее в 1932
году у брата ишана ЮсуфАли-Шо -- дряхлого духовного грамотея
Шо-зода-Магомата. Он сказал, что это "Книга Тимуров". Вот единственный вид
литературы, какую тогда можно было встретить в Бадахшане.
Теперь в рушаиских библиотеках я видел многие тысячи книг. В кишлачных
чайханах-читальнях памирцы на родном и на русском языке читают Пушкина и
Горького, Ленина и Сталина, романы своего классика Айни, "Индийские баллады"
Мирзо Турсун-заде и поэмы о Пяндже своего Миршакара.
На тридцать пять километров тянется по почти недоступным скалистым
обрывам, высоко-высоко над долиной Пянджа, великолепный Дирзудский канал,
построенный в 1938--1939 годах. Этот канал, обеспечивший водой половину
Рушанского района, -- подлинное чудо строительного искусства горцев,
свидетельство их необыкновенной трудовой доблести. Из кишлаков долины,
всматриваясь простым глазом в нависшие на чудовищной высоте скалы, этот
канал разглядеть можно только едва-едва. Все население Рушана строило этот
канал, так же как все население Рушана строило в 1940 году автомобильную
дорогу -- Западно-Памирский тракт имени Сталина -- в таких же отвесных
скалах. Это был не только добровольный труд, необходимость которого
сознавалась каждым рушанцем. Это был труд, в котором впервые весь рушанский
народ зажегся одним порывом, ощутил вдохновение строителей своей судьбы,
своего счастья. Каждый знал, что вода и дорога дадут рушанцам все, о чем они
прежде едва смели мечтать.
Построив Дирзудский канал и Памирский тракт, построив колхозы и школы,
советские рушанцы узнали большее: они узнали, что на этой стороне Пянджа
есть радость в сегодняшнем дне, уверенность в завтрашнем, а значит, есть
счастье, которого у другой половины рушанского народа, -- у рушанцев,
живущих на т о й стороне реки, -- нет!
"... Светлые сердца у рушанцев, прозрачные, как стекло. Всю печаль с
сердца странника снимают!"
Так в XI веке сказал, пройдя через Бадахшан, предтеча современных
таджикских поэтов Шо-Насыр-и-Хосроу.
Как странник, несколько раз прошедший через Рушан, я подтверждаю
справедливость слов большого поэта древности!
В теснинах Пянджа
Просторен Рушанский район, но только для тех, кто привык к теснинам.
Разве это простор, если между двумя горными склонами всего каких-нибудь пять
километров? На дно глубокой продолговатой чаши похожа в Рушане долина
Пянджа... Впрочем, разве только похожа?
"... Долина р. Пяндж, между к. Хыць (правильно: Хидз. -- П. Л. ) и
Кала-и-Вомар, бывшее обвальное озеро, чрезвычайно живописна и красива... "
Эти слова написал в своем отчете геолог Д. В. Наливкин, впервые в 1915
году совершив путешествие на Памир.
Итак, Рушан -- дно бывшего озера. Оно существовало тогда, когда Пяндж
еще не мог пропилить грандиозный Язгулемокий хребет, когда, подпруженный им,
метался, ища себе выхода, и сворачивал вдоль хребта на запад, на югозапад.
Барзуд, Дирзуд, Барушан, Дерушан -- вот и все кишлаки советского
Рушана, расположенные в спокойной долине, там, где могучая река, разлившись
на множество рукавов, образовав травянистые острова, словно отдыхает перед
новой схваткой с громадами скал. Уже у Ваамта, готовясь к бою с этими
громадами, Пяндж собирает свои рукава в одно русло, словно полководец,
собирающий под одно знамя полки. Вокруг нависают утесы. Кишлак расположен
среди низвергнутых скал. Легенда гласит: на проходившего здесь
Шо-Насыр-и-Хосроу кишлак произвел такое удручающее впечатление, что он
назвал его "вамд" ("сумасшедший") и добавил: "бебин бегузор", то-есть:
"увидев -- проходи".
Ниже Ваамта Пяндж вдруг под прямым углом поворачивается на
северо-запад. Долина стремительно сужается, и в конце ее, размещаясь уже на
исполинских глыбах древнего обвала, лепится красивейший кишлак Хидз. Слово
"хидз" означает "ключ". Этим кишлаком Рушан заперт как на замок. Вдоль
Пянджа к нему не подступишься. За Хидзом -- теснина, узкая, грозная,
грандиозная. И не зря Хидз с времен глубочайшей древности был крепостью, --
руины Кала-и-Чуби и доныне громоздятся на отвесных скалах Над кишлаком.
Словно свитый в жгут и переломленный, Пяндж, весь в пене, грохочет,
низвергаясь между стенами теснины, и слух наполнен стоном могучей,
искромсанной острыми скалами царицы рек. До самого Вознаута продолжается
хаос скал, нагроможденных древним обвалом. Последний рушанский кишлак
Вознаут зажат, как в рачьей клешне, в скалистых слюдяных сланцах с серым
гранитом и в гнейсовых толщах. Ниже по Пянджу, до устья Язгу-Овринги на
Пянджской тропе в пределах Западного Памира.
 (После открытия в 1940 году Западно-Памирского тракта имени Сталина
всех этих оврингов не существует. )
лема, есть только одна крошечная площадка на скалах, дающая приют
летовке Шипад.
Мрачны, темны, страшноваты эти места, похожие на извилистую щель в коре
безлюдной, еще не породившей человека планеты.
Здесь и не было прежде никакого пути, ни один путешественник прежде не
мог пробраться из Дарваза в Рушан вдоль Пянджа. Шли в обход, поднимаясь на
два громадных, нелюдимых хребта -- сначала на Ванчский, чтоб взять
ледниковый перевал Гушхон, потом, перебравшись через реку Язгулем, шли на
льды перевала Одуди в Язгулемском хребте, о котором Д. В. Наливкин и другие
геологи в своем общем отчете в 1932 году писали: "очень высокий скалистый
хребет, почти не изученный". Пятью строками ниже, в своем сухом, строго
научном труде они восклицали: "Дик, суров и величествен Памир. Ничтожным и
затерянным кажется путник на его высотах... "
Через Одуди и Гушхон ходили в Бадахшан все те немногие путешественники,
кто решался выбрать направление не с севера, на Восточный Памир, а с запада,
через Восточную Бухару, через Кала-и-Хумб и Ванч. А. Э. Регель, Б. Л.
Громбчевский, А. А. Бобринский, Б. А. Федченко, еще два-три имени в конце
XIX и в начале XX века -- вот и все исследователи, одолевшие этот труднейший
и опасный путь. Пробраться же вдоль Пянджа было еще труднее, почти
невозможно. Только местное население сообщалось между собою по опаснейшим
оврингам.
Смутные, сбивчивые исторические данные говорят нам, что здесь, в
теснинах Пянджа между Хидзом и Ванчем, происходили боевые схватки феодалов и
их дружин. Записал и я немало рассказов памирских стариков об этих суровых и
неприступных местах. Настоящая же история этих мест еще не написана.
В своем отчете о путешествии 1915 года на Памир, вдоль Пянджа, Д. В.
Наливкин пишет о пянджских оврингах:
"... даже собака не может пройти по ним, и ее приходится нести в
корзине... в сущности, Дарваз был отрезан от Рушана и Шугнана. Несколько лет
тому назад русские военные власти энергично принялись за улучшение путей
сообщения и, между прочим, начали прокладывать вьючную дорогу по Пянджу.
Работы велись сначала под руководством офицера, но его скоро отозвали, и вся
колоссальная работа была проведена простыми солдатами -- туркестанскими
саперами. Иногда приходилось рвать пироксилином в отвесной скале на
протяжении нескольких десятков сажен. Под начальством саперов работало до
200 таджиков. Не обошлось и без человеческих жертв: вместе с неожиданно
оборвавшимся обломком упали в Пяндж один
сапер и несколько таджиков. Все они исчезли бесследно, очевидно на
куски разорванные клокочущей рекой. Дорога окончена текущим летом, и я был
первым путешественником, проехавшим по ней с вьючным караваном. Саперы
сделали ее настолько хорошо, что на всем протяжении можно проехать, не
развьючивая вьюков... "
Но Наливкин, кажется, и остался единственным столь удачливым
путешественником, что проехал по Пянджской тропе, не снимая вьюков. Обвалы,
лавины, камнепады, водопады и половодья вскоре испортили эту тропу. В годы
гражданской войны никто ее не ремонтировал. К тридцатым годам она снова
стала ужасной. Каждый раз, когда по ней надо было проехать верхом или
провести караван, путешественники и местные советские работники прибегали к
помощи местных жителей. С хворостом, с берестяными веревками и лозою
кустарника, с плитами сланцев жители Хидза, Вознаута, Язгулема и Ванча
выходили на разрушенные овринги, как могли чинили их, проносили вьюки на
спинах, прижимаясь к отвесным скалам, протаскивали лошадей на арканах --
шерстяных веревках -- над пропастью.
Трижды пришлось мне итти с караваном по оврингам Пянджа. В 1931 году мы
потеряли здесь двух лошадей, сорвавшихся в Пяндж. В 1932 году караван,
состоявший из шестидесяти двух лошадей, мне удалось провести без потерь.
Бывало за двенадцати-тринадцатичасовой дневной поход мы проходили всего
три-четыре километра. Развьючивать и завьючивать весь караван, протаскивать
каждый вьюк и каждую лошадь по оврингам, непрерывно карабкаясь и повисая над
бездной, могли только люди, закаленные многомесячным путешествием. Но и они
изнемогали. Это был поистине нечеловеческий труд.
Каждый овринг имел свое название: Чарцак, Медеинрашт, Каллод,
Мулла-пар, Андарш-об, Трак, Кунига, Шипад... Последние два овринга перед
Язгулемом, Хинхак и Дарх, были, кажется, самыми трудными, доводившими людей
до отчаяния. От Хидза до Язгулема в 1932 году мы двигались три дня и здесь,
в Мотрауне, вынуждены были дать лошадям суточный отдых. Ниже Язгулема снова
начинались овринги: Хейхынг, Уч, Хар, Зор, и, двигаясь с рассвета до
темноты, лишь еще за три дня мы добрались до Ванча, где можно было увидеть
хоть широкую полосу неба над головой, где ночью небо не казалось узкой,
извилистой звездной речкой. Никогда не забуду одной вынужденной ночевки на
овринге, когда, кроме моей лошади, никаких живых существ поблизости не было,
а сверху, с километровой высоты, один за другим падали камни.
После передышки на Ванче караван опять двигался по Пянджской тропе,
поднимаясь на перевалы и спускаясь к реке, с мучительными усилиями одолевая
дарвазские овринги. Я записал однажды в своем дневнике, что эта тропа похожа
на вереницу выгнувших спины кошек, -- добавлю сейчас, готовых в бешенстве
растерзать любое живое существо.
Усталых после многомесячных странствий людей Памир, казалось, не хотел
выпустить на волю, требовал от них напряжения всех нервов, всех физических и
душевных сил.
Но горы все же постепенно снижались, их характер медленно изменялся,
склоны становились все более пологими, на склонах появлялась курчавая
растительность. После устья Ванча земля кишлаков оказывалась все более
плодородной, потому что местность была ниже, здесь было значительно теплее.
Виноград, гранаты, персики, густая зелень прохладных садов начинали
вознаграждать путников за все перенесенные испытания и лишения. Высота тропы
над уровнем моря была все меньше: полторы тысячи метров, тысяча триста,
тысяча двести... Мы знали, что впереди, за Кала-и-Хумбом, на пути к
Сталинабаду остается еще только один большой перевал -- Хобу-рабат, на
который уже никому не хотелось подниматься, в снежном буране втаскивать
лошадей.
Переночевав в высокогорном кишлаке Сагирдашт, где в тридцатом году мы
едва не были -- в самом конце путешествия -- перебиты басмачами, мы в
последний раз оглядывались на снежные гребни Памира. И когда мы прощались с
ними, все оставшиеся позади трудности и опасности вдруг освещались иным, уже
романтическим светом воспоминаний. И всем становилось грустно, что
путешествие на Памир кончается. Три с лишним тысячи километров пути по
высокогорью верхом и пешком, сделанных за лето и осенью, уже не казались
такими трудными. До Сталинабада нужно было ехать по горам еще с неделю, а то
и дольше, и на этом пути все постепенно мысленно переключались на ту
городскую жизнь, какая предстояла нам в самом ближайшем будущем. Странно
было думать, что обедать будем, сидя на стуле, за столом; умываться -- под
краном водопровода; спать -- в четырех стенах, под потолком, на постели...
Ни ветра, ни солнца, ни палатки, ни винтовки, ни костра, ни седла, ни
лошади, ни дикой памирской собаки, что бежала справа у ног коня или впереди,
когда тропа была слишком узкой... Как удивительно, как необычно живут
горожане!
Всех этих чувств я уже не мог испытать в 1952 году, когда от Рушана до
Кала-и-Хумба промчался в легковом автомобиле по Западно-Памирскому тракту
имени Сталина, проведенному
в 1940 году там, где была тропа. Путь от Хидза до Язгулема я проделал
за два часа и еще через три часа был в Рохарве, на Ванче, то-есть мы
пересекли этот участок не за семь мучительных суток, как прежде, а всего за
пять часов! Столь же быстро промчался я и от Ванча до Кала-и-Хумба, который
стал многонаселенным районным центром. Ни одного знакомого овринга на тракте
не осталось. Только следы старой тропы коегде с трудом я мог разглядеть
высоко над собой или далеко внизу. Колеса машины на поворотах узкой дороги
проносились в нескольких сантиметрах от края пропасти, борт машины порой
нависал над бездной... Но все, все вокруг было иначе: проще, удобнее,
совершеннее. Памир теперь уже не был ни загадочной, ни труднодоступной
страной. Он стал таким, каким мы, медленно покачиваясь в седлах, хотели его
увидеть в наших мечтах. Мечты исполнились!..
Москва, июль 1954 года
(После открытия в 1940 году Западно-Памирского тракта имени Сталина
всех этих оврингов не существует. )
лема, есть только одна крошечная площадка на скалах, дающая приют
летовке Шипад.
Мрачны, темны, страшноваты эти места, похожие на извилистую щель в коре
безлюдной, еще не породившей человека планеты.
Здесь и не было прежде никакого пути, ни один путешественник прежде не
мог пробраться из Дарваза в Рушан вдоль Пянджа. Шли в обход, поднимаясь на
два громадных, нелюдимых хребта -- сначала на Ванчский, чтоб взять
ледниковый перевал Гушхон, потом, перебравшись через реку Язгулем, шли на
льды перевала Одуди в Язгулемском хребте, о котором Д. В. Наливкин и другие
геологи в своем общем отчете в 1932 году писали: "очень высокий скалистый
хребет, почти не изученный". Пятью строками ниже, в своем сухом, строго
научном труде они восклицали: "Дик, суров и величествен Памир. Ничтожным и
затерянным кажется путник на его высотах... "
Через Одуди и Гушхон ходили в Бадахшан все те немногие путешественники,
кто решался выбрать направление не с севера, на Восточный Памир, а с запада,
через Восточную Бухару, через Кала-и-Хумб и Ванч. А. Э. Регель, Б. Л.
Громбчевский, А. А. Бобринский, Б. А. Федченко, еще два-три имени в конце
XIX и в начале XX века -- вот и все исследователи, одолевшие этот труднейший
и опасный путь. Пробраться же вдоль Пянджа было еще труднее, почти
невозможно. Только местное население сообщалось между собою по опаснейшим
оврингам.
Смутные, сбивчивые исторические данные говорят нам, что здесь, в
теснинах Пянджа между Хидзом и Ванчем, происходили боевые схватки феодалов и
их дружин. Записал и я немало рассказов памирских стариков об этих суровых и
неприступных местах. Настоящая же история этих мест еще не написана.
В своем отчете о путешествии 1915 года на Памир, вдоль Пянджа, Д. В.
Наливкин пишет о пянджских оврингах:
"... даже собака не может пройти по ним, и ее приходится нести в
корзине... в сущности, Дарваз был отрезан от Рушана и Шугнана. Несколько лет
тому назад русские военные власти энергично принялись за улучшение путей
сообщения и, между прочим, начали прокладывать вьючную дорогу по Пянджу.
Работы велись сначала под руководством офицера, но его скоро отозвали, и вся
колоссальная работа была проведена простыми солдатами -- туркестанскими
саперами. Иногда приходилось рвать пироксилином в отвесной скале на
протяжении нескольких десятков сажен. Под начальством саперов работало до
200 таджиков. Не обошлось и без человеческих жертв: вместе с неожиданно
оборвавшимся обломком упали в Пяндж один
сапер и несколько таджиков. Все они исчезли бесследно, очевидно на
куски разорванные клокочущей рекой. Дорога окончена текущим летом, и я был
первым путешественником, проехавшим по ней с вьючным караваном. Саперы
сделали ее настолько хорошо, что на всем протяжении можно проехать, не
развьючивая вьюков... "
Но Наливкин, кажется, и остался единственным столь удачливым
путешественником, что проехал по Пянджской тропе, не снимая вьюков. Обвалы,
лавины, камнепады, водопады и половодья вскоре испортили эту тропу. В годы
гражданской войны никто ее не ремонтировал. К тридцатым годам она снова
стала ужасной. Каждый раз, когда по ней надо было проехать верхом или
провести караван, путешественники и местные советские работники прибегали к
помощи местных жителей. С хворостом, с берестяными веревками и лозою
кустарника, с плитами сланцев жители Хидза, Вознаута, Язгулема и Ванча
выходили на разрушенные овринги, как могли чинили их, проносили вьюки на
спинах, прижимаясь к отвесным скалам, протаскивали лошадей на арканах --
шерстяных веревках -- над пропастью.
Трижды пришлось мне итти с караваном по оврингам Пянджа. В 1931 году мы
потеряли здесь двух лошадей, сорвавшихся в Пяндж. В 1932 году караван,
состоявший из шестидесяти двух лошадей, мне удалось провести без потерь.
Бывало за двенадцати-тринадцатичасовой дневной поход мы проходили всего
три-четыре километра. Развьючивать и завьючивать весь караван, протаскивать
каждый вьюк и каждую лошадь по оврингам, непрерывно карабкаясь и повисая над
бездной, могли только люди, закаленные многомесячным путешествием. Но и они
изнемогали. Это был поистине нечеловеческий труд.
Каждый овринг имел свое название: Чарцак, Медеинрашт, Каллод,
Мулла-пар, Андарш-об, Трак, Кунига, Шипад... Последние два овринга перед
Язгулемом, Хинхак и Дарх, были, кажется, самыми трудными, доводившими людей
до отчаяния. От Хидза до Язгулема в 1932 году мы двигались три дня и здесь,
в Мотрауне, вынуждены были дать лошадям суточный отдых. Ниже Язгулема снова
начинались овринги: Хейхынг, Уч, Хар, Зор, и, двигаясь с рассвета до
темноты, лишь еще за три дня мы добрались до Ванча, где можно было увидеть
хоть широкую полосу неба над головой, где ночью небо не казалось узкой,
извилистой звездной речкой. Никогда не забуду одной вынужденной ночевки на
овринге, когда, кроме моей лошади, никаких живых существ поблизости не было,
а сверху, с километровой высоты, один за другим падали камни.
После передышки на Ванче караван опять двигался по Пянджской тропе,
поднимаясь на перевалы и спускаясь к реке, с мучительными усилиями одолевая
дарвазские овринги. Я записал однажды в своем дневнике, что эта тропа похожа
на вереницу выгнувших спины кошек, -- добавлю сейчас, готовых в бешенстве
растерзать любое живое существо.
Усталых после многомесячных странствий людей Памир, казалось, не хотел
выпустить на волю, требовал от них напряжения всех нервов, всех физических и
душевных сил.
Но горы все же постепенно снижались, их характер медленно изменялся,
склоны становились все более пологими, на склонах появлялась курчавая
растительность. После устья Ванча земля кишлаков оказывалась все более
плодородной, потому что местность была ниже, здесь было значительно теплее.
Виноград, гранаты, персики, густая зелень прохладных садов начинали
вознаграждать путников за все перенесенные испытания и лишения. Высота тропы
над уровнем моря была все меньше: полторы тысячи метров, тысяча триста,
тысяча двести... Мы знали, что впереди, за Кала-и-Хумбом, на пути к
Сталинабаду остается еще только один большой перевал -- Хобу-рабат, на
который уже никому не хотелось подниматься, в снежном буране втаскивать
лошадей.
Переночевав в высокогорном кишлаке Сагирдашт, где в тридцатом году мы
едва не были -- в самом конце путешествия -- перебиты басмачами, мы в
последний раз оглядывались на снежные гребни Памира. И когда мы прощались с
ними, все оставшиеся позади трудности и опасности вдруг освещались иным, уже
романтическим светом воспоминаний. И всем становилось грустно, что
путешествие на Памир кончается. Три с лишним тысячи километров пути по
высокогорью верхом и пешком, сделанных за лето и осенью, уже не казались
такими трудными. До Сталинабада нужно было ехать по горам еще с неделю, а то
и дольше, и на этом пути все постепенно мысленно переключались на ту
городскую жизнь, какая предстояла нам в самом ближайшем будущем. Странно
было думать, что обедать будем, сидя на стуле, за столом; умываться -- под
краном водопровода; спать -- в четырех стенах, под потолком, на постели...
Ни ветра, ни солнца, ни палатки, ни винтовки, ни костра, ни седла, ни
лошади, ни дикой памирской собаки, что бежала справа у ног коня или впереди,
когда тропа была слишком узкой... Как удивительно, как необычно живут
горожане!
Всех этих чувств я уже не мог испытать в 1952 году, когда от Рушана до
Кала-и-Хумба промчался в легковом автомобиле по Западно-Памирскому тракту
имени Сталина, проведенному
в 1940 году там, где была тропа. Путь от Хидза до Язгулема я проделал
за два часа и еще через три часа был в Рохарве, на Ванче, то-есть мы
пересекли этот участок не за семь мучительных суток, как прежде, а всего за
пять часов! Столь же быстро промчался я и от Ванча до Кала-и-Хумба, который
стал многонаселенным районным центром. Ни одного знакомого овринга на тракте
не осталось. Только следы старой тропы коегде с трудом я мог разглядеть
высоко над собой или далеко внизу. Колеса машины на поворотах узкой дороги
проносились в нескольких сантиметрах от края пропасти, борт машины порой
нависал над бездной... Но все, все вокруг было иначе: проще, удобнее,
совершеннее. Памир теперь уже не был ни загадочной, ни труднодоступной
страной. Он стал таким, каким мы, медленно покачиваясь в седлах, хотели его
увидеть в наших мечтах. Мечты исполнились!..
Москва, июль 1954 года
Популярность: 19, Last-modified: Fri, 25 Jan 2008 17:50:19 GmT