---------------------------------------------------------------
OCR: Андрей из Архангельска
---------------------------------------------------------------
Библиотечка Военных Приключений.
РОМАН
ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР
МОСКВА - 1956
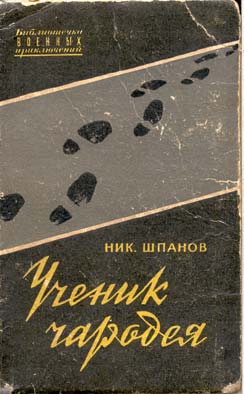 Нил Платонович Кручинин не принадлежал к числу людей, которые
легко поддаются настроениям. Но невнимание, проявленное Грачиком, все
же привело его в состояние нервозности, которую он и пытался сейчас
подавить, прогуливаясь по платформе Курского вокзала. Не слишком-то
приятно: молодой человек, воспитанию которого ты отдал столько сил и
представлявшийся тебе ни больше, ни меньше как продолжением в будущее
собственного кручининского "я", не приехал ни вчера вечером, чтобы
посумерничать в последний день перед расставанием, ни сегодня утром!
"Уехал за город" - этот ответ работницы не удовлетворил Кручинина.
Разумеется, дача в июне - это законно, но Грачик мог бы посидеть и в
городе, зная, что предстоит отъезд старого друга и немного больше, чем
просто учителя.
Кручинин прохаживался вдоль поезда, стараясь не глядеть на
вокзальные часы. Но часы словно сами становились на его пути: то и
дело их стрелки оказывались перед глазами. До отхода поезда оставалось
пятнадцать минут, когда Кручинин решил войти в вагон.
Именно тут-то запыхавшийся Грачик и схватил его за рукав:
- Нил Платонович, дорогой, пробовал звонить вам с аэродрома - уже
не застал. Боялся, не поспею и сюда.
- С аэродрома? - переспросил Кручинин.
- Вчера, едва я вам позвонил, - вызывают. - Грачик отер
вспотевший лоб и отвел Кручинина в сторону. - На аэродроме
происшествие: самолет из Риги, посадка, одну пассажирку не могут
разбудить. Тяжелое отравление. Летела из Риги. Никаких документов и ее
никто не встречает.
- Смерть? - заинтересовался Кручинин.
- Слабые признаки жизни...
- Позволь, позволь, - перебил Кручинин. - В бортовой ведомости
имеются же имена всех пассажиров.
- Разумеется, запись: Зита Дробнис. Пока врачи делают промывание
желудка, успеваю навести справку в Риге: Зита Дробнис не прописана.
Заказываю справку по районам Латвии. Но тут под подкладкой жакетика
обнаруживаю провалившийся в дырявый карман обрывок телеграммы из Сочи.
"Крепко целуем встречаем Адлере". Подпись "Люка", И еще...
- Телеграмма Зите Дробнис? - спросил Кручинин.
- В том-то и дело, что адреса нет - верхняя часть бланка
оторвана. Но это неважно. Прошу сочинцев дать справку по служебным
отметкам: номер и прочее. Узнаю: обратный адрес найден на бланке
отправления в Сочи. Уточняем: отправительница - дочь известного
ленинградского писателя отдыхает в Сочи и действительно ждет гостью из
Риги. Но ожидаемую гостью зовут вовсе не Зита Дробнис, а Ванда
Твардовская. Повторяю запрос в Ригу. Твардовская там оказывается. Даже
две: мать и дочь. Дочь по показанию соседей сутки как исчезла. Мать в
тот же день уехала, не сказав куда. Предлагаю организовать розыск.
Ясно, что имею дело с отравлением Ванды Твардовской - дочери.
Фальсификация имени в бортовой записи наводит на подозрение.
Заключение лаборатории НТО - яд, у нас мало известный: "Сульфат
таллия".
- Да, да, - живо подхватил Кручинин: - сульфат таллия очень
устойчив в организме. Эксгумация через четыре года позволяет
установить его присутствие в тканях трупа. Яд без цвета, запаха,
вкуса, не окрашивает пищу. Продолжительность действия определяется
дозой: от суток до месяца. Сульфат таллия был довольно распространен
за границей в качестве средства борьбы с грызунами. Поэтому там его
легко было достать. У нас не применялся. Отсюда - первый вывод: яд
может быть иностранного происхождения.
- Но в Риге он мог сохраниться со времен буржуазной республики, -
возразил Грачик.
- Ты прав, - согласился Кручинин. - Возможно... Дальше?..
Остается девять минут до отхода поезда. Нужно решать: брать мои вещи
из вагона?
- Зачем? - насторожился Грачик. - Вам необходимо ехать. Я
справлюсь. Но позвольте сначала...
- Нахал ты, Грач! - добродушно воскликнул повеселевший уже
Кручинин. - Откуда столько самоуверенности?.. Однако к делу! Симптомы
отравления сульфатом таллия: боль в горле, покалывание в ступнях и в
кистях рук; расстройство желудка, выпадение волос. Впрочем, это уже на
затяжных стадиях. Совпадает?
- Что тут можно сказать: ведь отравленная - без сознания.
- Да, черт возьми! Ее не спросишь, - разочарованно сказал
Кручинин. - Исход может оказаться и смертельным. - И вдруг
спохватился: - Эта телеграмма из Сочи - единственное, что при ней
было?
- Нет...
- Так что же ты молчишь?..
- Вы же сами не даете мне договорить... В самолете оказалась
вторая отравленная - соседка Твардовской по кабине. Москвичка. Ее
состояние много легче. Показала: Твардовская угостила ее, свою
случайную спутницу (они познакомились уже в самолете), частью своего
бутерброда и дала отпить чая, который был у нее в термосе. Бутерброд,
по-видимому, съеден весь, а в термосе осталось несколько капель чая. В
них нашелся яд.
- Ну, что же, - проговорил Кручинин. - Яд в термосе, который был
залит дома или в каком-нибудь буфете. Скорее всего, в ресторане
рижского аэропорта. Держись за эту ниточку. Она куда-нибудь да
приведет. - Он покрутил между пальцами кончик бородки. - Но странная
идея для самоубийцы: прихватить на тот свет случайную попутчицу... Или
Ванда - убийца соседки, а сама глотнула яд случайно, а?
- Исключено, - уверенно возразил Грачик. - Они не только не были
знакомы, но никогда в жизни не встречались.
- Положим, это еще не доказательство!.. Однако, действительно,
трудно допустить: дать жертве немножко яда, а самой выпить целый
термос... Интересно: дело о самоубийстве девицы, желающей умереть в
компании. Стоит мне застрять тут, а?.. Старость-то, брат, - не
радость: начинаю чувствовать, что и у меня есть скелет и положенные
ему по штату суставы.
- Поезжайте на здоровье, - настойчиво повторил Грачик. Ему не
хотелось, чтобы Кручинин остался. - Лечитесь, отдыхайте.
- Небось, разберешься?! - с оттенком некоторой иронии проговорил
Кручинин. - Ах, Грач, Грач! - Кручинин понял, что его молодому другу
хочется провести дело без помощи, и покачал головой. - Только не
забудь: за такого рода делом может оказаться и рука тех, оттуда. Но...
- Кручинин предостерегающе поднял палец, - не нужно и предвзятости.
- Не посрамим вашей школы, учитель джан! - весело отозвался
Грачик.
- Нравится тебе или нет, а, видно, придется отправиться в
Прибалтику раньше намеченного отпуска.
- Не беда, там и останусь отдыхать. Побольше покупаюсь в ожидании
вашего приезда, - и, заглядывая в глаза Кручинину, просительно: - А
вашу "Победу" можно взять? Когда приедете с юга, покатаемся по
Прибалтике, как задумали.
- Ежели дело тебя не задержит.
- Этого не случится, - беспечно отозвался Грачик, - хотя порой
затяжные дела вырастают на пустом месте. Произошло ограбление или даже
убийство, - кажется, просто: нашли нарушителя, изобличили, осудили и
дело с концом. А глядишь, дело-то еще только началось - и растет,
растет, как лавина. Даже страшно подчас становится.
- А ты не бойся, Грач, - добродушно усмехнулся Кручинин лавина
опасная штука, слов нет, но... не так страшен черт...
- Это конечно... - живо согласился Грачик. - Вот, знаете, у нас в
горах, в Армении, так бывает: начинается пустяковый обвал. Ну просто
так, ком снега, честное слово! Катится с горы, катится и, глядишь, -
уже не ком, а целая гора. Честное слово, дорогой, настоящая гора
летит. Так и кажется: еще несколько минут, и - конец всему, что есть
внизу, у подножия гор. Будь то стада - не станет стад; селение - не
будет селения. Лавина!.. Само слово-то какое: лавина! Будь внизу город
- сплющит, раздавит! Просто - конец мира!.. Но вот стоит на пути
лавины скала - так, обыкновенная скала, даже не очень большая. А
глядишь, дошла до нее лавина, ударилась, задержалась, словно
задумалась, и... рассыпалась. Только туман вокруг поднялся такой, что
света божьего не видать. Тоже вроде светопреставления... Что вы
смеетесь? Честное слово! А прошло несколько минут, и смотрите: ни
лавины, ни тумана - только на долину снег посыпался и растаял на
солнце. Вроде росы. Люди радуются, стада радуются, цветут селения под
горой...
Кручинин положил руку на плечо друга.
- Это ты мне притчу, что ли, рассказываешь?
- Правильно вы сказали, дорогой, у меня вроде притчи получилось:
ком снега - это они. Катятся с грохотом, с шумом - конец мира. А вот
стоит на их пути скала...
- Скала - это ты, что ли?
- Все мы, а я - маленький камешек.
- Не шибко видный из себя? - подмигнув, спросил Кручинин.
Грачик потрогал пальцем свои щегольски подстриженные черные усики
и рассмеялся.
- Я только говорю: грохот, шум, страху - на весь мир. А один,
только один крепкий камень на пути и - туман!..
- Надеюсь, - со смехом подхватил Кручинин, - в июне лавин не
бывает, а?
- Конечно... июньское солнце на Кавказе - ого!.. Неудачное время
для отдыха выбрали.
- Лучше солнце в июне, чем толпы курортников в августе.
- Вы становитесь нелюдимым?
- Пока нет, но в дороге и на курорте предпочитаю малолюдство.
Особенно перед тем, что мне, кажется, предстоит...
Грачик навострил было уши, но Кручинин умолк не договорив. Он так
и не сказал молодому другу о том, что получил предложение вернуться на
службу. Назначение в следственный отдел союзной прокуратуры манило его
интересной работой, но хотелось сначала отдохнуть и набраться сил.
Грачику он сказал с самым незначительным видом:
- Однако пора прощаться, вон паровоз дал свисток.
Они крепко расцеловались, и Кручинин на ходу вскочил на подножку
вагона.
Грачик глядел на милое лицо друга, в его добрые голубые глаза, на
сильно поседевшую уже бородку над небрежно повязанным галстуком и на
тонкую руку с такими длинными-длинными нервными пальцами, дружески
махавшую ему на прощанье.
Кажется, в первый раз с начала их дружбы они ехали в разные
стороны.
Грачик зашагал прочь от грохотавших мимо него вагонов.
Сегодня и ему предстояло покинуть Москву. Но путь его самолета
лежал на север, в Ригу, по следам Ванды Твардовской, по следам
нескольких капель чая, содержащих признаки сульфата таллия...
...И ВОТ
ЧТО
ВЫШЛО
ИЗ ЭТОЙ ПОЕЗДКИ
Латвийской ССР
ДЕЛО N 13/C
По обвинению
Диверсионной группы
по ст. 58/6, 58/8, 59/9 и 136 Уголовного кодекса
НАЧАТО 20 мая 1955 г.
Закончено 18 ноября 1955 г.
Том N 1-12 НА 2842 листах
Несмотря на обычную дождливость июня в этих краях, на этот раз
погода была на стороне гуляющих. Лодки одна за другой отваливали от
освещенного берега маленького заводского сада. Стоило гребцам сделать
несколько ударов веслами - и суда исчезали в темноте. Они без шума
скользили по черной, гладкой до маслянистости поверхности Лиелупе.
Лодка удалялась от берега, и на ней возникала песня. Молодые голоса
славили лето, славили народный праздник Лиго, прошедший до социализма
от языческих времен, сквозь тысячелетия христианства, сквозь века
неметчины, - праздник, ставший просто радостным зрелищем, с цветами, с
песнями, с прогулками по реке и с прыжками через костры. Цветы и огонь
были приметами этой ночи. Цветы, огонь и песни.
Из полосы света, отбрасываемой яркими электрическими шарами с
пристани, ускользнула и лодка, в которой, среди других, были Эджин
Круминьш и Карлис Силс, недавно появившиеся среди заводской молодежи.
Оба сидели на веслах. Но когда лодка удалилась от берега, Круминьш
положил весла и повернулся к Мартыну Залиню. Залинь был парень
огромного роста и, что называется, косая сажень в плечах. Его
маленькая голова, остриженная бобриком, казалась еще меньше на этом
большом тяжелом теле, занимавшем всю лавку на корме между девушками.
- Передай мне аккордеон,- сказал Круминьш Мартыну.
Получив инструмент, он заиграл. Одна из девушек запела:
Циткарт, циткарт,
Ка яуна бию,
Зедню, на розе,
Ка магониня;
Стайгаю пуоигиус, бракведама,
Ка лацитс аузиняс брауцидамс...
(В то время, в то время, Как была молода, Я цвела, как роза, Как
маков цвет; Я ходила, перебирая молодцев,
Как медведь перебирает овес...)
Но другая девушка остановила ее:
- Перестань, Луиза!.. Что ты затянула какую-то древность, будто
действительно стала старушкой... Если уж вспоминать старинные песни...
Эджин, сыграй так, - и, пристукивая ногой, подсказала Круминьшу
несколько незамысловатых тактов. Тот растянул свой аккордеон. Девушка
весело запела:
Кае пуйсити виру Сауце?
Писитс мейту смейейиньш,
Кас азити лопу сауце?
Азитс карклу граузейиньш...
(Кто считает парня за человека? Парень только пересмеивает девиц,
Кто считает козла за скотину? Козел только грызет лозу.)
Она со смехом оборвала пение и крикнула:
- Пусть-ка Эджин и Карлис споют что-нибудь из того, что пели там,
у себя!.. - На словах "у себя" она сделала особенное ударение.
- Послушай, Ирма, - возмутилась Луиза, - почему ты сказала это
так, словно "у себя" они были именно там, а не тут, с нами.
- Ты думаешь, что я не должна так говорить?.. Но ты же поняла
меня.
- Я-то поняла, но мне думается, неправильно так говорить о наших
ребятах.
- Хм... - иронически пробормотала Ирма. - Наши ребята!.. Кстати,
Карлис: почему вы очутились именно тут, на нашем комбинате?
- Мне кажется... - несколько смущаясь, начал было Силс, но Луиза
снова сердито крикнула Ирме:
- А почему ты об этом спрашиваешь? Что ты за контролер, какое
тебе дело?
- Помолчи, Луиза, я ведь не тебя спросила, а Карлиса.
- Все равно, ты не имеешь права...
- Почему же, - с усмешкой вмешался Круминьш, - почему Ирме и не
спросить, если ей это интересно?.. Мне кажется, что власти определили
нас сюда потому, что мы знаем свое дело.
- Ты-то бумажник, а Карлис?.. Он всего только монтер. Почему же
вы оба здесь, вместе? - настаивала Ирма, и в голосе ее звучала
неприязнь, все больше раздражавшая Луизу.
- Мы друзья, мы всегда были вместе, и мне кажется... - негромко
начал опять Круминьш.
- Все-таки тебе кажется... а мне вот кажется... - Ирма вдруг
умолкла и после паузы иронически повторила: - Подумаешь, друзья!
Молодые люди переглянулись, и Круминьш пожал плечами.
- Не обращайте на нее внимания, - сказала Луиза. - Ирма, отстань!
Но та упрямо продолжала:
- Оба вы работаете у сетки?
Вместо ответа Круминьш бросил на Ирму сердитый взгляд. При свете
спички, от которой он прикуривал, было видно, как сошлись его брови.
Он взялся за аккордеон и снова заиграл, но вовсе не то, о чем
просила Ирма. Луиза поняла желание Круминьша петь именно то, что поют
здесь, а не там, откуда он и Силс не так давно пришли. Луиза запела,
но Ирма все не унималась и мешала ей. Круминьш отложил аккордеон и
вернулся к веслам. Однако было заметно, что ему не хочется грести.
Только мало-помалу дурное настроение разошлось. Круминьш опять
принялся шутить и смеяться, как шутил с самого начала, когда они
готовили лодку, укладывали в нее палатку и продукты, со смехом и
спорами выбирали места. По всему было видно, что Круминьш - весельчак
и душа этой компании.
Сильными ударами весел Круминьш и Силс дружно погнали лодку на
середину реки, в самую быстрину. И тут Круминьш снова оставил весла и,
пробравшись на нос, стал с чем-то возиться, чего не было видно с
кормы. Вот он чиркнул спичкой. Блеснул огонек, разгорелся, вспыхнул
листок бумаги, ветка, и через минуту костер, сложенный из сухой коры и
ветвей, ярко пылал на носу лодки. Легкий ветерок сдувал в сторону
пламя, но Силс изменил направление лодки, и пламя стало почти
вертикально.
Как только с других лодок увидели этот костер посреди реки, со
всех сторон послышался плеск весел, раздались веселые крики. Лодки
стекались к костру, как к центру, и закружились вокруг него в широком
хороводе.
- Теперь нужно прыгать через этот костер, - сказала Ирма. - Кто
первый?
- Перестань! - оборвала ее Луиза. - Доедем до берега, там и будем
прыгать.
- Я хочу здесь! - не унималась Ирма.
- Сама и прыгай!
- Пусть начинают они, - Ирма указала на Круминьша и Силса.
Силс насмешливо вздернул крепкий подбородок. Он был
рассудительный парень и понимал: на лодке никто через костер не
прыгает. Ведь и прыгать некуда, кроме воды. Ирма, разумеется, только
шутит.
А Круминьш сказал Ирме:
- На берегу я разведу специально для тебя такой костер, что ты
опалишь себе юбку.
- Трусы! - с пренебрежением проговорила Ирма.
В ярких отблесках костра было хорошо видно лицо Круминьша, когда
он повернулся к девушкам. Оно казалось совсем красным, и его волосы из
русых стали ярко-рыжими.
- Ой, Эджин, какой ты страшный! - вскрикнула Ирма. - Такими
рисуют разбойников! А в общем трусишки!
- Разумеется, мы трусы, - шутливо согласился Силс. - Самые
настоящие трусы.
При этих словах Круминьш повернулся к корме. Лицо его стало еще
красней, и волосы запылали, как второй костер. Ни слова не говоря, он
нагнулся и быстро расшнуровал ботинки. Одним движением сбросил пиджак.
Увидев это, Луиза испуганно вскрикнула и сделала было порывистое
движение, намереваясь удержать Круминьша. Но сидевший рядом с нею
Мартын схватил ее руку так крепко, что Луиза охнула и послушно
опустилась обратно на лавку. Между тем Круминьш был уже на носовой
банке и, оттолкнувшись, перескочил через нос лодки, где пылал костер.
Толчок был так силен, что лодка только-только не зачерпнула воды. На
этот раз и Ирма вскрикнула от испуга.
С нескольких лодок, откуда видели прыжок, раздались
рукоплескания. Гармоника заиграла марш. Крики, подхваченная кем-то
песня и громкий смех - все смешалось в нестройный хор. За ним не было
слышно, как перепуганная Луиза умоляла Мартына спасти Круминьша. А
Мартын только глядел на нее исподлобья своими маленькими глазками и
смеялся.
Силс бросил весла. Не отрывая глаз от поверхности воды, он
торопливо расшнуровывал ботинки. Но вот после длительного нырка
показалась голова Круминьша. Он был уже далеко от лодки и сильными
взмахами плыл к берегу.
Силс подогнал к нему лодку.
- Влезай!
Круминьш оттолкнул протянутую ему руку Силса и продолжал плыть в
прежнем направлении.
- А ты не трус, - виновато проговорила Ирма. - Когда ты вылезешь,
я тебя поцелую.
- Сначала тебе придется его хорошенько выжать и просушить, -
угрюмо сказал Мартын.
- Не беда, - заявила Ирма. - Такого можно поцеловать и мокрым.
Мартын с подчеркнутым пренебрежением повернул свою широченную
спину плывущему Круминьшу. Потом вдруг подвинулся к Силсу, взял у него
весло и принялся быстро грести, отгоняя лодку прочь от Круминьша.
- Что ты делаешь?! - крикнула Луиза, пытаясь отнять у Мартына
весло. Она была слишком слаба, чтобы справиться с огромным парнем,
однако все-таки ему мешала. Движения Мартына стали неловкими - весло
то чертило по воде, то погружалось в нее по самый валек. Мартын
оттолкнул Луизу и сильно занес весло вперед. Широкая лопатка прошла
над самой головой Круминьша, едва не ударив его по затылку.
- Отбери же у него весло, Карлис! - закричала Луиза со слезами в
голосе. - Он убьет Эджина!.. Он его убьет.
- Это было бы лучше всего! - вырвалось у Мартына.
Силс взялся за весла и продолжал держать лодку возле Круминьша,
пока тот не нащупал ногами дно и не пошел к берегу.
Костер догорал. Расправленная на козелках одежда Круминьша
подсыхала. А он лежал у огня в одних трусах и помешивал угли. Рядом с
ним, на песке, забросив за голову короткие, сильные руки, вытянулся
Силс. Остальные спали в палатке.
Продолжая, по-видимому, давно уже начатый разговор, Силс
вполголоса говорил:
- ...Тебе теперь нравится Луиза! Это твое дело. А я по-прежнему
люблю Ингу.
- Как же ты можешь не порвать с нею, если ты здесь, а она там? -
возразил Круминьш.
- Я должен быть с нею.
- Что значит "должен"? - нахмурившись, спросил Круминьш.
- Не знаю... Но так... должно быть... Мне не надо другую.
- Ты ответь мне ясно, - настаивал Круминьш, - что значит твое
"должен"?
- Ну что ты пристал?!
Силс не договорил и отвернулся. Круминьш придвинулся к нему и,
повернув его за плечи лицом к себе, посмотрел ему в глаза.
- Что ты злишься? - спокойно спросил Круминьш.
- Я? - Силс пожал плечами. - Просто хочется тебе сказать:
неприятно, когда ты... одним словом, когда вмешиваются в мои отношения
с Ингой. Ведь я не касаюсь твоих дел с Луизой...
Круминьш испуганно оглянулся на палатку и приложил палец к губам.
Ему вовсе не хотелось, чтобы этот разговор услышал Мартын, хотя
Круминьш и не видел ничего предосудительного в том, что ему нравится
Луиза. Если бы она была женой Мартына - другое дело. Тогда Круминьшу и
в голову не пришло бы обнаружить свое чувство к ней. Да и она не стала
бы слушать Круминьша. Он в этом уверен. Ну а то, что Мартына и Луизу
считают женихом и невестой, вовсе еще не означает, будто он, Круминьш,
не может... не должен... Что в самом деле связывает его?.. Мартын ему
не друг, не приятель. Был бы на месте Мартына Карлис Силс - другое
дело!.. Но ничего, кроме неприязни, Круминьш не чувствует к грубому
верзиле и считает, что тот вовсе не пара такой девушке, как Луиза.
Правда, Круминьшу передавали, будто Мартын как-то проговорился, что не
простит Круминьшу, если тот отобьет у "его невесту. Если это случится,
говорил Мартын, - то он посчитает Круминьшу ребра. Наплевать, мол,
Мартыну, на то, что с этим "опытно-показательным перебежчиком" Эджином
(так сказал Мартын) носятся как с писаной торбой! А самым лучшим, по
словам Мартына, было бы, если б нашелся "смелый и честный" советский
человек, который покончил бы с этим Круминьшем - ни богу свечка, ни
черту кочерга!..
Да, так сказал Мартын. Это многие слышали.
Если после этого Круминьш счел возможным плыть с ним в одной
лодке, то лишь потому, что Луиза умоляла не делать скандала. Но рано
или поздно им придется столкнуться на узкой дорожке. Круминьша
нисколько не пугает то, что Мартын силач и что у него опыт в драках,
приобретенный еще во время беспризорничества - Круминьш тоже не
напрасно обучался приемам рукопашного боя...
Силс долго сидел, молча вороша головни костра. Наконец сказал:
- Пора спать.
- Спать?.. - рассеянно переспросил Круминьш. - А как тебе
нравится то, что давеча болтала Ирма?
- Что именно?
- Насчет нас с тобой, насчет комбината и... все такое.
- Пусть болтает, что хочет, - беспечно ответил Силс.
- А почему она спросила насчет сетки?
- Пусть, говорю, болтает... Мне все равно.
- А мне не все равно, - твердо проговорил Круминьш. - Нет, мне не
все равно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь смел болтать такое...
- Ничего особенного.
- Ты думаешь?.. А я не думаю. Сетка - самая уязвимая часть
производства. Выход из строя сетки означает остановку комбината.
- Сегодня остановился, завтра снова пошел.
- Нет, это не так просто. За одной сеткой всегда может порваться
вторая.
- За второй - третья и так дальше? - рассмеялся Силс.
- Ты напрасно смеешься, Карлис: что-то здесь есть, - в раздумье
возразил Круминьш. - Запас сеток не бесконечен.
- Ну нет сеток, есть сетки - какое мне до этого дело. Оставь меня
в покое с этой чепухой.
- Это не чепуха, Карлис. Если так говорит Ирма, значит...
- Ничего это не значит! Выбрось это из головы. Ирма злая
девчонка. Вот и все!
Он снял с прутьев одежду Круминьша и положил ее рядом с другом.
- Давай-ка спать, - повторил Силс, - все твое просохло.
Силс полез в палатку, а Круминьш стал одеваться.
Оставшись один, он собрал в кучу рассыпавшиеся угли, подбросил в
них несколько сухих веток и остановился над костром. Хвоя потрещала,
словно лопающиеся на сковороде орехи, пустила густой клуб белого дыма
и вспыхнула ярким пламенем. Ветки сгорели быстро и сразу рассыпались в
легкий пепел, припудривший крупные уголья. Головни под ним то делались
ослепительно яркими, то серенькая пленочка пепла быстро одевала их,
как веко одевает засыпающий глаз, и снова исчезала. Будто угольки
лукаво подмигивали Круминьшу. Он долго глядел, как они мигают, и у
него зарябило в глазах. Он зажмурился и постоял с закрытыми глазами.
Круминьш не пошел в палатку. Расстелил пиджак возле костра и лег,
подперев голову. Так лежал он, глядя на звезды, пока голова не
склонилась сонно на подложенный в изголовье рюкзак...
Полотнище, закрывающее вход в палатку, приподнялось, и из-под
него выглянула Луиза. Некоторое время она приглядывалась к лежащему
Круминьшу и прислушивалась к дыханию спящих в палатке товарищей. Затем
осторожно, шаг за шагом, передвигаясь на коленках, вылезла из палатки.
Присев на корточки, огляделась, пригладила растрепавшиеся волосы,
по-прежнему на четвереньках подкралась к Круминьшу и села возле него.
Долго глядела на него, осторожно протянула было руку к его лбу, но
только подержала ее над головой спящего, не решаясь притронуться. И
так же осторожно, словно даже это движение могло нарушить сон
Круминьша, отвела руку в сторону и только тогда опустила себе на
колено.
Так Луиза продолжала сидеть, не шевелясь и не сводя глаз с лица
спящего. Но кому не доводилось испытать на себе во сне пристальный
взгляд человека? Кто не помнит, какое беспокойство овладевает при этом
спящим?! Круминьш что-то сонно пробормотал и повернул голову. Заметив,
как затрепетали его веки, Луиза отвела взгляд, но было уже поздно -
Круминьш сел одним движением. Он проснулся так, как просыпаются
охотники и разведчики, - мгновенно, без постепенного перехода от сна к
бодрствованию, без зевков и потягивания. Присутствие Луизы не только
не испугало, но даже не удивило его. Он улыбнулся и протянул руку. Она
схватила ее обеими руками и прижала к своей щеке. Ладонь Круминьша
была так горяча, что Луиза с наслаждением зажмурилась. От руки Эджина
пахло дымом и чуть-чуть табаком, ровно настолько, чтобы этот запах не
был неприятен.
Круминьш охватил Луизу свободной рукой и притянул к себе. Ему не
нужно было употреблять для этого никакого усилия: она сама подалась к
нему.
Луиза лежала возле Эджина на песке, нагретом пламенем костра, и
смотрела перед собой широко раскрытыми глазами. И ей чудилось, что нет
возможности отличить, где горят звезды в небе и где глаза Эджина. Ее
губы шевелились без звука, но ему казалось, что он хорошо слышит и уж,
конечно, понимает каждое не произнесенное ею слово.
Вокруг них полусонным предутренним шелестом шептались деревья. В
ногах едва слышно журчала в камышах река. Где-то изредка вскрикивала
выпь. Но, видно, до болота было очень далеко. Луизе подумалось, что
стон птицы похож на грустный зов фаготиста.
Несмотря на свежий предрассветный ветерок, тянувший с реки, Луизе
не было холодно: Круминьш накинул на нее свое одеяло, оставив себе
всего лишь маленький, совсем маленький край. Луизе казалось, что от
Круминьша исходит столько тепла, что и вовсе не будь здесь одеяла, ей
не было бы холодно.
Было так хорошо, что скоро перестало хотеться глядеть даже в
глаза Эджину... А может быть, это и были звезды, а вовсе не его
глаза?.. Может быть...
Едва шевеля губами, так тихо, что Круминьш не слышал слов, она
шептала:
Эс редзею Яню накти
Трис саулитес узлецам:
Уна рудзу, отра межу,
Треша тира судабиня...
(Я видела, что в Иванову ночь Взошли три солнышка: Одно ржаное,
другое ячменное, Третье чистого серебра...)
Она осторожно - так осторожно, что Эджин и не почувствовал, -
коснулась губами его опущенных век и сама закрыла глаза...
Из того, что случилось, Луиза видела только мелькнувшее перед нею
в сером полумраке рассвета искаженное лицо Мартына; видела, как его
колено опустилось на грудь спящего Эджина, прижимая его к земле. В
следующий миг в руке Мартына сверкнуло широкое лезвие ножа. А еще
через мгновение, не успев издать ни звука, она почувствовала во рту
вкус теплой крови и, словно издалека, услышала злобное рычание
Мартына. Выпущенный им нож упал в песок перед самым лицом Луизы. Она
схватила нож. А сам Мартын, отброшенный сильным толчком Круминьша,
упал на спину, вздымая вокруг себя тучу пепла потухшего костра.
Только тогда Луиза закричала. Крик ее был истерически
пронзителен. Из палатки выскочил Силс. За ним, сонно потягиваясь,
выползла Ирма. Круминьш сидел, болезненно морщась и потирая грудь.
Мартын медленно поднялся и процедил сквозь зубы, не глядя на
Круминьша, но так, чтобы он мог слышать и только он один:
- Все одно ты от меня не уйдешь...
Рука Луизы ходила ходуном, когда она передавала Силсу нож
Мартына, и губы ее дрожали так, что она ничего не могла сказать.
В народе болтали, будто Квэп не совсем нормален, - служба в
Саласпилсе не прошла ему даром. Но сам Арвид Квэп, да и не только он
сам, а и те, кто знал его поближе, понимали: это болтовня, не больше,
чем болтовня! О ком не говорят дурно? В особенности, когда нечего
делать и больше не о ком говорить, сплетничают о ближайшем соседе!
Зависть ближних - плохая основа для репутации человека; будь даже его
жизнь прозрачна, как хрусталь, и чиста, как душа младенца.
В нынешнем "Лагере Э 17 для перемещенных" не было латышей,
избежавших могил Саласпилса, а значит, не было и людей, знавших Квэпа
в прошлом. Жители лагеря Э 17 могли судить о Квэпе не иначе, как по
отдаленной молве. А ведь молва складывается подобно хвосту кометы из
частиц туманности. Каждая частица в отдельности, может быть, ничего и
не стоит, но собранные вместе, они образуют хвост и такой липкий и
длинный, что человеку отделаться от него труднее, чем от собственной
жизни.
Простые люди не могли себе представить, что можно спокойно ходить
по улицам, есть, спать и просто даже жить, если хотя бы половина того,
что приписывали Арвиду Квэпу, была правдой.
Разные люди были в лагере: такие, которых оккупанты силой угнали
с родины, и такие, которые сами бежали, спасаясь от справедливого
суда. Но все носили теперь странное наименование "перемещенных лиц".
Тут были люди различных профессий и разных слоев общества в прошлом.
Были учителя и коммивояжеры, электромонтеры и артисты, прачки и
портнихи, ученые и не окончившие курс гимназисты, землепашцы и
инженеры, и люди иных, самых разнообразных профессий и положений. Не
было в лагере только тех, кто покинул Латвию с чековыми книжками в
карманах, - капиталистов и спекулянтов. Для таких нашлось пристанище
там, где можно было делать деньги. Но теперь не о них и речь.
Что касается самого Квэпа, то он не был склонен поддерживать
собственную репутацию в том виде, в каком она нравилась бывшим
полицейским и добровольным стражникам - айзсаргам! Он считал, что еще
не настало время выйти из тени таким, как он. А пока он скрывался в
тени вот уже восемь лет. С того самого дня, как пришлось сменить
службу в нацистском лагере "Саласпилс" на скромное положение рядового
перемещенного, без всяких официальных званий, хотя это вовсе и не
означало отсутствие у Квэпа сложных обязанностей. На службе у главарей
новой эмиграции обязанности Квэпа не стали более узкими по сравнению с
тем, что он делал прежде, но даже расширились. В "Саласпилсе" его
глазной функцией была организация шпионажа среди заключенных. Ныне к
роли организатора внутреннего осведомления среди перемещенных
прибавились кое-какие операции внешнего порядка. Эти операции
протекали далеко за пределами лагеря Э 17 и даже за пределами страны,
где находился лагерь. За последние пять лет Квэп сделал успехи и
приобрел у Центрального латвийского совета репутацию хорошего
организатора разведки. Главари Совета были им довольны. Был доволен
собою и он сам. Темным пятном маячила на горизонте только угроза, что
придется когда-нибудь самому отправиться за кордон для выполнения
какой-нибудь антисоветской диверсии. До сих пор Квэпу удавалось
благополучно обходить этот риф. Он всегда умудрялся подсовывать вместо
себя кого-нибудь другого. И каждый раз потом благодарил бога за то,
что его миновала неизбежная участь очередного посланного за советский
кордон: очутиться в руках советских властей.
С тех пор как начали планомерно работать школы для подготовки
диверсантов и шпионов, организованные руководством новой эмиграции,
опасение Квэпа быть посланным в советский тыл сделалось меньше. Школы
давали молодых парней, подготовленных по всем правилам науки шпионажа
и диверсий. Право, эти молодчики были надежней его самого в таком
деле, как путешествие за кордон. И если бы не пилюля, поднесенная
Совету двумя молодцами из выпускников шпионской школы, все шло бы как
по маслу.
При воспоминании об этих двух кулаки Квэпа сжались и взгляд
маленьких глаз сделался мутным. Он стал таким, как во времена
"Саласпилса", когда Арвид Квэп, наскучив тайной работой среди
заключенных, появлялся на площадке для наказаний. Это бывали дни
публичных экзекуций над теми, кого шпионская сеть Квэпа ловила на
"месте преступления", - при организации побега, при подготовке
восстания или просто во время антигитлеровской "пропаганды" среди
заключенных. В такие дни Квэпу принадлежала привилегия самому привести
в исполнение приговор над выловленным. Да не подумает читатель, будто
Арвид Квэп брал в руки плеть, или рыл могилу на глазах обреченной
жертвы, или толкал ее в дверь крематория. Упаси бог! Для такой работы
в лагере существовали палачи и подручные. А уж могилы-то могли рыть
себе и сами жертвы. Нет, нет, Квэпу доставляло удовольствие
приготовить узел петли, которая затянется на шее повешенного. Ради
этого он взял несколько уроков у палача. Достигнув совершенства в этом
деле, он даже изобрел собственный способ вывязывать смертную петлю.
Она отлично затягивалась, но ее невозможно было распустить. "Узел
Квэпа", применявшийся для казни узников, был предметом его гордости. А
нацистское начальство в целях поощрения усердного служаки назначило
ему своего рода "патентное вознаграждение" (так выразился комендант
лагеря) за каждого повешенного по его способу. Такое внимание
начальства льстило Квэпу, и он не раз в беседах с друзьями сам
аттестовал себя "талантливым малым".
Однако с течением времени Квэпа перестало удовлетворять
созерцание действия его петли. Он стал иногда позволять себе
пощекотать нервы тем, что брал руку казнимого, когда того сотрясали
последние конвульсии.
Квэп любил еще отсчитывать удары палки или плети. Он по глазам
жертвы судил, сколько она может выдержать, прежде чем потеряет
сознание и пытка станет неинтересной. Любил поглядывать и на то, как
застывает человек, обливаемый водой на морозе.
Но все это было в прошлом. Квэп считал, что его подло надули,
поселив рядом с лагерем, где якобы должны были возродиться порядки
"Саласпилса". Лагерь Э 17 оказался обыкновенным скопищем голодных
рабов. "Патриотические" общества эмигрантских заправил черпали отсюда
дешевую рабочую силу для своих коммерческих комбинаций. В такой
обстановке для Квэпа не представляло интереса вылавливать недовольных.
Их нельзя было вешать в его замечательной петле, ни даже временно
подвешивать за вывернутые назад руки. Наказания сводились к посылке на
тяжелые работы и редко-редко к заключению в тюрьму. Местные власти
неохотно отворяли двери тюрем для "перемещенных".
Да, жизнь Квэпа становилась такою же серой и безнадежной, как
этот несносный дождь, ливший за окном вторую неделю. Хорошенькое лето!
Хорошенькая весна! Квэп не думал о том, что в это время в Латвии
светит яркое солнце, особенно на юге; люди выезжают в поле, и от земли
поднимается пар перевернутых плугами пластов. Ему было наплевать на
то, что бульвары Риги пахнут молодым липовым листом и травка спешит
снова подрасти после первой подстрижки. Если Квэпу и приходили в
голову сравнения, то лишь при воспоминании о том, что весною в былые
времена гулящие девки появлялись в Риге без пальто и шелк чулок
особенно зазывно розовел на их толстых икрах. Ну, а в "Саласпилсе"?..
Лето бывало там интересным: сторожевые псы становились особенно злы, и
было весело травить ими в леске заключенных женщин, пока те не падали
в изнеможении, и с ними можно было без хлопот делать, что угодно.
Прямо в молодой траве... А здесь!.. Льющаяся с неба вода, и внизу тоже
вода. Со всех сторон вода! Проклятая страна, проклятый климат,
проклятые порядки! А тут еще этот подвох со стороны двух посланных в
советский тыл парней!..
Квэп с сумрачным видом перечитал напечатанное в рижской "Цине"
сообщение Комитета Государственной Безопасности СССР: несколько
месяцев назад двое диверсантов из числа "перемещенных" по имени Эджин
Круминьш и Карлис Силс были заброшены в Советский Союз военным
самолетом "третьей страны" для выполнения шпионско-диверсионных
заданий. Однако вместо того, чтобы выполнять эти задания, оба они
отдали себя в руки советских властей. На первом же допросе парни
рассказали все, что знали о "патриотических" эмигрантских
организациях. Они рассказали, как в течение нескольких лет их обоих
держали на голодном пайке в лагерях для "перемещенных"; как
завербовали на работу в Северную Африку, суля золотые горы; как вместо
золотых гор они нашли в Алжире лишь палящее солнце, тесные нары и
рабский труд от восхода до заката солнца...
Дочитав до этого места, Квэп крякнул и положил на газету кулак.
Он уже знал, что это только безобидная присказка по сравнению с тем,
что следует дальше. Самым скверным было то, что Круминьш и Силс
рассказали советским органам, как после такой "подготовки", когда
человек готов покончить с собой от отчаяния, ему предлагают спасение в
виде поступления в школу разведки. Оба беглеца выложили, как их
обучали ремеслу шпионов и диверсантов, как забросили в Советский Союз,
снабдив деньгами, оружием, взрывчаткой, ядами и радиоаппаратурой. В
заключение описывались перипетии Круминьша и Силса в Советском Союзе.
В Латвии они не могли ни на минуту почувствовать себя хорошо,
несмотря на лежавшие в их карманах "отличные" документы. Куда бы
Круминьш и Силс ни совались, с кем бы ни приходили в соприкосновение,
- они всюду чувствовали себя чужаками.
Когда Квэп доходил до описания того, как эти двое явились в
сельскую милицию, его руки начинали дрожать и губы вытягивались так,
словно он собирался подуть на жегший его пальцы газетный лист. Да,
такого отвратительного подвоха Квэп давно не видывал! А ведь самое
неприятное, что взрывалось прямо-таки подобно бомбе, следовало дальше,
в конце сообщения: вместо того, чтобы расстрелять негодяев, советские
власти простили их и объявили полноправными гражданами СССР! Молодцов
даже поставили на работу наравне с другими советскими людьми. Да, да!
Если б их отправили к стенке или хотя бы в тюрьму - все было бы в
порядке. Но эдак?! Тут были спутаны все карты Квэпа.
Квэп понимал: наивно надеяться на то, что Шилде ничего не узнает.
Если он сам не прочтет этого сообщения, то суматоху поднимет Пуксис.
Для кого Шилде грозный "недосягаемый", а для Пуксиса он всего-навсего
исполнитель приказов и ничего больше. Может быть, когда какой-нибудь
выведенный из терпения "перемещенный" всадит Пуксису пулю в спину, сам
Шилде станет фактическим начальником организации, но пока он вынужден
помалкивать и подчиняться. Ведь даже "недосягаемый" не смеет назвать
Эдмунда Пуксиса его собственным именем и обязан величать его "господин
Легздинь" - кличкой, под которой тот известен членам "Перконкруста".
Подумать только! А ведь и Пуксис вовсе не такая уж шишка. Над ним тоже
есть кому командовать. Начать хотя бы с Раара - предводителя всей
латышской эмиграции... "Сам Раар"!.. Подумаешь - "сам". Этим "самим"
помыкает какой-то майор из иностранной резидентуры.
Хорошо, что Квэпу не приходится иметь дело с такими, с позволения
сказать, "звездами". С него хватит крика, который поднимет Шилде из-за
этих двоих!..
Круминьш давно уже казался Квэпу подозрительным. Но как было не
послать его в школу, когда за него замолвил словечко пробст Висвалдис
Сандерс. Квэп знавал Сандерса еще в те времена, когда оба они были
айзсаргами. Тогда пробст напутствовал на тот свет смутьянов, которым
Квэп выдавал свинцовый пропуск в царствие святого Петра. А вот теперь
Висвалдис Сандерс заседает в Центральном Совете бок о бок с персонами
вроде полковника "СС" Лобе или Альфреда Берзиньш - бывшего министра и
начальника айзсаргов в блаженные времена Ульманиса.
Когда человек залетает так высоко, как залетел пробст Сандерс, он
забывает старых друзей. Стоит пробсту сказать словечко председателю
Совета епископу Ланцансу о неисполнительности Квэпа, как посыплются
вопросы и запросы. Шутка ли: говорят, что его преосвященство епископ
Язеп Ланцанс поставлен во главе Центрального латышского совета с
благословения самого папы. Вот уж действительно только того и не
хватало Квэпу - вступить в конфликт с римским папой! Пусть кто-нибудь
теперь скажет: мог ли он, Арвид Квэп, десятая спица в колеснице, не
послать этого пробстова племянника Круминьша в шпионскую школу, если
там исправно платят жалованье в устойчивой иностранной валюте, дают
хорошую одежду и каждый день кормят омлетом и тушенкой?!
Однако кто станет во всем этом разбираться? Важные господа там,
наверху, из-за одного страха потерять заграничные стипендии готовы
съесть самого Квэпа с костями: раз поезд сошел с рельсов - должен
найтись виноватый стрелочник.
Так обстоит дело с Круминьшем. Другое дело - Силс. За Силса Квэп
даже сейчас готов поставить свою мызу, оставшуюся в Латвии. Если Силс
и пришел к советским властям с повинной, то лишь потому, что его
вынудила к этому явка Круминьша - все равно из-за Круминьша схватили
бы обоих. Да, Квэп уверен: Силс еще покажет себя. В нынешнем положении
Силса "покаявшегося" есть даже преимущество: теперь-то уж ему нечего
бояться разоблачения. Квэпу придется только продумать вопрос, как
снова наладить надежную связь с Силсом. Связь! Вот главная загвоздка.
Провал Круминьша и Силса дорого обойдется всей разведке. Придется
перестраивать организацию: менять адреса школ, клички преподавателей,
и, может быть, даже выкинуть за борт весь нынешний состав обучающихся.
Впрочем, и это все мелочи: учебники, преподаватели, ученики - живой и
мертвый инвентарь шпионских школ. Главные хлопоты предстоят с
переменой того, что Круминьш и Силс разоблачили по части зарубежной
сети: коды, явки, агентура, система конспирации и связи. Вот,
действительно, беда, в которой не сочтешь убытков!
Небось, хозяева заявят, что руководители "Перконкруста" -
"заевшиеся свиноводы". Зарубежные хозяева особенно любят напирать на
то, что "свиноводы" обходятся дороже, чем стоят их услуги. А во всем
президиуме "Перконкруста" нет ни одного человека, который имел бы иное
отношение к свиньям, кроме того, что кое-кто участвовал в знаменитом
"свином" параде. Это было в те времена, когда Карлис Ульманис казался
им, членам "Угунс Круста", чересчур либеральным правителем. Они с
завистью смотрели на эстонских молодчиков из Вильянди. Те могли
гордиться: их гимназия дала миру такого корифея, как Альфред
Розенберг!..
Да, было время! Айзсарги и угунскрустовцы воображали, будто
сумеют навсегда утвердить в Латвии настоящий, стопроцентный фашизм
вроде гитлеровского... И вот что из всего этого получилось!..
Квэп смотрел в окно. По стеклам, собираясь в тоненькие ручейки,
сбегали дождевые капли. За окном виднелся просторный пустырь. Трава на
пустыре была вытоптана. Там был устроен учебный плац охранного отряда,
недавно сформированного Центральным Советом по заказу иностранного
командования. Четырнадцатое по счету формирование! Сначала был спрос
на "транспортные" и "инженерные" роты, теперь - вот уже пятый раз - из
"перемещенных" собран этот "охранный отряд". Прежние увезены отсюда.
Они несут охрану порядка там, где хозяева не полагаются на команды
бывших эсэсовцев.
"Хе-хе, бог даст, - думал Квэп, - помоги, господи, помоги!..
Молодчики, что шлепают сейчас по мокрому плацу, сумеют когда-нибудь
навести прежний порядок и в самой Латвии. В рядах команд не мало
ребяток, прошедших школу в айзсаргах. Они староваты, но зато им не
привыкать бить по шее и ставить к стенке бунтарей!
Раз, два!.. Раз, два!.. Левой!.. Левой!.."
Квэп с удовольствием притоптывал ногой, глядя, как обучаемые
шлепают по грязи на учебном плацу. Иностранный инструктор рубит ребром
ладони: "уон, туу... уон, туу!.." В такт его движениям помощник
инструктора громко выкрикивает: "Айнц... Цвай... Айнц... Цвай..."
"Да, голубчики, - думает Квэп, злобно сжимая челюсти. - Стоило
водрузить красный флаг над Ригой, стоило левым попросить защиты у
Москвы, - и вы уже вообразили, будто можете во всю глотку орать
"свобода, свобода!" Ан, приходится снова браться за обучение немецкому
языку, чтобы понимать команду. Да, черт побери, мы еще найдем управу и
на вас и на вашу "свободу": "айнц... цвай!.. айнц... цвай!" Да,
интересная штука это "колесо истории"! Но, черт с ним, пусть оно
вертится, как ему положено, ежели из этого может получиться толк для
Квэпа. А толк, как кажется Квэпу, должен выйти: кое-кто получит
готовенькое войско. Только бы пустить эти "команды" в дело.
"Инженерные роты" сумеют инсценировать красного петуха таких размеров,
что зарево будет видно от Айнажей до Даугавпилса и от Вентспилса до
Корсавы. Найдется дело и для тех, кто, вроде Квэпа, прошел школу у
гитлеровцев в Бикерникском лесу и в "Саласпилсе"!..
Квэп потер мясистые ладони больших рук.
- Найдется работа... найдется всем, голубчики!.. А вот кое-кому
придется и поплакать!.. - угрожающе пробормотал он и отвернулся от
окошка.
Время мало подходило для приятных мыслей. Лежавший в кармане лист
"Цини" обжигал бок. Нужно было придумать оправдание провалу Круминьша
и Силса... Как-никак оба они - его подопечные. Чего доброго, придется
еще мчаться во Франкфурт, чтобы замазывать дыры в треснувшем доме.
Господа иностранцы, как всегда в таких случаях, начнут с угроз
прекратить финансирование этих "свиноводов"!..
Квэпу казалось, что все было очень хорошо налажено: каждый
человек, содержавшийся в лагерях для "перемещенных", давал главарям
эмиграции ежедневный доход в шестьдесят пять центов за счет одной
только недодачи ему пайка. А продажа на сторону предназначавшегося
"перемещенным" обмундирования из запасов "победителей"?! А торговля
старыми инструментами, которые иностранные "друзья" вместо того, чтобы
выкидывать на свалку, предоставляли "перемещенным" в качестве орудий
труда?! И ведь все это было еще не главной статьей. Лучший доход
составляли комиссионные, получаемые за каждого "африканца", то есть за
"перемещенного", посылаемого на работу в Африку. В добавление к тому,
что из собственного заработка завербованного причиталось главарям за
"устройство" на работу, высокие комиссионные платили еще и компании,
получавшие дешевую рабочую силу. Но основу жизни эмигрантской
организации прибалтов составляли средства, даваемые иностранцами.
Деньги отпускались на "тайную войну", которую вели организации
эмигрантов, якобы державшие связь со своими подпольными ячейками в
Советском Союзе. Другое дело, что все это было настоящей "липой".
Никакого "подполья" в СССР не существовало. Нельзя же было считать
подпольем несколько отщепенцев, по благости советского народа
доживавших свой век в латвийском захолустье и втихомолку брюзжавших на
новые порядки в Латвии. Подчас Квэп и сам не понимал, как могут его
руководители не догадаться, что если бы так называемая "сеть" была
опасна для СССР, то КГБ ее давным-давно раздавил бы. Да и разве нужно
было тратить столько хлопот на подготовку для засылки в советские
пределы шпионов и диверсантов из числа "перемещенных", ежели бы они
имелись в готовом виде внутри советских границ. Но не в интересах
Квэпа и других мастеров темного промысла, кормившихся вокруг
эмигрантского корыта, раскрывать глаза своим заграничным хозяевам. Они
старательно поддерживали иллюзии насчет перспектив своей подрывной
деятельности.
Однако Квэпу сейчас не до высоких соображений, да он и не был на
них способен. Следовало подумать о том, как парализовать конкретную
опасность, нависшую над его собственной головой из-за провала
Круминьша и Силса.
А что если?.. Да, положительно - вот верная мысль: Круминьш и
Силс должны быть уничтожены! Или точнее: один Круминьш. Силса нужно
сохранить. Он еще сделает свое. А Круминьша - убить! Убить непременно
и поскорей!.. Ах, черт побери, старина Квэп может похвастаться: этот
Кочан недаром сидит у него на плечах; убить, убить Круминьша.
Довольный собою, он вызвал по телефону Шилде и попросил доложить
Пуксису-Легздиню о том, что желает сделать руководству важное
сообщение. Шилде долго расспрашивал, о каком сообщении идет речь, но
Квэп держался крепко и ничего ему не открыл. Он знал, что стоит выдать
план, и Шилде перескажет его Пуксису как свой собственный. Тогда он,
Квэп, останется с носом - все выгоды придутся на долю Шилде. Нет, черт
возьми, Квэп не даст объехать себя на кривой!
Квэп постучал в перегородку.
- Магда, завтрак! Со следующим поездом я уезжаю... И подай мою
бутылку из кладовой...
- Опять напьетесь... - послышался недовольный голос из-за
перегородки.
- Ты с ума сошла, девчонка! Кто же напивается, едучи к высокому,
можно сказать, к высочайшему начальству. Только глоточек для
храбрости. Чтобы слова не застревали в горле... Хэ-хэ!
Квзп толкнул дверь, вошел в кухню и отвесил тяжелый шлепок
нагнувшейся к плите Магде. Это была девушка - вот уже третья за этот
год, - взятая им из лагеря для выполнения обязанностей прислуги.
- Ну-ка, что ты придумала на завтрак?
Плотоядно потирая ладони, он уселся за стол. Ел быстро, сильно
двигая челюстями и громко чавкая. От каждого блюда оставлял понемногу
на своей тарелке. Это предназначалось для Магды. Но оладьи с вареньем
ему так понравились, что он, отодвинув было три штуки для работницы,
съел одну из них, а подумав, доел и две остальные.
- Ты не похудеешь, - сказал он, смачно пришлепывая толстыми
губами, - возьми вместо оладий картошки. Она отлично нагоняет тело,
хэ-хэ... А быть в теле - это главное для девчонки, как и для свиньи,
хэ-хэ!
Квэп прошелся взглядом по фигуре Магды. Девушка стояла,
прислонившись к дверному косяку. От этой позы ткань блузы на ее груди
натянулась, и Квэп с удовольствием задержал взгляд плотоядно
прищуренных глаз на этом месте. Черт их дери, этих деревенских девок!
Даже голодные, они умудряются сохранить такую грудь, словно в ней
хранится запас молока на все их потомство вперед! Ах, черт возьми!.. и
Квэп снова облизал губы, как после оладий с вареньем.
Поймав его взгляд, Магда потупилась и негромко сказала:
- Вы обещали похлопотать насчет... Яниса.
Ее несложная психология безошибочно подсказала ей, что сейчас
подходящий момент для такого вопроса. Скоро два года, как ее Янис -
единственный на свете парень! - уехал в Африку. Контракт был на год, а
Янис по сию пору не может вырваться. Говорят, в этой Африке еще хуже,
чем здесь. Янис пишет: еще немного, и он вовсе не вернется... Что же
она будет делать без своего Яниса?..
При мысли о Янисе щеки Магды порозовели. Глаза Квэпа,
подернувшиеся влагой от водки и оладий, остановились теперь на лице
Магды. Он подумал, что на свете бывают, конечно, девицы и
поприглядней, но если принять во внимание, что эта особа не стоит ему
ни гроша...
Не спеша с ответом на вопрос Магды, Квэп потягивал горячий кофе,
дуя сквозь выпяченные губы.
- Плохо тебе у меня, что ли?.. - выговаривал Квэп между глотками.
- Дура ты, девка! Что тебе в твоем голоштаннике? Или воображаешь, что
он привезет тебе мешок африканского золота!.. Лучше налей-ка мне еще
чашечку... Это, конечно, не тот кофе, какой, бывало, пивали в нашей
Риге... Вспомнить "Ниццу". Какие там были сливки!.. А девчонки-то,
девчонки! Ту, бывало, ущипнешь, так уж от одного этого прикосновения
кровь начинает играть, словно выпил!.. Ах, Магда, Магда, вот когда
была жизнь, скажу я тебе...
- Люди говорят: никакой тогда не было жизни...
- Дура ты... Настоящая деревенская корова!
- Скажите же мне насчет Яниса: вернете вы его из Африки или нет?
- При этих словах в голосе Магды прозвучало что-то, что заставило
Квэпа отставить чашку с кофе. После некоторого размышления он сказал:
- Ладно, вернусь от начальства, ляжем рядышком да потолкуем о
твоем Янисе... Что-нибудь и придумаем, хэ-хэ.
И снова принялся за кофе, не глядя на Магду.
Полногрудая и широкобедрая, с жидкими, словно отмытыми до
серебристой белизны льна волосами, Магда молча глядела, как Квэп пьет.
Взгляд ее не отличался выразительностью. Тем не менее, если бы Квэп
попытался прочесть то, что было в нем написано, кофе, вероятно,
застрял бы у него в горле. Ненависть светилась в белесых глазах Магды.
Это была ненависть затравленного существа, долго, терпеливо, по
вековой привычке к рабству копившего обиды целых поколений. Но с
поколениями сдерживающие эту ненависть силы ослабевают и все, что было
накоплено от праотцов, начинает вырываться наружу. Тогда происходит
расправа - беспощадная, но справедливая.
При каждом движении тяжелых челюстей Квэпа у Магды перекатывался
желвак под воротником кофты. Словно она проглатывала набегавшую слюну.
Девушка глядела на розовые щеки Квэпа, такие круглые, будто под каждую
из них он запихнул по оладье; она глядела на его большой круглый с
сизоватыми прожилками нос, двигавшийся вместе со щеками и круглым
подбородком. И в ее взгляде была ненависть к щекам, к носу, к
подбородку, к толстым, оттопыренным и почти всегда влажным губам
Квэпа. Даже его голубые глаза и полуприкрытое, словно парализованное,
веко над левым глазом - все возбуждало ненависть Магды. Чтобы
совладать с этой ненавистью и не выдать ее, она опускала взгляд на
свои большие крестьянские руки, сложенные на животе.
Квэп не был психологом вообще, а уж вдумываться в переживания
прислуги он счел бы просто глупым. В этом было его счастье. Иначе,
пойми он мысли Магды, он не смог бы сомкнуть глаз и на полчаса, а не
то, чтобы крикнуть вдруг среди ночи, как обычно:
- Эй, Магда!.. Спишь, толстуха?.. Ну-ка, приди взбить подушку
твоему хозяину!
Как Магда вглядывалась в резкий шрам, перерезающий у горла
розовую шею ее хозяина! Если бы Квэп это видел!.. И даже орел, большой
синий орел, держащий в лапе свастику, искусно вытатуированный у Квэпа
на груди, вместо восхищения возбуждал в Магде только ненависть. И об
этом тоже Квэп мог бы прочесть во взгляде Магды...
Покончив с едой, Квэп, наконец, встал из-за стола, обсосал липкий
от варенья палец и повалился на старый, продавленный диван, служивший
ему для послеобеденного сна. Но сегодня уже не было времени спать:
стрелки часов на стене кухни напоминали о том, что близится время
отхода поезда.
Поворчав на тяжелую жизнь, Квэп скоро встал и, одевшись
тщательнее, чем обычно, отправился на станцию. Он шагал по липкой
глине и перебирал в уме имена людей, из числа которых можно было бы
выбрать исполнителей задуманного плана. Их лица проплывали перед его
взором, и когда он наталкивался на кого-нибудь, казавшегося ему
подходящим, то произносил имя вслух и загибал палец.
Дойдя до станции, Квэп расправил пальцы. Только большой остался
загнутым. Но подумав, разогнул и его. Квэп смотрел на него так, словно
это был не его собственный палец с выдающимся хрящом сустава, поросший
жесткими рыжими волосами и увенчанный нечистым обгрызенным ногтем.
Квэп смотрел на палец так, будто перед ним был живой кандидат,
способный, не задумываясь, всадить пулю в затылок Круминьша. Надежный
кандидат, обученный своему делу в нацистском застенке!
Квэп крякнул от удовольствия. Довольный своим выбором и своим
планом, не спеша направился к билетной кассе.
Через некоторое время после этой поездки Квэпа произошли
оживленные сношения - письменные и при помощи посланцев - между
главарями разных эмигрантских латышских организаций. Целью сношений
было объединение усилий на почве содействия "делу Круминьша".
По началу это дело послужило причиной резкой критики действий
более молодого Центрального латышского совета со стороны зубров
антисоветских происков. Матерые фашисты из "Перконкруста", из "Тевияс
Сарге", из рядов айзсаргов и из "Яйна Латвия" готовы были перегрызть
друг другу горло ради того, чтобы захватить иностранные субсидии.
Только грубый окрик самих иностранных хозяев заставил их атаманов с
ворчанием согласиться на сотрудничество с "Даугавас ванаги" -
военизированной фашистской организацией Центрального латышского
совета. В результате совместным совещанием главарей был принят план
ликвидации Круминьша, предложенный Адольфом Шилде. К тому времени все
уже забыли о том, что автором плана был Квэп. По этому плану к смерти
приговаривались оба латыша, явившихся с повинной к советским властям,
- Эджин Круминьш и Карлис Силс. В действительности убить должны были
только первого из них, но в целях конспирации это не было записано в
протокол. Ведь если бы к смерти приговорили одного Круминьша, то у
советской разведки возник бы законный вопрос: почему пощадили Силса? У
организаторов этого дела не возникало сомнения в том, что советские
органы безопасности будут все знать. И тогда власти в Советском Союзе
стали бы наблюдать за Силсом. А ведь эмиграция возлагала на него
надежды. Поэтому непосредственным исполнителям приказ убить Круминьша
и не трогать Силса был отдан лишь устно, под строгим секретом.
Но вот прошло уже много времени, покушения на двоих латышей не
происходило. После долгой бдительной опеки Круминьша и Силса советские
власти сняли охрану. Дело можно было считать сданным в архив.
Автор вынужден пойти на риск частично повторить то, что уже было
когда-то сказано о Кручинине и Грачике. Те, кто уже знаком с
Кручининым и его молодым другом Грачиком по описанию их прежней
деятельности, могут пропустить эту главу.
Встреча молодого журналиста и музыканта-любителя Грачика с
ветераном следственно-розыскной работы Кручининым произошла в
обстоятельствах, не имеющих отношения к профессиям обоих. Грачик
впервые увидел Кручинина в Доме отдыха, в средней полосе России, куда
сам приехал, чтобы на свободе и покое поработать над задуманной
большой статьей о Скрябине. Как многие дилетанты, Грачик полагал, что
сделает открытие, показав публике влияние Шопена на творчество
большого русского композитора и обнажив, с другой стороны, чисто
русскую самобытность всего скрябинского наследия. Грачик предполагал
показать это на разборе ряда фортепианных произведений Скрябина,
начиная с ре-диез-минорного этюда и кончая второй фортепианной
сонатой. Эта статья, охватывающая первый период творчества
композитора, должна была, по мысли Грачика, открыть целую серию
статей, которые потом лягут в основу литературной биографии
композитора.
Но Грачик не был исключением среди молодых литераторов. Приехав в
Дом отдыха, он так старательно гулял по его живописным окрестностям,
вдохновляясь для предстоящей работы образами русской природы, что
долго не мог заставить себя сесть за письменный стол. Во время одной
из таких вдохновительных прогулок он и увидел Кручинина. Нил
Платонович сидел на парусиновом стульчике посреди лужайки, окаймленной
веселым хороводом молодых березок. Перед Кручининым стоял мольберт; на
мольберте - подрамник с натянутым холстом. У ног Кручинина лежал ящик
с тюбиками, выпачканными красками и измятыми так, что нельзя было
заподозрить их владельца в бездеятельности. Но палитра Кручинина была
чиста и рука с зажатой кистью опущена. Склонивши голову набок,
Кручинин приглядывался к березкам, словно они заворожили его и он не
мог оторвать от них взгляда прищуренных голубых глаз.
Вот Кручинин стал задумчиво пощипывать свою небольшую бородку,
такую же светлую, как и его аккуратно подстриженные усы. Однако,
несмотря на их светлую окраску, и в усах, и в бороде уже чувствовался,
хоть и едва уловимый, налет седины. Этакая серебристость бывает видна
над вершинами зацветающей черемухи, ежели смотреть очень издали на лес
весной. Словно серебро только-только сбрызнуло поросль. И даже
невозможно еще сказать - седина ли это и пойдет ли она расширяться.
Наблюдая Кручинина на этой лужайке, Грачик не заметил в нем
ничего называемого особыми приметами: рост средний, ни худ, ни тучен,
физическое развитие хорошее. Ничего бросающегося в глаза, если не
считать рук, на которые нельзя было не обратить внимания. Узкая,
длинная, но, видимо, сильная кисть с тонкими пальцами - настоящая рука
художника.
Быть может, эта деталь бросилась в глаза Грачику лишь потому, что
он сам был музыкантом? Возможно, что в наблюдателе менее изысканном
эта подробность не возбудила бы интереса.
Грачик долго наблюдал из-за деревьев за Кручининым. Но он так и
не дождался, пока тот возьмется за кисти, чтобы воспроизвести березки,
на которые столько времени любовался. Вместо того Кручинин сложил
мольберт и краски, еще разок пригляделся к сверкающим на солнце белым
стволам и ушел.
Любопытство Грачика было возбуждено. Он пошел следом за
художником. Отойдя на некоторое расстояние от лужка с березками и
выбрав место, совсем не похожее на прежнее, Кручинин расставил
мольберт и привился за работу. Через два часа Грачик обнаружил на
холсте очень точно воспроизведенным вовсе не тот пейзаж, перед которым
сидел теперь художник, а именно прежние березки.
В следующий раз, когда Грачик увидел, как, придя на лужайку с
березками, Кручинин пишет погост, находившийся на расстоянии
нескольких километров, к тому же воспроизводит на полотне не яркое
утро, когда шла работа, а вечернюю зарю, - Грачик уже не мог
удержаться и заговорил. Оказалось, что Кручинин таким своеобразным
способом тренирует зрительную память, одновременно получая
удовольствие как живописец.
С первых же слов Грачик понял, что и сам он не оставался не
замеченным новым знакомым. Наблюдательность Кручинина, напомнившего
Грачику несколько обстоятельств из его поведения с самого дня
появления в Доме отдыха, поразила Грачика.
Хотя Кручинин и не принадлежал к числу тех, кто встречает людей
"по одежке", внешность имела для него большое значение.
- Одежда, - говорил Кручинин, - не просто определяет вкусы своего
обладателя, но в известной мере служит отражением его внутреннего
мира.
По словам Кручинина, он не раз проверял эту теорию на людях
разных положений, профессий и различного внутреннего содержания. Он
утверждал, что, основываясь на опыте, может с известным приближением
определить по одежде характер и степень умственного развития человека,
если, конечно, данная одежда не является случайной. Не было ничего
удивительного в том, что в первое суждение о новом знакомом в качестве
составной части вошел и костюм Грачика. Кручинин отметил бережное
отношение молодого человека к вещам, очевидно, хорошо содержавшимся,
хотя и не новым.
Ничто не было упущено Кручининым во внешности Грачика. Крупный
нос с легкой горбинкой, большие темно-карие глаза под крутыми бровями,
хоть и очень пушистыми, но не портившими общего тонкого абриса лица, -
все, казалось, было на месте и создавало приятное впечатление. Нужно
добавить еще, что цвет лица Грачика, несмотря на избитость этого
образа, нельзя было сравнить ни с чем, кроме кожи спелого абрикоса.
При всем этом Кручинину понравилось общее впечатление мужественной
энергии, которой дышал облик молодого человека. По-видимому,
темперамент, присущий его национальности, находился под надежным
замком сильной воли.
Они с первого взгляда понравились друг другу. Знакомство их, в
отличие от большинства случайных санаторных встреч, оказалось прочным
и принесло много радости обоим. Правда, сначала Грачику показалось
странным, что человек, все склонности которого с юных лет тянули его в
Академию художеств, очутился на юридическом факультете и вместо
искусства нашел по началу удовлетворение в судебной работе. Но со
временем, узнав Кручинина ближе, Грачик понял, что у Нила Платоновича
были основания увлечься в дальнейшем деятельностью
оперативно-розыскного работника и криминалиста. Много вечеров провели
друзья за беседами о роли и назначении советского
следственно-розыскного работника. Грачик приобщился к высокому
пониманию долга борца с преступлением, к широкой перспективе работы по
оздоровлению общества и охране его от посягательств изнутри и извне.
Даже великое искусство музыки представилось ему частностью на фоне
чего-то неизмеримо более огромного и действенного, притом насущно
необходимого в деле построения нового общества. Этим огромным было
искание истины в понимании, придаваемом данному термину Кручининым.
Тот утверждал, что отыскание правонарушителя и его поимка - только
внешняя сторона профессии. Суть, по его мнению, заключается в том,
чтобы вскрыть все: причины и обстоятельства преступления, показать его
источники, проследить весь ход психологии правонарушителя и найти
действенную меру к предотвращению подобного преступления в будущем.
Операция по удалению язвы данного преступления - не самоцель. Эта
операция только путь к созданию условий, в которых организм общества
может развиваться без помех.
Кручинин долго работал в суде, тщательно изучал положение
личности в уголовном процессе, все положительные и отрицательные
свойства существующей пенитенциарной системы. Было бы трудно тут, в
краткой биографической справке, показать весь ход формирования этого
человека. Приходится снова отослать читателя к отчетам о более раннем
периоде деятельности Кручинина. Важнее сказать, что глубокая вера
Кручинина в полезность своего дела, способность увлечь собеседника
общественно-политической перспективой профессии привели к уходу
Грачика с пути, на который он стал по окончании университета, - с пути
музыкального критика - и заставили увлечься еще новой для него, но
полной глубокого общественного смысла и романтики борьбы работой
Кручинина. Прошли годы. Грачик уже не мог себе и представить, что
когда-то стоял на ином пути. Быть может, конечно, не встреть Грачик
Кручинина, из него и вышел бы приличный литератор. Любительство в
области музыки обеспечило бы его оригинальными темами для
деятельности, не лишенной интереса и полезности. Но трудно себе
представить, чтобы душевное удовлетворение Грачика могло быть столь же
полным где бы то ни было, кроме дороги, показанной ему Кручининым. В
качестве старшего друга и учителя Кручинин вел Грачика по новому пути
до тех пор, пока не понял, что тот достаточно твердо стоит на ногах.
Тогда Кручинин стал отходить от практической деятельности, предоставив
молодому человеку всю возможную меру самостоятельности, и скромно
сошел на роль его советника. Такому отходу способствовало и серьезное
ранение, полученное Кручининым при выполнении одной операции. Врачи
заставили его выйти в отставку. (Система исправительных наказаний
преступников.)
Чтобы закончить знакомство читателя с двумя друзьями, остается
напомнить: настоящая фамилия Сурена Тиграновича - Грачьян, "Грачик"
или "Грач" стало его прозвищем с детских лет при обстоятельствах, о
которых повторяться нет надобности.
Прокурор Латвийской ССР Ян Валдемарович Крауш глянул на листок
письма, прибывшего с авиапочтой, да еще с надписью "спешное". В
заголовке письма было четко обозначено "частное", а внизу стояло: "Жму
твою руку Нил Кручинин".
Увидев подпись, Крауш с интересом прочел письмо. В начале шли
упреки в короткой памяти и дурной дружбе, несколько воспоминаний о
далеких временах гражданской войны, два-три имени "ушедших", несколько
имен "взошедших". Лишь в самом конце - то, из-за чего и было написано
письмо:
"На твоем горизонте появится малый по имени Сурен Тигранович
Грачьян. Ты должен помнить его отца, но на всякий случай напоминаю:
восемнадцатый год, Волга, "Интернациональный" полк, где командир некий
Крауш. (Этот Крауш, вероятно, не забыл председателя ревтрибунала Нила
Кручинина, едва не расстрелявшего оного Крауша за преждевременный
вывод полка в атаку. Помнится, упомянутого Крауша спасло только то,
что беляки бежали.) Ну, а затем я помню такую сцену: конфуз Крауша,
когда он не мог найти командира для роты китайцев и с места встал
высокий худой армянин.
- Простите, я, конечно, командовать ротой не могу, я не военный
человек, но помочь командиру могу - я китаист.
- Китаист?.. Что значит "китаист". Китаец так это - китаец. А не
китаец так не китаец... Китаист?!
Эту тираду произнес тогда Крауш. А я как сейчас вижу этого
армянина, вижу, как он краснеет до ушей и смущенно объясняет:
- Извините, но я Грачьян, приват-доцент... Учебник китайской
грамматики для студентов Лазаревского института.
- Лазаревский институт?.. - пожал плечами Крауш. - Не знаю!..
Тогда этот молодой командир латышских стрелков - товарищ Крауш, -
наверно, даже думал, будто это хорошо: не знать, что такое какой-то
там "Лазаревский" институт (интересно, что он, латышский стрелок,
думает сейчас?).
- Извините, я не хотел вас обидеть, - сказал тогда "китаист"
Грачьян, - я могу быть простым переводчиком.
- Сразу бы и сказал! - рассердился Крауш. - Так переведите нам:
кого хотят бойцы китайской роты себе в командиры?
И помнишь, как Грачьян, запинаясь от смущения, перевел:
- Они хотят?.. - Он несколько раз переспросил китайцев, прежде
чем решился выговорить: - Кажется, они действительно хотят... меня.
Так вот, жизнь снова свела меня с сыном погибшего в гражданской
войне приват-доцента, кавалера ордена Красного Знамени Тиграна
Грачьяна. Хотя Сурен мне и не сын в биологическом смысле этого слова,
но я считаю его своим вторым "я" и физическим продолжением этого "я"
на будущие времена - те лучшие времена, которых нам с тобой не
увидеть. Хотя именно мы-то, пожалуй, и вложили в них все, что имели.
Одним словом, если Грачьян - он же Грач, он же Грачик - появится у
тебя с делом о самоубийстве Ванды Твардовской, из-за которого полетел
в туманную Прибалтику, возьми его под личный строжайший контроль и
руководство. Я помню кое-кого из твоих работников - опытные, верные
люди. Они многое смогут дать моему Грачу. Хочу, чтобы из него вышел
настоящий человек нашей профессии.
Отмою свои старые кости и снова за работу! (Кстати: предложили
интереснейшую работу. На этот раз в прокуратуре Союза.) А пока вручаю
твоему опыту и бдительному оку молодую, но уже не лишенную хорошего
опыта особу Грачика".
Если бы не это письмо, Краушу, быть может, и не пришло бы в
голову задержать в Риге приехавшего по московской командировке
Грачика. Дело о покушении на самоубийство Ванды Твардовской прокурор
мог бы передать и своим работникам. Но дело задержалось из-за
невозможности снять с нее допрос. Родителей Ванды в Латвии не
оказалось. К тому же Ян Валдемарович с самого начала ознакомления с
делом Твардовской принял решение о приобщении его к делу Круминьша. На
это у прокурора были свои соображения. При кажущейся флегматичности
Крауш почти всегда, когда сталкивался с необычным делом, загорался
огоньком личного интереса к нему. Не будь он так занят большой
государственной работой, он, вероятно, и не удержался бы иногда от
искушения самому броситься в гущу следовательской работы. Руки
чесались прикоснуться к живой жизни, от которой его теперь отгородили
стены нарядного кабинета. При столкновении с тем или иным поворотом
интересного дела Крауш всегда испытывал сильное возбуждение, которое,
впрочем, умудрялся тщательно скрывать под внешностью официальной
строгости. Его ум приходил в энергическое движение. Крауш начинал
думать за своих подчиненных. Силою логики, подкрепленной многолетним
опытом и интуицией, он приходил к выводам, очень часто предугадывавшим
результат кропотливой работы подчиненных.
Проанализировав первые же данные по делам Круминьша и Ванды
Твардовской, Крауш посоветовался с Комитетом Государственной
Безопасности. Он чуял здесь кое-что не только связывавшее эти дела, но
и выводившее их из ряда обычной уголовщины. Оценив сложность дела и
посетовав на загруженность своего аппарата, Крауш после письма
Кручинина окончательно решил, что самым разумным будет не отпускать
Грачика в Москву, а именно ему и поручить ведение этого дела под его,
Крауша, собственным наблюдением. Так будет лучше всего!
То, что холод и пасмурное небо то и дело разгоняли курортников с
пляжа, не смущало Грачика. Молодость не боится капризов климата и
смены температур. Сушь и ковыльное приволье степи ей так же милы и
полезны, как сумрачная прохлада лесов или бурная влажность взморья;
пальмы Сухуми или сосны Карелии - не все ли равно? Лишь бы было
красиво, привольно и весело.
Грачик рассчитывал, что как только закончится дело Ванды
Твардовской, ему удастся и покупаться, и погреться на Рижском взморье.
Поездка в Прибалтику была запланирована давно, когда в нее собирался
еще и Кручинин. Был подготовлен к путешествию новенький автомобиль
Нила Платоновича, была даже приобретена в складчину разборная
байдарка. На ней друзья собирались совершать экскурсии по озерам
Эстонии и Латвии.
Прилетев в Ригу для расследования дела Ванды Твардовской, Грачик
относился к пребыванию здесь, как к антракту перед увлекательным
путешествием на "Победе", лишь только ее сюда перегонят и приедет
Кручинин. Но тут Ян Валдемарович Крауш предложил Грачику заняться
делом Круминьша. Грачик попробовал сослаться на то, что в таком деле
рижским товарищам и книги в руки, но прокурор довольно решительно
заявил, правда, не глядя на Грачика:
- Народ у меня сейчас очень загружен, сами знаете: нужно
пересмотреть тысячи дел. Ваш приезд весьма кстати. К тому же - скупая
улыбка, мало свойственная обычно суровому прокурору, пробежала по его
лицу - по аналогии: там самоубийство, тут самоубийство.
- Это лишь на папке значится "самоубийство", - возразил Грачик, -
а на самом деле Ванда Твардовская...
- Вот, вот, - перебил его прокурор, - тут, по-моему, тоже только
"на папке"... И, кроме того, у меня есть свои причины свести эти дела
в одно. Когда придет время, я вам скажу почему.
Серьезность дела Грачик понял сразу, как только Крауш рассказал
ему предысторию. Заключалась она в том, что вскоре после снятия охраны
с двух латышей Круминьш исчез. Соседи Круминьша показали что он ушел в
сопровождении офицера милиции и какого-то штатского и больше не
вернулся. Вскоре после этого по городку С. пополз слух о том, что-де,
несмотря на добровольную явку Круминьша советским властям, невзирая на
его раскаяние и прощение, его все-таки арестовали.
Следует заметить, что с момента появления в С. Круминьш и Силс не
были предоставлены себе. Профсоюзная организация бумажного комбината,
на котором они работали, настойчиво вовлекала их в общественную
деятельность. Товарищи справедливо считали, что приобщение
реэмигрантов к полнокровной жизни народа - залог их перевоспитания.
То, что Круминьш был снова арестован, показалось рабочим несовместимым
не только с его собственной реабилитацией, но и с той работой, какая
была поручена молодежи завода: сделать Круминьша и Силса полноценными
и полноправными членами заводского коллектива.
Силс был подавлен арестом своего бывшего напарника и не решался
произнести ни слова протеста. Но молодежь завода была настроена иначе.
Она хотела иметь ясное объяснение неожиданному повороту в судьбе
Круминьша. Запрос в Ригу - и все стало ясно: никто и не думал
арестовывать Круминьша. Он сделался объектом провокационного акта
врагов. Очевидно, целью провокации было разбить впечатление, какое
патриотический поступок Круминьша и Силса произвел на умы
"перемещенных" за рубежом. Быстро принятые меры не помогли найти ни
исчезнувшего Круминьша, ни следов преступления. "Арестованный"
Круминьш вместе с "арестовавшими" его людьми словно в воду канул. Лишь
случайно участниками молодежной экскурсии на острове в протоке Лиелупе
близ озера Бабите было обнаружено тело Круминьша.
В кармане Круминьша нашли письмо:
"Мои бывшие товарищи, я был прощен народом и принят в ваши ряды
после самого страшного, что может совершить человек, - после измены
Родине, после попытки нанести ей вред по указке иноземных врагов. Я с
радостью и благодарностью принял великую милость моего народа. Я
думал, что одного этого уже достаточно, чтобы стать его верным сыном.
Но произошла случайность - меня арестовали. И, вероятно, яд вражеской
пропаганды слишком глубоко проник в мой мозг, всплыло все, чему меня
учили во вражеской школе шпионажа. Я возненавидел шедшего рядом со
мною офицера.
Наверно, все скоро разъяснилось бы, и я спокойно пришел бы домой.
Но я понял это только теперь. Мне стыдно и страшно говорить теперь о
том, что случилось. Я убил конвоира из его же оружия. Тело его
спрятано мною, потому что я вообразил, будто смогу бежать, спастись...
Слишком поздно, чтобы идти со второй повинной. От вторичной вины
мне некуда уйти. Передайте предостережение Силсу: никогда не сходить с
пути советского человека. Что бы ни случилось, какими бы неожиданными
и неприятными ни показались ему действия советских властей, - не
давать в себе воскреснуть тому, что нам пытались вдолбить враги. Пусть
Силс верит: советский народ и его власть никогда не совершат ничего,
что шло бы вразрез с интересами нашей Родины. Они не допустят никакой
несправедливости в отношении простого латыша - сына своей земли.
Целуя святую землю отцов, прощаюсь с вами. Не смею назвать вас ни
друзьями, ни согражданами. Прощайте и простите. Таков заслуженный
конец. Кто дал себя обмануть врагам, кто влез в их отвратительную
паутину, - должен погибнуть. Эджин Круминьш".
Мимо острова, Северной протокой реки Лиелупе, лежал торный путь
охотников к озеру Бабите. Выдавшийся в слияние протоки и главного
русла реки обрывистый берег был излюбленным местом праздничных
прогулок рабочей молодежи бумажного комбината. Но с тех пор, как это
случилось с Круминьшем, охотники стали держаться на своих моторках
подальше от берега, а молодежь сменила для экскурсий Северную протоку
на Южную. В Южной протоке не было таких красивых высоких берегов, ни
густого соснового бора, но бывшие товарищи Круминьша предпочитали
песчаную полосу, отгороженную от воды всего лишь стеной камышей, чем
постоянно иметь перед глазами лес, где они были свидетелями финала
непонятной им драмы. А о том, что случившееся было им непонятно от
начала до конца, свидетельствовали толки, не затихавшие далеко за
пределами комбината. Но особенно острые, изобилующие недоуменными
вопросами разговоры велись среди фабричной молодежи. И самым
недоуменным, самым острым, не получившим удовлетворительного ответа от
старших товарищей, был вопрос: может ли в наше время, в нашей стране
советский человек, притом молодой человек, покончить с собой?
Существуют ли обстоятельства, способные толкнуть на такой поступок?
Вывод сводился к тому, что заставить кого-либо из них, и даже
такого их сверстника, каким был Круминьш, добровольно накинуть на себя
петлю, - нельзя. Если это случилось, то виноват в этом не он, а кто-то
другой. Кто? Виновного молва искала недолго. Все чаще мелькало имя
Мартына Залинь, все больше пальцев показывало в его сторону. И, как
говорит старинная пословица, глас народа, по-видимому, действительно
является гласом божьим, то есть голосом правды: мнение рабочей
общественности сошлось с мнением властей - Мартына вызвали к
следователю. Нашлось много желающих показать то, что было широко
известно на комбинате и в рабочем поселке: ненависть Мартына к
Круминьшу, его угрозы разделаться со счастливым соперником, его
прошлое беспризорника с несколькими приводами - все, что могло служить
косвенными уликами в обличении убийцы. Единственным из друзей
Круминьша, кто не выказал желания идти к следователю, был Силс. Но его
свидетельство едва ли и было нужно после того, как Луиза решилась
высказать следователю те же соображения, какие волновали остальных.
Она подробнее других могла рассказать о случившемся у костра на берегу
Лиелупе в ночь на Ивана Купала, и ей... да, ей совсем не было жалко
Мартына.
- Он работает в очень трудном районе, где нет стоящего
католического прихода, почти нет католиков! Можно подумать, что вы об
этом забыли! - Шилде заявил это, даже не прибавив обычного
титулования, какого требовало обращение к особе столь высокого сана,
как епископ.
Епископ взглянул на Шилде подчеркнуто удивленно.
- Что значит "стоящий" приход? Разве вам известны не "стоящие"
приходы?
С того момента, как они очутились одни, Шилде утратил всякую
почтительность. Ланцансу начинало казаться, что он напрасно оставил
Шилде после совещания для приватной беседы. Видимо, не зря пробст
Сандерс предостерегал епископа от излишне благосклонного отношения к
этому человеку. Да, видно, это уж не прежний Шилде. "Эта свинья из
тех, - сказал Сандерс о Шилде, - что способна слопать собственных
поросят, если у нее разыграется аппетит. Шилде пальца в рот не кладите
- откусит руку".
Ну что же, тем хуже для Шилде. Для мелкоты из "Перконкруста" - он
"недосягаемый", а епископ видывал на своем пути зверей и посильнее.
Скоро, бог даст, заграничная помощь для эмиграции будет притекать
через кассу святого престола, а значит, и через его, Ланцанса, руки.
Придется тогда Шилде посидеть на урезанном пайке!
Ланцанс спрятал свои беспокойные руки под нараменник. Он знал за
собой эту неудобную особенность: подвижность рук. Иногда они
положительно мешали ему, нарушая облик невозмутимого спокойствия,
какой Ланцанс старался себе придать. Еще в новициате Ланцанс усвоил
себе значение внешности для члена такого Ордена, как "Общество
Иисуса". Всю жизнь он боролся со своими нервными руками, проявлявшими
тем большую подвижность, чем меньше она была к месту. Вот и сейчас ему
хотелось бы ошеломить Шилде холодностью, мертвенным спокойствием, а
руки сами тянулись к чему-нибудь, что можно было вертеть, теребить.
Под нараменником пальцы шевелились так, словно там скрывалась целая
клавиатура. Ланцанс вытащил руки из-под пелерины и сердито засунул их
за шелковую ленту, перепоясывавшую его крупную фигуру по животу. Ему
хотелось сдержать свое раздражение против Шилде. Как-никак, самые
крепкие нити к тем немногим, кто еще согласен работать на сомнительном
поприще эмигрантской разведки, находятся в руках Шилде... Нужно
поскорее найти подходящего человека в собственном Совете, кто мог бы
взять их в свои руки... Кто бы это мог быть?.. Полковник Вальдемар
Скайстлаукс?.. Стар! Ему бы время на свалку, если бы так уж не
повелось, что каждая эмигрантская организация должна иметь в
руководстве парочку полковников. К сожалению, господа военные, вместо
того чтобы объединить свои силы, только и знают, что подсиживать друг
друга. Полковник Скайстлаукс из "Латвийского совета" не выносит
полковника Янумса из "Латышского совета". А Вилис Янумс слышать не
может о полковнике Лобе... ("Обществом Иисуса" Игнатий Лойола назвал
основанный им орден (иезуитов).)
О Лобе!.. Вот фамилия, которая кстати всплыла в памяти Ланцанса!
Лобе прошел нужную школу. След споротых петлиц "СС" сильно поднимает
теперь цену человека...
Ланцанс поймал себя на том, что мысли его ушли в сторону от того,
что говорит Шилде... Нужно все-таки послушать этого субъекта... А,
господин Шилде занят тем, что набивает цену себе и своему агенту,
действующему в Латвии! Расписывает трудности, с какими встречается
человек, работающий в "советском тылу"...
Слово "тыл" по-прежнему, как во время войны, употреблялось в
обиходе эмигрантских главарей. Они не хотели признать войну
оконченной. Для них "фронт" не закрывался. На нем никогда не затихала
война. Больше того: она еще никогда не велась с таким ожесточением,
как сейчас. Никогда еще не пускалось в ход столько средств для
поддержания огня по всей линии: шпионажа, диверсий, террора - всех
видов многообразной и сложной тайной войны во время мира.
- Можно подумать, будто вы забыли: перед лицом общей опасности
исчезают разногласия в рядах воинов за святое дело, - внушительно
произнес Ланцанс. - Лютеранский священник протянет руку католику.
Неужели не нашлось бы православного попа, который пришел бы ему на
помощь? Да, сын мой! - Ланцанс нарочно назвал так своего собеседника,
хотя Шилде не только не был католиком, но вообще не верил ни в бога,
ни в черта. А сказал это епископ потому, что не хотел называть гостя
слишком уважительным - "господин Шилде". Скажи же он просто "Шилде",
это могло быть принято за излишнюю дружественность или враждебность, в
зависимости от уровня сообразительности собеседника. - Да, сын мой, -
повторил он, - служитель Христа, соответственно настроенный в
политическом смысле, независимо от вероисповедания - наш друг. Значит,
он и друг вашего человека.
Тут епископ потянулся через стол и овладел пепельницей, в которую
Шилде за короткий срок успел воткнуть несколько окурков. Ланцанс не
выносил табачного дыма. Но почему именно этому развязному Шилде он
стеснялся об этом сказать, как говорил всякому другому собеседнику?
Епископу пришло в голову, что, вероятно, потому он терпит вокруг себя
клубы этого отвратительного дыма, что боится: Шилде способен ответить
на его замечание грубостью. Уж лучше помучиться, чем ставить себя в
фальшивое положение. Господи, боже, у кого это он вычитал: "Через
фальшивые положения проходят; в них никогда не остаются!.." А кто-то
возражал: "Из фальшивых положений не выходят. Из них нельзя выйти!.."
Что же верно? А верно то, что Шилде грубиян. Нельзя епископу ставить
себя в неловкое положение перед грубияном...
Однако Шилде, кажется, не понял, почему епископ отодвинул от него
пепельницу. Как ни в чем не бывало, он снова закурил со словами:
- Мой человек, там, все понимает не хуже нас с вами, Ланцанс...
- "Господин Ланцанс" или "ваше преосвященство", как вам удобней,
- сдержанно поправил его епископ.
- Если вам угодно, то я готов именовать вас даже святейшеством, -
с издевкой ответил Шилде.
- Я не думал, Шилде, что вы так не уважаете церковь...
Когда-нибудь, когда наступит час вашего последнего отчета всевышнему,
вы поймете свою ошибку... - И Ланцанс закончил как мог более
внушительно: - Обращаясь ко мне, вы обращаетесь к церкви, Шилде.
- Хотя бы к самому господу богу. Мне все равно, - пробормотал
Шилде.
- Вернемся к нашей теме, - подавляя гнев, с наружным смирением
проговорил епископ. - Итак, прошу вас исходить из единства стремлений
всех благонамеренных священнослужителей, независимо от принадлежности
к тому или иному исповеданию.
- Обстоятельства работы, какую ведут мои люди за кордоном,
своеобразны и трудны. Вы их не знаете...
- С помощью господней, мы знаем все, мой дорогой Шилде, -
раздельно проговорил Ланцанс, особенно нажимая на слово "все". -
Церковь, властью, дарованной ей царем небесным и доверенной ей царями
земными, приходит на помощь всем, кто служит делу борьбы с
коммунизмом... Мы знаем больше, чем может постичь погрязший в суете и
юдоли слабый ум человеческий... Я просил вас остаться тут, чтобы
спросить, вполне ли благополучно закончилось дело с наказанием
Круминьша?
- С ним покончено. Дело за тем, чтобы спасти моего человека,
выполнявшего эту карательную операцию.
- Да, да, ваш человек совершил благо и имеет право на
христианскую помощь.
- Мне наплевать, на что он имеет право, - опять сгрубил Шилде. -
Мы, например, имеем право на соблюдение тайны этого дела, а она будет
разоблачена, если мой человек провалится. С ним провалится и Силс.
- Но может ли церковь помочь?.. Видите ли, Шилде... - Ланцанс
придвинулся к собеседнику и осторожно, как будто даже немного
брезгливо прикоснулся одним пальцем к его рукаву. - Наши позиции в
советском тылу значительно менее прочны, чем позиции лютеран. Святая
воинственность нашей церкви - там не в нашу пользу... - Епископ сделал
паузу. - Но с помощью божьей не идем ли мы все к общей цели?
- Вы хотите, чтобы все лили воду именно на вашу мельницу, пока
вы... идете к "общей" цели... А придете к ней вы одни?..
- Мельница господня приемлет все струи.
- Даже самые мутные.
- Шилде!
- ...Так... - протянул Шилде и задумался. - Значит, вы хотите,
чтобы мой человек не прибегал к помощи ваших людей. И он не сможет
найти приют, скажем, в обители Сердца Иисусова.
- Вы имеете в виду Аглоне?! - с испугом спросил Ланцанс. -
Господь с вами! Это значило бы поставить под угрозу нашу последнюю
крепость. Единственный на всю Латгалию, и даже на всю Латвию,
рассадник веры...
- Так что же вы предлагаете? - сердито крикнул Шилде. - Я должен,
наконец, знать, где мой человек может искать убежища?!
- Я посоветуюсь с пробстом Сандерсом и скажу вам, Шилде. - Но,
подумав, Ланцанс словно бы спохватился: - Однако позвольте: почему вы
так настаиваете на том, что убежище должно быть предоставлено именно
духовным лицом?
- Я не говорю "непременно убежище". Но - помощь, кое-какая
помощь, не опасная для ваших людей.
- Да, да, я понимаю, но почему именно со стороны церкви? Где ваши
люди? Ваши подпольные ячейки? Разве не они фигурируют в отчетах, когда
вас спрашивают, куда идут деньги? - Епископу казалось, что тут-то он и
поддел этого самонадеянного нахала. Ведь Шилде уверял всех и вся, что
располагает в Советской Латвии хорошо развитой сетью надежно
законспирированных опорных пунктов боевого подполья. А на деле - все
дутое, все чистое очковтирательство, все ложь, ложь, ложь! Делая вид,
будто говорит сам с собой, он стал шептать, но так, чтобы было слышно
гостю. - Господи, боже, где же конец этой гнусной погоне за деньгами
под всеми предлогами, под всяческими соусами, во всех размерах - от
жалкого цента до миллиона?! Господи, боже, неужели даже в таком
угодном богу деле, как борьба с коммунизмом, не может быть чистых
намерений, неужели даже на убийство врага церкви нельзя идти с руками,
не скрюченными от жажды злата?! Господи, господи, за что наказуешь ты
раба твоего познанием темных глубин души человеческой, такой
сатанинской низости стяжательства в деле святом, в деле ангельском, в
деле, осененном благословением распятого и непорочной улыбкой
девственнородившей!..
Именно потому, что Ланцанс хорошо помнил о присутствии Шилде,
думал только о нем и все, что делал, делал только для него, он
порывисто поднялся со своего места и с фанатически расширенным
взглядом устремился в темный угол, где на фоне распятия из черного
дерева светилось серебряное тело Иисуса. Шилде отчетливо слышал, как
стукнули о пол колени епископа. Но "недосягаемого" не легко было
пронять подобным спектаклем. Он иронически глядел на спину Ланцанса,
припавшего лбом к аналою. Правда, брови Шилде несколько приподнялись,
когда он увидел, как дергаются плечи епископа: "недосягаемый" не мог
понять, действительно рыдает Ланцанс или просто разыгрывает этот
религиозный экстаз ради гостя.
Наконец, Ланцанс поднялся с колен и медленно, усталым шагом
вернулся к своему креслу. По лицу его не было заметно, чтобы молитва
оказала на него умиротворяющее или, наоборот, волнующее действие, -
оно оставалось таким же каменно-равнодушным, каким было, разве только
несколько покраснело от усилия, какое епископу пришлось сделать,
поднимаясь с колен. По-видимому, переход от молитвенного настроения к
суете дел земных был для епископа не очень сложен. Он желчно спросил:
- Неужели вы никогда не кончите отравлять воздух папиросами?
Шилде усмехнулся, придавил сигарету в пепельнице и, сдерживая
усмешку на губах, сказал:
- Молитва вас просветлила, и вам легче понять истинную цену
этому, с позволения сказать, липовому "подполью", на которое вы
предлагаете мне опираться, черт бы его драл!
- Шилде?! - с испугом, на этот раз искренним, воскликнул Ланцанс.
- Помощь в "операции Круминьша", так удачно начатой моими людьми,
должна прийти со стороны церкви! - настойчиво повторил Шилде. -
Иначе... - Он сделал паузу и с особенным удовольствием договорил: -
Иначе грош ей цена.
- Замолчите, Шилде! - воскликнул Ланцанс и поднялся с кресла с
рукою, гневно протянутой к собеседнику.
- Мы тут одни.
- Но я не хочу вас слушать!
- А я все-таки скажу: прошу не тянуть с решением вопроса: кто
может оказать реальную помощь нашему эмиссару за кордоном? - Каждое из
этих слов Шилде сопровождал ударом руки по столу.
- Вы не считаете операцию законченной?
- Когда требуется помощь от вас, то вы готовы ограничиться
убийством одного труса?..
Епископ укоризненно покачал головой:
- Господь жестоко покарает вас за ваш грешный и грубый язык.
- Приходится называть вещи своими именами. Вам хотелось бы уйти
теперь от необходимости действовать? Но мы вас заставим довести дело
до конца: мой человек должен быть спасен для дальнейшей работы в
советском тылу!
- От чьего имени вы так говорите?
В злом шепоте епископа было не только негодование, но и
нескрываемая угроза: вот-вот последует буря обличения или прямое
проклятие и плохо придется тогда Шилде! Но на того это, по-видимому,
мало действовало. Шилде знал, что на этот раз сила на его стороне. Он,
если захочет, может взять угрожающий тон даже по отношению к самому
Ланцансу! Поэтому он уверенно ответил:
- Я говорю от имени "Перконкруста", от имени руководства Совета.
То есть от вашего собственного, господин Язеп Ланцанс. Делить выгоды
умеете, так извольте и похлопотать.
- Какой грубиян!.. Ах, какой грубиян!.. - бормотал Ланцанс.
- Ежели вам нечего вложить в дело, какого же черта вы лезли в
компанию! Мы дали своих людей. Двое из них нуждаются в панихидах,
третий шныряет там, как затравленный волк. Ему уже наступают на хвост.
Не сегодня - завтра он - в западне. От этого никто из нас не выиграет
- ни мы, ни вы...
- Грубиян, грубиян... - повторил епископ, покачивая головой.
Прервав довольно долгое молчание, он, наконец, сказал: - После моей
встречи с пробстом вы получите ответ.
- Я и сам могу спросить пробста. Мы с ним старые приятели.
Ланцанс прикрыл глаза веками. Можно было подумать, что он очень
утомлен.
- По его отзывам о вас я не заметил, чтобы вы были друзьями, -
проговорил он, не открывая глаз.
Шилде насторожился.
- Что вы хотите сказать?
- Да простит мне бог, но не дальше как вчера преподобный Сандерс
предупредил меня: "Эта свинья Шилде..."
Настала очередь Шилде выказать возмущение:
- Это уж слишком!
- Я хотел, чтобы вы знали... - со смирением змеи ответил Ланцанс.
Шилде рассмеялся.
- Если вы думаете, что пустить между друзьями черную кошку -
благое дело, то позвольте и мне открыть пробсту глаза на вашу дружбу с
ним.
- Вы не слышали от меня ни одного дурного слова о преподобном
Сандерсе.
- Зато знаю, что, если бы не мои ребята из "Перконкруста", имя
преподобного Висвалдиса Сандерса давно было бы высечено на могильной
плите. - Шилде придвинулся к епископу так, что его губы едва не
касались лица собеседника. Тон его стал угрожающим: - Или вы забыли,
как еще в Латвии пустили полицию по следам Сандерса?
- Перестаньте! - крикнул епископ, сразу утрачивая спокойствие.
Даже голос его сорвался на испуганный фальцет. - Нечего вам совать нос
не в свое дело.
- Вам не хочется видеть мой нос в куче мусора, на которой сидите
вы? Но наш общий коллега по Совету господин Мутулис может в случае
надобности подтвердить все, что я скажу о вас пробсту. Так что вам
незачем особенно важничать передо мною, Ланцанс!.. Однако давайте
действительно закончим: если советские власти докопаются там до моего
человека, придется перестраивать всю работу и отказаться от дальнейших
услуг Силса. Это вы понимаете?.. Так помогите же нам!
Служка без стука вошел в комнату и, скользя по полу, как
угодливый кот, приблизился к епископу. В руке служки был поднос. На
подносе - рюмка с водой и маленький флакон. Епископ тщательно отсчитал
капли гомеопатического лекарства и выпил.
Шилде разбирал смех: тонкие губы епископа благоговейно шептали:
"Раз... два... три..." Бледные пальцы, как лапа коршуна, цепко держали
крошечный флакончик. - "Недостает только, чтобы он перекрестил это
снадобье", - подумал Шилде.
Служка стоял неподвижно, с опущенными к полу глазами. Когда рюмка
была возвращена на поднос, служка вышел так же бесшумно, как появился.
- Итак, мой дорогой Шилде, - проговорил Ланцанс, - вы сказали,
что второй из тех людей нам еще пригодится?
- Да.
- Несмотря на явку с повинной?
- Явка только маскировка. Она облегчает его положение.
- Да, да, помню... Вы умница, Шилде. Господь да хранит вас! Но...
что дает вам уверенность в преданности этого Силса? Можно ли
положиться на его честь?
- Честь? - Усмешка скользнула по губам Шилде. - Мне странно
слышать это слово, когда речь идет о таких, как Силс, и в приложении к
такой работе. Я держу их деньгами и страхом. Вот верные карты в моей
колоде.
- Страх? - недоверчиво переспросил Ланцанс.
- И деньги! Я сказал: и деньги!
- Плохая карта, Шилде, совсем плохая. - Епископ пренебрежительно
махнул рукой. - Всегда может найтись козырь постарше.
- Мы играем золотыми тузами.
Ланцанс рассмеялся:
- Творец вложил в человека неустойчивую душу: если смогли
соблазнить ее вы - могут соблазнить и другие. - Он наставительно
поднял палец, словно говорил с исповедником. - Плоть слаба, и соблазн
силен.
- Мне посчастливилось слышать эту сентенцию из уст самого
сатаны... В опере!
- Вот как?! Вы, оказывается, любите музыку.
С этими словами епископ подошел к стоявшей наискосок от окна
раскрытой фисгармонии. Не глядя, привычным движением опустил пальцы на
клавиатуру. На мгновение закрыв глаза, задумался. Звуки тягучего
псалма, мерно раскачиваясь, поплыли на волнах табачного дыма,
выпускаемого Шилде. Некоторое время Шилде в такт музыке покачивал
носком ноги. Выражение его лица обнаруживало напряжение мысли.
Ланцанс, по-видимому, только еще входил во вкус игры, когда Шилде
замахал руками и воскликнул:
- Не то, не то... Совсем не то! Там, в опере, с этим чертом в
красном, была совсем иная музыка.
Ланцанс с обиженным видом, не снимая рук с клавиатуры, ждал,
когда Шилде перестанет ему мешать. А тот делал попытку вспомнить
мотив, но так и не сумев его воспроизвести, напустил на себя важность
и задумчиво проговорил:
- Да, в жизни бывают периоды, когда музыка приходится кстати. Я
слышал, будто какой-то пианист или композитор именно через музыку
пришел в лоно церкви, стал монахом. Вот только забыл, как его звали.
Зато я помню его музыку. Тра-та-та-та-та!.. Тра-та! Тра-та! - Шилде
повторил несколько тактов из известной шансонетки, распевавшейся в
рижских шантанах.
Ланцанс грустно улыбнулся и покачал головой:
- У вас, конечно, отличный слух, просто прекрасный слух, но это
совсем не Лист. - Он взял несколько аккордов.
- Вот-вот! Это самое! - оживился Шилде: - Тра-та-та-та! Словно
лихой танцор отбивает каблуками... В молодости я любил потанцевать.
Ну, а потом... потом уж только и осталось: танцовщицы из Альгамбры...
Ах, какие там были девчонки! Из-за одной такой я... Впрочем, моя
биография вас не интересует.
- Напротив, Шилде, напротив. Святая церковь учит нас
интересоваться всем, что касается друзей. И мы, например, хорошо знаем
соблазнительницу, толкнувшую вас тогда на нарушение заповеди господней
"Не укради". Помним и то, что было потом. - При этих словах епископ
лукаво усмехнулся. - Да, у церкви хорошая память, господин Шилде. При
случае мы о многом можем напомнить тем, кто слишком кичится своей
безгрешностью. Но, когда нужно, мы умеем и многое забыть... - И
многозначительно добавил: - Если это нужно нашим друзьям... Однако я
хотел спросить: что, по-вашему, интересует этого... Силса?
- Какое мне дело до интересов всякого прохвоста?
- А как же вы надеетесь держать его в руках? Я уже сказал: не
всегда это надежно... Страх?.. Ведь Силса могут и оградить от ваших
угроз. Что ж у вас останется? Чем вы заставите его повиноваться? Где
кнут, волею божьей вложенный в вашу десницу, чтобы управлять
доверенными вам душами.
- Бог отпустил моей братии довольно темные души, - пробормотал
Шилде.
- Господь ведает, что творит. Каждому отпущено то, что следует.
Не нам испытывать его мудрость. - Ланцанс на мгновение молитвенно
поднял глаза к потолку и опустился в кресло. - Я хочу дать вам
совет... Не смотрите на меня так: опыт святой католической церкви
измеряется двадцатью веками. - Он улыбнулся. - Это, кажется, немного
больше опыта даже такого опытного организатора, как вы... Рядом со
страхом и деньгами - силами временными и преходящими - существуют
вечные силы... Вы вот упомянули о том не новом открытии, которое
оперный сатана преподнес вам, а забыли, что случилось с Фаустом. Вы
забыли о страсти более сильной, чем страх и золото.
- Такой страсти не существует.
- А любовь, сын мой? Греховное стремление людей друг к другу?
Только мы, убившие плоть свою во имя господне, не знаем над собою
власти страстей, не подчиняемся земной любви. Но опыт говорит нам,
что, начиная с грехопадения Адама, любовь царит надо всем, что есть
живого на земле... Кроме нас, кроме нас! - поспешно добавил епископ. -
Эта страсть ведет человечество к мнимому счастью и к бедам, к
процветанию царств и к гибели империй.
- Зачем этот устаревший трактат о любви, епископ?
- Затем, друг мой, что в вашей деятельности нельзя забывать: в
сердцах людей любви отведено значительное место.
- Человек человеку рознь!
- И все же, по воле создавшего нас, я не знаю такого сердца, для
которого хотя бы раз в жизни не пел соловей. И если вы не принимаете в
расчет земные привязанности своих людей - вы профан. И заранее можно
предсказать вам проигрыш.
- Мои люди не таковы!
- Неправда, девять из десяти ваших агентов такие же, как все
другие: из плоти и крови. Вы дурной организатор, Шилде, если не учли
этих пут среди средств, которые провидение дало вам, чтобы связать
Силса. Денег больше, чем вы, могут дать Советы...
- Они скупы.
- Только там, где надо, Шилде.
- Они не овладевают душами!
- При помощи денег, да. Но у них есть какие-то другие средства.
Овладели же они душою Круминьша, не дав ему ни гроша. Да разве одного
Круминьша?! А те сотни тысяч, миллионы латышей, что идут под их
знаменами?
Шилде слушал епископа, и взгляд его делался все мрачнее, все
больше морщился лоб и сердитым становилась лицо.
- Чего же вы от меня хотите? - спросил он.
- Помочь вам взять в руки Силса. Я хочу, - как мог отчетливей,
отделяя слово от слова, внушительно говорил епископ, - чтобы вы
заинтересовались привязанностями Силса.
- У меня нет возможности установить слежку за любовными
похождениями этого мальчишки. Один - двое калек, которые могут мне там
кое-как служить, не поспеют за этим молодцом, когда он начнет бегать
по девчонкам...
Епископ остановил его, подняв руку.
- Не то, не то! - Он брезгливо поморщился. - Конечно, проследить
за интимными связями Силса был бы смысл. Среди них может оказаться и
такая, которую вы сумеете использовать хотя бы для наблюдения за ним.
Но на этот раз я имел в виду иное: вы должны заняться связями Силса
здесь, у нас.
Шилде рассмеялся:
- Какие же связи могли у него сохраниться тут в эмиграции? Женат
он не был, детей не имел. Не думаете же вы, будто он сохранил
какую-нибудь, с позволения сказать, "любовь".
- Именно это я и думаю, друг мой.
- Вы смешите меня, епископ. Силс больше года хранит верность
какой-нибудь девчонке здесь?!
- Значит, Шилде, - все строже говорил епископ, - вы знаете
меньше, чем должны знать... У Силса здесь есть привязанность. И очень
крепкая привязанность... Это и есть тот козырь, который я вам дам,
чтобы вы могли перекрыть все советские карты. - По мере того как
епископ говорил, голос его делался все тише и сам он все ближе
подвигался к Шилде. И даже руки его, перестав шарить по пуговицам
сутаны, протянулись к собеседнику, словно что-то передавая: - Возьмите
эту карту, спрячьте ее, держите крепче. Если Силс узнает, что вы в
любой момент можете ее просто уничтожить, а то еще... иначе
использовать, скажем... взять себе в прислуги... - Епископ,
прищурившись, посмотрел Шилде в глаза. - Вот Квэп, например, любил,
чтобы горничные взбивали ему подушку... Она молода и хороша собой,
эта... Силсова Инга.
Епископ интригующе умолк. Шилде с живым интересом спросил:
- Вы действительно ее знаете?
Вместо ответа епископ не спеша проговорил:
- Поймайте ее, возьмите ее, и Силс станет мягок как воск.
- Как ее зовут?
После некоторого колебания епископ сказал:
- Инга Селга!.. Должен сознаться: приказ уничтожить Круминьша
представляется мне теперь ошибкой. Да, грубая ошибка - результат вашей
плохой работы. Если бы я в то время знал, что в моей канцелярии служит
возлюбленная Круминьша - некая Вилма Клинт, я ни за что не согласился
бы его убрать. При помощи этой Клинт мы взяли бы Круминьша в тиски. Он
пошел бы для нас в преисподнюю. О, он еще послужил бы нам! - Епископ
насмешливо поглядел на Шилде: - Если бы наша разведка работала как
следует... Это вы, мой дорогой Шилде, виноваты в том, что мы так
примитивно разделались с Круминьшем и потеряли в нем отлично
законспирированного человека в советском тылу.
- Теперь не стоит препираться по этому поводу! - примирительно
сказал Шилде и тяжело поднялся с кресла.
- Ну что же, мир вам, сын мой, грядите со господом, - ответил
епископ.
При этих словах его рука по привычке сложилась для благословения,
но Шилде, словно не замечая этого движения, простился рассеянным
кивком головы и пошел к двери.
Мысли его бежали теперь так же быстро, как и в начале встречи:
трудная лиса этот Ланцанс! Что может крыться за сообщением об Инге
Селга? Действительно ли иезуит подкинул ему козырь, имея в виду
интересы дела, или?.. Ох, трудная лиса!.. Как бы не оказалась
крапленой эта "козырная" карта. Шилде не должен забывать, что не
сегодня - завтра может случиться большая беда: Ланцанс приберет к
рукам все дела латышской эмиграции. Но что такое дела? Разве суть в
делах?! Тот, кто знает епископа, понимает: перво-наперво он
заграбастает денежки, отпускаемые оккупантами. Вот это будет настоящая
беда!..
Эта мысль заставила Шилде остановиться, как будто собственные
шаги мешали движению его мыслей.
"Ну что же, - думал он, - если дело повернется таким образом, то
придется выбирать: самому переходить на сторону Ланцанса или дать
кое-кому одно щекотливое... очень щекотливое поручение! Черная ворона
слишком раскаркалась!.. Как будто стала тут настоящей хозяйкой...
Посмотрим, посмотрим!.. А пока что нужно все-таки позаботиться о том,
чтобы исполнитель "операции Круминьша" не попал в руки советских
властей. И насчет Силса тоже следует подумать. Парень он крепкий, но
надо найти ему такую область применения, чтобы его не застукали в
первый же день. Следует подольше подержать его в консервации... К
сожалению, хозяева всегда спешат. Словно не понимают, как важно
закрепить человека на нелегальном положении годик-другой. Вот японцы,
те в этом отношении бесподобны: по десять лет держат свою агентуру на
консервации ради одного какого-нибудь задания. Но зато у них и
агентура! Не то что выдумки, которыми он сам вынужден пичкать хозяев,
ради поддержания в них бодрости. А то, не дай бог, захлопнут кошелек
перед самым носом!
...О чем это он должен был хорошенько подумать?.. Ах, да, Силс...
Этот парень еще пригодится".
Когда Грачик включился в расследование, Мартын Залинь уже был
арестован. Правда, основанием для ареста послужили обстоятельства,
показавшиеся по началу важными и достаточными: наличие ножа,
опознанного за нож Залиня; не объясненное Залинем отсутствие его на
работе вечером и в ночь преступления и некоторые другие улики.
Соображения следователя, ведшего дело, показались теперь Грачику
недостаточными для дальнейшего применения этой меры пресечения.
Слишком большое место в них занимали утверждения свидетелей, что
"убийца - Мартын, и никто другой!" Показания могли быть основаны на
вражде между Мартыном и Эджином, на ревности Мартына и на его угрозах
разделаться с соперником. А следователь, хотя и не новичок, по мнению
Грачика, все же попал в плен чужому мнению. Сыграла роль массовость и
единодушие высказываний рабочих бумажного комбината.
Так или иначе, доказательность материала, собранного против
Залиня, становилась, по мнению Грачика, недостаточной. Грачик считал,
что только в сочетании с другими изобличающими обстоятельствами,
имеющими неоспоримую силу, эти показания могли бы получить
вспомогательное значение, стать косвенными уликами. Но именно этих-то
"неоспоримых" обстоятельств в деле и не было. Вдобавок Мартын Залинь
доказал свое алиби: той ночью, когда произошла смерть Круминьша,
Мартын участвовал в гулянке с товарищами, а затем спал в общежитии, а
днем был на работе в комбинате. Грачик не видел оснований держать
Мартына под стражей. Следователь, от которого Грачик принимал дело, не
согласился с Грачиком. Их разногласие дошло до прокурора республики.
Грачик понимал, что ему предстоит нелегкий спор: как-никак ему
противостояли местные работники, Крауш не имел оснований им не
доверять.
Приглашенный на совещание в кабинет прокурора республики, Грачик
без особенного внимания следил за тем, как проходили другие, не
касающиеся его вопросы. Он разглядывал сидевшего на председательском
месте прокурора республики. Крауш был блондин невысокого роста с
усталым лицом. О нем говорили, как о большом пунктуалисте, зачем-то
стремившемся казаться сухарем, а в действительности только усталом, но
очень добром человеке, не в меру прямолинейном в разговорах с
начальством. Однако, на взгляд Грачика, черты прокурорского лица мало
гармонировали с отзывами о его доброте: сильно выдвинутая челюсть с
острым подбородком, маленькие глаза того мутного серо-голубого
оттенка, который не позволяет определить их подлинное выражение. Над
глазами - высокий выпуклый лоб. Все выглядело сурово и даже сердито.
Впрочем, тут же Грачик пришел к выводу, делавшемуся до него по крайней
мере тысячу раз в год в течение многих тысячелетий: "Куда приятнее
видеть доброго человека с суровым или хитроватым лицом, нежели
красавца, обладающего душонкой жестокого хитреца".
Время от времени лицо прокурора болезненно напрягалось от
душившего его кашля. Приступы этого кашля были часты и продолжительны
и сотрясали все тело прокурора. В начале приступа он поспешно хватался
за папиросу и глубоко затягивался. Дым, несмотря на кашель, долго
оставался где-то внутри прокурора. Лишь когда кашель кончался, дым
желтовато-сизой струйкой медленно выходил из ноздрей. Грачик с
удивлением, морщась от сострадания, глядел на задыхающегося прокурора
и не мог понять, как немолодой и умный человек пытается утишить кашель
папиросным дымом. Грачику казалось, что это равносильно тому, что
человек в трезвом виде стал бы гасить пожар, поливая его бензином.
Наблюдая прокурора, Грачик вдруг заметил, что взгляд того
почему-то с особенной настойчивостью остановился на нем самом.
Оказалось, что, увлеченный своими размышлениями, Грачик пропустил мимо
ушей, как ему было предложено изложить свою точку зрения на дело
Мартына Залиня.
Слишком резкий армянский акцент Грачика искупался его приятным
грудным голосом и ясностью, с какой молодой человек излагал свою
мысль. Несколько смущенный тем, что его застали врасплох, он все же
точно и твердо формулировал свое требование освободить Мартына.
Прокурор, уже выслушавший до того оппонентов Грачика, разразившись
очередным приступом бешеного кашля, сипловатым голосом устало
проговорил:
- Заключая под стражу Мартына Залинь, вы, - он указал карандашом
на сидевшего ближе всех следователя, - ссылались на статью сто
девятую, а вы, - его карандаш обратился в сторону сидевшего рядом со
следователем районного прокурора, - вы, не дав себе труда самому
тщательно разобраться в соображениях следователя, санкционировали
арест. Ход ваших мыслей мне ясен: "Наш человек всегда прав". Тут есть
даже ваше упоминание, ни к селу ни к городу, статьи двести шестой. Вы
ухватились за нее, полагая, что лучше немножко переборщить, чем
недоборщить. Но это старая система работы. О ней надо забыть! Я вас
спрашиваю, при чем тут двести шестая статья?!
- Видите ли... - начал было районный прокурор, но республиканский
перебил его, стукнув карандашом по стеклу, покрывавшему стол:
- Что мне видеть!.. Мы с вами отвечаем за соблюдение советской
законности в любых условиях и обстоятельствах. Это единственное, что я
вижу и советую видеть вам всегда и везде. Мы советские прокуроры! Надо
же это в конце концов понять до конца: мы око народа в его борьбе за
законность и за права каждого отдельного человека, хотя бы этот
человек сам и ничего не смыслил в вопросах права! Понимаете?!
- Я тщательно проверил свидетельские показания... - снова начал
райпрокурор.
- Я их тоже проверил, - резко перебил республиканский. - Но
проверил и ваши действия. Вы действовали так, как мы тридцать шесть
лет назад. Но тогда этого требовали от нас условия - потеря минуты
могла стоить слишком дорого. Не воображайте, будто мы не понимали
того, что действовали подчас вне рамок писанного права, - таково было
время, таковы были тогда условия диктатуры.
- К сожалению, - с несколько излишней задористостью заметил
Грачик, - кое-что такое имело место не только тридцать шесть лет
назад.
- Да, к сожалению, это случалось и позже. - Прокурор метнул на
него сердитый взгляд и, не глядя в его сторону, продолжал: - По разным
причинам право решать судьбу советского человека не всегда попадало в
руки его друзей. Но повторяю: это только случалось, а не было и не
будет правилом и примером для других. Не будет! - Карандаш сухо
стукнул по стеклу. - Мы с вами живем в период, когда меняются функции
и роли диктатуры, меняется наше отношение к букве закона и когда наша
с вами борьба за революционный правопорядок становится особенно
важной. - Его карандаш опять холодно стукнул. - И никому из нас не
будет дозволено действовать, руководствуясь одним только страхом.
- Кого же я боялся? - удивленно спросил следователь.
- Вы боялись остаться в дураках, если подозреваемый скроется. -
Следователь пожал плечами, в ответ на что прокурорский карандаш с
новой силой опустился на стекло.
- Для меня он был уже обвиняемым, - успел возразить следователь.
- Я предъявил ему обвинение. Органы дознания...
Карандаш стукнул несколько раз - громко, повелительно.
- Оставьте в покое органы дознания, - строго сказал прокурор. -
Ссылки на них вас не спасают. К тому же органы не действуют очертя
голову и подконтрольны нам в части санкций. За ваши действия отвечаете
вы сами. - Тяжкий приступ кашля снова заставил прокурора умолкнуть.
Давясь, он прикрыл глаза. Грачик почти со страхом смотрел, как он
багровеет, как слезы выступают из-под опущенных ресниц. Грачик был
слишком здоровым и жизнерадостным человеком, чтобы допустить мысль,
что подобные страдания (так ему казалось) могли стать привычными.
Поэтому Грачику хотелось что-то сейчас же сделать, чтобы помочь
прокурору откашляться, или хотя бы сказать ему несколько слов
сочувствия. Но никто из окружающих не обращал на этот кашель внимания.
Очевидно, это было всем уже так привычно, что заседающие
воспользовались паузой только для того, чтобы перекинуться между собою
несколькими репликами. Как только приступ окончился, совещание
продолжалось как ни в чем не бывало. Сам же прокурор и заговорил,
продолжая фразу, словно она и не прерывалась: - Отвечаете вы и никто
другой, - и оглядел сидящих за длинным столом прокуроров и
следователей: - Ваше мнение, товарищи?
Несмотря на порицание действий следователя, высказанное
прокурором республики, присутствующие вовсе не были единодушны в своих
оценках. Но все же совещание окончилось решением о необходимости
освободить Залиня, так как его алиби представлялось доказанным. На
следующий день Мартын был освобожден к удивлению и неудовольствию
рабочей общественности бумажного комбината.
Мартын вернулся в С. в шляпе, лихо сдвинутой на ухо, и, подойдя
ночью к окошку Луизы, сказал:
- Ну, погоди!.. Узнаешь, как на меня капать!
В кармане брезентовой куртки, надетой на Круминьша в момент
смерти, был обнаружен пистолет "браунинг". Его обойма была пуста.
Ствол носил следы выстрелов. Это могло служить подтверждением тому,
что Круминьш застрелил своего спутника, приняв его за работника
милиции. Проверка, произведенная по всей республике, показала, что
пистолет "браунинг" с таким номером на вооружении латвийской милиции
не значился. Никогда ни одному работнику милиции Латвийской ССР этот
пистолет не выдавался. Это могло служить еще одним доказательством
тому, что "арестовавший" Круминьша человек не принадлежал к аппарату
милиции - ведь Круминьш писал: "Застрелил офицера из его собственного
оружия".
Первый вопрос, который Грачик себе поставил, ознакомившись с
материалами дела, сводился к тому: почему, имея пистолет и патроны,
Круминьш повесился, а не застрелился? Допустить, что в обойме у него
имелось ровно столько патронов, сколько понадобилось, чтобы застрелить
конвоира?.. Тогда надо допустить, что Круминьшу понадобилось несколько
выстрелов, чтобы разделаться с конвоиром?.. Два, ну три выстрела в
любых обстоятельствах достаточно, чтобы попасть на близкой дистанции в
убегающего человека. А можно ли предполагать, что в обойме у
преступника имелось только два или три патрона? Это было маловероятно.
Допущение, будто Круминьш повесился было, по мнению Грачика, ошибкой.
Он настаивал на необходимости всесторонне исследовать версию
инсценированного самоубийства. Однако заключение, данное по этому
вопросу психиатрической экспертизой, гласило, что в том состоянии, в
каком находился в последние минуты жизни Круминьш, от него не
следовало ждать логических действий. Так же, как он повесился, имея в
кармане пистолет, он мог и утопиться; мог, располагая таким верным
оружием для уничтожения своего спутника, как пистолет, выжидать
удобного момента, чтобы задушить свою жертву или ударить камнем по
голове. По мнению врачей, несомненная психическая травма Круминьша
позволяет сделать любые предположения.
Грачик считал выводы экспертов неубедительными.
К этому времени в деле появилось новое обстоятельство. Стоило
слуху о том, что арест Круминьша был фиктивным, распространиться на
комбинате, как к властям явился местный католический священник отец
Шуман. Он предъявил снимок, сделанный в день "ареста" Круминьша. На
снимке был изображен "арестованный", идущий в сопровождении двух
неизвестных: один - в форме милиции, другой, - на заднем плане, лица
которого не видно, - в штатском. Фоном для всей группы служил местный
католический храм - маленькое деревянное сооружение, весьма дряхлого
вида и незатейливой архитектуры. Ошибиться в том, что идущие именно
названные лица, было невозможно: лицо Круминьша было отчетливо видно.
Все детали формы советской милиции на его спутнике были также ясно
различимы.
- Где вы взяли этот снимок? - спросил Грачик.
- Нескольким ателье было поручено сфотографировать наш скромный
храм, - ответил Шуман. - Я намеревался размножить снимок с целью
продажи прихожанам. Нам нужны средства на поддержание храма.
- И вы полагали, что снимок со столь неказистой постройки будут
покупать в таком количестве, что это может вам что-то дать?
- Именно в том, что вы изволите называть неказистостью, и
заключается смысл. Убогий вид нашего храма должен напоминать верующим
о бедственном положении дома господня. Продажа снимков была бы
источником дохода на поддержание храма.
- А каким образом эти трое попали на снимок? - спросил Грачик.
- Я сам этим удивлен, - отец Шуман пожал широкими плечами. -
По-видимому, фотограф не заметил, как они вошли в поле зрения
аппарата, или не придал значения тому, что на снимке окажутся
прохожие. Но я счел этот снимок испорченным и забраковал его. И только
теперь, когда до меня дошел слух о случившемся с Круминьшем, я
вспомнил об этой фотографии и счел своей обязанностью представить ее
вам. - Шуман ткнул пальцем в фотографию: - Вот видите: один из этих
людей - в форме милиции.
- Мы вам благодарны. Оставьте эту фотографию нам.
- О, разумеется!
Разговор казался оконченным, а священник все еще мялся. Он взялся
было за шляпу, но Грачик видел: что-то недосказанное висит у него на
языке.
- Вы хотите сказать нам еще что-то?
- Видите ли, - смущенно проговорил отец Шуман. - Фотографирование
обходится теперь так дорого... Я уплатил за этот снимок...
- Ах, вот в чем дело! - не без удивления воскликнул Грачик. -
Сколько же мы вам должны?
- Такой снимок, сделанный в одном экземпляре, фотографы ценят в
пятьдесят рублей. - И священник с поспешностью пояснил: - Они берут за
выезд из Риги.
Грачик вручил священнослужителю пятьдесят рублей, и тот,
церемонно поклонившись, ушел. Грачик внимательным взглядом проводил
его широкую спину и багровевший над нею мясистый затылок, прорезанный
у шеи узкой полоской крахмального воротничка. Когда Грачик смотрел на
розовый затылок, на белую полоску накрахмаленного полотна над черным
воротником пиджака, ему казалось, что он уже где-то видел и этот
мясистый затылок и эту белоснежную полоску над черным сукном... Но
где?.. Где?..
По привычке непременно вспомнить то, что показалось ему знакомым,
Грачик еще долго, настойчиво думал о затылке священника. Но нужное
воспоминание не приходило. И он решил, что память его обманула или при
взгляде на отца Шумана ему вспомнились подобные же, но другие
упитанные затылки.
Однако Грачик был упрям тем хорошим упрямством добросовестности,
какое необходимо всякому исследователю. Промучавшись ночь, напрягая
память, он наутро, не успев позавтракать, отправился к костелу в Риге
и первым вошел под его темные своды. В притворе еще не было даже
зажжено паникадило, и Грачик больно ударился протянутой рукой в
затворенную дверь. Сторожиха с нескрываемой неохотой загромыхала
ключами. В храме было тихо и пусто. Шаги Грачика не очень громко
отдавались на выщербленном, словно выбитом подковами полу. Грачик
прошел по рядам скамей. Запах времени, не слышанный Грачиком раньше,
въедался в его ноздри, как напоминание тлена, к которому с каждым
веком, с каждым десятилетием быстрей и верней шел этот памятник богу,
упрямо не желающему уходить в небытие. Грачик прошел на место, где
стоял во время богослужения несколько дней назад, когда приехал
поглядеть храм и обряды. Он, как тогда, прислонился к колонне и закрыл
глаза. И снова перед ним, как тогда, потянулось торжественное
богослужение. Скамьи заполнялись людьми, похожими больше на
любопытных, явившихся поглазеть на интересное зрелище, чем на
богомольцев... Грубо раскрашенные изваяния мадонны и святых лепились к
массивным опорам высокого свода. Ковер дорожки, протянутой от боковой
двери, яркой полосой алел вокруг всей церкви, ведя к алтарю. И,
наконец, появились, выплывая из низкой двери, фигуры
священнослужителей всех рангов. Почти всем им - большим и дородным -
приходилось нагибаться, чтобы не стукнуться о камень низкого свода.
Кружевные одежды поверх черных сутан, белоснежные галстуки. И надо
всем этим - хмуро сосредоточенные, налитые кровью, напоенные сознанием
своего значения, иссиня-багровые лица. Вот лицо важно вышагивающего
епископа. Он глядит в пол и ступает так осторожно, словно старается
ступить на след своего собственного огромного посоха. За епископом
целая процессия худых и толстощеких, но одинаково важных, одинаково
налитых кровью лиц. И где-то в хвосте процессии, рядом с маленьким
сухопарым старичком, облаченным в не по росту длинный хитон, с золотым
крестом на груди, - лицо - широкое, с отвисающими щеками и
насупленными белобрысыми бровями. Двойной подбородок лежит на глянце
крахмального воротничка. Лицо настолько красно, так напряженно, налито
кровью, словно этот воротничок давит шею священника подобно пыточному
ошейнику. Вот-вот, брызнет кровь из пор надувшегося лица...
Грачик хорошо помнит, что, глядя вслед процессии, он видел
затылок замыкающего священника - такой же налившийся кровью, такой же
раздутый, как щеки, подбородок, как все лицо... А не был ли перед ним
тогда этот самый Затылок? Тот же, который он видел вчера, - затылок
отца Шумана?
И сейчас, когда Грачик вспомнил, как церемонно поклонился отец
Шуман, взяв свои пятьдесят рублей, как важно шагал к выходу, показывая
широкую спину и складки затылка, Грачику почудилось, будто он снова
видит всю процессию там, в рижском костеле. Грачику чудилось, что он
без ошибки воспроизвел бы теперь и торжественную песнь органа, под
звуки которого совершалось шествие... Да, теперь он был уверен - вчера
перед ним был тот самый затылок! Красный затылок отца Шумана!
Нил Платонович Кручинин не принадлежал к числу людей, которые
легко поддаются настроениям. Но невнимание, проявленное Грачиком, все
же привело его в состояние нервозности, которую он и пытался сейчас
подавить, прогуливаясь по платформе Курского вокзала. Не слишком-то
приятно: молодой человек, воспитанию которого ты отдал столько сил и
представлявшийся тебе ни больше, ни меньше как продолжением в будущее
собственного кручининского "я", не приехал ни вчера вечером, чтобы
посумерничать в последний день перед расставанием, ни сегодня утром!
"Уехал за город" - этот ответ работницы не удовлетворил Кручинина.
Разумеется, дача в июне - это законно, но Грачик мог бы посидеть и в
городе, зная, что предстоит отъезд старого друга и немного больше, чем
просто учителя.
Кручинин прохаживался вдоль поезда, стараясь не глядеть на
вокзальные часы. Но часы словно сами становились на его пути: то и
дело их стрелки оказывались перед глазами. До отхода поезда оставалось
пятнадцать минут, когда Кручинин решил войти в вагон.
Именно тут-то запыхавшийся Грачик и схватил его за рукав:
- Нил Платонович, дорогой, пробовал звонить вам с аэродрома - уже
не застал. Боялся, не поспею и сюда.
- С аэродрома? - переспросил Кручинин.
- Вчера, едва я вам позвонил, - вызывают. - Грачик отер
вспотевший лоб и отвел Кручинина в сторону. - На аэродроме
происшествие: самолет из Риги, посадка, одну пассажирку не могут
разбудить. Тяжелое отравление. Летела из Риги. Никаких документов и ее
никто не встречает.
- Смерть? - заинтересовался Кручинин.
- Слабые признаки жизни...
- Позволь, позволь, - перебил Кручинин. - В бортовой ведомости
имеются же имена всех пассажиров.
- Разумеется, запись: Зита Дробнис. Пока врачи делают промывание
желудка, успеваю навести справку в Риге: Зита Дробнис не прописана.
Заказываю справку по районам Латвии. Но тут под подкладкой жакетика
обнаруживаю провалившийся в дырявый карман обрывок телеграммы из Сочи.
"Крепко целуем встречаем Адлере". Подпись "Люка", И еще...
- Телеграмма Зите Дробнис? - спросил Кручинин.
- В том-то и дело, что адреса нет - верхняя часть бланка
оторвана. Но это неважно. Прошу сочинцев дать справку по служебным
отметкам: номер и прочее. Узнаю: обратный адрес найден на бланке
отправления в Сочи. Уточняем: отправительница - дочь известного
ленинградского писателя отдыхает в Сочи и действительно ждет гостью из
Риги. Но ожидаемую гостью зовут вовсе не Зита Дробнис, а Ванда
Твардовская. Повторяю запрос в Ригу. Твардовская там оказывается. Даже
две: мать и дочь. Дочь по показанию соседей сутки как исчезла. Мать в
тот же день уехала, не сказав куда. Предлагаю организовать розыск.
Ясно, что имею дело с отравлением Ванды Твардовской - дочери.
Фальсификация имени в бортовой записи наводит на подозрение.
Заключение лаборатории НТО - яд, у нас мало известный: "Сульфат
таллия".
- Да, да, - живо подхватил Кручинин: - сульфат таллия очень
устойчив в организме. Эксгумация через четыре года позволяет
установить его присутствие в тканях трупа. Яд без цвета, запаха,
вкуса, не окрашивает пищу. Продолжительность действия определяется
дозой: от суток до месяца. Сульфат таллия был довольно распространен
за границей в качестве средства борьбы с грызунами. Поэтому там его
легко было достать. У нас не применялся. Отсюда - первый вывод: яд
может быть иностранного происхождения.
- Но в Риге он мог сохраниться со времен буржуазной республики, -
возразил Грачик.
- Ты прав, - согласился Кручинин. - Возможно... Дальше?..
Остается девять минут до отхода поезда. Нужно решать: брать мои вещи
из вагона?
- Зачем? - насторожился Грачик. - Вам необходимо ехать. Я
справлюсь. Но позвольте сначала...
- Нахал ты, Грач! - добродушно воскликнул повеселевший уже
Кручинин. - Откуда столько самоуверенности?.. Однако к делу! Симптомы
отравления сульфатом таллия: боль в горле, покалывание в ступнях и в
кистях рук; расстройство желудка, выпадение волос. Впрочем, это уже на
затяжных стадиях. Совпадает?
- Что тут можно сказать: ведь отравленная - без сознания.
- Да, черт возьми! Ее не спросишь, - разочарованно сказал
Кручинин. - Исход может оказаться и смертельным. - И вдруг
спохватился: - Эта телеграмма из Сочи - единственное, что при ней
было?
- Нет...
- Так что же ты молчишь?..
- Вы же сами не даете мне договорить... В самолете оказалась
вторая отравленная - соседка Твардовской по кабине. Москвичка. Ее
состояние много легче. Показала: Твардовская угостила ее, свою
случайную спутницу (они познакомились уже в самолете), частью своего
бутерброда и дала отпить чая, который был у нее в термосе. Бутерброд,
по-видимому, съеден весь, а в термосе осталось несколько капель чая. В
них нашелся яд.
- Ну, что же, - проговорил Кручинин. - Яд в термосе, который был
залит дома или в каком-нибудь буфете. Скорее всего, в ресторане
рижского аэропорта. Держись за эту ниточку. Она куда-нибудь да
приведет. - Он покрутил между пальцами кончик бородки. - Но странная
идея для самоубийцы: прихватить на тот свет случайную попутчицу... Или
Ванда - убийца соседки, а сама глотнула яд случайно, а?
- Исключено, - уверенно возразил Грачик. - Они не только не были
знакомы, но никогда в жизни не встречались.
- Положим, это еще не доказательство!.. Однако, действительно,
трудно допустить: дать жертве немножко яда, а самой выпить целый
термос... Интересно: дело о самоубийстве девицы, желающей умереть в
компании. Стоит мне застрять тут, а?.. Старость-то, брат, - не
радость: начинаю чувствовать, что и у меня есть скелет и положенные
ему по штату суставы.
- Поезжайте на здоровье, - настойчиво повторил Грачик. Ему не
хотелось, чтобы Кручинин остался. - Лечитесь, отдыхайте.
- Небось, разберешься?! - с оттенком некоторой иронии проговорил
Кручинин. - Ах, Грач, Грач! - Кручинин понял, что его молодому другу
хочется провести дело без помощи, и покачал головой. - Только не
забудь: за такого рода делом может оказаться и рука тех, оттуда. Но...
- Кручинин предостерегающе поднял палец, - не нужно и предвзятости.
- Не посрамим вашей школы, учитель джан! - весело отозвался
Грачик.
- Нравится тебе или нет, а, видно, придется отправиться в
Прибалтику раньше намеченного отпуска.
- Не беда, там и останусь отдыхать. Побольше покупаюсь в ожидании
вашего приезда, - и, заглядывая в глаза Кручинину, просительно: - А
вашу "Победу" можно взять? Когда приедете с юга, покатаемся по
Прибалтике, как задумали.
- Ежели дело тебя не задержит.
- Этого не случится, - беспечно отозвался Грачик, - хотя порой
затяжные дела вырастают на пустом месте. Произошло ограбление или даже
убийство, - кажется, просто: нашли нарушителя, изобличили, осудили и
дело с концом. А глядишь, дело-то еще только началось - и растет,
растет, как лавина. Даже страшно подчас становится.
- А ты не бойся, Грач, - добродушно усмехнулся Кручинин лавина
опасная штука, слов нет, но... не так страшен черт...
- Это конечно... - живо согласился Грачик. - Вот, знаете, у нас в
горах, в Армении, так бывает: начинается пустяковый обвал. Ну просто
так, ком снега, честное слово! Катится с горы, катится и, глядишь, -
уже не ком, а целая гора. Честное слово, дорогой, настоящая гора
летит. Так и кажется: еще несколько минут, и - конец всему, что есть
внизу, у подножия гор. Будь то стада - не станет стад; селение - не
будет селения. Лавина!.. Само слово-то какое: лавина! Будь внизу город
- сплющит, раздавит! Просто - конец мира!.. Но вот стоит на пути
лавины скала - так, обыкновенная скала, даже не очень большая. А
глядишь, дошла до нее лавина, ударилась, задержалась, словно
задумалась, и... рассыпалась. Только туман вокруг поднялся такой, что
света божьего не видать. Тоже вроде светопреставления... Что вы
смеетесь? Честное слово! А прошло несколько минут, и смотрите: ни
лавины, ни тумана - только на долину снег посыпался и растаял на
солнце. Вроде росы. Люди радуются, стада радуются, цветут селения под
горой...
Кручинин положил руку на плечо друга.
- Это ты мне притчу, что ли, рассказываешь?
- Правильно вы сказали, дорогой, у меня вроде притчи получилось:
ком снега - это они. Катятся с грохотом, с шумом - конец мира. А вот
стоит на их пути скала...
- Скала - это ты, что ли?
- Все мы, а я - маленький камешек.
- Не шибко видный из себя? - подмигнув, спросил Кручинин.
Грачик потрогал пальцем свои щегольски подстриженные черные усики
и рассмеялся.
- Я только говорю: грохот, шум, страху - на весь мир. А один,
только один крепкий камень на пути и - туман!..
- Надеюсь, - со смехом подхватил Кручинин, - в июне лавин не
бывает, а?
- Конечно... июньское солнце на Кавказе - ого!.. Неудачное время
для отдыха выбрали.
- Лучше солнце в июне, чем толпы курортников в августе.
- Вы становитесь нелюдимым?
- Пока нет, но в дороге и на курорте предпочитаю малолюдство.
Особенно перед тем, что мне, кажется, предстоит...
Грачик навострил было уши, но Кручинин умолк не договорив. Он так
и не сказал молодому другу о том, что получил предложение вернуться на
службу. Назначение в следственный отдел союзной прокуратуры манило его
интересной работой, но хотелось сначала отдохнуть и набраться сил.
Грачику он сказал с самым незначительным видом:
- Однако пора прощаться, вон паровоз дал свисток.
Они крепко расцеловались, и Кручинин на ходу вскочил на подножку
вагона.
Грачик глядел на милое лицо друга, в его добрые голубые глаза, на
сильно поседевшую уже бородку над небрежно повязанным галстуком и на
тонкую руку с такими длинными-длинными нервными пальцами, дружески
махавшую ему на прощанье.
Кажется, в первый раз с начала их дружбы они ехали в разные
стороны.
Грачик зашагал прочь от грохотавших мимо него вагонов.
Сегодня и ему предстояло покинуть Москву. Но путь его самолета
лежал на север, в Ригу, по следам Ванды Твардовской, по следам
нескольких капель чая, содержащих признаки сульфата таллия...
...И ВОТ
ЧТО
ВЫШЛО
ИЗ ЭТОЙ ПОЕЗДКИ
Латвийской ССР
ДЕЛО N 13/C
По обвинению
Диверсионной группы
по ст. 58/6, 58/8, 59/9 и 136 Уголовного кодекса
НАЧАТО 20 мая 1955 г.
Закончено 18 ноября 1955 г.
Том N 1-12 НА 2842 листах
Несмотря на обычную дождливость июня в этих краях, на этот раз
погода была на стороне гуляющих. Лодки одна за другой отваливали от
освещенного берега маленького заводского сада. Стоило гребцам сделать
несколько ударов веслами - и суда исчезали в темноте. Они без шума
скользили по черной, гладкой до маслянистости поверхности Лиелупе.
Лодка удалялась от берега, и на ней возникала песня. Молодые голоса
славили лето, славили народный праздник Лиго, прошедший до социализма
от языческих времен, сквозь тысячелетия христианства, сквозь века
неметчины, - праздник, ставший просто радостным зрелищем, с цветами, с
песнями, с прогулками по реке и с прыжками через костры. Цветы и огонь
были приметами этой ночи. Цветы, огонь и песни.
Из полосы света, отбрасываемой яркими электрическими шарами с
пристани, ускользнула и лодка, в которой, среди других, были Эджин
Круминьш и Карлис Силс, недавно появившиеся среди заводской молодежи.
Оба сидели на веслах. Но когда лодка удалилась от берега, Круминьш
положил весла и повернулся к Мартыну Залиню. Залинь был парень
огромного роста и, что называется, косая сажень в плечах. Его
маленькая голова, остриженная бобриком, казалась еще меньше на этом
большом тяжелом теле, занимавшем всю лавку на корме между девушками.
- Передай мне аккордеон,- сказал Круминьш Мартыну.
Получив инструмент, он заиграл. Одна из девушек запела:
Циткарт, циткарт,
Ка яуна бию,
Зедню, на розе,
Ка магониня;
Стайгаю пуоигиус, бракведама,
Ка лацитс аузиняс брауцидамс...
(В то время, в то время, Как была молода, Я цвела, как роза, Как
маков цвет; Я ходила, перебирая молодцев,
Как медведь перебирает овес...)
Но другая девушка остановила ее:
- Перестань, Луиза!.. Что ты затянула какую-то древность, будто
действительно стала старушкой... Если уж вспоминать старинные песни...
Эджин, сыграй так, - и, пристукивая ногой, подсказала Круминьшу
несколько незамысловатых тактов. Тот растянул свой аккордеон. Девушка
весело запела:
Кае пуйсити виру Сауце?
Писитс мейту смейейиньш,
Кас азити лопу сауце?
Азитс карклу граузейиньш...
(Кто считает парня за человека? Парень только пересмеивает девиц,
Кто считает козла за скотину? Козел только грызет лозу.)
Она со смехом оборвала пение и крикнула:
- Пусть-ка Эджин и Карлис споют что-нибудь из того, что пели там,
у себя!.. - На словах "у себя" она сделала особенное ударение.
- Послушай, Ирма, - возмутилась Луиза, - почему ты сказала это
так, словно "у себя" они были именно там, а не тут, с нами.
- Ты думаешь, что я не должна так говорить?.. Но ты же поняла
меня.
- Я-то поняла, но мне думается, неправильно так говорить о наших
ребятах.
- Хм... - иронически пробормотала Ирма. - Наши ребята!.. Кстати,
Карлис: почему вы очутились именно тут, на нашем комбинате?
- Мне кажется... - несколько смущаясь, начал было Силс, но Луиза
снова сердито крикнула Ирме:
- А почему ты об этом спрашиваешь? Что ты за контролер, какое
тебе дело?
- Помолчи, Луиза, я ведь не тебя спросила, а Карлиса.
- Все равно, ты не имеешь права...
- Почему же, - с усмешкой вмешался Круминьш, - почему Ирме и не
спросить, если ей это интересно?.. Мне кажется, что власти определили
нас сюда потому, что мы знаем свое дело.
- Ты-то бумажник, а Карлис?.. Он всего только монтер. Почему же
вы оба здесь, вместе? - настаивала Ирма, и в голосе ее звучала
неприязнь, все больше раздражавшая Луизу.
- Мы друзья, мы всегда были вместе, и мне кажется... - негромко
начал опять Круминьш.
- Все-таки тебе кажется... а мне вот кажется... - Ирма вдруг
умолкла и после паузы иронически повторила: - Подумаешь, друзья!
Молодые люди переглянулись, и Круминьш пожал плечами.
- Не обращайте на нее внимания, - сказала Луиза. - Ирма, отстань!
Но та упрямо продолжала:
- Оба вы работаете у сетки?
Вместо ответа Круминьш бросил на Ирму сердитый взгляд. При свете
спички, от которой он прикуривал, было видно, как сошлись его брови.
Он взялся за аккордеон и снова заиграл, но вовсе не то, о чем
просила Ирма. Луиза поняла желание Круминьша петь именно то, что поют
здесь, а не там, откуда он и Силс не так давно пришли. Луиза запела,
но Ирма все не унималась и мешала ей. Круминьш отложил аккордеон и
вернулся к веслам. Однако было заметно, что ему не хочется грести.
Только мало-помалу дурное настроение разошлось. Круминьш опять
принялся шутить и смеяться, как шутил с самого начала, когда они
готовили лодку, укладывали в нее палатку и продукты, со смехом и
спорами выбирали места. По всему было видно, что Круминьш - весельчак
и душа этой компании.
Сильными ударами весел Круминьш и Силс дружно погнали лодку на
середину реки, в самую быстрину. И тут Круминьш снова оставил весла и,
пробравшись на нос, стал с чем-то возиться, чего не было видно с
кормы. Вот он чиркнул спичкой. Блеснул огонек, разгорелся, вспыхнул
листок бумаги, ветка, и через минуту костер, сложенный из сухой коры и
ветвей, ярко пылал на носу лодки. Легкий ветерок сдувал в сторону
пламя, но Силс изменил направление лодки, и пламя стало почти
вертикально.
Как только с других лодок увидели этот костер посреди реки, со
всех сторон послышался плеск весел, раздались веселые крики. Лодки
стекались к костру, как к центру, и закружились вокруг него в широком
хороводе.
- Теперь нужно прыгать через этот костер, - сказала Ирма. - Кто
первый?
- Перестань! - оборвала ее Луиза. - Доедем до берега, там и будем
прыгать.
- Я хочу здесь! - не унималась Ирма.
- Сама и прыгай!
- Пусть начинают они, - Ирма указала на Круминьша и Силса.
Силс насмешливо вздернул крепкий подбородок. Он был
рассудительный парень и понимал: на лодке никто через костер не
прыгает. Ведь и прыгать некуда, кроме воды. Ирма, разумеется, только
шутит.
А Круминьш сказал Ирме:
- На берегу я разведу специально для тебя такой костер, что ты
опалишь себе юбку.
- Трусы! - с пренебрежением проговорила Ирма.
В ярких отблесках костра было хорошо видно лицо Круминьша, когда
он повернулся к девушкам. Оно казалось совсем красным, и его волосы из
русых стали ярко-рыжими.
- Ой, Эджин, какой ты страшный! - вскрикнула Ирма. - Такими
рисуют разбойников! А в общем трусишки!
- Разумеется, мы трусы, - шутливо согласился Силс. - Самые
настоящие трусы.
При этих словах Круминьш повернулся к корме. Лицо его стало еще
красней, и волосы запылали, как второй костер. Ни слова не говоря, он
нагнулся и быстро расшнуровал ботинки. Одним движением сбросил пиджак.
Увидев это, Луиза испуганно вскрикнула и сделала было порывистое
движение, намереваясь удержать Круминьша. Но сидевший рядом с нею
Мартын схватил ее руку так крепко, что Луиза охнула и послушно
опустилась обратно на лавку. Между тем Круминьш был уже на носовой
банке и, оттолкнувшись, перескочил через нос лодки, где пылал костер.
Толчок был так силен, что лодка только-только не зачерпнула воды. На
этот раз и Ирма вскрикнула от испуга.
С нескольких лодок, откуда видели прыжок, раздались
рукоплескания. Гармоника заиграла марш. Крики, подхваченная кем-то
песня и громкий смех - все смешалось в нестройный хор. За ним не было
слышно, как перепуганная Луиза умоляла Мартына спасти Круминьша. А
Мартын только глядел на нее исподлобья своими маленькими глазками и
смеялся.
Силс бросил весла. Не отрывая глаз от поверхности воды, он
торопливо расшнуровывал ботинки. Но вот после длительного нырка
показалась голова Круминьша. Он был уже далеко от лодки и сильными
взмахами плыл к берегу.
Силс подогнал к нему лодку.
- Влезай!
Круминьш оттолкнул протянутую ему руку Силса и продолжал плыть в
прежнем направлении.
- А ты не трус, - виновато проговорила Ирма. - Когда ты вылезешь,
я тебя поцелую.
- Сначала тебе придется его хорошенько выжать и просушить, -
угрюмо сказал Мартын.
- Не беда, - заявила Ирма. - Такого можно поцеловать и мокрым.
Мартын с подчеркнутым пренебрежением повернул свою широченную
спину плывущему Круминьшу. Потом вдруг подвинулся к Силсу, взял у него
весло и принялся быстро грести, отгоняя лодку прочь от Круминьша.
- Что ты делаешь?! - крикнула Луиза, пытаясь отнять у Мартына
весло. Она была слишком слаба, чтобы справиться с огромным парнем,
однако все-таки ему мешала. Движения Мартына стали неловкими - весло
то чертило по воде, то погружалось в нее по самый валек. Мартын
оттолкнул Луизу и сильно занес весло вперед. Широкая лопатка прошла
над самой головой Круминьша, едва не ударив его по затылку.
- Отбери же у него весло, Карлис! - закричала Луиза со слезами в
голосе. - Он убьет Эджина!.. Он его убьет.
- Это было бы лучше всего! - вырвалось у Мартына.
Силс взялся за весла и продолжал держать лодку возле Круминьша,
пока тот не нащупал ногами дно и не пошел к берегу.
Костер догорал. Расправленная на козелках одежда Круминьша
подсыхала. А он лежал у огня в одних трусах и помешивал угли. Рядом с
ним, на песке, забросив за голову короткие, сильные руки, вытянулся
Силс. Остальные спали в палатке.
Продолжая, по-видимому, давно уже начатый разговор, Силс
вполголоса говорил:
- ...Тебе теперь нравится Луиза! Это твое дело. А я по-прежнему
люблю Ингу.
- Как же ты можешь не порвать с нею, если ты здесь, а она там? -
возразил Круминьш.
- Я должен быть с нею.
- Что значит "должен"? - нахмурившись, спросил Круминьш.
- Не знаю... Но так... должно быть... Мне не надо другую.
- Ты ответь мне ясно, - настаивал Круминьш, - что значит твое
"должен"?
- Ну что ты пристал?!
Силс не договорил и отвернулся. Круминьш придвинулся к нему и,
повернув его за плечи лицом к себе, посмотрел ему в глаза.
- Что ты злишься? - спокойно спросил Круминьш.
- Я? - Силс пожал плечами. - Просто хочется тебе сказать:
неприятно, когда ты... одним словом, когда вмешиваются в мои отношения
с Ингой. Ведь я не касаюсь твоих дел с Луизой...
Круминьш испуганно оглянулся на палатку и приложил палец к губам.
Ему вовсе не хотелось, чтобы этот разговор услышал Мартын, хотя
Круминьш и не видел ничего предосудительного в том, что ему нравится
Луиза. Если бы она была женой Мартына - другое дело. Тогда Круминьшу и
в голову не пришло бы обнаружить свое чувство к ней. Да и она не стала
бы слушать Круминьша. Он в этом уверен. Ну а то, что Мартына и Луизу
считают женихом и невестой, вовсе еще не означает, будто он, Круминьш,
не может... не должен... Что в самом деле связывает его?.. Мартын ему
не друг, не приятель. Был бы на месте Мартына Карлис Силс - другое
дело!.. Но ничего, кроме неприязни, Круминьш не чувствует к грубому
верзиле и считает, что тот вовсе не пара такой девушке, как Луиза.
Правда, Круминьшу передавали, будто Мартын как-то проговорился, что не
простит Круминьшу, если тот отобьет у "его невесту. Если это случится,
говорил Мартын, - то он посчитает Круминьшу ребра. Наплевать, мол,
Мартыну, на то, что с этим "опытно-показательным перебежчиком" Эджином
(так сказал Мартын) носятся как с писаной торбой! А самым лучшим, по
словам Мартына, было бы, если б нашелся "смелый и честный" советский
человек, который покончил бы с этим Круминьшем - ни богу свечка, ни
черту кочерга!..
Да, так сказал Мартын. Это многие слышали.
Если после этого Круминьш счел возможным плыть с ним в одной
лодке, то лишь потому, что Луиза умоляла не делать скандала. Но рано
или поздно им придется столкнуться на узкой дорожке. Круминьша
нисколько не пугает то, что Мартын силач и что у него опыт в драках,
приобретенный еще во время беспризорничества - Круминьш тоже не
напрасно обучался приемам рукопашного боя...
Силс долго сидел, молча вороша головни костра. Наконец сказал:
- Пора спать.
- Спать?.. - рассеянно переспросил Круминьш. - А как тебе
нравится то, что давеча болтала Ирма?
- Что именно?
- Насчет нас с тобой, насчет комбината и... все такое.
- Пусть болтает, что хочет, - беспечно ответил Силс.
- А почему она спросила насчет сетки?
- Пусть, говорю, болтает... Мне все равно.
- А мне не все равно, - твердо проговорил Круминьш. - Нет, мне не
все равно. Я не хочу, чтобы кто-нибудь смел болтать такое...
- Ничего особенного.
- Ты думаешь?.. А я не думаю. Сетка - самая уязвимая часть
производства. Выход из строя сетки означает остановку комбината.
- Сегодня остановился, завтра снова пошел.
- Нет, это не так просто. За одной сеткой всегда может порваться
вторая.
- За второй - третья и так дальше? - рассмеялся Силс.
- Ты напрасно смеешься, Карлис: что-то здесь есть, - в раздумье
возразил Круминьш. - Запас сеток не бесконечен.
- Ну нет сеток, есть сетки - какое мне до этого дело. Оставь меня
в покое с этой чепухой.
- Это не чепуха, Карлис. Если так говорит Ирма, значит...
- Ничего это не значит! Выбрось это из головы. Ирма злая
девчонка. Вот и все!
Он снял с прутьев одежду Круминьша и положил ее рядом с другом.
- Давай-ка спать, - повторил Силс, - все твое просохло.
Силс полез в палатку, а Круминьш стал одеваться.
Оставшись один, он собрал в кучу рассыпавшиеся угли, подбросил в
них несколько сухих веток и остановился над костром. Хвоя потрещала,
словно лопающиеся на сковороде орехи, пустила густой клуб белого дыма
и вспыхнула ярким пламенем. Ветки сгорели быстро и сразу рассыпались в
легкий пепел, припудривший крупные уголья. Головни под ним то делались
ослепительно яркими, то серенькая пленочка пепла быстро одевала их,
как веко одевает засыпающий глаз, и снова исчезала. Будто угольки
лукаво подмигивали Круминьшу. Он долго глядел, как они мигают, и у
него зарябило в глазах. Он зажмурился и постоял с закрытыми глазами.
Круминьш не пошел в палатку. Расстелил пиджак возле костра и лег,
подперев голову. Так лежал он, глядя на звезды, пока голова не
склонилась сонно на подложенный в изголовье рюкзак...
Полотнище, закрывающее вход в палатку, приподнялось, и из-под
него выглянула Луиза. Некоторое время она приглядывалась к лежащему
Круминьшу и прислушивалась к дыханию спящих в палатке товарищей. Затем
осторожно, шаг за шагом, передвигаясь на коленках, вылезла из палатки.
Присев на корточки, огляделась, пригладила растрепавшиеся волосы,
по-прежнему на четвереньках подкралась к Круминьшу и села возле него.
Долго глядела на него, осторожно протянула было руку к его лбу, но
только подержала ее над головой спящего, не решаясь притронуться. И
так же осторожно, словно даже это движение могло нарушить сон
Круминьша, отвела руку в сторону и только тогда опустила себе на
колено.
Так Луиза продолжала сидеть, не шевелясь и не сводя глаз с лица
спящего. Но кому не доводилось испытать на себе во сне пристальный
взгляд человека? Кто не помнит, какое беспокойство овладевает при этом
спящим?! Круминьш что-то сонно пробормотал и повернул голову. Заметив,
как затрепетали его веки, Луиза отвела взгляд, но было уже поздно -
Круминьш сел одним движением. Он проснулся так, как просыпаются
охотники и разведчики, - мгновенно, без постепенного перехода от сна к
бодрствованию, без зевков и потягивания. Присутствие Луизы не только
не испугало, но даже не удивило его. Он улыбнулся и протянул руку. Она
схватила ее обеими руками и прижала к своей щеке. Ладонь Круминьша
была так горяча, что Луиза с наслаждением зажмурилась. От руки Эджина
пахло дымом и чуть-чуть табаком, ровно настолько, чтобы этот запах не
был неприятен.
Круминьш охватил Луизу свободной рукой и притянул к себе. Ему не
нужно было употреблять для этого никакого усилия: она сама подалась к
нему.
Луиза лежала возле Эджина на песке, нагретом пламенем костра, и
смотрела перед собой широко раскрытыми глазами. И ей чудилось, что нет
возможности отличить, где горят звезды в небе и где глаза Эджина. Ее
губы шевелились без звука, но ему казалось, что он хорошо слышит и уж,
конечно, понимает каждое не произнесенное ею слово.
Вокруг них полусонным предутренним шелестом шептались деревья. В
ногах едва слышно журчала в камышах река. Где-то изредка вскрикивала
выпь. Но, видно, до болота было очень далеко. Луизе подумалось, что
стон птицы похож на грустный зов фаготиста.
Несмотря на свежий предрассветный ветерок, тянувший с реки, Луизе
не было холодно: Круминьш накинул на нее свое одеяло, оставив себе
всего лишь маленький, совсем маленький край. Луизе казалось, что от
Круминьша исходит столько тепла, что и вовсе не будь здесь одеяла, ей
не было бы холодно.
Было так хорошо, что скоро перестало хотеться глядеть даже в
глаза Эджину... А может быть, это и были звезды, а вовсе не его
глаза?.. Может быть...
Едва шевеля губами, так тихо, что Круминьш не слышал слов, она
шептала:
Эс редзею Яню накти
Трис саулитес узлецам:
Уна рудзу, отра межу,
Треша тира судабиня...
(Я видела, что в Иванову ночь Взошли три солнышка: Одно ржаное,
другое ячменное, Третье чистого серебра...)
Она осторожно - так осторожно, что Эджин и не почувствовал, -
коснулась губами его опущенных век и сама закрыла глаза...
Из того, что случилось, Луиза видела только мелькнувшее перед нею
в сером полумраке рассвета искаженное лицо Мартына; видела, как его
колено опустилось на грудь спящего Эджина, прижимая его к земле. В
следующий миг в руке Мартына сверкнуло широкое лезвие ножа. А еще
через мгновение, не успев издать ни звука, она почувствовала во рту
вкус теплой крови и, словно издалека, услышала злобное рычание
Мартына. Выпущенный им нож упал в песок перед самым лицом Луизы. Она
схватила нож. А сам Мартын, отброшенный сильным толчком Круминьша,
упал на спину, вздымая вокруг себя тучу пепла потухшего костра.
Только тогда Луиза закричала. Крик ее был истерически
пронзителен. Из палатки выскочил Силс. За ним, сонно потягиваясь,
выползла Ирма. Круминьш сидел, болезненно морщась и потирая грудь.
Мартын медленно поднялся и процедил сквозь зубы, не глядя на
Круминьша, но так, чтобы он мог слышать и только он один:
- Все одно ты от меня не уйдешь...
Рука Луизы ходила ходуном, когда она передавала Силсу нож
Мартына, и губы ее дрожали так, что она ничего не могла сказать.
В народе болтали, будто Квэп не совсем нормален, - служба в
Саласпилсе не прошла ему даром. Но сам Арвид Квэп, да и не только он
сам, а и те, кто знал его поближе, понимали: это болтовня, не больше,
чем болтовня! О ком не говорят дурно? В особенности, когда нечего
делать и больше не о ком говорить, сплетничают о ближайшем соседе!
Зависть ближних - плохая основа для репутации человека; будь даже его
жизнь прозрачна, как хрусталь, и чиста, как душа младенца.
В нынешнем "Лагере Э 17 для перемещенных" не было латышей,
избежавших могил Саласпилса, а значит, не было и людей, знавших Квэпа
в прошлом. Жители лагеря Э 17 могли судить о Квэпе не иначе, как по
отдаленной молве. А ведь молва складывается подобно хвосту кометы из
частиц туманности. Каждая частица в отдельности, может быть, ничего и
не стоит, но собранные вместе, они образуют хвост и такой липкий и
длинный, что человеку отделаться от него труднее, чем от собственной
жизни.
Простые люди не могли себе представить, что можно спокойно ходить
по улицам, есть, спать и просто даже жить, если хотя бы половина того,
что приписывали Арвиду Квэпу, была правдой.
Разные люди были в лагере: такие, которых оккупанты силой угнали
с родины, и такие, которые сами бежали, спасаясь от справедливого
суда. Но все носили теперь странное наименование "перемещенных лиц".
Тут были люди различных профессий и разных слоев общества в прошлом.
Были учителя и коммивояжеры, электромонтеры и артисты, прачки и
портнихи, ученые и не окончившие курс гимназисты, землепашцы и
инженеры, и люди иных, самых разнообразных профессий и положений. Не
было в лагере только тех, кто покинул Латвию с чековыми книжками в
карманах, - капиталистов и спекулянтов. Для таких нашлось пристанище
там, где можно было делать деньги. Но теперь не о них и речь.
Что касается самого Квэпа, то он не был склонен поддерживать
собственную репутацию в том виде, в каком она нравилась бывшим
полицейским и добровольным стражникам - айзсаргам! Он считал, что еще
не настало время выйти из тени таким, как он. А пока он скрывался в
тени вот уже восемь лет. С того самого дня, как пришлось сменить
службу в нацистском лагере "Саласпилс" на скромное положение рядового
перемещенного, без всяких официальных званий, хотя это вовсе и не
означало отсутствие у Квэпа сложных обязанностей. На службе у главарей
новой эмиграции обязанности Квэпа не стали более узкими по сравнению с
тем, что он делал прежде, но даже расширились. В "Саласпилсе" его
глазной функцией была организация шпионажа среди заключенных. Ныне к
роли организатора внутреннего осведомления среди перемещенных
прибавились кое-какие операции внешнего порядка. Эти операции
протекали далеко за пределами лагеря Э 17 и даже за пределами страны,
где находился лагерь. За последние пять лет Квэп сделал успехи и
приобрел у Центрального латвийского совета репутацию хорошего
организатора разведки. Главари Совета были им довольны. Был доволен
собою и он сам. Темным пятном маячила на горизонте только угроза, что
придется когда-нибудь самому отправиться за кордон для выполнения
какой-нибудь антисоветской диверсии. До сих пор Квэпу удавалось
благополучно обходить этот риф. Он всегда умудрялся подсовывать вместо
себя кого-нибудь другого. И каждый раз потом благодарил бога за то,
что его миновала неизбежная участь очередного посланного за советский
кордон: очутиться в руках советских властей.
С тех пор как начали планомерно работать школы для подготовки
диверсантов и шпионов, организованные руководством новой эмиграции,
опасение Квэпа быть посланным в советский тыл сделалось меньше. Школы
давали молодых парней, подготовленных по всем правилам науки шпионажа
и диверсий. Право, эти молодчики были надежней его самого в таком
деле, как путешествие за кордон. И если бы не пилюля, поднесенная
Совету двумя молодцами из выпускников шпионской школы, все шло бы как
по маслу.
При воспоминании об этих двух кулаки Квэпа сжались и взгляд
маленьких глаз сделался мутным. Он стал таким, как во времена
"Саласпилса", когда Арвид Квэп, наскучив тайной работой среди
заключенных, появлялся на площадке для наказаний. Это бывали дни
публичных экзекуций над теми, кого шпионская сеть Квэпа ловила на
"месте преступления", - при организации побега, при подготовке
восстания или просто во время антигитлеровской "пропаганды" среди
заключенных. В такие дни Квэпу принадлежала привилегия самому привести
в исполнение приговор над выловленным. Да не подумает читатель, будто
Арвид Квэп брал в руки плеть, или рыл могилу на глазах обреченной
жертвы, или толкал ее в дверь крематория. Упаси бог! Для такой работы
в лагере существовали палачи и подручные. А уж могилы-то могли рыть
себе и сами жертвы. Нет, нет, Квэпу доставляло удовольствие
приготовить узел петли, которая затянется на шее повешенного. Ради
этого он взял несколько уроков у палача. Достигнув совершенства в этом
деле, он даже изобрел собственный способ вывязывать смертную петлю.
Она отлично затягивалась, но ее невозможно было распустить. "Узел
Квэпа", применявшийся для казни узников, был предметом его гордости. А
нацистское начальство в целях поощрения усердного служаки назначило
ему своего рода "патентное вознаграждение" (так выразился комендант
лагеря) за каждого повешенного по его способу. Такое внимание
начальства льстило Квэпу, и он не раз в беседах с друзьями сам
аттестовал себя "талантливым малым".
Однако с течением времени Квэпа перестало удовлетворять
созерцание действия его петли. Он стал иногда позволять себе
пощекотать нервы тем, что брал руку казнимого, когда того сотрясали
последние конвульсии.
Квэп любил еще отсчитывать удары палки или плети. Он по глазам
жертвы судил, сколько она может выдержать, прежде чем потеряет
сознание и пытка станет неинтересной. Любил поглядывать и на то, как
застывает человек, обливаемый водой на морозе.
Но все это было в прошлом. Квэп считал, что его подло надули,
поселив рядом с лагерем, где якобы должны были возродиться порядки
"Саласпилса". Лагерь Э 17 оказался обыкновенным скопищем голодных
рабов. "Патриотические" общества эмигрантских заправил черпали отсюда
дешевую рабочую силу для своих коммерческих комбинаций. В такой
обстановке для Квэпа не представляло интереса вылавливать недовольных.
Их нельзя было вешать в его замечательной петле, ни даже временно
подвешивать за вывернутые назад руки. Наказания сводились к посылке на
тяжелые работы и редко-редко к заключению в тюрьму. Местные власти
неохотно отворяли двери тюрем для "перемещенных".
Да, жизнь Квэпа становилась такою же серой и безнадежной, как
этот несносный дождь, ливший за окном вторую неделю. Хорошенькое лето!
Хорошенькая весна! Квэп не думал о том, что в это время в Латвии
светит яркое солнце, особенно на юге; люди выезжают в поле, и от земли
поднимается пар перевернутых плугами пластов. Ему было наплевать на
то, что бульвары Риги пахнут молодым липовым листом и травка спешит
снова подрасти после первой подстрижки. Если Квэпу и приходили в
голову сравнения, то лишь при воспоминании о том, что весною в былые
времена гулящие девки появлялись в Риге без пальто и шелк чулок
особенно зазывно розовел на их толстых икрах. Ну, а в "Саласпилсе"?..
Лето бывало там интересным: сторожевые псы становились особенно злы, и
было весело травить ими в леске заключенных женщин, пока те не падали
в изнеможении, и с ними можно было без хлопот делать, что угодно.
Прямо в молодой траве... А здесь!.. Льющаяся с неба вода, и внизу тоже
вода. Со всех сторон вода! Проклятая страна, проклятый климат,
проклятые порядки! А тут еще этот подвох со стороны двух посланных в
советский тыл парней!..
Квэп с сумрачным видом перечитал напечатанное в рижской "Цине"
сообщение Комитета Государственной Безопасности СССР: несколько
месяцев назад двое диверсантов из числа "перемещенных" по имени Эджин
Круминьш и Карлис Силс были заброшены в Советский Союз военным
самолетом "третьей страны" для выполнения шпионско-диверсионных
заданий. Однако вместо того, чтобы выполнять эти задания, оба они
отдали себя в руки советских властей. На первом же допросе парни
рассказали все, что знали о "патриотических" эмигрантских
организациях. Они рассказали, как в течение нескольких лет их обоих
держали на голодном пайке в лагерях для "перемещенных"; как
завербовали на работу в Северную Африку, суля золотые горы; как вместо
золотых гор они нашли в Алжире лишь палящее солнце, тесные нары и
рабский труд от восхода до заката солнца...
Дочитав до этого места, Квэп крякнул и положил на газету кулак.
Он уже знал, что это только безобидная присказка по сравнению с тем,
что следует дальше. Самым скверным было то, что Круминьш и Силс
рассказали советским органам, как после такой "подготовки", когда
человек готов покончить с собой от отчаяния, ему предлагают спасение в
виде поступления в школу разведки. Оба беглеца выложили, как их
обучали ремеслу шпионов и диверсантов, как забросили в Советский Союз,
снабдив деньгами, оружием, взрывчаткой, ядами и радиоаппаратурой. В
заключение описывались перипетии Круминьша и Силса в Советском Союзе.
В Латвии они не могли ни на минуту почувствовать себя хорошо,
несмотря на лежавшие в их карманах "отличные" документы. Куда бы
Круминьш и Силс ни совались, с кем бы ни приходили в соприкосновение,
- они всюду чувствовали себя чужаками.
Когда Квэп доходил до описания того, как эти двое явились в
сельскую милицию, его руки начинали дрожать и губы вытягивались так,
словно он собирался подуть на жегший его пальцы газетный лист. Да,
такого отвратительного подвоха Квэп давно не видывал! А ведь самое
неприятное, что взрывалось прямо-таки подобно бомбе, следовало дальше,
в конце сообщения: вместо того, чтобы расстрелять негодяев, советские
власти простили их и объявили полноправными гражданами СССР! Молодцов
даже поставили на работу наравне с другими советскими людьми. Да, да!
Если б их отправили к стенке или хотя бы в тюрьму - все было бы в
порядке. Но эдак?! Тут были спутаны все карты Квэпа.
Квэп понимал: наивно надеяться на то, что Шилде ничего не узнает.
Если он сам не прочтет этого сообщения, то суматоху поднимет Пуксис.
Для кого Шилде грозный "недосягаемый", а для Пуксиса он всего-навсего
исполнитель приказов и ничего больше. Может быть, когда какой-нибудь
выведенный из терпения "перемещенный" всадит Пуксису пулю в спину, сам
Шилде станет фактическим начальником организации, но пока он вынужден
помалкивать и подчиняться. Ведь даже "недосягаемый" не смеет назвать
Эдмунда Пуксиса его собственным именем и обязан величать его "господин
Легздинь" - кличкой, под которой тот известен членам "Перконкруста".
Подумать только! А ведь и Пуксис вовсе не такая уж шишка. Над ним тоже
есть кому командовать. Начать хотя бы с Раара - предводителя всей
латышской эмиграции... "Сам Раар"!.. Подумаешь - "сам". Этим "самим"
помыкает какой-то майор из иностранной резидентуры.
Хорошо, что Квэпу не приходится иметь дело с такими, с позволения
сказать, "звездами". С него хватит крика, который поднимет Шилде из-за
этих двоих!..
Круминьш давно уже казался Квэпу подозрительным. Но как было не
послать его в школу, когда за него замолвил словечко пробст Висвалдис
Сандерс. Квэп знавал Сандерса еще в те времена, когда оба они были
айзсаргами. Тогда пробст напутствовал на тот свет смутьянов, которым
Квэп выдавал свинцовый пропуск в царствие святого Петра. А вот теперь
Висвалдис Сандерс заседает в Центральном Совете бок о бок с персонами
вроде полковника "СС" Лобе или Альфреда Берзиньш - бывшего министра и
начальника айзсаргов в блаженные времена Ульманиса.
Когда человек залетает так высоко, как залетел пробст Сандерс, он
забывает старых друзей. Стоит пробсту сказать словечко председателю
Совета епископу Ланцансу о неисполнительности Квэпа, как посыплются
вопросы и запросы. Шутка ли: говорят, что его преосвященство епископ
Язеп Ланцанс поставлен во главе Центрального латышского совета с
благословения самого папы. Вот уж действительно только того и не
хватало Квэпу - вступить в конфликт с римским папой! Пусть кто-нибудь
теперь скажет: мог ли он, Арвид Квэп, десятая спица в колеснице, не
послать этого пробстова племянника Круминьша в шпионскую школу, если
там исправно платят жалованье в устойчивой иностранной валюте, дают
хорошую одежду и каждый день кормят омлетом и тушенкой?!
Однако кто станет во всем этом разбираться? Важные господа там,
наверху, из-за одного страха потерять заграничные стипендии готовы
съесть самого Квэпа с костями: раз поезд сошел с рельсов - должен
найтись виноватый стрелочник.
Так обстоит дело с Круминьшем. Другое дело - Силс. За Силса Квэп
даже сейчас готов поставить свою мызу, оставшуюся в Латвии. Если Силс
и пришел к советским властям с повинной, то лишь потому, что его
вынудила к этому явка Круминьша - все равно из-за Круминьша схватили
бы обоих. Да, Квэп уверен: Силс еще покажет себя. В нынешнем положении
Силса "покаявшегося" есть даже преимущество: теперь-то уж ему нечего
бояться разоблачения. Квэпу придется только продумать вопрос, как
снова наладить надежную связь с Силсом. Связь! Вот главная загвоздка.
Провал Круминьша и Силса дорого обойдется всей разведке. Придется
перестраивать организацию: менять адреса школ, клички преподавателей,
и, может быть, даже выкинуть за борт весь нынешний состав обучающихся.
Впрочем, и это все мелочи: учебники, преподаватели, ученики - живой и
мертвый инвентарь шпионских школ. Главные хлопоты предстоят с
переменой того, что Круминьш и Силс разоблачили по части зарубежной
сети: коды, явки, агентура, система конспирации и связи. Вот,
действительно, беда, в которой не сочтешь убытков!
Небось, хозяева заявят, что руководители "Перконкруста" -
"заевшиеся свиноводы". Зарубежные хозяева особенно любят напирать на
то, что "свиноводы" обходятся дороже, чем стоят их услуги. А во всем
президиуме "Перконкруста" нет ни одного человека, который имел бы иное
отношение к свиньям, кроме того, что кое-кто участвовал в знаменитом
"свином" параде. Это было в те времена, когда Карлис Ульманис казался
им, членам "Угунс Круста", чересчур либеральным правителем. Они с
завистью смотрели на эстонских молодчиков из Вильянди. Те могли
гордиться: их гимназия дала миру такого корифея, как Альфред
Розенберг!..
Да, было время! Айзсарги и угунскрустовцы воображали, будто
сумеют навсегда утвердить в Латвии настоящий, стопроцентный фашизм
вроде гитлеровского... И вот что из всего этого получилось!..
Квэп смотрел в окно. По стеклам, собираясь в тоненькие ручейки,
сбегали дождевые капли. За окном виднелся просторный пустырь. Трава на
пустыре была вытоптана. Там был устроен учебный плац охранного отряда,
недавно сформированного Центральным Советом по заказу иностранного
командования. Четырнадцатое по счету формирование! Сначала был спрос
на "транспортные" и "инженерные" роты, теперь - вот уже пятый раз - из
"перемещенных" собран этот "охранный отряд". Прежние увезены отсюда.
Они несут охрану порядка там, где хозяева не полагаются на команды
бывших эсэсовцев.
"Хе-хе, бог даст, - думал Квэп, - помоги, господи, помоги!..
Молодчики, что шлепают сейчас по мокрому плацу, сумеют когда-нибудь
навести прежний порядок и в самой Латвии. В рядах команд не мало
ребяток, прошедших школу в айзсаргах. Они староваты, но зато им не
привыкать бить по шее и ставить к стенке бунтарей!
Раз, два!.. Раз, два!.. Левой!.. Левой!.."
Квэп с удовольствием притоптывал ногой, глядя, как обучаемые
шлепают по грязи на учебном плацу. Иностранный инструктор рубит ребром
ладони: "уон, туу... уон, туу!.." В такт его движениям помощник
инструктора громко выкрикивает: "Айнц... Цвай... Айнц... Цвай..."
"Да, голубчики, - думает Квэп, злобно сжимая челюсти. - Стоило
водрузить красный флаг над Ригой, стоило левым попросить защиты у
Москвы, - и вы уже вообразили, будто можете во всю глотку орать
"свобода, свобода!" Ан, приходится снова браться за обучение немецкому
языку, чтобы понимать команду. Да, черт побери, мы еще найдем управу и
на вас и на вашу "свободу": "айнц... цвай!.. айнц... цвай!" Да,
интересная штука это "колесо истории"! Но, черт с ним, пусть оно
вертится, как ему положено, ежели из этого может получиться толк для
Квэпа. А толк, как кажется Квэпу, должен выйти: кое-кто получит
готовенькое войско. Только бы пустить эти "команды" в дело.
"Инженерные роты" сумеют инсценировать красного петуха таких размеров,
что зарево будет видно от Айнажей до Даугавпилса и от Вентспилса до
Корсавы. Найдется дело и для тех, кто, вроде Квэпа, прошел школу у
гитлеровцев в Бикерникском лесу и в "Саласпилсе"!..
Квэп потер мясистые ладони больших рук.
- Найдется работа... найдется всем, голубчики!.. А вот кое-кому
придется и поплакать!.. - угрожающе пробормотал он и отвернулся от
окошка.
Время мало подходило для приятных мыслей. Лежавший в кармане лист
"Цини" обжигал бок. Нужно было придумать оправдание провалу Круминьша
и Силса... Как-никак оба они - его подопечные. Чего доброго, придется
еще мчаться во Франкфурт, чтобы замазывать дыры в треснувшем доме.
Господа иностранцы, как всегда в таких случаях, начнут с угроз
прекратить финансирование этих "свиноводов"!..
Квэпу казалось, что все было очень хорошо налажено: каждый
человек, содержавшийся в лагерях для "перемещенных", давал главарям
эмиграции ежедневный доход в шестьдесят пять центов за счет одной
только недодачи ему пайка. А продажа на сторону предназначавшегося
"перемещенным" обмундирования из запасов "победителей"?! А торговля
старыми инструментами, которые иностранные "друзья" вместо того, чтобы
выкидывать на свалку, предоставляли "перемещенным" в качестве орудий
труда?! И ведь все это было еще не главной статьей. Лучший доход
составляли комиссионные, получаемые за каждого "африканца", то есть за
"перемещенного", посылаемого на работу в Африку. В добавление к тому,
что из собственного заработка завербованного причиталось главарям за
"устройство" на работу, высокие комиссионные платили еще и компании,
получавшие дешевую рабочую силу. Но основу жизни эмигрантской
организации прибалтов составляли средства, даваемые иностранцами.
Деньги отпускались на "тайную войну", которую вели организации
эмигрантов, якобы державшие связь со своими подпольными ячейками в
Советском Союзе. Другое дело, что все это было настоящей "липой".
Никакого "подполья" в СССР не существовало. Нельзя же было считать
подпольем несколько отщепенцев, по благости советского народа
доживавших свой век в латвийском захолустье и втихомолку брюзжавших на
новые порядки в Латвии. Подчас Квэп и сам не понимал, как могут его
руководители не догадаться, что если бы так называемая "сеть" была
опасна для СССР, то КГБ ее давным-давно раздавил бы. Да и разве нужно
было тратить столько хлопот на подготовку для засылки в советские
пределы шпионов и диверсантов из числа "перемещенных", ежели бы они
имелись в готовом виде внутри советских границ. Но не в интересах
Квэпа и других мастеров темного промысла, кормившихся вокруг
эмигрантского корыта, раскрывать глаза своим заграничным хозяевам. Они
старательно поддерживали иллюзии насчет перспектив своей подрывной
деятельности.
Однако Квэпу сейчас не до высоких соображений, да он и не был на
них способен. Следовало подумать о том, как парализовать конкретную
опасность, нависшую над его собственной головой из-за провала
Круминьша и Силса.
А что если?.. Да, положительно - вот верная мысль: Круминьш и
Силс должны быть уничтожены! Или точнее: один Круминьш. Силса нужно
сохранить. Он еще сделает свое. А Круминьша - убить! Убить непременно
и поскорей!.. Ах, черт побери, старина Квэп может похвастаться: этот
Кочан недаром сидит у него на плечах; убить, убить Круминьша.
Довольный собою, он вызвал по телефону Шилде и попросил доложить
Пуксису-Легздиню о том, что желает сделать руководству важное
сообщение. Шилде долго расспрашивал, о каком сообщении идет речь, но
Квэп держался крепко и ничего ему не открыл. Он знал, что стоит выдать
план, и Шилде перескажет его Пуксису как свой собственный. Тогда он,
Квэп, останется с носом - все выгоды придутся на долю Шилде. Нет, черт
возьми, Квэп не даст объехать себя на кривой!
Квэп постучал в перегородку.
- Магда, завтрак! Со следующим поездом я уезжаю... И подай мою
бутылку из кладовой...
- Опять напьетесь... - послышался недовольный голос из-за
перегородки.
- Ты с ума сошла, девчонка! Кто же напивается, едучи к высокому,
можно сказать, к высочайшему начальству. Только глоточек для
храбрости. Чтобы слова не застревали в горле... Хэ-хэ!
Квзп толкнул дверь, вошел в кухню и отвесил тяжелый шлепок
нагнувшейся к плите Магде. Это была девушка - вот уже третья за этот
год, - взятая им из лагеря для выполнения обязанностей прислуги.
- Ну-ка, что ты придумала на завтрак?
Плотоядно потирая ладони, он уселся за стол. Ел быстро, сильно
двигая челюстями и громко чавкая. От каждого блюда оставлял понемногу
на своей тарелке. Это предназначалось для Магды. Но оладьи с вареньем
ему так понравились, что он, отодвинув было три штуки для работницы,
съел одну из них, а подумав, доел и две остальные.
- Ты не похудеешь, - сказал он, смачно пришлепывая толстыми
губами, - возьми вместо оладий картошки. Она отлично нагоняет тело,
хэ-хэ... А быть в теле - это главное для девчонки, как и для свиньи,
хэ-хэ!
Квэп прошелся взглядом по фигуре Магды. Девушка стояла,
прислонившись к дверному косяку. От этой позы ткань блузы на ее груди
натянулась, и Квэп с удовольствием задержал взгляд плотоядно
прищуренных глаз на этом месте. Черт их дери, этих деревенских девок!
Даже голодные, они умудряются сохранить такую грудь, словно в ней
хранится запас молока на все их потомство вперед! Ах, черт возьми!.. и
Квэп снова облизал губы, как после оладий с вареньем.
Поймав его взгляд, Магда потупилась и негромко сказала:
- Вы обещали похлопотать насчет... Яниса.
Ее несложная психология безошибочно подсказала ей, что сейчас
подходящий момент для такого вопроса. Скоро два года, как ее Янис -
единственный на свете парень! - уехал в Африку. Контракт был на год, а
Янис по сию пору не может вырваться. Говорят, в этой Африке еще хуже,
чем здесь. Янис пишет: еще немного, и он вовсе не вернется... Что же
она будет делать без своего Яниса?..
При мысли о Янисе щеки Магды порозовели. Глаза Квэпа,
подернувшиеся влагой от водки и оладий, остановились теперь на лице
Магды. Он подумал, что на свете бывают, конечно, девицы и
поприглядней, но если принять во внимание, что эта особа не стоит ему
ни гроша...
Не спеша с ответом на вопрос Магды, Квэп потягивал горячий кофе,
дуя сквозь выпяченные губы.
- Плохо тебе у меня, что ли?.. - выговаривал Квэп между глотками.
- Дура ты, девка! Что тебе в твоем голоштаннике? Или воображаешь, что
он привезет тебе мешок африканского золота!.. Лучше налей-ка мне еще
чашечку... Это, конечно, не тот кофе, какой, бывало, пивали в нашей
Риге... Вспомнить "Ниццу". Какие там были сливки!.. А девчонки-то,
девчонки! Ту, бывало, ущипнешь, так уж от одного этого прикосновения
кровь начинает играть, словно выпил!.. Ах, Магда, Магда, вот когда
была жизнь, скажу я тебе...
- Люди говорят: никакой тогда не было жизни...
- Дура ты... Настоящая деревенская корова!
- Скажите же мне насчет Яниса: вернете вы его из Африки или нет?
- При этих словах в голосе Магды прозвучало что-то, что заставило
Квэпа отставить чашку с кофе. После некоторого размышления он сказал:
- Ладно, вернусь от начальства, ляжем рядышком да потолкуем о
твоем Янисе... Что-нибудь и придумаем, хэ-хэ.
И снова принялся за кофе, не глядя на Магду.
Полногрудая и широкобедрая, с жидкими, словно отмытыми до
серебристой белизны льна волосами, Магда молча глядела, как Квэп пьет.
Взгляд ее не отличался выразительностью. Тем не менее, если бы Квэп
попытался прочесть то, что было в нем написано, кофе, вероятно,
застрял бы у него в горле. Ненависть светилась в белесых глазах Магды.
Это была ненависть затравленного существа, долго, терпеливо, по
вековой привычке к рабству копившего обиды целых поколений. Но с
поколениями сдерживающие эту ненависть силы ослабевают и все, что было
накоплено от праотцов, начинает вырываться наружу. Тогда происходит
расправа - беспощадная, но справедливая.
При каждом движении тяжелых челюстей Квэпа у Магды перекатывался
желвак под воротником кофты. Словно она проглатывала набегавшую слюну.
Девушка глядела на розовые щеки Квэпа, такие круглые, будто под каждую
из них он запихнул по оладье; она глядела на его большой круглый с
сизоватыми прожилками нос, двигавшийся вместе со щеками и круглым
подбородком. И в ее взгляде была ненависть к щекам, к носу, к
подбородку, к толстым, оттопыренным и почти всегда влажным губам
Квэпа. Даже его голубые глаза и полуприкрытое, словно парализованное,
веко над левым глазом - все возбуждало ненависть Магды. Чтобы
совладать с этой ненавистью и не выдать ее, она опускала взгляд на
свои большие крестьянские руки, сложенные на животе.
Квэп не был психологом вообще, а уж вдумываться в переживания
прислуги он счел бы просто глупым. В этом было его счастье. Иначе,
пойми он мысли Магды, он не смог бы сомкнуть глаз и на полчаса, а не
то, чтобы крикнуть вдруг среди ночи, как обычно:
- Эй, Магда!.. Спишь, толстуха?.. Ну-ка, приди взбить подушку
твоему хозяину!
Как Магда вглядывалась в резкий шрам, перерезающий у горла
розовую шею ее хозяина! Если бы Квэп это видел!.. И даже орел, большой
синий орел, держащий в лапе свастику, искусно вытатуированный у Квэпа
на груди, вместо восхищения возбуждал в Магде только ненависть. И об
этом тоже Квэп мог бы прочесть во взгляде Магды...
Покончив с едой, Квэп, наконец, встал из-за стола, обсосал липкий
от варенья палец и повалился на старый, продавленный диван, служивший
ему для послеобеденного сна. Но сегодня уже не было времени спать:
стрелки часов на стене кухни напоминали о том, что близится время
отхода поезда.
Поворчав на тяжелую жизнь, Квэп скоро встал и, одевшись
тщательнее, чем обычно, отправился на станцию. Он шагал по липкой
глине и перебирал в уме имена людей, из числа которых можно было бы
выбрать исполнителей задуманного плана. Их лица проплывали перед его
взором, и когда он наталкивался на кого-нибудь, казавшегося ему
подходящим, то произносил имя вслух и загибал палец.
Дойдя до станции, Квэп расправил пальцы. Только большой остался
загнутым. Но подумав, разогнул и его. Квэп смотрел на него так, словно
это был не его собственный палец с выдающимся хрящом сустава, поросший
жесткими рыжими волосами и увенчанный нечистым обгрызенным ногтем.
Квэп смотрел на палец так, будто перед ним был живой кандидат,
способный, не задумываясь, всадить пулю в затылок Круминьша. Надежный
кандидат, обученный своему делу в нацистском застенке!
Квэп крякнул от удовольствия. Довольный своим выбором и своим
планом, не спеша направился к билетной кассе.
Через некоторое время после этой поездки Квэпа произошли
оживленные сношения - письменные и при помощи посланцев - между
главарями разных эмигрантских латышских организаций. Целью сношений
было объединение усилий на почве содействия "делу Круминьша".
По началу это дело послужило причиной резкой критики действий
более молодого Центрального латышского совета со стороны зубров
антисоветских происков. Матерые фашисты из "Перконкруста", из "Тевияс
Сарге", из рядов айзсаргов и из "Яйна Латвия" готовы были перегрызть
друг другу горло ради того, чтобы захватить иностранные субсидии.
Только грубый окрик самих иностранных хозяев заставил их атаманов с
ворчанием согласиться на сотрудничество с "Даугавас ванаги" -
военизированной фашистской организацией Центрального латышского
совета. В результате совместным совещанием главарей был принят план
ликвидации Круминьша, предложенный Адольфом Шилде. К тому времени все
уже забыли о том, что автором плана был Квэп. По этому плану к смерти
приговаривались оба латыша, явившихся с повинной к советским властям,
- Эджин Круминьш и Карлис Силс. В действительности убить должны были
только первого из них, но в целях конспирации это не было записано в
протокол. Ведь если бы к смерти приговорили одного Круминьша, то у
советской разведки возник бы законный вопрос: почему пощадили Силса? У
организаторов этого дела не возникало сомнения в том, что советские
органы безопасности будут все знать. И тогда власти в Советском Союзе
стали бы наблюдать за Силсом. А ведь эмиграция возлагала на него
надежды. Поэтому непосредственным исполнителям приказ убить Круминьша
и не трогать Силса был отдан лишь устно, под строгим секретом.
Но вот прошло уже много времени, покушения на двоих латышей не
происходило. После долгой бдительной опеки Круминьша и Силса советские
власти сняли охрану. Дело можно было считать сданным в архив.
Автор вынужден пойти на риск частично повторить то, что уже было
когда-то сказано о Кручинине и Грачике. Те, кто уже знаком с
Кручининым и его молодым другом Грачиком по описанию их прежней
деятельности, могут пропустить эту главу.
Встреча молодого журналиста и музыканта-любителя Грачика с
ветераном следственно-розыскной работы Кручининым произошла в
обстоятельствах, не имеющих отношения к профессиям обоих. Грачик
впервые увидел Кручинина в Доме отдыха, в средней полосе России, куда
сам приехал, чтобы на свободе и покое поработать над задуманной
большой статьей о Скрябине. Как многие дилетанты, Грачик полагал, что
сделает открытие, показав публике влияние Шопена на творчество
большого русского композитора и обнажив, с другой стороны, чисто
русскую самобытность всего скрябинского наследия. Грачик предполагал
показать это на разборе ряда фортепианных произведений Скрябина,
начиная с ре-диез-минорного этюда и кончая второй фортепианной
сонатой. Эта статья, охватывающая первый период творчества
композитора, должна была, по мысли Грачика, открыть целую серию
статей, которые потом лягут в основу литературной биографии
композитора.
Но Грачик не был исключением среди молодых литераторов. Приехав в
Дом отдыха, он так старательно гулял по его живописным окрестностям,
вдохновляясь для предстоящей работы образами русской природы, что
долго не мог заставить себя сесть за письменный стол. Во время одной
из таких вдохновительных прогулок он и увидел Кручинина. Нил
Платонович сидел на парусиновом стульчике посреди лужайки, окаймленной
веселым хороводом молодых березок. Перед Кручининым стоял мольберт; на
мольберте - подрамник с натянутым холстом. У ног Кручинина лежал ящик
с тюбиками, выпачканными красками и измятыми так, что нельзя было
заподозрить их владельца в бездеятельности. Но палитра Кручинина была
чиста и рука с зажатой кистью опущена. Склонивши голову набок,
Кручинин приглядывался к березкам, словно они заворожили его и он не
мог оторвать от них взгляда прищуренных голубых глаз.
Вот Кручинин стал задумчиво пощипывать свою небольшую бородку,
такую же светлую, как и его аккуратно подстриженные усы. Однако,
несмотря на их светлую окраску, и в усах, и в бороде уже чувствовался,
хоть и едва уловимый, налет седины. Этакая серебристость бывает видна
над вершинами зацветающей черемухи, ежели смотреть очень издали на лес
весной. Словно серебро только-только сбрызнуло поросль. И даже
невозможно еще сказать - седина ли это и пойдет ли она расширяться.
Наблюдая Кручинина на этой лужайке, Грачик не заметил в нем
ничего называемого особыми приметами: рост средний, ни худ, ни тучен,
физическое развитие хорошее. Ничего бросающегося в глаза, если не
считать рук, на которые нельзя было не обратить внимания. Узкая,
длинная, но, видимо, сильная кисть с тонкими пальцами - настоящая рука
художника.
Быть может, эта деталь бросилась в глаза Грачику лишь потому, что
он сам был музыкантом? Возможно, что в наблюдателе менее изысканном
эта подробность не возбудила бы интереса.
Грачик долго наблюдал из-за деревьев за Кручининым. Но он так и
не дождался, пока тот возьмется за кисти, чтобы воспроизвести березки,
на которые столько времени любовался. Вместо того Кручинин сложил
мольберт и краски, еще разок пригляделся к сверкающим на солнце белым
стволам и ушел.
Любопытство Грачика было возбуждено. Он пошел следом за
художником. Отойдя на некоторое расстояние от лужка с березками и
выбрав место, совсем не похожее на прежнее, Кручинин расставил
мольберт и привился за работу. Через два часа Грачик обнаружил на
холсте очень точно воспроизведенным вовсе не тот пейзаж, перед которым
сидел теперь художник, а именно прежние березки.
В следующий раз, когда Грачик увидел, как, придя на лужайку с
березками, Кручинин пишет погост, находившийся на расстоянии
нескольких километров, к тому же воспроизводит на полотне не яркое
утро, когда шла работа, а вечернюю зарю, - Грачик уже не мог
удержаться и заговорил. Оказалось, что Кручинин таким своеобразным
способом тренирует зрительную память, одновременно получая
удовольствие как живописец.
С первых же слов Грачик понял, что и сам он не оставался не
замеченным новым знакомым. Наблюдательность Кручинина, напомнившего
Грачику несколько обстоятельств из его поведения с самого дня
появления в Доме отдыха, поразила Грачика.
Хотя Кручинин и не принадлежал к числу тех, кто встречает людей
"по одежке", внешность имела для него большое значение.
- Одежда, - говорил Кручинин, - не просто определяет вкусы своего
обладателя, но в известной мере служит отражением его внутреннего
мира.
По словам Кручинина, он не раз проверял эту теорию на людях
разных положений, профессий и различного внутреннего содержания. Он
утверждал, что, основываясь на опыте, может с известным приближением
определить по одежде характер и степень умственного развития человека,
если, конечно, данная одежда не является случайной. Не было ничего
удивительного в том, что в первое суждение о новом знакомом в качестве
составной части вошел и костюм Грачика. Кручинин отметил бережное
отношение молодого человека к вещам, очевидно, хорошо содержавшимся,
хотя и не новым.
Ничто не было упущено Кручининым во внешности Грачика. Крупный
нос с легкой горбинкой, большие темно-карие глаза под крутыми бровями,
хоть и очень пушистыми, но не портившими общего тонкого абриса лица, -
все, казалось, было на месте и создавало приятное впечатление. Нужно
добавить еще, что цвет лица Грачика, несмотря на избитость этого
образа, нельзя было сравнить ни с чем, кроме кожи спелого абрикоса.
При всем этом Кручинину понравилось общее впечатление мужественной
энергии, которой дышал облик молодого человека. По-видимому,
темперамент, присущий его национальности, находился под надежным
замком сильной воли.
Они с первого взгляда понравились друг другу. Знакомство их, в
отличие от большинства случайных санаторных встреч, оказалось прочным
и принесло много радости обоим. Правда, сначала Грачику показалось
странным, что человек, все склонности которого с юных лет тянули его в
Академию художеств, очутился на юридическом факультете и вместо
искусства нашел по началу удовлетворение в судебной работе. Но со
временем, узнав Кручинина ближе, Грачик понял, что у Нила Платоновича
были основания увлечься в дальнейшем деятельностью
оперативно-розыскного работника и криминалиста. Много вечеров провели
друзья за беседами о роли и назначении советского
следственно-розыскного работника. Грачик приобщился к высокому
пониманию долга борца с преступлением, к широкой перспективе работы по
оздоровлению общества и охране его от посягательств изнутри и извне.
Даже великое искусство музыки представилось ему частностью на фоне
чего-то неизмеримо более огромного и действенного, притом насущно
необходимого в деле построения нового общества. Этим огромным было
искание истины в понимании, придаваемом данному термину Кручининым.
Тот утверждал, что отыскание правонарушителя и его поимка - только
внешняя сторона профессии. Суть, по его мнению, заключается в том,
чтобы вскрыть все: причины и обстоятельства преступления, показать его
источники, проследить весь ход психологии правонарушителя и найти
действенную меру к предотвращению подобного преступления в будущем.
Операция по удалению язвы данного преступления - не самоцель. Эта
операция только путь к созданию условий, в которых организм общества
может развиваться без помех.
Кручинин долго работал в суде, тщательно изучал положение
личности в уголовном процессе, все положительные и отрицательные
свойства существующей пенитенциарной системы. Было бы трудно тут, в
краткой биографической справке, показать весь ход формирования этого
человека. Приходится снова отослать читателя к отчетам о более раннем
периоде деятельности Кручинина. Важнее сказать, что глубокая вера
Кручинина в полезность своего дела, способность увлечь собеседника
общественно-политической перспективой профессии привели к уходу
Грачика с пути, на который он стал по окончании университета, - с пути
музыкального критика - и заставили увлечься еще новой для него, но
полной глубокого общественного смысла и романтики борьбы работой
Кручинина. Прошли годы. Грачик уже не мог себе и представить, что
когда-то стоял на ином пути. Быть может, конечно, не встреть Грачик
Кручинина, из него и вышел бы приличный литератор. Любительство в
области музыки обеспечило бы его оригинальными темами для
деятельности, не лишенной интереса и полезности. Но трудно себе
представить, чтобы душевное удовлетворение Грачика могло быть столь же
полным где бы то ни было, кроме дороги, показанной ему Кручининым. В
качестве старшего друга и учителя Кручинин вел Грачика по новому пути
до тех пор, пока не понял, что тот достаточно твердо стоит на ногах.
Тогда Кручинин стал отходить от практической деятельности, предоставив
молодому человеку всю возможную меру самостоятельности, и скромно
сошел на роль его советника. Такому отходу способствовало и серьезное
ранение, полученное Кручининым при выполнении одной операции. Врачи
заставили его выйти в отставку. (Система исправительных наказаний
преступников.)
Чтобы закончить знакомство читателя с двумя друзьями, остается
напомнить: настоящая фамилия Сурена Тиграновича - Грачьян, "Грачик"
или "Грач" стало его прозвищем с детских лет при обстоятельствах, о
которых повторяться нет надобности.
Прокурор Латвийской ССР Ян Валдемарович Крауш глянул на листок
письма, прибывшего с авиапочтой, да еще с надписью "спешное". В
заголовке письма было четко обозначено "частное", а внизу стояло: "Жму
твою руку Нил Кручинин".
Увидев подпись, Крауш с интересом прочел письмо. В начале шли
упреки в короткой памяти и дурной дружбе, несколько воспоминаний о
далеких временах гражданской войны, два-три имени "ушедших", несколько
имен "взошедших". Лишь в самом конце - то, из-за чего и было написано
письмо:
"На твоем горизонте появится малый по имени Сурен Тигранович
Грачьян. Ты должен помнить его отца, но на всякий случай напоминаю:
восемнадцатый год, Волга, "Интернациональный" полк, где командир некий
Крауш. (Этот Крауш, вероятно, не забыл председателя ревтрибунала Нила
Кручинина, едва не расстрелявшего оного Крауша за преждевременный
вывод полка в атаку. Помнится, упомянутого Крауша спасло только то,
что беляки бежали.) Ну, а затем я помню такую сцену: конфуз Крауша,
когда он не мог найти командира для роты китайцев и с места встал
высокий худой армянин.
- Простите, я, конечно, командовать ротой не могу, я не военный
человек, но помочь командиру могу - я китаист.
- Китаист?.. Что значит "китаист". Китаец так это - китаец. А не
китаец так не китаец... Китаист?!
Эту тираду произнес тогда Крауш. А я как сейчас вижу этого
армянина, вижу, как он краснеет до ушей и смущенно объясняет:
- Извините, но я Грачьян, приват-доцент... Учебник китайской
грамматики для студентов Лазаревского института.
- Лазаревский институт?.. - пожал плечами Крауш. - Не знаю!..
Тогда этот молодой командир латышских стрелков - товарищ Крауш, -
наверно, даже думал, будто это хорошо: не знать, что такое какой-то
там "Лазаревский" институт (интересно, что он, латышский стрелок,
думает сейчас?).
- Извините, я не хотел вас обидеть, - сказал тогда "китаист"
Грачьян, - я могу быть простым переводчиком.
- Сразу бы и сказал! - рассердился Крауш. - Так переведите нам:
кого хотят бойцы китайской роты себе в командиры?
И помнишь, как Грачьян, запинаясь от смущения, перевел:
- Они хотят?.. - Он несколько раз переспросил китайцев, прежде
чем решился выговорить: - Кажется, они действительно хотят... меня.
Так вот, жизнь снова свела меня с сыном погибшего в гражданской
войне приват-доцента, кавалера ордена Красного Знамени Тиграна
Грачьяна. Хотя Сурен мне и не сын в биологическом смысле этого слова,
но я считаю его своим вторым "я" и физическим продолжением этого "я"
на будущие времена - те лучшие времена, которых нам с тобой не
увидеть. Хотя именно мы-то, пожалуй, и вложили в них все, что имели.
Одним словом, если Грачьян - он же Грач, он же Грачик - появится у
тебя с делом о самоубийстве Ванды Твардовской, из-за которого полетел
в туманную Прибалтику, возьми его под личный строжайший контроль и
руководство. Я помню кое-кого из твоих работников - опытные, верные
люди. Они многое смогут дать моему Грачу. Хочу, чтобы из него вышел
настоящий человек нашей профессии.
Отмою свои старые кости и снова за работу! (Кстати: предложили
интереснейшую работу. На этот раз в прокуратуре Союза.) А пока вручаю
твоему опыту и бдительному оку молодую, но уже не лишенную хорошего
опыта особу Грачика".
Если бы не это письмо, Краушу, быть может, и не пришло бы в
голову задержать в Риге приехавшего по московской командировке
Грачика. Дело о покушении на самоубийство Ванды Твардовской прокурор
мог бы передать и своим работникам. Но дело задержалось из-за
невозможности снять с нее допрос. Родителей Ванды в Латвии не
оказалось. К тому же Ян Валдемарович с самого начала ознакомления с
делом Твардовской принял решение о приобщении его к делу Круминьша. На
это у прокурора были свои соображения. При кажущейся флегматичности
Крауш почти всегда, когда сталкивался с необычным делом, загорался
огоньком личного интереса к нему. Не будь он так занят большой
государственной работой, он, вероятно, и не удержался бы иногда от
искушения самому броситься в гущу следовательской работы. Руки
чесались прикоснуться к живой жизни, от которой его теперь отгородили
стены нарядного кабинета. При столкновении с тем или иным поворотом
интересного дела Крауш всегда испытывал сильное возбуждение, которое,
впрочем, умудрялся тщательно скрывать под внешностью официальной
строгости. Его ум приходил в энергическое движение. Крауш начинал
думать за своих подчиненных. Силою логики, подкрепленной многолетним
опытом и интуицией, он приходил к выводам, очень часто предугадывавшим
результат кропотливой работы подчиненных.
Проанализировав первые же данные по делам Круминьша и Ванды
Твардовской, Крауш посоветовался с Комитетом Государственной
Безопасности. Он чуял здесь кое-что не только связывавшее эти дела, но
и выводившее их из ряда обычной уголовщины. Оценив сложность дела и
посетовав на загруженность своего аппарата, Крауш после письма
Кручинина окончательно решил, что самым разумным будет не отпускать
Грачика в Москву, а именно ему и поручить ведение этого дела под его,
Крауша, собственным наблюдением. Так будет лучше всего!
То, что холод и пасмурное небо то и дело разгоняли курортников с
пляжа, не смущало Грачика. Молодость не боится капризов климата и
смены температур. Сушь и ковыльное приволье степи ей так же милы и
полезны, как сумрачная прохлада лесов или бурная влажность взморья;
пальмы Сухуми или сосны Карелии - не все ли равно? Лишь бы было
красиво, привольно и весело.
Грачик рассчитывал, что как только закончится дело Ванды
Твардовской, ему удастся и покупаться, и погреться на Рижском взморье.
Поездка в Прибалтику была запланирована давно, когда в нее собирался
еще и Кручинин. Был подготовлен к путешествию новенький автомобиль
Нила Платоновича, была даже приобретена в складчину разборная
байдарка. На ней друзья собирались совершать экскурсии по озерам
Эстонии и Латвии.
Прилетев в Ригу для расследования дела Ванды Твардовской, Грачик
относился к пребыванию здесь, как к антракту перед увлекательным
путешествием на "Победе", лишь только ее сюда перегонят и приедет
Кручинин. Но тут Ян Валдемарович Крауш предложил Грачику заняться
делом Круминьша. Грачик попробовал сослаться на то, что в таком деле
рижским товарищам и книги в руки, но прокурор довольно решительно
заявил, правда, не глядя на Грачика:
- Народ у меня сейчас очень загружен, сами знаете: нужно
пересмотреть тысячи дел. Ваш приезд весьма кстати. К тому же - скупая
улыбка, мало свойственная обычно суровому прокурору, пробежала по его
лицу - по аналогии: там самоубийство, тут самоубийство.
- Это лишь на папке значится "самоубийство", - возразил Грачик, -
а на самом деле Ванда Твардовская...
- Вот, вот, - перебил его прокурор, - тут, по-моему, тоже только
"на папке"... И, кроме того, у меня есть свои причины свести эти дела
в одно. Когда придет время, я вам скажу почему.
Серьезность дела Грачик понял сразу, как только Крауш рассказал
ему предысторию. Заключалась она в том, что вскоре после снятия охраны
с двух латышей Круминьш исчез. Соседи Круминьша показали что он ушел в
сопровождении офицера милиции и какого-то штатского и больше не
вернулся. Вскоре после этого по городку С. пополз слух о том, что-де,
несмотря на добровольную явку Круминьша советским властям, невзирая на
его раскаяние и прощение, его все-таки арестовали.
Следует заметить, что с момента появления в С. Круминьш и Силс не
были предоставлены себе. Профсоюзная организация бумажного комбината,
на котором они работали, настойчиво вовлекала их в общественную
деятельность. Товарищи справедливо считали, что приобщение
реэмигрантов к полнокровной жизни народа - залог их перевоспитания.
То, что Круминьш был снова арестован, показалось рабочим несовместимым
не только с его собственной реабилитацией, но и с той работой, какая
была поручена молодежи завода: сделать Круминьша и Силса полноценными
и полноправными членами заводского коллектива.
Силс был подавлен арестом своего бывшего напарника и не решался
произнести ни слова протеста. Но молодежь завода была настроена иначе.
Она хотела иметь ясное объяснение неожиданному повороту в судьбе
Круминьша. Запрос в Ригу - и все стало ясно: никто и не думал
арестовывать Круминьша. Он сделался объектом провокационного акта
врагов. Очевидно, целью провокации было разбить впечатление, какое
патриотический поступок Круминьша и Силса произвел на умы
"перемещенных" за рубежом. Быстро принятые меры не помогли найти ни
исчезнувшего Круминьша, ни следов преступления. "Арестованный"
Круминьш вместе с "арестовавшими" его людьми словно в воду канул. Лишь
случайно участниками молодежной экскурсии на острове в протоке Лиелупе
близ озера Бабите было обнаружено тело Круминьша.
В кармане Круминьша нашли письмо:
"Мои бывшие товарищи, я был прощен народом и принят в ваши ряды
после самого страшного, что может совершить человек, - после измены
Родине, после попытки нанести ей вред по указке иноземных врагов. Я с
радостью и благодарностью принял великую милость моего народа. Я
думал, что одного этого уже достаточно, чтобы стать его верным сыном.
Но произошла случайность - меня арестовали. И, вероятно, яд вражеской
пропаганды слишком глубоко проник в мой мозг, всплыло все, чему меня
учили во вражеской школе шпионажа. Я возненавидел шедшего рядом со
мною офицера.
Наверно, все скоро разъяснилось бы, и я спокойно пришел бы домой.
Но я понял это только теперь. Мне стыдно и страшно говорить теперь о
том, что случилось. Я убил конвоира из его же оружия. Тело его
спрятано мною, потому что я вообразил, будто смогу бежать, спастись...
Слишком поздно, чтобы идти со второй повинной. От вторичной вины
мне некуда уйти. Передайте предостережение Силсу: никогда не сходить с
пути советского человека. Что бы ни случилось, какими бы неожиданными
и неприятными ни показались ему действия советских властей, - не
давать в себе воскреснуть тому, что нам пытались вдолбить враги. Пусть
Силс верит: советский народ и его власть никогда не совершат ничего,
что шло бы вразрез с интересами нашей Родины. Они не допустят никакой
несправедливости в отношении простого латыша - сына своей земли.
Целуя святую землю отцов, прощаюсь с вами. Не смею назвать вас ни
друзьями, ни согражданами. Прощайте и простите. Таков заслуженный
конец. Кто дал себя обмануть врагам, кто влез в их отвратительную
паутину, - должен погибнуть. Эджин Круминьш".
Мимо острова, Северной протокой реки Лиелупе, лежал торный путь
охотников к озеру Бабите. Выдавшийся в слияние протоки и главного
русла реки обрывистый берег был излюбленным местом праздничных
прогулок рабочей молодежи бумажного комбината. Но с тех пор, как это
случилось с Круминьшем, охотники стали держаться на своих моторках
подальше от берега, а молодежь сменила для экскурсий Северную протоку
на Южную. В Южной протоке не было таких красивых высоких берегов, ни
густого соснового бора, но бывшие товарищи Круминьша предпочитали
песчаную полосу, отгороженную от воды всего лишь стеной камышей, чем
постоянно иметь перед глазами лес, где они были свидетелями финала
непонятной им драмы. А о том, что случившееся было им непонятно от
начала до конца, свидетельствовали толки, не затихавшие далеко за
пределами комбината. Но особенно острые, изобилующие недоуменными
вопросами разговоры велись среди фабричной молодежи. И самым
недоуменным, самым острым, не получившим удовлетворительного ответа от
старших товарищей, был вопрос: может ли в наше время, в нашей стране
советский человек, притом молодой человек, покончить с собой?
Существуют ли обстоятельства, способные толкнуть на такой поступок?
Вывод сводился к тому, что заставить кого-либо из них, и даже
такого их сверстника, каким был Круминьш, добровольно накинуть на себя
петлю, - нельзя. Если это случилось, то виноват в этом не он, а кто-то
другой. Кто? Виновного молва искала недолго. Все чаще мелькало имя
Мартына Залинь, все больше пальцев показывало в его сторону. И, как
говорит старинная пословица, глас народа, по-видимому, действительно
является гласом божьим, то есть голосом правды: мнение рабочей
общественности сошлось с мнением властей - Мартына вызвали к
следователю. Нашлось много желающих показать то, что было широко
известно на комбинате и в рабочем поселке: ненависть Мартына к
Круминьшу, его угрозы разделаться со счастливым соперником, его
прошлое беспризорника с несколькими приводами - все, что могло служить
косвенными уликами в обличении убийцы. Единственным из друзей
Круминьша, кто не выказал желания идти к следователю, был Силс. Но его
свидетельство едва ли и было нужно после того, как Луиза решилась
высказать следователю те же соображения, какие волновали остальных.
Она подробнее других могла рассказать о случившемся у костра на берегу
Лиелупе в ночь на Ивана Купала, и ей... да, ей совсем не было жалко
Мартына.
- Он работает в очень трудном районе, где нет стоящего
католического прихода, почти нет католиков! Можно подумать, что вы об
этом забыли! - Шилде заявил это, даже не прибавив обычного
титулования, какого требовало обращение к особе столь высокого сана,
как епископ.
Епископ взглянул на Шилде подчеркнуто удивленно.
- Что значит "стоящий" приход? Разве вам известны не "стоящие"
приходы?
С того момента, как они очутились одни, Шилде утратил всякую
почтительность. Ланцансу начинало казаться, что он напрасно оставил
Шилде после совещания для приватной беседы. Видимо, не зря пробст
Сандерс предостерегал епископа от излишне благосклонного отношения к
этому человеку. Да, видно, это уж не прежний Шилде. "Эта свинья из
тех, - сказал Сандерс о Шилде, - что способна слопать собственных
поросят, если у нее разыграется аппетит. Шилде пальца в рот не кладите
- откусит руку".
Ну что же, тем хуже для Шилде. Для мелкоты из "Перконкруста" - он
"недосягаемый", а епископ видывал на своем пути зверей и посильнее.
Скоро, бог даст, заграничная помощь для эмиграции будет притекать
через кассу святого престола, а значит, и через его, Ланцанса, руки.
Придется тогда Шилде посидеть на урезанном пайке!
Ланцанс спрятал свои беспокойные руки под нараменник. Он знал за
собой эту неудобную особенность: подвижность рук. Иногда они
положительно мешали ему, нарушая облик невозмутимого спокойствия,
какой Ланцанс старался себе придать. Еще в новициате Ланцанс усвоил
себе значение внешности для члена такого Ордена, как "Общество
Иисуса". Всю жизнь он боролся со своими нервными руками, проявлявшими
тем большую подвижность, чем меньше она была к месту. Вот и сейчас ему
хотелось бы ошеломить Шилде холодностью, мертвенным спокойствием, а
руки сами тянулись к чему-нибудь, что можно было вертеть, теребить.
Под нараменником пальцы шевелились так, словно там скрывалась целая
клавиатура. Ланцанс вытащил руки из-под пелерины и сердито засунул их
за шелковую ленту, перепоясывавшую его крупную фигуру по животу. Ему
хотелось сдержать свое раздражение против Шилде. Как-никак, самые
крепкие нити к тем немногим, кто еще согласен работать на сомнительном
поприще эмигрантской разведки, находятся в руках Шилде... Нужно
поскорее найти подходящего человека в собственном Совете, кто мог бы
взять их в свои руки... Кто бы это мог быть?.. Полковник Вальдемар
Скайстлаукс?.. Стар! Ему бы время на свалку, если бы так уж не
повелось, что каждая эмигрантская организация должна иметь в
руководстве парочку полковников. К сожалению, господа военные, вместо
того чтобы объединить свои силы, только и знают, что подсиживать друг
друга. Полковник Скайстлаукс из "Латвийского совета" не выносит
полковника Янумса из "Латышского совета". А Вилис Янумс слышать не
может о полковнике Лобе... ("Обществом Иисуса" Игнатий Лойола назвал
основанный им орден (иезуитов).)
О Лобе!.. Вот фамилия, которая кстати всплыла в памяти Ланцанса!
Лобе прошел нужную школу. След споротых петлиц "СС" сильно поднимает
теперь цену человека...
Ланцанс поймал себя на том, что мысли его ушли в сторону от того,
что говорит Шилде... Нужно все-таки послушать этого субъекта... А,
господин Шилде занят тем, что набивает цену себе и своему агенту,
действующему в Латвии! Расписывает трудности, с какими встречается
человек, работающий в "советском тылу"...
Слово "тыл" по-прежнему, как во время войны, употреблялось в
обиходе эмигрантских главарей. Они не хотели признать войну
оконченной. Для них "фронт" не закрывался. На нем никогда не затихала
война. Больше того: она еще никогда не велась с таким ожесточением,
как сейчас. Никогда еще не пускалось в ход столько средств для
поддержания огня по всей линии: шпионажа, диверсий, террора - всех
видов многообразной и сложной тайной войны во время мира.
- Можно подумать, будто вы забыли: перед лицом общей опасности
исчезают разногласия в рядах воинов за святое дело, - внушительно
произнес Ланцанс. - Лютеранский священник протянет руку католику.
Неужели не нашлось бы православного попа, который пришел бы ему на
помощь? Да, сын мой! - Ланцанс нарочно назвал так своего собеседника,
хотя Шилде не только не был католиком, но вообще не верил ни в бога,
ни в черта. А сказал это епископ потому, что не хотел называть гостя
слишком уважительным - "господин Шилде". Скажи же он просто "Шилде",
это могло быть принято за излишнюю дружественность или враждебность, в
зависимости от уровня сообразительности собеседника. - Да, сын мой, -
повторил он, - служитель Христа, соответственно настроенный в
политическом смысле, независимо от вероисповедания - наш друг. Значит,
он и друг вашего человека.
Тут епископ потянулся через стол и овладел пепельницей, в которую
Шилде за короткий срок успел воткнуть несколько окурков. Ланцанс не
выносил табачного дыма. Но почему именно этому развязному Шилде он
стеснялся об этом сказать, как говорил всякому другому собеседнику?
Епископу пришло в голову, что, вероятно, потому он терпит вокруг себя
клубы этого отвратительного дыма, что боится: Шилде способен ответить
на его замечание грубостью. Уж лучше помучиться, чем ставить себя в
фальшивое положение. Господи, боже, у кого это он вычитал: "Через
фальшивые положения проходят; в них никогда не остаются!.." А кто-то
возражал: "Из фальшивых положений не выходят. Из них нельзя выйти!.."
Что же верно? А верно то, что Шилде грубиян. Нельзя епископу ставить
себя в неловкое положение перед грубияном...
Однако Шилде, кажется, не понял, почему епископ отодвинул от него
пепельницу. Как ни в чем не бывало, он снова закурил со словами:
- Мой человек, там, все понимает не хуже нас с вами, Ланцанс...
- "Господин Ланцанс" или "ваше преосвященство", как вам удобней,
- сдержанно поправил его епископ.
- Если вам угодно, то я готов именовать вас даже святейшеством, -
с издевкой ответил Шилде.
- Я не думал, Шилде, что вы так не уважаете церковь...
Когда-нибудь, когда наступит час вашего последнего отчета всевышнему,
вы поймете свою ошибку... - И Ланцанс закончил как мог более
внушительно: - Обращаясь ко мне, вы обращаетесь к церкви, Шилде.
- Хотя бы к самому господу богу. Мне все равно, - пробормотал
Шилде.
- Вернемся к нашей теме, - подавляя гнев, с наружным смирением
проговорил епископ. - Итак, прошу вас исходить из единства стремлений
всех благонамеренных священнослужителей, независимо от принадлежности
к тому или иному исповеданию.
- Обстоятельства работы, какую ведут мои люди за кордоном,
своеобразны и трудны. Вы их не знаете...
- С помощью господней, мы знаем все, мой дорогой Шилде, -
раздельно проговорил Ланцанс, особенно нажимая на слово "все". -
Церковь, властью, дарованной ей царем небесным и доверенной ей царями
земными, приходит на помощь всем, кто служит делу борьбы с
коммунизмом... Мы знаем больше, чем может постичь погрязший в суете и
юдоли слабый ум человеческий... Я просил вас остаться тут, чтобы
спросить, вполне ли благополучно закончилось дело с наказанием
Круминьша?
- С ним покончено. Дело за тем, чтобы спасти моего человека,
выполнявшего эту карательную операцию.
- Да, да, ваш человек совершил благо и имеет право на
христианскую помощь.
- Мне наплевать, на что он имеет право, - опять сгрубил Шилде. -
Мы, например, имеем право на соблюдение тайны этого дела, а она будет
разоблачена, если мой человек провалится. С ним провалится и Силс.
- Но может ли церковь помочь?.. Видите ли, Шилде... - Ланцанс
придвинулся к собеседнику и осторожно, как будто даже немного
брезгливо прикоснулся одним пальцем к его рукаву. - Наши позиции в
советском тылу значительно менее прочны, чем позиции лютеран. Святая
воинственность нашей церкви - там не в нашу пользу... - Епископ сделал
паузу. - Но с помощью божьей не идем ли мы все к общей цели?
- Вы хотите, чтобы все лили воду именно на вашу мельницу, пока
вы... идете к "общей" цели... А придете к ней вы одни?..
- Мельница господня приемлет все струи.
- Даже самые мутные.
- Шилде!
- ...Так... - протянул Шилде и задумался. - Значит, вы хотите,
чтобы мой человек не прибегал к помощи ваших людей. И он не сможет
найти приют, скажем, в обители Сердца Иисусова.
- Вы имеете в виду Аглоне?! - с испугом спросил Ланцанс. -
Господь с вами! Это значило бы поставить под угрозу нашу последнюю
крепость. Единственный на всю Латгалию, и даже на всю Латвию,
рассадник веры...
- Так что же вы предлагаете? - сердито крикнул Шилде. - Я должен,
наконец, знать, где мой человек может искать убежища?!
- Я посоветуюсь с пробстом Сандерсом и скажу вам, Шилде. - Но,
подумав, Ланцанс словно бы спохватился: - Однако позвольте: почему вы
так настаиваете на том, что убежище должно быть предоставлено именно
духовным лицом?
- Я не говорю "непременно убежище". Но - помощь, кое-какая
помощь, не опасная для ваших людей.
- Да, да, я понимаю, но почему именно со стороны церкви? Где ваши
люди? Ваши подпольные ячейки? Разве не они фигурируют в отчетах, когда
вас спрашивают, куда идут деньги? - Епископу казалось, что тут-то он и
поддел этого самонадеянного нахала. Ведь Шилде уверял всех и вся, что
располагает в Советской Латвии хорошо развитой сетью надежно
законспирированных опорных пунктов боевого подполья. А на деле - все
дутое, все чистое очковтирательство, все ложь, ложь, ложь! Делая вид,
будто говорит сам с собой, он стал шептать, но так, чтобы было слышно
гостю. - Господи, боже, где же конец этой гнусной погоне за деньгами
под всеми предлогами, под всяческими соусами, во всех размерах - от
жалкого цента до миллиона?! Господи, боже, неужели даже в таком
угодном богу деле, как борьба с коммунизмом, не может быть чистых
намерений, неужели даже на убийство врага церкви нельзя идти с руками,
не скрюченными от жажды злата?! Господи, господи, за что наказуешь ты
раба твоего познанием темных глубин души человеческой, такой
сатанинской низости стяжательства в деле святом, в деле ангельском, в
деле, осененном благословением распятого и непорочной улыбкой
девственнородившей!..
Именно потому, что Ланцанс хорошо помнил о присутствии Шилде,
думал только о нем и все, что делал, делал только для него, он
порывисто поднялся со своего места и с фанатически расширенным
взглядом устремился в темный угол, где на фоне распятия из черного
дерева светилось серебряное тело Иисуса. Шилде отчетливо слышал, как
стукнули о пол колени епископа. Но "недосягаемого" не легко было
пронять подобным спектаклем. Он иронически глядел на спину Ланцанса,
припавшего лбом к аналою. Правда, брови Шилде несколько приподнялись,
когда он увидел, как дергаются плечи епископа: "недосягаемый" не мог
понять, действительно рыдает Ланцанс или просто разыгрывает этот
религиозный экстаз ради гостя.
Наконец, Ланцанс поднялся с колен и медленно, усталым шагом
вернулся к своему креслу. По лицу его не было заметно, чтобы молитва
оказала на него умиротворяющее или, наоборот, волнующее действие, -
оно оставалось таким же каменно-равнодушным, каким было, разве только
несколько покраснело от усилия, какое епископу пришлось сделать,
поднимаясь с колен. По-видимому, переход от молитвенного настроения к
суете дел земных был для епископа не очень сложен. Он желчно спросил:
- Неужели вы никогда не кончите отравлять воздух папиросами?
Шилде усмехнулся, придавил сигарету в пепельнице и, сдерживая
усмешку на губах, сказал:
- Молитва вас просветлила, и вам легче понять истинную цену
этому, с позволения сказать, липовому "подполью", на которое вы
предлагаете мне опираться, черт бы его драл!
- Шилде?! - с испугом, на этот раз искренним, воскликнул Ланцанс.
- Помощь в "операции Круминьша", так удачно начатой моими людьми,
должна прийти со стороны церкви! - настойчиво повторил Шилде. -
Иначе... - Он сделал паузу и с особенным удовольствием договорил: -
Иначе грош ей цена.
- Замолчите, Шилде! - воскликнул Ланцанс и поднялся с кресла с
рукою, гневно протянутой к собеседнику.
- Мы тут одни.
- Но я не хочу вас слушать!
- А я все-таки скажу: прошу не тянуть с решением вопроса: кто
может оказать реальную помощь нашему эмиссару за кордоном? - Каждое из
этих слов Шилде сопровождал ударом руки по столу.
- Вы не считаете операцию законченной?
- Когда требуется помощь от вас, то вы готовы ограничиться
убийством одного труса?..
Епископ укоризненно покачал головой:
- Господь жестоко покарает вас за ваш грешный и грубый язык.
- Приходится называть вещи своими именами. Вам хотелось бы уйти
теперь от необходимости действовать? Но мы вас заставим довести дело
до конца: мой человек должен быть спасен для дальнейшей работы в
советском тылу!
- От чьего имени вы так говорите?
В злом шепоте епископа было не только негодование, но и
нескрываемая угроза: вот-вот последует буря обличения или прямое
проклятие и плохо придется тогда Шилде! Но на того это, по-видимому,
мало действовало. Шилде знал, что на этот раз сила на его стороне. Он,
если захочет, может взять угрожающий тон даже по отношению к самому
Ланцансу! Поэтому он уверенно ответил:
- Я говорю от имени "Перконкруста", от имени руководства Совета.
То есть от вашего собственного, господин Язеп Ланцанс. Делить выгоды
умеете, так извольте и похлопотать.
- Какой грубиян!.. Ах, какой грубиян!.. - бормотал Ланцанс.
- Ежели вам нечего вложить в дело, какого же черта вы лезли в
компанию! Мы дали своих людей. Двое из них нуждаются в панихидах,
третий шныряет там, как затравленный волк. Ему уже наступают на хвост.
Не сегодня - завтра он - в западне. От этого никто из нас не выиграет
- ни мы, ни вы...
- Грубиян, грубиян... - повторил епископ, покачивая головой.
Прервав довольно долгое молчание, он, наконец, сказал: - После моей
встречи с пробстом вы получите ответ.
- Я и сам могу спросить пробста. Мы с ним старые приятели.
Ланцанс прикрыл глаза веками. Можно было подумать, что он очень
утомлен.
- По его отзывам о вас я не заметил, чтобы вы были друзьями, -
проговорил он, не открывая глаз.
Шилде насторожился.
- Что вы хотите сказать?
- Да простит мне бог, но не дальше как вчера преподобный Сандерс
предупредил меня: "Эта свинья Шилде..."
Настала очередь Шилде выказать возмущение:
- Это уж слишком!
- Я хотел, чтобы вы знали... - со смирением змеи ответил Ланцанс.
Шилде рассмеялся.
- Если вы думаете, что пустить между друзьями черную кошку -
благое дело, то позвольте и мне открыть пробсту глаза на вашу дружбу с
ним.
- Вы не слышали от меня ни одного дурного слова о преподобном
Сандерсе.
- Зато знаю, что, если бы не мои ребята из "Перконкруста", имя
преподобного Висвалдиса Сандерса давно было бы высечено на могильной
плите. - Шилде придвинулся к епископу так, что его губы едва не
касались лица собеседника. Тон его стал угрожающим: - Или вы забыли,
как еще в Латвии пустили полицию по следам Сандерса?
- Перестаньте! - крикнул епископ, сразу утрачивая спокойствие.
Даже голос его сорвался на испуганный фальцет. - Нечего вам совать нос
не в свое дело.
- Вам не хочется видеть мой нос в куче мусора, на которой сидите
вы? Но наш общий коллега по Совету господин Мутулис может в случае
надобности подтвердить все, что я скажу о вас пробсту. Так что вам
незачем особенно важничать передо мною, Ланцанс!.. Однако давайте
действительно закончим: если советские власти докопаются там до моего
человека, придется перестраивать всю работу и отказаться от дальнейших
услуг Силса. Это вы понимаете?.. Так помогите же нам!
Служка без стука вошел в комнату и, скользя по полу, как
угодливый кот, приблизился к епископу. В руке служки был поднос. На
подносе - рюмка с водой и маленький флакон. Епископ тщательно отсчитал
капли гомеопатического лекарства и выпил.
Шилде разбирал смех: тонкие губы епископа благоговейно шептали:
"Раз... два... три..." Бледные пальцы, как лапа коршуна, цепко держали
крошечный флакончик. - "Недостает только, чтобы он перекрестил это
снадобье", - подумал Шилде.
Служка стоял неподвижно, с опущенными к полу глазами. Когда рюмка
была возвращена на поднос, служка вышел так же бесшумно, как появился.
- Итак, мой дорогой Шилде, - проговорил Ланцанс, - вы сказали,
что второй из тех людей нам еще пригодится?
- Да.
- Несмотря на явку с повинной?
- Явка только маскировка. Она облегчает его положение.
- Да, да, помню... Вы умница, Шилде. Господь да хранит вас! Но...
что дает вам уверенность в преданности этого Силса? Можно ли
положиться на его честь?
- Честь? - Усмешка скользнула по губам Шилде. - Мне странно
слышать это слово, когда речь идет о таких, как Силс, и в приложении к
такой работе. Я держу их деньгами и страхом. Вот верные карты в моей
колоде.
- Страх? - недоверчиво переспросил Ланцанс.
- И деньги! Я сказал: и деньги!
- Плохая карта, Шилде, совсем плохая. - Епископ пренебрежительно
махнул рукой. - Всегда может найтись козырь постарше.
- Мы играем золотыми тузами.
Ланцанс рассмеялся:
- Творец вложил в человека неустойчивую душу: если смогли
соблазнить ее вы - могут соблазнить и другие. - Он наставительно
поднял палец, словно говорил с исповедником. - Плоть слаба, и соблазн
силен.
- Мне посчастливилось слышать эту сентенцию из уст самого
сатаны... В опере!
- Вот как?! Вы, оказывается, любите музыку.
С этими словами епископ подошел к стоявшей наискосок от окна
раскрытой фисгармонии. Не глядя, привычным движением опустил пальцы на
клавиатуру. На мгновение закрыв глаза, задумался. Звуки тягучего
псалма, мерно раскачиваясь, поплыли на волнах табачного дыма,
выпускаемого Шилде. Некоторое время Шилде в такт музыке покачивал
носком ноги. Выражение его лица обнаруживало напряжение мысли.
Ланцанс, по-видимому, только еще входил во вкус игры, когда Шилде
замахал руками и воскликнул:
- Не то, не то... Совсем не то! Там, в опере, с этим чертом в
красном, была совсем иная музыка.
Ланцанс с обиженным видом, не снимая рук с клавиатуры, ждал,
когда Шилде перестанет ему мешать. А тот делал попытку вспомнить
мотив, но так и не сумев его воспроизвести, напустил на себя важность
и задумчиво проговорил:
- Да, в жизни бывают периоды, когда музыка приходится кстати. Я
слышал, будто какой-то пианист или композитор именно через музыку
пришел в лоно церкви, стал монахом. Вот только забыл, как его звали.
Зато я помню его музыку. Тра-та-та-та-та!.. Тра-та! Тра-та! - Шилде
повторил несколько тактов из известной шансонетки, распевавшейся в
рижских шантанах.
Ланцанс грустно улыбнулся и покачал головой:
- У вас, конечно, отличный слух, просто прекрасный слух, но это
совсем не Лист. - Он взял несколько аккордов.
- Вот-вот! Это самое! - оживился Шилде: - Тра-та-та-та! Словно
лихой танцор отбивает каблуками... В молодости я любил потанцевать.
Ну, а потом... потом уж только и осталось: танцовщицы из Альгамбры...
Ах, какие там были девчонки! Из-за одной такой я... Впрочем, моя
биография вас не интересует.
- Напротив, Шилде, напротив. Святая церковь учит нас
интересоваться всем, что касается друзей. И мы, например, хорошо знаем
соблазнительницу, толкнувшую вас тогда на нарушение заповеди господней
"Не укради". Помним и то, что было потом. - При этих словах епископ
лукаво усмехнулся. - Да, у церкви хорошая память, господин Шилде. При
случае мы о многом можем напомнить тем, кто слишком кичится своей
безгрешностью. Но, когда нужно, мы умеем и многое забыть... - И
многозначительно добавил: - Если это нужно нашим друзьям... Однако я
хотел спросить: что, по-вашему, интересует этого... Силса?
- Какое мне дело до интересов всякого прохвоста?
- А как же вы надеетесь держать его в руках? Я уже сказал: не
всегда это надежно... Страх?.. Ведь Силса могут и оградить от ваших
угроз. Что ж у вас останется? Чем вы заставите его повиноваться? Где
кнут, волею божьей вложенный в вашу десницу, чтобы управлять
доверенными вам душами.
- Бог отпустил моей братии довольно темные души, - пробормотал
Шилде.
- Господь ведает, что творит. Каждому отпущено то, что следует.
Не нам испытывать его мудрость. - Ланцанс на мгновение молитвенно
поднял глаза к потолку и опустился в кресло. - Я хочу дать вам
совет... Не смотрите на меня так: опыт святой католической церкви
измеряется двадцатью веками. - Он улыбнулся. - Это, кажется, немного
больше опыта даже такого опытного организатора, как вы... Рядом со
страхом и деньгами - силами временными и преходящими - существуют
вечные силы... Вы вот упомянули о том не новом открытии, которое
оперный сатана преподнес вам, а забыли, что случилось с Фаустом. Вы
забыли о страсти более сильной, чем страх и золото.
- Такой страсти не существует.
- А любовь, сын мой? Греховное стремление людей друг к другу?
Только мы, убившие плоть свою во имя господне, не знаем над собою
власти страстей, не подчиняемся земной любви. Но опыт говорит нам,
что, начиная с грехопадения Адама, любовь царит надо всем, что есть
живого на земле... Кроме нас, кроме нас! - поспешно добавил епископ. -
Эта страсть ведет человечество к мнимому счастью и к бедам, к
процветанию царств и к гибели империй.
- Зачем этот устаревший трактат о любви, епископ?
- Затем, друг мой, что в вашей деятельности нельзя забывать: в
сердцах людей любви отведено значительное место.
- Человек человеку рознь!
- И все же, по воле создавшего нас, я не знаю такого сердца, для
которого хотя бы раз в жизни не пел соловей. И если вы не принимаете в
расчет земные привязанности своих людей - вы профан. И заранее можно
предсказать вам проигрыш.
- Мои люди не таковы!
- Неправда, девять из десяти ваших агентов такие же, как все
другие: из плоти и крови. Вы дурной организатор, Шилде, если не учли
этих пут среди средств, которые провидение дало вам, чтобы связать
Силса. Денег больше, чем вы, могут дать Советы...
- Они скупы.
- Только там, где надо, Шилде.
- Они не овладевают душами!
- При помощи денег, да. Но у них есть какие-то другие средства.
Овладели же они душою Круминьша, не дав ему ни гроша. Да разве одного
Круминьша?! А те сотни тысяч, миллионы латышей, что идут под их
знаменами?
Шилде слушал епископа, и взгляд его делался все мрачнее, все
больше морщился лоб и сердитым становилась лицо.
- Чего же вы от меня хотите? - спросил он.
- Помочь вам взять в руки Силса. Я хочу, - как мог отчетливей,
отделяя слово от слова, внушительно говорил епископ, - чтобы вы
заинтересовались привязанностями Силса.
- У меня нет возможности установить слежку за любовными
похождениями этого мальчишки. Один - двое калек, которые могут мне там
кое-как служить, не поспеют за этим молодцом, когда он начнет бегать
по девчонкам...
Епископ остановил его, подняв руку.
- Не то, не то! - Он брезгливо поморщился. - Конечно, проследить
за интимными связями Силса был бы смысл. Среди них может оказаться и
такая, которую вы сумеете использовать хотя бы для наблюдения за ним.
Но на этот раз я имел в виду иное: вы должны заняться связями Силса
здесь, у нас.
Шилде рассмеялся:
- Какие же связи могли у него сохраниться тут в эмиграции? Женат
он не был, детей не имел. Не думаете же вы, будто он сохранил
какую-нибудь, с позволения сказать, "любовь".
- Именно это я и думаю, друг мой.
- Вы смешите меня, епископ. Силс больше года хранит верность
какой-нибудь девчонке здесь?!
- Значит, Шилде, - все строже говорил епископ, - вы знаете
меньше, чем должны знать... У Силса здесь есть привязанность. И очень
крепкая привязанность... Это и есть тот козырь, который я вам дам,
чтобы вы могли перекрыть все советские карты. - По мере того как
епископ говорил, голос его делался все тише и сам он все ближе
подвигался к Шилде. И даже руки его, перестав шарить по пуговицам
сутаны, протянулись к собеседнику, словно что-то передавая: - Возьмите
эту карту, спрячьте ее, держите крепче. Если Силс узнает, что вы в
любой момент можете ее просто уничтожить, а то еще... иначе
использовать, скажем... взять себе в прислуги... - Епископ,
прищурившись, посмотрел Шилде в глаза. - Вот Квэп, например, любил,
чтобы горничные взбивали ему подушку... Она молода и хороша собой,
эта... Силсова Инга.
Епископ интригующе умолк. Шилде с живым интересом спросил:
- Вы действительно ее знаете?
Вместо ответа епископ не спеша проговорил:
- Поймайте ее, возьмите ее, и Силс станет мягок как воск.
- Как ее зовут?
После некоторого колебания епископ сказал:
- Инга Селга!.. Должен сознаться: приказ уничтожить Круминьша
представляется мне теперь ошибкой. Да, грубая ошибка - результат вашей
плохой работы. Если бы я в то время знал, что в моей канцелярии служит
возлюбленная Круминьша - некая Вилма Клинт, я ни за что не согласился
бы его убрать. При помощи этой Клинт мы взяли бы Круминьша в тиски. Он
пошел бы для нас в преисподнюю. О, он еще послужил бы нам! - Епископ
насмешливо поглядел на Шилде: - Если бы наша разведка работала как
следует... Это вы, мой дорогой Шилде, виноваты в том, что мы так
примитивно разделались с Круминьшем и потеряли в нем отлично
законспирированного человека в советском тылу.
- Теперь не стоит препираться по этому поводу! - примирительно
сказал Шилде и тяжело поднялся с кресла.
- Ну что же, мир вам, сын мой, грядите со господом, - ответил
епископ.
При этих словах его рука по привычке сложилась для благословения,
но Шилде, словно не замечая этого движения, простился рассеянным
кивком головы и пошел к двери.
Мысли его бежали теперь так же быстро, как и в начале встречи:
трудная лиса этот Ланцанс! Что может крыться за сообщением об Инге
Селга? Действительно ли иезуит подкинул ему козырь, имея в виду
интересы дела, или?.. Ох, трудная лиса!.. Как бы не оказалась
крапленой эта "козырная" карта. Шилде не должен забывать, что не
сегодня - завтра может случиться большая беда: Ланцанс приберет к
рукам все дела латышской эмиграции. Но что такое дела? Разве суть в
делах?! Тот, кто знает епископа, понимает: перво-наперво он
заграбастает денежки, отпускаемые оккупантами. Вот это будет настоящая
беда!..
Эта мысль заставила Шилде остановиться, как будто собственные
шаги мешали движению его мыслей.
"Ну что же, - думал он, - если дело повернется таким образом, то
придется выбирать: самому переходить на сторону Ланцанса или дать
кое-кому одно щекотливое... очень щекотливое поручение! Черная ворона
слишком раскаркалась!.. Как будто стала тут настоящей хозяйкой...
Посмотрим, посмотрим!.. А пока что нужно все-таки позаботиться о том,
чтобы исполнитель "операции Круминьша" не попал в руки советских
властей. И насчет Силса тоже следует подумать. Парень он крепкий, но
надо найти ему такую область применения, чтобы его не застукали в
первый же день. Следует подольше подержать его в консервации... К
сожалению, хозяева всегда спешат. Словно не понимают, как важно
закрепить человека на нелегальном положении годик-другой. Вот японцы,
те в этом отношении бесподобны: по десять лет держат свою агентуру на
консервации ради одного какого-нибудь задания. Но зато у них и
агентура! Не то что выдумки, которыми он сам вынужден пичкать хозяев,
ради поддержания в них бодрости. А то, не дай бог, захлопнут кошелек
перед самым носом!
...О чем это он должен был хорошенько подумать?.. Ах, да, Силс...
Этот парень еще пригодится".
Когда Грачик включился в расследование, Мартын Залинь уже был
арестован. Правда, основанием для ареста послужили обстоятельства,
показавшиеся по началу важными и достаточными: наличие ножа,
опознанного за нож Залиня; не объясненное Залинем отсутствие его на
работе вечером и в ночь преступления и некоторые другие улики.
Соображения следователя, ведшего дело, показались теперь Грачику
недостаточными для дальнейшего применения этой меры пресечения.
Слишком большое место в них занимали утверждения свидетелей, что
"убийца - Мартын, и никто другой!" Показания могли быть основаны на
вражде между Мартыном и Эджином, на ревности Мартына и на его угрозах
разделаться с соперником. А следователь, хотя и не новичок, по мнению
Грачика, все же попал в плен чужому мнению. Сыграла роль массовость и
единодушие высказываний рабочих бумажного комбината.
Так или иначе, доказательность материала, собранного против
Залиня, становилась, по мнению Грачика, недостаточной. Грачик считал,
что только в сочетании с другими изобличающими обстоятельствами,
имеющими неоспоримую силу, эти показания могли бы получить
вспомогательное значение, стать косвенными уликами. Но именно этих-то
"неоспоримых" обстоятельств в деле и не было. Вдобавок Мартын Залинь
доказал свое алиби: той ночью, когда произошла смерть Круминьша,
Мартын участвовал в гулянке с товарищами, а затем спал в общежитии, а
днем был на работе в комбинате. Грачик не видел оснований держать
Мартына под стражей. Следователь, от которого Грачик принимал дело, не
согласился с Грачиком. Их разногласие дошло до прокурора республики.
Грачик понимал, что ему предстоит нелегкий спор: как-никак ему
противостояли местные работники, Крауш не имел оснований им не
доверять.
Приглашенный на совещание в кабинет прокурора республики, Грачик
без особенного внимания следил за тем, как проходили другие, не
касающиеся его вопросы. Он разглядывал сидевшего на председательском
месте прокурора республики. Крауш был блондин невысокого роста с
усталым лицом. О нем говорили, как о большом пунктуалисте, зачем-то
стремившемся казаться сухарем, а в действительности только усталом, но
очень добром человеке, не в меру прямолинейном в разговорах с
начальством. Однако, на взгляд Грачика, черты прокурорского лица мало
гармонировали с отзывами о его доброте: сильно выдвинутая челюсть с
острым подбородком, маленькие глаза того мутного серо-голубого
оттенка, который не позволяет определить их подлинное выражение. Над
глазами - высокий выпуклый лоб. Все выглядело сурово и даже сердито.
Впрочем, тут же Грачик пришел к выводу, делавшемуся до него по крайней
мере тысячу раз в год в течение многих тысячелетий: "Куда приятнее
видеть доброго человека с суровым или хитроватым лицом, нежели
красавца, обладающего душонкой жестокого хитреца".
Время от времени лицо прокурора болезненно напрягалось от
душившего его кашля. Приступы этого кашля были часты и продолжительны
и сотрясали все тело прокурора. В начале приступа он поспешно хватался
за папиросу и глубоко затягивался. Дым, несмотря на кашель, долго
оставался где-то внутри прокурора. Лишь когда кашель кончался, дым
желтовато-сизой струйкой медленно выходил из ноздрей. Грачик с
удивлением, морщась от сострадания, глядел на задыхающегося прокурора
и не мог понять, как немолодой и умный человек пытается утишить кашель
папиросным дымом. Грачику казалось, что это равносильно тому, что
человек в трезвом виде стал бы гасить пожар, поливая его бензином.
Наблюдая прокурора, Грачик вдруг заметил, что взгляд того
почему-то с особенной настойчивостью остановился на нем самом.
Оказалось, что, увлеченный своими размышлениями, Грачик пропустил мимо
ушей, как ему было предложено изложить свою точку зрения на дело
Мартына Залиня.
Слишком резкий армянский акцент Грачика искупался его приятным
грудным голосом и ясностью, с какой молодой человек излагал свою
мысль. Несколько смущенный тем, что его застали врасплох, он все же
точно и твердо формулировал свое требование освободить Мартына.
Прокурор, уже выслушавший до того оппонентов Грачика, разразившись
очередным приступом бешеного кашля, сипловатым голосом устало
проговорил:
- Заключая под стражу Мартына Залинь, вы, - он указал карандашом
на сидевшего ближе всех следователя, - ссылались на статью сто
девятую, а вы, - его карандаш обратился в сторону сидевшего рядом со
следователем районного прокурора, - вы, не дав себе труда самому
тщательно разобраться в соображениях следователя, санкционировали
арест. Ход ваших мыслей мне ясен: "Наш человек всегда прав". Тут есть
даже ваше упоминание, ни к селу ни к городу, статьи двести шестой. Вы
ухватились за нее, полагая, что лучше немножко переборщить, чем
недоборщить. Но это старая система работы. О ней надо забыть! Я вас
спрашиваю, при чем тут двести шестая статья?!
- Видите ли... - начал было районный прокурор, но республиканский
перебил его, стукнув карандашом по стеклу, покрывавшему стол:
- Что мне видеть!.. Мы с вами отвечаем за соблюдение советской
законности в любых условиях и обстоятельствах. Это единственное, что я
вижу и советую видеть вам всегда и везде. Мы советские прокуроры! Надо
же это в конце концов понять до конца: мы око народа в его борьбе за
законность и за права каждого отдельного человека, хотя бы этот
человек сам и ничего не смыслил в вопросах права! Понимаете?!
- Я тщательно проверил свидетельские показания... - снова начал
райпрокурор.
- Я их тоже проверил, - резко перебил республиканский. - Но
проверил и ваши действия. Вы действовали так, как мы тридцать шесть
лет назад. Но тогда этого требовали от нас условия - потеря минуты
могла стоить слишком дорого. Не воображайте, будто мы не понимали
того, что действовали подчас вне рамок писанного права, - таково было
время, таковы были тогда условия диктатуры.
- К сожалению, - с несколько излишней задористостью заметил
Грачик, - кое-что такое имело место не только тридцать шесть лет
назад.
- Да, к сожалению, это случалось и позже. - Прокурор метнул на
него сердитый взгляд и, не глядя в его сторону, продолжал: - По разным
причинам право решать судьбу советского человека не всегда попадало в
руки его друзей. Но повторяю: это только случалось, а не было и не
будет правилом и примером для других. Не будет! - Карандаш сухо
стукнул по стеклу. - Мы с вами живем в период, когда меняются функции
и роли диктатуры, меняется наше отношение к букве закона и когда наша
с вами борьба за революционный правопорядок становится особенно
важной. - Его карандаш опять холодно стукнул. - И никому из нас не
будет дозволено действовать, руководствуясь одним только страхом.
- Кого же я боялся? - удивленно спросил следователь.
- Вы боялись остаться в дураках, если подозреваемый скроется. -
Следователь пожал плечами, в ответ на что прокурорский карандаш с
новой силой опустился на стекло.
- Для меня он был уже обвиняемым, - успел возразить следователь.
- Я предъявил ему обвинение. Органы дознания...
Карандаш стукнул несколько раз - громко, повелительно.
- Оставьте в покое органы дознания, - строго сказал прокурор. -
Ссылки на них вас не спасают. К тому же органы не действуют очертя
голову и подконтрольны нам в части санкций. За ваши действия отвечаете
вы сами. - Тяжкий приступ кашля снова заставил прокурора умолкнуть.
Давясь, он прикрыл глаза. Грачик почти со страхом смотрел, как он
багровеет, как слезы выступают из-под опущенных ресниц. Грачик был
слишком здоровым и жизнерадостным человеком, чтобы допустить мысль,
что подобные страдания (так ему казалось) могли стать привычными.
Поэтому Грачику хотелось что-то сейчас же сделать, чтобы помочь
прокурору откашляться, или хотя бы сказать ему несколько слов
сочувствия. Но никто из окружающих не обращал на этот кашель внимания.
Очевидно, это было всем уже так привычно, что заседающие
воспользовались паузой только для того, чтобы перекинуться между собою
несколькими репликами. Как только приступ окончился, совещание
продолжалось как ни в чем не бывало. Сам же прокурор и заговорил,
продолжая фразу, словно она и не прерывалась: - Отвечаете вы и никто
другой, - и оглядел сидящих за длинным столом прокуроров и
следователей: - Ваше мнение, товарищи?
Несмотря на порицание действий следователя, высказанное
прокурором республики, присутствующие вовсе не были единодушны в своих
оценках. Но все же совещание окончилось решением о необходимости
освободить Залиня, так как его алиби представлялось доказанным. На
следующий день Мартын был освобожден к удивлению и неудовольствию
рабочей общественности бумажного комбината.
Мартын вернулся в С. в шляпе, лихо сдвинутой на ухо, и, подойдя
ночью к окошку Луизы, сказал:
- Ну, погоди!.. Узнаешь, как на меня капать!
В кармане брезентовой куртки, надетой на Круминьша в момент
смерти, был обнаружен пистолет "браунинг". Его обойма была пуста.
Ствол носил следы выстрелов. Это могло служить подтверждением тому,
что Круминьш застрелил своего спутника, приняв его за работника
милиции. Проверка, произведенная по всей республике, показала, что
пистолет "браунинг" с таким номером на вооружении латвийской милиции
не значился. Никогда ни одному работнику милиции Латвийской ССР этот
пистолет не выдавался. Это могло служить еще одним доказательством
тому, что "арестовавший" Круминьша человек не принадлежал к аппарату
милиции - ведь Круминьш писал: "Застрелил офицера из его собственного
оружия".
Первый вопрос, который Грачик себе поставил, ознакомившись с
материалами дела, сводился к тому: почему, имея пистолет и патроны,
Круминьш повесился, а не застрелился? Допустить, что в обойме у него
имелось ровно столько патронов, сколько понадобилось, чтобы застрелить
конвоира?.. Тогда надо допустить, что Круминьшу понадобилось несколько
выстрелов, чтобы разделаться с конвоиром?.. Два, ну три выстрела в
любых обстоятельствах достаточно, чтобы попасть на близкой дистанции в
убегающего человека. А можно ли предполагать, что в обойме у
преступника имелось только два или три патрона? Это было маловероятно.
Допущение, будто Круминьш повесился было, по мнению Грачика, ошибкой.
Он настаивал на необходимости всесторонне исследовать версию
инсценированного самоубийства. Однако заключение, данное по этому
вопросу психиатрической экспертизой, гласило, что в том состоянии, в
каком находился в последние минуты жизни Круминьш, от него не
следовало ждать логических действий. Так же, как он повесился, имея в
кармане пистолет, он мог и утопиться; мог, располагая таким верным
оружием для уничтожения своего спутника, как пистолет, выжидать
удобного момента, чтобы задушить свою жертву или ударить камнем по
голове. По мнению врачей, несомненная психическая травма Круминьша
позволяет сделать любые предположения.
Грачик считал выводы экспертов неубедительными.
К этому времени в деле появилось новое обстоятельство. Стоило
слуху о том, что арест Круминьша был фиктивным, распространиться на
комбинате, как к властям явился местный католический священник отец
Шуман. Он предъявил снимок, сделанный в день "ареста" Круминьша. На
снимке был изображен "арестованный", идущий в сопровождении двух
неизвестных: один - в форме милиции, другой, - на заднем плане, лица
которого не видно, - в штатском. Фоном для всей группы служил местный
католический храм - маленькое деревянное сооружение, весьма дряхлого
вида и незатейливой архитектуры. Ошибиться в том, что идущие именно
названные лица, было невозможно: лицо Круминьша было отчетливо видно.
Все детали формы советской милиции на его спутнике были также ясно
различимы.
- Где вы взяли этот снимок? - спросил Грачик.
- Нескольким ателье было поручено сфотографировать наш скромный
храм, - ответил Шуман. - Я намеревался размножить снимок с целью
продажи прихожанам. Нам нужны средства на поддержание храма.
- И вы полагали, что снимок со столь неказистой постройки будут
покупать в таком количестве, что это может вам что-то дать?
- Именно в том, что вы изволите называть неказистостью, и
заключается смысл. Убогий вид нашего храма должен напоминать верующим
о бедственном положении дома господня. Продажа снимков была бы
источником дохода на поддержание храма.
- А каким образом эти трое попали на снимок? - спросил Грачик.
- Я сам этим удивлен, - отец Шуман пожал широкими плечами. -
По-видимому, фотограф не заметил, как они вошли в поле зрения
аппарата, или не придал значения тому, что на снимке окажутся
прохожие. Но я счел этот снимок испорченным и забраковал его. И только
теперь, когда до меня дошел слух о случившемся с Круминьшем, я
вспомнил об этой фотографии и счел своей обязанностью представить ее
вам. - Шуман ткнул пальцем в фотографию: - Вот видите: один из этих
людей - в форме милиции.
- Мы вам благодарны. Оставьте эту фотографию нам.
- О, разумеется!
Разговор казался оконченным, а священник все еще мялся. Он взялся
было за шляпу, но Грачик видел: что-то недосказанное висит у него на
языке.
- Вы хотите сказать нам еще что-то?
- Видите ли, - смущенно проговорил отец Шуман. - Фотографирование
обходится теперь так дорого... Я уплатил за этот снимок...
- Ах, вот в чем дело! - не без удивления воскликнул Грачик. -
Сколько же мы вам должны?
- Такой снимок, сделанный в одном экземпляре, фотографы ценят в
пятьдесят рублей. - И священник с поспешностью пояснил: - Они берут за
выезд из Риги.
Грачик вручил священнослужителю пятьдесят рублей, и тот,
церемонно поклонившись, ушел. Грачик внимательным взглядом проводил
его широкую спину и багровевший над нею мясистый затылок, прорезанный
у шеи узкой полоской крахмального воротничка. Когда Грачик смотрел на
розовый затылок, на белую полоску накрахмаленного полотна над черным
воротником пиджака, ему казалось, что он уже где-то видел и этот
мясистый затылок и эту белоснежную полоску над черным сукном... Но
где?.. Где?..
По привычке непременно вспомнить то, что показалось ему знакомым,
Грачик еще долго, настойчиво думал о затылке священника. Но нужное
воспоминание не приходило. И он решил, что память его обманула или при
взгляде на отца Шумана ему вспомнились подобные же, но другие
упитанные затылки.
Однако Грачик был упрям тем хорошим упрямством добросовестности,
какое необходимо всякому исследователю. Промучавшись ночь, напрягая
память, он наутро, не успев позавтракать, отправился к костелу в Риге
и первым вошел под его темные своды. В притворе еще не было даже
зажжено паникадило, и Грачик больно ударился протянутой рукой в
затворенную дверь. Сторожиха с нескрываемой неохотой загромыхала
ключами. В храме было тихо и пусто. Шаги Грачика не очень громко
отдавались на выщербленном, словно выбитом подковами полу. Грачик
прошел по рядам скамей. Запах времени, не слышанный Грачиком раньше,
въедался в его ноздри, как напоминание тлена, к которому с каждым
веком, с каждым десятилетием быстрей и верней шел этот памятник богу,
упрямо не желающему уходить в небытие. Грачик прошел на место, где
стоял во время богослужения несколько дней назад, когда приехал
поглядеть храм и обряды. Он, как тогда, прислонился к колонне и закрыл
глаза. И снова перед ним, как тогда, потянулось торжественное
богослужение. Скамьи заполнялись людьми, похожими больше на
любопытных, явившихся поглазеть на интересное зрелище, чем на
богомольцев... Грубо раскрашенные изваяния мадонны и святых лепились к
массивным опорам высокого свода. Ковер дорожки, протянутой от боковой
двери, яркой полосой алел вокруг всей церкви, ведя к алтарю. И,
наконец, появились, выплывая из низкой двери, фигуры
священнослужителей всех рангов. Почти всем им - большим и дородным -
приходилось нагибаться, чтобы не стукнуться о камень низкого свода.
Кружевные одежды поверх черных сутан, белоснежные галстуки. И надо
всем этим - хмуро сосредоточенные, налитые кровью, напоенные сознанием
своего значения, иссиня-багровые лица. Вот лицо важно вышагивающего
епископа. Он глядит в пол и ступает так осторожно, словно старается
ступить на след своего собственного огромного посоха. За епископом
целая процессия худых и толстощеких, но одинаково важных, одинаково
налитых кровью лиц. И где-то в хвосте процессии, рядом с маленьким
сухопарым старичком, облаченным в не по росту длинный хитон, с золотым
крестом на груди, - лицо - широкое, с отвисающими щеками и
насупленными белобрысыми бровями. Двойной подбородок лежит на глянце
крахмального воротничка. Лицо настолько красно, так напряженно, налито
кровью, словно этот воротничок давит шею священника подобно пыточному
ошейнику. Вот-вот, брызнет кровь из пор надувшегося лица...
Грачик хорошо помнит, что, глядя вслед процессии, он видел
затылок замыкающего священника - такой же налившийся кровью, такой же
раздутый, как щеки, подбородок, как все лицо... А не был ли перед ним
тогда этот самый Затылок? Тот же, который он видел вчера, - затылок
отца Шумана?
И сейчас, когда Грачик вспомнил, как церемонно поклонился отец
Шуман, взяв свои пятьдесят рублей, как важно шагал к выходу, показывая
широкую спину и складки затылка, Грачику почудилось, будто он снова
видит всю процессию там, в рижском костеле. Грачику чудилось, что он
без ошибки воспроизвел бы теперь и торжественную песнь органа, под
звуки которого совершалось шествие... Да, теперь он был уверен - вчера
перед ним был тот самый затылок! Красный затылок отца Шумана!
10. ПРОКУРОРА ЗОВУТ К ОТВЕТУ
Стоя у окна приемной первого секретаря, Крауш смотрел на Ригу. С
этой высоты город казался утопающим в садах. Бульвары и парки
сливались в сплошной зеленый массив. Сколько бы раз Крауш ни подходил
к этим окнам - а он был частым гостем на верхних этажах ЦК, - Рига
всегда представала перед ним по-новому прекрасной. Весна, лето, осень
- все одевало город своим ни с чем несравнимым убором. С этим
соглашался даже он, Крауш, - человек отнюдь не влюбленный в природу.
Он не мог бы дать отчета: почему эта панорама всегда заставляла
деятельно работать его память, но это было так. Этапами, в зависимости
от настроения, проходили перед ним события прошлого - жизни, отданной
тому, чтобы этот город стал тем, чем стал: сердцем Латвии, столицей
страны, принадлежавшей его народу, управляемой его народом. Крауш
хорошо помнил, кто и как правил страною прежде; помнил корысть и
властолюбие полновластных хозяев буржуазной Латвии. Поэтому то, что
молодому поколению казалось извечным и само собою разумеющимся:
народовластие, революционный порядок и равные права для всех -
элементы государственности и правопорядка, на страже которых стоял
теперь он сам, генеральный прокурор республики, - было для поколения
Крауша плодом борьбы со старым миром. И то, что казалось молодежи
прошлым, сданным в музей революции, - самая эта борьба, вовсе не
представлялось ему законченным этапом. Борьба продолжалась. Старый мир
умирал, но еще не умер. Его печальное и подчас мрачное наследие как
вредный мусор тлело кое-где в сознании людей. Чтобы покончить с этим
тлением, тоже нужно было бороться.
Крауш был одним из представителей старой партийной гвардии, для
которых в поручениях партии не существовало большого и малого,
интересного и неинтересного, видного и невидного. Он уже не
рассчитывал воспользоваться для себя самого плодами победы над старым
миром и даже не надеялся отдохнуть. Интересы народа и воля партии были
компасом, с которым он прошел по жизни и с которым собирался уйти в
вечную отставку. Работа и борьба стали привычкой, жизнью. Он удивлялся
тем, кто говорил об "отставке", рассчитывал пенсии, планировал жизнь
на покое. Разумеется, это было в порядке вещей, и именно ему, Яну
Краушу, было поручено наблюдение, чтобы провозглашенное конституцией
право на обеспеченную старость свято соблюдалось. Он был готов
вступить в бой с нарушителями этого права других. Но ему не приходила
мысль о том, что давно вышли все сроки и его собственной службе и он
сам имеет право на покой и на старость. Он не хотел покоя и не
чувствовал старости. Этих терминов не было в его словаре.
Да, не раз стоя у этих окон, Крауш размышлял на подобные темы. Но
нынче его мысли были куда более прозаическими и ограниченными во
времени и пространстве. Они вертелись вокруг Алуксненского района,
порученного его наблюдению, как депутату Верховного Совета. Не всегда
удавалось вырвать время, чтобы отмахать двести с лишним километров для
посещения Алуксне. Подчас приходилось ограничиться телефонным
разговором. А время настало горячее - подготовка к уборочной.
Вероятно, молодые руководители района наломали дров, и вот Крауша ждет
внушительная головомойка.
Крауш был ветераном партии и занимал один из самых высоких постов
в республике. Но когда его вот так, внезапно, вызывали к старшим
партийным товарищам, он чувствовал себя немногим лучше, нежели в
юности, когда представал перед инспектором школы. На свете существует
два рода деятелей. Одни, будучи поставлены на высокий пост, довольно
быстро забывают, что этот пост - не что иное, как поручение, тем более
ответственное, чем оно выше. Такие деятели быстро теряют представление
о собственном месте в системе партии и государства, утрачивают
скромность, обретают самоуверенность, ничего общего не имеющую с
достойной уверенностью в себе. Начав с того, что при встрече со
старыми товарищами подают им левую руку, они скоро утрачивают
партийное лицо, помышляют только о бытовом подражании дурным примерам
вельможемании, забывают о том, что они - только слуги народа. Такие
кончают безвестностью за штатом истории. Другого рода деятели на любом
месте и в любом положении сохраняют ясность перспективы и понимание
обстановки. Они всегда помнят об ограниченности собственной ценности и
о значении порученной им работы. Такие остаются верны ленинским
заветам партийной скромности и знают, что их сила не в них самих, а в
стоящей за ними партии. Такие одинаково серьезно относятся к критике
сверху и снизу.
Сегодня, переступая порог кабинета первого секретаря Центрального
Комитета, Крауш был немного не в своей тарелке - за ним вина:
упущенное из рук руководство подготовкой к уборочной.
Товарищ Спрогис, первый секретарь ЦК, - человек небольшого роста
и той степени плотности, которую только-только нельзя назвать
полнотой, - поднялся из-за стола и сделал шаг навстречу Краушу. Седые
усы его так топорщились, что придавали лицу сердитое выражение даже
тогда, когда Спрогис чувствовал к посетителю искреннее расположение.
- Давно не виделись, - густым хрипловатым, словно простуженным,
баском проговорил Спрогис, имея в виду, что со времени последнего
заседания бюро ЦК, на котором присутствовал Крауш, прошло уже пять
дней. - Как дела?
- Хвастаться нечем.
- В какой области?
- Да начать хотя бы с той, о которой бюро поручило мне собрать
сведения.
- Вы имеете в виду правопорядок в республике?.. Разве так плохо
обстоит дело?
- Конечно, сравнить нельзя с прошлым, но все же... Нет-нет да и
забудет кто-нибудь, что конституция - это не просто плакат с красивыми
словами. - Усы Спрогиса встопорщились еще больше. Крауш улыбнулся: -
Нет, нет! Дело не дошло до того, чтобы нужно было повесить перед
каждым работником аппарата ее текст. Не дошло и не дойдет!
- Но если хотя бы один советский гражданин может ткнуть нас носом
в то, что забыта хотя бы одна ее статья и хотя бы один только раз,
одним только работником аппарата, - стыд и срам! Небось хуже всего
там, где дальше от глаз: в районах, в колхозах? А для чего там ваши
прокуроры?
- Да ведь народ теперь как понимает дело?.. Чуть что -
конституция. Налог перебрали - конституция! В районный центр
понапрасну вызвали, от работы оторвали - конституция! Я уж не говорю о
том, что нужно семь раз отмерить, прежде чем вора за руку схватить.
Басистый смех Спрогиса гулко разнесся по большому, отделанному
деревом кабинету.
- А вы говорите "хвастаться нечем". Так это же просто
великолепно: народ сам, без помощи ваших прокуроров, стоит на страже
конституции! Это же просто отлично! - весело повторял Спрогис,
размахивая трубкой. За нею тянулась полоса едкого дыма. Спрогис курил
очень крепкий табак, какой куривал, наверно, еще будучи литейщиком на
"Руссо-Балте", и Крауш чувствовал, что от этого дыма его тянет на
кашель. Спастись можно было только закурив самому, но папиросы
остались в приемной, и он пытался подавить приближавшийся мучительный
приступ кашля. А Спрогис между тем продолжал: - Вот это и есть
настоящий порядок! - Тут он сунул трубку в рот, и две стремительные
струи дыма, одна вдогонку другой, вырвались из-под его усов. - А вот
переходя к Алуксненскому району, приходится сказать, что хвастаться
действительно нечем.
Крауш посмотрел в глаза Спрогису.
- Это моя вина, - сердясь на самого себя, сказал он. - Но есть
кое-что принципиальное, что народ ставит перед нами как важнейший,
первоочередной вопрос: кукуруза!
Спрогис далеко отставил руку с трубкой. Вся его фигура выразила
заинтересованность. Он с нескрываемым нетерпением ждал, что дальше
скажет Крауш.
- Колхозники говорят, - размеренно, как если бы ему хотелось
насколько можно точнее передать каждое слово чужого мнения, проговорил
прокурор, - они засеют кукурузой в десять раз больше, чем мы
предлагаем. "И уж мы ее выходим, выхолим, вырастим!.." Но для этого
они должны быть уверены, что кукуруза им самим нужна, что без нее им
не обойтись. Вот так: они готовы принять любой план заготовки
кукурузы, так сказать, на вызов, если мы примем их план: избавить их
от посевов зерновых сверх нужного для их собственных потребностей. А в
качестве основного производства, в любом масштабе, сколь угодно
большом, закрепить за ними животноводство. Рогатый скот и свинья, да
еще гусь - вот что они готовы давать высшего качества и в любом
количестве. "Вот тогда, - говорят они, - нам понадобится и кукуруза, и
овес, и такие травы, о каких мы сейчас и не думаем. И все будет", -
говорят они...
По мере того как говорил Крауш, лицо Спрогиса принимало все более
суровое выражение, усы топорщились, и клубы дыма, один другого гуще,
взлетали над его головой, словно выстреленные.
- ...Они прямо-таки помешались на рогатом скоте, - в заключение
раздраженно заметил Крауш.
Спрогис с кряхтеньем поднялся из-за стола и медленно прошелся по
кабинету.
- А может быть, и не так уж помешались! - послышался его бас из
дальнего угла комнаты. Крауш оглянулся и с удивлением увидел, что один
глаз секретаря прищурен, словно он подмигивал прокурору.
- Может статься, не такие уж они помешанные, а? - задумчиво
повторил Спрогис, подходя к Краушу.
Несмотря на свой небольшой рост, он глядел теперь на прокурора
сверху вниз:
- Ну, что ж вы молчите, прокурор? Что вы сами-то думаете:
помешались они или нет?
- Я плохой хозяйственник, - уклончиво ответил Крауш.
- Вой тик вен сауле спид, ка па логу истаба... Разве только и
свету солнечного, что через окошко в избу?.. Как ни стара поговорка, а
нынче в ней столько же смысла, что и тысячу лет назад. Может быть, и
впрямь колхознику не только света в окошке, что мы ему отсюда, сверху,
посветим, а? - Кажется, Спрогис опять подмигнул. Или только
прищурился? - Его интересы - наши интересы, наши интересы - его
интересы... Надо посоветоваться с хозяевами. Да не с нашими
канцеляристами, нет!.. А собрать вселатвийское совещание колхозников,
посудить да порядить всенародно: что выгоднее всего республике? Что
годится для наших почв, для нашего климата? Может статься, мы
действительно маслом, мясом, свининой, гусятиной советский народ
питать можем, а? Вот перспектива! Черт побери, вывозили же эти
продукты господа латышские буржуа во времена Ульманиса! А что мы хуже
их, что ли?! А нам за масло да за мясо хлеба подкинут и всего, что
надобно, а? Ведь не требует же Москва хлеба от Кузбасса! Не берут
хлеба с Воркуты, с Грузии! Енисей искупает свою бесхлебность лесом и
ископаемыми. Средняя Азия - хлопком. Может статься, по такому примеру
и мы вместо ржи - корову, вместо пшенички - свинью, гусятинку? Яичко,
маслице, мясцо, а?
- Не знаю, не знаю, - уклончиво бормотал Крауш.
- Э, нет! - Спрогис сердито взмахнул трубкой над головой
прокурора: - Надо знать, прокурор, и своим умом пораскинуть, Москве
подсказать, посоветоваться с нею. Это и есть то самое, чего ждет от
нас партия: инициативы, разумной подсказки, раздумья и совета. Иначе
можно забрести в такой тупик, что и ног не вытащишь. Знаете, как
говаривали деды: "Даудзи дену Мудиня: цита лаба, цита лауна; цита
эста, цита дзерта, цита гаужи нараудата" - "Много дней в человеческом
веке: один хорош, другой злой; в один ешь, в другой пьешь, в третий
горько плачешь..." Вот, чтобы нам не плакать, и нужно помнить, что не
все дни одинаковы: бывают добрые, а бывают и злые.
- Но на сегодня, - сухо отозвался Крауш, - имеющийся план - это
обязательно! Не могу же я отбросить его только потому, что он не по
душе группе колхозников, и пустить район в плавание по воле волн?!
- По воле волн, конечно, худо, - усмехнулся Спрогис. - Всегда
лучше по воле человека. Но все же взять хотя бы кукурузу. Мне кажется,
при умелом подходе можно сделать так, что колхозы сами будут просить:
дайте нам план на кукурузу! А тем, что мы пытаемся навязать ее...
- Уж и навязать! - поморщился Крауш.
- А как иначе назвать такой способ? И нет ничего удивительного в
том, что у колхозников нашей Латвии эта выгоднейшая культура все еще
не приобрела заслуженной популярности. Вместо того чтобы самому слову
этому стать ласкательным: "кукурузочка". - Спрогис выпятил губы и,
прищурившись, ласково повторил нараспев: - "Кукурузочка"!.. Нет ничего
немилей навязанного дела. Вот в одной республике руководители только и
делали, что глядели в рот начальству. Беспрекословно принимали все,
что предлагала Москва. Разве им и в голову не приходило, что Москва
сама ждет критического отношения к своим предложениям? В народе,
знаете, что стали говорить об этих покладистых местных
руководителях?.. "Они о своих местах думают, - как бы им за
неповиновение не влетело. А до дела им и дела нет!" - Спрогис грустно
покачал головой и раздул усы. - Вам нравятся такие речи? Небось в
былое-то время... - Он выразительным жестом схватил сам себя за
воротник у затылка и рассмеялся. - Контрреволюционная, мол, агитация,
а? Ну, а что тут контрреволюционного, ежели колхозник раскусил
горе-руководителей? Так-то, прокурор...
- Право, я не силен в сельском хозяйстве.
- Ну, не такие уж это сельскохозяйственные разговоры!.. Но коли
они вам не по душе, обратимся к делам сегодняшним. Вот, прочтите, -
недовольно проговорил Спрогис и, с размаху опустившись в кресло, взял
лист, лежавший поверх стопки дел и, видимо, заранее приготовленный для
Крауша. - Уж тут-то вы небось сильны.
11. АНАЛИЗ БЕСКОНЕЧНО МАЛЫХ
По одному взгляду, брошенному на бумагу, Крауш понял, что это
коллективное письмо: целый столбик подписей красовался в конце
страницы. Он не спеша достал очки и внимательно, слово за словом,
прочел бумагу. Письмо рабочих бумажного комбината в С. гласило, что им
странна неторопливость, с которой прокуратура республики ведет дело о
самоубийстве Эджина Круминьша. На комбинате ходят разные слухи. Если в
них есть доля правды, то необходимо быстрое расследование - враг
должен быть схвачен. Дело волнует рабочую общественность комбината.
Крауш не спешил с объяснением. Чтобы оттянуть время, он долго
укладывал очки в футляр.
- Мне кажется... - медленно проговорил наконец Крауш, выпячивая
подбородок и отводя взгляд от пытливых глаз секретаря, - дело не
столько в медленности следствия, сколько в недоверии к человеку,
который его ведет...
- Недоверие к следователю? - спросил Спрогис, и в голосе его
прозвучала строгая озабоченность.
- Погиб этот Круминьш, латыш с трудной биографией, рабочие на
комбинате на 99 процентов латыши. - И как бы в подтверждение Крауш
показал на нижнюю часть листа, где стояли подписи. - А работник,
которому я поручил дело, - армянин... Они, видимо, хотят, чтобы
следствие вел латыш.
- Послушайте, Крауш, - медленно, словно не в силах преодолеть
удивление, проговорил Спрогис. - Вы действительно так думаете? - И, не
дождавшись ответа прокурора, требовательно: - А вы посмотрите на эти
подписи!..
- Я тут никого не знаю.
- Рабочие взволнованы, как граждане своей страны, как члены
партии, обеспокоены событием. - Спрогис постучал пальцем по списку. -
Многих я знаю. Товарищ Лутц стоял рядом со мной у вагранки на
"Руссо-Балте", вместе с ним мы были в подполье. Это не тот человек,
который согласился бы поставить свою подпись, если бы составители
письма имели заднюю мысль, какую вы тут вычитали. А вот и Роберт Лутц
- его сын, секретарь комсомольской организации комбината. Для этих
людей дело не в том, ведет ли расследование армянин, латыш или казах.
Наши люди переросли подобное! Дело не в Грачьяне, если вы ему
доверяете.
- Пока вполне.
- Что значит ваше "пока"?
- Он для меня новый человек. Но поскольку начало дела - покушение
на жизнь Ванды Твардовской - еще в Москве попало в его руки...
- Этот случай с отравлением?
- Вот именно... Дело вел Грачьян. Но оно, на мой взгляд, связано
с делом Круминьша. Я не видел причин передавать его другому работнику,
тем более, что Грачьяна хорошо рекомендовали.
- А причем тут рекомендация?
- Видите ли, этот Грачьян - ученик и сотрудник некоего Кручинина,
моего старого товарища и очень опытного человека.
Спрогис вынул трубку изо рта и отвел ее далеко от лица. Он
силился что-то вспомнить, повторяя про себя: "Кручинин... Кручинин..."
- Постойте-ка, Ян Валдемарович, а не мог ли я сталкиваться с
Кручининым в гражданскую войну?.. Мне почему-то вспоминается...
- Могли, вполне могли, - несколько отходя от обычной своей
сдержанности, ответил Крауш. Ему всегда было приятно воспоминание о
тех временах. - Именно так: когда мы с вами были в интернациональной
дивизии, Кручинин работал в военном трибунале. И даже сам Грачьян
имеет, хотя и несколько косвенное, отношение к дивизии: помните...
Спрогис взмахнул трубкой и радостно перебил:
- О, "китаист"! - Он рассмеялся, и все лицо его залучилось
морщинками. Даже усы, казалось, утратили свою жестокость. И он стал
похож на доброго дедушку. - Да, были времена! Нужно нам, старикам,
как-нибудь собраться и повспоминать, а?.. Однако... - внезапно обрывая
смех, строго сказал Спрогис: - Я хочу спросить вас: что это,
по-вашему, частный эпизод, случайное убийство, или правы авторы этого
письма и тут стоит поискать руку врага?.. Давайте попробуем уйти от
частностей. Рассмотрим это как событие, уходящее корнями в сложную
судьбу латышского народа в войне и мире. Подумаем о судьбе латышей,
которые оказались оторванными от родной земли. Одни из них стали
субъектами преступления, другие его объектами...
- К сожалению, - с неудовольствием заметил Крауш, - среди них
больше "субъектов", чем "объектов".
А все они в целом, эти "перемещенные", разве не являются жертвой,
огромного отвратительного преступления? - спросил Спрогис, в гневе
отбрасывая трубку так, что пепел из нее высыпался на стол.
- Это, конечно, верно, - согласился Крауш, - но в эмиграции
рабочих и крестьян меньше малого. В основном - мелкая буржуазия,
чиновничество, торговцы, в лучшем случае ремесленники, пошедшие на
поводу у крупных буржуа, те, кто бежали из боязни, что с нами им будет
не по пути. Да прибавьте к этому, что каждый третий там - солдат
латышских дивизий Гитлера.
- А вы уверены, что и в дивизиях "СС" латыши были только
убежденные последователи фашизма? Не было ли и там обманутых,
заблуждающихся, может быть, даже попросту голодных, не видевших иного
спасения, как только в куртке нацистского солдата? Вы об этом не
задумывались?
- Задумываюсь каждый понедельник.
- Работа комиссии по пересмотру старых дел дает, конечно, богатую
пищу. Но вы-то сами не задумывались над проблемой "перемещенных"? Это
болезненная рана на теле нашего маленького народа. Мне очень хочется,
чтобы вы от частного случая убийства - или самоубийства, не знаю, -
перешли к общему: к проблеме "перемещенных" лиц. Анализируя бесконечно
малую величину - жизнь убитого Круминьша, не должны ли мы
проинтегрировать все, что найдем? Посмотрим на силы, какие тянут людей
сюда, к родной земле, и на силы, стремящиеся этому помешать. Стоит
поинтересоваться и ролью римской курии. Она спелась с эмигрантскими
главарями, и готова принести в жертву своим мрачным планам сколько
угодно человеческих, в том числе, конечно, и латышских жизней... -
Спрогис на минуту умолк. Крауш не решился сказать, что он все это
понимает, только ему не приходило в голову связывать частный случай
убийства Круминьша с такими большими проблемами. Прокурор молча,
насупясь, слушал секретаря: - Вы из своей повседневной практики
знаете, сколько вреда старались и будут стараться принести нам и
нашему делу те, оттуда. Очи ведь не понимают, что руки-то у них
коротки. "Жагатина жагатея, гриб ванага сева бут; Иси спарне, тара
асте, не вар лидзи лидинат" - "Сорока стрекочет, женою ястреба быть
хочет; коротки крылья, длинен хвост, не одинаков полет". Они забыли
эту старинную поговорку. Забыли мужицкую мудрость: "Кикуригу, ту
гайлити, не бус гайсма даже дену" - "Ты-то петушок кукареку, да не
всякий раз светает..." Им кажется - стоит господам оттуда
прокукарекать, как тут воссияет им ясное солнышко. Ерунда! Вот, -
Спрогис положил большую руку на письмо: - вот залог того, что ничего у
них не может получиться, даже если бы мы с вами что-нибудь прозевали.
Есть кому поправить нас, нам есть на кого положиться...
- Но там у этих самых "перемещенных" нам положиться-то и не на
кого, - возразил Крауш. - В их рядах рабочий, как белая ворона!
Спрогис несколько раз с укоризной качнул головой, пристально
глядя в лицо Краушу.
- Эх, прокурор, прокурор! Ожесточилось твое сердце... - И,
заметив протестующий жест Крауша, добавил: - Я не в упрек!.. Может
статься, на твоем месте другой стал бы в десять раз черствее. Я
понимаю: месиво из отходов общества, которое ты вынужден каждый день
нюхать, не может настроить на оптимистический лад... Понимаю!.. Но мне
хочется, чтобы ты наперекор этому снова увидел мир теми же глазами
веры и надежды, какими мы с тобой прежде глядели на него. Пойми,
дорогой мой: если в начале борьбы у нас были основания подозрительно
вглядываться в каждого, у кого на руках не было мозолей, то теперь
дело не в мозолях. Знаю: примазавшиеся к нашим рядам враги, кандидаты
в наполеончики, вытравляли из тебя все человеческое. О, они ловко
маскировались! Не ты один, бывало, принимал это за указание Партии. А
ведь если бы не их вредительская политика навязывания страха всем,
кого война выбросила за рубеж, быть может и многим из тех, кто
очутился в "перемещенных", не пришло бы в голову сидеть там! Я имею в
виду кое-кого из людей науки и искусства. Да, да, наши народные
таланты. Без науки мы сейчас едва ли выбрались бы из века каменных
топоров; без искусства нашим величайшим наслаждением был бы сон... Да,
суп истории требует приправ! Нам нужен аромат литературы, живописи и
театра. Мы уже не можем есть и пить, одеваться и передвигаться, жить
без науки.
- Рабочий класс рождает свои таланты и двигает в жизнь... - начал
было Крауш, но Спрогис остановил его протестующим движением.
- Не думаешь же ты обвинить меня в том, что я этого не понимаю. И
небось удивлен: "Что это старику вздумалось читать мне лекцию на такую
избитую тему?" А я должен повторить: при духовном богатстве рабочего
класса, при его потенции заполнить все необходимые для жизни и
прогресса звенья, бережливость и гуманность в его интересах и
органичны для него. А ведь это враги расточительствовали в стремлении
ослабить нас, хотели взять нас голыми руками - обнищавших духовно и
телесно. Отщепенцы из шаек Ягоды, Берии, Абакумова и других
перерожденцев не раз исторгали из нашего общества людей науки,
искусства, медицины, инженерии. Негодяи играли на нашей преданности
делу партия. О, они хорошо знали, что мы всегда, на всех этапах
стремились быть бдительными! И, что греха таить: из-за нашей
близорукости мы не так уж редко принимали их происки за чистую монету.
Вот это хитрая работа, прокурор, а?! Обвести вокруг пальца эдаких
зубров, а?! И вместо бдительности получалось черт знает что!.. Знаешь,
чего я боюсь?.. Просто стыдно сказать: оказаться теперь недостаточно
бдительным, а?.. Но не будет этого. Нет, не будет! Э, да что: не мне
бы говорить, не тебе бы слушать!
Спрогис не сводил глаз с все больше хмурившегося Крауша. Прокурор
глубже и глубже уходил в кресло и выпятил челюсть так, что казалось,
она вот-вот сравняется с носом. Но Спрогис был беспощаден. С кем еще,
как не с прокурором, было ему говорить о наболевшем! Ведь нужно было
избавиться от следов заразы - от последствий вредной работы,
проделанной врагами, воспитавшими некоторых работников на излишней
подозрительности ради снижения бдительности.
- Подумай, Ян, - говорил секретарь, - не тут ли причина хотя бы
тому, что кое-кому из старых людей искусства было с нами не по пути?
Что кое-кто из старых людей науки стал бояться своей работы? И
посмотрите: достаточно было людям понять, что мы вовсе не враги
искусств; что мы готовы снять с себя последнюю рубашку, чтобы помочь
науке; что каждый, кто умеет работать, найдет место у станка, на
комбайне, за чертежным столом, - как мы увидели тягу перемещенных
домой. Ты же сам знаешь, какие кучи заявлений о репатриации лежат в
наших посольствах всюду, где есть "перемещенные". Ты говоришь, что
там, в эмиграции, почти нет потомственных рабочих? Верно! Их мало. Но
ведь искусственное обнищание эмигрантов велось врагами, чтобы толкнуть
этих людей в горнило, где готовится пушечное мясо; обездоленных,
голодных, лишенных семьи и родины, их безжалостно гнали на каторгу
африканских копей, их кости грудами гниют в зловонных болотах Южной
Америки. Почему? Для того, чтобы показать остальным, более упорным,
что лучше надеть мундир солдата иностранного легиона, чем быть
наверняка заваленным в шахте или заживо сожранным москитами. Это же
система! Там гибнут люди, обезумевшие от страха, голода, отчаяния.
Скажем же тем художникам: вам вовсе не нужно рисовать антисоветские
картинки, чтобы получить котелок жидкого супа, - можете писать, что
хотите, у себя на родине! Скажем писателям, застрявшим за пределами
родины: Латвия нуждается в ваших перьях... Ты, конечно, уже
насторожился. "А что они станут тут писать?" - Спрогис рассмеялся: -
Не бойся, прокурор! Пусть колеблются, спорят, перевоспитываются.
Всякий, достойный имени человека, - а из десяти оставшихся там людей
пятеро - это люди, - хочет работать на свой народ, на свое собственное
счастье, на будущее своих детей. А где их дети еще могут иметь
будущее, будущее латышей, сынов своей страны, своей отчизны, как не
дома? Где они могут думать, читать, писать, говорить на родном языке,
кроме Латвии? Кому они, латыши, еще так нужны, как своему народу? Что
им еще так нужно, как отчизна?.. И не случайно, старина, первыми
потянулись к нам после простых рабочих именно представители
интеллектуального труда. Да, Ян, наша с тобой обязанность сделать так,
чтобы эти люди не боялись вернуться домой. Они должны знать, - Спрогис
пристально посмотрел Краушу в глаза и строго повторил, - понимаешь,
прокурор, знать, что советский правопорядок обеспечивает им все
предусмотренное нашей конституцией - права и почетные обязанности
граждан. Конечно, тут не может быть разгильдяйства: бдительность и еще
раз бдительность! Комитету безопасности не убавится работы от того,
что мы протянем руку всем, кто за мир, и примем их на родную землю.
Работникам безопасности нужно держать ушки на макушке. И тут уж твое
дело глядеть: умело вылавливать всю гнусь, какую враги попытаются
подпустить к нам вместе с хорошими людьми. Нельзя попусту посылать к
следователям людей с печатью подозреваемых или изобличаемых. Так-то,
прокурор! Круминьш кому-то стоял поперек горла. Сам Круминьш и те, кто
хотел идти по его пути. Найдем же тех, кому это не нравится, и
покончим с ними! А тем, кто идет домой, чтобы честно жить и трудиться,
- дружескую руку. "Лабак ман даудэн драугу не ка даудзи найдинеку.
Драйге граугам року деве, найденекс зобенишь" - "Лучше много друзей,
чем много врагов; друг другу подает руку, а враг врагу - меч..."
Старики знали, что говорят: мы охотнее протягиваем руку дружбы, чем
меч...
12. ОСТРОВ У ОЗЕРА БАБИТЕ
Еще недавно у Грачика было такое ощущение, будто от установления
тождества отца Шумана с тем, кого Грачик видел на торжественном
богослужении в костеле, зависел весь дальнейший ход дела. А теперь он
не знал, что с этим открытием делать. Но так или иначе, словно
избавившись от занозы, он вздохнул с облегчением и вернулся к изучению
дела. В тот же день он был в С.
Ход расследования не радовал. Никто из свидетелей не опознал на
снимке, доставленном священником, милиционера и человека в штатском,
идущих рядом с Круминьшем. Только одной старушке, которую соседи уютно
звали матушкой Альбиной, казалось, будто она видела такую группу -
Круминьша и его спутников, - направлявшуюся к берегу реки. Однако
уверенно сказать, как было дело, не могла и она. На том и расстались.
И только через час, когда Грачик уже собирал бумаги, намереваясь ехать
в Ригу, матушка Альбина вернулась, запыхавшаяся от поспешной ходьбы.
Она хорошо владела русским языком, так как, по ее словам,
давно-давно, так давно, что Грачика тогда и на свете не было, живала в
Петербурге.
- В белошвейках. В белошвейках, каких сейчас и помину нет! Этими
вот руками, - она протянула Грачику скрюченные ревматизмом пальцы, -
такое белье делала, какого нынче и в глаза-то не видят. Да я и сейчас
еще! - Она хвастливо подмигнула. - Ежели бы только не глаза. Плохи
глаза стали. Дай-ка ты мне еще раз на ту фотографию посмотреть, с теми
тремя. Сдается мне, я кое-что припомнила.
Грачик подал ей фотоснимок и лупу. Матушка Альбина долго
рассматривала лица, поворачивала снимок так и этак и, наконец,
категорически заявила:
- Видела и этих троих. А только вот милиционер другой был.
Заяви это Альбина при первом осмотре фотографий, Грачик,
вероятно, не усомнился бы в ее показании. Но теперь, когда она
прибежала после часового отсутствия, у него возникло сомнение в
добросовестности поправки. А с подозрением возникло и желание знать,
кого старушка успела повидать за этот час. Но, очевидно, сейчас было
бесполезно пытаться что-либо узнать. Он распрощался с Альбиной и уехал
в Ригу.
Взвесив все обстоятельства дела, он решил повторить с самого
начала весь путь, пройденный до него следствием.
А откуда же было и начинать, как не с того острова, где
обнаружено тело Круминьша? Ружье и рюкзак за спиной могли помочь
Грачику, не привлекая к себе лишнего внимания, обследовать остров.
Пароходишко "Звайгзне", предряхлый и такой обшарпанный, словно
его не красили сто лет, медленно поднимался против быстрого течения
Лиелупе. По правому борту прошли последние поселения Рижского взморья.
Против Дубулты река сделала поворот, и болотная низменность правого
берега сменилась темной стеною леса. Скоро вдали засветились яркие
огни бумажного комбината в С.
Грачик вынул из кармана схему, сделанную для него в уголовном
розыске. Он, кажется, знал ее уже наизусть и мог бы сам с полной
точностью нарисовать место происшествия. И все-таки еще и еще раз он
просматривал стрелки и приметы, чтобы без ошибки определить нужную
группу деревьев и найти "сосну Круминьша", отмеченную зарубкой
оперативного работника рижского розыска.
При осмотре места происшествия Грачику не на кого было
рассчитывать: по утверждению рижской милиции обитаемы были только две
мызы на дальнем от места преступления северо-западном краю острова и
одна полуразрушенная мыза в середине острова. Завтра, едва встанет
солнце, Грачик начнет осмотр острова. Был уже поздний час, когда
"Звайгзне" заерзал своим, потертым бортом о пристань у Северной
протоки, соединяющей Лиелупе с озером Бабите.
Бабите?..
Почему это название знакомо Грачику?
Да, ведь Кручинин, планируя идиллическое плавание на пресловутом
"Луче", собирался тут поохотиться!
Грачик был тут именно на охоте. Как и во всякой другой охоте,
успех зависел от того, какие следы охотник обнаружит на острове. Вот
где понадобится острота глаза, опыт следователя, настойчивость и
тонкость восприятия едва уловимых мелочей, вопреки воле преступника
остающихся на его пути к месту преступления и при бегстве от него.
Теоретически Грачик ясно представлял себе путь правонарушителя от
замысла к свершению. Это было вороватое движение по извилинам узкой
тропы, пролегающей между пропастью сомнений и миражем успеха. А
обратный путь преступника от места преступления Грачик представлял
себе в виде бегства в кромешной тьме страха перед возмездием.
В том, что преступник-убийца существовал в деле Круминьша, Грачик
почти не сомневался. Но личность убийцы в данном случае интересовала
Грачика не в качестве главного трофея расследования. Самым важным
трофеем охоты, ради которой Грачик шел теперь в сумерках с рюкзаком и
ружьем за плечами, была истина. Истина была предметом борьбы между
врагами, стремившимися скрыть ее от советского народа, и Грачиком,
обязанным ее обнаружить. Истина была трофеем этой борьбы. Важным
трофеем. Не только потому, что ее открытие отдавало в руки правосудия
преступника-убийцу и это приводило его к заслуженному наказанию.
Важнее было то, что открытие истины отдавало на суд народа его врагов,
стоявших за спиною физического убийцы Круминьша. Это были враги
латвийского народа, СССР, враги всех миролюбивых людей земного шара.
Логически рассуждая, Грачик приходил к тому, что преступление, по
следам которого он должен был пройти, было хотя и очень маленькой, но
неотъемлемой частью тайной войны против СССР, частицей плана
разжигания неприязни против лагеря демократии. В самом деле, к чему
стремились вдохновители убийства Круминьша? К тому, чтобы помешать
прибалтам, заблудившимся в проволочных загонах для "перемещенных",
найти дорогу на родную землю. Найти теперь и показать миру
преступников значило пригвоздить к позорному столбу подлинных
изменников родины, врагов мира - главарей эмиграции. Погоня за
преступниками, ради которой Грачик вошел сейчас под сумеречные своды
прибрежного бора, была не чем иным, как активной борьбой за мир. Это
была война с войной. Грачик, как солдат, шагал с мешком за спиной, с
ружьем на плече, устремив настороженный взгляд на неохотно
расступавшуюся перед ним полутьму леса. Сошедшиеся плотным строем
высокие сосны уступают ему дорогу нехотя, хватают его за плечи, за
лицо, иногда больным ударом пытаются остановить или даже заставить
повернуть вспять. Неужели же лес против него, против того дела,
которому он служит, против правды, которую он ищет? Нет, Грачик не мог
воспринимать встающие на его пути препятствия как враждебность. Ведь
то был свой, родной лес, почему-то не желавший, чтобы человек с
тяжелым мешком за плечами прошел сквозь него к реке. Быть может, он с
дружеской грубоватостью великана предупреждал об опасности?
Ночь быстро опускалась на землю. Сквозь вершины леса уже не было
видно недавних отсветов заката. Сами вершины эти растворились в черной
вышине. Небо легло на лес и густою чернотой просачивалось между
стволами к подножьям деревьев.
13. ЖЕНЩИНА СО СТАРОЙ МЫЗЫ
На берегу широкой протоки, ведущей от главного русла Лиелупе к
озеру Бабите, царила кромешная тьма. Грачик с трудом отыскал перевоз.
Дом паромщика оказался пустым, хотя дверь его и была отворена. Паром
стоял привязанный цепью к свае. Грачик присел на пенек. "Не устроиться
ли на ночь в доме, - подумал он, - или лечь прямо на берегу под
защитой деревьев?"
Его вывел из задумчивости хруст веток под чьими-то шагами. Шаги
медленно приближались. Они казались неуверенными, словно человек шел
спотыкаясь и поминутно останавливался. Грачик всмотрелся в темноту,
откуда слышался этот шум. В промежутках между деревьями, еще более
темных, нежели стволы прибрежных берез, показался неясный силуэт
человека. Когда очертания его стали определеннее, Грачик понял, что
это - женщина. Она медленно подвигалась от дерева к дереву. Грачику
показалось, что она придерживается за стволы. Теперь было отчетливо
слышно прерывистое дыхание, словно путница не могла отдышаться после
быстрой ходьбы или тяжелой работы. Не замечая Грачика, женщина
приблизилась к дому перевозчика и что-то проговорила по-латышски. Она
несколько раз стукнула в створку распахнутой двери, подождала и, не
получив ответа, так же пошатываясь, пошла к берегу и что-то
прокричала. К кому она обращалась, Грачик не видел. Но вот опять
раздался ее протяжный призыв:
- Лудзу, лудзу!- и через минуту снова: - Лудзу, лудзу! (Лудзу -
пожалуйста (по-латышски).)
Это звучало необычайно жалобно. Грачик подумал, что выкрикнутые
ею перед тем несколько слов должны были быть очень убедительны:
вероятно, просьба перевезти ее на ту сторону протоки. Вот опять такое
же жалобное "лудзу, лудзу!" огласило погруженную во тьму окрестность
реки и, дробясь долгим эхом, понеслось над ее поверхностью: "Лудзу,
лудзу!"
Грачик вышел из скрывавшей его тени и, приблизившись к женщине,
спросил, чего она хочет. Несколько мгновений она глядела на него,
словно бы не понимая вопроса, потом с трудом ответила:
- Хочу туда... - и показала на противоположный берег протоки.
Грачику показалось, что она с трудом подняла руку для этого указания,
и рука ее тотчас упала.
Грачик напрасно вглядывался в темноту, пытаясь разобрать, к кому
взывает женщина. Он собирался уже присоединить свой голос к ее зову,
но тут послышался стук весел в уключинах и журчанье воды, рассекаемой
носом лодки. Через несколько минут Грачик следом за женщиной сел в
подошедшую лодку. Сильными ударами весел гребец удерживал лодку против
быстрого течения, сносившего лодку к озеру. Женщина молчала. Она вся
сжалась на корме. Голова ее, словно в отчаянии охваченная руками,
почти лежала на коленях. Грачик не мог оставаться равнодушным к горю
женщины, очевидно настолько тяжелому, что она не владела собой. Глядя
на смутную массу темного берега, к которому они приближались, Грачик
представил себе, как эта несчастная пойдет сейчас куда-то совсем одна,
с трудом передвигая плохо слушающиеся - то ли от усталости, то ли от
недомогания - ноги.
Днище лодки зашуршало по песку отмели. Грачик протянул руку,
чтобы помочь спутнице выйти. Она тяжело оперлась на его руку и дохнула
ему в лицо запахом винного перегара. Это было так неожиданно и
отвратительно, что Грачик, помимо воли, отдернул руку. Женщина
покачнулась и упала на колени в мокрый песок. Грачику стало неловко.
Преодолевая отвращение, он снова протянул ей руку и заставил себя
вывести женщину на крутой взгорок берега. Подниматься было трудно.
Ноги увязали в осыпавшемся мягком песке. С каждым шагом женщина все
тяжелее опиралась о руку Грачика, почти повисла на ней.
На гребне береговой дюны было так же темно, как внизу. Идя за
женщиной, Грачик то и дело оступался или спотыкался о корни деревьев.
Быть может, под действием свежего ветра на реке или потому, что ей
удалось взять себя в руки, но теперь его спутница двигалась куда
уверенней. По-видимому, она хорошо знала дорогу в глубь острова. По
сторонам не было видно никаких других дорог или тропок. Они шли
довольно долго. Все вокруг выглядело бездонной чернотой бездной без
начала и конца. Наконец, на фоне неба, едва отсвечивающего от таких же
темных вершин леса, стали видны очертания высокой крыши. Через
несколько десятков шагов путники вышли на небольшую прогалину между
опушкой леса и живой изгородью из сирени, окружавшей двухэтажный дом.
Он казался необитаемым. Но женщина уверенно толкнула дверь, и скоро в
окошке забрезжил слабый свет. Еще через минуту на пороге показалась
она сама и коротко бросила в темноту, где стоял Грачик:
- Лудзу!
Это слово звучало теперь совсем по-иному, нежели на берегу.
По кровле уже стучал дождь, и после некоторого колебания Грачик
вошел в дом. Здесь при свете керосиновой лампы Грачик рассмотрел свою
спутницу: мелкие, ничем не примечательные черты лица, нездоровая
одутловатость под глазами, ни ярких красок, ни броских примет. Светлые
волосы были острижены, как у большинства местных женщин, - коротко, со
следами завивки на концах. Сбросив плащ, женщина осталась в
простеньком сером костюме и в клетчатой бумажной блузке. Теперь в этом
костюме и в большом спортивном кепи, сдвинутом на затылок, она
показалась Грачику несколько более привлекательной. Она сняла кепи и
небрежно отбросила его прочь. В жесте было столько залихватской
уверенности, что Грачик с интересом проследил полет кепи: оно упало
точно на середину комода. При этом Грачик не мог не обратить внимания
на своеобразный покрой шапки, на ее "спортивность", подчеркнутую
большими клапанами для ушей. Такие кепи Грачик видывал только на
картинках иностранных журналов. И материал кепи был необычен:
нарочитая грубость ткани сочеталась с элегантностью.
Пока женщина оправляла перед зеркалом волосы, Грачик оглядел
комнату. Здесь также не было ничего приметного. Обстановка скромная,
почти бедная. Выделялось одно только зеркало, по-видимому очень старое
и дорогое, в резной золоченой раме. На подзеркальнике - несколько
баночек и коробка из-под пудры, без крышки, с торчащим наружу
непомерно большим и замусоленным пушком.
Тут Грачик заметил, что в зеркале хозяйка дома не столько
рассматривает свое отражение, сколько изучает наружность гостя.
Покончив с прической, она порывисто повернулась. При этом она локтем
сбила с подзеркальника тюбик с кремом. Грачик поспешил его поднять, но
женщина, словно в испуге, отняла тюбик и сунула его за коробку с
пудрой. Если бы не эта торопливость, Грачик, вероятно, и не обратил бы
внимания на этот тюбик. Но тут его внимание задержалось именно на нем.
Грачик заметил яркие красные полосы поперек тюбика и даже прочел
название крема: "Nivea". Грачик понюхал свои пальцы: от них приторно
пахло кремом.
Между тем женщина сказала по-русски, не очень чисто выговаривая
слова:
- Вы будете пить чай? - Тут странная усмешка пробежала по ее
губам, и она добавила: - А может быть, не чай?
Эта усмешка, в сочетании с вопросом, в тоне которого Грачику
послышалось что-то нечистое, снова возбудила в нем давешнюю
брезгливость, и он отказался от чая.
Нащупав в темных сенях приставленное к стене ружье, он направился
к выходу.
- Большой дождь, - сказала хозяйка и толчком ноги отворила дверь.
Из-за порога потянуло неприветливой сыростью леса, и в сени
ворвались косые струи дождя. На миг Грачик приостановился, но,
почувствовав прикосновение плеча подошедшей хозяйки, решительно шагнул
в темноту. Он был готов к тому, что всю ночь придется продрогнуть в
мокром платье. Но еще прежде, чем неожиданно грянувший дождь успел как
следует смочить куртку Грачика, ливень перешел в мелкий дождь и скоро
прекратился совсем. Над лесом чернело ясное, вызвездившее небо. Где-то
очень далеко сверкнула зарница. Всходил месяц. Его слабый блеск
проникал сквозь вершины сосен, и на посветлевших лесных прогалинах
наметились тени.
Грачик давно сошел с дороги, по которой давеча брел следом за
женщиной. Он пробирался теперь на север, где, по его расчетам, должна
была быть Лиелупе. Скоро он действительно достиг берега, но это не
было главное русло реки, а лишь продолжение той же протоки. Берег был
обрывистый, высокий и, судя по тому, как он светился в слабых лучах
низкого месяца, песчаный. Далеко под ногами лежало зеркало затихшей
воды. Притих и лес. Только падали время от времени скопившиеся на
ветвях капли. Они мягко шуршали, словно кто-то осторожно ворошил
устилавший землю ковер старой хвои. Грачик долго стоял и глядел в
воду. Чем полней он впитывал тишину спокойной реки и уснувшего леса,
тем более странной и страшной, несовместимой с радостью жизни,
казалась ему причина собственного пребывания здесь. Над головою - это
небо, вокруг этот лес, на далеком берегу - огоньки промышленного
комбината, а тут... Тут - он для того, чтобы пройти по следам молодого
человека, окончившего жизнь в петле...
Самоубийство... Отвратительное слово! От него веет чем-то
отжившим, чужим, враждебным. Каким трудным и запутанным должен был
быть путь Круминьша, чтобы привести его к такому концу! Какой
ненавистью к жизни, граничащей с отвращением к самому себе, должна
была быть отравлена его душа, чтобы заставить наложить на себя руки...
Самоубийство?.. Да, формально так. Какие у Грачика основания не
доверять тому, что написано в предсмертном письме Круминьша? Ведь
повторная графическая экспертиза не нашла изъянов в почерке. Правда,
рука автора была неустановившейся - случай, когда почерк в характерных
своих штрихах часто меняется. Он мог зависеть от душевного состояния
субъекта, от степени покоя или торопливости, с которыми он пишет,
подчас даже от времени суток: утреннее письмо такого
повышенно-нервного человека может быть непохоже на вечернее. О наличии
тут подобного случая говорили те немногие образцы, какие удалось
раздобыть следствию. Особенно показательна была записная книжка
Круминьша - нечто вроде лаконичного дневника, начатого и брошенного.
Одни записи в нем были графически совсем непохожи на другие.
Привычка хвататься за сомнение в подлинности документа заставляла
Грачика прислушиваться к каждому замечанию специалистов. Он старался
присутствовать, когда эксперты занимались этим письмом. Он жадно
следил за выражением их лиц, за покачиванием головы, за каждым жестом,
который мог бы выдать ему их сомнения или уверенность. Словно сами они
были подследственными. Заставляя эксперта по два и три раза
возвращаться к одному и тому же месту, переходя от одного специалиста
к другому, прибегнув ко всем известным криминалистике физическим
способам исследования, Грачик наконец вынудил экспертизу снять ее
прежнее заключение об отсутствии данных о фальсификации письма. Мнения
экспертов разошлись: подложность стала так же вероятна, как и
подлинность. С точки зрения Грачика, это было шагом вперед, так как
работало на его версию инсценированного самоубийства.
14. НОЧЬ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
Отправляясь на остров, Грачик захватил фотокопии некоторых
документов, относящихся к первому осмотру места происшествия и трупа.
Теперь он вытащил эти копии и осветил их карманным фонариком. Но он
его тут же поспешно выключил: так невыносим был ультрацивилизованный
глянец фотобумаги на фоне первозданной черноты угрюмого бора. Спрятав
снимки, Грачик принялся собирать валежник и, преодолевая нежелание
отсыревших веток гореть, разжег костер. Темнота расступилась и
образовала уютный круг красноватого тепла. Грачик не спеша устроил
таганок из рогатых сучков и подвесил котелок с водою для чая. В костер
сунул несколько картофелин. Лишь разостлав поверх плаща одеяло, он
снова вынул фотографии документов. В который уже раз он просматривал
их, ища нового, что, может быть, пропустили эксперты. И, в который уже
раз, вынужден был говорить себе, что ничего нового в них нет. Вот и
последняя фотография - воспроизведенное в натуральную величину
предсмертное письмо Круминьша. Неровные строчки разбегались,
выведенные очень мягким карандашом. Линия, оставленная графитом, была
широкой, словно немного расплывшейся... Вот тут карандаш Круминьша
сломался: характерная черточка над неоконченной буквой и продолжение
слова, написанное заново очиненным карандашом. Да, карандаш был очень
мягок: вон как быстро утолщается линия графита по мере писания. Скоро
она превращается в такую же толстую, как прежде...
В снимках вещей, обнаруженных в карманах Круминьша, воспроизведен
карандаш, лежавший в его записной книжке. Отчетливо видна надпись:
"фабр Сакко и Ванцетти", далее изображение звездочки, потом слово
"Тактика", снова звездочка и за нею "2М-53". Грачик знает эти
карандаши: плохие, жесткие, едва ли достойные носить имя таких шефов,
как героические итальянцы. Притом "Тактика" обыкновенный черный
карандаш, а в легенде к снимку с письма сказано: "химический". К тому
же карандаш из записной книжки Круминьша, судя по снимку, остро
очинен. Из всего следует, что письмо написано другим карандашом.
А ну, посмотрим еще раз перечень того, что было найдено в
карманах повесившегося: нет ли там перочинного ножа, которым Круминьш
чинил свой второй карандаш? Чтобы очинить его до такой остроты, каким
он стал после поломки, нужен очень острый нож или, по крайней мере,
лезвие безопасной бритвы...
Нет, ни того, ни другого у Круминьша не было...
Грачик уже был готов сделать вывод: к моменту повешения у
Круминьша не было ни того карандаша, каким написано письмо, ни острого
орудия для заточки карандаша. Это - два вывода в пользу того, что
письмо было написано не на месте смерти Круминьша. Грачику хотелось
добавить: "и не им самим!" Он был близок к тому, чтобы его сомнения в
подлинности письма Круминьша перешли в уверенность. Фотокопия письма
лежала у него на коленях, и красноватые блики костра, казалось,
приводили в движение строки. Они бежали перед Грачиком, вызывая
странное ощущение оживающих слов: "...целуя святую землю отцов,
прощаюсь с вами, мои бывшие товарищи..." ...Неужели такие слова могли
выйти из-под руки фальсификатора?.. А призыв к Силсу никогда не
сходить с тропы честного человека и сына своей страны?.. Но в каком бы
противоречии ни стояли эти строки с моральным обликом фальсификатора,
совершившего подлог от имени Круминьша, Грачик не мог отказаться от
мысли, что к письму не прикасалась рука Круминьша.
Грачик с сожалением уложил письмо в конверт и принялся за
приготовление чая. Котелок кипел, выплескивая клочья пены на костер.
Угли шипели, дымились и отвечали звонкими выстрелами искр. Сдвинув
котелок в сторону, к самой рогатке, чтобы он больше не кипел, Грачик
выгреб из золы картофелины. Непоспевшие зарыл обратно под головни.
Обуглившаяся кожура пачкала и жгла пальцы; соль в щепотке сразу
становилась черной. Обжигаясь, перекидывая ароматную крупитчатую
мякоть от щеки к щеке, Грачик с аппетитом съел всю картошку.
Почерневшие от золы руки обтер о хвою на земле.
Чай, как всегда на охоте, перекипел и пахнул дымом, кружка
обжигала губы. Но Грачик не замечал этих неудобств, обладавших своею,
им одним присущей, прелестью бивуака. Он глядел в темноту, поверх
пляшущего пламени костра, поверх багровых бликов, бегающих по соснам
со ствола на ствол и снизу вверх до самой кроны.
Грачик никогда не видел живого Круминьша. Никогда не сказал с ним
ни слова. Но ему чудилось, что теперь он видит молодого человека тут в
лесу, совсем недалеко, среди могучих деревьев, вон там, под тем
суком... Ну, только этого и не хватало!.. Фу ты!..
По лесу разнесся жалобный крик, от которого нервный холодок
пробежал по спине, - заплакала сова. Грачик повел плечами и
зажмурился, чтобы показалось светлей, когда он откроет глаза. Но
фигура, в которой ему привиделся Круминьш, не исчезла. Грачик быстро
поднялся и, обежав костер так, чтобы свет ему не мешал, всмотрелся в
лес. Фигура исчезла, но зато стал отчетливо слышен хруст веток,
ломающихся под чьими-то поспешно удаляющимися шагами. Несколькими
прыжками Грачик достиг того места, где ему в первый раз почудился
человек и посветил фонарем вокруг себя на десяток шагов. Все было
тихо. Только раскачивалась еще разлапистая ветка молодой сосны. При
полном безветрии эта ветка могла прийти в движение лишь в том случае,
если ее кто-то задел. Кто?..
Несколько мгновений Грачик стоял в задумчивости, потом раскидал
костер и затоптал головешки. На минуту стало жалко пропавшей картошки,
но решительно перекинув рюкзак на спину, он отошел в темноту. Сделал
большой круг, потихоньку, стараясь ступать так, чтобы не производить
шума, удалился от берега. На лесных прогалинах под светом месяца
серебрился вереск. Тут было бы удобно устроить ночлег, но Грачик
обходил такие места. Он был бы слишком хорошо виден, если бы лег тут.
Он углубился в чащу. Там было совсем темно. Нащупав ногою мох, он
нагибался и сгребал его. Когда мха стало достаточно, Грачик наломал
лапника и сделал постель. Костра не стал разводить. Положил ружье под
бок и завернулся вместе с ним в одеяло.
Ночь оказалась свежей. Несколько раз Грачик просыпался, борясь с
искушением развести костер. Но решил, пока не забрезжит рассвет -
обойтись без огня. А к тому времени заснул так, что очнулся только
тогда, когда яркий свет заглянул между деревьев и побросал друг на
друга их перепутанные длинные тени. У Грачика ныл бок от лежавшего под
ним ружья. Он подтянул ноги к подбородку и накрыл голову одеялом.
15. РЫБАК И НОЖ ИЗ ЗОЛИНГЕНА
Солнце так медленно ползло по небосводу, что казалось, будто в
этот день оно вовсе не собирается завершить свой обычный путь и
разогнать стелющийся по берегу туман сегодня не его обязанность.
Проснувшийся и загомонивший лес разбудил Грачика. Было знобко. Он
долго еще подбирал ноги и ворочался с боку на бок, стараясь согреться.
Наконец он заставил себя сбросить одеяло, сделал гимнастику и сбегал
на берег умыться. Свежесть воды и утренний ветерок у реки согнали
остатки вялости. Костер, завтрак и кружка кофе вернули ощущение тепла
и жизни. Наконец и солнце, несмотря на свою северную скупость, начало
помаленьку прогревать воздух. Оставив рюкзак у корней сосны, где спал,
Грачик отправился на осмотр местности.
Под обрывом у песчаного берега шуршала широкая полоса камышей.
Среди них в маленькой заводи виднелся челн, грубо сколоченный из
почерневших досок. От носового рыма шла длинная цепь такой толщины,
что ею можно было заякорить большой пароход. Второй конец цепи был
прибит огромным гвоздем к стволу могучей сосны.
Когда Грачик тронул цепь носком сапога, ее звенья издали громкий
звон. Тут из-за ближнего куста показалась взлохмаченная голова
старика. Он провел рукой по заспанному лицу и вопросительно поглядел
на Грачика.
- Свейки! - с улыбкой проговорил Грачик. - Вы надежно крепите
свою лодку.
- Топрый тень, - также приветливо ответил старик, поднимаясь на
ноги. - Та, ошень топры цепошка. А пыфают люди, што и такой цепошка
нишево не стоит.
- Кто же польстится на вашу посуду?
- Люти все мокут, - философски ответил старик. - Какое им тело,
што старый рыпак пес лотки - не есть рыпак. Перут и конят на тот
перег. Я пришла утром - лотка пропал. Где лотка? Тумал - вот эта вся,
што за лотку мне осталось. - С этими словами старик вынул из лукошка,
подвешенного к борту челна, нож. - На песок он его ронял или сапывал,
когда шест выресывал.
- Вырезал шест, чтобы добраться на тот берег? - с интересом
спросил Грачик.
- А наферно што на тот перег. Весло-то я томой уносил. Фот и вся
штука. - С этими словами старик подбросил в руке нож. Грачик взял его:
короткое широкое лезвие было вделано в толстую рукоятку.
- Когда вы нашли этот нож? - спросил Грачик.
Старик подумал и назвал дату.
- Вы уверены? - спросил Грачик, с волнением ожидая ответа: дата
совпала с днем смерти Круминьша.
- А уж я-то снаю!
- Хороший нож, - неопределенно проговорил Грачик, не в силах
отвести глаз от хорошо заметных штрихов чернильного карандаша на
лезвии ножа.
- Острая ношик! - согласился старик. - Уточка вырезать мошно...
Процессуальный порядок требовал, чтобы в случае предположения,
будто этот нож имеет отношение к расследуемому преступлению, он был со
всеми формальностями приобщен к делу. Но внутреннее чутье мешало
Грачику составить протокол и открыть рыбаку, что его нож представляет
интерес для следствия. Житель этих мест, рыбак, без сомнения, знает о
смерти Круминьша, он может что-нибудь сболтнуть. Именно этого Грачик и
боялся. Он решил пойти на нарушение правил, зная, что придется дать в
этом ответ. Вынул из кармана и подбросил на ладони свой походный нож с
несколькими лезвиями и разными приспособлениями.
- Не хотите ли поменяться!.. Я вам этот, а вы мне тот.
Старик взял нож Грачика и осмотрел с выражением нескрываемого
недоверия к серьезности предложения.
- Хорошая нож, совсем отличная нож, - проговорил он. - Зашем вам
ее менять?
- А мне нравится ваш.
- Мошно сменять, - усмехнулся старик, - а только фы долшен тогда
пару кило угрей от меня сабрать в притачу.
- Угри мне не нужны, хватит этого, - и, боясь, что старик
передумает, Грачик поспешно сунул его нож в карман.
Дальнейшими расспросами Грачик мало чего добился. Старик
подозревал одного человека, но не мог его назвать, так как видел
только один раз и то мельком в лесу накануне угона челна.
- Сторовый такой в хорошая пальто.
- А в каком пальто?
- Хороша пальто!
- А точнее не помните?
- Как не помню, я все помню.
- Так скажите.
- Я не портной, я не могу скасать. - Но подумав прибавил: - Очень
ряпый пальто.
Грачик решил не настаивать, чтобы не дать рыбаку пищи для
раздумья и разговоров о слишком любопытном пришельце. Челн рыбака
скрылся за камышами, и тогда Грачик еще раз осмотрел доставшийся ему
нож. Фабричное клеймо с самого начала привлекло внимание Грачика:
взявшиеся за руки пляшущие человечки не нуждались в том, чтобы их ему
представляли. Их родиной был Золинген.
То, что Грачик услышал от рыбака о "человеке в рябом пальто",
заставило его снова проделать весь путь от берега к месту
происшествия, пристально вглядываясь в почву под ногами. Ведь если
неизвестный пришел к лодке от места происшествия, то где-нибудь могли
сохраниться его следы. Но чем дальше шел берегом Грачик, тем меньше
оставалось у него надежды на их обнаружение. Земля в лесу была покрыта
толстым слоем сосновых и еловых игл. Подошва в них вовсе не
отпечатывалась. Грачик даже попробовал раз-другой выдавить след
собственной ноги. Ковер из игл был упруг, поверхность его тотчас
выправлялась в прежнее состояние, едва Грачик поднимал ногу. Тем не
менее надежда найти хоть что-нибудь снова погнала Грачика к воде. Но
напрасно он до рези в глазах смотрел на песок, - на обрыве он был так
сыпуч, что малейшее прикосновение ноги заставляло берег оседать целыми
тоннами.
Грачик готов был уже отказаться от поисков, когда на узкой полосе
песка, сохранявшего некоторую влажность благодаря близости к воде и
потому более устойчивого, наконец, заметил довольно ясный след ноги. С
осторожностью обходя этот след, чтобы не засыпать его, Грачик двинулся
дальше по берегу и скоро увидел еще несколько таких же отпечатков,
оставленных длинной мужской подошвой. Рисунок следов сохранился
относительно хорошо. Этому способствовала пустынность местности и
защищенность от ветров. Тем не менее из-за короткого дождя последней
ночью некоторые детали, разумеется, исчезли. Грачик понимал, что лишь
путем дальнейшей лабораторной работы, сопоставив все следы и дополняя
их друг другом, можно будет с большей точностью восстановить
действительный рисунок следа. Но в этом-то он по первому впечатлению
почти не сомневался: след будет восстановлен.
Все следы глядели в сторону дерева с цепью. За деревом их больше
не было: человек, оставивший их на берегу, пришел не от места
повешения Круминьша, а совсем с другого направления. Было ли это
осторожностью убийцы или он просто шел вдоль берега, отыскивая лодку
для переправы через реку, решить сейчас было невозможно. У Грачика не
было с собой принадлежностей, необходимых для снятия слепка со следа.
Поэтому он тщательно срисовал его и измерил.
Когда он стал измерять расстояние между соседними следами, чтобы
установить длину шага, то заметил характерную деталь: след левой стопы
не составлял к оси движения того же угла, что след правой. Измерив
угол той и другой, Грачик убедился: ось левой стопы составляла угол в
31 градус с осью движения, а ось правой стопы всего 28 градусов. Так
как принято считать, что 30-32 градуса - нормальный угол для мужчины,
то можно было сказать, что правая стопа имела неправильное положение.
Шедший тут мужчина косолап на одну ногу! Это была важная примета.
Сопоставив длину шага, размер обуви и другие данные, Грачик
пришел к выводу, что след должен принадлежать именно такому человеку,
какого описал рыбак: большой рост, большой вес, средний возраст.
Если бы человек был молод, характер следов был бы иным.
Поперечное расстояние между следами у молодежи бывает больше.
Если бы человек был стар, шаг его не был бы так велик в длину и
следы были бы смазаны. Старики редко поднимают ноги с такой четкостью,
как этот. Как правило, они, сами того не замечая, приволакивают ноги.
Чем больше возраст, тем яснее эта деталь сказывается в ходьбе.
Одним словом, именно такие следы отлично пристраивались к
сведениям, полученным от рыбака. Грачик был доволен открытием. Теперь
можно было отправиться в экскурсию по острову для его осмотра.
Но, сделав было несколько шагов, он остановился. Поспешно достал
добытый у рыбака нож и принялся его снова, более внимательно,
разглядывать. Не похож ли этот нож на тот, которым Залинь пытался
ударить Круминьша во время ссоры на берегу? Нужно поскорее предъявить
его для опознания Луизе и Силсу!.. Вот будет номер, если...
Грачик побоялся довести эту мысль до конца: разве по описанию
рыбака приметы широкоплечего, сильного человека не подходят к
здоровому Залиню?.. Фу, какая чертовщина!.. Настоящий скандал, если
рижские товарищи посмеются над московским простофилей, ломавшим копья
за освобождение Залиня из-под стражи!
Но нет, нет! Этого не должно быть!
Солнце уже заканчивало свое ленивое путешествие по небу, когда
Грачик почувствовал, что нуждается в отдыхе. Он с удовольствием
устроил привал посреди двора большой заброшенной мызы. Она имела такой
вид, будто хозяева, покидая ее, не оставили надежды сюда вернуться.
Ставни на окнах были тщательно закрыты, поперек ворот амбара - набита
доска. Все имело необитаемый, но вместе с тем не безнадежно запущенный
вид. Двор не был захламлен, кусты живой изгороди, окружавшей усадьбу,
носили следы не столь уж давнего прикосновения ножниц. Камышовая
крыша, первое, что выдает своими прорехами осиротелость жилья, была в
порядке.
Грачик приготовил хворост для костра посреди двора и поднял
крышку колодца, чтобы набрать воды. Ни цепи, ни веревки на вальке не
оказалось. Грачик оглядел двор в надежде понять, где могла быть
спрятана колодезная веревка. Ничего подходящего не было видно. Он
вернулся к колодцу с намерением опустить крышку, и тут его взгляд упал
на гвоздь, вбитый с внутренней стороны сруба так, словно к этому
гвоздю и должна была крепиться веревка, которую искал Грачик. И
действительно, на гвозде виднелся узел. Но почему-то веревка не была
смотана в бухту, как это делают рачительные хозяева. Тонкая, но
прочная, крученая веревка уходила в темную глубину колодца. Грачик
осторожно потянул ее. Если к ней подвешено ведро, то оно, несомненно,
находилось под водой: бечева легко выбиралась. Но вот раздался легкий
плеск, и Грачик мог с уверенностью сказать: ведра на бечеве не было
(она по-прежнему поднималась довольно легко), подвешенный к ней груз
был невелик.
Предмет, завернутый в тряпку и крепко обвязанный бечевой, был на
ощупь похож на пистолет. Грачик быстро размотал мокрую тряпку. В руке
его, действительно, оказался пистолет "вальтер". Он был густо смазан,
и запах смазки показался Грачику странным. Она была похожа на дамский
крем.
В обойме, вложенной в рукоять пистолета, не хватало трех
патронов. Но к пистолету была привязана еще одна полная обойма.
Поразмыслив, Грачик решил, что не следует оставлять пистолет на месте.
Он спрятал "вальтер" в рюкзак и, подобрав на дворе кирпич подходящего
веса, обернул его тряпкой и опустил сверток в глубину сруба. Очевидно,
рано или поздно владелец вернется за оружием, и если будет установлено
наблюдение за этим колодцем, владельца пистолета не трудно будет
задержать. Раз он спрятал его, да еще тщательно смазав, то есть с
очевидным намерением сохранить в боевой готовности, - значит это не
такой уж хороший человек.
Рассуждая таким образом, Грачик покинул хутор, так и не разведя
костра. Через два часа он был уже на пароме, перевозившем его на
материковый берег протоки. Еще одна проверка жителей острова,
немедленно произведенная районной милицией, ничего не дала для
суждения о том, кому мог бы принадлежать пистолет. Все жители были
известны и не возбуждали подозрений. По крайней мере, у милиции. Даже
одинокая женщина, показавшаяся Грачику подозрительной, не возбуждала
интереса у начальника района.
- Если брать за шиворот всякого, кто пьет, то придется сунуть под
замок половину республики, - неприязненно сказал он Грачику.
"В том числе тебя самого", - подумал Грачик, глядя на свинцовые
глаза начальника и на подозрительную синеву жилок на его носу. Но
вслух только спросил:
- Документы этой Минны Юдас зарегистрированы и проверены?
По-видимому, и этот вопрос показался обидным начальнику района:
- Может быть, вы полагаете, что мы здесь, в глухой провинции,
вообще не знаем своего дела?..
- Ничего не бывает "вообще", - в свою очередь рассердился Грачик,
- существенно то, что конкретно, вроде этой пьяницы Юдас. - Он махнул
рукой и поехал в Ригу с намерением там добиться более тщательной
проверки немногих людей, оставшихся на острове, их прошлого, связей.
16. СТАРЫЙ КОЛЛЕГА ПРОСИТ УСЛУГИ
Уполномоченный Совета по делам религиозных культов Ян Петрович
Мутный - рыжеватый блондин большого роста и крепкого сложения, с лицом
такого цвета, словно он только что вышел из парильного отделения бани,
- был человеком, вполне уверенным в своих достоинствах. То, что судьба
занесла его в скромную контору на бульваре, где помещался Совет,
представлялось Яну Петровичу досадным и лишь временным искривлением в
его жизненном пути. Несколько извилистая дорога карьеры вела его к
высотам, где не придется скучать над протоколами приходских советов
или просьбами каких-то старух об открытии заброшенной церкви; не
придется быть ходатаем перед Советской властью за бледных
бездельников, лишенных помещения для католической семинарии. Туда,
куда были устремлены мечты Яна Петровича, не являются с визитами
дружбы раввин и мулла; там не нужно отвечать за сборища баптистов и
жать руки попам всех категорий и исповеданий. Одним словом, там жизнь
его станет несложной и ясной, какой ему представлялась жизнь всякого,
кто "достиг". Там, по мнению Яна Петровича, нужно только уметь
приказывать с таким видом, будто ты уверен в безошибочности своих
приказов.
В чаянии сугубой временности пребывания в Совете культов, Ян
Петрович не обременял себя углублением в тонкости религиозной области,
с которой приходилось соприкасаться. Он не читал ничего, кроме
официальных писем из Москвы, и, как заразы, чурался не только старых
изданий всякого рода религиозных организаций, но и тех работ о
состоянии церковного фронта за рубежом, какие время от времени
попадали к нему на стол.
Островом успокоения в море житейской суеты и непостоянства была
для Яна Петровича его квартира - пять комнат на Александровской
(именно на Александровской, а не на Бривибас и не на улице Ленина: Ян
Петрович про себя всегда называл улицы по-старому, как они уложились в
его сознании за десятки лет жизни в этом городе). Там, в этих пяти
комнатах, царила благоговейная тишина, не нарушаемая крадущимися
шагами полуглухой работницы. Старуха, как тень, скользила войлочными
туфлями по глянцу паркета, навощенного до того, что он казался
стеклянным.
Жена Яка Петровича, Бела Исааковна Беленькая, была женщиной
молчаливой до мрачности. Так же, как он сам, она была довольна
холодной тишиной квартиры. Она охотно поддерживала культ навощенного
пола, накрахмаленных салфеточек на буфете, кружевных накидок на
подушках широчайшей постели, прозрачных и твердых, как матовое стекло,
оконных занавесей. Казалось, под суровым взглядом Белы Исааковны сами
начинали блестеть огромный письменный стол, к которому никто никогда
не присаживался; хрустальные бокалы на серванте, из которых никто
никогда не пил; крышка рояля, на котором никто никогда не играл. Ян
Петрович и Бела Исааковна в полном согласии друг с другом полагали,
что порядок, тишина и крахмальный тюль занавесок, отгораживающий их от
улицы, - это лишь малая доза награды, какая им причитается.
Когда-нибудь народ еще возблагодарит их за невзгоды прошлого. Нужно
было только набраться терпения и ждать.
Нужно отдать справедливость Беле Исааковне: на людях она не
кичилась ни нынешним своим благополучием, ни положением своего мужа,
как это свойственно некоторым, менее сознательным дамам. Единственным
предметом ее искренней гордости, о котором не стыдно бывало иногда и
напомнить, было для нее собственное прошлое. Не каждому довелось быть
избитым в мрачном подвале рижской полиции, а ей пришлось побывать там
и получить не один удар пряжкой солдатского пояса. Правда, ее скоро
оттуда выпустили, так как выяснилось, что она была схвачена по ошибке,
не имея в действительности отношения к студенческому кружку
марксистов. Но, как это бывает с людьми, по мере движения времени одни
обстоятельства стираются в памяти, другие остаются. Для нее стало
ценным и дорогим воспоминание о трех днях, проведенных в полиции,
твердый шрам на бедре - след удара пряжкой полицейского пояса.
Ян Петрович не чуждался того, чтобы на людях подчеркнуть свое
пролетарское происхождение и трудовое прошлое. Он со сдержанностью,
приличной положению и возрасту, изредка напоминал, как на широкой
мускулистой спине поднимал по три пятипудовых мешка, когда был
грузчиком в Лиепайском порту. Он ел все самое простое, что значилось в
меню столовых, но дома с аппетитом обсасывал кожицу жирного угря,
купленного из-под полы у рыночного спекулянта. Ни на людях, ни дома Ян
Петрович демонстративно не пил ничего, кроме жидкого чая да по стакану
кефира утром и вечером. Если ему хотелось выпить, как пивали когда-то
лиепайские грузчики, он делал это так, что на другой день после
возвращения "из района" даже Бела Исааковна слышала у него изо рта
только запах жженого кофе.
При поддержке Белы Исааковны Ян Петрович вбил себе в голову, что
никто не является в такой мере честным, последовательным и твердым
защитником завоеваний революции и Советской власти, как именно он. И
уж подавно только он, и не кто иной, стоит на страже политики партии в
области культов. А так как политика партии в сложной религиозной
области - лишь часть общей, еще более сложной политики внутри страны и
за ее пределами, то Ян Петрович без запинки делал вывод: он, товарищ
Мутный, призван блюсти интересы Советского государства и партии во
всех областях жизни. Пока, находясь еще в Совете культов, он делал,
правда, оговорку "когда тому придет время", но для его убежденности в
своей высокой общественной ценности эта оговорка не была пороком. Она
не вносила диссонанса в его душевный покой. Время для проявления всех
его качеств политического деятеля и администратора высокого полета
должно было вот-вот прийти: опостылевший Совет культов казался уже
пройденным этапом. Со дня на день должно было состояться обещанное
выдвижение Яна Петровича на пост руководителя промысловой кооперации.
Дело было только за тем, чтобы собрался съезд кооператоров и дружно
избрал его. Почему Яна Петровича влекло кресло руководителя кустарей?
Да прежде всего потому, что, как ему казалось, из этого кресла он
сможет попасть в следующее - повыше: в Совет профсоюзов. А разве не
там, в профсоюзах, куются кадры? Чьи это слова: "Профсоюзы - школа
коммунизма"? То-то! Вторым доводом, который он держал про себя, не
высказывая его даже Беле Исааковне, было то, что именно в промысловой
кооперации была заложена бездна возможностей для устройства быта.
Кого, кого и чего, чего только там не было?!
Голова Яна Петровича бывала высоко поднята, походка тверда,
движения солидно неторопливы, когда он совершал свою краткую утреннюю
прогулку от квартиры до Совета. Иногда он позволял себе остановиться
перед ювелирным магазином. Правда, только в том случае, если на улице
виднелось не слишком много прохожих и среди них не было знакомых. За
минуту - другую его вспыхивающий жадным блеском взгляд успевал обежать
витрину. Все, что было на выставке, оказывалось мысленно оцененным и
как бы зарезервированным на "лучшие времена", когда он или Бела
Исааковна смогут без стеснения войти в этот магазин и взять все, что
им понравится. Ян Петрович был почему-то уверен, что именно такая
возможность явится одною из черт грядущего коммунизма, за участие в
построении которого латышский народ все еще не отблагодарил его.
Если Ян Петрович стеснялся надолго задерживаться возле
ювелирторга, то уж около книжного магазина он простаивал подолгу, хотя
это и не доставляло ему удовольствия. Но нужно было, чтобы там его
увидело хотя бы несколько служащих, спешивших на работу в соседнее
здание Совета Министров. Не прочитав за свою жизнь и десятка романов,
Ян Петрович мог при случае перечислить массу названий, намозоливших
ему глаза в витрине. Утвердив таким образом свою репутацию любителя
изящной словесности, Ян Петрович степенно входил в подъезд большого
жилого дома, где в скромной квартире помещался Совет культов. Там он
сохранял строгость и солидную неторопливость с девяти утра до шести
дня.
Он не видел никакой надобности менять в себе что-либо и из-за
того, что сегодняшний посетитель, назвавший себя секретарше Антоном
Стродом - представителем общины верующих католиков из Илуксте, вошел в
его кабинет более развязно, чем входили обычно такого рода посетители.
Строд положил помятую шляпу на стол Мутного и, прежде чем заговорить,
подождал, пока уйдет секретарша. Но даже это не произвело на Яна
Петровича особого впечатления. И только тогда, когда Строд наконец
налег грудью на стол уполномоченного и тихо спросил, узнает ли его Ян
Петрович, тот ощутил беспокойство. Вглядевшись в черты посетителя, он
не нашел в них ничего знакомого. Нет, жизненный путь Мутного никогда
не скрещивался с жизненным путем человека, назвавшего себя Стродом.
Тем не менее смутный страх шевельнулся в душе уполномоченного. Он
сделал рукой неопределенное движение, не то отвергая возможность этого
знакомства, не то предостерегая посетителя от слишком громкого
разговора.
Строд без возражений перешел на полушепот:
- Я вынужден освежить вашу память: союз портовых рабочих в
Лиепае, связанный с социал-демократами. В активе союза был один
человек по имени... - Строд на секунду умолк, испытующе глядя в лицо
Мутного. Маленькие серые глазки уполномоченного испуганно забегали,
потом укрылись за полуопущенными веками. Его красное лицо стало совсем
пунцовым, но он продолжал молчать, словно лишившись дара речи. Тогда
Строд, полагая, что не все еще ясно, договорил: - Разве того человека
не звали Ян Мутный? - Потом одно за другим были произнесены имена
социал-демократов, главарей желтого профсоюза, которых не мог не знать
Мутный. При каждом имени посетитель загибал палец на руке,
бесцеремонно протянутой над столом, к самому лицу Мутного. Но тот,
казалось, уже не слышал ничего. Он, как зачарованный, смотрел на
толстые пальцы Строда, постепенно сжимавшиеся в кулак. Они исчезали,
как падающие вехи на пути к спасению. Яну Петровичу казалось, что в
мозгу у него вдруг образовалась какая-то пробка, мешающая течению
мыслей. Он силился думать о том, что же следует теперь предпринять, и
не мог сдвинуться с места. Мысль вертелась все на одном и том же
глупом пункте: "Какие у него большие и грязные пальцы... Боже, какие
грязные пальцы!.." А Строд, казалось угадывавший то, что творилось в
трусливой душе этого большого, такого сильного на вид человека,
беспощадно шел к цели. Он напомнил о забастовке лиепайских грузчиков и
о роли тех, кто ее сорвал. О жертвах полиции, беспощадно разделавшейся
с членами коммунистической оппозиции, и о роли "одного товарища",
виновного в провале этой оппозиции. Строду было теперь безразлично,
поверит ли Мутный, будто они когда-то встречались, и тому, что сам
Строд якобы был когда-то социал-демократом, и даже тому, что Строд -
действительно Строд. Все это уже не имело значения. Настолько тот
гость, которого в действительности звали Квэпом, знал людскую породу:
желание искать у советских властей защиты от шантажа будет у Мутного
подавлено стремлением спрятать концы своего прошлого, когда-то
трусливо скрытого от компартии.
Будь на месте Мутного другой человек, он, может быть, пошел бы и
сказал "Да, Ян Мутный виноват перед партией. В моем прошлом есть то,
чего вы не знаете". Тем более, что это прошлое не преследуется
законом, что оно может быть вовсе забыто. Но уже то обстоятельство,
что однажды оно было им скрыто из страха, будто помешает карьере,
делало такого человека, как Мутный, жертвой собственной лжи. Такова
логика обмана. Маленькая ложь становится со временем глыбой,
погребающей под собою человека со всем лучшим, что в нем было, что еще
оставалось и что еще могло в нем быть. Христианский постулат о
существовании "лжи во спасение" - сам по себе такая же ложь. Все это
хорошо известно всякому шантажисту. А шантаж - одна из отраслей
профессии Квэпа. Поэтому Квэп и был уверен: Мутный не донесет. Он
никуда не пойдет и окажет Квэпу услугу, о которой тот попросит в обмен
на молчание.
- В Совете промкооперации, - сказал Квэп, - вас уже считают своим
и охотно выполнят вашу пустяковую просьбу устроить меня на такую
работу, чтобы я мог разъезжать. Инструктор-организатор или
инспектор... Обещаю никогда не посрамить вашей рекомендации, - с
кривой усмешкой сказал он. - И уж, разумеется, всегда готов исполнить
все, что прикажете. - Квэп, прищурившись, посмотрел в испуганно
бегающие глазки Мутного и вздохнул: - А ведь мало ли что может
понадобиться человеку? Даже такому большому, важному и честному
человеку, как Ян Петрович Мутный... Подумайте: пустяковая услуга
старому коллеге и... покой навсегда.
Вечером дома Ян Петрович вел себя несколько необычно. Его
состояние показалось Беле Исааковне настолько странным, что она даже
заподозрила - уж не заболел ли он? Она предложила ему лечь, но он
продолжал медленно ходить по натертым паркетам квартиры и блуждающим
взором следил за тем, как дробится в их стеклянно блестящей
поверхности его отражение. Отражение то становилось непомерно длинным,
то сжималось до роста карлика. Но всегда оставалось отвратительно
уродливым. Ян Петрович всматривался в него так долго, что закружилась
голова.
Когда он улегся в постель, в мозгу продолжал, как раскаленный
гвоздь, стоять один и тот же вопрос, который Ян Петрович напрасно
пытался решить с момента ухода "Строда": станет ли ему легче, если он
скажет о случившемся Беле Исааковне?.. Но ведь если он расскажет об
утреннем визитере, то придется рассказать и о том, чего она не знает:
о прошлом, имеющем к революции лишь то сомнительное отношение, какое
имела вся деятельность социал-демократических профсоюзов в буржуазной
Латвии. Правда, жена - не партия. У нее нет власти отобрать у него
партбилет. Вместе с мужем-лгуном и сама Бела Исааковна стала бы
предметом общественного осмеяния: кто же поверит тому, что за
пятнадцать лет совместной жизни она не узнала прошлого собственного
мужа... И тем не менее Яну Петровичу было страшно: а что если Бела
Исааковна пойдет и скажет все?..
Поворочавшись с боку на бок так, что Бела Исааковна снова
спросила, не болен ли он, Ян Петрович наконец уснул.
Наутро он встал, как обычно, - спокойный, уверенный в себе. На
службу шел неторопливой походкой с высоко поднятой головой. Постояв у
окна ювелирторга, перешел к витрине книжного магазина, пока мимо него
не прошло несколько знакомых из Совета Министров. Тогда он степенно
вошел в подъезд Совета культов.
Распорядок дня в "Эдельвейсе" был таков, что у обитательниц не
оставалось времени на что-либо иное, кроме занятий, составлявших курс
обучения в школе шпионажа и диверсий, прикрытой вывеской этого
пансиона. Больше того, распорядок был составлен с таким расчетом,
чтобы утомить "пансионерок" и убить у них самое желание заниматься
чем-либо посторонним: подъем в шесть утра, к десяти вечера все лампы
погашены; в течение дня полтора часа предобеденного отдыха. И даже то,
что отдых давался не после обеда, а перед ним, должно было
препятствовать появлению вредных мыслей, рождающихся на сытый желудок.
К тому же отдыхать после еды значило нагуливать тело. А учащиеся
должны были сохранять спортивную форму, подвижность и приятную
внешность.
У большинства учащихся "личное" ограничивалось чтением легких
романов, обсуждением виденных снов да время от времени ссорами, всегда
происходящими там, где чувства и мысли вращаются в замкнутом круге. Но
и в ссорах Инга Селга оставалась нейтральной. Она жила так, что, за
исключением Вилмы Клинт, у нее не было друзей, за которых стоило бы
вступаться.
Известно, что процесс обучения в такого рода заведениях
отличается от всех иных учебных заведений. В "Эдельвейсе" не было
больших аудиторий, не было классов или групп, в составе которых
слушались бы лекции. Общение между преподавателями и учащимися
происходило едва ли не с глазу на глаз. Двойка, редко тройка - вот и
весь коллектив, восседавший перед педагогом. Будущие шпионки не знали,
обучаются ли их товарки тому, чему учат их самих, не знали, кто их
обучает.
Впрочем, Ингу по самому ее замкнутому характеру не очень-то и
интересовала жизнь других пансионерок. С нее было достаточно
собственных забот: добиться у инструктора латыша хорошей отметки по
физической подготовке и стрельбе, заслужить похвалу немца радиста или
русского белогвардейца - преподавателя языков - было ничуть не легче,
чем заставить американского инструктора-парашютиста уважать себя хотя
бы в той минимальной степени, чтобы он не выпихивал тебя из самолета
толчком ноги ниже поясницы. Инге не нравился путь, каким ее товарки
снискивали расположение преподавателей, - она не позволяла тискать
себя в коридорах и не ходила в садовую беседку на свидания с
иностранными инструкторами. Инга была упряма, терпелива и способна
настолько, что классных занятий ей хватало для усвоения предметов.
Замкнутость и отсутствие друзей избавляли Ингу от просьб о помощи даже
со стороны Вилмы Клинт. К удивлению однокашниц, свободное время она
тратила не на чтение бульварных романов, а на книги
историко-религиозного характера. Из них наибольшим успехом у нее
пользовались книги, относящиеся к истории возникновения и деятельности
Общества Иисусова.
Никто в этом доме, от начальницы до последней горничной, не
понимал, что Инга несет свою холодную замкнутость как щит от
назойливого любопытства. В школе, где она обучалась до перевода в
пансион "Эдельвейс", она познакомилась с парнем по имени Карлис Силс.
За спиною начальства знакомство перешло в дружбу. Дружба - в любовь.
Быть может, это прозвучит для читателей странно: любовь в среде, где
все усилия воспитателей сосредоточены на том, чтобы научить
ненавидеть, не верить, никого не любить, ни к чему не привязываться; в
среде, где хороший балл можно заработать умением неожиданно нанести
смертельный удар ножом, застрелить из-за угла, отравить. Но человек -
существо удивительное, полное противоречий и неожиданностей. Там, где
можно ждать душевных проявлений высшей красоты и тонкости, мы видим
подчас величайшее уродство и зло; и наоборот, в окружении смрада и
грязи взрастают цветы нежнейшей любви и душевная красота существ,
казалось, навеки обреченных тьме порока, становится предметом
воспевания для поэтов. Пусть тот, кто этому не верит, вспомнит
величайшую трагедию о любви, когда-либо показанной искусством, пусть
он вспомнит Ромео и Джульетту. Или среда, где жили изображенные
Шекспиром нежные любовники, была лучше той, где томились Инга и
Карлис? Или кровь Монтекки и Капулетти не лилась там из-за дури,
владевшей главами домов? Не пускались в ход кинжал и яд, интриги и
подкуп? Не царили вокруг юных любовников обман и предательство? Не
бесчинствовали тираны, добывавшие себе средства для оргий торговлей
рабами? Не неистовствовала инквизиция? Чума и оспа, чесотка и сифилис
не были разве такой же непременной декорацией эпохи, как мандолины и
серенады? Князья не душили своих жен, папы не сожительствовали с юными
послушниками? И все-таки осталась образцом нежного благоухающего
чувства на века бескорыстная и жертвенная любовь юных созданий - Ромео
и Юлии. Так почему же она не могла расцвесть и ныне между двумя
молодыми людьми, забывшими ласку матери, не знавшими родины, но
обладающими такими же самыми сердцами, какие бились в груди Ромео и
Джульетты?
Лишенные семьи с ее теплом и заботой, вырванные из нормальной
человеческой среды, способной выказать немного внимания к мыслям и
чувствам - ко всем проявлениям ума и сердца молодых людей, - Инга и
Карлис с юношеского возраста, самого чуткого к внешним явлениям,
самого восприимчивого к отраве порока, искусственно превращались в
существ черствых, жестоких, лишенных каких бы то ни было
интеллектуальных потребностей. И вопреки этому, вопреки воле своих
воспитателей, они ко времени встречи все же оказались полны той
удивительной чувствительности, когда прикосновение пальцев любимого
существа заставляет звучать все струны сердца. Этого нельзя приписать
лишь природному инстинкту влечения полов, потому что инстинкт в тех
условиях мог бы проявиться и до плоскости примитивно. Это не было
влиянием среды, потому что окружали их лица чужие, черствые, холодные,
расчетливые и жестокие, порочные и беспринципные. Чувство Карлиса и
Инги было закономерным проявлением жажды прекрасного, что живет с тех
пор, как человек познал прелесть утренней зари и вечернего заката,
красоту птичьих голосов в пробуждающемся лесу, ласковую песню рек,
бодрящую силу рокота морского прибоя. Пополняемое из века в век
усилиями искусства, прекрасное живет, умножается, растет и ширится,
захватывая сознание людей. Жажда жизни заставила двуногое существо,
питавшееся кореньями, несмотря на страх, искать битвы со зверем, пока
оно не отведало мяса и не почувствовало себя сильнейшим на земле.
Жажда тепла владела первобытным человеком, и он не успокоился, пока не
высек пламени из кремня. Жажда красоты живет в нормальном человеке,
увлекая его в мир прекрасного в чувствах и мыслях - во всех
восприятиях ума и сердца.
Когда Инга узнала, что Силса отправят с заданием, она, несмотря
на строгое запрещение видеться и говорить с ним, нашла его и сказала:
- Куда тебя посылают?
- Вот это чудесный вопрос! Учили тебя учили...
- Конечно, глупый вопрос, - согласилась Инга. - Но... мы же
должны быть вместе?
- Должны! - ласково передразнил Силс.
- Так почему же они не могут послать меня с тобой? Разве я не
могу стать твоей напарницей?
- Можешь, именно можешь, - ответил он, беря ее руки в свои. -
Если бы это... - Он не договорил и потянул Ингу к себе. Но она
оттолкнула его.
- Я пойду к ним, скажу им, что я...
- Молчи! - Силс в испуге зажал ей рот: - Если ты скажешь это им -
нам уже никогда не видеться! Именно: никогда!
Инга прильнула к нему и зашептала торопливо, так, что он едва
разбирал слова:
- Там тебя не должны поймать и уличить как преступника.
Понимаешь? Ты должен ждать меня.
- Ждать тебя? - с удивлением прошептал он.
- Если они не пошлют меня, я убегу сама...
- Молчи!
- Убегу, - настойчиво повторила она. - И мы будем...
Он прижал ее к себе.
- Глупенькая... Именно глупенькая. Кто же выпустит тебя?
- Я сказала: убегу... Ты знаешь меня, Карлис. И ты должен ждать.
Спрячься так, чтобы никто тебя не нашел. Только я буду знать, где ты.
- Она шептала словно в забвении. Губы помимо воли произносили то, чего
хотело сердце.
Силс обхватил ее шею.
- Именно, глупенькая, - ласково повторил он. - Я же буду там не
один. - Он едва не произнес имени напарника, но вовремя остановился:
никто, кроме двоих, засылаемых в Советский Союз, не должен был знать
их имен.
- Кто?.. Скажи кто? - Ее губы касались его губ. - Кто?
И так же губы в губы он прошептал:
- Круминьш.
Она еще крепче прижалась к нему всем телом, и ее губы прильнули к
его губам.
Весь дом уже спал, когда Инга неслышно прокралась в комнату, где
жила вместе с Вилмой Клинт. Разделась и осторожно разбудила подругу:
- Подвинься
Вилма поняла: Инга хочет сказать что-то очень тайное. Так, лежа в
одной постели и накрывши головы одной подушкой, они могли шептаться
без страха, что их услышат шпионки матери Маргариты. Ни у кого из
живущих в этом доме не было уверенности, что в стенах нет отверстий
для подглядывания, что под мебелью или в вентиляционных решетках не
стоят аппараты подслушивания. Мать Маргарита желала знать каждое
слово, произносимое в доме, хотела знать все, что делают и что думают
ее питомицы.
Но ни ушам шпионов, ни аппаратам подслушивания не удалось
рассказать матери Маргарите, о чем шептались той ночью Инга и Вилма.
Когда дежурная надзирательница, словно невзначай, заглянула к ним в
комнату, обе пансионерки лежали в своих постелях и самое чуткое ухо не
обнаружило бы ничего неестественного в ровном дыхании спящих.
Месяцы прошли с той ночи. Эти месяцы кажутся Инге годами. Но она
помнит каждое слово, произнесенное тогда, она помнит каждую черточку в
лице Карлиса Силса, которого ей больше не удалось увидеть до отъезда.
Может быть, его и увезли из школы именно потому, что начальство узнало
об их встречах?.. Может быть, и ее потому же перевели в этот новый
пансион матери Маргариты, похожий на каторжную тюрьму? Нет, вряд ли:
ведь они с Карлисом вели себя так осторожно. Она с Карлисом и Вилма с
Эджином. Но вот оба они - Карлис и Эджин - исчезли в необъятных
просторах Советского Союза. Что с ними? Правда ли была написана в
"Цине"?
Карлис, наверно, потому и явился к советским властям, что помнил
ее слова. Вероятно, было уже невозможно скрываться без риска быть
убитым. Потому и явились, что хотели дождаться ее и Вилму... И что же
дальше?.. Смогут ли они с Вилмой когда-нибудь очутиться там, где Эджин
и Карлис?.. Ведь если они знают про их любовь, то будут держать ее
здесь или пошлют совсем в другом направлении, лишь бы она не
встретилась с Карлисом. А она должна с ним встретиться. Должна!
Думать об этом Инга решается только по ночам. Днем она -
по-прежнему примерная ученица. По-прежнему молчит и ни с кем не ведет
дружбы. А Вилму исключили из школы и куда-то услали, когда пришел этот
номер "Цини". Значит, они узнали про их любовь - Вилмы и Эджина? А
ведь если они узнают и про Ингу, ее тоже пошлют куда-нибудь, куда
спрятали Вилму... Или... может быть, просто "уберут"? Тогда уже не о
чем будет думать... Но пока она думает и думает; думает каждую ночь о
том, как сделать, чтобы быть вместе с Карлисом?..
Вернувшись в Ригу, Грачик еще раз внимательно осмотрел все
предметы, найденные в свое время на теле Круминьша. Прежде всего ему
хотелось взглянуть на карандаш из записной книжки. Действительно, он
оказался тонко очиненным и вовсе не химическим. Это не могло служить
еще неопровержимым доказательством тому, что письмо писал не сам
Круминьш: он мог и выбросить и потерять второй карандаш, химический.
Но в построении версии Грачика это обстоятельство имело такое
существенное значение, что он цеплялся за каждую деталь, говорящую
против самоубийства.
Грачик вынул кусок шнура, взятого из колодца на острове, и стал
сличать этот обрезок с веревкой, из которой было вынуто тело
Круминьша. Чем внимательнее он это делал, тем больше удовлетворения
отражалось на его лице. Несмотря на все уроки Кручинина, Грачик не
умел оставаться бесстрастным. Очень часто - чаще чем ему хотелось -
лицо его отражало радости и огорчения, какими был усеян жизненный
путь.
Последним, что с интересом осмотрел Грачик, был узел, завязанный
на веревке повешенного. После этого окончательно созрело решение
подвергнуть тело Круминьша вторичному исследованию судебно-медицинских
экспертов. Вопрос, поставленный Грачиком, был лаконичен: повесился
Круминьш или был повешен?
Признаков убийства Круминьша иным способом, нежели удушение,
эксперты и на этот раз не нашли.
Тогда Грачик спросил: не думают ли врачи, что имеется некоторое
несоответствие положения повешенного характеру странгуляционной
борозды. Рубец имеет такой вид, словно главная "нагрузка"
затягивавшейся петли пришлась на переднюю часть шеи, то есть будто бы
сам узел находился на затылочной части. Между тем из протокола первого
осмотра явствует, что узел петли, сделанной на веревке, переброшенной
через сук сосны, находился сбоку, под ухом трупа. Могла ли при таком
боковом направлении затягивания петли странгуляционная борозда иметь
тот вид, какой она имеет? Не может ли кровоподтек на шее у затылка
быть следствием удушения, произведенного петлей, наброшенной и
затянутой сзади до повешения. Кровоподтек у затылка - след узла,
прижатого к шее. После того петля сдвинулась на сторону, и в таком
виде убитый был подвешен к дереву. Таков был вариант Грачика.
Судебно-медицинская экспертиза подтвердила это мнение: каждый из двух
следов, видневшихся на шее погибшего, имел свои характерные признаки:
один - удушения петлей и второй - такие же признаки подвешивания;
первый был ровным, второй имел след скольжения. Какова была разница во
времени происхождения обоих следов? Дать категорический ответ на этот
вопрос представлялось трудным. Очевидно, разница во времени появления
следов была очень невелика. Но тут мнения экспертов разделились: один
из них утверждал, что след удушения является прижизненным, а след
подвешивания, судя по характеру кровоподтека, посмертным. Другой не
решался быть столь категоричным.
Грачик поставил специалистам новые вопросы: 1) Какого
происхождения может быть след крови на ногтях указательного и среднего
пальцев правой руки повешенного? 2) Не является ли химический состав
следов карандаша на перочинном ноже тем же, что и состав графита,
которым писалось предсмертное письмо Круминьша? 3) Какая фабрика СССР
производит бумагу, на которой это письмо написано? 4) Не является ли
предлагаемый вниманию экспертов обрезок крученой бечевы из колодца
частью того же мотка, из которого взята веревка повешенного?
Сам Грачик задался целью выяснить, принадлежал ли золингеновский
нож Круминьшу, был ли у Круминьша блокнот с такою же бумагой, на какой
писалось его последнее письмо; имелись ли у Круминьша химические
карандаши и, наконец, имел ли Круминьш пистолет "браунинг" или
"вальтер". Грачик полагал, что ответить на эти вопросы может Силс.
Ведь с Силсом Круминьш прошел обучение и подготовку к диверсии, а
затем нелегкий очистительный путь раскаяния и явки. Вместе с Силсом
Круминьш испытал радость народного прощения и искупительного труда на
советской земле. Такой путь не мог не сблизить этих людей. Об их
близости могли свидетельствовать и слова предсмертного письма
Круминьша, если бы... если бы Грачик не подозревал тут подделки.
Грачик с интересом вглядывался в сидевшего перед ним коренастого
блондина с крупными чертами лица. Все было ясно Грачику в этом лице.
Все, кроме глаз. Глубоко сидящие под выпуклыми надбровиями, они своею
серо-голубой холодностью противоречили открытому выражению лица.
Взгляд их становился чересчур настороженным, когда обращался на
собеседника. При этом Сивс старался избежать встречного взгляда.
По словам Силса, ни у него самого, ни у Круминьша не было оружия.
Все, чем их снабдили при отправлении на диверсию, они сдали советским
властям. Заявив это, Силс пожал плечами. Словно сам вопрос Грачика
казался ему странным. Силс сидел, положив на стол крепко сжатые кулаки
сильных рук, и исподлобья глядел куда-то мимо уха следователя.
- А Круминьш не мог достать оружие без вашего ведома? - спросил
Грачик.
Силс продолжал смотреть в сторону и не отвечал. Грачик терпеливо
повторил вопрос.
- Не мог, - нехотя ответил Силс.
- Вы уверены?
- Именно.
- Почему вы так уверены?
Вместо ответа Силс снова пожал плечами.
- Он мог спрятать оружие перед явкой к нашим властям; утаил это
от вас... - настаивал Грачик. А взгляд Силса все тяжелел, глаза его
делались свинцово-серыми.
- Нет. - Силс произнес это слово так, словно выложил на стол
перед Грачиком чугунную гирю. - Мы ничего не утаили. Именно ничего не
спрятали... Ни он, ни... я.
- В вашей-то искренности, я уверен.
Силс опустил глаза и кивнул головой.
Грачик положил перед ним нож, полученный от старого рыбака.
- Вот нож Круминьша... - сказал он так, будто не сомневался в
этом. Но ему достаточно было увидеть глаза Силса, чтобы понять:
Круминьш не имел к ножу никакого отношения. И все же Грачик продолжал:
- Значит, запишем: этот нож принадлежал Круминьшу?
И снова раздалось такое же увесистое:
- Нет.
- Ножик ваш?
- Нет.
- И вы никогда не видели этого ножа?
- Именно.
- И не думаете, что Круминьш его у кого-нибудь взял?
- Именно.
- Чтобы очинить свой карандаш, а?
- Нет.
По-видимому, Силс не принадлежал к числу людей с хорошей
выдержкой. Вопросы Грачика выводили его из себя, и только природная
холодность удерживала от резкости. Но Грачик намеренно настаивал на
своих вопросах. Даже при доверии, какое Грачик чувствовал к Силсу,
допрос оставался поединком людей, сидевших по разные стороны стола.
- Он должен был написать большое письмо, - продолжал Грачик, а
мягкий химический карандаш то и дело тупился.
- Химический? - словно освобождаясь от владевшей им скованности,
спросил Силс. - У нас не было химических карандашей.
- Почему?
- Нас учили: химический карандаш расплывается от сырости.
Химический карандаш, когда его чинишь, оставляет следы на пальцах... -
Силс умолк. Словно ему были неприятны эти воспоминания. Лишь после
некоторого молчания добавил свое: - Именно.
- Значит, можно считать установленным, что это не карандаш
Круминьша?
- Именно.
- Но у него, наверно, были другие карандаши. Он же писал
что-нибудь?
- Только немножко... Вилме.
- Вилме? - переспросил Грачик. - Кто такая Вилма?
- Вилма Клинт, девушка... там. - Силс взмахом руки показал на
окно.
Грачик понял, что речь идет о девушке, оставшейся за рубежом.
- Значит, ей он писал?
- Именно... Только не знал, дошло ли его письмо.
- Значит, Круминьш ничего не знал о Вилме?
- Один раз пришло от нее письмо.
- Все-таки пришло?
- Через Африку и Францию. Переслал кто-то из завербованных в
Марокко. Вилма писала: там читали "Циню". И все поняли: кто вернется
сюда, тому не будет плохо. - Силс долго обдумывал следующую фразу. Его
молчание наводило Грачика на мысль о неискренности Силса. Наконец, тот
сказал: - Вилма писала: она подговаривает одну девушку убежать...
сюда.
- Вы полагаете, что Круминьш... хорошо относился к Вилме Клинт?
- Именно, любил.
- И она стремилась на родину? Может быть, они хотели быть вместе?
- Именно хотели, - что-то отдаленно похожее на улыбку на миг
осветило черты Силса. Но это подобие улыбки было короче чем
мимолетным.
- Он говорил вам об этом? - спросил Грачик, стараясь попасть в
простой, дружеский тон. Но Силс, как и часто до того, ответил только
молчаливым кивком головы. Лишь после долгой паузы, подумав, сказал:
- Эджин боялся. Если они узнают, что Вилма хочет бежать, ей будет
худо... Именно, очень худо. Круминьш очень боялся. И очень ждал Вилму.
- Что же, - тепло проговорил Грачик, - если так, то, значит,
Круминьш хотел жить...
- Именно хотел... Потому и уговорил меня явиться. Он не хотел ни
умирать, ни сидеть в тюрьме.
- И уж во всяком случае не собирался кончать жизнь самоубийством?
- Именно.
- А как все плохо получилось.
- Именно плохо. - Избегая взгляда Грачика, Силс опустил глаза на
свои руки, лежавшие на столе.
- Это не повторится. Можете быть спокойны! - ободряюще сказал
Грачик. - Может быть, и у вас есть своя Вилма?
Впервые за всю беседу холодные глаза Силса потеплели, и он не
уклонился от испытующего взгляда Грачика.
- Именно, - тихо, словно боясь быть кем-нибудь подслушанным,
повторил Силс. И еще тише: - Инга... Инга Селга.
Он подпер голову руками и несколько раз повторил: "Инга...
Инга..." Когда он поднял голову, Грачик увидел, что губы Силса
сложились в улыбку. Лицо принадлежало другому Силсу - не тому,
которого Грачик определил, как холодного и скрытного субъекта. Грачик
улыбнулся.
- Ваша Инга тоже собирается сюда?
Губы Силса сжались, и он покачал головой.
- Они хотят бежать вместе: Вилма и Инга... Это трудно, -
проговорил он, снова понижая голос.
- Кто хочет бежать - бежит.
- Один бежит, а десятерых убьют, - сердито бросил Силе.
Грачик поднялся и прошелся по комнате.
- А как вы думаете, Силс, чем можно было бы помочь в этом деле?..
Надо подумать, хорошенько подумать. Нельзя ли помочь этим девушкам
стать... ну вот, как вы с Круминьшем, - стать настоящими людьми. Это
было бы так хорошо!
- Именно хорошо. Только ведь Вилма узнает, что Круминьш убит...
- Что же будет, если Вилма узнает?
- Плохо будет для Инги. Вилма горячий человек, она может
испортить дело.
- Давайте подумаем об этом вместе... в следующий раз.
- Я могу идти? - после некоторого молчания спросил Силс, и голос
его снова прозвучал сухо и угрюмо, словно между ними и не произошло
такого дружеского разговора.
- Конечно, - согласился было Грачик, но тут же быстро спросил: -
А скажите мне, Силс, теперь, когда мы хорошо познакомились и, кажется,
поняли друг друга: что заставило вас отказаться от исполнения
диверсионного задания? Что толкнуло вас явиться к советским властям?
Силс стоял, опустив голову, погруженный в задумчивость. По
движению его пальцев, нервно теребивших пуговицу пиджака, Грачик
понял, что молодой человек смущен и не знает, что сказать, или не
решается выговорить правду.
- Если не хотите - можете не отвечать.
- Нет, почему же, - ответил Силс, не поднимая головы. - Именно
теперь и надо сказать... Это Круминьш надумал, что наше дело
безнадежно. Именно безнадежно. Нас поймают. Поймают и будет худо.
- Что значит худо? - спросил Грачик.
- Именно так худо, что хуже и нельзя. Если поймают - расстрел.
- Это Круминьш говорил?
- Нас так учили: если провал - надо отравиться. А ни он, ни я -
мы не хотели умирать.
- Значит, страх смерти заставил вас явиться с повинной? - спросил
Грачик. - А Инга, а Вилма?..
Тут Силс поднял голову и посмотрел Грачику в лицо:
- Именно так: Инга и Вилма тогда... А потом?.. потом мы все
увидели и поняли... Только это долго рассказывать. А вам трудно
поверить.
- Я-то поверю, но можете не рассказывать. Прощайте, Силс, - и
Грачик протянул ему руку. Силс несмело пожал ее.
Силса уже не было в комнате, а Грачику все казалось, что он
чувствует на ладони прикосновение его большой жесткой руки. Было ли в
этом ощущении что-нибудь неприятное?
Да, Грачик должен был себе признаться, что именно потому он и
думал об этом прикосновении, что до сих пор не поборол в себе чувства
собственного превосходства и даже брезгливости, с которыми когда-то
смотрел на каждого подследственного. Он понимал, что это вздорное,
нехорошее предубеждение. Но инстинкт моральной чистоплотности
оказалось не так легко преодолеть. В чертах лиц этих людей, в их
глазах, в улыбках, чаще натянутых, чем естественных, даже в слезах
раскаяния или горя ему виделось что-то лживое и неприятное. Их лица
казались ему особенными, не такими, как лица других людей. Но ведь
теперь Силс ни в чем не подозревался! Это же был только свидетель! Что
же мешало Грачику протянуть ему руку так же, как он пожал бы ее любому
другому?
Да, конечно, теперь Силс не был подследственным, но ведь в
недавнем прошлом он был врагом! А разве то, что высшие органы
Советского государства - мудрые и осторожные - простили Силса,
поставили в ряды советских людей, не делает Силса совсем таким же, как
все неопороченные граждане, таким же, как он сам, Сурен Грачьян...
Конечно, так! Силс сказал бы: "Именно так". Значит... не только
брезгливость тут неуместна, но не должно быть даже снисходительности в
обращении с Силсом. Конечно, конечно! И самым правильным будет всегда
здороваться и прощаться с ним за руку!
При этой мысли Грачик вытянул руку и поглядел на нее... И...
усмехнулся. "Конечно, так и должно быть", - вслух проговорил он,
возвращаясь к столу.
Целью сегодняшней встречи с Силсом было узнать, принадлежал ли
нож Круминьшу и был ли у Круминьша химический карандаш. То, что Грачик
услышал, укрепило версию, все более ясно складывавшуюся в его уме. Он
был намерен довести ее разработку до конца и предложить Кручинину, как
только тот приедет. Впрочем, с чего это он взял, будто Нил Платонович
намерен сюда приехать? Очень ему нужно бросать отдых и лечение на юге
ради того, чтобы помочь Грачику выпутаться из затруднения?
Грачик рассмеялся и отодвинул бумаги: на сегодня довольно! На
первый взгляд может показаться, что день не был слишком плодотворным.
Но ежели хорошенько проанализировать все, что он услышал от Силса, то,
пожалуй, следовало сказать, что теперь он еще больше утвердился в
мысли: убийство Круминьша - политическая диверсия. Если
непосредственные исполнители преступления и не были только-только
заброшены из-за рубежа, то во всяком случае выполняли волю хозяев,
находящихся очень далеко отсюда! Это так!
- А на сегодня - финис! - воскликнул он, захлопывая ящик стола.
Вероятно, из-за этого им самим поднятого шума он и не слышал
осторожного стука в дверь. А Силс, не дождавшись его ответа,
приотворил дверь и заглянул в комнату. (Финис (лаn. finis) - конец.)
- Вы?! - удивился Грачик.
У Силса был смущенный вид. Он топтался возле двери, теребя в
руках и без того измятую шляпу.
- Что-нибудь забыли? - спросил Грачик.
- Именно... Забыл... сказать вам: кажется, я видел этот нож.
Именно на берегу, когда Мартын хотел убить Эджина. Это нож Мартына
Залиня.
Люди, которым признание их ошибок доставляет удовольствие, -
исключение. Грачик не принадлежал к таким счастливым исключениям. Если
принадлежность ножа Мартыну и не могла служить уликой, изобличающей
его, как участника преступления, то во всяком случае требовала
сосредоточить внимание на этой фигуре. Неужели следователь, ведший
дело до Грачика, был прав? И как будет выглядеть теперь сам Грачик,
когда придет просить санкцию на задержание Мартына?! А ведь ежели
подтвердится, что нож принадлежит Мартыну, и ежели удастся установить
такие обстоятельства его нахождения близ места преступления, которые
скомпрометируют Мартына или хотя бы обнаружат его связь с
преступниками, - ареста не избежать. Это было неприятно, чертовски
неприятно! Однако прежде всего нужно было вызвать Луизу и самого
Мартына, чтобы установить принадлежность ножа и обстоятельства, при
которых он очутился в лодке на берегу Лиелупе. Да, да, - на берегу
Лиелупе...
Тут нить размышлений Грачика порвалась: в его сознании факт
нахождения ножа в лодке старого рыбака ассоциировался с тем, будто нож
найден на самом месте преступления...
Грачик тут же отправил повестки, и наутро Луиза явилась. Она так
же, как Силс, подтвердила: да, это тот самый нож, который она отобрала
у Мартына Залиня во время драки на пикнике...
Управляющий гамбургской конторой "Национального товарищества
"Энергия", худощавый пожилой человек со впалыми щеками чахоточного
лица, с ожесточением стучал трубкой телефонного аппарата. Станция
разъединила его во время разговора с Любеком, а он должен был сообщить
находящемуся в Любеке правлению этого эмигрантского "товарищества" о
больших неприятностях. В трубке раздался сухой щелчок, и управляющий
опять принялся стучать по аппарату. Наконец, ему удалось соединиться с
главным директором "товарищества".
- Строительная компания "Европа" недовольна дурной дисциплиной
наших людей. "Европа" грозит взыскать с нас убытки, которые понесет
из-за простоев. Черт знает что, скандал!
- О каких простоях ты говоришь? Что случилось? - сердито перебил
директор.
- Началось с этой... как ее... Вилмы Клинт.
- Вилма Клинт? - недоуменно спросил директор.
- Ну да, она оказалась подружкой Круминьша.
- Какого Круминьша?
- Того самого...
- А-а, понял! Но почему же она оказалась на работах?
- Потому, что нам сбрасывают всякую дрянь. Ланцанс не пожелал
держать ее у себя в канцелярии.
- Его преосвященство вполне прав.
- Вот она, эта Клинт, и стала из стенографистки бетонщицей.
- Но я спрашиваю тебя: причем тут "Энергия"?
- Клинт - зачинщица сегодняшнего бунта!
- Так в карцер ее, в тюрьму, дрянь эдакую! - закричал директор
так громко, что собеседник вынужден был отстранить трубку от уха.
- Я уже отдал приказ об аресте Клинт, но рабочие не выдают ее.
- Что значит "не выдают"? Кто они такие, чтобы "не выдавать"? Или
там нет команды порядка?
- Я ничего не могу сделать, не рискуя сорвать работы на
строительстве "Европы".
- Ты смешишь меня! - И директор действительно рассмеялся в
трубку. - Где мы живем? И когда мы живем?
- С завтрашнего дня - забастовка, - продолжал управляющий.
- Вызови полицию.
- Конечно, я вызвал полицию. Но это только ухудшило дело.
- Не понимаю.
- Они начитались "Цини" с сообщением о Круминьше и Силсе.
- "Циня"? Как она к ним попала?
- Все уже знают об этом деле.
- А что они раньше не знали, что в советский тыл забрасываются
наши люди?
- Дело не в этом, - начиная тоже сердиться, объяснял гамбургский
управляющий. - Это ни для кого не новость. Но Круминьш и Силс
добровольно явились к советским властям. Вот что вызвало бурю.
- Ах, вот что, - с облегчением воскликнул директор. - Так эту
бурю нужно поддержать. Раздувать их негодование. Мы немедленно
свяжемся с Центральным советом. Настроения, о которых ты говоришь,
нужно укреплять.
- Господи! Господи, боже мой! - в отчаянии воскликнул
управляющий. - Наши люди бросают работу, они требуют отправки на
родину, понимаешь.
- Какая родина? О какой родине болтают эти ослы?
- "Мы их обманываем"!.. Изволите ли видеть: "Это вранье, будто
каторга ждет их в Советском Союзе в случае возвращения"... Они
говорят, что имеют право...
Резкий крик директора прервал его:
- Право?! Мы покажем им "право"! Смело хватай красных агитаторов.
- Хотели взять Вилму Клинт, и что получилось? - пожаловался
управляющий. - Скандал, черт знает что! Они начинают говорить о своих
правах?! Это же просто небывало! Это скандал!
На любекском конце провода наступило продолжительное молчание.
Управляющий было подумал: уж не разъединили ли их опять? Но,
по-видимому, главный директор попросту обдумывал ответ.
- Так... так... - пробормотал он наконец. - Они говорят: "Право?
Отправка на родину?" Это очень серьезное дело. Гораздо серьезнее, чем
ты думаешь.
- Я ничего не думаю, - рассердился управляющий, - но если их не
утихомирить, то получится грандиозный скандал. Мы понесем убытки.
- Знаешь что?.. - нашелся главный директор. - Нужно вернуть на
работу эту самую, как ее... Ну же, ты только что назвал ее: подружка
Круминьша...
- Вилму Клинт?
- Пусть только успокоятся рабочие, пусть вернутся на свои места,
а там мы будем знать, что делать: упрячем эту Клинт и урезоним их.
- Попробуй, когда они читают рижские газеты.
- Откуда они их берут? Произведи обыск, осматривайте людей у
ворот, газеты отбирайте! Виновных... Директор задохнулся от гнева и,
сделав передышку, решительно заключил: - Нечего стесняться...
Громкий стук в дверь помешал управляющему расслышать последнюю
фразу директора. В комнату ввалилась группа рабочих. Они стучали
тяжелыми ботинками, громко переговаривались между собою и что-то
раздраженно выкрикивали по адресу управляющего. Он отмахивался от них,
закрывая ухо ладонью, но шум окончательно заглушил голос из Любека. От
имени рабочих латышей, навербованных для военного строительства
оккупантов, пришедшие требовали расчета и отправки обратно в лагерь
для перемещенных.
- Что вам делать в лагере? - растерянно спросил управляющий.
Снова сесть на шею благотворителям?
- Нам нужно добиться отъезда на родину, - сделав шаг вперед,
крикнула Вилма.
Казалось, при ее словах глаза управляющего готовы были выскочить
из орбит.
- Ах, это ты бормочешь о родине? - процедил он сквозь стиснутые
зубы. - И что ты называешь родиной, ты?!
- Родина - это родина, - решительно ответила она. - Если господин
управляющий забыл, где она находится, то мы помним.
- Вы что же, собираетесь... в Советскую Латвию? - как бы не веря
своим ушам, спросил управляющий. - Прямо в лапы коммунистам?
- Наконец-то вы поняли, о чем речь идет, - насмешливо ответила
Вилма.
Управляющий попятился, но все же крикнул:
- Никто не бросит работу раньше, чем кончится контракт с фирмой
"Европа"! И марш! Все марш отсюда! - Выкрикивая это, он продолжал
пятиться к задней двери.
- Мы не желаем больше работать на иностранцев! - крикнула
наступавшая на него Вилма. - Поедем туда, где люди работают на самих
себя.
- И давно у тебя появилось такое желание? - Управляющий в
изумлении остановился, и кулаки его сжались. - Эй, ты!
- С детства меня звали Вилмой.
- Постараюсь не забыть это имечко.
- Записывайте скорее, - усмехнулась Вилма, - а то еще спутаете.
- Я уж постараюсь, чтобы твоя просвещенность нашла себе лучшее
применение, дорогая Вилма.
- Благодарю вас, господин управляющий. Но надеюсь, что заботиться
обо мне вам уже не придется. С нас довольно вашей каторги.
- Так, так!.. Так, так, так!.. - бормотал управляющий, в
бессильном бешенстве постукивая костяшками пальцев но столу. Однако
взгляд его делался все более растерянным, по мере того как говорили
другие рабочие. Это был случай беспримерный - первый в его практике,
да и, вероятно, первый за все время существования "Энергии". Вот уже
почти десять лет "товарищество" благополучно поставляет рабочую силу
многим строительным и горнорудным компаниям. Латышей посылали всюду,
где дешевые руки "перемещенных" могли успешно конкурировать на рынке
труда. "Энергия" гордилась тем, что даже в Африку, где, как известно,
пара рабочих рук стоит дешевле, чем горсть муки, нужная, чтобы эти
руки прокормить, - даже туда, на черный континент, "Национальное
товарищество "Энергия" посылало "перемещенных". "Энергия" всегда имела
перед собой открытый рынок, жадно всасывающий доведенных до крайней
степени отчаяния соотечественников. И право, за десять лет, что
действовал этот конвейер сбыта белых рабов в Африку, в Америку и во
все углы Европы, где нужны безропотные автоматы для тяжелых работ, еще
не бывало такого случая, с каким "Энергия" столкнулась сегодня. - Это
же скандал, черт знает что! - бормотал управляющий, исподлобья глядя
на делегатов и невольно задерживая бегающие маленькие глазки на лице
Вилмы. Ее осунувшееся, выпачканное брызгами цемента лицо едва
сохраняло признаки недавней, не по возрасту быстро увядающей свежести.
Выбившиеся из-под косынки рыжие волосы яркими прядями спадали вокруг
выпуклого лба. - Вон, вон отсюда! - не владея больше собой, завопил
управляющий и, расставив руки, двинулся на спокойно покидавших комнату
рабочих.
Едва затворилась за ними дверь, он устремился к телефону. Для
вызова полиции понадобилось всего несколько минут. После того он
поднялся на следующий этаж и прильнул к окошку. Сначала ему была видна
только толпа рабочих во дворе конторы, их возбужденные лица,
мелькающие в воздухе руки, какой-то вожак на ящике у ограды и снова
эта... Вилма Клинт! Управляющему казалось, что ее бледное в темных
оспинах цемента лицо в яркой рамке рыжих волос главенствует над
толпой. И чем больше он на нее смотрел, - а не смотреть он не мог, -
тем ненавистнее она ему становилась. Ему казалось, что в ней, в этой
девушке с огненной шевелюрой, - все дело. Вот с кем нужно покончить в
первую голову!
Наконец-то за воротами истерически взвыла сирена! Рядом с
полицейским фургоном управляющий увидел красный автомобиль пожарных.
Через минуту тугая струя воды, направленная из брандспойта туда, где
стоял на ящике оратор, сбила его с ног. Брызги рассыпались над
головами рабочих.
- Правильно! - пробормотал управляющий.
Вода вырывалась из пожарной кишки с таким шипением, что заглушала
слова, выкрикиваемые Вилмой, вскочившей на ящик, чтобы заменить
сбитого рабочего. Управляющий видел, как раскрывался ее рот и
развевалась в воздухе косынка, которой она размахивала над головой,
как флагом. Вот тугая струя холодной воды ударила Вилму в лицо.
Девушке казалось, что ей отрывают голову, - так силен был удар. В рот,
в нос, в уши - всюду врывалась вода. Вилма задыхалась. Но вместо того
чтобы закрыть лицо, защищаться от воды, она обеими руками ухватилась
за высившиеся за ее спиною бочки из-под цемента. Удар струи в живот
заставил ее согнуться. Она не могла даже кричать от боли - вода
по-прежнему заливала ее с ног до головы. Струя сбивала с нее одежду.
Вилма держалась, повернувшись к струе спиной. Все видели, как иссякают
ее силы. Вот она выпустила бочку, за которую держалась. Ноги ее
подкосились, и она упала. Даже тут вода преследовала ее, и удары
струи, жестокой, как плеть о тысяче хвостах, терзали, мяли ее тело,
казалось, делавшееся все меньше и меньше. Словно оно таяло в этом
неумолимом потоке.
В портрете "конвоира" Москва опознала преступника, пять лет тому
назад осужденного за убийство и направленного в одно из мест
заключения для отбывания наказания. Таким образом устанавливалась
личность одного из участников преступления. Однако стоило Грачику
потребовать по телеграфу данные из места заключения, откуда, видимо,
бежал этот субъект, как прибыл совершенно ошеломляющий ответ:
преступник находится в заключении и никуда не бежал.
Грачик вооружился лупой. Однако сколько он ни разглядывал
фотографию, полученную от Шумана, сколько ни поворачивал ее так и
эдак, ничего нового обнаружить не мог. Но вот лупа дрогнула в его
руке: от костела справа налево четко ложилась тень, а фигуры шагавших
перед костелом троих людей... вовсе не отбрасывали тени!.. Да, да, -
ни Круминьш, ни его "конвоиры" не давали тени на мостовую, словно
солнечные лучи пронизывали их, как бесплотные существа.
Стоило Грачику сделать это открытие, как мысль заработала в том
же направлении: почему предметы, находящиеся ближе к объективу, чем
Круминьш и его "конвоиры", оказались на снимке более четкими, гораздо
резче очерченными. Разве не известно, что не в фокусе могут оказаться
предметы, приближенные к аппарату, а не удаленные от него. За менее
четким лицом и фигурой Круминьша - снова более четкий куст и фасад
костела... Быть может, причиной нечеткости фигуры Круминьша было то,
что он в момент съемки двигался и изображение "смазалось"? Но ведь
двигался с той же самой скоростью и один из "конвоиров", а его фигура
и черты очень ясны - более ясны, чем у Круминьша и второго
сопровождающего. Что все это значит... Нужно получить подтверждение
специалистов в том, что несоответствие теней и четкости на фотографии
означает именно то, что подозревает он сам. Да, но... Лицо Грачика
вытянулось в гримасу разочарования: чтобы потребовать ответа у
экспертизы, он обязан представить ей достаточный материал - нужны все
фотографии, на каких имелось изображение Круминьша, а ни в личном деле
покойного в заводоуправлении, ни в завкоме фотографии Круминьша не
нашлось. Что же касается любительских снимков, то Силс заявил, что ни
он сам, ни Круминьш старались не попадать в чей бы то ни было
объектив: они боялись, чтобы их фотографии не попали туда, за рубеж.
Единственной подходящей фотографией, обнаруженной Грачиком в
делах завкома, был снимок, сделанный во время маевки: на нем виднелся
Круминьш, идущий бок о бок с Луизой. Рассматривая этот снимок в лупу,
Грачик должен был прийти к выводу, что костюм, надетый Круминьшем в
день маевки, - тот самый, в котором он виден на снимке Шумана.
Размышляя об этом, Грачик вошел в комнату Силса, когда приехал ее
осмотреть.
- Вероятно, это был лучший костюм вашего друга? - спросил Грачик
Силса, показывая ему снимок Шумана.
- Именно лучший. Нам выдали эти костюмы, когда освободили из-под
ареста.
Грачик смерил взглядом костюм, аккуратно повешенный в нише.
- Тот самый? - спросил он.
К его изумлению Силс ответил:
- Именно.
- Как?! Разве в день исчезновения на Круминьше был другой костюм?
- Именно: как вернулся с комбината, так в рабочем платье и ушел.
Это значило, что в момент ухода Круминьш не мог быть
сфотографирован в том костюме, в котором был изображен на фотографии.
И второе обстоятельство: весь абрис фигуры Круминьша, его поза,
движение на обеих лежавших перед Грачиком фотографиях, сделанных во
время маевки и при "аресте", были сходны во всех подробностях. Даже
тени на лице и на платье лежали одинаково. Теперь для утверждения
поддельности фотографии, полученной от отца Шумана, Грачику не нужна
была и экспертиза.
Глядя на сидящего перед ним краснолицего человека, со щеками,
отвисшими, как на старинных портретах купцов, Грачик думал о том,
сколь мало подходит служителю бога неприветливый взгляд холодных серых
глаз, пытливо вглядывающихся в собеседника из-под насупленных
седоватых бровей. Священник не отличался разговорчивостью. Каждое
слово приходилось из него вытягивать. Самой длинной тирадой, которую
услышал от него Грачик, была характеристика Круминьша. Священник
произнес ее поучительным тоном:
- Я не отношу покойного Круминьша к морально устойчивым
субъектам. Это доказано его самоубийством. Церковь сурово осуждает
подобный акт. Круминьш одинаково виновен перед нами и перед богом.
Грачик не мешал ему. Гораздо полезнее, чтобы спрашиваемый не был
настороже и как можно меньше следил за собой. А в данном случае это
было особенно важно: очевидно, Шуман не был простаком.
- Меня нисколько не удивил оборот, какой приняло дело, -
продолжал священник. - Рано или поздно Круминьш должен был быть
арестован: к этому вели его политические взгляды.
- Вы считаете, что его раскаяние в преступлении против народа не
искренне?
- Со стороны священника было бы нескромностью дать вам прямой
ответ на этот вопрос, - уклончиво ответил Шуман. - Однако могу
сказать: мне, как лояльному советскому человеку, было неприятно
общение с этим субъектом... Я видел тернистость пути, по которому он
шел, и не мог предостеречь его.
- Почему же?
- Мы строжайше воздерживаемся от вмешательства в политику.
- В данном случае было бы полезней предостеречь самого Круминьша
и предупредить его друзей, - возразил Грачик.
- Я не имел права это сделать.
- А разве сан не обязывает вас наставить любого заблуждающегося?
Даже если рассудить с ваших узких позиций священника: разве вы не
должны были сделать попытку спасти Круминьша, если видели, что он идет
к тому, чтобы наложить на себя руки?.. Вы, как священнослужитель? Не
говоря уже о вас как гражданине!.. Ведь как ловец душ (кажется, так
Иисус называл своих последователей-рыбарей) могли уловить в сети
католицизма и душу протестанта Круминьша... Разве не так?
Не поднимая глаз, Шуман негромко ответил: все шло путями
предопределенными провидением. Не нам вмешиваться!
- Ну, не будем впутывать провидение в наши дела. Хотя на этот раз
даже его вмешательство говорило бы в пользу моих доводов. Вам ли
забыть, как строго римская церковь осуждает грех самоубийства? И,
наконец... - тут Грачик не смог скрыть улыбки, - вы должны помнить
одно из стариннейших изданий папской канцелярии, именуемое "Taxae
Sacrae Paenitenciariae Apostolicae". На основании этих "такс" вы имели
возможность получить с Круминьша, в случае его обращения, неплохую
лепту в пользу своего ветхого храма. Попытка самоубийства, наверно,
расценена там не так уж низко. Во всяком случае не ниже, чем стоят
фотографии костела. (Таксы святого апостольского (папского) отпущения
(грехов).)
Шуман поднял взгляд на Грачика, и тот прочел в нем такую
неприязнь, что улыбка сразу исчезла с его лица.
- Святой престол никогда не издавал никаких такс за отпущение
грехов, - сердито проговорил священник, - это апокрифы.
- Наука говорит другое, - спокойно возразил Грачик. - И если бы
это составляло тему нашей сегодняшней беседы, я наверняка доказал бы
вам подлинность Инкунабул, содержащих полные таксы на индульгенции. В
числе их я нашел бы и параграф, по которому вы, как убийца
Круминьша... - при этих словах Шуман побагровел и отпрянул от стола
Грачика. Но Грачик, делая вид, будто не замечает этого, твердо
продолжал: - Я имею в виду ваше моральное соучастие... По папской
таксе вы, чтобы очистить свою совесть, уплатили бы теперь сами целых
два дуката вместо того, чтобы получить кое-что с упущенного прозелита.
- Оставим эту тему, - глухо проговорил Шуман. - Не к лицу мне
спорить о таких вещах с...
- С безбожником? - договорил Грачик за умолкнувшего священника. -
Ну что же, вернемся к сути дела, хотя вы и могли бы спасти Круминьша.
- Не нам с нашими слабыми силами разрушать то, что уготовано
свыше. Однажды встав на путь преступления против своей страны,
Круминьш не мот с него сойти. Не совершив диверсии, какая была ему
вменена в обязанность, он все же пришел к преступлению: убил
милиционера, выполнявшего свой долг.
- Вы полагаете, что и это было предопределено свыше?
- Поскольку это логически завершало жизненный путь Круминьша.
- А путь того, убитого им?
- Было делом господа бога решать его судьбу, - уклончиво ответил
Шуман.
Грачик решил, что пора, как бы невзначай, спросить о том главном,
ради чего пригласил священника.
- Дайте мне адрес фотографа, сделавшего снимок Круминьша на фоне
храма.
Лицо отца Шумана отразило усилие памяти. Подумав, он сказал:
- Бессилен помочь вам. Целый ряд рижских фотографов присылал мне
свои снимки, желая получить заказ. Адреса тех, кто дал снимки,
пригодные для размножения, разумеется, записаны в книгах церкви,
потому что им пришлось платить. А эта фотография относится к числу
забракованных.
- И вы за нее не платили? - быстро спросил Грачик.
- Как за брак, мы... - начал было Шуман и вдруг осекся: он
вспомнил о взятых у Грачика пятидесяти рублях. Но Грачик сделал вид,
будто не заметил смущения Шумана. А тот пожал плечами и сказал: - Мне
хотелось бы вам помочь. Я запишу вам несколько адресов, но... -
впервые Грачик увидел на лице собеседника нечто вроде улыбки смущения.
- Вы не рассердитесь, если я кого-нибудь забуду?
- Ничего, ничего, - с напускной беспечностью ответил Грачик. -
Это, в сущности, не имеет значения. - И видя, что Шуман намеревается
записывать адреса, сказал: - Право, не трудитесь. Не стоит.
Грачик понял: в числе фотографов, которых "вспомнит" Шуман,
именно того-то, кто нужен Грачику, и не будет.
Беседа закончилась в непринужденном тоне, и предметом ее не были
больше обстоятельства жизни и смерти Круминьша. Тем не менее в каждом
новом слове священника, в каждом его взгляде и движении Грачику
чудилось подтверждение: перед ним - если не сам автор
фальсифицированного снимка "ареста", то человек, хорошо знающий
происхождение этой фотографии. Но Грачик не хотел проявлять
настойчивости, чтобы не заставить Шумана насторожиться. Грачику теперь
больше всего хотелось взглянуть на усадьбу священника. Грачик сделал
было попытку напроситься на приглашение Шумана, но тот был,
по-видимому, мало понятлив или намеренно не понял намека: он не
выразил желания видеть Грачика у себя. С каждой минутой крепла
уверенность Грачика в причастности Шумана к убийству Круминьша. Эта
уверенность и помешала Грачику пожать на прощанье руку гостя. Плохо он
справлялся с чувством брезгливости, а ведь еще совсем недавно убеждал
себя в том, что...
Тот, кому приходилось подъезжать с северо-востока к Алуксне, не
забудет впечатления, производимого на путника дорогой, вьющейся
вековым бором от самого поворота с Рижско-Псковского шоссе. Очарование
этого лесного участка при приближении к городу Алуксне сменяется
новым, не менее прекрасным видом: слева от дороги открывается озеро.
Его простор, окаймленный лиственными лесами, умиротворяюще действует
на путешественника. Усталость исчезает, забываются любые неудобства
пути. Озеро прекрасно на утренней заре, когда пронизанный лучами
восходящего солнца розоватый туман растекается над камышами, шуршащими
от дуновения легкого ветра. Озеро ослепительно красиво среди дня,
когда его беспредельная гладь залита ярким солнцем. Но великолепнее
всего оно вечером. Под косыми лучами солнца длинные тени деревьев
ложатся поперек камышей и, ломаясь на легкой озерной ряби, тянутся и
тянутся по воде, как многоглавые и многолапые драконы. В предночной
час дальний от дороги берег озера представляется путешественнику
сперва светло-желтым, потом золотым и, наконец, загорается алым. Едва
ли кто может пройти этот кусок дороги, не остановившись и не
полюбовавшись открывающимся видом. Вдали путник увидит северную
оконечность острова. Там высятся пока еще невидимые с дороги развалины
старинного шведского замка, некогда взятого штурмом молодых петровских
полков. Кстати говоря, на этом острове, как гласит легенда, жила в
услужении у местного пастора Глюка стряпухой и прачкой Катарина
Скавронская, которую Петр Первый сделал императрицей всероссийской.
Это обстоятельство, к удивлению свежего человека, является предметом
гордости не только каких-нибудь ископаемых старушек, а всех горожан
Алуксне, до руководителей местного исполкома включительно. Если
новичок-маловер вздумает усомниться в основательности этой гордости, а
то еще, чего доброго, и в правдивости легенды, он наткнется на
единодушное сопротивление алуксненцев. Они дружно вступятся за свои
достопримечательности: озеро, остров и развалины замка, приобретающие
в их глазах особую ценность вышеупомянутым обстоятельством из жизни
пасторской стряпухи Катарины.
Грузный человек среднего роста не спеша брел по одной из улиц
Алуксне. Он был погружен в задумчивость: голова его была опущена так,
что широкие черты красного лица казались еще шире, похожий на картошку
нос с сизоватыми прожилками закрывал усы, а короткая борода лежала на
воротнике брезентовой куртки. Человек этот не глядел по сторонам. Руки
его были заложены за спину, и, казалось, все его внимание
сосредоточено на носках собственных грязных сапог, попеременно
появляющихся в поле его зрения.
Он миновал районный дом культуры, не посмотрев на большой
полотняный щит с анонсом предстоящих гастролей. Не меняя позы и тем же
неторопливым шагом он прошел еще два квартала и стал спускаться к
старинному строению, имеющему вид торговых складов, когда вслед ему
раздался веселый крик:
- Товарищ Строд!.. Эгей, товарищ Строд!
Он вздрогнул. Или он забыл, что здесь он не Квэп, а Строд?!
Придется сделать вид, будто так задумался, что не слышал зова.
Оглянувшись, он увидел девушку. Она улыбалась и приветливо кивала
головой. Широкое румяное лицо, белокурая прядь волос, выбившаяся
из-под съехавшего на затылок клетчатого платка, и учащенное дыхание -
все свидетельствовало о том, что она спешила, догоняя Квэпа.
- Как хорошо, что я вас встретила! - весело говорила она
недоуменно смотревшему на нее Квэпу. - Вы так неожиданно от нас
уехали, что некоторые документы остались неподписанными.
Ага, вот теперь он вспоминает: она - бригадир показательной фермы
из Краславского района. Он действительно уехал оттуда с большой
поспешностью. Быть может, и напрасно, но - береженого и бог бережет.
Ему тогда показалось, что в Краславе с ним повстречался человек из
"Саласпилса". Этот человек так пристально посмотрел на Квэпа, в его
глазах сквозило такое беспокойство, что Квэп счел за лучшее поскорее
исчезнуть. Он кое-как по почте уладил дела с фермой, чтобы отъезд его
не выглядел подозрительным, а вот каких-то документов, видно, не
подписал.
- ... А я-то старалась составить этот отчет так, чтобы видно было
новаторство нашей фермы! - весело, и особенно напирая на новаторство,
говорила девушка.
Квэп смотрел на нее и никак не мог вспомнить, как ее зовут.
- Неужели вы из-за этого сюда приехали! - сказал он девушке,
стараясь придать своему угрюмому лицу приветливое выражение.
- Разумеется, - ответила она. - Отчет уже подписал сам товарищ
директор. И вы не беспокойтесь. Когда Рига выдаст премию, мы пришлем
вам вашу долю, непременно пришлем. Дайте мне ваш точный адрес. - И
захохотала: - Впрочем, мы вас и так найдем.
Больше всего Квэпу хотелось отвязаться от следов, ведущих к
прежней работе и к прежнему месту жительства. И как это они там, в
Краславе, узнали его нынешний адрес? Неужели он оставил какие-нибудь
следы, ведущие сюда? Ведь между пребыванием в Краславе и приездом в
Алуксне лежит целый месяц жизни без прописки. Странно это и даже
подозрительно. Нужно отделаться от этой девицы! А та, не унимаясь,
тараторила:
- Собственно говоря, меня послали в колхоз "Саркана Звайгзне".
Там большая молочная ферма. И свиноферма тоже. Мы хотим посмотреть,
как они ведут хозяйство. - Девушка задорно мотнула головой: - А может
быть, и они у нас кое-чему могут поучиться, а? Как вы думаете, товарищ
Строд?
- Так, так, "Саркана Звайгзне", - машинально повторил он. - Знаю,
знаю.
"Саркана Звайгзне" он действительно знал. Оттуда его артель по
ремонту сельскохозяйственного инвентаря получала для починки
сепараторы и доилки. Осторожно, взвешивая каждое слово, он рассказал
девушке то, что могло удовлетворить ее любопытство, но ни словом
больше.
- Уж я вам признаюсь, товарищ Строд, - она запнулась было, но тут
же, взглянув на него исподлобья смеющимися глазами проказницы,
продолжала: - Только вы не должны на меня сердиться... Ладно?.. Это я
сама придумала сюда поехать. Наши хотели посмотреть, что делается там,
поближе к Краславе, а я придумала ехать именно в "Саркана Звайгзне". -
И тут она лукаво подмигнула ему.
- Что же вас сюда привлекло? - настороженно спросил он, продолжая
думать о том, как бы отбить у нее охоту искать его в будущем и
говорить о нем с кем бы то ни было здесь. Даже если эта дуреха будет
молчать, ему все равно следует теперь подумать о бегстве и отсюда. А
жаль, очень жаль! Положение технорука артели по ремонту
сельхозинвентаря давало ему возможность жить так, чтобы никто не знал,
где именно он находится в любой данный момент. Под видом разъездов по
району он мог скрываться надежнее и легче, чем сидя на месте. Стараясь
не обнаруживать овладевавшего им все больше и больше раздражения
против этой девицы, он с трудом удерживал на лице улыбку. А
бригадирша, понизив голос, продолжала с видом заговорщицы:
- Я узнала, что вы здесь. А раз вы здесь, то, наверно, уж не
сидите сложа руки и в районе есть чему поучиться. - Она ухватила его
обеими руками за рукав куртки. - Ведь есть, правда?
- И вы сами... сами решили ехать именно сюда?
- Они не хотели, а я настаивала.
- И сказали им, что хотите видеть меня... что я здесь?
- Нет, - она рассмеялась. - Этого-то я им и не сказала. Думаю:
поеду, посмотрю, все запишу, посоветуюсь с вами. А потом приеду и
скажу им, что видела вас, что видела все, что вы тут сделали... Ведь
вы, наверно, потому и уехали от нас, что вам не давали проявить себя,
что на вас косо глядели, правда?
- На меня косо глядели? - спросил он, не сумев скрыть
беспокойства.
- О, даже в райисполком ездили!
Его лицо пошло красными пятнами.
- Вот как... ездили в район?
- Ну да же! Вместо того, чтобы дать вам сначала показать себя.
Он поспешно спросил еще раз:
- А вы никому не говорили, что найдете тут меня?.. Никому?
- Потом, когда вернусь, я им скажу... А пока это мой секрет.
- Да, да, понимаю, - не дослушав, перебил Квэп. - Понимаю... - А
мысль его торопливо работала. Эта особа способна наделать ему хлопот!
Он снял шапку и отер вспотевший лоб. При этом он так закинул
голову, что девушка ясно увидела под бородой длинный белый шрам на его
шее, словно бы след от пореза. Этот шрам возбудил в ней жалость:
наверно, война. Но из скромности она не стала его ни о чем спрашивать
и вернулась к разговору о колхозной ферме "Саркана Звайгзне". Квэп
едва следил за ее словами. Случившееся означало, что его следы из
Краславы могут привести сюда за этой девицей и кое-кого поопасней.
Пожалуй, ему не обойтись отступлением в другой район. Не пришлось бы
перестать быть и Стродом. Он хмуро поглядывал на беспечно болтающую
девушку. Имени ее он так и не вспомнил.
- Вы сегодня поедете со мной в "Саркана Звайгзне?" - спросила
она.
- Смотрите, как она спешит! - натянуто улыбаясь, ответил он,
стараясь придать голосу всю вкрадчивость, какую только мог разыграть.
- Раз уж вы уделили столько внимания моей скромной особе, позвольте и
мне... стать вашим кавалером или лучше сказать: вашим старым дядюшкой.
- Ну, ну, какой же вы старый!? - рассмеялась она.
- Давайте сегодня отдохнем, хорошенько отдохнем, а завтра поедем
в "Саркана Звайгзне". Не спеша оглядим все, что вас интересует. А вы
тут предупредите, чтобы вас не ждали, посидим в "Звайгзне" и два дня и
три - сколько нужно. - План действий уже смутно вырисовывался в его
мозгу. Он думал, что надо сделать так, чтобы она поменьше мозолила
глаза в Алуксне. И никто не должен видеть их вместе. Поэтому он прежде
всего употребил все подходящие доводы для того, чтобы уговорить ее не
ходить сегодня в райком комсомола, куда она собиралась, а отправиться
в гостиницу и хорошенько отдохнуть перед предстоящим путешествием.
23. АНТОН СТРОД И ЛАЙМА ЗВЕДРИС
Через час, сидя в столовой над двойной порцией лукового клопса,
Квэп продолжал размышлять о том, как очистить оставленный позади себя
фарватер от собственных следов и опасных свидетелей. Мысли одна другой
безотрадней лезли в голову. Стопка водки и бутылка пива, которыми он
надеялся подбодрить свое воображение, не помогли. Ничего хорошего не
было в том, что ему приходится уже вторично менять фамилию и
непрестанно кочевать с места на место. Теперь он сидел на должности,
предоставленной по протекции Мутного. Правила конспирации требовали
закрепления на месте, врастания в местную среду и скромного,
незаметного существования. А у него это не выходило. Чего уж скромнее
места технорука на ферме, в глухом районе; чего незаметнее работы в
какой-то артели по ремонту сельскохозяйственного инвентаря?! Возня с
ломаными колхозными весами, сепараторами и костодробилками - это ли не
маскировка? А между тем все, казалось, работало против него: и то, что
сначала на ферме он сидел на одном месте, зарывшись в захолустье; и
то, что теперь он постоянно находился в движении, не торчал на глазах
одних и тех же людей. Неужели же были верны его давнишние мысли об
обреченности тех, кого посылали в Советский Союз? Неужели он напрасно
вообразил, будто этой обреченности подвержены только снаряжаемые им
люди, но она должна миновать его самого? С какой радостью, с каким
облегчением он отправился бы в обратный путь. Теперь убогое пристанище
возле лагеря "17" казалось ему раем и покорная Магда - феей, на груди
которой он мог бы найти покой. Зачем он здесь? Ведь дело же сделано -
Круминьш наказан при обстоятельствах, предусмотренных планом: "арест
советскими властями и самоубийство". Так что же его держат здесь,
почему не дают разрешения вернуться? Или Шилде воображает, будто у
Квэпа две головы: когда снимут одну, он сможет действовать со второй?
Нет, уж кто-кто, а он-то знает, что на месте снятой головы новая не
вырастает! Прав, сто раз прав был он, увиливая от таких поручений и
подсовывая вместо себя других! Правда, на этот раз нельзя было
ускользнуть, не ставя креста на всей своей карьере. Круминьш и Силс
подвели его. Но, может быть, умнее было пожертвовать карьерой в
Центральном совете, чем рисковать собственной башкой?.. В конце концов
все уладилось бы. Черт же его дернул согласиться на это поручение! Как
будто он по опыту всех тех, кого сам посылал сюда, не видел, что дело
почти безнадежно. Прежде он сам втирал очки Шилде, будто посылаемые в
СССР с диверсионными заданиями люди находят тут приют у сочувствующих
и сотрудничают с несуществующими антисоветскими элементами. А теперь,
вероятно, Шилде тоже уверяет Легздиня в том, что он, Квэп, может
работать, опираясь на помощь духовенства или жалких ошметков
разгромленной советскими органами контрреволюции. А на самом деле?
Несколько жалких монашков, дрожащих за свою шкуру и только мечтающих,
как бы отделаться от незваного гостя. А уж "подполье"! Противно
вспомнить этих слюнявых старцев, которых тошнит от страха, как только
называешь им цель своего появления! Право, даже смешно, что прежде он
сам мог выдавать эту оперетку за серьезную угрозу Советской власти в
Латвии! Глупо, право глупо! Впрочем, не столь глупо, сколь страшно.
Ей-ей, он чувствует, как шершавая пенька колет ему шею...
Он провел рукою под воротником рубашки и расстегнул пуговицу.
Просто огнем горит шея! Казалось, даже официантка в столовой -
девушка, замученная беготней между столиками и не имевшая времени даже
посмотреть на посетителя, - и та глядит на него подозрительно, словно
он уже сидит с веревкой на шее...
Он положил деньги на стол и, не ожидая сдачи, вышел из столовой.
Прохладный вечерний воздух несколько освежил его, и окружающее
перестало представляться в таком безвыходном виде. Он миновал главную
улицу, чтобы не попадаться на глаза лишним людям. К старой,
заброшенной каланче по какому-то поводу собралась небольшая толпа.
Опасливо обошел и каланчу. Подумав, заглянул в парикмахерскую в том же
доме, что гостиница. Пусть там его увидят. Хотя у него до сих пор не
было вполне точного плана действий, но почти инстинктивно хотелось,
чтобы думали, будто он идет к себе в номер. Он сказал парикмахерше,
подстригавшей ему бороду, что неважно себя чувствует и сейчас же ляжет
в постель. Уже так и сделал было, когда вспомнил, что на нем чужие
башмаки - да, да, старые башмаки совсем не известного ему человека,
полученные у сапожника на тот день, пока мастер починит его сапоги. И
что это ему пришла блажь именно в Алуксне снести их сапожнику?!
Подумайте, какой принц - сбились каблуки! И как это в жизни бывает:
один пустяк цепляется за другой, а в конце концов выходит
неприятность.
Как же это он все-таки забыл зайти к сапожнику?! Взглянул на часы
и, вместо того чтобы подняться в гостиницу и полчасика полежать, чтобы
переварить клопсы, зашагал к сапожнику. Но напрасно он стучал в
запертую дверь - мастерская была пуста. Обошел домик со всех сторон и
не нашел никаких признаков жилья. Дети на дворе объяснили, что
сапожник живет на другом конце города, но его точного адреса никто
здесь не знает. Это было неожиданное затруднение. Оно могло задержать
в Алуксне дольше, чем нужно.
Стоя перед окном своего номера, он машинально рассматривал книги
в витрине лавки напротив. Мысли текли сами по себе. Но вот в лавке
погас свет, и продавщица вышла, повесив на дверь замок. Это значило,
что приближалось время, назначенное Квэпом девушке для прогулки. По
мере того как он думал, план действий оформлялся в уме все ясней.
Теперь уже он точно знал, зачем зашел в контору гостиницы и зачем
сказал, будто ложится спать. Знал, что будет делать дальше.
- Запишите для ночной дежурной: разбудить меня в шесть утра, -
сказал он горничной и, вернувшись в номер, с шумом сбросил башмаки.
- Ах, черт возьми! Как же быть - чужие башмаки? - Он поднял их -
один за другим - и внимательно осмотрел. На подошвах были дырки, и
каблуки сильно сношены. Но делать нечего - придется, может быть,
оставить владельцу этой рвани свои сапоги... Ну, а то, что лапа у
владельца этих опорок на добрый дюйм шире оставляемых ему сапог Квэпа?
Это уже не его забота!
Квэп нарочно опустился на кровать так, чтобы зазвенели пружины.
Полежав, осторожно поднялся, неслышно оделся и выглянул в коридор. На
цыпочках вошел в комнату девицы из Краславы. Стараясь говорить так,
чтобы его слышала только она, попросил ее пойти к озеру, взять лодку и
переехать на остров, а он тем временем забежит купить лимонаду и
печенья и придет на остров по мостику. Пусть она ждет его по ту
сторону острова, у берега, за лужком, что тянется под разрушенной
стеною замка.
Девушка слушала его удивленно.
- Мы будем кататься? - спросила она. - Разве не поздно?
Он усмехнулся:
- Я не из тех старичков, которые воображают, будто их общество
интересно молодым девицам. Не о катанье я подумал, а о том, что по ту
сторону острова есть интересная мыза. Мы успеем еще сегодня кое-что
посмотреть. Как раз удобно, когда перерабатывают вечерний удой. Не
придется завтра отвлекаться, и с утра - прямо в "Саркана Звайгзне".
По-видимому, ради того, чтобы увидеть что-нибудь новое, юная
бригадирша была готова ехать куда и когда угодно. Она тут же стала
собираться.
Из окна своей комнаты Квэп наблюдал, как девушка вышла из
гостиницы и потихоньку, не попадаясь никому на глаза, вышел за нею.
Издали он следил, как она шла парком. Мысленно выругал ее за то, что
задержалась в беседке.
Она сидела в задумчивости и с застывшей на лице улыбкой смотрела
на озеро. Вода просвечивала сквозь редеющие кроны деревьев. Осинки уже
опадали. Побурели дубы. Их листья - большие, плотные, словно
отштампованные из лакированной кожи, - почти не пропускали в беседку
света. Но на дорожках парка было еще достаточно светло, и несколько
мальчуганов с шуршаньем ворошили палый лист в поисках желудей.
Квэп с досадой смотрел на девушку: она напрасно теряла время.
Из-за нее он рисковал попасть на глаза этим глупым искателям желудей.
А план, еще час тому назад совсем смутный, теперь окончательно созрел
в его голове: если никто не будет знать об их встрече за островом, он
сегодня же отделается от девицы.
Наконец, девушка поднялась и, перепрыгивая через лужицы, побежала
к берегу. Квэп видел, как она взяла лодку и сильными взмахами весел
погнала ее по озеру. Тогда он быстрыми шагами направился к пешеходному
мостику, ведущему на остров. Пришлось несколько раз остановиться,
чтобы дать передышку сердцу, пока взбирался на холм. Квэп даже присел
на несколько минут под развалинами крепостной стены, чтобы успокоиться
и оглядеться. Внизу и вправо осталась певческая трибуна и скамьи для
слушателей. Сзади высилась серая груда рассыпающейся башенной кладки.
Впереди расстилался луг, за ним - вода.
Из-за поворота показалась лодка. Квэп спустился с холма,
оскользаясь на глинистой тропке, и помахал. Девушка повернула лодку и
подвела ее к берегу так, чтобы Квэпу было удобно сесть.
Осталось полчаса до полуночи - в полночь дверь гостиницы
запирается, - когда Квэп, держа в руках обувь, пробрался в свой номер.
Задернув штору, он внимательно под самой лампой рассмотрел бумаги
девушки: командировочное удостоверение, комсомольский билет и письмо.
Только теперь узнал, что ее звали Лайма Зведрис. Это же имя было
написано и на конверте, в котором лежало письмо. В верхнем углу листка
было пером нарисовано сердце, пронзенное стрелой. Квэп не стал читать
письма. Оно было ему неинтересно. Сложил все вместе и разорвал как мог
мелко. Взяв мыло и полотенце, пересек коридор и, побыв для виду
несколько минут в уборной, дважды спустил воду.
Свет в комнате Квэпа погас. Спал он, как всегда, на спине,
похрапывая и сопя. Но это не было признаком беспокойства. То, что он
совершил, было очень обыкновенно. Он даже не забыл набросить поверх
одеяла свое драповое пальто - добротное осеннее пальто из серой ткани
в рябинку. Квэп любил, чтобы ногам было тепло.
Телефонный вызов из С. застал Грачика за составлением придуманной
им таблицы, по которой он хотел проследить каждый ход в версии
виновности священника Шумана.
Через полтора часа Грачик был на месте. Оказалось, что в камышах,
окружающих остров у озера Бабите, был обнаружен утопленник в форме
офицера милиции. Отсутствовала фуражка и сапоги. Никаких бумаг на
утопленнике не было. Но матушка Альбина, осмотрев в морге утопленника,
дала неожиданное и очень важное показание: она утверждала, что снятая
с трупа рубашка была сделана ее руками.
Через пятнадцать минут Альбина сидела перед Грачиком.
- Я старый человек, - говорила она Грачику, - и сами понимаете:
хвастаться мне незачем. Да от такого хвастовства и проку нет. Кроме
беды, от вас ничего не дождешься. Пристанете - не отвяжешься, А вот
хотите верьте, хотите не верьте: рубашка моей работы. Со всем тщанием
и любовью для его преподобия, для нашего отца Петериса делала я это
бельецо.
- Для Шумана? - с трудом скрывая торжество, переспросил Грачик.
- Для него самого, для отца Петериса.
- Вы изготовили ему одну такую рубашку?
Альбина подумала, прежде чем ответить:
- Две... Верно, две. Одна в одну. Небось вторая-то и сейчас у
него, у отца Петериса.
Кроме того, по словам Альбины, "утопленник" был именно тем, кто
сопровождал Круминьша при "аресте".
На этот раз у Грачика не было оснований сомневаться в правдивости
свидетельницы. Он счел лишним продолжать возню с опознанием
утопленника: ведь сразу же после убийства Круминьша было установлено,
что ни один из органов республики не выдавал ордера на арест Круминьша
и ни один работник милиции или органов безопасности не командировался
на такую операцию. Этого, по мнению Грачика, было достаточно, чтобы
сказать: утопленник не имел никакого отношения к милиции и его форма -
"липа".
В кармане брюк утопленника был обнаружен чистый блокнот. Один из
листков блокнота был вырван. Сложенный вчетверо, он был заложен между
другими листками. Из того же кармана был извлечен небольшой карандаш -
то, что принято называть "огрызок".
Судебно-медицинский эксперт пришел к заключению, что смерть
лжемилиционера наступила раньше, чем он утонул. Основанием для этого
заключения служила огнестрельная рана в спину. Рана была сквозная, с
выходным отверстием в области грудной клетки.
- Скажите, - обратился Грачик к врачу, собиравшемуся уже уходить.
- Можно ли определить у покойника дефект ног, скажем, косолапость,
если он страдал ею при жизни.
- Конечно, положение стопы у трупа, если только ноги не были
деформированы механическим повреждением, сохраняется. А что вы имеете
в виду?
- Не имела ли правая стопа этого человека дефекта? Не была ли она
несколько повернута внутрь.
- А-а, понимаю, - сказал врач. - Вы хотите знать, как выглядел бы
след утопленника? Могу с уверенностью сказать: вполне нормально. Угол
разворота ступней у обеих ног совершенно одинаков.
- Благодарю вас, - не показывая своего разочарования, ответил
Грачик, и они расстались.
Грачик написал задание для экспертизы: 1. Можно ли определить род
и калибр оружия, из которого был совершен выстрел в спину утопленника,
и 2. Не написана ли предсмертная записка Круминьша на бумаге из
блокнота, найденного у утопленника, и карандашом, найденным у
утопленника.
Не легко было Грачику преодолеть желание немедленно произвести
обыск у отца Шумана. Если там действительно будет обнаружена вторая
рубашка работы Альбины и если священник не сможет опровергнуть, что и
эта принадлежит ему... Но... Но Шуман был духовным лицом. Следовало
считаться с тем, что и обыск, и показания самого Шумана могут и не
подтвердить слов Альбины. Это было возможно. Тогда враждебно
настроенные элементы не замедлят использовать действия следователя для
злопыхательства по адресу советских властей в целом. Следовало искать
другие пути, чтобы убедиться в принадлежности белья отцу Шуману. Лишь
после установления этого обстоятельства можно будет прижать его к
стене и заставить признаться, каким образом его вещи оказались на
утопленнике.
Грачик еще раз оглядел рубашку убитого и найденный отдельно от
трупа, в траве, форменный китель офицера милиции. Довольно ясные,
несмотря на пребывание в воде, следы крови на белье, привели Грачика к
мысли, что после получения пули в спину "милиционер" еще оставался на
ногах. Если бы он не находился в вертикальном положении, кровь не
могла бы оставить таких потеков вдоль рубахи и стечь к исподникам.
Прежде чем раненый упал, кровь текла сверху вниз.
Внимательно исследовав китель, Грачик сделал открытие,
заставившее его усомниться в правильности заключения медика. Ведь,
исследовав рану на спине и сличив ее с раной на груди, врач заявил,
что первая из них - входное, а вторая - выходное отверстие пули,
причинившей смерть. Грачик удостоверился в том, что пулевое отверстие
на спине кителя, то есть входное отверстие, имеет тот вид, какой и
должно иметь. В лупу были видны волокна ткани, расположенные в
направлении движения пули, то есть снаружи внутрь. Но нагрудное
повреждение кителя, соответствовавшее, по мнению врача, выходному
отверстию пули, при разглядывании его в лупу не имело по краям
волокон, направленных изнутри наружу, как следовало бы им
расположиться при проходе пули. Напротив того, волокна материи,
увлеченные пулей, были обращены снаружи внутрь. Словно пуля не вышла
здесь из тела убитого, а вошла в него извне. Кроме того, ворсинки
сукна, хорошо различимые в лупу, были опалены. Именно такой вид должно
было иметь входное отверстие при выстреле в упор, а вовсе не выходное.
Из всего этого Грачик делал вывод, что в убитого были сделаны два
выстрела, а не один. И ни одна из ран не была сквозной. Обе пули,
следовательно, должны были оставаться в теле убитого.
Это было важное открытие: ежели пули остались в теле, то можно
будет с точностью сказать, выпущены ли они из "браунинга", найденного
у Круминьша. По-видимому, два выстрела в лжемилиционера подтверждали
то, что было написано в посмертной записке Круминьша: "... двумя
выстрелами из его же оружия убил своего конвоира..." Если не удастся
доказать подложность записки, то появление "милиционера" с двумя
пулями в теле, полученными из "браунинга", может окончательно
опрокинуть версию убийства Круминьша. Но Грачик был настолько уверен в
своей правоте, что даже такая угроза не могла поколебать его хорошего
настроения.
Едучи в Ригу, Грачик чувствовал удовлетворение: один из
участников преступления - лжемилиционер - вышел из игры; вторым
важнейшим обстоятельством была принадлежность белья отцу Шуману.
Пожалуй, именно это-то открытие и вызывало в Грачике чувство
приподнятости, с которым он поглядывал теперь на мир. Ведь если
удастся установить соучастие Шумана в преступлении - первая веха на
пути к истине будет поставлена...
Если бы вагон электрического поезда не был почти пуст, Грачику не
избежать бы удивленных взглядов, когда он, заметив, что поезд
замедляет ход и услышав выкрикнутое кондуктором название станции
"Предайне", сорвался, словно ужаленный, и выскочил на платформу. Он
бежал к кассе, чтобы взять билет на ближайший поезд в обратном
направлении - прочь от Риги! Казалось, что осуществление идеи,
пришедшей ему, как внезапное и блестящее решение вопроса о
принадлежности отцу Шуману рубашек, не терпит отлагательства. Он
должен был предотвратить возможность сговора, предупреждения
священника или подстраивания Альбиной нужных ей обстоятельств, ежели
она сказала на допросе неправду. Недавнее доверие к старушке снова
сменилось смутным ощущением ее неискренности: матушка Альбина
перестала казаться такой простодушной болтуньей, какой, очевидно,
прикидывалась. Грачик в волнении мерил шагами платформу станции
Предайне. Сумерки быстро сгущались. Молодому человеку чудилось, что со
светом дня уходит и надежда на благополучное решение задачи с
рубашками (представлявшееся сейчас удачным и едва ли не единственным),
без необходимости прибегать к обыску у Шумана. Драгоценные минуты
бежали, казалось, неизмеримо быстрее, чем двигались ленивые стрелки
часов.
Наконец, Грачик был снова в С. Он разыскал женщину, стиравшею
белье Шумана, и объяснил ей, что она должна завтра же утром попытаться
получить в стирку недостающую рубашку работы Альбины. Но, к его
разочарованию, прачка заявила, что не может быть и речи о том, чтобы
ей стирать верхнее белье священника. Отец Шуман носит его туго
накрахмаленным, вымытым особым способом, каким нынче стирает в С.
только одна женщина - мать Альбина.
Почему же Альбина не сказала Грачику, что сама стирает священнику
сшитые ею рубашки? Не могла же она в таком случае не знать, есть ли у
пастора еще одна сорочка или нет? В таких условиях нечего было и
думать послать ее на разведку о белье.
Грачик вернулся на вокзал в С. и снова сел в поезд с настроением,
сильно испорченным по сравнению с прежним. Но под влиянием ли
обстановки в людном вагоне, такой же, в какой он так недавно испытывал
душевное удовлетворение, или, может быть, просто в силу молодости и
свойственного ему оптимизма - мало-помалу к нему постепенно
возвратилось состояние скорее удовлетворения, нежели подавленности.
Нарушенный строй размышлений восстановился, и Грачик обратился мыслями
к тому, что было до неприятности с Альбиной, что заставило его
испытать сегодня такую чудесную легкость. На протяжении всего пути до
прокуратуры он размышлял над вопросом о двух выстрелах в
лжемилиционера. Несомненно, первым был несмертельный выстрел в спину.
После этого раненый повернулся к стрелявшему и в борьбе получил вторую
пулю в грудь. Было бы нелепостью предположить, что первым был выстрел
спереди. Поскольку он был сделан в упор, почти невероятно, чтобы
раненый повернулся к стрелявшему спиной. Даже если борьба была
неравной, было бы безрассудством искать спасения в бегстве от близко
стоящего человека, вооруженного пистолетом. Это абсурд. Да, да:
выстрел в спину, короткий шок, раненый остается на ногах и еще имеет
силы повернуться лицом к нападающему в попытке защищаться. Тут,
получив вторую пулю в грудь, он валится на спину. На это указывают и
кровоподтеки прижизненного происхождения на затылке и на спине жертвы.
Мог ли Грачик допустить, что лжемилиционер убит Круминьшем? Такое
допущение стало бы для Грачика возможно, если б он уже не составил
себе ясной картины убийства самого Круминьша. Один из двух
преступников был лжемилиционер. Он оказался убитым после повешения
Круминьша. Было почти невероятно, чтобы главарь оставил своего
помощника с Круминьшем в положении, когда молодой человек легко
осуществил нападение на конвоира, отнял у него оружие и убил его двумя
выстрелами. Также нелепо допустить, что, убив одного из своих
противников, Круминьш не сделал попытки убить и второго. А о том, что
такой попытки не было сделано, свидетельствует отсутствие следов
борьбы на теле повешенного. Наконец, легко себе представить, что если
бы произошла борьба, если бы главарь бросился на помощь своему
раненому сообщнику, то едва ли бы он уже рассуждал, как покончить с
Круминьшем. Главарь наверняка сам стрелял бы в него или нанес бы ему
смертельный удар иным способом. Ничего этого, очевидно, не было.
Отсюда можно сделать вывод: убийство Круминьша совершено двумя
преступниками. После этого один из них - "милиционер" - был убит своим
сообщником. Дальше: какие основания могли быть у помощника, чтобы
отделаться от главаря? Вероятнее предположить, что именно главарь
решил отделаться от помощника, сделавшего свое дело и ставшего
ненужным свидетелем преступления. Следовательно, "утопленник" был
помощником главного действующего лица, а не руководителем диверсии. И
следовательно...
Однако вот и Рига. Проталкиваясь сквозь толпу, Грачик спешил к
выходу с вокзала: как можно скорее послать врача в С.!
Покончив с этим делом, он вернулся к прерванной работе над своей
таблицей. Прежде всего он поставил себе вопрос: можно ли построить
ясную версию преступления, обоснованную имеющимися данными? Грачик уже
знал, как опасно попасть в плен собственной поспешно построенной
гипотезе. Тогда все дальнейшее приобретает характер предвзятости и
ведет к трудно исправимым ошибкам. Очень тяжело бывает отказаться от
своих обобщений. Строить гипотезу - версию - следует не только на
основе собранных, но и тщательно изученных, исследованных фактических
данных. Даже при том условии, что гипотеза не больше, нежели
умозаключение следователя, она претендует на то, чтобы стать
достоверностью, то есть истиной. В их деле истина - не только плод
исследования, но и причина целой цепи действий следствия и суда. А эти
действия в свою очередь влекут за собой ответственные решения и
определяют судьбы живых людей. И, конечно, совершенно прав Кручинин,
когда говорит, что поговорка "семь раз отмерь - один раз отрежь" денно
и нощно должна быть перед глазами следователя. Практика розыска и
следствия знает много примеров, когда на заключительной стадии
делались открытия, переворачивавшие все прежние представления о данном
случае и сводившие на нет версию, казавшуюся окончательной, то есть
представлявшуюся найденной истиной - достоверностью.
Грачик добросовестно задал себе вопрос: может ли он быть уверен в
том, что в его руках уже все материальные доказательства, что ему
известны все обстоятельства, сопровождавшие исчезновение и смерть
Круминьша? Грачик должен был честно сознаться, что в его построении
имеются пробелы. Будучи заполнены, они могут послужить дополнительным
доказательством его правоты. Но на этих белых местах могут оказаться и
данные, которые сведут его предположения на нет. Он хорошо помнил
правило Кручинина: чтобы гипотеза стала истиной, нужно быть
беспощадным в возражениях самому себе. Одно сомнение, не принятое во
внимание, может разрушить все построение. Логика версии должна быть
железной.
"Итак, запишем!" - решил Грачик.
"1. "Браунинг", найденный в кармане Круминьша.
а) Пистолет лежит в кармане, а Круминьш вешается на сосне.
б) Круминьш пишет, что убил "конвоира" его же собственным
оружием...
Если это правда, то, значит, Круминьш стрелял из того же самого
"браунинга".
В какой мере это оправдывается обстоятельствами? Если считать,
что утопленник и есть "милиционер", убитый Круминьшем, то он
действительно убит двумя выстрелами. Самое важное: будут ли
соответствовать пули, извлеченные из тела "милиционера", "браунингу",
найденному у Круминьша.
Если сходство калибра оружия и пуль служит лишь родовым
признаком, не имеющим доказательственной силы, то баллистическая
экспертиза индивидуальных свойств данных пуль при их идентификации с
характером данного пистолета приобретает неопровержимую силу.
Но даже установление того, что пули, извлеченные из тела
утопленника, окажутся выпущенными из "браунинга", найденного в кармане
Круминьша, по мнению Грачика, вовсе не явится окончательным
доказательством того, что этот "милиционер" застрелен Круминьшем. Ведь
самый тщательный осмотр места происшествия, сразу произведенный
работниками рижского розыска, не обнаружил "убитого Круминьшем"
милиционера. Значит, милиционер сам дошел до реки, прежде чем утонуть
в ней. Можно ли допустить такую нелепость: человек убегает с двумя
пулями в теле, каждая из которых смертельна? Невероятно! Мог ли
Круминьш, застрелив своего конвоира, сбросить его тело в реку? Это
было единственной возможностью, мало, однако, вероятной:
первоначальный осмотр местности не обнаружил ни следов борьбы или
волочения трупа, ни следов крови от ран, полученных "милиционером".
2. Странгуляционная борозда на теле Круминьша.
а) След узла - синяк - на затылке и такой же второй след более
позднего происхождения.
Можно ли допустить, что Круминьш, после неудачной попытки
повеситься (и почему неудачной?), не снимая с себя петли, а только
передвинув узел набок, повесился еще раз? Допустить это может только
безумец.
б) Тот, кто повесил Круминьша, сделал это два раза? Нет. Значит,
Круминьш мог быть удушен петлей, накинутой сзади. После этого было
инсценировано самоубийство. Разве это чисто логическое заключение не
подтверждается и выводами судебно-медицинской экспертизы о времени
происхождения следов от удушения и подвешивания уже задушенного
Круминьша?
3. Снимок, представленный отцом Шуманом.
а) Фотография фальсифицирована. В фотографию, сделанную с
костела, вмонтировали три фигуры - Круминьша и его "сопровождающих".
Сработано лабораторно безупречно, но без учета ошибок в светотени. Не
так важно, кто выполнял заказ, как то, кто его давал.
б) Из монтажа следует, что Круминьш был "арестован" при других
обстоятельствах. Шел иной дорогой.
Священник - организатор покушения или соучастник.
в) Как попало на фотографию лицо преступника, отбывающего срок?
Какова связь этого преступника с изготовившими снимок и с кем именно:
с Шуманом?
4. Белье утопленника. Если принадлежность его отцу Шуману
подтвердится, то отпадут сомнения в его причастности к делу.
5. "Посмертное письмо" Круминьша.
а) Писано химическим карандашом, а не простым, имевшимся у
Круминьша.
б) Карандаш, которым писано письмо, сломался во время письма, а у
Круминьша не было перочинного ножа, чтобы его очинить.
Можно ли из этого сделать вывод, что письмо писано не им? Нет, с
уверенностью сказать это нельзя. Но допустить такую версию - более чем
основательную - можно.
6. Нож, найденный на берегу рыбаком.
а) Действительно ли он принадлежал Мартыну Залиню?
б) Нож иностранного происхождения может свидетельствовать о том,
что его владелец прибыл из-за границы. Но такого рода ножи могли быть
у многих людей в послевоенное время. Но за говорит то, что нож
совершенно новый, еще ни разу не бывший в точке, а между тем очень
острый. Едва ли в таком виде он мог сохраниться в течение десяти
послевоенных лет у кого-либо в СССР. Отсюда напрашивается вывод о
связи Залиня с убийцей и с лицом, писавшим "предсмертное" письмо.
Можно ли установить что-либо общее между острым ножом и
карандашом, которым писалось "письмо Круминьша"? Пожалуй, можно,
учитывая место смерти Круминьша и место утери ножа и сопоставив это
место и время с угоном рыбачьего челна неизвестным в "рябом" пальто.
в) Можно ли решить по огрызку химического карандаша, найденного у
утопленника, чинился ли именно данный карандаш этим ножом или нет?
Вопрос поставлен экспертизе, но, кажется, он трудно разрешим.
7. Бумага, на которой написано "предсмертное письмо" и бумага в
чистом блокноте "утопленника". Решение экспертизы: бумага одна и та
же, советского происхождения, но такой сорт вырабатывается только
одним предприятием в Одесской области. Какой вывод можно из этого
сделать? Пока только один: владелец блокнота или человек, давший его
утопленнику, приехал в Латвию из Одессы.
8. Веревка, на которой висел Круминьш, и веревка, удерживавшая
пистолет "вальтер" в колодце на хуторе, взята из одного и того же
куска... Доказательства: а) один сорт; б) совершенно одна и та же
степень изношенности и характер потертости в некоторых местах; в) пыль
и плесень, обнаруженные на некоторых частях обоих кусков, - одного
состава".
Это казалось Грачику существенным. Как говорят специалисты, при
принципиально одинаковой основе плесеней, как таковых, каждая из них
имеет свои особенности. Они зависят от вещества, на котором плесень
образуется, от условий образования и даже от состава воздуха, в
котором она образовалась. Очень редко химический анализ грибка,
составляющего основу плесени, бывает вполне сходен. Поскольку состав
плесени в данном случае совершенно один и тот же - на веревке
повешенного и на веревке, державшей "вальтер", - то и веревка эта
одного происхождения и хранилась до известного времени в одном и том
же месте.
"Заметим далее, - подумал он, - что разрез на веревке сделан
очень острым ножом (опять острый нож) наискось, так что концы среза в
точности подходят один к другому, вплоть до полного соответствия длины
отдельных прядей и направления волокон". Правильное решение вопроса о
происхождении веревки представлялось Грачику чрезвычайно важным. Эта
веревка служила ему как бы мостиком, ведущим от места преступления к
колодцу и к пистолету "вальтер". В такой же мере существенным звеном,
связующим в один комплекс преступление на берегу реки и колодец,
представлялись Грачику и узлы на веревке. Дойдя до этого места, Грачик
отложил перо и принялся расхаживать по комнате. Ведь при осмотре
пистолета "вальтер" на нем был обнаружен след влажного пальца,
оставленный до того, как пистолет был смазан. Этот след корродировал и
дал совершенно ясный отпечаток папилярных линий на гладкой поверхности
вороненой стали. Таким образом, если считать, что идентичность веревки
служит звеном, крепко связывающим смерть Круминьша с колодцем, то
можно считать, что и след пальца на пистолете принадлежит кому-то из
участников этого преступления или во всяком случае лицу, имевшему к
нему отношение. И, наконец, не является ли следующим звеном,
связывающим воедино колодец и мызу, дамский крем, которым смазан
пистолет. Тогда получается прочная цепь: место преступления - колодец
- мыза...
Эта последовательность показалась Грачику столь увлекательной,
что он даже прекратил хождение по комнате, словно сам удивленный
подобным открытием. Но поскольку вопрос о креме был только его
предположением, обоснованным лишь тем, что он видел на мызе тюбик с
кремом, Грачик поспешил отбросить эту версию. Она могла увлечь его на
путь неосновательных посылок. Взявшись за перо, он записал:
"9. Узел на петле у шеи повешенного и на веревке, укрепленной к
срубу колодца.
а) Экспертиза пришла к тому, что узел завязан на шее и на срубе
одним и тем же человеком, б) Оба узла вполне профессиональны. Они
сделаны очень точно, несмотря на свою относительную сложность, в) Узлы
относятся к категории так называемых немецких узлов. Эти узлы широко
применялись в гитлеровских лагерях при подвешивании заключенных во
время истязаний и казней.
Примечание: вследствие того, что я развязал узел на пакете,
опущенном в колодец, этот узел из обозрения исключен, так как
необдуманно "испорчен" мною.
10. Можно ли приобщить к делу пистолет, найденный в колодце? Это
важный вопрос..."
Записав все это, Грачик решил составить свою "шахматную" таблицу.
Она должна была ясно показать место каждого из обстоятельств дела,
каждой из улик, каждого вещественного доказательства и их связь друг с
другом. Взгляда на его таблицу будет достаточно, чтобы представить
себе ход дела, все решенные и нерешенные места. Заполняя пустые
квадраты новыми данными, можно будет...
Не отрывая взгляда от нарисованной им схемы, Грачик потянулся к
трубке зазвонившего телефона.
- Сурен? - послышалось в трубке, и Грачик сразу забыл о таблице,
о деле, обо всем на свете: то был голос Кручинина: - Как ты себя
чувствуешь, мой мальчик?.. Говорю из Москвы.
- Почему вы в Москве? Что случилось? - обеспокоено спросил
Грачик.
- Решил позвонить тебе с аэродрома, - со смешком ответил
Кручинин. - У меня еще полчаса до вылета в Ригу...
Забыв о том, что минуты на счету и что разговор могут прервать в
любой момент, Грачик радостно закричал:
- Это здорово! Это так здорово! В Ригу? Это замечательно!..
Значит, через полчаса вылетаете? Лаби? (Хорошо (по-латышски).)
- Что ты сказал?
- Лаби, говорю...
- Приготовь... - начал было Кручинин, но его перебил голос
телефонистки: "Три минуты! Разъединяю!"
Грачик сердито потряс трубку, словно можно было вытрясти из нее
голос Кручинина, потом посмотрел на свою неоконченную таблицу и
почесал карандашом за ухом.
- Так, - проговорил он вслух, глядя на часы, - полчаса до вылета,
три с половиной полет. ...Я успею ее закончить.
Он принялся за работу. Но тут же раздался новый звонок:
судебно-медицинский эксперт сообщал, что предположение Грачика
полностью оправдалось - оба отверстия на теле утопленника оказались
входными. При повторном исследовании найдены и обе пули. Вошедшая
через спину застряла между ребрами грудной клетки. Вошедшая спереди
осталась в позвонке.
- Из этого можно заключить, что смертельной была вторая? -
спросил Грачик.
- Безусловно, смертельной была вторая, полученная в грудь. -
После некоторого молчания врач добавил: - Мы вам очень признательны за
поправку. Из нее нам придется сделать кое-какие выводы для самих себя
на будущее... Мы вам очень благодарны.
Но Грачика теперь интересовала не благодарность врачей, а
происхождение пуль: из какого же пистолета они были выпущены? Из
"браунинга" или из "вальтера"?..
- Ну, скажу я тебе! - Кручинин прищурился, комически сморщив нос.
- И отдых же! - Кручинин безнадежно махнул рукой и принялся
рассказывать. Грачик сочувственно кивал головой, делая вид, будто
только и ждал, когда сможет узнать о непорядках на курортах. А тем
временем в его памяти обстоятельства дела Круминьша устанавливались в
том порядке, как он будет излагать их Кручинину; улики, версия,
доказательства...
Звонок телефона прервал беседу.
- Карлис Силс желает видеть товарища Грачика, - докладывал
дежурный. - Говорит: срочное дело... Просит принять...
Грачик хотел отложить прием, но Кручинин сказал:
- Если кто-либо пришел по интересующему тебя делу, не откладывай
приема. Придя в следующий раз, человек выложит тебе не то, что хотел
сказать прежде. Ты услышишь нечто более продуманное, а тебе это не
всегда кстати. Всегда принимай сразу - будь то свидетель или совсем
неизвестный тебе человек. Эдак ненароком ты можешь увидеть перед собой
и того, кого тщетно искал.
Пока Силс поднимался на второй этаж, Грачик наскоро рассказал
Кручинину о роли этого свидетеля в деле Круминьша.
- Видно, ты с ним уже подружился, - заметил Кручинин. - Я имею в
виду ту особую дружбу, какая необходима между следователем и хорошим
свидетелем. А я лучше уйду, чтобы его не стеснять.
Силс вошел своею тяжелой походкой, крепко ступая всею подошвой,
молчаливым кивком приветствовал Грачика. Прежде чем заговорить,
опасливо огляделся, чего раньше никогда не бывало.
- Что-нибудь случились? - как можно душевней спросил Грачик,
почувствовав, что сегодня этот человек нуждается в ободрении.
Усевшись к самому столу и налегши грудью на край так, что головы
их очутились почти рядом, Силс негромко сказал Грачику:
- Сегодня они мне звонили...
- Кто?
Силс взмахом руки показал за окно.
- Меня позвали к телефону... У хозяев нашей квартиры - телефон...
"Слушай хорошо, Силс: твоя Инга у нас в руках. Ты будешь исполнять
наши приказы, Силс. Понимаешь? Мы не церемонимся. Сначала она, потом
ты. Понял? Подумай хорошо. Мы еще дадим о себе знать". И все...
- Откуда звонили?
- Именно не знаю! - с раздражением ответил Силс.
- Так... И что же вы ответили?
- Бросил трубку на стол и побежал на улицу к автомату. Думал:
пускай станция заметит номер. - Силс махнул рукой. - Ну, а когда
вызвал станцию...
- Телефон был уже разъединен, - за него договорил Грачик.
- Нет, оказалось, что звонили из Риги.
- Значит, на переговорной можно узнать...
- Станция говорит: заказ поступил с автомата по разовому талону.
Поэтому ничего узнать нельзя. Я боюсь... Инга... - негромко проговорил
он, глядя мимо лица Грачика. Он весь поник и сразу постарел на десять
лет.
Грачик понимал, в какие клещи враги взяли Силса. И дело было не в
том, что они могли угрожать Силсу, - до него им будет трудно
дотянуться. Но Инга - она в их руках! Именно эта мера воздействия и
страшна. Силсу придется проявить большую стойкость. Сейчас ни о чем
другом с Силсом не стоило и говорить. Нужно его успокоить.
- Какие у вас основания бояться за Ингу больше, чем Круминьш
боялся за Вилму, - сказал Грачик. - Они в одинаковом положении, а ведь
с Вилмой ничего не случилось.
- А кто сказал, что с Вилмой все в порядке? Они не люди! Именно
не люди, - сжимая кулаки, охрипшим от волнения голосом проговорил
Силс. - Они хотят, чтобы мы ненавидели друг друга и все вокруг!
Именно, так же, как они сами ненавидят. Теперь у них ничего нет на
продажу - нет коров, нет гусей, нет молока, нет яиц. Так они хотят
получать деньги за нас. Если один брат здесь - другой там, если я
здесь, а Инга там!.. - Грачик видел, как вздрагивает тяжелый
подбородок Силса и продолжают нервно сжиматься и разжиматься кулаки. -
Надо помогать нашим людям там. Помогать!.. - Он твердил это слово,
глядя в глаза Грачику так, будто хотел загипнотизировать его своим
требованием. - Именно: помогать!.. - выкрикнул он, и слова полились у
него с неожиданной быстротой и горячностью. Это был уже не угрюмый
молчальник, не знающий, как сесть, куда девать от смущения руки.
Грачик несколько раз открывал рот, но ему не удавалось вставить ни
слова. Силс говорил, как человек, долго таивший большую-большую вину и
державший про себя большую-большую обиду многих людей. Он говорил о
прибалтах, о кавказцах, о жителях Средней Азии, о русских, доведенных
гитлеровской каторгой до того, что они забыли о верности родине. Да,
пусть эти люди виноваты, пусть на них - великий грех слабости,
проявленной там и тогда, где и когда устояли миллионы более достойных!
Но ведь может же случиться так, что история еще раз поставит перед
человечеством во весь рост роковой вопрос: "С кем ты?" Не легко себе
представить тогда душевное состояние тех, кто ради искупления своих
прошлых ошибок хотел бы быть на родине, в рядах ее сынов, а вместо
того...
Грачик смотрел на Силса, удивляясь его горячности, неожиданным
мыслям и даже словам - совсем другим, совсем не тем, какими тот обычно
оперировал. Словно мысли Силса, вскипев, подняли клапан, запиравший
их, и вырвались из-под контроля воли, державшей их в узде.
- Не думайте, что я уж так глуп и необразован! - воскликнул Силс.
- За то время, пока я здесь, я так много узнал, что стал другим
человеком, чем был. Наши там вовсе и не думают так, как думаю сейчас
я, потому что не знают того, что я знаю. Понимаете... - Он наморщил
лоб, подыскивая формулировку, но так и не найдя ее, сказал: - Только
отсюда можно им помочь... Именно отсюда...
Силс молча сидел несколько мгновений, потом поспешно схватил свою
лежавшую на столе шляпу и вскочил, намереваясь убежать. Грачик
предупредил это намерение, быстро обойдя стол и положив руку на плечо
Силса. Тот упал на стул и уронил голову на протянутые по столу руки.
На минуту у Грачика мелькнула было мысль "потерянный человек", но
ему тут же стало стыдно: разве у нас могут быть потерянные люди? Разве
самая система, в которой он работает, не направлена на спасение
всякого, кто считает себя потерянным или кажется потерянным Другим?
Помнится, Кручинин когда-то назвал людей своей профессии искателями
истины. А истина многообразна. Это не только правда в частном случае
криминала. Куда труднее найти истину, потерянную такими вот людьми,
как Силс, - десятками, сотнями тысяч заблудившихся людей. В старое
время хаживал термин "бывшие люди". Но ведь теперь их не должно быть.
Что значит "бывший" человек? Пока он дышит, пока его сознание
работает, - он человек. И нужно, чтобы он был человеком с большой
буквы. Так должно быть в советском обществе! Если капиталистическая
система человекоистребления считает кого-то "бывшим", предназначенным
на перемалывание в мясорубке войны, чья же обязанность вырвать его из
этой мясорубки? Хотя бы вот в таком деле, как это, разве не долг
Грачика искать пути к обеспечению гарантий, провозглашенных
Конституцией, и для тысяч людей, оторванных от родины, для людей,
ставших игрушкою враждебных сил?
Грачик ясно представлял себе, как он ставит такой вопрос
Кручинину и как тот в сомнении покачивает головой.
- Ты говоришь: они потеряли истину? - спросит учитель. -
Заблудились?
- Конечно, - ответит Грачик, - надо вывести их из тупика.
- Вывести из тупика... А они сами слепые?
- Заблудившиеся. - Но в голосе Грачика, вероятно, будет при этом
уже меньше уверенности.
- В трех соснах? - иронически проговорит Кручинин с таким видом,
будто Грачик сморозил глупость.
И тогда Грачик, потеряв терпение, крикнет:
- Да, да! И наша обязанность вывести их из этих трех сосен.
Показать им дорогу к свету, к счастью, к жизни, к покою в труде, в
условиях, гарантирующих им личную неприкосновенность, святость их
очага!
Тут Кручинин улыбнется, глаза его наверняка загорятся лаской,
одобряющей настойчивость ученика.
- Так ищи же ее, эту дорогу, Грач! Не уставай искать ее для себя
и для других, для тех, чьи права и чью безопасность советский народ
доверил твоему попечению. Ищи дорогу к истине, Грач...
Грачик поднял спокойный взгляд на растерянное лицо свидетеля:
- Успокойтесь, Силс. Все будет хорошо...
- Сколько ей лет, вашей... Инге? - спросил Грачик.
Силс поднял голову и некоторое время непонимающе глядел на
Грачика.
- Инге?
- Сколько ей лет и как она попала в число "перемещенных"? -
Грачик отложил в сторону перо и захлопнул папку, показывая этим, что
официальный разговор окончен и он не собирается ничего записывать.
- Мне было лет... одиннадцать, - в раздумье проговорил Силс. - А
Инге... - Он показал рукою на метр от пола и ласково улыбнулся: -
Именно такая маленькая...
Из рассказа Силса, не очень складного, но показавшегося Грачику
правдивым, он узнал, что дети - жители латышских хуторов - не понимали
до конца того, что происходило в стране начиная с осени 1941 года.
Конечно, война - это всегда война, но разобраться в понятии "враг"
детям было не так-то просто. Одни взрослые называли врагами
ворвавшихся в Латвию гитлеровцев; другие шепотом говорили, что главный
враг Латвии - свои же айзсарги, третьи считали врагами коммунистов.
Что могли тут понять девочки Вилма и Инга? Что могли понять даже такие
мальчики, как Круминьш и Силс? Многие дети были хорошим материалом для
генералов, епископов и политиканов из "Перконкруста", из "Даугавас
ванаги", из "Земниеков". В скаутской организации из податливого
детского материала можно было печь любой пирог, угодный
завоевателям-нацистам и своим собственным латышским фашистам. В
начинку пирога клали обман, клевету, ненависть ко всему, чему
присваивали кличку "красный". Красные идеи, красные люди, красная
литература, красные товары. Даже машины и хлеб могли быть красными,
если они приходили из СССР. Для детей чиновников и кулаков, для
купеческих сынков в этом не было ничего нового. Их развитие шло по
руслу, закономерному для ульманисовской Латвии. Для детей купцов и
чиновников, для детей мелкой буржуазии это было привычным делом, а
сыновей городских рабочих и батраков, попадавших подчас под жернова
этой мельницы, никто не спрашивал о впечатлениях. Их обламывали силой,
без пощады, их обрабатывали, пока не получалось то, что нужно
фашистам. Некому было поправить, дело. Детей отгораживали от тайного
влияния комсомольских организаций. Если детям не у кого было спросить,
что хорошо и что плохо, то они мало-помалу превращались в таких же
маленьких фашистов, как их сверстники из чиновничьих и офицерских
семей. Кому задашь вопрос, когда родители одних ушли с Советской
Армией, отцы других сидят в тюрьме, у третьих угнаны в Германию на
военные заводы? Так и шла обработка детей, превращавшихся в юношей.
Так шло превращение юношей в молодчиков, вполне пригодных для целей
гитлеризма... Ну, а там, когда их повезли в Германию...
Тут Силс поднял сжатый кулак, и в глазах его блеснул огонек такой
ненависти, какой Грачик в них еще не замечал. Грачик слушал
внимательно, перенесясь мыслью в область, далекую от сухой схемы
расследуемого дела, но являющуюся его основой и внутренней сущностью.
Он выслушал биографию Инги. Она была сходна с биографией обоих молодых
людей и мало отличалась от биографии ее сверстницы и подруги Вилмы
Клинт. Разница была в том, что Инга попала в гитлеровскую Германию с
родителями, вывезенными для работы на военных заводах, а Вилму
прихватили по ошибке, сочтя за сестру Инги. В действительности же
Вилма была сиротой: ее вдовый отец - коммунист - умер в лагере, и
девочку содержала старшая сестра Эрна, без вести пропавшая в начале
войны. После этого Вилму приютили родители Инги. Отец Инги тоже умер в
Германии, не дождавшись конца своего рабства. А когда кончилась война,
у матери Инги не хватило ума и сил, чтобы преодолеть сопротивление
эмигрантских руководителей, мешавших возвращению латышей на родину.
Она осталась в Германии и превратилась в "перемещенное лицо". На руках
у нее очутились и обе девочки - своя Инга и чужая Вилма. Тысячи таких,
как она, - мужчин и женщин, - с сыновьями и дочерьми жили в
"убежищах", предоставленных им оккупационными властями. Это были
бараки бывших гитлеровских концентрационных лагерей, где только
выломали третий ярус нар. Кое-где даже не снесли газовые камеры и
крематории. Их бетонные кубы так и стояли с дверьми, наскоро
перекрещенными досками, словно в ожидании времени, когда понадобятся
новым хозяевам. В одном из бараков такого "убежища" окончила свои дни
и мать Инги. С тех пор девушки прошли путь, обычный для
представительниц их поколения: полумонастырь-полушкола, созданная
эмигрантами, со всею антисоветской, антинародной дребеденью,
вколачивавшейся в головы учеников; с религиозным туманом, за которым
пряталась пропаганда ненависти ко всему здоровому, жизнелюбивому и
ясному, что живет в человеке. Следующая ступень - закрытый пансион. И
тут с девушками случилось то же, что с тысячами эмигрантских детей из
семей чиновников, торговцев, офицеров, - ими овладели иезуиты. Силс
мог передать Грачику только то, что знал об этом сам, - внешнюю
сторону дела. Но Кручинин не зря тратил время на развитие своего
любимца: история католической церкви и в особенности история Общества
Иисуса - самого непримиримого и последовательного врага всего
передового в мире - была хорошо знакома Грачику. За случаем с двумя
латышскими девушками он ясно представил себе общую картину. Если в
другие времена и в других странах и обстоятельствах бесплатность
обучения в иезуитских школах была лишь одной из приманок, стягивавших
туда тысячи учеников, то в условиях нищей, голодающей, лишенной всякой
перспективы эмиграции учебные заведения Ордена для многих были
единственным прибежищем. Под руководством латыша - иезуита отца Язепа
Ланцанса - Орден развил усиленную деятельность по уловлению душ
"перемещенных" прибалтов. Руководство Ордена решило использовать
смутное время для генеральной битвы протестантизму, традиционно
главенствовавшему в Латвии и Эстонии. На личном приеме у генерала
Ордена Язепу Ланцансу в случае победы было обещано положение
"провинциала Прибалтики". Оно было мифическим, так как в системе
Ордена не существовало прибалтийской провинции, где мог бы править
иезуитский наместник, но Ланцансу было важно положение в иерархии
Ордена. Ради него стоило потрудиться.
Отцы-иезуиты были искушенными ловцами душ. Многовековый опыт
Ордена учил тому, что надежнейшими путями к сердцам человеческим были
снисходительность и благотворение. Исповедальня иезуитов была самым
милостивым судилищем для грешников; духовника иезуита верующие
католики предпочитали любому другому священнику. Огромные богатства
Ордена позволяли ему создать сеть бесплатных приютов, школ, лицеев и
университетов. Четыре века активной борьбы за господство католической
церкви над миром и за фактическое господство Ордена над католической
церковью выработали тончайшую систему воспитания и своеобразной морали
наизнанку, не случайно ставшей синонимом гибкости и приспособления.
Кажется парадоксальным противоречие между активизацией народных масс,
под знаком которой проходит развитие общественных отношений на западе
Европы, и успехом такой несовременной, средневековой организации, как
Орден Иисуса. Но именно в том и заключается дело, что современный
американизм, проникающий в Европу сквозь все щели и лазейки, как якобы
"здоровое начало" современности, ничего общего не имеет с прежними
представлениями о нем, насажденными литературой пионерского периода.
Нынешние признаки этого "обновления" - лицемерная скользкость,
жестокость, ненависть человека к человеку - все самое лицемерное, что
могло предложить к услугам правящих классов любое учение от
религиозного фанатизма на одном полюсе до полного нигилизма на другом.
Иезуитизм - возвышенно моралистичен и увертливо практичен на одной
стороне листа и цинически аморален на другой. Тут и происходит стык
ультрасовременной империалистической системы захватов со змееподобным
проникновением отцов иезуитов. Иезуит XX века - это вполне
модернизированный и вооруженный всеми софизмами современности Тартюф.
Вполне логичным было то, что в лице Общества Иисуса оккупационные
власти в побежденной стране нашли именно то, что им было нужно для
овладения сознанием несчастных прибалтов, закинутых бурей войны на
чужбину. Главари новой балтийской эмиграции охотно предоставили
отцам-иезуитам дело первоначального воспитания антисоветской
подготовки молодых латышей. Инга и Вилма стали жертвами этой системы.
Девушек обучали языкам, умению держать себя в любой среде, одеваться
под любую общественную прослойку, говорить так, как говорят в разных
областях Латвии. Наконец, после курса в пансионе - переход в "высшую",
еще более закрытую школу. Девушек не обучали взрывать сооружения и
поджигать склады, но зато они обучались обращению с ядами, физическими
и моральными. Их натаскивали в подсовывании антисоветской клеветы.
Теми, кто плохо учился, завладевало общество "Энергия". Сопротивляться
- значило умереть с голода. Хотя Вилму Клинт исключили из школы за
неспособность к языкам, ее как хорошую стенографистку взяли в
канцелярию Совета, к епископу Ланцансу... Да, да, не куда-нибудь, а
именно туда - к святоше Ланцансу, о котором ходила молва, как о
любителе красивых молодых женщин.
Грачику показалось, что зубы Силса скрипнули, когда он произнес
это пояснение.
- И она теперь там? - спросил Грачик.
- Не знаю... После того, что мы с Круминьшем сделали, ее там,
наверное, уже нет...
При этих словах Силс кинул выразительный взгляд на Грачика.
Мысль Грачика, привыкшая идти не теми путями, какие лежали на
поверхности и неискушенному казались наиболее простыми, вернулась к
упоминавшемуся Силсом слову "иезуиты". Если духовная гвардия папизма
занимается вербовкой кадров для нового крестового похода и подготовкой
шпионско-диверсионных групп в специальных школах, то почему не
предположить, что он же, Орден Иисуса, продолжает действовать и тогда,
когда подготовленные им кадры выходят на операцию - засылаются в СССР?
Кому же и книги в руки, как не иезуитам, в деле разработки планов
антисоветских диверсий в стране, знакомой им по прежней деятельности,
- в Прибалтике? Кому же и палка в руки в командовании подпольными
группами, пытающимися найти опору в остатках антисоветских элементов в
советском тылу, как не капралам "роты" Христовой?..
Если сделать допущение об участии Ордена как организующего начала
в антисоветской диверсионной деятельности новой эмиграции, то, может
быть, и кончик нити, ведущей к разгадке убийства Круминьша, следует
искать по этой линии? Тогда еще более основательным станет
предположение об участии Шумана в преступлении. Быть может, и сам он,
этот Петерис Шуман, - иезуит?.. (Нужно будет проверить возможность
существования в Ордене тайного членства.) Во всяком случае, если пойти
по этой линии - римская курия во главе антисоветской деятельности
балтийских эмигрантов, - то следует проявить все возможные связи
зарубежных католиков с римско-католической иерархией внутри страны.
Наверно, эти связи известны советским органам безопасности...
Отталкиваясь от этих связей, может быть, удастся прийти и к тому
частному случаю участия римско-католического клира в диверсии с
Круминьшем, который интересует Грачика. Во всяком случае очень хорошо,
что Силс своим рассказом о вмешательстве иезуитов в жизнь молодых
поколений новой эмиграции толкнул мысль Грачика в этом направлении.
Расставаясь с Грачиком, Силс нерешительно проговорил:
- Я хотел бы спасти Ингу... Если бы я мог поехать туда.
При этом Силс скользнул быстрым испытующим взглядом по лицу
Грачика и осекся на полуслове.
- В том, что те скоты не станут стесняться и пустят в ход все
средства шантажа, чтобы склонить Силса к подчинению, можно не
сомневаться, - сказал Кручинин, оценивая рассказ Силса. - Не он
первый, не он последний, кого пытаются взять таким образом. У него
травма. Он думает, что на нем лежит несмываемое пятно.
- Мы просили его забыть об этом, - возразил Грачик.
- Собственная совесть человека в этом отношении куда более
строгий судья, чем людская память и даже чем закон, - ответил
Кручинин. - Но сейчас меня занимает, как они решились звонить Силсу?
Пытаются создать впечатление, будто у них тут существует целая
организация.
- Какой-нибудь недорезанный серый барон? Такие ни на что
серьезное не способны.
- Смотри, какой Аника-воин! За что ни хватишься - все ему
нипочем.
- К сожалению, не все, дорогой, - ответил Грачик. - Мне не
очень-то понравились слова Силса, будто лучше всего мог бы
парализовать их шантаж он сам, если бы очутился там, за рубежом.
Собственно, сказано это не было, но ясно подразумевалось.
- И ты хочешь договорить за него?
- Надо договаривать.
- Ты не рискуешь сделать еще один промах?
- "Еще один"?.. А у меня уже сделан промах?
- Ну, ну, не пугайся, хотя промах действительно большой.
- В чем же он?
Кручинин рассмеялся.
- В том, что преступник - нахальный и опытный - до сих пор имеет
возможность звонить по телефону и морочить голову Силсу и нам... Когда
они вышли на бульвар Райниса, фонари едва просвечивали сквозь деревья.
Густая листва сжимала свет до того, что стеклянные шары казались
мутно-голубыми пятнами. Цветочные клумбы угадывались лишь по
растекавшемуся вокруг них аромату. Миновав Стрелковый сад, друзья
обошли каменных баб фонтана и уселись на скамью у розария. Отдаленные
гудки автомобилей под сурдинку напоминали о городе. Когда глаза
Грачика привыкли к темноте, он увидел, что вокруг нет почти ни одной
свободной скамьи. Кручинин и Грачик тоже посидели в молчании.
Неподалеку журчал невидимый фонтан. Но так о многом нужно было
поговорить!
- Пройдемся, - предложил Грачик негромко, боясь спугнуть сидящих
у цветов.
Они пошли, и Грачик без предисловий вернулся к тому, на чем
прекратился их давешний разговор.
- Сейчас я доложу вам все данные - увидите сами, - сказал Грачик
и принялся последовательно излагать дело так, как оно ему
представлялось. Кручинин слушал со вниманием, ничем не выдавая своего
отношения к его умозаключениям.
- Итак, - в раздумье проговорил он, когда Грачик умолк, - налицо
у тебя восемь улик. - Он перечислил их, загибая пальцы. - Но из восьми
улик две или три не играют. Во всяком случае до тех пор, пока ты не
сможешь утверждать, что они изобличают того, кого ты, по-моему, хочешь
выдать за убийцу.
- Разве не ясно, что Шуман соучастник убийства?! - обеспокоено
спросил Грачик. - Вот где я охотно затяну узел доказательств на
толстой шее иезуита.
- Разумеется, если ты хочешь получить немного практики...
попробуй. - Поравнявшись с фонарем, Кручинин заглянул Грачику в лицо.
- Это полезно: довести гипотезу до конца, то есть до абсурда, чтобы
убедиться в ее несостоятельности. В нашем деле, как и во всяком
исследовании, необходимо дисциплинированное мышление. А дисциплина -
это последовательность и строгая критичность прежде всего.
- Вы считаете, что Шуман ни при чем?
- Прежде чем ответить на твой вопрос, я хочу выяснить одно
обстоятельство: может ли Шуман быть тайным членом Общества Иисуса?
- Я уже задавал себе этот вопрос, - уныло проговорил Грачик.
- Но не дал себе ответа...
- Я не нашел его в материалах, какие были под рукой.
- Обычная ваша манера молодежи - ограничиваться тем, что есть под
рукой, - с неудовольствием сказал Кручинин.
- Честное слово, я...
- "Искал, старался..." Знаю! Но ответа нет? Я тоже его не имею.
Но и не собираюсь искать его в документах, так как получаю это простым
логическим рассуждением: мы знаем из истории целый ряд примеров
тайного членства в Обществе Иисуса высокопоставленных особ,
политических деятелей. Если это было возможно для мирян, то почему не
может быть допустимо для духовных лиц, хотя бы формальные каноны и не
говорили об этом ни слова? Следовательно, и твой Шуман мог бы быть
иезуитом. Но если бы он им был, то та же логика и та же историческая
практика должны убедить нас в том, что почти исключена возможность его
непосредственного участия в убийстве Круминьша. Весь опыт истории
говорит, что иезуиты, организуя преступления и участвуя в них,
совершают их чужими руками и почти никогда своими собственными. Орден
не подставляет под удар своих членов. Отсюда заключаем: если допустить
возможность участия Шумана в деле Круминьша, а его появление с
подложным снимком это и есть соучастие, то тем самым отвергается его
принадлежность к Ордену иезуитов.
- Пожалуй, логично...
- Однако, - предостерегающе продолжал Кручинин, - из этого не
следует делать дальнейшего вывода о непричастности Ордена к делу.
Иезуиты могут стоять за спиной Шумана. Но это уже вопрос дальнейшего,
тех выводов, какие придется делать окончательно, в целом,
безотносительно к особе отца Петериса.
- Значит, - в нерешительности продолжал за него Грачик, - не
следует считать Петериса Шумана участником диверсии?
- Этого я еще не сказал. По-видимому, рыльце у него в пушку, раз
уж он явился к тебе с этой липовой фотографией. Но назвать его
убийцей?.. Ошибка в этом направлении может принести столько же вреда,
сколько пользы принес бы безошибочный удар. - Несколько шагов они
прошли в молчании, пока Кручинин закуривал. Потом он продолжал: - Но
даже с точки зрения права этого человека на личную
неприкосновенность?! Как ты посмотришь в глаза прокурору, если
окажется, что твоя рука легла на плечо Шумана ошибочно? Да что там
прокурор?! А твоя собственная совесть? Что она тебе скажет? - По
молчанию Грачика Кручинин видел, что тому не очень приятен этот
разговор, тем не менее тон его оставался по-прежнему строгим. - Тебе
скучновато выслушивать наставления, но какое же учение без уроков!
Поэтому повторю слова одного умного человека: наблюдение или
исследование открывает какой-нибудь новый факт, делающий невозможным
прежний способ объяснения фактов, относящихся к той же самой группе. С
этого момента возникает потребность в новых способах объяснения,
опирающегося сперва на ограниченное число фактов и наблюдений.
Дальнейший опытный материал приводит к очищению этих гипотез,
устраняет одни из них, исправляет другие, пока, наконец, не будет
установлено в чистом виде незыблемое правило. - Кручинин остановился
задумавшись. Огонек его папиросы ярко вспыхивал, когда Кручинин делал
затяжку. Едва заметный розовый отсвет огонька выхватывал из темноты
его профиль, наполовину затененный полями шляпы. Грачик стоял молча,
не решаясь нарушить ход его мысли. По существу говоря, Кручинин
повторил то, что Грачик не раз уже слышал и неоднократно обдумывал, но
в устах Кручинина всякое повторение звучало по-новому, и Грачик готов
был выслушивать его сколько угодно раз. - При наличии данных, какие ты
мне перечислял, - слышался из темноты голос Кручинина, - я не решился
бы даже на обыск у Шумана, а у тебя уже руки чешутся взять за шиворот
этого служителя бога.
- Сказать откровенно... - усмехнулся Грачик, - чешутся. Но не от
нетерпения, а от страха.
- Тебе знакомо это чувство?!
- Старею, Нил Платонович.
- Вот не знал, что проявление трусости связано с возрастом.
- Страх страху рознь... Боюсь, как бы поп не ускользнул. - Грачик
повертел пальцами, словно подыскивая выражение. - Этот страх из
разряда осторожности.
- Психолог! - иронически проговорил Кручинин. - А впрочем, что
такое действительно страх, как не высшая мера осторожности,
переходящая подчас в собственную противоположность? Значит, боишься,
что ускользнет?.. Незачем ему уходить! Преступник начнет тебя бояться
лишь в тот момент, когда увидит, что ты твердо ступил на его след,
идешь по следу и уже не сойдешь, пока его не настигнешь. А до тех пор
чего ж ему бояться? - Кручинин рассмеялся и покровительственно
похлопал Грачика по плечу.
- Э-э, Нил Платонович, дорогой, на этот раз позвольте уж мне
заподозрить вас в неискренности, - обиженно отозвался тот. - Вы же не
можете отрицать, что с самого того момента, как проходит психический
туман, под влиянием которого совершено преступление, нарушителем
овладевает страх?
- Когда я отучу тебя от дурной привычки говорить не подумавши! -
в сердцах воскликнул Кручинин. - Разве преступления совершаются только
в состоянии того, что ты назвал "психическим туманом", то есть в
аффекте?
Если бы освещение позволяло, Кручинин увидел бы, что лицо
молодого человека залилось густой краской.
- Mea culpa!.. - виновато пробормотал Грачик. - Однако разве мы
не знаем: независимо от того, есть уже у преступника основания
опасаться раскрытия его деяния или нет, он все равно боится. (Моя вина
(лат).)
- А как ты думаешь, у преступника не бывает обстоятельств, когда
ему нечего бояться?
- Вы пытаетесь поймать меня на слове, не замечая того, что
противоречите самому себе, - рассердился Грачик. - Нет, Нил
Платонович, это неудачный для вас случай! Я не считаю, что у
нарушителя когда-либо могут быть основания не бояться за свою шкуру.
Напротив, мне кажется, что в самый тот момент, когда он поднял руку на
ближнего, или на его собственность, или на достояние общественное, -
самый этот момент и является началом вполне основательного страха.
Пусть даже он не верит, что будет наказан законом. Тут - парадокс: чем
опытнее преступник, тем больше хитрости он вкладывает в совершаемое им
преступное деяние, но чем он опытнее, тем яснее сознает, что будет
наказан. Это создает своеобразное раздвоение. Вспомните, что по этому
поводу показывают самые старые преступники: они живут в постоянном
сознании собственной обреченности. Сознавая порочность своего пути,
они катятся под гору. Они уверены, что такова их "судьба".
- Ну, ну, ну! - Кручинин замахал руками. - Недостает, чтобы ты
повторял такие бредни. Дело не в "обреченности", а в том, что они не
могут удержаться, когда в воздухе пахнет "легкими тысячами". -
Кручинин обнял Грачика за плечи. - Займись-ка лучше этим вот
конкретным делом, чем совершать экскурсии в область психологии.
- Нет, уж позвольте еще несколько "неконкретных" слов! - с жаром
воскликнул Грачик. - Вы так привыкли видеть во мне начинающего, что не
можете всерьез отнестись к тому, что я по-настоящему продумал...
- Ну, ну! - ласково перебил Кручинин. - Если бы я не принимал
тебя всерьез, ты не был бы сейчас тут. Даже если никому не придет в
голову спрашивать с меня за твои ошибки, - я сам перед собой отвечу. А
это подчас страшнее, чем ответ перед судом других... Однако что ты там
еще придумал?
- Я ничего не придумал... - обиженно проговорил Грачик. - Просто
мне пришло в голову: в литературе есть блестящее доказательство тому,
что, чувствуя полную безнаказанность перед обществом, человек теряет и
чувство ответственности перед самим собой. Помните уэлсовского
Невидимку? Стоило ему вообразить себя неуловимым, как он пошел
крушить. Он уже был готов убивать этих "болванов" налево и направо. И
если бы доктор Кэмп согласился ему помогать - они наделали бы бед. А
почему? Только из-за уверенности Невидимки в безнаказанности.
- У Уэлса, батенька, дело обстоит куда сложнее: люди, в чьи руки
попадает власть без ответственности за последствия ее применения,
теряют контроль над собой. Из-за этого и бывает подчас, что они
начинают, не стесняясь в средствах, стремиться к власти над
обществом... Однако это сложная тема - не стоит в нее углубляться.
Довольно психологии.
- Вы же сами учили меня, что нельзя заниматься нашим делом без
такого рода экскурсов. Всякий советский работник, кое-что смыслящий в
марксизме, уже обладает качеством, какого не знала до нас следственная
наука и практика расследования.
- Это ты о себе - насчет марксизма? - усмехнувшись, спросил
Кручинин.
- Отчего же нет?! - В голосе Грачика звучало столько задора, что
у Кручинина не хватило духа произнести вертевшееся на языке
скептическое замечание. А Грачик, ободренный его молчанием, продолжал
с еще большим подъемом: - Я хорошо понимаю, что метод аналогий,
нравившийся мне когда-то, очень далек от совершенства. Это эмпирика.
Но согласитесь, что и эмпирика не всегда бесполезна, если она
основывается на богатом и хорошо проанализированном материале.
- Ты опять о "статистической криминалистике"?
- Непременно о ней! - убежденно сказал Грачик. - Но сразу же
оговариваюсь: во-первых, я отказываюсь от ошибочной мысли о
возможности применить то, что в геометрии называют способом наложения.
Вы были правы: сходство случаев может быть лишь очень случайным и
приблизительным, и выводы по аналогии остаются только вероятностью.
Отсюда правило: аналогиями надо пользоваться критически. Но зато я
перебрасываю тут мостик к тому, что, на мой взгляд, можно назвать
интегральным методом - методом объединения и аналитического перехода
от частностей к целому, то есть к следственной версии...
- Всякому овощу свое время и... свое место, - остановил его порыв
Кручинин. - Ты, на мой взгляд, пока еще не принадлежишь к числу тех,
кто опытом и знаниями приобрел качества, необходимые для такого рода
рассуждений.
- Благодарю за любезность!
- Я тебя люблю, Сурен, и потому предостерегаю.
- Благодарю вдвойне, - ответил Грачик и на ходу отвесил
церемонный поклон. К его удивлению, Кручинин остановился, не торопясь,
снял шляпу и ответил Грачику таким же театральным поклоном. Он провел
шляпой у самой земли, будто подметая уличную пыль воображаемыми
перьями.
- Хорошо, что тут темно и никто не видит двух сумасшедших,
вообразивших себя средневековыми кавалерами... А впрочем, в этих
щелях, - Кручинин повел вокруг себя шляпой, указывая на тесно
сгрудившиеся дома Старой Риги, - вероятно, так и здоровались.
- Вот уж не думаю, - сказал Грачик. - Немцы, наверно, попросту
хлопали друг друга по пузу, самодовольно отрыгивая пивом и кислой
капустой. Ну, а что касается латышей, то в те времена им было не до
церемоний и шляп с перьями они не носили.
Друзья остановились перед трехэтажным домиком в три окна,
прилепившимся к приземистой арке крепостных ворот. Искра, сорвавшаяся
с дуги пробежавшего где-то далеко трамвая, молнией осветила угрюмый
фасад. Маленькие оконца блеснули пыльными стеклами. От соседнего
амбара упала тень балки, высунувшейся до середины улицы. Блок придавал
ей вид виселицы, ожидающей приговоренного. Покачивающийся над
окованной дверью жестяной фонарь ржаво поскрипывал. Задрав голову,
Кручинин вглядывался в едва различимые контуры герба, вытесанного над
входом. Грачик потянул приятеля за рукав.
- Брр! - проговорил он, зябко поводя плечами. - В таких местах
становится неприютно даже в самую теплую ночь. Мраком тут веет от
каждого камня! Вероятно, люди здесь никогда не улыбались.
- Ого, еще как хохотали... эти остзейские Гаргантюа.
- Чему они могли радоваться? - Грачик пожал плечами. - Тому, что
еще несколько тюков товара втащили по этому блоку в свой амбар?
- Ты становишься иногда удивительно примитивен, старина, -
сокрушенно проворчал Кручинин. - Разве то, что изловили латышского
мужика, не снявшего шляпу перед герром бургомистром, и сегодня на
Ратушной площади всыпали ему двадцать горячих, не повод для смеха
герра фон Шнейдера? А разве не стоит порадоваться тому, что завтра
будут вешать батраков, поджегших усадьбу барона фон Икскюль? А уж
ежели рижскому купцу Мейеру удалось обсчитать данцигского купца
Моллера на тысчонку гульденов при продаже латышского льна, разве не
стоит тогда выпить лишний пяток кружек пива? - Кручинин покачал
головой. - Нет, братец, были причины для смеха...
Беседуя, друзья все дальше углублялись в узкие проходы Старого
города. Дома бюргеров и купцов, лавки, амбары и кирхи, остатки
крепостных стен и висящие над всем этим громады Пороховой башни и
развалины св. Петра - все темно, мрачно, холодно даже в эту светлую и
теплую осеннюю ночь.
- Когда я хожу по этим проулкам, - говорил Кручинин, - мне бывает
жаль, что я так мало знаю о происходившем тут. В те далекие времена,
когда я работал над вопросом о положении личности в уголовном
процессе, приходилось много возиться с архивами. Увлекала эволюция
обвинительного и розыскного процесса во Франции и в Германии. Сколько
сил я ухлопал на то, чтобы понять формальную ценность человеческой
личности и ее фактическую обесцененность в британском суде! А
германское право? Сколько хлопот мне доставляли его параграфы, в сто
раз более темные, чем эти каменные закоулки. Спрашивается: почему же я
ни разу не заглянул вот в эти края, где пытались установить свои
церковно-звериные законы ливонцы, где смешивались вердикты папского
Рима с проповедями Лютера, где Петр посадил свой дубище? Почему я ни
разу не заглянул в ратушу этого города, в его гильдейский дом, в суд,
в пыточную камеру? Ведь это же кусочек нашей истории. И как бы это мне
пригодилось.
- Все это так далеко, так чуждо, - небрежно сказал Грачик. - Едва
ли в тех мрачных веках можно почерпнуть что-либо практически полезное
для нашего времени, глядящего вперед.
Кручинин поморщился: вот она молодость! Ей ничего не нужно от
истории, она ничего не ищет в прошлом, потому что у нее почти нет
этого прошлого, она вся в будущем. Старость же любит копаться в
прошлом, потому что у нее уже почти нет будущего. А поколение
Кручинина? Разве у него ничего нет, кроме прошлого? Оно ищет в прошлом
аналогий с настоящим и уроков на будущее! Что до него самого, то в
силу своего профессионализма он и прошлое и будущее рассматривает с
позиции человека, ищущего примирения... Нет, не примирения между
личностью и законом, а их слияния! Людям легкой мысли хочется
доказать, будто у нас уже не существует противоречий между личностью и
обществом. На том основании, что социализм не может отрешиться от
интересов личности и социалистическое государство в существе своем
представляет прочную гарантию интересов личности, кое-кто хочет
поставить знак равенства между интересами индивидуума и коллектива.
Уверяют, будто борьба между этими категориями закончена раз и навсегда
и наступила гармония. Слух и зрение филистеров с готовностью
подхватывают лакированные версии политических концепций, господа
"ученые" становятся слепыми и глухими к практике строительства
социализма и оказываются, в противоречии с элементарными нормами
морали... Морали или права?.. - Кручинин осторожно коснулся рукава
шагавшего рядом с ним и погруженного в задумчивость Грачика:
- Как, по-твоему, Грач, из того, что бесспорна общность принципов
и предписаний нашего социалистического права и коммунистической
морали, можно сделать вывод, будто между нашей моралью и правом стоит
знак тождества?
Это было так далеко от сугубо практических предметов, о которых
думал сейчас Грачик, что он даже остановился, чтобы переварить вопрос.
- Конечно, нет, - ответил он, наконец, с уверенностью. -
Тождества тут нет вследствие самой природы этих двух надстроек.
- А в будущем как будет? Ведь ежели социализм, а уж тем более
коммунизм, - это полное слияние интересов личности и общества, то,
значит, сливаются воедино моральные нормы, руководящие поведением
личности, и правовые нормы, это поведение регулирующие. Ведь так?
- Так.
- Так в чем же разница?
- Экзамен? - Грачик рассмеялся. - Отвечаю по билету: моральные
нормы, в отличие от правовых, могут быть преступаемы личностью. Для
того и нужно право, чтобы сделать мораль непреступаемой. Может быть, я
все это не так выражаю, не теми терминами, какие привычны философскому
уху, но смысл кажется мне таким, - сказал Грачик и уверенно закончил:
- Смысл ясен!
- Не очень правда, но... продолжай, - Кручинин усмехнулся. Он с
интересом слушал рассуждения своего молодого друга, все дальше
уходившего от того, что Кручинину хотелось бы услышать. "Может быть, я
вижу разрыв там, где сердцу хочется чувствовать гармонию?" - думал
Кручинин. - "Попробую спуститься с философских высот на грешную,
попросту рассуждающую землю. Разве моим практическим назначением как
винтика в машине государственного правосудия не является завязывание
узелков, когда рвется веревочка, связывающая личность с обществом?
Нельзя ли рассматривать эти узелки как сочетание интересов личности с
интересами коллектива? Да и всегда ли моя роль сводится к связыванию
порвавшейся веревочки. Ведь часто моя собственная деятельность
заключается в развязывании узелков, ошибочно появившихся на веревочке,
связывающей личность с обществом? Социалистическое общество
заинтересовано в том, чтобы ни один нарушитель правовых, то есть в
существе своем моральных норм, не остался неразоблаченным. Но в такой
же мере социалистическое общество заинтересовано и в том, чтобы ни
один невинный человек не был ошибочно осужден, привлечен к
ответственности и просто опорочен. Борьба за это - не легка. Сложна и
ответственна роль суда в вынесении суждения. Но не сложней ли и
ответственней роль расследования? Его целью является собственно
разоблачение преступника, раскрытие перед судом всех сложных приемов и
средств нарушения, всех моральных и юридических его сторон..."
Кручинин поймал себя на том, что перестал слушать Грачика. Мысли
его текли по собственному руслу размышлений, никогда не надоедавших
потому, что он никогда не слышал на них удовлетворительного ответа.
30. КРУЧИНИН ВСПОМИНАЕТ ЯЛТУ И СИРЕНЬ
Грачик заметил, что Кручинин его плохо слушает, а может быть, и
вовсе не слышит, погруженный в свои мысли. Они шагали по камням,
истертым многими поколениями на протяжении многих веков. На смену
деревянным сабо тех, кто клал эти камни, пришли железные сапоги
тевтонов, их сменили башмаки немецких купцов, потом по ним застучали
ботфорты петровских полков, а там - снова подкованные каблуки немцев.
И так без конца, сменяя друг друга, шаркали по граниту ноги людей,
звенели шпоры и стучали конские копыта, колеса торговых фур и
артиллерийских орудий, пока, наконец, не вернулись сюда законные
хозяева - потомки тех, кто клал эти камни, - свободные сыны Латвийской
земли...
Незаметно для себя друзья вышли на набережную. Левый берег
Даугавы только угадывался. Над рекой повисла черная решетка
Болдемарского моста с заключенными в нее шарами фонарей. Минутами под
лучами автомобильных фар фермы моста делались невыносимо яркими, но
тут же снова превращались только в черное плетение над фонарями.
Вдали, словно нарочно подсвеченный, виднелся высокий рангоут
парусника. Вода под откосом набережной, под мостом и на всем
протяжении между мостом и парусником казалась обманчиво мертвой.
Только там, куда ложились узкие мечи света, можно было видеть ее
движение в порывах ветра, тянувшего с моря.
На паруснике отбили склянки. Грачик вздрогнул, словно разбуженный
ими, и взял под руку Кручинина, тоже в задумчивости склонившегося над
парапетом набережной.
- Пойдемте, какой ветрило! - но Кручинин отвел его руку и молча
отрицательно покачал головой. Он радовался ветру и подставлял ему
лицо. Чем быстрее было движение встречного воздуха, тем полнее
Кручинин чувствовал жизнь, свою силу и волю к движению. Ощущение жизни
вливалось в него через каждую пору, подвергавшуюся ударам ветра. А
если еще к ветру да дождь, чтобы его прохладные струи били в лицо,
заставляя зажмуриваться, ну, тогда уж совсем хорошо! Тогда руки в
карманы, шляпу на лоб и, наклонившись вперед, - навстречу холодному
душу!.. Чудесно!
Грачик потянул Кручинина за рукав.
- Глупый климат! - проговорил он, зябко поводя плечами. - Нужно
обладать вашим мужеством, чтобы предпочесть это царство капризов
погоды сочинскому солнцу, пальмам, морю...
- Мне не по нутру краски юга, - с напускной серьезностью ответил
Кручинин, - Ван-Гоговская резкость: синее-синее, зеленое-зеленое, а уж
желтое, так желтее не бывает. В Крыму - все вдвое мягче, и то, помню,
вхожу как-то летом во внутренний дворик какого-то дворца: стены
белые-белые, а на их фоне цветы - целая куртина, уж такие алые, что
кумач перед ними - муть.
- Разве плохо? - улыбнулся Грачик. - Для кисти - раздолье.
- Не люблю.
- Вы, может быть, и Сарьяна не любите?
- Не люблю, - решительно подтвердил Кручинин. - И нисколько не
стесняюсь сказать. А вот увидел я на выставке марину какого-то
латышского художника: сумерки на берегу Рижского залива. Такая
мягкость, такое... такое... - Кручинин покрутил рукой в воздухе, не
находя нужного слова, - одним словом, чертовски позавидовал художнику,
увидевшему эти светло-сиреневые сумерки, это удивительное небо.
Захотелось попробовать самому. Вот и примчался сюда. (Художников,
работающих на материале моря, называют маринистами, а их картины -
маринами.)
- А я-то думал... - начал было Грачик и осекся.
- Помнишь, на чем мы с тобой познакомились? - не обратив внимания
на его реплику, хоть и понял ее смысл, спросил Кручинин: - Это были
такие лирические березки, каких я, кажется, больше никогда не видел.
Мне так и не удалось передать девственную нежность этих тонких-тонких
гибких невест русского леса.
- А помните старый погост с покосившимися крестами?.. Я ведь так
и не поверил тогда, что вы написали все это по памяти...
Грачик развел было руки. Ему захотелось крепко обнять этого
человека - такого близкого, милого и такого неисчерпаемо богатого тем,
что крупицу за крупицей он отдает Грачику. Но молодой человек тут же
смутился своего порыва. А Кручинин, хоть и понял все, сделал вид,
будто ничего не видел.
Грачик, прощаясь, протянул руку. Не выпуская ее из своей,
Кручинин сказал:
- Тебе - на край света, а трамваи - уже бай-бай. Идем ко мне.
Идти на дальний край Задвинья было действительно довольно
тоскливо. Грачик готов был согласиться на предложение Кручинина, как
вдруг новая мысль мелькнула у него.
- И все-таки лучше ко мне. Вместе. А?
- Люблю ходить, - ответил Кручинин, - но не без смысла.
- У вас нет инструмента, - с сожалением проговорил Грачик.
- Тогда идет!.. Соблазнил!.. - оживляясь, воскликнул Кручинин и
широко зашагал по направлению к мосту. - Помню как-то, еще в далекие
гимназические времена, мы целой компанией готовились к выпускным
экзаменам. И экзамен-то предстоял глупейший: закон божий. Потому и
собрались целой группой, что никто в течение года не давал себе труда
заглядывать в катехизис Филарета, который предстояло сдать. А в
компании-то можно было кое-чего поднабраться: с миру по нитке... Так
вот, бродили по Ялте от скамейки к скамейке, присаживались, как
воробьи, и по очереди читали филаретово творчество. А на дворе -
крымское лето в расцвете: сирень, соловьи, море. Главное - море... -
При этих словах Кручинин обернулся и мечтательно посмотрел туда, где
за темной далью реки должно было быть море. Но моря не было видно.
Разве только по холодному дыханию можно было догадаться о его
близости. Кручинин вздохнул, отвернулся и, шагая в ногу с Грачиком,
продолжал: - Одним словом, не Филаретом бы тогда заниматься!..
Пробродили почти всю ночь; отоспаться бы перед экзаменом, а один
товарищ и предложи: "Айда ко мне - у меня инструмент..." И не то,
чтобы мы были особенными меломанами, но предложивший был настоящий
музыкант. Так под его рояль до утра и просидели. И никто носом не
клевал. Не знаю, что уж это: молодость, сирень или соловьи? А может
быть, море?.. Да, именно - море. Удивительная штука море!.. Вот седые
виски и столько всего в жизни перевидано... А говорю о пустяках, о
юношеских мечтаниях, какие держали нас в плену именно тогда, когда
была гимназия, сирень, море и этот самый чертов Филарет, и сильнее
всего - море. То, юношеское море...
- А разве оно не осталось тем же?
- Нет, теперь оно другое.
- Это же чистой воды кантианство! - удивленно воскликнул Грачик.
- Ну, ты, братец, не бросайся словами... Утверждаю: море стало
другим.
- Для вас!
- Конечно, для меня. Мое море стало другим, хоть оно и сохранило
прежнюю силу воздействия на меня, непреодолимую силу влечения к мечте.
- Мечты ваши стали другими, вот и море - другое, - тоном резонера
заключил Грачик.
- Мечты?.. Конечно, другие... - подумав, согласился Кручинин. - А
впрочем, кто их знает: может быть, и не очень другие? Все так же, как
прежде, тянет в даль, в неизведанное. Так же, как прежде... Разве что
даль - другая?.. - Промчавшаяся по улице колонна грузовиков заставила
Кручинина замолчать. Он болезненно поморщился: этот грохот так не шел
к его воспоминаниям и к тишине, охватившей сонный город. Но вот стук
машин исчез там, куда убегала лента дороги на Елгаву; растаяло синее
облако зловонного дыма. Ночь снова вошла в свои права. И словно его
никто не перебивал, Кручинин продолжал: - При виде моря меня, как в
юности, тянет в новые края, в невиданные страны. И чувствую я себя
снова молодым... Море, как очень хорошая, бодрая, заражающая
жизнелюбием книга...
- Что, что, а уж "заражающие" книги у нас стараются издавать.
- Крыловский квартет тоже старался играть, - сердито отпарировал
Кручинин. - Помню, уже в зрелые годы, сидя в промозглом Питере, я
читал Грина... Вот настоящий мечтатель! Меня сердит, когда гриниаду
называют гриновщиной. И я скорблю о том, что эта прекрасная традиция
мечтательного странствия в приключениях не имеет у нас своих
продолжателей. Кто-то назвал гриниаду литературой без флага, то есть
без адреса, без отчизны. Пошлая, приспособленческая ерунда! Флаг Грина
- мечта... Это целиком наш жанр, по-настоящему оптимистический,
зовущий юность в прекрасную даль открытий. Мечта о несбыточном? Разве
это плохо?.. Думаю вот о Грине, и вспоминается мне юность, и соловьи,
и сирень, и море... - Кручинин безнадежно махнул рукой. - И чего
ради?..
- Сирень, разумеется, уже отошла, - со смешком сказал Грачик. -
Соловьев уже нету. А молодость еще с вами.
Грачик ласково обнял его за плечи. Их каблуки дружно стучали по
гранитным брускам мостовой. Шли и молчали. Было уже совсем поздно,
когда приблизились к домику с палисадником. Выходившие на улицу окна
были темны, как и дома во всем Задвинье. Грачик толкнул калитку и
отомкнул дверь надворного флигелька - ветхого строения в три окошечка.
Стены его были заплетены хмелем, и хорошо различимый даже в ночном
сумраке табак стеною поднимался до подоконников. Единственной роскошью
скромной обстановки внутри дома был старый-престарый рояль
прямострунка.
Когда Грачик потянулся было к выключателю, Кручинин удержал его
руку.
- Сыграй, - он кивнул в сторону инструмента.
Грачик сел за рояль. Звук рояля был похож на вибрирующий звон
чембалы. Кручинин засмеялся, но тут же сказал взволнованно:
- Играй, играй! Это хорошо...
Он с ногами забрался в старое кресло в самом темном углу комнаты.
Прикрыл глаза ладонью и слушал, отдавшись спокойному течению
монотонных и в то же время таких разнообразных вариаций Баха. Да, да,
именно на этом старом рояле, в этом дряхлом домике на окраине седой
Риги и нужно было слушать такое. За Бахом - Моцарт и еще что-то столь
же старое, чего Кручинин не знал. Грачик остановился в
нерешительности, отыскивая в памяти еще что-нибудь подходящее, но
Кручинин тихо, с несвойственной ему неуверенностью, подсказал:
- Что-нибудь... наше...
Грачик снова положил пальцы на клавиши. Странно зазвучал Скрябин
в жалобных вибрациях старого инструмента...
- А ведь завтра - экзамен... - неожиданно проговорил Кручинин и
рассмеялся. - Правда, не Филарет, но нужно бы часок вздремнуть.
Грачик подошел к окошку и толкнул раму. Прохладный воздух
просочился сквозь стену табака, насыщаясь его ароматом, и наполнил
комнату. Над крышей соседнего дома розовело небо. В комнате быстро
посвежело, и казалось, этот свет съедал следы дрожания ветхих струн.
Друзья молча приготовили себе постели и так же в молчании
улеглись. Каждый со своими мыслями: у Кручинина больше о том, что
было, у Грачика - о том, что будет.
Вилму наказали тем, что вернули в пансион "Эдельвейс", откуда
прежде исключили за неспособность к языкам. Но теперь она была там не
слушательницей, а прислугой на самых грязных работах, какие только
могла придумать для нее начальница школы - мать Маргарита. Одним из
ограничений, наложенных на Вилму, было молчание: если Вилму поймают на
том, что она сказала кому-нибудь хотя бы слово, то мать Маргарита
найдет способ сделать ее немой. И Вилма знала, что эта женщина
действительно приведет свою угрозу в исполнение, хотя бы для этого
понадобилось изуродовать девушку, навсегда лишив способности говорить.
К тому же ни для кого из обитательниц пансиона "Эдельвейс" не было
тайной, что любую из них в любую минуту могут попросту "убрать". Этот
термин подразумевал "исчезновение" - столь же полное, сколь бесшумное.
И тем не менее, как ни тщательно оберегала своих пансионерок мать
Маргарита от сношений с внешним миром, связь с ним существовала. В
один прекрасный день пришло кое-что и для Вилмы от ее старшей сестры
Эрны, о судьбе которой уже несколько лет Вилма ничего не знала. Вскоре
после войны Эрна бесследно исчезла; прошел слух, будто ей удалось
вернуться на родину; потом передавали, что она подверглась
преследованию со стороны эмигрантских главарей. И, наконец, говорили,
что Эрну "убрали". Весточка от сестры обрадовала и вместе с тем
испугала Вилму. Опасность попасться на такой связи могла стоить Вилме
очень дорого. И все же она так же тайно ответила сестре. Тогда Эрна
сообщила, что бывшие борцы сопротивления намерены спасти Ингу Селга из
лап матери Маргариты и переправить в Советский Союз. Это было
необходимо сделать, чтобы угрозами Инге не могли шантажировать Карлиса
Силса. Вилму больно кололо то, что родная сестра, проявляя заботу об
Инге Селга, ни словом не обмолвилась о самой Вилме, подвергающейся
страданиям и унижениям в плену у матери Маргариты и могущей в любую
минуту оказаться "убранной". Почему Эрну не беспокоит судьба младшей
сестры?.. Несмотря на страстное желание самой вырваться из школы,
Вилма ответила: она сделает все что может для спасения подруги.
Вилма подозревала горничную Магду в том, что та приставлена к ней
матерью Маргаритой. Магда - забитое существо, взятое из лагеря "217"
Арвидом Квэпом для работы у него в доме. Когда Квэп куда-то исчез, она
появилась в школе и делала самую грязную работу, пока ее не заменили
Вилмой. Наблюдая Магду, Вилма пришла к заключению: одного того
обстоятельства, что с приходом "штрафной" Вилмы Магда избавилась от
тяжелых и унизительных работ, достаточно, чтобы сделать Магду
преданной матери Маргарите. Почти все пансионерки поглядывали с
опаской на эту сильную крестьянскую девушку со взглядом, всегда
опущенным к земле, с написанной на лице неприязнью, которую Магда,
казалось, питала ко всем окружающим. Когда однажды Магда заговорила с
нею, Вилма не разомкнула губ, боясь провокации. Ее охватил настоящий
ужас, когда в присутствии Магды Инга сказала Вилме:
- Сегодня ночью я приду к тебе. Нужно поговорить.
Ночью в каморку, где стояли койки Вилмы и Магды, пришла Инга и,
не таясь от Магды, рассказала Вилме о плане побега, выработанном на
воле Эрной и ее друзьями. Вилма слушала, словно это ее не касалось.
Она боялась Магды. Инга не добилась от нее ни "да", ни "нет" на свою
просьбу о помощи. На другой день, улучив момент, Вилма спросила Ингу:
- А Эрна знает, что ты открылась Магде?
- Нет.
- Ты сделала это сама?
- Да.
- Тогда Эрна должна переменить план: Магда нас предаст.
Вилма была уверена: мать Маргарита уже знает от Магды все. Каково
же было ее изумление, когда от Эрны пришел приказ: "слушаться Ингу".
Но даже доверие старшей сестре не могло убить сомнений Вилмы.
Понадобилось в одну из последующих ночей из уст самой Магды услышать
историю этой девушки, чтобы понять: она вовсе не тупа и далеко не так
забита, как хочет казаться. Далеко не всякая из обучающихся в школе
"Эдельвейс" искусству маскировки сумела бы так ловко и так долго
носить маску полуидиотки, не разгаданную ни Квэпом, ни хитрой и
властной Маргаритой.
- ...Ты понимаешь, - неторопливо шептала Магда в самое ухо
притаившейся Вилме, - если бы Квэпа не услали в Россию, я бы его
убила, - и заметив, как отпрянула от нее Вилма, повторила: - Да, я бы
его зарезала... Очень трудно сделать это, если думаешь, что ты одна,
что только тебе невмоготу все это... Но право, еще малость - и я бы
его зарезала! Ночью. В постели... И нож был готов. Я наточила его, как
бритву...
Вилма молчала, несмотря на то, что ей, как никому другому в этом
доме, хотелось говорить. Недаром ее учили в этой же самой школе не
доверять никому, не откровенничать ни с кем, не отпускать вожжи
сдержанности никогда. Только, если требовали условия конспирации,
следовало делать вид, будто доверяешь; откровенничать так, чтобы никто
не догадался о том, что ты скрываешь.
Ни одно из этих правил не подходило сейчас. Игра с Магдой была не
нужна. И тем не менее Вилма молчала. Слушала и молчали. Магде так и не
удалось развязать ей язык.
Епископ Ланцанс был не в духе. У него произошло неприятное
объяснение с редактором эмигрантского листка "Перконкруст",
отказавшегося выполнить директиву Центрального совета. Редактору
предложили опубликовать серию статей, якобы пересказывающих материалы
следствия по делу Круминьша, произведенного советскими властями в
Латвии. Предполагалось рассказать "перемещенным", как, якобы
застигнутые на месте подготовки антисоветской диверсии, Круминьш и
Силс были подвергнуты пытке и дали согласие подписать заявление о
добровольной явке советским властям. Затем в "Перконкрусте" должны
были быть описаны "ужасы" Советской Латвии, где "как каторжными
пришлось работать Круминьшу и Силсу. Наконец - последний акт драмы:
"предательский арест несчастного Круминьша". Ланцанс был удивлен и
раздосадован отказом редактора "участвовать в подобной гнусности".
Слово за слово - "этот субъект" договорился до того, что считает свою
прежнюю деятельность на ниве эмигрантской журналистики политической
ошибкой, покидает пост редактора "Перконкруста" и уезжает. Куда? Это
его личное дело! Он никому не обязан отчетом... Вот уж поистине
"громовой крест" загорелся в небе над головою епископа! Если редактор
займется разоблачениями, то солоно придется всем им - деятелям
Центрального совета. Нужно помешать редактору бежать. Хотя бы для
этого пришлось... убить!.. Такое решение нисколько не противоречило
морали Иисуса. Разумеется, в "Compendium'e"1 Эскобара, в "Medulla"2
Бузенбаума, или в "Нравственной теологии" Лаймана - альфе и омеге
иезуитского пробабилизма3 - не содержится прямого указания на
дозволенность убийства как такового. "Конституция" "роты" Христовой
так же христианна, как статут любого другого католического ордена. Но
в том-то и заключается превосходство Ордена, созданного Игнатием
Лойолой, над всеми другими отрядами воинствующего католицизма, что в
руках ученых толкователей нормы морали стали удобным орудием, вместо
того чтобы сковать волю последователей святого Игнатия. Пробабилизм,
лежащий в основе чисто талмудического толкования законов теологии и
правил человеческого общежития, поставил иезуитов не только выше
нетерпимости всех других религий, но и выше ригоризма4 всех других
отрядов римско-католической церкви. Искусное пользование тем, что
отцы-иезуиты назвали restitutio mentalis - тайной оговоркой и
двусмысленностью, позволяет члену ордена, не впадая в грех, совершать
такие дела, которые "невежественная толпа", может быть, и примет за
преступление, но в которых духовник-иезуит не обнаружит признаков
смертного греха. Убивая тех, кто стоял на пути к торжеству Ордена,
Ланцанс не боялся бремени греха. Торжество Ордена - это торжество
бога, ибо Орден - это папский Рим, папский Рим - это самая церковь, а
церковь - это сам бог. Таким образом, вопрос о законности или
незаконности убийства редактора, мысленно уже убитого Ланцансом, даже
не возникал. (1 "Сбережение", тут "Сокровищница" (лат). 2 Мозг или
сердце (лат). 3 Пробабилизм в понимании иезуитов - учение о том, что
от верующего можно не требовать духовного совершенства и следует
удовлетворяться компромиссом с догмами веры, позволяющим всегда найти
повод для прощения греха, если проступок не вредит самому Ордену. 4
Ригоризм - формальное, чрезмерно строгое отношение к чему-либо.)
Мысли епископа были заняты предстоящей поездкой в пансион
"Эдельвейс". Путешествие не вызывало радости. Уже одно название
"Эдельвейс" напоминало Ланцансу о неудаче его давнишнего проекта
учреждения женской роты Ордена. Провинциал Ордена понял мысль
Ланцанса: кто же, как не тайные иезуитки, мог рассчитывать на
проникновение в поры общества, недоступные мужской части Ордена?! Но
генерал Ордена отклонил проект. Принимая Ланцанса, отец-адмонитор от
имени генерала напомнил о том, что сам святой Игнатий отнес женщин к
категории, для которой навсегда закрыт доступ в ряды Ордена.
- Вы не могли забыть, брат мой, - внушительно сказал Ланцансу
отец-адмонитор, - кого, по наитию самого Иисуса - патрона нашего
общества, святой Игнатий признал непригодными для принятия в Общество:
всех, принадлежащих к еретическим общинам, осужденных за заблуждения в
вере, монахов-отшельников, слабоумных и, наконец, всех лиц, по тем или
иным причинам не могущих быть рукоположенными в сан священника, а
значит, и женщин.
Мнение иерархов было ясно: Орден должен был оставаться мужским,
несмотря на великие услуги, оказанные Лойоле его подругой Изабеллой
Розер. Игнатий был уже стар и относился с безразличием к прекрасному
полу, когда Изабелла пожелала создать женскую конгрегацию иезуиток.
Иначе вся история Ордена пошла бы другим путем, и могущество Общества
Иисуса превратилось бы в могущество державы - единственной и
неоспоримой.
Ланцанс счел за благо удержать про себя доводы в пользу допущения
женщин в Общество Иисуса. По его мнению, рано или поздно это должно
будет произойти.
Перспектива нынешней поездки в "Эдельвейс" не способствовала
хорошему расположению духа епископа. Новая идея, которую он, с
благословения Ордена, подал Центральному совету, принесла ему много
хлопот. По его мысли, школа шпионажа для прибалтов должна была
специализироваться на том, что монсиньор Беллини из папской коллегии
pro Russia удачно наименовал "Карой десницы господней"! Именно так и
следовало бы назвать это заведение: "Обитель десницы господней".
Обучающиеся в обители молодые люди, как ангелы-мстители, посланные
небом, должны обрушиваться в СССР на того, кто приговорен провидением,
то есть Центральным советом. ("Для России" (лат).)
Явившись в "Эдельвейс", будущую "Обитель десницы господней",
Ланцанс внимательно выслушал аттестацию каждой слушательницы из уст
матери Маргариты. После этого ему предстояло поговорить с отобранными
кандидатками в "персты господни". Беседовал он с глазу на глаз, как на
исповеди, уясняя себе пригодность девиц для работы террористок. Быть
разведчицей, пропагандисткой, даже диверсанткой - одно. Стать
террористкой, способной, не щадя себя, уничтожить указанную жертву, -
совсем другое дело.
Дошла очередь и до Инги Селга. Она была такою же окатоличенной
лютеранкой, как и многие юноши и девушки, оставшиеся на чужбине. Было
время, когда ей казалось совершенно безразличным называться лютеранкой
или католичкой. Кто в ее годы способен проанализировать собственные
данные, дать точную характеристику своему характеру и душевным
качествам! А случилось так, что в руках опытных ловцов душ - иезуитов,
Инга сделалась отличным материалом для лепки фанатичной приверженки
Рима. Такая молодежь из числа прибалтов особенно охотно использовалась
Орденом, в былое время не имевшем в Латвии иного распространения, как
только в пределах Латгалии, а в Эстонии и вовсе никакого. С этими
неофитами Римская курия связывала большие надежды, и не было ничего
удивительного, что Ланцанс уделял им особенное внимание.
Путь Инги в лоне католической церкви оказался нелегким. Прямая и
честная, податливая в своих симпатиях, но твердая в привычках, Инга
довольно скоро увидела пропасть, лежащую между словами и делами ее
духовных пастырей, и почувствовала свое нравственное превосходство над
теми, кто хотел ею руководить. Оставаясь верующей, она не питала к
духовным представителям католицизма ничего, кроме иронической
неприязни. Она никогда не выказывала признаков открытого бунта, но
была очень далека от слепого преклонения перед сутаной - в ней текла
кровь многих поколений предков лютеран. Чем больше она читала из
истории церкви и иезуитизма, тем критичней настраивался ее ум.
(Ius gladii - право меча, то есть право наказания смертью (лат).)
Инга сидела перед Ланцансом, выпрямившись на стуле посреди
кабинета матери Маргариты. Епископ восседал за столом начальницы, по
привычке перебирая нервными пальцами все, что на этом столе стояло и
лежало. В отличие от обычной манеры иезуитов разговаривать опустив
глаза, на этот раз взгляд епископа внимательно следил за выражением
лица Инги, он старался отгадать в ней те душевные свойства, какие
казались ему необходимыми для будущих "перстов господних". Церковное
воспитание должно было развить в девице религиозный фанатизм и
безоговорочную преданность церкви - это были качества положительные;
обладающих ими людей легче посылать на смерть, чем трезво мыслящих на
простой экзамен математики. Но если, не дай бог, прежние
воспитатели-иезуиты развили в ученице фанатизм до степени истерической
экзальтированности, то такая особа становилась уже непригодна -
холодность ума столь же необходима террористке, как пламенность
сердца.
В школьной характеристике Инги не было ничего, возбуждающего
сомнения в послушании и искренности. Но иезуит привык улавливать в
исповедальне малейшие интонации кающихся. Хотя Инга и сидела степенно,
отвечала точно и смело встречала взгляд епископа, - в ней было что-то,
что ему не нравилось. По характеристике пансиона девица Селга была
умна, хорошо воспринимала преподаваемые предметы - топографию, химию
отравляющих веществ, историю, географию и этнографию СССР; лучше
многих своих коллег владела языками, в том числе и русским; сдала
испытания по гимнастике и верховой езде и научилась хорошо стрелять. В
части предметов женского обихода: умела хорошо одеваться, держать себя
в любом обществе - от рабочей среды до аристократической; хорошо
готовила, шила; в случае надобности могла играть роль барыни или
прислуги и, наконец, была неплохо осведомлена в вопросах католической
теологии и философии.
Правила рекрутирования Общества Иисуса мало чем отличались от
тех, каким должна была отвечать Инга. Первая часть постановлений
святого Игнатия, касающаяся набора новых членов Ордена, ясно говорит,
что пригодными для приема в ряды иезуитов являются только лица вполне
здоровые, в полном расцвете сил, привлекательной наружности, с
хорошими умственными способностями, отлично владеющие своими
страстями, не склонные к мечтательности, не упрямые в своих мнениях. С
точки зрения этих привычных требований, Ланцанс оценивал теперь и
Ингу. И хотя ему нечего было возразить против характеристики,
полученной от матери Маргариты, он не мог заставить себя поставить
против имени "Селга" отметку о пригодности. Все в ее внешности и
повадках говорит, что девица не из тех, мимо кого мужчины проходят без
внимания. Стройная фигура, миловиднее лицо, пышные волосы и даже голос
приятного низкого тембра - решительно все должно нравиться.
Епископ так увлекся оценкой внешних качеств Инги, что на время
забыл о цели беседы. Впрочем, он тут же нашел себе и извинение в
несовершенстве мира, устроенного так, что женские чары нужны
разведчице так же, как смелость, хитрость и знание дела. И все же,
чтобы скрыть излишний интерес к ученице, Ланцанс развернул папку
личного досье Инги и стал его просматривать. И вдруг вскинул взгляд на
Ингу, словно ему стало ясно что-то, что мешало решению вопроса о ее
будущем.
- Дитя мое, - вкрадчиво проговорил он, - не было ли у вас
привязанности к молодому человеку по имени Силс?
Несмотря на выдержку, Инга не сумела скрыть тени испуга,
пробежавшей по ее лицу. Ланцанс понял, что память его не обманула:
девица представляла двойную ценность. Она сама была хорошим
материалом, и в ее лице организация держала залог верности Силса. Но
не опасно ли выпускать эту пару в одном направлении? Посылка, агента в
Советский Союз без заложника - рискованная игра... И все же нужно
испытать эту Ингу - она может оказаться хорошим товаром в том деле,
какое он затеял.
- Дитя мое, - сказал он, - знаете ли вы, что отцы церкви говорят
о возмездии рукою провидения тем, кто стоит на пути к нашему
торжеству?
- Вы хотите сказать: об убийстве? - глядя в лицо епископу,
спросила Инга.
- Вы не боитесь таких слов? - Ланцанс покачал головой. Пожалуй,
ему даже нравилась эта свобода, граничащая с цинизмом. Можно было
подумать, что Инга вошла в роль светской дамы, обсуждающей легкий
салонный предмет, а не вопрос о том, можно или нельзя убивать. -
Святой Игнатий, основатель Ордена, к которому я имею счастье
принадлежать, составляя наш устав, вписал туда строки, продиктованные
самим небом, - внушительно проговорил епископ. - Все, что там
содержится, - от бога. А там сказано: "разрешается прибегать к
убийству для защиты не только того, чем мы действительно владеем, но и
того, на что мы предъявили свое право или что надеемся приобрести".
- Прекрасная формула! - с неожиданной свободой сказала Инга. Она
закинула ногу на ногу, достала из кармана жакета папиросы и закурила.
Прищурившись, выпустила струйку дыма, делая вид, будто не замечает,
какое удивление, граничащее с испугом, расширило при этом глаза
епископа. А он смотрел на нее и смотрел не отрываясь: перед ним была
женщина зрелая, сильная, ироническая. - Но... - тут Инга сделала
паузу, разгоняя ладонью облако папиросного дыма, - впрочем, лучше я
скажу несколько слов потом... Может быть, в уставе есть еще столь же
полезные формулы?
- Есть еще правило в этом прекрасном уставе: "к убийству может
прибегать и тот, кому по завещанию предназначено наследство; он может
убить всякого, кто стал бы воздвигать препятствия на его пути к
приобретению наследства".
- Вполне ясно, - Инга снисходительным кивком подтвердила свои
слова и отбросила окурок. - Но какое отношение все это имеет к миссии,
возлагаемой на меня?
Епископ ответил ей теперь так, словно вел разговор равного с
равным:
- "Разрешается убивать для защиты того, чего у нас нет, но на что
мы предъявляем свои права и что надеемся получить". Разве тут мы не
можем говорить о свыше предназначенной нам Латвии и о тех, кто
препятствует нам в овладении нашим, - о коммунистах? ...В мудрости
своей, укрепленной самим господом Иисусом Христом, Общество
предусмотрело эти правила священной непримиримости к врагам Иисуса.
Это как бы завещание Лойолы - рыцаря пречистой невесты христовой
католической церкви.
Инга ответила медленным кивком головы и задумчиво, перебирая в
пальцах край платка, спросила:
- Завещание Лойолы?
- Конечно!
- Но разве завещание Лойолы - это закон церкви? - быстро поднимая
голову, резко спросила она. - Ведь католическая церковь - не орден
иезуитов, целая Советская страна - не один человек, на наследство
которого вы хотите наложить руку!
Взгляд Ланцанса выражал удивление, укоризну и испуг. По мере того
как говорила Инга, епископ все более сокрушенно покачивал головой. Он
не прерывал взволнованной речи Инги и дождался, пока она умолкла.
Тогда сказал:
- Вы многое усвоили из предметов, в которых женщины не часто
разбираются. Но господь еще не сподобил вас мудрости обобщения.
Отвергая слепое повиновение без рассуждения, вы желаете следовать
стезею философского осмысливания акций, возлагаемых на вас святою
церковью. Похвальное в зачатке своем намерение ваше может привести вас
к печальному тупику. - Ланцанс сложил руки и сплел пальцы, чтобы
лишить их возможности двигаться. Их беспокойное стремление непрестанно
что-либо перебирать мешало ему сосредоточиться. Инга обнаружила
свойства неожиданные, необычные и неудобные. Будь на месте Инги
другая, Ланцанс, вероятно, не стал бы терять время на убеждение. Он
просто отправил бы девицу прочь с приказом матери Маргарите сплавить
не пригодный для работы материал поскорее и подальше. И он сам не
понимал, правильно ли поступает, не делая этого. Но чем дальше он
слушал Ингу и смотрел на нее, тем яснее ощущал отсутствие в себе
свободы, с какою обращался с другими пансионерками. Было в Инге
что-то, что мешало ему спокойно смотреть на нее только как на
материал, пригодный или не пригодный для работы. Старательно подбирая
слова, он говорил: - С какой бы стороны мы ни подошли к вашей миссии,
высказывания отцов церкви и весь ее опыт убеждают нас: священное право
меча принадлежит святой церкви там, где речь идет об устранении
еретиков, отступников, врагов Христа. Тут неуместен даже исторический
спор о прямом или косвенном праве церкви на наказание смертью ее
врагов. Иезуиты кардиналы Тарквини, Мацелла, отец Либераторе, отец
Капелло - все они с очевидностью доказывают: церковь - самое
совершенное общество. А ведь никто не оспаривает у совершенного
общества права меча. И если вам, дитя мое, церковь вручает свой
карающий меч, то остается только принять его, склонившись перед ее
волей.
Ланцанс поднял сжатые руки, как будто держал в них тяжелый меч.
Он как бы призывал небеса в свидетели справедливости своих слов. Но
ему не удалось заразить таким же настроением Ингу. В ее глазах,
следивших за епископом сквозь густые ресницы полуопущенных век,
таилась усмешка. Без всякого признака почтения в голосе она сказала:
- Мудрость отцов церкви и поистине сверхъестественное провидение
святого Игнатия поразительны. Но... - Инга вынула новую сигарету и, не
обращая внимания на епископа, с нетерпением ожидавшего ее слов, стала
не спеша закуривать. Вытянув губы, задула спичку и повертела ее в
пальцах, прежде чем бросить в пепельницу. Она не спешила с
продолжением начатой фразы: - Но те, против кого мы должны
действовать, органы Советской власти, - не признают силы за
параграфами вашего устава. То, что в глазах церкви - "право меча", в
глазах коммунистов - разбой.
Ланцанс испуганно замахал рукой:
- Бог с вами, бог с вами, дитя мое!
- Оружие в руках диверсанта...
Он не дал ей продолжать:
- Вы не диверсант, а карающая десница святой нашей церкви, дочь
моя! - быстро заговорил Ланцанс со всею внушительностью, на какую был
способен. - Представьте себя в роли палача святой инквизиции, с мечом,
сверкающим священным гневом неба. Вы предстанете перед коммунистами,
как архангел Гавриил перед грешниками на страшном суде!
- А грешники, поймав архангела... - и тут, вместо того чтобы
договорить, Инга выразительным жестом показала, как ее вешают.
Несколько мгновений Ланцанс глядел на нее молча, словно
лишившийся дара речи. Потом поманил ее пальцем, предлагая
придвинуться, и едва слышно зашептал ей в лицо:
- Изобличение?.. Это может случиться. Ну и тогда в страдании вы
останетесь дочерью доньи Изабеллы... Не сомневаюсь: когда-нибудь эта
достойная подруга Лойолы будет причислена к лику святых. А рядом с нею
будете вы - в венце из терниев. И сияние нимба окружит чело ваше...
Однако... - Тут Ланцанс предостерегающе поднял палец: - первое из
правил святого Игнатия, "необходимых для согласия с церковью",
приложенных к его "упражнениям", гласит: "Отложив всякое собственное
суждение, иезуиты должны быть готовы душою к послушанию истинной
невесте господа нашего Иисуса Христа, нашей святой матери
Иерархической церкви..." Пусть каждый убедит себя, что тот, кто живет
в послушании, должен вверить себя руководству и управлению
божественного проведения через посредство начальников, как если бы был
мертвым телом, которое можно повернуть в любом направлении, или же
палкой старца, которая служит тому, кто ее держит в руке, в любом
месте и для любого употребления.
- "В любом месте и для любого употребления..." - задумчиво
повторила за ним Инга. - "Мертвое тело!.." И все по воле и слову
начальников?.. А ведь начальники - люди. Они могут ошибаться. И тогда
- мертвое тело уже не только аллегория. - Не договорив, она нервно
повела плечами словно от холода.
- Церковный начальник не может ошибаться! Он замещает бога и
обладает властью бога, так как представляет собой особу бога.
- Итак: стоит мне вообразить себя послушной палкой в вашей
неошибающейся деснице, и мне обеспечен венец мученицы и нимб святой, -
подводя итог, проговорила Инга. - Я счастлива... Счастлива и
польщена...
34. ПЛАН ЕПИСКОПА ЛАНЦАНСА
- Я необычайно польщена, - с усмешкой повторила Инга и вызывающе
пустила через ноздри струю папиросного дыма. На этот раз Ланцанс даже
не поморщился, как морщился всегда, отмахиваясь от дыма, пускаемого
Шилде. Можно было подумать, что и сам табачный дым стал для него иным,
будучи выпущен этой красивой девушкой. Перегнувшись через стол так,
что его лицо было теперь совсем близко от лица Инги, он вкрадчиво
сказал:
- Устав Ордена, дитя мое, дает нам в руки огромную силу для
опровержения всего, что враги захотели бы приписать вам. Да, вы убили,
да, вас застали на месте убийства. Но значит ли это, что вы
изобличены? Вы можете прибегнуть к клятве на святом евангелие в том,
что не убивали. Эскобар говорит: "Присяга вяжет совесть лишь в том
случае, когда присягающий действительно имеет про себя намерение
призвать бога в свидетели правдивости своего показания; если же он не
имеет такого намерения, и лишь уста его произносят формулу присяги, то
клятва не вяжет его". Вы произносите не те слова, какие мысленно
подразумеваете. Тем самым вы не вяжете себя присягой. Тогда душа ваша
чиста перед господом и церковью.
- Вероятно, советские власти будут больше стремиться узнать
истину, нежели сохранить чистоту моей совести перед богом, - возразила
Инга. - А человек слаб, и жажда жизни может заставить меня предпочесть
любое признание без околичностей и двумыслий лишь бы спасти свою
шкуру.
- К лицу ли вам, дочь моя, выражаться так грубо, - поморщился
епископ и спрятал руки под нараменник. Глухое раздражение овладевало
им по мере того, как он убеждался в том, что перед ним существо
неизмеримо более сильное и разумное, чем он ожидал встретить. Нужны ли
такие люди делу, которое ему поручено? Не слишком ли много мыслей в
голове девчонки? Если позволительно проводить параллели с уставом
Ордена, то он вправе спросить себя: видит ли он в ней бездумие палки,
которую можно вертеть в руках, подобна ли она безгласному трупу?.. Он
сказал строго и сухо: - Входя в эти стены, вы присягали. Если вам
прикажут в случае провала при исполнении вашего дела безгласно
умереть, вы будете обязаны это сделать.
- Разгрызть ампулу, вшитую в воротник блузки?.. - Инга состроила
гримасу отвращения. - Вы наверняка никогда не представляли себе так
реально, что значит слово "смерть", как я, думая об этой ампуле... Вы
напомнили мне о присяге?.. Вспомните и вы, отец мой, одно из поучений
вашего Ордена: "Когда люди говорят "я это сделаю", то подразумевают:
"Сделаю, если не переменю намерения"...
Ланцанс смешался. Его взгляд воровато бегал следом за его
собственными пальцами, снова принявшимися лихорадочно ощупывать один
за другим предметы на столе.
А Инга, не смущаясь его очевидной растерянностью, продолжала:
- Все мы, живущие здесь, знаем не хуже вас: оттуда, куда меня
посылают, возврата нет. Но это единственное, что мы твердо знаем.
Далеко не так ясно - ради чего нас приносят в жертву?
- Дитя мое, дитя мое! Откуда эти слова?
- От безнадежности, отец мой, - проговорила Инга сквозь стиснутые
зубы. Она опустила голову на руки и закрыла глаза.
- Что с вами, дочь моя? Откройтесь мне, - становясь вдруг
необычайно ласковым, вкрадчиво сказал епископ. Он сделал шаг к Инге и
положил руку ей на голову. Она вздрогнула от этого прикосновения и
движением головы сбросила его руку.
- Вера даст вам утешение, дочь моя, - произнес Ланцанс заученную
формулу, которую, как грош нищенкам, привык подавать всем приходившим
к нему за утешением. Инга смотрела широко открытыми глазами. В них был
теперь испуг и отвращение:
- Во что же я должна верить? - тихо спросила она.
- Господь наш Иисус Христос дал нам... - начал было Ланцанс, но
Инга перебила его:
- Да, да, да!.. Он дал так много и так мало досталось на нашу
долю!
Ланцансу показалось, что при этих словах слеза упала с подбородка
девушки на светлый шелк блузки, плотно обтягивавшей ее взволнованно
колышущуюся грудь. И стоило Ланцансу взглянуть на это пятнышко,
увидеть эту молодую упругую грудь под тканью блузки, как мысли его
пришли в беспорядок. Но он заставил их собраться и заговорил о вере в
бога, завещавшего людям терпение, терпение и еще раз терпение; в бога,
требующего от людей смиренного отрешения от собственной воли и
подчинения установленным им, богом, властям, ведущим слепое стадо
человечества к вечному блаженству, сквозь слезы и страдания грешного
мира. Но епископ говорил, а его взгляд неодолимо тянулся к шелку
блузки.
- А кто вам сказал, что мы слепы?! - с гневом крикнула ему Инга.
- Страдания и слезы, только вечные страдания и вечные слезы нам, а
кому же блаженство?..
- Дитя, дитя! - шептал епископ, в ужасе зажимая уши. - Страдания
завещал нам распятый. Жертва во имя всеобщего блага...
- Жертвы нам, а победа?.. Вам?..
- Все мы приносим жертвы на алтарь матери нашей - апостольской
церкви. Церковь - наше отечество.
- Вы положили достаточно сил, чтобы доказать, будто никакого
отечества у нас нет, - возразила Инга. - Латвия, существующая по ту
сторону кордона?
- Да, да, дочь моя, - обрадовался Ланцанс. - Не та Латвия, что
существует, а та, что будет существовать!.. Когда мы вернемся туда...
Инга разразилась искренним смехом.
- И вы верите, что это когда-нибудь произойдет? - спросила она. -
Что мы для этого делаем: сжигаем амбары колхозов, отравляем скот,
разрушаем какое-нибудь производство?
- Поэтому-то мы, с помощью божьей, и начинаем теперь нашу
"операцию кары господней".
- Убить нескольких советских людей? Так ведь это же пустяки, даже
если это и удастся... Это хорошо звучит на уроках в нашем пансионе, но
никуда не годится в серьезном разговоре. - Ингу раздражала
поучительная тупость, с которой Ланцанс повторял то, что она слышала
уже тысячу раз. Не таким она представляла себе духовного вождя
эмиграции, представителя великой державы Ватикана. И не такими
рисовались ей иезуиты, слова которых были синонимом тончайшего ума.
Этот человек был грубо примитивен. Он шел напролом. Он хотел одного:
сделать из нее убийцу. Грубо, отвратительно, хоть он и пытается
представить ей это как подвиг во славу всевышнего и на благо Латвии...
Какой Латвии?.. Его Латвии?.. Их Латвии?.. - После первого же выстрела
меня схватят! Значит, эффект - один убитый человек.
- Зависит от того, что за человек! - нерешительно заметил
Ланцанс.
- Там нет королей, чье исчезновение могло бы потрясти систему.
Нет камарильи, чье уничтожение переменило бы ход истории. Читая их
газеты, я пришла к выводу, что коммунистов не может смутить потеря
того или другого деятеля, будь он семи пядей во лбу. Они сами
выбрасывают из своих рядов авторитеты, ими же поднятые, если
убеждаются в ошибках этих авторитетов. И что же?.. Все остается на
своих местах, ничто не рушится, дела идут, жизнь продолжается.
Епископ глядел на Ингу исподлобья, словно слушал врага. Да, так
ему и начинало казаться: не враг ли перед ним? Кто вложил в ее уста
эти речи? Может ли быть, чтобы воспитанница его школы так далеко зашла
в своих рассуждениях? Уж не проник ли сюда какой-нибудь "враг",
разлагающий души порученных ему перстов "Десницы господней"?
Инга умолкла, задумчиво глядя в сторону. В наступившей тишине
было слышно ее учащенное дыхание. Она волновалась, собираясь с
мыслями, подыскивая слова для новой гневной тирады. Но уверенность в
себе уже вернулась и к епископу. Он остановил повелительным жестом
попытку Инги заговорить и упрямо повторил свое:
- Сам господь бог явлением святой девы Марии повелел нам:
беспощадная кара на головы врагов наших!
- Ну, это... - попыталась она перебить.
- Слушайте, дитя мое, когда я говорю! - гневно прикрикнул на нее
Ланцанс. - Лишь исторжение плевелов может спасти ниву от гибели во
тьме неверия и нищеты. Исторгнем их, и ростки уважения к устоям
вечного порядка, созданного господом по всей земле, зазеленеют на
нивах Латвии.
Ланцанс отыскивал в чертах Инги признаки смущения или протеста,
которые мог бы счесть за знак разложения и безнадежности. Тогда он не
сомневался бы в том, что ему остается без пощады исторгнуть и эту
паршивую овцу из вверенного ему стада. Это стадо было предназначено в
жертву. Никто не должен смущать покорность идущих на заклание.
Но черты девушки не выдавали ее настроений. Она не протестовала
ни словом, ни выражением лица, ни жестом. Словно воля, так бурно
проявившаяся только что в ее словах, погасла. Она проговорила:
- Не думайте, пожалуйста, что это бунт. Нет, нет!.. Мы, как
овчарки, натасканы на определенную работу и сделаем свое дело.
- Это прекрасные слова, дитя мое. А то вы меня не на шутку
испугали.
Он обошел стол и взял Ингу за руку. Рука была холодна и
безвольна. Несколько мгновений он молча держал ее холодные пальцы.
Потом сказал:
- Вы превзошли мои ожидания, Инга Селга... Когда осуществится
мечта о создании женской конгрегации нашего великого Ордена, вы будете
играть в ней не последнюю роль... Подругой святого Игнатия,
поднимавшей его на великий подвиг борьбы за Христа, была Изабелла.
Вы... - Он запнулся, словно голос ему изменил, но, глядя ей в глаза,
хрипло договорил: - Вы будете моей Изабеллой.
С этими словами он сделал попытку притянуть ее к себе и другой
рукой потянулся обнять ее. Но Инга сильным толчком отстранила его.
Несколько мгновений Ланцанс стоял ошеломленный и молчал. Тяжелое
дыхание и капли пота, выступившие на лбу, говорили об его волнении.
Потупясь, сказал:
- Мне противна мысль о том, что вы можете пасть жертвой. Вы не
созданы для одного выстрела, хотя бы предназначенного злейшему врагу.
- Он говорил, склонившись к затылку Инги, от которого поднимался едва
уловимый аромат. Этот аромат заставлял его ноздри нервно расширяться,
и его пальцы, держащие руку девушки, сжимались все крепче. По мере
того как Инга чувствовала это усиливающееся пожатие и учащенное
дыхание у себя над головой, веки ее сощуривались и губы сжимались все
крепче. Инга была довольна, что епископ не видит ее лица. Едва ли оно
понравилось бы ему теперь. А он, между тем, продолжал: - Что бы вы
сказали, если бы я предназначил вас для другой роли: вербовать на той
стороне молодых людей, способных делать то, чему здесь учили вас?
- Для террора? - спросила она и поглядела в глаза епископу. Ее
удивило выражение его глаз. Они лихорадочно блестели, рот был
приоткрыт, из него вырывалось учащенное дыхание. Но Ланцанс тут же
снова овладел собой, и его черты приняли обычное вялое выражение:
- Собирать мстителей и вкладывать в их руку оружие - такова ваша
миссия, - сказал он. - Они должны действовать за вас, а вы... вы
вернетесь сюда, вы... будете опять с нами!
Она молча повернулась и вышла, не посмотрев на него.
Несколько минут он продолжал стоять над столом, опершись на него
вздрагивающими пальцами. Потом пригласил мать Маргариту.
- Установите наблюдение за этой девицей, - сказал он.
- Вы имеете в виду Ингу Селга? - удивилась она.
- Вы знаете о ней меньше, чем нам нужно знать.
Мать Маргарита с удовольствием чмокнула пухлыми губами руку
епископа и бегло перекрестилась.
Она на цыпочках двинулась было к двери, когда вслед ей снова
послышался его негромкий голос:
- Мне нужна фотография... портрет этой Селги.
- Будет исполнено, отец мой, - почтительно ответила Маргарита и
остановилась. Ей показалось, что епископ хочет сказать еще что-то. И
действительно, странным голосом, в котором послышалась необычайная
хриплость, он проговорил:
- Вы достанете портрет... обнаженной Селга... - И поспешно
добавил: - Это нужно для дела...
- Совсем обнаженной? - деловито переспросила настоятельница,
стараясь заглянуть в лицо епископа.
Но он отвернулся и только молча пожал плечами, как если бы мать
Маргарита, задав свой вопрос, совершила неприличие.
- Давай-ка еще разок просмотрим твою версию с начала до конца, -
сказал Кручинин, входя к Грачику.
- Ваша критика совсем не так приятна, как вы думаете, - ответил
Грачик. - Лучше я сам поищу у себя уязвимые места.
- Знаю я твои поиски! Давай, давай, выкладывай! - говоря это,
Кручинин вовсе не думал так плохо о своем молодом друге. Но ему
казалось, что именно, на этом критическом этапе дела не следует его
хвалить, хотя многое в положениях Грачика было, по мнению Кручинина,
верно. Сурово повторил: - Выкладывай!
- Мой отправной пункт - намерение эмигрантов убийством Круминьша
и Силса устрашить тех, кто вздумал бы последовать их примеру, - без
всякого воодушевления начал Грачик. - Обстоятельства дела дают
основания отрицать самоубийство.
- И значит, есть физический убийца.
- Даже двое, - уверенно сказал Грачик. - Кто из двух выполнял
"черную" работу, я еще не понимаю. Один был главарем. Именно он и
явился "арестовать" Круминьша. Самозванный "офицер милиции" был
вооружен пистолетом.
- Погоди-ка. Ты говоришь: не знаю, кто выполнял черную работу? -
Кручинин выжидательно поглядел на Грачика. - Ведь узел петли
передвинули с затылка на бок, когда Круминьш был уже мертв. А веревка,
на которой пистолет опущен в колодец, завязана тем же узлом, тем же
человеком, который вязал узел там, в лесу, когда накидывали петлю... -
Кручинин покрутил бородку, прищурившись, поглядел на своего друга. -
Коль скоро оба узла завязаны одной рукой, то значит, это рука того,
кто остался жив, то есть не рука "утопленника". Ведь утопленник по
твоей версии застрелен не Круминьшем, а тем, кто спрятал пистолет в
колодец после того, как было совершено это второе убийство. Значит,
тот из соучастников, который остался жив, и есть двойной убийца.
Такова логика.
Грачик покачал головой.
- Откуда у вас уверенность, будто один и тот же человек и петлю
вывязывал и накидывал ее на шею Круминьшу? У меня такой уверенности
нет, напротив, если вожак - опытный преступник, то он поручил черную
работу подручному: сделав безотказную петлю, велел помощнику накинуть
ее на Круминьша. Именно ему, главарю, должно было принадлежать право
дать сигнал к убийству в более удобный момент. В протоколе осмотра
сказано: на запястье правой руки есть кровоподтек. Я считаю, что это
след руки, схватившей Круминьша за кисть, чтобы помешать сбросить
петлю. При этом, чисто психологически, насколько я изучил ухватки
палачей, это скорее в духе подобных типов.
- Постой, постой! - воскликнул заинтересованный Кручинин. - Ты
говоришь "палач"?
- Да, да, сейчас вы все поймете. - Грачик торопился выложить то,
что столько времени вынашивал втихомолку. - Если вы возьмете документы
о зверствах фашистов в Латвии, то найдете указание: в лагере под
Саласпилсом, в том его филиале, что был спрятан в лесу, работал палач.
Этот кретин любил ощущать трепет жертвы: он хватал ее за руку, когда
затягивалась петля.
- Ты хочешь сказать... - с удивлением спросил Кручинин, - что это
тот самый палач из "Саласпилса"?
- Если бы я мог это сказать с уверенностью?! - воскликнул Грачик.
- Однако!.. Ты довольно далеко забрался в своих предположениях.
- Вы же всегда хотели видеть в моих действиях логику. Вот она:
кого "Перконкруст" послал на такого рода диверсию? Кто же лучше палача
знает отвратительную профессию убийцы?
- Такая логика мне уже не нравится, - возразил Кручинин. - В ней
мало наблюдательности. Палач - плохой исполнитель для такого рода
диверсии. Прежде всего эти подлецы, как правило, трусы. А трус тут не
годится. Во-вторых, здесь нужен другого рода "опыт". Мясник и
браконьер - не одно и то же. Нет, нет, ты ошибся, Сурен.
Но Грачик не мог уйти от того, что оба узла определены экспертами
как узлы, применяемые при повешении; их можно было условно назвать
узлами палача. А слова Кручинина хотя и не меняли сути дела в полном
смысле, но ломали сложившуюся у Грачика картину преступления. Это
мешало ему досказать свою версию с прежней уверенностью.
- Дальше не стоит и говорить, - разочарованно сказал он, собирая
разложенные по столу бумаги.
- Наоборот, - ответил Кручинин, - именно теперь-то и поговорим.
Ты же знаешь, к чему приводит самонадеянность в практике
расследования: человек попадает в плен своих предположений и теряет
способность их критиковать... Я не хочу, чтобы ты слишком доверял
своей интуиции. Когда-то я сам относился к ней чересчур доверчиво.
Талант следователя без настойчивых поисков объективного решения ничего
не стоит. А ты, с твоим темпераментом, хватаешься за то, что тебя
пленило своей правдоподобностью, и оказываешься в состоянии
самогипноза. Одним словом, - решительно закончил Кручинин, -
запирай-ка это стойло Фемиды и - пошли!
- Как вы сказали? - удивился Грачик.
- Не могу же я назвать твою конуру спальней богини правосудия, -
рассмеялся Кручинин. - Это обидело бы и тебя, и ее. Хотя было бы в
известной мере справедливо. Старуха так привыкла жить с завязанными
глазами, что не раскрывает их даже тогда, когда мы сами снимаем с нее
повязку. Вообще, на мой взгляд, наша социалистическая Фемида должна
изображаться вполне зрячей. Эдакая классовая богиня без повязки на
глазах и с мечом вместо весов... Запирай-ка свой храм прав, - такой
термин тебя устраивает? - и айда ко мне! Настало время завтрака.
- Да, я зверски хочу чая, - согласился Грачик. Он знал слабость
своего друга к этому напитку, но, чтобы подразнить Кручинина, добавил:
- Забежим в кафе, выпьем по чашке.
Действительно, Кручинин не смог пропустить мимо ушей такое
святотатство. Он вычитал где-то китайский рецепт приготовления чая - а
кому же и знать его, как не китайцам! - и решил, что лишь напиток,
приготовленный таким образом, можно употреблять. Простой и
нетребовательный к пище, Кручинин утверждал теперь, что только люди с
примитивными вкусами могут не понимать, что всякий продукт требует
бережного приготовления по способам той страны, откуда он привезен.
Впрочем, дальше чая эта теория у него не шла. Внутренне посмеиваясь
над блажью учителя, Грачик отдавал ей внешние знаки уважения. Никогда
не будучи любителем чая и предпочитая ему стакан кавказского вина,
Грачик готов был с хорошо разыгранным наслаждением смаковать
содержимое чашки, сваренной Кручининым.
- Итак, давай внесем необходимые поправки в твой вариант, -
сказал Кручинин, когда закипела вода и маленький чайник с заваркой был
водружен на большой, чтобы пар хорошенько прогрел сухой чай. Кручинин
ходил вокруг чайника, время от времени приподнимая крышку и потягивая
носом аромат разогревающейся травы. - Что изменилось в твоих
предположениях?.. Видишь: вот теперь, когда я чувствую по запаху, что
заварка уже хорошо прогрелась, я наливаю чуть-чуть крутого кипятку. Но
совершенно крутого, бурлящего. Это важно!.. Вот так: чтобы только
покрыть заварку. Не больше... По-моему, в твоем варианте почти ничего
не изменилось. Давай, выкладывай его до конца.
- Право, мне сейчас не хочется, - отнекивался Грачик.
- Что мне твое "не хочется"!.. А теперь, когда чай уже заварился
в этом минимуме воды, я подливаю кипятку. Но опять-таки крутого и не
больше того, что нам с тобою нужно на две чашки... Рассказывай версию,
как она сформировалась. - Кручинин приподнял крышку чайника и,
полузакрыв глаза, потянул носом аромат напитка. Лицо его приняло
блаженное выражение. - Готов!
- Но раз моя версия полетела к чертям... - начал было Грачик.
- А кто тебе сказал, что она полетела? - перебил Кручинин. -
Ну-с, каков чаек... Итак?..
- Сначала вы сами сказали, что от моей версии ничего не осталось,
а теперь и я говорю: она ни на что не похожа.
Кручинин опустил чашку.
- А ты искал в своей версии "похожести" на что-то, уже имевшее
место?
Грачик задумался, прежде чем ответить. Он пытался по тону
Кручинина понять, будет ли ошибкой, если он сознается, что
действительно искал в прошлом что-то, что могло бы дать ему материал
для построения своей версии: конкретных, прямых аналогий настоящего
случая с примерами из практики. Но сам его замешательство было уже
ответом для Кручинина.
- Напрасно ты, Грач, стесняешься сознаться, что пробовал подойти
к делу эмпирически, - поспешил он успокоить растерявшегося Грачика. -
Умение отыскать аналогию важно там, где есть возможность установить
сходство приемов или когда речь идет о почерке преступника.
Установление modus'a operandi - важный этап розыска. Вспомни хотя бы
дело последнего медвежатника. - Он обхватил свою чашку ладонями,
словно пытаясь сохранить ее тепло. - Пей, Грач, пока чай не остыл...
Это напиток, требующий, чтобы его уважали... (Modus operandi (лат.)
"Способ действия", термин юридический.)
- А я люблю холодный чай... в жару это здорово! - сказал Грачик,
обрадовавшись перемене темы. Но Кручинин не дал себя отвлечь:
- Ты закономерно наткнулся на то, что у врачей называется
дифференциальной диагностикой. Подчас врач при постановке диагноза
сравнивает клиническую картину, имеющуюся у больного, с тем, что ему
известно из опыта, накопленного наукой, или подыскивает подходящую
клиническую картину в известном ему лично или вычитанном опыте. Он
производит сравнение. Этот метод аналогии довольно широко применяется
и носит название дифференциально-диагностического метода. В ходе его
врач оперирует гипотезами более или менее абстрактными, отыскивает в
них сходство с тем, что видит перед собой в данном случае. И, сблизив
две картины или отыскав в разных случаях прошлого подходящие признаки,
создает окончательную гипотезу для данного случая...
Грачик в сомнении покачал головой.
- Можно перерыть все дела за сто лет и не найти двух одинаковых
случаев.
- И тем не менее ты обернулся к прошлому, не мог не обернуться:
таково свойство нашего ума - искать подкрепление в опыте.
- Но только трусы боятся от него отрешиться, ежели видят, что
искать в нем нечего! - с горячностью воскликнул Грачик. - Мне некогда
копаться в истории. Дело не ждет.
- Преступник тоже! - вставил Кручинин.
- Да, я его вижу, как живого, этого презренного убийцу, - с жаром
воскликнул Грачик, потрясая кулаком. - Вижу, как он, отказавшись от
попытки вторичного покушения, чтобы добить Силса, размышляет о том,
долго ли ему тут сидеть сложа руки, пока товарищ Грачик соберется его
поймать! Да, да! - все более горячась, быстро говорил Грачик. Он давно
уже встал из-за стола и расхаживал по комнате, то и дело натыкаясь на
небрежно расставленные вещи. По-видимому, Кручинин не слишком утруждал
себя приведением комнаты в порядок - почти вся мебель стояла в самых
неожиданных местах. С досадой отстраняя чемодан, в третий раз
попадающийся ему под ноги, Грачик, взмахнув рукой, с комическим ужасом
воскликнул: - Мне кажется, что я даже слышу жалобы этого разбойника:
дорогие господа следователи, что же вы не идете меня забирать? Мне
ведь надоест вас ждать, я ведь могу стрельнуть в спину и Силсу!
Кручинин знал, что за вспышкой энергии у Грачика может
последовать упадок. Он не раз наблюдал, как малейший перебор в критике
приводил к тому, что Грачик готов был опустить руки. Кручинин чутко
улавливал этот переломный момент в его настроении. Когда кризис
приближался, Кручинин ослаблял удары своего скепсиса. Мягко и дружески
он возвращал Грачику уверенность в себе. Так и на этот раз,
подбадривая приунывшего было молодого человека, он мягко сказал:
- Подумай над тем, почему убит один Круминьш? Почему жив, здоров
и, кажется, не опасается преследования врагов Силc?
Несколько мгновений Грачик недоуменно глядел на Кручинина. И,
словно опасность для Силса уже где-то возникла и стала реальной после
напоминания Кручинина, Грачик посмотрел на часы и взялся за шляпу.
Кручинин, привыкший к экспансивности друга, всегда испытывавшего
необходимость немедленно реагировать на возникающие идеи, со
снисходительно-добродушной усмешкой сказал:
- Иди, иди, я сейчас буду у тебя.
После ухода Грачика он достал фартук, подпоясался и, весело
насвистывая, принялся за мытье чайной посуды. При полном пренебрежении
к порядку в комнате, начиная с письменного стола и кончая постелью,
Кручинин считал, что чайный сервиз должен быть тщательно вымыт после
каждого чаепития. Он прополоскал чайник сначала горячей, потом
холодной водой, понюхал его и, лишь убедившись в том, что там не
сохранилось запаха заварки, поставил в буфет.
Проделав все это, он не спеша надел шляпу и отправился в
прокуратуру, напевая под нос:
А наутро она вновь улыбалась
Перед окошком своим, как всегда,
Ее рука над цветком изливалась,
И из лейки лилася вода.
Блим-блом... Блим-блом...
36. ЛИСТОК ИЗ БЛОКНОТА УТОПЛЕННИКА
Память Кручинина и строгая логичность мышления давали ему
возможность продолжать давно прерванную беседу так, словно он только
что услышал последнюю реплику или сам закончил предыдущую фразу. Эта
манера не раз ставила в тупик его собеседников. Но Грачик нисколько не
удивился, когда Кручинин, входя к нему в кабинет, проговорил:
- Почему же Силс не боится? Мне хотелось бы получить ответ на
такой вопрос: сидели ли преступники здесь, у нас, давно, на
консервации или засланы недавно?
- Разве я не доложил вам, что один из них наверняка пришел оттуда
теперь? - спросил Грачик. - Ведь известно решение эмигрантского
"Совета" послать сюда человека. Один из двух он и есть. - Порывшись в
папке, Грачик протянул Кручинину листок: - Вот анализ графита из
карандаша, принадлежавшего "милиционеру".
- Ты еще раз хочешь уверить меня, что именно этим заграничным
карандашом написано письмо Круминьша и что карандаш был очинен
заграничным ножом, полученным тобою от рыбака. - Кручинин иронически
рассмеялся. - Скажите, пожалуйста, как милостив случай к товарищу
Грачьяну: сам подсовывает ему все, что нужно!
Не скрывая недовольства отповедью, Грачик то нервозно собирал
разложенные по столу бумаги и папки, то снова принимался их
раскладывать. Кручинин делал вид, будто не замечает волнения друга,
щурясь от дыма папиросы, стал просматривать последние листы дела.
Остановившись на одном из них, постучал пальцем по бумаге:
- Что это за пустой листок был вложен в блокнот утопленника. Ты
его исследовал?
- Он пуст.
- А ты сам проверил работу экспертов?
- Повторяю: листок пуст.
- Именно потому, что он чист, - раздраженно сказал Кручинин, - я
и спрашиваю: ты сделал все, что мог, чтобы узнать, что на нем
написано?
- Эксперты... - снова начал было Грачик, но Кручинин перебил,
протянув руку:
- Дай экспертизу!
Грачик послушно передал ему заключение лаборатории. Кручинин еще
раз внимательно просмотрел его: лаборатория действительно очень
добросовестно исследовала листок. Его снимали в ультрафиолетовых и в
инфракрасных лучах, был применен люминесцентный анализ. Заключение
экспертов гласило: ни перо, ни карандаш не касались этой бумаги.
- Верю, - сказал Кручинин, возвращая Грачику заключение
лаборатории. - Перо и карандаш его не касались. Ну, а как насчет
кисточки? Тогда никакое фотографирование не могло обнаружить
повреждений поверхностного слоя бумаги. Но микрорентгенограмма могла
бы кое-что дать: просвечивание рентгеном показывает хорошие
результаты, когда имеешь дело с симпатическими чернилами.
- Да, если для чернил использованы растворы солей тяжелых
металлов! Но... - начал было Грачик.
- Э, да ты, оказывается, в курсе дела! - сказал Кручинин тоном,
словно осведомленность Грачика была для него неожиданностью. Он всегда
радовался, обнаруживая знания Грачика в той или иной области, и не
сомневался в его любознательности, но подозревал, что восточная
неторопливость подчас мешает молодому человеку. Кручинин любил
сравнивать выводы следователя с диагнозом врача: от них зависела
судьба живого человека, а подчас и его жизнь. Разве судебная практика
знает мало ошибок, произошедших из-за недостаточной
квалифицированности следователей и судей. Только стремление к
глубокому познанию своей специальности могло обеспечить, по мнению
Кручинина, безошибочность в работе. Продолжая свою мысль об
исследовании листка, написанного симпатическими чернилами, Кручинин
сказал: - Ценным преимуществом рентгеновского способа является то, что
он не приводит к повреждению документов...
Грачик с видом послушного ученика прислушивался к тому, как
Кручинин подробно излагал способ этого исследования. И только дав
Кручинину выговориться, вынул из папки и положил перед учителем
протокол рентгенографической экспертизы.
- Что же ты молчал!? - проворчал Кручинин. - Кому была нужна моя
лекция?
- Я начал было про соли тяжелых металлов, а вы тут же перебили, -
отпарировал Грачик. - Ну, я из уважения к вам и замолчал.
- Ох, и лукав же ты, Грач! Откуда это в тебе?.. - И тут же с
упреком: - И все-таки я не убежден: эксперты не применили химического
анализа.
Грачика начало раздражать упрямство Кручинина, спорившего против
очевидности.
- Ведь листок пуст, пуст! - повторил Грачик. - Это же доказано
всеми способами, какие дает физика!
- Кроме физики, есть еще химия, - повторил свое Кручинин.
- Эдак рассуждая, - все больше раздражался Грачик, - пришлось бы
всеми способами анализа подвергнуть все чистые листки в этом блокноте?
- Ну, что же, я бы за это только похвалил.
- А может быть, и похвалите вот за это? - улыбаясь, спросил
Грачик и подал Кручинину мутный, но вполне достаточный для опознания
отпечаток двух пальцев.
- Откуда, чьи? - с интересом спросил Кручинин.
- С одного из листков того же блокнота - жировые следы.
Сохранились, несмотря на длительное пребывание в воде.
- И они принадлежат утопленному псевдо "милиционеру"? - Это
прозвучало в устах Кручинина скорее утверждением, нежели вопросом, и
тут Грачик смог, не скрывая своего торжества, сказать:
- Нет!
- Жаль.
- А я не жалею. Может быть, хорошо, что они оставлены не им.
Может быть, пригодятся, когда поймаем его сообщника.
- Вот теперь хвалю! - с удовольствием проговорил Кручинин. - Но
ты не торжествуй - рано! Возвращаемся к вырванному листку: упомянутый
в протоколе пустой листок вырван из блокнота и сложенный вчетверо
засунут между листками этого блокнота?
- Собирался человек разорвать его на четыре части, когда ему
понадобился маленький кусочек бумаги, да не разорвал, - беззаботно
ответил Грачик. - А я, по-вашему, должен ломать себе голову не только
над тем, почему листок пустой, но и еще над тем, почему он сложен и
почему именно вчетверо?
- И впрямь было бы важно получить ответы на все эти "почему". Ты
не допускаешь, что листок был вырван, на нем было что-то написано,
потом его сложили вчетверо, чтобы отправить по назначению, и в
ожидании отправки засунули в блокнот. А отправка-то и не состоялась.
Вот он и остался в блокноте. Возможно?
- Вы полагаете, что от лежания в воде с листка слезло написанное?
- Грачик удивленно посмотрел на Кручинина: неужели и тут он будет
возражать?
- Сдается мне, что написанное могло и остаться. Необходимо
узнать, что там написано. - Выведенный из себя упорством Кручинина,
Грачик ухватил было укрепленный в папке дела белый листок, но Кручинин
удержал его руку. - Умерь темперамент! Это - вещественное
доказательство - штука для следствия священная.
- Этот пустой листок?
- Писать можно не только чернилами и карандашом... А слюна на
что?
- И вы собираетесь прочесть написанное слюной после того, как
бумага пролежала столько времени в воде? Эх, учитель-джан! Листок
пуст, как эта вот стопка чистой бумаги.
- Если бы ты следовал моим советам и побольше читал относящегося
к твоей специальности, то мог бы вспомнить об упоминании Рейсса,
имеющем прямое отношение к данному случаю. Конечно, вам, молодежи,
может показаться немного смешным, что наш брат вспоминает такое
старье, как доклад профессора Рейсса...
- Да кто же он такой, ваш Рейсс?! - нетерпеливо перебил Грачик.
- Человек, к которому царское правительство отправило когда-то
группу своих чиновников для слушания лекций по криминалистике. Они
ездили аж в Швейцарию. Вон как!
Грачик расхохотался со всей беспечностью молодости.
- Это были времена наивные, детские. Что они знали по сравнению с
нами? Что они умели? Даже там в этой "аж Швейцарии"?
- А ты полагаешь излишним снять с полки то, зачем господа
следователи поехали в Лозанну? На эдаком величии далеко не уедешь! Я
не без интереса прочел когда-то лекции этого швейцарского профессора.
И, спасибо, сейчас вспомнил: по словам Рейсса какой-то японский химик
восстанавливал написанное слюной после длительного пребывания бумаги в
воде. Стоит напомнить об этом специалистам. Пусть не побрезгуют снять
с полки Рейсса. Давай-ка, осторожненько вынимай листок из дела. А я
тем временем подготовлю за тебя письмо экспертам. Давай, давай!
Грачику стало неловко: разве он не обязан знать все, что
относится к его работе или хотя бы косвенно с ней соприкасается?!. Но
ведь эдак, ежели попадется дело какого-нибудь астронома, то Кручинин
потребует, чтобы он занимался астрономией! Бесполезно сейчас спорить,
пытаясь доказать Кручинину, что Грачик не был обязан вспомнить о химии
и привлечь к делу химиков. "Был обязан, был обязан!.." - начнет
твердить Кручинин. - "Раз существует на свете химия, - значит, был
обязан".
Между тем Кручинин, подняв лист с готовым заданием экспертизе,
помахал им в воздухе.
- Как ты думаешь, - сказал он, обращаясь к Грачику, - не слишком
ли рано Советская власть отпустила меня на покой? Разумеется, по всем
статьям закона я имею право на отставку. Но, видно, люди слеплены
все-таки не из одного теста. Иной, ухватившись за возвещенное
конституцией право на обеспеченную старость, с радостью отправляется
сажать гортензии, хотя ему до старости-то еще жить да жить. Есть у нас
такие. И силы у него на двоих, и здоровьишко не такое уж инвалидное, и
даже как будто подлинная любовь к делу в нем жила. А вот поди:
уцепился за статью закона и айда на лоно природы изображать Обломова
советской системы! Ему и в ум нейдет, что в это же время миллионы
таких, как он, имеющих такое же право на пенсию по букве закона и в
десять раз больше прав по здоровью, не находят в себе сил сидеть сложа
руки. Ведь ежели поглядеть, то в большей части наших людей горит
какой-то удивительный огонь непокорства отдыху. У меня не хватает
слов, чтобы это выразить: сдается мне, будто наши люди боятся не
успеть сделать все, что могут, для построения того удивительного, что
строим. И закон-то говорит: имеешь право идти на покой; и эскулапы -
про сердце, и про печенку, и про прочее такое. А он все никак! Еще
немножко, да вот еще немножко! Хотя бы для того, чтобы показать вашему
брату, молодым, как нужно работать... Точнее говоря: как можно
работать, хоть вовсе и не обязан.
- Вы что же хотите сказать, - несколько иронически усмехнулся
Грачик, - что для многих у нас - уже как при коммунизме: труд -
удовольствие.
- Не строй из себя осла, Грач! - рассердился Кручинин. -
"Удовольствие" - слишком мелкое словцо, чтобы прилагать его в том
смысле, какой я имею в виду. "Радость" - вот настоящее слово,
наслаждение быть полезным, пока можешь; сознавать, что положенный
тобою камень идет в дело, впаивается в фундамент... Взять, к примеру,
того офицера, безрукого, что решил вести колхоз и вытащил его едва ли
не на первое место в стране? Что это, обязанность? Нет! Уж кто-кто,
как не тот инвалид имеет право на покой и благодарность народа. Ан
нет! Не покой владеет человеком, жадность: двигать, двигать дело
вперед, пока сердце бьется! По сравнению с ним я совсем маленький
человек: руки, ноги на месте, и никакой я не герой. Вовсе не к лицу
мне отдыхать, когда вокруг - дым коромыслом. Какой уж тут отдых на ум
пойдет?! Да, Грач, рановато я в отставку ушел! По всему видать. Мог бы
от меня еще кой-какой толк быть. Хотя бы вот с этим делом: не
подвернись тут я - не вспомнил бы и ты про химию и остался бы листок
неисследованным, а?
Однако Грачик вовсе не собирался сдаваться:
- Терпение, конечно, великое качество во всякой работе, - сказал
он, - но я знаю одного друга, который иногда путает терпение с
медлительностью.
- Медлительность, говоришь?.. Что ж, и она, бывает, приносит
победу. Поспешность-то, братец, как говорит наш народ, хороша лишь при
ловле блох. Вот, в древности был полководец, стяжавший себе прозвище
"кунктатор". А пожалуй, один только Цезарь, да разве еще Ганнибал со
своими слонами могут похвастаться большим числом побед, чем этот
господин "медлитель". Поспешишь - людей насмешишь! (Медлитель (лат).)
- Быть может, вы сами это письмо и подпишите? - спросил Грачик,
возвращаясь к вопросу о химической экспертизе.
- Нет, - я отставной козы барабанщик! А ты, так сказать, при
должности и мундире - тебе и книги в руки. Пусть думают эксперты, что
ты своим умом дошел. Или ты полагаешь, что зазорно толкать научных
работников в эдакую даль, как начало нашего столетия? Нет, дружок, мы
напоминаем им интересную страничку истории. Кто знает, может быть, это
и не так уж глупо будет: проявить этот листок. - Кручинин повеселел,
словно закончил удачное дело. - Помнишь историю со снимками экспедиции
Андре?
Грачик сознался, что впервые слышит это имя. Кто он такой, этот
Андре? И что это за экспедиция? Разве может Грачик знать все, что
происходило на белом свете до него за всю долгую историю человечества.
Кручинин знал, что нигилизм его ученика напускной. Теперь Грач небось
готов самым внимательным образом слушать рассказ о том, как много лет
назад шведский ученый Андре организовал экспедицию на воздушном шаре в
Арктику и погиб вместе со своим экипажем; как его экспедицию считали
бесследно исчезнувшей, как стоянка этой экспедиции была обнаружена на
уединенном острове Ледовитого океана и как, наконец, химики сумели
восстановить картину жизни аэронавтов, проявив фотографические
пластинки, пролежавшие десятки лет в снегу. Кручинин пододвинул к себе
свободный стул, протянул на него ноги и принялся рассказывать со
свойственной ему увлекательностью историю Андре. Он не глядел на
Грачика, но наступившая в комнате тишина говорила, что слушатель,
затаив дыхание, ловит каждое слово. Кручинин любил в своем молодом
друге это умение слушать. Да и вообще... Разве стыдно сознаться себе,
что он очень любит этого Грачика, в котором давно уже угадал
продолжение самого себя. То самое продолжение, которого он, Кручинин,
был лишен, оставшись вечным холостяком. Разве этот молодой человек не
был кусочком того самого личного счастья Кручинина, которое делало
жизнь такой радостной и осмысленной, не имеющей физического конца?
Экспертиза вернула листок, найденный в блокноте утопленника.
Кручинин оказался прав: листок не был пуст. Правда, сообщение на нем
было сделано не слюной, а симпатическим составом, нанесенным на бумагу
без повреждения ее поверхности. Текст гласил: "Гарри вернуться домой
немедленно по освобождении Тома. Джон".
В переводе на обычный язык это значило, что Силс должен вернуться
в Германию после убийства Круминьша. Грачик уже знал от Силса, что
"Гарри" - кличка, присвоенная Силсу при засылке в Советский Союз.
"Том" - Круминьш. Кто такой "Джон" - Грачик не знал. Почему-то Силс об
этом умолчал. Или он и сам действительно не знал? Но и так было ясно,
что этот Джон - вражеский резидент, находящийся в пределах Латвии, -
быть может, Квэп. Наличие записки в кармане утопленника служило
косвенным указанием на то, что его смерть не была запланирована в
операции "Круминьш". По-видимому, главарь отделался от "милиционера"
неожиданно, в силу каких-то непредвиденных соображений. Быть может,
заподозрил, что его сообщник уже выслежен и провалит его самого. Эта
же записка служила важным указанием на слабость диверсионной
организации. Иначе не стали бы привлекать связного, каким, очевидно,
был "милиционер", к исполнению роли подручного при уничтожении
Круминьша или, наоборот, использовать опытного убийцу как связного.
Подобное смешение функций всегда ставит под угрозу провала связь -
важнейшее звено в нелегальной работе. Но, на взгляд Грачика, все эти
соображения не стоили одного пункта: те, там, продолжали считать Силса
своим и отдавали ему приказы. Но этого соображения Грачик не высказал
Кручинину из боязни его критики.
Кручинин отнесся к документу с очевидным скепсисом.
- Что ты намерен теперь делать с твоим Силсом? - спросил он.
- "Мой" Силс? - с неудовольствием переспросил Грачик. - А что с
ним делать?
Настала очередь Кручинина высказать откровенное удивление:
- А ты не убедился в том, что этот хитрец водит тебя за нос?
- И вы могли поверить, будто Силс ведет двойную игру?! -
воскликнул возмущенный Грачик. - Нет, джан, меня не так легко в этом
уверить! Записка для того и очутилась в кармане утопленника, чтобы
разбить наше доверие к Силсу.
- Так хитро, что даже не пришло мне в голову, - ответил Кручинин.
- Что ж, может быть подобный ход и возможен... Но почему те, там,
должны считать нас идиотами, которые попадутся на подобную удочку?
- Или, наоборот, считают нас прозорливцами, которые уцепятся за
этот незаметный клочок бумаги и сумеют его проявить?
- Да, можно гадать бесконечно: чи так, чи эдак, - согласился
Кручинин. - Лучше исходить из наиболее простых положений.
- Тогда предположим, - с готовностью согласился Грачик, - они
воображают, будто Силс был вынужден явиться к нам с повинной только
потому, что пришел Круминьш. На этом основании...
- Продолжаю не столь предположительно, сколь положительно, -
подхватил Кручинин. - Таков был их приказ каждому из двух в
отдельности: не выдержит испытания один из двух - являться с повинной
обоим. Раскаяться, поклясться в верности Советской власти, вклиниться
в нашу жизнь и ждать, пока не придет новый приказ оттуда.
- Тогда выходит... - без воодушевления проворчал Грачик, - Силс
дважды предатель?
- Арифметика тут не важна: дважды, трижды или десять раз.
Предатель есть предатель, предателем и останется, - проговорил
Кручинин жестко и уверенно.
- Нил Платонович, дорогой, вы всегда учили меня подходить не к
людям вообще, а к каждому человеку в отдельности. Я хорошо испытал
Силса...
- Есть один оселок, на котором таких типов можно испытать, да я о
нем говорить не хочу, - строго ответил Кручинин. - А ты постарайся
быть беспристрастным в оценке того, что вытекает из этой вот
коротенькой цидулочки.
- Быть беспристрастным? - Грачик исподлобья смотрел на Кручинина.
Черты его лица были хорошо знакомы Грачику. Сколько, кажется, в него
не вглядывайся - ничего нового не увидишь. И пусть Кручинин сколько
угодно хмурит брови, от этого его глаза не делаются менее добрыми.
Доброжелательный ум, светившийся в них, был для Грачика мерилом
вместимости человеческого сердца. Добро и зло, веру в человека и
неверие, надежду и отчаяние, силу и слабость - решительно все мог
Грачик измерить выражением глаз своего старого друга - безошибочным
термометром состояния его ума и сердца. Глядя в них сейчас, Грачик не
видел ничего, кроме требовательной неизменной веры в человека. Если бы
только понять по едва уловимым морщинкам, собравшимся вокруг глаз
Кручинина: неужели он не считает Силса человеком в том большом и
чистом смысле, какой обычно придает этому слову. Кручинин вовсе не
святоша, он не страдает манией пуризма - свойством лицемеров. Слишком
честный с собой и с другими, он готов прощать людям тысячу слабостей и
из последних сил биться над помощью тем, кто ими страдает. Но совесть
его не знает снисхождения к тем, кого он записывает в раздел людей с
маленькой буквы. Тут уж Грачику не раз приходилось принимать на себя
роль ходатая за людей. И, к своему удовольствию, он мог сказать: если
доводы бывали точны и крепки, Кручинин сдавался. Первым, к кому его
взгляд обращался в таких случаях с выражением благодарности, бывал сам
Грачик.
Грачику сдавалось, что сегодня Кручинин раньше, чем следует,
отказался от поисков в душе Силса струны, какую нужно найти, чтобы
понять парня до конца и поверить в его правдивость так же, как поверил
Грачик. Но чем больше Грачик говорил на эту тему, тем дальше уходила в
глубину кручининских глаз их теплота, тем строже и холодней
становились они. Было ясно: Кручинин не считал Силса человеком, с
большой буквы.
- Если ты хочешь получить хорошую лакмусовую бумажку для
испытания твоего героя - вот она, - Кручинин подвинул к Грачику
проявленную тайнопись. - Пусть Силс ее получит. Конечно, так, чтобы не
знать, что она прошла через твои руки. И ты увидишь - наш он или их...
"Гарри". Проследи, чтобы копия записки имела все мельчайшие признаки
оригинала, вплоть до манеры складывать, до едва заметных разрывов.
Любая из этих деталей может служить сигналом: "Внимание, прояви,
прочти". Эти детали могут указывать и на состав, каким написан приказ.
Самым забавным будет, если вместо сложного пути, каким шли к
расшифровке записи наши химики, ему, может быть, достаточно будет
обмакнуть ее в какой-нибудь простейший состав, всегда имеющийся под
рукой, в любых условиях, вплоть до глухого бора или даже одиночного
заключения.
- Например? - спросил заинтересованный Грачик.
- Неужели забыл? А щелок собственной мочи?!
- Такие вещи не забываются... Хотя и очень... не аппетитны.
- Зато всегда под рукой.
- Что ж, посмотрим, - согласился Грачик, заранее уверенный в
победе, и, подумав, предложил: - Давайте держать пари: он придет ко
мне с этой запиской, если поймет, что это не простой клочок бумаги.
Без страха ставлю свою голову против пятиалтынного. Он пригодится мне
для автомата.
- Смотри, как бы не остаться без головы!
По заказу Грачика была изготовлена точная копия листка с
тайнописью и, как советовал Кручинин, соблюдены все ее детали.
Пришлось немало поломать голову над способом доставки Силсу этого
тайного приказа. У получателя не должно было возникнуть подозрения,
что записка побывала в руках следователя.
Велико было торжество Грачика, когда через день после того, как
записка была отправлена по назначению, Силс явился к Грачику и положил
перед ним расшифрованный текст приказа.
Едва расставшись с Силсом, Грачик схватил трубку телефона.
- Звоню из автомата, - пошутил он, - за ваш счет.
- Брось шутить!
- Вы должны мне пятнадцать копеек! Да, да. Приходите сюда и
можете прочесть записку в расшифровке Силса.
- Тот же текст? - с недоверием спросил Кручинин.
- Слово в слово! - торжествовал Грачик. - "Мы должны уметь читать
в человеческих душах". Кажется, так говорил один мой учитель. Очень
дорогой учитель! Любимый учитель! Прямо замечательный учитель! Как я
вам благодарен за науку! - "Учись, Сурен, читать в сердце того, кто
сидит по ту сторону стола. Только тогда ты сможешь добиться успеха в
нашем деле". Какие слова, какие слова!
38. РАЗЫСКИВАЕТСЯ ЛЕЙТЕНАНТ МИЛИЦИИ
Когда через полчаса Кручинин сам просмотрел принесенную Силсом
записку, он долго молчал раздумывая. Потом сказал таким тоном, словно
предлагая Грачику хорошенько запомнить его слова:
- Вообрази, что я сижу по ту сторону стола, и попробуй отыскать
основания в моих колебаниях... Спроси у Силса: каким способом
доставили ему эту самую записку. Посмотрим, что он тебе наплетет.
- Каждое ваше слово - недоверие тому, кто "сидит по ту сторону
стола".
Грачику не хотелось наталкивать Силса на то, чтобы тот
доискивался способа доставки письма, если он действительно не знает
связи. Но, может быть, есть и резон в том, что подсказывает Кручинин:
если Силс расшифровал письмо - значит, он знал по крайней мере ключ.
Тут наступила путаница среди приходивших на ум многочисленных "если" и
"значит".
Кручинин попросил у Грачика карту острова Бабите:
- Меня занимает мыза, где живет эта особа в клетчатом кепи.
Грачик предложил ехать на остров вместе, но Кручинин сказал:
- Ты был там один, я тоже хочу побродить один... Так лучше
думается. - Уже собравшись уходить, он спросил. - А ты уверен, что
утопленник, выловленный из Лиелупе, не имеет к милиции иного
отношения, кроме краденой формы?
- Я допускаю, что, как исключение, и в органы милиции может
пробраться враг, но...
- Боже правый, сколько оговорок: допускаю, как исключение и
невесть еще какие кресты и заклинания! А разве практика жизни, сложной
и бурной, не говорит, что независимо от твоих допущений или
недопущений враг пробирался и в милицию и кое-куда еще? Тебе, конечно,
мало таких уроков?
Густые брови Грачика сошлись над переносицей в одну толстую
черную линию.
- К чему вы клоните? - спросил он.
Если бы кто-нибудь увидел их сейчас со стороны, то не сказал бы,
что перед Кручининым - его ученик, человек, верящий каждому его слову,
как закону. Пристальный взгляд Грачика был устремлен на Кручинина так
испытующе, словно перед ним был подследственный. А Кручинин делал вид,
будто не замечает настороженности молодого друга, и, не изменяя
иронического тона, продолжал:
- На твой вопрос отвечу вопросом же: откуда у тебя уверенность,
что "утопленник" не имеет отношения к милиции?
- Мы проверили всех и вся по всей республике.
- Ты говоришь о Латвии?.. Ну, а ежели вражеский парашютист,
выброшенный где-нибудь на Одесщине, может притащиться для диверсии в
Латвию, разве не в тысячу раз легче человеку в форме милиции явиться
сюда же, с теми же целями, скажем, из соседней Литвы или Эстонии? По
обе стороны административной границы население перемешалось. В Литве
есть латыши, в Латвии эстонцы. Если бы ты дал себе труд, когда
выловили этого утопленника, заглянуть немного дальше своего носа, то
узнал бы, что из Биржайского районного отделения милиции в Литовской
ССР незадолго до происшествия с Круминьшем уехал в отпуск лейтенант
милиции Будрайтис. Полулитовец-полулатыш. На работу он не вернулся.
Его родные, живущие в Латвии неподалеку от города Алуксне, прислали по
месту его службы свидетельство, по всей форме составленное и кем
следует заверенное: Будрайтис умер от воспаления легких. Пришло
подробное описание того, как он простудился, купаясь в Алуксненском
озере, как болел. К описанию была приложена справка Загса, больничный
лист - все, что полагается. Больше того, пришел рапорт сельского
милиционера о том, что, к сожалению, похороны Будрайтиса были
совершены по церковному обряду. Эти похороны устроили родные
Будрайтиса.
Грачик пожал плечами, и его сошедшиеся к переносице брови
разошлись в улыбке, осветившей лицо.
- Значит, вас взволновало то, что милиционера похоронил поп?
- Нет, - Кручинин сделал паузу, словно колеблясь, стоит ли
продолжать. - Меня больше заинтересовало то, что родных в Алуксне у
Будрайтиса не было и нет. И он там... никогда не умирал.
Черты подвижного лица Грачика отразили крайнюю меру
ошеломленности. Но тут же разгладились, и он удовлетворенно улыбнулся:
- Это вносит новый штрих в его дело, но ничего не меняет в ходе
моего расследования.
Кручинин пожал плечами. Его мысль вернулась в далекое прошлое,
когда он, будучи молодым, возился с изучением воображаемой "интуиции"
следователя. Но прошли времена гаданий и идеалистических увлечений
молодости. В работе не осталось места для "интуиции" - все было точно,
ясно, построено на анализе происходящего. И тем не менее не в силах
отделаться от охватившего его настроения, Кручинин медленно выговорил:
- Грустно, но мы не можем не считаться с реальностями, как бы
дурно они ни выглядели. Факт остается фактом: если вражеский агент мог
проникнуть в аппарат милиции и держаться там достаточно долго или если
вражеская обработка могла достичь того, что Будрайтис превратился во
вражеского агента (это одно и то же), - значит, не на высоте были и
люди, окружавшие Будрайтиса. Сколько времени он терся в их среде, а
они проморгали! Как наивно была подстроена вся эта комедия с его
смертью, а они опять проморгали!
- Действительно, в обоих случаях картина неприглядна, - грустно
согласился Грачик. - Но это выходит за пределы моего расследования. На
сегодня меня мало интересует ваш Будрайтис, мне важнее знать, кто
такой мой Силс!
Со времени открытия исчезновения Будрайтиса Кручинин, казалось,
потерял значительную долю интереса к тому, что делал Грачик, и много
времени уделял расследованию вновь появившегося дела. Что же касается
Грачика, то он считал эту линию случайной, полагал, что Кручинин
оказался в плену навязанной самому себе версии, от чего всегда
предостерегал Грачика. Грачик даже намекнул на это, но, конечно, так
мягко, как того требовало уважение к Кручинину. Однако тот пропускал
намеки мимо ушей.
Он уже выезжал в Алуксне, на месте ознакомился со всеми
обстоятельствами дела, и по его просьбе прокуратура произвела
необходимые опросы. Съездил и в Литву.
Предположение о соучастии Будрайтиса вызвало необходимость
исследовать еще одну линию: не принадлежал ли "браунинг", найденный в
кармане повешенного, лейтенанту Будрайтису? То, что это оружие не
числилось в списках литовской милиции, разумеется, огорчило Кручинина.
Но для его предположений осталась еще одна лазейка: по словам
начальника биржайской милиции, там сквозь пальцы смотрели на то, что у
некоторых служащих, кроме штатного оружия, имеется свое. Его даже не
регистрировали. Это было, конечно, противозаконной халатностью, но
факт оставался фактом. В пользу допущения, что и у Будрайтиса мог быть
неучтенный "браунинг", говорило то, что, уезжая в отпуск, он сдал
казенный "ТТ" на хранение в отделение. Трудно было предположить, чтобы
он решил ехать вовсе без оружия. Чем больше Кручинин углублялся в эту
линию, тем, кажется, тверже становилась его уверенность в своей
правоте. Как-то, зайдя к Грачику, он как бы мимоходом, но с очевидным
удовольствием сказал:
- Еще немного, и я, кажется, смогу доказать, что твоему
воображаемому Квэпу помогал мой вполне реальный Будрайтис.
- Ну что же, - скромно ответил Грачик, - значит, мы получим еще
одну ниточку, за которую можно будет разматывать дело.
- А ты так и не расколол своего Силса?
- Меньше всего мне хочется его расколоть!
- Все цепляешься за "чистоту его души"?
- Цепляюсь, - и Грачик протянул Кручинину распечатанный конверт.
- Что это? - удивился Кручинин.
- Не лишено интереса, - с невинным видом сказал Грачик и сделал
вид, будто погрузился в работу, исподтишка следя за впечатлением,
какое произвел на Кручинина протокол осмотра утопленника вызванным в
С. начальником биржайской милиции.
Но Грачику не удалось уловить ничего на лице друга, разве только
его голубые глаза на мгновение утратили выражение присущего им
добродушия, и в них промелькнула искорка гнева. Но она тотчас же и
погасла. Кручинин как ни в чем не бывало вернул Грачику конверт.
- Что скажешь насчет чашки чая? - спросил он.
- В кафе? - с иронизировал Грачик.
- В кафе так в кафе, - равнодушно согласился Кручинин.
Это было так неожиданно, что Грачик не нашелся, что сказать. Но
именно от этого-то равнодушия ему и стало невыносимо стыдно игры,
которую он вел с самым близким человеком и самым дорогим учителем. Он
было опустил глаза, но тут же поднял их на Кручинина, стараясь поймать
его взгляд.
- Не сердитесь... Я, кажется, большая свинья...
- Тебе это только кажется?.. Что ж, и то хлеб.
- Но мне так хотелось немножко поторжествовать, - виновато сказал
Грачик. - Я - настоящая свинья.
- То-то! - добродушно сказал Кручинин. - Тогда идем пить чай ко
мне.
Всю дорогу они шли молча, и лишь перед самым домом Кручинин
спросил с той особенной небрежностью, за которой так хорошо умел
прятать самое важное:
- Из рассказов Силса можно понять, что Инга - воспитанница
иезуитов и даже фанатичная католичка?
- Да, пожалуй. А что?
- Так, ничего, - ответил Кручинин и, весело насвистывая, вложил
ключ в замок своей двери.
Грачик хорошо знал, что "так, ничего" означает в устах Кручинина
острый интерес. Но он не догадывался о том, что на этот раз знакомый
возглас означал не столько собственный интерес Кручинина, как его
желание без прямой подсказки натолкнуть внимание самого Грачика на
вопрос о роли католической церкви в деле Круминьша. Кручинину не
нравилось, что Грачик, сам же первый сделавший это открытие в начале
расследования, словно забыл о нем.
То обстоятельство, что в эксгумированном утопленнике начальник
биржайской милиции не признал лейтенанта Будрайтиса, не упростило
дела, как поначалу показалось Грачику. Торжество, испытанное им в
момент, когда он передавал конверт с этими протоколами Кручинину,
было, по-видимому, преждевременным. Кручинин терпеливо и очень
обстоятельно объяснил Грачику, какие преимущества они получили бы,
окажись утопленник Будрайтисом, и какие трудности возникали в связи с
тем, что исчезновение Будрайтиса по-прежнему оставалось тайной.
Расследование Грачика пошло прежним путем. Но Кручинин не оставлял
наблюдения и за делом Будрайтиса. Убеждение в том, что исчезновение
лейтенанта милиции каким-то образом связано с делом Круминьша, не
оставляло его, хотя никаких внешних данных для этого, казалось, и не
было. При этом Кручинин немного посмеивался над самим собой: если бы
Грачик проявил подобное, мало на чем основанное упрямство, Кручинин
наверняка высмеял бы его и заставил бы отказаться от предвзятой
уверенности в общности этих двух дел. Пожалуй, только для очистки
совести Кручинин еще раз поехал в Алуксне с намерением посмотреть
сводки милиции о происшествиях последнего времени. Но стоило ему в
одной из этих сводок столкнуться с обстоятельством, показавшимся
схожим с подобным же обстоятельством в деле Круминьша, как он понял,
что недаром совершил эту поездку, и его уже нельзя было оторвать от
папки с надписью: "Дело о покушении на убийство Лаймы Зведрис".
Суть дела была такова: несколько времени тому назад в милицию
поступило сообщение о том, что шлюпка, взятая на лодочной станции
алуксненского озера, не вернулась до ночи. Нигде у берегов поблизости
от Алуксне лодка не была обнаружена, и возникло подозрение о несчастии
с оставившей в залог за лодку свое командировочное удостоверение
Лаймой Зведрис. К утру обнаружили лодку посреди озера. Не составило
труда установить, что Лайма Зведрис остановилась в гостинице. Из
опроса прислуги выяснили, что накануне Лайму, кажется, видели на улице
разговаривающей с постояльцем по фамилии Строд, тоже проживавшим в
гостинице. Строд ушел из гостиницы примерно в тот же час, когда
Зведрис брала лодку; вернулся около полуночи и на рассвете выписался.
Розыскная собака не без труда, но все же взяла след Строда и привела к
сапожной мастерской, а от нее к дому, где проживает престарелый
инвалид труда Янис Юргенсон. Установили, что вечером этот Юргенсон
решительно никуда не отлучался. Не было бы ничего удивительного в том,
если бы собака взяла неверный след: он был недостаточно свеж. Но из
дальнейшего опроса Юргенсона выяснилось, что он действительно ходил в
сапожную мастерскую, чтобы отнести в починку свои старые башмаки. При
проверке этого обстоятельства выяснилось, что башмаков, сданных в
починку Юргенсоном, у сапожника нет, - они были отданы на время
другому заказчику - приезжему, принесшему для растяжки узконосые
сапоги. Этот заказчик за своими сапогами не явился. Они остались в
мастерской. По показанию гостиничной прислуги, эти сапоги принадлежали
Строду, их было легко узнать по характерному - узкому и длинному -
носку.
Одновременно шли поиски на озере тела, по-видимому убитой, Лаймы
Зведрис. Однако день добросовестной работы рыбаков ничего не дал.
Только к вечеру из больницы, расположенной на дальнем конце озера,
пришло известие о том, что там лежит неизвестная девушка. Накануне
ночью рыбаки слышали ее крик и, поспешив на него, выловили ее из воды.
Они пытались было найти лодку, с которой она упала, но в потемках это
им не удалось. Они удовольствовались тем, что откачали утопленницу и
доставили ее в больницу. Там она и оставалась до сих пор. Но так как
ею, по-видимому, был получен очень сильный удар по голове еще прежде,
чем она очутилась в воде, то допросить ее не представляется возможным.
Она не умерла только благодаря ее физической крепости, иначе рыбакам
не удалось бы ее и откачать.
Из всех этих обстоятельств наибольшее внимание Кручинина
остановилось на одном: узкие сапоги человека, называвшего себя
Стродом. Когда Кручинин, поставив сапог на бумагу, очертил его
карандашом, то след показался ему похожим на рисунок, сделанный
Грачиком со следа на песке у озера Бабите. Сапоги были немедленно
пересланы в Ригу, и эксперты установили, что след, срисованный
Грачиком, принадлежит человеку, обутому в эти сапоги. Кроме того,
экспертиза утверждала, что владелец этих сапог имел неправильную
походку, несколько выворачивая одну стопу в сторону, - был, так
сказать, косолап.
- Попробуй-ка теперь сказать, что я даром потерял время в
Алуксне! - торжествующе воскликнул Кручинин, когда они вместе с
Грачиком получили заключение экспертизы. - И помяни мое слово, мы еще
найдем связь между этим Стродом и Будрайтисом.
Рабочий день был на исходе. Закройщик ателье "Максла" Ян Янович
Йевиньш сбежал по шаткой лестнице, ведущей в приемную из его рабочего
закутка на втором этаже. Четвертый звонок за день! И все дамы, без
конца дамы! Правда, заказчица среди них была только одна, остальные
вызывали его по делам, не имеющим никакого отношения к портняжному
искусству (которым Ян Янович славился на всю Ригу). Увы, и для супруги
Яна Яновича давно не была секретом его слабость к прекрасному полу.
Тоном человека, избалованного вниманием женщин, Ян Янович бросил в
трубку свое почти английское "хэлло". Скользя рассеянным взглядом по
мелькавшим за витриной фигурам прохожих, он вел один из тех искусных
разговоров, которые позволяли ему лавировать между рифами,
встречающимися на пути женатого жуира. Временами его равнодушный
взгляд переходил с витрины на лицо сидящей за столом приемщицы,
исподтишка ревниво следившей за разговором. Но вот снова глянув в
витрину, Ян Янович оборвал фразу на полуслове. Проследив его
испуганный взгляд, приемщица тоже замерла с полуоткрытым ртом: у
подъезда ателье на тротуаре лежал человек большого роста. Руки его
были раскинуты, обращенное вверх лицо покрыто мертвенной бледностью;
из мясистого носа, пачкая светлые усы и бороду, стекала струйка крови.
Вокруг лежащего собралась толпа.
Вошедший в ателье милиционер вызвал скорую помощь, чтобы взять
сбитого грузовиком прохожего, и, не отвечая на вопросы приемщицы,
вышел. Стук затворившейся за ним двери вывел Йевиньша из оцепенения.
Он устремился следом за милиционером. Между тем пострадавший уже
пришел в себя. Таким движением, словно хотел отстранить что-то
душившее его, он провел рукою поперек горла. Йевиньш растерянно глядел
через головы толпы на то, как пострадавший поднялся на ноги, достал из
кармана носовой платок, отер испачканное кровью лицо и, пошатываясь,
сделал два-три шага.
- Сейчас прибудет скорая помощь, - сказал милиционер, намереваясь
усадить пострадавшего на ступеньку подъезда "Макслы". Но бородач
высвободил свой локоть из пальцев милиционера.
- Не нужно... - сказал он. - Совершенно ничего не нужно.
Из-за спины милиционера высунулась физиономия шофера грузовика -
виновника происшествия. Он вопросительно уставился на пострадавшего.
Заметив шофера, человек с бородой поспешно сказал милиционеру:
- Прошу вас. Никакого протокола. Шофер не виноват.
- Мы обязаны... - начал было милиционер, но человек с бородой
перебил более решительно:
- Я сам виноват.
Пронзительный сигнал кареты скорой помощи покрыл говор толпы.
Появились фигуры врача и санитаров.
- Мне ничего не нужно. Я чувствую себя совсем хорошо. Извините...
- с этими словами пострадавший показал милиционеру красную книжку
какого-то удостоверения и, повернувшись, пошел сквозь неохотно
расступавшуюся толпу разочарованных зрителей.
- Он потерял шапку, - сочувственно сказала какая-то женщина.
- Граждане, где головной убор пострадавшего? - спросил
милиционер.
Поднеся носовой платок к лицу, бородач продолжал удаляться с
непокрытой головой.
- Не беда, проживет без шапки, косолапый, - пренебрежительно
проговорил какой-то мальчишка.
Ян Янович чувствовал, что снова обретает способность думать,
двигаться и говорить. Первое, что он сделал, - схватил за плечо
мальчишку.
- Ты сказал "косолапый"? Почему ты сказал "косолапый"? - быстро
спросил Йевиньш.
- Ну да, и сказал, что ж такого? - задорно отозвался мальчик. -
Он и есть косолапый. Глядите на его правую ногу, глядите!
Но в том направлении, куда показывал мальчуган, уже никого не
было. Человек с бородой скрылся за углом улицы Блаумана. Пробежав
несколько шагов, Йевиньш остановился. Его больное сердце стучало,
вырываясь из груди. Он задыхался. Он закрыл глаза. Перед ним как живой
лежал у подъезда ателье человек с белокурой бородой. На его шее, под
вздернутым к небу подбородком Йевиньш видел шрам... Шрам, шрам!..
Происхождение этого шрама Йевиньш знал и не забудет никогда в жизни. И
этот жест, которым бородач провел себе поперек шеи, Йевиньш тоже знал,
очень хорошо знал и тоже никогда не забудет. Если бы не шрам, Йевиньш
ни за что и не узнал бы этого человека: усы и борода изменили его
наружность. Йевиньш видывал его другим: чисто выбритым, с плотоядно
оттопыренными мясистыми губами под картофелиной носа... А этот жест:
ребром ладони поперек горла! Разве не этим зловещим движением Арвид
Квэп, наряженный в куртку эсэсовца, иллюстрировал страдальцам
Саласпилса то, что им предстояло? Разве может Йевиньш забыть этот
жест, эти глаза, этот нос!.. Эту страшную руку мясника... А тут, в
добавление ко всему, крик мальчишки: "Косолапый"! Да, да, Йевиньш
слишком хорошо помнит и подвернутую ступню, из-за которой заключенные
тоже называли Арвида Квэпа "косолапый".
А если бы Йевиньш увидел этого человека без рубашки! Уж кто-кто,
а портной хорошо знает, как выглядит тело человека, которого ему
приходилось обшивать. Впрочем, Квэп и не скрывал татуировки,
украшавшей его широкую грудь: большой романовский орел. Татуировка
была старая, сделанная еще в царские времена. Впоследствии, из
верноподданнических чувств к Гитлеру, Квэп ее модернизировал:
переделал царский скипетр в свастику, а державу в земной шар. О,
Йевиньш очень хорошо помнит эту синюю примету на груди мучителя. Тут
не ошибется и малое дитя!.. Почему же злодея сейчас не схватили, тут
же, сегодня?.. В самом деле, почему Йевиньш не вцепился ему в бороду,
почему не закричал на всю улицу: "Держите его, это же Квэп из
Саласпилса! Разве вы не знаете палача Квэпа? Почему онемел язык
Йевиньша, как мог бывший заключенный Э 32867 не броситься на палача?
Ян Йевиньш, почему ты молчал?
Йевиньш прислонился горячим лбом к стене дома... Разве можно это
забыть: за шрам на горле недорезанного Квэпа было забито палками,
затравлено собаками, застрелено и повешено сто заключенных. Да, у
мстителя тогда не хватило силы, чтобы перерезать глотку палача крышкой
от консервной банки. Горло Квэпа оказалось крепче жести...
Йевиньш в отчаянии схватился за голову. Ян, Ян! Как ты мог
выпустить сейчас этого зверя! Как, почему, зачем, по чьему недосмотру
Арвид Квэп мог очутиться на улице советской Риги?
Йевиньш, пошатываясь, вошел в ателье и упал в кресло. Его
больное, надорванное Саласпилсом сердце не могло выдержать такой
перегрузки. Понадобилось больше получаса времени и помощь врача, чтобы
справиться с сердечным припадком портного.
Открыв глаза, Иевиньш увидел, что лежит на диване, где обычно
ждали его приема терпеливые заказчицы. Под головой у себя он нащупал
на диванном валике что-то мягкое. Это было большое кепи из пестрой
шерстяной ткани.
- Что это? - спросил Ян Янович у заплаканной приемщицы, сидевшей
у него в изголовье.
- Это?.. Ах, это! Так это же, наверно, кепи того, пострадавшего!
Кажется, милиционер принес его сюда, когда говорил по телефону, да так
и забыл.
Приемщица еще что-то говорила, но Ян Янович ее уже не слушал. Он
держал в вытянутой руке пестрое кепи, и смешанное чувство отвращения и
радости не позволяло ему привести в порядок нахлынувшие мысли.
- Вам опять нехорошо?.. - начала было испуганная приемщица,
заглядывая ему в глаза, но Йевиньш, не слушая, выбежал на улицу:
- Эй, такси!.. Бульвар Райниса!.. Да, да, именно так:
прокуратура! Быстро!
Грачику казалось, что сегодня все против него. Неудачи начались в
Совете культов. Уполномоченный этого Совета по Латвии Ян Петрович
Мутный оказался человеком не только упрямым, но и ограниченным, чтобы
не сказать больше. К тому же он решительно всего боялся. Он боялся
дать Грачику характеристику Шумана на том основании, что не знал
священника достаточно хорошо; боялся справиться о нем у викария или у
епископа; боялся осложнения, если Грачик сам обратится к католическим
церковным властям. Он боялся... Грачик даже не брался припомнить, чего
еще боялся этот странный уполномоченный. В добавление ко всему из
разговора выяснилось, что Мутный - невежда в области, доверенной ему
той самой Советской властью, защитником которой он себя именовал. Само
собой у Грачика напрашивалась характеристика: "опасный дурак". Едва
Грачик приступил к перечислению оснований, какими располагает для
подозрения Шумана в преступлении, Мутный замахал руками. Не стесняясь
присутствия Грачика, он тут же снял трубку и стал звонить в Совет
Министров республики, жалуясь на следователей, "ломающих всю политику
Советской власти". Если бы Грачик поверил этому человеку, то ушел бы с
убеждением, что подозревать Шумана - значит, посягать на основы
Советской власти. Грачик поделился с Кручининым огорчением, какое ему
доставило это свидание:
- Мне всегда сдавалось, что я люблю жизнь. И людей люблю, ей-ей!
А сегодня, когда я столкнулся с этим "мутным" человеком, мне стали
отвратительны и мир, и люди.
- Можно подумать, что ты только-только вступаешь на стезю
сознательной жизни и не знаешь всего разнообразия человеческих типов,
- усмехнулся Кручинин.
- Но людей такого типа, как Мутный, я просто боюсь!
- Не знал тебя как труса.
- И вот поди же, - Грачик беспомощно развел руками, - боюсь! Они
могут испортить всю жизнь на земле.
- Брось! Такое им не под силу. Хорошего на земле слишком много,
чтобы одному Мутному удалось все замутить. Настроение он действительно
способен испортить. Но не больше. Помешать любить людей?.. Я за
любовь!.. К жизни, к людям и... к человеку.
- Только прошу вас, без перехлестывания во всеобщую любовь ко
всему человечеству. Я знаю: вы великий человеколюбец, - воскликнул
Грачик. - Но разве можно не ненавидеть человеконенавистников?
- Их надо исправлять. А ежели ненависть к себе подобным сидит в
них сильнее всего человеческого, - уничтожать. Уничтожать!
- Посмотрите-ка сейчас на свои глаза, посмотрите, как сжались
ваши губы! - воскликнул Грачик, подталкивая Кручинина к зеркалу. -
Глядите! А ведь многие считают вас божьей коровкой.
- Потому что им не доводилось видеть меня один на один с врагом.
- С врагом человечества?
- Разве у меня может быть другой враг, как только тот, кто
враждебен нашему делу - делу трудового человечества. Нашим целям,
лучшим целям рабочего класса - творца жизни!.. А ты со своим
"Мутным"!.. Мутный, братец, это всего только муть. История процедит ее
сквозь свой фильтр. В настоящую жизнь, которой будет жить человек в
будущем, эта муть не проникнет.
- Если фильтром не будет служить анкета. А то эдакий
"стопроцентный", только на том основании, что его папа пролетарий и
сам он из грузчиков, глядишь, и пролезет в будущее. Да еще вне
очереди!
- Всему свое время, Грач! На данном этапе и анкета нужна. Без
анкеты невозможно. И пролетарское происхождение, ой как хорошо! И зря
ты, право, огорчаешься. Отбрось сей мутный камень со своего пути.
Плюнь, разотри и забудь.
- Как же я забуду, когда мне с ним по делу не разминуться. Раз в
деле у меня запутаны священники и церковь. А там в Совете этот...
камень преткновения.
- Не такие скалы сворачивали. Не преодолеешь - объедешь. Не
объедешь - взорвем.
- Вы его взрывать, а он за телефонную трубку да в Совет
Министров! Честное слово, Советская власть сильно выиграла бы, если бы
на месте эдакого Мутного сидела хотя бы матушка Альбина.
- Не понимаю этого "хотя бы". Ленин так и хотел, чтобы кухарка
могла управлять государством; а тут дела в масштабе "Мутного" и на них
целая белошвейка!
- Напрасно вы иронизируете. Моя Альбина - милая старушка.
- А куда же тогда девать Мутного? - усмехнулся Кручинин.
- Пускай стирает отцу Шуману белье! - сердито воскликнул Грачик.
На этом закончилось обсуждение неприятности номер один. Но Грачик
уже не мог успокоиться. Столкновение с Мутным его взбудоражило.
Поразмыслив, он сказал:
- Бывают минуты, когда я крепко задумываюсь над совершенством
нашей системы работы. - Кручинин настороженно поднял голову. - Тут
нужны какие-то коренные улучшения. Ведь что до сих пор получалось.
Выловим одну дрянь, другую. Их накажут, потом выпустят, и опять ищи
их, лови, уличай. Из десяти проходящих так называемое "исправление"
полезным членом общества оказывается один, много двое. А сколько у нас
"исправляли" ошибочно!
- Как же можно исправлять ошибочно? - удивился Кручинин.
- Вы нарочно не хотите понять меня? - рассердился Грачик, - я
имею в виду ошибку следствия и суда. Сколько дров наломали за эти
годы!
- Вот именно: за эти годы! Это, братец, уже издержки
производства. Дело показывает, что вне контроля партии не может и не
должен работать ни один раздел нашего аппарата. Будь он сто раз важен
и тысячу раз секретен!.. Либерализм тут опасен как ротозейство... А в
таком деле, как безопасность государственного правопорядка, многое
очень трудно поправить.
- Потому и говорю только вам.
- Очень жаль, что не выступал с этим громко, во весь голос.
- Может быть, скажете еще: в печати? - иронизировал Грачик.
- Что ж, таков верный путь: сначала в нашей среде, а если не
поможет, и в печати! Партия не боится света гласности.
- Кто же станет печатать?
- А ты добейся.
- У Мутного?
- Да что тебе, в самом деле, дался этот Мутный? Не мутные же
составляют наше общество. Они исключения, а не правило, - в гневе
почти крикнул Кручинин. - Они - не люди! Муть, а не люди!
- Ложка дегтя в бочке меда.
- А ты вычерпывай деготь!
- Ложку вычерпаю, а десять остались и продолжают портить жизнь.
Нужно не вылавливать правонарушителей, а бороться за то, чтобы их не
было. - Лицо Грачика, вся его фигура выражали уныние. - Литература,
театры, школа, все звенья воспитательной системы в семье и вне семьи
обязаны вести профилактическую работу. Понимаете, профилактическую!
Иначе хлопот у нашего брата будет по горло.
- Почему сегодня такой пессимизм? - Кручинин подошел к Грачику,
без стеснения взял его за подбородок и повернул лицом к свету. - Не
так давно ты был неудержимым оптимистом. Разве не ты говорил, что
недалеко время, когда наша профессия отомрет. Помнишь: "Наши потомки
будут глядеть в словарь, чтобы понять значение термина розыск, когда
встретят его в литературе".
- Так это же потомки! А я хочу сам - живой Сурен Грачьян - сунуть
под стекло музея свое удостоверение.
- Мечты!
Грачик помотал головой, словно освобождаясь от назойливых мыслей.
- Действительно, чего это я расфилософствовался?.. А все этот
Мутный!
Вторая неприятность этого дня ждала Грачика вечером, когда он
пришел в прокуратуру, чтобы посмотреть кое-что в деле Круминьша и
проверить появившиеся новые мысли. Занятия были закончены, сотрудники
разошлись, сейф опечатан. Грачик в раздумье уселся в приемной,
машинально прислушиваясь к голосу какого-то посетителя, взволнованно
убеждавшего дежурного выслушать его показание и принять меры к розыску
появившегося в Риге военного преступника - эсэсовца из лагеря смерти
"Саласпилс". Когда посетитель - это был Ян Йевиньш, - указывая приметы
эсэсовца, упомянул об его легкой хромоте, вызываемой искривленностью
правой ступни, Грачик насторожился. А дальше дело пошло так, что
Грачик, казалось, мог забыть все неприятности дня. День неудач обещал
превратиться в день большого успеха: если верно то, что говорит
Йеминьш, организатор покушения на Круминьша (Грачик ни на миг не
сомневался в том, что Квэп и есть тот, кто ему нужен) был еще в Латвии
и даже, может быть, в Риге! Оставалось найти его и схватить.
На столе лежало кепи, принесенное Йевиньшем. Грачик долго
рассматривал его, ощупывал, прищурившись приглядывался, отставив на
вытянутую руку. Даже поднес его было к носу и, если бы не
отталкивающий вид засаленной подкладки, наверно, с интересом обнюхал
бы.
- Может ли это быть совпадением - такое сходство?.. Или... это и
есть кепи женщины с островной мызы?
- Вы уверены в том, что эта шапка принадлежит пострадавшему,
которого вы называете Квэпом? - спросил Грачик.
Йевиньш смерил его таким взглядом, словно сомневайся в его
умственных способностях.
- Что значит "я называю его Квэпом"? Так он же и есть настоящий
Квэп!
- И милиционер сказал вам, что шапка принадлежит Квэпу?
- Милиционер? Нет! Разве я сказал милиционер? Это сказала наша
приемщица. И не все ли вам равно, кто это сказал? - Йевиньш пожал
плечами, словно Грачик попусту тратил время на расспросы, но тот
настойчиво повторил:
- А кто сказал это приемщице?
- Откуда я знаю, кто ей сказал? - Йевиньш не мог скрыть смущения.
- Может быть, никто ей не говорил.
Грачик с трудом скрывал разочарование, вызванное
неопределенностью этих показаний.
- Значит, - сказал он, - вы не можете утверждать, что этот
головной убор оставлен на месте происшествия именно Квэпом. - Грачик
уставился на Йевиньша, по-видимому не подозревавшего, как важны для
Грачика его ответы и сколько огорчения несет следователю его
неуверенность. Если не удастся подтвердить принадлежность этой шапки
Квэпу - рушится цепь, блестящая и простая цепь, построенная Грачиком:
шапка женщины с мызы на Квэпе! Сегодня же можно выписать ордер на
арест этой особы. И - первое звено в руках Грачика! За него он вытянет
всю цепочку - всех одного за другим посадит на скамью подсудимых!
Важно, ох как важно ему услышать сейчас твердое и ясное "да, это шапка
Квэпа". А вместо того - эта размазня портной... Внезапно новая мысль
мелькнула у Грачика. Он перехватил растерянный взгляд Йевиньша и, не
отпуская его, спросил:
- А можете ли вы утверждать, что эта шапка не оставлена одной из
женщин, приходивших к вам самому в ателье?
Портной сделал попытку отвести взгляд, но Грачик не отпускал его.
Он вцепился в него своими жгучими, черными глазами и держал, держал
его. И вот фигура Йевиньша секунда за секундой стала утрачивать свою
франтоватость и подтянутость. Словно ставший непомерно большим, пиджак
собрался в складки, плечи обвисли, рукава вытянулись по сторонам стула
почти до полу. Можно было подумать, что Йевиньш в одну минуту похудел
втрое и стал меньше ростом. Его выбритый до глянца подбородок
постепенно опускался к столу и, казалось, портной вот-вот сползет со
стула. Едва ворочая языком, он проговорил:
- Вы имеете в виду заказчиц?
- Я имею в виду женщин, посещающих вас в ателье под видом
заказчиц или просто в качестве... знакомых, - жестко пояснил Грачик.
Быть может, в молчании протекло всего несколько секунд, но они
показались томительно долгими обоим. Йевиньш ухватился за край стола,
будто боясь упасть и сделал несколько судорожных глотательных
движений.
- Чего вы от меня хотите?! - наконец жалобно выдавил он из себя и
закрыл лицо руками. Он молчал и медленно покачивался взад-вперед.
Глядя на его белые руки с холеными ногтями, Грачик думал о том, что
похоже будто его внезапная догадка не лишена оснований. Если, выйдя
отсюда, портной попытается установить связь с хозяйкой мызы,
предупредить ее о догадливости следователя, Грачик захватит их обоих -
в его руках будут сразу два звена! Остается, конечно, загадкой, ради
чего портной притащился сюда со своим заявлением? Не хотел ли он
навести власти на ложный след? Если так, то грош цена его заявлению,
будто пострадавший - Квэп.
- Если вы хотите убить меня, - проговорил между тем едва слышно
Йевиньш, - так вам осталось совсем, совсем немножко. Еще несколько
таких же ужасных слов, и мое сердце совсем остановится. - Только тут
Грачик заметил, что подглазья портного стали совсем черными, губы
посинели. Грачик поспешил налить ему воды, но Йевиньш отстранил
стакан, достал из жилетного кармана крошечный пузырек и два раза
лизнул его пробку. С минуту после этого он сидел опустив веки,
наконец, провел рукой по лицу: - Стыдно вам, гражданин прокурор,
думать такое! - он с укоризной покачал головой. - Разве Квэп не наш
общий враг? Я потому и прибежал к вам, хотя у меня, вот, сердце... Но
чего я не могу, так не могу: подписать, что это его шапка... Очень
сожалею, но не могу.
Грачик молча наблюдал, как он усталыми движениями дрожащих
пальцев застегивает воротничок, завязывает галстук. Несмотря на
очевидное страдание, он делал это со всем старанием. Наконец, он
поднялся со стула и, держа шляпу в вытянутой руке, сказал:
- Если я вам понадоблюсь, то с девяти до шести я в ателье.
Перерыв на обед с трех до четырех.
Он раскланялся и, переступив порог, бережно надел шляпу.
Грачик долго еще вертел в руках злополучное кепи.
Поутру он допросил приемщицу ателье "Максла". Да, ей показалось,
что это кепи оставил в ателье милиционер, когда пришел вызвать скорую
помощь; да, она так и сказала Йевиньшу. Но отказывается подписать
показание о том, что это кепи принадлежит потерпевшему - возможно, что
она ошиблась и кепи действительно забыто какой-нибудь дамой, хотя на
ее личный взгляд это маловероятно: их заказчицы не надели бы такого
грязного кепи. Помнит ли она, какие дамы, кроме заказчиц, приходили к
Йевиньшу? Нет, она не наблюдает за частной жизнью Яна Яновича! (При
этих словах девушка обиженно поджала губы и опустила глаза.) Не может
она ничего сказать и о цвете волос его посетительниц: их бывает
слишком много...
Приемщицу сменил милиционер. Его показания были более
определенны: он не помнит, чтобы принес в ателье какую-нибудь шапку.
Пострадавший действительно отбыл с места происшествия без головного
убора, но он - сержант милиции Вилис Дробинский здесь не при чем. Нет,
положительно он не помнит, чтобы отнес шапку неизвестного в ателье
"Максла". Это не отмечено в его рапорте, Грачик может убедиться.
Итак?.. Если бы приемщица опознала в кепи вещь блондинки,
приходившей к Йевиньшу, - Грачик был бы даже доволен тем, что шапка не
оставлена Квэпом. (В том, что пострадавший - это Квэп, он опять почти
не сомневался: уж очень совпадал словесный портрет, сделанный портным,
со всем, что было известно следствию.) Но так как приемщица не могла
сказать ничего путного, как и Йевиньш, то Грачик мог только огорчаться
тем, что никто не опознал в шапке вещь пострадавшего.
Есть ли у него новые данные для того, чтобы отправиться на остров
с ордером на обыск или даже на арест? Сам он как прокурор
санкционировал бы такой ордер в полном согласии с законом и с
собственной совестью?
Неизвестно, нашел бы он выход из этого затруднения или нет, если
бы Кручинин, повертев в руках пресловутое кепи, не сказал:
- Что может быть проще: ежели шапку носила твоя мызница, а потом
надевал Квэп, то почти наверняка там осталось хоть по волоску из
шевелюры каждого. Дай шапку экспертам.
- Нил Платонович! - только и нашелся воскликнуть Грачик,
пораженный не простотой решения, а тем, что он не нашел его сам, хотя
отлично знал возможности экспертизы и не раз прибегал к ней в подобных
случаях. Он трагическим жестом схватил себя за голову и покачал ею из
стороны в сторону. - Нет, не совсем пустая, - заявил он с самым
серьезным видом, - значит, это временное затмение.
- Будем надеяться, - в тон ему серьезно согласился Кручинин.
Спешное задание было уже выполнено экспертами. Заключение
гласило, что несколько женских волосков светлой окраски (естественная
пигментация, без применения химии) были найдены прилипшими к жировому
слою (бриолин изготовления рижской фабрики "Дзинтарс") на подкладке
шапки. Кроме того, обнаружены 2 (два) волоса из мужской бороды тоже
светлой окраски (естественный пигмент) со слабым признаком поседения.
- Ну вот и все! - сказал Кручинин таким тоном, словно все это
само собою разумелось заранее. - Теперь ты знаешь все, что тебе нужно.
- Ну, что же: брать ее или не брать? - Грачик делал вид, что
задает этот вопрос самому себе. Он мало надеялся на то, что Кручинин
разрешит его недоумение, имевшее существенное значение для всего
дальнейшего хода расследования. И действительно, Кручинин, казалось,
не слышал вопроса. Только по тому, как сощурились глаза учителя,
которые он поспешил отвести в сторону, Грачик понял, что он ждет от
него самостоятельного решения, сообразно здравому смыслу и в полном
соответствии с законом.
41. СЛАДКИЕ СНЫ АРВИДА КВЭПА
Грачик еще раз повидался с Силсом. По его мнению, парень
действительно не знал, кто доставил ему сообщение. Ночью он проснулся
от стука в окно и увидел, что в отворенную форточку падает листок. Это
и была сложенная особым образом записка с отметками, указывающими
способ проявления тайнописи.
Силс сидел перед Грачиком, удрученный тем, что "те" не оставляют
его в покое.
- Не знаю, что делать, - уныло говорил он, - именно не знаю.
- Отдать эту записку мне и забыть о ней, - сказал Грачик.
Силс в сомнении покачал головой.
- ...А Инга? - проговорил он.
О ней-то Грачик и забыл. А было ясно, что на этом пункте
сосредоточены все мысли Силса. Что мог тут посоветовать Грачик, чем
мог помочь? Силс ушел от него таким же подавленным, как пришел. Но
когда Грачик, по обыкновению, перебирал в памяти только что
приведенный разговор с Силсом, то остановился на показании Силса о
том, что ему, в свое время, была дана резервная связь. Силс не
вспоминал о ней, так как не пришлось ею пользоваться. К тому же он не
получил пароля этой связи. Но с этого момента мысль Грачика настойчиво
возвращалась к обстоятельству забытой и не использованной Силсом линии
связи. В этом не было ничего необычного. Нередко, при ведении дела, в
нем попадалась какая-нибудь деталь, прошедшая мимо внимания Грачика.
Бывало, что потом эта деталь оказывалась существенной. Бывало, и
нередко, что она оставалась пустяком, случайностью, не имеющей
отношения к делу. Но в любом случае она держалась в памяти Грачика,
досаждала ему, пока он не вписывал ее в дело, либо окончательно
отбрасывал. И не было ничего удивительного в том, что упоминание Силса
о женщине-связной застряло в мозгу Грачика, как заноза. Эту занозу так
или иначе нужно было извлечь - с пользой для дела или хотя бы для
того, чтобы о ней забыть. Мысль об этой линии связи неизбежно
ассоциировалась с женщиной с острова у озера Бабите. Так вот перед ним
и вставали: черная река, неприветливый дом старой мызы и непременно
большое, красиво оправленное зеркало. А в зеркале - слабо освещенное
керосиновой лампой отражение полупьяной женщины в сером костюме.
Грачику начинало казаться, что тогда он был недостаточно внимателен и
пропустил, вероятно, много мелких деталей, которые помогли бы теперь
кое-что понять. Разве эта женщина не следила за каждым его движением
из-под локтя, делая вид, будто оправляет прическу? Разве не делала она
попытки удержать его у себя, чтобы напоить? Чем? Кто знает, что дала
бы она ему?.. Конечно, он должен был быть внимательнее. Хотя... какие
у него были тогда основания выделять именно эту женщину из сотен
других, попавшихся на его пути с начала расследования по делу
Круминьша?.. И уж во всяком случае неразумно упрекать себя в том, что
он тогда не установил за нею наблюдения...
Грачик провел рукой по волосам и тряхнул головой, отгоняя
навязчивую мысль: "Ошибка, ошибка... Может быть, непоправимая ошибка:
связная могла исчезнуть..." Эта мысль не покидала его. Чувство,
похожее на стыд, мешало ему сказать Кручинину, что он хочет побывать
на острове раньше него, чтобы еще раз пройти тем же путем, каким шел
первый раз. Нужно было отвязаться, наконец, от сомнения, мешавшего
работать, и, если нужно, задержать связную. Самолюбие требовало, чтобы
это было сделано без помощи Кручинина.
А не взять ли с собою кепи, доставленное Йевиньшем?.. Зачем?
Предъявить его женщине?.. Так он успеет сделать это и здесь, не
нарушая процессуального порядка. Пока же ему достаточно будет узнать,
есть ли у женщины ее кепи, если нет, отпадут все сомнения: ее кепи
очутилось на Квэпе...
Из боязни спугнуть женщину Грачик приказал оперативным
сотрудникам подъехать к перевозу через полчаса после него и не
переправляться на остров раньше рассвета. В случае экстренной
надобности он вызовет их сигналом.
И вот он один подъехал к берегу протоки.
Все тот же дом перевозчика, окруженный начинающими поникать
березками. На этот раз паром оказался на ближнем берегу. Быть может,
только поэтому Грачик не оставил свою "Победу" здесь, а вместе с нею
переправился на пароме. Взобравшись на высокий берег протоки, Грачик
запер машину и постоял с закрытыми глазами, чтобы восстановить в
памяти обстановку прошлого приезда: "лодка, пьяная женщина, жалобный
крик "лудзу... лудзу"... едва заметно светлеющая полоска тропки у
поросшей травою дороги, старая мыза. Грачик шел, пристально
вглядываясь в полоску тропы. Лес сходился все ближе. Из-за высоких
сосен не было видно ни ущербного месяца, ни даже звезд. Небо над
головой было затянуто облаками. Темень кажется совсем такою же, как в
тот раз. И так же тихо было вокруг. Не слышалось даже шороха шагов
спутницы, шедшей тогда перед Грачиком. Ее смутный силуэт не перекрывал
теперь белесоватую полоску тропы... Скоро из-за деревьев налево
показалась крыша старой мызы. Вот и слуховое окно. Оно, как и тогда,
глядело лишенным стекла переплетом... Словно дом ослеп... Дом с
выколотыми глазами... Вот и кусты сирени. На этот раз они еще темней
окружающего фона. На них уже нет листвы и отягощавших их в прошлый раз
цветов. Голые ветви задевают Грачика по плечам, по лицу...
За поворотом блеснуло красным светом окно. Огонь одинокой свечи
оказался слишком слабым, чтобы можно, было что-нибудь разобрать сквозь
прикрывающую стекло занавеску. Грачик остановился у кустов.
- Ты бы снял сапоги, - с неудовольствием сказала Линда. Квэп
недовольно повел глазами в ее сторону и продолжал молча курить. Дым
подолгу оставался у него в легких и выходил из ноздрей ленивыми сизыми
струйками. Когда от папиросы пошел запах горящего картона, Квэп крепко
прикусил мундштук и, не поднимаясь, затушил окурок об ножку кровати.
Словно нехотя, медленно поводя глазами из-под полуопущенных век, он
следил за двигавшейся по горнице Линдой. Она что-то говорила ему, но
он и впрямь ничего не слышал, как будто ее шевелящиеся губы вовсе не
производили звуков. Квэп устал. Ему было не только тяжело двигаться,
но даже говорить. Он думал о своем - так же медленно и лениво, как
курил, как двигал рукой, гася окурок, как шевелил веками, силясь
удержать глаза полуоткрытыми. Если бы не эта нечеловеческая усталость,
Квэп ни за что не пришел бы сюда. Он знал, что это очень опасно. Знал,
что за домом и даже за всем островом может быть установлено
наблюдение, если расследование напало на его след.
Но во всей Латвии не было другого угла, где бы он мог лечь, зная,
что рядом с ним человек, который не пойдет в милицию, как только Квэп
заснет. Это вовсе еще не было безопасностью, а только ее иллюзией. Но
даже такая иллюзия была лучше необходимости спать на садовых
скамейках. Здесь по крайней мере не нужно было мучительным усилием
заставлять себя сидеть так, чтобы не привлечь подозрительных взглядов
секретных агентов, чудившихся ему в каждом прохожем. Даже дети в
последнее время представлялись ему агентами розыска, напавшими на его
след. Это было невыносимо, не хватало сил бороться с усталостью, и он
пришел сюда, хотя знал, что, может быть, идет в засаду. Уверения Линды
в том, что все обстоит благополучно и что здесь можно быть совершенно
спокойным, не убеждали Квэпа. При всем опыте Линды она была всего
только женщиной и только связной. Да и связной она работала не так-то
уж давно - лишь с тех пор, как сошлась с ним. Откуда же ей знать, как
это бывает: как человек узнает, что на его следу стоит преследование,
как дрожит каждый нерв человека, уходящего от преследователей, как,
затаившись в новом убежище, человек выжидает: спасен или нужно
срываться и, петляя, как волк, уходить, уходить... Откуда Линде
знать?!
- Сними сапожищи, - повторила Линда, но он и на этот раз не
обратил на ее слова внимания. Тогда она подошла и, подняв одну за
другою его ноги, отяжелевшие, как вынутые из воды бревна, стянула с
них сапоги. Он даже не привстал, чтобы облегчить ей это. В том месте,
где со стуком один за другим упали брошенные Линдой сапоги,
мелкий-мелкий, почти белый речной песок покрыл потемневшие доски давно
не мытого пола. А Квэп повернулся лицом к стене и, несколько раз
взглянув на желтые выцветшие обои, опустил веки. Он так устал, что,
кажется, даже появись тут сейчас преследователи, - он не повернется,
не встанет и не попытается бежать. При этой мысли он внутренне
усмехнулся: бежать без сапог?.. Бежать?.. Снова бежать?.. Нет! Сначала
он должен выспаться. Хоть раз выспаться так, чтобы все мышцы не
находились в постоянной готовности сбросить тело с постели и заставить
бежать... Бежать?! Нет! Об этом он не может и думать. Несмотря на
очевидную безрассудность, он готов поверить Линде, что тут он в
безопасности... Да, да, он хочет этому поверить! Он хочет спать!.. Где
блаженное время, когда он мог спать, сколько угодно, когда никого не
нужно было бояться?.. Какое удивительное, какое неправдоподобное
состояние: спать так, чтобы спало все - мозг, тело! Чтобы можно было
раздеться, растянуться в постели и храпеть - сколько угодно и как
угодно громко храпеть! ...Даже трудно себе представить, когда он так
спал в последний раз и сможет ли еще когда-нибудь поспать?.. Вообще
жизнь... Жизнь... Странный путь проходит по ней человек. Допустим, что
это вполне ясно: серый барон Арвид Квэп должен был прийти в
"Саласпилс" и должен был там стать тем, кем стал, - недаром же он
считался верховодом во всех затеях, где надо было дать жару красным!
Кубик на воротнике айзсаргского мундира обязывает. И, может быть, не
простая игра судьбы то, что на воротнике шарфюрера Квэпа оказался
такой же кубик!.. Такова закономерность истории... История!.. Когда-то
и он тратил время на то, чтобы слушать болтовню учителей о том, что
было на земле до него. Это они называли историей, не умея толком
объяснить ни почему случилось то или другое, ни того, что случится
потом... Он только и запомнил любимое словечко учителя "закономерность
истории". Квэп сделал свой собственный вывод - закономерно то, что
согласуется с его волей. Всякое препятствие на его пути - противно
закону жизни. Вот и все. (Серыми баронами в буржуазной Латвии называли
кулаков - крупных хуторян.)
В силу этого положения действительно было закономерным наличие на
его воротнике в лагере "Саласпилс" такого же кубика, какой прежде
красовался на его мундире айзсарга; закономерно было то, что сорок
тысяч душ уничтожили в "Саласпилсе", а его, Квэпа, не убили - он сам
убивал; закономерно было то, что, отступая из Прибалтики, гитлеровцы
бросили на произвол судьбы тысячи эсэсовцев-латышей, а его, Квэпа,
взяли с собой; закономерно, что в лагере "Э 217 для перемещенных"
одиннадцать тысяч латышей бедствовали на положении пленников, а он,
Квэп, процветал в положении их тюремщика. Но совсем незакономерно было
то, что он валялся тут, терзаемый животным страхом, который заглушала
только такая же животная усталость. А впрочем... впрочем, даже это
было, по-видимому, закономерно. Не будь отец Ланцанс хорошего мнения о
Квэпе, то, наверно, и не вспомнил бы о нем, когда нужно было послать
сюда верного человека. И тогда Квэп продолжал бы спокойно жить в своем
домике возле лагеря для перемещенных Э 217, есть оладьи и греть руки
под мышками у Магды. Но вот она, эта чертова "закономерность": Ланцанс
знал, что может доверять Квэпу в самых деликатных делах... При мысли о
"деликатных делах" что-то вроде усмешки тронуло толстые губы
засыпающего Квэпа. Ему припомнилась одна давняя история. Его пригласил
к себе отец Язеп Ланцанс и сделал ему весьма деликатное предложение:
предстояла отправка партии "перемещенных", завербованных в Южную
Америку, и Квэп может получить место начальника партии, вернее:
начальника конвоя. В этом не было ничего необычного. Практика прежних
отправок говорила, что на пароходе всегда может оказаться человек,
способный испортить операцию, и дело может окончиться бунтом. Чтобы
справиться с бунтом, нужны привычные и умелые люди - такие, как Квэп.
Но, как оказалось, сама суть заключалась в том, что следовало дальше:
обратным рейсом Квэп должен был доставить секретный груз,
составлявший, по словам Ланцанса, его личную собственность. Тут
епископ покривил душой: секретный груз составлял собственность
Общества Иисуса. Ланцансу, как иезуиту, непосредственно
соприкасающемуся с операциями перевозки людей через океан и могущему
поэтому произвести транспортировку груза наименее приметно,
принадлежала роль комиссионера.
Отец Ланцанс был так деликатен, что ни разу не назвал секретный
груз его собственным именем. Но Квэп понял: за океан он отвезет
рабов-латышей, оттуда же доставит рабынь - южно-американок. Европейцам
суждено заживо гнить в принадлежащих Ордену Иисуса рудниках Южной
Америки, южно-американкам - гнить в притонах Европы, принадлежащих
тому же ордену Иисуса. Это было как бы операцией внутреннего обмена -
рабов одного цвета на рабынь другого.
"Ничего особенного", - подумал Квэп, выслушав иносказания отца
Язепа. И вслух повторил:
- Ничего особенного.
Ничего особенного не случилось на всем долгом пути от Любека до
Рио с двумя тысячами латышей, именем распятого приговоренным к
каторжным работам в шахтах. Путешествие оказалось даже скучным: Квэпу
не пришлось никого сбросить за борт...
Не будучи физиологом, автор не может рассуждать о том, в порядке
вещей или нет то, что Квэп, уже почти погруженный в состояние сна, с
такой отчетливостью вспоминал события. Мы не знаем, где следует по
законам физиологии провести грань между воспоминанием и сновидением и
к какому разряду психофизиологических явлений следует отнести то, что
происходило в мозгу Квэпа. Но ведь не это сейчас и важно. Существенно
то, что представшее умственному взору Квэпа полностью совпадало с
истинным ходом вещей. Поэтому для простоты дела мы и позволяем себе
(вполне условно) называть это воспоминаниями Квэпа. Так или иначе, но,
дойдя до отмеченного места своих воспоминаний, Квэп пошевелил сонно
выпяченными губами и издал звук, похожий на сладкое чмоканье.
По-видимому, это могло означать, что его обратное плавание было более
интересным: на борту парохода "Оле Свенсен" под присмотром Квэпа
находилось 57 представительниц разных народностей Южной Америки,
переправляемых в Европу для пополнения публичных домов, принадлежащих
Ордену иезуитов. Та самая история, "закономерностью" которой было
участие Квэпа в операции, не сохранила исследователю материалов о
"счастливом" плавании. Но зато анналы полиции итальянского порта, куда
прибыл пароход "Оле Свенсен", содержат недвусмысленные следы того, что
не все, представляющееся закономерностью и удачей квэпам, умещается в
графе дозволенного даже покладистой полиции некоторых буржуазных
стран. Появление "Оле Свенсена" в порту не привлекло бы ничьего
интереса, кроме разве внимания лоцмана и таможенных досмотрщиков. "Оле
Свенсен" был старым морским бродягой, одною из бесчисленных ржавых
посудин, что бороздят воды всех морей и океанов в поисках выгодного
фрахта. Второй родиной такого морского "трампа" делается любой порт
мира, где владельцу или капитану было с руки платить портовый сбор.
Вид флага их не интересует: будь на нем изображен белый слон Таиланда
или белый крест Гельвеции - им наплевать. Но было бы ошибкой
допустить, что готовность капитана принять на борт любой груз и
доставить его в любую щель от Желтого моря до Караибского непременно
означает его непорядочность. Шкипер "Свенсена" - капитан дальнего
плавания Кнуд Хуль - готов был перевезти любой груз, за который ему
заплатят, но не согласился бы потерпеть ничего выходящего за пределы
дозволяемого пастором его родного городка.
Едва отхрипела и отлязгала разбитыми суставами машина "Оле",
притиснувшая его ржавый борт к причалу, и еще прежде чем укрепили
сходню, капитан Хуль, немолодой уже человек с прокуренными до желтизны
усами, придерживая выгоревшую шляпу, покинул свое судно и направился в
управление портовой полиции. Там, изъясняясь по-английски (капитан не
знал ни одного итальянского слова), Хуль объяснил полицейскому
комиссару, что отмеченные в судовой роли жирными чернильными крестами
фамилии принадлежали двум пассажиркам, которых он, капитан дальнего
плавания Хуль, принял на борт своего судна в Рио-де-Жанейро. Обе
пассажирки исчезли с судна посреди Атлантического океана, и он, Кнуд
Хуль, не желает нести ответственность за это грязное дело.
Оживившийся было при этом рассказе полицейский комиссар сразу
утратил интерес к делу, стоило ему услышать, что исчезнувшие
пассажирки принадлежали к группе "католичек-паломниц", которую
сопровождал агент благотворительного "братства святой Изабеллы".
Комиссар не счел нужным сказать седоусому моряку то, что сказал бы
другому, помоложе:
- Стыдно не знать такую фирму! Претензии к "братству Изабеллы"
так же бесплодны, как жалобы на господа бога.
А все, что с этой минуты говорил капитан Хуль, казалось входило в
одно ухо полицейского комиссара и тут же вылетало в другое. Он даже не
дал себе труда записать имя агента суперкарго Арвида Квэпа. Когда
капитан окончил рассказ, комиссар положил перед ним пустой бланк и,
указав место внизу листа, сказал:
- Вот здесь.
- Что?
- Подпись... Протокол...
- Но тут же ничего не написано.
- Не беспокойтесь, я все напишу потом, - любезно улыбнулся
комиссар.
- Мне было бы все равно, что вы тут напишете, - сказал Хуль, -
если бы не могло оказаться, что во всем окажусь виноват я сам. Лучше
уж вы запишите при мне то, что я сказал.
В раздумье поковыряв в зубах, комиссар отговорился недосугом и
велел капитану зайти на следующий день.
Друзья объяснили капитану Хулю: "братство Изабеллы" занималось
обменом женщин между Европой и Южной Америкой. Из Европы оно
перевозило в публичные дома латинской Америки "светлый товар" -
итальянок, француженок, немок и главным образом белокурых уроженок
Австрии; в Европу привозили "темный товар" - креолок, мулаток и
негритянок. Но не это заботило Кнуда Хуля, и Квэп не был первым
представителем подобного промысла, которого норвежец встретил на своем
капитанском веку. Речь шла о другом: если по наблюдениям и
предположениям Хуль соглашался с тем, что первая из двух исчезнувших
пассажирок попросту покончила с собой, бросившись в море, то вторая
вовсе не походила на человека, готового к самоубийству. Кое-что в
поведении Квэпа наводило капитана на мысль, что очутиться за бортом ей
помог именно этот агент "братства Изабеллы".
Хуль не был детективом-любителем. Разобраться в том, так это или
нет, и в обстоятельствах, послуживших поводом к убийству, капитан
предоставлял полиции. Но он сам не желал нести ответственность за
случившееся. Между тем поведение полицейского комиссара убедило Хуля в
том, что итальянская полиция не намерена заниматься этим делом.
Поразмыслив, капитан потратил вечер после окончания разгрузки "Оле" на
то, чтобы написать письмо в редакцию газеты, - он все еще думал о том,
чтобы оградить себя. Он еще не знал, в какую газету пошлет это письмо
и прочел его вечером в кругу таких же, как он сам, капитанов за
столиком одного из портовых ресторанчиков. Часть слушателей
одобрительно покачивала головами, другие посмеивались над
прекраснодушием, не идущим старому моряку.
Наутро Хуль отправился в первую попавшуюся редакцию, чтобы отдать
письмо, а когда вернулся на судно, полицейский комиссар уже ждал его.
- Вот, я принес бумагу, - сказал он удивленному такой любезностью
капитану. - Теперь советую подписать. - И комиссар повернул капитану
последнюю страницу густо исписанного протокола.
- Разрешите прочесть? - спросил Хуль.
- Вы же не знаете итальянского...
Хуль действительно не знал языка, но он позвал кочегара-итальянца
и велел перевести написанное. Из перевода он узнал, что де сам он
только для того и явился в полицию, чтобы отвести от синьора Квэпа
всякое подозрение в убийстве женщины.
- Ну, что же, - раздраженно ответил комиссар, - раз так - вам
придется еще разок пройтись к нам, в полицию.
- Хоть сейчас, - отрезал капитан.
- Нет, попозже вечерком, - ответил комиссар любезно, - тогда не
так жарко! - и покинул пароход, даже не отведав из бутылки,
поставленной на стол капитаном. Именно это и удивило больше всего
капитана: он почуял неладное.
Вечером Хуль пошел в управление портовой полиции. Часа два он
препирался с комиссаром из-за подробностей, которые хотел занести в
протокол. Когда они покончили с протоколом, на улице была уже ночь.
Работы в порту окончились. Он затих и обезлюдел.
- Проводите капитана, - сказал комиссар полицейскому,
присутствовавшему при опросе. Тот козырнул и молча последовал за
Хулем. Прежде чем затворить за собою дверь кабинета, полицейский
оглянулся на стоявшего за письменным столом комиссара. Тот молча
кивнул головой, словно прощался с широкой спиной моряка, где его синий
китель немного лоснился на могучих лопатках. На свою беду капитан Хуль
не обладал наблюдательностью, которая помогла бы ему заметить этот
сигнал комиссара и то, что за ближайшим углом сопровождавшего его
полицейского сменил не кто иной, как... Квэп.
Прошли сутки. Капитан парохода "Оле Свенсен" Кнуд Хуль не
вернулся на свой пароход. Тот же полицейский комиссар, в том же самом
кабинете подписал протокол о смерти неизвестного, по всем признакам
иностранного моряка, задушенного ночью на территории порта.
42. КОГДА ЛЕГКОМЫСЛИЕ МОЖЕТ СТОИТЬ ЖИЗНИ
Весьма вероятно, что случай на "Оле Свенсене" и смерть капитана
Хуля не заслуживали бы того, чтобы ими заниматься здесь, на страницах
отчета об антисоветской антидемократической диверсии. Десятки тысяч
женщин томятся в позорных клоаках мира, сотни из них, не выдержав
унижений, кончают с собой; и Кнуд Хуль не был первым моряком,
бесследно исчезнувшим в потемках попутного порта. В биографии Арвида
Квэпа это происшествие было лишь одною из вех, не вносивших ничего
нового в его образ. Но одно обстоятельство заставило нас задержать
внимание читателя на этих воспоминаниях сонного Квэпа: возможность
проследить еще одну из линий его связи с отцом Язепом Ланцансом. Мы не
собираемся здесь морализировать по поводу хорошо известной "морали"
иезуитов. Нас интересует лишь логика развития отношений между
отцом-иезуитом, доверенным лицом Ордена, организатором Католического
действия, фактическим примасом римской церкви среди "перемещенных"
прибалтов - епископом Язепом Ланцансом и беглым серым бароном, бывшим
айзсаргом, убийцей и поджигателем, бывшим эсэсовцем, палачом
нацистского лагеря "Саласпилс", провокатором и шпиком в лагере Э 217
для "перемещенных" - Арвидом Квэпом. Нас интересует то, что эти двое -
давнишние сообщники. Во всех их делах "идеологическим" вдохновителем
являлся Язеп Ланцанс, как и подобает высоко эрудированному
отцу-иезуиту, а физическим исполнителем был грубый, не привыкший много
размышлять Арвид Квэп.
Едва ли все эти соображения именно в такой форме приходили в
голову Арвиду Квэпу, когда он, лежа в постели Линды Твардовской,
вспоминал кое-что из своего прошлого, связанного с отцом Ланцансом, но
какая-то работа в его мозгу все же происходила: он то хмурился и
что-то бормотал сквозь дрему, то дул сквозь выпяченные губы и
удовлетворенно улыбался.
У нас нет оснований утверждать, что Линда знала всю жизнь своего
сожителя. Скорее всего она имела о нем лишь общее представление. Но и
то, что она знала, заставляло ее иногда в раздумье останавливаться над
спящим Квэпом, от которого сейчас так дурно пахло немытым телом и
нестиранным бельем. Кто знает, что предприняла бы она сейчас, когда он
лежал здесь истомленный преследованием, лишенный сил к сопротивлению и
бегству, если бы над нею не довлела мысль о веревочке общего
преступления, накрепко связавшей ее с Квэпом и вынуждающей заботиться
о его безопасности. Была ли в этих мыслях, в этой заботе хоть малая
толика того, что когда-то связало ее с Квэпом - хоть крупица
чувства?.. Читатель не должен смешивать то, что вложено в этот термин
Линдой, с понятием о любви, какая движет человечеством в его лучших
побуждениях. Пусть каждая категория индивидуумов по-своему понимает
это слово, но оно все же должно быть исключено из круга терминов,
понятных и свойственных существам, подобным Квэпу и Линде. Было ли
любовью то, что заставило Линду пустить к себе в дом бородатого силача
в куртке эсэсовца, от которого за версту пахло кровью и намыленной
веревкой палача? Было ли любовью то, что заставило ее позже исполнить
первое поручение Квэпа по подпольной связи? Было ли любовью то, что
сделало из Линды укрывательницу его сообщников-диверсантов; что
сделало из нее врага ее народа и страны? Могло ли быть любовью то, что
заставило Линду предпочесть этого человека родной дочери?..
Линда стояла над постелью, где храпел Квэп, и какой психолог
может сказать, что отвечала она сейчас на вопрос, задаваемый самой
себе?..
Рукоять пистолета высовывалась из-под подушки, где его спрятал
Квэп. Взгляд Линды переходил от мягкого, розового затылка Квэпа к
этому черному, твердому, как кость, кусочку эбонита. Взгляд ее так
пристально и так долго оставался на затылке Квэпа, что спящий
пошевелился, пробормотал что-то во сне, перестал храпеть и,
перевернувшись на спину, раскинул руки. Линда стояла с высоко поднятой
в руке свечой и глядела. Рука ее вздрагивала, и вокруг рта ложилась
все более и более глубокая складка. Наконец, Линда отошла к столу и,
так же, как прежде на Квэпа, стала глядеть на стоявшую посреди стола
водочную бутылку. Потом взяла ее и медленно, запрокинув голову,
сделала несколько глотков.
На дворе громко зазвенело упавшее ведро. Линда поспешно поставила
бутылку и задула свечу.
Ведро, о которое споткнулся Грачик, со звоном катилось по двору,
Грачик понял, что оно не случайно очутилось на тропинке, ведущей к
двери дома. Едва он успел осознать несвоевременность этого шума, как
мимо окна, внутри горницы, мелькнула тень. Свеча погасла. Исчезла
лежавшая поперек двора полоса тусклого света. Вокруг воцарилась такая
же темень, как в лесу. Но Грачику она казалась теперь еще гуще. Он
застыл в нерешительности. Было слышно, как осторожно отворяется
невидимая теперь дверь. Не видно было и того, кто ее отворил.
Казалось, стало еще тише и темнее. Но вот, как удар, на сознание
Грачика обрушился яркий луч электрического фонаря. Он полз по двору,
обшарил живую изгородь, остановился на Грачике. Свет был ослепителен.
Грачик прикрыл глаза ладонью. Послышалось негромкое, но совершенно
отчетливое приглашение:
- О, лудзу!
Грачику показалось, что в голосе женщины прозвучала насмешка. Да,
это была она - его старая знакомая с парома. Она посторонилась и,
осветив фонарем внутренность горницы, жестом предложила Грачику войти.
Она зажгла свечу и, не говоря ни слова, как если бы это было самое
важное, первоочередное дело, включила радиоприемник. Грачик молча
следил за ее действиями. А она, дав музыку погромче, вышла в кухню.
Грачик оглядел комнату: смятая, небрежно прикрытая одеялом постель,
оброненная на пол подушка. Возле постели светлое пятно от тонкого слоя
мелкого-мелкого, почти белого речного песка. И в этом песке ясный след
подошвы - слишком большой, чтобы принадлежать женщине. На столе в
блюдце куча окурков со следами губной помады. Возле кровати на полу
изгрызенный окурок папиросы. На обгоревшем мундштуке не было следов
помады. Было очевидно: это не окурок хозяйки. Грачик поднял его и
сунул в карман. Тут взгляд его, как и в прошлый раз, остановился на
большом зеркале в резной золоченой раме, так плохо гармонировавшей с
убогой обстановкой дома. А в зеркале... в зеркале он увидел отражение
хозяйки. Она вошла неслышно и стояла у двери. Грачик задал себе
тревожный вопрос: видела ли она, как он подобрал окурок.
Женщина сделала несколько поспешных шагов к кровати и словно
невзначай прошлась по рассыпанному у кровати песку и затоптала
видневшийся на нем след.
Грачик подошел к приемнику и уменьшил громкость. И тут ему
показалось, что он слышит, как где-то за кухней скрипнула дверь.
Очевидно, кто-то вышел из дома или вошел в него. Грачик сделал вид,
будто не обратил на это внимания.
- Наверно, помните меня, - сказал он как можно спокойней. -
Когда-то мы вместе пришли с берега.
Женщина кивнула и ответила невпопад, потому что, как показалось
Грачику, и она тоже слышала скрип двери:
- Сейчас будет чай. - Она поставила на стол начатую бутылку
коньяку и две чашки.
С таким видом, словно появление гостя ее не удивило, женщина
заговорила о пустяках: погода, охота, цены на рынке - обо всем, что
только могло занять время, дотом снова ушла в кухню.
Грачик подождал ее возвращения и сказал:
- Мне понравилось ваше кепи, эдакое с клапанами для ушей. Хочу
заказать себе такое же.
- Кепи? - ответила она, делая вид, будто не может припомнить. -
Кепи?.. Ах, да, припоминаю! Это действительно было очень хорошее кепи.
- Она подумала. - Я забыла его в вагоне, когда ездила в Ригу.
При этом она без малейшего смущения смотрела Грачику в лицо
своими серыми, сощуренными от папиросного дыма глазами.
Явная настороженность женщины, подозрительный шум в кухне,
хлопнувшая дверь, окурок без следов губной помады, исчезновение кепи -
все это сплелось в единую цепь обстоятельств, подтверждающих
причастность женщины к делу Круминьша. Сейчас, когда Грачик размышлял
над этим, вспомнилось и то, что не получило в его мыслях оформления в
прошлый раз: дамский крем в качестве смазки пистолета "вальтер".
Теперь ему уже казалось, что он совершил ошибку, поехав сюда до
Кручинина, не умнее ли было бы последовать за Нилом Платоновичем,
заручившись ордером на обыск в доме, а может быть, и на арест этой
женщины. Сдается, что ей есть что рассказать.
Хотя для такого предположения у Грачика еще не было никаких
реальных оснований, ему уже ясно чудилось, что именно Квэпа он сегодня
и спугнул. Да, кстати, мысль Грачика как бы споткнулась: он силился
припомнить, видел ли он сегодня на комоде тюбик с кремом, замеченный в
прошлый раз... Видел ли он его сегодня?.. Хорошо было бы получить его
при обыске, который будет здесь произведен. Вот к чему приводит...
Самолюбие?.. А может быть, и что-нибудь еще худшее, чем простое
самолюбие?.. Кулаки Грачика сжимались от досады: какой же он
самовлюбленный осел!.. Да, положительно это была глупость: опередить
Кручинина из пустого самолюбия. Чего доброго, он спугнул отсюда
кое-кого, может быть, даже именно того, кого ищет, - Квэпа.
Женщина сидела по ту сторону стола и курила, по-мужски, на
отлете, держа сигарету. Грачик торопливо прикидывал, стоит ли тянуть
время до рассвета, когда подойдут сотрудники для обыска и, может быть,
для ареста женщины? Не лучше ли вызвать людей теперь же? Да, пожалуй,
неразумно торчать тут одному в ожидании, что вздумает предпринять
улизнувший и пока притихший (надолго ли?) сообщник хозяйки. Грачик
старался даже мысленно (чтобы не сглазить) не называть этого
таинственного неизвестного Квэпом, хотя подсознательно в нем жила
крепкая уверенность в том, что это был именно Квэп. Мысль Грачика ни
на минуту не останавливалась на том, какую опасность могло таить в
себе внезапное появление палача-диверсанта. Он думал только о том, что
преступник может уйти. Правда, отсюда на материк один путь - тот,
которым он сам пришел, через протоку, а у протоки уже дежурят
оперативники. Но разве человек, хорошо знающий местность, не найдет
другого пути?.. Положительно, нужно как можно скорее связаться со
своими людьми. Но как уйти к берегу?.. Не оставить же здесь эту особу,
с издевательским спокойствием прикуривающую третью сигарету!.. Право,
как непозволительно плохо, просто легкомысленно он организовал
операцию! Хорошо, что об этом не знает Кручинин, - вот бы выдал он ему
на орехи!
- Когда-то я проводил вас сюда от берега... Помните, вы были...
нездоровы, - сказал он как можно более беззаботным тоном, - не
ответите ли мне любезностью: проводите меня к берегу.
Рука женщины заметно дрожала, когда она подняла новую сигарету,
чтобы опять прикурить от догорающего окурка, но голос не выдавал
волнения:
- Разве я выгляжу такой... глупой? - Она подняла взгляд и
посмотрела Грачику в глаза: - Я впустила вас без ордера потому, что
здесь у меня... не все в порядке с пропиской. Но взять меня?! - Она
покачала головой. - Для этого нужны основания... Закон есть закон.
Грачик заставил себя рассмеяться.
- Вы меня неверно поняли... мы с вами можем пройтись к берегу,
как простые знакомые, и, если нужно будет, я защищу вас от любых
случайностей, могущих ждать в этой глуши в темноте, - с этими словами
он положил перед собою пистолет.
- Плохо... очень плохо... - Она задумалась, но вдруг, взглянув на
часы, повеселела и совсем другим тоном сказала: - Хорошо, идемте,
лудзу. - И рассмеявшись: - Вы, вероятно, хотите, чтобы я шла
впереди?.. Лудзу...
Она шла молча и быстро. Было очень темно, так как месяц уже
зашел. Грачик несколько раз споткнулся. Но он не решался посветить
себе фонарем, чтобы не привлечь внимания того, кто мог скрываться за
любым кустом, в любой канаве. Он не боялся за себя, но мысль о том,
что из-за его легкомыслия может уйти еще и женщина, была непереносима.
Эта мысль заставила его держать пистолет в руке, с пальцем, положенным
на предохранитель.
Наконец сквозь деревья блеснула гладь реки. Хотя и вода была
темной, почти совсем черной, а может быть именно потому, Грачику
показалось, что вокруг стало немного светлей. Внизу, под обрывом,
смутно виднелся помост причала и перекладины паромных перил. На фоне
неба ясно светлела кручининская "Победа". Грачик отпер дверцу и жестом
пригласил спутницу сесть. Она послушно заняла место впереди. Грачик
завел мотор. Но тут, прежде чем он отпустил тормоз, женщина громко
сказала:
- Нет, я раздумала. - С этими словами она распахнула дверцу и, не
спеша, не выказывая намерения бежать, вышла из автомобиля. После
короткого размышления Грачик сказал:
- Хорошо... Спустимся к парому.
- Лудзу, - спокойно ответила она и первая сошла с берегового
обрыва. Грачик поднес к губам свисток, но тут его внимание привлекло
послышавшееся на берегу странное шуршание. Он быстро оглянулся, и ему
показалось, что "Победа" движется. Ее мотор неистово взвыл, и светлая
масса машины, как сорвавшаяся скала, устремилась вниз, прямо на
помост, где стояли Грачик и женщина. Над рекой разнеслось эхо двух
выстрелов, словно, стреляя в низвергающийся автомобиль, Грачик мог его
остановить. Еще миг - и автомобиль рухнул в реку, увлекая за собой
сбитого с ног человека.
...Был десятый час утра, когда Кручинин, удивленный отсутствием
Грачика на работе, приехал в Задвинье. Хозяйка не знала, где ее жилец:
он уехал вчера вечером и с тех пор не появлялся.
Кручинин решил оставить записку. Подумав, написал:
"Помнишь пари? За тобою мой выигрыш - твоя голова: одновременно с
исчезновением Силса на бумажном комбинате произошла авария с сеткой.
Кстати: было бы хорошо, если бы ты без моего ведома не брал "Победу".
Я еду на остров, вернусь завтра. Н. Кр."
На конференции юристов - сторонников мира - в Праге юристы стран
народной демократии и прогрессивные представители юридической науки
Италии, Франции, Австрии и Западной Германии выработали конкретный
план того, что они могут сделать для укрепления мира. Внесли в это
дело свой вклад и криминалисты. Среди них выступление Кручинина,
представлявшего Советский Комитет защиты мира, привлекло к себе общее
внимание. Его доклад на тему "Современный империализм - питательная
среда преступности" оказался очень острым. Кручинин построил доклад
так, что проблема "перемещенных лиц" - их юридический статус и судьба
- переросла рамки частного вопроса и обрела общечеловеческий смысл.
Собравшиеся на конференцию юристы лучше других понимали, что совесть
человечества не имеет права на покой до тех пор, пока судьба сотен
тысяч людей не перестанет быть игрушкой темных сил. Сам термин
"перемещенные" под влиянием времени трансформировался в старый,
привычный термин "эмигранты". А ведь когда-то это слово стало
синонимом ненависти к собственной родине и существующему в ней
правопорядку. "Перемещенные" стали субъектами полного личного
бесправия, людьми без отечества, без подданства и, чаще всего, без
практической возможности добыть себе средства существования. Если
прибавить к этому, что "перемещенные" были живыми людьми, многими
тысячами мужчин и женщин, обладающих всеми потребностями, страстями и
инстинктами людей, то нетрудно себе представить, какое значение
приобретал вопрос об их потомстве. Будущим поколениям эмигрантов
угрожала участь потомственных ландскнехтов, продающих кровь свою и
жизнь монополистическому капиталу. Дискуссия по выступлению Кручинина
показала заинтересованность участников конференции в поставленной
проблеме. Нил Платонович получил приглашение посетить ряд стран.
Москва рекомендовала эти приглашения принять. Поэтому Кручинину
пришлось хотя бы накоротке побывать в Париже, Риме, Вене. Последнее
выступление Кручинина в Западной Европе состоялось уже на обратном
пути домой. Официальная части этой встречи протекала в атмосфере
дружеского внимания левой части общества и при неприкрытом
недружелюбии реакционных элементов местной юридической среды. Покончив
с делами, Кручинин решил использовать свое пребывание в живописной
стране - отдохнуть несколько дней в горах. С этой целью он облюбовал
скромный пансион на юге страны. Прелесть отдыха у Кручинина
удваивалась возможностью посидеть за этюдами среди своеобразной горной
природы. Удовольствие могло быть особенно полным благодаря отличному
качеству пастельных карандашей Шминке, которые он купил по дороге.
Одним словом, Кручинин уже смаковал предстоящий ему отдых, когда
произошло нечто, заставившее его бросить этюды, со всей доступной в
данных обстоятельствах поспешностью покинуть тихий пансион в горах и
перебраться в ближайший большой город. Этим обстоятельством было
письмо, доставленное Кручинину неизвестным, скрывшимся тотчас, как он
вручил конверт хозяину пансиона. Содержание письма казалось
незначительным, не вязавшимся с формой пересылки, обычно
подразумевавшей любовную интригу или шантаж. К сожалению, Кручинин не
сохранил этого листка в доказательство того, что у него была причина
прийти в замешательство. Не удивительно, что он решил еще раз
взглянуть на конверт со слабой надеждой на то, что посланный попросту
ошибся и записка предназначается кому-либо другому. Адрес
соответствовал именно тем координатам, какие определяли на тот момент
положение Кручинина на земном шаре. И именно тут, внимательно оглядев
конверт, Кручинин не мог не произнести по своему собственному адресу
тех магических слов, какими русский человек любит выражать душевные
эмоции. Дело в том, что при первом беглом взгляде на адрес, вскрывая
конверт, Кручинин не заметил небольшого условного знака, вкрапленного
в написанное. Знак этот указывал на то, что отправитель письма -
участник подпольной организации заключенных, когда-то существовавшей в
нацистском лагере уничтожения "702". Кручинин понял, что принятое им
за ошибку или глупую мистификацию было не чем иным, как шифром,
простым для знающих его и сложным для непосвященных.
Когда Советская Армия отворила ворота гитлеровского лагеря
уничтожения "Э 702", расположенного в болотах Восточной Пруссии,
Кручинину пришлось провести расследование преступлений варваров,
руководивших мрачной "работой" смерти. В числе других материалов он
изучил деятельность подпольной организации сопротивления заключенных
лагеря Э 702. Вдохновляемая и возглавляемая советскими людьми,
организация эта была подлинно интернациональной. Ее структура и методы
работы заинтересовали Кручинина. А кое-кого из участников движения
Кручинин накрепко включил в список своих друзей. Одним из этих
самоотверженных борцов была латышка по имени Эрна Клинт. Кручинин
много видел на своем веку и привык анализировать всех и вся. Тем не
менее, Эрна Клинт представлялась ему едва ли не идеалом женщины-борца.
А когда Эрна, пробыв несколько месяцев в госпитале, вышла оттуда
поправившейся, окрепшей физически и заново расцветшей, Кручинин
поспешил сойти с ее жизненного пути: ему было за пятьдесят, ей едва
тридцать. Сделав усилие воли, он попытался вычеркнуть ее физический
облик из своей памяти. Этот образ он подменил тем "идеалом" патриотки
и бойца в полосатой одежде заключенной, с космами неприбранных волос,
худой и прозрачно-желтой, какою впервые увидел Эрну в лагере. С тех
пор прошло десять лет. Мало-помалу Кручинин сумел освободиться от
этого воспоминания, пока жизнь не вызвала его на поверхность в связи с
делом Круминьша: упоминавшаяся там Вилма Клинт была младшей сестрой
Эрны. Кручинин был уверен, что напоминание будет случайным и канет в
прошлое с окончанием расследования. И вдруг вот - снова перед ним Эрна
Клинт!..
Суть письма, полученного Кручининым, была так же проста, как и
неожиданна: оно состояло из двух пунктов. Первый заключал обещание
передать Кручинину документ, разоблачающий систему подготовки агентуры
для шпионско-диверсионной работы, в первую очередь и главным образом
направленной против лагеря мира, то есть против СССР и стран народной
демократии. Вторым пунктом была просьба помочь выйти на свободу и
вернуться в СССР человеку, не желающему выполнять преступное задание
эмигрантской службы диверсий. Этого человека звали... Инга Селга. В
заключение указывалось место и время предлагаемой встречи с автором
письма - пивной зал на окраине города.
Прочитанное заставило Кручинина задуматься. Шифр был верен.
Содержание письма сулило осуществление одной из задач, поставленных
участниками международного съезда юристов, разоблачить еще одно гнездо
поджигателей войны и помочь человеку, насильно задержанному вдали от
родины. Однако кто поручится, что секрет шифра, которым написано
письмо, не стал достоянием врагов? Где гарантия, что геленовская
разведка не знает, какого рода документ предлагается Кручинину?
Сколько шансов за то, что и само письмо не является попыткой втянуть
советского человека в трафаретную ловушку? На все это было бы много
шансов, если бы... не подпись Эрны Клинт. Испытание огнем и железом,
холодом и голодом в застенках гестапо и в лагерных карцерах, следы
двух фашистских пуль, полученных при попытке к побегу, - вот что
стояло за ее именем! Впрочем?.. Несносное "впрочем" так часто и так
некстати встающее на нашем пути! Сколько яда скрывается в этом слове,
сколько отравы оно внесло в отношения людей, сколько хороших минут
испорчено им! И тем не менее невозможно изгнать его - это "впрочем"!..
Разве в этом письме Эрны Клинт нет ничего подозрительного? Почему она
очутилась в том же городе, где находился Кручинин? Откуда пришла она -
ведь советские органы репатриации считали ее мертвой? Где она
оставалась столько времени в неизвестности? Имел ли Кручинин право
подчиниться первому порыву радости встречи? Если Эрна связана с Ингой,
значит, связана и с Силсом, а через него и с Круминьшем и... Дальше не
хотелось думать.
Кручинин вернулся к записке. Даже убедившись в том, что она не
сфабрикована врагами, Кручинин мог допустить возможность ловушки: Эрна
могла привести за собою агентов вражеской разведки, не подозревая
того, что выслежена. В таком случае и само письмо Эрны могло быть
умышленно пропущено к Кручинину, а может быть, даже и доставлено
услужливо подосланным Эрне человеком чужой секретной службы...
Однако нужно было действовать: ставкой была жизнь человека -
жизнь Инги Селга. Значит, не оставалось ничего иного, как идти на
свидание с Эрной.
Тактика требует приходить на такого рода свидания с опозданием,
чтобы не стать предметом внимания каждого, кто наблюдает за местом
свидания - будь то агент противника или случайный бездельник.
Во-вторых, - и это важно, - при известном опыте, приближаясь к месту
свидания и оставаясь незамеченным, Кручинин сумеет распознать, не
привел ли его контрагент на хвосте слежку. Однако на этот раз Кручинин
решил быть в кафе не позже, а раньше назначенного Эрной времени. Он
хотел предоставить все преимущества ей. Он пытался уверить себя, будто
такое решение вовсе не являлось результатом личных чувств к Эрне и что
им руководило только правильное понимание долга, подсказывавшего
необходимость оберегать Эрну - товарища, держащего в руках судьбу
другого человека - Инги Селга. Инга Селга представлялась Кручинину не
просто одною из сотен тысяч "перемещенных", а своего рода живым
документом, могущим сыграть существенную роль в разоблачении врагов
мира.
И вот, сидя в почти пустом зале пивной на одной из окраинных улиц
и отхлебывая пиво, Кручинин делал вид, будто просматривает пачку
замусоленных газет. Одновременно он не упускал из поля зрения ни
входящих в пивную, ни проходивших под ее окнами. Посетителей было
мало. Его внимание привлекли двое шахматистов, с подозрительной
медлительностью обдумывавших ходы и значительно чаще поглядывавших по
сторонам, чем полагалось сосредоточенным игрокам. В этом было мало
хорошего: может быть, место свидания Кручинина с Эрной кое-кому
известно? Может быть, даже само это свидание организовано для того,
чтобы узнать, кого хотела встретить Эрна и застать ее вместе с ее
контрагентом, то есть с Кручининым? Такие мысли Кручинина были
законны. И не следовало ли из них, что он должен поскорее покинуть
подозрительное место, прежде чем дверь захлопнется перед ним? Может
быть, при иных обстоятельствах именно так он и поступил бы. Но не
сегодня: он должен был видеть Эрну!
В зале появились новые посетители. Один из них, медленно пройдя
мимо Кручинина и внимательно в него вглядевшись, занял столик у
витража, вделанного в заднюю стену зала. В свою очередь исподтишка
оглядев этого человека, Кручинин решил, что посетитель здесь не
впервые. Уж слишком уверенно занял тот именно такое место, где на
верхнюю часть лица падал свет, прошедший сквозь стекло, изображающее
алый плащ рыцаря. Нижняя часть лица посетителя освещалась лучами,
профильтрованными синим чепраком рыцарского коня. Эти яркие блики
искажали черты лица и мешали Кручинину разглядеть нового посетителя.
Кручинину пришлось очень внимательно всмотреться, чтобы, наконец,
сказать: он знает этого человека. Когда-то этот субъект красовался в
черном мундире гестаповца со знаками бригаденфюрера. Теперь на
воротнике его штатского пиджака не было шитья и приметой служили не
дубовые листья, а знак, который нельзя было спороть как шитье или
смыть подобно накладным усам: под левой скулой у него виднелся шрам в
виде полумесяца, словно бы след глубоко вонзившихся зубов. Укус
оказался более прочным, чем все другие знаки, кичливо выставлявшиеся
напоказ во времена гитлеризма, и уж во всяком случае прочнее шевелюры,
некогда украшавшей его голову, ныне представшую во всем блеске
оголенного черепа. Теперь голова походила на шар, отполированный
руками тысяч любителей кегельбана. Впечатление этой необыкновенной
округлости прочно удерживалось, хотя лицо бригаденфюрера вовсе нельзя
было назвать ни круглым, ни гладким. Напротив, оно было скорее
удлиненным, словно бы оттянутым вниз рукою физиономиста-насмешника.
Как следует понять, что представляло собою лицо бригаденфюрера, может
тот, кто видел снимки, сделанные с летчиков-скоростников в момент
перехода из пике в крутую горку, когда ускорение переходит за десять
"g". Сходство с кегельным шаром заканчивалось широкой щелью рта с
опущенными краями - ни дать ни взять выточка для руки игрока в шаре
для кеглей. (Латинской буквой "g" обозначается в физике ускорение силы
тяжести.)
Нет надобности больше останавливаться на описании этого
пришельца. То и другое достаточно известно читателю по участию
бригаденфюрера в убийстве Шлейхера и в преступлении на квартире
Палена, а также по случаю с кражей бумаг у генерала фон Бредова. Разве
стоит отметить из числа изменений, происшедших в его наружности за эти
годы, некоторую одутловатость в лице и мешки под глазами -
свидетельство того, что былое здоровье ему несколько изменило и что
отвращение к пиву не было его пороком.
Что касается личных качеств бригаденфюрера, известных Кручинину
по прежнему опыту, то, может быть, стоит напомнить о его привычке
произносить прописные истины тоном профессора, делающего открытия. Из
литературы давно известен и ею достаточно высмеян классический образ
филистера. Но еще никто не описывал склонность к произнесению истин,
давно известных, обращенную в область интересов профессионального
палача. Кручинин отлично помнил впечатление, произведенное на него
записями Геринга и Гиммлера, относящимися к их состязанию в собирании
исторических данных о пытках и казнях. Как известно, это
патологическое соревнование было вызвано ревностью Геринга, когда его
вынудили уступить Гиммлеру лавры всегерманского палача - начальника
тайной полиции. Сидя в уютном охотничьем домике Геринга в Кариненхалле
и просматривая этот пыточный альбом Геринга, Кручинин пытался постичь
психологию существ, способных к подобным забавам. Геринг любил делать
свои записи в минуты отдыха, покачивая на коленке любимую крошку-дочь.
И в то время, когда ребенок играл его аксельбантами, рука рейхсмаршала
выводила сентенции о предпочтительности спускания руки пытаемого в
кипящее масло, сравнительно с простым отсечением ее. Быть может, в
минуты наибольшей нежности к своему отпрыску, Геринг сделал и запись о
том, что вливание расплавленного свинца в горло пытаемому неразумно,
ибо лишает объект дара речи и судью возможности дальнейшего допроса.
Геринг считал правильным протыкание щек раскаленным железным прутом:
"Если не повреждать языка, то объект может давать показания..." На
одной из последних страниц тетради имелось сообщение о том, что Наци Э
2 раскопал старинные китайские и индийские документы о шедеврах
палаческого искусства; с их помощью он надеялся положить на обе
лопатки своего соперника "Черного Генриха".
Садистский бред сочился из каждой капли чернил, оставивших след
на страницах альбома. И все же все это оставалось только бумагой с
мертвыми строками ныне мертвого автора. Но вот она, картина недавнего
прошлого: живой, чисто выбритый, надушенный, затянутый в
безукоризненный костюм бригаденфюрер тоном учителя мудрости рассуждал
о методах изощренного мучительства подследственных, доказывая, что
только устарелые понятия немецкой публики мешали фюреру ввести
публичное отсечение головы топором на площадях. "Между тем, - поучал
бригаденфюрер, - лишь подобные методы воспитания масс могут избавить
мир от противников войны и жестоких методов правления". Сидя в углу
элегантного салона, можно было слушать этого знатока палаческого дела.
Если прибавить к этому, что назвать словарь бригаденфюрера просто
ограниченным - значило безмерно ему польстить, то легко себе
представить, каких усилий стоило тогда Кручинину сохранять
спокойствие... К счастью, все это было в прошлом и вспоминалось теперь
только как неповторимый сон...
Хотя сегодняшняя встреча с бригаденфюрером не была приятной, она
имела и положительную сторону - Кручинин мог более не сомневаться, что
в этом кафе геленовская разведка устроила ловушку Эрне Клинт: уж
слишком подчеркнуто равнодушно прошел бригаденфюрер мимо Кручинина,
чересчур нарочитой была самая случайность его появления в этом зале.
Итак, на карте стояла судьба большой человеческой борьбы за свободу,
за мир, за жизнь. Кручинин ни за что не признался бы никому другому,
ни даже самому себе, что одною из ставок в этой игре со смертью ему
представлялась голова Эрны Клинт. Далеко не последняя ставка.
Трудно вытравить из человеческого сердца личное даже в самых
ответственных условиях выполнения долга перед обществом. Мы привыкли
оценивать борьбу между общественным и личным, когда они противостоят
друг другу. Но ничего не замечаем, когда противоречия нет и когда
общественное и личное текут в едином русле. А между тем подсознательно
личный мотив часто участвует в принятии решений общественного
свойства. К счастью, в данном случае личное не противостояло
общественному и сознание Кручинина не было ареной этой борьбы.
Кручинин благодарил себя за осмотрительность, толкнувшую его на то,
чтобы прийти в пивную заблаговременно. Он мог предотвратить появление
тут Эрны Клинт, мог уберечь ее от лап бригаденфюрера. По тому, как
подчеркнуто незаинтересованно в отношении шахматистов держал себя
бригаденфюрер, Кручинин мог с уверенностью сказать, что они - одна
компания. Кручинин подошел к шахматистам и стал таким образом, что
очутился напротив окна и из-за спины шахматистов видел улицу.
Кручинин сразу заметил, что игроки не могут сойти даже за тех
дилетантов из безработных, что ищут приюта под кровом пивных,
пользуясь правом пить одну кружку столько времени, сколько можно
протянуть партию в шахматы. Неискусность и даже особая неумность ходов
этой пары бросалась в глаза. "Вероятно, подумал Кручинин, отправляя их
на операцию, начальник сказал им: "Постарайтесь остаться
незамеченными, займитесь чем-нибудь: сыграйте хотя бы в шашки..."
Агентам была милее всего партия в скат, но начальник сказал "шашки".
Шашек в пивной не оказалось. Значит, нужно было сесть за партию
шахмат, применив к шахматам свои познания в шашках. Кому доводилось
быть в положении Кручинина, поймет, что грубая работа противников
ставила его в затруднительное положение. Чтобы протянуть время в
позиции, занятой за спиною игрока, не возбуждая подозрений, Кручинину
приходилось строить из себя человека, заинтересованного игрой. А
попробуйте заинтересоваться подобной партией! Он решил идти напролом:
попробовать преподать агентам урок шахматной игры.
- Позвольте объяснить вам, как это делается, - он обернулся к
сидевшему в углу бригаденфюреру. - А может быть, тот господин играет?
Бригаденфюрер поднял на него тяжелый взгляд холодных серых глаз,
очевидно, соображая: следует ли ему оказаться шахматистом или нет?
Наконец, с расстановкой проговорил:
- Да, мы можем сыграть с вами одну партию в шахматы.
Это был его прежний, обычный тон: словно читал наставление.
Именно так и сказал: не "можем сыграть" или "сыграем партию", а
совершенно точно "сыграть одну партию в шахматы". Не во что-нибудь
другое, и не пять партий, а именно "одну" и именно "в шахматы".
Позже, анализируя происшедшее, Кручинин понял, что бригаденфюрер
оказался совсем не таким уж примитивным существом со склонностью к
театру ужасов, - он был способен к решениям и к поступкам,
определяющим качества человека, как шпиона или контрразведчика.
Быстрый анализ обстановки, верный вывод и вступление в действие без
колебаний - это противоположность методу прощупывания, пробных ходов и
выжидания. Кручинин мог лишний раз оценить, как опасно считать
противника ниже себя: каким дураком чувствуешь себя, попавшись на
удочку ловко разыгранной тупости, под которой скрыто коварство. И как
часто, увы, такие возможности недооцениваются в происходящей
смертельной игре! Согласился ли бы сам Кручинин на месте
бригаденфюрера сыграть с ним? Кручинин подумал: "Нет, не согласился
бы". И, как оказывается, совершил бы ошибку. Потому что на этот раз
ошибка заключалась в том, что он предложил бригаденфюреру партию.
Кручинин сам себя связал, усевшись за столик. Не произнося ни слова,
противник отвечал разумным ходом, едва Кручинин успевал отнять руку от
белой фигуры. Кручинин понял: ему не удастся закончить партию тогда,
когда это будет удобно ему самому и не сразу нашел выход из
создавшегося положения. Обернувшись к сидевшим по сторонам столика
агентам, он с улыбкой сказал:
- Вот так надо играть. А теперь вы увидите как не надо играть...
Я буду делать ошибки... Вот первая.
И он стал одну за другою ставить под удар свои фигуры, искоса
наблюдая в окно за улицей: было просто удивительно, что Эрны столько
времени нет. Уж не разгадала ли она ловушки? Не лучше ли и ему быть
теперь на улице...
Наконец удалось освободиться от несносной партии, и он мог
покинуть пивную. Едва успев отойти от пивной, он услышал звук вновь
отворяемой двери и торопливые шаги за своей спиной: это был один из
незадачливых шахматистов. Почти одновременно Кручинин увидел в конце
улицы хорошо знакомый ему стройный силуэт Эрны.
Кручинин продолжал путь, устремив навстречу Эрне взгляд, и со
всей доступной ему выразительностью отвел его в тот момент, когда
глаза их встретились. Она должна была понять, что он хотел ей этим
сказать! Но что это: неужели она задержалась у двери кафе? Почему
замер стук ее каблуков?.. Кручинин не смел оглянуться. Но тут же по
слуху с облегчением убедился: Эрна, задержавшись было около кафе,
продолжала путь по улице.
Было ли это избавлением Эрны из лап преследователей или провалом,
от которого зависел успех большого общественного предприятия борцов за
мир?
Он медленно удалялся в направлении, противоположном движению
Эрны.
Десять лет бывали большим сроком в жизни человека и при более
медленном течении времени, нежели стремительный бег, в каком несется
сквозь историю наше жадное поколение. Кручинину не могло прийти в
голову, что мимолетная встреча с Эрной может стоить ему покоя. Но
покой исчез вместе с ее силуэтом, скрывшимся за поворотом улицы. Копна
рыжих волос огнем вспыхнула на прощанье и погасла. Когда-то под
непосредственным натиском гигантских событий войны подавление чувства
к Эрне выглядело незначительным личным горем по сравнению с морем
страданий миллионов человеческих существ. Но теперь этот шаг
представал роковой ошибкой, по-видимому, непоправимой. Пытаясь
проанализировать свой давнишний поступок с точки зрения человека и
общественного деятеля, Кручинин не мог найти примирения между двумя
ликами самого себя. Уже не в первый раз в жизни два его "я" приходили
в противодействие. Кручинин не умел найти равновесия, в котором
общественное "я" не мешало бы личному. Так было когда-то в его
отношениях с Ниной, так случилось с Эрной. Неужели только отойдя на
значительное расстояние от собственных поступков, он может найти им
правильную оценку? Не может же быть, чтобы чувство и долг так и
оставались в его жизни антагонистическими друг к другу? Кто знает
тайну уравнения, приводящего к равновесию эти могущественнейшие
факторы человеческого существования?
Кручинин мог предположить, что теперь, после исчезновения Эрны, у
него действительно есть сколько угодно времени для размышления на эту
тему. И, вероятно, чем дальше, тем более бесплодными будут думы. При
любом решении проблемы человеческих взаимоотношений он уже не мог
извлечь из него для самого себя никакой пользы. Все было в прошлом.
Ничего в будущем.
46. ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бежали дни. Логика говорила, что по всей вероятности Эрна
использует малейшую возможность, чтобы дать о себе знать. Но с
течением времени надежда на такую возможность угасала, а подходило
время, когда Кручинин должен был покинуть город. И, как это часто
бывает, именно тут, когда следующий день уже застал бы его в пути,
пришла весточка от Эрны. Это была зашифрованная записка еще более
лаконичная, чем прежде. В ней говорилось, что Кручинин должен следить
за объявлениями "Марты" в газете "Западный Вестник".
Ожидание - один из самых тяжелых способов времяпрепровождения.
Только люди, ожидавшие чего-либо важного в вынужденной неподвижности
заточения - будь то чаемая свобода или неизбежная смерть, - знают
истинную цену времени. А у Кручинина это было одновременно ожиданием
свидания с Эрной или известия об ее исчезновении навсегда. Лампа и
книга были не единственными друзьями, которых Кручинин хотел бы видеть
возле себя в те дни. В обычное время у себя на родине он любил огни
чужих окон. Глядя на свет в не знакомом ему доме, он почти всегда
представлял себе хорошую жизнь, хороших людей, их хорошие дела,
хорошие желания и мысли. Это было своего рода пищей для его
воображения, настолько привлекательной и плодотворной, что он
частенько хаживал вечерами по улицам, выбирая менее знакомые, с
неожиданными домами. Он поглядывал на окна, где на шторах, как на
экране китайского театра теней, двигались силуэты людей. Эти люди
казались ему близкими, их жизнь понятной и интересной. От таких
прогулок ему становилось покойнее, работалось лучше и, кажется, даже
счастливей жилось. Подобными вечерами он особенно сильно любил людей.
Попробовал он и здесь походить по улицам, глядя на освещенные
окна жилых домов. Глядел на многолампые люстры гостиных и столовых, на
силуэты дородных бюргеров и разряженных бюргерш; попадались и скромные
лампы с зелеными абажурами, со склонившимися над ними головами
одиноких людей. Но даже они не возбуждали в Кручинине прежних чувств и
мыслей, все было чужим и даже враждебным. Во всем чудилось что-то от
жизни настороженной и недоброй. Той темной жизни, что стоит между
счастьем и темнотой неизвестности, между любовью к жизни и ненавистью
к живущему, между мечтой о будущем и цепляньем за прошлое. И Кручинин
возвращался с прогулок еще более одинокий, настороженный и подчас даже
немного подавленный. Он томился беспокойным, неприветливым
одиночеством среди семисот тысяч жителей этого города. Иногда это
одиночество вызывало воспоминание о другом - приветливом -
одиночестве, в каком человек оказывается в лесу или на просторе
открытого моря. Какая противоположность: то и это, там и тут! Если
вам, читатель, доводилось очутиться совсем одному в глубине дремучего
леса, то вы, наверно, помните, как после первого беспокойства,
вызванного таинственностью лесного полумрака, вы постепенно свыкались
с его голосами. Очень скоро эти голоса не только переставали нарушать
тишину леса, а казались вам ее неотъемлемой частью, настолько
непременной, что молчание ночи уже раздражало слух. Но проходил час, и
эта тишина в свою очередь превращалась в нечто неотъемлемое,
свойственное месту, времени и внутреннему миру вашего собственного я.
Снова наступала смена таинственной тишины спящего леса на многоголосые
шумы лесного дня. И вдруг, когда эти смены стали настолько привычными,
что превратились в неразличимый слухом оборот времени, вы услышали
что-то совсем инородное: голос человека. Этот голос ворвался в мир
леса, расколол его и вернул вас в царство вам подобных. Вы словно
проснулись. И так же бывает в реальности - это пробуждение могло
вызвать радость или досаду, в зависимости от того, что сулила вам
жизнь. Или в море, когда вы, уединившись у борта маленького парусного
судна, час за часом не видите ничего, кроме воды, рассекаемой
форштевнем и журча обтекающей борт, а над собою - только небо. Тогда
вам приходят мысли, ничем не омраченные, огромные, как сам этот мир
неба и воды. И тут коснувшийся вашего слуха человеческий голос не
говорил ли вам властно, что, кроме неба, воды и вас, на свете еще
много такого, о чем не следует забывать и что держит и будет держать
вас в своих объятиях до конца ваших дней...
Горе-мудрецы убеждали Кручинина, что подобные мысли - плод
эгоцентризма и ипохондрии, не свойственных и даже неприличных нашему
миру, нашим людям, нашему времени. Но один добрый врач (а не должен ли
быть добрым всякий врач?) объяснил ему, что дело не в эгоцентризме, а
в простом утомлении. Оно толкает человека в объятия успокоительной
тишины и одиночества.
Когда, сидя в одинокой комнате пансиона, Кручинин обращался к
далеким воспоминаниям о лесе, ему начинало чудиться, что он в лесу и
сейчас. Но лес этот совсем иной - чуждый и жуткий. Его молчание
таково, что Кручинин с благодарностью услышал бы человеческий голос и
чтобы голос этот произнес что-нибудь на русском языке. Это было бы
якорем спасения для мыслей, дрейфующих в мрачном просторе чужой жизни.
Кручинин привык молчать, когда нужно. Необходимость долго держать
язык на привязи привела к тому, что в конце концов молчание стало его
потребностью, как потребностью многих является болтовня. Для
большинства людей обмениваться звуками с себе подобными так же
органично, как двигаться. Быстро вянет человек, лишенный возможности
говорить и слушать других. Когда-то и Кручинину это казалось
естественным: самому болтать о чем угодно и слушать все, что другим
хотелось ему сказать. Но с течением времени выработалась привычка в
известной обстановке молчать и пропускать мимо ушей все, что не
относилось непосредственно к нему. Он должен был произносить лишь те
слова, какие были необходимы для выполнения его задачи. Все остальное
было, в известных условиях, пустой, а иногда и опасной болтовней.
Кручинин был удивлен, когда именно в этом городе он почувствовал, что
одиночество и отсутствие словообмена ему в тягость. Каждый камень
этого города был ему чужд; в каждом встречном он мог подозревать
врага. Он знал, что среди сброда, живущего на подачки иностранных
разведок и службы Гелена, достаточно головорезов, готовых на любую
уголовщину. Необходимость ждать сообщения Эрны заставляла его почти
безвыходно оставаться дома. Пытка одиночеством и бездействием была
бесконечна: объявлений "Марты" в газете все не было.
Но вот однажды, просматривая вечернее издание "Вестника",
Кручинин увидел крошечное объявление: фрау Марта Фризе предлагала
любителям живописи несколько полотен старых художников. Посредников
просили не являться. Стрелки часов говорили, что времени у него
остается в обрез, чтобы добраться по назначению до часа, указанного в
объявлении. Кручинин увидел в этом руку Эрны: она рассчитала умно -
только он один устремится по этому объявлению, едва купив газету. А на
следующий день "Марта" уже будет вправе сказать любому, кто к ней
придет, что картины проданы. В разгар этих размышлений в дверь его
комнаты постучали:
- Вечерняя почта!
Взглянув на городской штемпель и марку, Кручинин было отложил
письмо: вероятнее всего, это была очередная угроза от башибузуков
"убрать советского агента, если он не уберется сам". Кручинину эти
анонимки надоели. Вероятно, он и ушел бы, не заглянув в конверт, если
бы не внутренний голос, заставивший его уже от двери вернуться к столу
и вскрыть письмо. И он не пожалел об этом внезапном любопытстве:
"Быть сторонником мира в этой стране можно только тайно. Это
вынуждает меня скрыть свое имя. Желание спасти вас от ловушки и
способствовать разоблачению поджигателей новой войны заставляет меня
открыть вам, что Эрна Клинт, которую вы считаете своим другом, - агент
иностранной разведки. Таким агентом она была уже и в дни заключения в
лагере уничтожения "702". На ней - кровь участников нескольких
побегов. На ней кровь героев восстания заключенных. Я хотел было
написать вам это письмо шифром, выработанным в свое время в нашей
лагерной подпольной организации, но не уверен в том, что вы сможете
его прочесть.
Будьте осторожны. Вас завлекают с целью скомпрометировать.
Верный сын народа и Ваш доброжелатель".
При всем предубеждении против анонимок тут, где все гудело от
антисоветских интриг, Кручинин не мог не задуматься над подобным
предупреждением. Для людей, погрязших в интригах и провокациях,
лишенных чести и самолюбия, забывших долг и потерявших совесть,
предать своих новых хозяев было ничуть не труднее, чем они в свое
время предали родину. Вся гамма чувств от любви до ненависти, от
раскаяния до мести - все могло водить пером неизвестного
корреспондента. Если объявление в "Вестнике" дано Эрной или по ее
поручению; если письмо неизвестного - клевета, то газета дает
Кручинину явку, которой он ждет. Но если Эрна предательница - квартира
Марты окажется для Кручинина ловушкой... А если Эрна тут вообще ни при
чем и все это подстроено врагами? Тогда... И наконец, ведь может быть
простое совпадение. Мало ли на свете Март?.. Бесполезно было строить
догадки - возможностей плохих и хороших больше, чем можно
предусмотреть...
Взгляд Кручинина упал на циферблат часов. Все бумаги, записная
книжка - все было быстро вынуто из карманов и спрятано в надежное
место. Переменив на всякий случай два таксомотора, Кручинин через
пятнадцать минут стоял у дома, указанного в объявлении. Нажим звонка,
и дверь тотчас отворилась, словно тут были твердо уверены, что он не
мог не прийти. В лифте против цифры "3" стояли две фамилии, одна из
них - "Фризе". Едва Кручинин успел затворить за собою лифт на третьем
этаже, как перед ним, словно сама собою распахнулась одна из выходящих
на площадку дверей.
Может быть, еще и сейчас было разумно повернуться и уйти. Но
можно ли бежать, если в гостеприимно (или предательски?) распахнутой
двери стоит женщина и жестом приглашает войти? Кручинин переступил
порог и тотчас услышал за спиной стук захлопнутой двери.
Посторонившись к стене, чтобы дать ему пройти, стояла женщина средних
лет с гладко зачесанными волосами, такими светлыми, что в свете
электричества они казались седыми. В ее лице, сохранившем следы
миловидности, каждая черточка была свидетельницей страданий, горя,
внутренней борьбы. Именно так: борьба и сомнения источили его
морщинками. Глаза ее, по-видимому когда-то голубые, отражали все то
же: вопрос о мере страданий, какая еще отпущена ей на земле.
- Госпожа Марта Фризе?
Она ответила молчаливым кивком и жестом пригласила войти. Дав
Кручинину время осмотреться в комнате, которая могла быть и гостиной и
рабочим кабинетом, негромко, словно боясь нарушить чей-то покой,
сказала:
- Вот то, что я предлагаю, - и указала на стену, где висело
несколько небольших полотен. Среди них Кручинин сразу, казалось ему, с
уверенностью опознал руку Манеса. Тот, кто однажды видел его "Девочку
перед зеркалом", едва ли уже обознается, встретив присущий этому
мастеру колорит рисунка, озаренного, только Манесу свойственным,
мягким светом цветного пятна, словно бы не преднамеренно брошенным в
темно-коричневую мрачность основного тона. Мог ли Кручинин думать: в
этом городе, таком насквозь антиславянском, встретить старого чешского
мастера - такого истово славянского в каждом своем мазке, в дыхании
всего своего искусства?! Госпожа Фризе опустила глаза и, указывая на
полотна Манеса, повторила: - Это все, что я могу предложить вам...
Ведь вы заинтересовались объявлением потому, что... - она запнулась и
так посмотрела в глаза Кручинину, что казалось смешным отрицать то,
что было ей по-видимому известно. Все же он твердо и так же глядя ей в
глаза, ответил:
- Это полотно мне не нравится...
- Это не имеет значения... - При этих словах она прикрыла рукою
глаза и провела ею по волосам, - я хочу продать именно эту картину. -
И, подумав, прибавила: - Сейчас я продаю только ее!
- А именно это-то полотно мне и не нравится, - ответил Кручинин.
Ему хотелось поскорее покончить с этим визитом и убраться отсюда.
Хозяйка, на его взгляд, довольно откровенно тянула время, чтобы дать
возможность кому-то подоспеть.
- Я прошу вас взять именно этого Манеса... - еще настойчивее, чем
прежде, сказала она.
- Не понимаю, - сказал Кручинин, - почему я должен покупать вещь,
которая мне не нужна?
- Возьмите ее. Именно ее.
Кручинин с неудовольствием пожал плечами и сделал шаг к двери, но
Марта загородила ему дорогу.
- Я возьму с вас недорого... Совсем, совсем недорого.
Названная ею цена была слишком низка даже для самой дрянной
копии. Но чем тверже Кручинин отказывался, тем настойчивее Фризе
навязывала покупку. Кручинин решительно направился к выходу.
- Постойте! - крикнула она. - Да погодите же!
Поспешно приставив стул к стене, она сняла, почти сорвала со
стены картину и стала поспешно завертывать ее в газету.
Она протянула ему пакет со словами:
- Заплатите, сколько хотите.
Он машинально взял картину. Но стоило ему почувствовать ее в
руках, как воскресла мысль о том, что это и есть улика, с которой враг
намерен его поймать...
Однако хозяйка не дала ему опомниться - пробежала в прихожую и
отворила дверь. Через минуту дверь за Кручининым захлопнулась, и он
стал поспешно спускаться по ступенькам, затянутым толстой дорожкой.
Картина лежала перед Кручининым. Испещрившая ее паутина трещин от
набившейся в них пыли и копоти выглядела черной сеткой. Из-под нее на
Кручинина хмуро глядело темно-коричневое лицо старухи. Быть может,
когда-то оно и не было безобразным, может быть, даже писалось как лицо
молодой женщины. Но время и невзгоды состарили его так, что оно
казалось изборожденным вековыми морщинами. То ли от красок, выгоревших
на одной половине полотна и потемневших на другой, то ли от
сморщившегося холста лицо казалось перекошенным гримасой паралича.
Один глаз закрылся или был затянут катарактой и бессмысленно пялился
слепым бельмом. Время сделало облик старухи той смесью седины с
нечистотой, которая сопутствует неопрятной нищей старости. Но по
какой-то случайности годы обошли своей разрушительной работой второй
глаз портрета. Было похоже на то, что этого глаза коснулась рука
реставратора. Но почему он ограничился восстановлением одного только
глаза? У него отпала охота заниматься этим делом, или он не сошелся в
цене с владельцем холста?.. Так или иначе правый глаз старухи сверкал
злобной силой. Становилось даже немного жутковато в него смотреть.
Едва ли стоило завидовать тому бедняге, чьим уделом был в молодости
спор с такою силой. Укрощение строптивой красотки послужило Шекспиру
предметом романтической обработки, но борьба со злобной дурнушкой
кажется еще никого не поднимала на подвиг художественного творчества и
не оставила в истории мировой культуры иных следов, кроме самоубийства
Сократа. А право, жаль! Человечеству принесло бы пользу посмотреть на
доказательных примерах, как это выглядит: за немыслимо краткий срок,
что двуногое совершает свое путешествие от колыбели к могиле, оно
успевает затопить все вокруг себя злобой, источаемой непроизвольно,
подобно тому, как цветок издает аромат. Скажут: как существует горький
запах полыни, так точно ведь есть и сладостное дыхание розы! Спору
нет. Но, увы, роз в роду человеческом еще меньше, чем в растительном
мире. Живые розы еще труднее выращивать, и они еще более подвержены
морозу. Движимое ложным предположением - одною из многих ошибок
учения! - будто можно искусственно превращать заросшие полынью
человеческие души в розарии духа, христианство создало питомники душ -
монастыри. Но история показала, что количество навоза, принесенного
человечеством в эти питомники, оказалось настолько велико, что они
превратились в выгребные ямы, заражающие мир зловонием тления, а
отнюдь не ароматом.
Христианство, церковь, монастыри, монахи... По этим рельсам мысль
Кручинина докатилась до католицизма и до его квинтэссенции - Ордена
Иисуса. Сколько горестей этот духовный питомник питомников доставил
уже человечеству, сколько еще успеет доставить, прежде чем оно сметет
его в мусорную корзину истории. Этот "духовный розарий" выращивает
вместо роз одни шипы. Они торчат повсюду на пути прогресса и мира.
Кручинину уже доводилось об них уколоться. И придется обломать еще не
один такой шип, чтобы добраться до цели усилий - прочного мира...
Заперев дверь комнаты, Кручинин извлек холст из рамы. Посыпались
хлопья пыли, забившейся в завитки резьбы, сделанной в те неэкономные
времена, когда вместо лепного багета обходились искусством резчиков.
Но рама занимала Кручинина лишь постольку, поскольку могла оказаться
полой и в ее полость можно было вложить записку.
Напрасно станут усмехаться скептики: зачем бы трезвым людям,
живущим в современных ультрапрозаических условиях, посылать записки с
такими сложностями вместо услуг государственной почты? Но пусть-ка эти
критики-реалисты сами попробуют установить связь в условиях, в каких
находилась Эрна Клинт и Кручинин, да так, чтобы сообщение не было
обнаружено, а уж ежели оно и попадет в руки врагов, то чтобы никто не
смог понять его содержания, определить адресата и отправителя. Эрна не
придумала ничего лишнего: пусть бы одноглазая старуха прошла руки
десяти сыщиков - они не поняли бы, что держат письмо.
Кручинин догадался, что, скрывая записку от полиции, Эрна нашла
ей место, которое нелегко будет обнаружить и ему самому. Он обстукал
всю раму, исследовал трещины рассохшейся резьбы. Если тайны не
содержит ни рама, ни подрамник, ее должна хранить сама картина.
Кручинин принялся исследовать холст с тщательностью, с какой его,
вероятно, не изучал еще ни один любитель живописи. При этом внимание
Кручинина то и дело невольно возвращалось к глазу старухи. Казалось,
она так и впивалась в Кручинина, желая сказать то, чего не могли
произнести ее злобно сжатые губы. Но, оказывается, следовало искать по
признаку контраста: чувствуя на себе пристальный взгляд единственного
зрячего глаза, Кручинин должен был обратиться к его слепому соседу -
бельмо катаракты, кричавшей о пустоте, и содержало загадку. То, что
Кручинин принял за порчу, причиненную временем, оказалось крошечным
отверстием в верхнем слое холста, искусно замаскированным бельмом; сам
холст якобы ради его укрепления был дублирован. Между слоями ткани,
сквозь отверстие под бельмом, был введен маленький листок папиросной
бумаги.
Условный значок в углу листка заменял подпись. Шифр был тот же,
что в прошлый раз. Кручинин узнал ровно столько, сколько нужно было
для следования по пути Эрны: "Бисзее - Вилла Доротеенфройде". К этому
более чем лаконичному путеводителю было прибавлено лишь два слова не
географического смысла: "очень осторожно". Но и этих двух слов заботы
могло не быть: "Вилла Доротеенфройде" - этим было сказано более чем
достаточно. Кручинин знал, что вокруг этого живописного уголка, под
маской всякого рода пансионов, можно было найти не один тайный притон
международного авантюризма, шпионажа и диверсий. Под видом школы
языков тут существовало убежище для изменников русского происхождения;
"Школа движения по системе Далькроза" обучала убийству и взрывам
бывших прибалтов; польские изменники нашли приют под вывеской пансиона
"Перепелка", якобы содержащегося польской аристократкой; желто-голубая
дощечка на воротах самого неопрятного домика предлагала обучить
украинок кройке и шитью. Кадры для этих заведений поставлялись
"подготовительными" школами эмигрантско-националистических
организаций. "Вилла Доротеенфройде" была одним из самых секретных
заведений такого рода, состоящих, как знает уже читатель, под
руководством епископа Ланцанса. Вместо забулдыг эмигрантов и
иностранцев разных национальностей обучение тут вели женщины в одеждах
католических монахинь. Кручинин знал, что находиться там - значило
учиться всему страшному и отвратительному, что питомцы этой
своеобразной школы должны были делать в СССР. Он пробовал представить
себе Эрну в любой из этих ролей и - ум заходил у него за разум.
Кручинин знал и "мать Маргариту" - начальницу пансиона
"Доротеенфройде". Но если бы этого и не было, если бы ему случилось
повидать ее лишь однажды в течение нескольких минут, и того было бы
достаточно, чтобы запомнить навсегда и узнать среди тысяч по первому
взгляду. Будучи неплохим живописцем, он не взялся бы передать черты
этого существа, по жестокому капризу природы обретшего облик женщины.
По началу, когда ему сказали, что оккупанты подобрали Маргариту Беме в
нацистском концентрационном лагере, где она исполняла обязанности
надзирательницы и палача, он не поверил. Мать Маргарита, врач по
образованию, была маленькая толстушка с розовыми щечками в ямочках,
словно бы непроизвольно собирающимися в добродушную улыбку. Светлые
бровки, светлые, почти невидимые, редкие реснички вместе с розовым
благодушием щек и с плотоядной жизнетребующей усмешкой пухлых губ
придавали лицу монахини ту возрастную неопределенность, какая
свойственна хорошо сохранившимся толстухам. Спрятанные под огромный
чепец волосы, с выпущенными по сторонам букольками неопределенного
цвета тоже не давали представления о возрасте их обладательницы. Как
говорили, Маргарите было далеко за пятьдесят, но движения ее были
быстры, даже можно сказать проворны и жизнерадостны. Ко всему этому
надо добавить маленькие, почти спрятавшиеся над пухлыми щечками
глазки. Они были то серыми, то голубыми, а иногда и зелеными - в
зависимости от минуты и поворота головы. Обладатель самого мрачного
воображения не мог бы себе представить, что рассказы о подвигах этого
палача в юбке - не легенда, созданная патологической фантазией
маньяка. Сотни, тысячи жертв, в чьих страданиях, как в освежающей
ванне, купалась мать Маргарита!
Когда Кручинин встречал розовую монахиню, словно парящую на
крыльях своего белоснежного чепца над палубой трансокеанского лайнера,
перевозившего ее обратно в Европу, ком непреодолимого отвращения
подступал у него к горлу. А она плыла, розовая, с ямочками на пухлых
щеках, каждым движением изливая на окружающих ласку христовой невесты.
И рядом с этим чудовищем в качестве сотрудницы или ученицы Кручинин
должен был представить себе Эрну... "Сестра Эрна" - наверно так
именовали ее в пансионе "Доротеенфройде".
Сестра!.. Помните, читатель, у Герцена: "Слово сестра... В нем
соединены дружба, кровная связь, общее предание, родная обстановка,
привычная неразрывность..."
Кручинин смотрел на записку Эрны и старался объять умом
происходящее...
Покидая город, надо было разделаться с коричневой старухой, чтобы
уничтожить следы сообщения, - будь оно посланием Эрны или провокацией
вражеской разведки. Но, появившееся было намерение сжечь картину
вместе с рамой, показалось ошибочным. А что если его приход к фрау
Марте заснят на пленку? В таком случае Кручинин оказался бы перед
необходимостью обосновать исчезновение этого "раритета". Можно было,
конечно, снести картину антиквару, но кто захочет ее купить: ради
уничтожения тайника под бельмом, Кручинин прорвал в холсте большую
дыру. В таком виде старуха представлялась ему вполне безопасной.
Оставалось "забыть" колдунью на стене. Кручинин так и поступил:
оставил картину на гвозде. Но не успел он положить чемодан в свои
старенький "штейер", как в подъезде показалась хозяйка квартиры с
картиной в руках.
- Оставьте ее себе. Реставратор заделает дыру и...
- О, что вы! - воскликнула хозяйка.
Тогда он взял портрет и тут же, будто нечаянно, уронил его на
мостовую. По камням рассыпались мелкие завитушки резьбы.
- Как обидно! - сказал Кручинин. - Вопрос решился сам собой.
Отъезжая, он видел, как хозяйка подняла картину и отерла фартуком
еще больше сморщившуюся маску мегеры.
Кручинин поймал себя на том, что стоило ему взяться за руль, как
заботы отлетели от него, словно он был простым туристом. Таково было
магическое действие перспективы путешествия. Передвижение! Скорость!
Свобода! На память пришли прекрасные слова Аксакова: "Дорога
удивительное дело! Ее могущество непреодолимо, успокоительно и
целительно. Отрывая человека от окружающей его среды, все равно,
любезной ему или неприятной, от постоянно развлекающей его множеством
предметов, постоянно текущей разнообразной действительности, - она
сосредоточивает его мысли и чувства в тесный мир дорожного экипажа,
устремляет его внимание сначала на самого себя, потом на воспоминания
прошедшего и, наконец, на мечты и надежды в будущем..." Старый,
побрякивающий стальными суставами "штейер", катился мимо громады
Национального музея. Кручинин мысленно послал этому сооружению привет
и соболезнование: слишком умный дом для царства мракобесия,
политических интриг, провокаций и лжи, в какое превратился этот
некогда славный город. Кручинин пересек реку и через пятнадцать минут
был за городской чертой. Он даже провел рукою по лбу и по щекам,
словно снимая с себя нити невидимой, но липкой паутины. Навстречу ему
прохладным потоком несся воздух со стороны синевших в утренней дымке
гор.
Не прошло и получаса, как Кручинин перестал следить за тем, есть
ли за ним слежка. Автомобили, обгонявшие неторопливый бег его машины,
вызывали в нем здоровую спортивную зависть. Через час он добрался до
поворота, где надлежало съехать с автострады на дорогу Э 318, ведущую
к озеру Тегерн. В Дирнбахе он решительно притормозил: его не
устраивало слишком приближаться к Висзее, а ведь следующим пунктом был
уже Гминд. Кручинин не хотел показываться там прежде, чем наведет
точные справки об интересующей его вилле Доротеенфройде. К сожалению,
оказалось не таким простым делом узнать что-либо у запуганных жителей.
В этом уютном краю, созданном самой природой для отдыха и беззаботных
развлечений, Кручинин обнаружил, что даже мрачные времена фашистской
полицейщины простые люди вспоминали с сожалением. Как только дело
доходило до слова "Доротеенфройде", языки жителей прилипали к гортани
и на Кручинина недоброжелательно косились. Принадлежность некоторых
пансионов темному миру тайной полиции и шпионских организаций была тут
секретом полишинеля, но говорить о ней страшились. Кручинин избрал
местом своего пребывания Кальтенбрунн, расположенный таким образом,
что в случае надобности можно было быстро покинуть берег озера, минуя
тупик, каким кончались дороги на его южном конце. Однако уже к
следующему утру стало ясно, что и эта близость к Висзее не доставит
Кручинину удовольствия. Тут не особенно стеснялись с туристами.
Смешение нацистской полицейской грубости с маккартистским
маккиавелизмом чувствовалась во всем. Позавтракав, Кручинин бежал из
Кальтенбрунна. Объехав озеро с севера, он перебрался в окрестности
городка Тегернзее на противоположном берегу озера. Хотя Кручинин и был
тут отделен от "Доротеенфройде" гладью огромного озера, но в бинокль
ему был виден весь курорт Висзее. Вооружившись терпением и
осторожностью, он мог рассмотреть даже самую виллу Доротеенфройде.
Кручинин арендовал маленькую моторную лодку и стал большую часть
времени проводить на воде, хотя меньше любого другого человека,
живущего на берегах Тегернзее, был расположен к развлечениям. С каждым
днем время казалось ему дороже и даже пастель, нашедшая, наконец,
применение, не доставляла ему радости. Наброски получались сухие, мало
схожие с нежной натурой, окружавшей художника. Их набрался уже почти
полный альбом, а двери "Доротеенфройде" все оставались закрытыми.
Наконец, однажды, когда Кручинин посреди озера занимался рисованием, к
нему подъехала маленькая лодочка, в ней сидел мальчик лет пятнадцати.
- У меня есть поручение от Эрны, - сказал он так, словно у него
не могло быть сомнений в том, что он обращается по адресу. И несмотря
на то, что Кручинин делал вид, будто не обращает на него внимания,
продолжал рисовать, мальчик быстро продолжал: - Эрна передает: ее
здесь нет и тут ничего не выйдет. Поезжайте в... - тут он умолк и,
исподлобья оглядевшись по сторонам, словно кто-нибудь мог его
подслушать даже тут, в километре от берега, назвал город. - В четверг
к закрытию Птичьего рынка приходите в часовню святой Урсулы, левая
сторона, третья скамья от алтаря, у статуи богоматери. - С этими
словами мальчик ударил веслами. Кручинин продолжал невозмутимо
рисовать, но хрупкие карандаши пастели стали крошиться под нажимом его
пальцев.
(Да будут как труп (лат).)
Мать Маргарита была дамой, опытной во всех отношениях. Она не
стала мучить себя догадками о том, зачем его преосвященству епископу
Язепу Ланцансу понадобилось изображение обнаженной пансионерки Инги
Селга. Ясно, что не для подшивки в личное досье! Мать Маргарита имела
представление и о разврате, царившем среди членов Ордена Иисуса, и о
том, что, владея телом и душой Инги, Ланцанс может дать ей любое
применение, какого потребуют задачи Центрального совета или Ордена.
Кто его знает, может быть, девице предстоит работа актрисы варьете, а
может статься, епископ намерен сунуть ее в постель какому-нибудь
любителю молодого женского тела, если не в свою собственную. Пути
господни неисповедимы! Не ей, смиренной и покорной дочери святой
апостолической церкви Маргарите, контролировать предначертания
всевышнего! Гораздо неприятнее то, что Инга отказалась
фотографироваться, как того желал отец Язеп. Строптивица заявила, что
церковные каноны не обязывают ее к исполнению приказов начальников,
ведущих ко греху, а предстать перед своим духовным отцом в наряде
праматери Евы - грех. Не подействовало на Ингу и напоминание о том,
что в конституциях Лойолы сказано: "Проникнемся убеждением, что все
справедливо, что приказывает старший". Инга вступила в спор с
капелланом Доротеенфройде.
- Епископ Ланцанс давал обет целомудрия, и я вовсе не намерена
быть предметом его соблазна и нести на себе тяжесть смертного греха
из-за того, что мое изображение ввергнет его в грех. - Она говорила с
таким серьезным видом и выражение ее лица отражало столь искреннюю
скорбь, что капеллан принял это за чистую монету.
- Вы забыли, дитя мое, - ласково сказал он, - что господь в
великом милосердии своем научил церковь отпускать грехи. А уж если
грех совершен священнослужителем во славу господни, то тут, право, и
греха-то никакого нет.
- Я духовная дочь отца Язепа! - с возмущением воскликнула Инга.
- В поучениях святейших пап Юлия II и Льва X есть указание
"отпущение тому, кто плотски познал мать, сестру или другую кровную
родственницу или крестную мать; отпущение для того, кто растлил
девушку".
- Но ведь отец Ланцанс - монах!
- Да, да, у святейших отцов так и сказано: "будь то священник или
монах" - им надлежит всего лишь уплата штрафа за индульгенцию.
Инга брезгливо повела плечами.
- Эдак вы уговорите меня еще лечь в постель отца Язепа.
Капеллан скромно опустил глаза:
- Если того потребуют интересы святой церкви...
Инга выбежала из комнаты.
Мать Маргарита все же нашла выход. Правда, пришлось покривить
душой, но господь бог простит ей это небольшое прегрешение,
совершенное во имя послушания властям, от господа же бога
поставленным. Маргарита поручила фотографу сделать монтаж: ко взятому
из журнала изображению хорошо сложенной девицы приставить голову Инги.
Фотография получилась столь совершенной, что сердце Маргариты даже
засосало что-то вроде ревности: подумать только, эта дрянь Инга
предстанет взорам Ланцанса в столь соблазнительной красоте!
Но даже изощренная фантазия матери Маргариты оказалась бессильной
угадать, сколь высокое назначение получит изготовленная ею
фальсификация. Известно, что уже францисканцы придавали чрезмерное
значение культу мадонны, но и им не снились вершины, до каких дошли в
этом деле отцы-иезуиты. Члены Общества Иисуса объявили Марию приемной
дочерью бога; они прославили лоно девы как чистейшую обитель св.
Троицы, а ея грудь возвели в символ прекраснейших из всех красот.
Иезуиты учили, что если трудно снискать вечное блаженство через
требовательного сына господня, то куда легче получить спасение от его
покладистой матери. Святые отцы копались в самых интимных сторонах
человеческих отношений, не смущаясь аналогиями, и посвящали эти
сочинения деве Марии. Само тело Марии стало предметом поклонения. Если
на церковных статуях его накрывали одеждами, то изображаемое
художниками, в том числе монахами, оно блистало соблазнительной
наготой и подчас формами, очень далекими от девственной строгости.
Иезуитов не смущало выставление для публичного обозрения обнаженной
матери бога сына и дочери бога-отца. Они не видели ничего
предосудительного в том, чтобы не только стены трапезных и библиотек в
монастырях украшались изображениями полнотелых, соблазнительно
возлежащих мадонн, но вносили эти картины и в личные покои членов
Ордена. В сопоставлении с обетом безбрачия это не могло не вызывать
монахов на эксцессы, выходящие за рамки нормальной жизни. Постепенно
получила распространение манера изображать вместо лика мадонны лица
вполне земных привязанностей отцов-иезуитов. Никто не видел ничего
дурного в том, чтобы на стене келий висело изображение мадонны, как
две капли воды схожее с какою-нибудь дамой легкого поведения, с
которой тайно сожительствовал монах.
Ланцанс не боялся, что кто-либо осудит его за то, что над его
изголовьем вместо изображения мифической волоокой еврейки, осененная
нимбом святой, появится златокудрая Инга. Отцы-иезуиты не были врагами
земных радостей, делающих жизнь стоящей того, чтобы грешить. Не
согрешишь - не покаешься, не покаешься - не спасешься! Чем больше
грешников - тем больше кающихся, чем больше кающихся - тем больше силы
в руках духовников. Орден умел прощать. В этом была его сила. А уж
было бы глупее глупого, если, возведя искусство отпущения грехов в
одну из основ своего могущества, отцы-иезуиты не научились бы находить
прощение и самим себе. Если допотопный отец Бенци находил извинение
даже для прелюбодеяния с монахиней, то уж отцу Ланцансу и сам господь
бог повелел не смущаться лицезрением акварели, написанной по
фотографии, присланной матерью Маргаритой. Если рождавшиеся при этом у
епископа мысли и не были безгрешны, но зато уж всегда переносили его
на небеса, как он рисовал их себе в экстатическом созерцании
физического совершенства своей духовной дочери Инги Селга. Бывало, это
вызывало у Ланцанса прилив энергии, заставлявший его поспешно браться
за перо. Тогда проекты и программы, один другого смелее, одна другой
подробней, ложились на быстро сменявшие друг друга листы. Но чаще
возбуждение заканчивалось приливом апатии и даже отчаяния. Оно
заставляло отца Ланцанса обращаться мыслью к прошлому и искать в этом
прошлом фатальную ошибку, вследствие которой он стал тем, чем стал, и
был там, где был. В такие минуты ему становилось жаль своей жизни,
себя. Наедине, когда не для кого было декламировать заученные с
новициата громкие фразы, действительность властно надвигалась на него
своей опустошенностью. В нем, в этом космическом черном вакууме,
ничтожной былинке Язепу Ланцансу предстояло носиться вечно, в этой
жизни и в той, без разумной надежды на разумное пристанище. "Dies
irae"1 - этот апокалиптический призрак, с первых дней новициата
служивший жупелом для бдения во спасение души, заполнял теперь все. Не
было надежды на приход Спасителя для вторичного искупления грехов
человеческих и прежде всего грехов тех, кто объявил себя его прямыми
наследниками и исполнителями его верховной воли - братьев Общества
Иисуса. Давно, в дни метаний, будучи еще молодым профессом, Ланцанс
читал "Карамазовых". На всю жизнь запомнился ему Великий Инквизитор
брата Ивана. По мере того как Ланцансу-иезуиту открывались тайны
церкви, как он приобщался к тайнам Ордена, образ инквизитора казался
ему все более и более правдивым. Старик, некогда в ужасе повергавший
его на каменные плиты в келье коллегии профессов, ко времени обучения
в Грегорианском университете Ордена стал уже предметом холодного
раздумья. Теперь Ланцанс втайне считал, что Достоевским была
нарисована единственно правильная картина реальной действительности:
приди Иисус сегодня в мир, что осталось бы Ланцансу на месте
Инквизитора?.. Конечно, не разжечь костер публичного аутодафе2, о
нет!.. Вызвав палача вроде Квэпа, он приказал бы втихомолку удушить
спасителя! Увы, современная инквизиция не может себе позволить даже
газовых камер, изобретенных ублюдком Гитлером!.. И даже испанская
гаррота стала недоступна. Тайна одиночки и петля Квэпа!.. Да, все было
беспросветно темно и безнадежно. На людях волю Ланцанса держала в узде
железная формула "ac cadaver", но наедине с самим собою, когда не
оставалось иной узды, кроме собственной совести, он готов был вопить
от желания рвать путы орденской дисциплины. Однако кричать было
бесполезно и опасно. Соглядатаи и доносчики могли скрываться в любой
щели, подслушивать за стеною, подглядывать в окна. Нужно было искать
выход в тайном исполнении того, что можно взять от жизни, имея деньги
и штатское платье. Спасением была привилегия неподсудности иезуитов
светским властям, восходившая к папским буллам3 шестнадцатого
столетия. Она и вселяла уверенность в безнаказанности всего, что
способны простить свои собратья иезуиты. А опыт говорил, что
долготерпение Ордена в отношении своих членов отличается поистине
наихристианнейшей неиссякаемостью и мораль - гибкостью, какая не
снилась самым искусным софистам. Но не это было важно. Над всем
главенствовало незаглушимое желание. В молодости его удавалось гасить
в исповедальне, копаясь в чудовищных подробностях чужих "грехов".
Ланцанс хорошо помнит, как молодым священником он, бывало, выходил из
исповедальни со лбом, покрытым потом, с ногтями, впившимися в ладони и
с помутневшим взглядом. С годами исповедальня перестала доставлять
удовлетворение даже тогда, когда приходилось выслушивать самые
интимные подробности грехов от самых хорошеньких женщин. Ланцанс не
знает, как бывало у других "рыцарей роты христовой", а что касается
его, то на некоторый срок его спас кнут для самобичевания,
рекомендованный отцами Ордена. Однако со временем, вместо того чтобы
замирать под ударами кнута, желания Ланцанса стали разгораться.
Кончилось тем, что отправляясь на свидание с какою-нибудь из своих
духовных дочерей, Ланцанс захватывал кнут и вкладывал его в "десницу
грешницы" с просьбой постегать его, как стегали Христа, бредущего на
Голгофу под бременем креста. 1 (Dies irae - день гнева (лат) (в
евангельском понимании день страшного суда). 2 Аутодафе -
инквизиционный костер для сжигания еретиков или греховных книг. 3
Булла - один из видов папских указов.)
Но сколь бы много места ни заняли такие развлечения в жизни
епископа, они не могли заместить или хотя бы отодвинуть на второй план
основную деятельность Ордена. Иезуиты никогда не забывали, что их
Общество было создано в критические для римского католицизма годы
рождения протестантизма. Борьба за римскую ортодоксию и за господство
римских епископов над всем известным миром стала священной традицией
последователей Лойолы. От того, что увеличивались пределы познанного
мира, аппетиты иезуитов не становились меньше. Пределом своего
распространения они поставили "державу Христа". А так как по их
символу веры Христос живет не только в сердцах действительных
христиан, но и в каждом "потенциальном" христианине, каковым может
быть любой язычник и атеист, то легко себе представить, как
отцы-иезуиты толкуют границы своей "державы", пусть только
потенциальной, но безусловно желаемой. Развитие событий на земле
заставило иезуитов втайне пересмотреть постулат римской церкви о том,
что она мыслит и живет "категориями вечности" и будто ей некуда
спешить, так как рано или поздно "всякое дыхание восславит господа".
Генеральная конгрегация и генерал Ордена по-своему прокомментировали
папские энциклики, посвященные социальным проблемам и социализму.
"Нужно спешить, - гласит XXIX декрет XXVIII конгрегации Общества
Иисуса. - Неравенство экономических и духовных условий большей части
человеческого рода, благодаря которому становится тщетным мудрое и
милосердное предписание божественного Провидения, и жизнь с ее
насилием над справедливостью и милосердием для тысяч людей становится
здесь на земле подобной ужасному чистилищу, чтобы не сказать аду. Это
неравенство подготавливает как нельзя более благоприятную почву для
подрывных идей. Напрасно будем мы пытаться уничтожить атеистический
коммунизм, если все слои общества не будут неуклонно придерживаться
принципов, которые столь замечательно провозгласили последние папы".
Как всякая декларация высшего органа орденской администрации,
сказанное было обязательно для Ланцанса. Ему оставалось только помнить
указания пап, определяющие смысл политической деятельности на период
борьбы с социализмом и коммунизмом. Он помнил энциклику Пия XI Divini
Redemptoris: папское напутствие всем святым отцам, пускающимся в
плавание по морю социальной борьбы. Ее наставления утверждала
энциклика Quadrogesimo anno: "Случается наблюдать, что неуместно и
весьма ошибочно применяются слова апостола Павла "кто не хочет
трудиться, тот и не ешь". На самом деле послание апостола направлено
против тех, кто воздерживается от работы, когда мог бы и должен был бы
работать, и увещевает бодро использовать время и силы, не обременяя
других, когда мы сами о себе можем позаботиться. Но это изречение
апостола вовсе не учит, будто труд является единственным основанием
для получения пищи и доходов... Ошибаются те, кто признает
справедливость принципа, что труд... должен оплачиваться
соответственно тому, сколько стоят произведенные им продукты, и что
поэтому лицо, ссужающее свой труд, имеет право требовать столько,
сколько получено в результате этого труда". Пий XI сделал этот вывод
из положений Льва XIII, преподнесенного человечеству в энцикликах
Graves de communi и Quod apostolici muneris: "Надлежит поощрять
общества, которые под покровительством религии приучают своих членов
довольствоваться своей судьбой, с достоинством выносить тяжкий труд и
всегда вести тихую жизнь". Это повторяется в энциклике De rerum
novarum: "Горе никогда не исчезнет с лица земли, ибо суровы и трудно
переносимы последствия первородного греха, которые, хотят этого люди
или не хотят, сопровождают их до могилы. Поэтому страдать и терпеть -
удел человека". Обращаясь к поучениям ныне здравствующего наместника
Петра, Ланцанс находил в сочинениях Пия XII "Мир на земле и
сотрудничество классов", "Христианский синдикализм" и других:
"Свидетельства всех времен показывают, что всегда существовали богатые
и бедные и что это навсегда предусмотрено неизменными условиями
человеческого существования".
Из поучений иерархов своей церкви Ланцанс, еще будучи молодым
священником, сделал необходимые выводы. Как иезуит-ортодокс он
выступил инициатором примирения "малых сил" с работодателями и
хозяевами. Это он в своем первом латгальском приходе изобрел молитву:
"Во время святой обедни, - безропотно повторяли за ним пригнанные из
Литвы голодные батраки, - я буду молить господа бога, чтобы он покарал
скоропостижной смертью в поле, в темном лесу, на трапезе или во сне
тех, кто будет бастовать во время уборки урожая". В кратком, но
выразительном молении айзсарги получали от Ланцанса прямое указание:
лучше всего убить забастовщика ночью в лесу, отравить во время обеда
или придушить во сне на сеновале! Это он, молодой священник-иезуит
отец Язеп, приводил рабочих мыз к изобретенной им присяге: "Клянусь
всемогущему господу богу моему, единому в святой троице, что буду
работать честно, к союзу принадлежать не буду, и не буду бастовать, и
по судам мне чтобы не ходить, и буду работать от зари и до заката
солнца, в том присягаю и целую святой крест спасителя моего Иисуса
Христа".
То было давно, в наивные времена, когда отец Язеп думал, что все
дело в непокорности батраков. С годами он сделал более смелые выводы в
отношении тех, кто не признает утвержденных церковью истин. А так как
первыми из них были коммунисты, то делался вывод о беспощадной борьбе
с ними - носителями идеи сопротивления Риму.
Логикой и софизмами Ланцанс мог прийти к любому выводу в
отношении Инги. Впрочем, это не помогало ему почувствовать свою жизнь
более осмысленной и вселенную заполненной чем-либо, кроме мистической
болтовни о беспредметном. Он научился послушанию "подобно трупу" и в
силу этого послушания готов был усеять путь к цели настоящими трупами.
Но даже это не помогало ему почувствовать себя чем-либо иным, нежели
настоящим трупом, - мертвым вместилищем мертвых истин. Если это было
угодно Ордену, он готов был служить ему, но только потому, что ничего
иного он уже не умел, не мог и не хотел хотеть.
Однако желания жили в нем - бурные, смрадные, как зловоние трупа.
В минуты, когда он сознавал это, ему хотелось кричать. Но кричать он
не смел. Тогда он шел и искал утешения иными средствами.
51. ШОКОЛАД ЕПИСКОПА ЛАНЦАНСА
Епископ Ланцанс втайне оценил преимущества штатского костюма
перед духовным платьем. Правда, серый спортивный костюм сидел на нем
неуклюже, как маскарадное одеяние, и никто не поверил бы в силу и
ловкость покрытого им неуклюжего тела с сутулой спиной, жилистой шеей
и с толстыми ногами в пестрых чулках любителей гольфа. В целом фигура
производила карикатурное впечатление, но это не смущало Ланцанса. Он с
удовольствием менял теперь сутану на пиджак. На взгляд Ланцанса пиджак
обладал только одним существенным недостатком: по сравнению с сутаной
на нем было ничтожно мало пуговиц, нечего было пересчитывать нервно
бегающими пальцами. Да не хватало нараменника, чтобы прятать под него
руки. Зато, совершая деловые поездки по стране, Ланцанс имел теперь
возможность бывать даже в театрах. В штатском костюме не стыдно было
заходить в книжные магазины и покупать книги, запрещенные папской
цензурой. Пиджак и серая шляпа позволяли ему во время путешествий
завтракать и обедать где угодно, не смущаясь никаким обществом.
Поэтому его не обескуражило предложение Шилде встретиться "на
нейтральной почве". За столиком в уединенной ложе кафе можно было
поговорить без свидетелей.
Шилде не мог простить себе того, что не сумел помешать епископу
отобрать лучших людей для "Доротеенфройде" - "обители десницы
господней". Ланцанс не дал маху - наиболее способные ученики оказались
в его школе террористов на Тегернзее. Теперь, когда Шилде нужно было
организовать антисоветскую операцию, приходилось клянчить исполнителей
у Ланцанса. А план представлялся Шилде великолепным: во время
предстоящего республиканского праздника песни, когда на новой рижской
трибуне соберется хор из двенадцати тысяч участников - представителей
всех районов Латвии, - произвести взрыв эстрады. Для этой операции не
нужно много исполнителей: взрыв не должен быть большим. Подрыв устоев
одних только трибун не будет замечен публикой. Трибуна рухнет, и в
поднявшейся панике публика передавит сама себя. Трудно себе
представить, чтобы такое дело не наделало шума на весь Советский Союз,
не сняли бы с постов нынешних руководителей латвийского ЦК, Совета
Министров и КГБ, не началась бы перетряска всего аппарата республики,
которая неизбежно затормозит ее развитие. С того момента, как эта идея
пришла Шилде и оформилась в план, одобренный руководителями
Центрального совета, Шилде ходил в приподнятом настроении.
Руководителем и главным исполнителем диверсии будет находящийся в СССР
Квэп. В помощь Квэпу дается хорошо законспирированный Силс. Надо
переправить в Советский Союз и Ингу Селга. Получив в помощницы Ингу,
Квэп будет держать в руках Силса.
Нужно решить с Ланцансом вопрос о посылке за кордон Инги Селга.
- Ваше преосвященство, - с необычной для него почтительностью
говорил Шилде, рисуя выгоды задуманной им диверсии, - эта акция не
имеет примеров в нашей деятельности. В практике террора она явится
новым словом. Пустяковым взрывом мы уничтожим несколько тысяч человек.
Половину чести мы отдадим церкви и лично вам, епископу Ланцансу.
- Но, мой дорогой Шилде, - столь же ласково ответил епископ,
мысленно взвешивая все за и против предложения, - эта акция будет
неизбежно разоблачена. Следственные органы непременно обнаружат, куда
ведут нити. Они придут к нам.
- А что в этом плохого?! - с воодушевлением воскликнул Шилде. -
Они покажут пальцем сюда на этот клочок Западной Европы. И вот еще
один репей в хвост голубю мира! Пусть-ка господа советские миротворцы
попробуют пройти мимо того, что здесь, на земле этого государства,
создаются заговоры, стоящие жизни тысячам их людей! Это же хорошая
бутыль бензина в ворох взаимной неприязни Западной и Восточной
Германии.
Ланцанс слушал, вытянув губы и звучно прихлебывая из чашечки
горячий шоколад. Он любил этот напиток. Нигде не готовили его так
хорошо, как тут в кафе "Старый король". Взбитые высокой шапкой сливки
и ваниль придавали напитку особый аромат. Такого вкуса никогда не
могли добиться его экономки - ни прежняя в Риге, ни нынешняя в Любеке.
Смешно сказать: шоколад тот же, те же, вероятно, сливки, а вот поди -
ничего общего с прелестью, дымящейся перед ним здесь уже в третьей
чашечке, поданной кельнершей! Или имеет значение то, что у этой
кельнерши такие очаровательные розовые пальчики с отточенными
ноготками? Такие лукавые глазенки и с шиком приколотая к белокурым
локонам корона из накрахмаленных кружев?.. Епископ искоса поглядывал
на кельнершу, еще слаще причмокивая губами, в полуха слушая Шилде.
Епископ давно уже понял, чего хочет этот хитрец, и приготовил свои
возражения.
- Милый мой господин Шилде, - проговорил он, соблюдая все тот же
тон ласковой благожелательности, - девы и молодые мужи, достойные
стать перстами господними в святом деле искоренения коммунистической
скверны, представляют достояние церкви. Мы не можем ими швыряться. -
Ланцанс состроил глубокомысленную гримасу: - На их обучение затрачены
средства и... на главах их благословение святейшего отца.
- Надеюсь, - проговорил Шилде, подавляя усмешку, - что столь
высокое благословение поможет девице Селга выполнить миссию, какую мы
намерены на нее возложить. Оно поможет и нам сохранить в целости и
сохранности этот живой инвентарь его святейшества. Вы только
выиграете: мы берем на себя труд переправить Ингу в Советский Союз без
хлопот для вас.
- А знаете что, дорогой Шилде, - оживился вдруг Ланцанс. - Может
быть, мы с вами сами себе создаем лишние трудности: не кажется ли вам,
что для натянутости между Востоком и Западом вовсе нет надобности
лезть в Советы и затевать там невесть какие диверсии. Ведь достаточно
было бы нескольких террористических актов в Федеральной республике и
по ту сторону Эльбы, чтобы черная кошка была бы пущена между Западом и
Востоком. Кое-кто, правда, болтает, будто прошли времена, когда головы
правителей ценились выше мира народов, но мы думаем иначе.
Шилде отрицательно замотал головой. От возбуждения он даже
привскочил на стуле:
- Упаси бог, епископ, когда-нибудь подать подобную мысль
геленовцам. Они ухватятся за нее, и мы останемся в дураках. На кой
черт будем вмешиваться мы, латыши, если дело пойдет внутри Германии -
Восточной или Западной, - все равно? Наши шансы на субсидии именно в
том, что мы - специалисты по России. Как только вы ограничите сферу
деятельности Германией, - вы банкрот. Гелен сам не прочь получить
деньжат из рук хозяев. Господь с вами, молчите и молчите!
Ланцанс, оживившись было от мысли, показавшейся ему удачной,
увял.
- Видит бог, как мне хочется вам помочь, но ведь мои люди - божьи
люди, - кисло проговорил он. - А переправа их в СССР сопряжена с
опасностью для жизни...
Шилде грузно уселся в кресло не напротив Ланцанса, а рядом с ним
и фамильярно обнял его за плечи.
- У нас большой опыт и много шансов на то, что ваш живой товар...
то бишь инвентарь, будет цел. - Он так приблизил рот к большому уху
епископа, что торчавшие из этого уха волосы защекотали ему губы. Шилде
брезгливо отстранился и даже выпустил из объятий плечи Ланцанса.
Ланцанс отодвинул опустошенную третью чашку и, полузакрыв глаза,
откинулся на спинку кресла. Ему доставляло удовольствие, что Шилде,
обычно такой наглый и самоуверенный, упрашивает его. По-видимому,
девица Селга нужна ему до зарезу. Коль скоро Шилде сам набил ей такую
цену, надо содрать за нее подороже.
Кончилось тем, что девица Инга Селга - под кличкой "Изабелла"
была уступлена под денежный залог, вносившийся епископу Ланцансу.
- И не какими-нибудь вестмарками, дорогой Шилде, а в долларах, -
подчеркнул Ланцанс. - В долларах!
После этого несколько времени Ланцанс сидел в задумчивости. Он
отогнул утолок шторки и поглядел на улицу. Мысли вертелись все вокруг
того, сколько усилий нужно затратить, чтобы пропихнуть одного человека
в страну, где когда-то он и его друзья были хозяевами! И какие
опасности преследуют там его людей на каждом шагу!.. Стоит ли
подвергать этим опасностям Ингу? Разве мало в его распоряжении других
девиц?.. Почему Шилде так настойчиво требует именно Ингу? - Ланцанс
подозрительно покосился: нет ли в глазах Шилде чего-нибудь...
такого?.. Чего-нибудь, что говорило бы, что Шилде выпрашивает Ингу
вовсе не для посылки за кордон, а для... Да, для того, чтобы оставить
ее здесь, у себя?.. Если так, то у Шилде губа не дура! За счет Совета
купить себе такую девчонку!.. Но тогда чем он сам хуже Шилде? Почему
не оставить Ингу себе?..
Ланцанс сжал в кулаке газ шторы. Людям, не проведшим юности в
семинарии иезуитов, не воспринявшим их учение, не впитавшим каждой
порой тела и всеми фибрами души дисциплины Ордена, не постигшим силы
его власти над "солдатами роты Иисусовой", - не понять того, что
произошло в эти минуты с Ланцансом. Как поступил бы на его месте
всякий другой, поняв, что он во власти Инги, что ее образ преследует
его всюду, не дает ему покоя? Какие мысли, желания, решения родило бы
это открытие? Едва ли нашлось бы много таких, кто пришел бы к решению,
принятому Ланцансом: поняв, что власть Инги над ним зашла дальше
похотливой забавы, сводящейся к созерцанию ее изображения, поняв, что
прикосновение к живой Инге сделало бы его ее рабом, - он решил отдать
ее Шилде! Оставалось только сделать это с наибольшей выгодой для себя.
Вероятно, так же вот, с именем искупителя на устах, освобождающим
их совесть от угрызений, а их самих от ответственности перед законом
людским, отцы-инквизиторы топили в каналах Венеции жертвы своей
похоти. Ланцанс ничего не имел бы против того, чтобы, выполняя
обязанности разведчицы, Инга навсегда исчезла с лица земли.
52. ОТЕЦ ЛАНЦАНС НЕ ХОЧЕТ ШОКОЛАДА
Ланцанс опустил оконную штору и, не глядя на Шилде, проговорил:
- Вы недооцениваете услугу, которую я вам оказываю. - Его голос
едва приметно дрожал. Но Шилде ни за что не догадался бы об истинных
причинах этого. - Говоря между нами, мы посылаем ее в пасть льва.
- Это известно мне не хуже вашего, - ответил Шилде. - "Особенную
часть" Советского кодекса я помню наизусть.
- Господь да поможет нашим питомцам! - пробормотал Ланцанс.
- Ну, знаете ли, - усмехнулся Шилде, - тут надежда на небеса
плохая. Начиная со статьи 581 и до 5812 любую из них в отдельности, а
при желании и все вместе можно предъявить таким, как мой Квэп. Я уже
не говорю об указе 12 января - тут крышка и гвоздь... - проворчал
Шилде. - Кстати говоря, советую вам в Доротеенфройде следить за тем,
чтобы ваши люди не совали нос в этот Уголовный кодекс. Когда они
узнают, что в случае провала не миновать расчета "по указу", это не
способствует желанию совершать путешествие в Совдепию.
- Но мы же сами втолковываем "перемещенным", что самый факт
возвращения туда любого из них не обещает ничего, кроме лагеря.
- Лагерь - это не смертная казнь. Есть еще надежда выжить. Когда
она исчезает, вот и происходят такие случаи, как с Круминьшем. Я у
себя в школах выдрал эту главу из Советского кодекса и заменил листком
собственного изготовления.
- Сложный вопрос... - Епископ в сомнении покачал головой. -
Попробуйте дать им уверенность, что возвращение под сень
коммунистических властей ничем не грозит, и наши люди устремятся туда
толпами.
- Врать, дорогой епископ, нужно с умом, - глубокомысленно заявил
Шилде. - Гитлер уверял, будто ложь становится тем правдоподобнее, чем
она крупней.
- Святые слова святого человека.
- Еще немного, и вы посадите Адольфа рядом с богом-отцом.
- Мученическая кончина зачтется ему в царствии небесном.
- Значит, быть ему в раю? Ну, там мы с ним и встретимся. А теперь
по рюмке кюммеля, епископ? - заключил Шилде. И, заметив испуганный
взгляд, который епископ метнул вокруг себя, со смехом добавил: -
Сегодня на вас такой костюм, что если кто и увидит рюмку в вашей руке,
- не осудит.
- Святая церковь не возбраняет своим служителям вкушать сок
плодов, созданных всевышним. - Ланцанс состроил постную мину. - Но
ничто возбуждающее плоть, ничто возбуждающее мысли не касалось, не
касается и не коснется моих уст!
- А я все-таки дерну! - сказал Шилде и заказал две рюмки доппеля.
- За свою и за плоть вашего преосвященства. Впрочем, можно и третью:
за плоть Инги Селга. - Он подмигнул Ланцансу. Вы уж не постоите за
тем, чтобы приписать к залогу сотенку долларов и в мою пользу. Ей-ей
девица стоит того.
Через два дня, как было условленно, Шилде пришел в кафе "Старый
король" для передачи епископу залога за Ингу Селга (она же
"Изабелла"). Епископ не пил шоколада. С растерянным видом он глядел по
сторонам, и пальцы его пересчитывали пуговицы пиджака: сверху вниз,
снизу вверх и снова сверху вниз. После витиеватого предисловия он
путано рассказал Шилде о том, что мать Маргарита обнаружила
приготовления к побегу Инги Селга. Нити вели за пределы "обители
десницы господней". Подготовкой побега руководила бывшая заключенная
гитлеровского концлагеря и участница движения сопротивления Эрна
Клинт, сестра Вилмы Клинт, бывшей воспитанницы школы Центрального
совета, а ныне уборщицы и судомойки в Доротеенфройде.
Ланцанса не так волновал сам заговор, поскольку он был обнаружен,
как то, что Шилде может теперь отказаться от Инги Селга. Однако Шилде
решил дело по-своему: то, что Инга замыслила бегство, доказывает ее
способность к самостоятельным, смелым действиям. К тому же
провинившийся агент - всегда удобнее чистюли, не чувствующего за собой
никакого греха. Одним словом, Инга устраивает Шилде в качестве агента.
Но он не покажет этого епископу и собьет цену на девицу.
- Ну, а насчет Эрны Клинт, дорогой епископ, не беспокойтесь. Мы
передадим ее дело господам из организации Гелена. - Шилде с
удовольствием потер ладони, как делают люди, покончив с удачным делом.
- А теперь, дорогой епископ, я закажу себе еще рюмочку доппеля. А вам,
конечно, обычный шоколад?
- Знаете, дорогой Шилде, - опуская глаза, едва слышно ответил
Ланцанс, - пожалуй, я выпью с вами. Уж очень она меня расстроила, эта
девица!.. Одну рюмочку!
- Хоть десять, дорогой епископ, - весело заявил Шилде. - Хоть
десять, если вы платите сами за себя!
Через час они вышли из кафе. Лицо Шилде было красно, и он с
выражением удивления, точно впервые видел бульвар, людей, деревья,
обводил все помутневшим взглядом. На руке его, уронив голову на грудь,
висел Ланцанс. Епископ шаркал ногами, и с его оттопыренной нижней губы
стекала слюна. Шилде поманил проезжавший таксомотор и принялся
втискивать в него расслабленное тело епископа. Когда ему удалось
усадить спутника, он взгромоздился на сидение сам и бросил шоферу:
- В Доротеенфройде!
- Куда? - с удивлением спросил шофер.
Шилде понял, что сказал глупость: отсюда до Висзее было по
крайней мере 200 километров. С трудом ворочая языком, сказал:
- Хорошо бы, конечно, в Ригу, но это еще дальше... В общем
куда-нибудь... к девкам!
Условимся, что того, кто уже известен читателю как бывший
бригаденфюрер СС со шрамом от укуса на щеке, мы для удобства читателей
так и будем называть "бригаденфю-рером". Нет надобности загружать
рассказ еще одним именем. Такое допущение тем более оправдано, что не
только в кругу друзей и близких сослуживцев, но даже в некоторых
случаях официальных сношений этого человека, по старой памяти,
именовали бригаденфюрером. Очевидно, в его кругу полагали, что в
существе положения мало что изменилось: может быть, не так уж далек
день, когда к бывшим носителям фашистских прерогатив вернутся их
звания и привилегии.
В описываемый день телефонный звонок застал бригаденфюрера в
постели. Он потянулся и нехотя сунул ноги в туфли.
Полицейское управление сообщало, что у содержательницы пансиона,
где жил русский по имени Кручинин, нашли картину, оставленную за
ненадобностью, точнее подаренную им хозяйке пансиона. Именно то
обстоятельство, что картина без опасений брошена Кручининым, служит
свидетельством тому, что в ней не содержится ничего особенного. Но все
же может быть господин бригаденфюрер сам на нее взглянет. Может быть,
она представляет какую-то художественную ценность. В таком случае она
может пригодиться господину бригаденфюреру.
Через час бригаденфюрер сидел в полиции и с лупой в руке
исследовал - сантиметр за сантиметром - коричневое лицо старухи,
злобно глядевшей на него единственным уцелевшим глазом. А еще через
час целая свора агентов шныряла по антикварным магазинам и лавкам
старьевщиков, выясняя происхождение картины. Понадобился целый день,
чтобы наткнуться на антиквара, который вспомнил, что когда-то он был у
особы, продававшей кое-какие вещи, и на стене у нее видел это полотно.
- Это или подобное ему, - неуверенно сказал антиквар. - Но если
бы я еще раз побывал в той квартире, то мог бы ответить с большей
уверенностью. - Подумав, он добавил: - Я обладаю редкой способностью
ассоциативного мышления.
Бригаденфюрера не интересовали вопросы ассоциативного мышления,
которыми, как оказалось, занимался антиквар в свободное от торговли
время. Бригаденфюрер посадил антиквара в автомобиль и отвез на улицу,
где жила Марта Фризе. Антиквару было приказано побывать в ее квартире
под предлогом, что он хотел бы кое-что приобрести.
Через какие-нибудь полчаса, что бригаденфюрер сидел в машине,
антиквар появился из-за угла.
- Могу почтительнейше доложить вам, господин полицейрат, - сказал
любитель ассоциативной теории, - мои ассоциации верны, но интересующей
вас картины у госпожи Фризе больше нет.
- А была?
- Безусловно.
- Где она?
Антиквар недоуменно развел руками.
- Черта же стоят ваши ассоциации! - сердито воскликнул
бригаденфюрер, но антиквар, переждав его гневную тираду (жителям было
не привыкать к дурному воспитанию полицейских), - сказал с учтивым
поклоном:
- Я ведь не имею чести принадлежать к составу полиции, господин
полицейрат, и не могу быть настойчив.
- Зато мы будем настойчивы, - ответил бригаденфюрер.
Двое суток Марта мужественно держалась на допросах, которые вел
бригаденфюрер. Она утверждала, будто не помнит, куда девалась
интересующая полицию картина. Возможно, что этим бы дело и кончилось,
если бы обыск, произведенный в комнате, где жил Кручинин, не дал в
руки бригаденфюрера несколько номеров "Вестника". В одном из номеров
газеты было обнаружено объявление "Марты". Сопоставив дату его
появления с показанием хозяйки пансиона, занесшей в свой донос, что
русский пришел домой с большим пакетом, обернутым в газеты; отметив
то, что в комнате Кручинина был обнаружен лист из дамского журнала,
которого не получал Кручинин, но который выписывала Марта Фризе;
приняв во внимание, что шпагат, привязанный к колечкам на тыльной
стороне "старухи", отрезан от мотка, найденного в кухонном столе фрау
Фризе; принимая во внимание рапорты филеров, приставленных для
наблюдения за Кручининым, о том, что он скрылся от них, дважды сменив
такси именно в тот день и в те часы, когда вышел вечерний номер
"Вестника" с объявлением Марты Фризе; проанализировав показания
привратника дома, где жила Марта, и показания ее прислуги об образе
жизни и симпатиях Марты и сопоставив все это, бригаденфюрер пришел к
заключению, что полотно с изображением старухи было получено русским
от Марты Фризе. А так как было бы вздором полагать, будто русский
скупал драные полотна, чтобы тут же их раздаривать квартирным
хозяйкам, то бригаденфюрер сделал столь основательный вывод: холст или
рама картины содержали нечто, переданное чешкой русскому.
Что это было?
Если принять во внимание, что Марта была чешкой по происхождению,
вдовой авиационного инженера и, следовательно, вращалась в кругу его
коллег, следовательно, имела возможность шпионить среди людей,
возобновивших работу в области военного самолетостроения,
следовательно, могла пользоваться этими связями, чтобы выпытывать
данные, составлявшие тайны самолетостроительных фирм; следовательно,
овладевая такими тайнами, могла передавать их иностранным агентам; то,
следовательно, таким агентом и являлся вышеупомянутый русский по имени
Кручинин. Хотя сам этот русский и не был пойман с секретными
документами в руках, но добытого данным расследованием материала
вполне достаточно для возбуждения уголовного преследования против
Марты Фризе. То, что изобличенная свидетелями и вещественными
доказательствами Марта Фризе продолжает отрицать какое-либо
касательство к военным тайнам и к шпионажу в пользу Советского Союза,
значения не имело.
Возможность создать дело "О шпионаже Москвы" была выгодна всем
инстанциям. "Скандал с разоблачениями" поднял бы акции
разведывательной и диверсионной службы Гелена. Поэтому прежде всего
было отдано распоряжение изготовить секретные документы, с которых
шпионка Фризе якобы сделала микроснимки для передачи агенту Москвы
Кручинину. Тут же должны были быть изготовлены и сами микроснимки,
которые могли бы быть отобраны у Кручинина.
54. ЧАСОВНЯ СВЯТОЙ УРСУЛЫ
Оживление на Птичьем рынке спадало. Хозяйки расходились по
переулкам, нагруженные корзинами с овощами. Запах сельдерея и укропа
волною следовал за каждой проходившей мимо Кручинина женщиной. Он
устроился на одной из скамеек, расставленных позади фонтана, где любят
устраиваться цветочницы. Отсюда были хорошо видны все подходы к
часовне святой Урсулы, стоящей в углу площади Птичьего рынка. Самому
можно было оставаться вне поля зрения агентов, которые может быть
наблюдали за дверью часовни. Окидывая взглядом все углы, - на площадь
выходило несколько переулков, - и близлежащие подъезды, Кручинин
старался по поведению прохожих определить, есть ли среди них агенты.
Вокруг Кручинина, совершив свои покупки, между корзинами цветочниц
расхаживали женщины. Эти корзины расцвечивались всеми красками, какие
только создала природа в руках хитроумных садоводов. Осень не
уничтожила их искусства: цветов было так много, груды их были так
огромны и великолепны, что рынок походил на фантастический сад,
усеянный яркими клумбами, - делом рук великого садовника, обезумевшего
в неудержимой щедрости. Нет-нет из гущи цветов вырывались пчелы и
начинали с сердитым гудением носиться над головой Кручинина. Вероятно,
они приехали сюда, опьяненные ароматом цветов, в чашечках которых
собирали мед. Чайные, розовые, багровые почти до черноты и белые розы
источали аромат, нежный, как детская сказка. Его перебивал острый до
приторности запах гвоздики. Тут же Кручинин мысленно склонялся к
разбросанным вокруг нежно-зеленым пучкам резеды, чтобы втянуть их
робкий аромат, не способный пробиться сквозь испарения разноцветных
султанов левкоя.
Чтобы сбросить овладевшую им сонливость, Кручинин прошелся между
корзинами, выбирая место поближе к часовне. Усевшись на спину льва у
входа в крытый рынок, он погрузил лицо в горсть набранных в ладони
лепестков душистого горошка. Красные, розовые, фиолетовые, истекающие
ароматом еще более нежным, нежели их окраска, они должны были скрыть
любопытство, с которым Кручинин наблюдал за подходами к капелле. Там
все еще не было ни одной подозрительной фигуры.
Эрна пришла именно с той стороны, откуда Кручинин и ожидал ее
появление, - из полутемного малолюдного переулка Капуцинов. Всякий,
кто захотел бы выследить ее, был бы ею замечен. Дойдя до угла, она
приостановилась и подождала, глядя в только что оставленный переулок.
Он был пуст. Тогда Эрна быстро пересекла площадь и вошла в тот
цветочный ряд, где незадолго до того сидел Кручинин. Если бы он не
ушел оттуда, она прошла бы рядом с ним, не могла бы его не заметить,
передала бы ему все, что нужно, и, может быть, они бросили бы друг
другу несколько слов. Теперь же она шла, отдаленная от него
красно-бело-лиловым валом цветов и парусиновыми зонтами торговок,
огромными, как церковные купола. Шла не спеша, разглядывая цветы;
задержалась у одной из корзин и взяла маленький букетик... душистого
горошка. Да, да, именно так: в ее руке были те же нежные лепестки, что
наполняли его горсть! Неужели она помнит, что рассказывала ему у
колючей проволоки лагеря "702", как однажды, будучи на работе в садике
перед домом коменданта, увидела цветы - это был для нее праздник. Они
распустились под самыми окнами дома, и она не смела к ним
приблизиться. Это был душистый горошек. Его аромат, робкий, как лепет
ребенка, не доходил до нее и все-таки это был праздник... Даже когда
она рассказывала об этом, глубокая складка вокруг ее рта разгладилась,
и в глазах появился теплый блеск... Десять лет такой жизни, какую вела
она, не стерли из ее памяти подобную мелочь?.. И что это было:
крошечная подробность из ее лагерной жизни или деталь ее первой
встречи с Кручининым?..
Кручинину хотелось ее окликнуть, но его взгляд, обежав площадь,
остановился на двух субъектах, вынырнувших из переулка Капуцинов.
Следом за этими двумя, растерянно оглядываясь, выбежал третий.
Наметанный глаз Кручинина определил в них ищеек, потерявших добычу.
Эрна продолжала путь к часовне, не замечая агентов. Между тем один из
них уже отыскал ее в толпе и устремился следом. Двое других остались
на площади, по-видимому, для того, чтобы быть наготове, если Эрна
ускользнет от первого преследователя. Кручинин пристально смотрел на
нее, мысленно призывая оглянуться, хотя бы на миг бросить взгляд в его
сторону.
Эрна не оборачивалась. Ее светло-рыжие волосы сияли в лучах
заходящего солнца, едва прикрытые крошечной шапочкой. Кручинину
чудилось, будто он видит светящуюся голубизну ее глаз, улыбку твердо
очерченных губ, хотя ее лицо было скрыто букетиком душистого горошка.
Кручинин еще только сумел обогнуть разделявший их вал цветов, когда
Эрна уже достигла открытого пространства между рынком и часовней. И
тут Эрна обронила свои цветы. Они смешались с ворохом истоптанных
листьев и увядших стеблей, выброшенных торговками. Метельщики были уже
совсем близко к тому месту, от которого Кручинин не отрывал теперь
взгляда. Он успел отыскать букетик, прежде чем стальная щетка
метельщика смешала его с кучею зеленого мусора, и сжал его в кулаке.
Цветы превратились во влажный комок. Кручинин сунул этот комок в
карман.
Между тем число агентов на площади стало больше. Приблизиться к
Эрне или хотя бы выйти на площадь в таких условиях значило для
Кручинина открыть себя. Сжимая кулаки от бессильной злобы, он
остановился среди цветочниц. Эрна пересекла открытую часть площади и
достигла ступеней капеллы. Кручинин видел, как несколько агентов
одновременно с нею приблизились к паперти. Казалось невероятным, чтобы
подпольщица такого опыта, как Эрна Клинт, могла упустить из поля
зрения эту свору ищеек! И тут неожиданная мысль проникла в сознание
Кручинина: Эрна видит агентов; она знает об их присутствии. Все
происходящее - провокация, хорошо обдуманное вовлечение Кручинина в
западню. Но эта мысль была столь же коротка, как и отвратительна. Нет
и нет! Этого не могло быть! Что угодно, - только не такое оскорбление
Эрны! И все-таки, как бы сильно ни было желание прийти на помощь Эрне,
Кручинин не имел права лезть в расставленные сети. Оставалась надежда:
увидев, что Кручинин не идет за нею, Эрна уйдет, минует ловушку.
Быстро взвесив все это, Кручинин остался на рыночной площади. Он
видел, как Эрна не спеша поднялась по ступеням храма, видел, как она,
словно нехотя, медленно оглянулась, прежде чем ее силуэт растворился
во мраке часовни. Неужели она так и не обратила внимания на агентов?
Только не желая их видеть, можно было не обнаружить слежки. "Что с
ней?.. Что с ней?.." - билась в мозгу Кручинина недоуменная мысль.
Трое агентов вошли в часовню следом за Эрной. Четверо остались по
сторонам паперти. Их бесцеремонность могла объясняться одним: они были
убеждены, что тот, кому предназначалась передача Эрны, - то есть
Кручинин, - уже в часовне. Вероятно, по их мнению, им оставалось
теперь только не выпустить его оттуда.
Кручинин приготовился ждать за своим укрытием из цветов. Однако
прошло всего несколько минут, как в темном прямоугольнике дверей
показались те трое агентов, что последовали за Эрной. Они торопились.
Один из них, воровато оглядевшись, протянул стоявшим у лестницы
сообщникам небольшой светлый портфель, в котором Кручинин узнал тот,
что за несколько минут назад был под мышкой у Эрны. После этого все
агенты поспешно разошлись в разные стороны и исчезли в боковых
переулках...
Длинная тень старой башни магистрата пересекала площадь. Ни одной
цветочницы не осталось на рынке. Торговцы складывали на тележки
остатки нераспроданных овощей. Не подозревая о собственной удаче,
неистово кудахтали куры, которым посчастливилось не попасть сегодня в
суп; торговки безжалостно запихивали их в большие короба, от которых
остро пахло птичьим пометом. Старая нищенка в третий раз подходила к
Кручинину, по-видимому, заприметив его фигуру. Он счел разумным
переменить позицию: место, где он стоял, было теперь совсем открыто,
оседланный им лев горел на уходящем солнце, как отлитый из меди. Вот
появились в разных концах автомобили-цистерны со щетками. Вода с
шипением устремлялась на асфальт, сильной струей сгоняя зловонные
следы торговли тем, что ест человек. Накинувшись на добычу, стаи
воробьев уступали не прежде, чем на них обрушивались фонтаны воды. От
воробьев не отставали голуби. Их степенность была ширмой неудержимой
жадности. Автомобилю нужно было почти наехать на голубя, чтобы он
нехотя перелетел на несколько метров дальше, выискивая лакомства в
отбросах. Скрежет вращающихся стальных щеток не заглушал ни перебранки
расходящихся торговок, ни воплей репродукторов, установленных над
дверьми пивных и проявлявших теперь особенное усердие, завлекая
обладателей дневной выручки. Десяток песен, из которых каждая в
отдельности была предназначена ласкать слух, сливались в какофонию,
наводившую ужас.
Кручинин отыскал крошечную записку среди смятых в комок цветов
букетика, брошенного Эрной. Он попытался прочесть записку, но это
оказалось невозможным: так мелко она была написана и к тому же
зашифрована. Он засунул бумажку в карман, выбросив оттуда остатки
цветов. Комок был скользкий, мокрый и как нельзя больше подходил
теперь к той куче отбросов, которую намели посреди площади щетки
автомобилей.
Хотя, судя по поспешности, с которой удалялись сыщики, наблюдение
с Эрны было снято, осторожность все же требовала от Кручинина
оставаться как можно менее заметным. Но ее долгое отсутствие вызвало
беспокойство. Особенно если сопоставить это с тем, что полицейские
унесли ее портфель.
В сгущающихся сумерках вход в часовню вырисовывался уже не в виде
черного провала - огоньки свечей становились все ярче, хотя и не было
видно происходящего внутри часовни. Убедившись в том, что выходящие на
площадь проулки пусты и из них не выглядывают никакие подозрительные
личности, Кручинин решил войти. "Третья скамья от алтаря, с левой
стороны, под статуей богоматери". Он твердо помнил это. Но даже если
бы это место и не было определено с такой точностью, он без труда
сразу нашел Эрну. Копна ее волос как костер горела в тонкой стреле
света, падавшей сквозь витраж над боковым притвором. Кроме Эрны, тут
не было никого, отсутствовал даже причетник, обычный блюститель
благолепия в храме.
Кручинина поразила поза отчаяния, в какой сидела Эрна, уронив
голову на пюпитр. Ее руки были вытянуты поверх доски, в странной
окаменелости устремляясь вперед. По-видимому, она не слышала шагов
Кручинина и не шевельнулась, когда он подошел. Положив руку ей на
плечо, он почувствовал безжизненную податливость ее тела. Голова Эрны
скользнула с пюпитра, руки упали, стукнувшись о скамью, подхваченное
Кручининым тело безжизненно повисло у него на руках. Эрна была мертва.
Кручинин поднял ее и понес. Но сделав несколько шагов к выходу,
остановился: не было ли то, что убийцы покинули ее тут, ловушкой для
него? Оказаться запутанным в убийстве?! Здесь, в этой стране?!
Он бережно опустил тело на скамью. Копна рыжих локонов
рассыпалась из-под упавшей шапочки, отражая в золотом дожде волос
мерцание церковных свечей.
Спичка сломалась. Кручинин чиркнул вторую. От ее огонька сразу
занялась папиросная бумага записки. Знала ли Эрна, что ее выследили?
Понимала ли, что на основании этого последнего сообщения Кручинину
придется действовать дальше одному и довести до конца дело, за которое
она заплатит жизнью? Быть может, это было не чем иным, как игрою
нервов, но Кручинину казалось, что в простом и ясном смысле строк он
читает именно это: уверенность Эрны в том, что это - ее последнее
дело. Не в первый раз на пятки ей наступали полицейские ищейки; не в
первый раз она смотрела в глаза смерти. Так почему же на этот раз в
строках ее записки нет уверенности в успехе, какой она прежде всегда
заражала товарищей? Почему эта записка звучит так, словно Эрна знала,
что это конец.
Завитки сгоревшей бумаги обожгли пальцы Кручинина. Он подул на
пепел. Черные хлопья разлетелись, Одного дуновения оказалось
достаточно, чтобы никто никогда не узнал того, что написала перед
смертью Эрна Кручинину: ночь и час, когда состоится переброска через
границу Инги Селга. В назначенный час той ночи стража на зональной
границе должна принять Ингу. Помочь тому, чтобы девушке не помешали,
сводилась теперь задача Кручинина.
Но, глядя на несколько черных хлопьев пепла, Кручинин думал не об
этом задании, думал не об Инге. Его мысли были далеко в прошлом. Он
видел себя у ворот концлагеря "702", где впервые встретил одетую в
полосатую куртку женщину с торчащими, как у мальчишки, вихрами рыжих
волос. Мысли Кручинина летели сквозь годы десятилетия - такого
короткого, почти незамеченного и ставшего теперь таким безнадежно
длинным, не имеющим конца... Мысли Кручинина пришли к темным сводам
часовни святой Урсулы: по дереву скамьи рассыпались рыжие волосы
женщины, как золотой дождь, отражающие мерцание церковных свечей...
Почему так устроена жизнь? Чтобы Инга Селга могла начать новую жизнь,
должна была окончиться жизнь Эрны Клинт... Почему?
Смерть Эрны избавляла Кручинина от необходимости оставаться в
этой стране. Он покинул ее пределы и остался у границы, неподалеку от
того места, где народно-демократические власти согласились пропустить
беглянку во имя предоставления ей политического убежища.
А между тем дела заговорщиц в Доротеенфройде не ладились. Вилма
чувствовала ответственность за судьбу Инги, превратившейся теперь в
политическую фигуру. Но не только это обстоятельство заставляло Вилму
волноваться: ее собственное физическое состояние делало все более
трудными работы, которыми ее нагружала мать Маргарита - Вилма была
беременна. А стоило матери Маргарите об этом узнать, и ребенок
Круминьша наверняка сделался бы жертвой начальницы пансиона. Все
помыслы Вилмы были теперь сосредоточены на том, чтобы его спасти. Ее
навязчивой идеей стало, что он - ее и Эджина ребенок! - должен иметь
родину, не должен стать человеком без отечества; не должен быть
"перемещенным", не должен, не должен!.. Ночи напролет она металась по
постели, боясь сказать правду даже Инге. Вилма хорошо усвоила правило
конспирации, гласящее: чем меньше знает человек, тем легче ему на
допросе, если он провалится.
Но то, что Вилме удавалось пока скрывать от свирепой и опытной
надзирательницы, не укрылось от крестьянки Магды. Однажды ночью она
склонилась к уху погруженной в тяжелую полудремоту Вилмы:
- Бедная сестра моя... - прошептала Магда, - я знаю...
Испуганная Вилма села в постели с широко раскрытыми от ужаса
глазами. А Магда положила покрытую цыпками, шершавую руку на худую
руку Вилмы и осторожно пожала ее. Это пожатие было так нежно, что
Вилма почувствовала, как успокоение подобно теплому току проникает в
каждую клетку ее тела. Она откинулась на подушку и заплакала. Магда
гладила ее руки своими большими руками крестьянки, ставшими легкими,
как крылья ласковой и нежной птицы. В тишине Вилма слушала шепот
Магды:
- Все, все будет хорошо... У тебя будет ребенок... И он будет
там, на родине.
- Что ты говоришь?! Разве можно отсюда бежать?.. За мною следят,
каждое движение, каждый взгляд проверяют... Разве я могу бежать?.. -
прошептала Вилма.
- Ты убежишь, - убежденно повторила Магда. - Ты убежишь... -
Звучавшее в ее словах убеждение было так сильно, что Вилма закрыла
глаза, ее рука ответила Магде пожатием и она заснула спокойно, как не
спала уже давно.
С этой ночи Магда - "тупая деревенщина" Магда - стала душою
заговора для спасения Вилмы и ее ребенка. В одну из ночей она сказала
Вилме:
- Завтра меня отправляют за покупками. Я сказала Маргаритке:
"Давайте заставим Вилму попотеть - пускай носит за мною покупки". Если
бы ты видела, как она обрадовалась: "Это будет хорошей пощечиной
гордячке, - сказала она, - на виду у всех носить пакеты за тобой,
деревенщиной!" Твердые желваки вздулись под скулами Магды, так крепко
она стиснула зубы. Кажется, ее зубы даже скрипнули. - И завтра... -
сказала она - ты убежишь.
На следующий день Вилма не находила себе места. Приближался час,
назначенный для поездки в город, а Вилма все не получала распоряжения
начальницы приготовиться к выходу. По-видимому, девушкам было не по
силам состязаться в хитрости с Маргаритой: когда до отъезда оставались
считанные минуты и Вилма была ни жива ни мертва от напряжения,
начальница приказала собираться в дорогу совсем другой девушке.
Бледная, с обессилевшими, словно ватными, ногами и руками Вилма стояла
у окна и глядела, как привратник запирал калитку за Магдой и ее
спутницей. И тут, когда Вилма глядела на сутулую спину крестьянки с
выдающимися из-под ситца широкими лопатками, у нее шевельнулась мысль:
не предала ли ее сама Магда? Может быть, уже завтра, нет, даже
сегодня, сейчас войдет Маргарита и... Вилма едва нашла в себе силы,
чтобы доплестись до кухни и опустилась на опрокинутое ведро, служившее
сиденьем (мать Маргарита запретила давать Вилме табурет - на ведре
сидеть холодней), в отведенном ей темном углу. Вилма снова, как
всегда, чистила картошку. Картофелины казались ей сегодня особенно
большими и скользкими, нож не держался в ее ослабевших руках.
А Магда вернулась из города такая радостная, словно побывала на
празднике. Но она знала, что именно этого-то и нельзя показывать, если
она хочет, чтобы ее и в следующий раз послали за покупками. Мать
Маргарита должна думать, будто ничего, кроме огорчения, поручение
девушке не доставило, и тогда ее непременно пошлют снова. Однако
каждая черточка широкого лица крестьянки лучилась такой сияющей
радостью, что скрыть это было выше ее сил. Оставалось только не
попадаться на глаза начальнице. Вечером Вилма узнала о причине этой
радости: Магде удалось забежать на почту и получить письмо "до
востребования". Магда была неграмотна, но по картинке на марке, такой
же, как на прежних письмах Яниса, она догадалась, что письмо из
Африки.
- Янис пишет мне, когда приедет... - шептала Магда ночью, когда
девушки уже лежали в постелях. Она обеими руками крепко держала
конверт, не решаясь передать его Вилме, чтобы та прочла письмо, и в
приливе чувств поцеловала марку, казавшуюся ей олицетворением самой
Африки, наконец выпустившей из своих знойных объятий ее Яниса. - Ну,
читай, - сказала она, откинувшись на подушку, и закрыла глаза: так ей
было легче не пропустить ненароком словечко, прилетевшее к ней с края
света от милого Яниса.
Но Вилма почему-то не спешила передать ей содержание письма. Она
молча глядела на строчки, и ее пальцы, державшие листок, дрожали.
Магда ждала, ждала и, наконец, открыла глаза.
- Ну, вот, - прошептала она, - а говорят, будто ты такая
грамотная, что разбираешь всякий почерк... Я знаю, мой Янис не мастер
писать. А там еще эта проклятая работа - руки-то от нее, наверно,
дрожмя дрожат. Но ты постарайся, Вилма, пожалуйста, постарайся
разобрать: я должна знать, когда он приедет.
Вилма с трудом удерживала слезы: письмо писал какой-то "сосед по
койке". Теперь, когда Яниса не было в живых, он отыскал в вещах Яниса
записную книжку с адресом Магды. Он писал, что на руднике произошла
авария, - завалило шахту. Администрация не захотела расходовать
средства на спасение заваленных - ведь они были всего только
"перемещенными". У этих людей не было даже своего консула, который мог
бы заставить компанию спасать заваленных... Одним словом, Яниса даже
не пришлось хоронить, как и остальных сто двадцать шесть шахтеров,
погребенных в глубокой шахте "Сосьетэ де Миньер Африкэн". "Сосед по
койке" спрашивал, послать ли Магде вещи Яниса или продать их
старьевщику и прислать ей деньги. Их наберется наверно с целый
недельный заработок... Читая письмо, Вилма вспомнила день, когда до
нее дошло известие о смерти Эджина... Письмо с африканской маркой
выпало у нее из рук, она обняла придвинувшуюся к ней, уже понявшую,
что случилось что-то дурное, Магду и заплакала, прижавшись к ее
большой горячей груди. Вилма плакала так, словно в письме говорилось
не об Янисе, а сообщалось о второй смерти Эджина... А кто же может
сказать, сколько раз умирает любимый человек - десять, сто, тысячу
раз?! Десять или сто тысяч раз разрывается сердце и возникает вопрос:
не дурной ли это сон?.. Сто тысяч, миллион раз повторяют губы: "не
может быть, не может этого быть!.."
Захлебываясь слезами, Вилма пересказывала Магде содержание
письма, а глаза Магды становились все больше, рот приоткрылся. Вилма
подумала, что сейчас Магда закричит, и в испуге зажала ей рот ладонью.
Но та и не думала кричать. Она продолжала неподвижно сидеть в постели,
все с такими же широко раскрытыми глазами и отвисшей челюстью. Потом
отвела руки обнявшей ее Вилмы, и из груди ее вырвался глухой стон.
Тогда она впилась зубами в подушку и стала раскачиваться большим телом
из стороны в сторону, не выпуская подушки. Вилма сидела возле Магды и
не решалась к ней прикоснуться, чтобы лаской утишить ее боль. Наутро
Магда ушла вниз и заперлась в чулане. Она сидела там целый день, не
отвечала даже на стук матери Маргариты, сидела так тихо, словно
умерла.
Самым странным в этом происшествии, о причинах которого не знал
никто, кроме Вилмы и Инги, было то, что мать Маргарита не применила к
Магде репрессий, которые постигли бы на ее месте всякую другую
ослушницу. А еще через день Магда принялась за работу. Только взгляд
ее стал тяжелее прежнего. Тот, на кого она поднимала глаза, невольно
нервно поводил плечами. При приближении матери Маргариты Магда
опускала глаза и отвечала ей еще более односложно и тупо, чем обычно.
И счастье матери Маргариты, что она не считала нужным заглянуть в
глаза "деревенщине", как никогда не заглядывал в них Квэп. Иначе
начальница пансиона прочла бы в них чувства, рожденные в душе ее
любимицы еще одним неисполненным обещанием спасти Яниса из
африканского ада. А кто знает, несмотря на жестокость и выдержку
монашенки-палача Маргариты, удалось ли бы ей заснуть так спокойно, как
она спала всегда? Быть может, и ей довелось бы провести хоть одну
бессонную ночь, холодея от страха, какой она любила внушать другим?..
56. ИНВЕНТАРЬ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА
Сидение на границе начинало наскучивать Кручинину. Он проверил
готовность друзей принять Ингу Селга и переправить ее в Советский
Союз, остальное могло произойти и без него. Не разумнее ли поспешить в
Ригу, где находится выздоравливающий Грачик, и помочь ему довести до
конца дело Круминьша? Болезнь Грачика задерживала расследование, а
пора было его заканчивать. Дело приобретало все большее политическое
звучание. Насилием и обманом удерживаемые за рубежом "перемещенные"
требовали возвращения на родину. Было важно показать всему миру, как
руководство эмиграции запугивает несчастных, фальсифицирует события,
провоцирует запутанных и запуганных людей на преступления против
своего отечества, против самих себя. Разумеется и добровольный переход
Инги Селга в страну народной демократии и дальше в СССР имел бы
немалый смысл. Девушка могла бы многое рассказать о системе подготовки
провокаций и диверсий против лагеря мира. Она была бы живым свидетелем
тому, что людей, возвращающихся в родные места, ждет спокойная
уверенность в завтрашнем дне и плодотворный труд на благо себе и своей
отчизне. Но чем он, Кручинин, может помочь ее переходу? Его участие в
этом деле было случайным, больше связанным с его личным отношением к
Эрне Клинт, нежели с намерениями участника борьбы за мир. Одним словом
- пора было собираться домой. Там ждет его Грачик, ждет дело, которое
не под силу довести до конца его больному молодому другу. Кручанин
решил проститься с гостеприимством восточногерманских пограничников,
когда приехавший из Берлина сотрудник Статс-секретариата
Государственной безопасности сказал ему:
- Нам не удалось установить местоположение конспиративной
квартиры агентуры Гелена, где она намерена спрятать товарища, который
должен сопровождать Ингу Селга. - Он говорил таким тоном, словно
Кручинину было все известно. - А это очень важно знать: по нашим
данным, там должны собраться агенты во главе с "самим" Максом. Ему
поручено захватить этого сопровождающего и "обработав его", доставить
обратно к эмигрантам... Как видите, наша разведка работает неплохо! Мы
ничего не будем иметь против вашего участия в ликвидации этой
операции.
И Кручинин остался ждать развития событий.
Епископ Ланцанс приказал матери Маргарите привезти к нему
пансионерку Ингу Селга. При свидании с глазу на глаз (не было
дозволено присутствовать даже сгоравшей от любопытства матери
Маргарите) Ланцанс продолжил разговор с Ингой, начатый при проверке
анкет в пансионе. Теперь он посвятил ее в подробности плана
организации террористического акта и заставил еще раз присягнуть на
верность своим руководителям и делу борьбы с коммунизмом,
осуществляемому Центральным Советом.
Это было самой неприятной частью свидания для Инги. Но рука ее не
дрожала, когда она положила ее на Евангелие, голос был тверд и
спокоен.
- Теперь, дочь моя, познакомьтесь с вашим новым начальником. Его
приказы - мои приказы.
С этими словами епископ поднял портьеру, и Инга поняла, что
скрывавшийся за нею Шилде слышал и видел все происходившее. Инга молча
ждала, когда он заговорит. Шилде тоже молчал, вопросительно глядя на
епископа. Деньги за Ингу были уплачены. Ланцансу не было дела до того,
что тут произойдет. При взгляде на Ингу в глубине души у отца Язепа
шевельнулось нечто подобное ревности, но он отвел взгляд и вышел из
комнаты. Шилде без церемонии подошел к двери следом за ним и проверил,
хорошо ли тот ее затворил. Шилде вовсе не хотел, чтобы кто-нибудь
слышал его разговор с Ингой. На это у него были свои причины, и
главная из них - жадность епископа, способного за хорошую цену продать
любую тайну кому угодно.
Шилде разглядывал сидевшую перед ним девушку. Ланцанс сумел-таки
набить ей цену! Нужды нет, что на этой сделке Шилде и сам положил
кое-что в карман! Он переводил взгляд с лица Инги на руки, на ноги;
мысленно раздевал ее и снова облачал в различные наряды, прикидывая
впечатление, какое она может произвести в той или иной роли. Мало ли
ролей может выпасть на долю разведчицы!
Покончив с бесцеремонным осмотром, под которым Инга вся
сжималась, Шилде занялся допросом. Его не занимала техника - это дело
было поставлено в школах Центрального совета хорошо, а вот моральные
качества девицы (если можно назвать моральным качеством полную
аморальность) не могли быть сообщены инструкторами подобно знанию
радиодела или умению шифровать.
По-видимому, и в этой части "товар" его удовлетворил. Шилде
перешел к главному - к заданию. Оно оказалось проще, чем могла ждать
Инга. Дело сводилось к тому, чтобы, очутившись в СССР, явиться к
советским властям и повторить то, что сделали в свое время Круминьш и
Силс. Мотивом такой явки Инга должна была выставить любовь к Силсу,
желание быть с ним. После этого ей надлежало принять облик советской
патриотки. Шилде не мог определить срока, какой ей дается на то, чтобы
войти в среду советских людей и стать полноправным членом их общества.
Чем скорее это произойдет, тем лучше. У деятелей Перконкруста нет
времени, чтобы подобно Ватикану заявлять, будто они живут и мыслят
"категориями вечности". Когда наступит время действовать, Инга и Силс
получат указания, явки. Сейчас он не может дать ей даже минимального
числа точек - их нет. Пока главное: укрепляться и еще раз укрепляться
в советском тылу! В качестве подруги Силса Инга может быстро занять
свое место в жизни.
- Епископ, кажется, уже благословил вас, - с усмешкой закончил
свое наставление Шилде. - Мне остается предостеречь: если у вас
появится хотя бы тень мысли об измене нам, мы не станем раздумывать -
в тот же день Карлис Силс испытает тяжесть нашей руки.
- Я изменю, а Силс будет в ответе? - усмешкой на усмешку ответила
Инга.
- Мы исполняем свои обещания как в части поощрения, так и в части
наказания, - жестко повторил Шилде. - Попытка Силса нарушить наши
приказы будет стоить жизни вам. А ваша - ему.
За время, что Шилде занимался вербовкой и обучением секретной
антисоветской агентуры, перед ним прошло много типов: мужчин и женщин,
старых и молодых, умных и глупых, отважных и трусливых, красивых и
уродливых. Но он впервые видел такое удачное сочетание качеств,
необходимых разведчику. Даже некоторый цинизм, который он уловил в
речах Инги, был качеством положительным; человек тем ценнее, чем яснее
представляет себе свою миссию во всех ее положительных и отрицательных
возможностях. И вместе с тем, в этом цинизме девушки ему чудилось
что-то смахивающее на насмешку. Словно эта особа была твердо убеждена
в своем превосходстве даже над ним, Адольфом Шилде, "недосягаемым"...
Откуда такая самоуверенность?.. В их деле она появляется у тех, кто
знает нечто, неизвестное собеседнику. А что может знать эта девчонка,
что не было бы известно ему?.. Это он мог бы чувствовать превосходство
над нею: он знает, что как только Инга выполнит свою миссию, ее ждет
пуля в спину; он знает, что конечная цель ее работы не имеет ничего
общего с интересами Латвии, именем которой ее посылают на дело... Уж
не воображает ли эта девка, будто ей суждено жить и любить своего
Силса, такого же обреченного смерти, как она сама?.. Или она так глупа
при всем своем уме?.. И тем не менее спокойствие, с которым Инга
стояла напротив него, поражало его: черт ее знает, что у нее на уме?!
Ему хотелось подержать в руке маленькую кисть с тонкими пальцами, на
которых алели тщательно отделанные ногти, хотелось прикоснуться к
нежной розовой коже. Если бы за стенкой не торчал Ланцанс!
И тут действительно отворилась дверь: в ней стоял епископ.
- Дочь моя, - торжественно проговорил он, - мой отеческий долг
напомнить: наши души, моя и ваша, души всех добрых католиков
принадлежат матери нашей церкви. Только его святейшеству папе дано
отпустить нам грехи наши и золотым ключом Петра отворить нам ворота
рая, что бы ни думали люди о поступках наших. Тот, кого люди в
ограниченности своей считают убийцей, может войти в рай в ангельских
одеждах подвижника. В длани наместника господня - вы только
одушевленный меч, вы стрела, направленная апостольской десницей в
сердце врага. Помните это, дочь моя, и повинуйтесь воле пославшего
вас!
- Вы имеете в виду папу или господина Шилде? - опустив глаза,
спросила Инга.
Ланцанс на минуту смешался, лицо его налилось кровью, но он
сдержался и предпочел сделать вид, будто не слышал или не понял ее.
- Ныне воля его святейшества будет доходить до вас через грешные
уста... Шилде, - сказал он. - Завтра это может быть кто-нибудь другой.
Но всегда это будет - Его воля. Ибо сказано о начальниках: "кто
слушает вас - слушает меня, кто пренебрегает вами - пренебрегает
мной!" Да не искусит вас диавол соблазном неповиновения начальникам.
Грех сей подобен смертному греху неповиновения церкви, то есть самому
богу единому, вседержителю, творцу всего сущего. Памятуйте сие и
повинуйтесь! - Он поднял руку и осенил Ингу широким крестом.
Скажи кто-нибудь еще вчера, что Инге предстоит скорый отъезд, -
она не испытала бы ничего, кроме радости. Но теперь, когда она уже
твердо знала, что не сегодня-завтра будет в пути, ей стало не по себе.
Да, конечно, там ее ждет Карлис, там Латвия, а тут не остается ничего,
кроме ненавистной матери Маргариты, ненавистных инструкторов,
ненавистного "пансиона", - и все-таки было немного не по себе. Новая
обстановка, новые люди, новые отношения, тщательно изучавшиеся на
уроках и все же остающиеся неизвестными! Сумеет ли она вести себя в
Советской Латвии так, как нужно? И потом - Вилма, которую она покидает
здесь. Что будет с Вилмой и ее ребенком? Если до сих пор, пока текла
их общая жизнь изо дня в день в опостылевшей, но привычной обстановке
школы, мысль Инги почти не останавливалась на подруге, то теперь,
когда Инге предстояло наконец вырваться отсюда, а Вилме оставаться в
этой тюрьме без надежды на освобождение, судьба подруги предстала Инге
во всем ужасе. Когда вечером Инга и Магда были у себя наверху, а Вилма
еще доделывала последние грязные работы внизу, - Инга спросила Магду:
- Что будет с Вилмой?..
Магда ответила таким взглядом, что у Инги пропало желание
разговаривать: на лестнице слышались шаги Вилмы. Инга отвернулась к
стенке, чтобы не видеть изнуренного работой и недоеданием лица
подруги, ее глаз, из которых теперь не исчезал безмолвный вопрос "что
будет?". Инга слышала, как Вилма медленными, усталыми движениями
сбрасывает с себя дырявый хлам, в который ее одевала мать Маргарита;
как, подобно плетям, падают ее исхудавшие руки. Инга, не глядя, видела
на подушке бледное лицо Вилмы в венце золотисто-рыжих волос. Эти
волосы теперь смешно торчали в разные стороны, как у озорного
мальчишки-растрепы, после того как Маргарита заставила Вилму срезать
копну ее великолепных кудрей.
В комнате долго царила тишина, но по дыханию своих соседок Инга
знала, что ни одна из них не спит. Наконец Магда протянула руку и
дотронулась до плеча Инги. Так же она заставила приблизиться к себе
Вилму. Три девичьих головы прижались друг к другу - прямые, гладко
зачесанные в простой узел волосы Магды, золотистые локоны Инги и рыжие
вихры Вилмы. Таким шепотом, что половину слов нужно было угадывать по
движению ее губ, Магда сказала подругам, что получила приказ Маргариты
сопровождать Ингу до места, где ее примут агенты Гелена. Завтра в
полночь закрытый автомобиль должен взять их и доставить на границу
Восточной Германии. Магда предлагает... чтобы вместо нее, Магды,
уехала Вилма.
- А Маргарита! - с испугом прошептала Вилма. - Она убьет тебя!
Магда беззвучно рассмеялась в ответ. Она смеялась так, что все ее
тело сотрясалось. Она поднесла к самому лицу Вилмы большой костистый
кулак.
Сомнительно, чтобы у Магды сохранилось желание смеяться, если бы
она знала ту часть приказания о своем назначении в провожатые Инге,
которую не открыла ей мать Маргарита, а именно в этой-то утаенной
части приказа и заключался смысл посылки Магды вместе с Ингой: авторы
плана решили использовать переброску Магды с чисто внутренними целями.
Идея возвращения на родину приобретала все большее число сторонников
среди новой эмиграции. Происшествие с Круминьшем и Силсом служило
дрожжами, на которых происходило все большее брожение умов: сквозь
черный туман эмигрантской пропаганды проникали все более ясные лучи
правды. С этой правдой необходимо было бороться, если главари
эмиграции хотели сохранить власть над массами обманутых
соотечественников. И вот Ланцанс, чья голова всегда рождала
какие-нибудь "идеи", предложил послать вместе с Ингой человека,
который, будучи переброшен в демократическую зону, должен вернуться
оттуда с "личным опытом", выгодным для вожаков эмиграции. Пользуясь
тем, что обреченный не сможет точно определить, где находится и с кем
имеет дело, ему скажут, что он "попал" в руки народной полиции, и
воображаемые агенты народной полиции-геленовцы "обработают"
заброшенного. Затем ему дадут возможность "бежать" обратно на запад.
Вернувшись в лагерь для "перемещенных", этот несчастный сможет
рассказать, как принимают "на востоке" возвращенцев. По мысли Ланцанса
такой опыт должен у многих отбить тягу "домой".
Чтобы подобрать подходящего человека, Ланцанс приехал к матери
Маргарите.
- Деревенщина глупа, как корова, - сказала Маргарита. - К тому же
она - настоящее бревно. Эта не околеет под дубинками ребят господина
Гелена!
Ланцанс попросил показать ему Магду. Ее вид удовлетворил его:
такая действительно все выдержит и ни в чем не разберется,
Вилма не очень хорошо помнила, как закончила работу, как
поднялась к себе и примерила платье Магды. Теперь, когда наступило
время действовать, Вилма почти не испытывала волнения. Она двигалась и
действовала, как во сне. Единственным ясным ощущением было: так нужно.
В полночь Магда сказала:
- Пора!
- А Инга?
- Уже одета.
- А... а Маргарита? - решилась Вилма выговорить самое страшное,
что подавляла в себе целые сутки.
Магда коротко приказала:
- Скорей!
Вилма, шаг за шагом, в последний раз отсчитывала ступени своей
тюрьмы. На ней было платье Магды. Поверх платья - плащ с капюшоном.
Она накинула его на голову и, не поднимая глаз, чтобы не встретиться с
подстерегающим взглядом Маргариты, пошла к выходу. Вот коридор - такой
бесконечно длинный, когда его нужно мыть, ползая на коленях с мокрой
тряпкой, хотя рядом у стенки стоят щетки, которыми ей запрещено
пользоваться, чтоб сделать работу тяжелей; вот классы - один, другой,
третий - там девушек обучают совершать все возможные подлости и
убивать, так учили когда-то и ее, Вилму. Забыла ли она эту науку?..
Пожалуй, настанет когда-нибудь время, когда все эти иностранные майоры
и капитаны узнают, что их уроки не пропали даром, - о, Вилма
постарается им это доказать! Только бы вырваться отсюда!.. Вот,
наконец, и прихожая. За стеклянной дверью - силуэт Инги. Вилме
оставалось сделать два - три шага, когда в прихожую вошла мать
Маргарита. Одного взгляда ей было достаточно, чтобы понять
происходящее. Ее лицо перекосилось в гримасе. Из широко раскрытого рта
готов был вырваться вопль, который поднял бы на ноги весь пансион, но
широкая ладонь появившейся за ее спиной Магды, закрыла половину лица
монахини.
- Скорее! - приказала Магда. Вилма выбежала в сад и увидела в
растворенную калитку автомобиль. Словно сквозь сон, слышала, как
хлопнула автомобильная дверца, и - все.
А Магда боролась с Маргаритой. Толстуха была сильна. На мгновение
она освободилась от объятий крестьянки, но крикнуть ей все же не
удалось: удар кулаком в лицо повалил ее на пол. Она брыкалась,
царапалась, кусалась, пытаясь освободить голову, зажатую под мышкой
Магды. Чтобы не дать Маргарите закричать, Магда схватила с диванчика
подушку и прижала к ее лицу. Магда придавила голову Маргариты к полу и
навалилась на мягкое, подавшееся под нею, как студень, тело монахини.
Сопротивление Маргариты ослабевало, а Магда, движимая овладевшим ею
страхом, все нажимала и нажимала. Сквозь подушку она слышала хрип
Маргариты, но больше не думала о том, что делает, и о том, что будет
потом. Все ее силы и помыслы были сосредоточены на одном: покончить с
сопротивлением начальницы. Она должна сделать это, чтобы спасти Вилму.
Вилму и ребенка... Вилму и ребенка... Это заняло весь неповоротливый
мозг Магды. Но когда монахиня, изловчившись, укусила Магде руку, когда
она вцепилась в грудь Магды, ненависть захлестнула сознание
крестьянки. Чем свирепее сопротивлялась толстуха, тем отчетливее Магда
сознавала, что под нею палач, мучительница, убийца, виновница
страданий и смерти многих людей. Эти мысли, еще темные,
полуосознанные, проносились в голове Магды как оправдание тому, что
она делала. Она чувствовала, как содрогается рыхлое тело Маргариты, и
грудью прильнула к подушке, распяв на полу раскинутые руки Маргариты.
Сопротивление монахини ослабевало. Прекратилось совсем. Магда
приподнялась. Ее стошнило. Это было осознанное отвращение к убийству.
Может быть, Магда испытывала угрызения совести?.. Нет, она не
раскаивалась в том, что сделала. Едва ли эта простая девушка, не
искушенная в философии и риторике, могла построить какие-нибудь
сложные формулы в оправдание совершенного. Она знала, что так должно
быть, если слово "знание" подходит для определения того неосознанного,
хотя и ясного, что жило в ней. Скорее инстинкт, нежели создание,
говорил ей, что случившееся было законным возмездием за все, в чем
была виновна убитая. А то, что возмездие это пришло через нее, Магду,
- что ж, такова, видно, была воля господня. Что могла тут поделать
Магда? И потом еще это, с Вилмой... Разве не стоял вопрос так просто:
Вилма и ее ребенок или Маргарита?! Им троим не было места в этом
необъятно просторном и таком тесном мире... Нет, нет! Магда не
испытывала раскаяния! Только страх, обыкновенный страх перед тем, что
теперь будет, постепенно овладевал ее мозгом. Страх заставил ее
подняться с пола, где она сидела возле тела монахини - расплывшегося,
вот-вот готового прорвать своими жирными складками платье и салом
растечься по полу. Магда встала и перекрестилась. Несколько времени,
как истукан, стояла, не зная, что делать. Попробовала поднять с пола
тело, но это оказалось не под силу даже ей. Тогда она поволокла его по
коридору и заперла в спальне. Сунув ключ в карман, вернулась в
прихожую и привела ее в порядок. Проделывала все спокойно,
методически, как обычную утреннюю уборку. Покончив с этим, взяла с
вешалки первое попавшееся пальто и хотела его надеть. Пальто было
мало. Накинула его на плечи и пошла к выходу. Но одумалась и, тихонько
вернувшись к себе в комнату, вынула из-под матраца деньги - гроши,
накопленные для Яниса. Эти деньги, не считая, сунула в руку
привратнику.
- Не ложись, - сказала она, - через полчаса я вернусь.
- Смотри только тихо, а то проснется сама...
Магда в испуге оглянулась на привратника. Отойдя с десяток шагов,
она остановилась: куда? Единственное, что было ясно ее неповоротливому
уму: обратно нельзя. Она брела, не видя дороги и спотыкаясь, словно
асфальт был изрыт ухабами. Направо простиралась зеркальная гладь
озера. Освещенное луной, оно казалось мертвым и бесконечным. Мертвыми
и бесконечно высокими казались сосны на берегу. Мертвым и бесконечным
было небо над головой. Мертвыми и бесконечно огромными были темные
силуэты гор. Весь мир был мертв, темен и бесконечен. А Магда должна
была в него идти, не зная, куда ведет эта дорога, куда ей нужно, зачем
она идет. В этом мертвом, темном и бесконечном мире не было Яниса.
Куда же ей идти, когда нигде, нигде нет Яниса?..
Магда подняла голову и огляделась. Озеро направо, и деревья на
его берегу, и небо над головой, одинокий глазок огонька вдали - все
показалось ей донельзя знакомым. Где же она все это видела?.. Разве не
такое же озеро, серебряное и безбрежное, простирается у нее на родине,
в далекой Латвии? Разве не на такое озеро брал ее отец, выезжая
рыбачить? Разве не такие же бесконечно высокие сосны стояли вокруг их
хутора и не так же они упирались в небо: темное-темное,
высокое-высокое...
Разве это не ее родное небо - далекое, далекое небо,
раскинувшееся над хутором, над озером и соснами, над всею Латвией, над
всем миром?
И тот вон далекий огонек, разве он светится не в окошке родного
дома, где отец согнулся над работой?
Конечно же, он ждет, когда вернется Магда!..
Так, все это так: ее озеро, ее небо, ее дом, ее мир!..
Скорей же домой, подальше отсюда - от ужаса и позора, от мысли о
том, что нет больше на свете Яниса... Нет Яниса?! Неправда, не может
этого быть... Скорей, скорей!..
Магда побежала, спотыкаясь на гладком асфальте.
- Эй, кто там?! Стой!
Кричали где-то впереди. Неподалеку. Там, куда двигалась Магда.
А она?.. Разве она не слышала этого окрика? Или ей и впрямь
казалось, будто кричат где-то далеко, очень далеко. Так далеко, что ей
еще нужно бежать, долго бежать, чтобы увидеть того, кто кричал. И
откуда ей почудилось в этом окрике ее собственное имя, кто же мог
здесь кричать: "Магда, эй Магда, стой!"? Уж не был ли это голос ее
отца? Будто она не знала, что старый рыбак давно утонул в холодной
быстрине Гауйи... А может быть, кричал ее Янис?.. Янис! Уж не налгало
ли то письмо из Африки, будто Янис нашел вечный покой в раскаленной
африканской земле?.. Кто же позвал ее, кто?!
Магде сдавалось, что она бежит, что ее непослушные ноги движутся
быстро-быстро. И она стремилась все вперед и вперед. Только вперед,
туда, где светился далекий огонек. Это же огонек ее родного дома!
А кто-то сердито повторил:
- Эй, остановись же, тебе говорят! Ищем целый день!
Она не могла не слышать. Так не мог кричать отец. Не мог кричать
Янис. Не мог кричать друг. Так почему же она не останавливалась,
почему не поворачивала обратно, не бежала прочь от этого чужого,
такого неприветливого, строгого голоса?
А тому, там впереди, кто кричал, как и самой Магде, казалось,
будто она движется. Хотя на самом деле ее непослушные ноги сделали
всего два - три маленьких, совсем маленьких шага. Ее ноги были такие
слабые, совсем-совсем ватные. Они даже не могли больше держать ее
большое, всегда такое крепкое тело.
Магда медленно осела прямо на повлажневший от тумана асфальт.
Навстречу ей из туманной темноты выбежали двое. Они надвинулись
на нее вплотную, схватили под руки и подняли с земли.
Магда молчала. Молчала и все глядела вперед. Там по-прежнему
сквозь набегавшие волны тумана светился далекий огонек. Ну, ну, разве
же это не был манивший ее огонек родного дома?!
- Эх, и тяжела же девка, - сказал один из подбежавших и,
помолчав, спросил: - Куда же теперь?
Было непонятно, кого он спрашивал: Магду или своего спутника. Тот
неопределенно промычал:
- Э?
И тоже неизвестно, к кому это относилось: к Магде, беспомощно
висевшей на их руках, или к спутнику. Помолчав, он ткнул Магду в бок
большим пальцем и повторил:
- Э!
Она не ответила. Все смотрела вперед. Только вперед. Туда, где за
волнами туманной мглы все реже и реже мелькал огонек.
- Эй же, девка, - повторил первый, - теперь поедем в восточную
зону, а?
Второй засмеялся. Он снова ткнул Магду в бок. Немного придержал
палец у ее теплого упругого тела и хрипло пробормотал:
- Ишь ты!
- Но, но! - строго бросил первый.
А Магда молчала.
И тогда второй сказал:
- Сам-то ты не видишь: она же бежала на восток, значит, ей туда и
нужно.
Он говорил громко, словно непременно хотел, чтобы его слова дошли
до Магды. А голос его при этом делался все более хриплым, и большая
рука его, лежавшая в горячей подмышке Магды, вздрагивала и сжималась
все крепче.
- Ну что же, на восток, так на восток, - сказал первый. - Ты
слышишь, девка?
Магда молчала. А они засмеялись.
Магда старалась не потерять из вида все более и более тускневший
огонек. В ушах ее стоял голос отца, собиравшегося на рыбалку: "Магда,
эй, Магда, я - на восток". И тут же был голос ее Яниса: "Магда, моя
Магда - на восток, на восток!.." Значит, все это неправда: и то, что
умер отец, и то, что умер Янис, и то, что нет больше огня в родном
доме, и то... Все, все это ложь!.. Она смотрела на огонек, мучительно
напрягая зрение: почему он делается все более тусклым, почему она
вот-вот потеряет его?!
Из-за поворота дороги, оттуда, где сквозь туман далекими светлыми
точками рассыпался Тегерн, выплеснулся свет автомобильных фар. Один из
двоих, что держали Магду, выставил руку, и автомобиль остановился. Они
с усилием подняли Магду и неловко втолкнули в кузов.
- Тяжела, - со смаком повторил один из них.
А Магда молчала. Теперь исчез огонек далекого дома, ее родного
дома в далекой родной земле. Магда опустила веки. Так, с закрытыми
глазами, и спросила:
- Куда же?..
А может быть, ей только показалось, что она это сказала. Во
всяком случае никто ей не ответил.
Автомобиль тряхнуло на повороте. Магда приоткрыла глаза, но тут
же снова, как в испуге, закрыла их, так и не посмотрев на тех, кто ее
вез, словно боялась увидеть их лица.
А может быть, она уже знала, что это не лица друзей. Но как она
могла это знать - она, простая крестьянка из далекой латышской
земли!.. Или она уже не была забитой крестьянской девкой - батрачкой,
дочерью батраков, внучкой и правнучкой батраков; рабой и наложницей
Квэпа, рабой и прислужницей Маргариты - темной, забитой крестьянкой?
Так кто же она была? Знала ли это она сама? Знали ли это те двое,
что везли ее назад к Тегерну? Знали ли те, по чьему приказу и к кому
ее везли, - знал ли преподобный отец Язеп Ланцанс?
Да и куда же ее везли: обратно в пансион? Нет, конечно, не туда.
Ведь там Магда знала каждый гвоздь. Туда нельзя было ее везти. Так,
может быть, ее действительно везли к друзьям, в Восточную Германию,
чтобы спасти от рук полиции убийцу матери Маргариты? Разве же оба эти,
что подняли ее на дороге, не повторили даже тут, в темноте завешенного
шторками кузова:
- Ну вот, девка, ты и едешь теперь к своим. Уж они-то тебя
пригреют, как следует.
Правда, почему-то оба они при этом опять рассмеялись, но мало ли
почему смеются люди.
Магда молчала. Она лежала с закрытыми глазами и не смотрела на
своих спутников.
Ох, Магда, Магда! Пока не поздно открой глаза, посмотри на их
лица! Похожи ли они на лица друзей? Ведь ты уже не раба, не раба, не
раба! Открой же глаза, посмотри, куда тебя везут!
Или ты думаешь, что все человеческие лица одинаковы и похожи одна
на другую все дороги, - те, что ведут на восток, и те, по которым едут
на запад?
Магда, ты же не думаешь так - ведь ты больше не раба!
Но Магда неподвижно лежала в тряском кузове. Глаза ее были
закрыты плотнее, чем прежде. Она была без сознания.
А один из тех закурил. Прежде чем погасить спичку, посветил на
лицо Магды и, подмигнув спутнику, хрипло проворчал:
- Эх, пропадает...
- Но, но, - сумрачно ответил тот, отводя взгляд от места, где под
красноватым пламенем спички, в расстегнувшийся разрез блузки была
видна глубокая впадина между высокими, крепкими грудями девушки. - Но,
но! - с деланной строгостью повторил он и носком сапога выбил спичку
из пальцев спутника.
Оседлав магнитные волны шифром точек и тире, сообщение о побеге
Вилмы понеслось в эфир. Опережая беглянку, оно пришло в
западно-берлинскую резидентуру "организации Гелена". Здесь точки и
тире превратились в радиограмму - приказание секретной агентуре
перехватить беглянку.
Для агентуры "организации Гелена" мимикрия в ГДР не представляла
трудностей. Агенты вращались среди населения со свободой, не доступной
иностранцам. Знание языка, обычаев и географии страны облегчали
конспирацию. План операции, разработанный в резидентуре Гелена,
заключался в том, чтобы перехватить беглянку, доставить в указанное
место и преподать хороший урок послушания. Если она после того
останется жива (урок должен был быть серьезным), то перебросить ее
обратно, чтобы присоединить к Магде, в качестве наглядного пособия к
проповеди Ланцанса.
Но приказы и предложения геленовской службы одно, а
действительность - другое. На деле, машина, в которой ехали обе
девушки, была задержана пограничниками ГДР, и их доставили в
комендатуру. Там, в обществе офицеров пограничной стражи Германской
Демократической Республики и сотрудников Статс-секретариата
Государственной безопасности, беглянок уже ждал Кручинин. При
появлении Вилмы Клинт в дверях комендатуры Кручинин несколько
мгновений с волнением глядел на девушку: перед ним была живая Эрна
Клинт. Да, да, Эрна Клинт, которую он когда-то увидел в воротах
гитлеровского концлагеря "702", - худая, усталая, с торчащими во все
стороны вихрами рыже-золотых волос. Не хватало только полосатой
арестантской блузы. Кручинин пошел навстречу девушке с гостеприимно
протянутыми руками.
Вилма полуобернулась к своей спутнице и отрекомендовала:
- Инга Селга... Моя подруга...
Инга опустила глаза и протянула руку подошедшему к ней офицеру
пограничной стражи ГДР.
- Если это еще и не ваша родина, - сказал он с улыбкой, - то
здесь - родные вам люди. Позвольте приветствовать вас, как пионеров
движения за возвращение на родину так называемых "перемещенных" лиц,
тех, кого вихрь войны забросил на неприветливую чужбину. Всех
возвращающихся с честными намерениями мы готовы встретить на границе
нашей республики, как друзей.
Три дня Инга и Вилма отдыхали в уединенном домике в тихой
местности, неподалеку от границы. Оставалось еще несколько дней до
поездки в Берлин, на пресс-конференцию, организуемую "Комитетом
возвращения на Родину". Оттуда - на Родину, в Латвию. Но, по-видимому,
в этом расписании произошла какая-то перемена: с наступлением темноты
третьего дня за ними уже приехал уполномоченный народной полиции. Инга
знала этого молодого человека по имени Хеннеке - он был в числе тех,
кто встречал девушек при переходе границы.
На сборы понадобилось немного времени. Через пять минут они уже
сидели в автомобиле. Через полчаса быстрой езды автомобиль сделал
короткую остановку, и в него еще кто-то сел. Первый же вопрос, который
один из новых пассажиров задал тоном начальника, был:
- Почему у них открыты лица?
- Все сошло так просто, - ответил Хеннеке.
- Все равно, - продолжал новый. - Сейчас же завязать им глаза.
- Извините, - сказал Хеннеке, нагибаясь к Инге. - Я должен...
- Ты кокетничаешь так, словно везешь их на любовное свидание, -
рассердился новый. С этими словами он ловким и, видимо, привычным
движением сложил платок и набросил Инге на лицо.
Она сидела неподвижно, понимая, что сопротивление бесполезно и
силилась сообразить, что все это означает. Все происходившее дальше
меньше всего походило на дружеский прием и скоро она догадалась, что,
по-видимому, они с Вилмой все же стали жертвами того самого плана
геленовской разведки, о котором ей рассказывал Кручинин. И значит,
этот добродушный Хеннеке - тоже не кто иной, как агент организации
Гелена?! Это было невероятно!.. Но ее столько времени приучали не
удивляться человеческой подлости, что она готова была допустить и это.
К сожалению, спутники обменивались лишь незначащими фразами. Из них
Инга не могла получить представления о том, куда ее везут, каковы их
намерения. Один только раз кто-то из прежних спутников спросил:
- А господин Макс знает, где нас искать?
- Да, - коротко ответил тот, что был, по-видимому, старшим.
После этого надолго воцарилось молчание. Слышались только гудки
встречных машин, да иногда сквозь повязку на глазах Инги проникал свет
фар встречной машины. Из этого Инга сделала вывод, что они едут не по
главной автостраде: дорога узка, и свет встречных машин ослепляет
едущих. Об этом говорили и сердитые реплики шофера: "Вот свинья, не
переключает света!" Еще одним свидетельством тому, что они едут не
дорогой первого класса, служили остановки перед закрытыми
железнодорожными переездами. Дважды пришлось ждать, пока пройдет
поезд. Один из этих поездов был электрический. Это Инга ясно
определила по гулу электромоторов. И, наконец, третьим доказательством
тому, что они ехали не по автомобильной магистрали, служили частые
повороты - Ингу попеременно прижимало то к правому, то к левому
соседу. Поначалу она принялась было отмечать в уме повороты, но их
оказалось невозможно запомнить. Она решила отмечать только главное.
Прошло довольно много времени, Инга приблизительно определила его в
два часа. Именно в это время она услышала, как шофер сказал:
- Придется заправиться у какой-нибудь колонки... До места не
хватит.
- О чем вы думали раньше? - недовольно произнес новый, которого
Инга про себя назвала предводителем.
- Вы же сами знаете, какого крюка мы дали, едучи сюда объездными
путями.
- Хорошо, но поскорее...
- Только бы попалась колонка. На этих дорогах их не так-то много.
После этого разговора по подсчетам Инги прошло еще с полчаса.
- Если кому нужно, пользуйтесь остановкой, - сказал шофер. -
Сейчас будем заправляться. - Машина уменьшила ход, остановилась, пошла
задним ходом. По-видимому, шофер подруливал к колонке. - Сорок литров,
- послышался за машиной его голос. Заработал насос колонки.
Тут Инга получила первый ориентир для определения пути, по
которому они двигались:
- Слышали о пожаре? - спросил колонщик, продолжая качать.
- Что за пожар? - спросил шофер.
- Да у нас, в Цвикау. Злоумышленники подожгли фабрику.
Предводитель сердито крикнул:
- Будет болтать, кончайте с бензином. Нужно ехать.
Колонщик насмешливо проговорил:
- С чего он у тебя такой свирепый?
Шофер не ответил. Инге казалось, что она ощущает каждым нервом,
как шофер завинчивает пробку бака. Через минуту машина тронулась. Если
бы знать, в каком направлении от Цвикау они едут? Впрочем... нужно
подумать: совершенно ясно, что до сих пор они ехали на северо-восток
от пограничного пункта. По-видимому основное направление - Берлин. Как
бы это проверить?.. Скоро по гудкам встречных машин, которые стали
глуше и чаще раздавались, Инга поняла, что они выехали на более
широкое шоссе, может быть, даже на автостраду. Недалеко от дороги
полыхало что-то вроде зарева. Был ли это отблеск пожара, о котором
говорил колонщик? Едва ли. Они уже далеко отъехали от Цвикау, к тому
же колонщик сказал, что пожар удалось потушить. Значит, это что-то
другое. Инга напрягла память, чтобы представить себе карту, которую
столько времени штудировала в школе. Вероятнее всего, это домны
Карл-Марксштадта... Ну, что же, прекрасно: еще один ориентир. Если она
угадала - значит, они еще круче повернули на восток. И тут ей пришла
неожиданная мысль: что если замысел Шилде забросить Ингу в СССР под
видом "возвращенки" раскрыт восточногерманской полицией, и ее схватили
вовсе не геленовцы, а власти ГДР?.. Трудненько будет ей тогда
доказать, что в ее намерениях нет зла, что она друг, а не враг... А
может быть, случившееся ошибка службы безопасности ГДР? Тогда все
скоро разъяснится и окончится извинением. Впрочем, сомнительно, чтобы
даже в условиях борьбы с многочисленными видами иностранных разведок,
оперирующих в Восточной Германии, Статс-секретариат Государственной
безопасности прибегал к похищению людей: киднапинг - заокеанский
способ действия. Да, скорее всего Инга и Вилма имеют дело со службой
почтенного господина Гелена. Тогда остается гадать не столько о том,
куда их везут, сколько о том, когда наступит конец путешествию, может
быть, последнему в жизни.
Слабый свет, начинавший проникать сквозь повязку, указывал на то,
что ночь подходила к концу. Значит, они были близки к цели - ведь
шофер обещал быть там до рассвета. Следовательно, целью пути не был
Берлин - до него оставалось еще очень далеко. В машине продолжало
царить молчание. Быстрое движение автомобиля действовало усыпляюще.
Несмотря на возбуждение, Ингу клонило ко сну. Не снижая скорости,
автомобиль совершил несколько плавных поворотов: у Инги немного
засосало под ложечкой, как на крутом вираже самолета. В ее сознании
ясно отложился путь, проделанный машиной в этой замысловатой кривой:
съезд с автострады. И действительно, дорога сразу утратила гладкость.
Под шинами чувствовались неровности дорожного покрытия. А еще через
несколько времени попался и совсем плохой участок, по-видимому,
неликвидированное наследие войны. Едущих сильно тряхнуло, и тотчас
раздался явно спросонок испуганный возглас предводителя:
- Что такое?
- Разумеется, Бергхейде, - со смехом ответил шофер, и Инга
поняла, что этот ухаб - привычное место встряски автомобилистов.
- Дурак! - огрызнулся предводитель. Инга с удовольствием отметила
его раздражение: еще один ориентир был теперь известен пленникам.
Шофер, раздосадованный своей оплошностью или грубым окриком
предводителя, поддал газ. Однако скоро ему пришлось снизить скорость,
так как, сделав поворот вправо, они запетляли по совсем плохонькой
провинциальной дороге. В приспущенное окно пахнуло ароматом влажного
леса. Еще несколько поворотов, и машина остановилась. Возле Инги
остался только один провожатый. Было похоже на то, что другие чем-то
недовольны: они негромко бранились. Скоро Инга догадалась, что они
пришли в раздражение от неподатливости замка. Стукнули створки ворот,
машина прокатилась еще несколько метров, ворота захлопнулись. Второй
провожатый покинул автомобиль.
Инге велели сходить. Она с трудом расправила затекшие ноги и едва
не упала, сходя на землю. Сделав два шага, она споткнулась.
- Да развяжи ты ей глаза, - раздраженно сказал предводитель. -
Она перемнет все цветы.
С Инги сняли повязку, и она увидела, что стоит в небольшом
садике, огороженном высоким забором. Прямо напротив Инги была круглая
клумба, словно колпаком укрытая плотной шапкой ярко-красных цветов.
Усыпанная песком дорожка огибала клумбу с двух сторон и вела к
подъезду небольшого дома, облицованного светло-розовыми плитами. На
крыше дома поскрипывал флюгер в виде человечка с флажком.
Все это совершенно автоматически отложилось в сознании Инги, хотя
она вовсе не думала, что это ей когда-нибудь еще понадобится. Ей не
дали осмотреться и быстро ввели в дом. На пороге она успела
оглянуться: следом в сопровождении шофера шла Вилма. Но тут провожатый
втолкнул Ингу в дом и захлопнул дверь. Прошли одну комнату, вторую.
- Осторожно, - сказал провожатый и приостановился в
нерешительности. В комнате было темно из-за закрытых ставень. Свет
проникал откуда-то издалека. Инга наткнулась на лестницу, круто
ведущую наверх. Она стала медленно подниматься. Нельзя сказать, чтобы
мысли ее были очень веселыми, но она не испытывала и состояния
безнадежности. Мезонин, куда ввели Ингу, был так же погружен в
полутьму - и тут ставни были закрыты. Обстановка состояла из железной
кровати, небольшого стола и двух стульев. Не долго думая, Инга
бросилась на кровать и, не обращая внимания на присутствие одного из
похитителей, закрыла глаза.
...Вилма больше не верила тому, что донесет ребенка до Латвии.
Она просто старалась об этом не думать, как люди стараются не думать о
ране, причиняющей страдания, надеясь, что от этого их страдания будут
меньше. Впрочем, ведь часто так и бывает, когда находится что-то
постороннее, на чем страдалец может сосредоточить мысли. Но что
делать, если ему не о чем думать, кроме своих страданий? Что делать
Вилме, если мысль ее неизбежно возвращается к ребенку, которого она
носит в себе и которого должна донести до Латвии. А ведь ее могут
ударить... Ударить в живот... О, она знает: такие люди любят бить по
животу. Мать Маргарита не раз с удовольствием вспоминала, как била
беременных по животу... Что она сделала с Магдой, пожертвовавшей собою
для спасения Вилмы и ее ребенка?.. Мать Маргарита придумает Магде
казнь! А за Магдой наступит и ее, Вилмы, очередь расплачиваться за
попытку к бегству... Что угодно... Все что угодно... Только пусть не
бьют ее в живот!..
Благодаря тому, что Инге был слышен бой часов на отдаленной
кирхе, она могла отмечать время происходящего в доме и вне его. Бой
был характерный: словно ударяли молотком по треснувшему колоколу.
Фиксируя эти удары, Инга узнала, что в шесть утра невысоко над домом
проходит самолет. По работе мотора можно было судить, что самолет идет
на снижение, вероятно, на посадку. Вскоре после шести вечера проходил
второй самолет, но у него моторы работали на полную мощность - он
набирал высоту. Отсюда простой вывод: неподалеку расположен аэродром
гражданской авиации, где совершают посадку два самолета в день, идущие
в противоположных направлениях. Итак, следует запомнить: прилет около
шести утра, отлет в шесть вечера. Вскоре после прилета вечернего
самолета была слышна музыка, - вчера и сегодня. Это было не радио, а
симфонический оркестр. Инга заслушалась: играли увертюру к Тангейзеру,
за нею Летучего Голландца. Значит, ориентир номер два: во вторник
исполнялся Вагнер.
Днем вокруг дома царила тишина. Изредка слышался гудок
пробегающего где-то по соседству автомобиля, но Инга не могла
определить ни расстояния до дороги, где проходили машины, ни
направления, в каком дорога была расположена. Еще одним звуком,
непрестанно доносившимся до слуха Инги, был скрип флюгера над головой
- характерный скрежет жести, который ни с чем нельзя спутать.
Вечерами, когда воздух становился неподвижен, флюгер умолкал. С
заходом солнца начинался где-то неподалеку оглушительный лягушачий
концерт. Судя по его силе, в недалеком болоте гнездились миллионы
горластых музыкантов. Слушая их, Инга забывала о том, где находится,
что с нею, - ей смутно виделось далекое детство на родине: широкая
река и камыши, а в камышах лягушки, миллионы лягушек, делавших
вечернюю зарю самым шумным временем суток...
Шаги на лестнице. Инга их уже знает - господа похитители несут ей
ужин.
Инга съела суп из бобов и долго обсасывала крохотную косточку,
долженствующую, по-видимому, изображать мясо в супе. За этим занятием
она машинально разглядывала вензель на ободке тарелки - такой толстой,
что ею, при умелом пользовании, можно раскроить человеку череп... Что
важнее: этот вензель, которого Инга не может распутать, или то, что
эта тарелка может служить орудием обороны?.. Все зависит от случая...
Она где-то читала, что в известных "событиях 30 июня 1934 года", когда
Гитлер разделался с главарями штурмовых отрядов, нацисты начали
расправу с того, что пивными кружками раскроили черепа нескольким
десяткам приверженцев Рема. Значит, и эта вот тяжелая кружка - тоже
оружие? Правда, данному экземпляру не хватает ручки, но может быть в
следующий раз почтенные хозяева дадут Инге другую кружку - с ручкой?
Ну-ка, прикинем ее вес на руку... Ничего себе! В соединении с ловко
пущенной тарелкой это уже кое-что! Во всяком случае, до момента, пока
удастся овладеть пистолетом одного из тюремщиков (не будут же они
всегда являться вдвоем, если Инга будет себя хорошо вести).
Итак - тарелка и кружка, - не эта, у которой отбита ручка и
край... Впрочем, отбитый край - обстоятельство положительное, а не
отрицательное, когда речь идет о кружке, которая должна служить
оружием... А разве не может служить оружием и сковородка, на которой
уже несколько раз приносили картофель? Правда, Инга отметила, что
ручка у этой сковородки едва держится, но может быть двух оставшихся
заклепок (из четырех) хватит, чтобы сковородка не оторвалась при
первом же ударе, какой можно ею нанести. Ведь заклепки расположены по
диагонали и должны держать ручку. Сражались же когда-то булавами! А
чем большая железная сковородка хуже булавы. Нужно только хорошенько
приловчиться к действию таким холодным оружием... От подобных бодрых
мыслей Инге показалось, что даже ячменный кофе сегодня лучше - он не
воняет затхлым кофейником, который эти господа, вероятно, не давали
себе труда прополаскивать.
Инга с издевательской вежливостью поблагодарила своих тюремщиков
за ужин.
В узкую щелочку между ставнем и косяком окна Инга смотрела на то,
как ветер гонит зеленые волны по расстилающемуся неподалеку полю. Ей
была видна еще и половина дерева. Его ветви, качаемые ветром, то
появлялись в поле зрения Инги, то снова исчезали. И тут неожиданная
мысль пришла ей на ум: если хорошенько изучить направление ветра, то
можно доверить ему записку - сигнал бедствия, адресованный первому
порядочному человеку.
Искать бумагу долго не пришлось - стены мансарды были оклеены
обоями. Во многих местах старые обои висели клочьями, и легко можно
было оторвать кусочек так, что никто этого и не заметит. Карандаш?..
Инга зубами расщепила косточку, взятую в миске, - карандаш был готов.
Она знала, что наблюдать за нею могут и в замочную скважину и могут
проделать для этого отверстие в любой перегородке. Поэтому, прежде чем
приступить к писанию, внимательно изучила стены: наружных можно было
не опасаться, внутренней была только та, с дверью. Значит, писать
нужно стоя спиною к двери. Занимаясь этими важными делами, приходилось
двигаться по комнате в чулках, чтобы не слышно было шагов. От этого у
Инги совершенно застыли ноги, и самой ей стало холодно. Когда в
мансарду заглянул Хеннеке, она пожаловалась на холод, и, к ее
удивлению, он принес электрическую плитку, чайник с водой и большую
чашку. На чашке был тот же замысловатый, синий вензель.
- Согревайтесь, - тихонько сказал Хеннеке. - Только не шумите, а
то попадет нам обоим. - И он тут же поспешно вышел, очевидно, опасаясь
начальника.
Инга с удовольствием согрелась чашкой кипятку и принялась за
письмо. Это было нелегко: она решила писать в темноте и лежа. Притом
клочок бумаги был очень мал, и приходилось рассчитывать каждое
движение крошечного перышка с точностью до миллиметра. Работая таким
образом, Инга пришла к выводу, что удобнее действовать с закрытыми
глазами. Перед ее мысленным взором с ясностью вставала записка и все
то, что должно было быть на ней изображено.
Но так ей только казалось: если бы она увидела при свете то, что
получилось! Текст существовал только в воображении автора: буквы
налезали друг на друга, строчки расползались. К тому же кофе,
заменявшее чернила, оставило едва заметный след. Одним словом, все
было совершенно неудобочитаемо. Но Инга продолжала терпеливо, как
ювелир-филигранщик, выводить то, что считала буквами, и мужественно
складывала их в слова и строки. Была ли она так увлечена этим занятием
или один из ее стражей действительно подкрался столь тихо, что его
нельзя было услышать, но в момент наибольшего напряжения, когда Инга
старалась наименьшим числом слов дать ясное представление о своем
положении, в комнате вспыхнул яркий свет и в дверях появилась фигура
предводителя. Тюремщик молча смотрел на нее, сделал было шаг к
постели, но, передумав, вернулся в коридор и крикнул в гулкое
пространство дома:
- Эй, Хеннеке, поднимись сюда!
Первым движением Инги было попытаться сунуть записку в рот, но
бумага была слишком жесткой, заскорузлой от старого клея. Такую не
проглотишь.
Взгляд Инги лихорадочно ощупывал все, что было вокруг пригодного
для сокрытия записки. В поле зрения, словно в насмешку, то и дело
попадал только чайник, над которым вилась уютная струйка пара. А в
коридоре уже слышался топот Хеннеке. Тогда Инга протянула руку и,
неслышно приподняв крышку чайника, сунула под нее записку - прямо в
бурлящий кипяток. Ее пальцы едва отделились от крышки, как в комнату
вбежали оба немца. Инга с нескрываемым удовольствием следила за
стараниями старшего из тюремщиков найти записку. Он свирепо крикнул
Хеннеке:
- Ищи же, черт побери! Мы не уйдем, пока не найдем того, что она
писала.
А Инга спокойно сказала, обращаясь к Хеннеке:
- Пожалуйста, выдерните штепсель, а то может распаяться чайник.
Час обыска не дал ничего. Тюремщик, ругаясь, пошел прочь.
- До приезда Макса не велено их трогать, а то бы я вытряс из нее
записку вместе с душой, - сказал он следовавшему за ним Хеннеке.
- Где запропастился этот Макс? - недовольно проворчал Хеннеке.
- Наверно, не ладится что-нибудь с документами для переезда
демаркации, - ответил старший. - Эти "восточные" смотрят теперь в оба.
С липой не суйся.
- Кончится тем, что нас тут накроют, как крыс в мышеловке, -
продолжал ворчать Хеннеке.
- Но, но! Без нервов, пожалуйста!.. Это убежище законспирировано
так, что можно жить хоть год - полиции в голову не придет сюда
заглядывать...
Дверь за ними, наконец, затворилась, и Инга слышала, как оба
спустились в нижний этаж. В первый раз за время этого вынужденного
путешествия и плена Инга пала духом. Она опустила голову на подушку и
крепко сжала зубы, чтобы удержать слезы.
Было раннее утро, когда Инга проснулась от шороха у двери. Первые
лучи солнца золотили узкую полоску на потолке комнаты. В полумраке
комнаты она узнала Хеннеке. Он шел на носках. Под его шагами едва
слышно поскрипывал пол. Инга с удивлением увидела, что указательный
палец Хеннеке прижат к губам в знак необходимости соблюдать молчание.
Он жестом предложил ей встать и отвернулся, пока она одевалась. Инга
сама не знала, почему она безропотно выполняет эти молчаливые приказы.
Но, следуя им, она так же неслышно, держа в руках туфли, спустилась
следом за Хеннеке и вышла в садик. Утренний холод заставил ее
съежиться. Хеннеке был уже у калитки, когда она ступила на холодный
гравий дорожки. Скрип ее собственных шагов показался ей невероятно
громким, и она невольно почти бегом преодолела расстояние от крыльца
до ограды, словно от этого гравий меньше скрипел.
- Явитесь в первый попутный полицейский пост, - поспешно
проговорил Хеннеке, отпирая калитку. - Скажите пароль "Спасение в
возвращении на родину", укажите ориентиры этого дома...
Прежде чем он успел досказать, Инга увидела сбегающего с крыльца
старшего немца. В его руке был пистолет. Выбегая на улицу, Инга
услышала один за другим два слабых хлопка, словно стреляли из духового
ружья. Мимо головы у нее зыкнула пуля. Инга видела, что Хеннеке упал.
Падая, он загородил дорогу бежавшему от дома тюремщику. Больше Инга
ничего не видела и не слышала, потому что, едва успев сделать два шага
за ограду, была сбита проезжавшим автомобилем.
60 ИГРА ИДЕТ БЕЗ ПОДДАВКОВ
Первое, что Инга увидела, очнувшись, были большие часы на стене.
Она глядела на них, силясь объять случившееся. Если бы взгляд ее,
медленно передвигаясь, не дошел до застывших у другой стены вахмистров
Народной полиции, она, может быть, долго еще не вспомнила последних
слов Хеннеке: "Спасение в возвращении на родину". Инга машинально
повторила пароль и запнулась. В глазах ее отразился испуг: Хеннеке не
успел назвать ориентиры дома.
Шофер, доставивший сбитую Ингу в больницу, тотчас скрылся,
по-видимому, опасаясь ответственности. Никто не мог указать места, где
она была сбита. Аппарату Государственной безопасности, который уже
несколько дней разыскивал притон геленовцев, предстояла нелегкая
задача: найти дом, где остался Хеннеке с одним из людей Гелена и с
плененной Вилмой. Оставались только ориентиры, какие могла
восстановить сама Инга. Эти предметы распадались на три категории:
определяющие путь, каким везли похищенных, указывающие местность, где
расположен дом-тюрьма, и, наконец, указывающие сам этот дом.
Признаки дороги: заправка бензином неподалеку от города Цвикау;
зарево домен у Карл-Марксштадта; выезд на автостраду вскоре после
Карл-Марксштадта; ухаб в Бергхейде; после того несколько поворотов
влево на небольшом расстоянии один от другого.
Признаки места, где держали похищенных: аэродром, куда самолет
приходит в шесть утра и откуда улетает в шесть вечера; кирха с часами
на таком расстоянии, что только-только слышен их бой; регулярные
концерты, очевидно в саду, где во вторник исполняли увертюры к
Тангейзеру и Летучему Голландцу Вагнера; болото или пруд с лягушками.
Признаки дома: высокий забор вокруг сада; посреди сада клумба,
засаженная красными цветами; флюгер на крыше, изображающий человечка с
флагом в руке; в обстановке мезонина: железная кровать, маленький стол
и стул со сломанной ножкой; посуда: сковорода с ручкой, держащейся на
двух диагонально расположенных заклепках; тарелки с путаным синим
вензелем и кружки с таким же вензелем; одна из них - с отбитой ручкой.
Итак, вопрос с дорогой был ясен до "Бергхейде". Раз больше
выездов на асфальт не было, значит, машина не вышла за пределы
Фюнстервальде. Первым признаком местности должен был послужить
аэродром гражданской авиации, куда самолеты приходят в пределах 6 утра
- 6 вечера. Однако такого аэродрома во всем районе не оказалось.
Имелась одна запасная посадочная площадка, но она была заброшена, и
самолеты гражданской авиации на ней не садились. Между тем Инга
продолжала утверждать, что именно в шесть утра самолет шел на
снижение, а в шесть вечера набирал высоту. На этом Инга настаивала.
Пока пытались установить истину в этом пункте, статс-секретариат
безопасности устанавливал, в каком общественном саду, расположенном в
трапеции Бергхейде - Фюнстервальде - Доберлуг - Оппельхайн духовой
оркестр исполнял во вторник прошлой недели увертюры Вагнера. Это
должно было послужить первым ориентиром для поисков в более узких
пределах. На поверку оказалось, что таких садов имеется три и во всех
трех именно во вторник на прошлой неделе исполнялся Вагнер, в том
числе его увертюры к Тангейзеру и к Летучему Голландцу. Это
объяснялось тем, что вторник был знаменательной музыкальной датой -
годовщиной Вагнеровских концертов в Байрейте. Таким образом, и этот
признак оказался непригодным для определения места.
Но если невозможно было установить, какой из концертов Вагнера
был слышен Инге, то решили выяснить, откуда она слышала лягушечьи
концерты большой силы. Два десятка мотоциклистов и велосипедистов
рассыпались по району и вскоре отыскали болотце, расположенное к югу
от Нехесдорфа. Если это было верно, то район поисков суживался уже до
сравнительно небольшого треугольника Бергхейде - Нехесдорф -
Дойч-Сорно. Инга вместе с чинами секретариата и в сопровождении
Кручинина, получившего разрешение участвовать в поисках, несколько раз
объехала вокруг болота, стараясь как можно точнее определить характер
кваканья, как он ей слышался из заточения. Исследователи постепенно
увеличивали диаметр кругов у озера и пришли к выводу, что дом с
флюгером находится к северу от болота. Действительно, когда Инга
углубилась в этот еще более сузившийся треугольник, приближаясь к
Нехесдорфу, до нее донесся тот самый бой часов на кирхе, какой она
слышала с мансарды. Правда, теперь удары часов были более четки, - их
не заглушали стены дома, но это был тот же самый звон дребезжащего,
словно треснувшего колокола.
Итак, нужно было вернуться на дорогу Бергхейде - Фюнстервальде и
посмотреть, куда попадешь, если следовать четырьмя поворотами дороги
влево. Проделывая это, работники Государственной безопасности
переходили с дорог более высокого класса на более низкий. Они
очутились на сельской немощеной дороге, идущей вдоль болота и
поднимающейся дальше на соединение с дорогой Фюнстервальде -
Эльстер-Верда. В нескольких десятках метров в сторону от этого
проселка виднелось несколько домов, разбросанных на значительном
удалении друг от друга. Три дома из пяти были окружены высокими
заборами, но только на трубе одного из них виднелся флюгер,
изображающий апостола Петра с огромным ключом в руке. Этого-то
привратника рая Инга в спешке и приняла за человечка с флагом.
Посидев на опушке близлежащего леса, агенты убедились в том, что
все звуковые ориентиры Инги совпадают с тем, что они слышат. Вызывал
недоумение только самолет: никакого аэродрома поблизости не было.
Однако проверка и этого обстоятельства в Берлине все разъяснила:
почтовый самолет не производит тут посадки, но именно в шесть часов
утра он снижается, приближаясь к Фюнстервальде. Там он сбрасывает
мешок с почтой и на лету подбирает почту, идущую на юг. То же самое он
проделывает вечером, забирая почту, предназначенную для севера.
Так сошлось все.
Офицер службы Государственной безопасности постучал в ворота
высокого забора.
Ему ответило мертвое молчание.
Повторный стук, и - снова молчание.
Стук в третий раз. Тот же результат.
- Придется войти без хозяев, - сказал офицер.
Вскрытие ворот не заняло много времени. Инга едва не вскрикнула
от радости, увидев круглую клумбу красных цветов. Сегодня они казались
особенно яркими под лучами солнца. Высоко над головой ржаво скрипел
апостол Петр, поводя из стороны в сторону своим огромным ключом. Дом
не подавал признаков жизни. Мрачная картина возникла в уме Инги:
захватив полуживую Вилму, "Макс" и его подручные скрылись. Слесарь
приготовил отмычки, агенты сунули руки в карманы с пистолетами.
Кручинин стоял рядом с Ингой, пощипывая бородку. Офицер отдал приказ.
Дверь распахнулась, и, предшествуемые агентами, держащими оружие
наготове, все вошли в дом. Тишину нарушали только их шаги. Инга
опередила всех и вместе с Кручининым взбежала на второй этаж. При их
появлении с матраца, лежащего в коридоре, приподнялся человек. Инга
узнала в нем Хеннеке. Разглядев вошедших, он сделал попытку встать, но
снова упал на матрац. Отстранив Ингу, к лежащему на полу подбежал
офицер:
- Что с вами, Хеннеке?
- Небольшое недоразумение, начальник... - негромко ответил
Хеннеке, силясь улыбнуться. - Тот... - он не смог договорить и лишь
молчаливым кивком указал на комнату, где прежде содержали Ингу.
Хеннеке перевалился на бок и глазам всех предстало кровавое пятно,
растекшееся по матрацу. Не все получилось так, как задумали...
Вбежав в "свою" комнату, Инга увидела своего старшего
тюремщика-немца. С руками в наручниках, с заткнутым тряпкой ртом, он
лежал на кровати. Инга пересекла коридор и вбежала в комнату Вилмы,
одновременно с Кручининым. Их встретил испуганный взгляд Вилмы.
Кручинин на миг остановился; нет, не такими глазами смотрела на него
Эрна, когда он впервые распахнул перед нею ворота лагеря "702"...
Вилму и Ингу увезли. Ворота заперли. На дорожках садика замели
следы многочисленных ног. Дверь дома затворили, и все расселись по
углам в ожидании приезда Макса. В доме царила тишина. Она снова
полновластно и, казалось, навсегда вошла в дом - так тихо и неподвижно
сидели люди. Прошли часы. Утренний самолет уже прожужжал над домом и
сбросил свою почту. Сварливо скрипел апостол Петр, и надтреснутый
колокол далекой кирхи отбивал часы. Кручинин с беспокойством
поглядывал на офицера: уж не пронюхал ли Макс о засаде?.. Но офицер
сидел, скрестив руки на груди и вытянув ноги. Можно было подумать, что
он находится в концерте и слушает любимую музыку - так невыносимо
спокойно было его лицо. Он, кажется, даже не переменил позы за часы
ожидания, за которые у Кручинина совершенно затекли ноги...
Наконец, у ворот остановился автомобиль. Позвонили. Кручинин с
удивлением увидел, что Хеннеке, превозмогая боль в боку и опираясь на
палку, протащился к калитке. Кручинин приник глазом к щелке ставня.
Хеннеке отворил калитку. Кручинин узнал в вошедшем человека со следом
укуса на щеке: бывший бригаденфюрер! Значит, он и был известен в
организации Гелена под кличкой Макс.
Следом за Максом в садик вошел еще кто-то. Тщательно затворил за
собой калитку, перешел к воротам и распахнул их для автомобиля. Когда
машина въехала, спутник Макса запер ворота. Макс сердито расспрашивал
Хеннеке, но его слов Кручинину не было слышно. Что-то объясняя,
Хеннеке распахнул пиджак и показал пятно крови, растекшееся по рубашке
и бинту. Макс побежал к дому, а его спутник почему-то засмеялся. В тот
момент, когда этот третий переступал порог комнаты, Кручинин услышал,
как он сказал Максу:
- Только не выходите из себя, а то вы переломаете кости и этой
Вилме... Мне кажется, что...
Он не успел договорить. За каждую руку его держал агент
Государственной безопасности. В таком же положении, широко расставив
руки, стоял посреди комнаты и бывший бригаденфюрер - "господин Макс".
Лицо его покрылось такой бледностью, что не стал заметен даже белый
шрам от укуса...
- Какая неожиданная встреча, - сказал со своего места Кручинин.
Макс быстро повернулся к нему, и глаза его сузились. Кручинин
рассмеялся: - Вы помните, как выиграли у меня партию в шахматы?..
Тогда я был вынужден играть в поддавки. А теперь эти товарищи, - и
Кручинин показал на стоявших возле стола офицеров, - кажется, намерены
играть без поддавков.
Когда сняли бинты, покрывавшие голову Грачика, сестра протянула
ему зеркало, но Грачик не стал в него глядеть - сделал вид, будто его
вовсе не интересуют следы, оставленные аварией. Но втайне он вовсе не
принадлежал к числу людей, пренебрежительно относящихся к собственной
наружности. Бывало, после бритья он с удовольствием поглядывал на себя
в зеркало. И именно потому, что его, как всякого молодого, здорового
человека, радовала собственная приглядность, он не спешил теперь
убеждаться в том, как мало от нее осталось. О серьезности повреждений
он мог судить и без снятия бинтов по тому, что на левой руке не
хватало двух пальцев - может быть, и не самых нужных, но никогда не
казавшихся ему лишними - мизинца и безымянного, на нижней челюсти не
осталось ни одного переднего зуба. Правда, держа в руке уже
изготовленный для него протез, он увидел ряд отличных зубов - ровных и
белых, но трудно было себе представить это изделие в качестве
украшения собственного рта.
Отпустив несколько шуток по поводу того, что он дешево отделался,
врачи покинули Грачика. Тут-то он и взял зеркало. Он с удивлением
глядел на незнакомые черты, поворачивая голову в фас и в профиль:
подумать только, что один удар автомобиля может так изменить человека!
Красный шрам, начинаясь под правым глазом, пересекал нос, рот и
подбородок; нос прежде такой правильный - покривился и глядел теперь
кончиком в левый угол рта. Правда, врачи уверяли, будто пластическая
операция вернет нос на место, но все же Грачик со вздохом опустил
зеркало. Оказывается, вовсе не нужно попадать в руки компрачикосам,
чтобы стать пугалом, - достаточно один раз быть простофилей и
прозевать момент, когда враг ступил на твой след... Но кто сказал, что
ему нужна пластическая операция? Неправда, ему не нужна никакая
операция. Единственное, что ему действительно нужно: поскорее получить
свой протез, чтобы не шамкать подобно старику. Вот и все!.. Грачик
откинулся на подушку. Если бы зеркало не принадлежало сестре, оно,
наверно, полетело бы об стену.
Несмотря на возражения врачей, Грачик не остался в больнице! В
идеале ни болезнь, ни внезапный отъезд Кручинина за границу не должны
были помешать расследованию дела Круминьша. Но Грачик по опыту знал,
сколько времени нужно новому человеку, чтобы разобраться в сложном
материале, особенно, когда некому ввести новичка в дело, дать
пояснения и рассказать о версиях, положенных в основу расследования.
По рассказам своего преемника Грачик уже знал, как медленно движется
расследование, завершение которого Грачик считал для себя делом чести.
Случай с Круминьшем представлялся ему своего рода экзаменом на
аттестат следственной зрелости, и враги сильно просчитались, ежели
воображают, будто вышибли его из игры, окунув в Лиелупе. К приезду
Кручинина он должен приблизиться к победе над загадкой дела Круминьша!
К удивлению сестры, заглянувшей в палату, Грачик беззаботно
напевал кручининскую песенку:
Тогда ужасные убийцы,
Нанесши ей сто тысяч ран,
Ее бросают в океан.
А поутру она вновь улыбалась
Пред окошком своим, как всегда,
Ее рука над цветком изгибалась,
И струилась из лейки вода.
Блим-блом!
Тогда ужасные убийцы,
Разрезавши ее на сто частей...
Возвращение на работу встретило Грачика ворохом новостей. Быть
может, самым интересным лично для него, хотя и не столь уж важным для
дела, было подтверждение исчезновения Силса. Лежа в больнице, Грачик
питал еще некоторую надежду на то, что парень просто "задурил" из-за
тоски по своей Инге и вот-вот появится. Грачику этого очень хотелось,
иначе следовало признать, что теория "веры в человека" ничего не
стоит. Приходилось признать его, Грачика, неспособность проникнуть во
внутренний мир человека, сидящего по ту сторону стола.
Второю новостью, на первый взгляд показавшейся Грачику менее
интересной, но бывшей куда более важной для дела, явилось сообщение
Крауша о том, будто, по его данным, возвращения Силса ожидает... Линда
Твардовская.
- Линда Твардовская?! Позвольте, уж не мать ли Ванды Твардовской?
- воскликнул Грачик. - Я обрадую ее известием о том, что ее дочь жива.
- А по-моему, именно этого и не следует делать, - возразил Крауш.
- Впрочем, как только вы прочтете ее показания, то сами поймете, в чем
тут дело. А тогда уже и прикажете доставить ее вам из
предварительного. Вы будете рады повидаться... - Крауш сделал паузу и,
потирая руки, с несвойственным ему оживлением добавил: - Ваша старая
знакомая - Эмма Юдас.
Через час в кабинет Грачика ввели женщину с острова у озера
Бабите. После того как Грачик преодолел первое удивление и, задав
несколько вопросов, увязал появление Линды с тем, что сам видел и
слышал на острове, ему оставалось только из ее собственных уст
выслушать то, что он уже прочел в допросах, проведенных рижскими
товарищами: Линда Твардовская сама явилась с заявлением, что смерть
Круминьша - действительно результат убийства, а не самоубийства. Это -
дело ее рук. Она совершила это преступление в соучастии с двумя
людьми; один из них - милиционер, чей труп выловлен из реки. Этот
соучастник застрелен другим членом шайки, ради избавления от лишнего
свидетеля.
- Кто же этот второй соучастник? - спросил Грачик.
- ...Я уже говорила... на допросе, - ответила Линда, опуская
взгляд.
- Повторите это мне.
Твардовская поджала губы. Можно было подумать, что ей трудно
произнести имя. Наконец проговорила:
- Силс.
Грачик сердито стукнул было карандашом по столу, но тут же
спохватился, овладел собой и, сделав вид, будто этот стук не имел
отношения к делу, очень спокойно и даже с усмешкой произнес:
- Неправда!
Линда смешалась, но лишь на самый короткий миг, тут же
справившись с собой, сказала:
- Разве вам не ясно, почему он бежал?.. Он знал, что я сознаюсь.
Он не мог бы больше разыгрывать советского человека, - она порывисто,
словно бы от нервного тика, повела плечами. - Хватит того, что он
столько времени обманывал вас.
- Почему вы решили, что поверят вам, а не ему?
- Как же иначе?.. - Она с удивлением посмотрела на Грачика. -
Побывав на острове, вы разве не поняли, что следы от места
преступления ведут на мызу? - Линда кивком головы указала на лежащую
перед Грачиком папку протоколов: там все сказано.
- Что толкнуло вас прийти сюда и все рассказать?
Грачику стоило труда скрывать раздражение. Линда держалась
вызывающе, и в ее голосе, в словах звучало что-то, близкое к насмешке.
Чтобы скрыть свое неудовольствие и дать себе время успокоиться, Грачик
принялся перелистывать дело. Линда тем временем взяла папиросу из
лежавшей на столе пачки и закурила. Наблюдая исподтишка, Грачик понял,
что вся наигранная развязность Линды - маска, которую не трудно будет
сбить. Несколько глубоких затяжек, по-видимому, были нужны ей, чтобы
овладеть собой.
- Если бы вы были хорошим человеком, то помогли бы мне достать...
- Линда запнулась и с кривой улыбкой договорила: - немного вина...
Просто - водки... Пожалуйста!.. - Ее рука, державшая папиросу,
дрожала, и на лбу выступили росинки пота. Грачик вспомнил их первую
встречу, и снова им овладело чувство гадливости. - Немного вина...
И... я бы вам все рассказала... - заключила она, не глядя на Грачика,
- все по порядку...
- Папирос - сколько хотите, - ответил Грачик, - а вино... - Ему
не нужно было договаривать - она поняла. - Итак, - спокойно повторил
он, - что толкнуло вас на явку и признание?
Она заговорила потухшим, вялым голосом:
- У меня была дочь...
- Что значит "была"? - насторожившись, спросил Грачик.
- Я так и не получила известия от людей, к которым полетела
Ванда.
- И не написали сами, не телеграфировали им?
- Я же не знаю... адреса.
- Мы поможем вам их отыскать.
Она недоуменно и, как показалось Грачику, с досадой пожала
плечами:
- Откуда я знаю их фамилию?
- И вы отпустили дочь к людям...
- Откуда я могла знать, - и Линда снова раздраженно повела
плечом.
- Какие же у вас основания беспокоиться?
- Я боюсь... Понимаете: боюсь! - быстро зашептала она сквозь
злобно стиснутые зубы. При этом Грачик увидел два ряда оскаленных
мелких, как у мыши, испорченных гнилушек. - Линда прикрыла глаза
рукой. - Я очень боюсь... - повторила она. - Мало ли что... Девочки,
наверно, много купались... Море... Они плавали... купались... -
несвязно бормотала она.
- Вы узнали что-нибудь определенное?
Она молча отрицательно помотала головой и поспешно закрыла лицо
обеими ладонями. Плечи ее сотрясались от рыдания.
Несколько мгновений в комнате не было слышно ничего, кроме
приглушенного всхлипывания Линды и булькания воды в горлышке графина,
наклоненного Грачиком. Он подвинул Линде стакан, но та оттолкнула его
так, что Грачик должен был подхватить его, чтобы спасти лежащие на
столе бумаги.
Со все еще не изменяющим ему внешним спокойствием Грачик снова
спросил:
- Вы что-нибудь получили от дочери? - И когда Линда опять
отрицательно качнула головой: - Значит, вы ничего не знаете о Ванде?
- Я боюсь...
- Ну, довольно, - больше не сдержался Грачик.
А она поспешно повторяла свое:
- Все могло случиться... - Линда утерла лицо рукавом блузки и
вдруг с неожиданным спокойствием сказала: - Может быть, она умерла!
- Вот еще!
- Да, да, да моя девочка умерла... - И она жалко скривила губы. -
Иначе она бы написала мне... Непременно бы написала!
- По какому адресу? - задал поспешный вопрос Грачик.
Однако он не заметил, чтобы Линда при этом смутилась или
замешкалась с ответом:
- Я все получала до востребования. Я так боюсь... И ее друзья
тоже не написали... Я знаю: Ванда... моя девочка...
- Хорошо, - с неожиданной жестокостью согласился вдруг Грачик. -
Если ваши опасения верны и Ванды действительно больше нет в живых...
что из этого следует?
- Смерть дочери порвала для меня последнюю связь с жизнью.
- Последнюю?
- Сначала... измена мужа... потом это. - Кончиками пальцев с
неопрятными, обгрызенными ногтями Линда сжала виски, словно стараясь
утишить боль: - ...Измена... - повторила она в забытьи, - измена и
смерть...
- Не понимаю...
- Вы не понимаете, что значит измена мужа?.. - с насмешкой
спросила Линда.
- Какая связь между изменой мужа и вашей явкой сюда?
- А вот такая связь, - она наклонилась через стол, и Грачику
стало слышно дыхание ее нечистого рта: - Пока он был со мной, я могла
сделать для него все. Закрыть глаза на все...
- Закрыть глаза на "все"? Значит, измена не входит в это "все".
Что такое "все"?
- То, что касалось... - она замялась. Потом нехотя ответила: -
Нашей жизни.
- Значит, вы пришли сюда, чтобы отомстить ему, а наговариваете на
себя, будто сами убили Круминьша.
- Это так и есть.
- Так в чем же месть мужу?
- В том, что я расскажу вам все, что знаю о нем, и вы возьмете
его.
- За ним есть такое, что карается законом?
- Да, - без колебания, твердо ответила она. - Я хочу, чтобы вы
взяли его. Хочу, чтобы он отвечал вместе со мной и с Силсом.
- А он участвовал в убийстве Круминьша?
- Нет... Другие дела... Сейчас его взять нельзя, он ушел. -
Грачику почудилось, что при этих словах в ее голосе прозвучало что-то
вроде гордости. - Но он вернется.
- Откуда?
- Оттуда... - Взмах ее руки должен был означать "издалека".
- А нельзя ли конкретней?
- Можно совсем конкретно, - ответила она с усмешкой и пустила
через ноздри струю дыма... - Он вернется из-за рубежа, с Запада...
через несколько месяцев.
И вот она в течение трех часов, не жалея слов, останавливаясь на
тысяче подробностей, рассказала, как ее муж, Павел Лиелмеж, несколько
лет тому назад пришел из-за рубежа, как скрывался и как снова ушел,
чтобы вернуться для создания подпольной антисоветской организации.
Она подписала свои показания, не перечитав.
- Вы еще вызовете меня? - спросила она.
- Непременно, - сказал Грачик, глядя ей в глаза и пытаясь понять,
что они выражают: страх или удовлетворение?
- Я возьму ваши папиросы, - сказала она таким тоном, словно
отказа не могло быть.
Грачик пожал плечами и вызвал конвойного.
62. ПЕТЛЯ, СДЕЛАННАЯ РУКОЮ ПАЛАЧА
Вместо прежнего намерения ехать прямо в Ригу Кручинин решил
заглянуть в Вильнюс и повидаться с работниками республиканской милиции
Литвы. Его продолжало занимать исчезновение лейтенанта Будрайтиса. Он
никому не сказал, в какой мере его удовлетворило или разочаровало то,
что он узнал в Вильнюсе, но в тот же день он отправился на попутном
автомобиле в Каунас, чтобы там сесть в дизельный поезд Каунас - Рига.
А приехав в Ригу, с удивлением узнал, что Грачик, не доведя до конца
лечения, вернулся на работу и уехал в Таллин.
Когда Кручинин отыскал Грачика по таллинскому телефону и
собирался дать ему хороший нагоняй за легкомысленное отношение к
здоровью, тот без стеснения перебил:
- Я прыгаю от радости, что слышу ваш голос. Это для меня как
пластическая операция.
- Какая операция? - не понял Кручинин.
- Даже нос мой, кажется, стал на место, когда я узнал, что вы,
дорогой, опять со мной... Но, к сожалению, вы выиграли пари: Силс дал
тягу. И вот - я в Таллине.
- Причем тут Силс?
- Это уже не для телефона. Могу только сказать: исчезла и наша
байдарка, наш светлый "Луч" в темном царстве туризма... Поглядите на
карту: самое узкое водное пространство, отделяющее нас от зарубежья, -
как раз тут, напротив Таллина.
- Эх ты, сердцевед!
В трубке послышался тяжкий вздох, и Грачик заискивающе
проговорил:
- Нил Платонович, джан, приезжайте, пожалуйста, сюда. Очень тут
кафе хорошие. Чай дают прямо замечательный!
Кручинин колебался не долго: он слишком любил своего молодого
друга, чтобы не поддержать его, даже если у того всего только зашалили
нервы. А им, видно, было от чего зашалить после переделки, в какую он
попал. На месте Грачика, наверно, нашлись бы и такие, кто надолго
отошел бы от дела, связанного с перспективой быть еще раз утопленным
или получить пулю в спину. В рядах оперативных работников и
следователей - не одни герои.
Укладывание чемодана было прервано неожиданным посетителем,
пригласившим Кручинина к Яну Валдемаровичу Краушу, желавшему
встретиться с ним по неотложному делу.
В прошлый приезд в Ригу Кручинин только раз встретился с Краушем,
и старым товарищам не удалось поговорить по душам. На этот раз они
наверстали потерянное: беседа длилась больше двух часов. Только в
конце ее Крауш словно невзначай коснулся происшествия с Грачиком.
Кручинин с радостью услышал похвалу своему ученику и не стал обижаться
на критику, которой Крауш подверг последний этап работы Грачика. В
заключение прокурор сказал:
- Я слышал, ты собираешься к нему в Таллин. Так вот: нами
задержан некий Залинь Мартын, проходивший по делу Круминына. Он
числится за Грачьяном... Надеюсь, ты не будешь в претензии: мне
хочется, чтобы ты поприсутствовал при допросе этого Залиня нашим
следователем, пока тут нет Грачьяна. Ты ведь в курсе дела Круминьша.
Уполномочиваю тебя в качестве сведущего лица задать Залиню все
вопросы, какие найдешь нужным для освещения его отношения к делу
Круминьша. Можешь передать содержание допроса Грачьяну с твоими
личными впечатлениями и заключениями.
- Насколько помню, Мартын Залинь был арестован по подозрению в
убийстве Круминьша, освобожден из-под стражи по представлению Грачьяна
и затем, когда выяснилась преждевременность этой меры, - скрылся? -
спросил Кручинин.
- Следует только уточнить: - Залинь освобожден потому, что я
опротестовал его содержание под стражей, - с огорчением произнес
Крауш. - Поэтому я первый был виноват в том, что ему удалось уйти от
дальнейшего следствия. Иногда... хочешь добра - причиняешь зло...
- Не редкий случай в жизни, - смиренно согласился Кручинин. - Я
не стал бы на твоем месте сокрушаться.
- Э, брат! - воскликнул Крауш. - Ты живешь устаревшими
представлениями о советском правопорядке. Мы должны исключить из своей
практики всякую возможность ошибки. Нет места самодовольству и
успокоенности прокурорской непогрешимостью. Повторяю: никто не дал нам
права на ошибки. Юрист обязан быть примером всем другим, всем
работникам всего нашего аппарата!.. - Приступ кашля помешал Краушу
договорить. Прокашлявшись, он продолжал, но, по-видимому, уже не
сказал того, что намеревался: мы не имеем права прощать себе ни
случаев, когда напрасно держим людей под стражей, ни таких, когда
напрасно их освобождаем из-под стражи.
- К сожалению, - с усмешкой заметил Кручинин. - Первое, вероятно,
случается чаще второго?
- Э, нет! - запротестовал Крауш. - Никто не смеет думать, будто
легче задержать, чем упустить, передержать, чем выпустить! - По его
тону нельзя было понять, говорится это с радостью или с
неудовольствием. - Сказать правду, мы и сами как-то внутренне
перестроились: в нас появилось что-то... что-то... - Он запнулся в
поисках подходящего слова, и Кручинин договорил за него:
- Скажи прямо: "человеческое".
- А что же, прежде мы не были людьми?.. Сказал бы хоть "душевное"
что ли?.. Хоть и это не точно: душа у нас была всегда.
- Э, брат! В терминах ли дело? Ведь из чиновников, блюстителей
буквы, вы начинаете превращаться в живых людей, - Кручинин рассмеялся
и поправился: - Ладно, ладно, изволь: в душевных людей. Но ты сильно
обольщаешься, Ян, ежели воображаешь, будто теплое сердце бьется под
сукном каждого прокурорского мундира. Душа и сердце - это атрибуты еще
не очень распространенные в нашем аппарате.
- Не люблю я этой терминологии, - поморщился Крауш. - Вечно ты с
этой "душой".
- Отличная принадлежность, если отбросить ее поповский смысл...
Побольше бы ее в наших людях.
- Я сужу по... - начал было Крауш.
- Скажешь "по себе"? - перебил Кручинин. - Честь тебе и слава. Но
со стороны оно видней: черствеем мы, сохнем под бумажным самумом.
Много еще нужно сделать, чтобы поставить закон и его служителей на
уровень жизни. Да, да, я не оговорился: закон на уровень жизни, а не
жизнь на уровень закона!
- Ты уж скажешь!.. - с неудовольствием проговорил Крауш и
закашлялся. Кручинину показалось, что этим кашлем прокурор хотел
прикрыть то, что у него не было убедительного возражения.
От следователя Кручинин узнал, что термин "задержан" в отношении
Залиня - не совсем точен: Мартын Залинь явился сам. Огромный сумрачный
детина, с пудовыми кулачищами, с маленькими белесыми глазками,
ушедшими под выпуклые надбровья, Залинь имел растерянный вид.
Следователю, который принял его вместо Грачика, Залинь рассказал
историю, показавшуюся необычной даже видавшему виды работнику
прокуратуры. К тому же, на взгляд следователя, история эта не имела
отношения к делу Круминьша. Она сводилась к следующему: когда Мартына
освободили за недоказанностью участия в убийстве Круминьша, он
вернулся на комбинат. Но оставаться там - значило постоянно слышать,
что ему "удалось отвертеться", что "еще придет его час". Рабочая
общественность комбината была настроена против Залиня, разговоры о его
виновности не прекращались. А тут пришел новый вызов - к следователю.
Мартын "сдрейфил" и решил скрыться. Но в Цесисе, где он устроился на
работу по имевшемуся у него чужому документу, начались странности: к
нему подошел незнакомый человек и пригласил его для разговора в буфет.
Залинь решил, что попался, и хотел удрать, но дело было днем -
невозможно было поднимать "шухер" на улице. В буфете, после двух
стопок водки, незнакомец дал понять Мартыну, что знает за ним кое-что,
неизвестное властям, и что Мартына разыскивает милиция. Единственное
спасение Мартына - воспользоваться его, Альберта Винда, дружеской
помощью. Эта помощь совершенно бескорыстна и продиктована
исключительной симпатией к Залиню, к которому он, Винд,
присматривается уже несколько времени. Водка, комплименты и знание
новым приятелем обстоятельств преступления Мартына, скрытого от
властей, - вот три довода, подействовавшие на Мартына так, что вечером
он проснулся уже в доме Винда. Мартын не знал, что это за дом и где
находится. Очевидно где-нибудь в Цесисе или поблизости от него. Он ни
разу не покидал этого дома, так как, по словам Винда, уголовный розыск
буквально висел уже у него на хвосте. Выйти - значило быть
арестованным.
Через несколько дней, когда выяснилось, что у Мартына больше нет
денег, а необходимо купить еды, он отдал Винду свои часы - подарок
Луизы. Винд заявил, что часы испорчены надписью, нацарапанной на
обратной стороне крышки часов, но все-таки взял их и сказал, что
снесет на скупку.
Уходя по утрам, Винд запирал Мартына в доме. Конечно, сильному
парню ничего не стоило выставить дверь или окно, но он боялся высунуть
нос на улицу и сидел смирно. Однажды Винд сказал, что есть возможность
переправить Мартына в другое место, на юг Латвии, где Залинь по его,
Винда, рекомендации получит работу. Но следует быть осторожным: Мартын
должен сменить костюм, известный уголовному розыску, и подождать еще
несколько дней, пока окончательно зарастет бородой. Винд дал Мартыну
свой пиджак и брюки. "Ты мне нравишься, - сказал он, - и я охотно
отдаю тебе эту новую пару в обмен на твое старье. Будешь помнить
Альберта Винда". Прошло еще несколько дней. Мартыну казалось, что Винд
как-то особенно внимательно присматривается к нему. "Больно медленно
растет у тебя борода", - с досадой говорил Винд. А когда борода
показалась Винду, наконец, достаточной, он сказал, что ей и темным
волосам Мартына нужно придать другой цвет: это сделает Залиня
неузнаваемым. Винд принес из аптеки какую-то жидкость и заставил
Мартына несколько раз вымыть ею голову, бороду и усы. И действительно,
вскоре волосы Мартына стали такими же светлыми, как у самого Винда.
"Ну вот, - сказал Винд, - теперь никто не признает в тебе Мартына
Залиня. Скорее уж тебя примут за меня, а?" Он подвел Мартына к зеркалу
и поставил рядом с собой. "Ну, как? - спросил он, - есть сходство"? И
тут Мартын с удивлением увидел, что действительно похож на Винда.
"Теперь все в порядке", - сказал Винд. В тот же вечер он вернулся
домой с водкой и закуской и сказал, что можно справить отвальную. Он
налил полный стакан водки. Но вкус ее показался Мартыну странным. К
тому же ему чудилось что-то необычное в поведении Винда: тот странно
похохатывал и все время успокаивал Мартына, хотя парень и не думал
волноваться. "Пей, друг, пей и все сойдет как нельзя лучше", -
повторял Винд.
Залинь не брался объяснить следователю, почему он так сделал, но
когда Винд вышел из комнаты, он выплеснул остаток водки, - больше
половины стакана, - а когда Винд вернулся, сказал, будто допил стакан.
Скоро Мартын почувствовал, что ему не по себе: кружилась голова, и
невозможно было совладать с желанием тут же, не раздеваясь, лечь в
постель. Мартын не помнит, что было дальше, - наверно, он упал на
койку и заснул...
Он проснулся от ощущения, будто кто-то поднимает ему голову с
подушки. А голова была тяжелая, словно камень - как от угара. Мартын с
трудом разлепил веки. Он клялся следователю, что видел тень Винда,
метнувшегося прочь от его койки. Страх овладел Мартыном, и он уже не
мог заснуть до утра. А когда рассвело, увидел, что Винд, как и он сам,
спит одетый, хотя с вечера вовсе не высказывал такого непреодолимого
желания уснуть, Из-под подушки Винда свисал конец веревки - тонкой,
крепкой веревки, какой Мартын прежде не видел в его хозяйстве. И это
тоже возбудило подозрение Залиня: зачем Винду ночью понадобилась
веревка?
Утром, не глядя на Мартына, Винд проворчал:
- Эк, мы вчера хватили... Прозевали поезд.
Мартын вышел из комнаты, а когда вернулся, из-под подушки Винда
уже не торчало никакой веревки. Винд попробовал уговорить Мартына
выпить вместо чая по стакану водки, "чтобы опохмелиться", но Мартын
отказался: он понял, что Винд что-то замышляет.
Перед уходом Винд исподтишка вглядывался в Мартына. "Уж завтра-то
утром тебе нужно уехать", - сказал он и велел не высовывать носа из
дома, чтобы не мозолить глаз милиции. На этот раз он не только замкнул
дверь, но затворил даже ставни на окнах. Если бы не эти ставни,
Мартын, может быть, и дождался бы прихода Винда. Он знал, что один на
один Винд с ним ничего не сделает. Но затворенные ставни заставили
Мартына насторожиться: он решил, что Винд вернется не один, и тогда
неизвестно, что будет. Мартын принялся за поиски веревки, которую
видел под подушкой Винда. Он нашел ее под матрацем: на ней была
приготовлена мертвая петля вроде удавки. Тут Мартыну вспомнилось, как
его голову приподнимали с подушки... Запертые ставни и петля решили
дело. Мартына охватил панический страх. Он не мог понять, зачем Винду
нужно его удушить, но не сомневался в том, что именно это замышлял
Винд. Мартын бежал, забыв о драгоценных часах, тоже найденных под
матрацем Винда, но зато захватил веревку, которую и представил
следователю.
Следователь полагал, что ночные видения Залиня - не что иное, как
следствие злоупотребления алкоголем, - мания преследования. Практика
знает случаи, когда преступники готовы искать спасения от
действительной или воображаемой опасности в стенах тюрьмы. За право
укрыться в них Залинь и заплатил тем, что дал откровенные показания по
своему делу, не известные властям, и выложил на стол "запасный"
паспорт, по которому жил в Цесисе. Однако причастность к убийству
Круминьша он по-прежнему упрямо отрицал.
Идя с намерением поскорее упаковать чемодан и успеть на
Таллинский поезд, Кручинин размышлял над обстоятельством, привлекшим
его внимание: узел на веревке, принесенной Залинем, был вывязан в
точности так же, как оба узла, уже имеющихся в деле Круминьша.
63. ОБЕД У МАТУШКИ АЛЬБИНЫ
Удивительно ли, что во главе стола восседал отец Петерис Шуман,
раз праздник происходил у матушки Альбины. Весь С. хорошо знал
отношение старушки к своему духовному отцу - ни один ее семейный
праздник не обходился без Шумана. Никто не видел в этом ничего
дурного: поколение Альбины - отпетые люди. "Что там разыгрывать
комсомольцев, ежели не сегодня-завтра придется стучаться в ворота
святого Петра!" Попробуйте убедить их в том, что протекция священника
им мало поможет. Правда, на этот раз матушка Альбина могла бы обойтись
и без священника: как-никак ее внучатная племянница Ирма - не
последний человек в комсомоле, а не день ли рождения Ирмы является
поводом для нынешнего праздника? Но, как сказано, трудно ломать
стариков. Молодежь сделала им уступку и попросту не обращала внимания
на тот конец стола, где вокруг Шумана группировались старики. Ирма
тоже считала, что можно сделать уступку двоюродной бабушке. В
сущности, ведь старушка была ее единственным родным человеком. Да и
вообще, нужно заметить, характер Ирмы заметно изменился со времени
смерти Круминьша. Пока среди рабочих держалась версия о самоубийстве
Эджина, Ирме пришлось немало передумать. Совесть не давала ей покоя,
словно ее насмешки над бывшим "перемещенным" имели значение в
случившемся. Ведь она одна знала, что эти насмешки были только, может
быть и вовсе неправильным, она согласна, но неудержимым выражением ее
ревности. Она же ведь никому не говорила, как ее бесят нежные взгляды,
которые Луиза бросала на Эджина. Не признаваться же было Ирме в своих
чувствах! Чтобы Луиза все разболтала? Нет, Ирма была слишком
самолюбива! Ироническое отношение к окружающим было ее защитным
рефлексом. Психологи знают этот вид застенчивости, приводящий человека
к тому, что окружающие начинают считать его гордецом.
Нынешний праздник по случаю дня рождения Ирмы, устроенный
матушкой Альбиной, был, пожалуй, первым, когда девушка согласилась
собрать в домике бабушки своих друзей. Их было немного, и первой среди
них должна была быть Луиза. Та самая Луиза, чье вмешательство спасло
Круминьша от руки обезумевшего Залиня и отдалило на несколько дней
смерть Эджина. И именно сегодня, в этот "день Ирмы", Луиза почему-то
изменила старой дружбе - ее не было среди гостей.
Словно по уговору, никто из молодежи не упоминал имени Силса.
После его бегства из С. он как бы перестал существовать для молодежи.
Только если кто-нибудь попрекал комсомольцев в недостатке чуткости и
влияния на бывшего "перемещенного", возникал горячий опор вокруг
фигуры Силса и вокруг всего вопроса о возможности перевоспитания
таких, как он. Наиболее суровыми ортодоксами выступали молодые. Их
непримиримость противостояла жизненному опыту стариков, подчас
получавшему у комсомольцев не в меру суровое наименование гнилого
примиренчества. Когда со "стариковского" конца стола раз, другой до
молодежи донеслось имя Силса, Ирма первая демонстративно поднялась и
ушла в свою комнату: она ничего не хотела слышать об этом дважды
изменнике. За Ирмой последовала вся молодежь. Тогда старшие принялись
свободно обсуждать исчезновение Силса.
С новой силой вспыхнул спор о судьбе Круминьша. Взоры стариков
обратились к отцу Шуману. Разве он не был несколько раз у следователя?
И без того красное, налитое кровью лицо священника запылало огнем.
Была ли тому виной вишневка или охватившая Шумана неловкость, сказать
трудно.
- Официальные власти, - важно проговорил он и поднял палец так,
словно хотел предостеречь слушателей от возражений, - официально
высказали официальную версию данного происшествия. Мне как лицу тоже
официальному нельзя высказать точку зрения, несогласную с официальной.
Этого было достаточно, чтобы присутствующие поняли: у отца
Петериса есть свой взгляд на вещи. Но, возбудив общее любопытство, он
сделал вид, будто увлечен пирогом Альбины. Это дало возможность самой
Альбине завладеть вниманием. Страсть посплетничать взяла верх над
данным следователю обещанием молчать. Она не скрывала, что с молодых
лет славилась любовью собирать слухи и распространять их. Ее голос,
похожий на карканье старой вороны, покрыл все голоса:
- Если бы не я - ни за что бы следователю не докопаться до
правды!.. - Несколько мгновений она молча наслаждалась удивлением
гостей. - Будь он сто раз следователь, ему бы не усомниться в том, что
Круминын был действительно арестован, ежели есть фотография, где это
показано. - При этих словах Шуман отставил в сторону рюмку вишневой, и
приготовленный для закуски большой кусок лососины застыл на вилке по
пути к широко открытому рту. А Альбина, подавшись вперед, чтобы все
могли ее слышать, продолжала: - Да, да, настоящая фотография: шагает
Круминьш, царство ему небесное, и по сторонам двое - милицейский и в
цивильном. Ты бы усомнился? - обратилась она к сидевшему напротив нее
племяннику - фотографу из артели "Художественное фото". - Хоть ты и
столичная штучка и у вас в Риге умник на умнике сидит, а ты мне скажи:
фотография - это документ?
- Документ, тетушка Альбина, - согласился фотограф, - но...
- Не перебивай, когда старшие говорят! - Альбина махнула на него
рукой. - Ответил и ладно. - Она оглядела слушателей и остановила
взгляд на Шумане. - Что вы думаете, отец Петерис?
Шуман не отвечал, глядя перед собою помутневшими глазами.
- И следователь тоже так думал: документ - не дождавшись ответа,
продолжала Альбина. - Он мне так и сказал, - не стесняясь, выдумывала
она: - "Ежели бы, говорит, я нашел бы этих людей, то их бы повесили,
потому что арест советского человека с неизвестными нам тайными целями
- это государственная измена". Так и сказал: "Не правда ли, тетушка
Альбина: измена?" Ну, что ж, - тут она подбоченилась и важно
протянула: - Так и записали: из-ме-на!..
- Позвольте, - попытался вставить слово племянник-фотограф, -
ведь на этой фотографии...
- Разве я уже все сказала? - строго уставилась на него Альбина. -
Что значит твое "позвольте", где тебя учили манерам?
- Позвольте... - в волнении поднявшись с места, настаивал
фотограф.
- Когда я закончу, ты и скажешь, что думаешь. Разумеется, когда
речь идет о фотографии, - тебе и карты в руки.
- Конечно, тогда и послушаем, - сказал кто-то. - И отец Петерис
скажет свое мнение.
Шуман сидел, выпрямившись, как большой черный истукан. Лицо его
стало сине-багровым, и казалось, на тугой крахмал воротничка вот-вот
прольются розовые складки надувшейся шеи. Но он все молчал, только
громче делалось его сопение и взгляд его медленно переходил с одного
гостя на другого. Охотнее всего Шуман встал бы из-за стола и ушел
подальше от глупых и неделикатных вопросов. Но он не вставал и не
уходил. Он боялся этих людей. Очень часто тот, кто виноват, видит
возможность подозрений там, где о них никто и не думает. Таково
свойство нечистой совести. Много людей с чистой и нечистой совестью
прошло перед отцом Петерисом в исповедальне, и он лучше многих знал
это свойство человеческой души. Разговоры прихожан выбили у него из
головы все, кроме этой проклятой господом богом фотографии, которую
Шуман своими руками подсунул следователю. Теперь Шуман боялся прервать
старую болтунью Альбину, как непременно сделал бы, ежели бы его
совесть была чиста. Пожалуй, даже ему следовало послушать, что еще
знает Альбина.
- И вот, дорогие вы мои, - оживленно продолжала та, - гляжу я на
фотографию и думаю: да ведь я же видела эту компанию! Они-то меня,
конечно, не могли видеть, потому что я была за деревьями, а я их
видела. Вот как вас всех сейчас вижу... И вот гляжу я на эту
фотографию...
- Матушка Альбина, - заметил кто-то из гостей, - не тяните вы из
нас жилы: говорите, что вы видели!
Но Альбина сделала хорошо рассчитанную паузу и таинственно
прошипела:
- Гляжу я, думаю: а ведь лица-то у этих вот, что увели Круминьша,
- не те.
- То есть, как это не те? - не выдержал Шуман.
- Именно не те.
- Не может быть! - хрипло проговорил Шуман, напрасно пытаясь
отодвинуть тяжелое кресло от, стола, чтобы освободить свой живот и
встать.
- Как перед богом, - оживилась Альбина, - личности не те. - При
этих словах краска начала отливать от багровых щек священника. А
старушка с увлечением продолжала: - А когда мне показали утопленника,
того, что выловили в камышах у острова, он оказался в другом платье. Я
так и сказала следователю: "Выловили в милицейском, а я его видела в
цивильном... Как бог свят".
Шуман прекратил свои попытки отодвинуть кресло и погрузился в
него глубже, чем прежде. Его руки были вытянуты вдоль стола. В одном
кулаке был зажат нож, в другом вилка. Они торчали вверх, словно
воткнутые в стол железные ручки, за которые отец Петерис ухватился,
чтобы не уйти в кресло с головой.
Наконец Альбина умолкла, и ничто не мешало фотографу из Риги
высказаться:
- Позвольте, позвольте! - крикнул он. - Я хочу спросить: на этой
фотографии был изображен храм? Здешний ваш костел?
- А как же, - ответила Альбина. - Конечно, был. Все трое так и
шагают возле костела...
Если бы не настойчивость племянника-фотографа, не давшего на этот
раз перебить себя, Альбина, наверно, повторила бы свой рассказ. Но тут
он рассказал о том, как, проверяя однажды работы в фотографиях своей
артели, - он ведь член правления артели, все это, вероятно, знают?! -
он увидел на столе молодого лаборанта именно такую фотографию. Он
готов дать голову на отсечение: то была фотография, о которой
рассказывала тетушка Альбина.
- Так, значит, теперь эта фотография находится у следователя? -
воскликнул он в удивлении.
- Суетный интерес, - послышалось вдруг с конца стола, где, все
еще держась за нож и вилку, восседал Шуман. Он говорил, как всегда,
увесисто: - Пустое любопытство!.. Что вам за дело до фотографии?
Фотограф смешался на мгновение, но не сдался:
- Позвольте!.. - повторил он было, но тут в столовую с криками и
смехом ворвалась группа молодых гостей Ирмы. Они бурей пронеслись
через комнату, разбросав пустые стулья. Впереди всех неслась Ирма. Она
первая добежала до калитки и распахнула ее перед Луизой. Та шагала,
держа под руку Мартына Залиня. Даже при его большом росте и широких
плечах, букет, который он нес, казался огромным. Мартын пытался
спрятать за ним смущенное лицо, и Луизе пришлось подтолкнуть его,
чтобы заставить войти в калитку.
- Вот из-за кого я опоздала, - сказала она, обнимая Ирму. - Лицо
ее сияло радостью, какой на нем давно никто не видел. Всякий мог
догадаться, что оно сияет не столько от встречи со стоящей перед нею
Ирмой, сколько потому, что за ее спиной - Мартын.
64. ЕЩЕ РАЗ ПЕТЕРИС ШУМАН
Если бы матушка Альбина знала о последствиях, какие имел ее
семейный обед, она, вероятно, сильно возгордилась бы и получила бы
пищу для болтовни на весь остаток своих дней. Вернувшись от нее,
Шуман, несмотря на изрядное количество выпитой вишневки, не лег спать.
Он беспокойно ходил по маленькому кабинету. Думы одолевали его. Стало
душно в доме, вышел в сад. Чистый воздух сада показался прекрасным.
Почудилось, что окружающая природа вместе с ним радовалась
отдохновению, сошедшему на землю: ведь почти все лето прошло для
Шумана в сомнениях и страхах.
Да, Шуман не отрицал того, что принимал когда-то участие в
собраниях земников и даже записался в Тевияс Саргс, так как духовный
сан не позволял ему быть членом "Перконкруста". Но пусть-ка ему
покажут такого священника в Латвии, не только католического, но даже
протестантского, который был бы тогда за революцию и коммунистов!..
Да, он священник, он даже католический священник - служитель
ортодоксальнейшей церкви на земле. Его, конечно, можно спросить:
почему же ты, Петерис Шуман, скрыл то, что был земником, что при
Ульманисе агитировал против коммунистов и в сороковом году стращал
крестьян колхозами, как исчадием сатаны? Ну что же, так оно и было,
господи боже мой. Перед тобою мне нечего таиться...
Шуман посмотрел на сияющее звездами небо и, протянув руку,
дотронулся до светящейся даже в ночи махровой шапки влажного от росы
георгина. Он повернул ухо в сторону кущи лип и прислушался:
разбуженные его шагами, возились пичужки. Порывом ветерка принесло из
сада запах сена второго укоса. Шуман впитывал звуки и запахи родной
латышской осени, и мир снисходил в его душу, недавно еще испуганную и
метущуюся. Но тут же ему снова стало не по себе, когда по сходству
обстановки на память пришло, как однажды ночью, хоронясь от людей, к
нему постучался неизвестный. Неожиданный гость стал один за другим
называть пункты анкеты Петериса Шумана, где была написана неправда, и,
закончив перечисление, сказал: "А под анкетою напечатано: "Знаю, что
за ложь отвечаю по закону". Он посмотрел на Шумана при свете ночника:
"А теперь, Петерис Шуман, решай: твоя ложь завтра станет известна.
Стоит сказать слово - и ты перестанешь быть настоятелем храма. Тебя
выгонят из этого дома. Тебя отправят в лагерь копать землю, рубить
лес. Через год твои кости будут стучать, словно их ссыпали в пустой
мешок. А через два ты умрешь от истощения. Но все это пустое, если ты
умный человек. Нам нужна от тебя совсем маленькая услуга, и притом
одна-единственная. Слышишь, одна-единственная!"
- Кому это "нам"? - спросил Шуман.
- Тем, кто стоял рядом с тобою в Тевияс Саргс, тем, кто вместе с
тобою боролся против колхозов. Как Петр отступник, ты совершил
предательство раньше, чем трижды пропел петел. Но всемогущий бог
ведает, что ты слаб, как всякий человек, и он простит тебе
отступничество, если ты поможешь нам теперь: нам нужна совсем
маленькая услуга. Одна-единственная.
- Какая услуга? - спросил Шуман.
- Пустяк, сущий пустяк, - сказал незнакомец. - Мы дадим тебе
фотографию, ты снесешь ее следователю, ведущему дело Эджина Круминьша.
- Говорят, что это не самоубийство, а... - начал было Шуман.
- Верь тому, что бог покарал его, и все тут, - мрачно проговорил
ночной гость и стукнул кулаком по столу так, что подскочила неубранная
с вечера плошка из-под простокваши и ложка выскочила из нее и со
звоном покатилась на пол. - Каждый, кто был земником, всякий, кто,
вступая в наш союз, начертал крест собственной кровью, убил бы этого
пса!
- Господь бог повелел: не убий! - неуверенно возразил Шуман.
- Это ты оставь для проповеди, - презрительно ответил незнакомец.
- Если мы прикажем тебе убить оставшегося в живых Силса, ты убьешь и
его. - И увидев, как священник отпрянул от него, незнакомец
рассмеялся. - Но мы знаем, что ты трус, Петерис Шуман. Поэтому не
бойся: мы сами убьем Силса. - От дальней кирхи донесся бой часов.
Гость отмечал их кивками головы и, когда прозвучал последний,
расставил локти и, положив голову на руки, стал вглядываться в
хозяина, словно хотел навсегда запомнить его черты. А сам Шуман в
слабом свете ночника с трудом мог его рассмотреть. Он только помнит
теперь, что лицо ночного гостя было широкое и на нем белели усы и
борода. Был ли он сед или так соломенно светел, Шуман не понял. Шуман
сидел напротив гостя в ночной сорочке и наспех запахнутом купальном
халате; его начинало знобить. Чувствовал, как стынут ноги, обутые в
старые шлепанцы, но не смел пошевелиться под тяжким взглядом бородача.
- Вот что, - грубо проговорил тот, после долгого молчания, -
выбирать тебе, Петерис, не из чего... Скажи мне "нет" и через день
узнаешь, что ты больше не настоятель храма. Если же завтра сам пойдешь
и скажешь властям все, что прежде скрывал, то послезавтра глаза твои и
вовсе не увидят утренней зари и другой поп проводит твой гробишко на
кладбище. - Незнакомец усмехнулся: - Нет не проводит. Ведь церковь
отказывает в погребении самоубийце, хотя бы и трижды священнику! - И
он снова перегнулся через стол и бросил Шуману в лицо: - Ты
повесишься!.. Понимаешь, тебя вынут из петли и найдут твое письмо...
Так как с Круминьшем. Понимаешь?..
Незнакомец встал, медленно обошел стол и наклонился над Шуманом.
Тот не отстранился, только все его грузное тело задрожало
мелкой-мелкой дрожью в боязливом ожидании, как оттаявший студень.
Незнакомец рванул рукав его халата так, что треснула гнилая ткань:
- Смотри, - хрипло сказал он, брызнув слюной в ухо Шуману.
Но Шуман не стал смотреть. Он и так знал, что на его плече до сих
пор сохранился след свастики, выжженной когда-то во время церемонии
принятия в "Ударники Цельминша".
- Чего вы хотите? - осипшим голосом спросил Шуман.
- Ты по почте получишь фотографию с изображением ареста Эджина
Круминьша советской милицией и отдашь этот снимок следователю. Вот и
все. После этого, отныне и во веки веков, - ты чист и свободен.
- Уйдите, - с мольбой прошептал Шуман. Он был теперь совсем не
похож на того сурового, исполненного достоинства и сознающего силу
стоящей за ним церкви Петериса Шумана, которого так хорошо знали
прихожане. Еще более жалко прозвучала вторичная мольба:
- Уйдите.
- Да, время к утру, - развязно согласился гость, словно они уже
договорились. - Помни, Петерис: если ты не снесешь фотографию
следователю... - гость рассмеялся и жестом изобразил, как вешают
человека.
Через два дня Шуман получил фотографию. Целую ночь он ходил возле
стола, где она лежала. Брал в руки и тотчас отбрасывал ее, словно она
была отпечатана на куске раскаленного металла. Да, падая на стол, она
и звенела, как железо. Честное слово!
Шуману помнится, что и тогда в комнате было невыносимо душно, и
он тоже вышел в сад. И тогда над его головой простиралось такое же
холодное небо, и стояли вокруг кусты облетевшей сирени, и, может быть,
даже так же шуршали в ветвях старой липы птицы. Может быть. Но если
все это не было другим, если Шуман видел все это и прежде и видел во
всем этом то же, что видит теперь, то как он мог?.. Как мог?..
Шуман медленно перешел дорогу и постучал в окошко маленького
домика, где жил причетник. Пришлось повторить стук, прежде чем к
стеклу приникло заспанное лицо причетника:
- Что?.. Что такое?..
- Дайте ключ от храма, Волдис, - негромко проговорил Шуман.
- Сейчас, сейчас, отец Петерис, - засуетился причетник, и бледное
лицо с растрепанными седыми космами исчезло в темноте за окном. Через
минуту он появился на крыльце, стуча незашнурованными башмаками.
Запахивая пальто поверх белья, стал было спускаться с крылечка, но
Шуман остановил:
- Не нужно... Спите со господом... Только дайте ключ!..
- Господи, боже мой, что случилось? - обеспокоено спросил
причетник, нащупывая в темноте ступени. - Сейчас я вам отворю...
- Ничего не случилось, дорогой мой Волдис, идите спать, -
несколько раздраженно повторил Шуман и взял ключ из рук озабоченного
причетника.
Несколько мгновений причетник смотрел вслед священнику,
удалявшемуся по направлению к церкви. Его силуэт виднелся на фоне
песчаного пригорка в промежутках деревьев рощи, которую следовало
миновать Шуману.
В роще было еще темнее, чем на улице, и Шуман несколько раз
споткнулся о корни сосен. С правой ноги слетела ночная туфля, и он
долго искал ее в потемках. Когда дошел до церкви, туфли были полны
мелкого песка, неприятно коловшего босые ноги. Наконец, Шуман отпер
главную и единственную дверь храма и вошел. После темноты, царившей на
дворе, ему показалось тут почти светло благодаря крошечной
электрической лампочке, заменявшей лампаду у напрестольного креста.
Впрочем, Шуман и без того знал здесь каждую щель в каждой доске и
уверенно приблизился к алтарю. Он так порывисто опустился на колени,
что стук был ясно слышен в пустой церкви. Долго лежал, распростершись,
на полу с руками, стиснутыми в молитвенном порыве.
О чем молил он бога? Об избавлении его от мести тех, кто угрожал
ему устами ночного гостя в случае неповиновения или от кары советских
властей, ежели он выполнит этот приказ? Все смешалось в его молении -
страх и вера, преданность порядку и боязнь утратить положение. Он был
простым настоятелем крошечной церквушки. Прихожане верили ему потому,
что верили в его бога. Чуждыми и невозвратимыми казались Шуману
времена, когда он противопоставлял себя простым людям во имя
соблюдения интересов богатых и власть имущих. Те, на кого он когда-то
работал, обманули его надежды: они не сделали его богачом и не
наделили властью. Он остался беден и безгласен, как простые люди, и
простые люди стали его братьями. Иногда ему даже казалось, что если
кому и следует теперь себя противопоставить, то только князьям церкви,
противопоставить для защиты своих маленьких братьев-христиан, интересы
которых стали его интересами. Быть может, это поймет не всякий, но
отцу Петерису казалось, что никогда его латвийская католическая
церковь не была такою национальной, как именно теперь. Многолетний
перерыв в связях с Римом ослабил то антинациональное влияние, какое
римская иерархия всегда оказывала на свой клир и на верующих
космополитическими идеями всемирно-апостолической миссии Ватикана.
Появление посланца оттуда, именем Рима и освященных им властей
возвещавшего волю прежних хозяев, больше не вызывало в Шумане ни
верноподданнического восторга, ни былого трепета послушания. Он им не
верил. Они его обманули и продолжали обманывать. В его сознании возник
сонм вопросов, переросший в смятение. Страх смешался с привычкой
послушания, сознание долга перед своим народом и его властью
столкнулись со смутными реминисценциями слепого преклонения перед
властью, ставшей чуждой народу и почти забытой им самим, отцом
Петерисом Шуманом, - властью иноземного наместника
апостола-иностранца. Как же он должен был поступить - он, гражданин и
латыш; сын католической церкви, но латыш; священник, но латыш? Как?!
Для старого священнослужителя Шумана уже не было тайн ни в сути
религии, ни в ее обрядах. Он давно уже очень просто, подчас цинически
просто смотрел на вещи. Мистицизм уступил место материализму во всем,
что касалось не только дел земных, но и многого из области духа. Губы
только в силу привычки бормотали молитвы во время праскомидии.
Таинство евхаристии больше не было таинством, а просто приготовлением
для причастников чего-то вроде гомеопатического лекарства.
Одним из наиболее удобных положений отец Шуман считал то, что по
евангелию "блаженни нищие духом, ибо их есть царствие небесное", и в
меру сил своих продолжал сопротивляться распространению светских
знаний среди прихожан. Он не очень-то любил и встречи с духовным
начальством и был рад тому, что рижский епископат почти забыл о
маленькой деревянной церквушке с двумя десятками прихожан. Но то, что
он сегодня услышал на празднике у Альбины, во весь рост поставило
значение давешнего ночного визита. Шуману теперь казалось, будто
принимая тогда от ночного посетителя поручение, он не понимал, что его
задачей было ввести в заблуждение следствие при раскрытии акта,
направленного против его страны, его народа, а значит... да, значит, и
против его церкви - латышской католической церкви!..
Стало ли это ему ясно теперь благодаря словам фотографа -
племянника Альбины?.. Шуман уверял себя, что именно так. И он метался
в страхе, не зная, что делать теперь, когда узнал правду... Рассвет
застал Шумана расхаживающим по маленькому садику. Обычно румяные щеки
священника пожелтели, и голубые глаза были обведены темно-синими
мешками век. С первыми лучами солнца Шуман поднялся на крыльцо своего
дома и послал служанку за Альбиной.
- Прошу вас, - сказал он Альбине, - выгладите мне выходную
сорочку с крахмальным воротничком и манжетами. Выгладите так, как если
бы я шел с пасхальным визитом к самому епископу.
Он не ответил на любопытные вопросы Альбины и молча принялся за
бритье. Когда он надел сорочку, приготовленную Альбиной, воротничок
блестел так, словно был сделан из белого, как снег, фарфора. Шуман
надел самый новый сюртук, в котором не стыдно было бы представиться и
самому господу богу.
Шуман два часа просидел в Риге, на бульваре Райниса, куда приехал
за час до открытия советских учреждений. В прохладном утреннем воздухе
над ним пели птицы, перед глазами простирался широкий газон. Цветы
были такие розовые, что даже розовый отсвет утреннего солнца ничего не
мог прибавить к их розовости. Над головою Шумана было едва голубевшее,
совсем, совсем бледное небо. Но и птицы на деревьях, и цветы на
клумбе, и бледное небо - все это было очень родное. И вон те детишки,
что появились на дорожке, и та женщина, что спешила с кошелкой перейти
площадку, разве все это не было латышским, таким латышским, что уже
больше и быть не могло. Может быть, и птицы тут поют не так громко, и
цветы не так ярки, и небо бледней, чем в садах папы римского, - но
ведь все же это его, родное, латышское, знакомое с детства, милое в
зрелости и безнадежно дорогое перед расставанием навеки!.. Так как же
он мог, как мог!.. Шуман взглянул на часы, тщательно оправил полы
длинного пиджака. Даже если после того, что будет сейчас, он
перестанет быть настоятелем храма и снова явится к нему ночной гость и
скажет: "Петерис Шуман, мы тебя предупреждали...", завтра другой
священник проводит его гроб на кладбище, - и тогда он сделает сейчас
то, что должен сделать, скажет то, что должен сказать! Он пошел по
дорожке, крепко постукивая тростью. При каждом движении руки из-под
рукава его сюртука высовывалась крепкая, как фарфор, крахмальная
манжета и звонко постукивала по руке. Словно отсчитывала шаги,
отделявшие его от ворот прокуратуры...
То, что Шуман сказал Грачику, не могло помочь поимке Квэпа.
Следствие и без того открыло фальсификацию фотографии. До священника у
Грачика побывал уже фотограф - племянник матушки Альбины. Фотограф
привел юношу - лаборанта, рассказавшего, как он, ничего не подозревая,
изготовил для заказчика монтаж фотографии с изображением церкви и
троих прогуливающихся перед нею друзей. И все же признание Шумана
имело практический смысл. Оно подтверждало преднамеренность убийства
Круминьша и указывало, куда ведут нити преступления. Кроме того,
появление Шумана ликвидировало одну из линий связи преступников, клало
конец ошибочной уверенности Грачика в соучастии Шумана и тем самым
освобождало следствие от необходимости вести работу в этом
направлении.
- Ваше признание, - сказал Грачик, - имеет существенное значение
и для церкви: с ее служителя снимается подозрение в непатриотичности.
- Вы правы, - глухим голосом согласился Шуман. - Мне страшно и
стыдно, когда мысль моя возвращается к этому делу.
Грачик как можно отчетливее спросил:
- Ведь вы открыли нам решительно все, что знали?
Шуман молча склонил голову.
65. "ЛУЧ" ГОТОВ ПЛЫТЬ К ИНГЕ
В школах шпионажа Силса обучали стрелять, прыгать с парашютом,
лазать через заборы, заряженные током, плавать, ездить верхом, ходить
на лыжах, грести, управлять парусом, буером и бобслеем; драться,
взламывать замки, беззвучно выдавливать оконные стекла; делать
родинки, красить волосы, завязывать галстуки по-американски,
по-немецки и по-русски, одеваться под денди, священника, босяка и
циркового актера, под советского служащего, под колхозника и под
студента, играть в теннис, в гольф, в бейсбол, в футбол, в городки, в
баккара, в бридж и в очко; его тренировали в умении дышать под водой,
ходить задом наперед, сохранять силы для длительной голодовки;
натаскивали в умении врать на допросах; он наизусть знал свои
календарные позывные и позывные секретных станций Риас, которые мог
вызывать портативным передатчиком. Инструкторы не забыли подготовить
Силса к возможному провалу и убеждали воспользоваться последним
средством уйти от допроса и советской контрразведки - ядом, заделанным
в искусственный ноготь на его большом пальце. Запасные ампулы были
заделаны - одна в папиросу, одна в кусок мыла и одна в пуговицу на
рубашке. Казалось, не было забыто ничто. Но те, кто подготавливал
Силса к диверсии и к смерти, забыли отнять у него сердце. Оно осталось
у него, и он не мог не слышать его голоса. А сердце твердило ему с
настойчивостью, толкающей людей на величайшие подвиги и на
беспримерные подлости, на создание и уничтожение, на торжество и на
смерть: Инга... Инга... Инга!..
Он вставал на заре, и первое, что входило в сознание, было -
"Инга"; он шкурил днища яхт, и в шуршании шершавой бумаги слышался
шепот: "шшш-Инга-шшш"; сидя на корточках перед костром, подогревал вар
для конопатки швов, и котелок доверительно болтал "буль-буль...
Инга... Инга... буль-буль"; он точил на камне затупившееся долото, и
карборунд пронзительно взвизгивал: "З-з-з-з... Инга... з-з-з-з".
Силс работал в таллинском яхтклубе. Это место привлекло его тем,
что давало возможность быть на берегу, где водное пространство,
отделяющее Советский Союз от зарубежья, уже всего; оно давало
возможность быть возле судов и не спеша подготовить к плаванию
собственное судно - складную байдарку, полученную от Грачьяна для
плавания по Лиелупе и увезенную сюда, когда Силс бежал из С.; наконец,
это место было далеко от Риги, где сосредоточено следствие по делу
Круминьша, - другая республика, другие власти.
Силс скрывался от обеих сторон: от советских властей и от тайной
агентуры "Перконкруста". Те и другие помешали бы ему бежать туда, где
была Инга. А он должен был быть там. Он не задумывался над тем, что
будет дальше. Он даже не думал о том, как доберется до Инги,
очутившись в чужой стране. Он твердо знал: быть с нею! И вот он
шкурил, лакировал, конопатил суда таллинского яхтклуба и тренировался
в гребле одним веслом на байдарке.
Каждый день Силс приносил на работу что-нибудь, необходимое для
дальнего плавания, и складывал в тайник, устроенный в дальнем углу
эллинга. План бегства казался ему столь же надежным, сколь он был
прост: с хорошим ветром на яхтклубском шверботе он выскакивает за бон
и уходит на северо-запад. При любой исправности документов, какие ему
удастся добыть на выход в море, пограничники не выпустят его из поля
зрения, в особенности, когда начнет темнеть. Но он выберет время самых
темных ночей, и не так-то просто будет уследить за ним при волне. На
борту швербота будет байдарка. В море он ее соберет и, развернув
швербот курсом к берегу, чтобы успокоить пограничников, закрепит парус
так, чтобы швербот подольше шел без рулевого. А сам пересядет в
байдарку. Самым зорким глазам пограничников не будет видна на волне
низкобортная лодочка. Их внимание будет сосредоточено на шверботе.
Вероятно, катер подойдет к шверботу, и только тогда пограничники
убедятся, что на борту никого нет. Предположат ли они, что Силс упал в
воду? Может быть и предположат. А если догадаются, что он сделал
попытку бежать, то подумают, что он воспользовался надувной резиновой
лодкой - неповоротливой посудиной, лишенной всякого хода и годной
только на то, чтобы продержаться на воде, пока не подойдет на рандеву
судно с того берега. Вот пограничники и будут ждать подхода этого
судна с севера. А никакого судна не будет. Потому что никто там не
ждет прихода Силса. Некому подобрать его.
Силс трудился настойчиво, терпеливо. Знал, что не может позволить
себе ни малейшей ошибки; знал, что должен скрывать свои намерения от
всех, кого видит, с кем говорит, с кем работает, отдыхает, ест, спит.
В каждом вопросе он видел подвох и взвешивал всякое свое слово; всякий
взгляд казался ему подозрительным, и он должен был обдумывать каждый
свой жест, каждое движение, каждый шаг. Он был один среди десятков,
сотен, тысяч людей, которым нечего было скрывать, но от которых он
скрывал свои намерения, свои мысли. Приближалось время, избранное для
переправы. Осталось добыть документы на выход в море. И тут Силс
приходил все в большее уныние: дело оказывалось самым трудным из всего
задуманного. Въедливость пограничников приводила его в бешенство,
которое он должен был маскировать показным добродушием. Это было не в
его нраве, и ему приходилось так напрягать волю и внимание, что к
концу дня он чувствовал себя разбитым.
Наконец, клюнуло: ему дали разрешение на выход. Пожалуй, это был
первый день с приезда в Таллин и даже с самого отъезда из Риги, когда
Силс почувствовал себя, наконец, уверенным в успехе: Инга!.. Инга!
66. О БДИТЕЛЬНОСТИ И ПРОЧЕМ
Еще со ступеньки останавливающегося вагона Кручинин крикнул:
- Здорово, сердцевед! Небось не приготовил мне пятиалтынного за
проигранное пари!
В голосе Нила Платоновича звучало столько ободрения и
беззаботности, что Грачик забыл свои недуги и даже не задал
приготовленного было вопроса: "Ну, как находите?" А Кручинин и вида не
подал, как его огорчило изуродованное лицо друга. Грачик едва успевал
отвечать на вопросы Кручинина. А когда Кручинин, уже сидя в гостинице,
рассказал Грачику о явке Залиня и веревке с удавкой, найденной в
Цесисе, все, кроме дела, было забыто.
Надо сказать, что Кручинин давно уже свыкся с делом Круминьша
так, словно оно было поручено ему самому. Он считал не только долгом
дружбы, но и своей гражданской совести, чтобы Сурен Грачьян справился
с делом так, как мог бы справиться он сам - Нил Кручинин. Только за
обедом, когда они сидели лицом к лицу в "Глории" и нельзя было не
глядеть в лицо молодому другу, Кручинин до конца понял, во что
обошлось Грачику желание врагов отделаться от напавшего на их след
искателя истины. И тут у Кручинина невольно сорвалось:
- Кажется, встреть я сейчас кого-нибудь из этих... - Он показал
подбородком куда-то в пространство, но Грачик понял, о ком идет речь,
и рассмеялся.
- Собственными руками?.. Вот-вот: вы и... "собственные руки!"...
- А что я - божья коровка, что ли?
Только раз в жизни Грачик застал друга за тем, что тот пытался
"собственными руками" наказать вороватого кота Антона, да и то
отступил, когда Антон, изогнув спину, стал тереться о ноги хозяина.
Если бы Нил Платонович сказал, что намерен потратить все свои силы на
отыскание тех, кто так изуродовал Грачика и повести их в суд, - вот
тут Грачик поверил бы. Да Кручинин и сам понимал: в его устах подобная
угроза звучала фальшиво - он глядел на Грачика улыбающимися глазами и
смущенно почесывал бородку.
Когда Кручинин, обойдя вопрос об Эрне Клинт, рассказал Грачику о
приключениях в Германии, тот спросил:
- А где же Инга Селга? Нельзя ли сейчас же привезти се сюда?
- Чтобы сделать приманкой для Силса? - Поздно!
- Вы думаете он удрал?
- Почему бы и нет?
- Вы не представляете себе, что такое погранзона!
- А ты был у пограничников?
- Они говорят: ничего подозрительного в их районе не произошло.
- "Не было и не будет?" - иронически спросил Кручинин. - Имея
право на законную гордость тем, что сделали и делаем, мы, к сожалению,
бываем подчас склонны к самовосхвалению. Я вовсе не считаю
доброжелателями тех, кто под лозунгом преданности советовал закрывать
глаза на наши грехи и ошибки. Это же вода на мельницу тех, кто спит и
видит нас погрязшими в самолюбовании, не способными к самокритике. Для
Грачика не было новостью в Кручинине это критическое отношение ко всем
и ко всему. Когда это на него находило, он уже действительно "не
взирал на лица". - Да, да, не смотри на меня испуганными глазами! -
продолжал Кручинин. - Именно так: убеждаем сами себя в том, что дело
обстоит именно так, как нам хочется. А ведь со стороны-то видно, что
это не всегда так. И получается смешно и обидно... Очень здорово:
"Нарушений границы не было". Недостает еще добавления: "и не будет".
Наше счастье, что люди там золотые и нарушений действительно мало.
Почти нет. Но следует запомнить это коварное "почти" и сами за себя
даже такие золотые ребята, как пограничники, не должны отвечать "не
было". Понимаешь? В том-то и дело: если они знают о нарушении - это
уже не нарушение. А вот когда не знают?.. Разве мы решимся сегодня
кому-нибудь сказать, что вот на деле Круминьша непременно будет
написано "раскрыто"?
- Это - уже неверие в свои силы, - усмехнулся Грачик.
- Лучше, братец, недоверие, чем переверие. Время-то теперь какое,
Грач! Глядеть надо в оба! Строгость к себе! Прежде всего строгость!
Надо еще разок побывать у пограничников с материалом, какой у тебя
есть. Ну-ка подбрось мне все, что знаешь нового о Силсе!
Грачик шаг за шагом описал свои поиски Силса, начиная с
предпосылки, что искать следует в Таллине. Он сознался, что уперся в
тупик: след потерялся именно там, где, казалось, должен был быть его
конец.
Слушая Грачика, Кручинин рассматривал карту Эстонии и Балтийского
моря.
- Итак, признаешь, что Силс обвел тебя вокруг пальца и твоя "вера
в человека" окончательно разрушена?
- Именно этого я и не намерен признать! - Грачик энергично
замотал головой и воскликнул со всем убеждением, какое мог вложить в
свой голос: - Я не верю тому, что Силс вернулся в лагерь врагов и...
- Ну, ну, - подтолкнул его Кручинин, - что там за этим "и"?
- И вообще...
- То-то и оно, что "вообще", - передразнил Кручинин. - А
конкретно-то что? Ясно: концы ведут туда... А где они эти концы,
ухватил ты их?
Грачик, сердито прищурившись, поглядел на Кручинина: вот это
мило! Разве не он сам утверждал, что именно туда, за рубеж, тянутся
нити дела? Что убийство Круминьша - дело рук эмигрантов? И вот
пожалуйте: теперь его же, кажется, обвиняют в том, что он, Грачик,
этого не понимает!
- Единственное, что я теперь знаю... - он раздельно повторил,
сдерживая раздражение: - Не предполагаю, а знаю: оттуда пришло и туда
уходит... Впрочем, я всегда утверждал, что это диверсия зарубежного
происхождения.
- Какие основания у тебя были "всегда" это утверждать? - Кручинин
подошел к Грачику и взял его за лацканы пиджака. Он делал это, когда
хотел втолковать что-нибудь так, чтобы Грачик хорошенько запомнил:
"всегда"!.. Нет, брат, никогда не становись на путь огульного
приклеивания делу ярлыка диверсии из-за рубежа. Начни муссировать
такие версии, и - они перерастут в панику. Врагу это бывает выгодно.
Он сам готов приложить руку к тому, чтобы культивировать такой психоз.
Тогда это само превращается в опасную диверсию. Мировая история, если
в ней хорошо покопаться, дает достаточно примеров тому, как
царедворцы, стремившиеся к власти, заражали шпиономанией своих
державных повелителей в интересах тех, кому они, эти лукавые
интриганы, продались. Мы должны уметь анализировать все, чему учит
история и чужих, враждебных нам режимов. Эти уроки должны нас
вооружать.
- Хотел бы я знать, чему же учит история применительно к данному
случаю?
- Умению видеть врага, Грач! Находить и разоблачать! Это
называется бдительностью, детка! Доброкачественный материал,
обличающий врага, мы должны уметь отличать от того, что нашептывает
злонамеренный или просто трусливый человечишко.
- Там, где царит доверие друг к другу, шептуны ничего не
добьются, - небрежно отмахнувшись, ответил Грачик.
- Вот как?! - Кручинин поглядел на Грачика так, что тот поежился:
- Меня уже не раз упрекали в том, что я вожусь с прекраснодушным
младенцем, - это о тебе. Ты действительно не понимаешь или только для
того, чтобы позлить меня, строишь из себя недалекую красную девицу? Не
знаешь, как из-за шептунов рассыпались содружества, разбивалась
дружба, какой вред эта мразь наносила партиям?.. Ведь для них:
поссорить друзей - уже половина дела сделана!
- В конце концов, Нил Платонович, - сказал Грачик с обиженным
видом, - я думаю, что не хуже вас знаю хотя бы историю французской
революции.
- Зачем так далеко ходить? - иронически сощурился Кручинин.
- При случае поговорим и о делах поближе, а на сегодня достаточно
Робеспьера, - решив не сдаваться, заявил Грачик. - Если бы нашелся
талант, способный создать вдохновенную драму или роман о таком эпизоде
революции, - урока хватило бы надолго.
- Как было бы хорошо, если бы люди почаще вспоминали об опасности
интриг! - задумчиво проговорил Кручинин. - Что такое насаждение
интриганства как не один из самых опасных видов диверсии? Очень жаль,
что интрига сама по себе не предусматривается кодексом как
преступление. Только доведенная до логического конца, принесшая
реальный вред, интрига становится объектом нашей деятельности, когда
подчас уже ничего нельзя ни предохранить, ни поправить, остается
только наказывать. Да, мы вынуждены наказывать. И заказывать строго.
Подчас очень строго. Тут мы не имеем права на снисходительность. Этого
нам не позволяет великая гуманность конечной цели. Не приходится
полагаться на слова Гюго: "Почти все преступления - отцеубийцы. Рано
или поздно они оборачиваются против тех, кто их совершил, и наносят
смертельный удар преступнику".
Грачик всегда легко заражался хорошими афоризмами. Услыхав
что-либо в этом роде, он приходил в возбуждение и готов был
философствовать с темпераментом, присущим всему, что шло у него от
души.
- Верно! Очень верно! - воскликнул он в восторге, услышав эту
цитату. Но Кручинин, зная его слабость, поспешил перебить:
- Верно само по себе, но не исчерпывает вопроса. Мы не имеем
права полагаться на то, что рано или поздно преступление, будучи
совершено, пожрет само себя. Мы обязаны его предупреждать, главным
образом предупреждать, больше, чем карать. Это - единственный путь для
избавления нашего общества от язвы преступности.
- А на этом пути торчат три сосны... - начал было Грачик, но
Кручинин снова перебил:
- И в этих трех соснах - неприкосновенность личности, святость
жилища и порядок - мы еще путаемся, шарахаемся от сосны к сосне.
- Такова уж натура человеческая, - с неожиданной
глубокомысленностью заявил Грачик, - обжегшись на молоке, - дуть на
воду. Что поделаешь!
- Ты прав, ты прав! Пример этой путанице положили с преступностью
малолетних... Три роковые сосны, которые непременно оказываются темным
бором, как только к ним прибавляется четвертый кустик - бич всех
путников по дебрям бюрократии - формализм!
- Э, учитель джан! - Со смехом крикнул Грачик. - Вот это уже не
кустик - это и есть джунгли! Самый темный, самый страшный бор, в
котором может заблудиться волк, а не только Красная шапочка!
- Хорошо, что мы с тобой не законодатели, а маленькие колесики
практического механизма...
- Да, кажется, мы с вами не давали маху, - с легкомысленным
самодовольством молодости сказал Грачик. - Вспомните наши дела с
электростанцией, с Оле Ансеном и лжепастором, дело Гордеева.
При упоминании имени Гордеева тень пробежала по лицу Кручинина.
Он тотчас справился с собой, но Грачик успел заметить, что нечаянно
задел то, что не следовало вспоминать. Это было не только их общим
делом, а и областью личной жизни Кручинина, куда он не любил пускать
других. Даже близкая дружба не сделала Грачика участником интимных
мыслей и чувств старшего друга.
67. ЧТО ДЕЛАТЬ С ВЕРОЙ В ЧЕЛОВЕКА?
- Мы удалились от темы, - недовольно сказал Кручинин, не скрывая
того, что хочет переменить тему. - О чем, бишь, шла речь?
- О пограничниках... Но сначала я должен поделиться с вами
новостью, которой вы не знаете: явилась с заявлением, точнее с
самооговором, Линда Твардовская, мамаша отравленной Ванды.
Пальцы Кручинина потянулись к бородке. Сейчас он начнет ее
крутить и прищурится на Грачика, словно ничему не верит, а на самом
деле станет запоминать каждое слово так, что сможет с точностью все
пересказать - разбуди его ночью. Грачик последовательно, не пропуская
деталей беседы с Твардовской, останавливаясь на собственных
впечатлениях от ее поведения, рассказал о свидании.
- И что же ты по этому поводу думаешь? - не переставая щуриться,
спросил Кручинин.
- Говорить откровенно?.. А вы не станете издеваться?..
Прищур Кручинина всегда выводил Грачика из равновесия. После
некоторого колебания он сказал, что, по его мнению, эта особа
наговаривает на себя то, чего не было. Друзья решили еще раз - в
который раз! - разобраться по пунктам: в чем "за" то, что Линда
говорит правду, и в чем "против". Кручинин кропотливо проанализировал
каждое положение, отыскивая слабые места. Первым была ложь насчет
имени мужа, которого Линда называла Павлом Лиелмеж. Она не
подозревала, что следствие знает его настоящее имя - Арвид Квэп.
Второе; справка из Ленинграда гласила, что друзья Ванды не посылали
Линде Твардовской письма с описанием смерти ее дочери. Заявление о
смерти дочери возбуждало подозрение: она была в курсе покушения на
жизнь дочери, коль скоро считала ее мертвой. Слушая Грачика, Кручинин
изредка кивком головы выражал одобрение или поджатыми губами давал
понять, что мысль кажется ему неверной.
- Зачем же ей понадобилось это опасное нагромождение лжи? -
спросил Кручинин.
- Совершенно очевидно, - живо откликнулся Грачик, - для спасения
Квэпа, затянуть дело, дать ему возможность скрыться. - И, припоминая
практику старых дел, с уверенностью продолжал: - В конечном счете она
рассчитывает на то, что мы обнаружим ее ложь. Тогда она с рыданием
признается, что Круминьша не убивала, о смерти дочери ничего не знала
и так дальше... Обычная история! - Он со смехом добавил: - Эти
симулянты питают завидное доверие к нашим способностям!
- Но случай, в который Твардовская пытается вплести эту историю,
- не совсем обычный, - ворчливо возразил Кручинин. - Нельзя ли
откинуть ее вранье и повернуть дело в сторону отравления Ванды.
- По-вашему у нее тут рыльце в пушку?
- А ты сам не чувствуешь?.. - и, закинув голову, Кручинин потянул
носом воздух.
- Сразу почуял, - сознался Грачик. - Только боялся сказать.
Думаете так приятно, когда вы издеваетесь над моим "чутьем"?
А Кручикин, не обращая внимания на реплики Грачика, продолжал
таким тоном, словно говорил для себя одного:
- Она понимает: раз попала к нам с этим делом - мы его
расковыряем. Ей не миновать ответственности по делу Ванды. И все-таки
пришла. Вот в чем загадка? А у тебя есть сомнение в том, что она тут
не ангел?
- Мрачноватый ангел, джан, - усмехнулся Грачик. - С нею за одним
столом сидеть и то противно.
- Чистоплюй ты, вот кто... - начал было Кручинин, но тут же
перебил сам себя: - Мотивы, мотивы! За каким лешим она явилась, ежели
понимала, что мы уличим ее во лжи по двум линиям - ее непричастности к
делу Круминьша и ее причастности к делу Ванды? Мотивы!
- Опять-таки спасение Квэпа, - решительно сказал Грачик. - Я
думаю...
Кручинин прервал его с таким видом, будто Грачик ему мешал:
- Мотивы!.. Она обязана спасать Квэпа? Это приказ хозяев? Или она
так любит это животное, что предпочитает сама заработать срок, лишь бы
он еще погулял?
- А ревность?! - сказал Грачик.
- Ах, брось пожалуйста! - отмахнулся Кручинин. - Какая у этих
типов ревность!.. Тьфу!..
- Разве они редко пускают в ход ножи?
- Совсем другое дело!.. Но из ревности они не идут на жертвы.
- Может быть, вы и правы, - поразмыслив согласился Грачик. -
Однако, что бы ни руководило Твардовской, она испортила мне обедню с
поимкой Квэпа. Я очень рассчитывал, что когда мы его хорошенько
обложим, он бросится именно к ней. Да так оно и случилось. Я сам
виноват в том, что он ушел.
- Не достает только, чтобы ты предложил выпустить ее на свободу,
чтобы выловить Квэпа.
- Я отлично понимаю: стоит только показать Квэпу, что мы не пошли
на ее удочку, он насторожится. Может быть, даже бросит намеченные
планы и уйдет на глубину. - Грачик исподлобья посмотрел на Кручинина,
отыскивая наиболее убедительный поворот, ради которого и затеял эту
беседу, проверяя свое решение: - Линда должна вообразить, будто я
поверил ее вранью. Пусть в душе посмеется надо мною, не слиняю. Охотно
подсадил бы ей в камеру соседку из выходящих на волю. Пусть бы Линда
передала с ней, кому хочет, известие о глупости следователя, попавшего
в ловушку.
- Ну, ну, ну! - Кручинин протестующе замахал руками. - Никуда,
никуда не годится! Оставляя процессуальную сомнительность такого
приема, ты, видимо, считаешь Линду глупее, чем следует. Сколько раз
тебе твердить: всегда считай, что подследственный не совершит
глупости, которой не совершил бы ты сам. Из того, что ты предложил, я
одобряю одно: Линде дать понять, что ты дуралей. Пусть знает правду! -
Грачик молча поклонился. - Полный дуралей! - со смаком повторил
Кручинин. - А пока оставь ее в покое, не допрашивай. Ни Квэп, ни его
агентура, если она у него есть, не должны пронюхать, что ты трясешь
Линду.
- Я именно так и думал, - обрадовано подхватил Грачик.
- А разве я сомневаюсь? - сердечно проговорил Кручинин. -
Настолько-то я в тебя верю! Не зря же я тебе твержу: вникай, вникай.
Однако... - спохватился он вдруг - ... о чем же мы говорили?..
- Опять же о пограничниках, - со смехом сказал Грачик.
- Конечно, о пограничниках, - повторил Кручинин с таким видом,
будто отлично это помнил, - считаю, что пограничники должны быть
полностью в курсе дела твоего любимчика.
Грачик не спорил. Подсев к столу, кратко подытожил все, что мог
сказать пограничникам о Силсе. Через четверть часа он ушел, захватив
бумаги.
Кручинин взял было книгу, но ему не читалось. Надел шляпу и вышел
на улицу. Вышгородский холм высился зеленой громадой, манящей в свою
тенистую тишину. По дороге к парку Кручинин купил газету и стал на
ходу ее проглядывать. Как всегда в последнее время, первым долгом
заглянул на четвертую полосу. Взгляд скользнул по заголовкам, и
Кручинин остановился посреди дорожки, поднимавшейся в гору: наверху
последнего столбца он прочел, что берлинский "Комитет возвращения на
родину" отправляет в СССР первую партию репатриантов. В их числе
прибалты из "перемещенных" лиц. Приводились имена эстонцев и латышей.
Взгляд Кручинина сразу выловил имя Инги Селга.
Кручинин забыл о Вышгороде и поспешно вернулся в гостиницу.
Грачик был уже там. Кручинин показал ему газету:
- Боюсь, что сообщение пришло слишком поздно, - с разочарованием
проговорил Грачик.
Оказалось, что данные Грачика о Силсе не были для пограничников
новостью: Силс был у них на примете. Они знали о его приготовлениях и
следили за каждым его шагом. Тайник с припасами был давно открыт,
байдарка осмотрена. Но Силса не трогают, предпочитая застать на месте
преступления, потому что он может оказаться не один.
- Полагают, что не дальше как сегодня ночью он должен отплыть, -
уныло рассказывал Грачик, - иначе истечет срок выданного ему
разрешения на выход в море - раз; наступил перелом в погоде - два;
начнется новолуние - три. Если он решил бежать, то должен сделать это
сегодня. - Грачик не скрывал огорчения: убежден, что это бегство не
имеет под собой никакой иной почвы, кроме желания пробраться к Инге...
А она тут. И снова они - врозь. Застанут ли его у швербота, при
отплытии, или изловят в море - он пройдет как нарушитель... Для Инги
он будет потерян... А Инга для него...
- Жаль, что человек, добровольно к нам пришедший, нами принятый и
прощенный, уходит. - Кручинин покачал головой. - Вот что достойно
сожаления. А лирика... - Он пренебрежительно пожал плечами.
- Человек же он! - воскликнул Грачик. - Тот самый человек, о
котором вы только что сказали столько хороших слов.
- Ты неисправим, Сурен!
- Да, да, я неисправимо верю в людей, - повышая голос, ответил
Грачик, - и верю в Силса.
- Все еще? - рассмеялся Кручинин. - Ну и верь на здоровье.
- Разве она незаконна, эта вера? - воскликнул Грачик. - Что же
мне теперь с нею делать?
- Так и найди ей достойное применение... - Кручинин похлопал по
плечу понурившегося Грачика и взглянул на часы: - Не прозевай время
свидания с пограничниками на берегу.
- Они пригласили и вас! - без особого радушия заметил Грачик.
- Предоставляю тебе любоваться пойманным Силсом и сценой его
раскаяния. А пограничники - люди реальности: на них лирика не
подействует.
- Не узнаю вас, Нил Платонович... - огорченно прошептал Грачик.
Хотя Кручинин и делал вид, будто его все это мало занимает, он
исподтишка с беспокойством поглядывал на Грачика. Эпизод с Силсом,
играющий теперь в деле Круминьша второстепенную роль и даже выпавший
за рамки этого дела, приобрел для молодого человека важное значение.
Решалась судьба человека, прошедшего короткую, но сложную и трудную
жизнь. Грачик всей душой сочувствовал горю, какое ждет Силса и Ингу.
Наконец, раздался телефонный звонок. Через минуту Грачик был в
пальто и шляпе. К удивлению Грачика, Кручинин тоже оделся и сел в
машину, - все в полном молчании.
Засада на берегу была организована так, что ни Силс, ни тот, кто
пришел бы с ним, не мог ничего заметить. Сторожевой катер, назначенный
в эту операцию, вышел в море загодя и тоже не мог привлечь внимания
беглецов.
Время шло, миновала полночь, настала ранняя летняя заря, а ни
Силса, ни его предполагаемого спутника не было ни на берегу, ни в
море. Очевидно, Силс отложил побег или ушел другим путем. Грачик взял
у пограничников домашний адрес Силса и отправился по нему вместе с
Кручининым. Найти его оказалось нетрудно. Привратник сказал, что Силс
со вчерашнего утра не был дома. Кручинин, тихонько насвистывая,
вернулся к машине. Грачик в раздумье постоял у ворот и нехотя занял
свое место в машине. Опять они ехали молча, молча сошли у гостиницы.
Грачик в задумчивости стоял перед запертой дверью, забыв позвонить.
Кручинин насмешливо спросил:
- Разрешишь позвонить? Все размышляешь: что делать с верой в
человека.
Грачик сердито отвернулся и переступил порог.
- Тут вас ожидают, - пробормотал портье, прикрывая рукою зевок.
Грачик и на него посмотрел таким же отсутствующим взглядом, каким
только что глядел на Кручинина. Потом перевел взгляд на темневшую в
углу вестибюля фигуру, погруженную в глубокое кресло. Голова человека
лежала на вытянутых на подлокотниках руках. Ровное дыхание говорило,
что он безмятежно спит. Грачик приподнял его голову - с кресла
испуганно вскочил Силс.
Грачик обернулся к Кручинину. Тот медленно поднимался по
лестнице, делая вид, будто ничего не заметил. До слуха Грачика
донеслось напеваемое под сурдинку:
Душа убийц черна, как сажа,
Коротким был их приговор:
И с тридцать пятого этажа
Ее бросают под мотор.
А поутру она вновь улыбалась
Перед окошком своим, как всегда,
Ее рука над цветком изгибалась,
И струилась из лейки вода...
Блим-блом...
Прокурор Республики Ян Валдемарович Крауш был сильно не в духе.
Его теория о том, будто для облегчения кашля необходимо курить, была
разгромлена не только врачами, но и его собственным печальным опытом.
Врачей поддержала прокурорша, дама строгая и решительная. Параграф
семейной сметы, предусматривающий покупку папирос, был закрыт. Ян
Валдемарович мучился. Ему казалось, что в горле першит и тогда, когда
нет кашля, и что кашель стал чаще и приступы его продолжительней.
Крауш в третий раз начинал чтение лежавшей перед ним бумаги и не мог
вникнуть в ее смысл. Когда, наконец, ему стало ясно, чего от него
хотят, он раздраженно приказал вызвать Грачьяна. Ворчливо и с
подковыркой, как говаривал, когда сердился, он "позволил себе
осведомиться" о мотивах, заставивших Грачика снова выступить с
ходатайством об освобождении из-под стражи вторично арестованного
Мартына Залиня.
- Субъект, который однажды скрылся без реальной угрозы ареста, -
хрипло говорил Ян Валдемарович, - теперь, когда стала ясна его
подсудность, скроется наверняка. - Тут рука прокурора по привычке
пошарила по столу в поисках папирос. Не найдя их, он растерянно
оглядел стол и ухватил карандаш, которым и принялся отстукивать на
стекле точки и запятые своей речи. Грачик попробовал доказать, что у
Залиня, добровольно явившегося властям, нет оснований бежать. Больше
того: Залинь хочет отсидеться в предварительном заключении, страшась
столкновения с Винде. Залинь его боится. Далее, Грачику кажется, что
важная улика - узел палача на веревке, принесенной Залинем, дает в
руки следствия след одного из главных виновников убийства Круминьша.
Дело Залиня - Винда - это часть дела Круминьша.
Ян Валдемарович некоторое время молча смотрел на Грачика.
- А у вас есть еще уверенность в том, что вы распутаете дело
Круминьша? - спросил он.
Грачик оторопел: каким образом подобная мысль могла родиться у
прокурора? Право, не сиди напротив него столь уважаемое лицо, Грачик
рассмеялся бы! Но, по-видимому, Ян Валдемарович тут же сам пожалел о
сказанном. Он попытался сгладить впечатление, обещав подумать над
предложением Грачика.
- Залинь нужен мне теперь же, - возразил Грачик. - Нам с ним
необходимо побывать в Цесисе.
- Мы перешлем его в Цесис, - ответил Крауш.
Грачик едва не стукнул ребром ладони по столу прокурора, но
вовремя сдержался:
- Это не годится! Мы должны побывать там так, чтобы никто об этом
не знал. Мы сами выберем время, сами туда доедем, как будет удобней.
...Грачику казалось, что найти в Цесисе дом, где жил Винд, не
представится сложным делом. Если Мартын и не покажет дорогу, какою
пришел в дом к Винду из-за того, что был в тот вечер пьян, то, может
быть, вспомнит путь своего бегства оттуда на станцию. Однако на деле
эта задача оказалась трудно выполнимой. Деревья облетели, вокруг домов
не пестрели больше приметные цветники, и Залинь уверял, будто
физиономия города изменилась, он его не узнает. Вторую ночь бродили
они по Цесису, не приблизившись к цели. Проделывать же эту работу днем
не представлялось возможным, чтобы не быть замеченными Винде.
Цесисские работники предложили Грачику свой план обнаружения Винда:
Залиню несколько раз появиться в столовой, где он познакомился с
Виндом. Если Винд туда больше и не приходит, то, может быть, у него
есть там знакомые. Не святым же духом он узнал о приходе Залиня в
прошлый раз! Значит, появление Залиня будет отмечено. После этого Винд
едва ли станет отсиживаться в своем убежище и поищет встречи с
Залинем. А если вспугнутый Винд попробует скрыться, он будет взят.
И вот верзила Залинь, дрожа от страха, явился в столовую. Раз,
другой и третий он усаживался за столик и принюхивался к пище, боясь
всего и всех, проглатывая для вида несколько кусков. С еще большим
страхом он запивал их стаканом пива, которого в других обстоятельствах
мог бы выпить целую бочку. Но Винд не появлялся.
На помощь им пришла одна из официанток столовой. Она узнала
Залиня и подошла к нему с вопросом, почему давно не видно его приятеля
Винда.
- Уж не заболел ли он опять? - спросила она. - Прошлый раз, когда
он был болен, я дважды носила ему обед домой. Может быть, нужно
сделать это и теперь?
И тут, к удивлению и радости Грачика, нерастерявшийся Залинь
ответил официантке:
- О, я был бы вам очень благодарен!
- Спросите заведующего, если он разрешит, я сейчас же и снесу, -
сказала услужливая девушка.
Через десять минут, сопровождаемая Залинем, девушка привела его к
дому, все ставни которого были закрыты, и остановилась у крыльца:
- Боже мой! Почему же вы держите его в темноте?
- У него температура, и он не выносит света, - опять нашелся
Залинь. Он взял у нее судок. - Через часок я сам принесу его, - и,
щедро дав на чай, отпустил официантку.
К разочарованию Грачика, дом оказался пустым. По показаниям
соседей хозяева дома выехали на юг, пустив в дом какого-то рижанина.
Кажется, этого рижанина действительно звали Винд. Вчера соседи мельком
видели его выходящим из дома. Это было все, что удалось узнать
Грачику. Собаки вились вокруг крыльца, бросались то в одну, то в
другую сторону и возвращались. След Винда никуда не вел.
- Опытный черт! - не выдержал агент, сопровождавший собак. -
Сумел замести след. Если бы не сегодняшний дождь, мы, наверно,
обнаружили бы и средство, которым он посыпал свои следы.
Винд исчез. Грачику больше нечего было делать в Цесисе. Он велел
взять билеты себе и Залиню на ближайший поезд до Риги. Таким поездом
оказался таллинский. Открывалась приятная возможность проспать
несколько часов в мягком вагоне после бесплодной ночной беготни по
Цесису.
69. ПОКОЙНИКИ ВСТАЮТ, ЧТОБЫ ДЕЛАТЬ ДОКЛАДЫ
- Здравствуйте, - крикнул буфетчик прошедшему мимо столовой и
сделавшему вид, будто не узнает его, Винду. Впрочем, и самого-то Винда
буфетчик узнал не сразу. Куда девалась борода, где усы соломенного
цвета? Буфетчик уже повернулся было уйти с крыльца, где грелся на
солнышке, когда Винд остановился и, обернувшись, вежливо приподнял
шляпу. Его лицо выражало недоумение, и буфетчик понял, что обознался:
этот человек был темным шатеном, а Винд - блондин, да еще какой
блондин, словно его всего вымыли в молоке пополам с перекисью
водорода. От смущения - черты незнакомца были все же схожи с чертами
Винда - буфетчик рассмеялся. Несмотря на парадоксальность, этот
защитный рефлекс очень распространен. Бывает, что, едва спасшись
из-под колес проносящегося автомобиля, человек смущенно засмеется.
Буфетчик не был исключением. Глядя на незнакомца, он улыбался:
- А я ведь принял вас за Винда, - добродушно заявил он, - и
собирался вам сказать, что к нам заходил Залинь... Вот как бывает на
свете!.. Эдакое сходство!.. Уж вы извините. Буфетчик хотел еще
крикнуть этому человеку, что Винду снова понесли обед, но вовремя
сообразил, что случайному прохожему нет никакого дела до болезни и
аппетита какого-то Винда и промолчал.
Прохожий снова приподнял шляпу и молча поклонился. Он не спеша
скрылся за домом. Буфетчик уже не мог видеть выражения его лица,
когда, завернув за угол, прохожий остановился и, в третий раз сняв
шляпу, отер пот со лба. Это был Квэп. Он уже со вчерашнего дня заметил
на своей улице людей, слишком непринужденно прогуливавшихся мимо его
дома. Квэп знал цену этому чересчур независимому виду прохожих. И что
означало появление в Цесисе Залиня? Было оно связано с прогулками
любопытных вокруг дома Винда, или парень действительно хотел с ним
встретиться? Тут нужно было не семь, а семью семь раз отмерить, прежде
чем на что-нибудь решиться. Прикидывая так и эдак, Квэп сделал вывод,
что жизни в Цесисе пришел конец. Однако он не мог уехать, не завершив
дело, однажды уже сорванное Залинем. Это дело, вновь тщательно
продуманное и подготовленное, было залогом возможности оставаться в
Советском Союзе, выполнить то, что ему поручено, и живым выбраться за
пределы ненавистной страны.
Зайдя на почту, Квэп купил листок бумаги и конверт. Несколько
слов, которые он пошлет буфетчику с первым попавшимся мальчиком,
убедят буфетчика и всех, кто к нему обратится, - будь то Залинь или
кто иной, - в том, что послезавтра Квэп будет еще здесь.
"Любезный товарищ, мне показалось, что я видел на улице Цесиса
Мартына Залинь. Очень прошу вас, если оный Залинь зайдет в буфет,
передать ему, что я непременно буду у вас послезавтра вечером - к
ужину. Прошу Залиня ждать меня. Мне необходимо с ним переговорить".
Подумав, размашисто подписал: "С коммунистическим почтением ваш
покорный слуга Альберт Винд".
Теперь всякий поверит тому, что до вечера указанного дня Винд
останется в Цесисе. Кто догадается, что утром того дня он сядет в
поезд и исчезнет, раз навсегда разделавшись с именем Винда.
Нужно было передохнуть, прийти в себя и отправиться за Соллем -
преемником Залиня по роли, которую тому предстояло сыграть в жизни
Квэпа. Квэп пошел в городской сад и сел на скамью. У него не было
больше дома, где можно провести ночь. Глупо, отвратительно глупо!
Безрадостность подобной перспективы могло искупить только то, что это,
вероятно, последнее испытание, на последнем этапе его пребывания в
Советском Союзе. Больше он не позволит себе свалять дурака - браться
за выполнение того, что могут делать другие. Инга Селга уже на пути в
Советский Союз, об этом написано в газетах. Она и примет на себя всю
тяжесть дальнейшей работы. При этой мысли Квэп поднял брови и
рассмеялся: какую мину состроили бы господа из советских редакций,
если бы знали, что сообщение о "добровольном переходе" Инги Селга
предназначено ему, Арвиду Квэпу, и что эта особа едет сюда вовсе не
потому, что ее обуяла любовь к советскому отечеству, а потому, что ей
приказано поступить в его, Квэпа, распоряжение для самой широкой
диверсии, какая задумывалась за последние годы. К завтрашней ночи он
должен убраться отсюда - задание, полученное от Шилде, подготовлено.
Готовы взрыватели, заряды ждут в Риге. Ян Петрович Мутный получит
добрый совет укрепить собственное положение в промысловой кооперации
патриотическим мероприятием: объединение артелей по ремонту часов
должно сделать подарок новому стадиону латвийской столицы -
замечательные часы. Эти усовершенствованные приборы, установленные на
колоннах под трибунами, будут показывать публике не только время, но и
счет прошедших игр и число забитых мячей. Если бы не приезд Залиня и
не подозрительные любопытные вокруг дома, Квэп мог бы удовлетворенно
потереть руки. А вместо того он вынужден торчать на скамье, где
назначено свидание с Соллем. Он взглянул на часы: до прихода Солля
оставалось еще не меньше получаса. Квэп не допускал мысли, что Солль
может не прийти или предпринять что-нибудь, подобное бунту Залиня. На
этот раз Квэп применил совсем иной метод действий: он не запирал Солля
в доме, даже не стеснял его в хождении по городу, пока у Солля не
начала отрастать борода. Квэп полагался на то, что в отличие от Залиня
у Солля было чистое прошлое. Солль был тихоня, которого легко удалось
завербовать пустопорожними обещаниями. Наконец, - и это было очень
важным в глазах Квэпа обстоятельством, - Солль был эстонец. У него не
было тут ни близких, ни знакомых, и Солль достаточно плохо знал
латышский язык.
Если бы не радио, бросавшее в тишину парка свои каркающие вопли,
ничто не мешало бы размышлениям Квэпа. Но его натянутые нервы
болезненно реагировали на этот несносный шум, и, помимо собственной
воли, он отметил в очередном припадке красноречия репродуктора
знакомое имя Лаймы Зведрис. Поднял голову и настороженно прислушался.
Из репродуктора доносился подчеркнуто бодрый голос диктора, нимало не
схожий с голосом девушки из Краславы. Да и впрямь, совсем уж глупо
вообразить, будто может заговорить покойница! Вот что могут наделать
нервы! И все же хрип диктора заставил Квэпа заерзать на месте:
"Передаем слово Лайме Зведрис". Колючий холод пробежал по спине Квэпа,
колени задрожали отвратительной расслабленностью, которая хорошо
знакома трусам. Квэп с трудом заставил себя не вскочить со скамьи и не
броситься, куда глаза глядят. Усиленный репродуктором голос убитой им
Лаймы Зведрис гремел гласом архангела. С разных концов парка
доносилось уже не эхо, а голоса второй, третьей и пятой Лайм.
Между тем Лайма Зведрис говорила о том, как она изучила опыт
работы колхоза "Саркана Звайгзне" и как собирается передать этот опыт
своим товарищам в Краславском колхозе. Она выздоровела, снова работает
бригадиром, и ее доярки дают обязательство, освоив опыт доярок
"Саркана Звайгзне", увеличить удой на двадцать процентов. Во всем этом
не было ничего страшного. И вместе с тем каждое слово девушки
впивалось в мозг Квэпа раскаленной иглой. Скоро ее слова перестали
помещаться в его голове. Он слышал только ее тысячеголосый глас, все
бивший и бивший его по распухшей голове.
Вероятно, Квэп убежал бы от этого страшного места, если бы его не
окликнул Солль. Квэп растерянно оглянулся, и только вид собственного
костюма на плечах эстонца и широкое лицо, такое схожее с тем, что Квэп
ежедневно видел в зеркале, когда брился, заставили его остановиться и
протянуть Соллю дрожащую потную руку: милый Солль, он был заложником
его безопасности; один только Солль мог обеспечить Квэпу жизнь и
возможность бежать из СССР. Он заботливо усадил Солля на скамейку:
- Вот тебе денежки, - сказал он так, словно уговаривал ребенка, -
сейчас же иди, дружок мой, на вокзал и возьми билетики. Два билетика
до Риги... - И уже двинувшемуся было Соллю: - возьми мне мягкое, а
себе жесткое местечко. Слышишь? Ты понял меня, дружок: в разных
вагончиках... Смотри, не перепутай, дружок.
Он действительно думал, что так будет лучше: в мягком вагоне
меньше народу, меньше глаз, меньше ушей. К тому же мягкий вагон есть
только в таллинском поезде - меньше шансов попасть на глаза цесисцам,
набивающимся в свой цесисский поезд, как сельди в бочку. А уж разные
вагоны - это разумеется: пассажиры не должны видеть их вместе... Само
собой разумеется: не два Квэпа в одном вагоне!
Никому в Цесисе больше нельзя показаться. Голос Лаймы, наверно,
заставил всех и каждого сказать: "Ага, значит, девочка жива? Интересно
послушать, что она может сказать о происшествии в Алуксне". И садовая
скамейка была слишком ненадежным убежищем для человека, которым,
наверно, уже интересуется весь Цесис! Как хорошо было бы, если бы он
обладал силою гипнотизера. Он приказал бы Соллю явиться в милицию и
заявить, что он и есть Винд-Строд, добровольно сдающийся советским
властям. Не зря же Квэп старался сделать этого эстонца похожим на
самого себя!.. В милиции от Солля не могли бы добиться ничего, кроме
того, что внушил бы ему Квэп, а сам Квэп тем временем... Он поймал
себя на этих мечтах и рассердился. Теперь следовало думать только о
том, чтобы довести до конца дело с Соллем. Это было самым важным, от
этого зависело все остальное.
С тех пор как люди пользуются поездами, бытует убеждение, будто
железные ящики, поставленные на колеса, грохочущие и вздрагивающие на
каждом стыке рельсов, бросающие пассажиров из стороны в сторону на
всех неровностях пути; коробки, набитые сверху донизу чужими друг
другу людьми; коробки со скамейками более узкими, короткими и
жесткими, нежели домашние постели большинства едущих; коробки, в окна
которых летом врываются клубы удушливого дыма, зимой - морозный
сквозняк - будто эти несущиеся в пространство ночлежки - приятнейшее
место для сна. Сколько раз уже Грачик убеждался в порочности ходячего
заблуждения, будто в поезде хорошо спится, и все-таки, всякий раз
садясь в поезд, он тоже повторял: "Вот высплюсь".
Нынешнее путешествие не было исключением. Залинь услужливо
откупорил бутылки - одну с лимонадом, две с пивом - и предложил
Грачику подкрепиться бутербродами. Залинь выпил свое пиво и отправился
в жесткий вагон, чтобы "мало-мало добрать", а Грачик, напрасно
проворочавшись полчаса с боку на бок, принялся за книгу. Но вагон был
тряский, и книгу пришлось отложить. Оказалось, приятно пройтись по
платформе ближайшего разъезда - Арайши. Дорога была одноколейная,
разъезды маленькие, уютные, остановки длинные. Грачик постоял возле
паровоза, прошелся вдоль поезда, поинтересовался выставкой газетного
киоска - использовал все, что могло развлечь во время прогулки, и
после свистка кондуктора вернулся в свой вагон. На свободном нижнем
диване устраивался новый пассажир. Он приветливо поклонился Грачику и
с видом, говорившим, будто по первому требованию Грачика готов
покинуть купе, спросил:
- Ничего не имеете?
Но мысли Грачика были слишком далеко, чтобы обращать внимание на
любезности случайного попутчика. Поражение в Цесисе заставляло Грачика
уже не в первый раз шаг за шагом перебирать свой путь там и искать
ошибку, приведшую к неудаче. Его взгляд равнодушно скользил по
внешности соседа, разложившего на столике обильный завтрак. Две
большие булки были нарезаны толстыми ломтями, так же накромсана
колбаса. Пассажир запихивал все это в рот большими кусками. Было
видно, как куски перекатываются со стороны на сторону за его толстыми
небритыми щеками и непрожеванные проходят горло. Время от времени он с
жадностью отхлебывал из бутылки несколько глотков пива. Всякий раз,
как он отрывал горлышко бутылки от губ, несколько капель стекало по
его мясистому широкому подбородку, и он небрежно утирал их тыльной
стороной руки - большой, мясистой, покрытой веснушками. Мысль о
несоответствии этих веснушек цвету волос пассажира, невольно пришла
Грачику: волосы были темно-каштановые, они прямыми прядями спадали на
лоб и уши. У них был такой вид, словно уж бог весть как давно их не
касалось мыло. Такой же неопрятный вид был у ногтей соседа - широких,
плоских, с темными каемками по краям.
Платье соседа вполне соответствовало его внешности: помятое,
словно его обладатель спал не раздеваясь, оно казалось еще более
грязным.
Закончив завтрак, сосед сгреб со стола крошки в горсть и высыпал
в рот. Прежде чем выбросить колбасные шкурки, обсосал их. Потом взял
за горлышко бутылку и поглядел на свет. В ней оставалось пиво - совсем
немножко, может быть, всего один глоток. Он поболтал эти остатки и,
запрокинув голову, вылил себе в рот. При этом губы его вытянулись и
стали похожи на разинутый рот огромной рыбы.
Если бы впоследствии кто-нибудь сказал Грачику, что он наблюдал
за всеми этими манипуляциями, Грачик решительно запротестовал бы. Ему
казалось, что этого не могло быть уже по одному тому, что все в новом
пассажире внушало ему антипатию. Толстые, плотоядные губы, дряблые
щеки, подрагивающие при толчках вагона подобно желто-розовому студню.
Даже нос - (большой, мясистый, похожий на картофелину с потрескавшейся
кожурой, так много было на нем темных жилок, - и тот казался Грачику
особенно неприятным. И тем не менее, вспоминая потом эту встречу,
Грачик мог описать каждую деталь в костюме и внешности соседа и
рассказать все, что тот делал, во всяком случае до того момента, когда
сосед, запрокинув голову, допил пиво. Вид грязного шарфа, обмотанного
вокруг шеи незнакомца, показался Грачику особенно отвратительным. Он
встал и вышел из купе. Стоя в коридоре, он слышал, как на пол один за
другим упали ботинки пассажира. Вероятно, пассажир лег. Это
окончательно отбило у Грачика желание оставаться в купе. На первой же
остановке он опять вышел на платформу, а когда вернулся в вагон,
соседа в купе не было. Грачик снова взял было книгу, но читать не
пришлось: в дверях появился Залинь. Его вид говорил о крайнем
возбуждении. Прежде чем заговорить, Мартын затворил за собою дверь.
- Винд прошел через мой вагон, - выговорил он так, словно видел
привидение.
И тут, сам не зная почему, Грачик сразу понял, что речь идет о
человеке, сидевшем в его купе.
- Он вас видел? - быстро спросил он.
Залинь пожал плечами, как бы в сомнении, но Грачику было ясно:
парень попался-таки на глаза Винду.
- Он не должен от нас уйти, - сказал Грачик, перекладывая
пистолет из заднего кармана в пиджак. Грачик быстро шел впереди
неохотно следовавшего за ним Залиня. Прежде чем они миновали половину
второго жесткого вагона, Грачик почувствовал, как кто-то сильно
толкнул его в спину, и он, вытянув руки, полетел вперед по проходу.
Следом за ним с такой же стремительностью несся Залинь. Падали с
верхних полок пассажиры, гремели летевшие с сеток чемоданы, звенела
разбивающаяся посуда. И, хотя эта внезапная остановка могла иметь
тысячу причин, Грачик сразу решил, что она связана с тем, кого он
ищет. Залинь, упавший сзади на Грачика, так придавил его своим большим
телом, что пришлось ждать, пока Мартын поднялся на ноги. Тогда Грачик
вскочил и бросился к выходу. Он перепрыгивал через барахтавшихся
людей, через груды вещей. "Квэп"! - вот все, о чем он думал.
- Туда, туда! - крикнул он Залиню, показывая в сторону,
противоположную той, с которой сам спрыгивал на насыпь. Его взгляд
искал грузную фигуру соседа, бегущего прочь от поезда. Но под насыпью
никого не было. Вместо того, несколько человек бежали по бокам насыпи
в сторону, обратную движению поезда. Грачик побежал туда же.
Исковерканный труп человека, по которому прошло несколько
вагонов, лежал на путях. Родная мать была бы бессильна его опознать.
Грачик разглядел яркую полоску того самого синего в красную горошину
шарфа, который видел на соседе по купе. Он опустился на колени и, не
обращая внимания на протесты кондукторов, быстро обшарил карманы
убитого. В руках Грачика оказались две паспортные книжки. В них имена:
"Антон Строд", "Альберт Винд", Значит с Квэпом покончено!.. Тут он
услышал крик со стороны леска, расположенного вдоль железнодорожной
насыпи. Глянув туда, он увидел Залиня. Парень бежал к лесу. Грачик
прыгнул с высокой насыпи и тотчас очутился по пояс в болоте. Пока он
барахтался, Залинь уже вылез из болота и был возле опушки. Грачик
увидел в его вытянутой руке пистолет. Когда Грачик почувствовал
наконец под ногами твердую землю и что было сил побежал следом за
Залинем, со стороны леса раздались один за другим два выстрела. Еще
одно усилие - и Грачик был на опушке. Навстречу ему шел Залинь. Поймав
взгляд Грачика, обращенный на его руку, Мартын тоже посмотрел на
зажатый в своей руке пистолет. Он смущенно улыбнулся и протянул оружие
Грачику.
- Ушел... - виновато проговорил Залинь. - Винд...
- Винд убит, - и Грачик указал на группу людей, столпившихся
вокруг трупа.
- Что же, по-вашему, я стрелял в убегающего покойника? - с обидой
буркнул Залинь. - Это был Винд. И я попал, клянусь вам! Попал ему в
спину.
- Винд убит, - повторил Грачик.
- Нет, он ушел... Проклятое болото!..
Рабочие комбината встретили возвращение Силса более чем
сдержанно. Он понимал: иначе не могло и быть. Начать с того, что с его
бегством в Эстонию совпала крупная авария и не где-нибудь, а именно на
сетке. Совпадение было случайностью, но оно плохо выглядело. Силс не
обиделся, когда вместо прежней работы в цехе ему дали работу рядового
электромонтера. Грачик, наблюдавший за жизнью Силса, видел, как
нелегко ему в атмосфере отчуждения, и ясно представлял себе, как
осложнится еще положение, когда в С. появится Инга. Из-за Силса ей
придется испытать на себе все неприятности изолированности, которых в
свое время не испытали сами Силс и Круминьш. Это не будет на пользу
движению, одной из первых ласточек которого явилась Инга. Тень его
проступка падет на Ингу, и сердце ее вместо того, чтобы раскрыться,
может застыть. То, что Грачик находил Силсу десяток извинений, не
облегчало положения, удар оставался ударом. Его нужно было поправлять.
Таково было укорененное в Грачике Кручининым понимание воспитательных
и политических задач его службы: ведомственные шоры не закрывали
Грачику широких горизонтов жизни. За время общения с Кручининым
Грачику пришлось изучить большую порцию юридической литературы. Он
прочел и много воспоминаний деятелей правосудия и адвокатуры двух
столетий. Перед ним прошла галерея людей старых поколений с различными
взглядами, разного воспитания, стоящих на разных ступенях социальной и
иерархической лестницы. Но лишь у немногих он отметил то, что можно бы
назвать служением идее. В прошлом личности вроде Кони были алмазами,
затерянными в пучине болота, готового ползти в направлении наименьшего
сопротивления и наибольших доходов. Грачик покривил бы душой, если бы
в угоду формуле благополучия стал утверждать, будто и сейчас все
обстояло как нельзя лучше, будто ряды его профессии пополнялись только
героями с кристальными душами. Он лучше многих знал, сколько есть
чиновников, равнодушных к тому, что делается за рамками "вверенной" им
должности; сколько есть ведомственно патриотичных, но государственно
ограниченных людей, для которых беда начинается только там, где
происходит нарушение писаных параграфов. Грачик с отвращением слушал
довольных собою и жизнью бюрократов, равнодушно глядевших на
расточительство и формализм, если это прямо не запрещено предписаниями
высших властей. Грачик удивлялся прокурорам, полагавшим будто их
функции - взять за жабры нарушителя любых норм, но не их долг
сигнализировать об ошибочности самих по себе норм. Равнодушие к
зародышу безобразия, хотя бы этот зародыш содержался в самых
"законных" положениях, было противно Грачику. Были люди, называвшие
себя друзьями Грачика и советовавшие ему покончить с этой "опасной"
точкой зрения. Они считали более правильным смотреть на жизнь с
позиций параграфов. Оправданием такого рода советчикам служило
железное правило: законы и циркуляры пишутся наверху. А "верх" не
ошибается. И не дело внизу спорить с тем, что пришло с горы.
Закон не обязывал Грачика интересоваться судьбою подследственного
или свидетеля после того, как тот вышел из его кабинета. Закон не
вменял Грачику в долг воздействие на судьбу "перемещенных",
раскрывшуюся перед ним на примере одного из них. И некоторые коллеги
Грачика попросту улыбнулись бы химерической мечте изменить судьбу
послевоенной эмиграции силами маленького работника органов
расследования. Завет "толците, и отверзится вам" было неприлично
переводить на советское правописание уже по одному тому, что этот
завет был записан по церковно-славянски. Поэтому он оставался за
переплетом кодекса поведения. А Грачик именно решил толкать, пока не
отворится. Начать приходилось со смехотворно малого, с одного из тысяч
- с Силса.
- Опять твой Силс? - проворчал Кручинин, когда Грачик рассказал
ему о своем намерении вплотную заняться судьбой Силса. - Опять вера в
человека и прочее?..
Но скепсис Кручинина не смутил Грачика. Он знал, что вся эта
суровость, насмешливость и недоверие - лишь форма испытания меры
собственной убежденности Грачика в том, что он делал. Поэтому он с
уверенностью сказал:
- Душевные качества Силса - один из элементов общественной
функции, какая теперь на нем лежит. Люди на комбинате должны проявить
максимум терпения, максимум мягкости и доверия...
- Ты неисправимо прекраснодушен, Грач, - Кручинин сокрушенно
покачал головой. - Чего ты хочешь?.. Изо дня в день, устно и в печати,
в литературе, в кино и в театре мы требуем от людей бдительности, мы
вооружаем их против тех, кто держит камень за пазухой. А ты их
разоружаешь: доверчивость враг бдительности.
- Доверчивость не синоним доверия, джан.
- Доверие тому, кто его нарушил, - не слишком ли это? Я не верю
твоему Силсу. Глядя на вещи без сантиментов, мы должны признать, что к
нам засылались не лучшие из числа "перемещенных".
- Разве они виноваты в том, что стали тем, чем их сделали? -
горячо возразил Грачик.
- Я их и не виню - только констатирую: - их делали нашими
врагами. А по теории почтеннейшего дона Базилио, если очень стараться,
то кое-что всегда выходит, когда дело касается подлости. Таким
образом, хотят они того или нет, выгодно нам это или нет, но те, кто
падал к нам с неба при помощи иноземных парашютов, - не лучшая часть
человечества, в том числе "перемещенного" человечества. А я не
принадлежу к числу людей, воображающих, будто достаточно бросить
благие семена в душу человеческую, как тотчас взойдут цветы
благолепия. Дело не только, а может быть, и не столько в семенах,
сколько в душе. В такой душе, как, скажем, душа Квэпа, не вырастет
ничего пристойного, чем и сколько ее ни удобряй, ни обсеменяй.
- Силс - не Квэп! - сердито заявил Грачик.
- Но он его порождение. А ты нет, нет, да и глупеешь... Ну, ну,
не обижайся, я не то хотел сказать. Просто: наивность, когда она не в
шутку, тебе не к лицу.
- Вы предпочитаете цинизм? - исподлобья глядя на Кручинина,
спросил Грачик. При этом его обезображенное лицо приобрело почти
свирепое выражение. Кручинин еще не привык к этой новой внешности
молодого друга, и всякий раз, когда слишком пристально смотрел на
Грачика, ему начинало казаться, что тот прочтет в его глазах
сострадание. А это меньше всего подходило бы к их отношениям. Поэтому
Кручинин часто становился теперь сух там, где прежде этого не
произошло бы. Быть может, поэтому чаще, чем в прошлом, его голос
звучал насмешливо. Вот и сейчас он довольно жестко сказал:
- Я и не жду от тебя объяснения. Мне достаточно факта
существования удивительной аномалии. Обычно чем больше удаление от
предмета, тем он кажется меньше. Чем ближе к нему наш глаз, тем больше
предмет. Из-за зайца можно не увидеть слона, из-за спичечной коробки -
горизонта. А с человеком - наоборот. Чем мы от него дальше, тем он
больше, а по мере приближения к нему, становится все меньше. Стоит
сблизиться с ним так, что видишь каждую его черту - и его величие
редко сохраняет свою внушительность.
- Где мой славный, добрый, любящий людей Нил Платонович?!
- Не огорчайся, - добродушно заявил Кручинин. - Ежели того
требует польза дела, готов несколько поступиться своим принципиальным
недоверием. И хотя очень хорошо вижу твоего Силса, готов сделать вид,
будто верю... даже ему.
- В этом деле очень многое будет зависеть от Инги Селга.
Кручинин неопределенно усмехнулся и несколько мгновений молча
глядел на Грачика.
- А ты уверен в том, что эта особа... - Он не договорил. Грачик
боялся поверить тому, что могло скрываться за этой недоговоренностью:
- Вы на самом деле допускаете, что она?..
Ему тоже не нужно было договаривать, чтобы Кручинин его понял.
- Видишь ли, - подумав, ответил Кручинин. - Я не думаю, что те,
там, - безнадежные дураки. Они подлецы, а подлость почти всегда
порождает ошибки. Но только тот, кто самоупоенно не видит собственной
глупости, не замечает или, вернее говоря, не хочет признать за врагом
права на ум. Так легче свои ошибки и поражения выставлять не в
качестве последствия собственной глупости, а как результат коварства и
подлости врага. А подлость тоже ведь может быть умной. Хотя этот ум и
негативен - он остается умом, а не глупостью... Когда мне говорят, что
Инге Селга "удалось бежать"...
Не договорив, он сделал движение рукой, выражающее сомнение.
- Вывод, джан, вывод! - нетерпеливо потребовал Грачик.
- А ты сам не хочешь его сделать?
- Если она бежала, значит, они... ничего не имели против ее
бегства? - словно через силу выговорил Грачик.
- И может быть, даже имели кое-какие "за".
- Вы сами предостерегали меня от шпиономании, - вспылил Грачик.
- Шпиономания и критическое отношение к людям - не одно и то же,
старина. Одно - признак болезни психики, второе - признак ее
устойчивости.
Когда Грачик рассказал о происшествии с падением человека под
колеса поезда между Цесисом и Ригой, точнее - на перегоне Арайши -
Игрики, Кручинин с неподдельным удовольствием воскликнул:
- Преступник получил то, что ему причиталось. Палач казнил сам
себя.
- Вы имеете в виду Квэпа? - спросил удивленный Грачик.
- А кого же еще? Или тебе мало двух паспортов на одного?
Грачик пытался и на этот раз уловить в голосе Кручинина иронию -
ее не было. Неужели старый волк верит тому, что под колесами вагона
оказался Квэп? Ведь такая важная примета Квэпа, указанная портным
Йевиньшем, как татуировка на груди, отсутствовала у погибшего. А
судить о том, имелся ли на его шее характерный шрам от пореза
жестянкой, не было возможности: колеса поезда сделали свое дело -
привели тело в состояние полной неузнаваемости. Если бы даже
татуировка и была искусно сведена преступником, то рентгеноскопия
обнаружила бы ее следы в нижних слоях кожного покрова.
- А где уверенность, что не существует средства избавлять агентов
от старой татуировки, - спокойно возразил Кручинин. - Парадоксальный
факт: те, кому не хочется иметь никаких примет, оказываются
татуированными и подчас весьма фривольным образом. Понятно, что не
одна голова поработала над тем, как бы от этих знаков избавиться. Они
одинаково неудобны как шпионам, так и обыкновенным гангстерам. -
Кручинин снисходительно похлопал Грачика по плечу. Но от этого Грачику
только вдвое больше захотелось доказать, что человек под поездом - не
Квэп.
- Квэп блондин, светлый блондин, с усами соломенного цвета, а
убитый - не блондин.
- У него светлые волосы, - сказал Кручинин, - посмотри протокол.
- Протокол составлен на месте, а потом когда волосы, как обычно у
покойников, несколько отрасли, обнаружилось, что от корней пошли вовсе
не светлые, а совсем темные волосы, - возразил Грачик, довольный тем,
что может поймать Кручинина хоть на какой-нибудь неточности. - Убитый
красился перекисью водорода.
- Вот как? - с неудовольствием сказал Кручинин. Он готов был
поверить в правоту Грачика, но из педагогических соображений не хотел
это показать. Нужно было выставить Грачику все возможные возражения,
чтобы заставить его укрепить свои доводы. - Кто тебе сказал, что и
Квэп не красил волосы? Или Йевиньш бывал вместе с ним у парикмахера?
- Не один же Йевиньш видел Квэпа блондина.
- Правильно, Квэп едва ли выходил на плац, чтобы объявить о том,
что он фальшивый блондин.
- А зачем Квэпу шатену становиться блондином? - недоумевал
Грачик.
- Ты можешь дать ответ на вопрос: зачем тысячам женщин прекрасные
темные волосы, данные природой, превращать в безобразную паклю при
помощи той же перекиси? На подобные вопросы нет здравых ответов. Квэп
хотел быть блондином. Вот и все. Твой довод с потемнением волос трупа
у корней, как доказательство того, что это не Квэп, - для меня не
убедителен.
- Допустим... допустим... - неуверенно проговорил Грачик.
Кручинин, пользуясь его заминкой, беспощадно продолжал свое:
- И, наконец, Квэп был косолап. - И когда Грачик подтвердил его
молчаливым кивком головы: - А у этого трупа судебно-медицинская
экспертиза тоже обнаружила косолапость правой стопы, - заключил
Кручинин.
- Косолапость правой стопы?.. - машинально повторил за ним
Грачик... - да, да, конечно, косолапость правой стопы...
На этом закончился разговор: Грачик, казалось, сдался. Но при
словах Кручинина о косолапости убитого человека на правую ногу, ему
пришло на память, что левая нога пострадавшего была исковеркана
колесами и врачи не могли установить, не страдал ли обладатель
косолапостью на обе ноги? Возможная косолапость убитого на обе ноги
стала навязчивой идеей Грачика. Он уже не видел впереди покоя, пока не
узнает, была ли косолапость правой ноги удачным совпадением, которого
может быть нарочно искал Квэп, или она вовсе и не была
доказательством, так как убитый страдал общей косолапостью. Грачик
принялся за исследование этого вопроса: разыскал обувь убитого и, не
побрезговав надеть его ботинки, попробовал пройтись в них, разным
манером выворачивая ноги. Он тщательно изучил, какого рода снашивание
подметок и каблуков при этом происходит. Таким образом он установил,
что характер износа у обоих ботинок убитого один и тот же вследствие
косолапости на обе ноги. Это открытие разбивало доводы Кручинина. Но
Грачик не решился говорить об этом открытии, прежде чем оно не было
подтверждено экспертизой. Зато тогда-то он поспешил к Кручинину и с
видом победителя предъявил ему протокол экспертов, не заикнувшись о
том, что предварительно проделал всю работу сам. Кручинин как ни в чем
не бывало сказал:
- Ну что же, они правильно сделали, что произвели такое
исследование. Когда собрано все вместе: отсутствие татуировки,
искусственная окраска волос, двойная косолапость, я, согласен: погиб
не Квэп. Но тогда я спрашиваю: кто?
- Выясним и это, - уверенно ответил Грачик, делая вид, будто его
не задевает равнодушие, с каким Кручинин принял то, что самому ему
казалось важнейшим звеном в расследовании дела. - Погибший под поездом
- не Строд в не Винд. Ни с одним из этих паспортов больше не
скрывается преступник. Я вижу, как ему хотелось избавиться от этих
имен, от самого себя! - Грачик со страстью выговорил последние слова.
- А разве не вы твердили мне, что преступник, начинающий бояться
своего собственного "я", может считать себя пойманным?
- А как обстоит дело с твоим вторым протеже - с Залинем? - ни с
того ни с сего спросил Кручинин. - Ты выяснил, каким образом у него
очутился пистолет?
- Пистолет был у него спрятан в саду в Цесисе. В прошлый раз,
когда Залинь оттуда так поспешно бежал, он не успел его забрать и взял
на этот раз.
- Чтобы совершить еще какую-нибудь гадость? - скептически
проговорил Кручинин.
- Он говорит, что пистолет не был ему нужен, - с живостью
отозвался Грачик. - "Жаль было бросить "хорошую штуку".
- И этой "хорошей штукой" он угрожал бы первому, кто стал бы ему
поперек пути.
- Он уверяет, что собирался принести его мне или просто выкинуть
по приезде в Ригу.
- Жаль бросить в Цесисе, но не жаль выкинуть в Риге. Логично! А
что ты ему на это ответил?
- Попросил не болтать глупостей.
- Хоть один умный ответ!
- Да ведь не это же главное... - оправдываясь, ответил Грачик. -
Важно, что увидев убегающего Винда и погнавшись за ним с пистолетом,
Залинь понимал, что ему не миновать ответственности. И все-таки...
- Герой?
- Он так и говорит: решил ответить по 182-й, но не упустить
Винда.
- Ишь ты, и статью знает!.. А насчет "не упустить" странновато:
молодой парень, а не угнался за этой дрянью Квэпом.
- У Квэпа был большой фор - настойчиво защищал свое Грачик. - Нам
обоим пришлось пробираться болотом, а Квэп бежал по сухому. И все-таки
Мартын клянется, что не промахнулся. Если это так, то мы рано или
поздно отыщем раненого. Лечебные учреждения Риги и все практикующие
врачи предупреждены.
- А кто сказал, что Квэп явится в Ригу?
- Непременно явится! - убежденно мотнул головою Грачик. - Тут
легче всего скрыться, а он вынужден искать теперь наиболее верных
путей спасения. - И развивая линию своих размышлений: - Пуля
пистолета, из которого стрелял Залинь, очень интересна: медная
оболочка с усеченным конусом; оригинальный способ крепления к гильзе.
Снимок с пули разослан всюду. Любой врач, который извлечет такую пулю
из спины пациента, узнает ее. А как только мы ее получим, будет проще
простого доказать, что она выпущена из пистолета Залиня. И сам
пистолет тоже необычен, - оживленно продолжал Грачик, - характерная
особенность: номер выбит на внутренней поверхности патронника - при
выстреле на гильзе отпечатывается номер оружия, Каждая выстреленная
гильза получает паспорт.
- Это, конечно, занятно, - согласился Кручинин, - но в спине
Квэпа может сидеть только пуля, а не гильза. Значит, номер тут ни при
чем. Но и впрямь интересный пистолет. - И нельзя было понять,
действительно Кручинин заинтересован или смеется над Грачиком.
- Интересно это или нет, - начиная обижаться, отозвался Грачик, -
а у меня в руках важнейшее обстоятельство: Строд - это Винд, Винд -
это Квэп, Квэп - бывший палач, а бывший палач - убийца Круминьша. -
Кручинин внимательно следил за лицом Грачика, пока тот говорил: да,
его экзаменующемуся ученику достался трудный билет. Но Грачик тоже не
принадлежал к ученикам, которые легко дают себя сбить: - Мы
разыскали-таки дом, где жил Винд. В этом нам помогли сами жители. При
обыске обнаружено кое-что ценное.
- Наверно, деньги?
- Да, да, и деньги в разной валюте. Немаловажное обстоятельство,
работающее на меня: получить поддержку из-за рубежа ему больше не
удастся, надо искать деньги здесь у нас. Это куда сложнее. Но важнее
другая находка: тонкая прочная веревка, такого же характера, как та,
на которой был повешен Круминьш. Очень удобна для завязывания узлов.
- Может быть и от одного куска? - в сомнении спросил Кручинин.
- О, нет, - поспешил ответить Грачик. - Куплена в самом Цесисе.
Мы нашли лавку. Но дело не в этом, а в том, что на ней оказалась
отлично вывязанная, заранее приготовленная удавка - возможно та,
которую Квэп-Винд собирался накинуть на шею погибшему... - Грачик
сделал паузу, желая заинтересовать слушателя. - Узел на удавке завязан
теми же руками, что на шее Круминьша и на пакете в колодце, - руками
профессионального палача. Это - "узел Квэпа".
73. ДУРНО ВОСПИТАННЫЙ УЧЕНИК
По установившемуся между друзьями неписанному соглашению на время
обеда все деловые разговоры прекращались.
- Процесс пищеварения достаточно труден для организма сам по
себе, - говорил Кручинин, - чтобы не отягощать еще и мозг всякой
премудростью. Во время еды и с часик после нее разговор должен идти о
самых легких и приятных предметах. Совсем не глупо придумана музыка во
время обеда. Только скудоумные ханжи могут считать ее буржуазной
блажью.
А так как Кручинин очень любил жареную двинскую лососину, ел ее
со смаком, не торопясь и запивая солодовым портером, то обед друзей
обычно затягивался. Грачик с трудом выдерживал искус некасательства
дел. Зато как только миновал положенный час послеобеденного молчания,
он сразу принялся за продолжение прерванной беседы:
- Совершенно очевидно, - с уверенностью сказал он, - петля
предназначалась, чтобы прикончить второе или, точнее говоря, третье
"я" господина Квэпа. Он собирался довести до конца то, что не вышло с
Залинем. Квэп видел спасение в том, чтобы дать нам доказательство
своей смерти. Он считал, что в таком случае мы оставим его в покое и
на деле Круминьша будет поставлена точка. Мало того - каково было бы
отношение населения С. к советской службе расследования и
безопасности?! "Не сумели докопаться до истины! Преступник ушел!" Вот
что было бы заслуженной реакцией общественности на подобный финал
дела!
- Ты прав, ты прав... - отвечал Кручинин, хотя у него был такой
вид, будто он вовсе и не слушал Грачика, думая о чем-то своем.
А Грачик, не замечая этого, с увлечением продолжал:
- Квэп не успел симулировать еще одно самоубийство в петле. Его
модус операнди - петля душителя - дает отличную улику против
разбойника. Последовательность преступника...
Кручинин неожиданно поднял руку, повернутую ладонью к Грачику,
словно хотел остановить его стремительное движение по опасному пути.
- Понимаешь ли... Грач... - проговорил он медленно, как если бы
продолжал на ходу обдумывать слова. - Я сейчас пытался взвесить все
"за" и "против" этой самой "петли Квэпа". Конечно, модус операнди -
козырь: эдакий туз - душитель гитлеровской выучки. Своеобразно и
интересно... Но не кажется ли тебе странным: применив этот способ к
Круминьшу, Квэп повторяет его с Залинем и еще раз пробует применить
теперь? По-моему, это по меньшей мере неосторожно, а?
- Вы делаете Квэпу слишком много чести, подозревая его в
нарочитости.
- Ты угадал, Грач, - Кручинин с удовлетворением кивнул головой. -
Это я и имел в виду: Квэп хочет водить нас за нос этой петлей. И может
быть, вовсе не он ее оставляет на следу.
- Повторяю: вы о нем слишком высокого мнения!
- Если ты прав - значит, он окончательно утратил способность
рассчитывать свои действия. Просто стыдно, что мы с ним столько
времени возимся!
- Не "мы", а я, - возразил Грачик. - Один я виноват в этой
затяжке.
- Пойми, - настаивал Кручинин. - Залинь утащил веревку из-под
матраца. Заметил это Квэп или нет? Если заметил и все же прибег к
петле, - он идиот!
- Животное, а не идиот!
- Не оскорбляй животных, Грач!.. Я думаю, что Квэп не заметил
исчезновения веревки. Такое невнимание - это уже где-то у последней
черты, через которую ему остается перешагнуть, чтобы попасться.
- А что я вам говорил?! - радостно воскликнул Грачик. - Что я вам
говорил: он у нас в руках!
- У нас или у тебя? - с улыбкой спросил Кручинин, подойдя
вплотную к Грачику и глядя ему в глаза. Молодой человек прочел во
взгляде друга столько тепла и неподдельной отеческой радости его
успеху, что не нашелся, что сказать, только в смущении опустил голову,
чтобы не выдать овладевавшего им торжества.
- Сим победиши?.. - раздельно спросил Кручинин. - Не очень для
меня лестно: дать себя победить куском веревки подлого душителя. Но я
не в претензии... Теперь поскорее узнай, кто попал под поезд.
- Это уже не имеет прямого отношения к делу Круминьша, - ответил
Грачик, все еще охваченный радостью от поощрения друга, всегда такого
скупого на похвалы. При виде этой самоуверенности Кручинин нахмурился:
- Разве ты не сказал мне только что, будто Квэп у тебя в руках?
Вот-вот и ты его возьмешь.
- Сказал и повторяю.
- И взяв, не сможешь предъявить ему имени его третьей жертвы.
- Почему третьей? - удивился Грачик. - Круминьш - раз; этот под
поездом - два...
- Ты забыл Ванду Твардовскую. Разве не ради ее дела ты приехал
сюда?
- Мне так не хотелось отвлекаться... - виновато ответил Грачик,
опуская голову, и отвел глаза в сторону.
- Чем больше притоков впадает в реку, тем она многоводней. Чем
больше доказательств в руках следователя, тем убедительней обвинение.
А каждое доказательство, каждая улика, и тем более каждая жертва,
должны иметь имя. И только тогда, когда ты поймешь все до конца,
сможешь сказать, что первостепенно, а что второстепенно. Что же
касается жертв, на которых поднялись руки преступника, то их жизнь
всегда должна стоять перед тобой, как нечто, первостепенное чего уже
ничего и на свете нет.
К удовольствию Грачика, ему не пришлось тратить много времени и
сил для расследования случая на железной дороге. Дело обошлось без
него - милиция города Цесиса прислала в Ригу вполне законченное
дознание. По-видимому, Квэп действительно растерялся и начинал
утрачивать способность к заметанию следов. Это было закономерно: он,
как зверь, метался в суживающемся круге облавы и совершал ошибочные
ходы, которые должны были привести его под выстрел охотника.
Вкратце ход дела был таков: начиналось оно в Тарту, в Эстонии. В
одно из отделений тартуской милиции явилась некая Мария Солль с
просьбой отыскать ее исчезнувшего брата Густава, немолодого уже
человека, страдающего слабоумием. Его болезнь была зарегистрирована в
психиатрической клинике тартуского университета: гебефреническая форма
шизофрении. По свидетельству Марии Солль, Густав был подобен ребенку,
с которым подчас можно было делать что угодно, но обладал вполне
нормальным физическим развитием и даже привлекательностью. Он был
послушной игрушкой в руках женщин. Мария привыкла к тому, что он почти
никогда не бывал один, несмотря на то, что ни одна из его знакомых не
могла извлечь из него и десятка сколько-нибудь связных фраз. Быть
может, именно поэтому - по мере раскрытия его душевной неполноценности
- и происходила столь частая смена привязанностей. Но с некоторого
времени Мария, на иждивении которой находился Густав, стала замечать,
что у него появляются кое-какие вещи, которые он не мог приобрести за
свой счет. Сначала Мария заподозрила, что Густав заглядывает в ее
кошелек. Но это подозрение отпало, и вскоре она открыла источник его
доходов: Густава снабжала деньгами какая-то женщина. Марии удалось
найти эту женщину, и она решительно попросила не давать Густаву денег.
По акценту собеседницы Мария поняла, что имеет дело с латышкой. Она
очень не понравилась Марии - блондинка среднего роста, скорее худая,
нежели полная, она имела очень нездоровый, потрепанный вид. Она
говорила с Марией, не выпуская изо рта сигарету. Когда догорала одна,
она сразу закуривала следующую. К тому же от нее довольно сильно пахло
вином.
Прошло немного времени, и Густав исчез. Мария обратилась в
милицию. Поиски оказались тщетными; а через некоторое время Мария
получила от Густава открытку: он сообщал, что нашел легкую работу,
"скоро станет богат и известен на всю страну". На марке стоял штемпель
"Цесис".
Исследование архива цесисского телеграфа дало в руки дознания
нить: со временем исчезновения Густава Солль из Тарту совпала
телеграмма до востребования в Цесис на имя Альберта Винда, гласившая:
"Завтра приеду вместе Соллем". Становилось очевидным, что Солль был
отвезен к Винду. Изучение материала привело Грачика к выводу, что по
поручению Квэпа его сообщница нашла в Тарту Солля, который, будучи
убит, мог сойти за Винда. После приезда Солля в Цесис Квэпу оставалось
завершить маскарад, который однажды уже был проделан с Залинем. На
этот раз объект был выбран прекрасно: податливость подобного ребенку
Солля обеспечивала любой вариант убийства. Еще одна деталь: Солля
завербовала латышка - блондинка среднего роста; много курила, и от нее
всегда пахло вином. Грачик почти не сомневался: речь шла о Линде
Твардовской, хотя доказательств этому у него и не было. Рассказывая
обо всем этом Кручинину, Грачик сконфуженно улыбнулся:
- Воображаю, как она издевалась в душе надо мной - простофилей,
дважды являвшимся к ней в дом и дважды выпустившим из рук ее и важный
след преступника! Ведь второй-то раз я упустил не только ее, а и
самого Квэпа... Помните окурок, взятый мною на мызе? - С этими словами
Грачик вынул из шкафа кусок порядком подсохшего туалетного мыла.
Кручинин с привычной осторожностью взял его и повертел в руках.
- Ну-с, мыло, дрянное мыло, так называемое земляничное мыло,
старое мыло... - меланхолически ворчал Кручинин. - Какой-то дикарь
пытался им позавтракать...
- Вот именно, - обрадовано отозвался Грачик, - кто-то его
надкусил.
- Фу, гадость! - и Кручинин брезгливо отложил мыло. Даже сделал
пальцами такое движение, словно отряхивал с них грязь.
- Напротив, прелесть! - возразил Грачик. - Мыло взяли при обыске
в "доме Винда". Какие молодцы цесисские товарищи. Ведь мыло-то
надкушено тем же, кто курил на мызе.
- Ого! - лаконически воскликнул Кручинин, и Грачик уловил в его
глазах редкий огонек удовольствия, граничащего с восторгом. - Давай-ка
сюда всю эту пакость.
Кручинин любил сам удостовериться в такого рода вещах. Он с
интересом прочел заключение эксперта и в лупу осмотрел окурок и мыло.
- А ну-ка! - воскликнул он, оживляясь, как ищейка, напавшая на
потерянный было след, - ну-ка, ну-ка, давай сюда то вервие, что было
найдено у Винда.
На минуту Грачик опешил, но тут же поняв все, крикнул в полном
восторге:
- Вот уж поистине, джан, кто идиот, так это я! Гадал, гадал:
зачем он его откусывал? Как можно было не догадаться об этом, имея
дело с палачом, да еще с "автором" патентованного узла для повешения.
Грачик вынул из шкафа вещественных доказательств веревку,
найденную под тюфяком Винда-Квэпа в Цесисе, и Кручинин с жадностью
поднес ее к носу. При этом лицо его выражало такое удовольствие,
словно он нюхал букет цветов. Еще раз втянув воздух, передал веревку
Грачику:
- Милый мой, благодари наших парфюмеров: этот мерзейший запах
держится сто лет.
Теперь и Грачик мог убедиться: веревка издавала ядовитый запах
мыла, именуемого в парфюмерной промышленности земляничным!
- Спасибо цесисским товарищам! - с удовлетворением сказал
Кручинин. - Кстати, ты поблагодарил их за помощь? - И укоризненно
покачал головой при виде смущенной физиономии Грачика: - Что за
странные манеры у вас, у нынешней молодежи. Ведь если бы не цесисцы,
ты никогда не получил бы в руки таких вещественных доказательств, как
это вервие и мыло. Наконец, ты не мог бы доказать уже сейчас, что
окурок был в зубах Квэпа и что, следовательно, Квэп был на мызе у этой
бабы... А ты?
- Mea culpa! - сконфуженно произнес Грачик любимое выражение
Кручинина.
- Ты виноват перед товарищами из Цесиса и передо мной, -
недовольно заявил Кручинин. - Если ученик дурно воспитан, значит, плох
учитель.
Он еще раз укоризненно покачал головой и, погрозив пальцем
окончательно смущенному Грачику, неожиданно наградил его крепким
ударом по спине.
74. СУДЬБА ВАНДЫ ТВАРДОВСКОЙ
Грачик готов был плясать от восторга.
- Если бы это было мне к лицу, при моем ничтожестве, о учитель
джан, - шутливо проговорил он, склоняясь перед Кручининым, - то была
бы моя очередь воскликнуть: "Сим победиши!"
- За это ты должен дать мне подробный отчет о происшествии с
дочкой Твардовской. Сдается, что ты вовсе забыл о ней.
Грачик рассмеялся.
- Значит, еще не все пропало! - воскликнул он с торжеством, -
значит, я хорошо перенял вашу манеру хранить секреты и "волноваться с
равнодушным видом". Кажется, так вы меня учили?
- Так, так! Но в чем же дело? - нетерпеливо ответил Кручинин.
- А в том, учитель джан, что не проходило дня, когда бы я не
получал сведений о состоянии Ванды. Клиника слала мне бюллетени ее
здоровья, как если бы она была принцессой крови. И не было недели,
чтобы я не спрашивал Москву, а нельзя ли допросить Ванду?..
- Ах ты, дрянной притворщик! - крикнул Кручинин, награждая
Грачика крепким щелчком в лоб. - Вот тебе! Говори скорее, что же с
нею?
- С Вандой?.. Это один из тех случаев, когда вам представляется
еще одна возможность посмеяться надо мной или, наоборот, умилиться
своему искусству воспитывать себе смену.
- Смена - это ты?
- Речь идет о смене вам - чародею.
- Я-то никогда не претендовал на бессмертие, но у тебя видать не
все ладно по линии мании величия. Смотри, как бы не пришлось просить
психиатров заняться твоею особой! Однако шутки в сторону: случай с
юной Твардовской достаточно мрачен. Она еще не умерла?
- Жива. Но это ничего не дало для дела.
- В отличие от тебя, дружище, я умею радоваться не только пользе
дела, а и тому, что спасена молодая жизнь хотя бы и совсем
"бесполезной" для дела девушки... Выкладывай по порядку!
Грачик призадумался на минуту и с сосредоточенным видом стал
докладывать так, как если бы стоял перед строгим начальником:
- Действие сульфата таллия оказалось очень затяжным. Ванда
получила, видимо, здоровую дозу этого яда, хотя и недостаточную для
смертельного исхода. Причина та, что она поделилась своим бутербродом
и чаем со случайной попутчицей. И все же яд оказал на Ванду одно из
своих самых неприятных действий: поражена центральная нервная система.
- И таким образом она выпала из игры как свидетель.
- Да - ни одного цельного показания в течение нескольких месяцев.
Врачи ее очень оберегают. Но хорошо, что дело Ванды Твардовской
оказалось одним из обстоятельств большого и важного политического дела
Круминьша. Слово за словом, очень осторожно, не перегружая больную, мы
узнали, что у ее матери Линды Твардовской есть друг. Неожиданно для
себя она проследила мать на свидании с человеком, имени которого не
знала и которого никогда прежде не видела. Свидания матери происходили
втайне. Но однажды - заметьте: по датам это совпадает с последними
днями перед смертью Круминьша - этот неизвестный - крепкий блондин,
средних лет, мрачный, неразговорчивый, очень грубо обращавшийся с
Линдой Твардовской, - явился к ним в дом. Кроме наружности Ванда
описала и его костюм: "рябое" пальто и ботинки с очень узкими,
длинными носами... Если бы я знал это раньше!.. В комоде матери
хранился пистолет. Этот пистолет исчез после того, как у них побывал
Квэп. Все это не понравилось девушке. Она решила переговорить с
матерью. Между ними разыгралась тяжелая сцена. Мать плакала и умоляла
Ванду никому не проговориться о появлении ее знакомого. Линда сказала:
- Ты уже не ребенок и сама понимаешь... Это мой давний, давний
друг... Это - мой муж.
Оказалось, что мать сошлась с ним еще во времена гитлеровской
оккупации. Девочки тогда не было в Риге. Ее перед самой войной
отправили погостить к знакомым в Ленинград. Там ее и застала война. Ее
эвакуировали с другими детьми в глубь страны. Пять лет она прожила у
родителей подруги. И вот теперь сказалась вся разница мировоззрений
матери и дочери. Они очутились по разные стороны барьера. Воспитание
дочери сделало ее советским человеком, юным, но уже преданным стране и
своему народу существом. А мать... мать совершенно явно находилась в
сетях вражеской агентуры.
- Тяжелая ситуация, - сочувственно покачал головою Кручинин.
- Девушка очутилась перед дилеммой: внять мольбам матери и
молчать, как говорила Линда "не губить ее", или исполнить свой долг и
открыть, что в доме у них нашел себе приют подозрительный человек.
- Да, да, очень тяжелая ситуация, - повторил Кручинин. - Он
говорил негромко, как будто с самим собой. - До последнего времени
кое-кому все это представлялось простым: существует статья 5812, -
остальное, мел, ясно само собой. А душевной драмы одной такой девочки,
как Ванда, Шекспиру хватило бы на хорошую трагедию. Мы очень упрощаем
такие вещи. Ведь это огромное поле для кропотливой и почетной работы
воспитания новых взглядов, новых чувств - подлинно советских, чистых.
Тут можно, конечно, столкнуться с трудностями, которые заставят
призадуматься самих творцов кодекса, а не только объектов его
действия. Ведь это же люди, живые люди со своими мыслями, с большими
чувствами, с сомнениями, с любовью, с привязанностями. Просто сказать:
"закон повелевает!" А где черпать силы для его соблюдения? В
патриотизме? Так нужно же этот патриотизм воспитать.
- Вы говорите странные вещи... - начал было Грачик, но Кручинин
не дал ему кончить:
- Знаю, знаю: воспитующая роль школы, печати, литературы. Все
так. И все это очень сильно. Но тут, мне кажется, выпало одно звено,
которое, к сожалению, часто декларируется без учета реальности. Я
говорю о семье, о той самой семье, за укрепление которой борется
партия, которой мы стремимся дать все возможности для нормальной жизни
и развития. Мы должны сделать и сделаем то, чего простой человек не
может добиться в условиях капитализма - собственный, неотъемлемый
кров. Человек должен иметь прочное гнездо.
- Вы верите, что государству сейчас до такого... гнезда? - С
некоторым сомнением спросил Грачик. - Средств хватит на то, чтобы
такими темпами создавать главное - индустрию, и тут же распыляться на
это вот - "гнездо"? Кто же это может - какая партия, какое
государство?
- Наша партия, наше государство! Как будто главное для нас не
"человек"! Как будто не для него и все, что делается и будет
делаться?! Человек зачинается в семье. Он формируется в семье. Из
семьи он выходит в свет. Семья должна, должна иметь площадь, чтобы
собраться; чтобы все ее члены сели за стол хотя бы за ужином; чтобы
они все вместе посидели перед приемником или телевизором; чтобы мать
почитала маленьким детям сказку; чтобы отец по душам поговорил со
старшим сыном о том, что творится на белом свете; чтобы дети
рассказали родителям о своих успехах; чтобы они могли поделиться
своими горестями. А юношество?.. Где ему встречаться друг с другом?
Что же удивительного, что улица, как ядовитая губка, втягивает нашу
молодежь и разлагает ее. Мы должны с этим покончить. Тогда и нашему
брату работы убавится.
Грачик в сомнении покачал головой:
- Вы же только что сказали о положении Ванды Твардовской:
"тяжелая ситуация". Значит, вы сами признаете, что...
- Конечно, признаю, - снова перебил Кручинин, - кто же не
признает, что именно наше воспитание дает молодым людям крепкую базу
для того, чтобы почувствовать себя сынами своей страны. Это бесспорно.
Но если бы не школа, если бы не организованное общество - от октябрят
до партии, - что бы это было?
- Знаете что, - неожиданно рассердившись, перебил Грачик, -
по-моему, уродливая юность формируется не в трудовой семье, не там,
где отец весь день на заводе, а мать у плиты или в мастерской, а
именно там, где мамаша торчит дома или шатается по комиссионкам;
именно там, где папашин автомобиль привозит юного принца крови в
пьяном виде домой. Большинство стиляг - порождение семей обеспеченных,
а не строго рассчитывающих трудовые рубли. Ветреные девчонки в
нейлоновых паутинках - не дочери рабочих!
- Конечно, существуют у нас и такие уродливые семьи, - согласился
Кручинин. - Есть и такие мамаши и папаши. Так это же уроды! А здоровое
общество исторгает уродов или лечит их. Вылечим и это уродство. Народ
- хозяин заботливый и бережливый.
- Но иногда несколько неторопливый и, увы, подчас расточительный.
- Народ не может быть и не бывает расточителен! - с негодованием
возразил Кручинин. - Народ знает цену копейке. Его копейка - это его
пот. Расточительствуют только плохие доверенные, которые не знают цены
труду. Другое дело, что они швыряют деньги, прикрываясь именем народа.
Но народ здесь ни при чем. Он мудро бережлив.
- Сколько раз я давал себе слово уйти в ОБХСС. - Грачик поднял
сжатый кулак. - Большое дело и такое чертовски нужное!
- Да, чистота общества - довольно сложная вещь, - со вздохом
сказал Кручинин. - Тут нужен срок да срок.
- Я-то согласен ждать...
- Но не ждет твое дело? Тоже верно. Вопрос об отношении этой
Ванды Твардовской к проблеме "семья и государство, любовь и
обязанность" - для тебя вопрос сегодняшнего дня,
- Нет, вчерашнего! - отрезал Грачик, возвращаясь к прерванной
теме. - Ванда сказала матери, что ставит ей условие: запретить чужому
человеку бывать у них или... или она пойдет и все расскажет властям.
Но это, как мы видели, стоило ей очень дорого... Разве не ясно: Линда
передает разговор Квэпу. Тот не долго колеблется - дочь должна
исчезнуть с их горизонта. Она может помешать плану диверсии. Можно,
конечно, представить себе драму, происходящую на этой почве между
Линдой и Квэпом. Все-таки - мать. Тигрицы, говорят, и те любят своих
детенышей.
- Ванда, кажется, не тигренок... - возразил Кручинин. - С твоих
слов она стала мне симпатична.
- И в самом деле очень приятная девушка: умница, кажется, с
хорошим сердечком. И собою - хоть куда.
- Но, но - ты не туда глядишь! Экий ты... право! От южного
солнца, что ли?
Грачик досадливо отмахнулся, но лицо его отражало скорее
удовлетворение чем смущение, когда он продолжал:
- Вероятно, происходит спор, и мать, наконец, усылает Ванду из
Риги. Как выясняется, старые ленинградские друзья девочки, у которых
она воспитывалась всю войну, - на юге. Обмен телеграммами. Ванде
покупают билет на самолет. Квэп не жалеет денег, лишь бы скорее
избавиться от девушки. В Москве предстоит пересадка на Сочи. Мать
готовит завтрак в дорогу. Приготовляет термос с чаем. Крепкий и
сладкий чай, как любит Ванда. Квэпу ничего не стоит ввести сульфат
таллия в булку, начиненную ветчиной, и в чай. Доза достаточна, чтобы
убить девушку. Квэп боится ее: она может сболтнуть лишнее и в пути, и
своим друзьям в Сочи, и вообще она совершенно лишняя в схеме его
жизни. Он вносит Ванду в список пассажиров самолета под чужим именем и
выкрадывает у нее документы. Если бы не телеграмма в дырявом кармане,
мы не смогли бы узнать, к кому девушка летела на юг.
- Дальше все просто, - согласился Кручинин.
- Не так-то просто, - возразил Грачик. - Мать Ванды тотчас по
отлету дочери съехала с квартиры в Задвинье и больше в Риге не
прописывалась. Лишь только теперь, когда мы узнали, что наша знакомая
со старой мызы это и есть Линда Твардовская, мы смогли понять, что
между делом Круминьша и покушением на убийство девушки существует
связь.
- И ты построил свою версию? Эх, Грач, Грач! - в голосе Кручинина
звучало разочарование. Не глядя на Грачика, он надел шляпу и вышел.
Если бы это повествование не было отчетом об истинном
происшествии, то автору, может быть, и не было бы необходимости
тратить время самому и отвлекать внимание читателей на знакомство с
таким эпизодическим персонажем, как ночная гардеробщица гостиницы
"Гауя" Эмма Крамер. Но, хотя Эмма Крамер была действующим лицом
второго, а может быть и третьего, плана, она сыграла свою роль в деле
Круминьша. Она одна из тех тоненьких, но необходимых спиц, без которых
все дело расследования, может быть, и не смогло бы продвинуться с
таким успехом, с каким это произошло, и потребовало бы большего
времени для своего производства. Такими незаметными спицами в
советской системе борьбы с преступлением являются граждане.
Действенная помощь каждого советского гражданина в работе розыска и
органов безопасности - залог их успеха. Эта особенность нашей системы
была верно подмечена и хорошо охарактеризована еще Феликсом
Дзержинским в известном эпизоде с красноармейцем, явившимся незаметным
и даже, пожалуй, невольным героем некоего важного разоблачения.
Эмма Крамер, сделав свое открытие, меньше всего думала о том, что
явится героиней целого этапа в расследовании важного дела. Она, как
обычно, на своем ночном дежурстве чистила верхнее платье постояльцев.
Эмма была трудолюбива и бескорыстна. Ей и в голову не приходило, что
кто-нибудь из жильцов должен поинтересоваться, почему его пальто,
запыленное или забрызганное грязью с вечера, наутро оказывалось
чистым. Она не считала, что делает лишнее, пришивая повисшую на нитке
пуговицу пальто. Правда, она не стала бы делать этого для дам, но
мужчин считала существами беспомощными и требующими ухода за собой.
В ту ночь, о которой идет речь, Эмма, перечищая висевшее в
гардеробе платье, дошла и до драпового пальто номера триста
семнадцатого. И то, что одежда принадлежала жильцу семнадцатой комнаты
третьего этажа, и то, что пальто было не по сезону теплым, говорило
Эмме, что постоялец не из богатых. К вещам таких людей она относилась
с особым вниманием, хотя и возни с ними бывало больше, чем с другими,
более нарядными, соответствующими сезону новыми вещами. Когда Эмма
водила щеткой по полам весьма не нового пальто "Э 317", конец полы
загнулся и больно ударил ее по пальцу. А пальцы у Эммы, простуженные в
годы оккупации, были очень чувствительны. Она с досадой отдернула
руку, но потом ощупала полу, чтобы поглядеть, что причинило ей боль.
Между драпом и подкладкой прощупывалось что-то твердое. Форма этого
предмета была ей незнакома - маленький, вроде продолговатого
цилиндрика. Решив, что этот предмет при случае может причинить боль и
владельцу пальто, если ударит его на ходу по ноге, Эмма подпорола
подкладку и вынула нечто, чего меньше всего ждала в те дни, в мирной
обстановке своей тихой гостиницы: настолько-то Эмма была в курсе дела,
чтобы безошибочно сказать: "пуля!"
Эмма осмотрела карманы пальто - они были без дырок. Значит, пуля
не провалилась из кармана. Может быть, на этом интерес Эммы к находке
и погас бы - мало ли для чего человеку может понадобиться старая пуля.
Например, мальчишки собирают их на грузила для удочек. Но, продолжая
чистить пальто, Эмма сделала второе открытие: на спине пальто
оказалась дырка. Подумав, Эмма просунула в нее свою находку, и пуля
упала вниз, в пространство между сукном и подкладкой. Тогда Эмма снова
вынула ее в пропоротое уже отверстие и положила уже не в карман пальто
"Э 317", а в собственный фартук.
Утром, когда окончилось ее дежурство, Эмма отправилась на
перекресток улицы Кирова, Свердлова и Стрелковой - туда, где стоял на
посту единственный знакомый ей милиционер. Он регулировал движение на
этом сложном тройном перекрестке. В глазах Эммы он был больше
милиционер, чем любой другой милицейский работник Риги. Вечером,
проходя на дежурство, Эмма раскланивалась с этим человеком и утром,
возвращаясь с дежурства, она тоже раскланивалась с ним. Она не могла
устоять против теплоты, разливавшейся по всему телу, когда видела
этого стройного франта, с рыжеватыми бачками, спускающимися по щекам,
с талией, туго стянутой широким поясом. Все на этом милиционере
выглядело красиво и нарядно. Даже кожаная сумка, простая кожаная
сумка, где лежали квитанции для штрафов с нарушителей уличного
движения, выглядела так, как будто это была гусарская ташка, как их
рисуют на картинках. А сколько было ремней, ярко начищенных и
казавшихся лакированными, они перепоясывали в разных направлениях
мундир этого человека!.. А блестящие сапоги, а лихо сдвинутая на ухо
фуражка!.. Боже правый, бывают же на свете такие мужчины! Эмма была
рада тому, что у нее есть законный предлог не только раскланяться с
таким красавцем, а и посоветоваться о деле, в котором он должен
понимать больше всех. Она показала ему пулю и тут же получила точное
указание, в какую из комнат расположенного поблизости отделения
милиции следует обратиться. Эмма не подозревала важности своей находки
и только почувствовала большое облегчение, когда все было закончено и
она сдала пулю уполномоченному уголовного розыска. (Род полевой сумки,
нарядной с виду; она входила в форму гусар.)
Пуля не доставила бы уполномоченному никакого удовольствия, если
бы накануне того дня во все учреждения милиции не было разослано
предупреждение, о котором Грачик говорил Кручинину. Сравнив полученную
от Эммы пулю с изображением пули от пистолета Мартына Залиня,
уполномоченный доставил ее Грачику. Тотчас оперативная машина
помчалась в гостиницу "Гауя".
Приложив палец к губам, Эмма показала Грачику пальто, висевшее на
вешалке Э 317. При взгляде на него Грачик едва удержался от возгласа
торжества: в его воспоминании встал старый рыбак с протоки у озера
Бабите: "Отличный пальто, серый пальто, совсем ряпой пальто". Вот оно
- тут, перед глазами Грачика это "ряпое" пальто, о котором упомянула и
Ванда Твардовская.
Он подошел к вешалке и отогнул лацканы пальто. На внутренней
стороне воротника виднелся шелковый ярлык: "Ателье Э 3. Одесса". Мог
ли Грачик на этот раз не вспомнить, что блокнот в кармане утопленника
был тоже одесского происхождения? Разрозненные нити дела, идущие с
самых различных сторон, сплетались в крепкий узел, который не под силу
будет разорвать никакому Квэпу.
Эмма Крамер указала дверь, за которой слышался могучий храп.
Грачик без стука нажал ручку. Дверь оказалась незапертой, и все
четверо - двое оперативных работников, Грачик и дежурный
администратор, в качестве понятого, протиснулись в комнатку. Спавший
на диване человек нехотя спустил ноги на пол. Он и не думал бежать или
сопротивляться - только в недоумении глядел на вошедших. Это был
здоровенный пожилой мужчина с седою щетиной на небритых щеках
загорелого лица. В нем не было ни малейшего сходства с тем, кого
Грачик видел у себя в купе. Предъявленные постояльцем документы
говорили о том, что он является Онуфрием Онуфриевичем Дайне,
председателем колхоза "Тридцать шестой октябрь" Сигулдинского района.
Драповое пальто, в котором он приехал в Ригу, получено им в обмен на
собственную кожаную тужурку от не известного ему человека. Незнакомец
предложил совершить этот обмен на разъезде Пичукалнс, когда Дайне ждал
рижского поезда. Обмен устраивал Дайне. Единственным дефектом пальто
оказалась небольшая дырочка на спине, обнаруженная им уже в поезде.
Дайне не видел в этом большой беды - жена заштукует дырку так, что и
не заметишь! Увидев предъявленную ему пулю, Дайне удивился такому
приложению к пальто. Справки подтвердили личность предколхоза. Нашлись
даже свидетели обмена пальто; описанная Дайне и свидетелями внешность
владельца пальто вполне подходила к портрету Квэпа-Винда.
Из всего этого можно было сделать первый вывод: патроны в
пистолете Залиня были уже так стары, что пуля, пронизав толстый драп,
утратила пробивную силу и осталась под подкладкой. Это не удивило
Грачика - случай не был первым в истории криминалистики. Но он сделал
и второй, гораздо более важный вывод: Квэп щеголял теперь в тужурке
Онуфрия Онуфриевича Дайне.
76. ВСЕ ОБСТОИТ ВЕСЬМА СЕРЬЕЗНО
Грачик и Кручинин сумерничали в задвинском домике Грачика.
- Я все больше убеждаюсь в хорошей работе здешней милиции, -
сказал Кручинин. - Работящий и пунктуальный народ. Великое дело
пунктуальность. Ругаем мы немецких аккуратистов, а того не хотим
понять: аккуратность, даже немецкая, вовсе не порок. Алексею Толстому
легко было высмеивать немецкую "цирлих манирлих ганц аккурат", а
сколько сил нам приходится тратить, чтобы приучить своих работников к
этому самому "ганц аккурат", хотя бы в самом его начальном и
примитивном виде...
Грачик понял, что услышит сейчас лекцию о значении точности в
работе розыска и следствия, оснащенную десятком хороших примеров. Но
лекция не состоялась: ей помешал телефонный звонок. Грачик снял
трубку. Уже по тому, как осветилось его лицо при первых словах,
услышанных в трубке, Кручинин понял, кто его собеседник. Кручинин
прищурился, как всегда, когда хотел ничего не упустить в переживаниях
наблюдаемого лица. Исподлобья следил за тем, как Грачик то сдержанно
улыбался, сочувственно кивая, то становился серьезен. При этом лицо
Грачика оставалось неизменно теплым, освещенным внутренней радостью.
Кручинин в недоумении задал себе вопрос: с чего это началось? Неужели
он пропустил момент, когда нужно было отдалить друг от друга Грачика и
Вилму? И был ли этот зевок ошибкой или лучше, что все случилось именно
так, как случилось? Помнится, он отсоветовал Грачику ехать на вокзал
встречать Ингу и Вилму. "Тебе неудобно при твоем положении в деле
Круминьша", сказал он Грачику и поехал с Силсом. Но на следующий же
день сказал себе: "Нужно их познакомить. Вилма заинтересует Грача".
Да, именно так и подумал: "она его заинтересует". Только так, не
больше. А что вышло?.. Не слишком ли она его заинтересовала?
Обманывает ли Кручинина эта улыбка, разливающаяся по лицу Грачика
всякий раз, когда он видит Вилму и даже когда слышит ее голос по
телефону? Кручинин не думает, чтобы этот внутренний свет мог
загораться в его Граче так, ни с того ни с сего, от простого делового
интереса к сестре Эрны Клинт... А может быть, это ревность с его,
Кручинина, стороны?.. Тогда кого же он ревнует: эту подвижную рыжую
женщину, донельзя похожую на Эрну, к своему Грачу или Грача к Вилме?..
Кручинин задумчиво глядел мимо головы Грачика в окно. Там, сквозь
поредевшую сетку опавшего хмеля, пробивались лучи заходящего солнца.
Можно было подумать, что Кручинин со вниманием изучает строение
отсвечивающих багрянцем последних листьев или следит за игрою света в
капельках дождя, висящих на них. Капельки светились, как льдинки, в
лучах скупого солнца. Это зрелище действительно могло заинтересовать и
меньшего любителя природы, нежели Кручинин, но именно он-то на этот
раз и не замечал ни зари, ни хмеля, ни игры водяного тумана. За всем
этим - далеко, далеко, за десять длинных лет отсюда, он снова видел
ворота концлагеря и худую женщину в полосатой куртке, с рыжими вихрами
волос, торчащих, как у озорного Степки-растрепки... Потом он видел эту
женщину в простом спортивном костюме, оправившуюся, пополневшую ровно
настолько, насколько это было нужно, чтобы не привлекать к себе
внимания необычностью худобы. И ее рыжие волосы к тому времени уже
лежали ровными, чуть вьющимися прядями и чуть-чуть, ровно настолько,
чтобы не выпасть из общего фона, ее губы были тронуты помадой... Тогда
уже и улыбка нет-нет и появлялась на ее лице. Эрна еще не смеялась,
как смеялась потом, но улыбалась часто. Ее улыбка казалась Кручинину
самой прекрасной, какую он когда-либо видел на женском лице... А
потом?.. Потом он увидел ее опять совсем иной. Там, на площади
Птичьего рынка. Копна ее волос горела бронзовой короной в лучах вот
такого же, как нынче, жгуче красного солнца. Он, как сейчас, видит ее
серый костюм, видит всю ее фигуру, походку. Только не слышит голоса.
Да, никак не может вспомнить ее голоса - прекрасного грудного голоса
Эрны... Неужели правда, будто скорее всего забывается голос ушедших...
А потом?.. Потом мертвая Эрна среди слабого мерцания свечей в часовне
святой Урсулы...
Кручинин прикрыл глаза ладонью. Так он сидел, не замечая того,
что Грачик давно уже кончил говорить и с такою же счастливой улыбкой,
как во время разговора, глядел теперь на лежавшую на рычаге телефонную
трубку. Потом Грачик взглянул на Кручинина, и улыбка исчезла с его
лица. Он на цыпочках вышел из комнаты и осторожно притворил за собой
дверь, - так осторожно, что Кручинин даже не шевельнулся.
Наконец Кручинин отнял руку от лица и огляделся удивленными
глазами человека, только что прошагавшего по десяти годам своей жизни,
где столько раз отыскивал счастье другим и никак не мог найти своего
собственного. А впрочем?.. Разве он не уверял когда-то Грачика, будто
нет на свете человека более счастливого, чем он, - Нил Кручинин, лучше
всех понимающий, в чем заключается личное счастье? При воспоминании об
этом, Кручинин усмехнулся. Но усмешка эта была не веселой. Довольно
грустно слыть чародеем, устраивающим чужие дела, и не уметь найти в
огромном мире такое местечко, где бы самому согреться в лучах хотя бы
не очень большого личного счастья...
Кручинин поднялся и подошел к окошку. Двор был погружен в
полумрак. С карниза спускались уже пустые бечевки из-под хмеля. Там,
где прежде высилась пахучая гряда табака и георгин, виднелись только
увядшие стебли. Кручинин с грустью отвернулся.
- Если когда-нибудь ты поселишь меня стариком в комнатушке на
своей даче - засей для меня одну грядку душистым горошком, - с грустью
сказал Кручинин вошедшему Грачику. - Маленькую грядку под моим
окном... - Но тут же рассмеялся и совсем другим тоном наигранно весело
проговорил: - Поехали ко мне!.. Звони Вилме, пусть придет. Научим ее
заваривать чай. Не всегда же его будет тебе заваривать старый гриб Нил
Кручинин!
- Эх, Нил Платонович, - сказал Грачик и покачал головой. - Когда
вы перестанете надо мной смеяться?
- На этот раз, кажется, все обстоит как нельзя серьезней. Пошли
искать.
- Чай?
- Нет, твое счастье.
77. ПИЩЕВАРЕНИЕ ЕГО СВЯТЕЙШЕСТВА
Королей и президентов, банкиров и министров, генералов и певцов,
международных авантюристов и знаменитых кокоток - многих и многих
видывала широкая лестница, ведущая в приемную залу папы. Мрамор ее
ступеней оставался одинаково холодным под ногами Вудро Вильсона и
Риббентропа, под исковерканными ступнями ксендзов, освобожденных из
Освенцима, и под шпороносными сапогами генерала Андерса. Мрамор так же
не умел краснеть, как не краснел богоподобный хозяин этого дома.
В то утро, когда папа отказывал в аудиенции всем, к подножию
лестницы, выходящей во двор святого Дамаса, неслышно подкатил
автомобиль. Папские гвардейцы без опроса пропустили его в ворота, так
как рядом с шофером увидели фигуру папского секретаря иезуита Роберта
Лейбера. Первым из автомобиля не спеша вышел человек, которого никто
здесь не знал. По развязности, с которой посетитель сбросил пальто на
руки лакея, по некоторой небрежности костюма и манер, служители без
ошибки определили иностранца. Гость неторопливо поднялся в залу святой
Клементины. Второй секретарь папы по важнейшим делам иезуит отец
Вильгельм Гентрих уже ожидал в зале и тут же, с другой стороны, в залу
вошел кардинал - статс-секретарь: гостя не заставляли ждать! Через
минуту отворилась дверь библиотеки, служащей кабинетом святому отцу, и
охранявшие ее гвардейцы отсалютовали шпагами. Гость проследовал мимо
них с видом, говорившим, что его нельзя удивить даже салютом
артиллерийской батареи. Дверь библиотеки затворилась, скрыв от глаз
присутствующих лиловую спину сутаны статс-секретаря, проплывшего
следом за гостем. Содержание беседы иностранца с папой не было
опубликовано на страницах "Оссерваторе Романе". Был нем гость, молчали
отцы Лейбер и Гентрих, молчал кардинал статс-секретарь, молчал сам
святейший. На следующий день папский казначей получил от отца Лейбера
чек на огромную сумму в устойчивой валюте. Это плата за души
католиков, которых святой отец обещал бросить в горнило закулисной
войны против богопротивного коммунизма.
На третьем этаже ватиканского дворца, в комнате, отделанной
ореховыми панелями, со стеной, закрытой резным буфетом, за небольшим
столом в центре комнаты сидел худой старик с лицом, желтым, как
старинный пергамент. Сухая рука с длинными тонкими пальцами перебирала
рассыпанные по скатерти кусочки раскрошенного сухарика. Едва
пригубленный стакан разбавленного водой вина стоял перед прибором.
Глубоко сидящие, окруженные нездоровой синевой темные глаза старика
хранили следы огня. Взгляд их был устремлен на двух канареек, сидевших
на краю блюдца с зерном, на дальнем краю стола. Канарейки клевали
зерно. Глядя на них, старик думал о том, что вот уже восьмая пара птиц
клюет на его глазах божье зерно; вот уже он не может сделать лишнего
глотка вина без опасения головной боли; вот уже и заботливо
приготовленный старой баварской монахиней сухарик не лезет в горло
потому, что опять не удалось очистить желудок... Околеет восьмая пара
канареек. Вовсе остановится пищеварение. Кардиналы с радостью наложат
по девять печатей на каждый из трех гробов, где запаяют его
набальзамированные останки, а человечество будет жить. Вероятно, рано
или поздно, несмотря на все усилия его самого и его преемников, оно,
это живущее человечество, сбросит со своих плеч бремя церкви и пойдет
себе вперед к манящему его видению греховного земного счастья, не
ожидая перехода в царствие небесное... Человечество!.. Если бы оно
знало, как он ненавидит этого темного колосса за неразумие, влекущее
его к химере счастья... Счастье?! Кто знает, что это такое?! Он сам?..
Нет... Меньше всех он!..
Осторожный шорох у двери прервал размышления Пия. Он поднял
усталый взгляд на склонившегося перед ним камерария. Монах
францисканец едва слышно доложил (громкие звуки раздражали Пия), что
статс-секретарь желает видеть его святейшество. Пий поморщился. С
некоторых пор даже самые интересные дела ему досаждали. Движением
бровей он дал понять, что кардинал может войти. Медленно, словно через
силу, просмотрел почтительно протянутую ему бумагу и с неудовольствием
вернул кардиналу. Неожиданно жестко прозвучал его голос: не было ни
знакомых народу бархатных ноток глубокого баритона, ни округлой
ласковости фраз. Деловито, в лаконических формулах разъяснил
кардиналу, что апостольское послание составлено неудовлетворительно:
не ясно, почему католическая церковь берет на себя оправдание тайной
войны против Москвы; люди не поймут, почему святой престол шлет свое
апостольское благословение католикам, которые с бомбами и ядом
проникнут в коммунистический тыл, католическим летчикам, которые
сбросят диверсантов и убийц в Страну Советов; из текста такого
послания верующие не поймут, во имя чего наместник святого Петра
призывает ученых трудиться над усовершенствованием процесса
расщепления атомного ядра?..
Кардинал вложил отвергнутый проект в бювар.
- Здесь находится, - сказал он, - в ожидании апостольского
благословения своему проекту епископ Ланцанс.
- Ланцанс?
Черты Пия отразили напряжение. Но это длилось одно мгновение:
несмотря на старость и болезнь, голова святейшего была светла. Он
помнил проект Ланцанса, представленный ему на рассмотрение генералом
Общества Иисуса. Сам иезуит, посаженный на папский престол иезуитом,
Пий XII всегда с особенным вниманием относился ко всему, что исходило
от Ордена. Он мог бы забыть любого другого епископа - францисканца,
капуцина, бенедиктинца, - но не Ланцанса, раз тот был иезуитом.
Смиренный брат Язеп Ланцанс предлагал вместо взрыва во время праздника
песни в Риге нанести этот удар несколько позже, когда соберутся на
свой праздник "детской песни" шесть тысяч маленьких певцов и двадцать
пять тысяч юных зрителей - пионеров и пионерок Советской Латвии.
Ланцанс считал такой удар более чувствительным - в СССР любят детей.
Папа сидел в задумчивости, подперев голову рукой. Статс-секретарь
осторожным покашливанием напомнил о себе.
- Да, да, - сказал Пий едва слышно. Можно было подумать, будто за
эти две минуты, что продолжались его размышления, он постарел еще на
десять лет и потерял последние силы. - Да, да... Помню... Передайте
брату Язепу... Впрочем, нет, лучше поручите принять его монсиньерам
Пиззардо и Тиссерану. Пусть присутствует и Константини. - Словно
невзначай, добавил: - Если Ланцансу нужны деньги - следует дать...
Дело должно быть осуществлено без нас. Скажите брату Язепу: Спрингович
стар, Ланцанс может надеяться на его престол в Латвии. Мы его не
забудем...
Пока папа говорил, кардинал достал из бювара новую бумагу и
собирался протянуть папе, но при виде ее Пий чуть-чуть поморщился, и
кардинал тотчас спрятал бумагу. Папа поднялся из-за стола.
Камерарий-францисканец испуганно прошептал:
- Ваше святейшество так и не отведали куриной котлетки...
Черты папы отразили досаду: упоминание о котлетке вызвало
неприятное чувство тошноты. Газы подпирали диафрагму, сжимали усталое
старое сердце. Тупая боль снова напомнила, что со вчерашнего утра у
него не действовал желудок. Не помогло и слабительное. Мысль об этом
отодвинула все остальное. Пий медленно проследовал к лифту, чтобы
спуститься в сад: может быть, прогулка поможет делу...
Это было первым в жизни Ланцанса свиданием со столь высокими
иерархами римской курии. Несмотря на принадлежность к
"аристократическому" Ордену иезуитов, Ланцанс немного оробел при виде
трех кардиналов - в конце концов он все-таки был провинциалом. К тому
же Эжен Тиссеран в качестве главы ватиканской конгрегации восточных
церквей по римской иерархии являлся для Ланцанса высшим начальником.
Впрочем, открытое лицо этого бородача с яркими, но добрыми глазами
фанатика внушало епископу куда меньше страха, нежели хитрая носатая
физиономия главы Католического действия кардинала Пиззардо. Маленькие
глазки Пиззардо почти откровенно насмехались над несколько неуклюжим,
словно вырубленным из добротной латышской березы Ланцансом. Не многим
лучше был и руководитель Конгрегации пропаганды святейший канцелярии
монсеньер Чельзо Константини: его мордочка старой лисы не выражала
особенного доверия к способностям гостя из далекого захолустья, хоть
тот и был иезуит. А щегольски сшитая сутана отца Константини, с
особенной франтовской небрежностью наброшенная на плечи мантия, даже
бант, каким были закреплены у воротника шелковые завязки этой мантии,
- все словно кричало об аристократическом превосходстве над епископом
из балтийских свиноводов. Только мысль о том, что было передано
Ланцансу по секрету кардиналом статс-секретарем: перспектива сесть на
трон кардинала-примаса, когда умрет нынешний глава католической церкви
в Латвии, - придавала Ланцансу мужество. Он ясно представлял себе
шуршащую тяжесть кардинальской мантии на своих плечах и ласковое
прикосновение алой шапки к тонзуре. На миг - другой ему начинало
казаться, что он ничем не хуже этих ватиканских вельмож. Разве и он не
князь церкви? Но несколько льстиво-ехидных слов Константини или
насмешливая фраза иронического франта Пиззардо - и Ланцанс с треском
падал с небес мечты обратно на жесткую землю действительности.
Хвала господу и за то, что основную беседу вел Тиссеран. Он
говорил о значении, какое имеет для положения католической церкви на
востоке борьба эмиграции с коммунистическими властями трех республик
Советской Прибалтики; говорил о планах, связываемых римской курией с
надеждой на восстановление в Латвии прежнего буржуазного
правительства; о помощи, какую окажут Ватикану в этом деле некоторые
круги иностранных держав, и, наконец, осторожно коснулся все того же -
личных перспектив епископа Ланцанса...
- Вы сами знаете, брат мой, - сказал Тиссеран, - что нынешний
примас святой нашей церкви в Прибалтике, вследствие преклонного своего
возраста, находится на пороге того счастливейшего в жизни христианина
часа, когда должно предстать очам всевышнего. Возраст мешает
кардиналу-примасу вести работу в условиях тайны, какой требует точное
выполнение апостольских предписаний. Иерархи католической церкви
должны возглавить движение за очищение Литвы, Эстонии и Латвии от
скверны коммунистического безбожия и от ереси Лютера. Для этого нужны
сильные, преданные престолу святого Петра пастыри, такие, кто мог бы
повести за собою воинство христово в великом крестовом походе,
долженствующем заменить так называемую холодную войну светских
властей.
- Это очень важный пункт в нашей пропаганде, - перебив Тиссерана,
вставил Константини с такой сладкой улыбкой, словно преподносил
Ланцансу комплимент. - К сожалению, кое-кто игнорирует обстоятельство,
подчеркиваемое святым отцом: если идти по пути "мир во что бы то ни
стало", то можно дойти до того, что церковь перестанут принимать во
внимание в проектах устройства Европы и мира в целом.
Пиззардо поддержал его утвердительным кивком головы, но, поджав
тонкие губы, тут же заметил:
- К сожалению, мы не можем похвастаться тем, что паства фра Язепа
насчитывает в своих рядах сколько-нибудь значительное число членов
Католического действия. Привлечение к активным действиям против
коммунизма молодежных организаций Католического действия совершенно
обязательно для всякого нашего начинания. Всякая наша акция должна
носить массовый характер, быть как бы криком, исторгнутым из сердец
миллионов верующих.
- Позвольте, ваша эминенция, - не выдержал тут Ланцанс, - акция,
о которой идет речь, подготавливается в СССР в условиях такой тайны,
что мы не можем включить в нее не только массу, но хотя бы даже одного
лишнего человека.
- Но, фра Язеп, - губы кардинала Пиззардо растянулись в улыбке, -
надеюсь, по крайней мере, что люди, которым это дело поручено, -
католики.
- Один из трех, - ответил Ланцанс, - я хотел сказать: одна из
трех исполнителей - католичка.
- Вы видите, брат мой! - скорчив гримасу, обратился Пиззардо к
Тиссерану. - Одна из трех! И та... женщина...
Осторожно, обиняком, стараясь никак не коснуться конкретности
проекта о взрыве на детском празднике, но каждым словом иносказательно
одобряя это начинание, кардиналы проверили степень его
подготовленности. Несколько минут спора было уделено тому, не следует
ли подкрепить людей, направленных для этой акции в СССР за счет
фанатичных католиков, имеющихся в распоряжении тайных органов курии.
Но тут Ланцанс запротестовал. Он не был намерен выпускать это дело из
своих рук: взрыв должен быть занесен в анналы Ордена, как деяние Язепа
Ланцанса! Когда Пиззардо и Константини удалились, оставив Ланцанса
наедине с Тиссераном, кардинал знаком предложил гостю подсесть поближе
и, понизив голос, сказал:
- Прошу вас, фра Язеп, сделать все необходимые выводы из того,
что здесь говорилось о немощи кардинала - митрополита в Риге. Быть
может, вам неизвестно, что давно уже он испросил благословение его
святейшества на рукоположение двух епископов, один из коих мог бы
заступить его на метрополии в случае кончины... По-видимому, ее
недолго ждать... Я так думаю...
При этих словах Тиссеран устремил испытующий взгляд на Ланцанса,
пытаясь уловить в его чертах впечатление, произведенное этим
сообщением. Но Ланцанс понял расчет кардинала: возбудить его
неудовольствие тем, что в Риге уже рукоположены два новых епископа -
очевидные конкуренты Ланцанса на митрополичий престол. Он не выдал
своих чувств. Он знал, что в случае, если когда-нибудь удастся
вернуться в Ригу, никто из священников, лояльных в отношении Советской
власти, не усидит на месте. Он, Язеп Ланцанс, будет тогда первым из
первых; он - сохранивший в неприкосновенности ненависть своей паствы к
Советам; он - организовавший удар за ударом по коммунизму и его людям!
А если удастся новый план, то при въезде в Ригу кардинала Ланцанса -
главы Центрального совета и спасителя Латвии - он пройдет по алой
дорожке, протянутой от набережной до его архиепископского дворца! И
почему только архиепископского, а не дворца президента?.. Мало ли
государственных деятелей в сутанах и в кардинальских мантиях знала и
знает история? Президент - кардинал архиепископ Ланцанс! Это прозвучит
совсем неплохо! Он бросит к стопам римского первосвященника новую
дщерь католической церкви - Латвию. Этот подвиг сделает его первым
среди иезуитов, и Орден изберет его своим генералом, как только умрет
Жансенс...
Но здравствующий генерал Ордена - кардинал Жансенс и не думал
умирать. Когда епископ Ланцанс сделал ему подробный доклад о беседе в
Ватикане, Жансенс сказал:
- Поезжайте с миром, брат мой, и твердою рукой опустите меч кары
господней на нечестивцев... Как именуются те, кто осуществляет эту
прекрасную акцию в Риге?
- Конспиративное наименование группы "ДГ, 1", то есть первый
отряд "Десницы господней".
- Да пребудет с "ДГ. 1" благословение господне, - торжественно
проговорил Жансенс. - Исполнители этого святого дела заслуживают
высшей награды, брат Язеп, - выше которой уж ничего не может быть... -
с ударением повторил кардинал. И, недовольный непонятливостью
Ланцанса, пояснил: - Человек слаб, брат мой. Смогут ли понять сладость
страдания те, кого вы посылаете на это дело? Не проявят ли они
слабости, не начнет ли их греховный язык говорить то, что должно
остаться тайной? И не наша ли обязанность избавить их от греха измены
делу церкви.
Наконец-то Ланцанс понял, что имеет в виду генерал Ордена!..
Убить Ингу Селга?! До этой минуты ему казалось, что он свыкся с мыслью
об окончательном исчезновении Инги и даже как будто был рад тому, что
она далеко и никогда не вернется. Но теперь, когда ее исчезновение
навсегда ощутилось как реальность, - ему стало не по себе. Эти
сомнения мучили Ланцанса все время, что он сидел в самолете,
отвозившем его из Рима на север, в штаб-квартиру Центрального совета и
даже тогда, когда он ждал прихода Шилде, вызванного для того, чтобы
выслушать новый план рижской диверсии. И только тогда, когда все было
уже сказано, обсуждено и утверждено, Шилде сам задал епископу вопрос:
- А что, по-вашему, делать им всем - Квэпу, Селга и Силсу - после
операции?
Епископ, избегая встретиться глазами со взглядом Шилде и
судорожно шаря руками под нараменником, сказал:
- Не будут ли они достойны высшей награды, высшей из высших?
- Что можно им обещать лучшее, нежели возможность вернуться сюда?
Вечное блаженство!
- Вы правы, тысячу раз правы! - обрадовался Ланцанс такой
понятливости собеседника. - Где же больше подлинного богатства и где
есть блаженство сладчайшее, чем на небесах?!
- Жаль терять хороших агентов... Но... может быть, вы и правы...
- Шилде задумался. - Вы говорите: так будет покойней им и нам?..
- Во имя отца и сына, - негромко закончил Ланцанс.
Но через день, к негодованию епископа, Шилде сообщил, что у него
нет человека для выполнения такого дела.
- А ваш хваленый Силс? - спросил Ланцанс.
- Чтобы Квэп убрал Селга, Силс убрал Квэпа, а... кто уберет
Силса... Нет. Нет! Это наделало бы столько шума!..
- Что же вы предлагаете? - упавшим голосом спросил епископ.
- Ищите исполнителя.
После некоторого размышления Ланцанс сказал:
- Хорошо, Селга я беру на себя... А Квэп и Силс?
- Постараюсь что-нибудь сделать. Хотя должен сознаться: жаль
терять Силса, он мог бы пригодиться для большего.
- Воля господня!
79. КВЭП, ИНГА, СИЛС И ГРАЧИК
Оба взрывателя были уложены в коробку и по виду представляли
собою теперь то, что в парфюмерной торговле именуется "набором": духи,
пудра, крем. Но вместо пудры и крема в нарядных складках атласа
покоились тетриловые запалы. Они будут вложены в заряды, заряды - в
часы на опорах певческой трибуны новой эстрады в Межипарке. В нужное
время механизм в часах замкнет ток и приведет в действие взрыватели,
от них сработает взрывчатка. Взрыв произойдет ровно в шестнадцать
часов, когда шесть тысяч детей-певцов заполнят трибуну и двадцать две
тысячи юных зрителей рассядутся на скамьях просторного амфитеатра в
лесу. Инга следила за тем, как толстые пальцы Квэпа с обгрызенными
ногтями укладывали в атлас обе коробочки - картонную и фарфоровую,
перевязанные ленточками. Ленточки были красные, веселые. Бантики
топорщились так, что до них жалко было дотронуться, чтобы не помять.
Инга думала о таких же веселых красных ленточках на головах десяти
тысяч девочек на стадионе... Взрыв произойдет, когда будет играть
оркестр. Трубы веселого пионерского марша заглушат звук взрыва -
небольшого, но достаточного для падения певческой трибуны. Остальное
сделает паника. Пять лет Ингу учили тонкостям диверсий. Десять тысяч
задавленных - это должно было быть для нее праздником! Но сейчас,
когда она представила себе эти тысячи белокурых, рыжих и черных
косичек, подвязанных красными ленточками, когда она представила себе
десятки тысяч мальчишеских ног, спешащих по проходам... Она даже
мысленно страшилась досказать фразу. Это было святотатством. Ей стало
холоднее, нежели в самую суровую зимнюю стужу; хотелось закрыть лицо и
кричать от ужаса. Но напротив нее за тем же столом сидел Квэп. Сколько
бы он ни смотрел на Ингу, он не должен был заметить, что ее пальцы
дрожали, когда она пододвинула к себе коробку с "парфюмерным набором",
чтобы завернуть в бумагу с рекламой Главпарфюмера.
- Это тоже будет храниться у тебя, - сказал Квэп, кладя перед
Ингой две плитки шоколада. Инга небрежно сунула их в сумочку. Она
знала: до тех пор пока в зарядах не было взрывателей, они были
безопасны. Плоские заряды было легко положить к задней стенке корпуса
часов, вплотную к колонне устоя трибуны. Когда с "шоколада" будет
снята цветная обертка, металлическая фольга почти не будет заметна
внутри часов.
- Вы так и не передали мне явки на тот случай, если что-нибудь
произойдет, - сказала Инга, - со мной... или с вами.
- Ты в третий раз спрашиваешь меня об этом, - Квэп поднял на нее
тяжелый взгляд. Но Инга делала вид, будто озабочена состоянием своего
маникюра.
Через десять минут, элегантная и спокойная, она не спеша шла к
гостинице, где Комитет содействия возвращающимся на родину снял для
нее комнату. Под мышкой у Инги была зажата коробка Главпарфюмера.
Неподалеку от памятника Ленину она вдруг передумала и пошла обратно.
Миновала два квартала, свернула на Дзирнаву. Именно там, в маленькой
шляпной мастерской, ей понадобилось взять свой заказ. После того она
продолжала путь легкой походкой человека, испытывающего облегчение.
Инга была уверена в том, что ей хорошо, что вокруг все хорошо и всем
хорошо, что в общем жизнь хороша. В самом деле, разве Инга не приехала
сюда для того, чтобы наслаждаться жизнью, для того, чтобы стать
полноправной гражданкой своей страны, страны своих отцов? Так о чем же
ей печалиться? Над чем ломать голову? Она даже зайдет в кондитерский
магазин и купит себе немножко настоящего шоколада. Говорят, будто
курильщики не любят сладкого? Может быть. Но нет правил без
исключения. Инга Селга любит папиросы и любит шоколад. И еще она очень
любит Карлиса Силса. Карлис Силс тоже любит шоколад. Шоколад и Ингу
Селга.
Открытие, сделанное Силсом, заставило его метаться так, как он не
метался еще никогда. Голова разрывалась от мыслей, одна страшнее
другой. Если бы тут не была замешана Инга, он без колебаний поспешил
бы к Грачику со всей быстротой, на какую способен. Он сделал бы все,
чтобы ловушка захлопнулась над головою Квэпа. Но Инга, Инга!.. Как это
могло случиться?.. Неужели она приехала для встречи с Квэпом? Неужели
она продолжает работать на них?.. Бывали минуты, когда Силс даже
жалел, что проследил свидание Инги с Квэпом. Он жалел, что знает
теперь то, о чем страшно думать, из чего нет выхода!
Он решил ехать в Ригу искать Ингу. Раз он узнал место ее свидания
с Квэпом, то вполне вероятно, что увидит ее там еще раз. Если
понадобится, он просидит в Верманском парке целый день, два дня,
неделю, но дождется ее и увезет сюда. Ей нечего бояться, даже если те
держат ее в руках самыми страшными угрозами. Ведь угрожали же ему, а
он жив, здоров и работает как ни в чем не бывало!.. Да, да, он должен
немедленно увидеть Ингу! Как это он мог, увидев ее с Квэпом, не
проследить, куда тот пойдет, не схватить его на улице, не прибегнуть к
помощи милиции? Ах, как все отвратительно, как глупо! Растерялся!
Разве его не учили годами, как нужно вести себя в трудных положениях.
А тут не было даже ничего трудного, схватить Квэпа.
Куда же теперь идти? Неужели он действительно приехал в Ригу для
того, чтобы сидеть на скамейке Верманского парка? А если вместо Инги
придет Квэп? А если они не появятся вовсе? Или придут вместе? Ведь
тогда арест Квэпа будет и арестом Инги... При этой мысли Силс
остановился посреди мостовой и, если бы не гудок троллейбуса,
сворачивавшего с Бульвара Райниса к рынку, может быть, простоял бы
здесь вечно. Силс отскочил из-под самого носа вагона и зашагал вдоль
бульвара. Он шел, не замечая прохожих, машин, домов. На углу ул.
Ленина остановился и недоуменно огляделся. Словно не понимал, зачем он
здесь. Да, впрочем, он сюда и не шел - ноги сами несли его. Оставалось
теперь пересечь Бривибас, потом Волдемара и - он у цели... Цель?..
Значит, все-таки его цель - арест Инги? Ведь на место свидания она
может прийти только для того, чтобы встретить Квэпа. А раз так... Ноги
сами перенесли Силса через площадь. Путь пересекла длинная тень
колонны Свободы. Силс поглядел на ее гранитную иглу и перевел взгляд
на правую сторону бульвара. Там был хорошо знакомый дом прокуратуры.
Силс стоял и смотрел на него. Это продолжалось долго. Бесконечно
долго. Может быть, даже несколько минут. Не осталось сомнений: ему
необходимо видеть следователя!
Беседа не была длинной. Грачик понимал Силса с полуслова.
- Вы мне верите? - спросил он.
- Именно.
- Я сделаю все, чтобы Инга вернулась к вам.
Однако на Силса эти слова вовсе не подействовали успокаивающе.
Ему показалось, что уверенный тон Грачика свидетельствовал о том, что
тот точно знает, где Инга. Может быть... Инга арестована?!
- Где она? - умоляюще спросил Силс.
- Вы хотите знать больше, чем я могу сказать. Поезжайте домой и
ждите от меня известий, - решительно ответил Грачик.
Силс послушно поднялся я, забыв попрощаться, медленно, как очень
усталый человек, побрел прочь.
80. ШИНЕЛЬ ЛЕЙТЕНАНТА БУДРАЙТИСА
С момента, когда Квэп убедился в том, что Инга справится с
задачей и заложит заряды в часы, он забыл обо всем, кроме
необходимости бежать. Его не интересовало уже ничто, кроме
собственного спасения: ни приказ ликвидировать Ингу, ни необходимость
убедиться в результатах диверсии. Одна мысль заполнила мозг -
"бежать"! Воспоминание о том, как он пробирался болотом после
происшествия на железной дороге, еще и еще раз убеждало его в том, что
нельзя рассчитывать на чью бы то ни было помощь, остаются только свои
силы, собственная хитрость. О спокойном отступлении, как оно
рисовалось когда-то Шилде, не приходилось и говорить: Квэп остался без
помощников, которых мог бы подставить под удар вместо себя, "на
съедение" советским органам безопасности; не было явок; не было даже
денег: половину запаса он бросил в Цесисе, другая потеряна вместе с
явкой у Линды. Не было и Линды. Вот кто помог бы ему! Она нашла бы и
убежище, и деньги на дорогу, и все, что нужно для организации его
спасения. Не было Линды... Не было Линды!.. Удастся ли ей отвлечь от
него преследователей, пустить их на ложный след, пожертвовать собой?..
Прежде всего нужны были деньги. Хоть немного денег на дорогу.
Идиот бухгалтер в артели "Верное время" обставил дело так, что Квэпу
не удалось взять из кассы ни гроша. Сунуться в гостиницу к Инге -
значило рисковать попасть в засаду, если за девкой есть наблюдение.
Откуда же взять денег? Хоть немного денег!.. С такими мыслями Квэп
бродил по Рижскому рынку, казавшемуся ему единственным местом, где
можно смешаться с толпой, стать незаметным. Самое людное место в
городе казалось и самым безопасным. Конечно, не легко провести целый
день на ногах, толкаясь в проходах между ларьками, делать вид, будто в
тысячный раз рассматриваешь одни и те же пучки веревки, связки чулок,
разноцветные джемперы, сита и кастрюли. К тому же давал себя знать и
голод, а не было денег даже на то, чтобы купить кусок колбасы. Квэп
уже не помышлял о том, чтобы зайти в столовую или буфет. Аромат
лукового клопса заставлял мучительно сжиматься его пустой желудок.
Каждая затворяющаяся за его спиною дверь представлялась захлопнувшейся
ловушкой. Немного колбасы и побольше хлеба - вот вершина мечты!
Квэп стоял, опершись плечом на угол ларька, даже не посмотрев,
чем там торгуют: он уже не мог видеть товаров - его мутило от ярких
красок трусов и одеял. Он делал вид, будто читает газету. Газета -
извечный спаситель всякого, кто хочет наблюдать окружающее, оставаясь
незамеченным сам. Но, по-видимому, второй день такой волчьей жизни,
усталость и голод привели к тому, что внимание Квэпа ослабло,
профессиональная наблюдательность и осторожность изменили ему. Он не
заметил, как кто-то подошел к нему сзади и положил ему руку на плечо.
На жаргоне, который поставил бы в тупик менее искушенного слушателя,
чем Квэп, незнакомец предложил продать ему кожаную куртку, надетую на
Квэпе. Это было неожиданно, но представилось Квэпу таким простым и
удачным выходом, что, поторговавшись для вида, он мысленно уже
расстался с курткой. На минуту мелькнула было мысль: а как же сам он -
нельзя же бродить в октябре под холодным дождем в одном пиджаке? Но
тут же услужливая память подсказала, что в лесу, в тайнике, осталась
шинель лейтенанта милиции, разве форма милиции не откроет ему двери,
остававшиеся запертыми, когда он подходил к ним в простой кожаной
куртке?.. А даже тех грошей, что предлагает сейчас этот тип за кожаную
куртку, хватит на луковый клопс и на билет, чтобы уехать из Риги!
К вечеру того же дня Квэп был в лесу, на месте, где полгода назад
он сам и завербованный им в помощь амнистированный уголовник Крапива
застали молодого офицера милиции за починкой мотоцикла. Они присели
покурить, и Квэп узнал от милиционера, что тот нездешний, едет
издалека и намерен неожиданно нагрянуть к друзьям, не подозревающим о
его приезде. Тут же в изощренном мозгу Квэпа родилась мысль о том, что
случай дает возможность раздобыть необходимую ему форму милиции. Для
этого нужно только убить молодого офицера.
Расставшись с милиционером, Квэп и Крапива отошли на несколько
сотен шагов, и Квэп изложил Крапиве свой план. Они устроили засаду и,
когда лейтенант проезжал на починенном мотоцикле, сбили его. Квэп
задушил офицера накинутой на шею петлей. В награду Крапиве достались
деньги и часы лейтенанта. А самое важное: они овладели его формой. Но
так как дело было по весне, шинель показалась им ненужной, и ее зарыли
в лесу вместе с мотоциклом, отдельно от тела убитого. Теперь Квэп
вернулся на это место - ему до зарезу нужна была одежда. Мягкий песок
без сопротивления отдал Квэпу хорошо сохранившуюся шинель. Квэп
тщательно очистил ее от песка и долго разглаживал ладонями и
растягивал слежавшиеся складки, справедливо полагая, что в таком
измятом виде одежда привлечет внимание первого же встречного... О том,
чтобы попытаться раздобыть утюг, не могло быть и речи. Поэтому он тер,
жал, тянул до того, что жилы на его шее и лбу налились тугими жгутами.
Наконец, казалось, шинель приобрела более или менее приличный вид.
Подумав, Квэп срезал с нее погоны и закопал их обратно.
Очень велик был соблазн воспользоваться лежавшим тут же в яме
мотоциклом, но Квэп понимал, что ехать со старым номером - значит
самому лезть в ворота тюрьмы, а раздобыть новый номер было безнадежной
затеей. Каждая лопата песка, которая погребала такое хорошее средство
передвижения, заставляла Квэпа стискивать зубы от досады. Но ничего
нельзя было поделать. Шинель - и то хлеб! Хорошо, что она так
сохранилась. И без погон это будет хорошая маска на вокзалах и в
вагоне, который в течение нескольких дней будет его единственным
прибежищем: придется передвигаться с места на место столько времени,
на сколько хватит денег, чтобы покупать новые билеты.
По мере того как шло время и приближался час, назначенный для
выступления детского хора, план бегства Квэпа все сужался. Он давно
уже не задавался мыслью добраться до Дальнего Востока или в Одессу,
что прежде казалось таким простым и само собой разумеющимся. Лишь бы
выбраться из Латвии! Хоть куда-нибудь от близости к взрыву, который
заставит все взоры обратиться на Квэпа; заставит каждого встречного
вглядываться в его черты, приглядываться к его платью.
Хорошо было бы, конечно, иметь теперь и документы, подходящие к
этому костюму, но он сам сжег их в ту ночь, когда кончили с
Круминьшем, и он уступил милицейский мундир Крапиве, воображавшему,
будто это облегчит ему спасение от уголовного розыска. Усмешка
скривила губы Квэпа при воспоминании о том, с каким удовольствием его
сообщник наряжался в мундир милиционера и как мусолил и перемусоливал
деньги, полученные от Квэпа в награду за работу. "Болван" (теперь у
Квэпа не было для него другого имени) не подозревал о том, что ему
остается жить ровно столько времени, сколько нужно, чтобы дойти до
берега: рука Квэпа уже сжимала в кармане пистолет, приготовленный для
убийства опасного свидетеля.
Хорошо, что в ночь смерти Будрайтиса было тепло и Квэпу не
захотелось тащить за собою тяжелую шинель. Это - рука самого
провидения. Всевышний приберег шинель для него. Квэп застегнулся и
зашагал к опушке, от которой оставалось не больше трех километров до
станции. Увлажненный дождями песок был плотен. Он не оставлял пыли на
ногах, и по нему было легко идти.
Квэп машинально пошарил в карманах шинели в поисках папирос и
рассмеялся при мысли, что чувствует себя в ней, как в своей
собственной: ведь папиросы-то в пиджаке! Закурил и переложил пачку в
карман шинели.
Трудно сказать, как чувствовал бы себя Квэп, если бы знал, что в
этот вечер Уголовный розыск города Риги доставил Грачику кожаную
куртку, только днем проданную Квэпом. Купивший ее вор был взят на
месте преступления на рынке, когда срезал чью-то сумочку. Дело этого
вора пошло своим чередом, а куртку отправили Грачику потому, что
описание ее было разослано во все органы милиции с приказом доставить
такую куртку в случае обнаружения. Беда заключалась в том, что ее
прежний владелец Дайне не сумел указать сколько-нибудь характерной
детали, по которой ее можно было бы опознать. Поэтому ему уже вторично
пришлось явиться к Грачику, чтобы сказать, не его ли это куртка. И
какова же была радость Грачика, когда предколхоза заявил, что на этот
раз не боится ошибиться: куртка в прошлом принадлежала ему!
Когда Грачик рассказал об этом Кручинину, тот многозначительно
улыбнулся и, подняв палец, как на уроке, раздельно произнес:
- У Квэпа нет больше куртки - значит, он щеголяет в другой
одежде? - Грачик недовольно пожал плечами. Вопрос звучал немножко
издевательски: его смысл разумелся сам собою. Но Кручинин столь же
многозначительно продолжал: - Запомни: с этого момента твой Квэп
разгуливает в шинели милиционера.
Грачик не выдержал и рассмеялся:
- Уж не в шинели ли вашего Будрайтиса?
Кручинин ответил кивком головы: Грачик угадал.
- Для Квэпа настало время мобилизовать все возможности спасения.
А что может быть надежнее формы лейтенанта милиции?!
Кручинин многозначительно поджал губы, теребя бородку. Грачик не
решился произнести того, что подумал: "Бедный учитель, Будрайтис и его
шинель стали его навязчивой идеей".
Пройти на территорию стадиона так, чтобы ни у кого не возникло
подозрения в добросовестности ее намерений; вложить в двое часов
плитки шоколада и укрепить к ним капсюли взрывателей; присоединить
усики этих взрывателей к замыкающему электрический ток приспособлению
в механизме часов; получить в конторе стадиона отметку о том, что
новые часы (подарок промысловой кооперации) ею проверены и находятся в
полной исправности; уйти со стадиона, уничтожить удостоверение артели
"Точный час" и пропуск на стадион, - чтобы перестать быть той, чье имя
стоит в этих документах, и вернуться в свою гостиницу Ингой Селга -
патриотически настроенной репатрианткой. Такова была простая на вид,
но довольно сложная задача, которую предстояло выполнить. Хотя Инга,
как уверял Квэп, приехала сюда, чтобы "пустить на ветер" двадцать
тысяч маленьких большевиков, мысли ее были сейчас прикованы к тем двум
десяткам латышек, что вместе с нею сидели в автобусе со своими
кошелками, набитыми овощами и связками цветов. Инга от души завидовала
этим женщинам, не знавшим ничего о том, чем до краев был переполнен ее
мозг. Они никогда не соприкасались с вероломством, в котором она
купалась, как они в своих домашних заботах; они не испытывали страха
провала операции, державшего ее за горло. Уверенность в безопасности
их самих, их мужей и детей спасала этих женщин от потрясения, какое
испытала бы каждая из них, если бы только краем уха слышала об
опасности, угрожающей ее детям на завтрашнем празднике. Но эти женщины
были уверены в том, что их оберегает советская служба безопасности, им
и дела не было ни до портфеля Инги, ни до завернутых в блестящую
фольгу плиток. Не все ли им равно: шоколад это или что-нибудь другое?
Раз Инга едет в Межипарк с портфелем - значит, так нужно. Если она
везет в этом портфеле шоколад - значит, так и должно быть... А Инга
глядела на них и думала, думала... Думала так сосредоточенно о своем,
что едва не пропустила остановку, где ей следовало сойти.
В Межипарке уже шли приготовления к завтрашнему торжеству. Дети
занимались украшением трибуны. В зале под трибуной началась спевка
хора пионеров. Едва ли кому-нибудь здесь было дело до мастера,
ковыряющегося в электрических часах. Дети, сами того не подозревая,
были союзниками Инги. Убедившись в том, что никто за нею не наблюдает,
Инга проворно сделала свое дело: обе плитки были на месте. Квэп вчера
сказал, что вместе с председателем артели "Точный час" приедет в
Межипарк, чтобы еще разок бегло взглянуть на плод стольких усилий. Он
еще со смехом добавил:
- И тогда я могу сказать: "Ныне отпущаеши!.."
О, Инга хорошо помнила этот смех!..
Епископ Язеп Ланцанс стал частым гостем в кафе "Старый король".
Право же, у того, кто готовил там шоколад, были золотые руки! Да еще
эта юная кельнерша с ямочками на щеках и с такими аппетитными
пальчиками! Глядя на нее, епископ с каждым разом все беспокойнее
вертелся на стуле. Руки его становились все холоднее, и все чаще
приходилось вытирать их исподтишка под столом, чтобы они не были
скользкими от пота. Сколько раз он, отправляясь в кафе, давал себе
слово предложить этой девушке прогулку вдвоем, и всякий раз, стоило
ему взглянуть на белые зубки, сверкавшие из-под накрашенных губ, - вся
его смелость пропадала. Он возвращался домой один, чтобы предаться
мечтам о юной кельнерше. Теперь лик богоматери в изголовии его постели
больше не был похож ни на Изабеллу Розер, ни на Ингу Селга - при
взгляде на святую деву, грудью кормящую пухлого младенца, неизбежно
вспоминалось лицо маленькой кельнерши из кафе "Старый король". В
сновидениях Ланцанса образ молоденькой кельнерши сменялся видением
дебелой особы с плафона на потолке кафе.
В тот день, когда Ланцанс ждал в кафе прихода Шилде, пустая
рюмочка уже стояла перед его прибором. Если бы Шилде не был аккуратен,
то, может быть, появилась бы и вторая рюмка. Нынешний день был
особенный. Ланцанс испытывал некоторое волнение, и его организм
требовал поддержки, которой не мог дать шоколад. Но Шилде не мог быть
неаккуратен в такой день: он встречался с Ланцансом, чтобы отметить
завершение многих усилий и затрат. Сложным путем подпольной связи, -
единственного ее хрупкого канала, какой еще сохранился, - было
получено известие от Квэпа: взрыв подготовлен и произойдет во время
слета юных пионеров. Ланцанс и Шилде сошлись в кафе в день, когда
должен был произойти этот взрыв в Риге. Усевшись напротив епископа,
Шилде выложил на стол часы.
- Собственно говоря, - весело сказал он, - сегодня угощение
должно идти за ваш счет. - И в ответ на удивленный взгляд Ланцанса: -
Да, да, мой дорогой епископ. Разве я не заслужил небольшого угощения?
Не я ли держу нити замечательной акции, о которой будет говорить весь
мир? Не мой ли человек этот Квэп. Не мой ли человек "Изабелла"? Она
оказалась отличным товаром. Вы продешевили. Да, да! Не смотрите на
меня так: право, вы могли взять с меня дороже за двадцать тысяч
маленьких коммунистов, которые сегодня придут к воротам апостола
Петра. Почтенному привратнику горних мест предстоит нелегкая задача,
а?
- Перестаньте богохульствовать, Шилде, - с укоризною негромко
проговорил Ланцанс.
Но Шилде только рассмеялся:
- В самом деле, представьте себя на его месте: двадцать тысяч
маленьких большевиков толкутся у ворот рая. С одной стороны, они еще
безгрешные души. Можно ли не отворить им? А с другой стороны -
большевики. Пусти их в рай, и красная зараза разольется по полям
вечного блаженства! Как же быть?
Шилде мимоходом, словно невзначай, сказал, что обстоятельства
вынудили его дать Квэпу разрешение после взрыва вернуться восвояси.
Конечно, кружным путем. Может быть, на юг, а может быть, даже через
дальневосточную границу. Это известие испугало Ланцанса:
- А ваше обещание?!
- Что делать!.. - Шилде пожал плечами. - Да вы не огорчайтесь, я
все же уверен, что вы отслужите по нему заупокойную мессу.
Ланцанс нахмурился: ему придется оправдываться перед генералом
Ордена, если Квэп попадет в руки советских властей и начнет болтать.
Хорошо еще, что удалось наладить дело с уничтожением Инги. Среди
семинаристов, собранных в Риге на учебную сессию, удалось завербовать
одного юного фанатика. Он не совсем в уме: небольшая обработка
отцов-иезуитов, и малый пойдет на что угодно. Но Ланцанс не собирался
открывать это Шилде. Тот не знал, что в минуту, когда он опрокидывает
очередную рюмку кюммеля, губы епископа беззвучно шепчут заупокойную
молитву по Инге Селга, проданной Шилде под кличкой Изабеллы.
82. К ВЯЩЕЙ СЛАВЕ ГОСПОДНЕЙ!
Как ни могущественен был Орден иезуитов и как ни свободно он
распоряжался силами неба, - даже он не мог дать брату Язепу
возможности видеть происходящее на другом конце Европы, в Риге, в те
самые часы, когда он беседовал с Шилде.
Настал тот переходный, пожалуй, самый тихий час, когда пустеют
улицы латвийской столицы. Деловая и торговая жизнь города давно
закончилась. Отдыхающие рижане - в театрах, в кафе, в гостях. До
разъезда из театров далеко. В центре, у входов в кино толпится народ,
а в тихой улице у изъеденной веками паперти костела нет даже обычных
дневных ее обитателей - голубей. Темно и тихо в храме. Слабенькая
лампочка одиноко светится над конторкой церковного старосты. Ее
мерцания не хватает на то, чтобы осветить исповедальню, спрятанную в
боковом притворе. Только слабый отзвук осторожного говора,
превращенного сводами храма в неразборчивое шипение, свидетельствует о
том, что там кто-то есть. Патер-иезуит и склонившийся у окошечка
исповедальни юноша говорят шепотом, хотя здесь и некому их подслушать.
Юноша - худой, высокий, с желтым лицом, обтянутым нездоровой
мертвенной кожей, и с огромными лихорадочно горящими глазами фанатика
или полупомешанного - порывисто потянулся к патеру:
- Отец! - в испуге прошептал он, - а заповедь господня "Не
убий"?!
Иезуит опустил руку на плечо юноши и силой заставил его
опуститься на колени. В тишине храма было слышно, как стукнули о край
окошечка четки, болтающиеся на запястье патера.
- Властью, данной мне...
- Мне обещано разрешение самого Рима! - в порыве плохо
скрываемого страха снова перебил его юноша.
Брови патера сошлись над большим хрящеватым носом, и он
настойчиво повторил злым шепотом:
- Властью, данной мне от господа нашего Иисуса Христа, и по
повелению святейшего отца нашего папы ты свободен от клятвы верности,
принесенной властям земным. Тою же апостольской властью разрешаю тебя
от заповеди господней и отпускаю грех пролития крови отступницы, ибо
то не есть грех. Святой отец сказал: "Убий коммуниста!"
- Но... Она католичка!.. - со страданием в голосе прошептал
юноша.
- Она отступница! - повторил патер, как приговор инквизиции. -
Иди и свершай! То будет подвиг во славу пречистой невесты христовой
истинной церкви римской, к радости матери нашей присноблаженной и
пренепорочной девы Марии.
Пальцы патера коснулись склоненной головы юноши, дрожавшей от
сдерживаемого рыдания. Юноша опустил руку в карман пальто и потом, как
бы в раздумье, протянул ее священнику: на ладони чернел "браунинг".
Патер поспешно накрыл своей рукой оружие:
- Благослови... - услышал он едва различимые слова юноши.
Рука юноши заметно дрожала. Патер сжал ее и, не выпуская из своих
цепких пальцев, наскоро пробормотал молитву. Осеняя крестом
потеплевшую сталь оружия, пробормотал:
- Во имя отца и сына... к вящей славе господней!
Он повернулся и, отрезая юноше возможность заговорить, исчез в
тени бокового притвора. Некоторое время в храме царила тишина. Потом
послышался тяжкий вздох, похожий на подавленное рыдание, и что-то
похожее на лязг судорожно сжатых зубов.
Юноша поднялся с колен. Его худая фигура в узком пальто
отбрасывала длинную колеблющуюся тень. Он стоял, глядя на распятие за
алтарем. Серебряное тело Христа призрачно светилось на черном дереве
креста. Юноша долго стоял и смотрел. Повернулся и медленно побрел,
уронив голову на грудь. Его тень удлинялась, ломалась, все более
причудливо одна за другою пересекала белые колонны, пока не слилась с
мраком, в который был погружен притвор.
Выйдя на паперть, юноша, прежде чем затворить за собою маленькую
дверцу во вратах храма, еще раз обернулся к алтарю. Едва мерцали вдали
огоньки настольных свечей, блуждала по стене тень креста за алтарем.
Рука юноши, поднявшаяся было для крестного знамения, так и повисла на
высоте плеча. Он, словно через силу, перешагнул порог и, нахлобучив на
самые уши шляпу с широкими плоскими полями, спустился по ступеням
паперти. Он двигался так, как ходят лунатики и приговоренные к смерти.
Неподалеку от бульвара над входом маленького буфета горел фонарь.
Он раскачивался под ударами осеннего ветра, и было слышно, как скрипит
железо петли и крючок. Иногда фонарь поворачивался так, что свет падал
на бульвар, и тогда каштаны загорались в нем ярким пламенем.
Вспыхивали в темноте и погасали медленно опадающие листья. На бульваре
было тихо. Изредка стукал о скамейку сбитый ветром каштан, вырывался
на волю всхлип одинокого аккордеона, когда отворялась дверь кафе.
Вот она распахнулась, и в рамке освещенного входа появился силуэт
мужчины. В длинном узком пальто и в плоской широкополой шляпе, он
показался Грачику зловеще старомодным, худым и высоким. Через
мгновение фигура исчезла, погрузившись в темноту, и вынырнула из нее
только около Грачика. Уже было совсем миновав его, человек остановился
и нагнулся к самому его лицу:
- Не найдется ли у вас спички?
Голос этого человека был молод, но очень глух и вздрагивал так,
словно его обладателя бил озноб. Грачик попытался зажечь спичку, но
ветер задувал их одну за другой. Испуганно пробормотав что-то, человек
поспешно исчез в темноте аллеи. Грачик сосчитал до пятидесяти и,
решив, что теперь этот человек не может его заметить, встал и пошел за
ним. Шел не спеша, забавляясь звонкою перекличкой, какую затеяли
подкованные каблуки незнакомца с гранитными брусками мостовой, и
стараясь шагать в такт его шагам, чтобы не нагнать его, но и не
потерять едва заметную тень. Шаги человека были хорошо слышны, иногда
причудливо множась в гулком пространстве тесно сошедшихся домов. Мысли
Грачика вертелись вокруг приятных вещей. Предстоящий арест этого
выслеженного вражеского посланца означал удачное завершение поисков
недостававшего Грачику материала для изобличения преступников, еще не
взятых, но которые будут взяты и, конечно, станут отрицать свою связь
с антисоветским эмигрантским зарубежьем и с Католическим действием.
Грачик был уверен, что, как они и сговорились, Кручинин ждет черного
посланца Рима на месте разоблаченной явки заговорщиков и, наверно,
зажег уже лампочку над крыльцом. Стертые ступени крыльца уже не раз
заставляли Грачика спотыкаться из-за их нелепой неодинаковости. Словно
в давние времена, когда рука каменотесов вырубала эти грубые камни,
людей мало заботил ритм собственных движений. В темноте совершенно
невозможно было на память приспособиться к грубым плитам, то низким и
широким, то узким и непомерно высоким.
Следуя за незнакомцем, Грачик свернул в кривой темный проулок, и
почти тотчас вдали вспыхнула одинокая лампочка там, где была явка и
где вместе с оперуполномоченными Кручинин ждал вражеского связника. В
свете лампы Грачик первый увидел высокую фигуру человека с бульвара.
Рука человека еще покоилась на ручке звонка, когда дверь отворилась и
появился Кручинин. Несмотря на небольшое расстояние, разделявшее
незнакомца и Грачика, Грачик не слышал, чтобы пришелец ответил на
вопрос Кручинина прежде, чем Нил Платонович отворил дверь. А может
быть, Кручинин вовсе и не произнес обычного "кто тут"? Так или иначе,
но не больше секунды Кручинин и незнакомец стояли друг против друга в
квадрате отворенной двери. Внезапно Кручинин, защищаясь, заслонил лицо
рукою и толкнул пришельца в плечо. Тут же сверкнула короткая вспышка
выстрела. Стрелявший отшатнулся, будто в смертельном ужасе, и побежал
прочь. По-видимому, он не ждал преследования. Ошеломленный появлением
Грачика, в растерянности приостановился было, судорожно метнулся из
стороны в сторону в тупике переулка, и тут же раздался еще один
выстрел. Когда Грачик добежал до преступника, тот лежал на мостовой.
Было отчетливо видно, как несколько раз, словно подмигивая, дернулось
его веко.
С неровных ступеней крыльца медленно спустился Кручинин. Держась
рукой за левое плечо, с гримасой боли на лице он подошел к самоубийце.
- Вы ранены? - с беспокойством спросил Грачик.
- Кто же мог думать, что он начнет с выстрела, - криво усмехаясь,
ответил Кручинин. - Это моя вина: террориста, пуля которого
предназначалась Инге Селга, я принял за связного... Вот и все.
Через час, сидя у постели Кручинина, Грачик в сомнении говорил:
- Быть может, вы и правы: пуля предназначалась Инге, но почему же
они решили убрать Ингу прежде, чем она выполнила их диверсионное
задание? Не вероятнее ли, что они хотели уничтожить в ней свидетеля
после диверсии?
- Вот, вот! Именно так и обстоит дело: логика исчезает из их
действий. Они начинают метаться и ломать свои собственные планы. Это
значит, что они хватаются уже за все, на что и сами мало надеются.
- Что вы имеете в виду?
- Исполнителей вроде этого жалкого семинариста! Где уверенность,
что, получив приказ убить Ингу после того, как она совершит свое
черное дело, он поспешит... эти сопливые "лжезлодеи" в подрясниках
вовсе не такие герои, какими кажутся Риму.
- Но этот субъект может оказаться не одинок! - обеспокоено
воскликнул Грачик. - Если ошибся или струсил один, то другой...
- Поживем - увидим, - неопределенно буркнул Кручинин. - Ты лицо
должностное, тебе и книги в руки: решай, как быть, что делать.
- Но вы же...
- Я?.. Я только твой старый советчик. Вот и все. К тому же
советчик, так часто ошибающийся, что, пожалуй, лучше тебе и не
обращать на меня внимания.
- Все будет обстоять, как должно, - не очень послушными губами
выговорил Шилде.
- С божьей помощью.
- Я больше надеюсь на своих молодцов, чем на вашего бога!
- Не болтайте гадостей! - с пышным жестом пьянеющего человека
запротестовал Ланцанс.
- Я ведь не называю болтовней те святые бредни, что вы вещаете с
амвона. Это невежливо, епископ! Но не беда, давайте опрокинем по
рюмашке в честь знаменательного дня?
Ланцанс молча взял одну из рюмок, принесенных для Шилде, и
медленно выцедил кюммель. При этом он сделал такую гримасу, словно
влил в себя отраву, и поспешно отхлебнул глоток шоколада.
- Видите ли, дорогой мой друг. - В голосе епископа звучало
откровенное желание установить мир, поэтому Шилде дружески шлепнул
своего визави по лежавшей на столе руке. - Мы не так богаты людьми,
чтобы разбрасывать агентуру на ветер. Это же наше достояние, вложенное
нам господом богом в десницу, как меч для борьбы с нечестивцами.
- Ей-же-ей: бог отпустил нам с вами такое количество этих самых
"мечей", что можно не экономить, - рассмеялся Шилде. - Деньги - вот
чего мало! А люди?! - он протяжно свистнул. - Право же, они не стоят
ваших святых забот.
- Слушаю вас, - умиленно произнес Ланцанс, покачивая головой и
щурясь на начатую рюмку, - и светлая радость проникает мне в душу.
Может быть, вы правы: не стоит тратить нервы на людей. Господь думает
о них лучше нас с вами. Он лучше знает, что есть благо.
- Чертовски много забот у господа бога... Но, разумеется, он-то
знает, - пробормотал Шилде, - старик знает!
- И я напрасно терзаю свое сердце мыслями о таких, как Изабелла,
- уныло ответил Ланцанс.
- Аппетитная девчонка... но что поделаешь, живой инвентарь,
сданный в аренду, всегда может околеть.
Под влиянием выпитого Ланцансу хотелось сказать, что он уже
разделался с Ингой. Ему хотелось прихвастнуть тем, что в Риге у него и
без Шилде есть кому выполнить задание. Слова висели у него на кончике
языка, но он одумался: даже тот, кому поручено выстрелить в Ингу,
покончит с собой. Орден знает: надежно молчат только трупы. Ланцанс
удовлетворился тем, что мысленно посмеялся над Шилде, и с чувством
превосходства, хотя и ласково, проговорил:
- Вы мошенник, Шилде, но не думайте, что вы умнее всех! Изабелла
не вернется оттуда, и вы должны заплатить мне ее полную стоимость.
- Вот еще! - фыркнул Шилде и предостерегающе поднял палец. -
Осталось несколько минут. - Шилде уставился на часы и стал постукивать
пальцем в такт конвульсиям секундной стрелки. Ланцанс тоже вынул свои
неуклюжие старые часы, с трудом поднял непослушную крышку.
- Кажется, ваши спешат на две минуты, - озабоченно сказал он.
- Идя сюда, я проверил их секунда в секунду. Осталось... да,
осталось ровно четыре с половиной минуты.
- Тогда я поставлю свои...
- Бросьте старую развалину, следите по моим, - трезвея от
нервного напряжения, сказал Шилде и подвинул часы так, чтобы стрелки
их были хорошо видны обоим.
- Помолимся же о душах тех, кто предстанет сейчас перед
престолом, - прошептал Ланцанс и поднял глаза к потолку. Там взгляд
его встретил плывущую по плафону пышнотелую особу, окруженную веселыми
амурами. Их пухлые тела были словно перевязаны ниточками, и все они
весело улыбались. Ланцанс с трудом оторвал взгляд от розовой нимфы и
опустил его на часы. Его тонкие губы едва заметно шевелились:
- "Ныне отпущаеши!"
84. ТРЕБУЕТСЯ УСЛУГА СТАРОГО КОЛЛЕГИ!
Вернувшись домой, Ян Петрович нашел на столе записку жены:
"Звонили из ЦК. Тебя вызывают к товарищу Лукс".
"Товарищ Лукс?.." Фамилия была незнакома. Но кто бы ни был этот
Лукс, - речь идет о ЦК.
Вчера вечером, как только закончилось собрание партгруппы съезда
промкооперации, Мутный сказал Беле Исааковне, что едет на дачу, чтобы
побыть одному и хорошенько подготовить выступление на предстоящем
наутро заседании съезда: нельзя ж ударить лицом в грязь, когда вас
избирают в Совет промкооперации! И дернул же его черт вместо дачи
отправиться невесть куда! Вообще нужно взять себя в руки, он
подраспустил вожжи. Его время еще придет!.. Повертел в руках записку
жены, поднял телефонную трубку и соединился с товарищем Лукс.
- Вышло так досадно: никак не мог думать, что понадоблюсь...
- Да, вам необходимо зайти... - довольно сухо ответил Лукс.
- Конечно, конечно, сейчас же, - заискивающе повторил Мутный. -
Вот только не знаю, как быть с заключительным заседанием съезда?
Пожалуй, будет неудобно, если я там не покажусь.
- Поезжайте на съезд, - после секунды размышления сказал Лукс. -
Это будет полезно. А оттуда прошу сюда. Пропуск заказан.
- Полезно?! Да, делегатам действительно полезно посмотреть на
своего будущего избранника Мутного. А кроме того, кому же не приятно
видеть собственный триумф?
Ян Петрович оглядел себя в зеркало; чуть-чуть выше, чем обычно,
поднял голову и не спеша, с заложенными за спину руками стал
спускаться с лестницы. Сегодня ему уже не предстояло любоваться
витриной ювелирторга и стоять перед надоевшими до тошноты книжными
новинками. Он едет совсем в другую сторону, чтобы раз и навсегда
забыть дорогу в Совет культов. Ян Петрович спускался, уверенно находя
ногой ступени темной лестницы. Скоро он прикажет провести сюда свет.
Небось в промкооперации найдется парочка монтеров и немножко провода,
чтобы осветить лестницу Яна Мутного!..
До низа оставался один марш, когда Ян Петрович вздрогнул от
неожиданности: от ниши к стене, где в прежнее время стоял диванчик (Ян
Петрович непременно прикажет поставить там диван - он тоже имеет право
на слабое сердце!), отделилась темная фигура, и голос, показавшийся
Яну Петровичу знакомым, тихонько произнес:
- Несколько слов...
Ян Петрович в испуге отпрянул: он узнал Строда. Что нужно этому
человеку? Мутный не хочет больше слышать намеков на свое прошлое.
- Убирайтесь! - строго сказал он. - Я обращусь в милицию.
Даже притопнул ногой и, повернувшись, сделал шаг к последнему
маршу, но тут же почувствовал на плече тяжелую цепкую руку:
- Нам нужно поговорить, - хрипло повторил Квэп.
Сильным движением он заставил Мутного повернуться к себе лицом. И
только тут Ян Петрович обратил внимание на его странный наряд: измятая
кепка и милицейская шинель со споротыми погонами придавали ему
неряшливый вид.
- Если вы не хотите, чтобы вас сегодня же выкинули со съезда,
советую меня выслушать, - грубо проговорил Квэп.
- Что еще? - стискивая зубы, чтобы удержать дрожание челюсти,
прошептал Мутный.
- Приюта на один день... Где хотите - хоть на чердаке! Но так,
чтобы ни одна душа не знала. Я завтра же уеду... Навсегда.
Ян Петрович почувствовал, что им овладевает состояние, похожее на
приступ морской болезни. Колени сразу так ослабли, что он вынужден был
прислониться к стене и даже уперся в нее растопыренными руками: его
качало из стороны в сторону, как на палубе корабля. Но только на один
короткий, как молния, миг в уме Мутного сверкнула мысль о том, что,
может быть, именно сейчас-то и следует обратиться к милиции. Всего на
один миг. В следующее мгновение он уже лихорадочно обдумывал, куда
спрятать проклятого выходца из прошлого. Опустив руку в карман пальто,
он сжал теплый металл лежащего там ключа.
- Лиелупе... проспект... - Можно было подумать, что он забыл
адрес своей дачи. Наконец он назвал его плохо слушающимся языком и
добавил: - Не раньше ночи, чтобы никто не видел... Дальше он уже не
мог говорить: закрыл глаза и слабо махнул рукой, умоляя оставить его.
Прошло несколько минут после того, как по ступеням прошуршали
шаги Строда-Квэпа. Ян Петрович с трудом разомкнул веки. Они были
тяжелы, как свинцовые крышки. Свинцовыми были руки, свинцом налились
ноги. Яну Петровичу стоило усилия отделиться от стены и преодолеть
последний марш лестницы.
К началу заседания съезда он опоздал. Но он знал, что сегодня в
повестке один-единственный вопрос: избрание руководящих органов
Совета. Поэтому он, не задавая вопросов, подсел к столу президиума. На
трибуне сменялись ораторы, предлагавшие голосовать за тех или других
кандидатов в Совет. Яна Петровича нисколько не беспокоило то, что его
имени никто не назвал. Было очевидно, что его выдвижение прошло
раньше. Ян Петрович вглядывался в лица делегатов: мужчины и женщины,
молодые и старые, квалифицированные специалисты и рядовые рабочие. От
нечего делать он пробовал определить профессию того или иного
делегата, отыскивая ее признаки в повадке, в чертах лица. Это ему
редко удавалось. Разве только судовых кочегаров да грузчиков угля он
по старой привычке мог сразу выделить из других профессий... Это
занятие ему наскучило. Он охотно пошел бы в буфет выпить черного пива,
но жаль было пропустить момент, когда председатель начнет зачитывать
список кандидатов. Хотелось услышать реакцию зала на свое имя.
Вот, наконец, председатель встал и прочел имена предложенных
кандидатов. Мутного среди них не было. Ян Петрович беспокойно заерзал
на стуле. Ноги снова стали такими же непослушными, как давеча на
лестнице, но он заставил себя подняться и осторожно подошел к
председателю. Тот почувствовал чье-то присутствие, услужливо
оглянулся, но, увидев Мутного, бросил: "Потом, потом". По его тону Ян
Петрович понял: что-то случилось. Он обвел взглядом лица сидевших в
президиуме. Этого было довольно, чтобы окончательно понять: сухость
председателя не была случайной. Ян Петрович поплелся за кулисы, чтобы
скрыться от взглядов, которые, впрочем, вовсе и не были на него
направлены. Ему напрасно казалось, будто он - в центре внимания. Его
лицо горело, а руки стали холодными-холодными. Ни с кем не
простившись, он вышел на улицу.
Широкая лестница, ведущая к дверям ЦК, высилась перед Мутным, как
непреодолимая крутизна Монблана. Два раза поднимал он ногу, чтобы
ступить на ее нижнюю ступень, и два раза опускал на асфальт тротуара.
И только из-за того, что наверху в подъезде показался кто-то, - Мутный
не мог даже разобрать, кто именно, - он заставил себя согнать с лица
выражение испуга и стал медленно-медленно, ступень за ступенью,
подниматься на этот гранитный Монблан.
85. НАХОДКА ЯНА ПЕТРОВИЧА
Когда Ян Петрович поднимался к себе (лестница была темной, и
теперь уж никто ее не осветит), сердце его стучало, как огромный
молот. Удары отдавались в висках, в затылке, казалось, даже кончики
пальцев вздрагивали от напора пульсирующей крови. Еще никогда в жизни
ему не было так страшно... Да, да, именно страшно!.. Он отер потные
руки о подкладку карманов и с трудом попал в узкую скважину замка.
Он не пытался бодриться. Покорно проглотил порошок, поданный ему
Белой Исааковной, и запил его целым стаканом воды. Как был, в костюме,
повалился поверх кружевного покрывала и надвинул подушку на голову,
чтобы избежать расспросов жены. Ему и в голову не приходило, что жена
знает все. Знает, что вчера, после того как съезду стали известны
кандидаты в Совет, предлагаемые партгруппой, в Центральный Комитет КПЛ
приехало несколько делегатов, представлявших на съезде портовых
рабочих лиепайского порта. Они спросили: известно ли руководящим
органам партии, что выдвигаемый в Совет промкооперации Ян Мутный во
времена ульманисовской диктатуры, являлся одним из активных
функционеров лиепайского отделения желтого Вселатвийского профсоюза,
состоявшего на откупе у судовладельцев и предпринимателей. Двое
делегатов нынешнего съезда лично знали Мутного в те времена. Они тут
же подписали официальное заявление в ЦК. Заявление должно было быть
расследовано. Прежде всего следовало услышать от самого Мутного,
почему он при поступлении в партию скрыл свою прежнюю деятельность?
Старший контролер Лукс весь вчерашний вечер напрасно ожидал
появления Мутного. Нужно было откладывать выборы или снять кандидатуру
Мутного. Экстренно собранная партгруппа съезда решила не рекомендовать
Мутного в Совет: заявление бывших грузчиков лиепайского порта звучало
убедительно. Дело Мутного должно было идти своим чередом в партийном
порядке.
Побывав в ЦК, Ян Петрович понял: придется сдать партийный билет.
Это было ясно. Но как только мысль доходила до этого пункта, все
начинало казаться невероятным: если бы не сокрытие темного факта
биографии, то сам по себе факт принадлежности к Вселатвийскому
профсоюзу не помешал бы ему плодотворно работать и заслужить доверие
народа. Как часто бывает в таких случаях, мысленный вопль "черт меня
дернул скрыть" был единственным отчетливым пунктом в мешанине,
заполнявшей мозг. Снотворное не прекратило работы мозга. Сквозь муть
полусознания давило что-то темное и тяжкое. Преодолевая дремоту, он
вдруг вспомнил: на даче у него - этот... Строд! И второе "черт меня
дернул" прорезало мозг. Мутный встал, подошел к окну и дернул штору
так, что ее оборванный край неуклюже повис поперек окна. Улица шумела
все еще продолжающимся, невыносимо длинным нынче днем. Мутный взглянул
на часы: оказывается, он проспал всего пятнадцать минут. Это со
снотворным-то!.. Что же заставило его вскочить?.. Что?.. Ах, да -
Строд на даче!
Шаркая, словно прошел сто километров, Мутный поплелся из комнаты
в комнату. Ему нужен второй ключ от дачи. Сейчас же нужен ключ! Он
обошел все пять комнат - в квартире царила та самая тишина, которой он
прежде так гордился, как признаком респектабельности. Но теперь эта
тишина казалась ему не аристократической, а могильной. То, что жена
ушла в такой день, казалось признаком конца. Именно конца!.. Однако...
Что?.. Ах, да: он должен немедленно избавиться от этого типа, сидящего
на даче. И в такой день, когда могут... Что могут?.. Нет, нет, это уже
глупости! Никто ничего не смеет подумать об Яне Мутном! Кто смеет
заподозрить?! Да, но если уж выяснилось, что он скрыл свою
принадлежность к желтому профсоюзу?.. Всего-навсего?! Ведь никто же не
называл преступниками людей, когда-то входивших в это объединение.
Почему же так преступно глупо получилось у него?.. Неужели потому, что
открыть свое членство во Вселатвийском профсоюзе - значило сказать
только десятую долю того, что нужно было открыть! А забастовка рабочих
- сторонников рижского ЦБ в лиепайском порту, а срыв этой забастовки
силами штрейкбрехеров, поставленных Вселатвийским профсоюзом? А его,
Яна Мутного, участие в этом?
По мере того как приходили воспоминания, Яну Петровичу делалось
все более не по себе: совсем, совсем некстати на даче у него торчит
этот Строд!.. Да и Строд ли он вообще?.. Может быть, самое правильное
позвонить в Комитет Государственной Безопасности и сказать, что он
заманил к себе на дачу подозрительную личность?.. Нет, глупо! Как
только возьмут Строда, он начнет болтать и наплетет еще невесть что, о
чем, может быть, забыл сам Ян Петрович и что было бы совсем некстати в
нынешней ситуации... Нет, нет! Подальше от КГБ. Еще удастся как-нибудь
ликвидировать все это своими силами... Нужно только поскорее
отделаться от Строда. Для этого нужен ключ от дачи... Ключ от дачи...
Ключ от дачи! Немедленно ехать в Лиелупе, и если там еще нет Строда,
вызвать милицию: пусть он, подходя к даче, увидит милиционера - это
отобьет у него охоту лезть туда... Да, да, вот верный план! Но куда же
Бела девала ключ? Ян Петрович судорожно рылся в туалете жены,
отыскивая второй ключ от дачи. Сколько дряни женщина способна напихать
в туалет! Он и не подозревал, что у Белы есть все эти кремы и мази,
всякие приспособления для завивки, мытья, сушки волос и невесть для
чего еще! Какая суета сует, кажущаяся сейчас лишней, вовсе не нужной
для нормальной жизни нормальных людей! И конечно, как всегда,
вперемешку с помадой и подвязками, квартирные и телефонные жировки
(это вместо того, чтобы бережно складывать их в одно место!); рецепты
врачей и кулинарок (вместо того, чтобы аккуратно наклеивать их в
тетрадь); записки, письма... (вместо того, чтобы сжигать их). И даже
вон какое-то длинное-предлинное заявление... Какая-то копия? Нет,
черновик, очевидный черновик заявления... В ЦК?... Совсем странно:
какие дела у Белы с ЦК, о которых не знал бы он, ее муж? Как ни
торопился Мутный отыскать ключ от дачи, внезапно возникшее любопытство
взяло верх: взгляд с привычной легкостью бюрократа побежал по
неразборчивым строкам, наскоро, видимо, в волнении, набросанным его
женой. Но чем дальше он читал, тем медленее двигался его взгляд.
Наконец, остановился совсем. Рука, державшая лист, опустилась. Потом
через силу снова поднял лист к глазам и принялся еще раз читать уже
прочитанное. На этот раз вникал в смысл каждого слова: "Со слов
товарищей, знавших мужа во времена буржуазной республики, мне стало
известно его прошлое. Эти товарищи, являющиеся сейчас делегатами
съезда промысловой кооперации (их имена - ниже), колеблются открыть
то, что им известно и что, по моему убеждению, несовместимо с
руководящей работой, на какую сейчас выдвигается Ян Мутный. Я
посоветовала им обратиться в Центральный Комитет, но у меня нет полной
уверенности, что они это сделают: некоторые из них, не члены партии,
ложно представляют себе, будто это не их дело и будто партия и без них
знает, что делает, и не нуждается в их советах. Поэтому я считаю своим
долгом передать вам с их слов то, что я узнала о своем муже Яне
Мутном!"... Дочитав до этого места, Мутный судорожно смял лист. Он уже
знал, что написано дальше, знал имена... Прошло, вероятно, несколько
минут, прежде чем он разжал большой крепкий кулак - кулак грузчика, -
и удивленно посмотрел на ком бумаги. С остервенением швырнул его на
пол и растоптал ногой. Раскидывая в ящиках туалета все, что попадалось
под руку, он отыскал наконец ключ от дачи.
Но какова Бела, какова эта тихоня с ее идеалом "респектабельной"
жизни! Донос на "Яна Мутного"! Он стал для нее всего только "Яном
Мутным"! Ненависть горячей волной залила мозг: попадись ему сейчас
Бела, она узнала бы, что такое кулак грузчика, - одним ударом он
свалит ее с ног, будет бить и топтать. Проклятая баба!.. "Ян
Мутный"!.. Дай только время избавиться от Строда, и он покажет
доносчице, чего стоит измена "Яну Мутному"! Уже одетый, собравшись
было уходить, он вдруг вспомнил о глухой старухе. Он прикажет ей
впустить Белу в дом, запереть дверь и убрать ключ, чтобы жена не могла
сбежать до его возвращения из Лиелупе. И уж тогда...
Ян Петрович быстрыми шагами направился к каморке прислуги, но,
отворив ее дверь, остановился как вкопанный: на убогой постели лежала
вовсе не старуха, а на спине, с беспомощно повисшей к полу рукой,
вытянулась Бела Исааковна. Ее лицо, каким он никогда его не видел,
было похоже на маску покойницы - бледное, с заострившимися чертами, с
глубокой складкой страдания вокруг рта. На комоде, у изголовья, стоял
наполовину опорожненный стакан с водой и валялась стеклянная трубочка
из-под лекарства. Когда прошло первое удивление Яна Петровича, он
сделал было шаг в каморку: он мог сейчас же расправиться с Белой
Исааковной, сделать все, что собирался сделать по возвращении с дачи.
Стараясь не шуметь, осторожно замкнул дверь, вынул ключ из замка и,
просунув в щель под дверью, ударом ноги толкнул в каморку как можно
дальше. Несколько времени постоял у двери, опустив голову, тупо глядя
в пол.
Наконец, входная дверь без шума затворилась за Мутным. Покинутая
им квартира представляла собою удивительную картину: все ящики
письменного стола, шифоньера, комода были выдвинуты, ил содержимое в
беспорядке раскидано по полу. В кабинете на газовом камине - гордости
"аристократического" быта Яна Петровича - громоздилась гора пепла.
Огонь широкой горелки был погашен. В комнате стоял чад горелой бумаги,
все больше перебиваемый запахом газа, продолжавшего выходить из
незакрытой горелки в камине.
Начинались сумерки, когда Мутный сошел с поезда на платформе
Лиелупе. Накрапывал дождь, и Ян Петрович поднял воротник пальто.
Право, он поднял воротник и надвинул на уши шляпу только из-за дождя,
а вовсе не для того, чтобы его труднее было узнать. Он шел прямо через
лес, неудобным, но самым коротким путем: лишь бы поскорее перехватить
проклятого Строда! Оскользаясь на корнях сосен, увязая в зыбком песке,
с иглами хвои, набившимися в ботинки, Мутный бежал, задыхаясь. Этот
отвратительный тип, наверное, рыщет вокруг дачи! А может быть, нарушив
приказ Мутного, разлегся на диване в комнате Яна Петровича, уверенный
в своей безопасности. Ян Петрович приостановился на углу своей улицы и
осмотрелся: ставни дачи затворены, калитка на запоре. Нарочито не
спеша подошел к палисаднику на случай, ежели его кто-нибудь видит.
Стукнула щеколда, звякнули стекла балконной двери. Если "Строд" уже
здесь - он это непременно услышал.
Ян Петрович хотел было выйти во двор, чтобы снаружи оглядеть
чердак: если что-нибудь подозрительное увидит он, то значит могли сто
раз увидеть и другие. Но тут же подумал, что соседи могут заметить и
его самого разглядывающим чердак. Все еще нерешительно переступил
порог столовой. Тут ему показалось, что за его спиной кто-то есть.
Быстро обернулся и в испуге попятился: он не знал этого человека.
Строд тут не один? Немедленно, как можно скорей выгнать этих людей!
- Отдайте ключ и немедленно вон! - резко проговорил он, как умел
приказывать, когда сердился.
- Ваш ключ? - спросил незнакомец.
- Не валяйте дурака, - прикрикнул Ян Петрович совершенно так же,
как сегодня утром на него самого цыкнул Строд. - Ключ!
- О каком ключе вы говорите?.. - спокойно спросил незнакомец и
вдруг рассмеялся: - Ах, вот оно что: вы отдали ему ключ. - И сразу
став серьезным, также спокойно и твердо сказал: - Садитесь!
В третий раз за этот день ноги Яна Петровича отказались его
держать. Зубы Яна Петровича еще стучали по краю поданной ему чашки с
водой, когда незнакомец, приготовив бланк, задал первый вопрос:
- Фамилия? Имя, отчество?
Ян Петрович будто и не слышал вопроса. Его расширенный взгляд был
устремлен на бланк протокола, и в голове лениво толклась несуразная
мысль: почему он розовый?.. Розовый бланк?!..
Прервав составление протокола, уполномоченный негромко сказал
вошедшему из соседней комнаты сотруднику:
- Проверьте: снаружи дача должна казаться пустой, - и добавил,
поглядев на понуро сидящего Мутного: - И полная тишина... Мы даже
прекратим эту беседу.
Из этого Ян Петрович сделал вывод, что "Строда" еще нет, и
вздохнул с облегчением. Не потому, что он за него боялся, нет! С
величайшей готовностью задушил бы он сейчас этого субъекта
собственными руками. А просто Яну Петровичу казалось: не появись Строд
- и улик против него, Мутного, не будет. Все окончится простым
испугом. Если за минуту до того он был готов повиниться, - то сейчас,
когда мелькнула эта надежда, решил молчать.
- Странное недоразумение, - начал было он, но уполномоченный
только строго взглянул на него, и Мутный поспешно закивал головой и
осторожным движением, будто даже оно могло нарушить тишину, отер
вспотевшие от страха ладони о брюки.
Квэп еще издали, едва перейдя проспект Булдури, стал
приглядываться к тому, что делается вокруг. Он прошел мимо нужного
поворота и непринужденно зашагал к морю. Только оттуда, укрываясь за
соснами, повернул обратно к даче Мутного. Уже начав было обходить
участок, заметил в заборе заднюю калитку, выходившую на дюны. В нее
можно было войти, оставаясь невидимым с улицы. Калитка была не
заперта. Квэп остановился, прислушиваясь, и даже, как волк, понюхал
воздух. Он не замечал этого движения. Оно было инстинктивным и со
стороны выглядело странно. Внимательно, не переступая границы участка,
пригляделся к затворенным ставням. В них было что-то, что ему не
нравилось. Силился вспомнить: не был ли вон тот ставень в окне второго
этажа отворен утром, когда он делал разведку. Почему же он затворен
сейчас так же, как все ставни первого этажа? Ведь с утра на даче
никого не должно было быть!.. Квэп отступил за сосну и терпеливо
стоял, не шевелясь. Малейший звук, раздайся он на даче, был бы ему
слышен. Но там было тихо. Как вдруг Квэпу показалось, что в сердечке,
вырезанном в подозрительном ставне, что-то шевельнулось - едва
заметно, на один короткий миг... Квэп сунул сжатые кулаки в карманы
пиджака с такою силой, что треснул шов на плече: - Почудилось или?..
Он продолжал наблюдать. И вот теперь уже был уверен: в отверстии
сердечком - человеческий глаз. Может быть, наблюдатель просто моргнул.
Но этого было достаточно. Квэп отделился от укрывавшего его дерева и,
пренебрегая необходимостью скрываться, - теперь это, очевидно, уже не
имело значения, - зашагал к главному проспекту. Все ускоряя шаги, он,
незаметно для себя, даже побежал. Из-за забора какой-то дачи его
облаяла овчарка. Спохватившись, перешел на шаг. На проспекте Булдури
огляделся; слева, от военного санатория медленно двигалось такси; у
стекла - зеленый огонек. Квэп шагнул на середину улицы и поднял руку.
- Быстро!.. - приказал он, вскакивая в заднее отделение кабины.
- Если далеко, придется заправиться, - предупредил шофер.
- Заправимся двадцать раз. Нажимайте! - раздраженно приказал он
сквозь стиснутые от нервного напряжения зубы.
- Тут ограниченная скорость, - невозмутимо возразил шофер, не
увеличивая скорости.
Из-за поворота, ведущего к вокзалу Лиелупе, показались двое
прохожих. Они были пьяны и, не обращая внимания на сигналы шофера,
остановились посреди дороги. Один из них поднял руку, желая задержать
машину.
- Не смейте останавливаться! - приказал Квэп.
Чтобы не сбить пьяниц, шоферу пришлось резко затормозить. Пальцы
Квэпа впились в его плечо. Горящими от ненависти глазами он смотрел на
покачивающегося перед стеклом машины человека. Тем временем второй
пьяный рванул дверцу и без церемоний влез на сиденье рядом с Квэпом.
- Не снимайте рук со спинки, - проговорил этот человек неожиданно
трезвым голосом. В то же мгновение второй пьяный очутился рядом с
шофером. Не ожидая указаний, шофер дал газ и свернул к вокзалу, но на
первом же уширении дороги развернулся и полным ходом поехал обратно к
даче Мутного. Квэп молчал: он понял все. Мысли остановились. Только
пальцы все крепче впивались в спинку переднего дивана, пока рука
соседа, быстро обшарив его карманы, овладевала пистолетом.
"Вот и все..." - подумалось Квэпу. Он без сопротивления вышел из
автомобиля и пошел к даче по аккуратно окаймленной настурциями
дорожке. Особенно хорошо запомнилось то, что фасад дачи выкрашен в
желтую краску, а ставни обведены коричневой и зеленой полосой...
Ставни!.. Поднял взгляд ко второму этажу. Подозрительный ставень был
распахнут настежь.
Когда защитник, назначенный Квэпу, ознакомился с делом, он понял,
что Квэп виноват по всем пунктам предъявленного обвинения и адвокату
придется поломать голову, чтобы найти доводы для защиты. При всей
уважительности роли защитника в состязательном процессе адвокат не
испытывал удовольствия от необходимости доказать право на снисхождение
для заведомого врага народа, страны, государства и мира. Поступками и
мыслями Квэпа руководил теперь единственный мотив - животный страх.
Страх вытеснил все, вплоть до разумных доводов самосохранения. В таком
состоянии Квэп был меньше всего способен откровенно рассказать
обстоятельства дела. А только так адвокат мог разобраться в
политическом смысле и в психологической обстановке преступления. Быть
может, тогда опытному адвокату и удалось бы отыскать что-нибудь,
говорящее в пользу обвиняемого. Но Квэп молчал.
- Хорошо, - сказал, наконец, адвокат. - Единственное, что я могу
сделать в подобной обстановке, - найти повод для отсрочки дела. Это
даст вам время прийти в себя и понять, что в ваших интересах
рассказать мне все, а так... - адвокат развел руками.
Квэп оторвал взгляд от пола и, исподлобья глядя на защитника,
хмуро процедил сквозь зубы:
- Конечно! Вам заплатят за то, что выудите из меня признание.
Адвокат отбросил перо.
- Я обязан вас защищать. Понимаете: обязан! - с возмущением
проговорил он. - Наш Уголовно-процессуальный кодекс обеспечивает вам
защиту.
- Ну да, вы обязаны меня защищать. - Повторил Квэп. - Обязаны! -
И понизив голос почти до шепота: - Вытащите меня отсюда, и вы станете
богатым человеком. Слышите: богатым! Поедете куда хотите, построите
дачу у Черного моря. Настоящую виллу, такую, в которой приятно жить
хоть сто лет. У вас будет капитал на всю жизнь. Вы оставите вашим
детям столько, что им, как и вам, никогда не придется работать. - Квэп
говорил быстро. Брызги слетали с его губ. Адвокат брезгливо
посторонился, но не мешал ему говорить. - А если боитесь - мы вытащим
вас отсюда. Выбирайте страны, где хотите жить... Спасите меня, делайте
что-нибудь; заплатите следователю, судье - всем, кому надо, сколько
надо. Не стесняйтесь в деньгах. Только скажите, что вы меня спасете...
Что вы молчите? Боитесь продешевить?..
Он наклонился вперед так, что едва не касался подбородком стола.
Его глазки впились в лицо адвоката, рот был приоткрыт, дыхание с
хрипом вырывалось из груди.
- Боюсь, мы не поймем друг друга, - ответил адвокат и покачал
головой. - Если бы это не противоречило правилам советской адвокатуры
- я бы попросил освободить меня от защиты.
- Трус! - злобно прошипел Квэп. - И тот, кто придет вместо вас,
будет такой же трус!.. Хорошо, что вам не удалось поддеть меня.
"Откровенное признание!" Нет, нет, я ничего не говорил! Я ни в чем не
виновен. Я никогда не совершал ничего дурного. Меня принимают за
другого - я вовсе не Квэп!
Когда Квэп умолк, задохнувшись от душивших его злобы и страха,
адвокат, стараясь скрыть охватывавшее его чувство презрения, повторил:
- Попробуем затянуть дело. Появилось новое обстоятельство - новый
свидетель. Возбудим ходатайство о доследовании... - он терпеливо
излагал свои соображения, но Квэп даже не смотрел на него. Заметив
это, защитник собрал свои бумаги. Только когда стукнул отодвинутый им
стул, Квэп поднял было голову, но тотчас же уронил ее, и взгляд его
остался тупо бессмысленным. Таким и только таким видели его
следователь, прокурор, защитник. Несмотря на профессиональную привычку
к типам, внешне, может быть, еще более омерзительным, чем Квэп,
адвокат не мог заставить себя без отвращения говорить с ним,
советоваться, отыскивая способы спасения этой никому не нужной жизни.
Чем ближе он знакомился с подзащитным, тем тверже приходил к убеждению
в его неисправимости. А какой смысл сажать безнадежного нахлебника на
шею народу? Еще один иждивенец? Зачем возня с такими, как Квэп?.. Но
тут же сам адвокат восставал против подобного допущения. Он был членом
корпорации, чья обязанность - состязание с обвинением. В полную меру
своих знаний и способностей защищая преступника от карающей десницы
закона, адвокат способствует верному решению суда и действует на
пользу обществу. Только проникнувшись подобного рода убеждением, можно
было найти в себе силы защищать Квэпа.
88. ЕСЛИ БЫ ГЛАЗА ГОВОРИЛИ!
Ходатайство защиты о доследовании дела было удовлетворено. Вся
последующая работа Грачика велась под непосредственным наблюдением Яна
Валдемаровича Крауша. Генеральный прокурор часто присутствовал на
допросах, ничем, однако, не нарушая хода мысли Грачика и не вмешиваясь
в его действия. Взвесив все, что ему сказал когда-то по поводу этого
дела Спрогис, Крауш решил сам выступить с обвинением в предстоящем
процессе. Но и на этой заключительной стадии следствия Квэп, несмотря
на абсурдность такого поведения, продолжал искать спасения в отрицании
даже того, что он Квэп, что он Строд, что он Винд. В дополнение ко
всему он стал плакать. Слезы без конца и по всякому поводу, а иногда и
без повода представлялись ему средством защиты. Он тихо обливался
слезами или громко рыдал, выжимая из себя неиссякаемый запас слез.
Грачик решил еще раз быстро пройти по всему делу:
- Проследим ваш путь с момента появления в окрестностях Риги, -
сказал он Квэпу. - Вы приехали на остров у озера Бабите...
Квэп отрицательно качнул головой.
- Вы пришли на явочную квартиру на старой мызе.
- Отрицаю.
- Вы вступили в контакт с Линдой Твардовской, проживавшей на мызе
по документам Эммы Юдас.
- Отрицаю.
- Вы наладили связь с уголовником Василием Крапивой и завербовали
его в помощь себе для убийства Круминьша.
- Отрицаю.
Грачик молча нажал кнопку звонка и сказал вошедшему сотруднику:
- Введите Твардовскую, - и быстро обернувшись к Квэпу: - Вы были
у жены на острове в тот самый вечер, когда совершили покушение на мою
жизнь, отправив меня на дно Лиелупе. - Грачику показалось, что в
глазах Квэпа промелькнуло что-то вроде злобного торжества. Но он
молчал. - Отвечайте же, Квэп!
- Я никогда не был на острове... не совершал покушения.
Грачик положил перед Квэпом кусок картона, где, прикрытый
целлофаном, был наклеен окурок.
- Это ваш окурок, я взял его из пепельницы на столе у
Твардовской, когда вы убежали через заднюю дверь дома.
- Это не мой окурок.
- Нет, ваш! Вот доказательство. - Грачик выложил перед Квэпом
второй картон с целой коллекцией бережно расклеенных окурков. Концы их
были искусаны. - Это вы курили у меня, на предыдущих допросах. Все
папиросы носят следы тех же зубов, которыми был надкушен и кусок мыла
в доме некоего Винда в Цесисе... Помните такой случай?.. "Винду"
захотелось для верности намылить сделанную на веревке удавку... Да,
да, ту самую удавку, которой вы намеревались задушить Мартына
Залиня... Может быть, вы не помните и этого?
- Отрицаю... - с механической монотонностью пробормотал было
Квэп, но тут вспомнил, что в зубах у него и сейчас зажата папироса. Он
с испугом выхватил ее изо рта и швырнул в пепельницу. Потом,
спохватившись, взял окурок размял его. Все это он, не смущаясь,
проделал на глазах у Грачика.
- Это не мои окурки! - сказал Квэп. - Я никогда не курил ваших
папирос.
Обескураженный такой наглостью, Грачик несколько мгновений так
смотрел на своего подследственного, будто не понимал, как может
мыслящее существо, так или иначе homo sapiens, а не просто животное о
двух руках и двух ногах быть таким последовательно тупым и тупо
последовательным. (Буквально "мудрый человек" (лат.), т. е. мыслящее
существо.)
- И попытка утопить меня - тоже не ваших рук дело? - негромко,
как будто из последних сил, спросил Грачик.
- Нет.
- И вот это, - Грачик выбросил на стол гребешок с поломанными
зубьями, - не принадлежало вам?
- Нет.
- А между тем, - с новым зарядом терпения продолжал Грачик, - по
застрявшим на этом гребне волоскам эксперты установили, что он ваш. -
И не обращая внимания на то, что Квэп равнодушно пожал плечами: - Вы
выронили этот гребень, когда лежали под моей машиной и разъединяли
тормозные тяги вот этим ключом. Вы думали, что я стану спускаться с
берега в "Победе" и вместе с нею нырну на дно реки. - Грачик положил
перед Квэпом разводной ключ. - Разъединив тяги, вы бросили ключ в
кусты... Не сообразили, что нужно было забросить в реку и это орудие
преступления.
- Все, все отрицаю.
Ввели Линду Твардовскую.
- Вы не объясните нам, Твардовская, - обратился к ней Грачик, но
она перебила:
- Я не Твардовская, а Юдас.
- Хорошо, не спорю: Юдас-Твардовская, объясните, почему на
заброшенной и почти догола ободранной мызе появилось такое нарядное
зеркало? Золоченая рама и прочее...
Твардовская посмотрела на Квэпа.
- Он объяснит.
- Нет, Твардовская, - твердо проговорил Грачик, - я хочу
выслушать это и от вас.
Она с пренебрежением подняла одно плечо и, затушив окурок,
сказала:
- Он купил его в комиссионке, в Риге. По его мнению, было вполне
естественно, чтобы у меня стояло зеркало. В раму вделали второе стекло
- словно бы заднюю сторону зеркала. Это стекло покрасили суриком.
Между стеклами он хранил деньги. - Она вздернула подбородок: - В жизни
не видела столько денег. Тысяч на сто советских, доллары, фунты. Мне
хватило бы на всю жизнь... и с покрышкой.
- Что скажете, Квэп? - спросил Грачик.
- Отрицаю.
- Хорошо, - сказал Грачик, - пусть уведут Твардовскую...- Вот
что, Квэп у нас есть три следа ваших пальцев: заржавевший оттиск на
пистолете "вальтер", оттиск на этом самом зеркале и ваш собственный,
взятый при аресте, - они тождественны... А теперь, Квэп.
- Прошу не называть меня Квэпом, - ворчливо запротестовал Квэп. -
Я это отрицаю.
- Вы отрицаете даже то, что вы - это вы?
- Я-то - я. Но я не Квэп. Квэп погиб под поездом.
- Вас опознала Твардовская. А уж ей ли вас не знать? - Грачик
улыбнулся и посмотрел на Крауша, сидевшего с каменным лицом. Не
выдавая своих чувств, прокурор следил за происходившим. Он был доволен
тем, что вошел в дело сам. Это оказалось не только полезно, но просто
интересно. Удивительный тип этот Квэп. Насколько он возмущал Крауша, в
такой же мере его радовала работа молодого следователя.
Крауш с удивлением смотрел на Квэпа: по-видимому, слова Грачика
об опознании Твардовской нисколько не смутили Квэпа. Действительно,
тип более чем удивительный!
Но еще больше потрясло его, когда на очной ставке с Йевиньшем,
прямо указавшим на шрам на шее Квэпа и напомнившим преступнику о
происхождении этой приметы, Квэп даже не обернулся к портному, будто
вовсе его и не слышал.
- Значит, вы утверждаете, что Квэп погиб под колесами поезда, - в
который уже раз терпеливо повторил Грачик. - Что ж, я, может быть, и
поверил бы вам, если бы вы сказали мне, откуда вам известно об этом
происшествии и о том, что погибший именно Квэп? - Кажется, Квэп понял,
что на этот раз он проговорился. Он вскинул было на Грачика
злобно-растерянный взгляд, но тотчас же опустил его и не ответил на
вопрос. - И тут не хотите отвечать? Ясно же: вы попались!
- Нет...
- Хорошо, мы к этому еще вернемся. - Грачик сам удивился, как
вместе с ростом упрямства Квэпа росло его собственное терпение.
Удивлялся этому и радовался. С необыкновенным спокойствием сказал: -
Пойдем дальше: вместе с Крапивой вы подготовили инсценировку ареста
Круминьша.
- Отрицаю.
Крауш, не выдержав, раздраженно забарабанил пальцами по столу,
впрочем, он тотчас сдержал себя и только чуть-чуть покраснел.
- Получив форму милиционера, вы "арестовали" Круминьша, -
спокойно продолжал между тем Грачик. - Что вы с ним сделали - знаете
сами.
Наступило молчание. У Квэпа все еще был такой вид, будто все
сказанное прошло мимо его ушей.
- Ну-с? - повторил Грачик. С трудом можно было расслышать, как
Квэп повторил свое:
- Отрицаю.
Эта комедия могла вывести из себя кого угодно. Крауш искоса
посматривал на Грачика и думал об усилии, какого должно стоить южному
темпераменту прятаться за маску спокойствия при каждом новом
"отрицаю". Только легкая хрипотца, появившаяся в голосе Грачика,
выдавала меру его напряжения:
- Вы застрелили своего сообщника Крапиву, пистолет спрятали в
колодце заброшенного хутора там же на острове, смазав для сохранности
кремом Линды Твардовской. Для спуска пистолета в колодец использовали
веревку из того же мотка, из которого взяли кусок для удушения
Круминьша?
- Это неправда! - хрипло выбросил Квэп, громче, чем прежде. Было
очевидно, что детали преступления, так точно восстановленные
следствием, вывели Квэпа из равновесия.
- А вы не отрицаете, что вы - верующий католик, с уважением
относитесь к церкви и доверяете слову ее служителей? - спросил Грачик.
- Этого не отрицаю, - после некоторого раздумья ответил Квэп и
вздохнул как бы с облегчением.
- Значит, с доверием отнесетесь к показаниям священника Петериса
Шумана? А этот свидетель показал, что вы шантажировали его угрозой
открыть властям то, что когда-то он входил в организацию "Угунскруст"
и сотрудничал с айзсаргами. Петерис Шуман поверил вам, будто ему
грозят репрессии, если его прошлое станет известно советским властям.
За свое молчание вы потребовали от него услуги, одной-единственной,
говорили вы: предъявить нам фальшивую фотографию момента
инсценированного вами лжеареста Круминьша. Но насчет того, будто ваше
требование будет единственным, вы согрешили: вы послали к нему
переночевать Крапиву в ночь накануне преступления. Священник не знал,
что Крапива - ваш сообщник, и из жалости снабдил его собственной
рубашкой... Все это было, Квэп.
- Нет!.. Отрицаю.
- Речь идет о показании священника!
- Отрицаю... - И повторил для убедительности: - Все отрицаю!
Грачик подвинул ему папиросы. Квэп машинально закурил. Дым он
пускал медленно, густыми клубами, надолго задерживая в легких.
Казалось, он старался подкрепить этими затяжками иссякающее упрямство.
Грачик настойчиво, в десятый раз шаг за шагом прослеживал путь,
каким Квэп пришел к последнему акту - покушению на взрыв стадиона.
Перед столом следователя вторично прошли отец Шуман, мать Альбина,
старый рыбак, Лайма Зведрис, Мартын Залинь, закройщик Йевиньш, Эмма
Крамер, Онуфрий Дайне, лаборант из "Рижского фото", работники артели
"Точный час", жители Цесиса и Алуксне.
На столе побывали два пистолета, образцы веревки, нож с пляшущими
человечками, карандаш, блокнот, узконосые ботинки Квэпа, его "рябое"
пальто и кожаная тужурка Дайне. Одно за другим Квэпу были предъявлены
все заключения экспертов. Материал следствия был убийственно ясен,
улики неопровержимы. Но на все Квэп отвечал:
- Это не имеет ко мне никакого отношения.
Грачик отер пот со лба, провел платком под воротничком - он
чувствовал себя опустошенным этим поединком с моральным мертвецом.
Медленно, слово за словом, как будто каждое из них доставляло ему
огромный труд, сказал:
- Мы подошли к последнему... - Это слово он произнес с особенным
ударением и сделал паузу, надеясь, что, может быть, Квэп хотя бы
поднимет голову, посмотрит на него. Не каменный же он, черт возьми!
Неужели он не понимает, что значит это последнее? Покушение на жизнь
двадцати тысяч детей - перед таким замыслом бледнеет все, что Квэп
совершил прежде. Грачик вгляделся в лицо преступника. Оно оставалось
равнодушным. Да, да, неправдоподобно равнодушным! Это было лицо идиота
или мертвеца. И все же преступнику не удастся спрятаться за эту маску!
Разве двукратная экспертиза психиатров не нашла, что Квэп вполне
вменяем?.. Ему не удастся разыграть комедию симуляции. Грачик поставит
это чудовище перед столом судей! Голос Грачика вздрагивал от волнения,
когда он произнес: - Итак, последнее покушение на убийство двадцати
тысяч детей.
Слезы, стекавшие по щекам Квэпа, попадали ему на губы. Странно,
расплывчато, с хлюпаньем прозвучало очередное:
- Отрицаю.
Сопротивление раздражению, овладевшему Грачиком, было исчерпано.
Он сердито крикнул:
- Введите свидетельницу Ингу Селга.
Грачик велел Инге шаг за шагом описать, как она по приезде в Ригу
явилась к властям и рассказала, что ее перебросили сюда из-за рубежа
для диверсионной работы; как с целью закрепить ее тут организаторы
шпионажа инсценировали ее бегство; как ей было приказано установить
связь с Квэпом и помочь ему взорвать детей на стадионе; как она
установила, по приказу Квэпа, заряды в часах накануне праздника
пионеров.
За время, пока говорила Инга, Квэп, изменив себе, глядел на нее,
будто не веря тому, что перед ним действительно она - живая, настоящая
Инга. В его взгляде мелькало даже что-то вроде подлинного интереса к
происходящему. Когда Инга умолкла, он выкрикнул с неожиданной
энергией:
- Я никогда ее не видел, я ее не знаю! - Он утер рукавом слезы и
ехидно спросил: - Если все это было так, то почему же не произошло
взрыва? Ну-ка!
- Вас интересует только это? - спросил Грачик, глядя ему в лицо;
но на этот раз Квэп не отвел взгляда, не опустил головы и решительно
отрезал:
- Да! Это, именно это!
Инга взяла со стола одну из плиток шоколада и бережно сняла с нее
фольгу. Взгляду Квэпа предстала плитка обыкновенного шоколада. Он
глядел с удивлением, граничащим с ужасом.
- Разверните другую, - приказал Грачик.
Инга развернула вторую плитку. Грачик отломил кусочек шоколада и
протянул Квэпу.
- Можете попробовать, - с усмешкой сказал он. - По-вашему, это не
те плитки, которые Инга Селга получила от вас для закладки в часы? Вы
так думаете? - быстро проговорил Грачик. - На этот раз вы правы, Квэп.
Вот эти вы ей дали! - и Грачик выбросил на стол настоящие заряды.
Если бы человеку было дано говорить глазами, то сказанное в этот
момент взглядом Квэпа перевесило бы все его прежние "отрицаю". Этот
взгляд был признанием, которого тщетно добивался Грачик. На этот раз
Квэп даже забыл заплакать. Грачик поднялся из-за стола в знак того,
что работа закончена, и напоследок, не придавая своему вопросу особого
значения, спросил:
- Если все это не ваши преступления, Квэп, то кому же мы должны
предъявить обвинение, кто убил Круминьша, кто убил Крапиву, кто убил
Солля, кто покушался на жизнь Ванды Твардовской, на жизнь Залиня, на
мою, кто, потеряв рассудок и представление о своем человеческом
естестве, а по-вашему, о том, что он создан по образу и подобию божию,
покушался на жизнь двадцати тысяч детей, кто?
Голова Квэпа упала на грудь, и он закачался всем телом из стороны
в сторону. После некоторого молчания тихо ответил:
- Не я...
Грачик не знал, что делать: смеяться или в негодовании топать
ногами. Он смотрел на Квэпа не в силах выговорить ни слова.
89. ОТЕЦ ШУМАН ДЕЛАЕТ НАИВНОЕ ЛИЦО
Когда дело дошло до допроса Мутного, Грачик заявил себе
самоотвод.
- Это почему? - недовольно спросил Крауш.
- Я питаю к нему личную антипатию.
- А вы полагаете, он симпатичен мне?
- Но я не хотел бы внести личный элемент в допросы, - настаивал
Грачик. - К тому же дело Мутного может быть выделено из дела Круминьша
в самостоятельное производство, там можно, вероятно, добраться до сути
иезуитских происков у нас. Мутный может стать фигурой в интересном
политическом деле о происках иезуитов в сопротивлении умиротворению
Европы... Если бы моя воля - освободить бы Мутного из-под стражи: на
эту приманку можно выловить еще немало пикантной рыбки.
- Ох вы... экспериментатор! - Крауш покачал головой. - А как
относится к такой идее наш чародей?
Условились, что Грачик посоветуется с Кручининым. Освободив
Грачика от допросов Мутного, Крауш приказал ему все же присутствовать
на них. На первом же допросе Мутный повел себя так, как обычно ведут
себя подобные типы, - каялся, бил себя в грудь, метался от признания к
признанию. Он был жалок и отвратителен в стремлении оговорить как
можно больше людей, словно это могло смягчить его собственную вину.
Нередко субъекты, подобные Мутному, выглядящие мастодонтами в
привычной повседневности, превращаются в грязную швабру, если им
доводится занести ногу над порогом следователя. Грачик видел, с каким
облегчением вздохнул следователь, когда арестованного увели из
кабинета. Содержащийся в протоколе допроса список имен, названных
Мутным, в большей своей части был заведомо ложным. Даже в жизненном
пути собственной жены Мутный отыскал пункты, изобличавшие Белу
Исааковну. Не щадя жены, еще не оправившейся от тяжелого отравления
газом, он назвал ее "тайно сочувствующей" буржуазным перерожденцам.
Его не остановило даже то, что эта женщина, отлично понимая, кому
обязана тем, что едва не отправилась к праотцам, без колебания
заявила, что сама открыла газ и заперлась в каморке старухи-работницы,
намереваясь покончить с собой. Однако, проглядывая перечень имен,
названных Мутным, Грачик не мог не остановиться на имени священника
Петериса Шумана. Неужели служитель божий не сказал Грачику всего, что
знал?.. Почему Шуман отводил глаза всякий раз, когда Грачик, чувствуя
какие-то многоточия в его показаниях, настойчиво переспрашивал, не
забыл ли чего-нибудь Шуман?.. После некоторого колебания Грачик решил
не вызывать Шумана в Ригу, а сам отправился к нему в С. Он боялся
спугнуть священника, ежели тот почует неладное, и не хотел дать ему
времени на подготовку к вопросам.
Он застал Шумана в саду, за пересадкой молодых деревьев. С высоко
закатанными рукавами белой рубашки, священник производил впечатление
крепкого крестьянина. В холодном и влажном осеннем воздухе стоял запах
навоза, который Шуман размешивал сильными движениями мускулистых рук.
Покончив с этим, он взял заступ, и в несколько минут маленькая лунка
превратилась в яму, вместившую корни молодой березы. Без всякого
усилия держа молодое деревцо одной рукой, Шуман другою засыпал яму.
Грачику стало даже немного жаль нарушать такой труд - всегда
благородный и особенно мирный. Но нужно было застать священника
врасплох и по его реакции на вопросы судить о том, какая доля правды
содержится в оговоре Мутного.
- Сейчас я покончу с этим, и мы выпьем свежего молока... -
засыпая корни березки и приминая ногою землю, бросил Шуман. - Многие
люди считают ломоть хлеба и кружку молока слишком простою пищей. А на
мой взгляд, эти божьи дары - почти все, что нужно человеку нашей
крови.
- Вашей крови? - Грачик недоуменно поднял бровь.
- Простой мужичьей крови. Мы, латыши, - молочники.
- А мы армяне больше... насчет вина.
- Ну, что же, - весело отозвался Шуман. - Только фарисеи осуждают
тех, кто пользуется дарами неба, ниспосланными нам для поддержания сил
и услады земного пути, приближающего нас к грозному часу покаяния.
- Кстати о покаянии, - как мог беззаботно проговорил Грачик. -
Когда вы были у меня, то забыли рассказать об Ордене святого Франциска
Ассизского. - По тому, как нарочито медленно Шуман расправлял могучую
спину и как при этом исподлобья глядел холодными голубыми глазами,
Грачик понял, что попал в цель. Но делая вид, будто ничего не
понимает, продолжал с той же беззаботностью: - Что это за организация?
Руки священника были расставлены в стороны, выражая недоумение.
Выпачканные удобрениями, черные до локтя, выше они были ярко-розовыми.
Такою же розовой, пышущей здоровьем была толстая шея. Грачик видел,
как эта шея и коротко остриженный затылок священника заливаются
потоком хлынувшей к ним крови.
- Орден Франциска? - спросил, наконец, Шуман. - Почему вы
спросили меня об этом?
Шуман не спеша счищал грязь с рук; делал это старательно, шурша
ладонями по засохшим струпьям навоза. Потом подошел к висевшему на
столбике рукомойнику и принялся так же усердно мыться. Мылся он долго,
как будто забыв о госте. Тот терпеливо ждал, хотя знал, что каждая
минута оттяжки - это успешный шаг в отступлении Шумана. Но Грачик
этого больше не боялся: бой был уже выигран. Священник поднялся на
крыльцо и приказал служанке подать завтрак. Перекрестив поданные на
стол молоко и хлеб, указал Грачику на стул напротив себя.
- На том месте, - сказал он, опускаясь в кресло, - сидел и тот...
- Грачик молчал, обхватив пальцами стакан, запотевший от льда молока.
Грачик не глядел на Шумана, ему казалось, что и по интонациям голоса,
по движению его пальцев, лежащих на клеенке стола, он угадает все, что
могло бы сказать лицо священника. - В том, что я рассказал вам прошлый
раз, не было неправды. О нем и обо всех тех... Я нарушил их приказ
молчать потому, что старая присяга, данная когда-то в организации
"Ударники Цельминша", не может меня вязать пред господом. После тяжких
раздумий мне, кажется, удалось найти решение: я пришел к вам. - Не
желая мешать Шуману, Грачик выразил свое согласие молчаливым кивком
головы. - Но то касалось дел мирских. А сейчас... сейчас вы задали
вопрос о делах, в которых я связан обетом пред престолом господним.
Это дела церковные. Молитва не даст мне облегчения, если я совершу
грех клятвопреступления в отношении святой нашей церкви. - Он
помолчал. Грачик видел, как напряглись его толстые розовые пальцы,
надавливая на клеенку стола. - Прошу вас, - хрипло выговорил Шуман, -
не спрашивайте меня о том, чего я не могу сказать.
Грачик ждал продолжения. Но Шуман умолк. Его белесые брови были
нахмурены, глаза глядели из-под них колючие, неприветливые.
По-видимому, решив, что разговор закончен, Шуман поднес ко рту кружку
с молоком и сделал несколько больших звучных глотков. Но Грачик не
собирался сдаваться. Не спеша, методически, мысль за мыслью он
доказывал Шуману легковесность его доводов.
- Если вы хотите знать причину моего любопытства, - закончил
Грачик, - извольте: мне нужно выяснить, кто находится здесь под вашим
попечением и надзором в тайной организации Ордена.
Шуман сделал попытку улыбнуться, но те несколько складок, в
которые ему удалось собрать широкое лицо, не придали ему веселости.
- Это обычная ошибка дилетантов, - угрюмо сказал он, - будто в
монашеских конгрегациях все тайно. Орден святого Франциска вовсе не
тайная организация. Он существует более пятисот лет, как сообщество
нищенствующих монахов, посвятивших себя апостольской миссии
распространения веры. Орден доступен всякому, кто приходит ко Христу и
желает нести его имя по свету.
- Все это прекрасно, - сказал Грачик. - Но речь идет не об
открытом ордене францисканцев, а об его тайном ответвлении, о так
называемом Третьем ордене... Вот о чем я прошу вас рассказать... Если
вы будете упорствовать, то... - Грачик решил применить угрозу, - мне,
может быть, придется применить меры пресечения...
- Арестовать меня? - словно не веря ушам, выговорил Шуман.
- Да, как руководителя терциаров, - решительно выбросил Грачик.
- О, вы знаете и это слово?! - на этот раз в голосе Шумана звучал
испуг, который он не сумел скрыть. Он поднял огромную кружку и допил
молоко, очевидно, в потребности освежиться холодным, как лед, молоком.
- Здесь очень душно, - проговорил он, распахивая ворот рубахи. -
Вернемся в сад...
В саду было пасмурно и сыро. Что-то среднее между холодным
туманом и мелким дождем осаждалось на окружающих предметах. Скамья
блестела от влаги, но Шуман, не смущаясь, опустился на мокрые доски.
"Не боится никаких радикулитов", - усмехнувшись, подумал Грачик,
подкладывая под себя сложенный в несколько раз плащ. Ему не хотелось
перечить странной фантазии Шумана разговаривать под дождем. Тот сидел
насупившись, ссутулив спину и упершись кулаками в широкие колени,
словно удерживая свое тяжелое тело от падения.
90. ОРДЕН СВЯТОГО ФРАНЦИСКА
Молчание тянулось довольно долго. Наконец, продолжая смотреть в
землю, Шуман сказал:
- Вы не понимаете, чего требуете от служителя католической
церкви. Вы хотите, чтобы я нарушил самые строгие обеты, коими церковь
обязала меня хранить ее тайны.
- Но если эти тайны вредят вашей стране, вашему народу! -
воскликнул Грачик.
- Поверьте, - сердито проговорил Шуман, все не поднимая головы, -
никакие ваши доводы не заставили бы меня говорить, если бы я сам не
пришел к тому, что Третий орден тоже был рассадником врагов
государства, хотя не верю тому, что у нас есть люди, завербованные в
его ряды...
- Надеюсь, но это не причина, чтобы нам не знать подробности этой
организации... И с самого начала.
- Ab ovo? (Ab ovo - от яйца, т. е. с самого начала (лат.).)
С первых дней своей духовной карьеры Петерис Шуман понял, что и в
том мире существует белая и черная кость, есть аристократия и плебс.
Аристократы католической церкви - иезуиты - особенные существа,
считающие себя солью Рима, но не признающие его власти, защитники
римской церкви и самые верные ее сыны, однако желающие только
повелевать, но не повиноваться; "нищенствующая братия", не скрывающая
своей приверженности к богатству; смиреннейшие сыны церкви,
презирающие членов всех других конгрегаций - всех представителей
белого и черного духовенства, кто не иезуит. Даже кардинальская шапка,
если ею увенчан не выходец из их ордена, не спасает от убийственного
высокомерия иезуитов. И так же, как в любой другой корпорации,
презираемые и бедные всегда ненавидели презирающих и богатых, так и в
церкви отец Петерис с первых дней священства завидовал иезуитам и
ненавидел их. Но ненависть эту приходилось скрывать, потому что на
всех ответственных постах католической иерархии стояли братья Общества
Иисуса...
Шуман умолк и глядел на Грачика так, словно увидел на его лице
что-то удивительное, смешное, заставлявшее священника с трудом
сдерживать смех. И наконец он действительно рассмеялся. Это не был
просто смех, - Шуман хохотал, держась за бока, смех распирал его
большое тело, шею, лицо. Он заговорил, едва справляясь с голосом,
выбрасывая слова между приступами давившего его смеха:
- Я был простым семинаристом... Семинария для мужичьих сынков,
чьи родители считали уже невозможным, чтобы их отпрыски вместе с
мужиками ковырялись в земле, чистили свинарники, мыли коровье вымя и
месили навоз. - При этих словах Шуман вытянул руки, которыми только
что месил удобрение, как будто они подтверждали сказанное. - Я был
именно таким - сыном серого барона. В семинарию мне присылали столько
денег, сколько было нужно, чтобы не ходить в сутане с чужого плеча,
пить по вечерам кружку пива и изредка, ровно столько, сколько
требовало мужичье здоровье, бывать у женщин... У меня не было
дворянского герба, позволяющего втереться в компанию настоящих
баронов. Не было кредита, чтобы давать поддельные векселя, не боясь
тюрьмы. Это могли себе позволить сынки дворян и богачей, которых мы,
семинаристы, ненавидели еще с деревни, как мужики ненавидят помещиков.
Но мужики это скрывают - они боятся, а их дети этого не скрывают - они
не боятся и бьют помещичьих сынков, пока те не попадают в город и не
становятся корпорантами... Однажды на улице Риги, уныло бредя в
обществе таких же, как я, мужиков-семинаристов, я увидел компанию
корпорантов. Они остановили извозчика посреди мостовой, гуськом
всходили на его фаэтон, мочились на подушку сиденья, сходили с другой
стороны и становились в ряд, ожидая, пока то же самое проделают
остальные. Проходящие дамы отворачивались с деланным смущением, а
мужчины аплодировали "смельчакам". Да, да! Ведь на "смельчаках" были
корпорантские шапочки с цветами, "Фратернитас Вестхардиана",
корпорации "избранных"! Мы, семинаристы, завидовали этим разнузданным
пошлякам. И потому, что не могли себе позволить ничего подобного, -
ненавидели их. Большинство из них мы знали в лицо, как мужики всегда
знают своих баронов. Вот первым перелез через пролетку сеньор
Вестхардиана Эрик Линдеманис, за ним вице-сеньор Янис Штейнберг,
вприпрыжку подбежал к экипажу и ударил эфесом рапиры по шляпе
извозчика ольдерман корпорации Безис. Они наперебой похабничали и
щеголяли друг перед другом развязностью. И вот, в очередном
безобразнике, взошедшем на экипаж и расстегивавшем штаны, я узнал сына
нашего помещика молодого Язепа Ланцанса, того самого Язепку, которого
бивал в деревне, потому что был вдвое сильнее его. Но теперь на мне
дурно сшитая сутана, а на нем шапочка корпоранта и подмышкой - рапира.
Если бы вы знали, как я ненавидел его в те минуты! Хотя мое одеяние
обязывало меня любить ближнего, как самого себя... Но уже тогда я,
очевидно, яснее, чем нужно, "понимал: кто-кто, а уж он-то, молодой
Ланцанс, никогда не был и никогда не будет мне ближним!.. И каково же
мне было увидеть его потом в одежде новициата иезуитской коллегии?! А
позже?.. Ну, позже я должен был не раз целовать ему руку - его
покровительственно благословлявшую меня десницу. Ведь пока я
переползал со ступеньки на ступеньку в самом низу иерархической
лестницы, Ланцанс перемахивал сразу через две и три ступени. Я
добрался до положения декана - он был уже епископом... Да, все было в
порядке вещей: он управлял, мной управлял; так было и, как говорят
святейшие отцы, так будет во веки веков... - Грачику показалось, что
при этих словах могучие челюсти отца Петериса сжались столь сильно,
что зубы скрипнули от ненависти, которую ничего не стоило прочесть и в
его взгляде. И тут он снова рассмеялся. Но этот вымученный смех вовсе
не был похож на прежний. - Не обращайте внимания... Я не должен был...
Так велось от праотцов: наша духовная братия делилась на управляющих и
управляемых; на нищенствующих отцов - иезуитов в золоте и парче и на
"иных" в залатанных сутанах. Наставления Общества Иисуса говорили, что
объектом его работы должны быть богатые и знатные, что черпать
пополнение Ордена следует в высших кругах общества. Больше того, Орден
предписывал никогда и нигде не смешивать высших с низшими, богатых с
бедными, образованных с темными во избежание соблазна для "малых сих".
И не только вне духовенства, но и внутри него. Так мы, "сермяжная"
братия, отсекались от церковной аристократии.
Отец Шуман уверял, что, вопреки распространенному мнению,
Общество Иисуса не имеет "светских" членов. Это пустые сплетни: тайных
иезуитов не существует. Орден - замкнутая организация. Она не
допускает в свои ряды никого, кроме тех, кто целиком и полностью раз и
навсегда посвятил себя служению церкви, то есть Ордену, подчинил себя
церкви, то есть Ордену. Однако не всякая общественная и тем более
политическая работа может вестись людьми в сутанах. Поэтому Рим создал
другую организацию, специально предусматривающую членов-мирян,
светских солдат воинствующего католицизма. Святой престол создал так
называемый Третий орден святого Франциска Ассизского. Этот орден не
обязывает своих членов носить монашеское одеяние, жить в монастырях и
публично соблюдать обряды Ордена. Утверждая эту единственную в
католической церкви организацию, папа Николай IX возложил на нее
задачи проникновения во все поры общества, куда закрыт доступ человеку
в сутане.
- С тех пор терциары, так именуют этих тайных францисканцев,
являются тайной папской гвардией всюду, где нужна секретная работа
папизма. - Шуман помолчал, взвешивая, что еще можно сказать. -
Существует много светских католических организаций как в составе
Католического действия, так и вне его. Но нет второй, столь секретно
организованной, связанной таким обетом послушания и молчания, как
Третий орден. "Отпущение" - секретное наставление для терциаров - дает
представление об их обязанностях. Достаньте эту книгу, и вы все
поймете без моего разъяснения.
- Вероятно, ее не так просто получить? - сказал Грачик.
- Да, здесь, это, конечно, трудно, - согласился Шуман. - Наши
иерархи не очень-то охотно разглашают свои тайны. Ведь здесь у нас
католичество, если можно так выразиться, дышит на ладан. Осуществление
апостольской миссии церкви возможно только под покровительством тайны.
- Советская власть не препятствует никому в отправлении любого
культа.
- Вот!.. В этом-то и беда: любого! - воскликнул Шуман. -
Католиков поставили в одно положение с магометанами или иудеями. Для
вас баптист тоже верующий, а наша церковь рассматривает его как
еретика, едва ли не более опасного для церкви, чем идолопоклонник.
- Ну, это уж ваше внутреннее дело, - сказал Грачик, - не станем
же мы ради защиты одной религии подавлять другую.
- Но именно этого добивается от всякого государства папский
католицизм... Я с ужасом думаю о моей судьбе, если епископ узнает, что
я открыл вам.
- Гораздо важнее, что говорит по этому поводу ваша совесть.
- Для церкви она не судья. Важно суждение моих начальников,
хотя...
Шуман не договорил и сделал жест, означавший, что ему теперь все
безразлично. Он рассказал Грачику, что последнее издание устава
Третьего ордена, выпущенное папой Львом XIII, является законом для
каждого правоверного католика, и прежде всего для духовных лиц. А этот
устав предписывает терциарам проникновение в семью, школу, в
государственные учреждения, в политические партии. Отсюда - прямой
вывод: терциарство требует маскировки.
- Это прямое влияние иезуитов на Третий орден, - сквозь зубы, с
неприязнью проговорил Шуман. - Если они в своей миссионерской
деятельности не брезговали становиться браминами и париями, носить
одежды буддийских священников и языческих жрецов, то что стоит им
теперь требовать от своих агентов любого обличия для выполнения
очередных политических или... - Шуман запнулся, но, подумав, все же
договорил, хотя и понизив голос: - или диверсионных заданий святого
престола. Недаром Лев XIII назвал терциаров "святой милицией Иисуса
Христа". А Григорий IX именовал их солдатами Христа, новыми
макавеями...
- А разве священник в своем деканате не является объединяющей
силой для терциаров? - Грачик задал этот вопрос, надеясь, что Шуман
наконец расскажет и о собственной роли в организации Третьего ордена.
И не ошибся.
- Да, мы, священники, обязаны руководить деятельностью
терциаров-мирян, - неохотно ответил Шуман. Грачику пришлось
подтолкнуть его на продолжение:
- По примеру того, что делали терциары в Польше, вам следовало
направить терциаров на борьбу с коммунистами. Они же, братья Третьего
ордена, должны были содействовать распространению и утверждению в
Латвии христианского социализма.
- Латышский рабочий, и даже крестьянин, не очень-то был склонен
заниматься этой материей, - ответил Шуман. И по тону его вовсе нельзя
было заключить, что он доволен такой склонностью латышей. - Рабочие
предпочитали социализм без примеси христианства, батракам же было не
до политики, а серый барон, как правило, был фашистом.
- И вы работали с ним заодно? - Тут Шуман опустил взгляд, а
Грачик улыбнулся. - К счастью, кажется, все это - далекое прошлое.
Несколько мгновений Шуман глядел на него исподлобья, потом также
улыбнулся.
- Вы еще очень молоды, но когда-нибудь из вас выработается
отличный психолог, - сказал он, - Впрочем, вы и сейчас уже сущий
чародей!
- Пока только ученик чародея. От души советую вам увереннее идти
по тому пути, на который встали: с народом, а не против него. За свою
свободную Советскую Латвию.
Священник вздохнул и посмотрел в сторону на только что посаженную
им березку. Ее листочки блестели от дождя. Капли медленно собирались
на их острых зубчиках и не спеша, словно в задумчивости, скатывались
на подставленную отцом Шуманом широкую розовую ладонь, как
неторопливые последние слезы уже выплаканного горя.
- Вы помните, - продолжал, между тем, Грачик, - как один из
организаторов Третьего ордена на советской земле епископ Цепляк
советовал своим ксендзам: "Пусть священник исполняет скорее роль
советчика, инспиратора, опекуна, а исполнение всего и управление
терциарами оставляет в руках выбранного им из среды светских членов
Ордена". Вы так и делали?
Не отрывая взгляда от березки, Шуман негромко сказал:
- Делал. - Он сокрушенно покачал головой, потом медленно
проговорил: - Вероятно, того, что я сказал, достаточно, чтобы
предстать не только перед церковным судом... достаточно, чтобы с меня
сняли сан, но... я не боюсь... нет! - И он решительно мотнул головой.
Это вышло очень энергично. - Суд церкви - не суд народа, только такой
суд страшен мне теперь... Суд моего народа!
- На справедливость этого суда вы могли бы положиться, но тут, я
думаю, ему нечего делать.
При этих словах Грачика Шуман обеими руками взялся за тоненький
ствол березки. Словно теперь не он ее должен был поддерживать, а искал
в ней поддержки сам.
Грачик взял со скамейки и развернул плащ - он был совсем сухой.
Дождь шел уже вовсю, и Грачик надел плащ поверх уже промокшей рубашки.
Шуман, как стоял, прижавшись лбом к стволу деревца, так и остался.
Грачик вышел из садика и тихонько притворил за собой калитку. Дойдя до
поворота дороги, поглядел назад: Шуман стоял все так же, прижавшись
лицом к деревцу. Его могучая спина была согнута, и широкие плечи
опустились в бессилии.
91. ПАТЕНТОВАННАЯ ПЕТЛЯ КВЭПА
Рухнула последняя надежда Квэпа избежать возмездия. Старания
сойти за шизофреника ни к чему не привели. Следствие было закончено,
обвинительное заключение вручено вторично. Глядя на слезы, стекавшие
по желтым, оплывшим, как подтаявший сыр, щекам Квэпа, адвокат тщетно
искал начало и конец своей речи на суде. Пункт за пунктом они вместе в
десятый раз прочитывали обвинительное заключение. Безнадежность
глядела в глаза Квэпу с каждой страницы, из каждой строки.
Отросшие волосы падали Квэпу на лоб. Концы их сохранили следы
темной краски, но из-за того, что она не подновлялась, волосы отливали
теперь зеленым. Там и тут появились седые пряди - животный страх
съедал даже окрашивающий пигмент волос, как съел остатки румянца на
обрюзгшем лице, как погасил жадный блеск глаз обжоры и сластолюбца,
как превратил когда-то крепкое тело в дряблый мешок с тяжелыми костями
мясника. Страх до краев заполнил мозг Квэпа, налил холодом сердце,
разложил отвратительной слабостью мышцы, заставил дрожать скелет. Это
был всепоглощающий страх, о каком Квэп до тех пор не имел
представления. Но и теперь у Квэпа ни разу не шевельнулась мысль о
том, не испытывали ли подобного же страха его жертвы в прошлом? Он не
думал об этом теперь так же, как не думал тогда, когда одетый в мундир
айзсарга посылал пулю в голову жертвы или когда вывязывал узел удавки
на глазах приговоренного к повешению. Все было обыкновенно и просто в
"Саласпилсе", - здесь все казалось невероятным, словно одна его
драгоценная жизнь, противопоставленная жизням сотен замученных им,
была несоразмерно высокой ценой.
Так устроена ущербная часть человечества: представление о
ценности жизни бывает до абсурда противоречиво. Закоренелому
преступнику, ни в грош не ставящему чужую жизнь, его собственное
жалкое существование кажется самым ценным, ради чего стоит
пожертвовать миром. До последней минуты Геринг, Заукель,
Кальтенбруннер не могли себе представить, что в обмен на воздвигнутые
ими пирамиды черепов народы смели потребовать хотя бы такую ничтожную
плату, как головы убийц. Когда-то и им, как теперь Квэпу, цена
казалась недопустимой, невероятной. Квэп почти не спал. Он день и ночь
метался по камере. Иногда останавливался перед глухой стеной и
упирался в нее лбом, как бык, намеревающийся пробить каменную кладку
тюрьмы. Он стонал и плакал так, что надзиратели вызывали врачей, и те
давали Квэпу снотворное.
Квэп долго не решался задать адвокату вопрос о возможном
приговоре. Слова "Указ 12 января" лишили его последних сил,
способности стоять. Милость суда, снисхождение?.. Двадцать пять лет?..
Этого Квэп не мог себе представить. Он своими глазами видел, как люди
умирали в лагерях через год, через два от голодовки и истязаний. Он
видел таких, кто выдерживал три года. Но ему еще не доводилось видеть
людей, выдержавших двадцать пять лет. Мозг Квэпа не вмещал такой
цифры. Десять лет до войны он был айзсаргом - это реально. Десять лет
после войны он пробыл в "перемещенных" - это тоже реально. Но пробыть
четверть века в тюрьме?! Это было по ту сторону реального. Квэп
перестал плакать и с ненавистью посмотрел на адвоката, словно тот был
повинен в возможности такого приговора.
- А разговоры о том, что каждый "перемещенный", вернувшийся сюда,
будет принят как блудный сын? А обещание прощения? А земля и работа, а
отеческая рука родного народа?! - кричал он, подаваясь всем телом к
адвокату.
- Разве вы вернулись сюда, чтобы получить землю и работу из рук
народа? - спросил адвокат. - Блудный сын, вернувшийся со взрывчаткой
за пазухой, убивший своего младшего брата, пришедшего до него?! -
Адвокат махнул рукой. Было бесполезно договаривать. И все же он нашел
в себе силы еще сказать: - Если суд найдет мотивы для снисхождения, мы
можем рассчитывать на жизнь, за двадцать пять лет может прийти
амнистия.
Квэп перебил его:
- Ни за двадцать пять, ни за сто лет не случится того, что спасло
бы меня, - кричал он. - Наши не придут сюда, они не освободят меня.
Адвокат несколько мгновений смотрел с удивлением.
- В том, что вырвалось у вас, - единственная надежда на
снисхождение, - сказал он. - Вы поняли, наконец, что возвращение тех,
кого вы назвали вашими, невозможно. Невозможно движение истории
вспять. Скажите суду: да, я понимаю свою вину и раскаиваюсь в ней...
- И меня простят?
- Судьи - это народ. - Адвокат покачал головой. - А народ не
может вас простить.
- Так чего же вы от меня хотите?
- Мне нужен повод, чтобы просить снисхождения, понимаете:
сни-схо-жде-ни-я! - раздельно, по слогам, повторил адвокат.
Квэп выставил сжатые кулаки и сквозь стиснутые зубы проговорил:
- Не хочу, не хочу я один отвечать! - Он схватился за горло,
рванул воротник рубашки. - Не хочу! - После некоторой паузы, в течение
которой Квэп продолжал судорожно то расстегивать, то снова застегивать
ворот, словно не зная, что делать с руками, он заговорил с
поспешностью, какой еще никогда не было в его речи: - Пусть отвечают
со мной все: Раар, и Шилде, и Ланцанс! - прокричал он, брызжа слюной.
- Кому понадобился этот взрыв на празднике песни?.. Язепу Ланцансу.
Это ему нужно было похвастаться тем, что он очистил Ригу от маленьких
коммунистов. Ему, ему! Приказ так и пришел: с благословения святой
католической церкви, во имя отца и сына!.. Во имя отца и сына!.. Отца
и сына!.. Так возьмите же и его - святого отца Язепа. - Квэп умоляюще
сложил руки и продолжал жалобно: - Возьмите его, посадите его сюда, со
мной... святого отца Язепа!.. Послушайте, - он сделал попытку схватить
руку адвоката и понизил голос до шепота: - Я берусь изловить
Ланцанса... Мы заманим его, понимаете? И вот тогда, клянусь, клянусь
вам молоком девы Марии и мученическим венцом спасителя: я повешу его,
вот этими руками я повешу его... - он вытянул руки к самому лицу
адвоката... В моей петле!.. - На губах его появилась пена, глаза
выкатились из орбит, он перебирал грязными пальцами перед лицом
адвоката: - Моей петлей... Сам, я сам... Только сохраните мне жизнь...
В эту ночь из камеры Квэпа не было слышно ни стонов, ни
всхлипываний. Он лежал ничком на койке, и время от времени по телу его
пробегала судорога. Он корчился и подтягивал колени к подбородку, как
если бы по нему пропускали электрический ток. Несколько раз он
приподнимался и грозил кулаком в пустой полумрак камеры. Среди ночи он
сел на койке. Губы его шевелились, но слов не было слышно. "Ну, ваше
преосвященство, берегитесь! Сейчас вы получите свое, святой Язеп!.." С
трудом двигая руками под одеялом, стащил с себя исподники и принялся
разрывать их на полосы. Делал это медленно, сантиметр за сантиметром,
помогая себе зубами, чтобы разрываемая ткань не издавала ни звука. При
этом продолжал шептать: "Сейчас, сейчас, господин епископ!" Прошло
часа два, прежде чем он высунул голову из-под одеяла. А под одеялом
его дрожащие пальцы старательно вывязывали петлю удавки на грубом
подобии веревки, сплетенной из обрывков белья. Это была привычная для
его пальцев "петля Квэпа". Он на ощупь проверил ее раз, другой, Словно
не верил тому, что, раз затянувшись, она может быть освобождена только
при помощи ножа. Лязгая зубами от страха, он втянул голову под одеяло
и надел петлю себе на шею. Слегка потянул ее.
- Сейчас, сейчас, - шептал Квэп. - Проклятый поп, проклятый
епископ, проклятый святой... Все-таки я тебя повешу!..
Дикий вой, подобный тому, какой раздается из палат буйно
помешанных, разнесся по коридору. Надзиратель подбежал к камере Квэпа.
Он хотел было отворить дверь, но, решив, что это - обычная истерика,
передумал и пошел к телефону. Вызванный врач вместе с надзирателями
вошел в камеру. Навстречу им на коленях полз Квэп. С шеи его свисала
грубо сплетенная в косицу грязная тесьма. Квэп хрипел, и крепко
закушенный посиневший язык свисал на сторону. Глаза Квэпа были
выпучены и наполнены таким ужасом, словно перед ними уже стояла
смерть. Квэп умоляюще протянул руки к врачу - он задыхался, он был на
грани удушья.
Надзиратель сунул палец за петлю и в недоумении обернулся к
врачу: петля совершенно свободно болталась на шее заключенного.
- Эх, ты! - брезгливо проговорил надзиратель. Можно было
подумать, что он упрекает Квэпа в том, что тому не хватило мужества
покончить со своей гнусной жизнью.
Врач перерезал петлю. Квэп обхватил его ногу обеими руками и
припал губами к его сапогу. Врач брезгливо высвободил ногу и сунул в
рот Квэпу пилюлю снотворного, а надзиратель налил в кружку воды. Стуча
зубами об алюминий, Квэп сделал несколько жадных глотков и упал поверх
одеяла.
На работе, в быту, в своих исканиях, которые нельзя было назвать
иначе, как творческими, Кручинин всегда был скромен. Он не
переоценивал ни своей персоны, ни возможностей и к своему
шестидесятилетию он не ждал ни адресов, ни подарков. Все было бы
хорошо, если бы ему не довелось услышать то, что врачи не хотели, но
что он заставил их сказать: небольшая опухоль, сперва с горошину, а
теперь уже со спелый абрикос, прощупывавшаяся у него возле правого
соска, была, на их взгляд, "подозрительна", и ее следовало удалить.
Меньше всего Кручинину хотелось сейчас ложиться на операцию, даже
на самую пустяковую.
- А сколько времени, по-вашему, можно потерпеть с удалением этой
опухоли? - спросил он.
Врачи переглянулись, и один из них сказал:
- С такими штукенциями шутить не положено. Резать, батенька,
резать!
- Хорошо, - сказал Кручинин, - поставим вопрос иначе: что будет,
если я не стану резать?
- Можете прожить до ста лет, а может быть...
- Не стесняйтесь, - сказал Кручинин, и врач неохотно закончил:
- Может быть все что угодно. - И повторил: - Тут, батенька, шутки
не к месту.
- Что ж, придется поторопиться, - с неохотою согласился Кручинин.
- У меня еще очень много дела впереди.
- Вот, это дело! - с удовольствием подхватили врачи, и один из
них так плотоядно потер сухие розовые ладони, словно уже предвкушал
операцию.
Ровно через шесть дней, выйдя из ворот больницы, Кручинин
отказался от намерения ехать домой - ведь тут же, в Задвинье,
неподалеку от больницы, жил Грачик; время вечернее, и молодой человек
наверняка дома. Кручинин бодро зашагал по затихшим вечерним переулкам
Задвинья. Никем не замеченный, вошел в палисадник и своим ключом
отворил дверь квартиры. Комнаты были погружены в ту густую мглу,
которая создает настроение особенного уюта и уединения на переходе от
сумерек к ночи и которую так любил сам Кручинин. Переступив порог,
Кручинин услышал голос Грачика. Молодой человек говорил весело, как
говорят здоровые люди, находящиеся в отличном настроении духа, не
отягощенные особыми заботами. В его голосе звучали нотки, какие
появляются у молодых людей, когда они говорят с женщиной и не просто с
женщиной, а с той, которая...
- ... я рад, очень рад тому, что все позади! - бодро говорил
Грачик в телефонную трубку. - У нас начинается новая жизнь... Конечно,
именно "у нас": у тебя и у меня!.. Главное, чтобы был здоров и рос
крепким малыш наш Эджин... Как что значит - "наш"? Разве он теперь не
мой сын?..
Под ногою Кручинина скрипнула половица. Грачик быстро оглянулся.
- Кто там? - крикнул он, вглядываясь в полутьму комнаты и узнал
силуэт Кручинина. Наскоро бросил в трубку официальным тоном: -
Извините, товарищ Клинт. Я позвоню вам немного погодя, пришел Нил
Платонович...
Кручинин сжал руку Грачика в своих ладонях. Несколько времени тот
стоял смущенный, потупясь, наконец поднял взгляд на смутно белевшее
лицо Кручинина.
- Вы думаете... это неправильно? - спросил он.
- Что ты, что ты! - испуганно воскликнул Кручинин, усадил Грачика
в кресло и, опустившись рядом, долго и ласково говорил о том, как
хорошо то, что он понял из этих нечаянно подслушанных слов. - ...Я
уверен, - сказал он в заключение, - что ты никогда не пожалеешь о
сделанном.
Лица Грачика уже почти совсем не было видно. Падавший через окно
луч уличного фонаря выхватывал из темноты только энергично выдвинутый
подбородок, широкое плечо и сухую, крепкую руку на подлокотнике. Этого
было достаточно, чтобы утвердить впечатление уверенности и силы, какое
Кручинину хотелось сейчас сохранить о Грачике.
- Вы имеете в виду ребенка... - сказал Грачик после некоторого
молчания. - А вы бы сами... если бы на месте Вилмы была Эрна Клинт? -
Ответом послужило едва различимое в темноте покачивание головы
Кручинина. - Вот и я думаю: тут нет ничего такого, о чем я могу
пожалеть: маленький Эджин Грачьян...
- А если Вилма пожелает, чтобы он был Клинт или скажем... - тут
Кручинин вдруг умолк.
- Не бойтесь, договаривайте, - спокойно сказал Грачик. - Она не
захочет, чтобы его звали Эджин Круминьш... Впрочем, это ее дело... Ее
дело...
93. О БОЖЕСТВЕННОМ ДЫМЕ И ЦЕННОСТИ ВРЕМЕНИ
- Как ваш жировичок? - спросил Крауш, входя к Кручинину.
- А что же с ним было делать? Вырезали и дело с концом, -
беспечно ответил Кручинин.
- Но именно своевременно, никак не позже!
Заметив, с какой завистью Крауш смотрит на то, как он закуривает,
Кручинин отвел свою руку со спичкой. Ян Валдемарович просительно
протянул руку.
- Стыдно, - сказал Кручинин, - такой большой и такой... слабый.
- Ты же вот не бросаешь курить, хотя, наверно, не хуже меня
понимаешь вред этой гадости, - с неудовольствием возразил Крауш.
- Хочешь прочесть лекцию о вреде никотина? Это не ново. В Африке
известны целые области, как, например, Ламбарене, которые
исследователи называют "странами хронического отравления никотином".
Злоупотребление табаком вызывает там у туземцев хроническую
бессонницу, с которой они борются тем же курением. А то, что женщины
курят наравне с мужчинами и кое-где даже больше мужчин, приводит к
появлению неполноценного потомства. В погоне за дурманом негры Понгве
курят из огромных глиняных трубок с тыквенными головками. Это целая
наркотическая фабрика!.. История табака довольно интересная область.
Кеталь, большой знаток, утверждает, что ни одно растение не оказало на
экономическую и культурную жизнь человечества такого влияния, как
табак.
- Удивительно! - воскликнул Крауш. - Мы, безоговорочные
сторонники оздоровления народа, ни разу не поставили вопрос об
изгнании табака.
- Это тем более странно, - согласился Кручинин, - что никотин
вовсе не является необходимостью для организма. Есть народы, так и не
постигшие наслаждения курения, хотя наряду с этим есть и такие,
которые курят четыре сигареты сразу - вставляют по одной в каждый угол
рта и в ноздри. Американские импортеры даже пакуют для них сигареты по
четыре в пачку - на одну закурку.
- И все-таки я думаю, что если уж я бросил это занятие, то тебе и
бог велел.
- Но пока что никто не ставил передо мною этого вопроса.
- А если бы я поставил? - с озорством повторил Крауш. - Прошу
тебя именем старой солдатской дружбы. Хочу, чтобы ты прожил лишние
десять лет.
- Ты сказал "лишние", - спокойно сказал Кручинин. - Что такое
лишний год? Ненужный, который некуда девать?
- Разве бывают в жизни ненужные годы, - рассердился Крауш. - Да
что там годы?! Счет идет на часы. При всей относительности ценности
времени, - оно самое абсолютное из благ, дарованных человеку. Тут,
брат, не нужно знать, что существуют прокуроры, чтобы не совершать
растраты. Это - преступление против самого себя.
- А покажи мне такое правонарушение вообще, которое не было бы
преступлением против совершающего его.
- Парадокс?.. А впрочем... может быть, и не такой уж парадокс...
Ты снова прав, Ян! В том, что касается времени, - не лучшей ли карой
для его растратчика является сознание невозвратимости растраченного.
Как можно не оценить всю ни с чем несравнимую ценность времени, ежели
обернешься к собственному прошлому?
- При условии, что есть что вспомнить.
- А другого прошлого и не бывает!.. - Кручинин подумал и
повторил: - Нет, не бывает! Сколь бы ничтожен не был человек, для него
прошлое - всегда самая большая из утраченных ценностей. Правильно, на
мой взгляд, говорил какой-то писатель о необратимости прошлого: "Ничто
в жизни не возвращается, кроме наших ошибок". В этом свой смысл и
целесообразность устройства бытия.
- Пустяки! - возразил Крауш. - Одной из причин привлекательности
существования является неповторимость жизни. Это верно. Я не могу
рассматривать прошлое, как некую безвозвратность. А воспоминания,
составляющие значительную долю нашей духовной жизни?
- Ты разумеешь воспоминания, имеющие общественный смысл, так
сказать "педагогическую ценность"?
- Нет!.. - решительно отрезал Крауш. - Я говорю о личном, о
своем, чаще всего, как это говорится у поэтов: о "лирическом".
- Ты и лирика? - Кручинин уставился на прокурора с нескрываемым
изумлением. - Старик, ты оборачиваешься ко мне неожиданной стороной!..
Коли так, я тебе признаюсь, но только по секрету: согласен. Больше
того: считаю, что частенько будущее потому и привлекательно, что
окрашивается привлекательными событиями прошлого. Иначе о чем можно
было мечтать? А без мечты какая же жизнь?!
- Ты уловил мою мысль. - Крауш несколько раз кивнул головой,
выражая удовольствие. - Человек чувствовал бы себя лишенным
перспективы, если бы не имел надежды на то, что удастся еще пережить
подобное лучшему, что было... В этой формуле есть привлекательность.
- Не порочна ли она? - в сомнении спросил Кручинин. - Ведь ежели
выступить с нею - побьют, а?
- Может быть, и побьют, - рассмеялся Крауш. - Положение твоего
писателя о том, что прелесть жизни в необратимости прошлого, - от
пессимизма.
- Возможно... Уж очень обездоленным должен быть человек в
прошлом, чтобы не рождалась надежда пережить пережитое... Я не
принадлежу к числу таких... - Кручинин решительным движением руки
отрубил воздух. - Нет, не принадлежу!
- Так, значит, и разговор о "лишнем" куске жизни - пустой
разговор. Вот почему я повторяю: ты навсегда бросаешь курить. Прояви
силу воли, какой должен обладать человек нашей профессии. И потом...
потом тебе следует поскорее отправляться на отдых.
С прищуром, придававшим лицу выражение добродушного лукавства,
хорошо знакомое Грачику, Кручинин поглядел на свою папиросу. Приподняв
голову, он следил за струйкой дыма, поднимавшегося к лампе и медленно
расплывавшегося там в широкую ленту. Лента плавно тянулась к
отворенной форточке. Кручинин ткнул дымящуюся папиросу в пепельницу и
придавил так, что она сразу погасла; взял полную коробку папирос и
свободным, легким движением бросил в камин. Картон вспыхнул со всех
сторон, и густой дым сизым столбом повалил в дымоход, наполняя комнату
крепким ароматом табака.
- Первобытные курильщики называли этот дым божественным и
считали, что табак спущен им непосредственно от богов, - сказал
Кручинин.
94. СЛОВО ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОКУРОРУ
- Жаль, что я не смог быть в суде, - сказал Кручинин. - Хотелось
бы посмотреть на тебя в этом новом для меня качестве... Странное
свойство нашей психики: знаю ведь, что ты уже много лет прокурор и сам
я не новичок в этой области, а вместе с тем, слыша твое имя,
представляю себе тебя в затрапезной шинели, с маузером на боку... -
Кручинин на минутку задумался, и выражение некоторой грусти пробежало
по его лицу. - Может быть, увидев тебя на процессе, я и самого себя
воспринял бы иначе, чем воспринимал до сих пор... Никак не могу
состариться в собственном представлении. Это качество нашего
поколения: до самой смерти воображать себя молодыми. Или таково
свойство всех здоровых людей?
- Кое в ком из смены я этого не замечаю... - Крауш покачал
головой.
- Боюсь, что ты несколько... "окабинетился". Все представляется
тебе в более мрачном свете, чем нужно, потому что изо дня в день
видишь только самые неприглядные стороны жизни, только с ними
соприкасаешься...
- Может быть, - неохотно согласился Крауш. - Я с надеждой думаю о
времени, когда партия отпустит меня с этой работы.
- Э, нет, брат! - воскликнул Кручинин. - Надеюсь, такой ошибки не
сделают. Ты на месте, старик! Ей-ей, на месте! К твоему делу не легко
привыкнуть, еще труднее сделать его смыслом жизни, отдать ему душу и
сердце...
- Опять душа?!
- Да, опять. Такова профессия!.. Да, да, такова наша профессия...
- повторил Кручинин. Хотел бы рассказать о вопросе, когда-то заданном
Грачиком: "Можно ли сохранить чистоту представления о жизни, ясное
восприятие окружающего, постоянно соприкасаясь с темными сторонами
жизни?.." Но подумал: небось прокурору повторять это незачем. Сказал
только, что наблюдение за жизнью Грачика убеждает в том, что советская
молодежь не является носительницей микроба преждевременной старости.
Жизненные соки молодого поколения достаточно сильны, чтобы провести
его через временные трудности, коли, впереди видна светлая цель. Можно
пойти и дальше: Инга Селга, Вилма Клинт. Вот мы даже еще не называем
их советскими людьми. А посмотри: они же наши. И впереди у них только
то, что и у нас.
- Ты удивительный оптимист, - проговорил Крауш, - не только
умеешь добраться до корешков самого запутанного дела, но настоящий
чародей в другом: кто побывал в твоих руках, возвращается в жизнь
другим человеком... Почему они уходят от тебя даже в тюрьму с твердым
намерением вернуться к тебе же за путевкой в новую жизнь? Это не
чародейство?
- Заткни фонтан!.. - Кручинин замахал руками. - То, что ты
называешь "чародейством", - бессознательный дар мне самому в обмен на
то, что я научил моего Грача своему ремеслу...
- Искусству... - поправил Крауш.
- Еще в процессе работы над Грачем, едва успев дать ему совет
протягивать ниточку доверия через стол от себя к подследственному, я
увидел, что люди, с которыми он приходит в соприкосновение, как-то
удивительно просто откликаются на его предложение дружбы... Быть
может, звучит несколько одиозно: дружба следователя с преступником!
Но, честное слово, сколько раз я исподтишка наблюдал за рождением
этого понимания. Бывало, я просто со страхом ждал, как моего
желторотого Грача надуют, обведут вокруг пальца и подведут под
монастырь опытные нарушители. Он в большинстве из них находил пищу для
своей "веры в человека". А уж нам ли с тобой не знать, чего подчас
стоит такая вера!..
- К сожалению, мы нередко получаем оплеухи, проявляя эту самую
"веру"... - невесело согласился Крауш.
- Но то, что я преподнес Грачу в качестве теоретического
постулата, в его руках стало действенным средством отыскания истины. В
самом широком смысле слова: он искал истину для суда, искал ее для
себя и для них самих, - тех, кто старался закопать ее как можно
глубже. И представь - находил! В большинстве случаев находил.
- Да, - согласился Крауш, - он настоящий ученик своего учителя.
Если тебя у нас прозвали чародеем, то он - ученик чародея. Хочу
оставить его у себя.
- Думаю, он не станет возражать... Тут есть одно особенное
обстоятельство.
- Знаю, - усмехнулся Крауш, - приобрел у нас в Латвии сразу и
жену и сына?
- Вот именно... Только что сам не стал латышом. - Кручинин
посмотрел на часы. - Однако ты так и не сказал: что было на суде? Хотя
бы самое интересное...
- Что тут рассказывать?.. - Крауш хрустнул сцепленными пальцами.
- Жаль, конечно, что ты сам этого не видел.
Ян Валдемарович Крауш не был тем, кого называют оратором "от
бога". Если его выступления в суде имели успех, то этим он обязан
своему умению насыщать их такими доводами, что кажется, будь они
поднесены суду младенцем, и тогда показались бы убедительными.
Адвокатам предстояло сдвинуть гору, чтобы очистить лазейку для
снисхождения. У Яна Валдемаровича была своя манера готовиться к
выступлению. Неуверенный в своих ораторских способностях и болезненно
воображающий, будто его внешность не располагает к себе слушателей, он
с мучительной тщательностью готовил речи. Составлялся конспект, по
которому он произносил речь в пустом кабинете. Единственным слушателем
бывала стенографистка. После того Крауш прятал перепечатанную начисто
речь так, чтобы она никому не могла попасть в руки. И вот что
происходило в суде: с неудовольствием перечитав несколько первых
страниц собственной стенограммы, Крауш ее захлопывал. После того речь
текла своим чередом, совсем не по руслу, какое было подготовлено. В
памяти с поразительной ясностью вставали только мотивы, ссылки,
цитаты, улики. Его не могли уже сбить ни скользкость подсудимого, ни
ехидные подковырки защиты, ни увертливость свидетелей. Наклонив вперед
голову и выпятив тяжелый подбородок, прокурор сердито сверлил
маленькими глазками оппонентов. Он был сама агрессивность. При этом у
него была такая манера говорить, словно он выдает на-гора только малую
толику того, что имеет, а главное еще держит в резерве для поражения
строптивых оппонентов.
Но на этот раз произошло нечто, что, по мнению слушателей, едва
не сбило Крауша с избранной им импровизированной позиции, прежде чем
он успел выиграть первую схватку. Этой позицией было обстоятельство,
казалось, не имевшее непосредственного отношения к обвинению Квэпа по
58-й статье - отравление Ванды Твардовской. Крауш решил начать с этого
обстоятельства, собираясь показать, что представляет собою обвиняемый,
решившийся устранить возможного свидетеля - шестнадцатилетнюю дочь
своей подруги. Но прежде чем Крауш привел свои данные,
характеризовавшие моральный облик Квэпа - мужа и отчима, в зале
раздался крик:
- Это не он!.. Ванду убила... я!
То был вопль Линды Твардовской.
Крауш подумал было, что это продолжение комедии самооговора,
начатой на предварительном следствии: новое обстоятельство требовало
прекращения судебного заседания и возвращения дела на доследование. Но
Крауш не хочет давать оттяжку преступникам и ходатайствует о
продолжении судебного следствия. Он аргументирует тем, что признание
Линды, даже если бы оно оказалось правдой, ничего не меняет в
обвинении, предъявленном Квэпу по ст. ст. 58/6, 58/8 и 58/9. Крауш
старается убедить суд в том, что поскольку это обвинение снимает
обвинение Квэпа по ст. 136, а сама Линда проходит по делу Квэпа как
соучастница в преступлениях, предусмотренных названными пунктами 58-й
статьи, то дело может продолжаться слушанием. Он не ходатайствовал
перед судом о выводе из залы нарушительницы тишины, решил, что у него
еще будет время нанести беспощадный удар лжесвидетельнице,
по-видимому, обезумевшей от патологического стремления спасти
любовника.
И вот публика, с нетерпением ожидавшая возвращения судей,
удалившихся на совещание, встает; судьи занимают свои места, секретарь
зачитывает решение суда продолжать заседание. Удовлетворенный Крауш
продолжает допрос свидетельницы Линды Твардовской:
- Вы сказали, что обвиняемый Арвид Квэп не имеет отношения к
покушению на жизнь вашей дочери Ванды, - не без торжества начинает
Крауш.
И тут, прежде чем он успевает продолжить, ко всеобщему удивлению,
Линда заявляет:
- Я этого не говорила. - Шорох удивленного шепота пронесся по
залу, смолк и пронесся с удвоенной силой, когда Линда повторила: - В
стенограмме нет моих слов о том, что Квэп не убивал Ванду?.. - Линда
сделала попытку улыбнуться и высокомерно вскинула голову: - Я только
сказала, что он, - Линда указала на Квэпа, - не убивал Ванду... А при
чем тут Квэп? - Она недоуменно пожала плечами. - Ведь этот - вовсе не
Квэп.
- Перестаньте, Твардовская, - раздраженно прикрикнул Крауш. - Он
ваш фактический муж Арвид Квэп, вы признали это на предварительном
следствии, вот ваша подпись под показанием.
Полуобернувшись в залу, так чтобы хорошо были слышны ее слова,
Линда громко проговорила:
- Под пыткой можно подписать и собственный смертный приговор.
Крауш вопросительно посмотрел на председательствующего. Тот
совещался с судьями. Так или иначе Твардовская добилась своего: тут же
Квэп следом за нею повторил, что он вовсе не Квэп и никогда не
признавал этого; никогда в глаза не видел этой женщины и не понимает,
о чем тут идет речь, о какой такой Ванде Твардовской.
На этот раз и Крауш ничего не имел против перерыва в заседании
для проверки заявления Линды о якобы примененной к ней пытке. Началось
медицинское освидетельствование Линды, производство дознания в
прокуратуре, экспертиза. Крауш ходил злой: все это было комедией,
разыгрываемой преступниками с целью затянуть процесс. С виноватым
видом ходил защитник Квэпа. Игра его подзащитного ничего не прибавляла
к надеждам защиты.
В один из дней этого вынужденного перерыва Мутный попросил
свидания с прокурором. Он сказал, что готов дать любые показания,
какие нужны обвинению, и начнет с того, что признает подсудимого
Квэпом.
- Позвольте, - возмутился Крауш, - вы же показали на
предварительном следствии, что не знаете его имени.
- Конечно, - не смущаясь, ответил Мутный, - он явился ко мне в
совет под именем Строда, но у меня тогда уже закралось сомнение в том,
что это его настоящее имя.
- Откуда же вы узнали, что его зовут Квэпом? - удивился Крауш.
- От вас, - невозмутимо заявил Мутный. - Я вам верю, гражданин
прокурор, и покажу все, что хотите, понимаете - все, все, - упирая на
это слово, повторял Мутный. - За это я ничего даже и не прошу,
решительно ничего!.. Услуга правосудию.
- Ну, знаете!.. - Краушу казалось, что если он сейчас не закурит,
то разразится таким кашлем, какого никто еще и не слыхивал. Но,
давясь, он успел все же отдать приказ увести Мутного и только тогда
скорчился в мучительном приступе.
Прошло четыре дня перерыва. Заседания суда возобновились с того,
что была доказана ложность показаний Линды о применении к ней
недозволенных законом методов допроса. Крауш хранил молчание. Молчала
защита. В зале царила мертвая тишина. Когда председательствующий
разъяснил Линде, что таким же образом будет опровергнуто всякое
недобросовестное заявление, направленное к обману суда, и дело
кончится только тем, что разбирательство будет продолжаться в ее
отсутствие, - зал ответил дружными рукоплесканиями.
- Линда Твардовская, - спросил председательствующий, - признаете
ли вы, что обвиняемый ваш муж - Арвид Квэп?
- Нет!
- Обвинение докажет, что на скамье подсудимых сидит не кто иной,
как Арвид Квэп, - сказал Крауш.
- Опять мои подписи под протоколами? - с необычным для него
проворством оборачиваясь к суду, крикнул Квэп. - Не выйдет! Если не
хотите, чтобы я сделал такое же заявление, как Твардовская...
- И с таким же успехом... - вставил Крауш.
- Обвиняемый Квэп, - спокойно спросил председательствующий, - вы
хотите сделать заявление?
Квэп подумал, прежде чем ответить, и, наконец, негромко
пробормотал:
- Пока не хочу... Пока!
И вот перед судом потянулась вереница людей, уже знакомых
следствию.
- Свидетель Петерис Шуман, - спрашивал Крауш, - этот ли человек
пришел к вам ночью с требованием подсунуть следствию подложную
фотографию ареста Круминьша?
- Да, этот! - твердо сказал священник.
- Свидетель Альбина Гайле, этого ли человека вы видели в форме
офицера милиции идущим рядом с "арестованным" Круминьшем?
Матушка Альбина, не торопясь, достала очки, долго, старательно
водружала их на нос и так же долго, пристально вглядывалась в Квэпа.
Крауш следил за ее лицом. Ему начинало казаться, что старушка
колеблется: не решается сказать да, но не смеет сказать и нет.
- Если бы на нем была форма, я бы сразу сказала, он или не он, -
проговорила она наконец.
- Может быть, вам поможет вот это, - сказал Крауш, передавая ей
фотографическое изображение "ареста". Переводя взгляд с фотографии на
Квэпа, Альбина сличала их. Так же степенно, без спешки, как делала
все, вернула фотографию Краушу и, сдвинув очки на кончик носа, обвела
взглядом судей, одного за другим, обернулась к прокурору, посмотрела
на него. Словно ей доставляло наслаждение мучить этих людей, не говоря
уже о зале, затаившем дыхание, чтобы не пропустить ее ответа. И вдруг
быстро, но отчетливо произнесла:
- Даже если бы меня заставили тут присягнуть на кресте и святом
евангелии, я не могла бы сказать "нет"... Это он! - Она несколько раз
сердито ткнула сухим пальцем в сторону Квэпа, приговаривая: - Он, он!
Перед судейским столом прошел старый рыбак с берега Лиелупе,
узнавший обладателя "ряпого" пальто; лаборант из "Рижского фото"
сказал, что именно подсудимый сделал ему заказ на монтаж фотографии;
Лайма Зведрис узнала "товарища Строда", душившего ее на лодке и
сбросившего в озеро Алуксне; прислуга алуксненской гостиницы опознала
своего постояльца; сапожник - владельца сапог с узкими носами. Портной
Йевиньш, не сдерживая негодования, крикнул: - Пусть он покажет вам
свою грудь, пусть покажет горло с белым шрамом; только если на ней нет
орла со свастикой и полосы от удара, нанесенного моей рукой, -
теперь-то я могу в этом признаться, - только тогда я скажу, что это
привидение Квэпа, а не сам Квэп!
- На же, гляди, - раздалось со скамьи подсудимых, и Квэп, рванув
рубашку, обнажил грудь - она была чиста.
Квэп повернулся так, чтобы показаться публике, и едва ли в зале
нашелся хоть один человек, у которого не вырвалось бы восклицание
удивления и испуга.
- Перестаньте дурачить людей, Квэп, - сурово проговорил прокурор.
- Свидетель Йевиньш, опишите нам татуировку на груди подсудимого.
И когда портной подробно описал рисунок, Крауш положил на стол
суда рентгенограмму с таким рисунком.
- Экспертиза, - сказал Крауш, - свидетельствует, что этот снимок
сделан с подсудимого Квэпа, Строда то ж, Винда то ж. Невидимая на
внешнем слое эпителия татуировка хорошо просматривается при помощи
рентгена. А теперь поднимите голову и покажите вашу шею.
Но Квэп испуганно запахнул на груди рубашку и даже застегнул
пиджак. Вся его фигура сжалась, и взгляд опустился на барьер скамьи
подсудимых, который Квэп, казалось, пристально рассматривал в течение
всего процесса.
Прошли перед судом Мартын Залинь, буфетчик из Цесиса, хозяева
дома, снятого Виндом в Цесисе, предколхоза Дайне, председатель артели
"Верное время". Каждый из них отвечал на вопрос прокурора: "Да, это
он", и на каждого из них Квэп бросал короткий, почти мимолетный
взгляд, тотчас опуская его на барьер. И только когда перед судом
очутился вор с рынка, купивший кожаную куртку, Квэп поднял голову и в
ответ на слова: "Да, это он", - протестующе крикнул:
- Неправда! Я никогда не видел этого человека... Это ваш человек,
- крикнул он прокурору. - Я терпел, пока тут проходили все те, но
больше не желаю молчать: вы подсовываете суду лжесвидетеля. Вы
застращали или купили обещанием выпустить на волю этого уголовника!..
- Сделал паузу и решительно повторил: - Он лжет!
И снова суду пришлось тратить время на рассмотрение предъявленных
обвинением доказательств того, что Квэп лжет. То, что именно эту
лежащую на столе вещественных доказательств куртку именно он, Квэп,
выменял на свое "рябое" пальто, доказывалось свидетельством
предколхоза Онуфрия Дайне; то, что именно в этой куртке был арестован
на рынке вор, доказывалось протоколом милиции и его собственным
показанием; а то, что куртка была куплена вором именно у Квэпа,
доказывалось двумя обстоятельствами: первым было сходство банковских
билетов, отобранных при аресте у вора и у Квэпа, - они не только
обладали очередными номерами, но и жирными пятнами одной формы и
одного происхождения, т. е. были из одной пачки; вторым
обстоятельством было то, что в кармане куртки, где Квэп, по-видимому,
хранил свой гребень, нашли несколько волосков, признанных экспертизой
за волосы Квэпа: они имели ту же окраску, что его полинявшая шевелюра,
- темные, искусственно окрашенные на концах и соломенно-светлые,
натуральной пигментации в остальной части.
Квэп слушал, прижавшись подбородком к барьеру.
Квэп продолжал отрицать решительно все. Даже то, что он Квэп! Но
вопрос был ясен, и суд вернулся к прерванному допросу Линды
Твардовской. И вот Линда описывает, как раньше, чем об этом попросил
Квэп, она сама пришла к решению убить Ванду, чтобы устранить опасную
свидетельницу возвращения Квэпа в СССР. Она дает подробную
характеристику дочери, как девушки, воспитанной школой в духе
преданности Советской Отчизне, мечтающей о вступлении в комсомол.
Линде был ясен выбор, который сделает Ванда между спокойствием матери
с ее любовником и противостоящим этому спокойствию долгом юной
патриотки. Линда рассказывает, как достала яд у старика, занимавшегося
в давнее, ульманисовское, время истреблением крыс и насекомых.
- Можете вызвать его. Он... вероятно, жив, - сказала она.
- Что значит "вероятно, жив"? - спросил председательствующий? -
Он собирался умереть?
- Н-нет... - в некотором замешательстве ответила Линда. - Я имела
в виду, что он очень стар... И потом... я думала, что он... что он,
может быть, отравился.
- Отравился или вы его отравили? - быстро спросил Крауш.
- Я?! - испуганно крикнула Твардовская.
- Да, вы!.. Чтобы избавиться еще от одного опасного свидетеля,
снабдившего вас ядом для убийства.
Линда стояла в растерянности, с опущенной головой. Наконец,
проговорила так тихо, что Крауш едва расслышал ее слова:
- Он же умел обращаться с ядом.
- И знал, кому его продал!
- Просто... он знал, с чем имеет дело.
- С чем или с кем? - насмешливо бросил прокурор.
Линда подняла голову. Но эта попытка смотреть в лицо прокурору
была недолгой: ее голова тут же снова упала на грудь.
- Значит, все дело в том, что вы пустили против него в ход его же
собственный яд?! Цинизм привел к ошибке, а ошибка привела к тому, что
опасный свидетель остался жив... И вот теперь вы решили использовать
этого уцелевшего свидетеля в свою же пользу? - Острый подбородок
Крауша выдвинулся столь угрожающе, что Линда съежилась и, казалось,
потеряла охоту к дальнейшей откровенности. Но скоро оправилась и с
удивительным хладнокровием стала описывать все подробности
приготовлений к убийству дочери: как готовила для собирающейся в путь
Ванды бутерброд с ветчиной. Да, она хорошо помнит: "именно с
ветчиной". Как вскипятила чай, крепкий и сладкий, - такой, какой
любила Ванда. Ведь "еще в последних классах школы девушка стала
употреблять крепкий чай, занимаясь по ночам..."
- А почему по ночам? - не удержался от вопроса Крауш. - Разве вы
не жили в таких условиях, что можно было заниматься днем?
- Дело не в условиях.
- А в чем?
Линда не очень охотно, как бы через силу выдавила:
- Днем она работала.
- Работала вне дома?
- Да...
- Это было ее капризом?
- Нет! - зло ответила Линда. - Она зарабатывала свой хлеб.
- Разве не вы содержали Ванду?
- Видите ли... - и потупилась.
- Кто содержал девушку?
- Видите ли...
- Кто содержал девушку?!
- Она... сама.
- Значит, днем она вынуждена была работать?
- Да.
- А ночью учиться?
- Да.
- А вы не работали?
- Видите ли...
- Вы работали?!
- Нет...
- Так на что же вы жили?
- Я?
- Да, да, именно вы?! - жестко проговорил Крауш.
Тут подал голос растерявшийся защитник:
- Полагаю, что вопрос не имеет отношения к делу!
- А я полагаю, что имеет, - отрезал Крауш. Он уже вкладывал в эту
борьбу всего себя. - Имеет прямое отношение к делу.
Не погорячись прокурор, защитник, может быть, и не оценил бы
важности этого вопроса для обвинения. Но тут он долго доказывал суду,
что вопрос прокурора выходит за рамки дела.
- Итак, Твардовская, - переняв допрос от Крауша, сказал сам
председательствующий, - вы собирались сказать суду, где вы брали
средства на жизнь.
- Нет... не собиралась.
- Тем не менее, - настойчиво проговорил председатель, - вы должны
это сказать.
Линда повела плечами.
- Меня... меня содержали.
- Кто вас содержал?
- Я имею право не отвечать? - Линда обернулась к защите. Адвокат
смущенно посмотрел на судей. За него ответил председательствующий:
- Имеете право.
- Тогда я не отвечу.
- За вас отвечу я! - сказал Крауш, указывая на Квэпа. - Он
содержал вас.
- Нет! - в испуге крикнула Линда. - Меня содержала дочь... Ванда!
В зале царила напряженная тишина. Крауш помолчал, прежде чем
продолжать:
- Значит, дочь отдавала вам свой заработок?
- Не всегда... Она страдала навязчивой идеей... Хотела тратить
деньги по-своему... Хотела стать врачом...
- Навязчивой идеей Ванды было желание стать врачом, - сразу
подхватил Крауш. - Поистине вы имели основание считать это неприятной
идеей: собственный советски настроенный врач в семье отравительницы -
это опасно... Ну, а какою же навязчивой идеей страдали вы,
Твардовская? Вы сами... - Линда вскинула голову и с ненавистью
оглядела прокурора. Она не отвечала. Но Крауш уже не ждал ее ответа. -
Желание ценою жизни дочери покрыть преступную деятельность Квэпа - это
вы не считаете навязчивой идеей? Ради безопасности Квэпа вы решили
убить своего ребенка, - без пощады повторил Крауш, глядя, как все ниже
и ниже опускается голова Линды.
- Я не собиралась убивать ребенка, - едва слышно, вялыми, плохо
слушающимися губами прошептала Линда и вдруг закричала: - Я не убила
ребенка... Ванда не была ребенком... Нет, нет, она уже не была
ребенком...
- Ах, вот что! - Крауш запнулся... Он привык ко многому, но тут
даже он не находил слов, чтобы сказать то последнее, что нужно было
сказать. В его голосе звучало недоумение, когда он спросил: - Вы
считали допустимым убить свою дочь потому, что она уже не была
ребенком?..
Линда глядела на него так, словно не поняла его слов, и вдруг
заговорила. Она выбрасывала слова быстро, на крике, погрузив пальцы в
волосы и теребя их, словно желая вырвать:
- Вы не понимаете... Если бы я... не устранила ее, он убил бы
меня... Я же знала: он хотел, чтобы она была... вместо меня...
Понимаете? Чтобы... вместо меня она...
- Можете не договаривать, - прервал ее председатель.
- А я должна договорить, чтобы вы поняли: он убил бы меня, а
потом все равно убил бы и ее. Ведь она не сумела бы спасти его. А я
могла... могла помочь ему. Поймите ж! - Линда умоляюще протянула руки
к судьям.
Председатель быстро спросил ее:
- Что же все-таки руководило вами: желание спасти себя или его?
- Себя и его, - ответила она после минуты смущения.
- Себя, то есть вас, - с этими словами судья указал на Линду.
- Да, - жалобно проговорила она.
- И его? - неожиданно быстро спросил председатель, указывая на
Квэпа.
- Конечно, - так же жалобно ответила Линда...
Только тут она поняла, что теперь Квэп опознан. Опознан ею самой.
Линда уронила голову на руки и разрыдалась.
97. ШИНЕЛЬ БУДРАЙТИСА И ВАНДА ТВАРДОВСКАЯ
Наблюдая Квэпа в течение всего судебного заседания, Крауш решил,
что сила сопротивления преступника иссякает и наступило время для
нанесения ему последних ударов. Сидевший в публике Грачик понял, что
начинается решительная атака прокурора, но его напугало то, что Крауш
начал ее с эпизода исчезновения Будрайтиса. Грачик продолжал считать
это слабым местом обвинения: нельзя доказать участие Квэпа в убийстве
лейтенанта данными, имеющимися у следствия. Странно, что прокурор
начал именно с этого ненадежного хода! Сомнения Грачика не замедлили
подтвердиться: Квэп отрицал какую бы то ни было причастность к
исчезновению и тем более убийству Будрайтиса. Он утверждал, что эта
шинель милиционера куплена им на толкучке задолго до даты исчезновения
лейтенанта. И Линда подтвердила, что видела эту шинель на Квэпе вскоре
же после появления в Советском Союзе, то есть тоже задолго до
исчезновения Будрайтиса.
По просьбе Крауша была приглашена последняя свидетельница -
приехавшая из Литвы невеста Будрайтиса Мария Мацикас. Она рассказала
суду, как перед отъездом в Латвию к ней пришел Будрайтис, как она
собрала ему чемоданчик с продуктами, как пересмотрела его белье. Она
хорошо помнила, что на Будрайтисе была шинель, но в последний момент,
перед тем как сесть на мотоцикл, он снял ее и укрепил вместе с
чемоданчиком на багажнике.
- Он сказал, - с грустью показывала Мацикас, - что на лесных
тропках можно зацепиться полою за сук и порвать шинель, а то, чего
доброго, еще и упасть.
- А вы могли бы опознать шинель Будрайтиса? - спросил Крауш к
неудовольствию Грачика: как можно опознать обыкновенную, потрепанную
шинель милиционера? Вопрос прокурора показался ему не только
напрасным, но просто вредным - он послужит к ненужному торжеству
Квэпа: стоя перед столом вещественных доказательств и глядя на шинель,
Мария Мацикас недоуменно пожимает плечами.
- Вспомните хорошенько, - твердил Крауш потупившейся Марии, - нет
ли на этой шинели чего-нибудь такого, что служило бы ее характерной
приметой, было бы присуще ей одной?
Грачик искоса взглянул на Квэпа. Тот оторвал подбородок от
барьера и, сдвинув брови, следил за лицом Марии. Насторожилась и
Линда. Несколько сотен пар глаз слушателей, не говоря уже о взглядах
судей, были устремлены на смущенную девушку. А она стояла, жалко
сгорбившись, словно виноватая, и дрожащими пальцами перебирала полу
шинели: вот сейчас она еще раз безнадежно пожмет плечами, и козырь,
опрометчиво выданный прокурором, окажется в руках преступника. Мария
подняла голову и посмотрела на судей:
- Когда он... Будрайтис... пришел ко мне, на его шинели была
оторвана пуговица, - робко проговорила она. - Он вынул ее из кармана и
дал мне. "Пришей, пожалуйста", - сказал он. Я хотела пришить, а в доме
не было черной нитки. А он сказал: "Ничего, пришей какая есть". А я
сказала: "Вот, только такая", - и показала ему шелковую, серую... нет,
даже голубую. А он сказал: "Давай, пришивай, памятнее будет". И я
пришила пуговицу голубой ниткой.
Она закрыла лицо платком и тихо заплакала. Едва дав ей
успокоиться, Крауш сказал:
- Вы хорошо помните все это: и то, что нитка была именно голубая,
шелковая, и то, что это была... - Он вдруг запнулся и спросил: - Какая
это была пуговица?
- Самая нижняя, - сквозь слезы ответила Мария. Она отбросила полу
шинели и, приподняв ее за пуговицу, показала суду: - Вот эта.
Голубая нитка ясно выделялась на черном сукне.
Квэп переглянулся с Линдой: удар прокурора попал точно в цель.
Чувство гордости за Кручинина было так сильно, что Грачик даже не
испытал ничего похожего на разочарование от того, что была
опровергнута его уверенность в непричастности Будрайтиса к делу
Круминьша - Квэпа. Крауш поднялся с своего места: выпяченный
подбородок, наклон головы и брови, сведенные над холодными глазами,
устремленными на скамью подсудимых, говорили о том, что сейчас
прокурор нанесет удар.
- Я более не предъявляю Линде Твардовской обвинения по статье 136
Уголовного кодекса, - громко и раздельно произнес Крауш. - Если защита
желает, она может присоединиться к моему ходатайству об
освидетельствовании Линды Твардовской для определения степени ее
вменяемости. Мне не верится, чтобы женщина в здравом уме и твердой
памяти могла идти на то, что совершила, по ее словам, Линда
Твардовская. - И, повысив голос, торжественно закончил: - Не может
человек, живущий на Советской земле, будь он трижды изверг и десять
раз сообщник Квэпа, совершить то, что рассказала нам Твардовская! Это
самооговор. Я не верю. Она больна. Советское правосудие обязано
всемерно исследовать основательность всякого заявления, даже если оно
является сознанием в совершенном преступлении.
- Неправда, я здорова! - на весь зал закричала Линда. - Я
совершенно здорова!.. Спросите Квэпа: убил ли бы он меня, чтобы
заставить Ванду стать его любовницей?.. Спросите его, убил ли бы он
после того Ванду?.. Спросите его!.. Вы не хотите? - Она порывисто
обернулась к скамье подсудимых: - Так я сама спрашиваю тебя, Арвид: ты
сделал бы это?.. Говори же, сделал бы?
Это было так неожиданно и выкрикнуто в таком безумии отчаяния, с
таким напором, что даже председательствующий не прервал Квэпа, когда
он без вызова судьи поднялся со своего места и с неожиданной для него
простотой и твердостью проговорил:
- Конечно.
Этот тон поразил весь зал, видевший Квэпа в течение судебного
следствия расслабленным, плачущим, мечущимся. - Конечно, сделал бы, -
повторил он с уверенностью. - Таков был приказ Ланцанса и Шилде: не
оставлять ни одного свидетеля. Кто бы они ни были, эти люди, с
которыми я соприкоснусь, - убрать их!.. Так я уж попрошу вас, граждане
судьи: и это обвинение предъявляйте епископу Язепу Ланцансу... При чем
тут я? - он было опустился на скамью, но тут же снова поднялся: - Имею
ходатайство... - Защитник подался было к подсудимому с очевидным
намерением удержать его, но Квэп отстранил его: - Отложите
рассмотрение дела, пока в суд не доставят главного обвиняемого -
организатора и подстрекателя, члена Ордена иезуитов епископа Язепа
Ланцанса.
Прежде чем судья ответил Квэпу, защитник обратился к суду:
- Гражданин председательствующий, граждане судьи, вы теперь ясно
видите: подсудимый не находится в здравом уме. Защита ходатайствует об
его вторичном освидетельствовании психиатрами.
- Мы не можем ждать, пока сюда приведут иезуита Ланцанса и всех
других соучастников подсудимого Квэпа, - сказал председатель. - Но из
этого не следует, что наш суд, суд советского народа не вынесет
приговора и всем тем, кого еще нет здесь в зале. Мы хорошо понимаем
роль квэпов и роль ланцансов. Никому не удастся избежать справедливого
суда истории. Поэтому мы мысленно представляем себе рядом с Квэпом на
скамье подсудимых и Язепа Ланцанса. Если это может утешить подсудимого
- пусть знает: преступление Ланцанса раскрыто, квалифицировано судом,
и суд вынесет ему свой приговор... Не менее суровый, нежели приговор
самому Квэпу...
- Ну что же, - сказал Кручинин в этом месте рассказа Крауша и
машинально пошарил возле себя в поисках папиросной коробки. -
Председатель сказал верно. Но я позволю себе немного пофантазировать:
на месте суда я обратился бы к высшим органам власти с ходатайством
заменить Квэпу, а с того момента как попадет к нам в руки Ланцанс, и
этому почтенному члену Общества Иисусова смертную казнь кое-чем иным:
я посадил бы их порознь в камеры со стеклянной стенкой, чтобы они были
хорошо видны, а доступ к ним открыл бы всем желающим. Пусть бы люди
шли и смотрели: вот как выглядят враги народа, стремящегося к свободе,
к миру, к дружбе с другими народами. Я бы только обязал каждого
входящего: возле камер не произносить ни звука, не отвечать ни на один
вопрос заключенных. Люди будут идти в войлочных туфлях и молчать. И
никогда в тюрьме не будет слышно ни одного звука. Жизнь, которую
заключенные должны видеть в широкие окна, будет сверкать светом
свободы и радости, но будет совершенно беззвучна. Пусть бы это было
для них стеклянной могилой до самых последних дней их существования...
И Кручинин принялся оживленно развивать свои мысли насчет системы
наказаний вообще, и в Советском государстве в частности. Крауш слушал
с интересом, хотя едва ли не каждый день в своей повседневной работе
ему приходилось сталкиваться с проблемами жизни и смерти, свободы и
неволи. Инструкции и циркуляры не освобождали от необходимости думать,
и думать над самыми жгучими вопросами человеческого существования,
отношений людей. Инструкции бывали умные и неумные, ясные и путаные.
Поддайся Крауш успокоительному искушению поплыть в хорошо обставленном
параграфами фарватере бюрократа, и инструкции делились бы только на
удобные для исполнения или неудобные; подлежащие исполнению и такие,
которые лучше незаметно обходить. И его жизнь стала бы спокойной и
обеспеченной от неприятностей и потрясений, стоило только закрыться от
жизни броней равнодушия?.. Спасительного равнодушия?.. Или
губительного?.. Кажется, тут Краушу не в чем было себя упрекнуть, и
все же, слушая Кручинина, он думал: "А что если его собственное,
чистое и искреннее отношение к миссии прокурора - блюстителя
советского правопорядка - стало слишком абстрагированным от живого
человека, того главного, во имя кого он принял на себя самую эту
миссию, во имя кого писались законы, работали органы порядка и
безопасности. В самом начале, в давние времена, казавшиеся подчас
доисторическими, человек был исходной, от которой начиналось все".
Потом Крауш иногда ловил себя на том, что мало-помалу человека стали
заслонять слова. В устных декларациях, пышных и неоспоримо правильных,
в писаных параграфах, сухих и непреложно повелительных, формально
правильные слова все больше отставали от развития правосознания
советского человека. Сама жизнь выхолащивала смысл из параграфов,
когда-то верных и нужных. С течением времени они становились
анахронизмом. Оставалась буква, буква без души. А так как наши судьи
вовсе не были гигантами юриспруденции и юрисдикции, то разрыв между
формальным смыслом параграфа и подлинным смыслом жизни становился
угрожающим.
По мере того как эти мысли приходили Краушу, он все менее
внимательно слушал Кручинина. В конце концов поймал себя на том, что
не слушает его вовсе... Спохватился и не очень впопад сказал:
- А уверен ли ты в том, что для тех двух, в их стеклянном
заключении, будет подлинной казнью неучастие в жизни, в том шумном,
светлом, что будет происходить за стенами тюрьмы?..
Кручинин не сразу уловил нить возражения, потому что давно
перешел к другому. А когда понял, с удивлением посмотрел на прокурора.
И, не подозревая того, что попадает в самое русло прокурорских
размышлений, сказал:
- Извини, Ян, но мне кажется, что ты просто не задумывался над
этим, если допускаешь, что в преступнике - кто бы он ни был и каков бы
он ни был - может умереть тяга к жизни. Я не говорю, что Квэп и
Ланцанс загорятся желанием созидать вместе с народом. Быть может, они,
так же, как сейчас, будут стремиться к разрушению, к тому, чтобы
вредить, а не помогать. Но они будут стремиться вернуться к жизни,
вернее, к тому, что в их понимании является жизнью. Сознание жизни
умирает в человеке только вместе с ним самим. Стремление вырваться на
свободу нельзя убить. Если человек не подлинный философ, могущий и в
заточении отдаваться труду, - а Морозовых на свете не так-то много, -
то он не может не хотеть вырваться из тюрьмы, должен этого хотеть.
Таким образом, стеклянная тюрьма, из которой можно только видеть
жизнь, но нельзя принять в ней участия, даже нельзя ее слышать, - не
такая уж сладкая штука. А если добавить к этому ощущение того, что в
любую минуту на тебя могут смотреть, как на живую иллюстрацию
приговора, висящего в рамке на внешней стене камеры! Бр... Я не хотел
бы очутиться в таком положении.
- Однако ты можешь быть жесток.
- Быть может, это и жестоко в отношении тех двух, но куда
необходимее, чем казнить их и лишить остальных потенциальных врагов
поучительного примера... К тому же гуманность кары измеряется и
степенью ее полезности, то есть поучительностью для общества...
Пожалуй, даже это главное. Однако, - спохватился Кручинин, - я так и
не услышал от тебя: что было дальше?
- Ты не сочтешь меня самовлюбленным старикашкой, ежели я расскажу
о том, что доставило мне наибольшее удовлетворение?.. И с живостью,
столь необычной для него, Крауш рассказал, как нанес преступникам
решительный удар. - Сознаюсь, я, может быть, несколько нарушил
строгость процессуальных положений. Но ведь для пользы же дела,
понимаешь?! Чтобы раскрыть истину, мне был совершенно необходим этот
ход... - потирая руки от удовольствия проговорил Крауш. - Когда твой
Грачьян добивался получить сюда отравленную молодую Твардовскую,
эскулапы отвечали: "больна" да "больна". И тут "ученик чародея"
допустил оплошность, которой не повторил твой покорный слуга: Грач
удовлетворился этими ответами. А когда врачи заявили, что надежды на
скорое выздоровление Ванды нет, он исключил ее из круга своего
внимания.
- А ты?
- Хоть я и не чародей и даже не его ученик, а спросил, угрожает
ли ее жизни перевозка в Ригу, и добился разрешения перевезти ее сюда.
К сожалению, это несколько затянулось, но когда Ванду, наконец,
привезли, я представил суду свидетеля бесспорно опровергающего
самооговор Линды, - в зал въехали носилки с ее дочерью Вандой. Она не
могла двигаться, хотя бы шевельнуть пальцем или поднять голову, но
могла говорить. И вот через усилители весь зал услышал: в день
рокового полета из Риги Линды не было дома; бутерброды девушка
приготовила себе сама, а чай ей сварил и налил в термос... сожитель
матери Арвид Квэп...
Рассказ Крауша захватил Кручинина,
- Ну, ну! - торопил он прокурора.
- Дальше?.. Обморок Линды.
- Неужели она была уверена в смерти дочери?
- А самое интересное то, что ты назвал бы найденной истиной: едва
оправившись от обморока, Линда тут же, в зале суда, на коленях
подползла к носилкам и, рыдая и смеясь от счастья, припала к ногам
дочери...
Тут Крауш отвернулся, чтобы скрыть от Кручинина улыбку,
осветившую его обычно сумрачное лицо. Кручинин подошел и крепко
поцеловал его.
- До послезавтра, старина, - ласково проговорил он.
- Ладно, ладно, - с нарочитой суровостью, выпячивая подбородок,
продолжал Крауш. - Отпразднуем твое шестидесятилетие. Чтобы
послезавтра ты был на ногах. И уж навсегда, без всяких там
жировиков...
Говорят, что зверь, будучи ранен в схватке, уползает в берлогу и
там зализывает раны. У Магды не было видимых ран, но от этого ей не
меньше хотелось стонать. Так велика оказалась душевная травма,
причиненная ей необходимостью уничтожить Маргариту, вставшую на пути
спасения Вилмы. Магда не могла найти себе места. Неповоротливый ум ее
метался в поисках оправданий, которые были ей необходимы, - человеку
простому и религиозному. Священник не разъяснял ей условность заповеди
"не убий" в официальной религии капиталистической государственности.
Истина существовала для Магды как абсолют. Магда подняла руку на
настоятельницу отнюдь не в состоянии аффекта; нельзя было назвать это
и самозащитой, поскольку самой Магде обнаружение бегства Вилмы,
вероятно, не угрожало смертью. Таким образом, с точки зрения
формальной, поступок Магды не давал ей права на снисхождение. Но едва
ли кто-нибудь из нас, - пишущий эти строки или вы, читатель, - окажись
мы за судейским столом, решился бы проголосовать за виновность Магды.
Каждому из нас уничтожение Маргариты представляется актом высоко
положительным, а мотив его - спасение Вилмы - высоко моральным,
поднимающим образ Магды в глазах любого не предубежденного человека.
Совсем иными глазами посмотрели на дело полицейские власти.
Сигнала, полученного от службы Гелена, было достаточно, чтобы
задержание Магды превратилось в задачу политической важности. Ланцанс
не отказался от мысли использовать Магду для целей пропаганды среди
"перемещенных". Девушке было сказано, что ее перебросят в страну
народной демократии, вслед за Ингой, чтобы спасти от преследования за
убийство матери Маргариты. И действительно, ее куда-то повезли. Потом,
полагаясь на ее неосведомленность и неразвитость, ее водворили на
конспиративной квартире якобы в пределах ГДР. За этим последовал
главный акт трагикомедии: действующие под личиной народной полиции ГДР
люди епископа подвергли Магду издевательским допросам, избиениям и
пыткам. Действительно, только такая выносливая и крепкая "деревенщина"
могла перенести все и остаться жива. Заключительный акт заключался в
том, что якобы "народная полиция ГДР выкидывала Магду туда, откуда она
пришла". С "границы" люди епископа доставили ее прямо в лагерь Э 17.
Это трагическое представление было вдвойне необходимо Ланцансу теперь,
когда провалилась "Рижская акция Десницы Господней".
Если бы бедная Магда хотя бы во сне видела себя центром такого
торжества, какое было устроено по случаю ее возвращения в лагерь!
Санитарный автомобиль, в котором ее привезли "с границы", был встречен
толпою народа. Девушки с букетами цветов сопровождали священника,
вышедшего к воротам лагеря, чтобы благословить Магду. Сам епископ Язеп
Ланцанс прибыл, чтобы выступить на митинге обитателей лагеря. Но никто
не мог сказать, какое впечатление это оказывает на виновницу
торжества. Она лежала на носилках, водруженных на возвышении, рядом с
трибуной, накрытая до подбородка одеялом. Бинты, покрывавшие голову
Магды, оставляли открытыми только глаза и рот.
После прочувствованного слова лагерного капеллана выступил с
заявлением от Центрального совета Адольф Шилде. Толпа была подавлена
неожиданным исходом первой попытки внять увещаниям пропаганды за
возвращение на родину. Ланцанс приглядывался к лицам слушателей, пока
говорил Шилде: горящие гневом глаза на бледных лицах изголодавшихся
людей; взметнувшийся над головами угрожающе сжатый кулак; слезы
матерей, оплакивающих утраченную веру в возможность того, что их дети
снова станут латышами. Епископ с особенным удовольствием глядел на
хмурые лица молодежи - тех, для кого возвращение в Советскую Латвию
было вопросом всей жизни. Епископ Язеп Ланцанс радовался их
разочарованию. Они воображали, будто это так просто: вернуться в
страну отцов и стать ее гражданами? Они не хотели быть пушечным мясом
для иностранного легиона во Вьетнаме, не хотели подыхать в шахтах
Африки или на плантациях Южной Америки? Нет, голубчики, вы теперь
видите, что ждет вас там, в пределах социалистических демократий! Вот
он, живой пример социалистического гостеприимства, подобно мумии
запеленутьй в бинты!..
- Во имя отца и сына, - епископ широким крестам осенил толпу, -
позвольте... мне... поведать вам...
Но тут его перебили - в наступившей мертвой тишине послышалось:
- Я хочу сказать...
Это было сказано не громко, но достаточно отчетливо, чтобы могли
слышать все. Стоявшие в первых рядах толпы поняли, что это сказала
Магда. Десятки рук потянулись к носилкам. Их поставили так, чтобы
всему народу стала видна лежавшая на них фигура. Волна испуганного
шепота, прокатившаяся над головами толпы, еще затихала в задних рядах,
когда на трибуну выбежал лагерный врач. Ланцанс поспешно говорил ему
что-то. Врач вскинул руку.
- Я, как врач, возражаю: для нее говорить - это убивать себя.
А глухой голос Магды, казавшийся таинственным из-за того, что не
видно было движений ее рта, произнес так же твердо и внятно:
- Если каждое... мое слово... приближает меня к смерти... - Она
сделала паузу. - Пускай я умру после того, что скажу... Но я скажу
вам, братья...
Ко всеобщему изумлению, Магда выпростала из-под одеяла то, что
прежде было ее руками и подняла их над головой. Собранные здесь
несколько тысяч человек не были ни неженками, ни наивными. На их долю
выпали испытания в таком изобилии, каким редко может похвастаться
человек. Невзгоды физические и моральные были их участью в течение
долгих послевоенных лет, такие же страдания были их единственной
перспективой в будущем. Тут не было кисейных девиц и слишком нежных
душ. Жизнь сделала их малочувствительными к чужим страданиям. И
все-таки, когда Магда подняла руки над толпою, пронесся вздох испуга,
потому что это уже не были руки человека, какими их создала природа.
И снова прозвучал голос Магды.
- Снимите повязку с моей головы.
Врачи вопросительно взглянули на Ланцанса.
- Что ж, пусть посмотрят, - злобно сказал епископ. - Мне уж мало
что придется добавить...
Когда с головы Магды упали бинты, Ланцанс отвернулся. Неужели то,
что он видел теперь перед собой, было головой Магды!.. Неужели это
голова существа, созданного всевышним по образу и подобию своему?!
- Видите?.. - медленно выговорила Магда. - Говорят, что я умру,
если буду говорить... Так я же умру, если и не буду говорить... Уж
лучше я скажу вам правду... Чтобы вы знали... - Она умолкла,
откинувшись на подушку. Над толпою, над всем плацем и даже над
трибуной, где стояли Шилде и Ланцанс, висела тишина. Людям хотелось
утишить биение своих сердец, чтобы они не заглушали ни одного слова
Магды. Ланцанс в уме пересоставлял подготовленную речь: она будет
разить красных, как меч архангела, она прозвучит, как громовой полос с
неба. Между тем Магда продолжала: - Сестры, братья... подойдите ко
мне... Ближе... Станьте по сторонам. Верьте каждому моему слову,
говорю, как перед богом: я не была в Восточной Германии... Это сделали
они сами, тут, чтобы отбить у вас охоту проситься на родину... к
своим... Это они... они!..
Все было так неожиданно. Прошла почти минута, прежде чем Шилде
нашелся:
- Она сошла с ума!.. Разве вы не видите: она сошла с ума!
- Ну, нет, - раздалось из толпы. - Пусть она говорит... Говори,
Магда! Говори... говори! - неслось над толпой. И это уже нельзя было
подавить. Магда говорила. Она сказала совсем немного. Может быть,
всего двадцать слов. Но двадцать зарядов самого сильного взрывчатого
вещества не могли бы сделать того, что сделали слова "тупой
деревенщины", бросавшей в пространство над толпой свои последние
слова, вложенные в правду.
Епископ застыл, судорожно вцепившись в перила трибуны.
- Во имя отца и сына!.. - громким голосом привычного проповедника
крикнул Ланцанс, и его пальцы сложились для крестного знамения. Словом
"аминь", наверно, должна была закончиться фраза, но вместо того
обломок кирпича просвистел над толпою. Это было так стремительно и так
неожиданно, что Ланцанс не успел увернуться. Кирпич ударил его в лицо.
Епископ упал через загородку трибуны. Как раскат грома, над толпою
пронеслось подхваченное тысячами голосов:
- Аминь!.. Аминь!..
Это звучало, как надгробный вопль для Ланцанса, которого уже
вытащили из-за трибуны. Масса голов закачалась, как волны на море, -
взад, вперед, снова назад и, наконец, с новой силой вперед, все
вперед, как девятый вал прибоя, заливая рухнувшую трибуну. Если бы
десяток тех, кого Магда подозвала ближе к себе, не поднял ее носилки
над головами, она была бы смята вместе с трибуной, рухнувшей наземь
под неудержимым напором человеческих тел. И тут тот, кто не верит в
разум толпы и считает ее волю стихийно неразумной, тот, кто уподобляет
сборище людей "стаду", мог бы воочию убедиться, как разумна бывает
воля массы, не руководимой иным вожаком, кроме сердца и разума каждого
из тысяч в толпе. Биение этих сердец и зов этого разума сливаются в
один могучий, непреодолимый порыв девятого вала человеческой воли.
Тысячи человеческих тел, подобно прибою устремившихся к трибуне,
расступились вокруг носилок Магды и обтекали их, как струя горного
потока, сметающего на своем пути мосты и плотины, обтекает стоящую
посреди течения скалу. От трибуны ничего не осталось. Ланцанс исчез,
растоптанный тысячами ног. Люди устремились к воротам лагеря с
криками:
- На родину... На родину!..
Люди достигли уже ограды лагеря, трещали столбы, рвалась в клочья
сетка, служащая теперь хозяевам "перемещенных", как прежде служила
гитлеровцам...
И вдруг задние ряды бегущих наткнулись на тех, кто был перед
ними. Те на следующих. И так до самых передних рядов. Первый ряд
остановился. Прямо в лица людей глядели черные немигающие отверстия
автоматных дул.
- Долой Центральный совет... - понеслось над толпой, и задние
ряды нажали на передних. Автоматы?.. Да разве власти решатся пустить
их в ход против нескольких тысяч людей, которые хотят только того,
чтобы их пустили домой.
- На родину... на родину!..
Но автоматы не понимали человеческого языка. К тому же разве
перед автоматами были люди? Ведь они же только "перемещенные". Рот
офицера раскрылся, закрылся - и в тот же миг черные немигающие глазки
автоматов перестали быть черными, они замигали часто, часто.
Но что случилось с этими людьми? Неужели желание вернуться в свою
отчизну сильнее страха смерти? Неужели двадцать слов, сказанных
простой крестьянской девушкой, могли взорвать воздвигнутую перед этими
людьми плотину лжи и страха? Почему отступает офицер? Почему отступают
солдаты с автоматами? Неужели их огонь слабее воли этих людей,
желающих вернуться на родину? Неужели двадцать слов простой
крестьянской девушки...
Офицер повернулся и побежал. Один за другим солдаты бросали
автоматы и бежали за офицером. Как напор всепобеждающего потока
свободы, мчались за ними тысячи тех, кто в эту минуту перестал считать
себя "перемещенными", кто снова стал латышами, сынами своей отчизны.
На пути к родине, к свободной Латвии, их, людей раскованной воли, не
мог удержать никто.
День шестидесятилетия Кручинина начался двумя неожиданными
визитами. Спозаранку, когда Кручинин был еще в пижаме, явился Мартын
Залинь. Гигант смущенно, как слон в клетке, долго топтался в прихожей,
прежде чем выговорить формулу поздравления.
- Откуда вы знаете? - удивился Кручинин.
Залинь, в свою очередь, с нескрываемым удивлением посмотрел на
него:
- Опытный вы человек, Нил Платонович, - проговорил он с укоризной
в голосе, - кажется, уж проникли нашего брата насквозь, а такую вещь
спрашиваете!.. Чего же мы не знаем, скажите на милость?
Кручинин рассмеялся, поблагодарил за поздравление и не успел
опомниться, как гость, с непостижимым для его размеров проворством,
нырнул в дверь. За его спиной повисло в воздухе:
- Никак невозможно опаздывать... Производство!..
Кручинину показалось, что в слове "производство" прозвучало
что-то, схожее с гордостью. Топот тяжких шагов Залиня уже затих на
лестнице, когда Кручинин заметил на подзеркальнике маленький пакетик,
кокетливо перевязанный розовой ленточкой. После некоторого колебания
Кручинин распустил бант, без всякого сомнения, завязанный рукою Луизы.
В розовой же бумаге лежал отлично сделанный кастет. Оружие было
распилено пополам. В распил засунута записка: "Это навсегда. Спасибо.
Луиза. Мартын". Кручинин по достоинству оценил это лаконическое
сообщение. Оно было неплохим подарком ему, считавшему, что он ищет
истину и для тех, кто от нее бежит.
Не менее неожиданным и приятным был приезд из С. Инги с Силсом.
По словам Инги, Карлис ни за что не хотел ехать. Даже в дверях
кручининской квартиры он еще упирался, считая, что Кручинин ему не
доверяет. Он поехал только потому, что Инга сказала: праздник
Кручинина - праздник Грачика.
- Что ж, - согласился Кручинин. - Вы правы. Наше единство с
Грачем - это единство старого ствола и молодого побега. Как говорится
в стихе: "Мне время тлеть - ему цвести".
Кручинин пожалел о том, что и они, подобно Залиню, спешат ко
второй смене на комбинат и не могут дождаться приезда Вилмы с
Грачиком. Гости не заметили, какими теплыми огоньками загорелись глаза
Кручинина, когда он заговорил о Вилме. Да и могло ли прийти в голову
им, до краев переполненным собственным счастьем, следить за выражением
чьих бы то ни было глаз. Для Силса существовали только одни глаза -
глаза Инги, для Инги - только глаза Карлиса.
Кручинин в задумчивости смотрел вслед молодой паре. Странно то,
что вчера еще представлялось неважным - фраза "может быть, завтра или
через месяц, а может статься и через год" - сегодня вдруг приобрело
новое, удивительное значение. Неужели таково необъяснимое действие
этой даты: "60". Неужели нужно так ясно увидеть ее перед собой, чтобы
понять необходимость сохранить накопленное нелегким опытом целой
жизни! Своего рода "Завещание чародея"!.. Накопленное принадлежит
народу, партии. Сложись жизнь иначе, не приди он к партии - ему, может
быть, и не удалось бы пройти ее тем путем, каким она его провела.
Предмет его "завещания" - живой человек, только в руках следователя
остающийся еще таким, каким он пришел. Чем дальше, тем меньше этот,
живой человек становится похож на самого себя. Да, именно следователь
сталкивается с живой, кровоточащей раной преступления, с первым криком
проснувшегося в человеке строгого судьи - его собственной совести. Ох,
как много нужно сказать! Когда не видно конца жизни, то кажется будто
сказано все, что нужно. А вот стоит увидеть вдали этот конец с тою
реальностью, с какой он видит его сейчас, и становится ясно: сказано
куда меньше, чем осталось сказать... Разве можно уложить целую жизнь в
несколько тетрадей даже самых бережных записей. И кто знает, будет ли
он так же работоспособен через месяц, через год...
Чтобы все было в прошлом. В том прошлом, какое захочешь в эти
минуты видеть, и видеть его таким, каким хочешь!
Кручинин не спеша шел на городскую станцию. Через час билет был в
кармане. Жаль, конечно, что поезд идет только вечером. Придется
выдержать этот праздник - свой собственный юбилей... "Юбилей чародея"!
Не любит он юбилеев!.. А впрочем: ерунда! Пусть поют, пусть величают,
пусть будет "юбилей".
Кручинин шел по бульвару. Ноги мягко ступали по шуршащему
лиственному ковру. От земли поднимался горьковатый запах палого листа.
Кручинин опустился на скамью и снял шляпу. Холодный ветер с Даугавы
впился в волосы, растрепал бороду.
Лишь кое-где дубы еще сохранили побуревшее от утренников вычурное
одеяние, но и они уже зябко расставили почерневшие сучья. На
опустошенных клумбах неопрятной щетиной торчали остатки цветочных
стеблей. Все вокруг казалось умирало... Умирало?.. Нет, нет! Это был
только отдых земли, истомленной ласками солнца; только благодатный сон
под одеялом снегов, перед новым праздником брака и нежных объятий
весны. Потом снова дурманящий натиск знойного лета и снова освежающие
слезы осенних дождей, шуршание листьев, возвращающихся на землю, из
соков которой они родились... И снова зима... и снова... снова...
Какое новое восприятие времени!.. Будущее приобретает небывалую
дотоле, огромную ценность; минуты становятся днями, дни - годами.
Разве он не был всегда убежден, что прошлому свойственна
неподвижность, обеспечивающая его доступность в любое время, - стоит
протянуть руку. А тут вдруг его охватило опасение: что если прошлое
утечет между пальцами, будет утрачено навсегда, если он не успеет его
собрать на страницах своих записей.
Кручинин провел рукой по лицу: не стоит ли он перед опасностью
стать пленником своего прошлого? Не лучше ли мобилизовать силы на
использование оставленного ему будущего?.. Нет, без овладения прошлым,
опрокинутым в будущее, невозможно строить жизнь! Где же и черпать опыт
для этой стройки, как не в прошлом? Не понять своего прошлого - значит
не понять будущего... Кажется, он повторил слова какого-то философа?..
Не беда, теперь не до того, чтобы разбираться в таких тонкостях: если
мысль кажется верной, он обязан ею пользоваться, как своей
собственной! Таково право спешащих. Разве в его положении собирание
мыслей не равносильно самому активному действию? Разве подведение
итогов прошлого не есть вторжение в будущее? Или настоящее не
рождается прошедшим, а будущее настоящим. Если мы не считаем свое
будущее абстракцией, то тем более не является абстракцией прошлое. Его
надо взять и как великую материальность, как оружие передать дальше,
по строю - тем, кто принимает пост на будущее.
На какое-то мгновение Кручинину показалось, что он занимается
пустяками: чем-то мистическим повеяло на него от собственных
размышлений. Но он тут же отбросил этот страх: метафизика, конечно, не
оружие материалиста. Он живет переработкой в своем сознании реального
мира. Но кто сказал, что прошлое - не такая же реальность, как
настоящее. И даже реальность более устойчивая, поскольку она заключена
в ясно очерченные рамки времени, тогда как настоящее в каждый данный
миг является еще будущим со всеми нереальностями этой загадочной
категории и так же в каждый данный миг становится прошлым.
Говорят, что писать вообще - нетрудно, а трудно написать что-то
стоящее. Это он будет помнить ежеминутно. Когда остается мало времени,
нельзя сгребать подряд все, что было, надо отцеживать мысли сквозь
самое тонкое сито критики.
Кручинин глядел в серую, затянутую мглой мелкого дождя пустоту
бульвара, но взгляд его, как у слепого, не фиксировал ничего, ни на
чем не останавливался. Туман, собираясь на бровях, в нависших на лоб
волосах, холодными каплями падал на лоб, стекал за воротник. Кручинин
поежился, устало поднялся и пошел с непокрытой головой, не замечая
холодного ветра. Шляпа осталась лежать на скамье.
Он медленно шагал по дорожкам, машинально обходя лужи. Заслышав
сзади торопливые шаги, он обернулся: перед ним стояла, смущенно
улыбаясь, девочка лет десяти. Она протягивала ему его мокрую шляпу.
Сказала несколько слов по-латышски и, видя, что он ее не понимает,
смутилась еще больше. Растерянно поглядела на шляпу. Кручинин надел
шляпу и протянул девочке руку. Она нерешительно подала свою маленькую
ручку. Кручинин нагнулся и нежно коснулся губами холодных худеньких
пальчиков. Сказал, улыбнувшись:
- Палдиес.
Девочка сделала книксен.
Несколько минут они в нерешительности стояли друг против друга.
Кручинин поклонился, церемонно приподняв шляпу; девочка снова сделала
книксен, и они разошлись. Он шел не оборачиваясь, глядя себе под ноги.
Шляпа оставалась в руке, промозглый ветер продолжал трепать волосы.
Приятным сюрпризом этого дня было переданное Кручинину Краушем
приглашение к первому секретарю. Спрогис поблагодарил Кручинина за
негласное и добровольное участие в расследовании дела Круминьша и,
выглядывая из густого облака трубочного дыма, принялся с веселым видом
вспоминать "немножко древнюю историю" - годы, когда они вместе воевали
на фронтах гражданской войны. Вероятно, он искренне полагал, что этой
темы достаточно для большого дружеского разговора, но она оказалась
исчерпанной в несколько минут. "Немножко древнюю историю" быстро
заслонила животрепещущая жизнь с ее трудами и радостями, в жарком
котле которой ежедневно варились вое трое. Трижды входивший в кабинет
секретарь, работники, приносившие на подпись неотложные бумаги,
наконец звонок из района вернули мысли из далекой страны воспоминаний
к действительности дня.
Спрогис долго вытрясал и раскуривал потухшую трубку, переживая
только что законченный разговор с районом, проворчал в раздувшиеся
щеткой усы:
- Удивительно!.. Кое-кто не хочет понять, что нельзя, обманывая
партию, кормить народ обещаниями. Самые пышные слова не заменяют хлеба
и сапог. Это было хорошо в притче: питать пять тысяч человек пятью
хлебами. А мы обещали сытно накормить и хорошо одеть людей - так
извольте иметь не пять пар сапог и не пять хлебов, а пять тысяч.
Правильно говорит пословица "Москва слезам не верит". И незачем им
верить. Для народа у нас не должно быть "объективных причин". Раз мы
взялись руководить - хлеб и сапоги на стол! Я не могу и не собираюсь
ссылаться на "объективность" обстоятельств.
- А было время, когда у нас одна шинель приходилась на двоих и
один хлеб на десятерых. И ничего - отбили все четырнадцать держав и
завоевали революцию, - заметил Крауш. - Бывают и неполадки. Не зря же
приходится искать лучших форм. Последняя реорганизация...
Спрогис сердито замахал рукой, отчего клубы дыма заплясали вокруг
его головы.
- Не говорите мне об этих пересадках. Мы не крыловские музыканты.
Увертюра уже сыграна. Идет концерт на радость всему трудовому
человечеству! - И перегнувшись через стол, крикнул Кручинину так,
словно тот был на другом конце комнаты: - Вот он. - Рука секретаря с
зажатой трубкой едва не коснулась груди Крауша. - Он воображает, что
такие истории, как дело Квэпа и прочих, идут какой-то сторонней
дорогой. Но вы же сами вместе с ним убрали, сбросили с нашего пути
этот камень. И так мы отбросим все препятствия. Все! Каковы бы они ни
были! Только не дайте желанию покоя усыпить в себе стремление к
схватке. Идеологическая борьба за нами, практика обороны - за вами.
Звание слуги народа нельзя снять с себя вместе с погонами или
лампасами. Впрочем, их-то с вас уже давно сняли. Они вам не мешают.
- Толстой где-то говорил, - с усмешкой заметил Кручинин, - что
чем меньше люди будут хлопотать об общем благе и чем больше станут
думать о своей душе, тем скорее достигнут общего блага.
- Вот потому нам с ним и не всегда по пути, - сердито выбросил
Спрогис. - Хотя он же говорил, что ради самого себя нормальный человек
не решится убить другого человека. Ради ближнего - это уже легче. А
ради "общего блага" самый разнормальный человек спокойно убивает
тысячи и миллионы. Так изобретается оправдание любой войны, будь она
сто тысяч раз несправедливая, ведись она в самых корыстных интересах
шайки грабителей и во имя выдуманного прогресса выдуманного
человечества вообще, какового, как известно, не существует...
- Слово смерть, к сожалению, очень часто встречается в практике
нашей профессии, - сказал Кручинин.
- Так вот ваше дело и заключается в том, чтобы разобраться, во
имя чего или кого причинена смерть, и кому она причинена. Для этого у
вас в руках марксистская наука. Наша советская наука о праве и правде.
- К сожалению, наша юридическая наука не избежала участи
некоторых других областей идеологической надстройки...
- Что вы хотите сказать? - насторожился Спрогис.
- И в нашей области находились "гении", мешавшие юридической
науке развиваться планомерно, в ногу с жизнью, - спокойно ответил
Кручинин.
Спрогис удивленно уставился на Крауша.
- Послушай, прокурор, что он говорит, а?
- Мне кажется, - продолжал Кручинин, - тут случилось то же, что в
некоторых из областей нашего хозяйственного, технического или
идеологического развития. Ведь были случаи, когда обласканные
начальством, умащенные елеем "корифеи" не только сами перестали
развиваться, но и задержали развитие своего дела. Понадобилось время,
чтобы распознать в некоторых из них типов, строивших свою славу и свое
благополучие на чужой скромности.
- Ну, ну, не перегибай, - успокаивающе пробормотал Крауш. - Эти
уроды уже получили свою оценку...
- Нет, нет, не путай его, прокурор! - вмешался Спрогис. - Пусть
говорит. Нам не повредит услышать такое... Пусть говорит...
- Я не собираюсь открывать Америк, - несколько смутился Кручинин,
- вы все знаете сами. Партия не раз уже сбивала спесь с тех, кто,
получив поощрение, воображал себя полубогом и начинал жизнь в
административном футляре, переставал работать, пуще всего боясь одного
- ошибиться...
Кручинину не удалось договорить. Секретарь доложила о приходе
председателя рижского горисполкома.
- Да, да, - воскликнул Спрогис. - Я его приглашал. Это по тому же
делу, товарищи, насчет Инги Селги... - И секретарю: - Просите,
просите... Мы же с вами уже показали делом Круминьша, что не на
словах, а на деле хотим помочь соотечественникам, застрявшим за
рубежом, вернуться домой. Все тут у нас: природа, климат, земля, реки,
люди, язык - решительно все мило нашему сородичу, вынужденному влачить
существование раба на чужбине. Чем дальше идет время, тем тверже
становится вера "перемещенных" в то, что на родине лучше. Видеть
каждый день свои леса, свои дома, пить свою воду, дышать своим
воздухом - вот счастье! Его ничем нельзя заменить. Только тут, у нас,
все "настоящее", все свое. - И обращаясь к председателю исполкома: -
Так что же вы сделали для того, чтобы первые вернувшиеся на родину
люди почувствовали себя дома?
- Мы создаем условия, - откашлявшись в кулак, торжественно начал
председатель. - Все в соответствии с вашей директивой. Всяческие
условия. Прежде всего хорошая квартира в одном из благоустроенных
домов. Три комнатки. С обстановочкой. Газ, отопление. Затем дачка на
Взморье. Затем, совместно с кино, организуем съемочку: "Милости
просим". Фильм для международного обозрения.
Пока он говорил, выражение удивления на лице Спрогиса сменилось
гневом. Раздув усы, он хриплым голосом остановил председателя:
- Все это всерьез?..
- Безусловно! - с восторгом воскликнул председатель.
- Мы говорим: устройте вернувшихся так, чтобы они почувствовали
себя нашими, вполне нашими людьми. Чтобы на их примере каждый
"перемещенный" убедился в том, что может спокойно вернуться домой, что
он найдет тут приют и труд. А вы что?
- Мы от чистого сердца! - в отчаянии воскликнул предисполкома. -
Если этого мало...
Спрогис швырнул свою трубку на стол.
- Да, от чистого сердца вы затеяли все, что могли, чтобы
разрушить наши лучшие намерения. Хотите, чтобы искреннее желание
помочь несчастным буржуазная пресса расписала как заманивание
сказочными благами, которых мы не в состоянии дать всем. Вы этого
хотите?!
- Собака лает - ветер носит, - проворчал Крауш. - Пусть пишут,
что хотят.
- Но ведь этот злобный лай услышат и в лагерях для
"перемещенных". Он напугает людей, которым нечего бояться. Хотим
добра, а сделаем зло. Нет, так не годится. Придется вам, прокурор, и
это взять под свое наблюдение: чтобы все так, как было бы сделано для
любого нашего человека. И на работу так же, как нашего человека: что
Селга умеет, что хочет делать, то пусть и делает. А то и тут они
додумаются до какого-нибудь архиерейского местечка... Фу, какая
глупость, какая гадость! - Спрогис встал и протянул руку Кручинину. -
Вот так один дурак может испортить то, над чем стараются тысячи...
Одна ложка дегтя и - все на смарку...
101. ОБ ОСКОЛКАХ РАЗБИТОГО ВДРЕБЕЗГИ
Гостей было немного: Грачик с Вилмой и Крауш. Прокурор приехал с
известием о том, что Верховный Совет заменил Квэпу высшую меру
заключением. Сперва Крауш огорчился было: это как бы сводило на нет
его усилия. Но ведь если смотреть по-государственному, то приходится
не столько исходить с позиций прошлого, сколько думать о будущем.
Явление, которое судили, - католическая контрреволюция и ее происки -
не является типично латвийским. Католицизм не имеет в Латвии глубоких
корней. В одной Латгалии его еще можно считать кое-как сохраняющим
положение "господствующей" религии. Поэтому и Квэпа не стоит
рассматривать как некую широкую социальную беду, особенно опасную для
общества. Со всем этим Крауш согласен. И что мог возразить прокурор
даже там, где речь идет не об исполнителях - палачах вроде этого
Квэпа, а о тех, кто разрабатывает планы срыва мирного сосуществования
народов. Интересны те, кто направляет руку Квэпов, те, кому поперек
горла стоит мир и вообще все, что не ведет к войне за возвращение им
власти и богатства?.. О, если бы они сами очутились на скамье
подсудимых, тут уж Крауш нашел бы нужные слова!
Он так разволновался, что, вдруг умолкнув, протянул руку к
Кручинину:
- Дай папиросу!
- В этом доме не курят, - спокойно ответил тот. - А кроме того, я
хочу тебя поправить: если это дело не очень характерно для Латвии как
для страны в наибольшей части атеистической и в незначительной своей
части лютеранской, то зато процесс Квэпа характерен для иезуитизма,
как такового. Разве все, что произошло, - не веха на пути крушения
иезуитизма как явления, как антипода прогресса и демократии? Право, не
мудрено проследить руку иезуитов в стране чисто католической, вроде
Италии, или в странах с некоторыми корнями традиционного католицизма,
как Польша и Венгрия. Что мудреного поймать там за руку иезуитов,
шкодящих по приказу Рима?! Гораздо труднее сделать это в такой
протестантской стране, как Латвия, где иезуита, казалось бы, и днем с
огнем не сыщешь! А на поверку - вот он: с крестом в одной руке, с
пистолетом в другой, с ядом, с патентованной петлей палача! И все для
чего? Чтобы столкнуть людей лбами, чтобы их разъединить, чтобы
разрушить единство народа, противопоставить друг другу братьев, отцов
и детей, очутившихся из-за войны по разные стороны границы...
По-моему, вы провели отличное дело.
- Увы, повторяю, не слишком типичное для нас, - разочарованно
повторил Крауш.
- Но достаточно типичное для эпохи! - возразил Кручинин.
Крауш не мог скрыть довольной улыбки, но скромно сказал:
- В большой мере это заслуга твоего "ученика чародея"... Как это
Спрогис оказал мне?.. "Лабак ман даудэн драугу не ка даудзи найдинеку.
Драйге грауган року деве, найденеке забонинь" - "Лучше много друзей,
чем много врагов: друг другу подает руку, а враг врагу меч..." Это
здорово сказано стариками. И как это здорово: за то, чтобы латыш
латышу протянул руку, дрался армянин... Здорово?
Кручинин исподтишка следил за Вилмой, не спускавшей влюбленных
глаз с Грачика. Он увидел, как при словах прокурора еще восторженней
засиял ее взгляд. По лицу Кручинина пробежала тень. Но так мимолетно,
что никто ее не заметил. В следующее мгновение он шутливо сказал:
- Говорят, у страха глаза велики? А, по-моему, у любви они еще
больше. Посмотрите на нее! - Кручинин с усмешкой указал на смущенную
Вилму. Она энергичным движением подняла бокал:
- Довольно философии!.. За чародея! - Вилма порылась в сумочке и
достала измятый конверт. В нерешительности сказала: - Я не знала, могу
ли сделать этот подарок... Мне кажется, что это будет приятным
сюрпризом для Нила Платоновича.
- Э, нет, в такой день тайн не полагается! - Крауш перенял у нее
конверт и вытащил из него несколько мелко исписанных листков. - Вы
правы: лучшего подарка не придумаешь. Смотри-ка, Нил: это целый
длинный список репатриантов... Раз, два, три, четыре, - он
перекладывал листки из руки в руку. - Имена тех, кто возвращается на
родину. По-видимому, они "нашли истину".
- За искателя истины! За моего дорогого, несравненного учителя! -
стараясь поймать ускользающий взгляд Кручинина, проговорил Грачик. -
Помните, учитель джан, как вы когда-то предостерегали меня от трудной
профессии. Я говорил тогда что-то самонадеянное... о следах,
оставленных в истории Феликсом Дзержинским, и, кажется, о том, что
Сурен Грачьян собирается пройти по этим следам.
- Если бы это показалось мне самонадеянным, мы не были бы теперь
вместе, - ответил Кручинин. - Если бояться стремления к идеалу, то
нельзя сделать ни шагу на пути к мечте, которой должен жить даже такой
трезвый человек, как оперативный работник и следователь. Ты должен был
найти свой идеал и хорошо, что нашел его в Дзержинском, как я в свое
время нашел его в Кони.
- Этот архибуржуазный юрист?!.. Вы никогда не говорили мне о
таком странном "идеале", - воскликнул Грачик. - А если бы сказали, я
бы не поверил, честное слово!
- Ослышался я, что ли? - Кручинин прищурился на Грачика и сдвинул
брови. Лицо его приняло неприветливое выражение. Грачик редко видел
его таким, и ему стало не по себе.
- Я не верно тебя понял? - повторил Кручинин. - Ты хочешь
сказать: из-за того, что Кони - деятель прошлого, чиновник старого
режима, он и весь его опыт должны быть отброшены?.. Может быть, ты
даже полагаешь, что это зазорно для нас, советских людей, коммунистов,
уважительно относиться к таким как Кони? Нет, Грач! Советский народ в
целом давно отказался от навязанной было ему идейки стать эдаким
двухсотмиллионным иваном непомнящим. История народа - это великий путь
испытаний, борьбы и побед, путь великих свершений - вплоть до нашей
революции. Эти великие дела создали страну такою, как она есть. А ты?!
Тебе хочется, чтобы в нашей профессиональной области мы чувствовали
себя иванами непомнящими? И только из-за того, что один из хороших
представителей нашей профессии в прошлом носил мундир с золотым
шитьем?.. А я лопнул бы сейчас от гордости, ежели бы мог похвастаться
десятой долей тех великолепных мыслей, какие родились в голове этого
сенатора! Кони был блестящим юристом - знатоком своего дела, тонким
исследователем души человеческой.
Заметив, как волнуется Кручинин, Крауш перебил его:
- Грачьян сдается... Так? - обернулся он к присмиревшему Грачику.
- Нашей молодежи действительно кажется, что если человек, живший во
времена тирании, не был революционером, так его со счетов долой!.. Это
наша вина, Нил: так мы их воспитали.
- Пусть не надевает на себя шор... - сердито отозвался Кручинин.
- На свете предостаточно охотников сунуть чужую голову в шоры...
Тирания! Но ведь она не только прошлое. Сколько народов по ту сторону
барьера еще страдает от тирании грабительских групп и целых классов. К
сожалению, некоторые народы еще не сумели сбросить ее постыдное иго...
В такой обстановке все более или менее случайно.
- Почему более или менее? - перебил Грачик. - Все случайно или
все закономерно?
- В той системе, в том обществе, где может существовать тирания;
там, где жизнь не направляется стоящим у власти рабочим классом, где
она не построена на подлинном марксистско-ленинском учении, где не
знают порядка социализма - там, душа моя, много, ох как много
случайностей!
- Есть законы жизни... непреложные законы.
- Вот они-то, эти законы, и говорят: изжив себя, капитализм
приходит к хаотической смене случайностей - плоду более или менее
порочной фантазии более или менее случайных руководителей, но почти
всегда горе-руководителей.
- Руководителей на горе! - рассмеялся Крауш.
- Вот именно. На горе народам!
- Все это не имеет никакого отношения к нам, к нашему спору, -
возразил Грачик.
Кручинин с нескрываемым неудовольствием посмотрел на молодого
друга.
- История, дружище Грач, это клубок таких сложностей, что я не
взялся бы подобно тебе эдак смаху решать, что имеет и что не имеет
отношения к нашему спору. Це дило треба разжуваты... Помнится, мы с
тобой об этом как-то уже говорили.
- Не помню...
- А когда "бородач" послал мне в спину заряд дроби?
- Я об этом ничего не знаю, - обеспокоено проговорил Крауш.
- О, этот пробел ты легко пополнишь, просмотрев "Дело
Гордеева"... Случай даже был как-то описан под названием "Личное
счастье" твоего покорного слуги.
- Довольно сомнительное счастье, - заметил Крауш. - Заряд
дроби...
- Дело было не в заряде, а... однако, оставим этот разговор. -
Кручинин нахмурился. - Он заведет нас в дебри, из которых не выбраться
до утра. У меня не хватит времени, чтобы высказать тебе то, что
хочется сказать по долгу представителя поколения, которое уходит, к
сожалению, почти не оставив письменных свидетельств своего опыта. Так
сложилась наша жизнь: не хватало времени писать. И мы, сами получив
богатое литературное наследие от предшественников, почти ничего не
записали для нашей смены.
- Ты преувеличиваешь, - сказал Крауш.
- Потом мы с тобой поспорим, а сейчас я должен сказать ему
несколько слов... Ты слушаешь меня, Грач?! - с досадой сказал Кручинин
и потянул к себе молодого человека, подсевшего было к чайному столу,
где, охватив ладонями пестрого петуха на чайнике (ее сегодняшний
подарок юбиляру), сидела Вилма. Она грустным взглядом следила за
Кручининым, о котором столько слышала от своего мужа, что, кажется,
знала все его повадки, привычки и даже думы. Но сегодня она не
узнавала его. Кручинин был совсем не тем "учителем", образ которого
возникал из рассказов Грачика. Перед нею был желчный человек,
насмешливо говоривший ее мужу, указывая на нее саму.
- Предоставь ей любоваться тобою, пока ты выслушаешь меня. Можешь
смотреть на меня, а не на Вилму, хотя бы пока я с тобой говорю?.. Ты
сейчас неуважительно отмахнулся от человека, который действительно был
для меня образцом. Не понимай меня примитивно: счесть Кони жизненным
образцом для меня не значило подражать ему. Но духовный облик этого
человека заставил меня задуматься над качествами, какими должен
обладать человек, посвятивший себя нашему делу. Он был для нас,
студентов, не только кладезем юридической мудрости, а и другом в самом
теплом значении этого слова. Быть может, от этого пахнет немного
смешной архаикой, но, вступая в новый для него советский мир, Анатолий
Федорович, уже глубокий старик с горячей душой неиспорченного юноши,
повторял нам, объятым суровой атмосферой диктатуры, слова, бывшие для
него на заре его деятельности подлинным заветом: "Творите суд скорый,
правый и милостивый". Хорошо помню: злые языки шептали, что-де хитрый
старик призывает не делать разницы между рабочим, с голодухи стащившим
кусок латуни для зажигалки, и патриархом - участником
контрреволюционного заговора. Но это была клевета на умного и честного
старика. Вместе с тем все мы отвергали суд "милостивый", требовали
суда строгого, без пощады, не хотели знать никаких милостей. Старик не
спорил, он понимал, что иначе мы тогда не могли...
- В тебе говорит сейчас много личного, - сказал Крауш. - А мне,
когда вспоминаю то время, приходит на память не Кони, а Самарин.
Особенно хочется вспомнить эту фигуру именно сегодня, когда мы полны
впечатлениями от дела церковников. Кони и Самарин оба осколки старого
режима, оба царские сановники!
- Один осколок - чистый хрусталь. Преломляясь в нем, на нас,
молодых советских юристов, упал не один луч света. А второй - Самарин
- мутный осколок церковного стекла. Трибунал поступил с ним именно
так, как должен был поступить, - расстрелял его... Разные бывают
осколки у разбитого вдребезги, милый мой Ян, - с этими словами
Кручинин обернулся к Грачику: - Тебе в твоей практике, вероятно, уже
не придется с этим столкнуться. Разбить старые сосуды и рассортировать
осколки досталось на нашу долю... Это было нелегко - мы тогда не имели
права думать о милости и тем более о суде, равном для всех. Нам
приходилось защищать революцию. Но тебе придется о многом задуматься,
если судьба приведет столкнуться с подобными делами. Взять даже
нынешнее дело Квэпа. В былое время мы не стали бы тратить время -
поставили бы к стенке его самого и всех, с кем он соприкасался. И были
бы правы. Никто не смеет упрекать нас в том, что мы были суровы.
Другое дело теперь, когда наше государство стоит на ногах более
прочных, чем знал какой-нибудь другой режим, - это ноги всего народа.
Мы уже не боимся укусов, которые могли быть прежде просто смертельны.
Мы ответим на них в десять раз крепче чем прежде. Вам, нашей смене,
достается великая честь - стоять на страже этого правопорядка,
обеспечивающего права человека в нашей стране... - Он пристально
посмотрел в глаза притихшему Грачику и повторил: - Великая честь
блюсти права человека... Чтобы покончить с вопросом о сенаторе,
возбуждающем такую неприязнь Яна Валдемаровича, скажу только, что
именно этот сенатор подсказал еще одному осколку - некоему графу
сюжеты его "Воскресения" и "Живого трупа". Друзьями сенатора были
Достоевский, Некрасов, Гончаров, Грот, Гааз...
- А ты знаешь, - неприязненно проговорил Крауш, - мне не нравится
вся эта... - он закашлялся и после невольной паузы вяло договорил: -
Интеллигентщина какая-то, да, еще с привкусом достоевщины...
- Что ты сказал? - Нет, ты повтори: достоевщина?! Да ты просто
болен, старина! Ей-ей, ты болен... Вот она работа прокурора!.. До чего
довела. - Кручинин рассмеялся и схватил Крауша за обе руки. Но тот
оставался хмуро настороженным. - Значит "достоевщина"? Еще один
осколок, опять осколок?.. Ох, братцы, как вы меня злите! Достоевский!
Какой умный был человек и как потрудился для нас на ниве исследования
преступления и наказания... Судя по всему, мы не знаем даты, когда
будет издан декрет об упразднении тюрем. А между тем у нас есть
исследование о царской тюрьме. Но до сих пор мы не знаем
исчерпывающего труда о современной тюрьме. А он, на мой взгляд, нам
очень нужен. Не для того, чтобы узнать, как усовершенствованы камеры и
запоры. Нет, нет, я имею в виду совсем другое. Я хотел бы, чтобы тот,
кто вынужден посылать людей в тюрьму, будь то создатель кодекса или
судья, знал, чего он ждет от этого института. Конечно, кроме изоляции,
как таковой. Быть может это прозвучит несколько прекраснодушно, но
ей-ей: срок уничтожения у нас тюрем зависит от тех, кому сей институт
предназначен. - Кручинин повелительным движением руки отвел
протестующий жест Крауша. - Ты хочешь мне возразить: какое дело
Кручинину до всего этого? Твое мол дело всего-навсего найти
преступника и в лучшем случае доказать его виновность... А что ежели я
скажу, прокурор: на самой ранней стадии расследования, когда я еще не
знаю виновника преступления и даже не понимаю, найду ли его, - и тогда
в голове у меня стоит вопрос о каре. - Ты, что же, прокурор,
полагаешь, что я не подобный тебе размышляющий деятель советского
правосудия? Ты полагаешь, что, думая о преступнике, я могу отделить
его в своем сознании от всех последствий преступления?
- Да я же ничего подобного не думаю, - попытался прервать его
Крауш. Видя, что Кручинин все больше волнуется, прокурор подавил свое
раздражение. Как можно мягче сказал: - Можешь успокоиться: у вас нет
больше ни униженных, ни оскорбленных, за которых современным
Достоевским, начиная с тебя самого, нужно было бы болеть душой.
Но вместо того чтобы успокоиться, Кручинин еще более взволнованно
воскликнул:
- Тебе из прокурорского кресла видней. Я тебе верю и могу только
порадоваться за мой народ. Но погляди, как язва униженности и
оскорбленности маленького человека выпирает на теле буржуазного
общества! Если мы оглянемся хотя бы только на нынешнее дело Круминьша.
"Перемещенные"! Разве это не последняя грань унижения?.. Кто, кроме
нас, протянет им руку помощи? Кто поможет им сбросить красующиеся над
воротами лагерей, хоть и невидимые слова: lesciata ogni speranza.
Вдумайся в эти слова: "Всякую надежду, все надежды"... Какие слова!..
Гений Данте поставил их на воротах, за которыми нет надежды! -
Кручинин почти выкрикнул эти слова. - Ведь даже в "Мертвом доме"
население живет надеждой. У всякого своя, большая или маленькая,
чистая или нет, но надежда. Она живет у каждого, кто мыслит, у
каждого, в ком бьется жизнь. А "ogni speranza"?! - Кручинин говорил
все быстрей, но голос его становился тише. Произнеся последние слова,
он нервно повел плечами и вцепился рукой в ручку кресла. Крауш, чтобы
успокоить его, сказал: ("Оставь все надежды" (итал) (из "Ада" Данте).)
- Перед тобой всегда надежда: отыскать истину.
- Не знаю... Не уверен... - с горьким смешком ответил Кручинин.
- В истине... или в надежде?
- В надежде на истину... Убийцу можно наказать, но нельзя вернуть
жизнь убитому. Какая же тут истина и какая надежда?
- Конечно, надеяться на воскрешение мертвых - дело безнадежное.
Но ты забыл о другой важной цели: спасение потенциальных убийц от них
самих; спасение жертв, прежде чем над ними поднялась рука убийцы.
Надежда на это всегда перед нами.
- Значит, это насчет "Speranza"? Что ж... - Кручинин оглядел
гостей и улыбнулся: - Прокурор выставил меня в роли защитника каких-то
пахнущих нафталином призраков прошлого. Наверно, и тебе, Грач, я
кажусь старомодным. Но ты знаешь, сегодня... Нет не то слово: не
сегодня, я вовсе не стыжусь того, что не забыл с гимназических лет:
Как хороши, как свежи были розы
В моем саду. Как взор прельщали мой,
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!..
Небось нынче молодые люди не пишут таких вещей в альбомы своим
дамам. - Кручинин с улыбкой взял руку Вилмы и поднес к губам. Не
выпуская ее руки, поднял взгляд на Грачика: - Кто-то говорил: "Грач -
птица весенняя". Ты мой грач, моя весенняя птица. Ты мой вестник
непременной весны. Со сперанцией, огромной, блестящей, с крылами
сказочной птицы! - Кручинин сильным, легким, как всегда, движением
поднялся с кресла: - Пора...
- Куда? - в один голос воскликнули все трое.
- Мы же еще не выпили за ваше здоровье, за нашего чародея! -
растерянно проговорила Вилма.
- Что ж, можем выпить. Заодно и за ученика чародея, за весеннюю
птицу Грача!.. А машину все-таки вызовите, - Кручинин посмотрел на
часы. - Поезд не станет ждать.
- Ничего не понимаю, что за поезд?! - проворчал Крауш.
- Поезд, отходящий в двадцать пятнадцать.
Грачик стоял и молча, в удивлении, глядел на Кручинина.
- Я решил, что именно сегодня, в этот день, который считается по
традиции целиком принадлежащим мне, я имею право распоряжаться собою:
сегодня начинается мой отпуск... Или я не имею на него права?.. -
Кручинин оглядел приумолкших гостей. В глазах каждого он мог прочесть
свое: в удивленных глазах Грачика; в мягких, лучащихся любовью, - но
любовью к другому, - глазах Вилмы; в серых глазах Крауша - глазах
прокурора и солдата.
- По крайней мере, скажи: куда ты едешь? - спросил Крауш.
- Позвольте мне сохранить это в секрете... - с улыбкой ответил
Кручинин. - Моя маленькая тайна.
- Это невозможно!.. - крикнул было Грачик, но Кручинин остановил
его:
- Ты и впрямь думаешь, что я не имею права на секрет?
- Нил Платонович, дорогой, - быстро зашептал Грачик, - пусть они
едут на вокзал с вашими чемоданами, а мы догоним их... - умоляюще
заглянул ему в лицо снизу вверх: - Пожалуйста, джан...
Кручинин поглядел на Вилму, хлопотавшую над дорожной закуской, на
сосредоточенную физиономию Крауша.
- Ин ладно... А они пусть едут...
102. ГРАЧ - ПТИЦА ВЕСЕННЯЯ
Кручинин с удовольствием чувствовал на своем локте хватку
Грачика. Ему казалось, что даже сквозь толстый драп пальто ему
передается тепло дружеского пожатия. Время от времени он взглядывал на
часы: еще никогда не было так беспокойно, что поезд уйдет без него.
Перешли Даугаву. До вокзала оставалось рукой подать. Налево от моста,
по ту сторону набережной Комьяцнатнес, где за оголенными ветром
деревьями бульвара тщетно пытаются скрыться старинные постройки
католического митрополичьего подворья, Грачик заметил небольшую
группу. Она привлекла его внимание. Молодой глаз с профессиональной
цепкостью ухватил беспокойную настойчивость милиционера, оттесняющего
нескольких любопытных, склонившиеся над тротуаром фигуры в белых
халатах и неподалеку автомобиль скорой помощи.
Грачик остановился. Машинально поглядел в ту же сторону и
Кручинин и тотчас почувствовал, как ослабла рука молодого человека на
его локте. Искоса глянув на Грачика, Кручинин усмехнулся:
- Не терпится? - Поглядел на часы. - Иди. На вокзале увидимся.
- Я мигом, просто мигом! - смущенно, мыслями уже перенесясь туда,
где что-то случилось, пробормотал Грачик.
Кручинин с улыбкой удовлетворения смотрел, как легко Грачик несет
свое молодое, крепкое тело, как мелькают подкованные каблуки его
тяжелых ботинок. Вздохнул и повернул к вокзалу.
- Что случилось? - спросил Грачик, показывая милиционеру свое
удостоверение.
- Удар в голову сзади...
- Задержали?
- Я заметил пострадавшего только сейчас...
Грачик, протиснувшись между локтями склонившихся врачей,
посмотрел на раненого, и словно от взрыва из головы Грачика тотчас
вылетело все, что там было: Кручинин, разговор о жизни, вокзал, поезд
- задвигаемые в машину носилки увозили отца Петериса Шумана! Лицо
священника, обычно такое розовое, было теперь покрыто мертвенной
бледностью. Нос, всегда казавшийся Грачику багровой картофелиной,
вдруг стал вовсе не круглым и не красным - он заострился и был словно
вылеплен из гипса. Веки священника были опущены, но не до конца, - как
бывает у покойников.
Одно мгновение Грачик глядел на это лицо и резко обернулся к
врачу:
- Это смерть?
- Нет еще.
- Мне необходимо задать ему вопрос.
Врач отрицательно помотал головой.
- Не теперь.
Но Грачик уже склонился над Шуманом и как можно более четко и
внушительно проговорил в самое его ухо, ставшее очень большим и совсем
белым:
- Отец Петерис... Это я, Грачьян... Кто вас ударил?
Шуман сделал усилие открыть глаза, и его губы шевельнулись.
Грачик наклонился так близко, что почувствовал у своей щеки холод этих
губ. Он с трудом разобрал:
- Нет... но его видел бог...
- Отец Петерис... - начал было снова Грачик, но рука врача
властно легла ему на плечо и отстранила от раненого:
- Он не умер, но вы его убьете...
- Он должен жить! - настойчиво проговорил Грачик.
Под ударами холодного осеннего ветра, гулявшего по перрону
рижского вокзала, Кручинин вспомнил, как полгода назад стоял на
Курском вокзале в Москве возле сочинского поезда и тогда так же с
досадой думал о молодом человеке, которому отдал столько сил, которого
считал почти сыном и который не появлялся на вокзале, чтобы его
проводить. Обидно, что именно сегодня Грачик променял его на какое-то
уличное происшествие!.. Он рассеянно посмотрел на шевелящиеся губы
Крауша, силясь разобрать его слова сквозь грохот и визг станционного
радио.
Проводники уже пригласили отъезжающих в вагоны, когда Вилма
увидела Грачика на платформе: он несся к вагону, на ступеньке которого
стоял Кручинин.
- Итак, мы снова можем подытожить, - весело проговорил Кручинин:
- ком, лавина, туман и - нет ничего. Это - они. Город в цветущей
долине - это мы. Скала на ее пути - ты?.. Опять?
- Если бы вы могли себе представить, что случилось...
Но Вилма отстранила Грачика и ласково сказала Кручинину:
- Теперь вы должны нам сказать: куда и на сколько едете?
Кручинин взял ее руку и, поднося к губам, усмехнулся:
- А мое право на секрет?.. - И тут, неожиданно наклонившись к
Грачику, шепнул: - Я решил принять назначение.
Никто из них не слышал свистка паровоза. Поезд тронулся.
Кручинин приветственно взмахнул рукой и крикнул через головы
провожающих:
- Будь счастлив, Грач!.. Птица моей весны... Будь счастлив.
Нагнав вагон, Грачик торопливо бросил:
- Ранен Петерис Шуман... тяжело...
- Жив? - поспешно спросил Кручинин, делая попытку спуститься на
ступеньку вагона.
Поезд прибавлял ход.
- Да, да, пока жив, - крикнул Грачик, ускоряя шаг. - Я думал,
что...
Его дальнейшие слова поглотил грохот поезда. Грачик побежал.
Кручинин, нагнувшись, протянул ему руку. Хотел ли он попрощаться с
молодым другом или помочь ему вскочить в вагон? Этого не понял никто
из окружающих.
Грачик бросил быстрый взгляд на испуганное лицо Вилмы и с разбегу
вскочил на подножку вагона.
Проводница с грохотом опустила стальной трап.
- Ничего, - спокойно сказал Крауш ошеломленной Вилме. - Пусть
поговорят... Интересно, что же такое случилось?.. - Взял Вилму под
руку и повел к выходу.
Популярность: 17, Last-modified: Tue, 11 Nov 2003 09:03:51 GmT
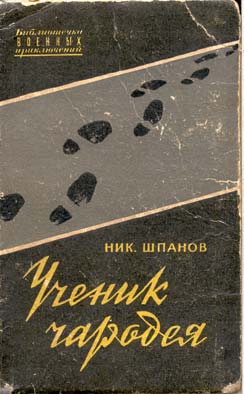 Нил Платонович Кручинин не принадлежал к числу людей, которые
легко поддаются настроениям. Но невнимание, проявленное Грачиком, все
же привело его в состояние нервозности, которую он и пытался сейчас
подавить, прогуливаясь по платформе Курского вокзала. Не слишком-то
приятно: молодой человек, воспитанию которого ты отдал столько сил и
представлявшийся тебе ни больше, ни меньше как продолжением в будущее
собственного кручининского "я", не приехал ни вчера вечером, чтобы
посумерничать в последний день перед расставанием, ни сегодня утром!
"Уехал за город" - этот ответ работницы не удовлетворил Кручинина.
Разумеется, дача в июне - это законно, но Грачик мог бы посидеть и в
городе, зная, что предстоит отъезд старого друга и немного больше, чем
просто учителя.
Кручинин прохаживался вдоль поезда, стараясь не глядеть на
вокзальные часы. Но часы словно сами становились на его пути: то и
дело их стрелки оказывались перед глазами. До отхода поезда оставалось
пятнадцать минут, когда Кручинин решил войти в вагон.
Именно тут-то запыхавшийся Грачик и схватил его за рукав:
- Нил Платонович, дорогой, пробовал звонить вам с аэродрома - уже
не застал. Боялся, не поспею и сюда.
- С аэродрома? - переспросил Кручинин.
- Вчера, едва я вам позвонил, - вызывают. - Грачик отер
вспотевший лоб и отвел Кручинина в сторону. - На аэродроме
происшествие: самолет из Риги, посадка, одну пассажирку не могут
разбудить. Тяжелое отравление. Летела из Риги. Никаких документов и ее
никто не встречает.
- Смерть? - заинтересовался Кручинин.
- Слабые признаки жизни...
- Позволь, позволь, - перебил Кручинин. - В бортовой ведомости
имеются же имена всех пассажиров.
- Разумеется, запись: Зита Дробнис. Пока врачи делают промывание
желудка, успеваю навести справку в Риге: Зита Дробнис не прописана.
Заказываю справку по районам Латвии. Но тут под подкладкой жакетика
обнаруживаю провалившийся в дырявый карман обрывок телеграммы из Сочи.
"Крепко целуем встречаем Адлере". Подпись "Люка", И еще...
- Телеграмма Зите Дробнис? - спросил Кручинин.
- В том-то и дело, что адреса нет - верхняя часть бланка
оторвана. Но это неважно. Прошу сочинцев дать справку по служебным
отметкам: номер и прочее. Узнаю: обратный адрес найден на бланке
отправления в Сочи. Уточняем: отправительница - дочь известного
ленинградского писателя отдыхает в Сочи и действительно ждет гостью из
Риги. Но ожидаемую гостью зовут вовсе не Зита Дробнис, а Ванда
Твардовская. Повторяю запрос в Ригу. Твардовская там оказывается. Даже
две: мать и дочь. Дочь по показанию соседей сутки как исчезла. Мать в
тот же день уехала, не сказав куда. Предлагаю организовать розыск.
Ясно, что имею дело с отравлением Ванды Твардовской - дочери.
Фальсификация имени в бортовой записи наводит на подозрение.
Заключение лаборатории НТО - яд, у нас мало известный: "Сульфат
таллия".
- Да, да, - живо подхватил Кручинин: - сульфат таллия очень
устойчив в организме. Эксгумация через четыре года позволяет
установить его присутствие в тканях трупа. Яд без цвета, запаха,
вкуса, не окрашивает пищу. Продолжительность действия определяется
дозой: от суток до месяца. Сульфат таллия был довольно распространен
за границей в качестве средства борьбы с грызунами. Поэтому там его
легко было достать. У нас не применялся. Отсюда - первый вывод: яд
может быть иностранного происхождения.
- Но в Риге он мог сохраниться со времен буржуазной республики, -
возразил Грачик.
- Ты прав, - согласился Кручинин. - Возможно... Дальше?..
Остается девять минут до отхода поезда. Нужно решать: брать мои вещи
из вагона?
- Зачем? - насторожился Грачик. - Вам необходимо ехать. Я
справлюсь. Но позвольте сначала...
- Нахал ты, Грач! - добродушно воскликнул повеселевший уже
Кручинин. - Откуда столько самоуверенности?.. Однако к делу! Симптомы
отравления сульфатом таллия: боль в горле, покалывание в ступнях и в
кистях рук; расстройство желудка, выпадение волос. Впрочем, это уже на
затяжных стадиях. Совпадает?
- Что тут можно сказать: ведь отравленная - без сознания.
- Да, черт возьми! Ее не спросишь, - разочарованно сказал
Кручинин. - Исход может оказаться и смертельным. - И вдруг
спохватился: - Эта телеграмма из Сочи - единственное, что при ней
было?
- Нет...
- Так что же ты молчишь?..
- Вы же сами не даете мне договорить... В самолете оказалась
вторая отравленная - соседка Твардовской по кабине. Москвичка. Ее
состояние много легче. Показала: Твардовская угостила ее, свою
случайную спутницу (они познакомились уже в самолете), частью своего
бутерброда и дала отпить чая, который был у нее в термосе. Бутерброд,
по-видимому, съеден весь, а в термосе осталось несколько капель чая. В
них нашелся яд.
- Ну, что же, - проговорил Кручинин. - Яд в термосе, который был
залит дома или в каком-нибудь буфете. Скорее всего, в ресторане
рижского аэропорта. Держись за эту ниточку. Она куда-нибудь да
приведет. - Он покрутил между пальцами кончик бородки. - Но странная
идея для самоубийцы: прихватить на тот свет случайную попутчицу... Или
Ванда - убийца соседки, а сама глотнула яд случайно, а?
- Исключено, - уверенно возразил Грачик. - Они не только не были
знакомы, но никогда в жизни не встречались.
- Положим, это еще не доказательство!.. Однако, действительно,
трудно допустить: дать жертве немножко яда, а самой выпить целый
термос... Интересно: дело о самоубийстве девицы, желающей умереть в
компании. Стоит мне застрять тут, а?.. Старость-то, брат, - не
радость: начинаю чувствовать, что и у меня есть скелет и положенные
ему по штату суставы.
- Поезжайте на здоровье, - настойчиво повторил Грачик. Ему не
хотелось, чтобы Кручинин остался. - Лечитесь, отдыхайте.
- Небось, разберешься?! - с оттенком некоторой иронии проговорил
Кручинин. - Ах, Грач, Грач! - Кручинин понял, что его молодому другу
хочется провести дело без помощи, и покачал головой. - Только не
забудь: за такого рода делом может оказаться и рука тех, оттуда. Но...
- Кручинин предостерегающе поднял палец, - не нужно и предвзятости.
- Не посрамим вашей школы, учитель джан! - весело отозвался
Грачик.
- Нравится тебе или нет, а, видно, придется отправиться в
Прибалтику раньше намеченного отпуска.
- Не беда, там и останусь отдыхать. Побольше покупаюсь в ожидании
вашего приезда, - и, заглядывая в глаза Кручинину, просительно: - А
вашу "Победу" можно взять? Когда приедете с юга, покатаемся по
Прибалтике, как задумали.
- Ежели дело тебя не задержит.
- Этого не случится, - беспечно отозвался Грачик, - хотя порой
затяжные дела вырастают на пустом месте. Произошло ограбление или даже
убийство, - кажется, просто: нашли нарушителя, изобличили, осудили и
дело с концом. А глядишь, дело-то еще только началось - и растет,
растет, как лавина. Даже страшно подчас становится.
- А ты не бойся, Грач, - добродушно усмехнулся Кручинин лавина
опасная штука, слов нет, но... не так страшен черт...
- Это конечно... - живо согласился Грачик. - Вот, знаете, у нас в
горах, в Армении, так бывает: начинается пустяковый обвал. Ну просто
так, ком снега, честное слово! Катится с горы, катится и, глядишь, -
уже не ком, а целая гора. Честное слово, дорогой, настоящая гора
летит. Так и кажется: еще несколько минут, и - конец всему, что есть
внизу, у подножия гор. Будь то стада - не станет стад; селение - не
будет селения. Лавина!.. Само слово-то какое: лавина! Будь внизу город
- сплющит, раздавит! Просто - конец мира!.. Но вот стоит на пути
лавины скала - так, обыкновенная скала, даже не очень большая. А
глядишь, дошла до нее лавина, ударилась, задержалась, словно
задумалась, и... рассыпалась. Только туман вокруг поднялся такой, что
света божьего не видать. Тоже вроде светопреставления... Что вы
смеетесь? Честное слово! А прошло несколько минут, и смотрите: ни
лавины, ни тумана - только на долину снег посыпался и растаял на
солнце. Вроде росы. Люди радуются, стада радуются, цветут селения под
горой...
Кручинин положил руку на плечо друга.
- Это ты мне притчу, что ли, рассказываешь?
- Правильно вы сказали, дорогой, у меня вроде притчи получилось:
ком снега - это они. Катятся с грохотом, с шумом - конец мира. А вот
стоит на их пути скала...
- Скала - это ты, что ли?
- Все мы, а я - маленький камешек.
- Не шибко видный из себя? - подмигнув, спросил Кручинин.
Грачик потрогал пальцем свои щегольски подстриженные черные усики
и рассмеялся.
- Я только говорю: грохот, шум, страху - на весь мир. А один,
только один крепкий камень на пути и - туман!..
- Надеюсь, - со смехом подхватил Кручинин, - в июне лавин не
бывает, а?
- Конечно... июньское солнце на Кавказе - ого!.. Неудачное время
для отдыха выбрали.
- Лучше солнце в июне, чем толпы курортников в августе.
- Вы становитесь нелюдимым?
- Пока нет, но в дороге и на курорте предпочитаю малолюдство.
Особенно перед тем, что мне, кажется, предстоит...
Грачик навострил было уши, но Кручинин умолк не договорив. Он так
и не сказал молодому другу о том, что получил предложение вернуться на
службу. Назначение в следственный отдел союзной прокуратуры манило его
интересной работой, но хотелось сначала отдохнуть и набраться сил.
Грачику он сказал с самым незначительным видом:
- Однако пора прощаться, вон паровоз дал свисток.
Они крепко расцеловались, и Кручинин на ходу вскочил на подножку
вагона.
Грачик глядел на милое лицо друга, в его добрые голубые глаза, на
сильно поседевшую уже бородку над небрежно повязанным галстуком и на
тонкую руку с такими длинными-длинными нервными пальцами, дружески
махавшую ему на прощанье.
Кажется, в первый раз с начала их дружбы они ехали в разные
стороны.
Грачик зашагал прочь от грохотавших мимо него вагонов.
Сегодня и ему предстояло покинуть Москву. Но путь его самолета
лежал на север, в Ригу, по следам Ванды Твардовской, по следам
нескольких капель чая, содержащих признаки сульфата таллия...
...И ВОТ
ЧТО
ВЫШЛО
ИЗ ЭТОЙ ПОЕЗДКИ
Нил Платонович Кручинин не принадлежал к числу людей, которые
легко поддаются настроениям. Но невнимание, проявленное Грачиком, все
же привело его в состояние нервозности, которую он и пытался сейчас
подавить, прогуливаясь по платформе Курского вокзала. Не слишком-то
приятно: молодой человек, воспитанию которого ты отдал столько сил и
представлявшийся тебе ни больше, ни меньше как продолжением в будущее
собственного кручининского "я", не приехал ни вчера вечером, чтобы
посумерничать в последний день перед расставанием, ни сегодня утром!
"Уехал за город" - этот ответ работницы не удовлетворил Кручинина.
Разумеется, дача в июне - это законно, но Грачик мог бы посидеть и в
городе, зная, что предстоит отъезд старого друга и немного больше, чем
просто учителя.
Кручинин прохаживался вдоль поезда, стараясь не глядеть на
вокзальные часы. Но часы словно сами становились на его пути: то и
дело их стрелки оказывались перед глазами. До отхода поезда оставалось
пятнадцать минут, когда Кручинин решил войти в вагон.
Именно тут-то запыхавшийся Грачик и схватил его за рукав:
- Нил Платонович, дорогой, пробовал звонить вам с аэродрома - уже
не застал. Боялся, не поспею и сюда.
- С аэродрома? - переспросил Кручинин.
- Вчера, едва я вам позвонил, - вызывают. - Грачик отер
вспотевший лоб и отвел Кручинина в сторону. - На аэродроме
происшествие: самолет из Риги, посадка, одну пассажирку не могут
разбудить. Тяжелое отравление. Летела из Риги. Никаких документов и ее
никто не встречает.
- Смерть? - заинтересовался Кручинин.
- Слабые признаки жизни...
- Позволь, позволь, - перебил Кручинин. - В бортовой ведомости
имеются же имена всех пассажиров.
- Разумеется, запись: Зита Дробнис. Пока врачи делают промывание
желудка, успеваю навести справку в Риге: Зита Дробнис не прописана.
Заказываю справку по районам Латвии. Но тут под подкладкой жакетика
обнаруживаю провалившийся в дырявый карман обрывок телеграммы из Сочи.
"Крепко целуем встречаем Адлере". Подпись "Люка", И еще...
- Телеграмма Зите Дробнис? - спросил Кручинин.
- В том-то и дело, что адреса нет - верхняя часть бланка
оторвана. Но это неважно. Прошу сочинцев дать справку по служебным
отметкам: номер и прочее. Узнаю: обратный адрес найден на бланке
отправления в Сочи. Уточняем: отправительница - дочь известного
ленинградского писателя отдыхает в Сочи и действительно ждет гостью из
Риги. Но ожидаемую гостью зовут вовсе не Зита Дробнис, а Ванда
Твардовская. Повторяю запрос в Ригу. Твардовская там оказывается. Даже
две: мать и дочь. Дочь по показанию соседей сутки как исчезла. Мать в
тот же день уехала, не сказав куда. Предлагаю организовать розыск.
Ясно, что имею дело с отравлением Ванды Твардовской - дочери.
Фальсификация имени в бортовой записи наводит на подозрение.
Заключение лаборатории НТО - яд, у нас мало известный: "Сульфат
таллия".
- Да, да, - живо подхватил Кручинин: - сульфат таллия очень
устойчив в организме. Эксгумация через четыре года позволяет
установить его присутствие в тканях трупа. Яд без цвета, запаха,
вкуса, не окрашивает пищу. Продолжительность действия определяется
дозой: от суток до месяца. Сульфат таллия был довольно распространен
за границей в качестве средства борьбы с грызунами. Поэтому там его
легко было достать. У нас не применялся. Отсюда - первый вывод: яд
может быть иностранного происхождения.
- Но в Риге он мог сохраниться со времен буржуазной республики, -
возразил Грачик.
- Ты прав, - согласился Кручинин. - Возможно... Дальше?..
Остается девять минут до отхода поезда. Нужно решать: брать мои вещи
из вагона?
- Зачем? - насторожился Грачик. - Вам необходимо ехать. Я
справлюсь. Но позвольте сначала...
- Нахал ты, Грач! - добродушно воскликнул повеселевший уже
Кручинин. - Откуда столько самоуверенности?.. Однако к делу! Симптомы
отравления сульфатом таллия: боль в горле, покалывание в ступнях и в
кистях рук; расстройство желудка, выпадение волос. Впрочем, это уже на
затяжных стадиях. Совпадает?
- Что тут можно сказать: ведь отравленная - без сознания.
- Да, черт возьми! Ее не спросишь, - разочарованно сказал
Кручинин. - Исход может оказаться и смертельным. - И вдруг
спохватился: - Эта телеграмма из Сочи - единственное, что при ней
было?
- Нет...
- Так что же ты молчишь?..
- Вы же сами не даете мне договорить... В самолете оказалась
вторая отравленная - соседка Твардовской по кабине. Москвичка. Ее
состояние много легче. Показала: Твардовская угостила ее, свою
случайную спутницу (они познакомились уже в самолете), частью своего
бутерброда и дала отпить чая, который был у нее в термосе. Бутерброд,
по-видимому, съеден весь, а в термосе осталось несколько капель чая. В
них нашелся яд.
- Ну, что же, - проговорил Кручинин. - Яд в термосе, который был
залит дома или в каком-нибудь буфете. Скорее всего, в ресторане
рижского аэропорта. Держись за эту ниточку. Она куда-нибудь да
приведет. - Он покрутил между пальцами кончик бородки. - Но странная
идея для самоубийцы: прихватить на тот свет случайную попутчицу... Или
Ванда - убийца соседки, а сама глотнула яд случайно, а?
- Исключено, - уверенно возразил Грачик. - Они не только не были
знакомы, но никогда в жизни не встречались.
- Положим, это еще не доказательство!.. Однако, действительно,
трудно допустить: дать жертве немножко яда, а самой выпить целый
термос... Интересно: дело о самоубийстве девицы, желающей умереть в
компании. Стоит мне застрять тут, а?.. Старость-то, брат, - не
радость: начинаю чувствовать, что и у меня есть скелет и положенные
ему по штату суставы.
- Поезжайте на здоровье, - настойчиво повторил Грачик. Ему не
хотелось, чтобы Кручинин остался. - Лечитесь, отдыхайте.
- Небось, разберешься?! - с оттенком некоторой иронии проговорил
Кручинин. - Ах, Грач, Грач! - Кручинин понял, что его молодому другу
хочется провести дело без помощи, и покачал головой. - Только не
забудь: за такого рода делом может оказаться и рука тех, оттуда. Но...
- Кручинин предостерегающе поднял палец, - не нужно и предвзятости.
- Не посрамим вашей школы, учитель джан! - весело отозвался
Грачик.
- Нравится тебе или нет, а, видно, придется отправиться в
Прибалтику раньше намеченного отпуска.
- Не беда, там и останусь отдыхать. Побольше покупаюсь в ожидании
вашего приезда, - и, заглядывая в глаза Кручинину, просительно: - А
вашу "Победу" можно взять? Когда приедете с юга, покатаемся по
Прибалтике, как задумали.
- Ежели дело тебя не задержит.
- Этого не случится, - беспечно отозвался Грачик, - хотя порой
затяжные дела вырастают на пустом месте. Произошло ограбление или даже
убийство, - кажется, просто: нашли нарушителя, изобличили, осудили и
дело с концом. А глядишь, дело-то еще только началось - и растет,
растет, как лавина. Даже страшно подчас становится.
- А ты не бойся, Грач, - добродушно усмехнулся Кручинин лавина
опасная штука, слов нет, но... не так страшен черт...
- Это конечно... - живо согласился Грачик. - Вот, знаете, у нас в
горах, в Армении, так бывает: начинается пустяковый обвал. Ну просто
так, ком снега, честное слово! Катится с горы, катится и, глядишь, -
уже не ком, а целая гора. Честное слово, дорогой, настоящая гора
летит. Так и кажется: еще несколько минут, и - конец всему, что есть
внизу, у подножия гор. Будь то стада - не станет стад; селение - не
будет селения. Лавина!.. Само слово-то какое: лавина! Будь внизу город
- сплющит, раздавит! Просто - конец мира!.. Но вот стоит на пути
лавины скала - так, обыкновенная скала, даже не очень большая. А
глядишь, дошла до нее лавина, ударилась, задержалась, словно
задумалась, и... рассыпалась. Только туман вокруг поднялся такой, что
света божьего не видать. Тоже вроде светопреставления... Что вы
смеетесь? Честное слово! А прошло несколько минут, и смотрите: ни
лавины, ни тумана - только на долину снег посыпался и растаял на
солнце. Вроде росы. Люди радуются, стада радуются, цветут селения под
горой...
Кручинин положил руку на плечо друга.
- Это ты мне притчу, что ли, рассказываешь?
- Правильно вы сказали, дорогой, у меня вроде притчи получилось:
ком снега - это они. Катятся с грохотом, с шумом - конец мира. А вот
стоит на их пути скала...
- Скала - это ты, что ли?
- Все мы, а я - маленький камешек.
- Не шибко видный из себя? - подмигнув, спросил Кручинин.
Грачик потрогал пальцем свои щегольски подстриженные черные усики
и рассмеялся.
- Я только говорю: грохот, шум, страху - на весь мир. А один,
только один крепкий камень на пути и - туман!..
- Надеюсь, - со смехом подхватил Кручинин, - в июне лавин не
бывает, а?
- Конечно... июньское солнце на Кавказе - ого!.. Неудачное время
для отдыха выбрали.
- Лучше солнце в июне, чем толпы курортников в августе.
- Вы становитесь нелюдимым?
- Пока нет, но в дороге и на курорте предпочитаю малолюдство.
Особенно перед тем, что мне, кажется, предстоит...
Грачик навострил было уши, но Кручинин умолк не договорив. Он так
и не сказал молодому другу о том, что получил предложение вернуться на
службу. Назначение в следственный отдел союзной прокуратуры манило его
интересной работой, но хотелось сначала отдохнуть и набраться сил.
Грачику он сказал с самым незначительным видом:
- Однако пора прощаться, вон паровоз дал свисток.
Они крепко расцеловались, и Кручинин на ходу вскочил на подножку
вагона.
Грачик глядел на милое лицо друга, в его добрые голубые глаза, на
сильно поседевшую уже бородку над небрежно повязанным галстуком и на
тонкую руку с такими длинными-длинными нервными пальцами, дружески
махавшую ему на прощанье.
Кажется, в первый раз с начала их дружбы они ехали в разные
стороны.
Грачик зашагал прочь от грохотавших мимо него вагонов.
Сегодня и ему предстояло покинуть Москву. Но путь его самолета
лежал на север, в Ригу, по следам Ванды Твардовской, по следам
нескольких капель чая, содержащих признаки сульфата таллия...
...И ВОТ
ЧТО
ВЫШЛО
ИЗ ЭТОЙ ПОЕЗДКИ