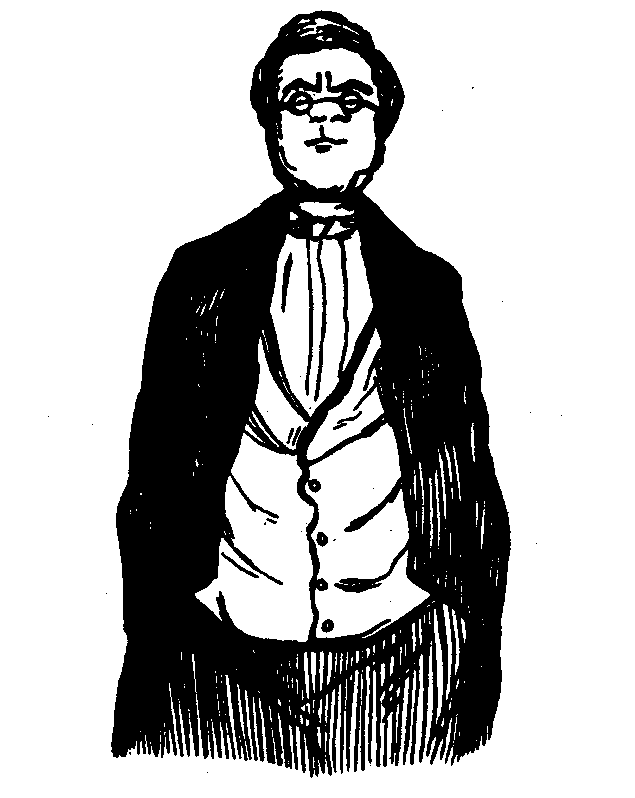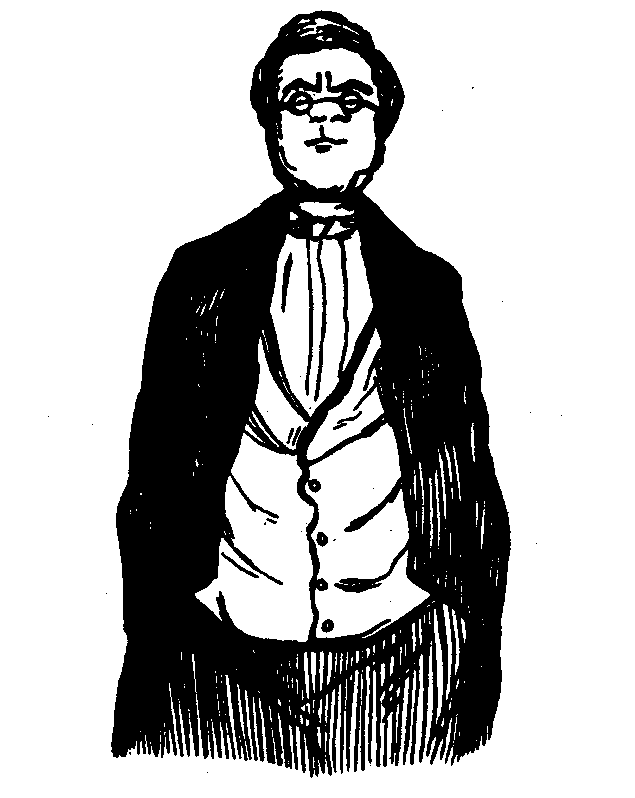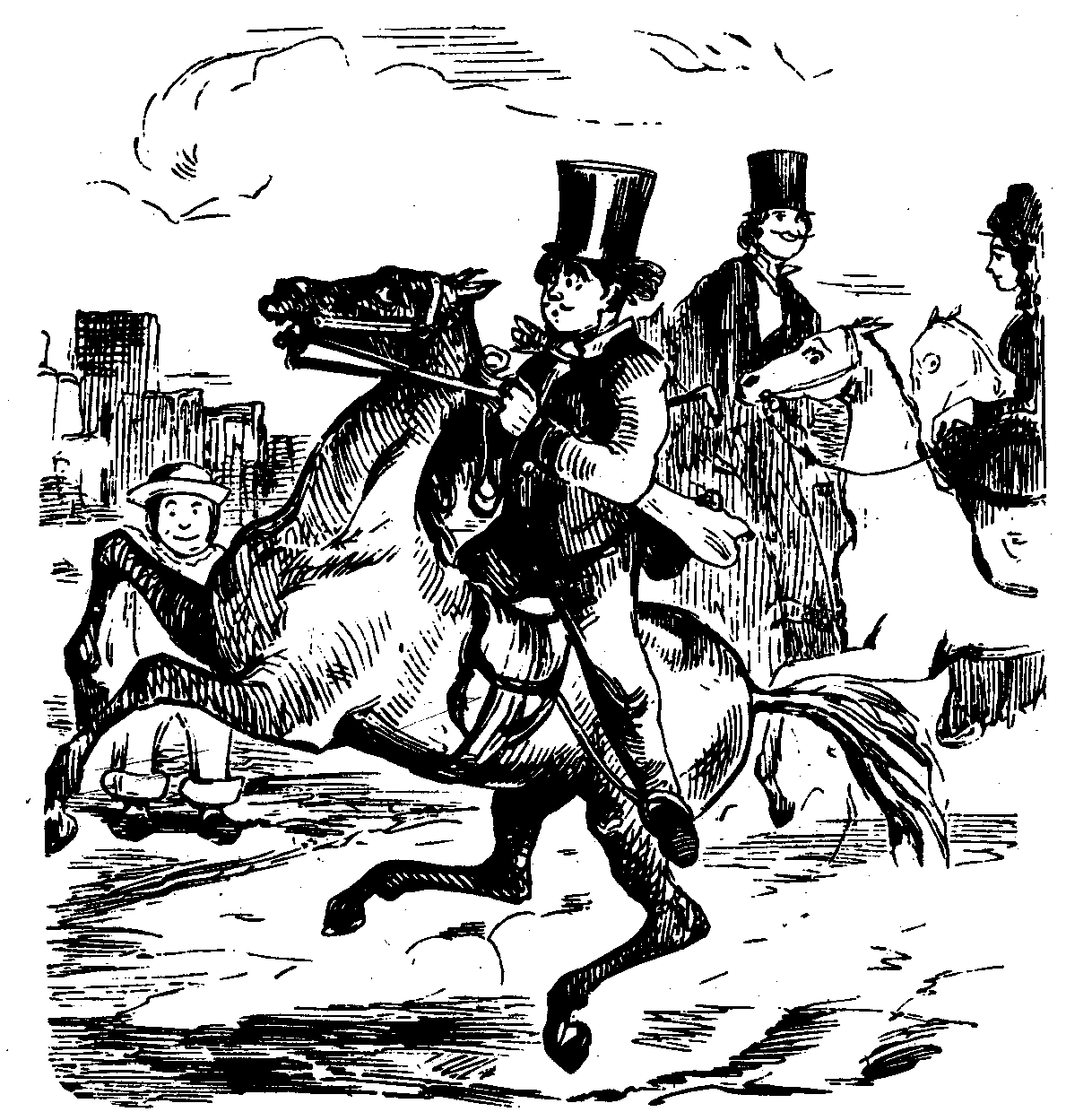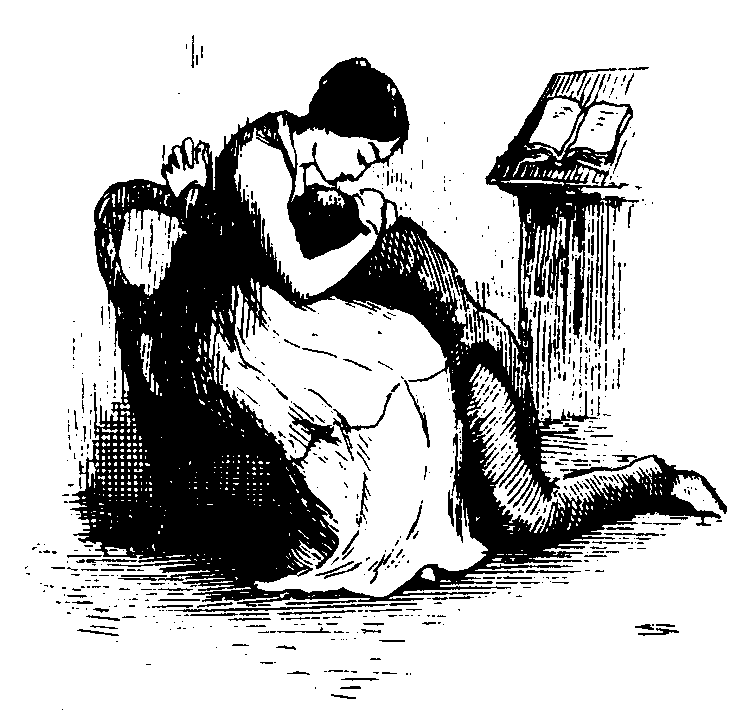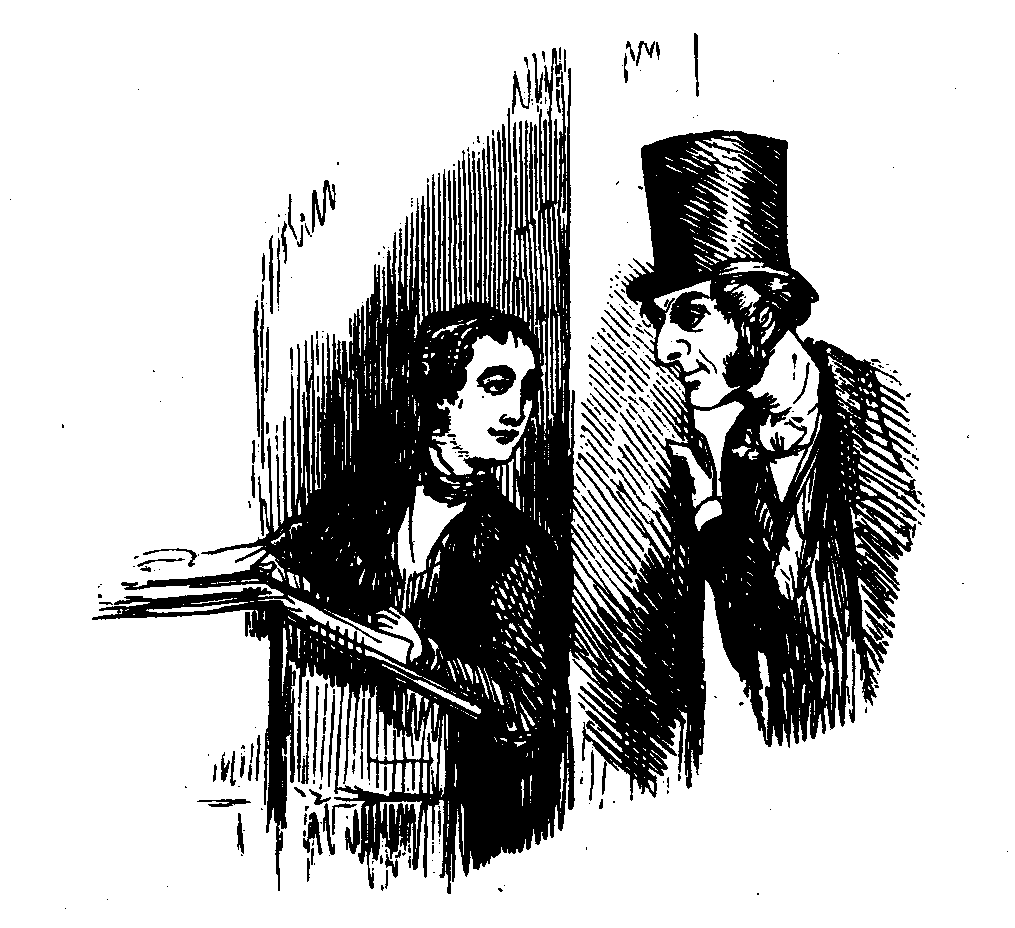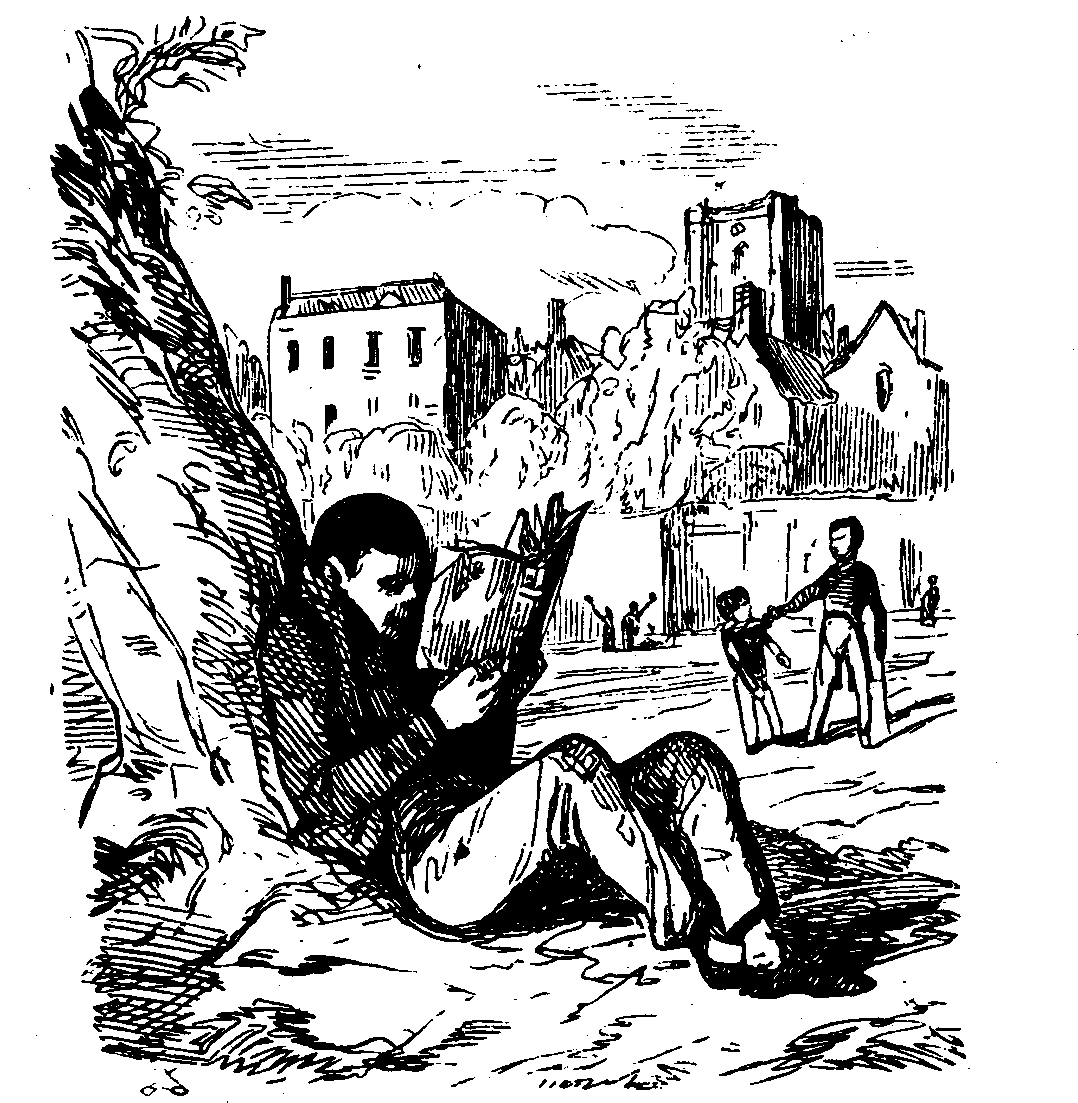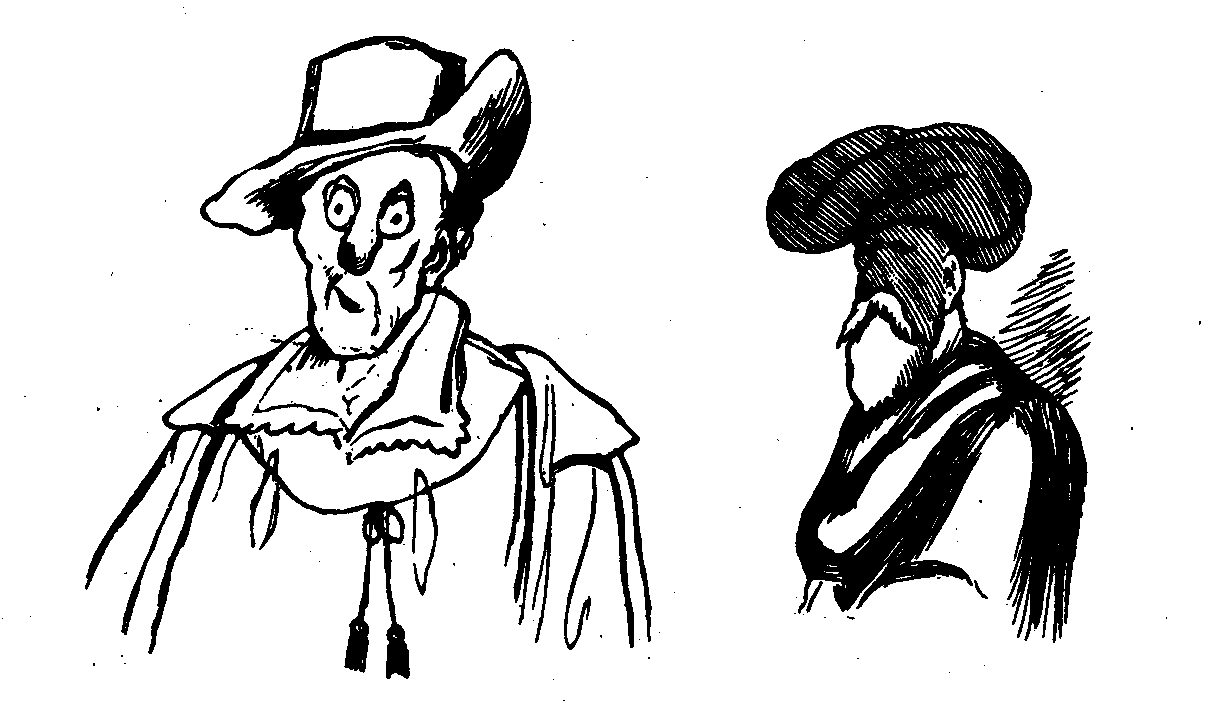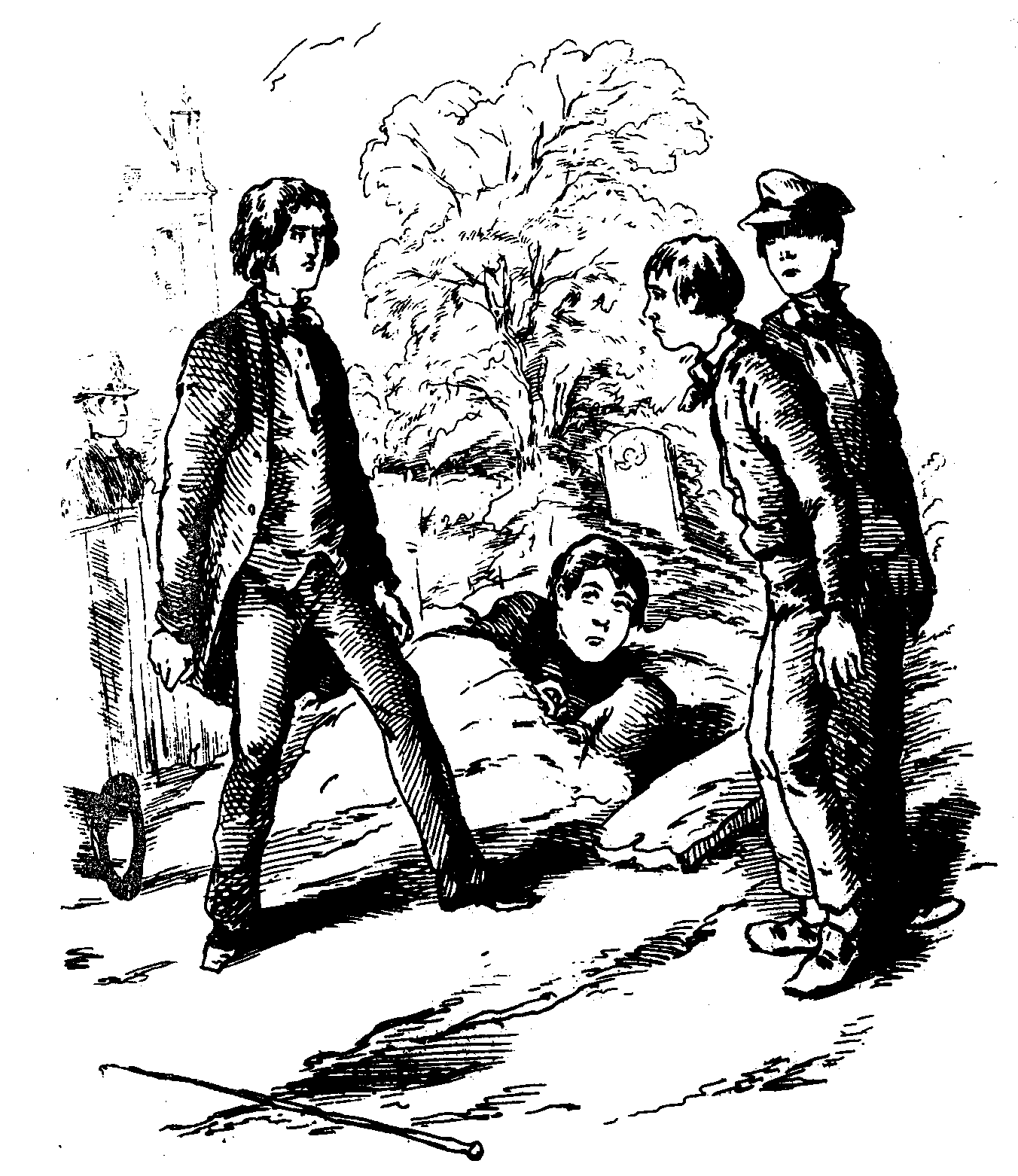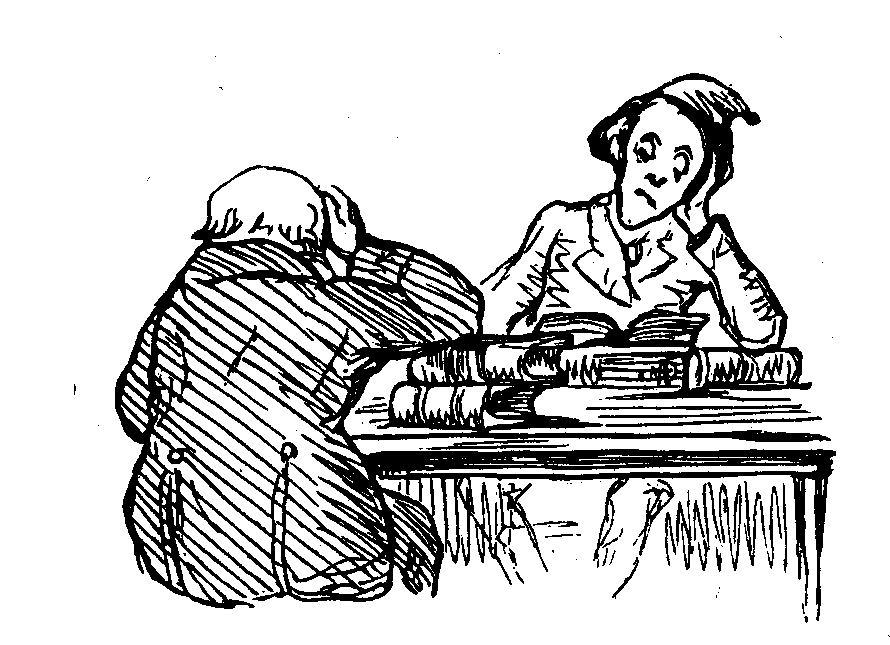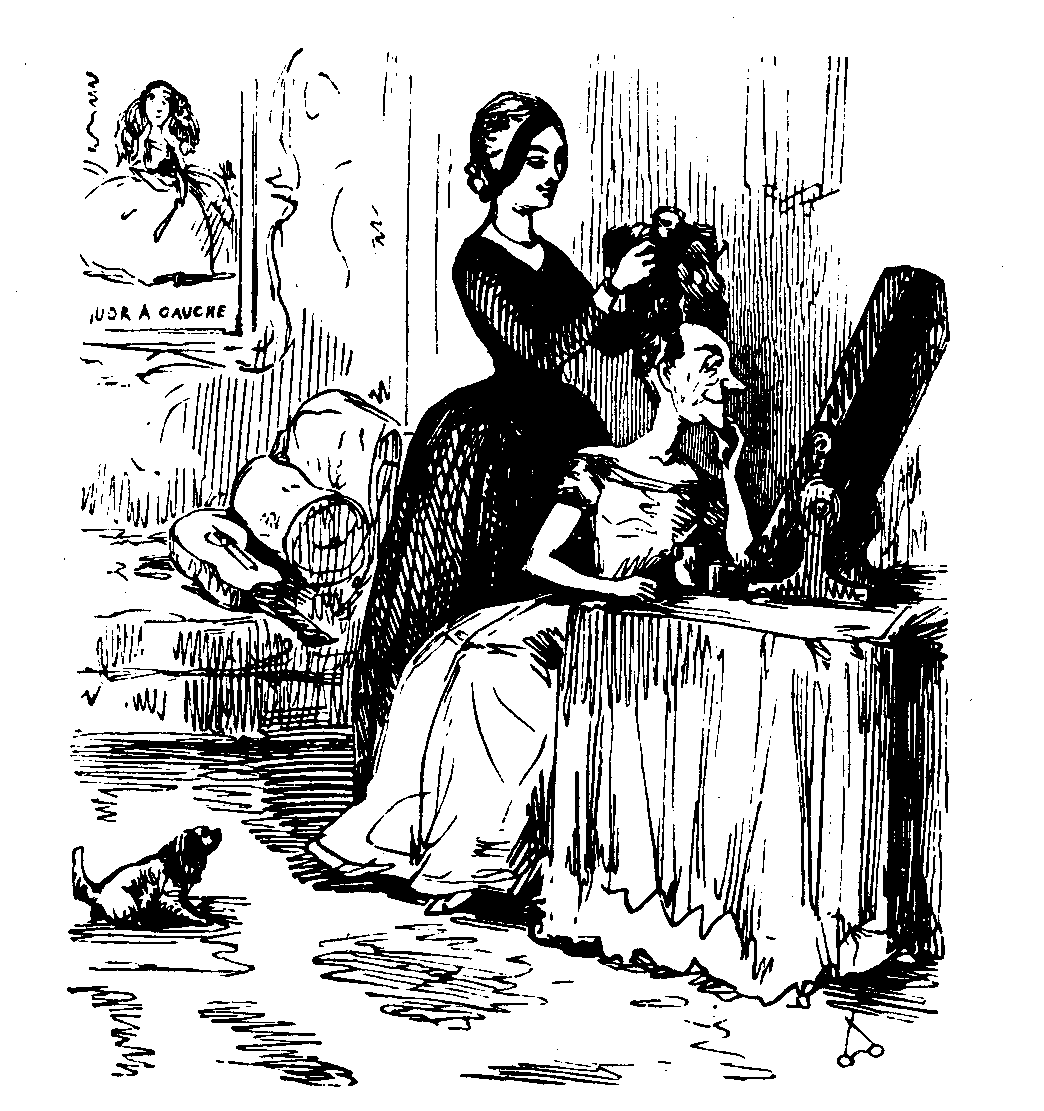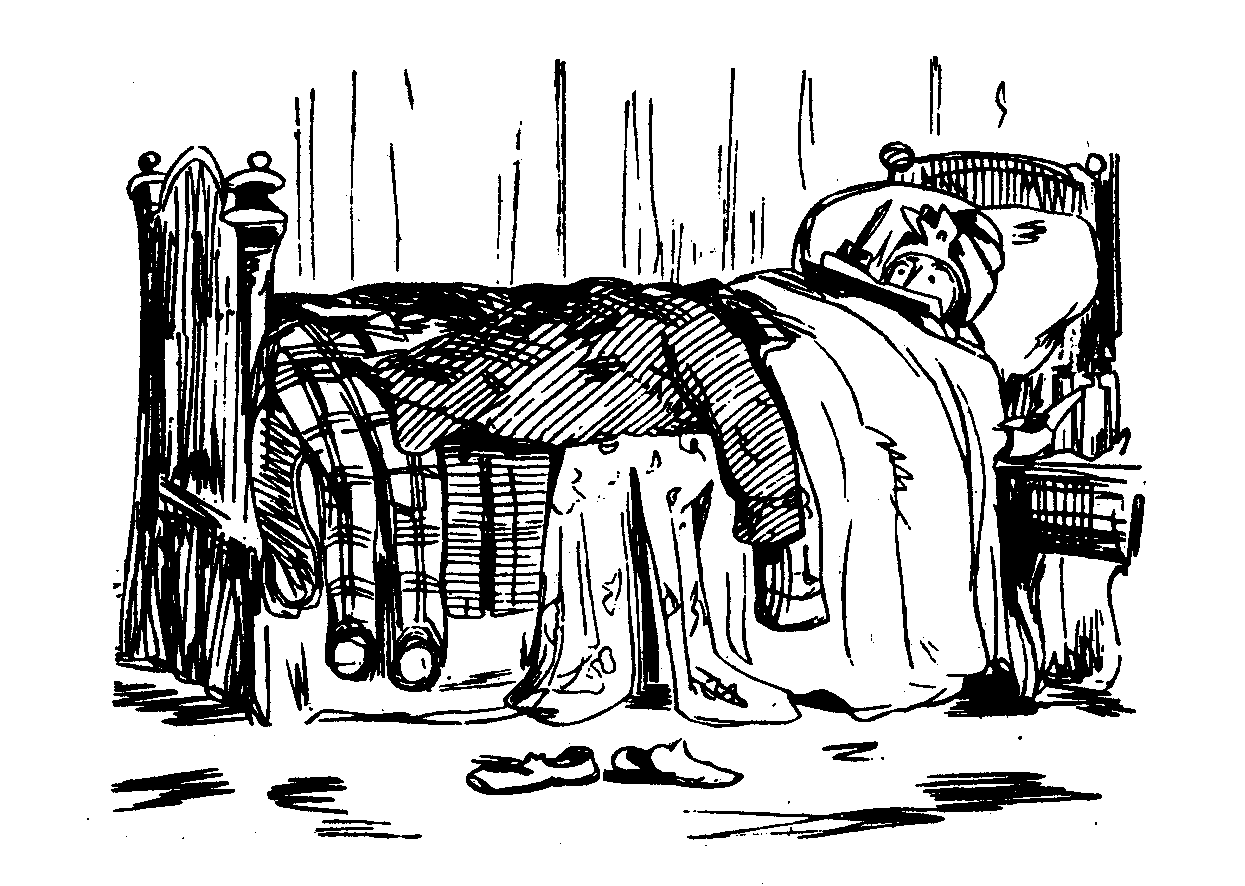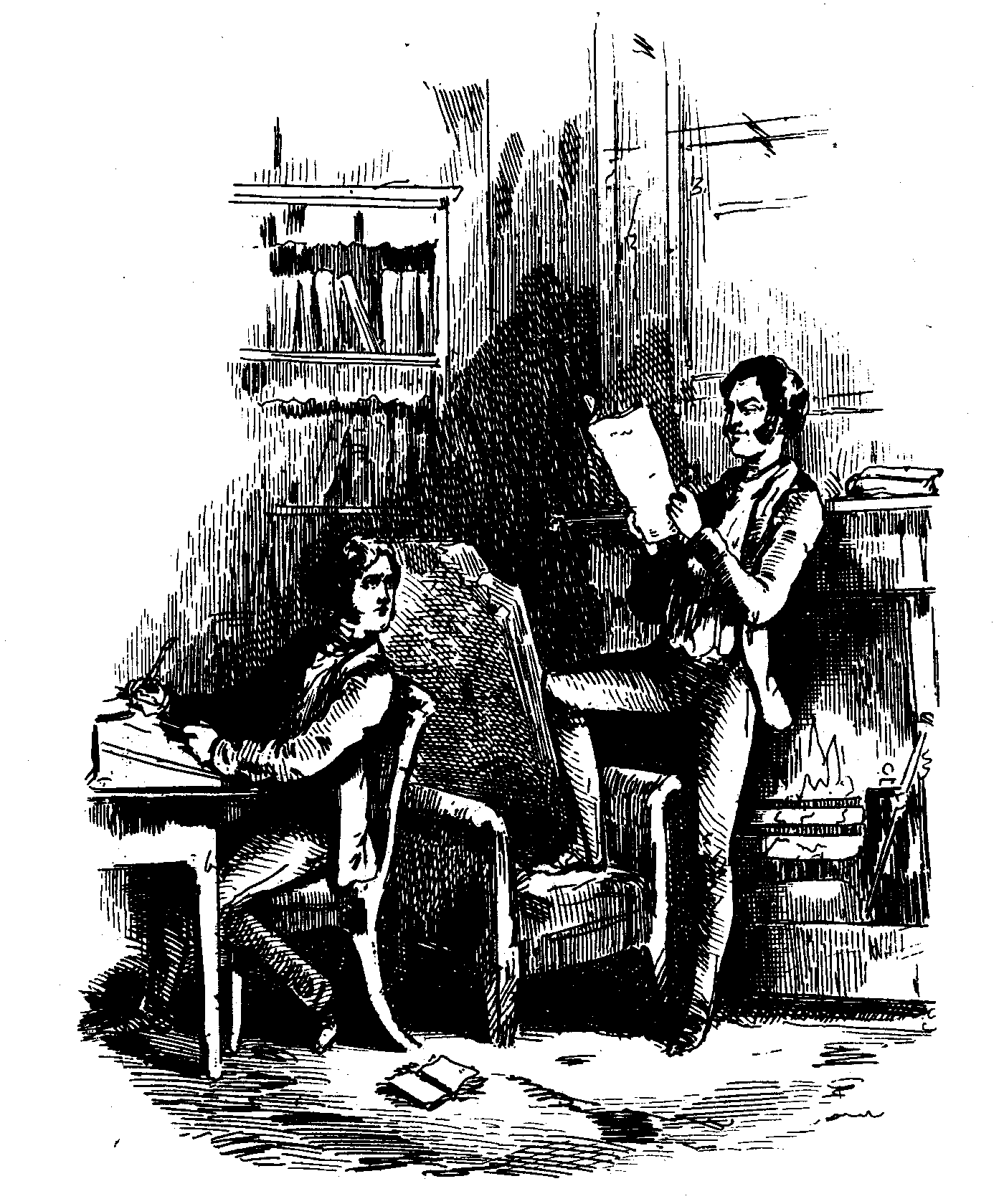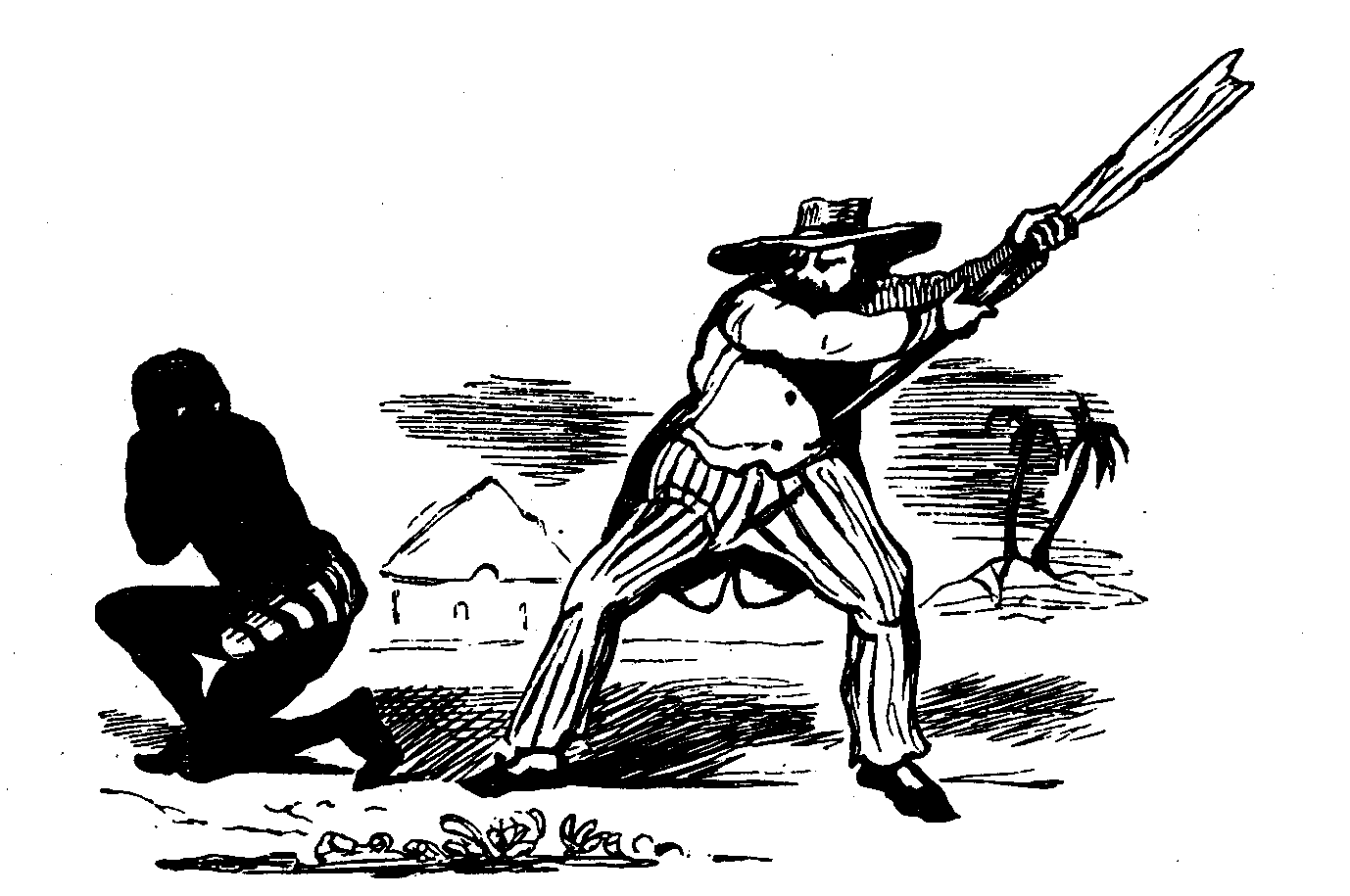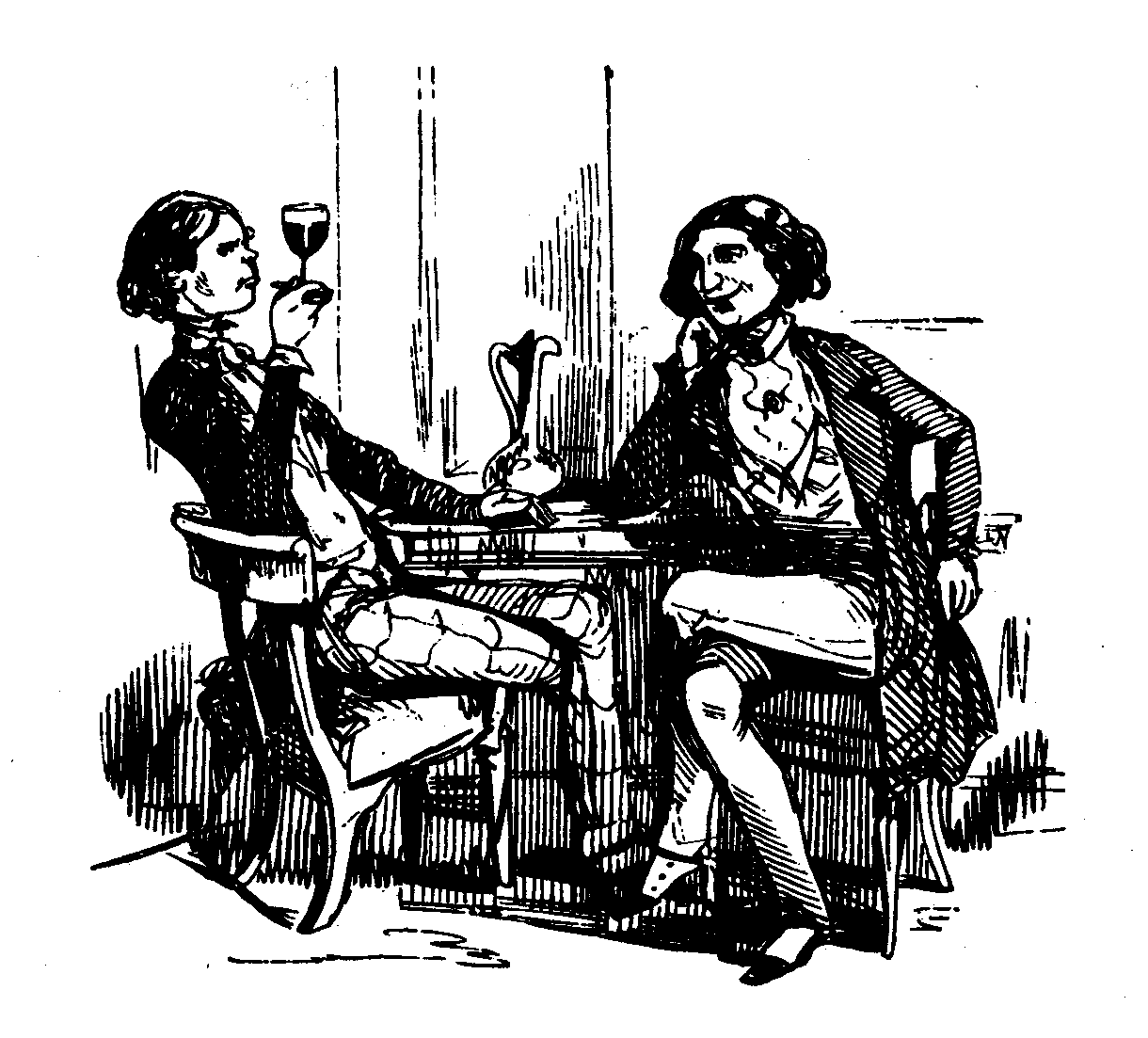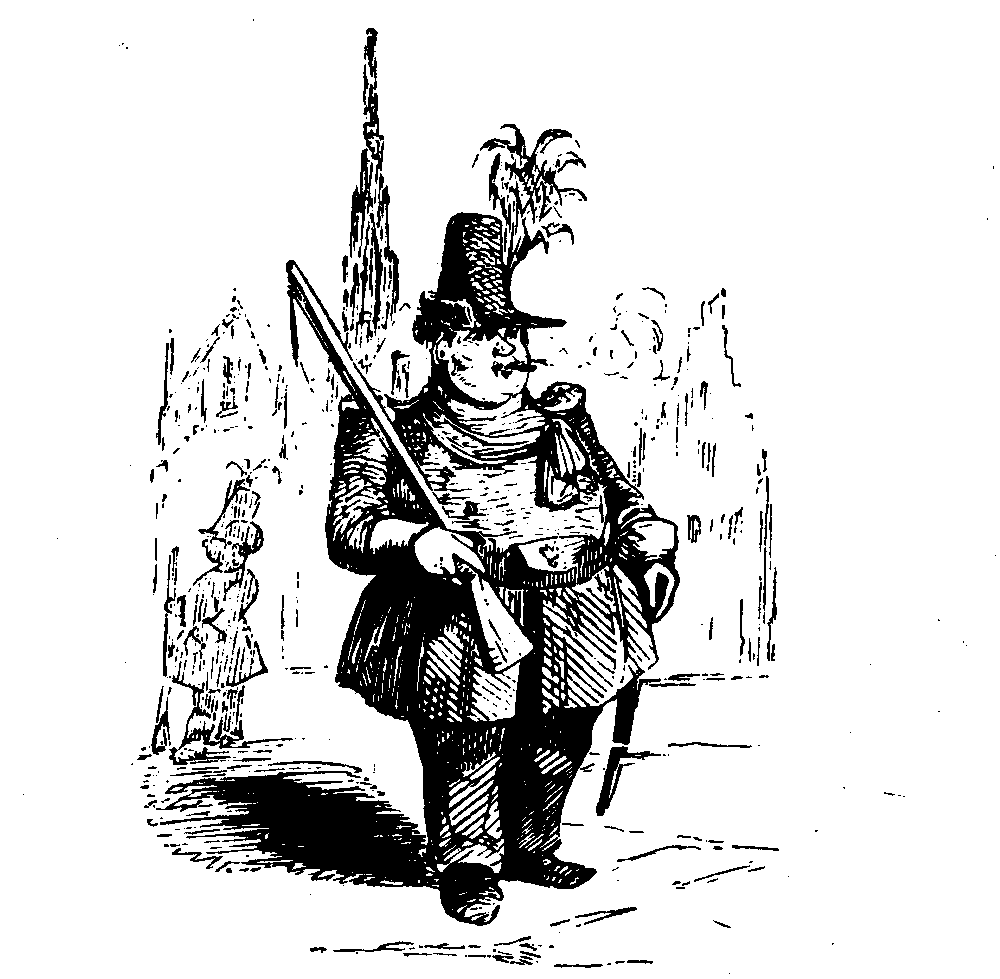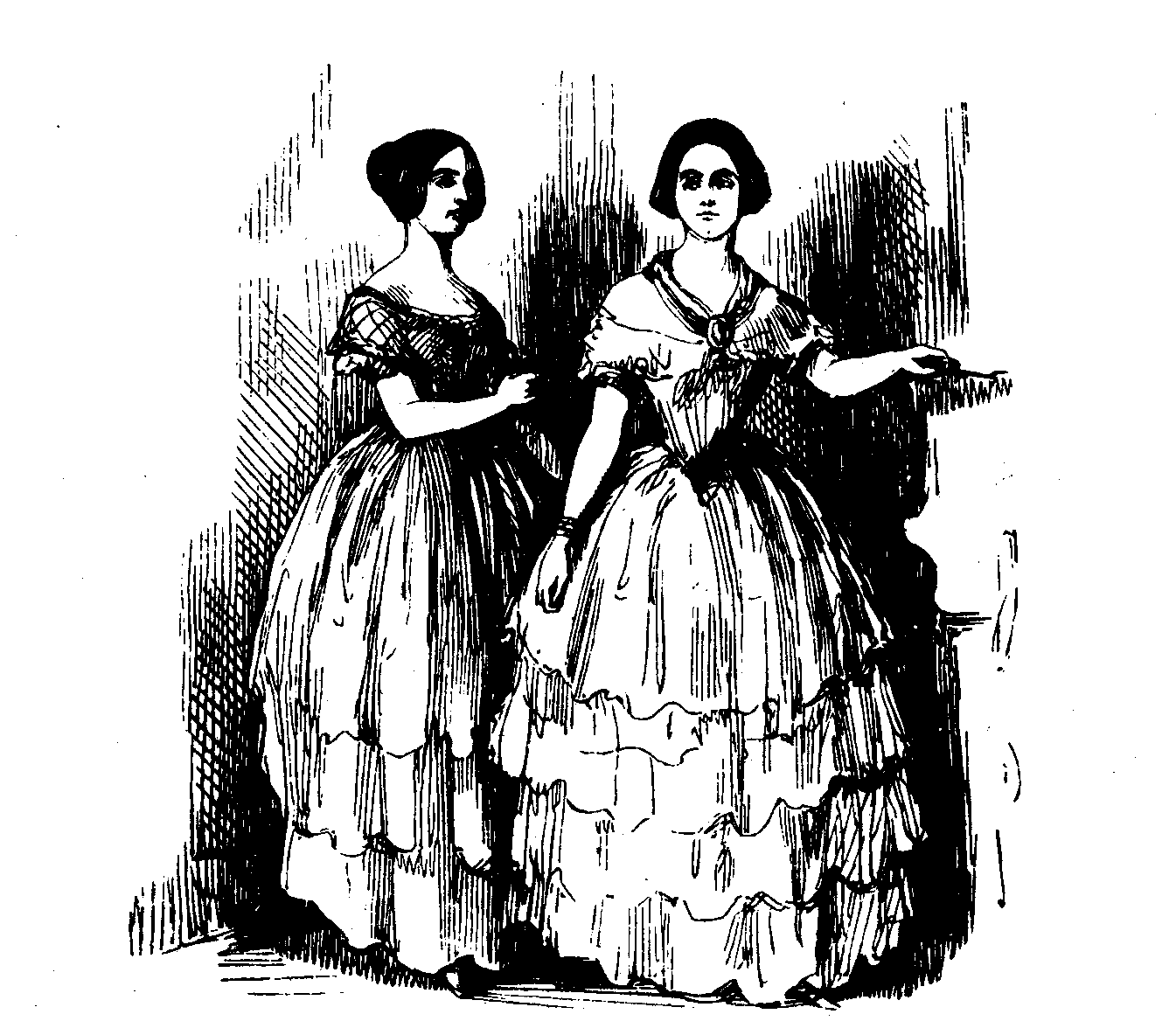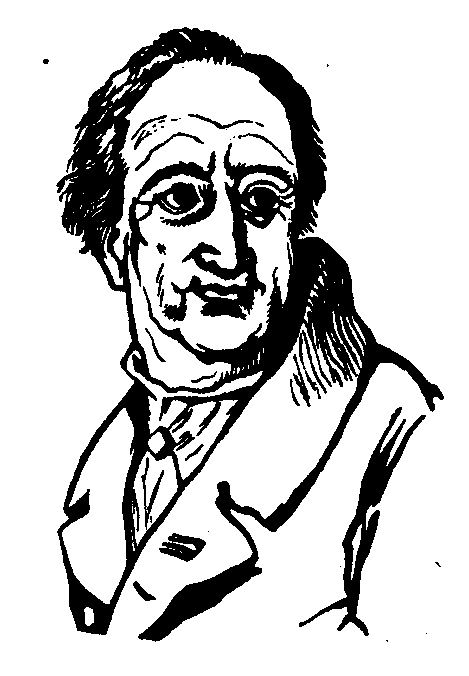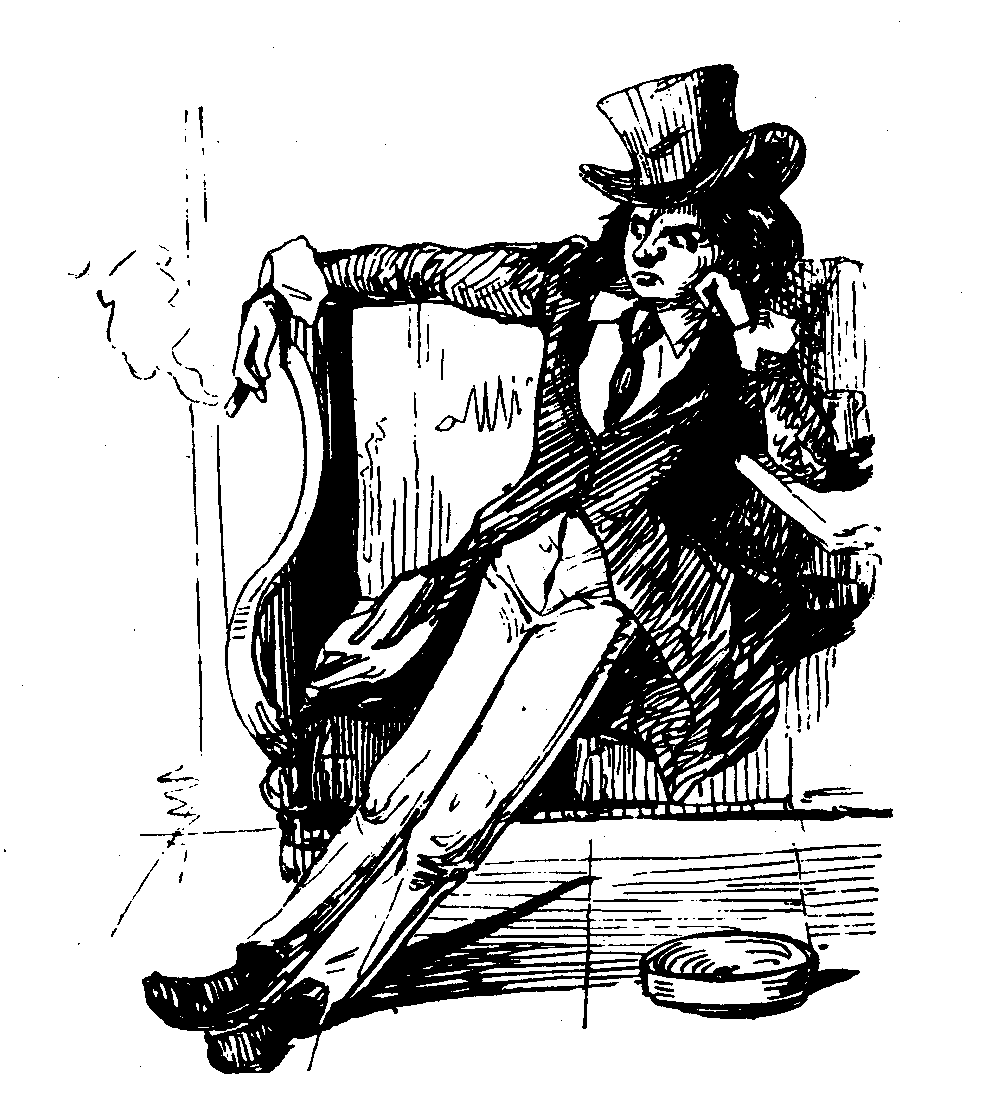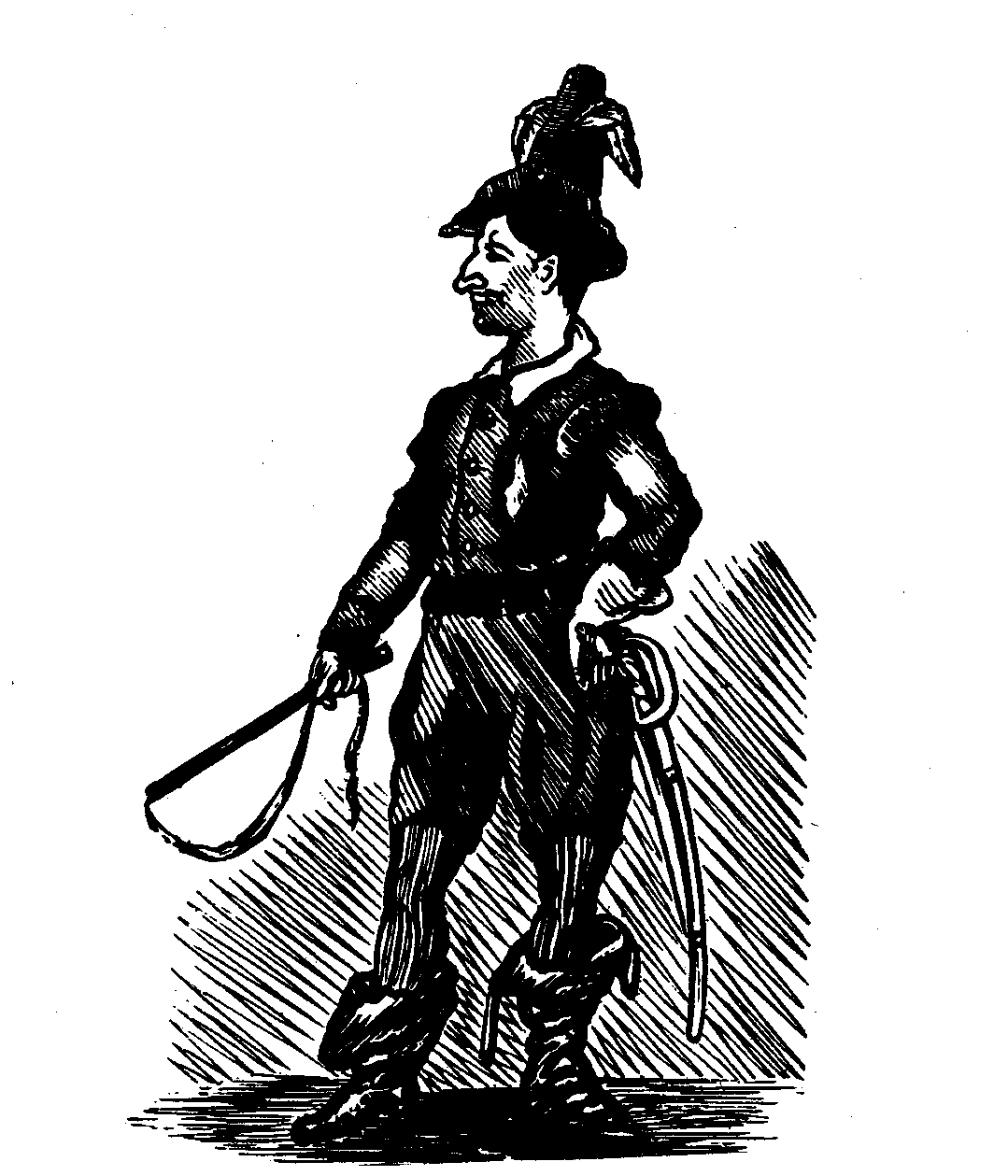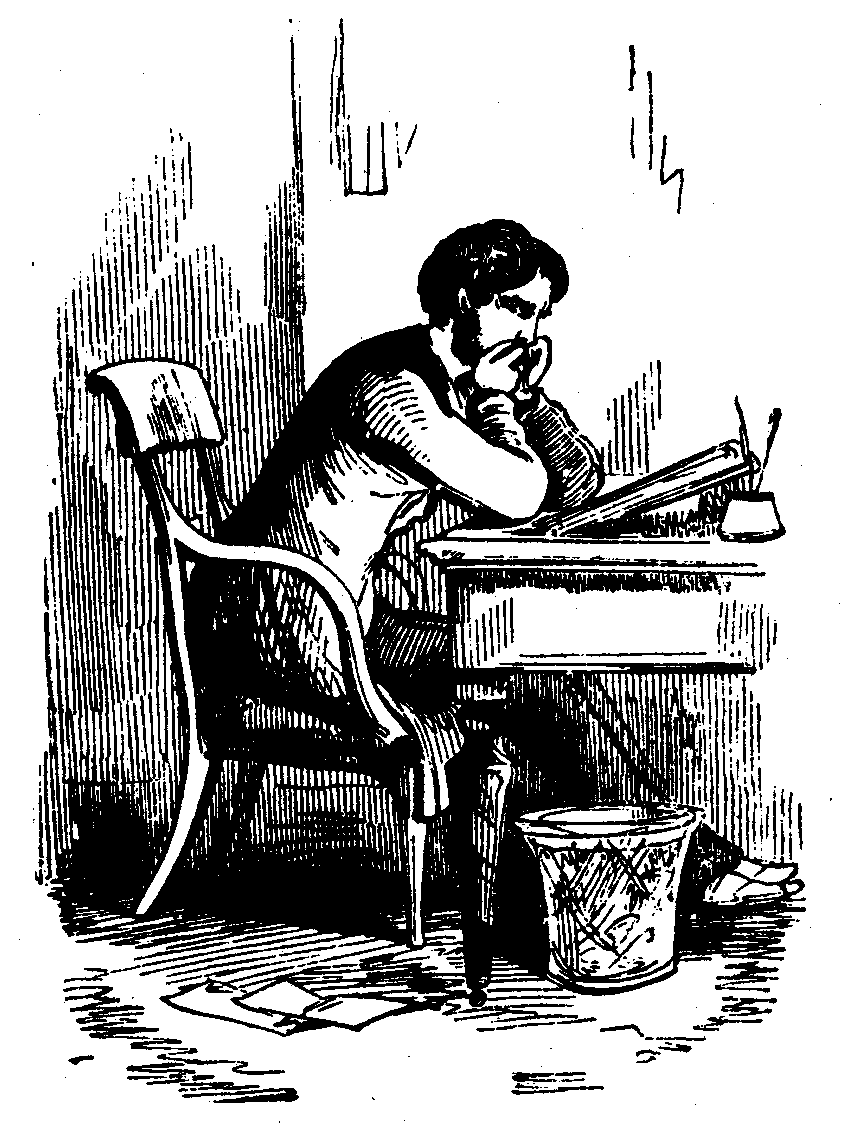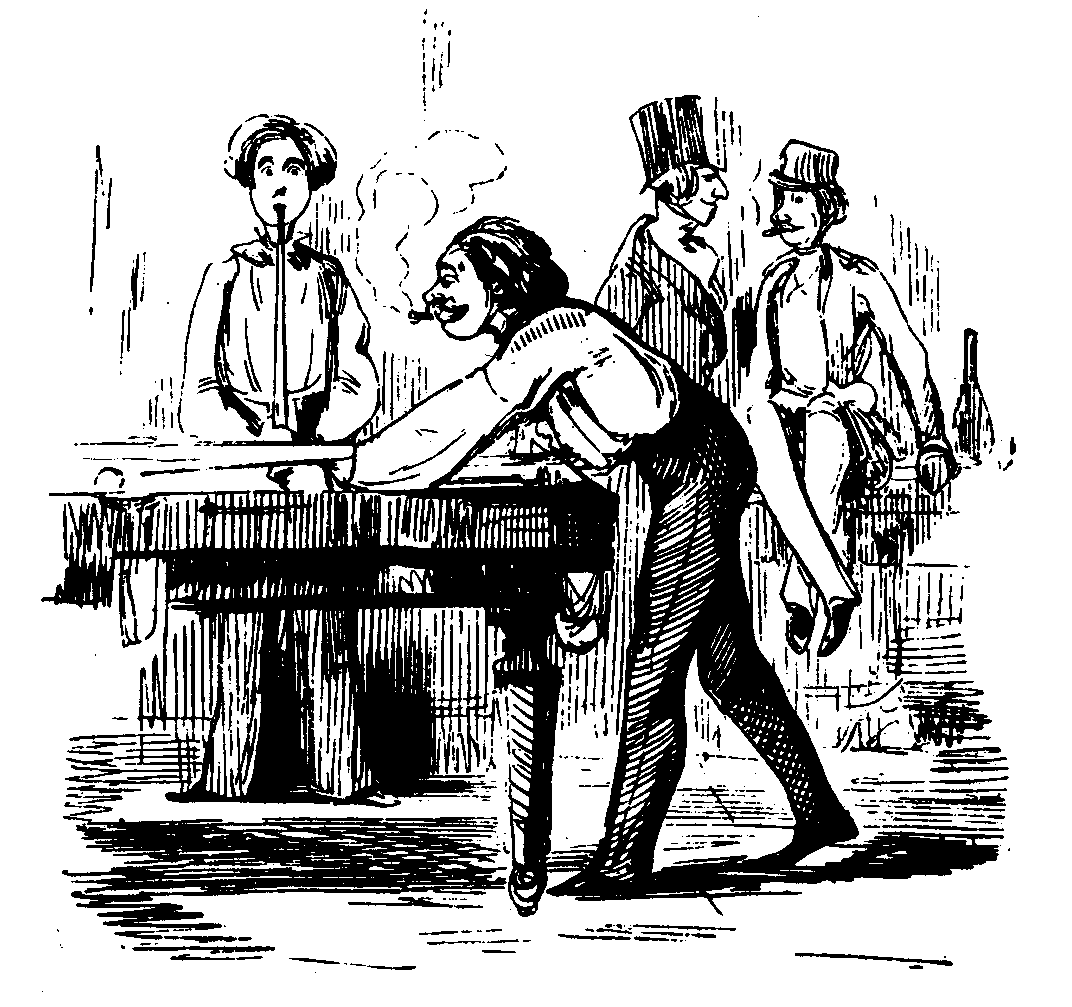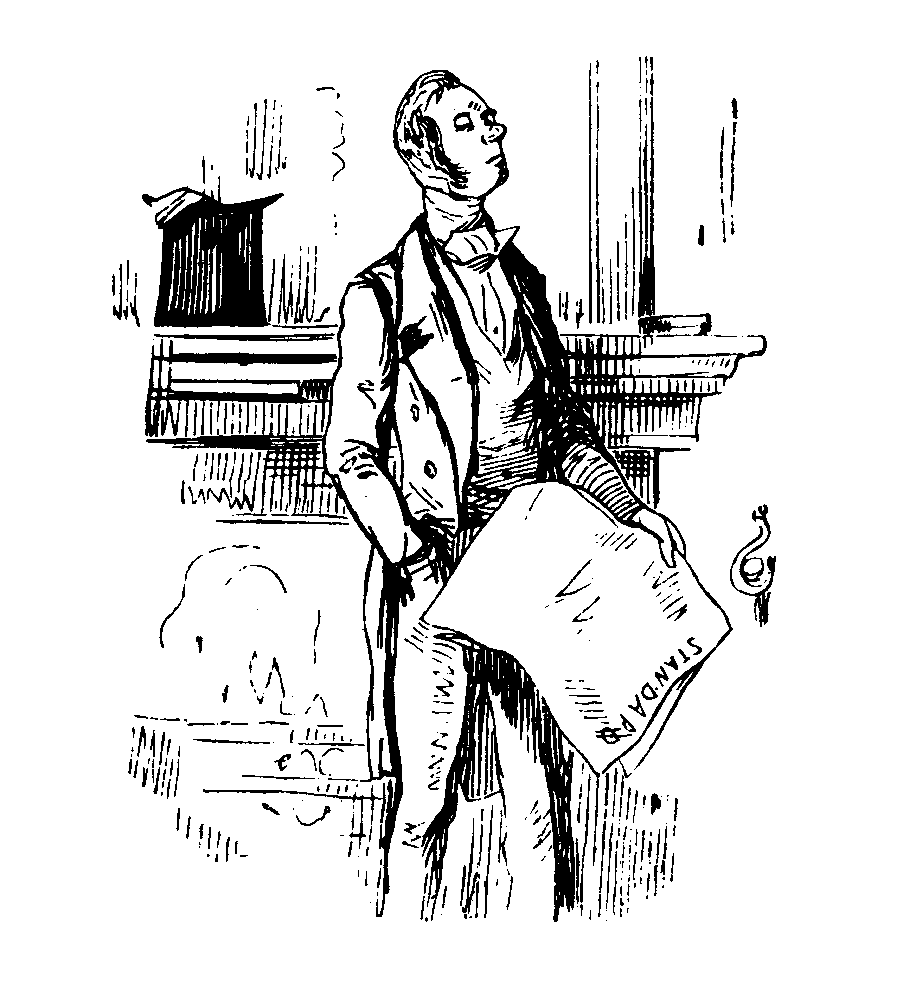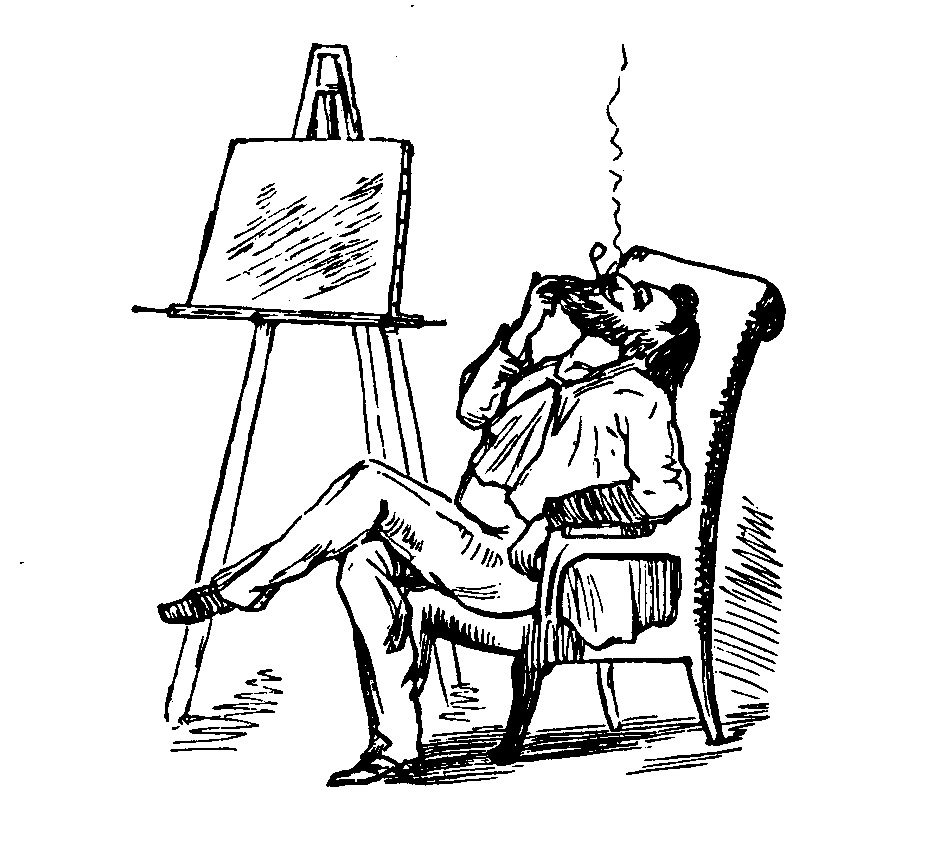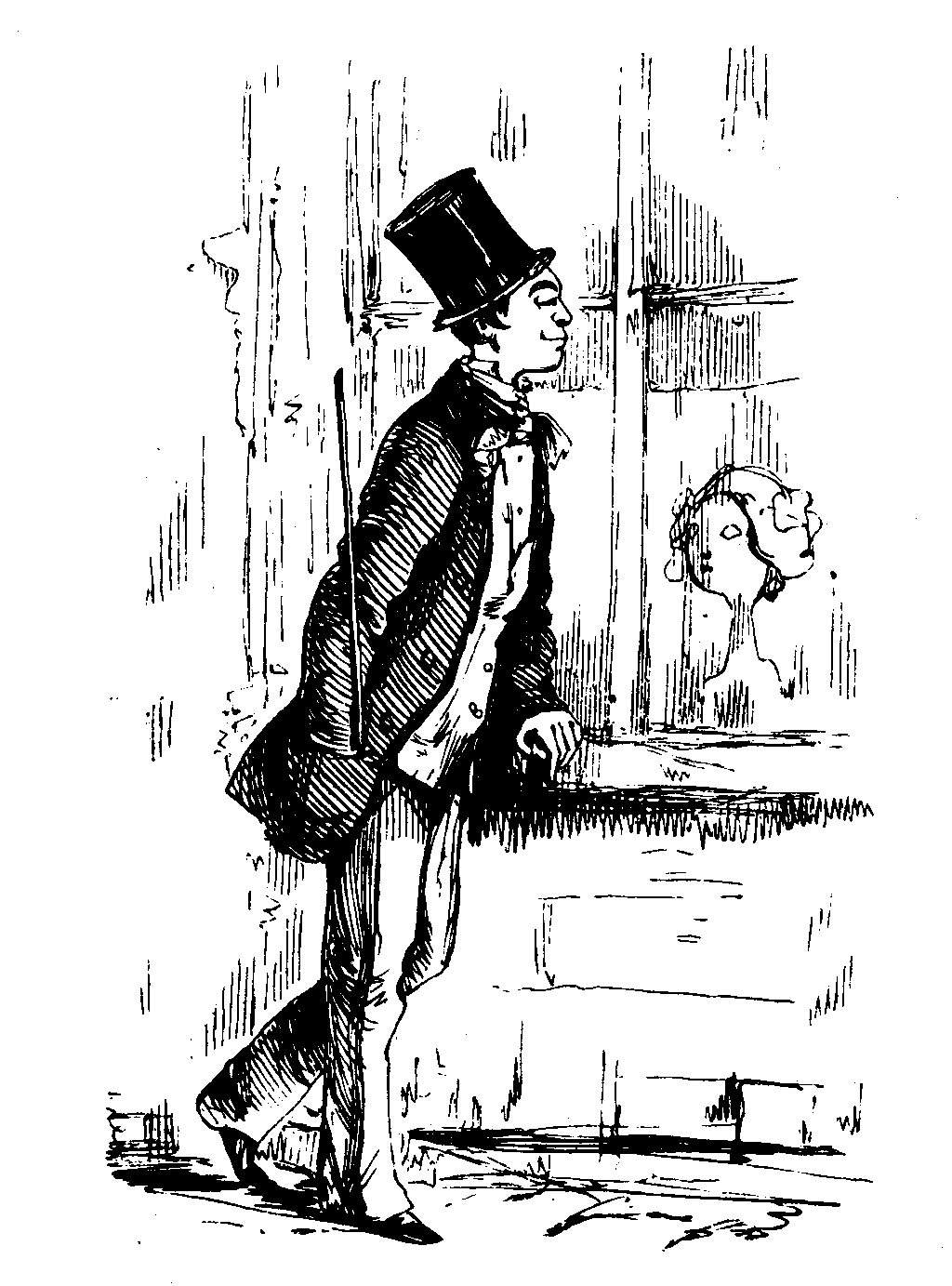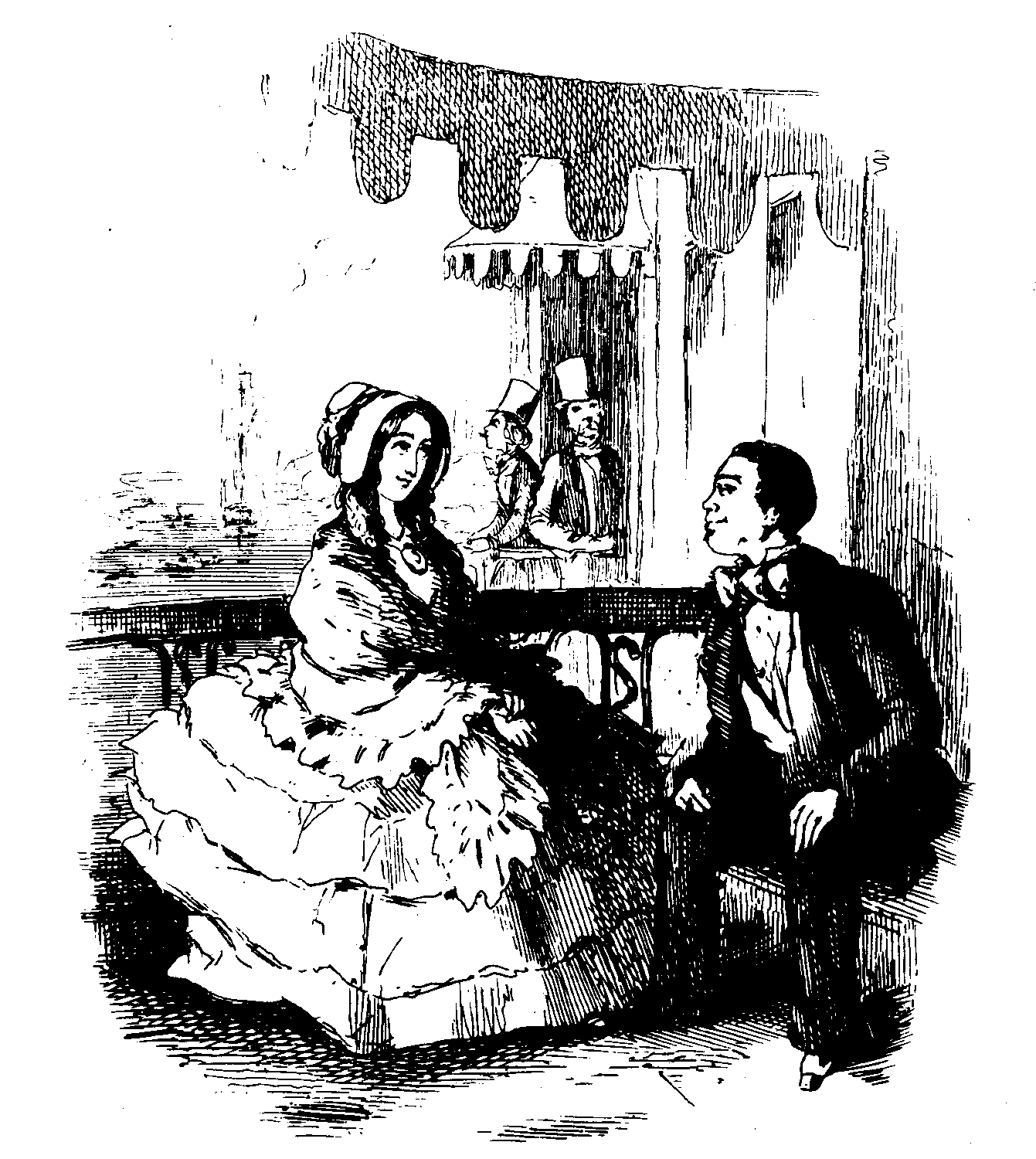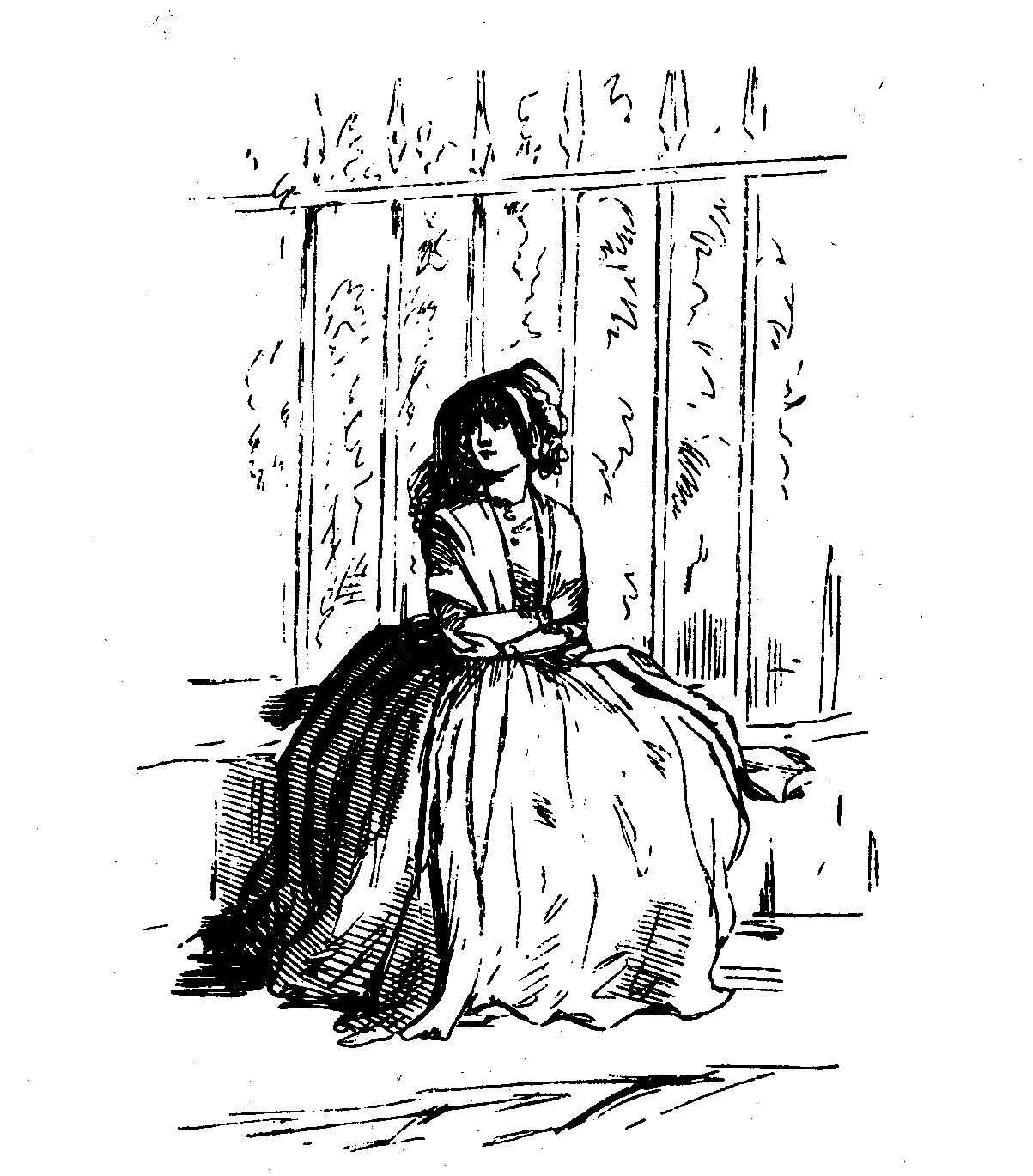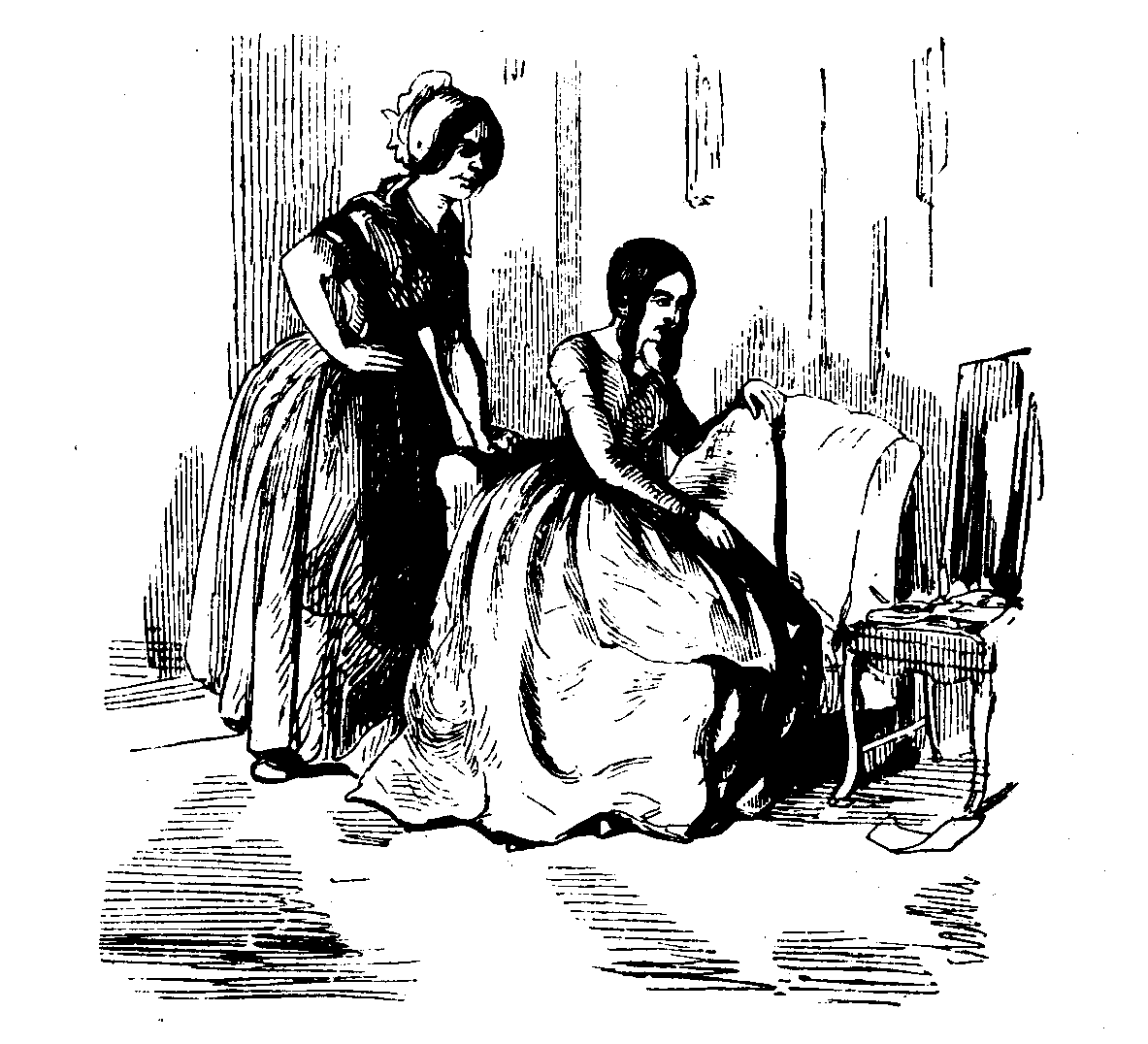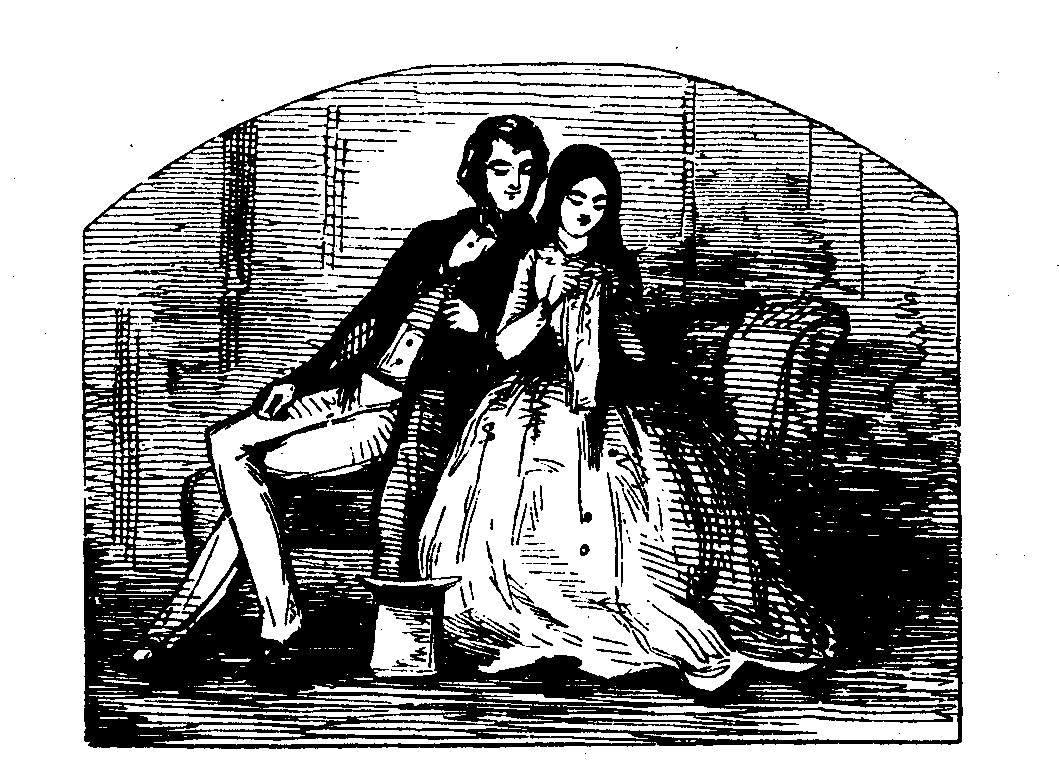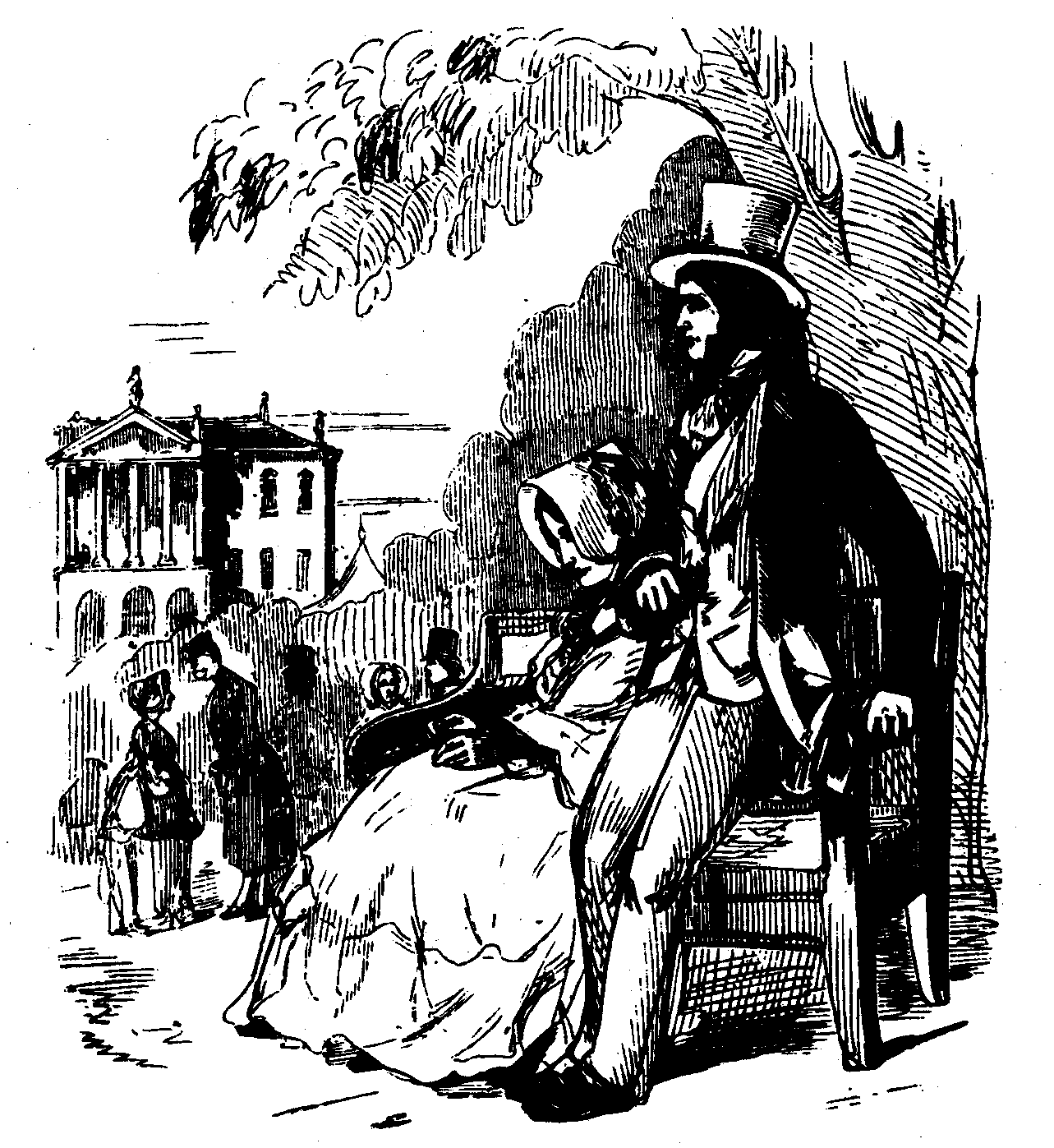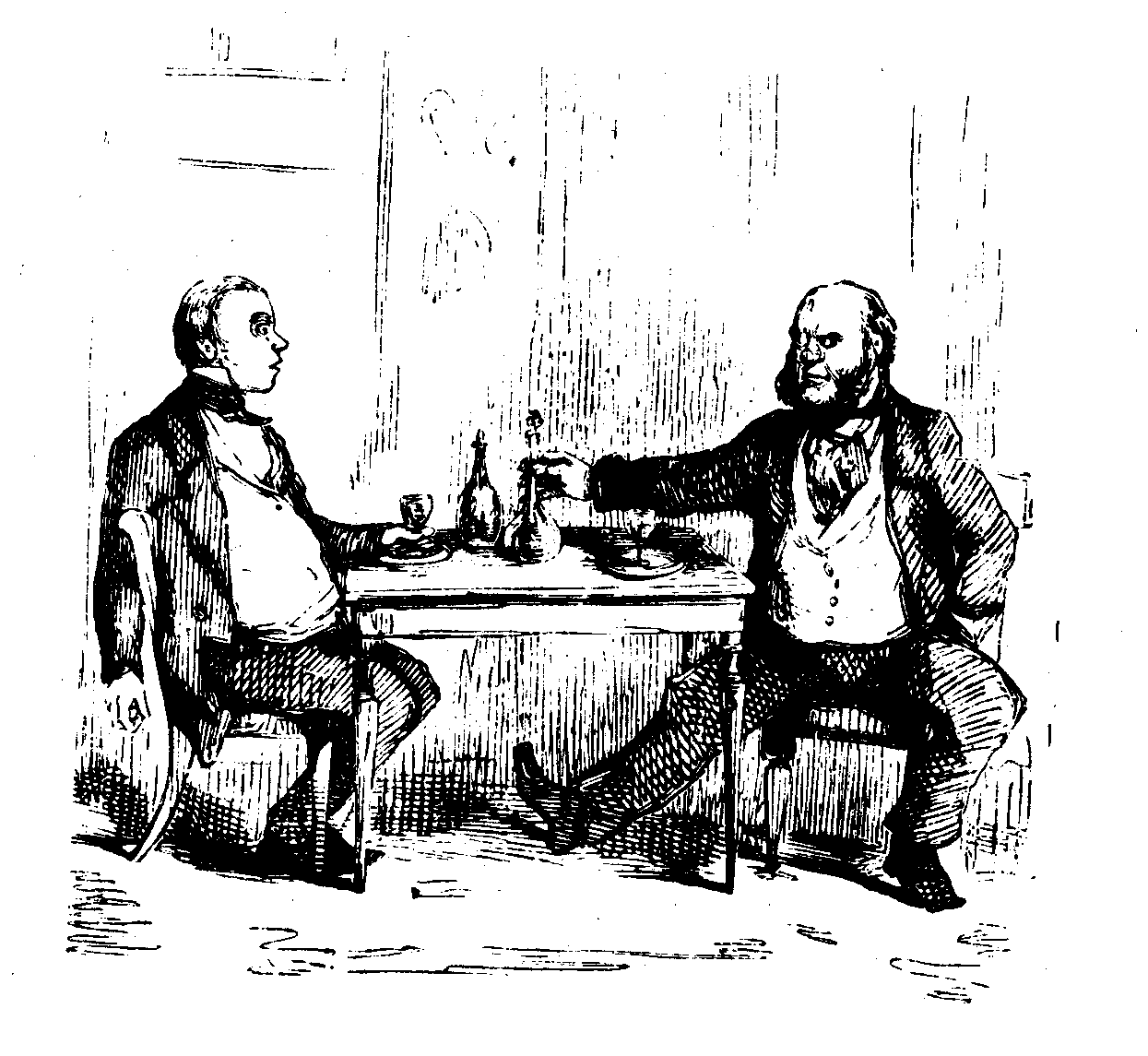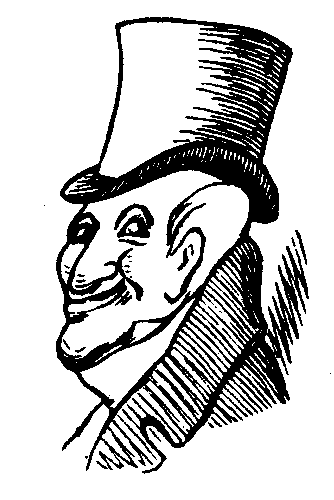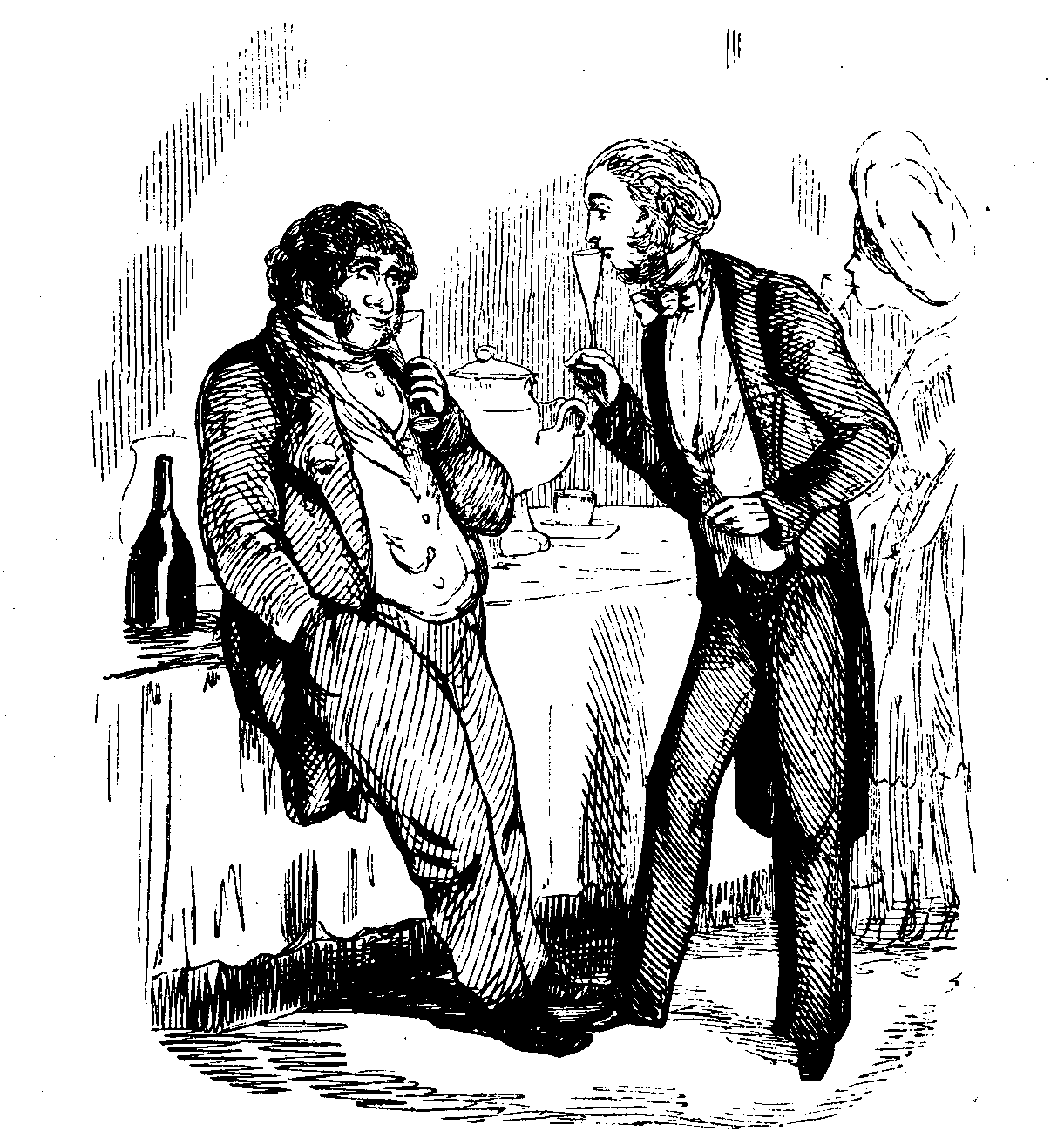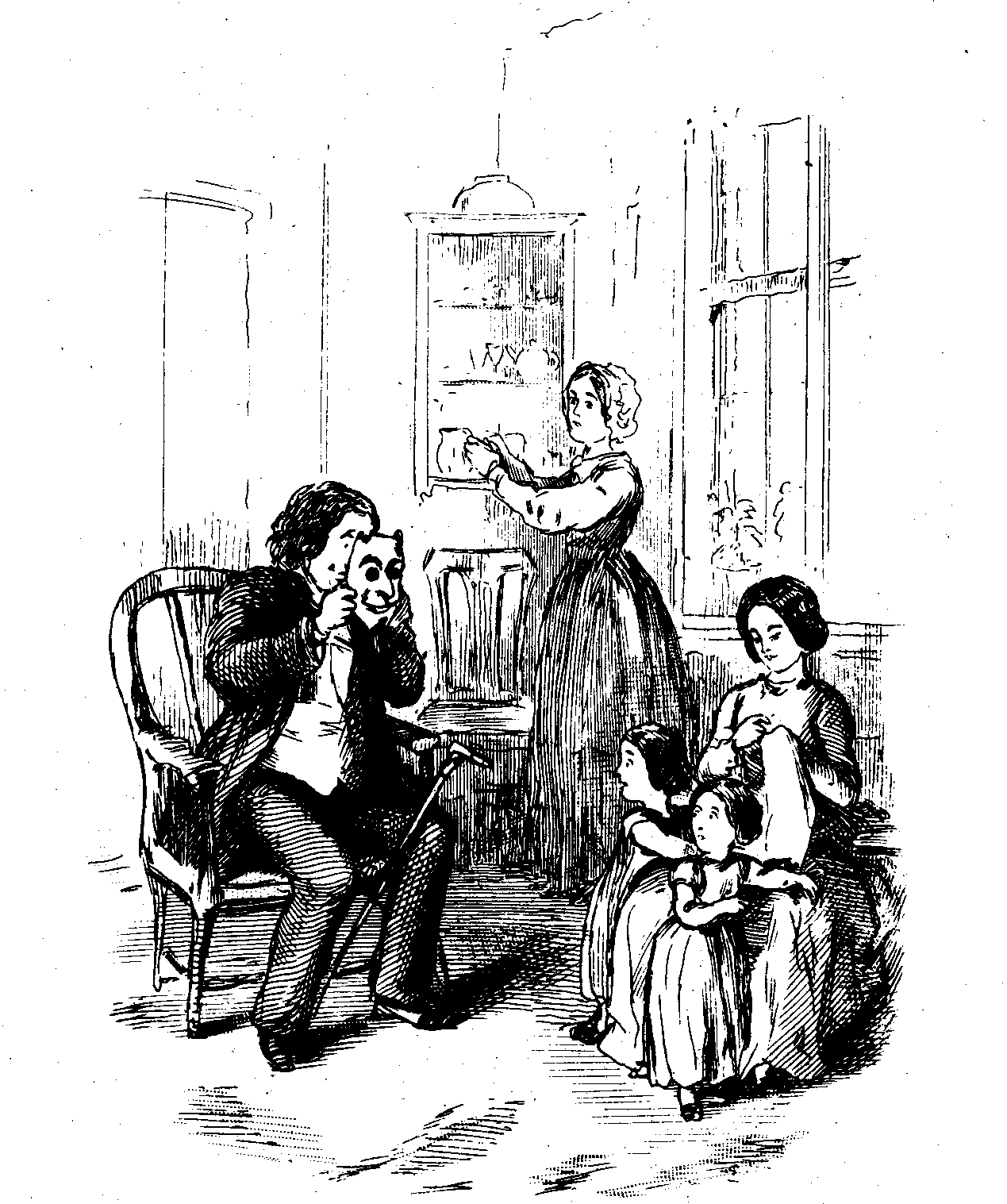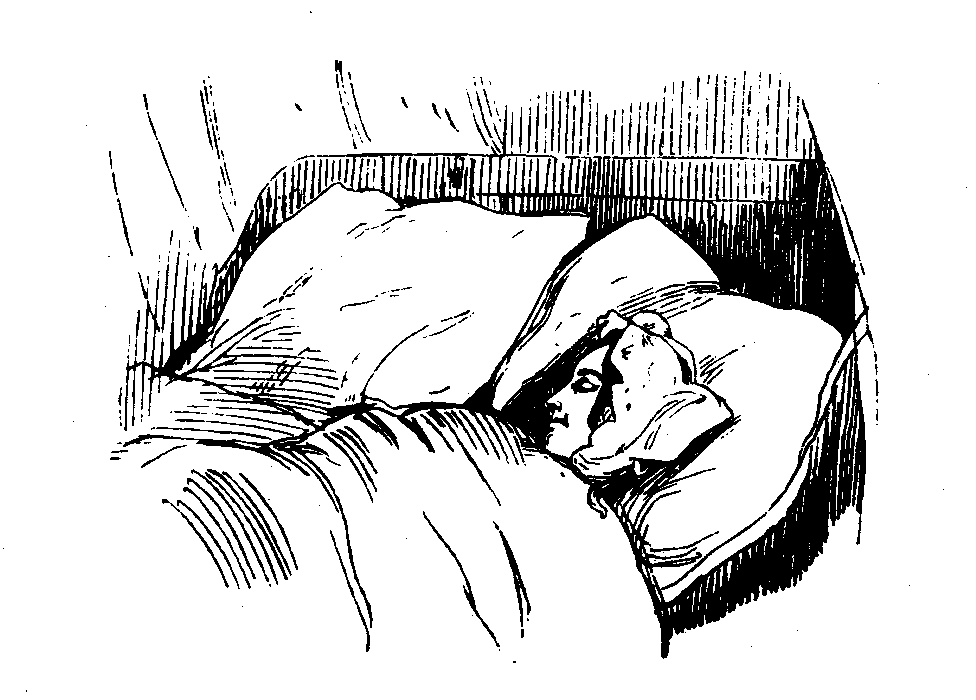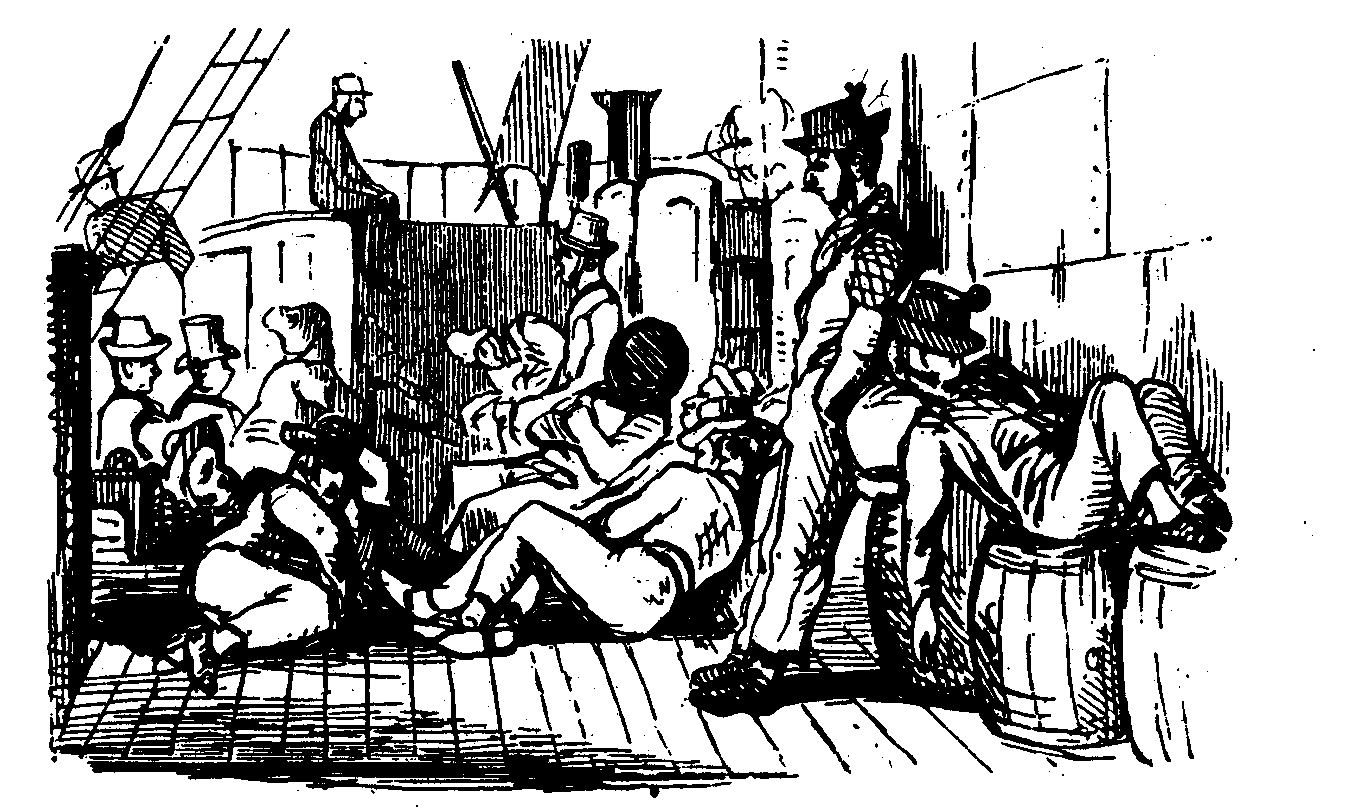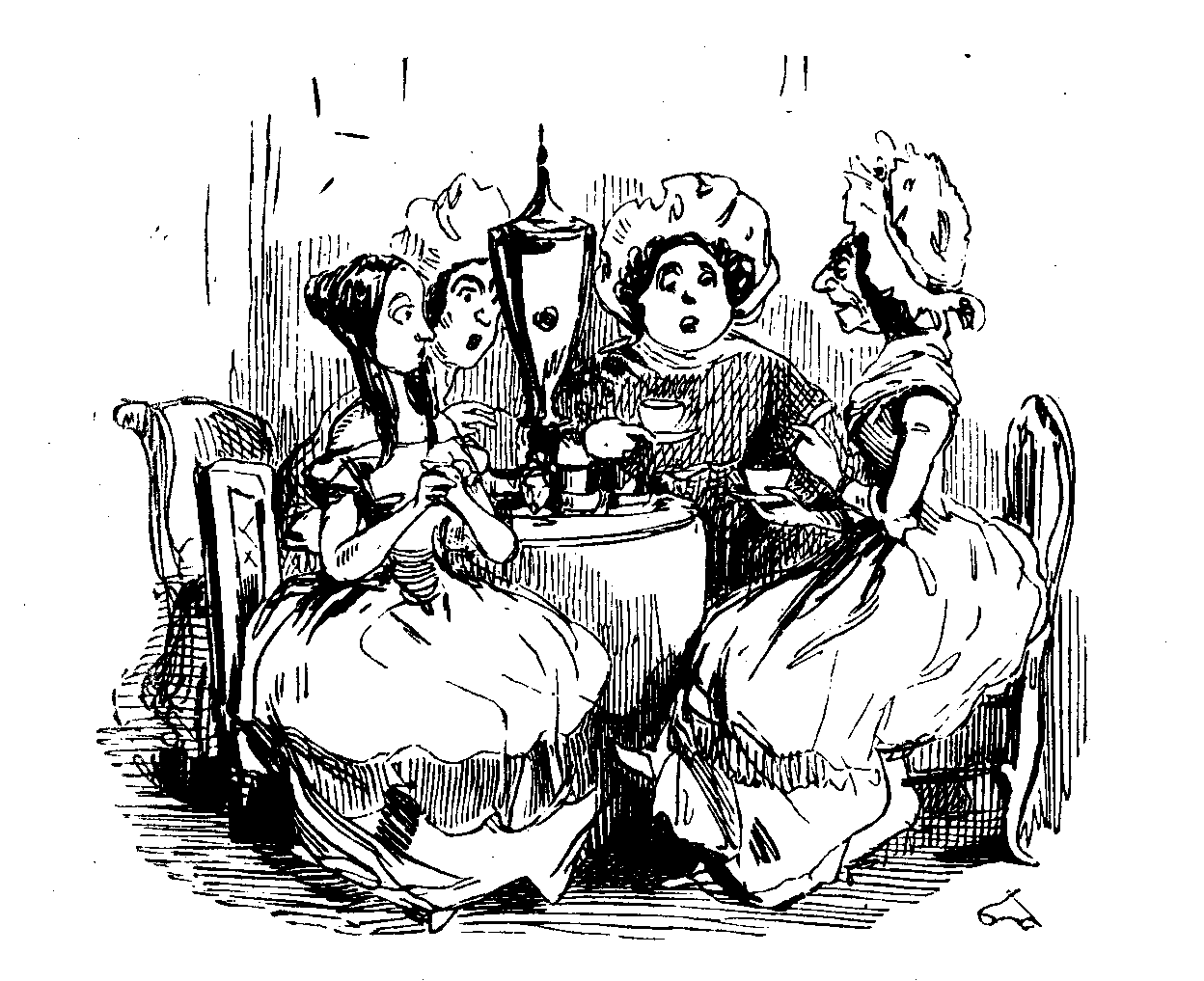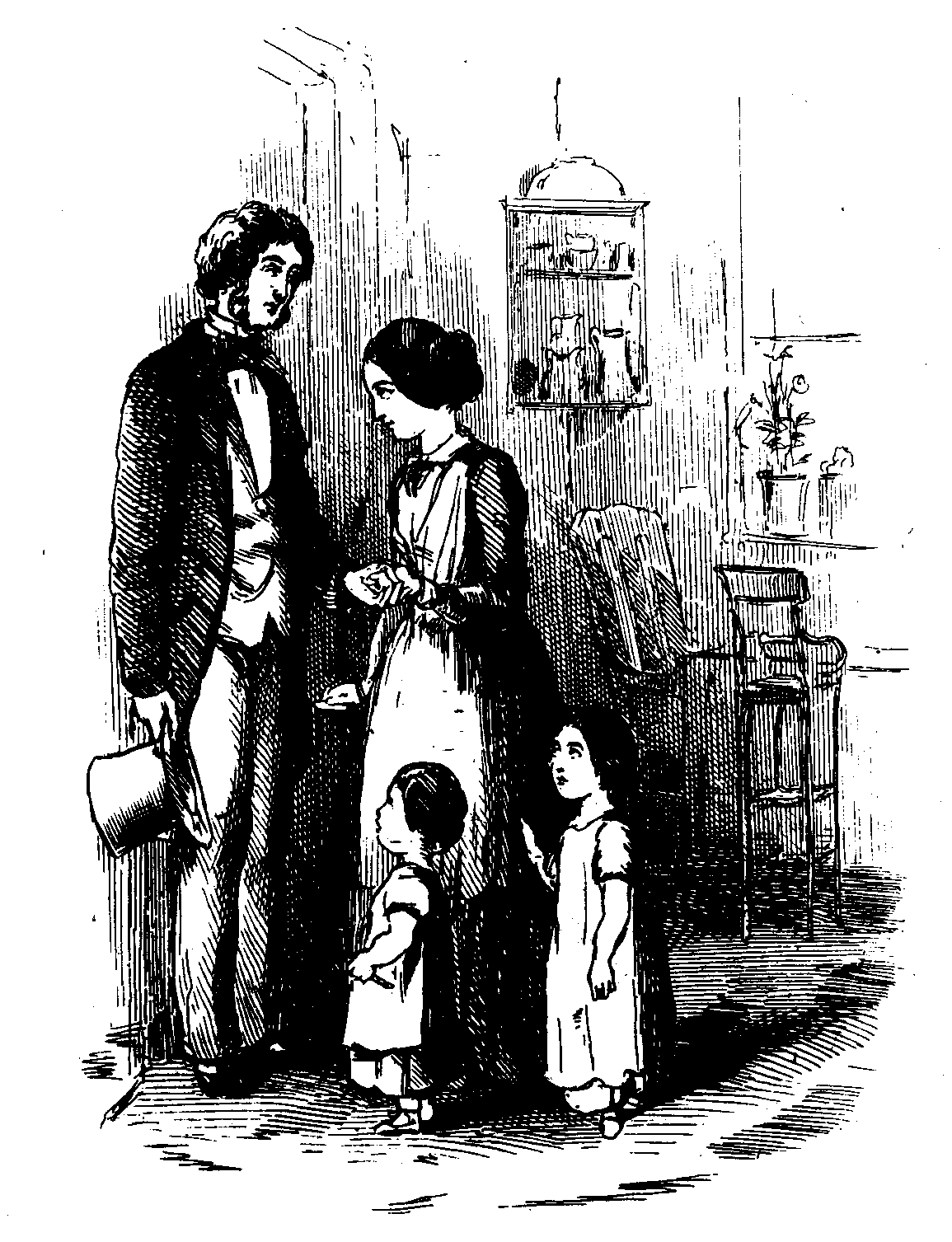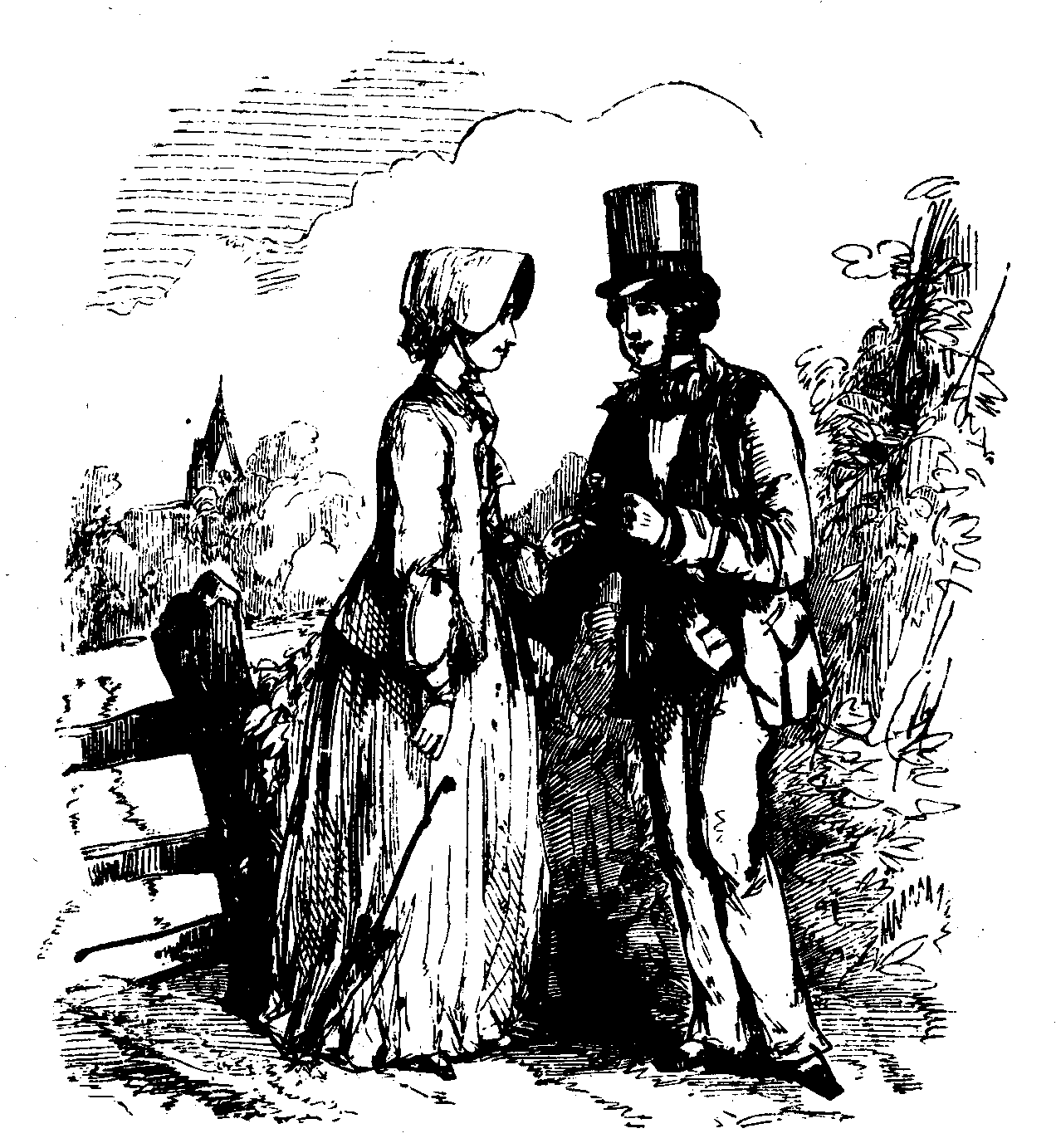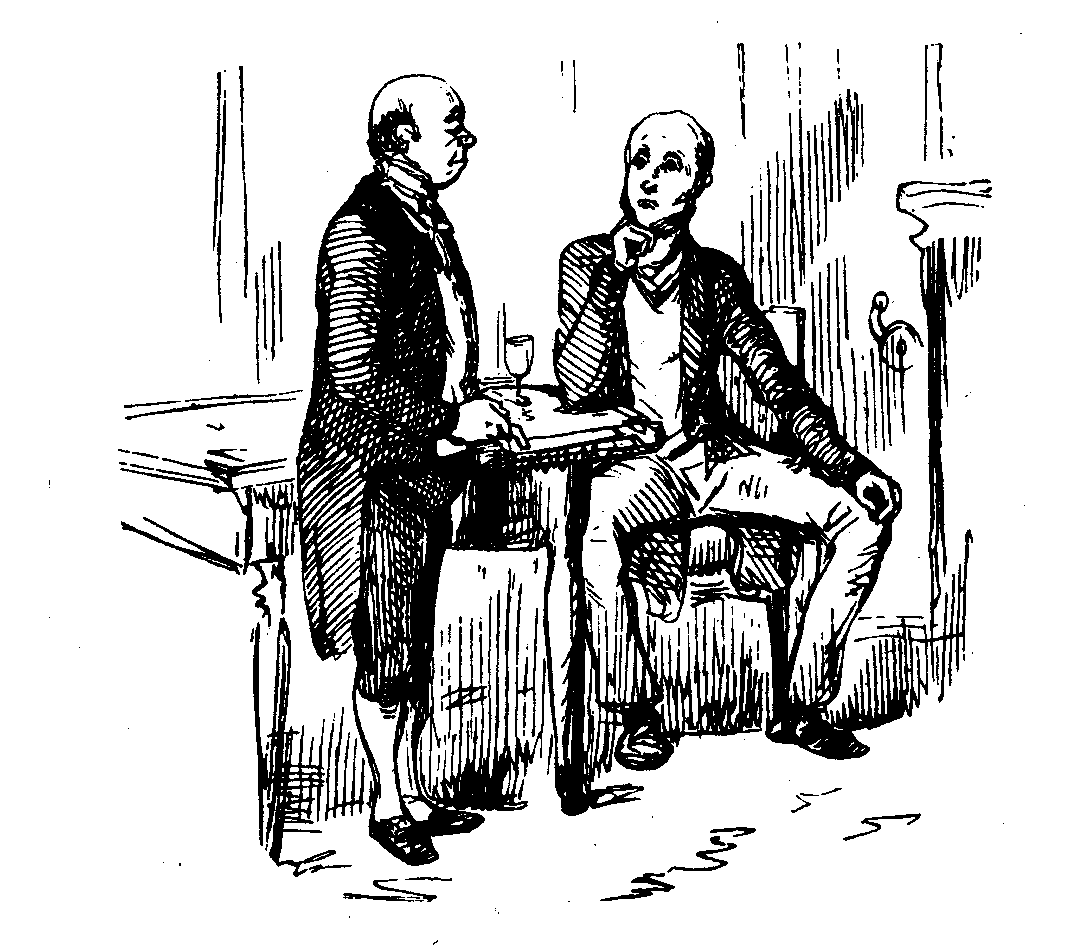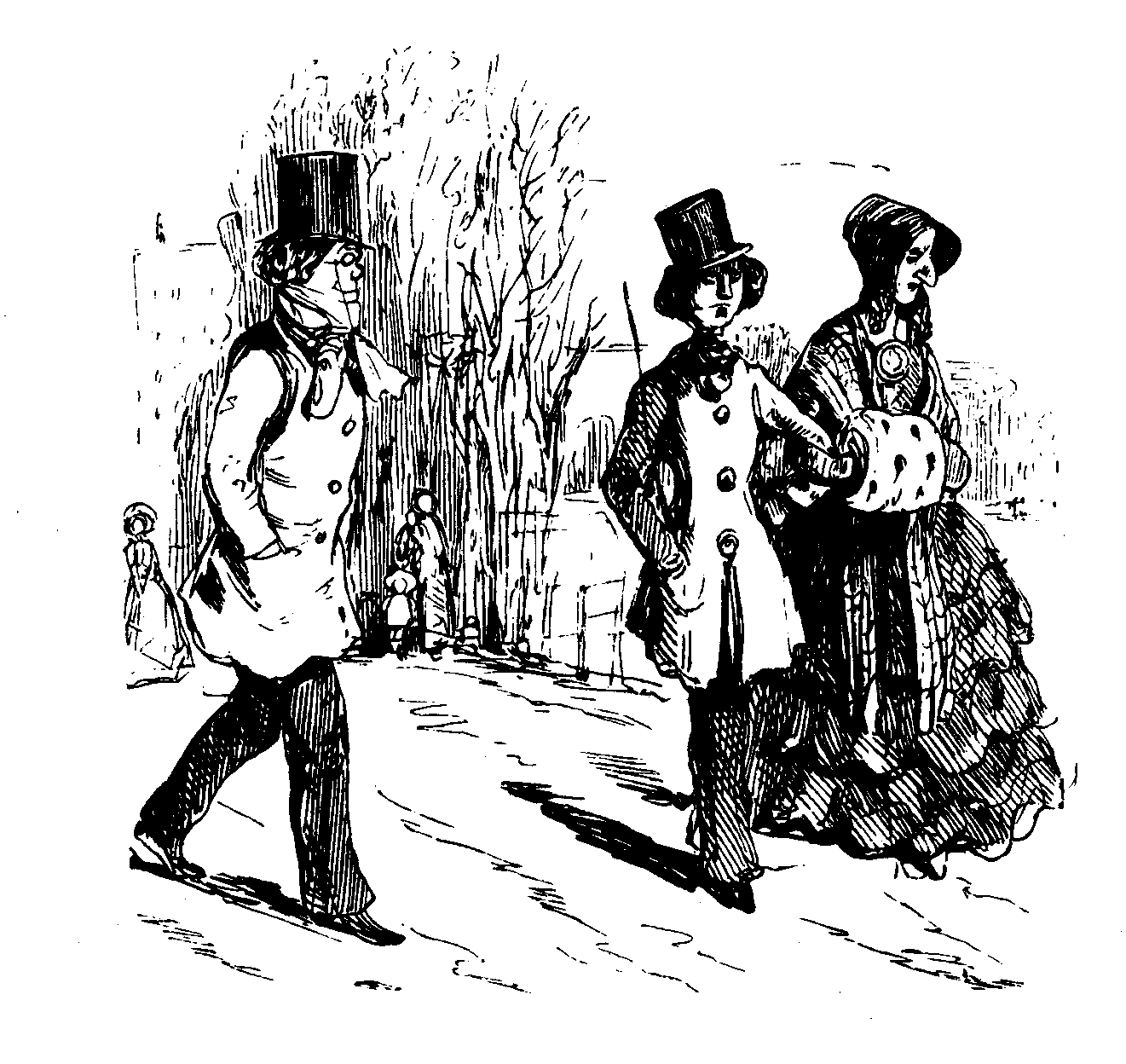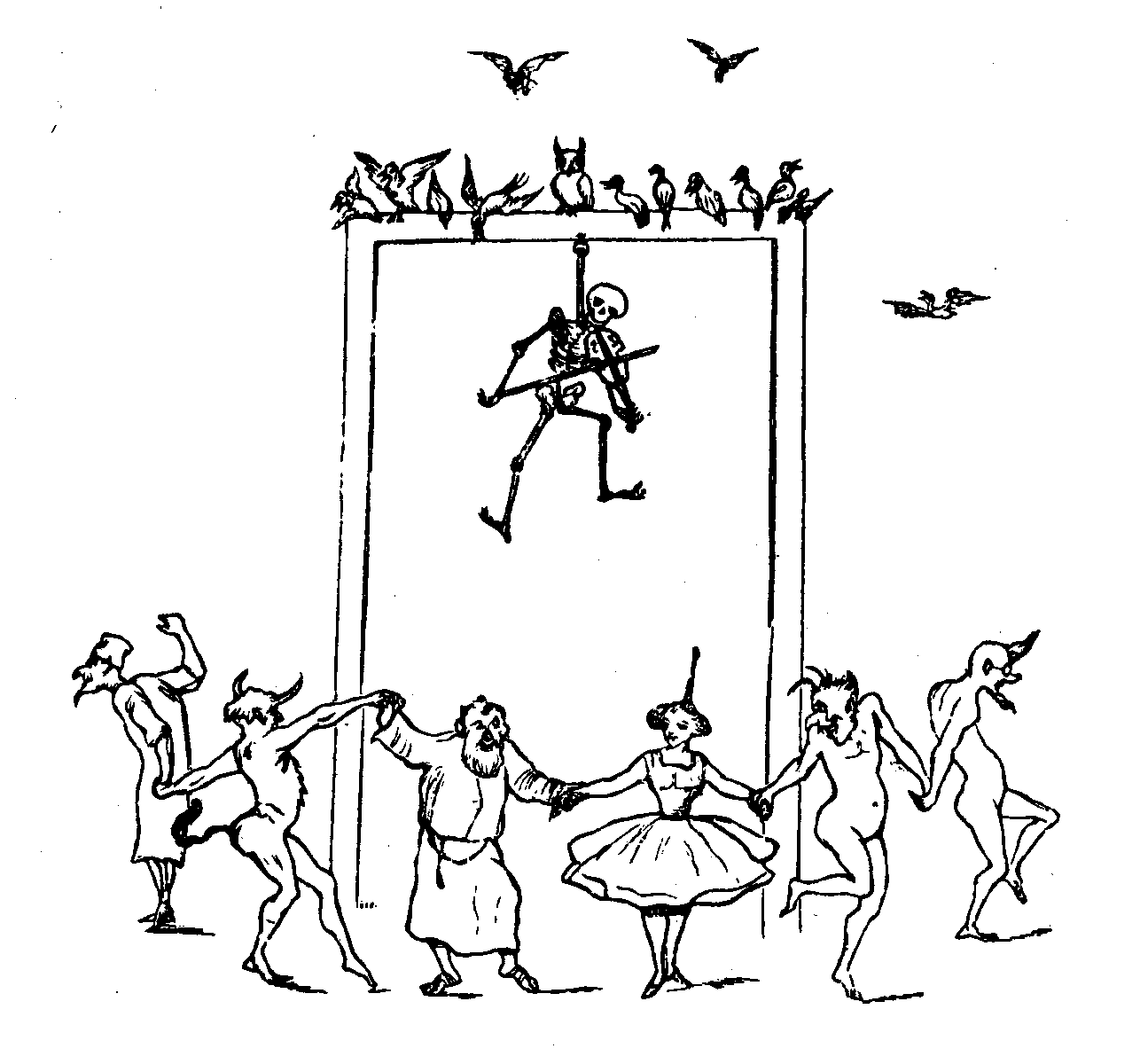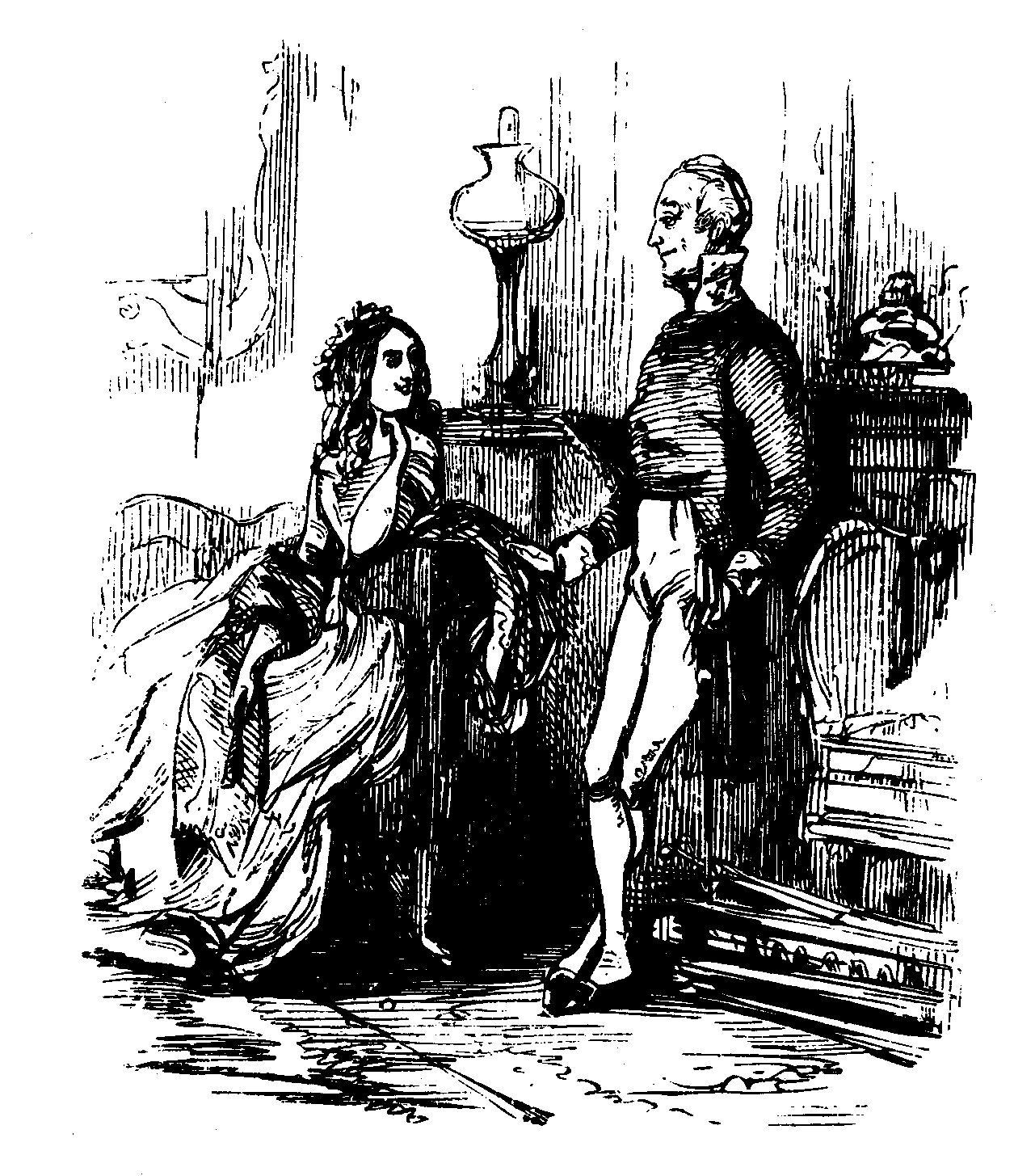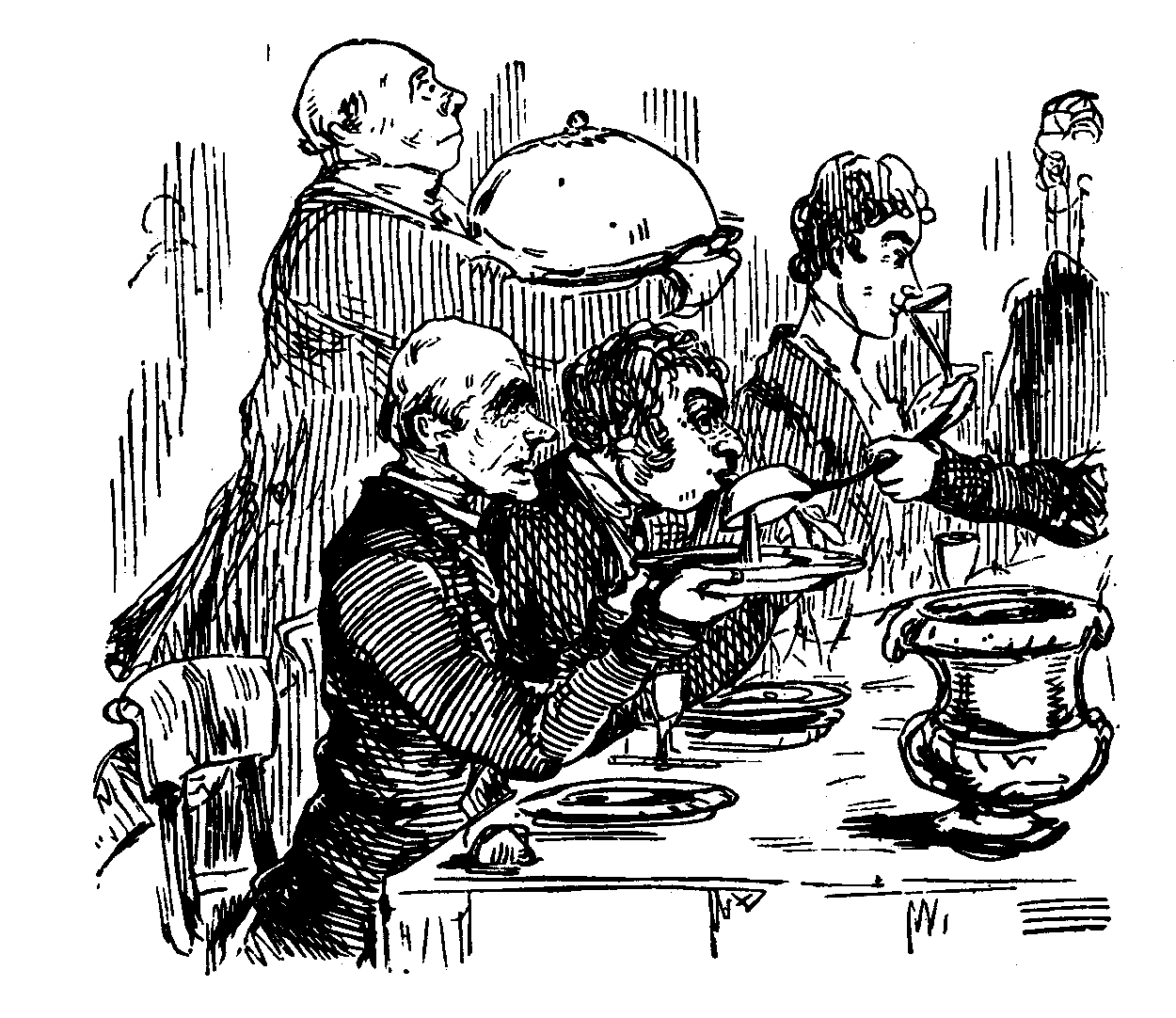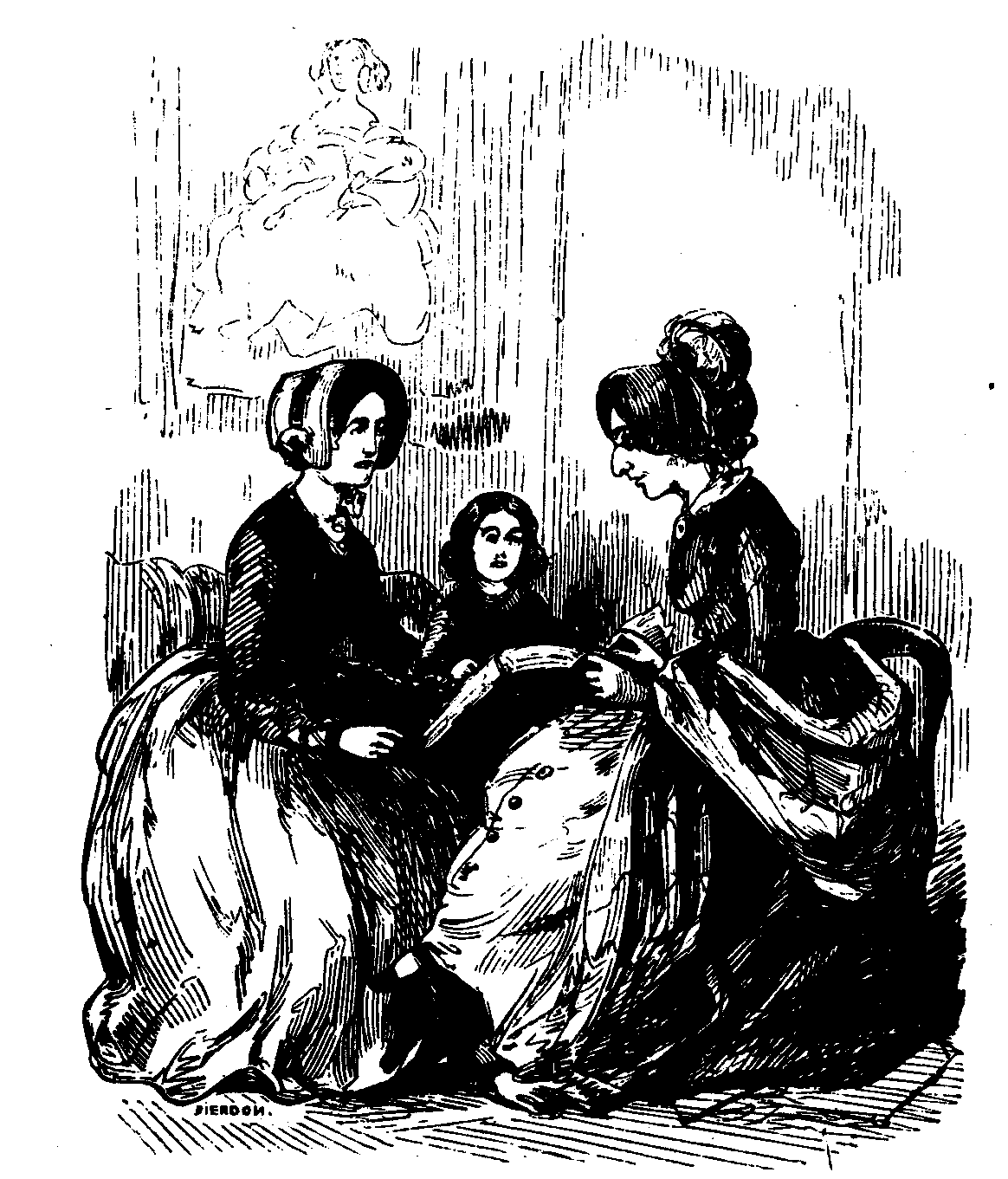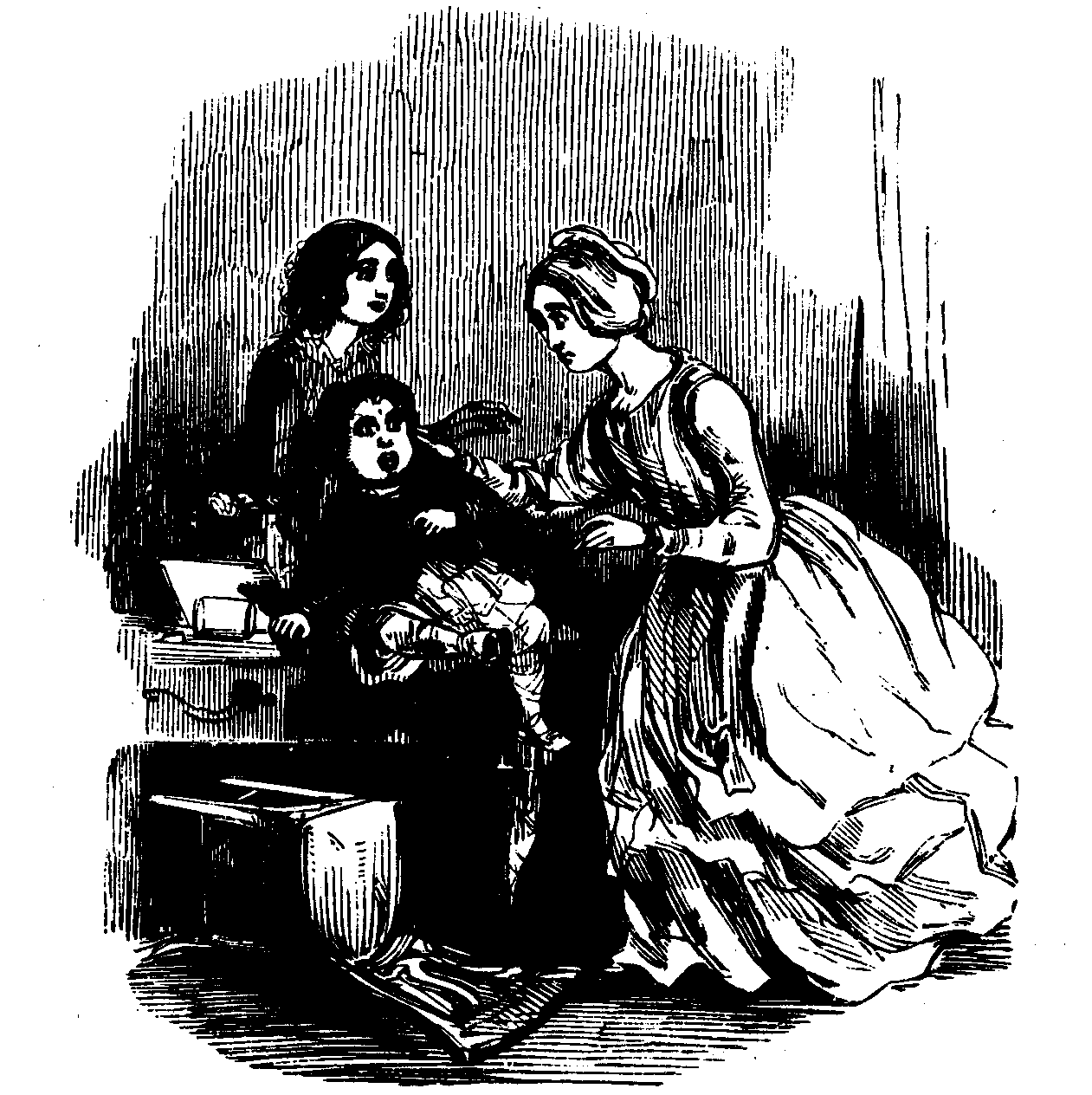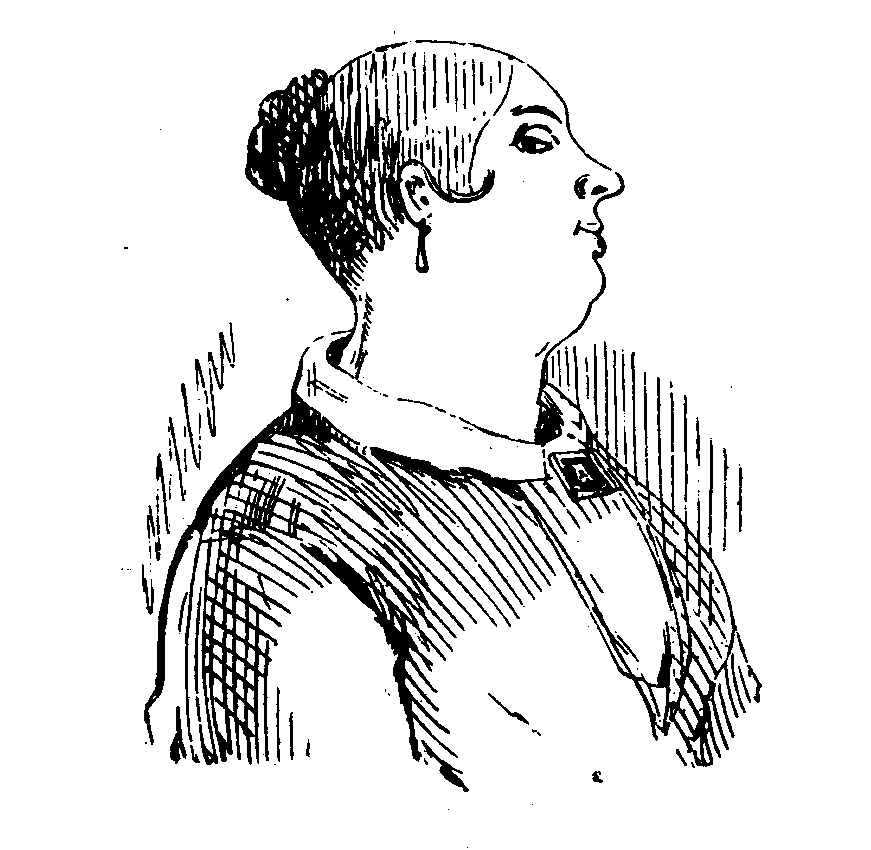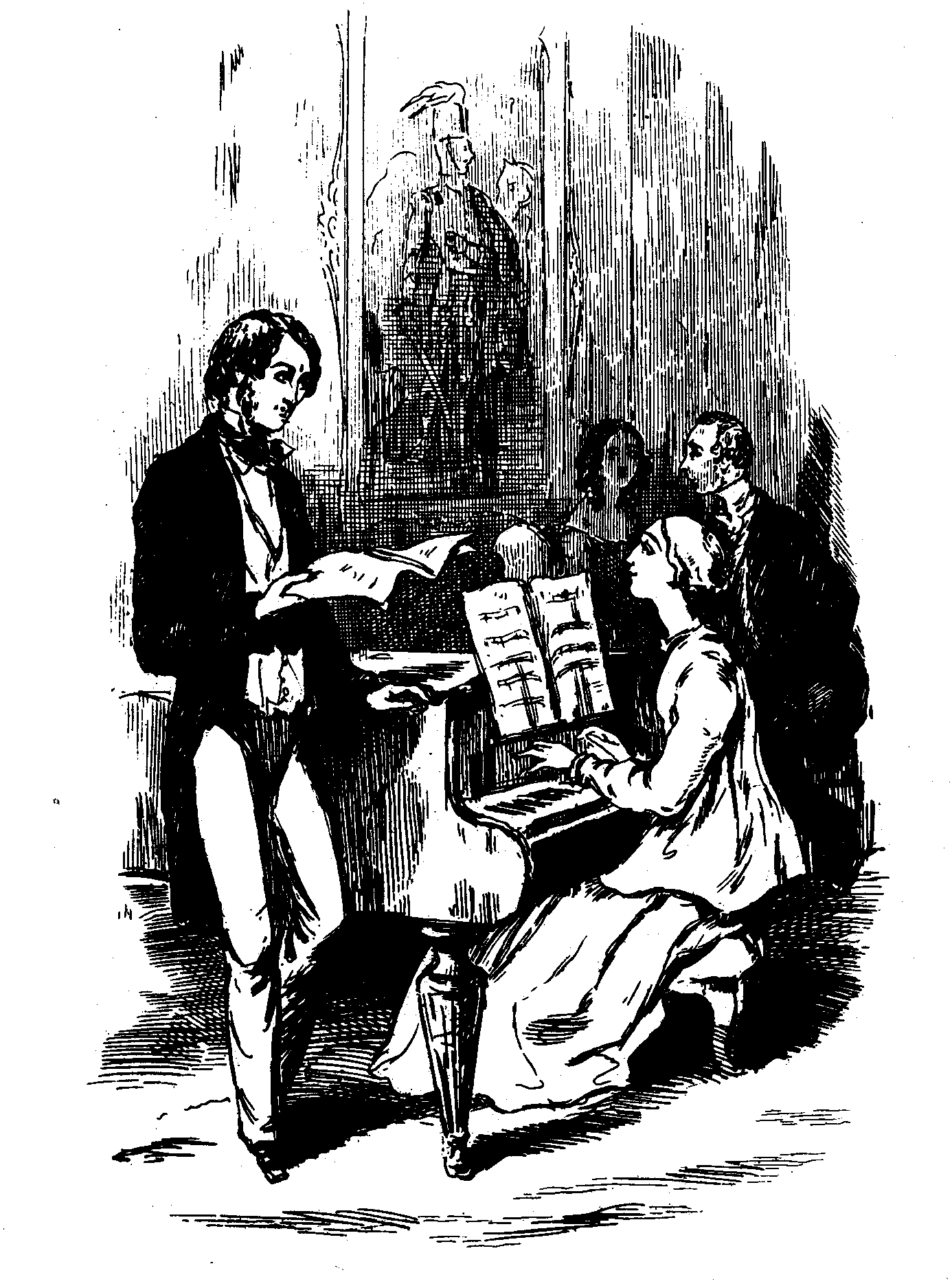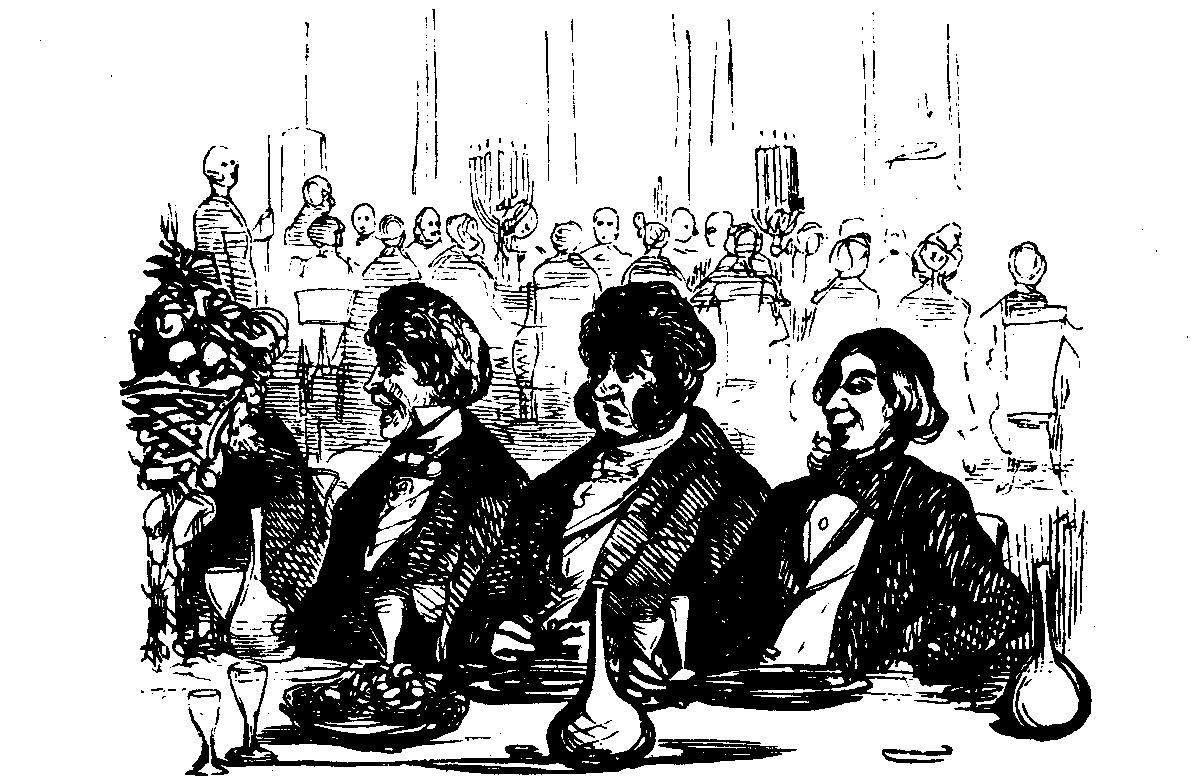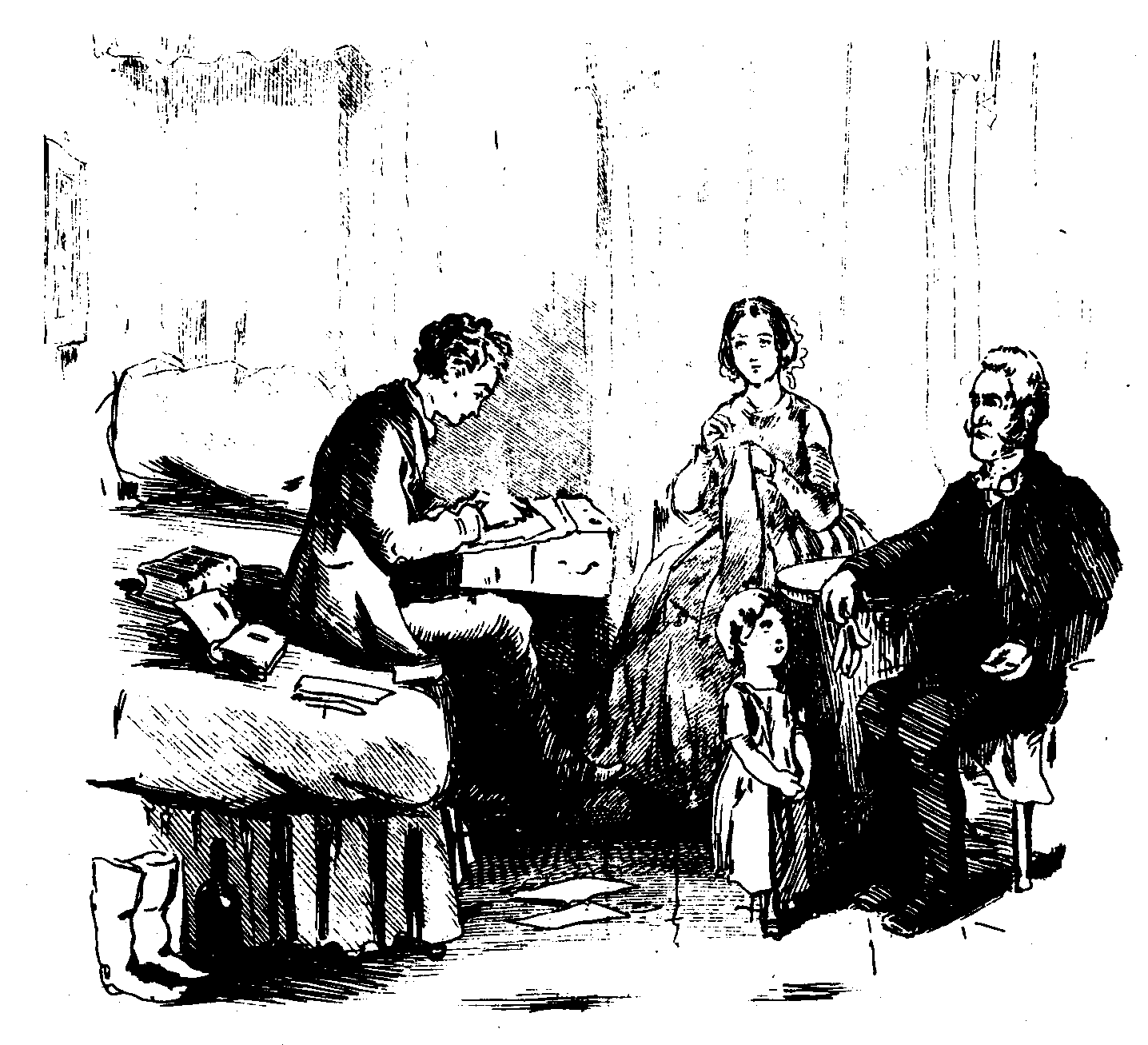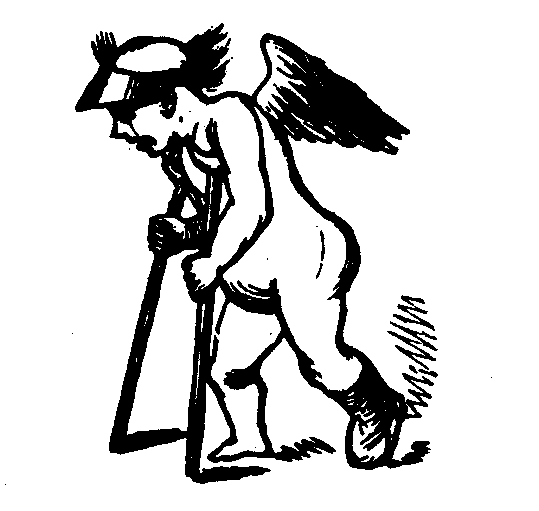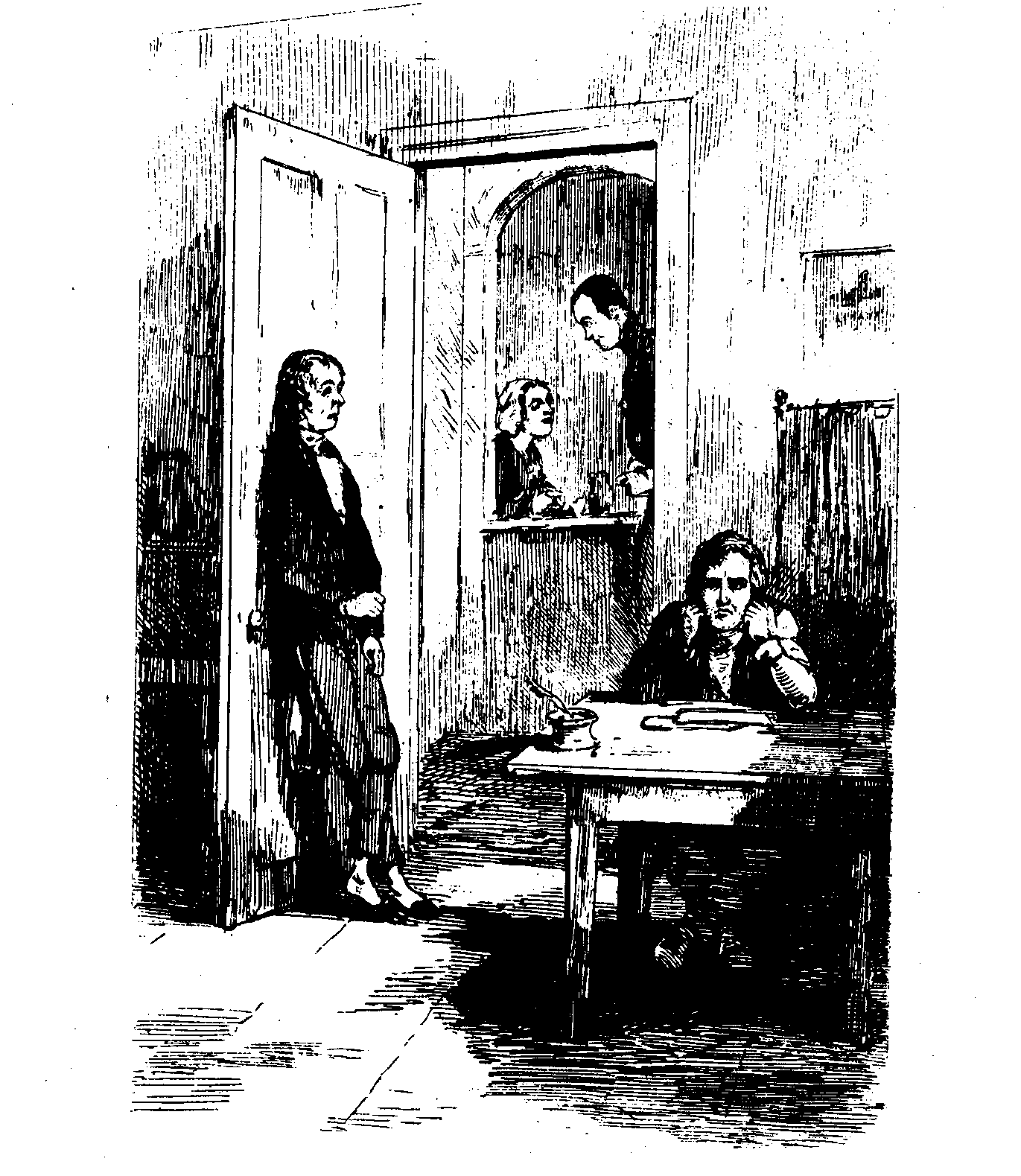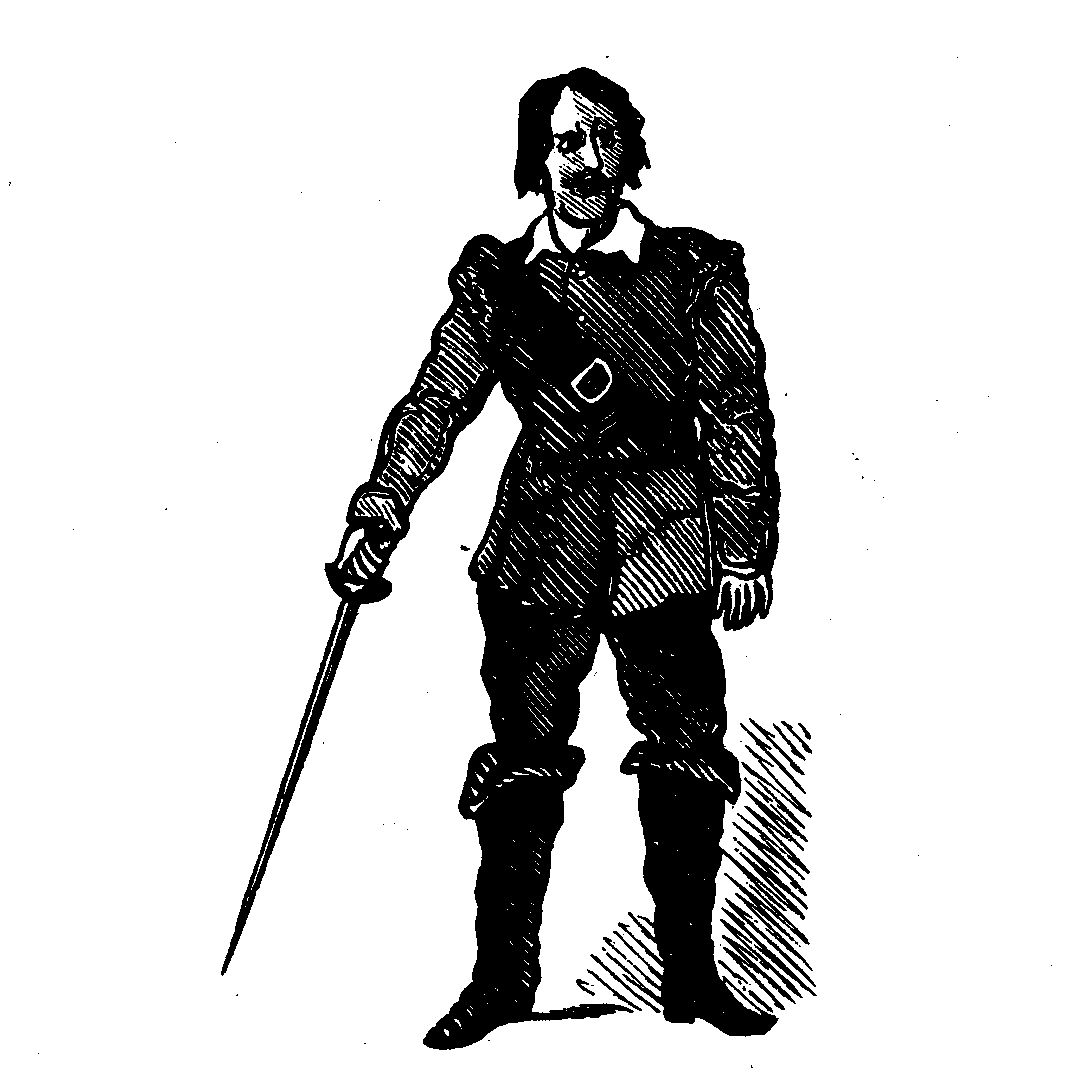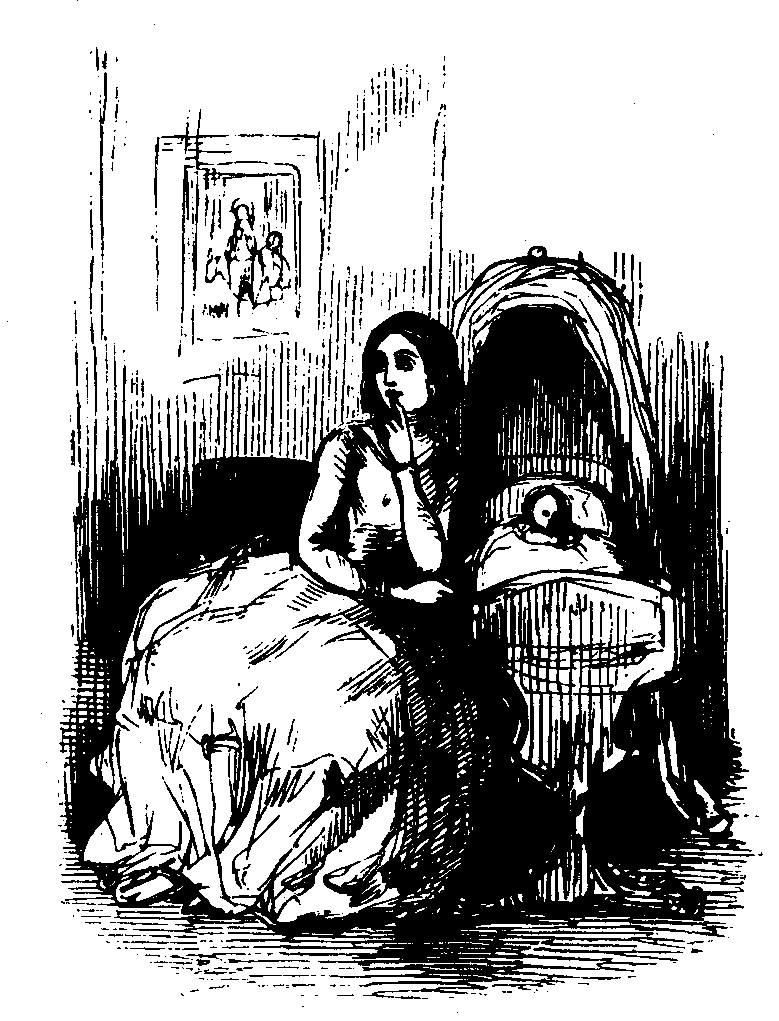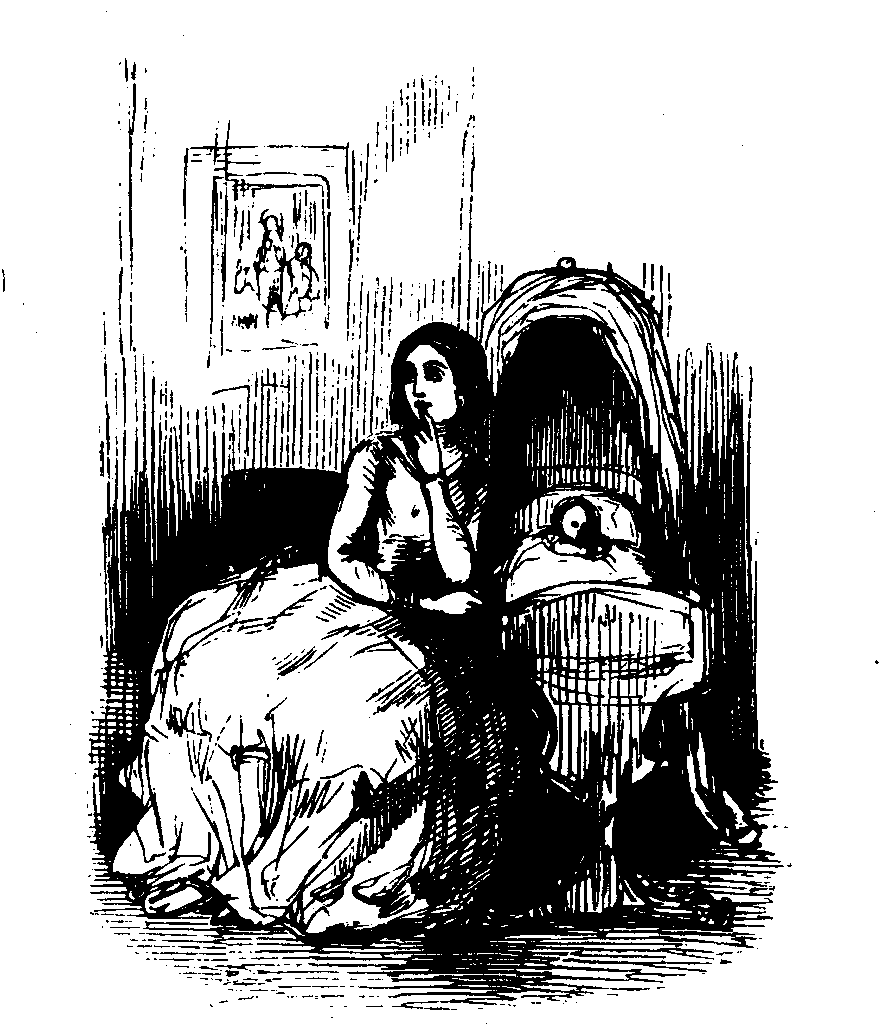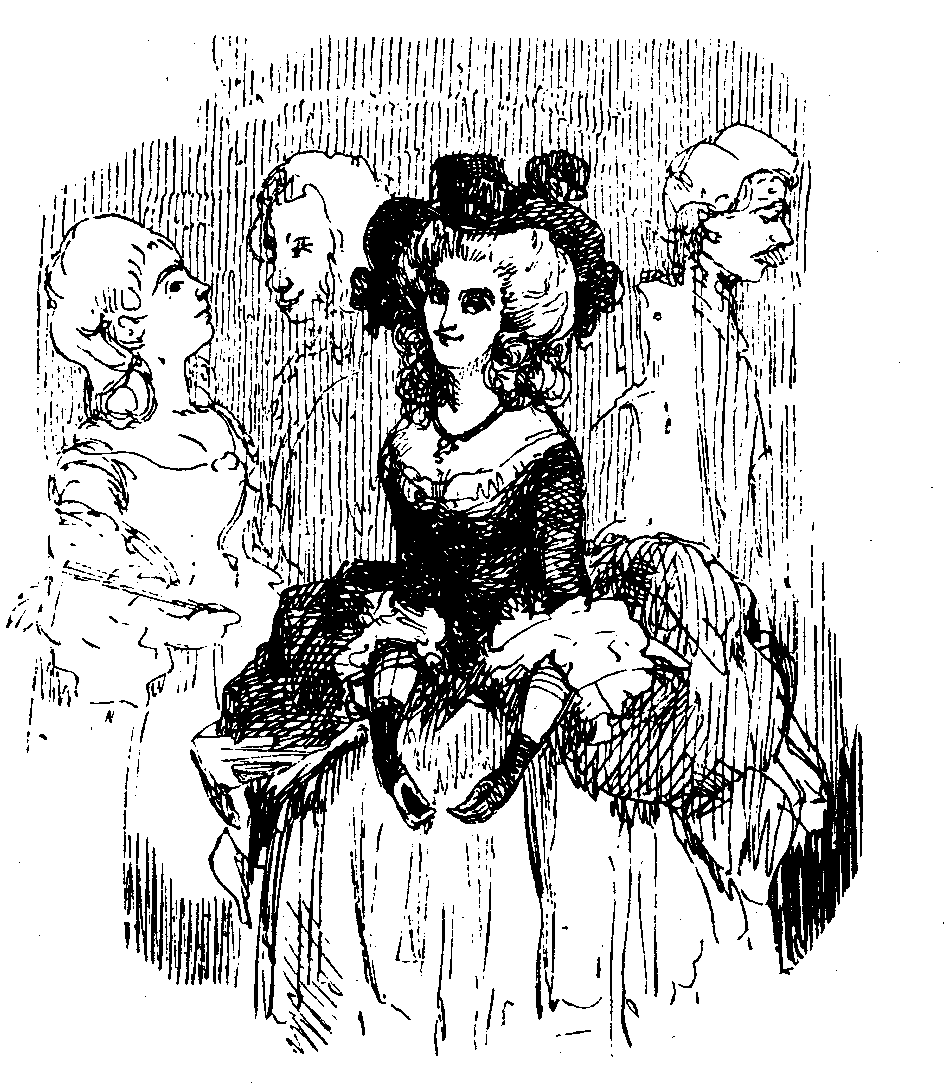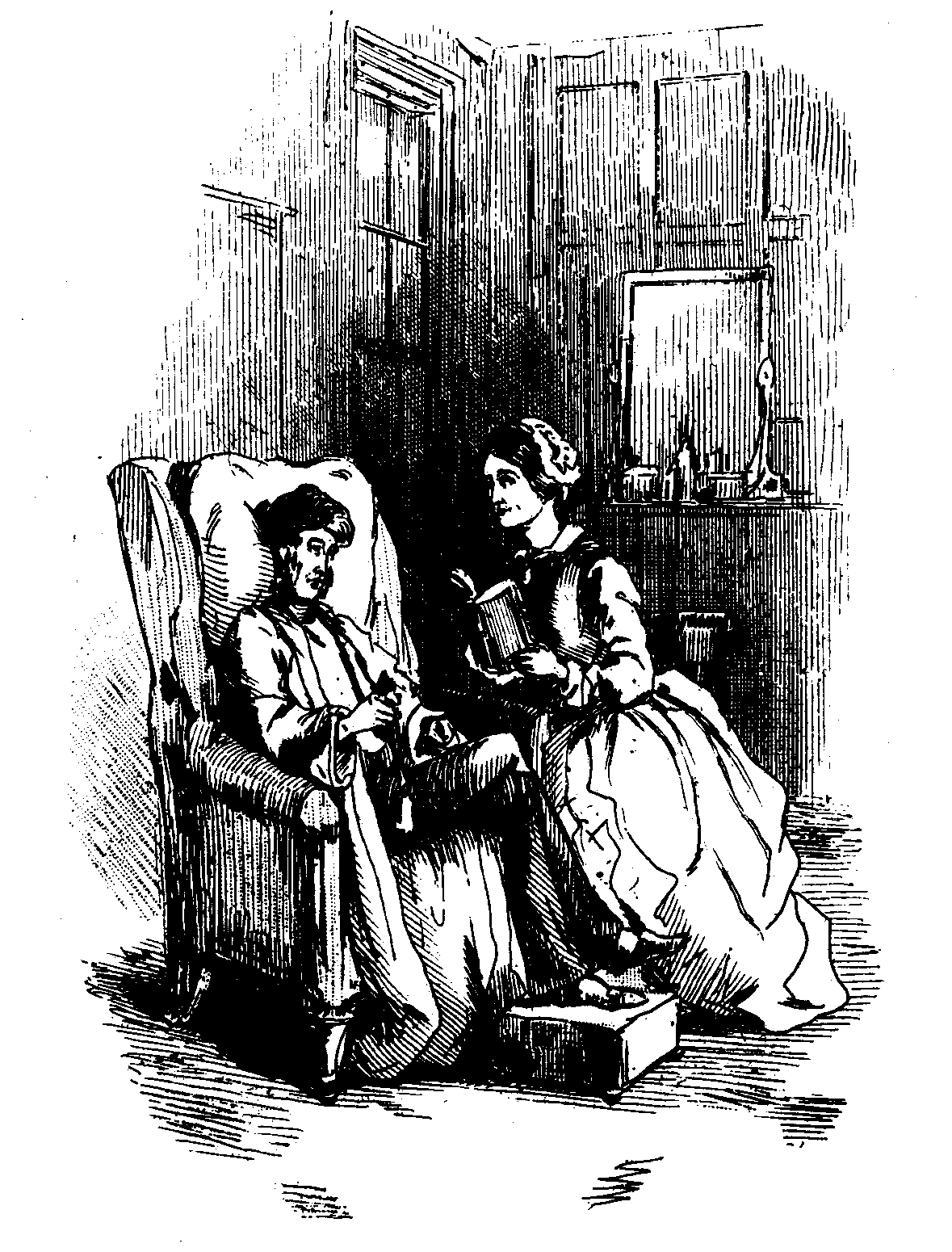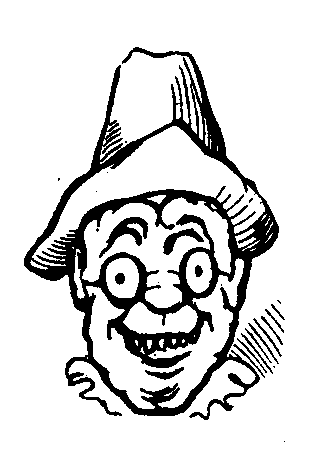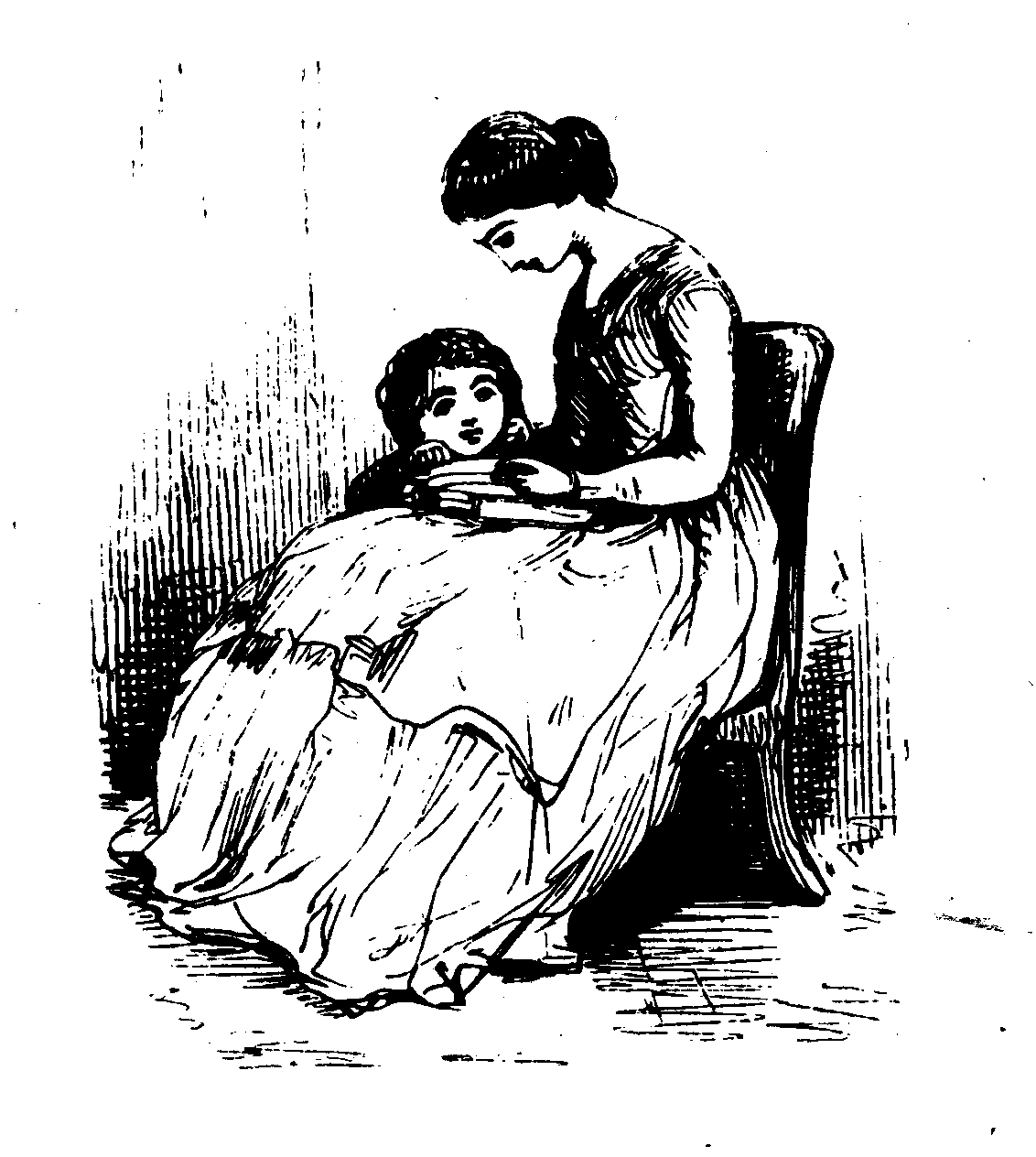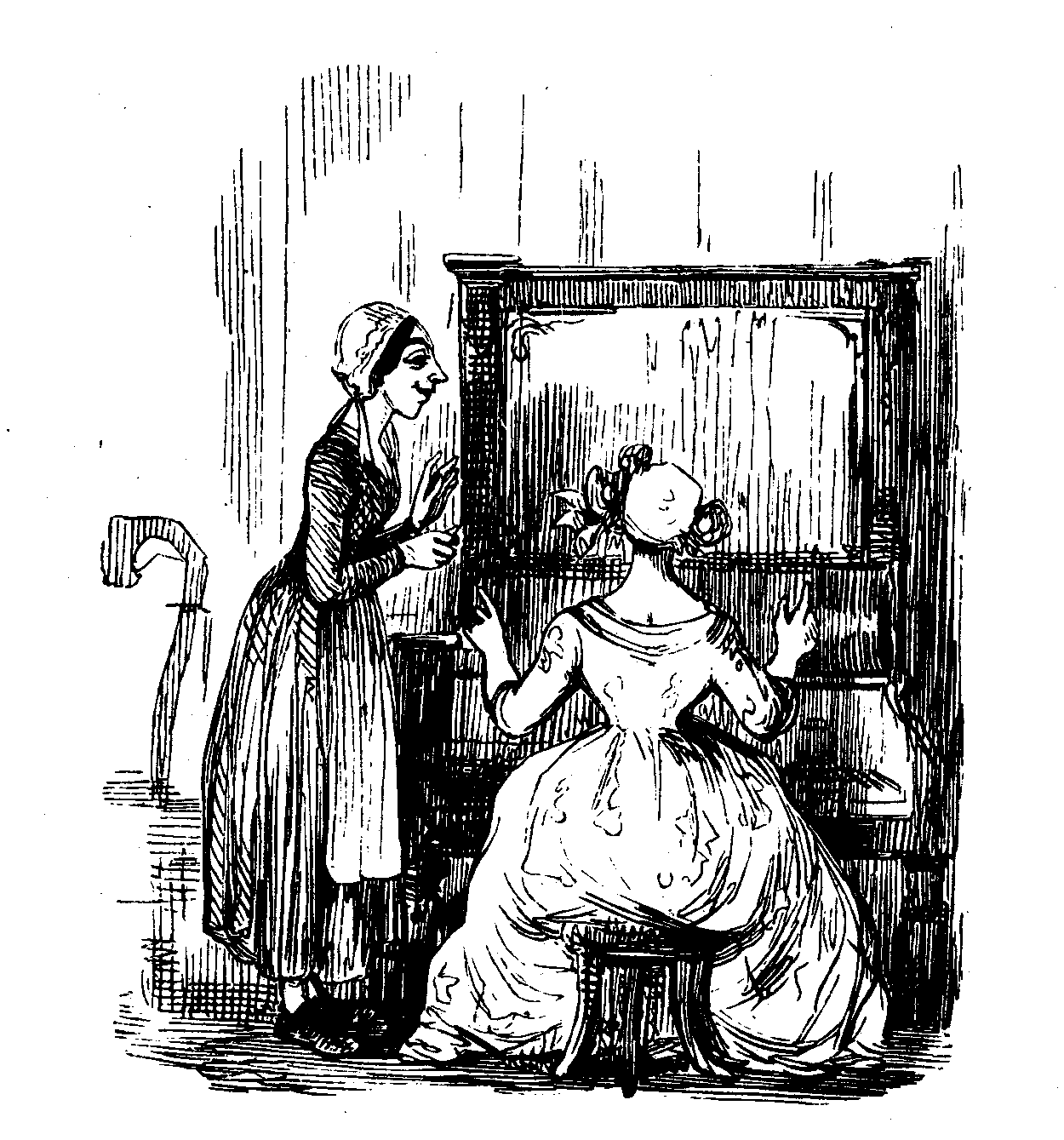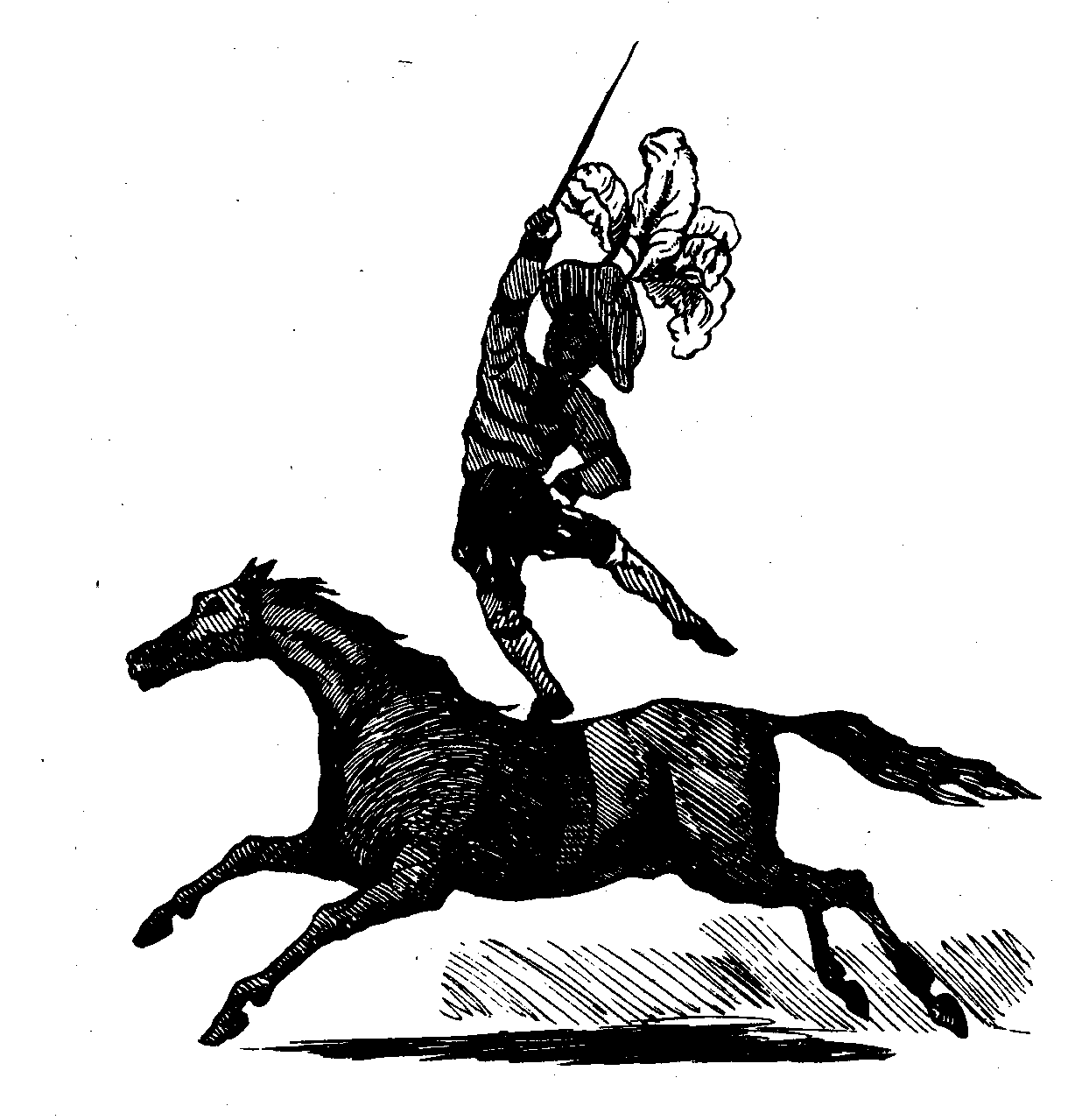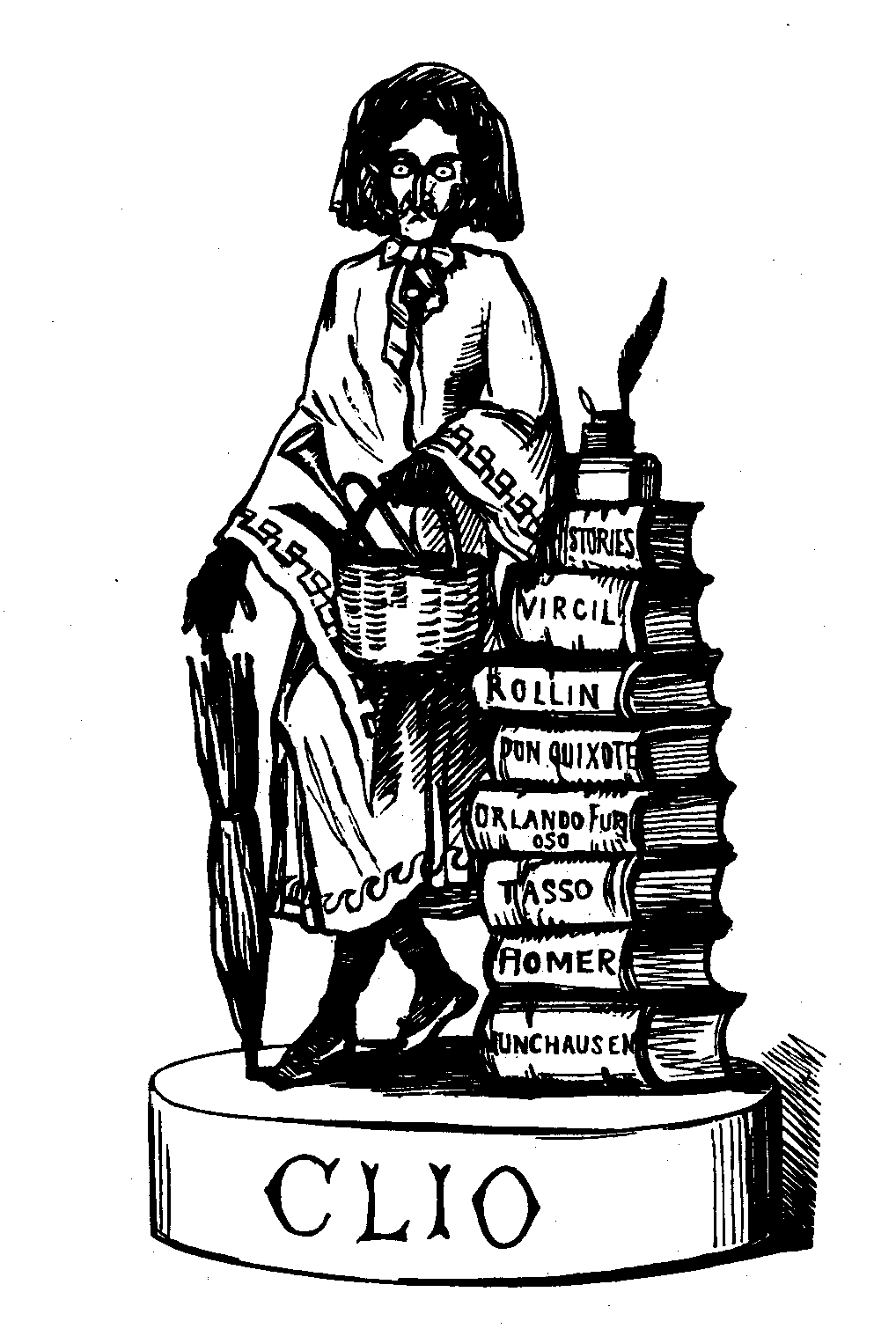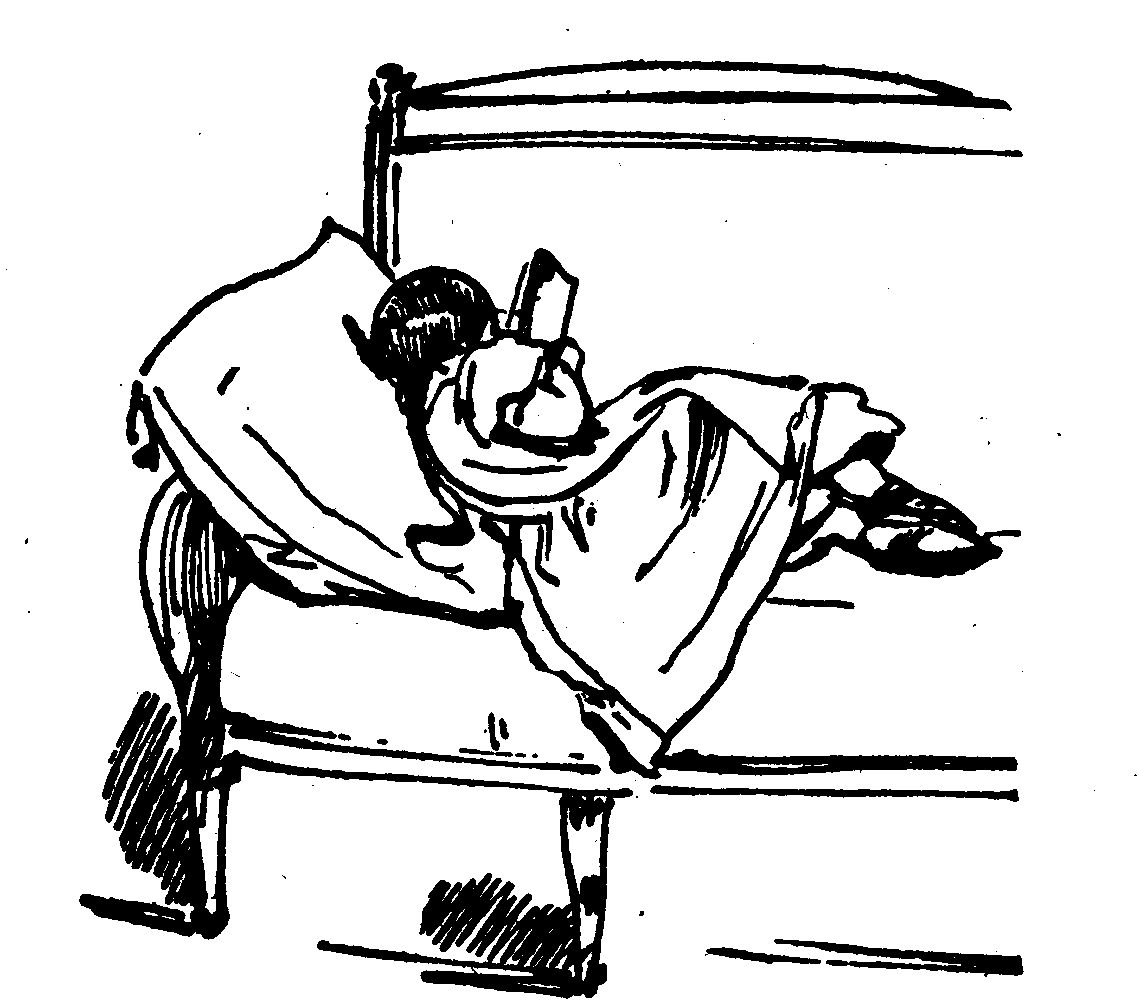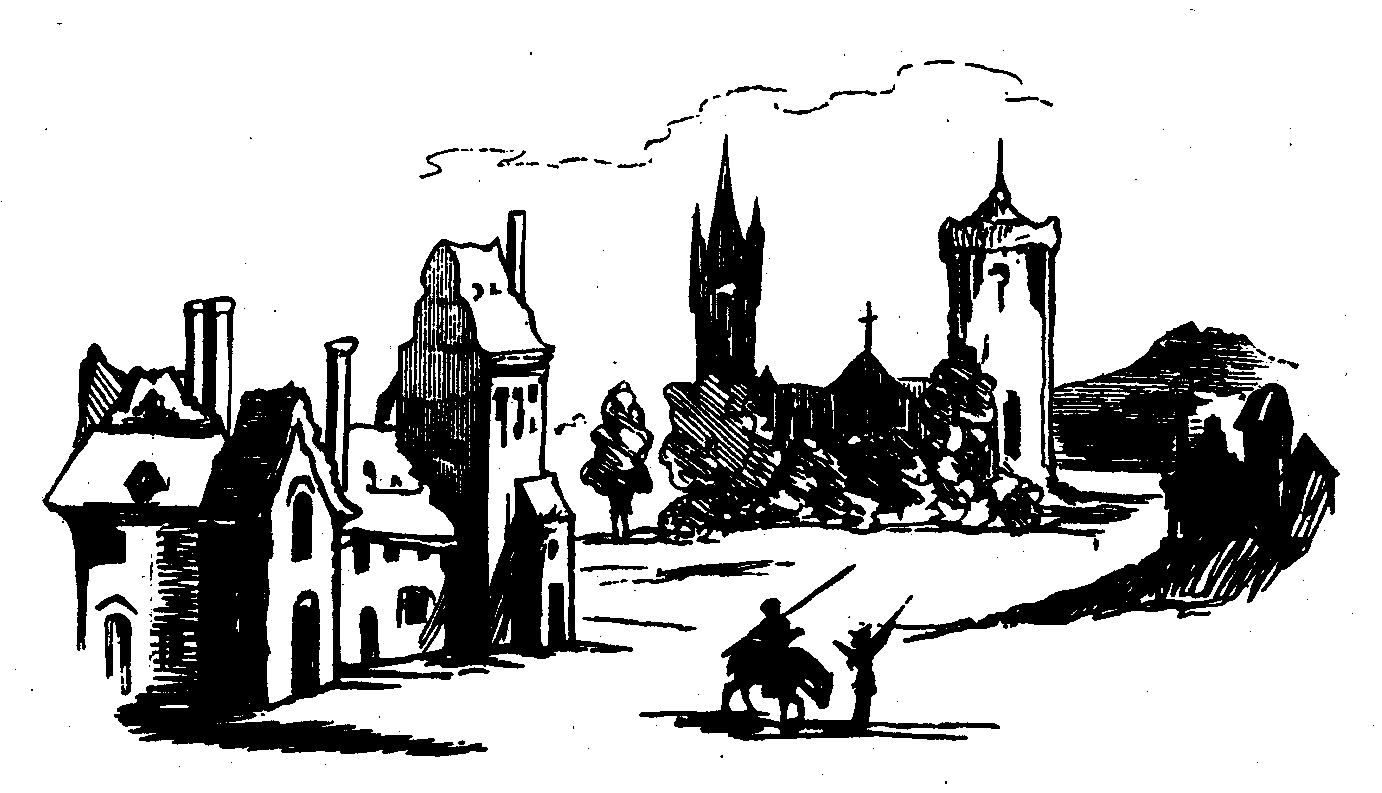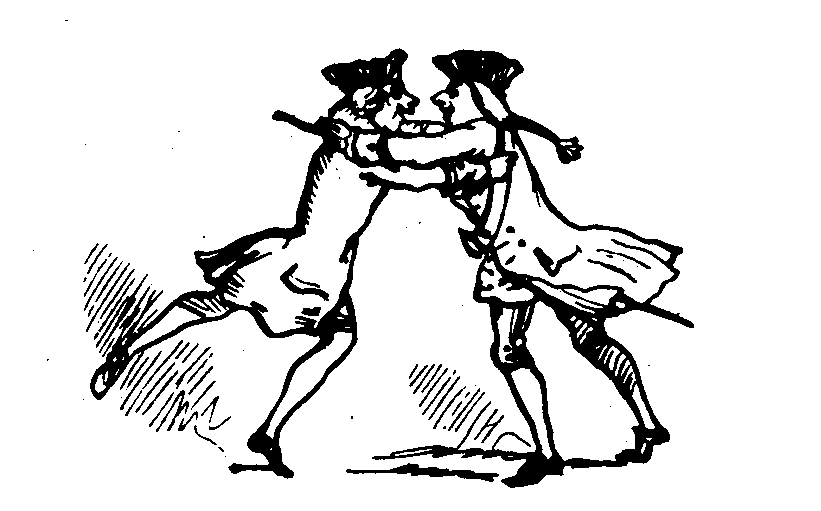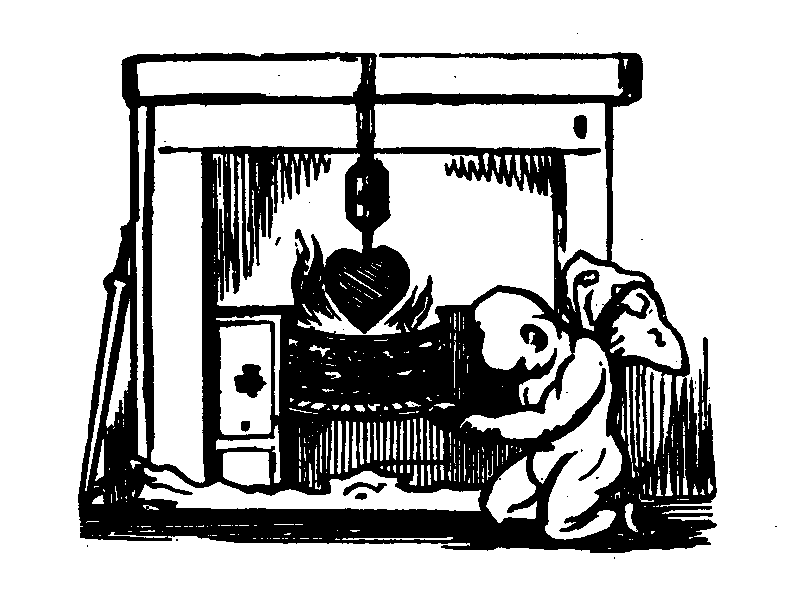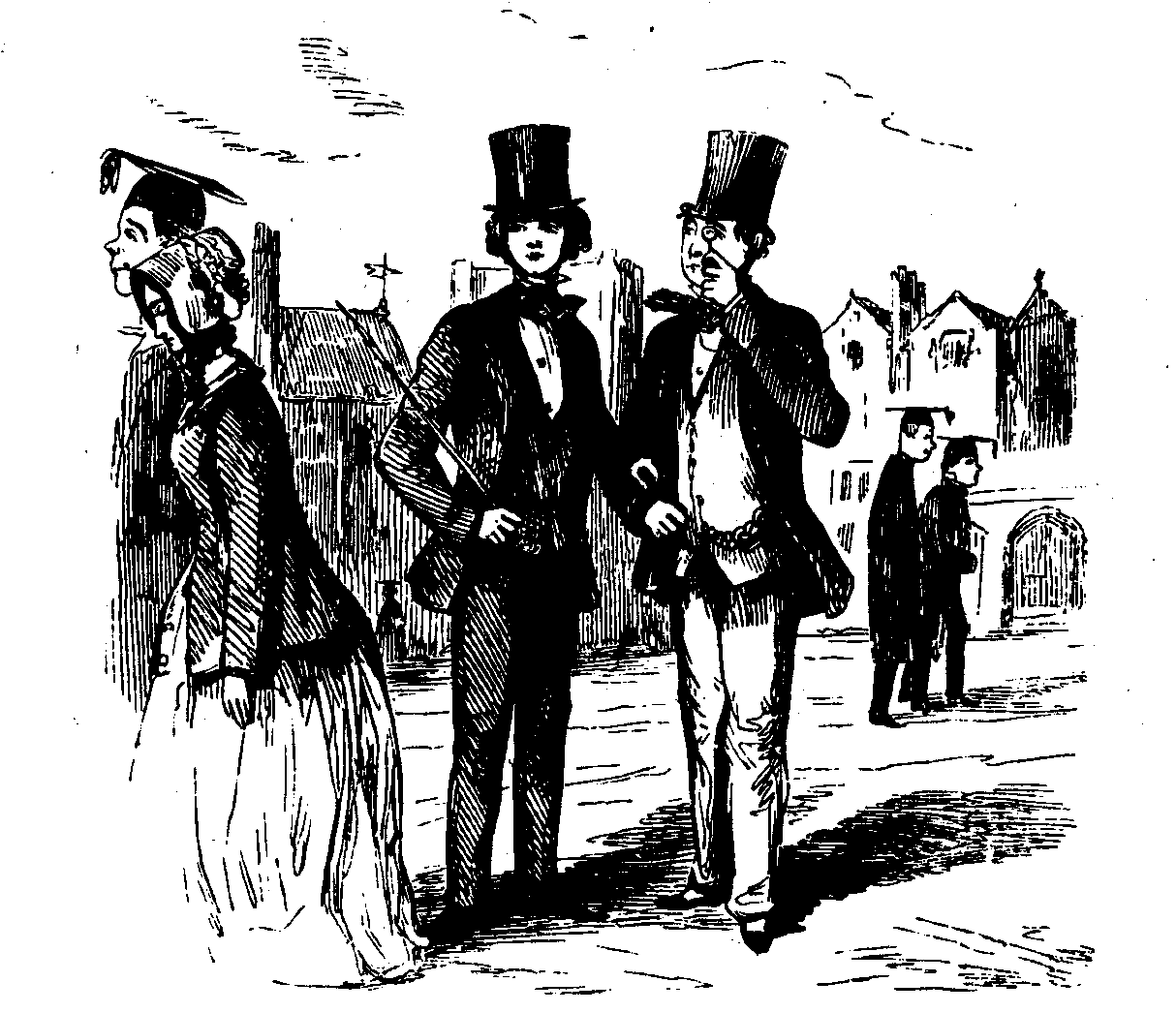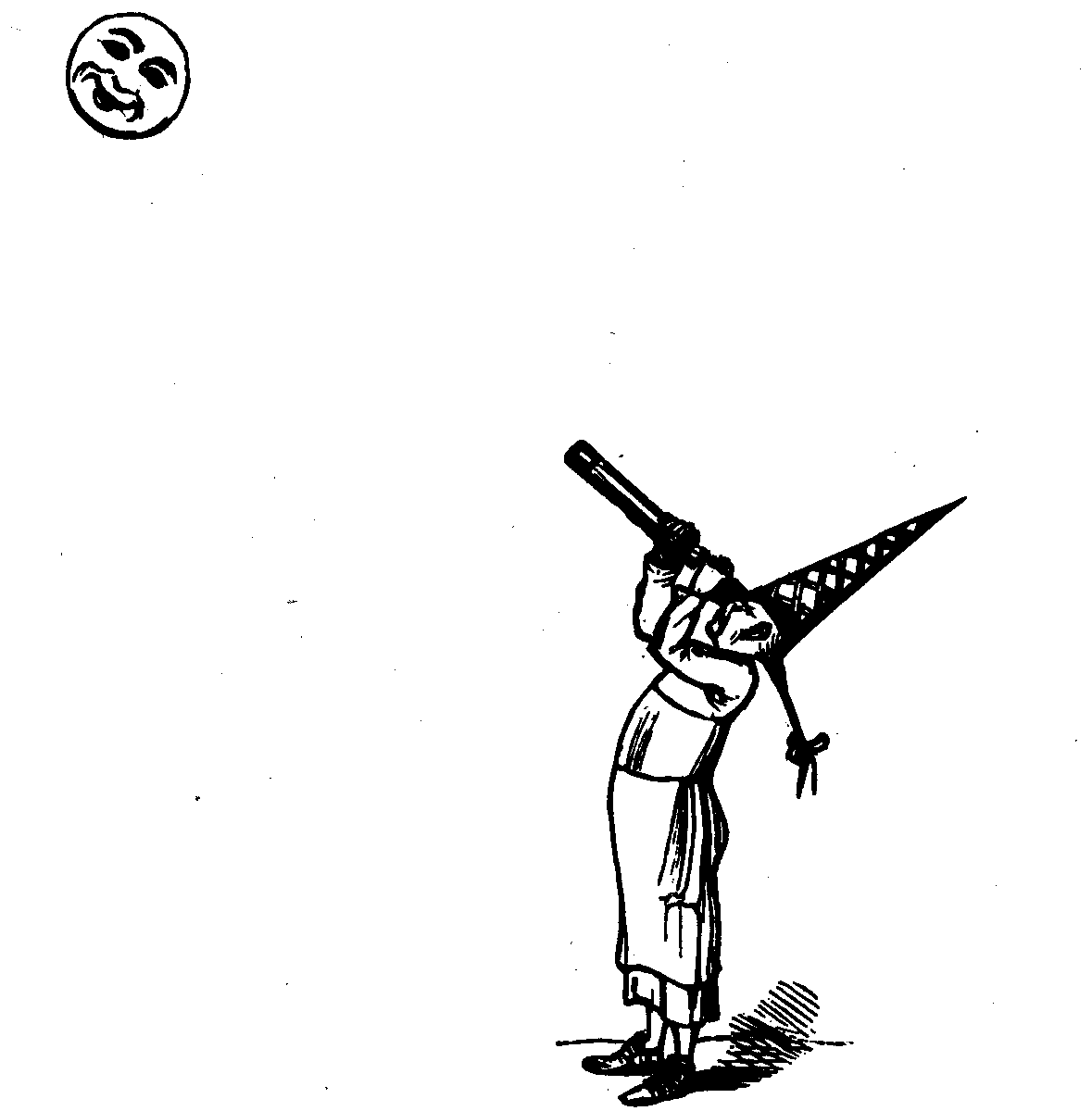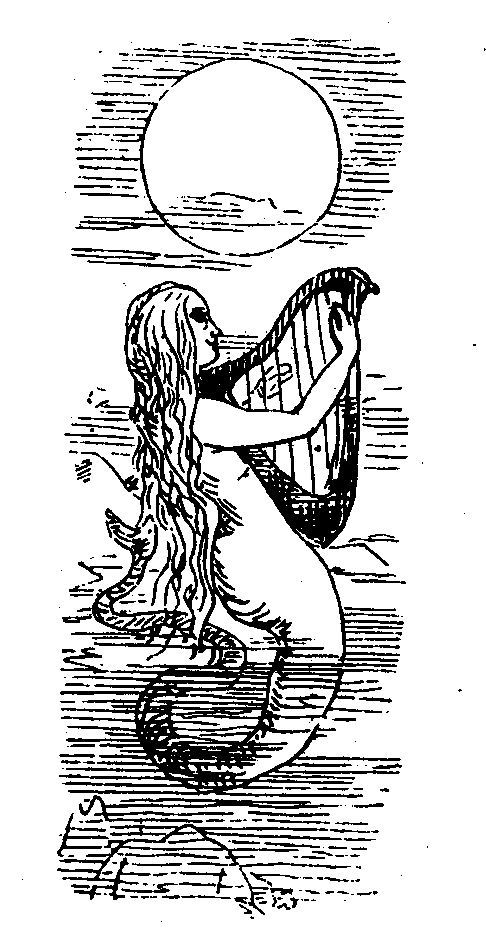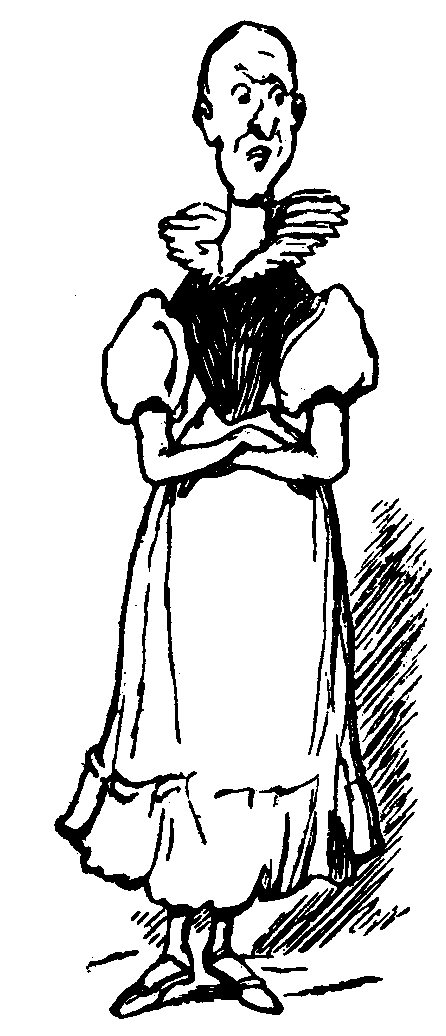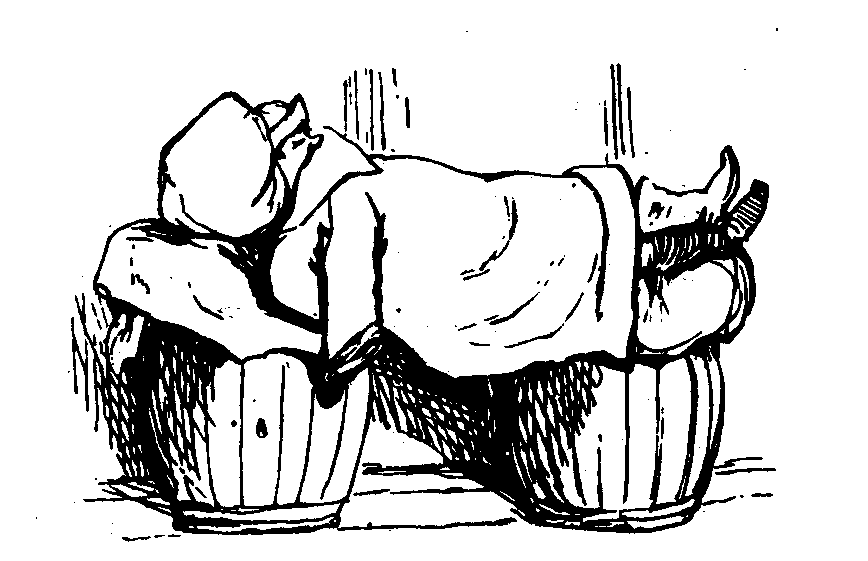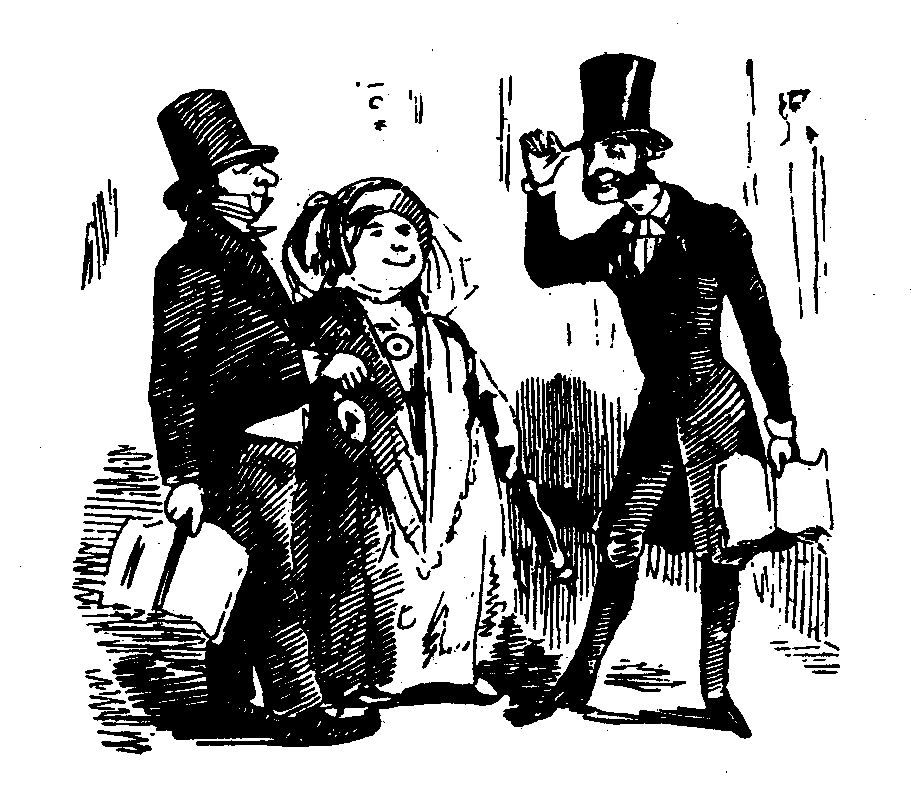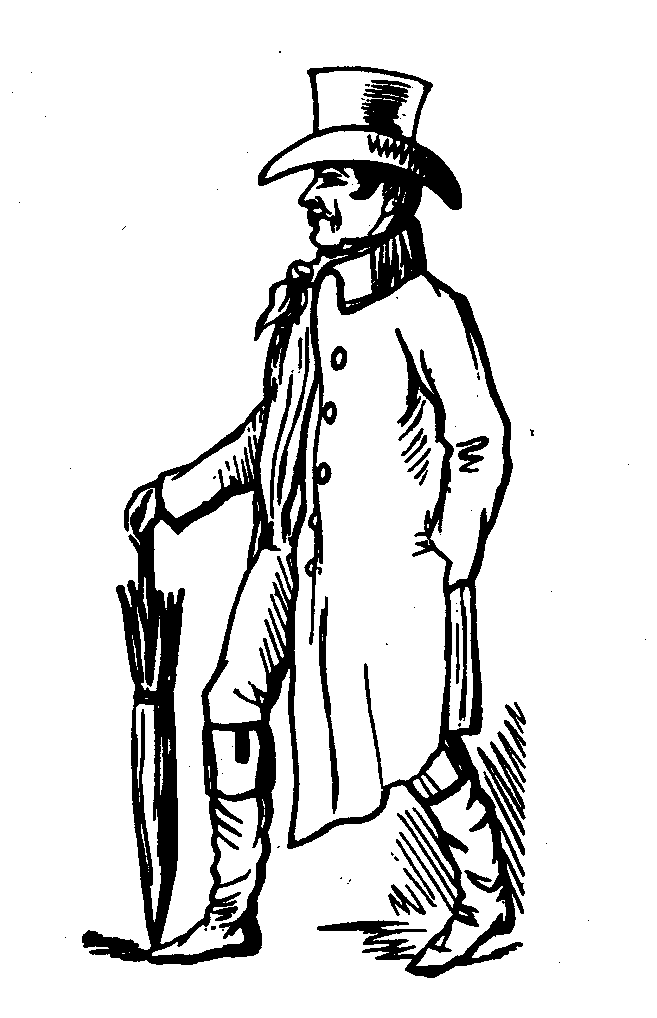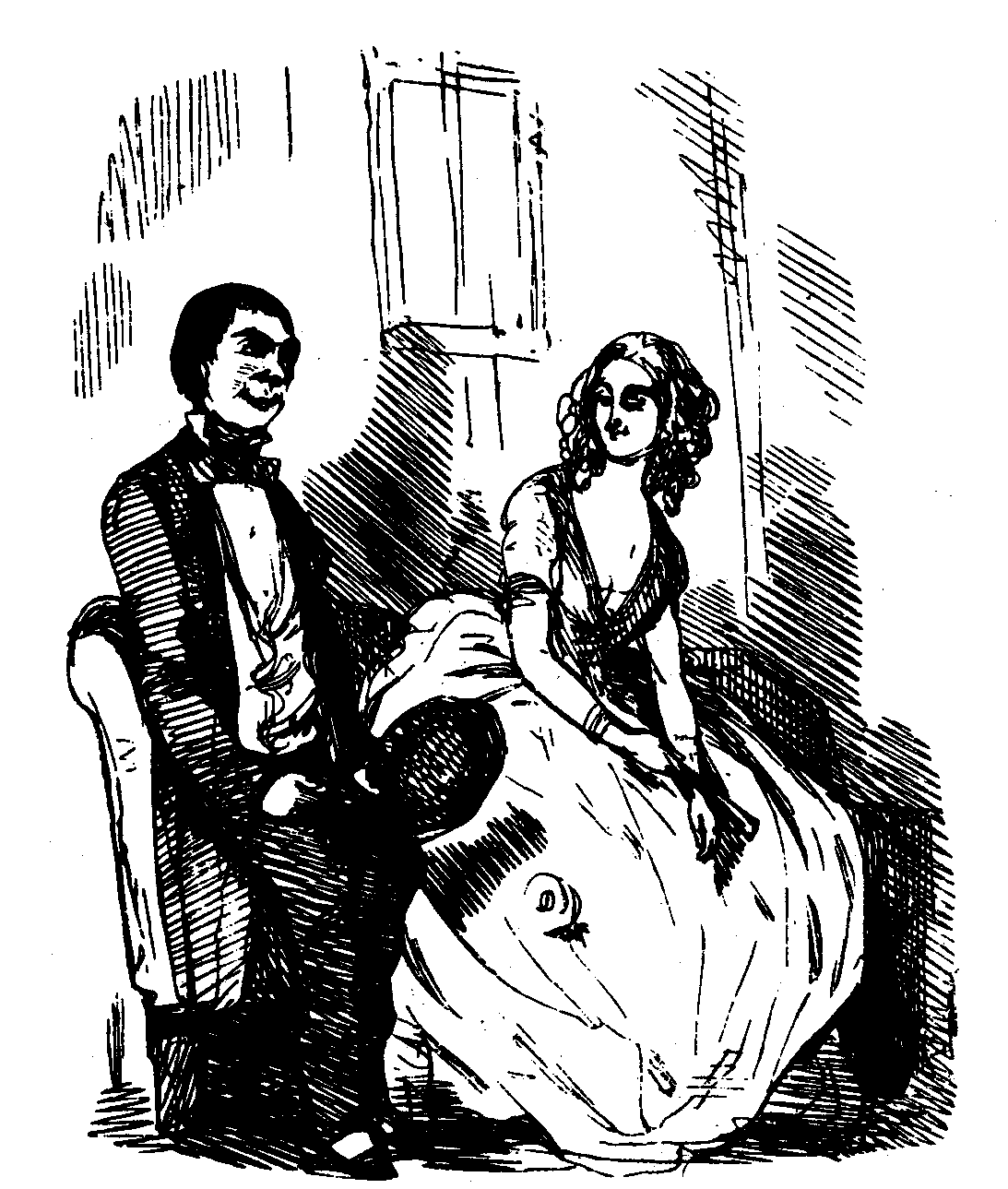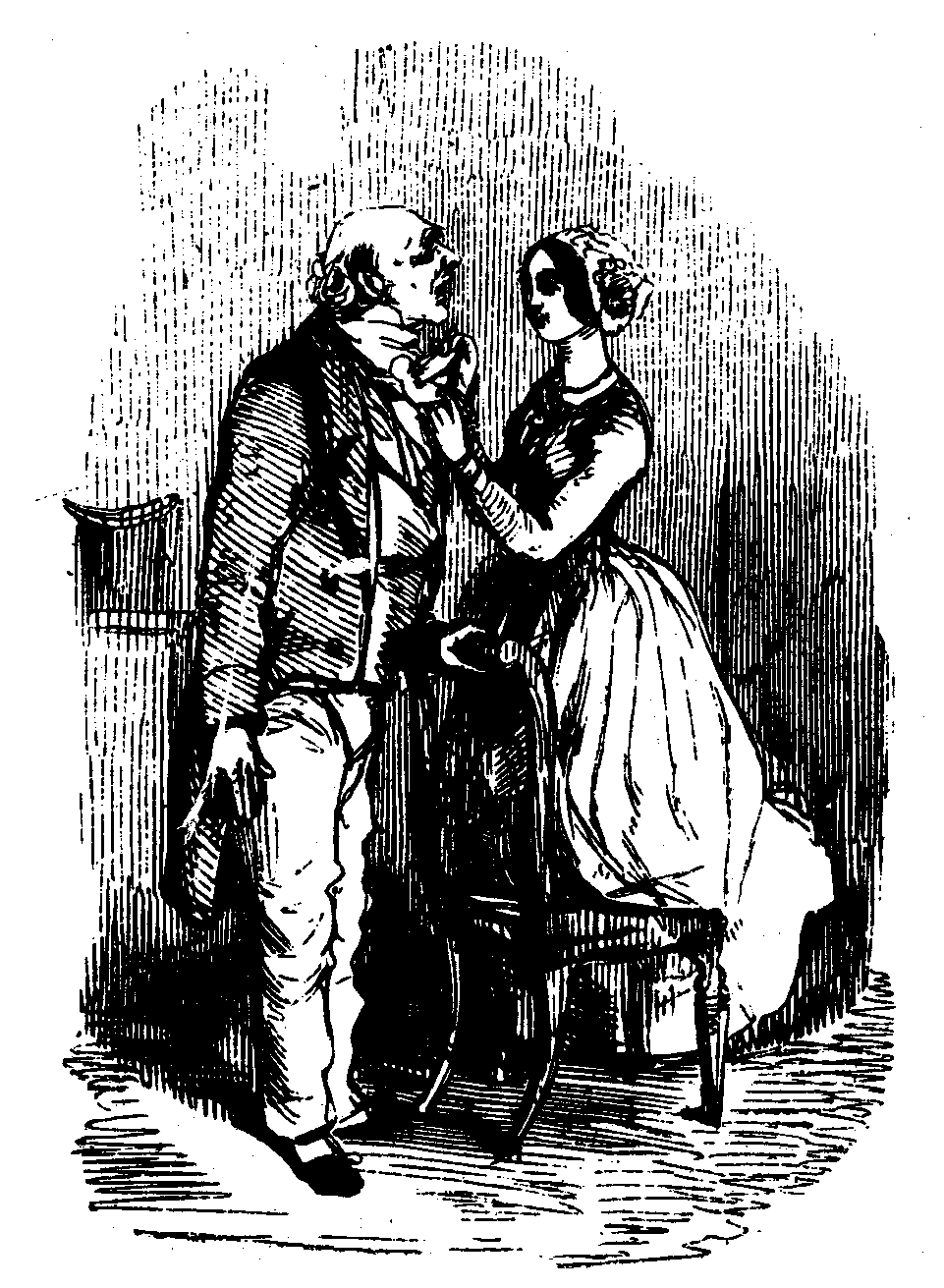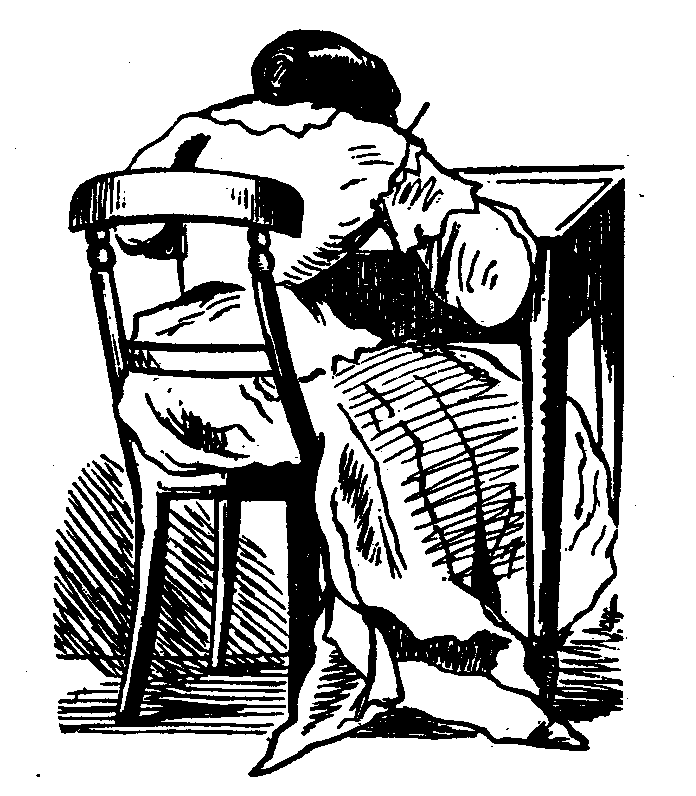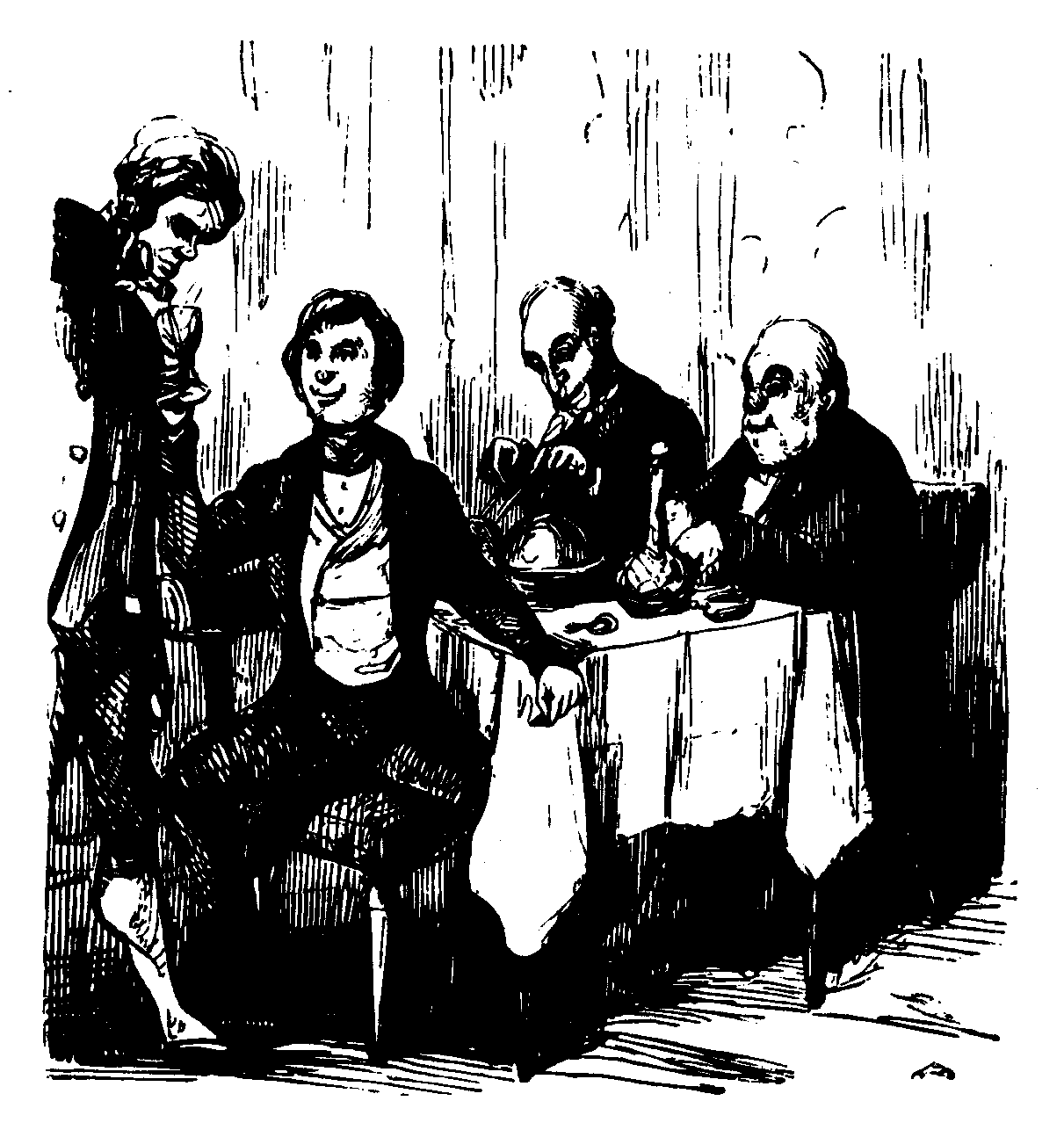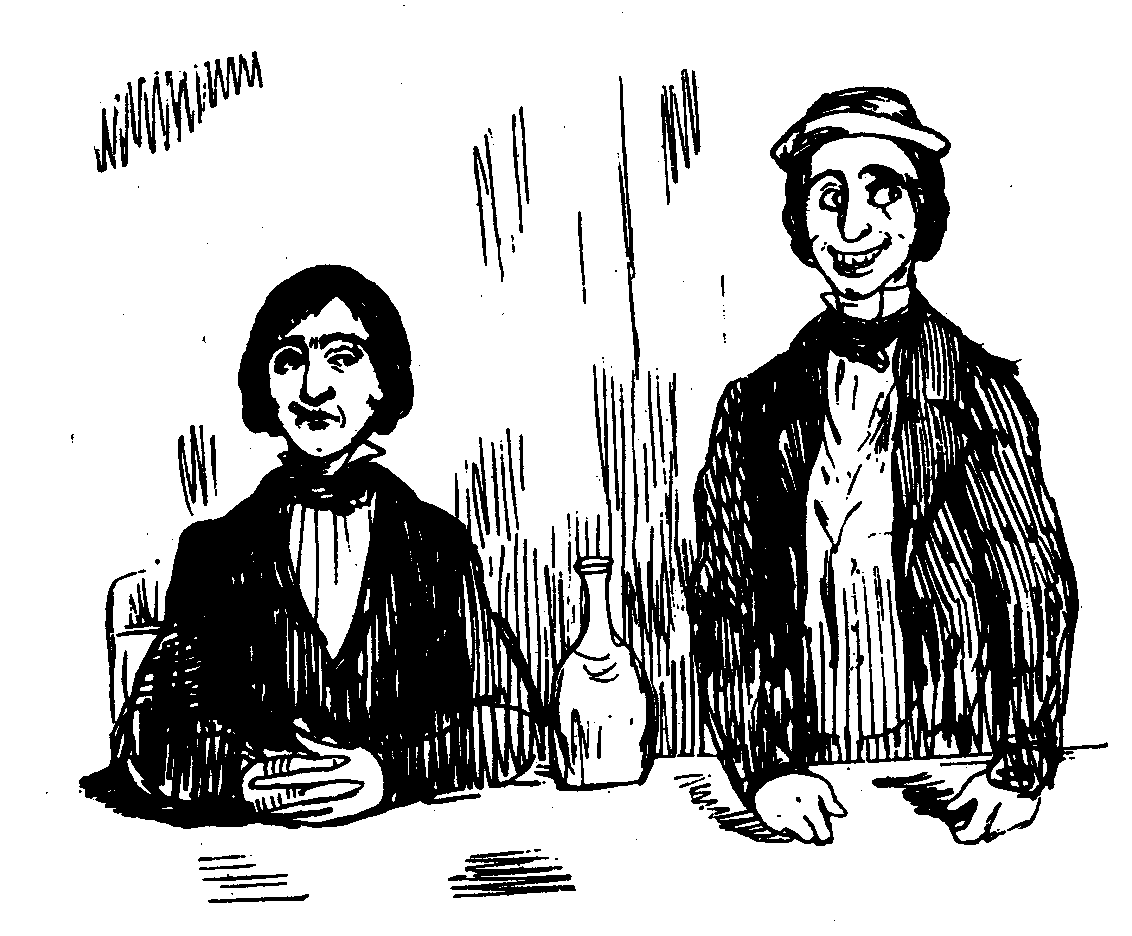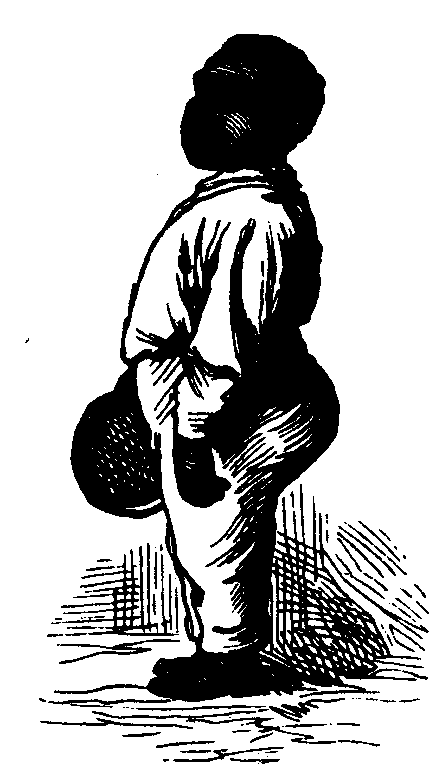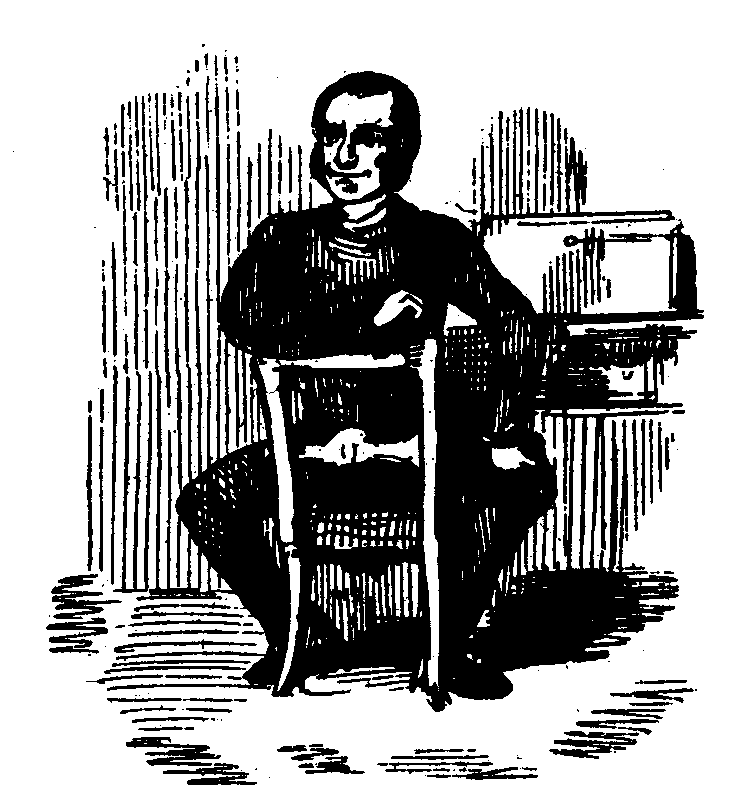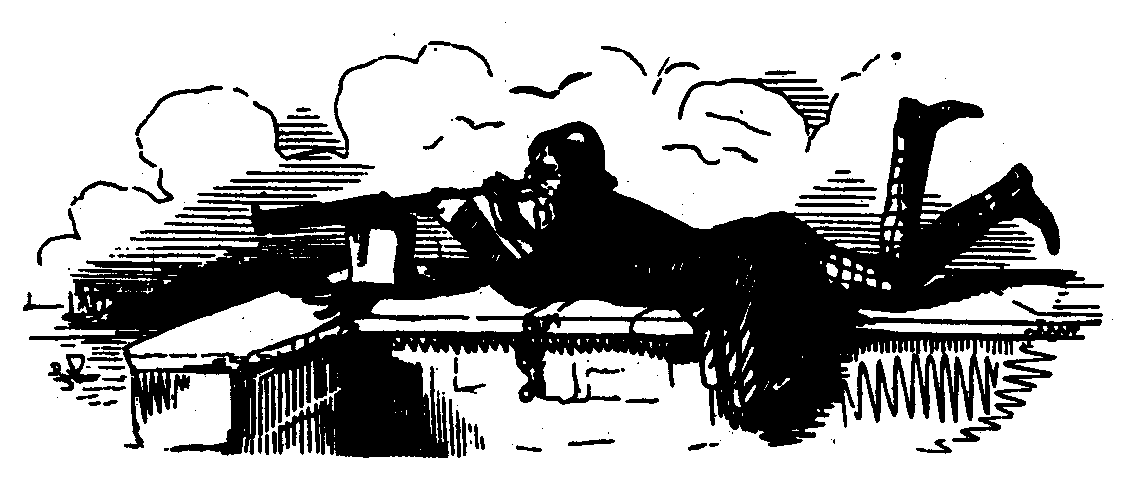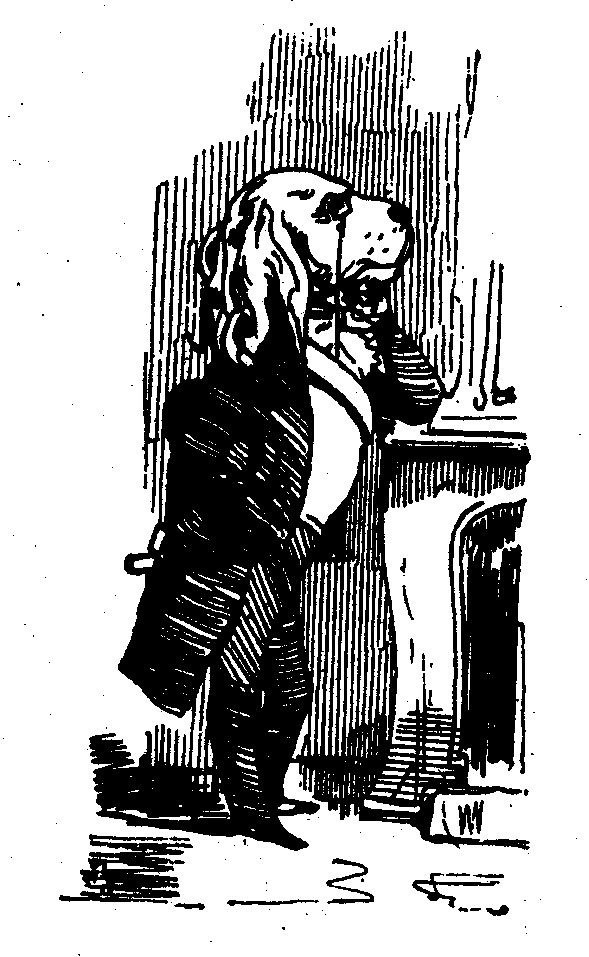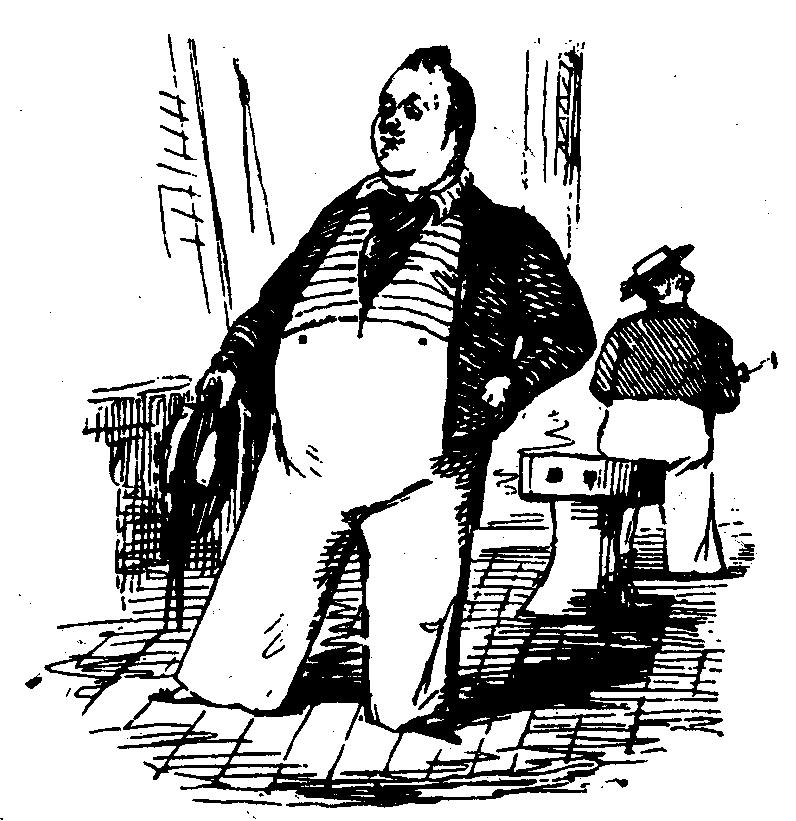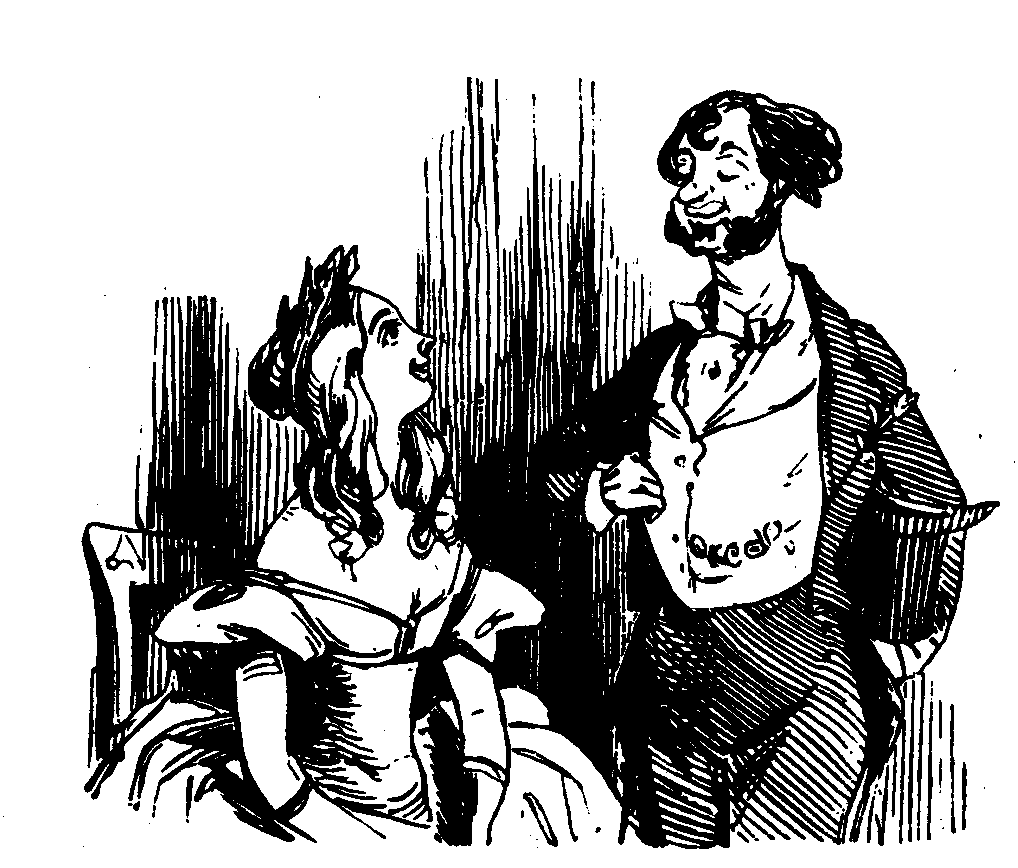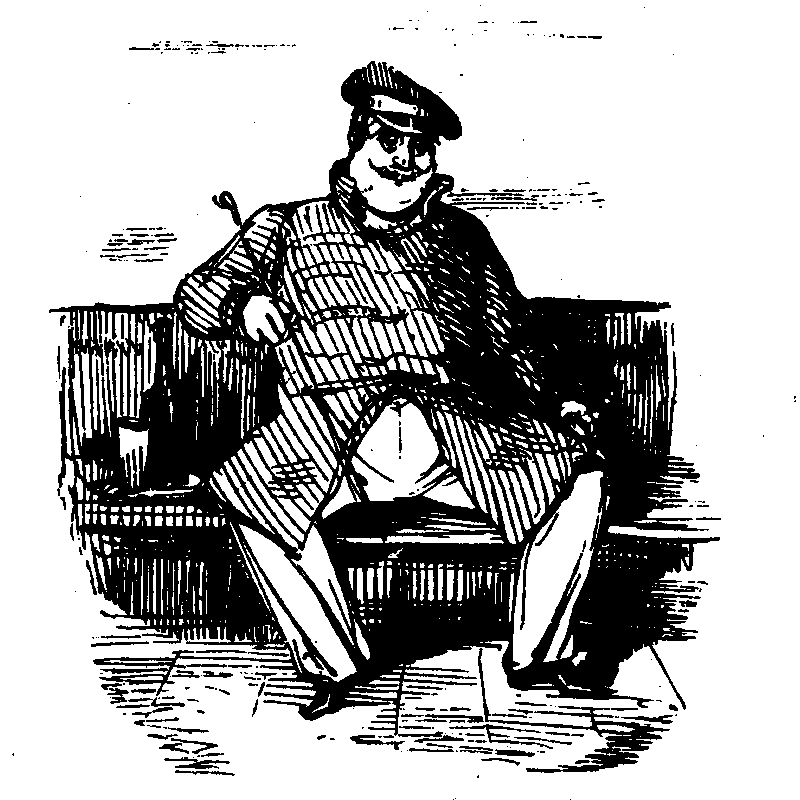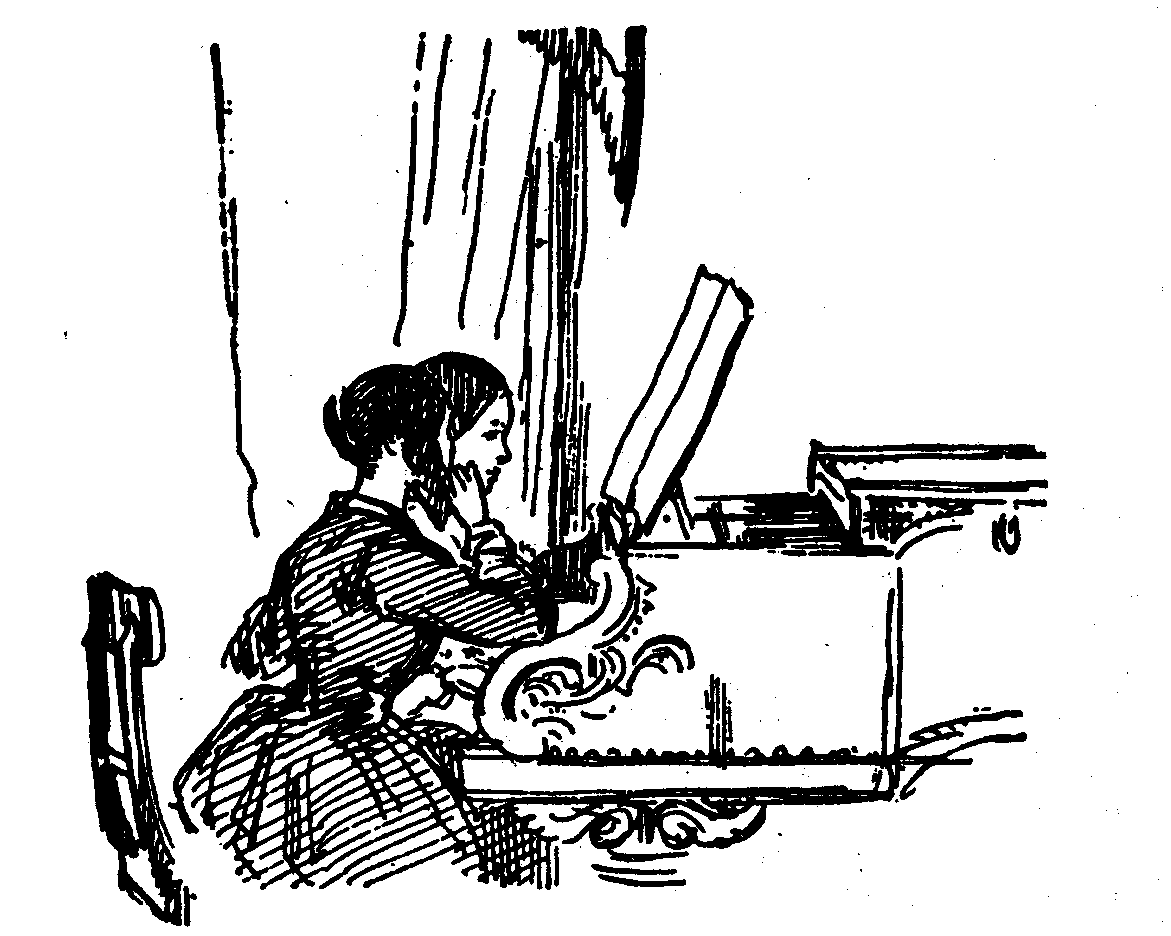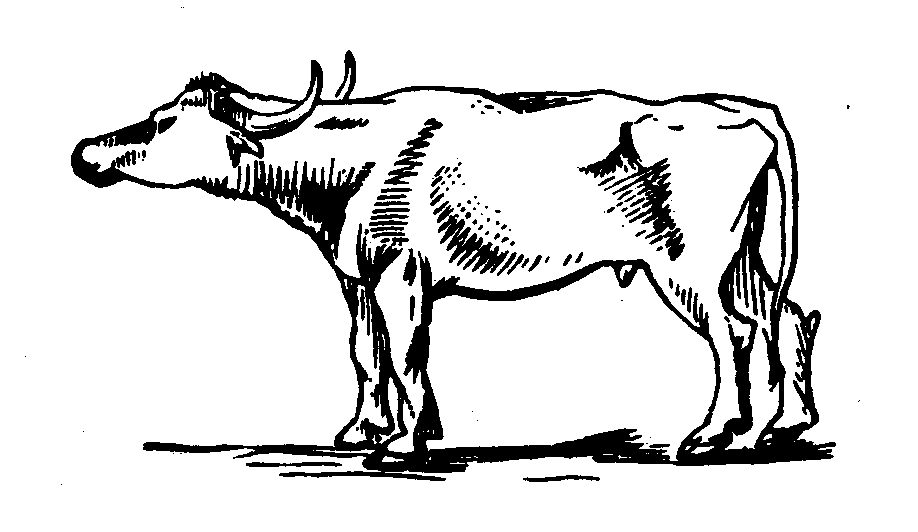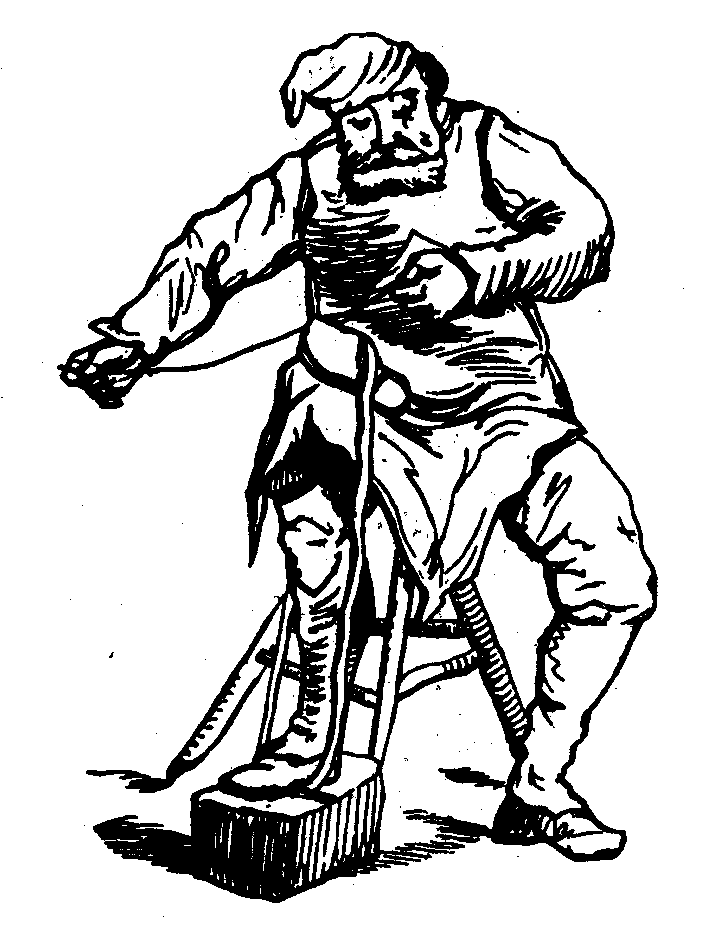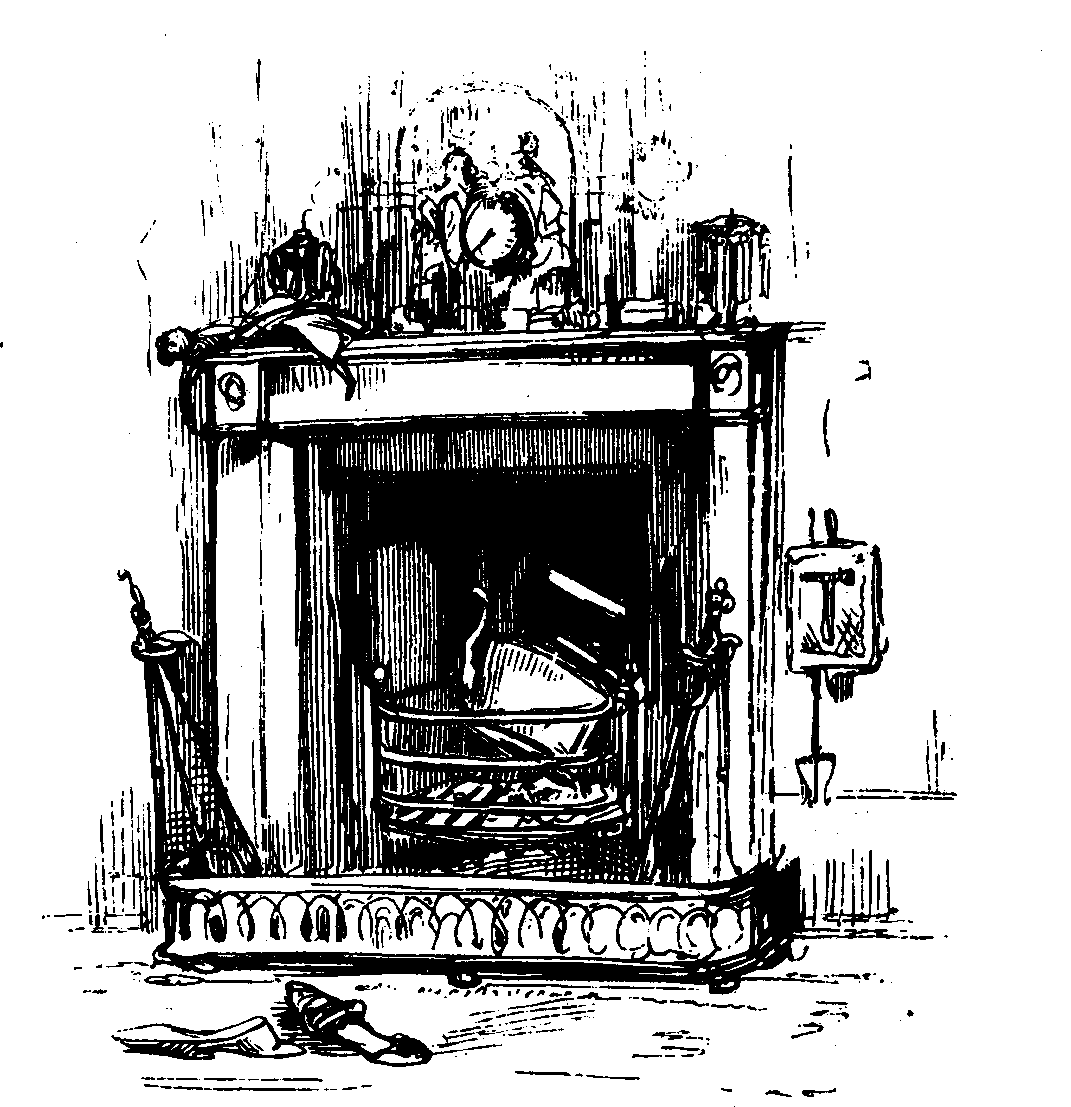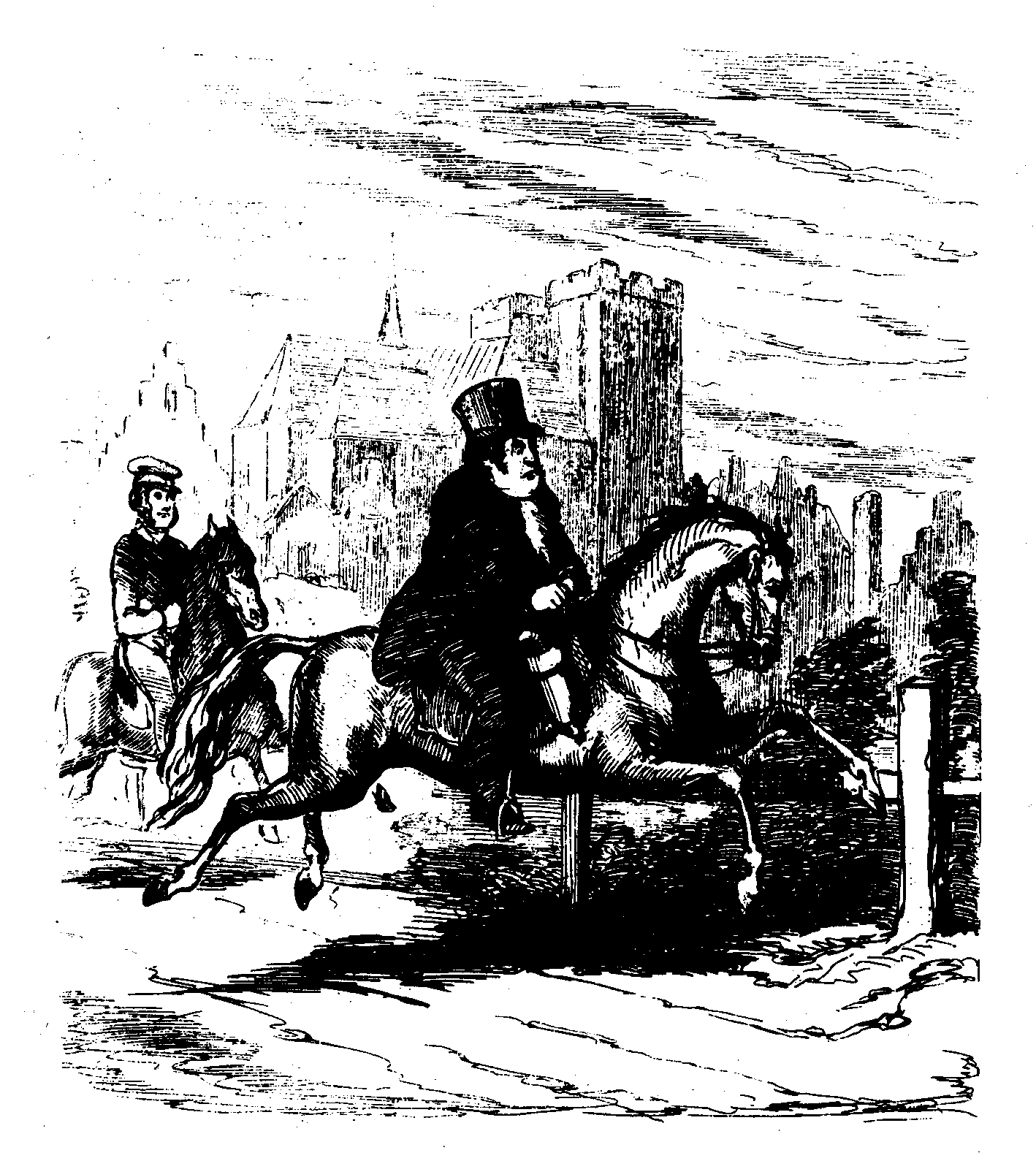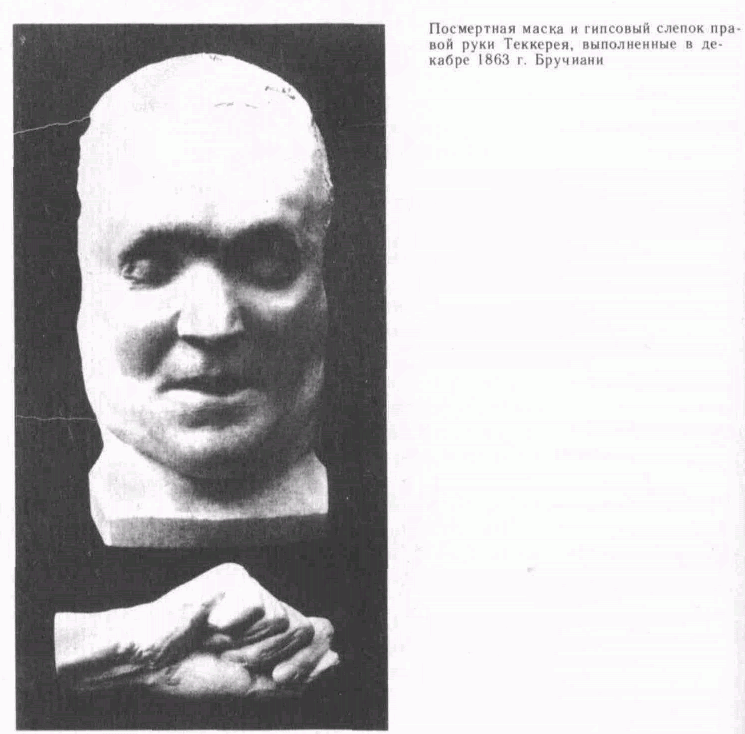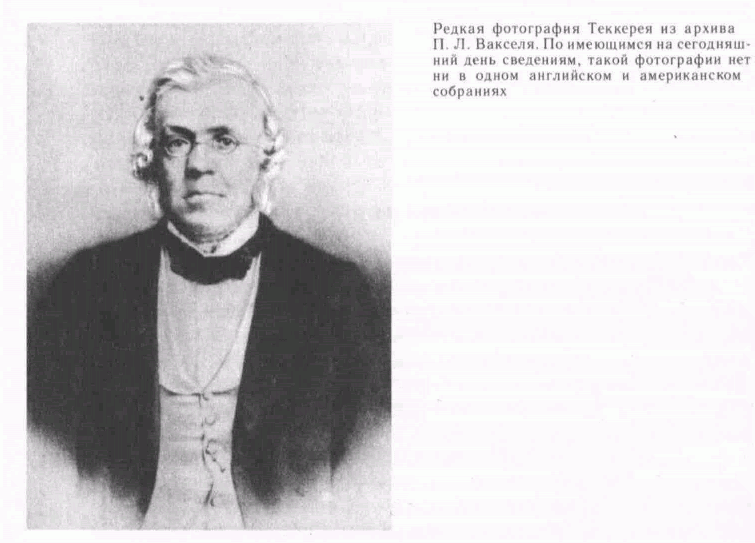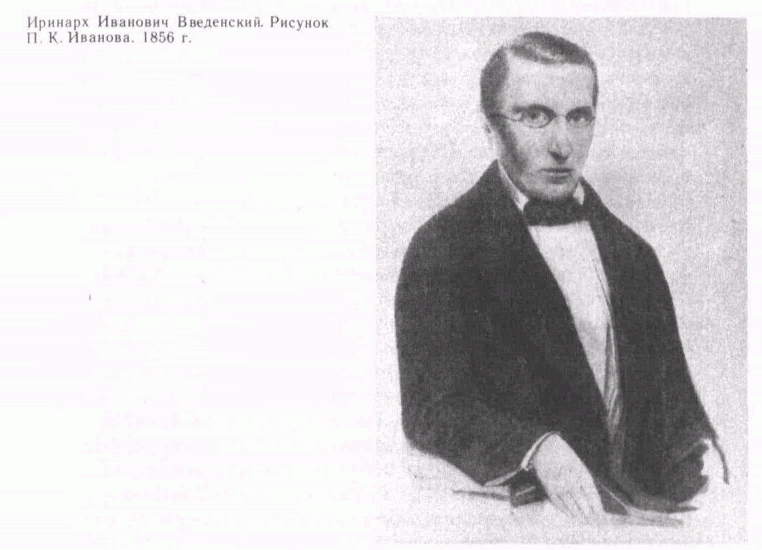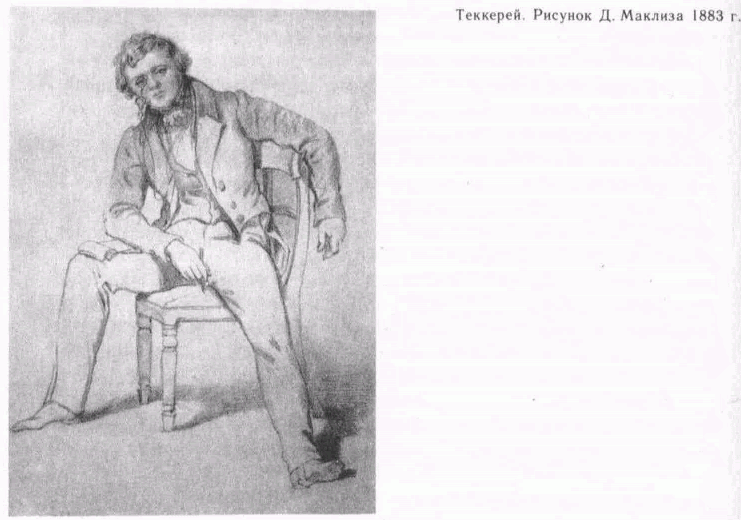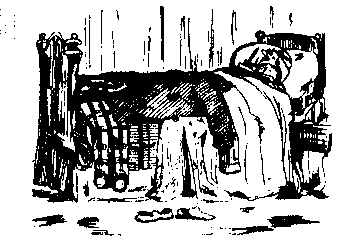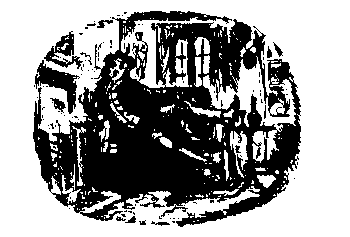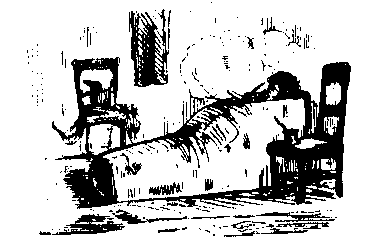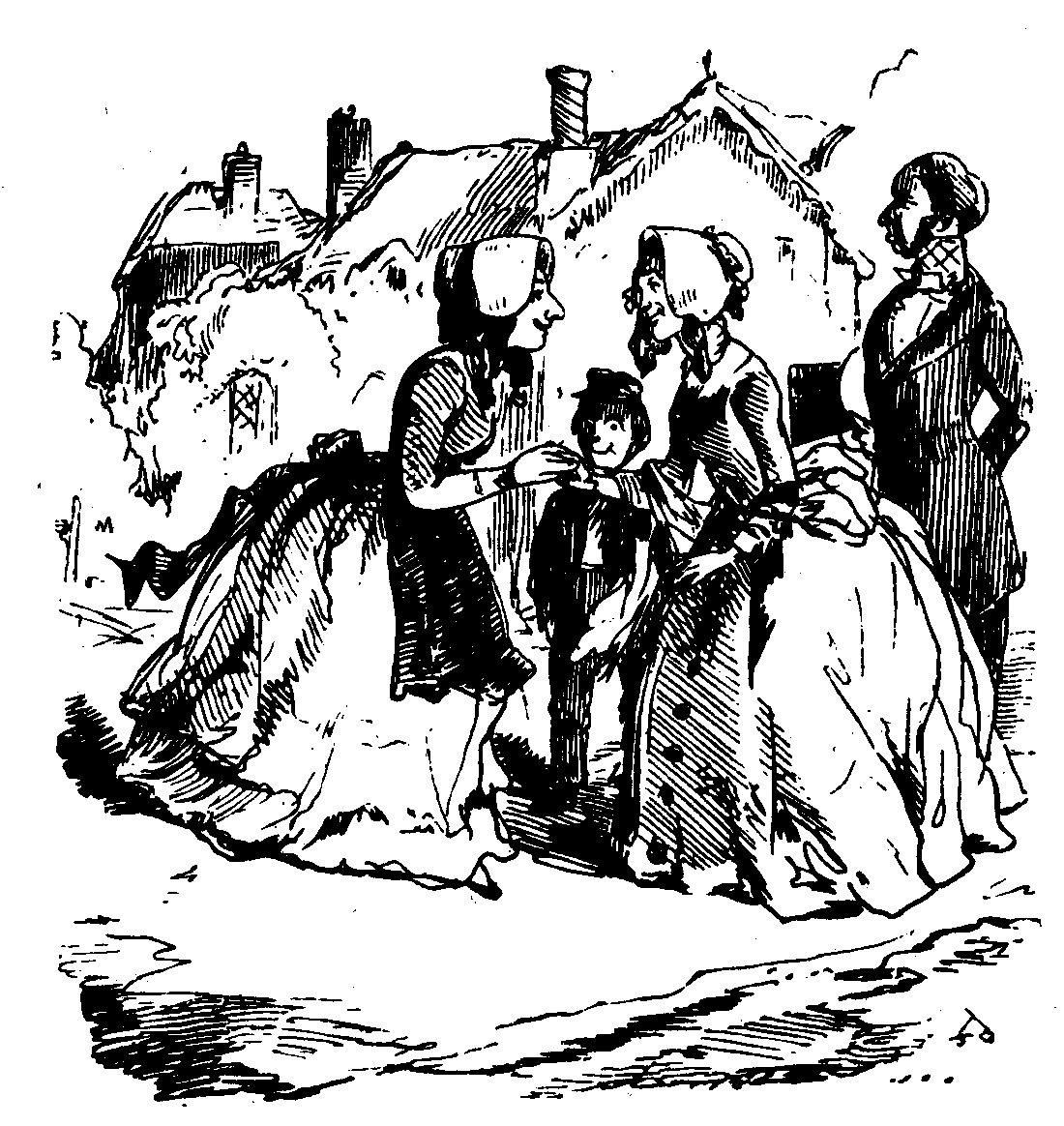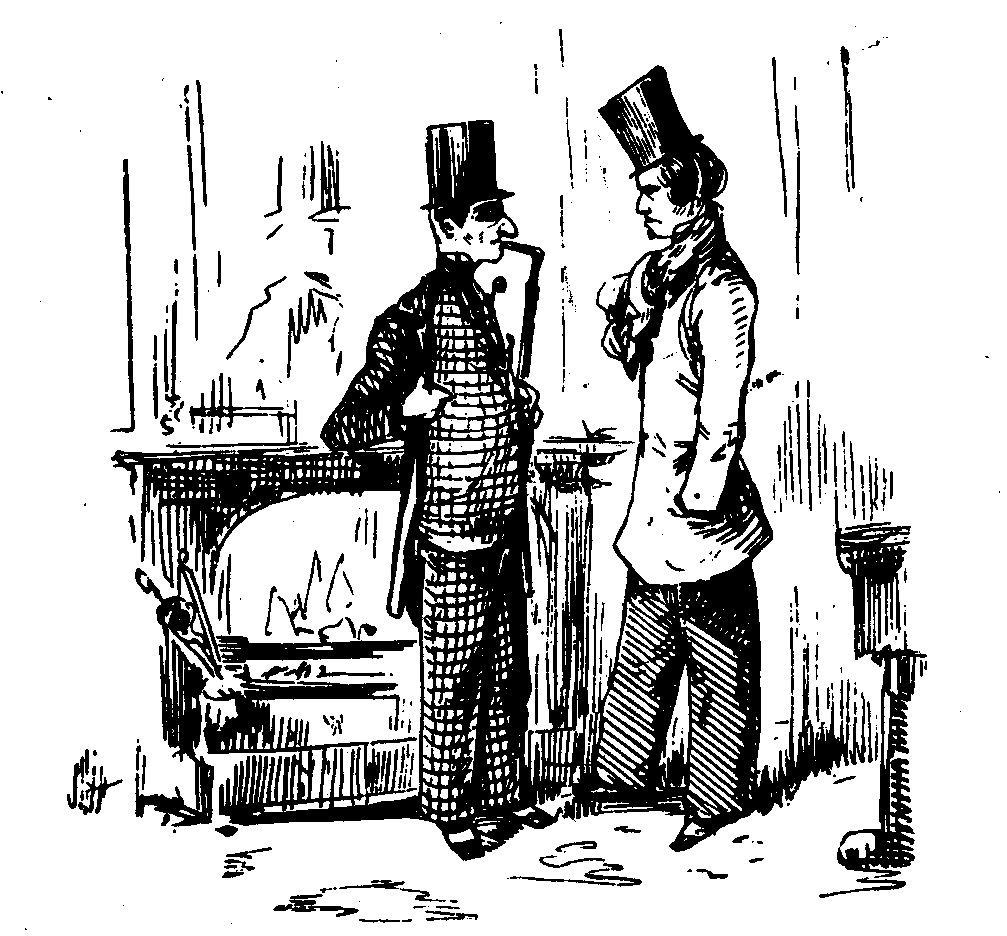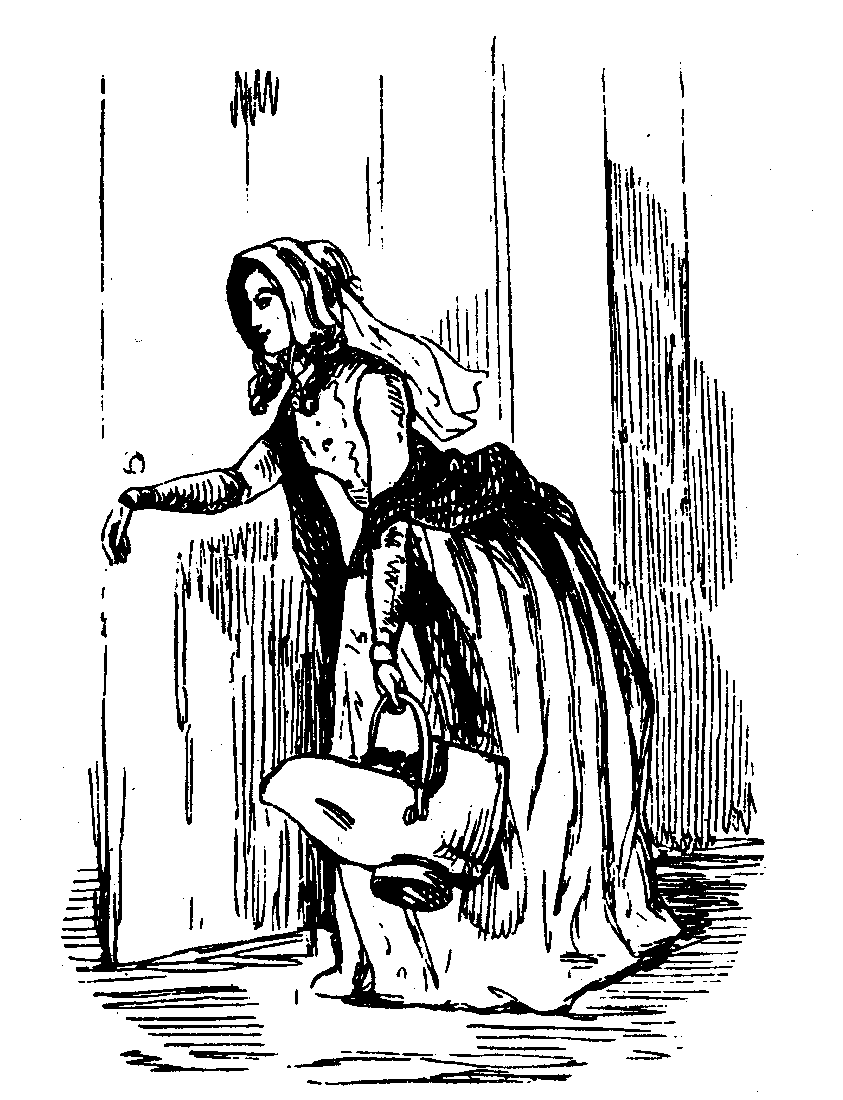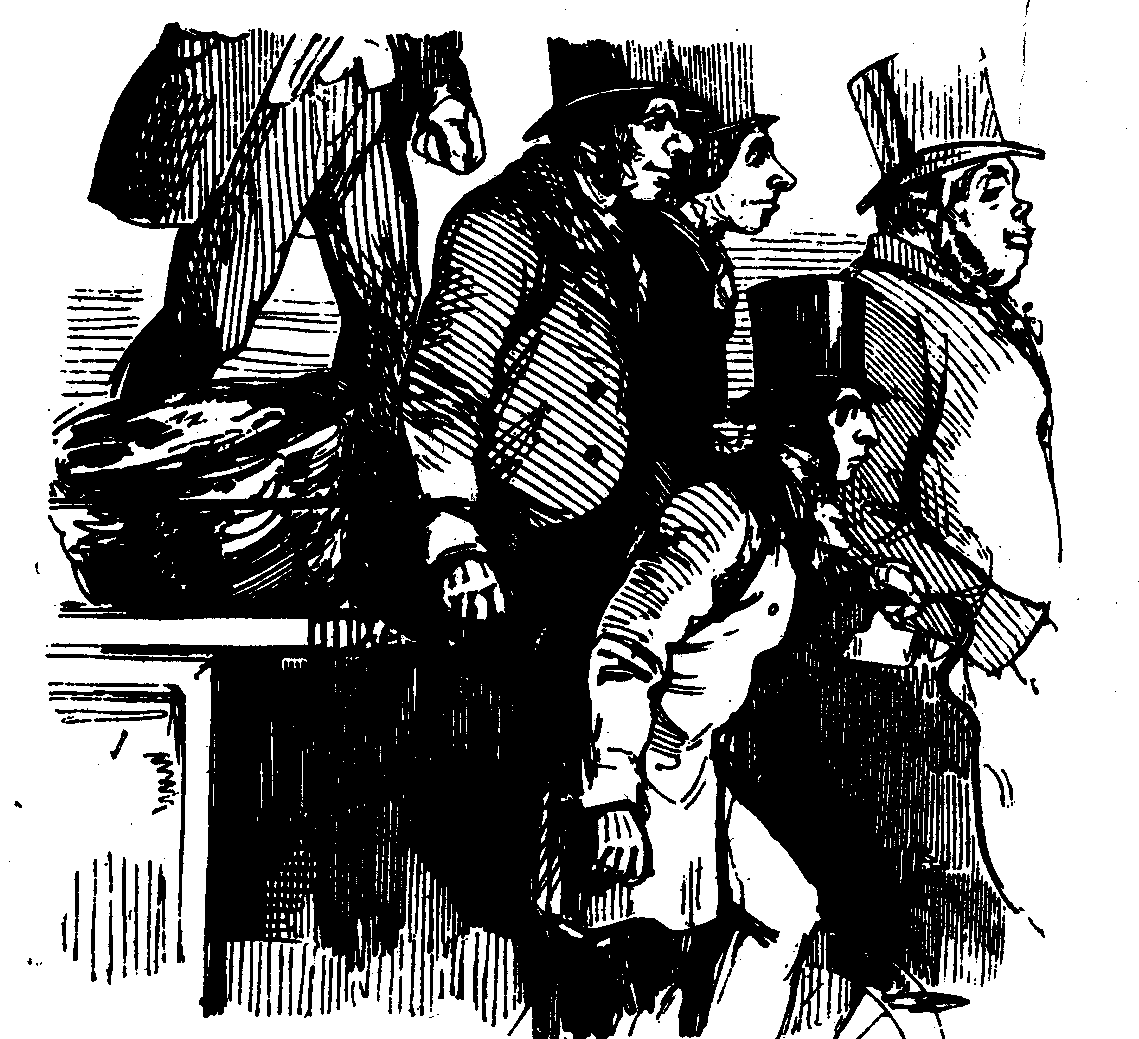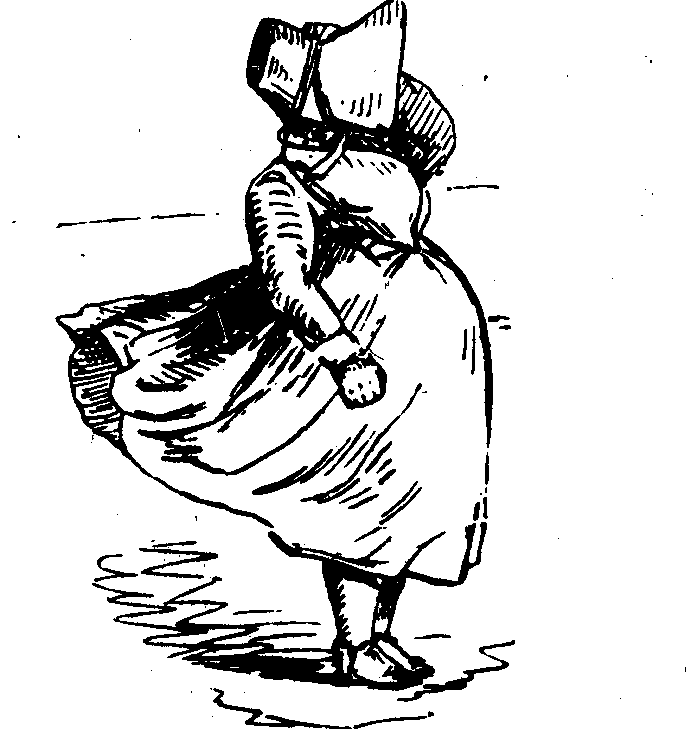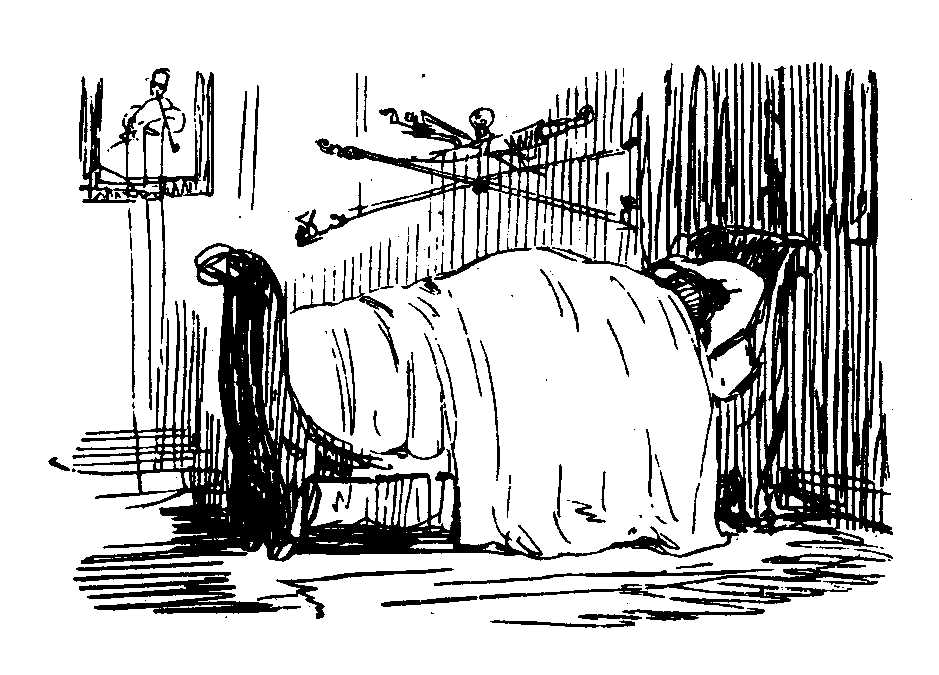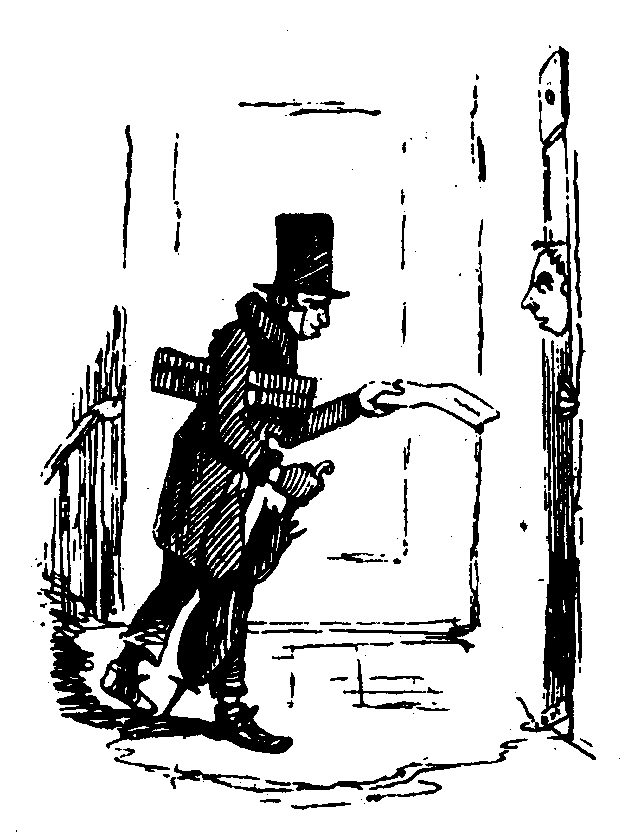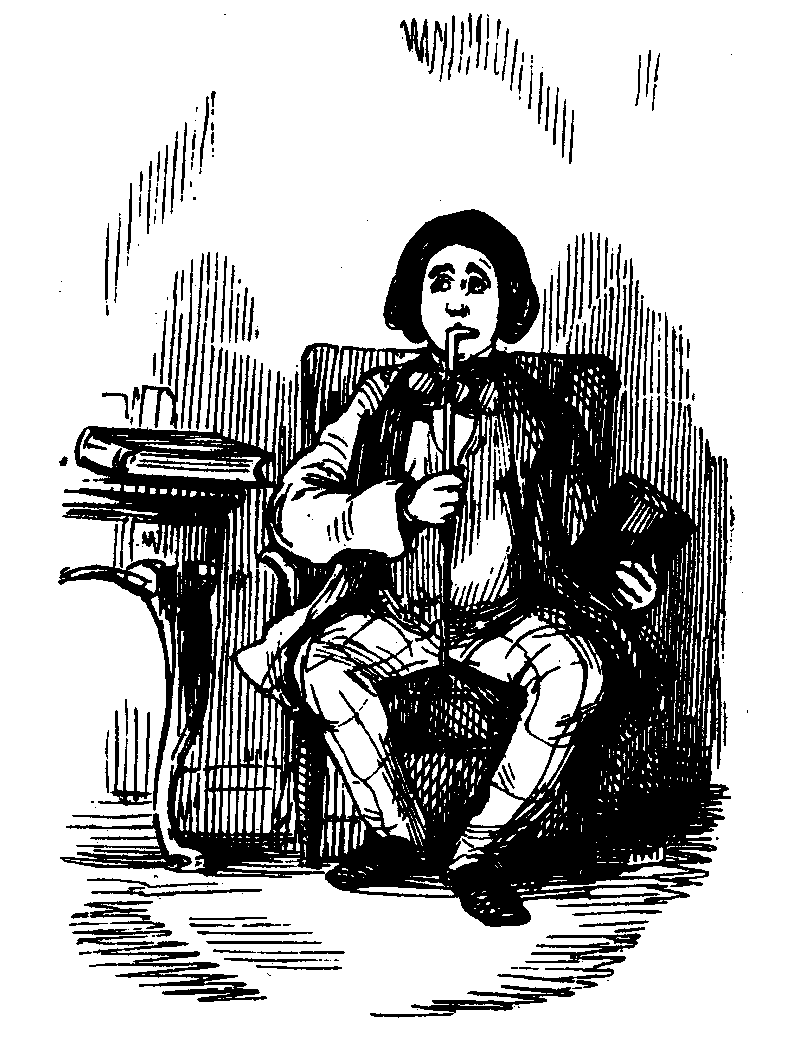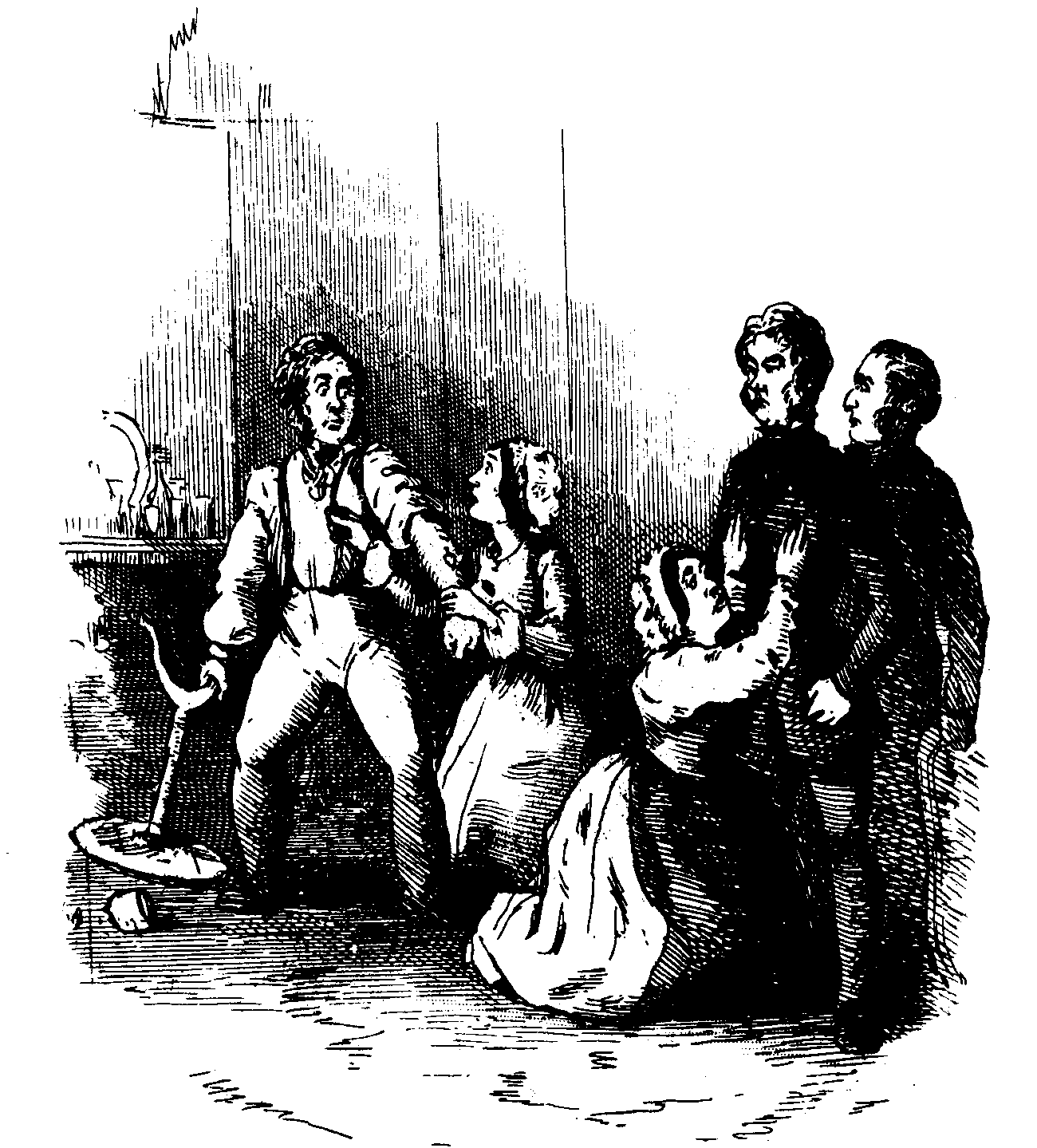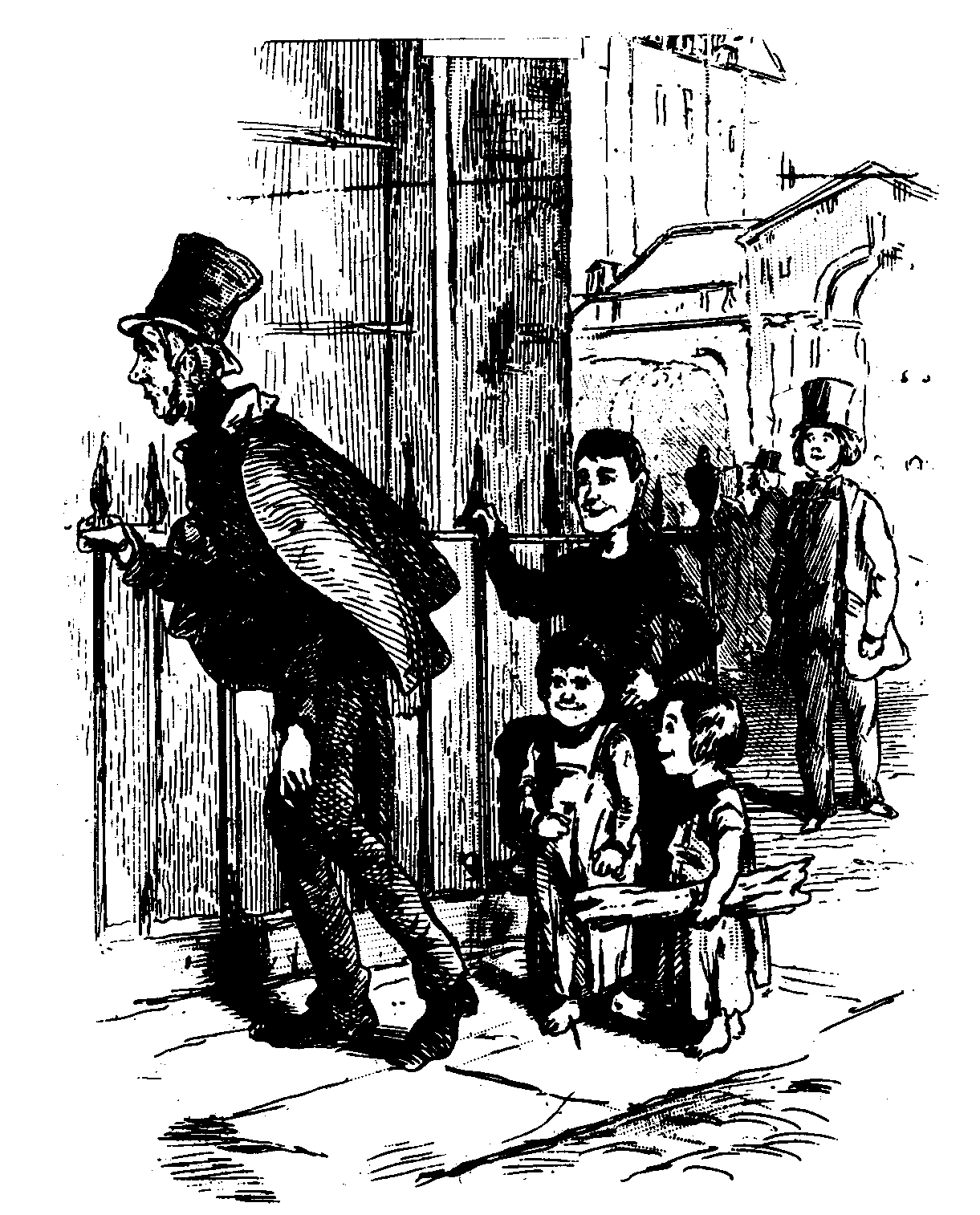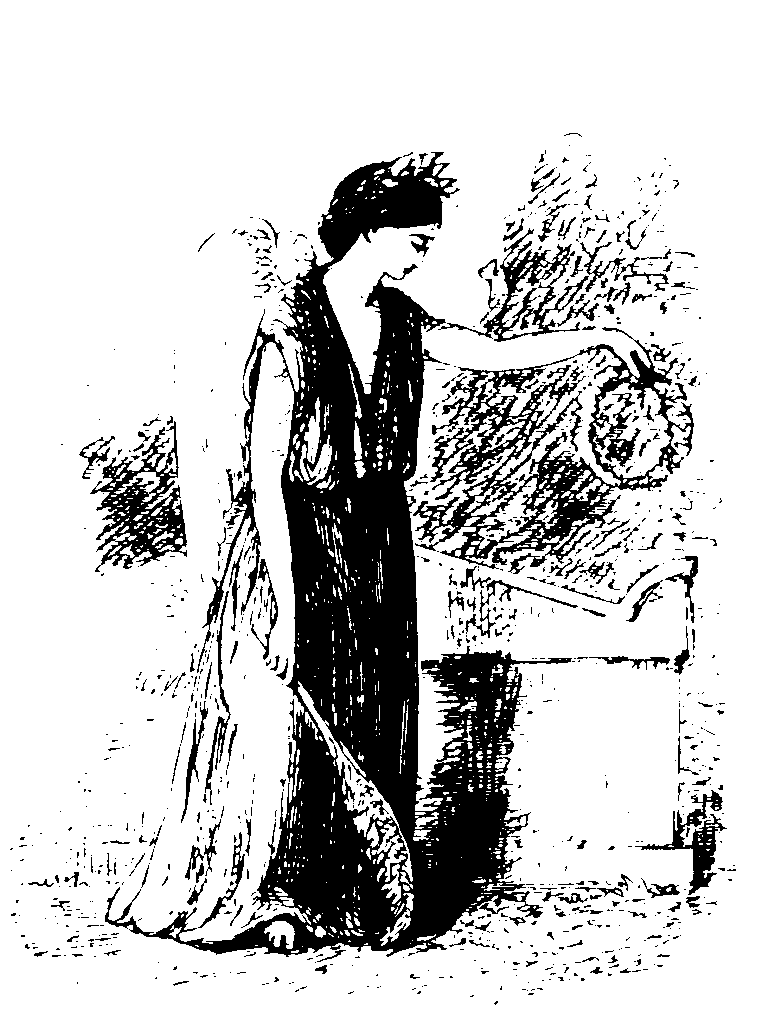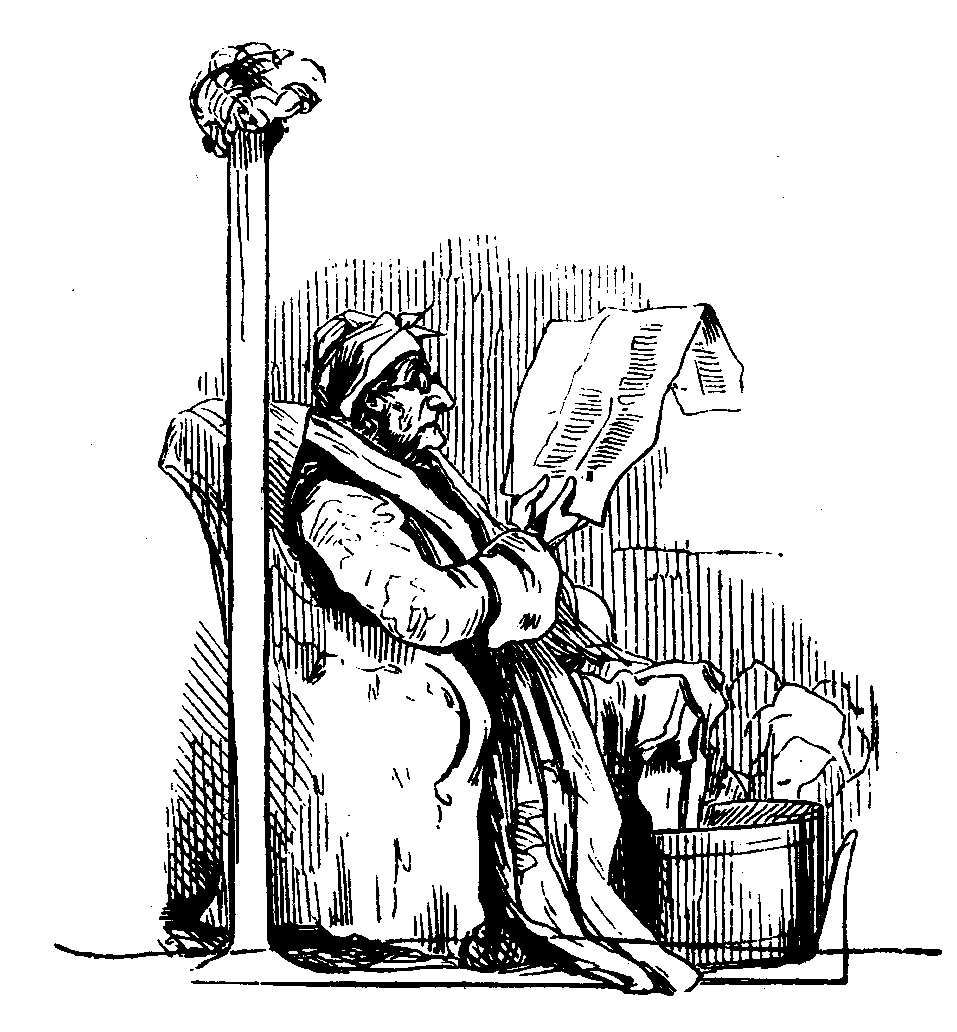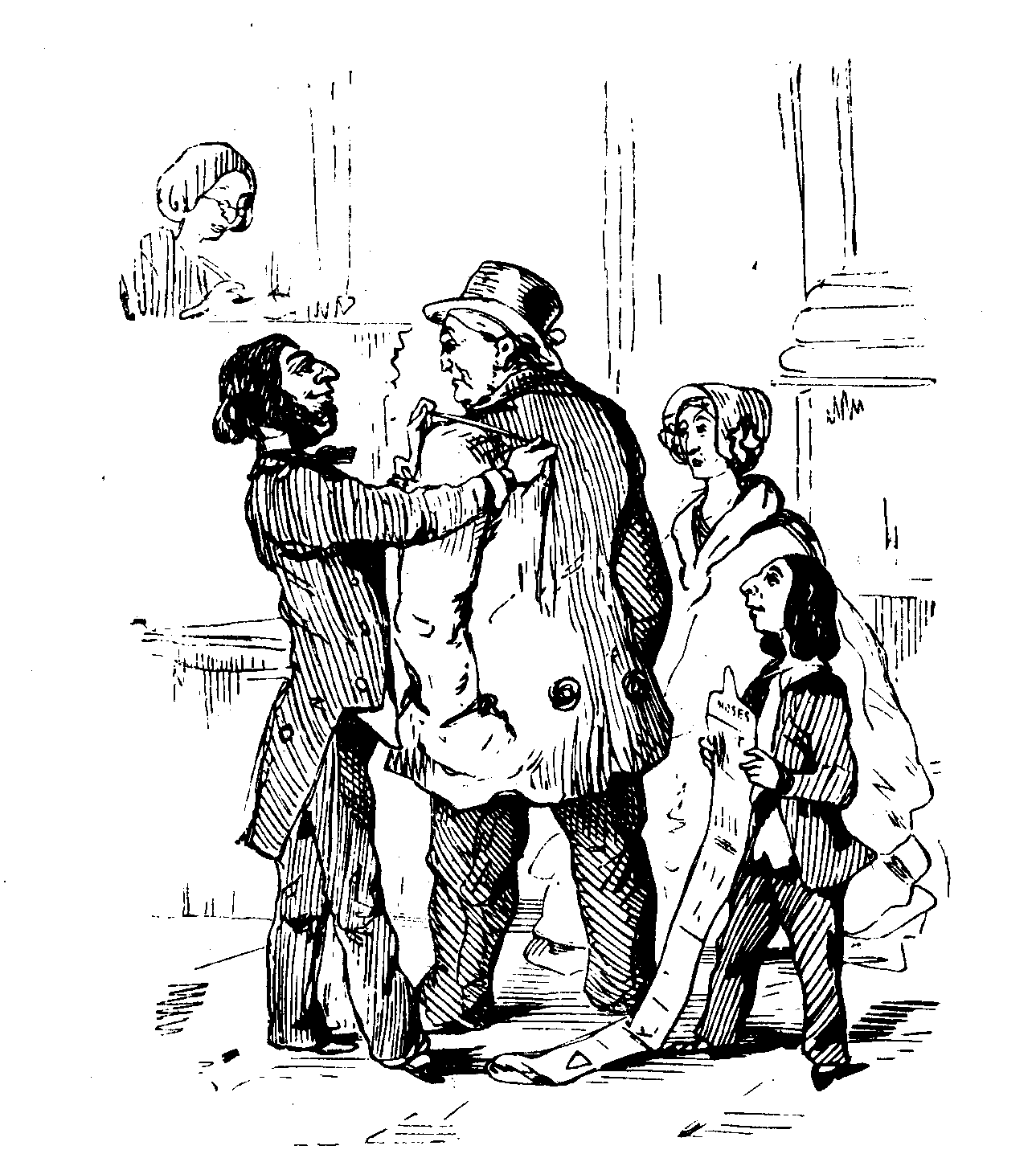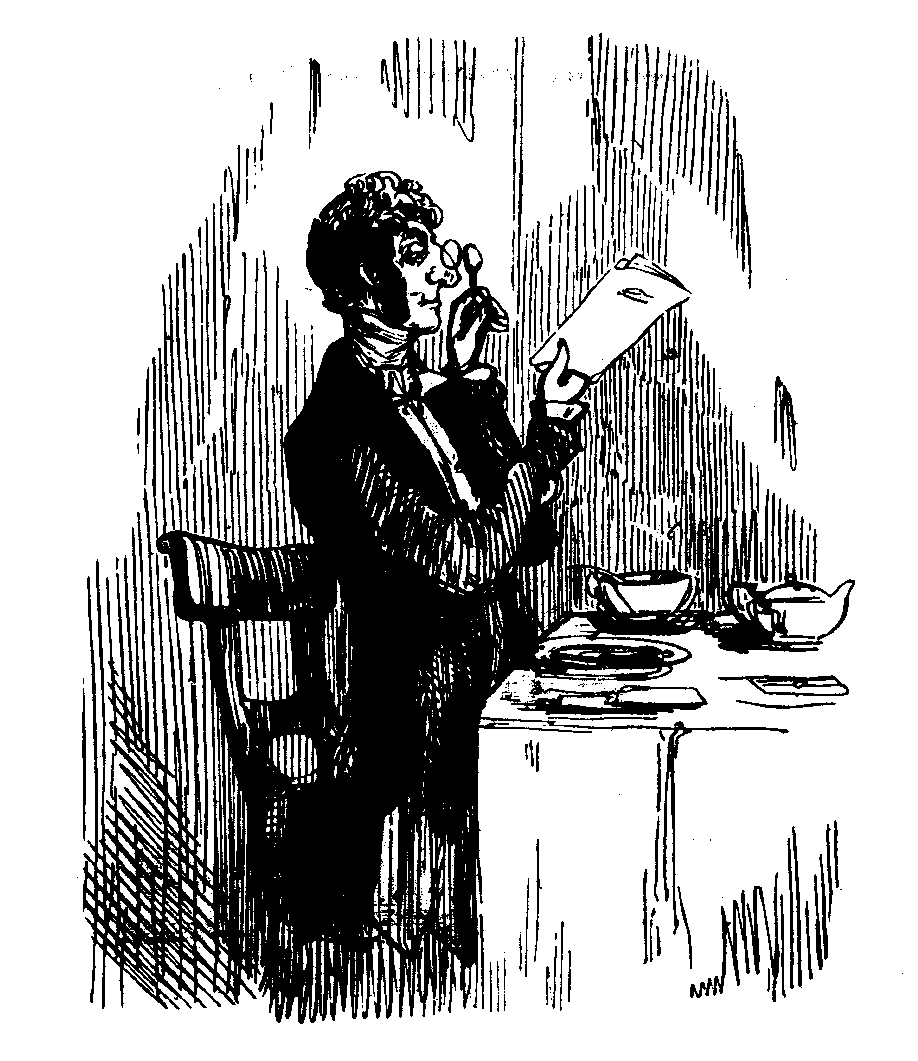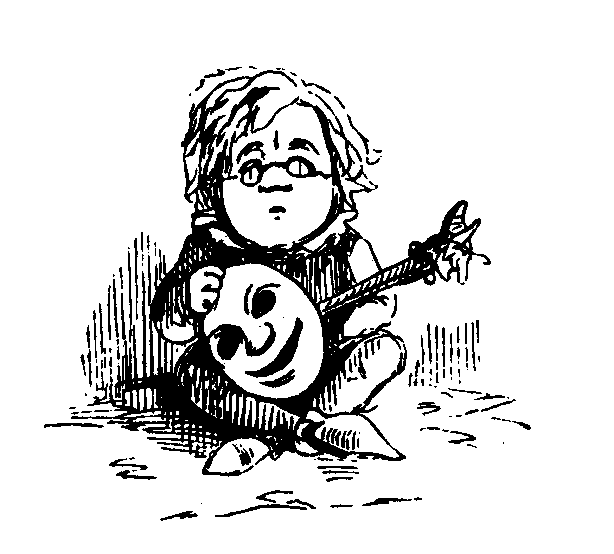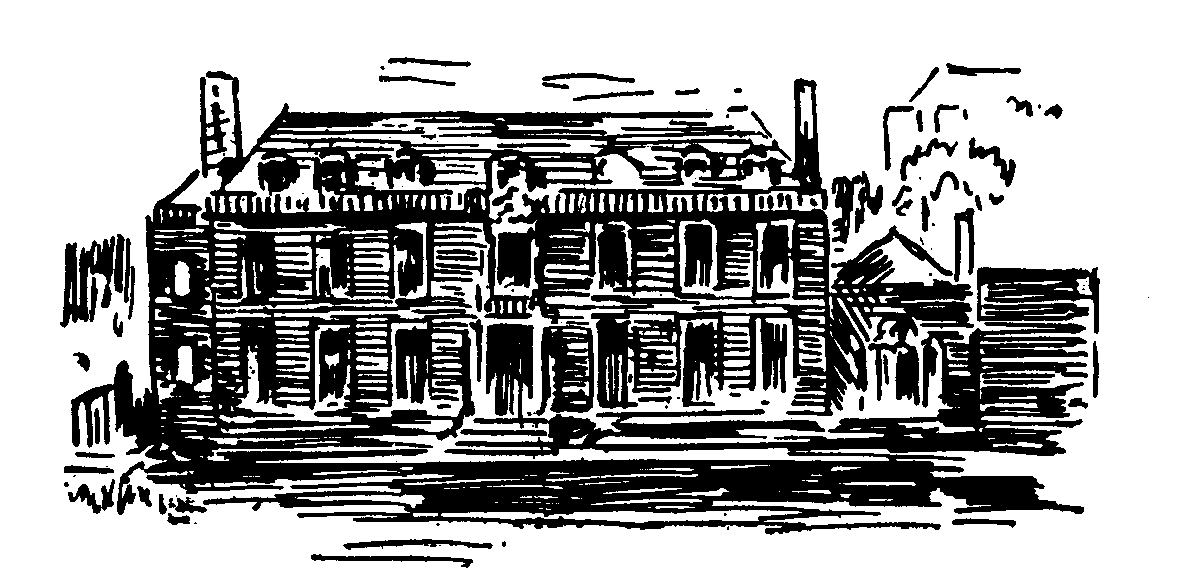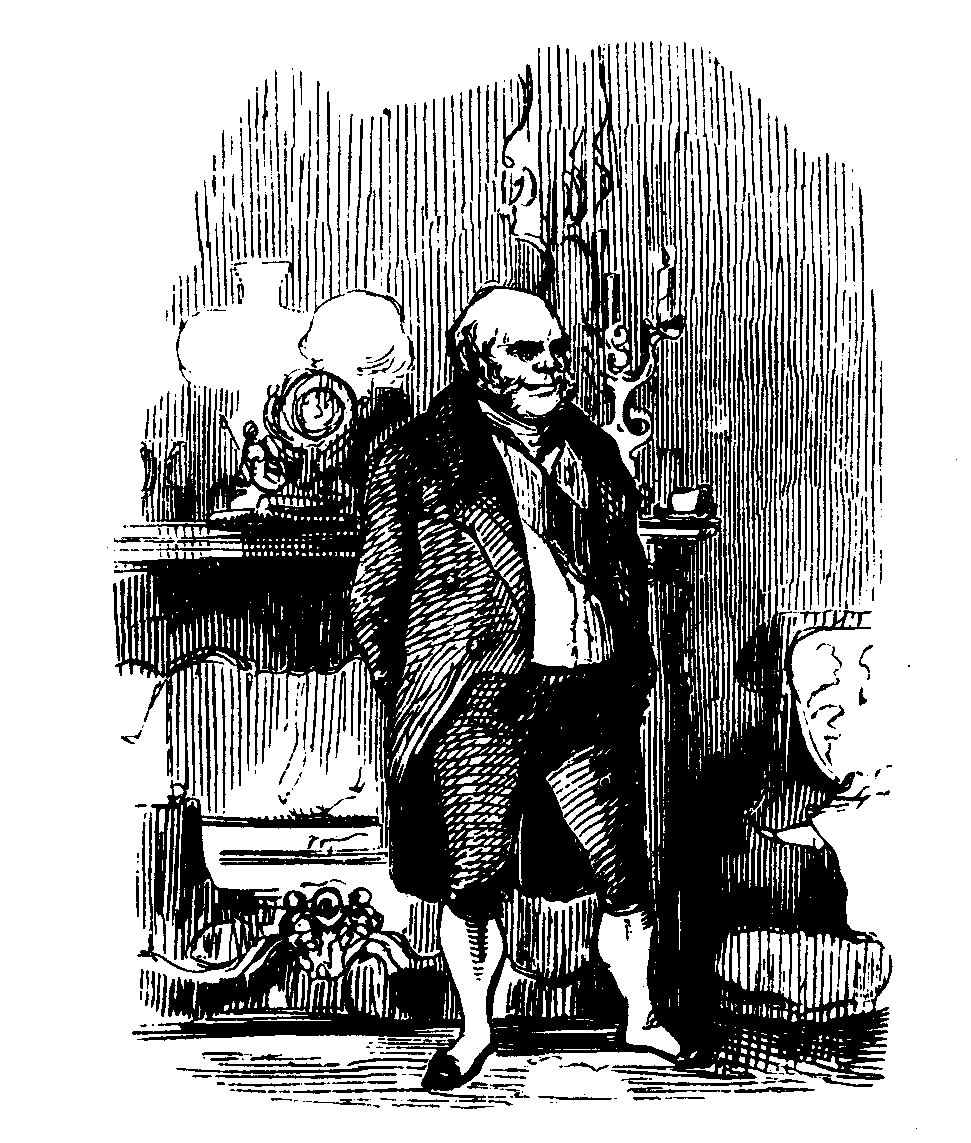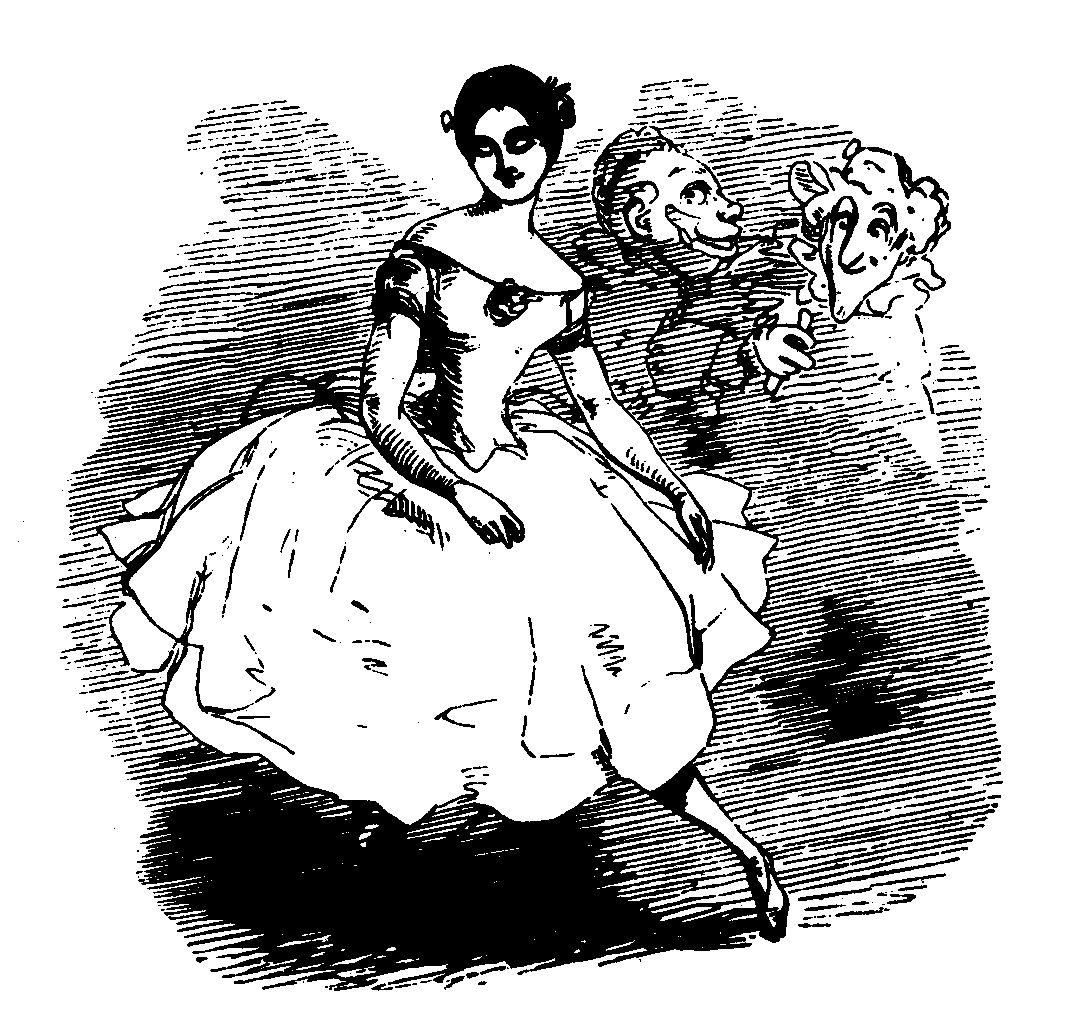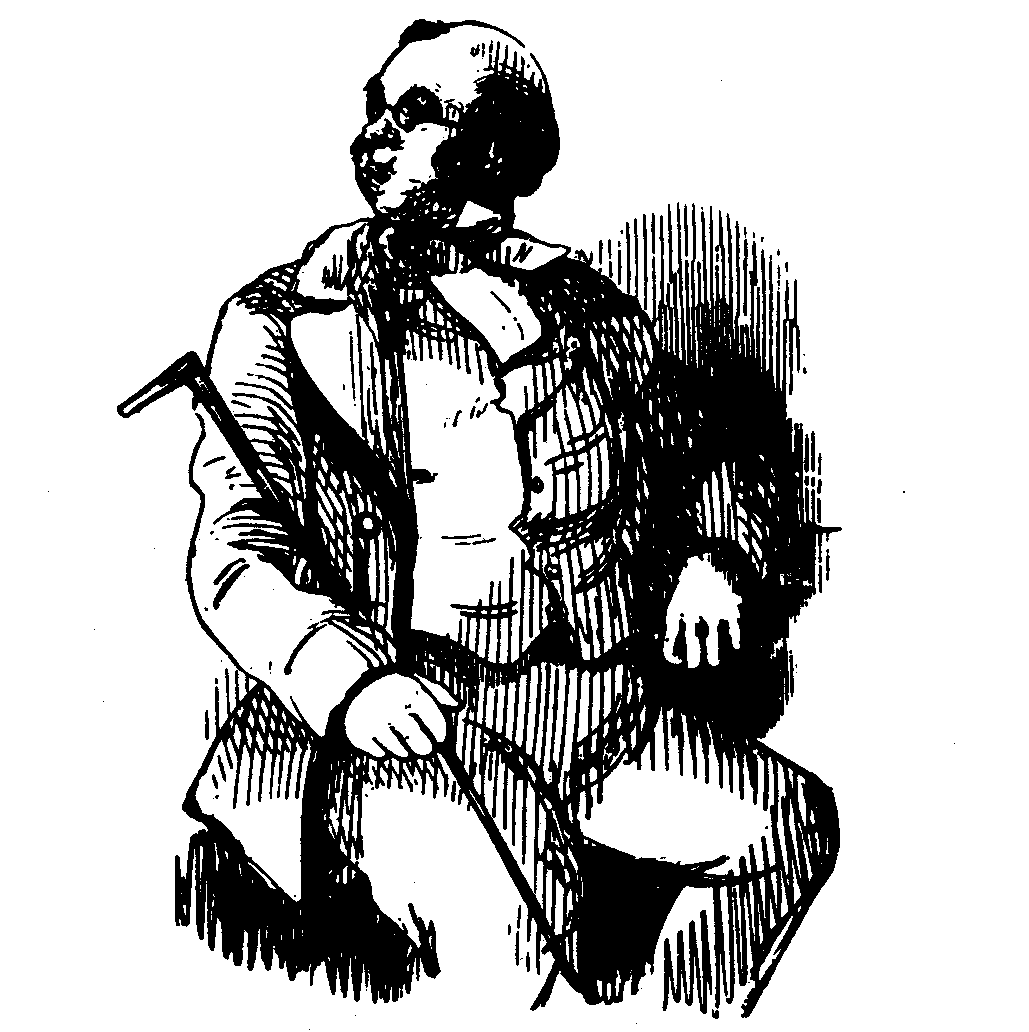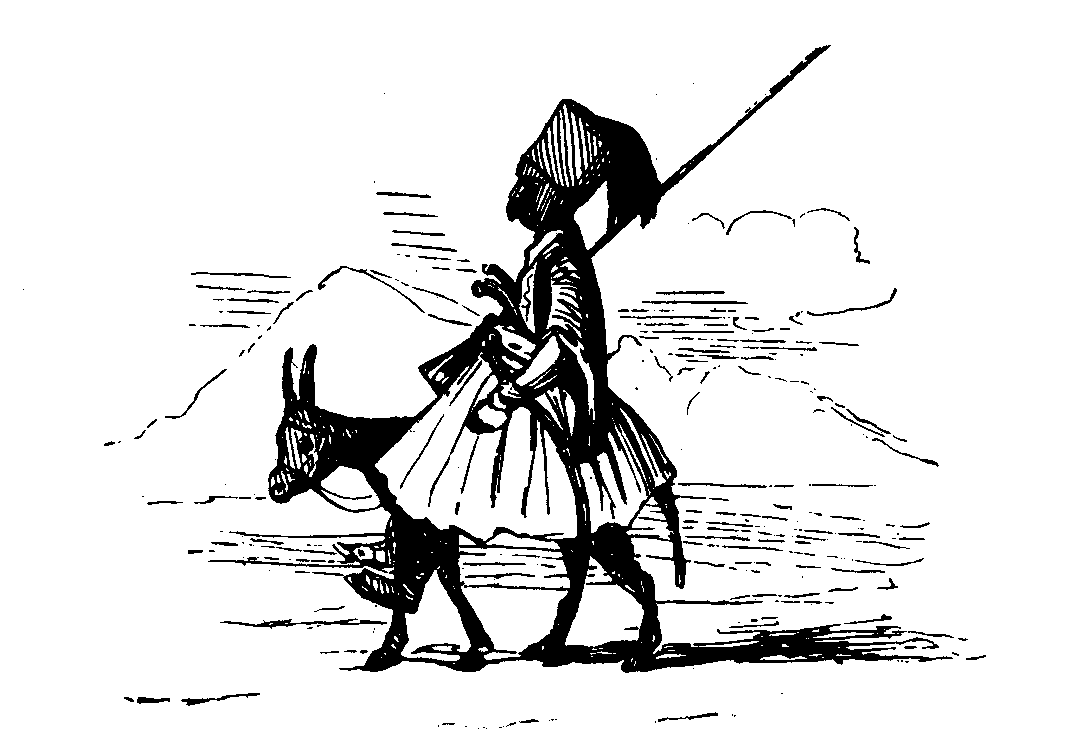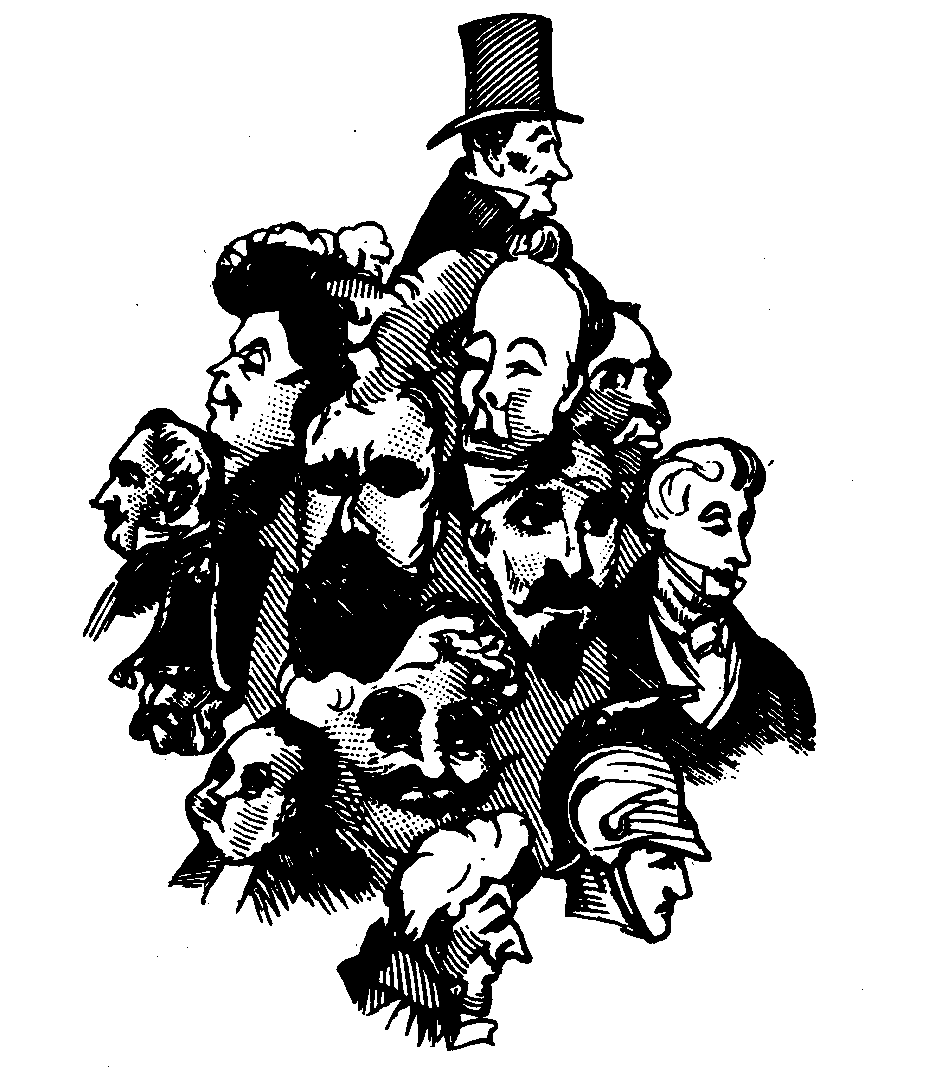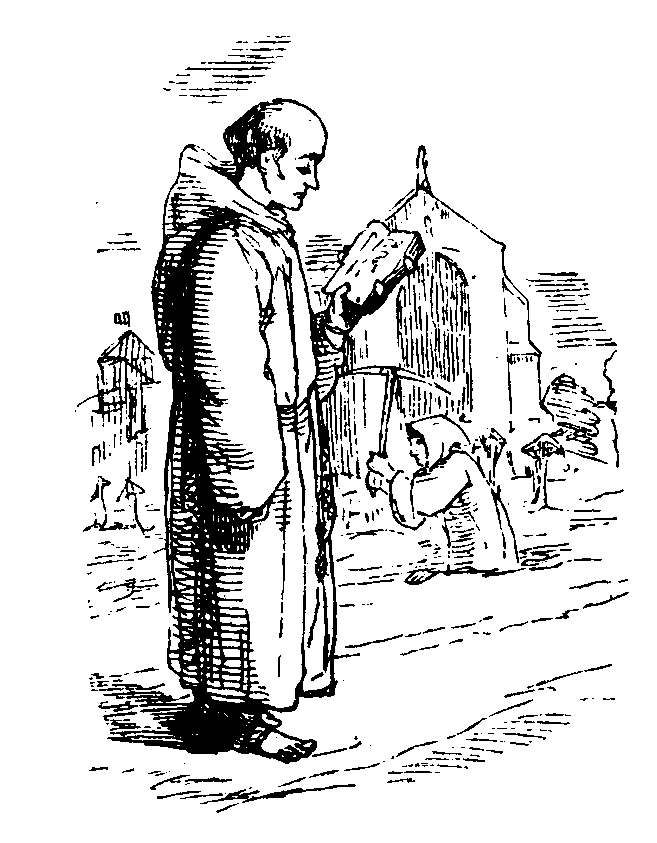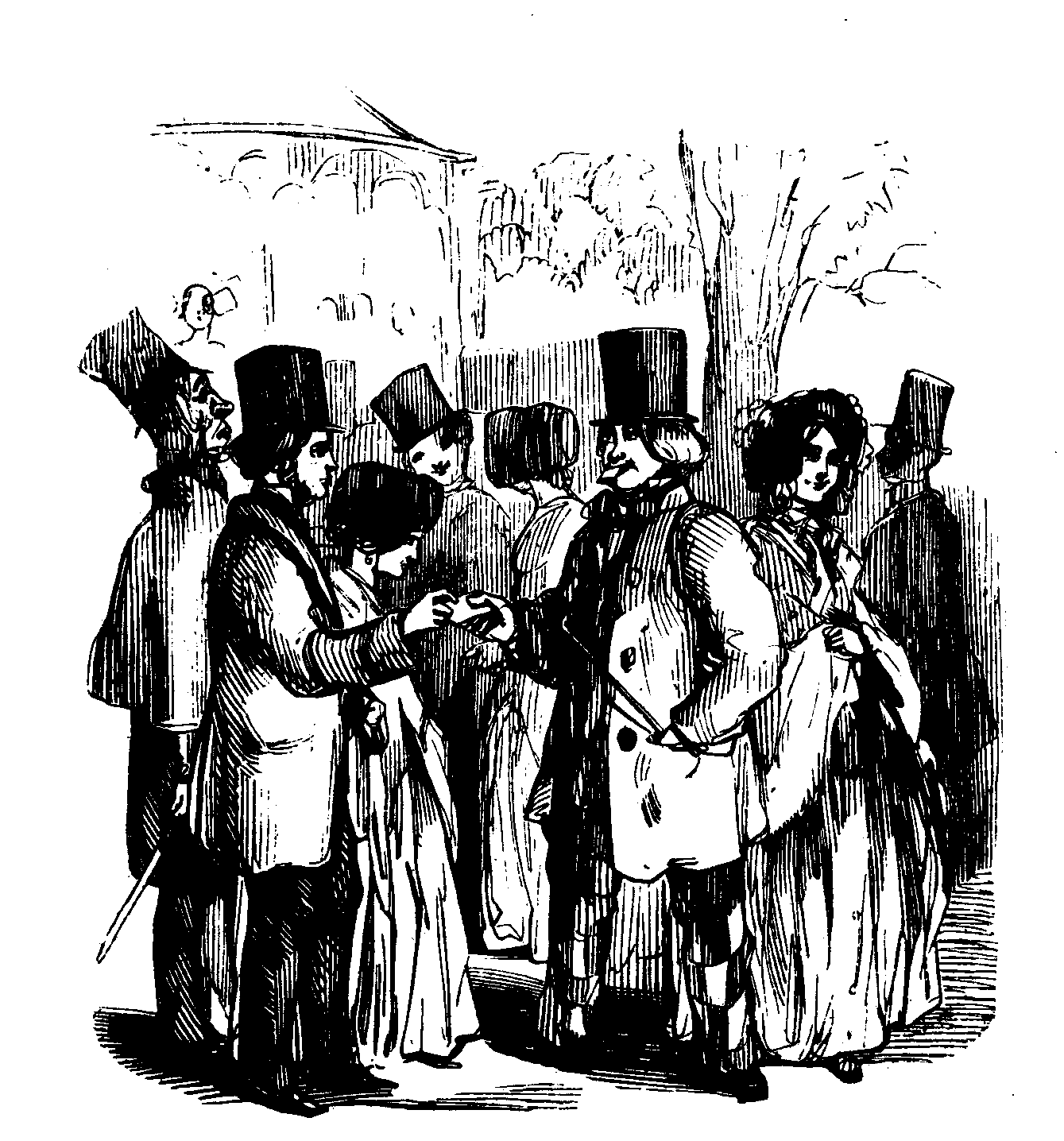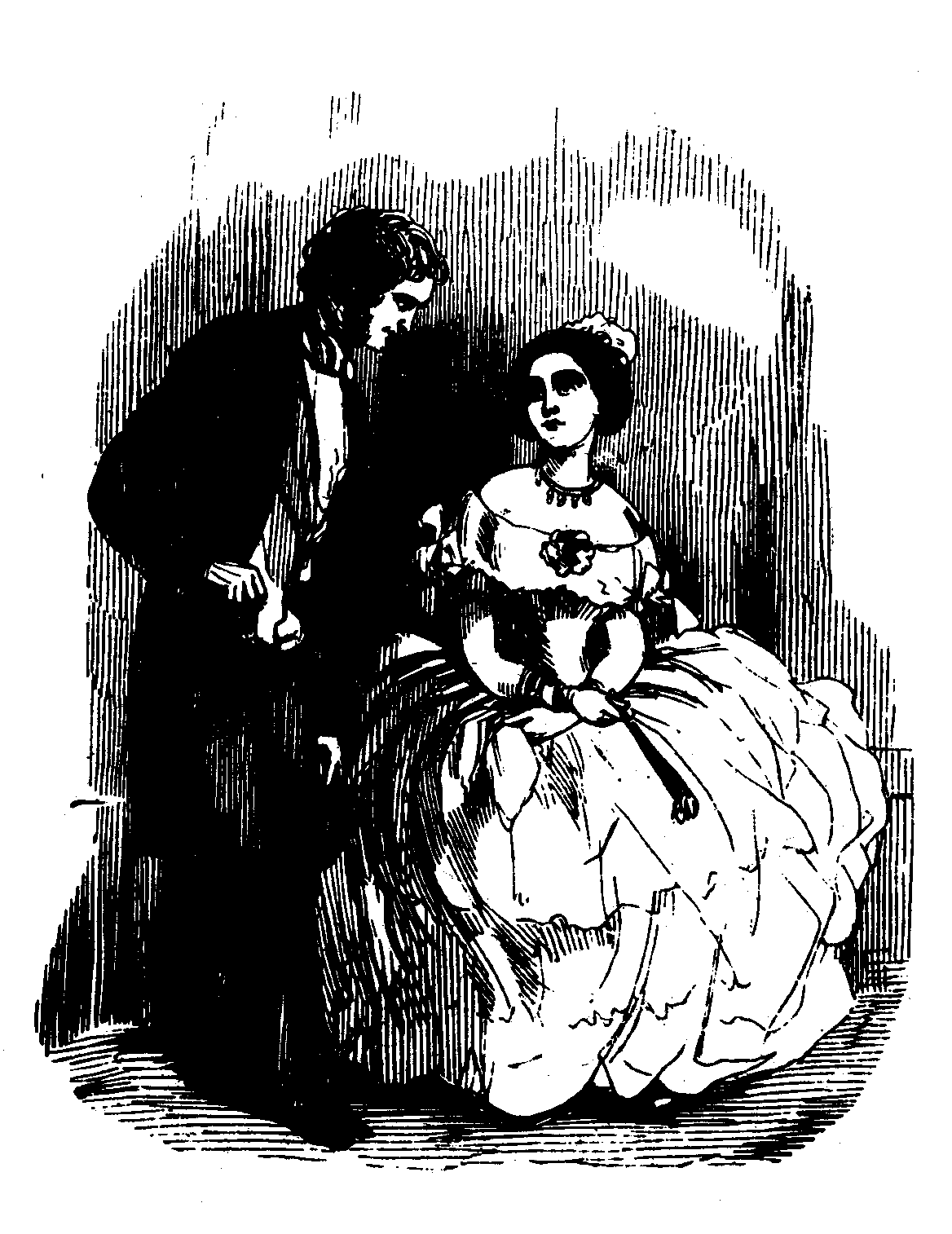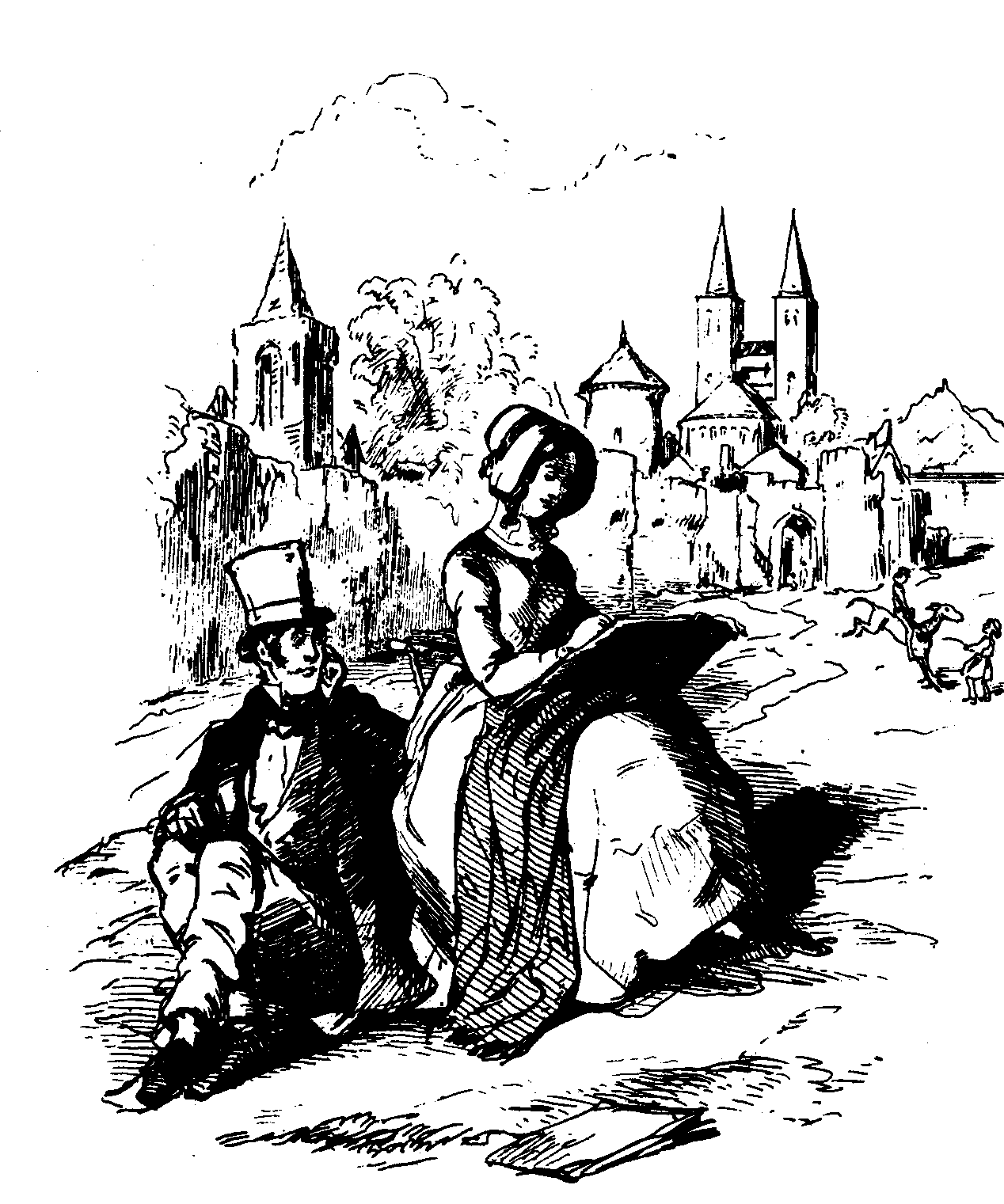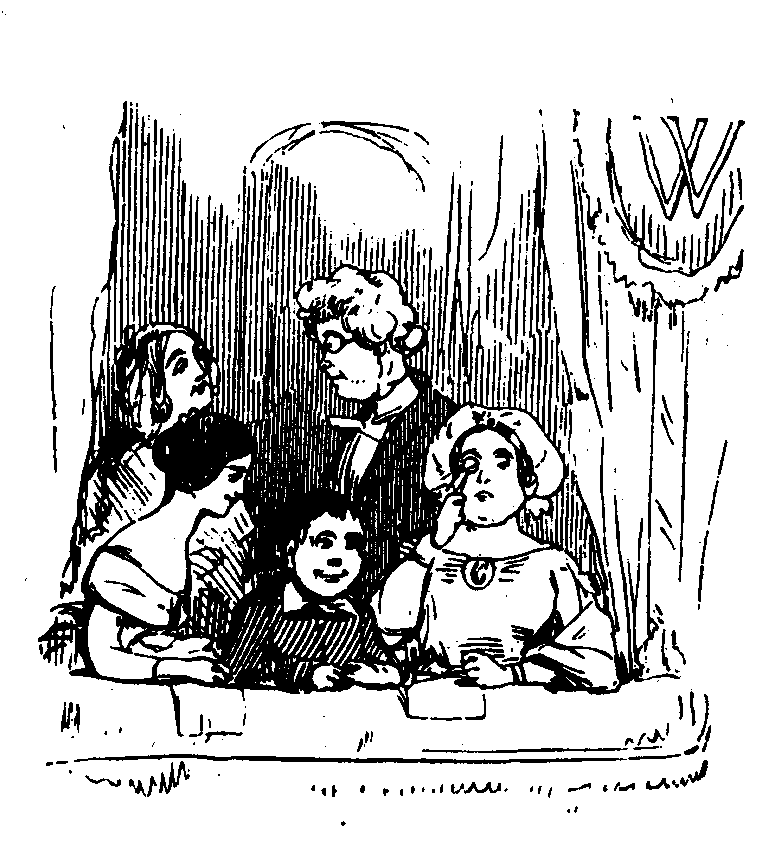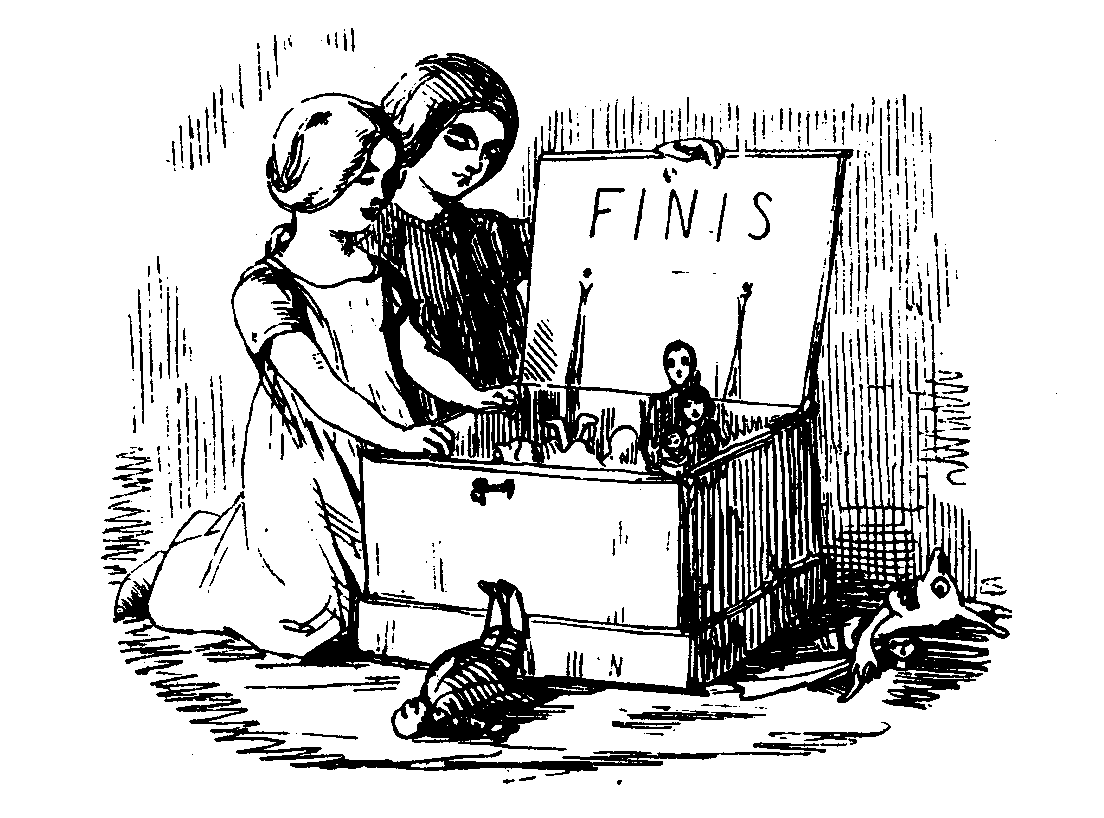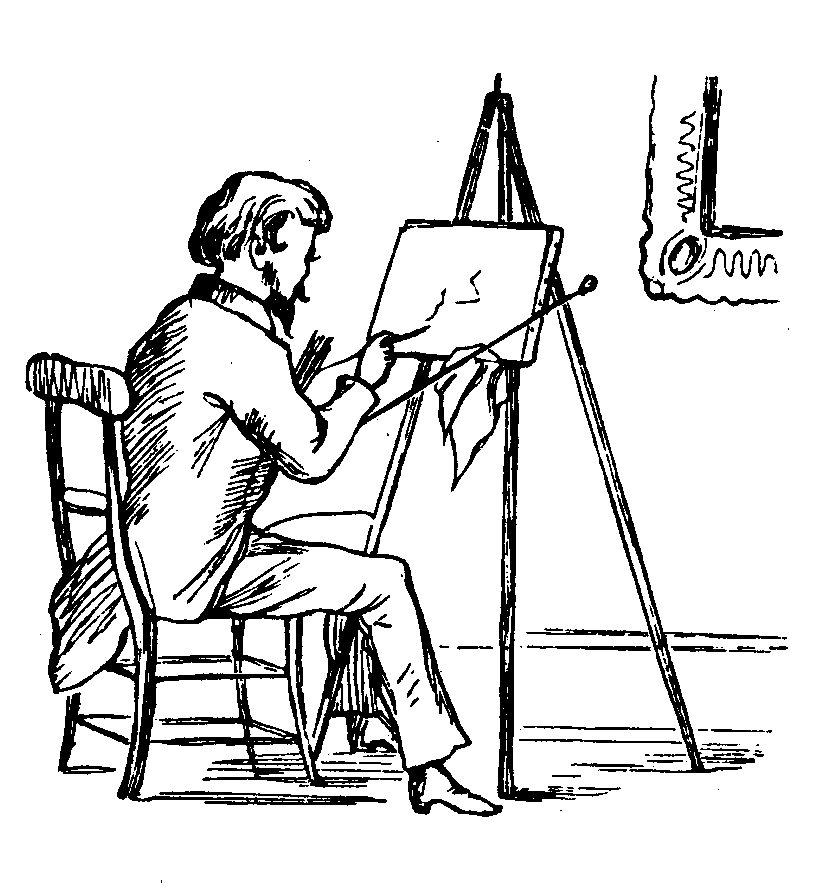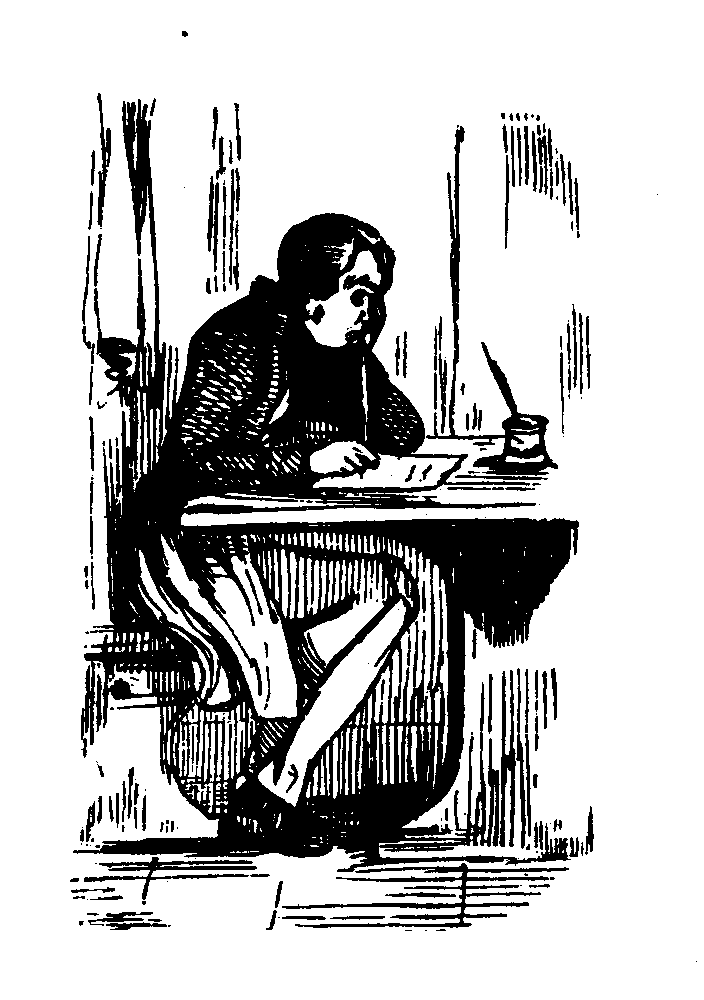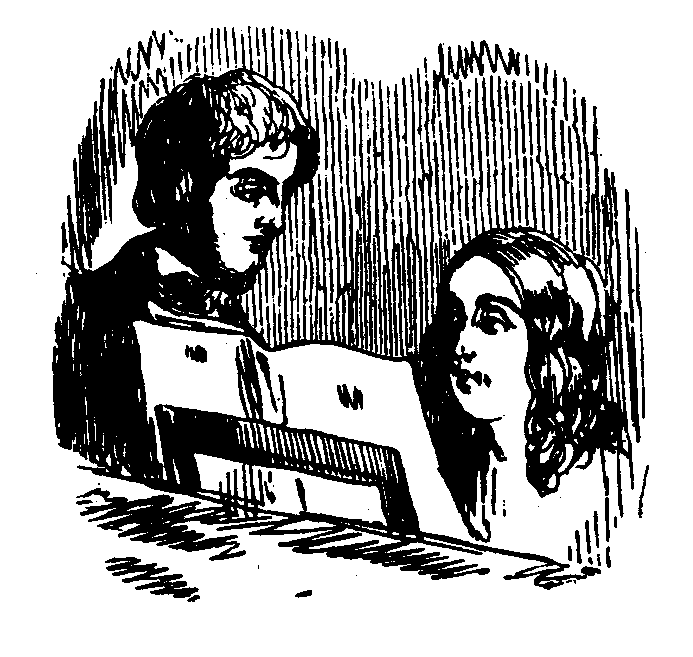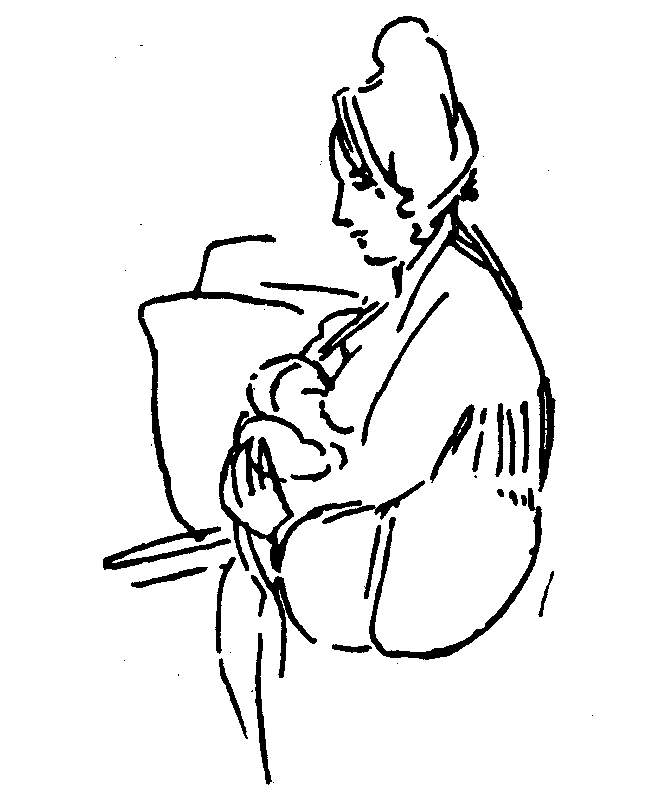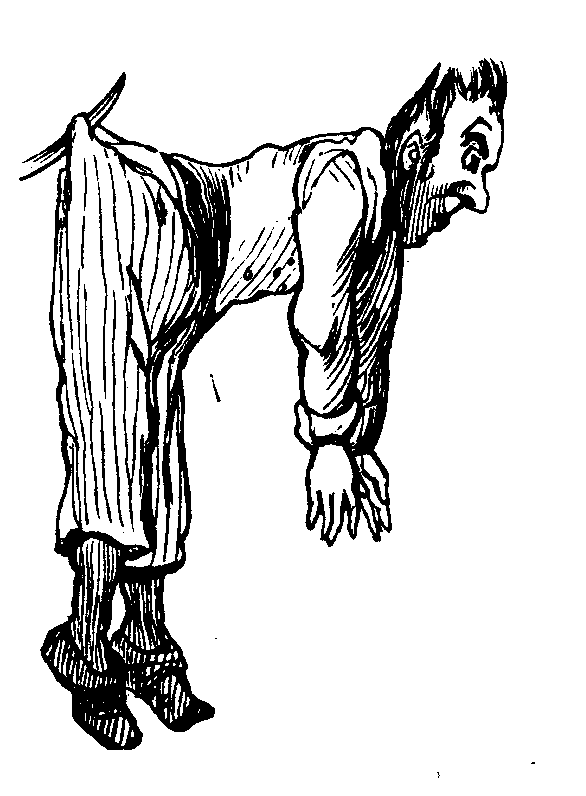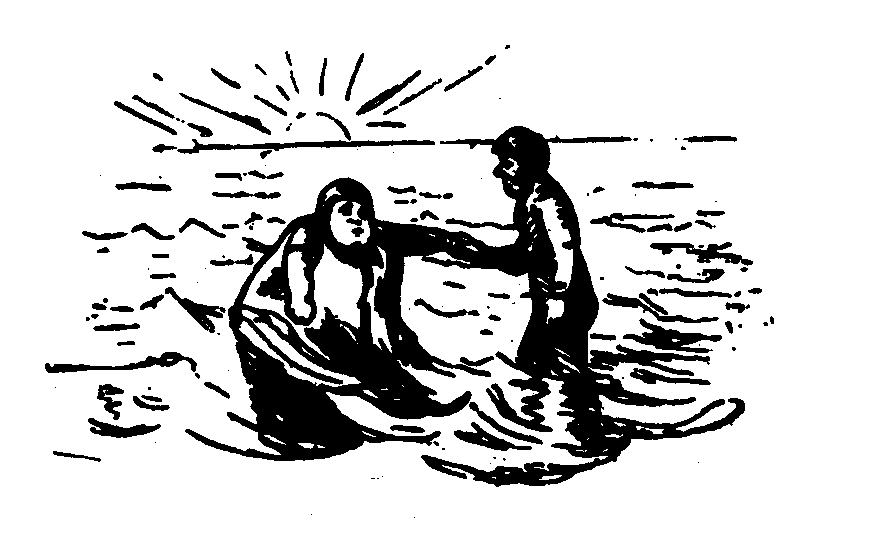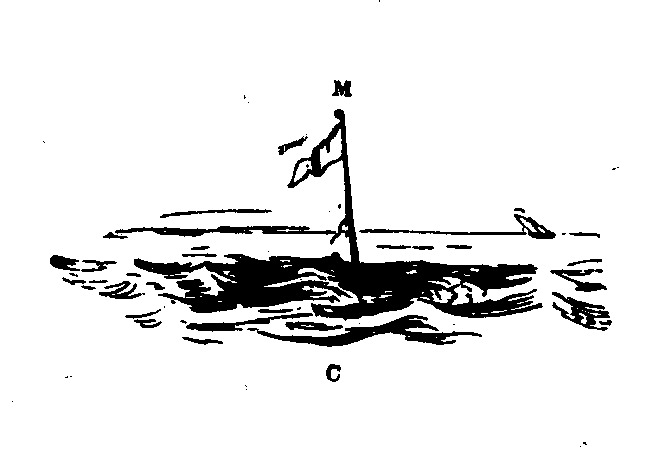Уильям Мейкпис Теккерей
----------------------------------------------------------------------------
М., Книга, 1985
ББК 84.3(4Вл) Ф79
William Makepeace Thackeray
MEMOIRS OF A VICTORIAN GENTLEMAN
Illustrations by the author
Edited by Margaret Forster, Secker and Warburg, London, 1978
Перевод с английского Т. Я. Казавчинской
Рецензент - Е. Ю. Гениева, кандидат филологических наук
----------------------------------------------------------------------------
^TУСТАМИ ТЕККЕРЕЯ^U
И - ярмарки тщеславия свидетель -
Клеймя марионеток перепляс,
Он видел, что бездомна добродетель,
В плену коварства честный ум погас.
Его улыбка, верная печали, -
Любовью наполняла все сердца.
Он целомудрен был душой вначале
И чистым оставался до конца...
Ш. Брукс. Уильям Мейкпис Теккерей.
Пер. А. Солянова
24 декабря 1863 г. Теккерея не стало. Даже по меркам XIX столетия умер
он рано, не достигнув и пятидесяти трех лет. Проститься с автором "Ярмарки
тщеславия" пришло более 2000 человек; ведущие английские газеты и журналы
печатали некрологи. Один из них был написан Диккенсом, который, позабыв
многолетние разногласия и бурные ссоры с Теккереем, воздал должное своему
великому современнику. В потоке откликов на смерть писателя особняком стоит
небольшое стихотворение, появившееся 2 января в "Панче", известном
сатирическом журнале, с которым долгие годы сотрудничал Теккерей. Оно было
анонимным, но современники знали, что его автор - Шерли Брукс, один из
постоянных критиков и рецензентов "Панча", давнишний друг и коллега
Теккерея. Неожиданно было видеть среди карикатур и пародий, шаржей и
бурлесков, переполнявших страницы журнала, серьезное и полное глубокого
чувства стихотворение. Рисуя образ человека, которого он и его коллеги по
"Панчу" знали и любили, Ш. Брукс постарался в первую "очередь опровергнуть
расхожее мнение о нем как о цинике:
Он циник был; так жизнь его прожита
В сиянье добрых слов и добрых дел,
Так сердце было всей земле открыто,
Был щедрым он и восхвалять умел.
Он циник был: могли прочесть вы это
На лбу его в короне седины,
В лазури глаз, по-детски полных света,
В устах, что для улыбки рождены.
Он циник был; спеленутый любовью
Своих друзей, детишек и родных,
Перо окрасив собственною кровью,
Он чутким сердцем нашу боль постиг...
Записные борзописцы, позабыв отделить писателя от его
героев-марионеток, на все лады твердили; "Циник, циник, циник". Не поняли
Теккерея даже многие выдающиеся его современники: Шарлотта Бронте упрекала
его в аморализме, Карлейль писал, что "предпочитает яду, изливающемуся со
страниц "Ярмарки тщеславия", просветленность "Домби и сына"", ему вторила
Элизабет Браунинг: "Эта сильная, жестокая, мучительная книга не возвышает и
не очищает душу". Устав от бесцельной борьбы, Теккерей оставил дочерям
суровый наказ: "Никаких биографий!" И они, помня, как резко отзывался отец о
книгах, где выставлены напоказ подробности жизни великих людей, как он
страдал от клейма "циника", сделали все от них зависящее, чтобы ограничить
биографам и литературоведам доступ к семейным архивам, а заодно и к семейным
тайнам. Ревниво оберегали переписку отца (она издана и сейчас еще не
полностью), несмотря на уговоры исследователей, обозначили весьма солидный
срок запрета на публикацию некоторых материалов.
Со дня рождения Теккерея прошло 175 лет, со дня смерти - более 120, но
до сих пор книги о нем можно пересчитать по пальцам (а ведь о Диккенсе
написаны библиотеки!). Есть среди этих немногочисленных исследований и
биографии. К числу классических относится та, что была создана другом и
учеником Теккерея, видным английским писателем Энтони Троллопом. Увидела она
свет вскоре после смерти Теккерея. Читая ее, трудно отделаться от мысли, что
автор, боясь оскорбить память Теккерея слишком пристальным вниманием к его
личности, решил воспроизвести лишь основные вехи его судьбы. В таком же
ключе выдержана и другая известная история жизни и творчества Теккерея,
вышедшая из-под пера Льюиса Мелвилла. В ней так же мало Теккерея-человека,
как и в книге Троллопа. В XX в. о Теккерее писали такие блестящие умы, как
Лесли Стивен и Честертон, но увы! - они ограничились вступительными статьями
и предисловиями.
Значительным вкладом в теккериану стало фундаментальное исследование
Гордона Рэя, в котором, кажется, собраны все доступные сведения о писателе,
воспроизведены воспоминания и мнения современников, близких. Эта работа
стала настольной книгой для всех тех, кто занимается Теккереем. Не странно
ли: самый крупный специалист по Теккерею в XX в. - не английский, но
американский ученый? В общем-то парадокс, особенно если вспомнить, что
Теккерей, как сам он говорил о Диккенсе, - "национальное достояние". Но
объективно получается, что соотечественники если и не прошли мимо этого
писателя, то уделили ему внимания гораздо меньше, чем он того заслуживает.
Надо обладать немалой смелостью, чтобы, несмотря на духовное завещание
мастера, написать даже не биографию, а автобиографию Теккерея. Отважилась на
такую мистификацию, поразив своей самонадеянностью
литературоведов-профессионалов, английская писательница Маргарет Форстер.
Историк по образованию, литературный обозреватель газеты "Ивнинг
Стандарт", автор нескольких романов (отзывы на них были благожелательные, но
не слишком восторженные), Маргарет Форстер получила известность, опубликовав
в 1973 г. биографию принца Чарли под броским заголовком "Безудержный
искатель приключений". Личность принца, легенды вокруг его имени, перипетии
судьбы, политические страсти борьбы за престол в 50-е годы XVIII столетия -
все это не раз привлекало писателей, сценаристов, режиссеров. Образ принца
Чарли увлек в свое время самого Вальтера Скотта! Вот здесь-то Маргарет
Форстер и пригодилось историческое образование, умение воскрешать страницы
прошлого и типы людей минувших эпох. И все же не только историк-профессионал
чувствуется в этой книге, но и литератор, обладающий легким, уверенным
пером, находящий верную интонацию для своего повествования. Благодаря этим
качествам, рассказ об исторических персонажах, известных каждому английскому
школьнику по учебнику истории и хрестоматиям, обрел живость и человечность.
Еще более ответственную и сложную художественную задачу решает Маргарет
Форстер в своей книге о Теккерее, уже само заглавие которой - "Записки
викторианского джентльмена" - выдержано в духе названий, бытовавших в XIX в.
Жанр записок был в ходу и у Теккерея - "Записки Желтоплюша", "Записки Барри
Линдона, эсквайра, писанные им самим". В обоих случаях Теккерей, спрятавшись
за масками своих героев-повествователей (лакея-холуя Желтоплюша, авантюриста
Барри Линдона), как бы "ушел" из прозы. Так что идея литературной игры "А
кто же автор?" была подсказана Маргарет Форстер самим Теккереем. Правда,
условия этой игры оказались очень непростыми. Ведь Маргарет Форстер пришлось
не только создать иллюзию чужой жизни, но и сделать почти невозможное:
убедить читателя, что автор записок - Теккерей, великий писатель, один из
образованнейших людей эпохи, человек в высшей степени остроумный, тонкий
психолог и превосходный стилист.
Созданию этой книги предшествовала огромная подготовительная работа -
освоение литературы, на основе которой можно было попытаться нарисовать
достоверную картину нравов, быта, культуры первой половины XIX в.
Потребовалось изучить весьма обширное, многообразное наследие Теккерея.
Русское двенадцатитомное собрание сочинений - даже не половина написанного
Теккереем! Но главное - необходимо было вжиться в личность этого человека,
научиться мыслить, говорить, чувствовать так, как, вероятно, было
свойственно ему, хотя документальных материалов на этот счет не так уж
много.
"Автобиография" Теккерея, что и говорить, замысел дерзкий. Один
британский рецензент назвал его "безумным". Но, очевидно, отчаянность
попытки прибавила Форстер смелости, и в целом она, надо признаться,
справилась со своей задачей с честью. Только очень искушенный читатель может
усомниться в авторстве Теккерея - и то, если ему довелось специально изучать
стиль писателя. Легкий, полный иронии, а иногда и сарказма стиль человека
начитанного, остро и быстро откликающегося на все происходящее, склонного к
пародии, шаржу, бурлеску. Да и образ, который постепенно возникает из этого
рассказа, совпадает с тем, что с такой любовью набросал в своем
стихотворении-некрологе Шерли Брукс.
Безжалостный сатирик и безразличный к авторитетам пародист, Теккерей
был терпимым, терпеливым и в высшей степени доброжелательным человеком.
Стоически нес свой крест - психическую болезнь жены, не жалуясь на судьбу,
воспитывал двух дочерей, мужественно сносил подтачивавшую его болезнь,
которая и свела его в могилу. Он, кого молва, памятуя его сатирические
эскапады в "Книге снобов" и "Ярмарке тщеславия", считала циником, был ровным
в отношениях с коллегами, тактичным с начинающими писателями и художниками.
В зените славы, пробуя одного молодого человека как возможного иллюстратора
в возглавляемом им журнале "Корнхилл", он предложил ему нарисовать свой
портрет, но тут же поспешно добавил, понимая, что юноше будет невыносимо
работать под взглядом метра: "Я повернусь спиной". Теккерей всегда готов был
протянуть руку помощи; с удивительным постоянством и вниманием ухаживал за
старыми художниками и актерами, оставшимися без средств к существованию.
Первым шел и на примирение.
По понятиям XIX столетия, Теккерей был настоящим джентльменом, а для
людей той эпохи это было весьма обязывающее определение. Кстати,
"викторианский" - тоже совсем не случайный эпитет в заглавии книги.
Викторианство - не только эпоха, получившая свое название от имени королевы
Виктории, правление которой растянулось почти на целый век. Викторианство -
это целое политическое, экономическое, общественное и идейное понятие.
Именно в эти годы Англия превращается в крупную колониальную державу, именно
тогда бурно и блистательно развивается национальная культура и в первую
очередь литература - пишут Диккенс и Теккерей, сестры Бронте, Элизабет
Гаскелл, Карлейль, Троллоп, Джордж Элиот. В это время были заложены и основы
этики, которые и составили кодекс поведения "истинного" англичанина.
Викторианский джентльмен законопослушен, уважает порядок, он прекрасный
семьянин, его дом - крепость (и никому не должно быть дела до того, какие
бури бушуют за ее стенами), он всеми почитаемый член общества, ратует о
благе бедняков, он блюститель нравственности и гонитель порока.
Таким Теккерей предстает и у Маргарет Форстер - денди, искушенный в
тонкостях этикета, желанный гость любого светского салона, превосходный
отец, всеми уважаемый гражданин. Правда, подчас Теккерей у Маргарет Форстер
выглядит уж слишком добропорядочным, слишком благодушным, слишком
викторианцем, видящим лишь то, что ему хочется. Пожалуй, это особенно
ощутимо в главе, где описывается первая поездка писателя в Соединенные
Штаты.
Именно в Америке Теккерей впервые получил то признание, в котором ему
было отказано на родине. Любопытно, что в 1845 г., за два года до появления
"Ярмарки тщеславия", когда на писательском счету у Теккерея были книги
очерков, путевых заметок, сатирические повести, исторический роман "Барри
Линдон", знаменитая "Книга снобов", редактор видного английского
литературно-критического журнала "Эдинбургское обозрение" Дж. Нейпир, боясь
привлечь к сотрудничеству случайного человека, обратился к знакомому с
просьбой; "Не можете ли Вы мне сообщить, конечно, совершенно
конфиденциально, знаете ли Вы что-нибудь о некоем Теккерее. Говорят, у него
легкое перо".
В Америке же все не только зачитывались "Ярмаркой тщеславия", но
хвалебно отзывались о ранних произведениях, в Англии почти не замеченных, и
о зрелых, например "Генри Эсмонде", любимом детище Теккерея, которое,
однако, весьма сдержанно оценили британские критики.
Безусловно, прием, оказанный Теккерею американцами, расположил его к
стране. К тому же он познакомился с Америкой в пору ее молодости и еще не
рухнувших, как сегодня, надежд. Ему нравились американские просторы, был
приятен народ, гораздо менее чопорный, нежели соотечественники. Конечно, он
не мог не видеть теневых сторон американской жизни, ощутил и ненавистный ему
дух делячества и панибратства, уже укоренившийся в молодой нации, но все же
предпочел закрыть на это глаза. Как закрыл он глаза и на рабовладение в
южных штатах. Публичные заявления по этому поводу он считал неуместными в
устах гостя и потому поделился своими соображениями только с матерью в
письмах, заметив, правда, лишь вскользь, что рабовладение омерзительно, но
при этом не преминул добавить, что, ознакомившись с жизнью негров, не увидел
всех тех ужасов, о которых пишет Бичер-Стоу...
Теккерей не оставил читателям книги типа "Американских заметок"
Диккенса, хотя, как известно, обещал своему издателю привезти нечто подобное
из путешествия. Однако уже то, что Теккерей не написал такой книги,
достаточно красноречиво. Ведь Теккерей поехал в Америку зарабатывать"
деньги. Мысль, что дочери должны быть обеспечены после его смерти, не давала
покоя. Поэтому американскую поездку он должен был "оправдать", исходя из тех
же материальных соображений. Жанр путевых заметок и зарисовок был ему
приятен и легко давался, так что, казалось бы, дело оставалось за малым -
сесть за стол и поделиться с читателями своими соображениями о стране,
пересыпав рассказ остротами и шутками. И все же, приехав в Англию, Теккерей
во всеуслышание заявил, чем немало огорчил своего издателя, что писать такую
книгу не будет, поскольку не имеет на это никакого права. "Только тот, кто
прожил в стране не менее пяти лет, - говорил он, - и кто обладает
необходимыми знаниями о ее людях, может взяться за перо". В противном
случае, полагал он, отчасти имея в виду Диккенса и тот скандал, что его
"Американские заметки" вызвали в Соединенных Штатах, "его миссия не будет
полезной".
Писать лишь о том, что знаешь доподлинно, - один из основных принципов
эстетики Теккерея. К сожалению, об этой стороне в книге Маргарет Форстер
сказано маловато. Конечно, подобная критика справедлива лишь наполовину.
Задача автора определена четко - "Записки викторианского джентльмена". Но
все же джентльмен был писателем, Да еще каким! И смеха этого "неуютного
викторианца", как его называли современники, его сарказма, убийственной,
никого не щадящей иронии опасались очень многие. Ведь именно этот джентльмен
был самым суровым критиком викторианской морали - ханжества, лицемерия,
низкопоклонства, и само понятие "сноб" в том значении, что бытует ныне,
принадлежит Теккерею.
Да, Теккерей вынужден был думать о заработке, и об этом много написано
у Форстер. Но думал он при этом и о другом, например, как создать новую
повествовательную манеру, качественно новую прозу, где нет привычных готовых
решений, которых так ждала викторианская публика, - этот персонаж плох, зато
тот безоговорочно хорош, - но где читающий вовлечен в сложную, полную
иронии, психологическую и литературную игру. Отсюда такое обилие его
масок-псевдонимов: Желтоплюш, Титмарш, Айки Соломонз, Полицейский X и др. Мы
мало узнаем и о трудном пути Теккерея к славе, о его замыслах, творческих
муках, о причинах непонимания современниками. А ведь все это крайне важно
при воссоздании портрета, а тем более - "автопортрета" Теккерея.
Современная Теккерею критика, не поняв и не оценив его взглядов,
окрестила писателя "апостолом посредственности", негодуя, что его герои -
пройдохи, нувориши, убийцы, прохвосты или люди слабые, обычные. Он же,
подобно своим учителям, великим юмористам - Сервантесу и Филдингу, был
убежден, что человек - это смесь героического и смешного, благородного и
низкого, что человеческая природа бесконечно сложна, а долг честного
писателя, заботящегося об истине, не создавать увлекательные истории на
потребу толпе, но в меру сил и отпущенного таланта показывать человека во
всей его противоречивости, сложности, неповторимости.
Убежденный реалист, свято верящий в силу разума, Теккерей ополчился на
ходульные чувства, всяческие ужасы, невероятные преступления и не менее
невероятную добродетель, которые так любили описывать его современники.
Писал пародии. Они были не только отчаянно смешны, но и сыграли немаловажную
литературную роль. Под их влиянием Булвер-Литтон, король "ньюгетского
романа", сделал одного из своих героев, романтического великосветского
преступника, все же более похожим на живого, реального человека. Поднял руку
Теккерей и на Вальтера Скотта - написанное им реалистическое продолжение
"Айвенго" стало убийственной пародией на роман. Очень хотел он написать
пародию и на Диккенса. Но авторитет великого Боза остановил его. А свою
"Ярмарку тщеславия" полемически назвал "романом без героя". И в самом деле,
ни Доббин, ни Эмилия Седли, не говоря уже о членах семейства Кроули или о
лорде Стайне, не тянут на роль героя - такого, каким его понимала
викторианская публика. Герои Теккерея - люди обычные, грешные, часто слабые
и духовно ленивые. Что бы он ни писал - исторические полотна ("Генри
Эсмонд", "Виргинцы"), классическую семейную хронику ("Ньюкомы"), он всюду
создавал самую, с его точки зрения, интересную историю - историю
человеческого сердца.
Жаль, что Маргарет Форстер лишь походя пишет об отношениях Диккенса и
Теккерея - а ведь это интереснейшая страница в истории английской литературы
XIX в.! Два писателя, "сила и слава" национальной литературы, были людьми
крайне непохожими во всем, начиная от внешнего облика и манеры поведения и
кончая взглядами на искусство, роль писателя, понимание правды.
Человек эмоциональный, весь во власти минуты и настроения, Диккенс мог
быть безудержно добрым и столь же неумеренно нетерпимым даже с близкими и
друзьями, безропотно сносившими его капризы. Он, любил броскость и
чрезмерность во всем: преувеличение, гротеск, романтическое кипение чувства,
бушующее на страницах его романов, - все это было и в его обыденной жизни.
Покрой его одежды и сочетание красок не раз повергали в ужас современников,
манера и весь стиль поведения поражали, а часто вызывали и недоумение - он,
оплот и столп домашнего очага в глазах викторианского общества, сделал
семейный скандал достоянием общественности, объяснив мотивы разрыва с женой
в письме к читателям. Так и в случае с Йейтсом, не разобравшись, в чем было
дело, поверив сплетням и досужим россказням (будто бы Теккерей распускал
слухи о его связи с Эллен Тернан), Диккенс поддержал мало кому известного
журналиста, хотя тот позволил себе весьма пренебрежительные отзывы о
Теккерее, причем не только о его творчестве, но и личной жизни. Оберегая
свою честь и достоинство джентльмена, Теккерей потребовал исключения Йейтса
из клуба, членами которого были все трое. Вчитываясь сегодня в подробности
этой истории, понимаешь, что дело, конечно, было вовсе не в Йейтсе. Скандал
стал своего рода клапаном, выпустившим пары давно копившегося недовольства -
реалиста романтиком.
Каждый из писателей утверждал Правду - но свою. Диккенс создавал
гротески добра (Пиквик) и зла (Урия Гил), его безудержное воображение
вызвало к жизни дивные романтические сказки и монументальные социальные
фрески. И из-под пера Теккерея выходили монументальные полотна - "Ярмарка
тщеславия", "Генри Эсмонд", "Виргинцы", "Ньюкомы". И его сатирический бич
обличал несправедливость и нравственную ущербность. Его, как и Диккенса, о
чем красноречиво свидетельствует его переписка, влекло изображение
добродетели, но... И это "но" очень существенно. "Я могу изображать правду
только такой, как я ее вижу, и описывать лишь то, что наблюдаю. Небо
наделило меня только таким даром понимания правды, и все остальные способы
ее представления кажутся мне фальшивыми... В повседневной бытовой драме
пальто есть пальто, а кочерга-кочерга, и они, согласно моим представлениям о
нравственности, не должны быть ничем иным - ни расшитой туникой, ни
раскаленным докрасна жезлом из пантомимы".
Современники, соратники и соперники, Диккенс и Теккерей пристально
следили и за художественным развитием друг друга. Желание помериться силами
с самим Диккенсом подсказало Теккерею мысль писать "рождественские повести".
А в психологизме позднего Диккенса, автора "Больших надежд" и "Тайны Эдвина
Друда", ощутимы уроки Теккерея. Их судьбы не раз перекрещивались. Книга
Маргарет Форстер щедро проиллюстрирована рисунками Теккерея. Для многих
русских читателей будет неожиданностью узнать, что автор "Ярмарки тщеславия"
был и превосходным рисовальщиком. По какому-то издательскому недоразумению,
постепенно превратившемуся в традицию, произведения Теккерея издавались у
нас в стране или вообще без иллюстраций, или с рисунками других художников.
Конечно, нелепость, особенно если вспомнить, что Теккерей собирался стать
художником-профессионалом, а вовсе не писателем. Помешал Диккенс. Дело,
впрочем, было так.
Первые выпуски "Посмертных записок Пиквикского клуба" со смешными
иллюстрациями Роберта Сеймура уже успели полюбиться читателям, когда
художник покончил с собой. Нужно было срочно искать замену. Диккенс объявил
конкурс. В числе претендентов на роль нового иллюстратора "Пиквика" был
некий Теккерей. Прихватив с собой папку с рисунками, в основном карикатурами
и сатирическими зарисовками, он пришел на прием к молодому писателю, имя
которого уже гремело на всю Англию. Но "Диккенс отклонил кандидатуру
Теккерея.
Для Диккенса то была случайная, не оставшаяся в памяти встреча. Для
Теккерея визит оказался решающим. Он был на перепутье: чем зарабатывать на
жизнь - пером или карандашом?
Кто знает, если бы не Диккенс, может быть, английская графика имела бы
в лице Теккерея достойного продолжателя традиций великого Хогарта, книжного
иллюстратора уровня Крукшенка, Лича, Тенниела, но зато потеряла бы автора
"Ярмарки тщеславия", "Генри Эсмонда", "Ньюкомов".
Несмотря на отказ Диккенса, Теккерей не бросил рисовать - слишком
сильна оказалась в нем художническая склонность. Он рисовал всюду - на полях
книг, счетах в ресторане, театральных билетах, прерывал текст писем, чтобы
быстрее "договорить" мысль карандашом, иллюстрировал - и с блеском - свои
произведения. До сих пор точно не известно количество созданных Теккереем
рисунков. По некоторым, весьма приблизительным, данным их более 2000!
Теккерей - далеко не единственный пример сочетания живописного и
литературного дарования. Можно вспомнить Уильяма Блейка, Данте Габриеля
Россетти. Создавал свои акварели и офорты Виктор Гюго, оставил наброски
иллюстраций к "Запискам странствующего энтузиаста" Э.-Т.-А. Гофман. Рисовали
Пушкин, Лермонтов, Достоевский. Хотя мера художественного дарования им была
отпущена разная, в любом случае это свидетельство переизбытка творческой
энергии, настоятельно требующей выхода.
О переизбытке творческой энергии говорит и поэтический дар Теккерея, о
чем мельком упомянуто в книге Маргарет Форстер. К своим стихам Теккерей
относился - во всяком случае на словах - крайне легкомысленно, как к забаве,
годной лишь для страницы дамского альбома. Однако не только альбомы знакомых
дам украшают его стихи. Желание выразить мысль или чувство поэтической
строкой было у Теккерея не менее сильно, чем стремление объясниться линией.
Стихи можно встретить почти во всех произведениях Теккерея - его ранних
сатирических повестях, путевых очерках, рассказах, в "Ярмарке тщеславия",
"Пенденнисе". Они широко печатались и в журналах, с которыми сотрудничал
Теккерей. Многие сопровождались рисунками и вместе с ними составляли
своеобразные серии.
Теккерей писал откровенно юмористические стихи, стихи-пародии
("Страдания молодого Вертера"), политические сатиры ("В день святого
Валентина"), поэмы, обнаруживающие его несомненный дар исторического
писателя, автора "Генри Эсмонда" и "Виргинцев". Превосходны лирические
стихотворения писателя, подкупающие искренностью выраженного в них чувства.
Многие вдохновлены любовью Теккерея к жене его друга - Джейн Брукфилд - об
этом романе подробно рассказывает Маргарет Форстер. Примечательна и
несколько тяжеловесная эпическая поэма Теккерея "Святая София",
свидетельствующая, что Россия, русские, их история, несомненно, интересовали
его. Кстати, и в романах писателя часто можно встретить казалось бы
неожиданные для английского прозаика ссылки на русскую историю, замечания об
особенностях русского национального характера.
Но и русскую читающую публику занимал этот английский писатель. "Наши
журналы буквально помешались на Диккенсе и Теккерее", - писал один из
критиков журнала "Отечественные записки". Периодические издания разных
направлений и ориентации наперебой печатали все, что выходило из-под пера
английских писателей. Ему вторил критик из "Сына отечества": ""Ярмарку
тщеславия" знают все русские читатели!"
Нередко одно и то же произведение Теккерея печаталось параллельно в
разных журналах и в разных переводах. "Ярмарка тщеславия", или "Базар
житейской суеты", как называли роман в самых первых русских переводах, вышла
в 1850 г. в приложении к журналу "Современник" и в "Отечественных записках".
Также и "Ньюкомы" в 1855 г. появились практически одновременно в приложении
к журналу "Современник" и в "Библиотеке для чтения".
И все же сердце русского читателя безраздельно было отдано Диккенсу,
популярность которого в России, действительно, была феноменальной.
Конечно, произведения Теккерея были в библиотеке Некрасова, Герцена,
Писарева, Добролюбова, Чернышевского, Тургенева, Толстого, Достоевского. Но,
пожалуй, из всех русских писателей лишь Чернышевский высказался подробно о
его творчестве. У остальных - беглые замечания. Листая статьи и переписку
русских писателей, невольно задаешься вопросом: "А знали ли они Теккерея?"
В самом деле, не странно ли, что великий русский сатирик
Салтыков-Щедрин ни строчки не написал о великом сатирике земли английской?
Конечно, странно, особенно если задуматься над несомненным сходством "Книги
снобов" и "Губернских очерков", над безжалостностью обличительного пафоса
"Ярмарки тщеславия", который не мог не быть близок всему духу творчества
Салтыкова-Щедрина. Странно еще и потому, что в хронике "Наша общественная
жизнь" (1863) Салтыков-Щедрин писал о путешествующем англичанине, который
"везде является гордо и самоуверенно и везде приносит с собой свой родной
тип со всеми его сильными и слабыми сторонами". Эти слова удивительным
образом напоминают отрывок из рассказа Теккерея "Киккельбери на Рейне"
(1850): "Мы везде везем с собой нашу нацию, мы на своем острове, где бы мы
ни находились".
Более того, кропотливые текстологические разыскания показали, что и те
русские писатели, которые оставили весьма скупые заметки о Теккерее, иногда
заимствовали образы и целые сюжетные линии из его произведений. Например,
Достоевский, видимо, был внимательным читателем Теккерея. Ему, несомненно,
был знаком перевод рассказа "Киккельбери на Рейне", который под заголовком
"Английские туристы" появился в той же книжке "Отечественных записок" (1851,
э 6, отд. VIII, с. 106-144), что и комедия брата писателя, Михаила
Михайловича Достоевского, "Старшая и младшая". Помимо заглавия, переводчик
А. Бутаков переделал и название, данное Теккереем вымышленному немецкому
курортному городку с игорным домом, - Rougenoirebourg, т. е. "город красного
и черного", - на Рулетенбург. И что же - именно так называется город в
"Игроке"! Кроме того, есть и некоторое сходство между авантюристкой Бланш и
принцессой де Могадор в рассказе Теккерея, оказавшейся французской
модисткой. Следует также отметить, что у Достоевского и у Теккерея англичане
живут в отеле "Четыре времени года". Просматривается сходство между "Селом
Степанчиковом" и "Ловелем-вдовцом": подобно герою повести Теккерея, владелец
имения у Достоевского - слабовольный, хороший человек, который, наконец,
находит в себе силы восстать против деспотизма окружающих его прихлебателей
и женится на гувернантке своих детей.
Не менее парадоксальны творческие отношения Толстого и Теккерея.
Однажды на вопрос, как он оценивает творчество английского писателя, Толстой
отмахнулся, в другой раз заметил, что "ему далеко до Диккенса", а как-то еще
сказал: "Теккерей и Гоголь верны, злы, художественны, но не любезны...
Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу и про страдания, а
литература нашего века есть только бесконечная повесть "Снобсов" и
"Тщесславия"". Принадлежит ему и такое уничижительное высказывание, о
Теккерее: "Существует три признака, которыми должен обладать хороший
писатель. Во-первых, он должен сказать что-то ценное. Во-вторых, он должен
правильно выразить это. В-третьих, он должен быть правдивым... Теккерей мало
что мог сказать, но писал с большим искусством, к тому же он не всегда был
искренним".
Однако не менее любопытно и другое - отчетливый интерес Толстого к
Троллопу, в книгах которого он высоко ценил "диалектику души" и "интерес
подробностей чувства, заменяющий интерес самих событий". Но ведь
Троллоп-психолог с его "диалектикой души" - прямой ученик Теккерея!
Кстати, и Чернышевский, с чьей легкой руки за "Ньюкомами" Теккерея
закрепилась "слава" слабого произведения ("Русская публика... осталась
равнодушна к "Ньюкомам" и вообще приготовляется, по-видимому, сказать про
себя: "Если вы, г. Теккерей, будете продолжать писать таким образом, мы
сохраним подобающее уважение к вашему великому таланту, но извините -
отстанем от привычки читать ваши романы"), все же несколько недооценил
особенный строй "Ньюкомов". Он ожидал увидеть нечто похожее на "Ярмарку
тщеславия". И потому этот "слишком длинный роман... в 1042 страницы"
показался ему "беседой о пустяках". И все же - что это были за пустяки?
Ответ на вопрос содержится в статье самого Чернышевского. Определяя талант
Теккерея, он пишет: "Какое богатство наблюдательности, какое знание жизни,
какое знание человеческого сердца..." Вот именно - человеческого сердца,
психологически тонкому рассказу о котором посвящены лучшие страницы
"Ньюкомов".
Скептик по натуре, склонный к анализу и созерцанию, писатель, развивший
свои природные данные настойчивой работой и чтением, Теккерей - пример
художника, у которого выраженный сатирический дар сочетался, однако, с не
менее выраженной эмоциональностью. Совсем не всегда в его прозе слышится
свист бича. Сила ее нравственного и эстетического воздействия в другом -
всепроникающей иронии.
Отчасти именно эта ирония повинна в том, что Теккерея так часто не
понимали или понимали превратно, и ему приходилось объясняться, доказывать,
например, что его собственная позиция иная, чем у рассказчика, что
авантюрист Барри Линдон и он не одно и то же лицо. В этом было его
новаторство, но европейская проза смогла освоить эстетические заветы
Теккерея лишь в конце века.
Время - лучший и самый беспристрастный судья. Оно все расставит по
местам и воздаст должное тем, кого слава обделила при жизни.
Книга Маргарет Форстер тоже вносит свой вклад в восстановление
справедливости. Поближе узнав Теккерея, прожив вместе с ним на ее страницах
его недолгую, но полную драматизма жизнь, может быть, русский читатель
вспомнит, что он - автор не только "Ярмарки тщеславия", но и других
замечательных книг, входящих по праву в золотой фонд мировой классики.
Е. Гениева
^T1^U
^TРассказ о рождении и воспитании героя^U
Жил некогда в Лондоне высокий человек, написавший много книг. Их очень
ценила читающая публика, но сам автор, хоть они и принесли ему целое
состояние, оставался ими недоволен. Однажды усталый, больной и печальный,
без всякого желания работать, сидел он в кабинете своего прекрасного дома на
Пэлас-Грин в Кенсингтоне и вдруг почувствовал, как бы ему хотелось, чтобы
его грядущие читатели узнали, что он был за человек и ради чего писал. В
раздумье глядел он на большие вязы за окном. Можно было, конечно, обратиться
к собратьям-литераторам, чтобы они составили его жизнеописание, охотники
нашлись бы, ведь как-никак он был литературный лев, но нет, ему не этого
хотелось. Поерзав в кресле и неодобрительно глянув на солнце, в лучах
которого еще мрачнее казалось его душевное ненастье, он сделал круг-другой
по комнате, постучал карандашом по столу, сказал вслух "Нет", очень грозно
"Да" и завершил все тем, что, обмакнув перо в чернильницу, стал что-то
строчить своим наклонным почерком. Не знаю, что он написал, но только тотчас
скомкал написанное, швырнул в корзину, не попал, и мятая бумажка осталась на
великолепнейшем ковре. (Замечу мимоходом, что комната его была великолепна,
то была лучшая комната на свете.)
Затем он стал вздыхать и что-то бормотать, разок-другой даже
чертыхнулся, потом спокойно сел, сложив на груди руки, и задумался. Что-то
его мучило, и он никак не мог ни на что решиться. Как было сказано, ему
хотелось открыть себя потомству - только не повторяйте этого слишком громко,
его смущала грубая определенность слов, - с другой стороны, идея казалась
ему несколько рискованной, - надеюсь, вы меня понимаете. Он не монарх, не
политический трибун, не знаменитый первооткрыватель, не чудодейственный
целитель, не почтенный богослов, а только литератор, сочинитель вымыслов,
зачем столь заурядной личности садиться за мемуары? Ему заранее слышались
смешки, вопросы, что получится, если все, кому не лень, примутся писать
воспоминания: если метельщики станут нам докучать рассказами о славных
выметенных кучах сора, стряпухи - о картофеле, который им доводилось
чистить, лакеи - ... Впрочем, всем нам недавно попадались их заметки, и
думаю, о них мне лучше умолчать. Словом, то был вопрос, за которым
скрывались три других вопроса.
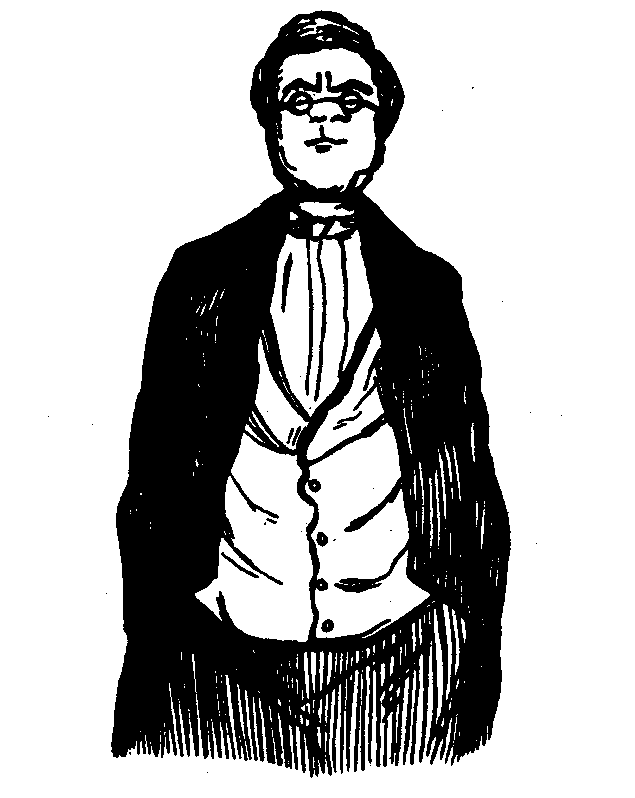 Первый, наверное, удивит вас: будут ли люди читать его воспоминания?
Надеюсь, вам не смешно, что он об этом беспокоился? То была просто
честность: ради себя писать не стоит, он про себя и так все знал, какой же
толк трудиться, если никто читать не станет? Тогда он спросил себя, хотел ли
бы он прочесть рассказ о жизни Филдинга, оставь тот по себе воспоминания? И
тут же радостно подпрыгнул в кресле. А захотел бы я прочесть, - спросил он
себя снова, - реестр унылой жизни Блоггса? Да ни за что на свете! Но как
решить, кем он покажется потомкам, - Филдингом или Блоггсом? Пожалуй, надо
принять себя за некую среднюю величину и вновь обдумать этот же вопрос. Так
он и сделал и сказал себе, что если в нем отыщется хоть малая крупица
Филдинга, потомкам это будет интересно. После чего он повеселел и перешел к
вопросу номер два: а хорошо ли самому себя описывать? Его тревожил привкус
самолюбования, присущий всякой автобиографии, тем более что он не мог
поведать о великих исторических событиях - на его веку их не было. Тут он
несколько пал духом, но тотчас спросил себя, ради чего он сам читает
мемуары. Пожалуй, мысли, чувства и надежды каждого отдельного солдата,
идущего на приступ со штыком наперевес, ему дороже, чем выверенное описание
последней атаки при Ватерлоо. Нам интересны подробности жизни другого
человека, а не большие исторические панорамы. Пожалуй, история - не свод
событий, а те, кого они касаются. И нечего стыдиться собственного
любопытства - оно естественно, закономерно и простительно. Дойдя до этих
рассуждений, он улыбнулся и одобрительно кивнул, хотя, кроме нас с вами, его
никто не видел. Теперь он чувствовал, что все права и полномочия писать
воспоминания принадлежат ему и никому другому, да и кто лучше него знал, что
он испытывал в каждую прожитую минуту? Тут мысль о вопросе номер три стерла
с его лица улыбку; то было ужасное, кошмарное видение, которому он страшился
взглянуть в глаза, короче говоря, то был вопрос о содержании. О чем он,
собственно, хотел писать и в каком ключе?
В его кабинете стояло несколько увесистых томов воспоминаний -
минуточку терпения, сейчас я вам открою его прославленное имя, - он их
достал и стал просматривать. Конечно, он их читал и прежде, книгочий он был
неутомимый, но, рассудив, что надо освежить их в памяти, стал их листать и
приговаривать "О да", "Конечно", "Помню", и все листал, листал, зачитываясь
на минуту, потом захлопнул очередной том, застонал, опустил свою
взлохмаченную седую голову на руки и погрузился в уныние. Ни за что на свете
не хотел бы он оказаться автором или героем какой-нибудь из этих книг. К
чему же он стремился? Из-за чего так волновался? Жизнь как у всех, не так
ли? Рассказывая о себе, мы начинаем с появления на свет и школьных дней,
доводим дело до женитьбы, до топота крохотных ножек, до первых заработков,
триумфов и провалов, а завершаем тем, что, поседев, садимся у камина и
поучаем младших кто во что горазд. Все было верно в этих мемуарах, но ничего
похожего он рассказывать не собирался. Если вы стали знаменитостью, это еще
не значит, что следует тащить на свет докучные житейские подробности,
которые вас ничуть не красят. Кто хочет знать, когда и где привили оспу
вашей бабушке и что вы изрекли шести лет от роду? Что тут забавного,
полезного и поучительного? Все это не стоящий упоминания вздор, сказал себе
наш герой с облегчением, и незачем считаться с прецедентами. Нет, на уме у
него было совсем иное. Положим, он заговорит с читателем спокойно, просто, в
задушевной дружеской манере, словно в письме к давнишнему другу, чтобы
разделить с ним горести и радости, открыть любовь и ненависть, - впрочем,
последней должно быть как можно меньше, нельзя, чтобы книга ею дышала, да и,
правду сказать, не так уж часто он ее испытывал. Положим, он напишет книгу
для чтения на сон грядущий, в которую заглядываешь на досуге, смеешься,
дремлешь, просыпаешься, еще немного почитаешь, отложишь в сторону и дальше в
том же духе, положим, он ее напишет, то ли это, что он задумал? Возможно,
его высмеют, скажут, что это жалкая и легковесная книжонка, но что за
важность, ведь именно такую ему хотелось написать. Пожалуй, перед тем как
складывать в последний путь пожитки, а он стал чувствовать, что этот путь
уже не за горами, он будет рад оставить такую визитную карточку. Уж лучше
незатейливый рассказ, чем скучные тома пустых житейских мелочей и неуклюжих
славословий, посвященные иным его собратьям. Конечно, это дерзкая затея, но
тем она ему и нравится.
Он явно был доволен. Его печальное лицо озарилось улыбкой, он расправил
плечи и, выпрямившись, сел за стол. Что же, это будет странная, но здравая
попытка - так посмотреть на собственную жизнь. Щадить себя он не намерен, он
честно исповедуется в заблуждениях, не укрывая их последствий. Порой ему
предстоят малоприятные признания: далеко не всегда он вел себя как должно -
зато он обретет более широкий взгляд на вещи, которого ему не доставало в
гуще жизненной борьбы. Он ясно понимал, что основные жизненные схватки
остались позади и что отныне перед ним прямая, как стрела, дорога, - теперь
удобно вспоминать все прежние повороты и ухабы. После чего, уже в прекрасном
настроении, он стал обдумывать, как построить рассказ: выдерживать ли
хронологию, писать от первого или от третьего лица, давать ли оценку
собственным сочинениям и т. п. Шаг за шагом он выработал свод правил,
которых собирался придерживаться, составил перечень недостающих сведений и
писем, хранившихся у прежних корреспондентов, - список того, сего, и вскоре
стол оказался завален бумагами; тут он откинулся назад и вытер лоб платком,
в углу которого были вышиты инициалы: У.М.Т....
Ну вот и все! Игра окончена, и вы, конечно, дорогой читатель, раскрыли
ее с самого начала. Вот и отлично, ибо наш герой не собирался прятаться под
маской. Коль скоро это автобиография, значит, нужно представиться по всей
форме, сказать, кто вы такой и к чему ведете речь, а не скрываться за
изощренными литературными приемами. К чему стыдиться собственного "я"? Что в
нем зазорного? По-моему, тот, кто именует себя "один человек", страдает
расщеплением личности: одну выставляет напоказ, другую ото всех скрывает, я
не хотел бы оказаться в этой роли. Чтобы мое послание к вам имело хоть
малейший смысл, мои юные друзья, необходима честность - лучшая политика.
Когда вам попадутся эти строки, я буду в мире ином, к чему же сохранять
иллюзии? Уж каков есть, как порой кричат в порыве раздражения те, кто не
сомневается в своей великой ценности. В своей собственной я вовсе не уверен,
но делать нечего. Боюсь, что буду уклоняться в сторону и, оседлав любимого
конька, помчусь на нем во весь опор, боюсь, что буду углубляться в
посторонние материи, но в одном можете не сомневаться - измысливать я ничего
не буду. И замалчивать тоже. Я не стану обходить молчанием ту или иную сцену
лишь оттого, что она придется не по вкусу вашей матушке, но оставлю за собой
право не входить в подробности, которых никто не вправе знать. Мне чудятся
смешки, я слышу, как вы говорите, что малый запирается, еще не приступив к
рассказу, - намекает, что не заикнется ни о шести трупах в погребе, ни о
своей деревянной ноге, ни о пропаже собственного сына при невыясненных
обстоятельствах. О нет, напротив, сэр, я собираюсь вас потешить
подробностями всех совершенных мной убийств, а что касается протеза, то как
же не похвастать, что под Ватерлоо я вел в атаку кавалерию? Нет, умолчу я о
другом - я умолчу о личном и интимном, о чем не следует судачить и - очень
вас прошу - не следует писать. Но играть я буду честно: дойдя до такой темы,
я буду каждый раз выбрасывать предупреждающий флаг, и вы поймете, что я это
делаю из скромности и робости, а не из трусости. Я не могу смущать людей
лишь оттого, что мне вздумалось писать автобиографию, к тому же я не верю,
что разумная сдержанность может помешать правде. Все это вздор.
Первый, наверное, удивит вас: будут ли люди читать его воспоминания?
Надеюсь, вам не смешно, что он об этом беспокоился? То была просто
честность: ради себя писать не стоит, он про себя и так все знал, какой же
толк трудиться, если никто читать не станет? Тогда он спросил себя, хотел ли
бы он прочесть рассказ о жизни Филдинга, оставь тот по себе воспоминания? И
тут же радостно подпрыгнул в кресле. А захотел бы я прочесть, - спросил он
себя снова, - реестр унылой жизни Блоггса? Да ни за что на свете! Но как
решить, кем он покажется потомкам, - Филдингом или Блоггсом? Пожалуй, надо
принять себя за некую среднюю величину и вновь обдумать этот же вопрос. Так
он и сделал и сказал себе, что если в нем отыщется хоть малая крупица
Филдинга, потомкам это будет интересно. После чего он повеселел и перешел к
вопросу номер два: а хорошо ли самому себя описывать? Его тревожил привкус
самолюбования, присущий всякой автобиографии, тем более что он не мог
поведать о великих исторических событиях - на его веку их не было. Тут он
несколько пал духом, но тотчас спросил себя, ради чего он сам читает
мемуары. Пожалуй, мысли, чувства и надежды каждого отдельного солдата,
идущего на приступ со штыком наперевес, ему дороже, чем выверенное описание
последней атаки при Ватерлоо. Нам интересны подробности жизни другого
человека, а не большие исторические панорамы. Пожалуй, история - не свод
событий, а те, кого они касаются. И нечего стыдиться собственного
любопытства - оно естественно, закономерно и простительно. Дойдя до этих
рассуждений, он улыбнулся и одобрительно кивнул, хотя, кроме нас с вами, его
никто не видел. Теперь он чувствовал, что все права и полномочия писать
воспоминания принадлежат ему и никому другому, да и кто лучше него знал, что
он испытывал в каждую прожитую минуту? Тут мысль о вопросе номер три стерла
с его лица улыбку; то было ужасное, кошмарное видение, которому он страшился
взглянуть в глаза, короче говоря, то был вопрос о содержании. О чем он,
собственно, хотел писать и в каком ключе?
В его кабинете стояло несколько увесистых томов воспоминаний -
минуточку терпения, сейчас я вам открою его прославленное имя, - он их
достал и стал просматривать. Конечно, он их читал и прежде, книгочий он был
неутомимый, но, рассудив, что надо освежить их в памяти, стал их листать и
приговаривать "О да", "Конечно", "Помню", и все листал, листал, зачитываясь
на минуту, потом захлопнул очередной том, застонал, опустил свою
взлохмаченную седую голову на руки и погрузился в уныние. Ни за что на свете
не хотел бы он оказаться автором или героем какой-нибудь из этих книг. К
чему же он стремился? Из-за чего так волновался? Жизнь как у всех, не так
ли? Рассказывая о себе, мы начинаем с появления на свет и школьных дней,
доводим дело до женитьбы, до топота крохотных ножек, до первых заработков,
триумфов и провалов, а завершаем тем, что, поседев, садимся у камина и
поучаем младших кто во что горазд. Все было верно в этих мемуарах, но ничего
похожего он рассказывать не собирался. Если вы стали знаменитостью, это еще
не значит, что следует тащить на свет докучные житейские подробности,
которые вас ничуть не красят. Кто хочет знать, когда и где привили оспу
вашей бабушке и что вы изрекли шести лет от роду? Что тут забавного,
полезного и поучительного? Все это не стоящий упоминания вздор, сказал себе
наш герой с облегчением, и незачем считаться с прецедентами. Нет, на уме у
него было совсем иное. Положим, он заговорит с читателем спокойно, просто, в
задушевной дружеской манере, словно в письме к давнишнему другу, чтобы
разделить с ним горести и радости, открыть любовь и ненависть, - впрочем,
последней должно быть как можно меньше, нельзя, чтобы книга ею дышала, да и,
правду сказать, не так уж часто он ее испытывал. Положим, он напишет книгу
для чтения на сон грядущий, в которую заглядываешь на досуге, смеешься,
дремлешь, просыпаешься, еще немного почитаешь, отложишь в сторону и дальше в
том же духе, положим, он ее напишет, то ли это, что он задумал? Возможно,
его высмеют, скажут, что это жалкая и легковесная книжонка, но что за
важность, ведь именно такую ему хотелось написать. Пожалуй, перед тем как
складывать в последний путь пожитки, а он стал чувствовать, что этот путь
уже не за горами, он будет рад оставить такую визитную карточку. Уж лучше
незатейливый рассказ, чем скучные тома пустых житейских мелочей и неуклюжих
славословий, посвященные иным его собратьям. Конечно, это дерзкая затея, но
тем она ему и нравится.
Он явно был доволен. Его печальное лицо озарилось улыбкой, он расправил
плечи и, выпрямившись, сел за стол. Что же, это будет странная, но здравая
попытка - так посмотреть на собственную жизнь. Щадить себя он не намерен, он
честно исповедуется в заблуждениях, не укрывая их последствий. Порой ему
предстоят малоприятные признания: далеко не всегда он вел себя как должно -
зато он обретет более широкий взгляд на вещи, которого ему не доставало в
гуще жизненной борьбы. Он ясно понимал, что основные жизненные схватки
остались позади и что отныне перед ним прямая, как стрела, дорога, - теперь
удобно вспоминать все прежние повороты и ухабы. После чего, уже в прекрасном
настроении, он стал обдумывать, как построить рассказ: выдерживать ли
хронологию, писать от первого или от третьего лица, давать ли оценку
собственным сочинениям и т. п. Шаг за шагом он выработал свод правил,
которых собирался придерживаться, составил перечень недостающих сведений и
писем, хранившихся у прежних корреспондентов, - список того, сего, и вскоре
стол оказался завален бумагами; тут он откинулся назад и вытер лоб платком,
в углу которого были вышиты инициалы: У.М.Т....
Ну вот и все! Игра окончена, и вы, конечно, дорогой читатель, раскрыли
ее с самого начала. Вот и отлично, ибо наш герой не собирался прятаться под
маской. Коль скоро это автобиография, значит, нужно представиться по всей
форме, сказать, кто вы такой и к чему ведете речь, а не скрываться за
изощренными литературными приемами. К чему стыдиться собственного "я"? Что в
нем зазорного? По-моему, тот, кто именует себя "один человек", страдает
расщеплением личности: одну выставляет напоказ, другую ото всех скрывает, я
не хотел бы оказаться в этой роли. Чтобы мое послание к вам имело хоть
малейший смысл, мои юные друзья, необходима честность - лучшая политика.
Когда вам попадутся эти строки, я буду в мире ином, к чему же сохранять
иллюзии? Уж каков есть, как порой кричат в порыве раздражения те, кто не
сомневается в своей великой ценности. В своей собственной я вовсе не уверен,
но делать нечего. Боюсь, что буду уклоняться в сторону и, оседлав любимого
конька, помчусь на нем во весь опор, боюсь, что буду углубляться в
посторонние материи, но в одном можете не сомневаться - измысливать я ничего
не буду. И замалчивать тоже. Я не стану обходить молчанием ту или иную сцену
лишь оттого, что она придется не по вкусу вашей матушке, но оставлю за собой
право не входить в подробности, которых никто не вправе знать. Мне чудятся
смешки, я слышу, как вы говорите, что малый запирается, еще не приступив к
рассказу, - намекает, что не заикнется ни о шести трупах в погребе, ни о
своей деревянной ноге, ни о пропаже собственного сына при невыясненных
обстоятельствах. О нет, напротив, сэр, я собираюсь вас потешить
подробностями всех совершенных мной убийств, а что касается протеза, то как
же не похвастать, что под Ватерлоо я вел в атаку кавалерию? Нет, умолчу я о
другом - я умолчу о личном и интимном, о чем не следует судачить и - очень
вас прошу - не следует писать. Но играть я буду честно: дойдя до такой темы,
я буду каждый раз выбрасывать предупреждающий флаг, и вы поймете, что я это
делаю из скромности и робости, а не из трусости. Я не могу смущать людей
лишь оттого, что мне вздумалось писать автобиографию, к тому же я не верю,
что разумная сдержанность может помешать правде. Все это вздор.
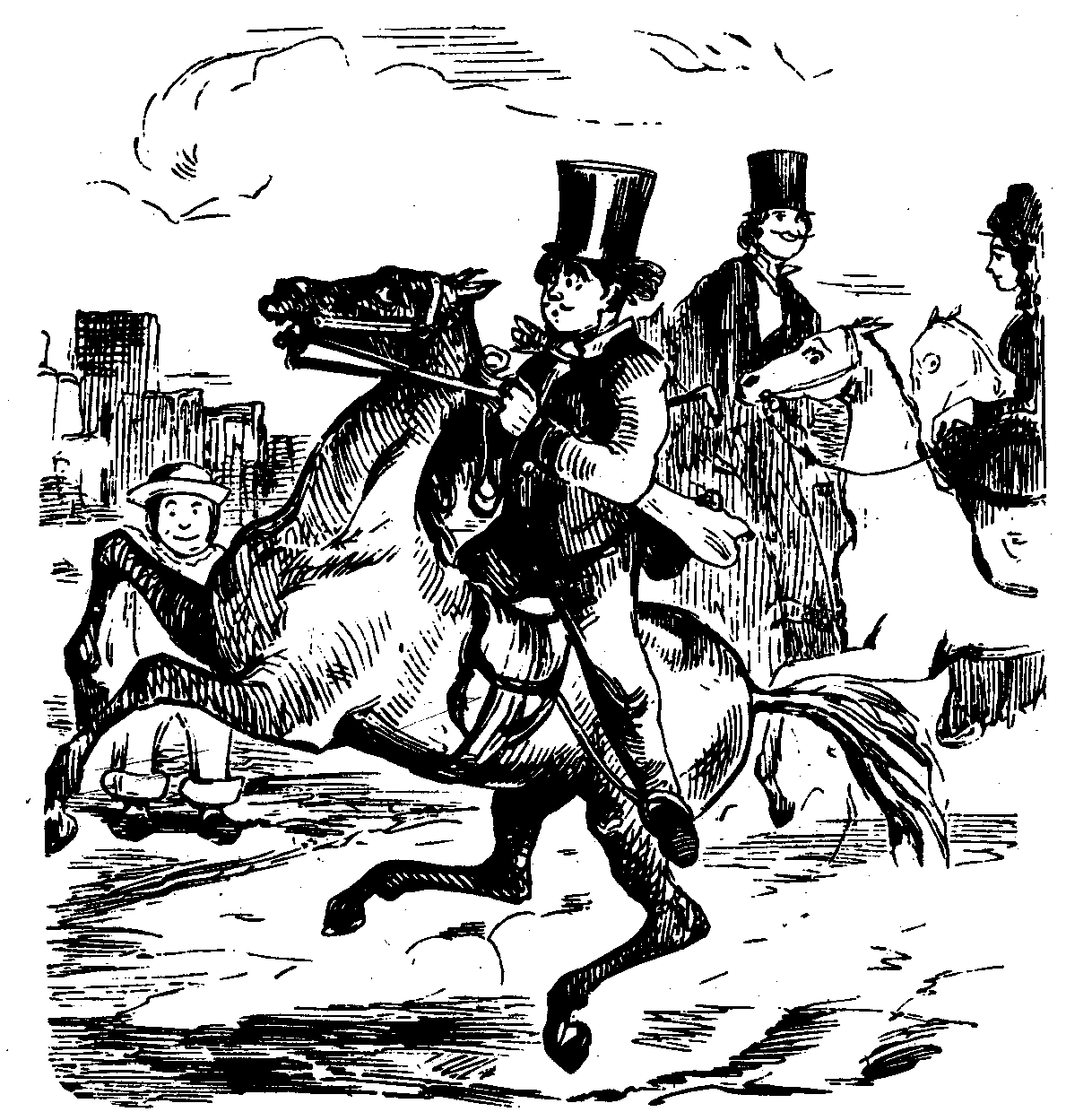 С чего начать? Меня заранее подстерегают трудности, ибо свое рождение я
помню так же мало, как и вы свое. Тут нам бы пригодилось свидетельство моей
матушки, но мне столько раз рассказывали об этом событии, что вы, надеюсь,
поверите мне на слово, и мы не станем отрывать ее, ибо как раз сейчас, в
соседней комнате, она жестоко распекает горничную за то, что ее платья -
речь, разумеется, идет о матушкиных платьях - уложены в дорогу не так, как
полагается. Я горячо сочувствую горничной, ибо матушка - завзятая
путешественница, вследствие чего ее гардероб всегда находится в пугающей
готовности и требует весьма ответственного отношения.
Однако вернемся к моему рождению. Я появился на свет в Калькутте, 18
июля 1811 года, и это вы, конечно, вправе знать. Но то, что родился я раньше
времени и доставил близким тяжкие волнения в первые месяцы жизни, а также
прочий сентиментальный вздор, который обрушила бы на вас моя матушка,
отвлеки я ее от багажа и горничной, я излагать не стану. Довольно даты и
места моего рождения. На этих страницах вам еще не раз представится случай
узнать мою матушку, поэтому не стану вас обременять подробным рассказом о
ней в пору моего рождения, сведения же об отце достались мне из вторых рук,
и я мало что могу сказать. Звали его Ричмонд Теккерей, он умер, когда мне
было всего четыре года. Родом он был из Йоркшира и, следуя семейной
традиции, служил в Индии. Рассказывали, что он был высокий, добродушный, со
склонностью к искусству - слова "высокий" и "со склонностью" рождали у меня
в детстве образ высокого, накренившегося дерева, - и, будь он жив, был бы
мне, наверное, прекрасным отцом. Я рос единственным ребенком, правда,
впоследствии с удивлением узнал, что у меня была единокровная темнокожая
сестренка, - по местному обычаю, отец завел жену-туземку. Вы только
вообразите, маленькая смуглая девочка по фамилии Теккерей! Останься я в
Индии, мы бы, возможно, подружились, и я не знал бы в детстве такого
отчаянного одиночества.
С чего начать? Меня заранее подстерегают трудности, ибо свое рождение я
помню так же мало, как и вы свое. Тут нам бы пригодилось свидетельство моей
матушки, но мне столько раз рассказывали об этом событии, что вы, надеюсь,
поверите мне на слово, и мы не станем отрывать ее, ибо как раз сейчас, в
соседней комнате, она жестоко распекает горничную за то, что ее платья -
речь, разумеется, идет о матушкиных платьях - уложены в дорогу не так, как
полагается. Я горячо сочувствую горничной, ибо матушка - завзятая
путешественница, вследствие чего ее гардероб всегда находится в пугающей
готовности и требует весьма ответственного отношения.
Однако вернемся к моему рождению. Я появился на свет в Калькутте, 18
июля 1811 года, и это вы, конечно, вправе знать. Но то, что родился я раньше
времени и доставил близким тяжкие волнения в первые месяцы жизни, а также
прочий сентиментальный вздор, который обрушила бы на вас моя матушка,
отвлеки я ее от багажа и горничной, я излагать не стану. Довольно даты и
места моего рождения. На этих страницах вам еще не раз представится случай
узнать мою матушку, поэтому не стану вас обременять подробным рассказом о
ней в пору моего рождения, сведения же об отце достались мне из вторых рук,
и я мало что могу сказать. Звали его Ричмонд Теккерей, он умер, когда мне
было всего четыре года. Родом он был из Йоркшира и, следуя семейной
традиции, служил в Индии. Рассказывали, что он был высокий, добродушный, со
склонностью к искусству - слова "высокий" и "со склонностью" рождали у меня
в детстве образ высокого, накренившегося дерева, - и, будь он жив, был бы
мне, наверное, прекрасным отцом. Я рос единственным ребенком, правда,
впоследствии с удивлением узнал, что у меня была единокровная темнокожая
сестренка, - по местному обычаю, отец завел жену-туземку. Вы только
вообразите, маленькая смуглая девочка по фамилии Теккерей! Останься я в
Индии, мы бы, возможно, подружились, и я не знал бы в детстве такого
отчаянного одиночества.
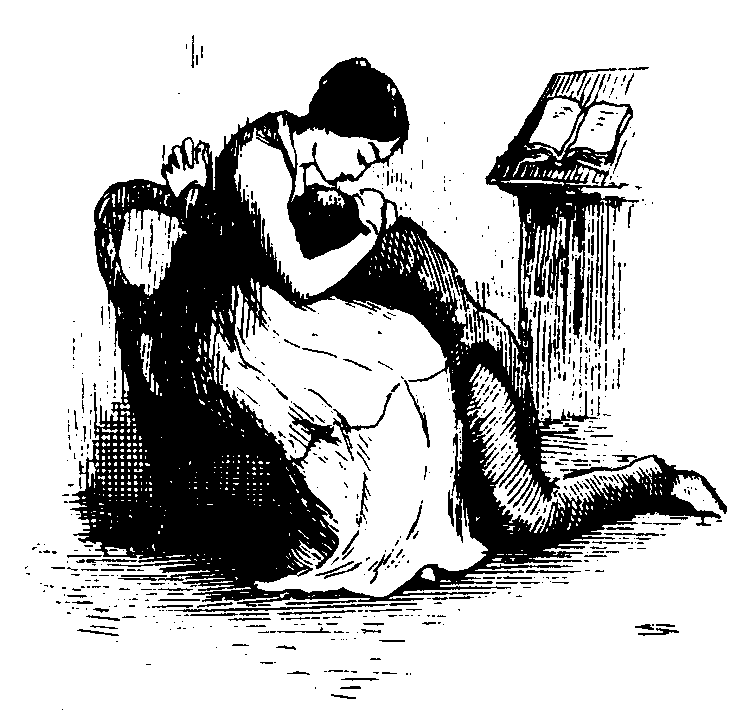 Похоже, что мое повествование будет прерываться продолжительными
паузами. Я добрых полчаса раздумывал, вправе ли я так писать о детстве, - я
не хочу преувеличивать свои горести, винить других и делать больно матушке.
Когда я говорю, что был одинок, а значит, и несчастен, я вовсе не хочу
сказать, что знал великие лишения, недоедал, переносил побои или холодными
ночами дрожал на улице в одних лохмотьях. Ничуть не бывало, но у ребенка
есть и другие поводы чувствовать себя несчастным. Факты красноречивы и
подтверждают мои жалобы: представьте себе пятилетнего мальчика, которого
отрывают от матери и посылают к неведомым родственникам за тысячи миль от
дома. Представьте себе этого же мальчика, любящее, кроткое и нежное
создание, привыкшее к ласковым объятиям матери, к солнцу и приволью Индии, в
холодной, серой Англии, где до него и всех его достоинств никому нет дела.
По-моему, не нужно особого воображения, чтобы всплакнуть над ним. Из
плавания на "Принце-регенте" мне почти ничего не запомнилось - кроме того,
что мы заходили на Св. Елену и моя смуглокожая нянька, показав мне
Наполеона, заявила, что он съел всех маленьких детей, каких сумел
заполучить, - но я не могу забыть чувства безмерного, подавленного горя и
страшной жизненной незащищенности, хоть я почти не плакал, разве только
ночью, под одеялом. Моя тетушка Ритчи вполне резонно писала матушке, что я
отлично устроился и с виду совершенно счастлив. Как быстро мы, взрослые,
решаем, что ребенок "совершенно счастлив"! Стоит ему немножко поболтать,
обрадоваться, что его погладили по головке, примерно держаться за обедом,
трогательно помолиться, как мы заключаем, что он "вполне счастлив". Никто не
пробует за болтовней увидеть отчаянные усилия понравиться, заметить за
улыбкой жажду одобрения, угадать страх - в молчании, неискренность - в
молитвах. Если дети сыты и спят в чистых постельках, мы уверены, что они
"совершенно счастливы", и дело с концом.
Похоже, что мое повествование будет прерываться продолжительными
паузами. Я добрых полчаса раздумывал, вправе ли я так писать о детстве, - я
не хочу преувеличивать свои горести, винить других и делать больно матушке.
Когда я говорю, что был одинок, а значит, и несчастен, я вовсе не хочу
сказать, что знал великие лишения, недоедал, переносил побои или холодными
ночами дрожал на улице в одних лохмотьях. Ничуть не бывало, но у ребенка
есть и другие поводы чувствовать себя несчастным. Факты красноречивы и
подтверждают мои жалобы: представьте себе пятилетнего мальчика, которого
отрывают от матери и посылают к неведомым родственникам за тысячи миль от
дома. Представьте себе этого же мальчика, любящее, кроткое и нежное
создание, привыкшее к ласковым объятиям матери, к солнцу и приволью Индии, в
холодной, серой Англии, где до него и всех его достоинств никому нет дела.
По-моему, не нужно особого воображения, чтобы всплакнуть над ним. Из
плавания на "Принце-регенте" мне почти ничего не запомнилось - кроме того,
что мы заходили на Св. Елену и моя смуглокожая нянька, показав мне
Наполеона, заявила, что он съел всех маленьких детей, каких сумел
заполучить, - но я не могу забыть чувства безмерного, подавленного горя и
страшной жизненной незащищенности, хоть я почти не плакал, разве только
ночью, под одеялом. Моя тетушка Ритчи вполне резонно писала матушке, что я
отлично устроился и с виду совершенно счастлив. Как быстро мы, взрослые,
решаем, что ребенок "совершенно счастлив"! Стоит ему немножко поболтать,
обрадоваться, что его погладили по головке, примерно держаться за обедом,
трогательно помолиться, как мы заключаем, что он "вполне счастлив". Никто не
пробует за болтовней увидеть отчаянные усилия понравиться, заметить за
улыбкой жажду одобрения, угадать страх - в молчании, неискренность - в
молитвах. Если дети сыты и спят в чистых постельках, мы уверены, что они
"совершенно счастливы", и дело с концом.
 Матушка говорит, что плакала гораздо горше моего, и уверяет, что я не
мог дождаться, когда начнется мое волнующее плавание на большом корабле.
Наверное, ей так легче было думать, ибо правда была невыносима, и, кроме
того, тогда так было принято: все отсылали маленьких детей в Англию - и она,
быть может, искренно, считала, что я доволен. Но даже и сегодня я принимаюсь
плакать, когда думаю о разлуке детей и родителей. Жестокость этих
расставаний, стоит мне их вспомнить, задевает во мне самую чувствительную
струну, и я долго не могу успокоиться. Но как струится из моих глаз влага,
когда я сам оказываюсь одной из расстающихся сторон! Прощание с детьми,
когда я уезжал в Америку, было одним из самых тяжких испытаний; бескрайний
океан, тысячи тысяч разделяющих нас миль и неуверенность во всем на свете,
даже в том, что я увижу вновь эти любимые доверчивые рожицы. Словом, вот он
я, стою с платком в руке, и, если буду продолжать так дальше, не продвинусь
ни на шаг. Как бы то ни было, хотя меня и разлучили с матерью, я выжил, но
слышать не хочу, что это сделало меня мужчиной, что детей так ставят на ноги
и воспитывают истинную независимость характера. Жизнь в любящей семье, с
любящими родителями дает силу, а не слабость. Не сомневаюсь, что себе во
благо я мог бы еще несколько лет оставаться с матушкой и ее новым мужем и
отплыть домой - одновременно с ними, но что сейчас об этом толковать? Лучше
я расскажу вам романтическую историю моего отчима, Генри Кармайкла-Смита, за
которого моя мать вышла замуж в ноябре 1817 года. Она его узнала и полюбила
еще семнадцатилетней девушкой, задолго до того, как увидела Индию и моего
отца. Он служил прапорщиком в Бенгальском инженерном полку, вследствие чего
мать моей матери сочла его недостойным руки дочери. Ей объявили, что он
умер, ему - что она вышла за другого. Сердце ее было разбито, она уехала в
Индию и стала там женой моего отца. Однажды он предупредил ее, что пригласил
к обеду очаровательного нового знакомого, и в комнату вошел ее давно
погибший возлюбленный. Кто скажет, что литература фантастичнее, чем жизнь?
Такие удивительные совпадения проходят незамеченными чуть не каждый день, но
стоит нам их описать - и нас винят в надуманности.
Словом, так мы и жили - матушка в Индии, со своим дорогим Генри, мирно
и счастливо, я - в Англии, заброшенно и грустно. Конечно, я не тосковал с
утра до вечера, с детьми так не бывает. Бабушка Бичер и двоюродная бабушка
Бичер, в чьем доме в Фэреме Гемпширского графства я остановился по прибытии
в Англию, были ко мне добры, и я, наверное, не знал бы горя, если бы они не
вздумали отправить меня в жуткую школу в Саутгемптоне, которой заправляли
некие супруги Артуры. Они, наверное, уже умерли, но даже если живы, меня это
не остановит: жестокость, которую они практиковали во имя целей просвещения,
должна быть названа по имени. Какая жизнь была там уготована нам, детям из
Индии, которых ждал режим дурных обедов, ужасного холода, цыпок и полной
беззащитности, если не считать вновь обретенных родственников, которые,
скорее всего, знали, куда они нас отправили. Я никогда не посылал своих
детей в школу, но если б и послал, то, несомненно, тщательно обследовал бы
соответствующее заведение, прежде чем вверять ему их нежные души. Но люди,
даже хорошие, этого не делают и судят с чужих слов: дескать, у Артура
хорошая школа и умеренная плата - так процветают заведения вроде Ловудов
мисс Бронте и Дотбойс-Холлов Диккенса. Я, кстати, не уверен, что
прославленные школы чем-нибудь лучше сотен безвестных и маленьких, взгляните
на Чартерхаус. Разве герцог Веллингтон не назвал его "лучшей школой Англии"
и разве, попав туда, я не увидел, что он немногим лучше, чем чистилище
Артура? Признаюсь, мне нестерпимо думать о том, как легко родители дают себя
одурачить и уверить, что наказания, которые они когда-то сами вынесли и
омыли своими слезами, полезны и нужны их детям. Как это получается, что
поколение за поколением забывает свои былые горести и мирится с их
продолжением? Вот величайшая из тайн. Я громко и твердо заявляю, что
жестокость детям не полезна, ее необходимо отменить, я никогда с ней не
смирюсь, - пожалуй, лучше мне вернуться к своей теме.
Чтобы ее продолжить, скажу вам, что даже первое, самое горькое время в
школе я чувствовал себя порой довольно сносно и положительно бывал счастлив
в свободные дни. Тетушка Бичер осыпала меня подарками и возила на чудесные
загородные прогулки, там я искал птичьи гнезда и предавался другим
мальчишеским забавам, к тому же с ранних лет я был неравнодушен к красоте
природы и величию чудесных зданий. Мне очень нравился дом, в котором мы жили
на главной улице Фэрема, с высокой, покатой кровлей, узкой верандой и
низкими окнами по фасаду, обращенными в прекрасный фруктовый сад,
спускавшийся к реке, - помню, я любил бывать там. Фэрем был похож на городок
у Джейн Остин, в нем жили отставные морские офицеры и энергичные пожилые
дамы - любительницы виста, он мне очень нравился. Встречая любовь и ласку, я
расцветал и забывал лить слезы по матушке, но в школе впадал в отчаяние и
тосковал по ее объятиям. Я с радостью покинул школу Артуров, но как это
получилось? Доверились ли мы старшим, и нам поверили? Дошло ли, наконец, до
наших родственников, что тут что-то не так? Уже не помню; хоть я и говорил,
что с радостью оставил Артуров, мне жаль было покидать Гемпшир и бабушек
Бичер ради Ритчи и Лондона. Дети не любят перемен, им нужно знать, где они и
с кем они, любая перемена внушает им тревогу.
Как оказалось, то была перемена к лучшему. Школа доктора Тернера в
Чизвике была не бог весть что, но много лучше Артуров, а, главное, теперь я
жил вблизи двоюродных сестер и братьев и мог войти в круг их семейной жизни,
которой дорожил, завидовал и к которой жаждал приобщиться. Джон Ритчи был
женат на сестре моего отца и жил тогда с семьей на Саутгемптон-Роу.
Принимали они меня радушно, и я наслаждался их обществом; все, дети были
младше меня, но с ними было лучше, чем со взрослыми, мы весело играли, и они
мне заменили сестер и братьев, которых мне недоставало. Оглядываясь назад, я
задаюсь вопросом, был ли я обузой для Ритчи. Мы сами никогда не чувствуем
себя обузой, великое ли дело трижды в день кормить большого мальчика (во мне
было три фута и одиннадцать дюймов, и я был плотного сложения) и жертва ли
со стороны детей принять в игру и гостя? Благодарение богу, позже я отплатил
за все те милости, которыми бездумно пользовался в детстве, с восторгом и
благодарностью.
Матушка говорит, что плакала гораздо горше моего, и уверяет, что я не
мог дождаться, когда начнется мое волнующее плавание на большом корабле.
Наверное, ей так легче было думать, ибо правда была невыносима, и, кроме
того, тогда так было принято: все отсылали маленьких детей в Англию - и она,
быть может, искренно, считала, что я доволен. Но даже и сегодня я принимаюсь
плакать, когда думаю о разлуке детей и родителей. Жестокость этих
расставаний, стоит мне их вспомнить, задевает во мне самую чувствительную
струну, и я долго не могу успокоиться. Но как струится из моих глаз влага,
когда я сам оказываюсь одной из расстающихся сторон! Прощание с детьми,
когда я уезжал в Америку, было одним из самых тяжких испытаний; бескрайний
океан, тысячи тысяч разделяющих нас миль и неуверенность во всем на свете,
даже в том, что я увижу вновь эти любимые доверчивые рожицы. Словом, вот он
я, стою с платком в руке, и, если буду продолжать так дальше, не продвинусь
ни на шаг. Как бы то ни было, хотя меня и разлучили с матерью, я выжил, но
слышать не хочу, что это сделало меня мужчиной, что детей так ставят на ноги
и воспитывают истинную независимость характера. Жизнь в любящей семье, с
любящими родителями дает силу, а не слабость. Не сомневаюсь, что себе во
благо я мог бы еще несколько лет оставаться с матушкой и ее новым мужем и
отплыть домой - одновременно с ними, но что сейчас об этом толковать? Лучше
я расскажу вам романтическую историю моего отчима, Генри Кармайкла-Смита, за
которого моя мать вышла замуж в ноябре 1817 года. Она его узнала и полюбила
еще семнадцатилетней девушкой, задолго до того, как увидела Индию и моего
отца. Он служил прапорщиком в Бенгальском инженерном полку, вследствие чего
мать моей матери сочла его недостойным руки дочери. Ей объявили, что он
умер, ему - что она вышла за другого. Сердце ее было разбито, она уехала в
Индию и стала там женой моего отца. Однажды он предупредил ее, что пригласил
к обеду очаровательного нового знакомого, и в комнату вошел ее давно
погибший возлюбленный. Кто скажет, что литература фантастичнее, чем жизнь?
Такие удивительные совпадения проходят незамеченными чуть не каждый день, но
стоит нам их описать - и нас винят в надуманности.
Словом, так мы и жили - матушка в Индии, со своим дорогим Генри, мирно
и счастливо, я - в Англии, заброшенно и грустно. Конечно, я не тосковал с
утра до вечера, с детьми так не бывает. Бабушка Бичер и двоюродная бабушка
Бичер, в чьем доме в Фэреме Гемпширского графства я остановился по прибытии
в Англию, были ко мне добры, и я, наверное, не знал бы горя, если бы они не
вздумали отправить меня в жуткую школу в Саутгемптоне, которой заправляли
некие супруги Артуры. Они, наверное, уже умерли, но даже если живы, меня это
не остановит: жестокость, которую они практиковали во имя целей просвещения,
должна быть названа по имени. Какая жизнь была там уготована нам, детям из
Индии, которых ждал режим дурных обедов, ужасного холода, цыпок и полной
беззащитности, если не считать вновь обретенных родственников, которые,
скорее всего, знали, куда они нас отправили. Я никогда не посылал своих
детей в школу, но если б и послал, то, несомненно, тщательно обследовал бы
соответствующее заведение, прежде чем вверять ему их нежные души. Но люди,
даже хорошие, этого не делают и судят с чужих слов: дескать, у Артура
хорошая школа и умеренная плата - так процветают заведения вроде Ловудов
мисс Бронте и Дотбойс-Холлов Диккенса. Я, кстати, не уверен, что
прославленные школы чем-нибудь лучше сотен безвестных и маленьких, взгляните
на Чартерхаус. Разве герцог Веллингтон не назвал его "лучшей школой Англии"
и разве, попав туда, я не увидел, что он немногим лучше, чем чистилище
Артура? Признаюсь, мне нестерпимо думать о том, как легко родители дают себя
одурачить и уверить, что наказания, которые они когда-то сами вынесли и
омыли своими слезами, полезны и нужны их детям. Как это получается, что
поколение за поколением забывает свои былые горести и мирится с их
продолжением? Вот величайшая из тайн. Я громко и твердо заявляю, что
жестокость детям не полезна, ее необходимо отменить, я никогда с ней не
смирюсь, - пожалуй, лучше мне вернуться к своей теме.
Чтобы ее продолжить, скажу вам, что даже первое, самое горькое время в
школе я чувствовал себя порой довольно сносно и положительно бывал счастлив
в свободные дни. Тетушка Бичер осыпала меня подарками и возила на чудесные
загородные прогулки, там я искал птичьи гнезда и предавался другим
мальчишеским забавам, к тому же с ранних лет я был неравнодушен к красоте
природы и величию чудесных зданий. Мне очень нравился дом, в котором мы жили
на главной улице Фэрема, с высокой, покатой кровлей, узкой верандой и
низкими окнами по фасаду, обращенными в прекрасный фруктовый сад,
спускавшийся к реке, - помню, я любил бывать там. Фэрем был похож на городок
у Джейн Остин, в нем жили отставные морские офицеры и энергичные пожилые
дамы - любительницы виста, он мне очень нравился. Встречая любовь и ласку, я
расцветал и забывал лить слезы по матушке, но в школе впадал в отчаяние и
тосковал по ее объятиям. Я с радостью покинул школу Артуров, но как это
получилось? Доверились ли мы старшим, и нам поверили? Дошло ли, наконец, до
наших родственников, что тут что-то не так? Уже не помню; хоть я и говорил,
что с радостью оставил Артуров, мне жаль было покидать Гемпшир и бабушек
Бичер ради Ритчи и Лондона. Дети не любят перемен, им нужно знать, где они и
с кем они, любая перемена внушает им тревогу.
Как оказалось, то была перемена к лучшему. Школа доктора Тернера в
Чизвике была не бог весть что, но много лучше Артуров, а, главное, теперь я
жил вблизи двоюродных сестер и братьев и мог войти в круг их семейной жизни,
которой дорожил, завидовал и к которой жаждал приобщиться. Джон Ритчи был
женат на сестре моего отца и жил тогда с семьей на Саутгемптон-Роу.
Принимали они меня радушно, и я наслаждался их обществом; все, дети были
младше меня, но с ними было лучше, чем со взрослыми, мы весело играли, и они
мне заменили сестер и братьев, которых мне недоставало. Оглядываясь назад, я
задаюсь вопросом, был ли я обузой для Ритчи. Мы сами никогда не чувствуем
себя обузой, великое ли дело трижды в день кормить большого мальчика (во мне
было три фута и одиннадцать дюймов, и я был плотного сложения) и жертва ли
со стороны детей принять в игру и гостя? Благодарение богу, позже я отплатил
за все те милости, которыми бездумно пользовался в детстве, с восторгом и
благодарностью.
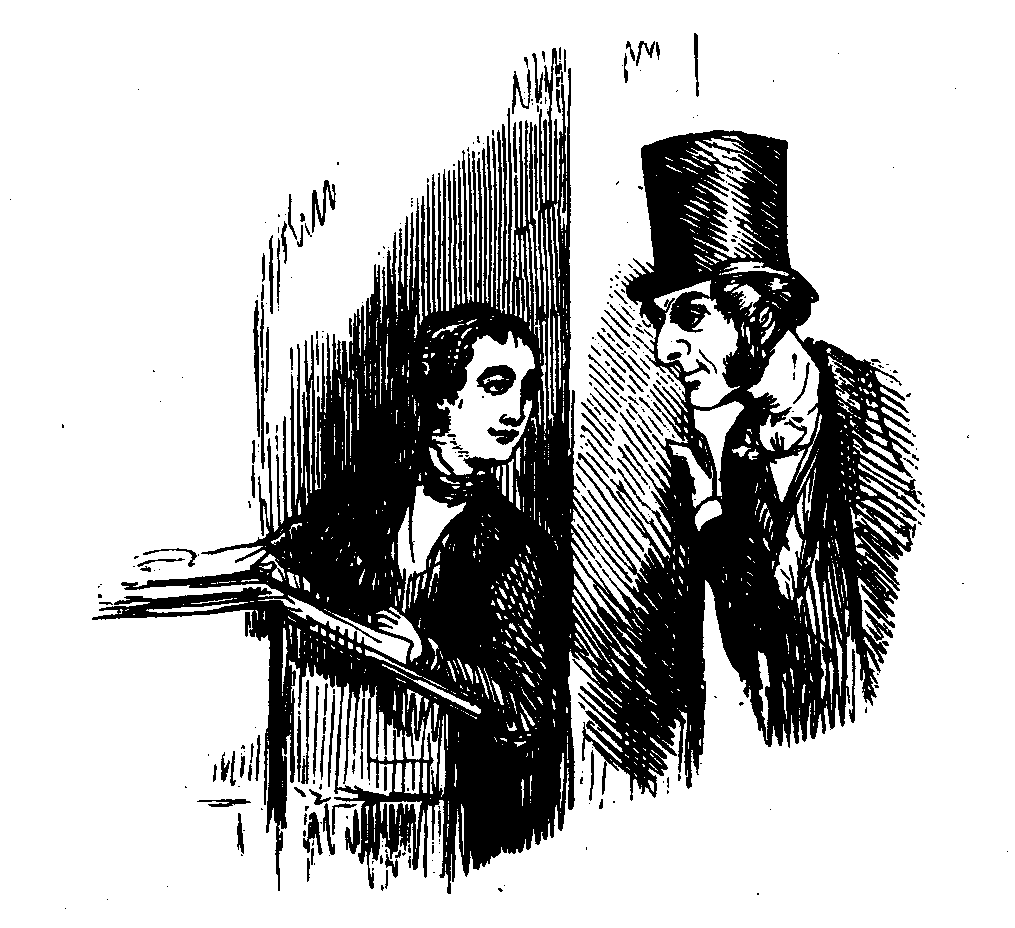 Я убежден, что эти два года, с 1817 по 1819, с шестого по девятый год
жизни, от которых у меня остались такие отрывочные и в основном гнетущие
воспоминания, сформировали мой характер. Вы полагаете, я не в своем уме, но
я уверен, что не ошибаюсь. После того, как матушка вернулась в Англию в 1819
году, я стал все видеть в ином свете. У меня появился дом, куда я ездил на
каникулы, где чувствовал себя спокойно и надежно, даже когда у меня бывало
неспокойно на душе, - вы понимаете, что я хочу сказать, мои мученья
кончились и больше никогда не повторялись, чему я был безмерно рад.
Наверное, за те два одиноких года образ матери стал для меня мифом, игрой
воображения, я за него цеплялся, но он все отдалялся от меня. Когда судьба
вернула мне ее, она предстала предо мной, словно прекрасный, улыбающийся
ангел, словно сбывшаяся греза. Ничто дурное не могло меня коснуться. О
матери, какая сила вам дана! Кто знает, не исходит ли все зло мира от тех,
что не знали материнской нежности. Матушка уверяет, что после нашего
соединения едва не умерла от счастья - так рада была снова лицезреть меня.
Разлука с любимыми наполняет душу мукой, но встреча дает несравненную
радость.
Я поступил в Чартерхаус в начале третьей четверти, в январе 1822 года.
Заведение было в расцвете славы, и это, конечно, привлекало матушку. Помните
ли вы свои школьные дни, читатель? Вам кажется, что я шумлю напрасно,
твердя, что я их ненавижу?
Мне и доныне слышится скрипучий голос доктора Рассела: "Теккерей,
Теккерей, ленивый и распущенный проныра". Но был ли я пронырой? Я был
запуган, это верно. Всей школой правил страх. Каждая провинность каралась
дважды: один раз издевками доктора Рассела, второй - ликторами и пучками
розог, нетрудно догадаться, что мне было легче. Казалось, этот человек
избрал меня, чтобы излить всю силу своего сарказма, возможно, он не мог
сдержаться из-за того, что я был крупным для своего возраста, или же оттого,
что я не хныкал, и он считал, что его слова на меня не действуют: он не
замечал моих горящих щек и пятен слез, которые видны и ныне, он глядел лишь
в мои глаза и всегда читал в них дерзость. Вы снова улыбаетесь и повторяете,
что строгая дисциплина была необходима и пошла мне на пользу. Значит, вы
неисправимы. Она не принесла мне пользы, она не только не ускорила, она
скорей затормозила процесс познания! Преподавали в этой школе плохо, это я
знаю определенно. Подумайте, что за система там применялась: в младших
классах вместо учителя нам назначали препозитуса, или старосту, то есть
такого же мальчика, как мы, но только, как считалось, самого умного и,
значит, способного нас обучать. Порою то бывал слабейший, который был не в
состоянии справиться с возложенной на него задачей, тогда весь распорядок
превращался в хаос, пока на грохот не являлся доктор Рассел и не добивался
послушания расправой. В такой обстановке трудно заронить любовь к познанию.
Мы зубрили, рабски переписывали, как попугаи затверживали наизусть таблицы,
глаголы и стихи, и все это время сердца наши бешено стучали - мы боялись,
что не скажем положенную строчку вовремя, что нас заметят и накажут.
Наверное, если бы меня считали мыслящим существом, а не беспомощным
животным, я бы учился хорошо и был прилежным мальчиком.
Я не скрывал своих мучений и каждый раз писал домой, что долго этого не
вытерплю и не знаю, во имя чего должен терпеть. Никто не отзывался.
Понемногу я свыкся со своей участью, так с ней и не смирившись, и, подобно
остальным, научился переключать внимание на то, что скрашивало мне узилище.
Прежде всего, то были каникулы. О радость наступления дня, жирно обведенного
кружком в календаре! По мере его приближения меня начинало лихорадить, от
возбуждения я не мог дождаться, когда сяду в дилижанс, направляющийся в
Оттери Сен-Мэри в Девоншире, где после многих переездов обосновались мои
родители. Мне было безразлично, долго ли продлится путешествие и сильно ли я
замерзну в пути, - порой я так деревенел от холода, что меня сносили на
руках с эксетерского дилижанса, зато в душе я весь пылал восторгом. Обратная
дорога, конечно, бывала ужасна, но по приезде в Лондон я первым делом
обводил кружком ближайший день освобождения. Кроме поездок домой, у меня
были книги - еще один, всегда открытый путь побега.
Не думаю, что книги, которые я читал, покажутся вам замечательными, но
не могу удержаться и не назвать их, я ими упивался, и если бы сбылось мое
заветное желание, я написал бы книжку, которой ближайшую тысячу лет
зачитывались бы мальчишки. Что же то были за книги? Ну, например, "Манфронэ,
или Однорукий монах", "Приключения Тома-Щеголя, Джереми Хоторна эсквайра и
их друга Боба-Умника". Какие названия! Какие захватывающие приключения!
Напрасно вы не можете сдержать улыбки, вы смотрите на них с позиции
взрослого, от вас сокрыто то, что было видно мне, вам не увлечься, не
попасть в край леденящих кровь событий, где жизнью правит мелодрама. Я не
вижу в них ничего вредного, в свое время они мне дали то, в чем я нуждался,
и постепенно подготовили к более здоровой пище. То же самое я заметил у
своих детей: прежде чем они стали наслаждаться Диккенсом, они без разбору
глотали всякую всячину, и я им не мешал. Чтоб накормить ребенка, нужно
прежде всего заставить его открыть рот, и поначалу он его откроет для
лакомств и сластей, а не для полезной, но неаппетитной пищи.
Я убежден, что эти два года, с 1817 по 1819, с шестого по девятый год
жизни, от которых у меня остались такие отрывочные и в основном гнетущие
воспоминания, сформировали мой характер. Вы полагаете, я не в своем уме, но
я уверен, что не ошибаюсь. После того, как матушка вернулась в Англию в 1819
году, я стал все видеть в ином свете. У меня появился дом, куда я ездил на
каникулы, где чувствовал себя спокойно и надежно, даже когда у меня бывало
неспокойно на душе, - вы понимаете, что я хочу сказать, мои мученья
кончились и больше никогда не повторялись, чему я был безмерно рад.
Наверное, за те два одиноких года образ матери стал для меня мифом, игрой
воображения, я за него цеплялся, но он все отдалялся от меня. Когда судьба
вернула мне ее, она предстала предо мной, словно прекрасный, улыбающийся
ангел, словно сбывшаяся греза. Ничто дурное не могло меня коснуться. О
матери, какая сила вам дана! Кто знает, не исходит ли все зло мира от тех,
что не знали материнской нежности. Матушка уверяет, что после нашего
соединения едва не умерла от счастья - так рада была снова лицезреть меня.
Разлука с любимыми наполняет душу мукой, но встреча дает несравненную
радость.
Я поступил в Чартерхаус в начале третьей четверти, в январе 1822 года.
Заведение было в расцвете славы, и это, конечно, привлекало матушку. Помните
ли вы свои школьные дни, читатель? Вам кажется, что я шумлю напрасно,
твердя, что я их ненавижу?
Мне и доныне слышится скрипучий голос доктора Рассела: "Теккерей,
Теккерей, ленивый и распущенный проныра". Но был ли я пронырой? Я был
запуган, это верно. Всей школой правил страх. Каждая провинность каралась
дважды: один раз издевками доктора Рассела, второй - ликторами и пучками
розог, нетрудно догадаться, что мне было легче. Казалось, этот человек
избрал меня, чтобы излить всю силу своего сарказма, возможно, он не мог
сдержаться из-за того, что я был крупным для своего возраста, или же оттого,
что я не хныкал, и он считал, что его слова на меня не действуют: он не
замечал моих горящих щек и пятен слез, которые видны и ныне, он глядел лишь
в мои глаза и всегда читал в них дерзость. Вы снова улыбаетесь и повторяете,
что строгая дисциплина была необходима и пошла мне на пользу. Значит, вы
неисправимы. Она не принесла мне пользы, она не только не ускорила, она
скорей затормозила процесс познания! Преподавали в этой школе плохо, это я
знаю определенно. Подумайте, что за система там применялась: в младших
классах вместо учителя нам назначали препозитуса, или старосту, то есть
такого же мальчика, как мы, но только, как считалось, самого умного и,
значит, способного нас обучать. Порою то бывал слабейший, который был не в
состоянии справиться с возложенной на него задачей, тогда весь распорядок
превращался в хаос, пока на грохот не являлся доктор Рассел и не добивался
послушания расправой. В такой обстановке трудно заронить любовь к познанию.
Мы зубрили, рабски переписывали, как попугаи затверживали наизусть таблицы,
глаголы и стихи, и все это время сердца наши бешено стучали - мы боялись,
что не скажем положенную строчку вовремя, что нас заметят и накажут.
Наверное, если бы меня считали мыслящим существом, а не беспомощным
животным, я бы учился хорошо и был прилежным мальчиком.
Я не скрывал своих мучений и каждый раз писал домой, что долго этого не
вытерплю и не знаю, во имя чего должен терпеть. Никто не отзывался.
Понемногу я свыкся со своей участью, так с ней и не смирившись, и, подобно
остальным, научился переключать внимание на то, что скрашивало мне узилище.
Прежде всего, то были каникулы. О радость наступления дня, жирно обведенного
кружком в календаре! По мере его приближения меня начинало лихорадить, от
возбуждения я не мог дождаться, когда сяду в дилижанс, направляющийся в
Оттери Сен-Мэри в Девоншире, где после многих переездов обосновались мои
родители. Мне было безразлично, долго ли продлится путешествие и сильно ли я
замерзну в пути, - порой я так деревенел от холода, что меня сносили на
руках с эксетерского дилижанса, зато в душе я весь пылал восторгом. Обратная
дорога, конечно, бывала ужасна, но по приезде в Лондон я первым делом
обводил кружком ближайший день освобождения. Кроме поездок домой, у меня
были книги - еще один, всегда открытый путь побега.
Не думаю, что книги, которые я читал, покажутся вам замечательными, но
не могу удержаться и не назвать их, я ими упивался, и если бы сбылось мое
заветное желание, я написал бы книжку, которой ближайшую тысячу лет
зачитывались бы мальчишки. Что же то были за книги? Ну, например, "Манфронэ,
или Однорукий монах", "Приключения Тома-Щеголя, Джереми Хоторна эсквайра и
их друга Боба-Умника". Какие названия! Какие захватывающие приключения!
Напрасно вы не можете сдержать улыбки, вы смотрите на них с позиции
взрослого, от вас сокрыто то, что было видно мне, вам не увлечься, не
попасть в край леденящих кровь событий, где жизнью правит мелодрама. Я не
вижу в них ничего вредного, в свое время они мне дали то, в чем я нуждался,
и постепенно подготовили к более здоровой пище. То же самое я заметил у
своих детей: прежде чем они стали наслаждаться Диккенсом, они без разбору
глотали всякую всячину, и я им не мешал. Чтоб накормить ребенка, нужно
прежде всего заставить его открыть рот, и поначалу он его откроет для
лакомств и сластей, а не для полезной, но неаппетитной пищи.
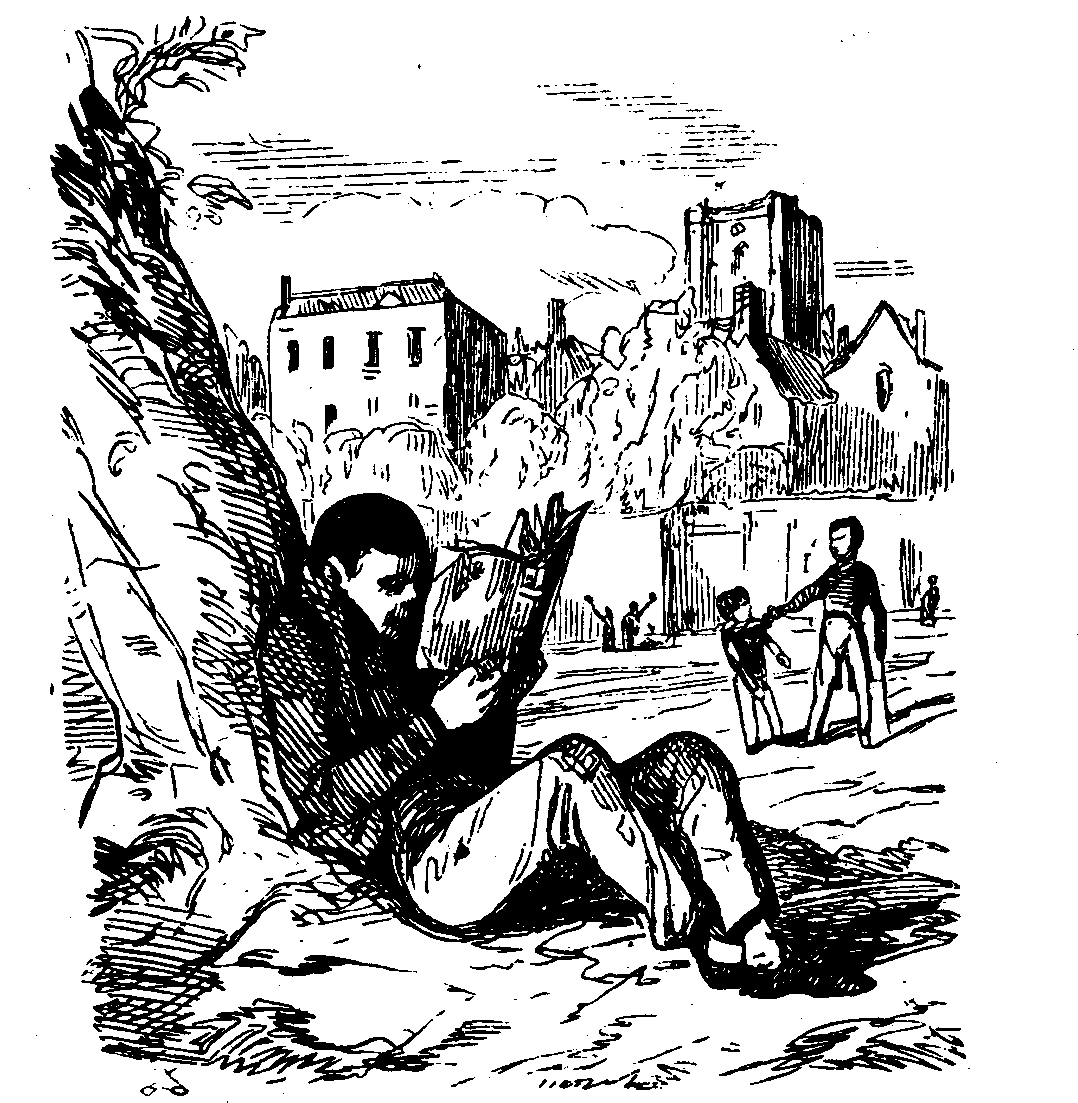 Картинки я любил даже больше, чем истории. - Сидя за партой, я
обкладывался толстыми томами словарей, латинскими и греческими учебниками и
часами листал какую-нибудь полюбившуюся книгу, разглядывая иллюстрации.
Какие они были странные, глядя на них сейчас, я не могу понять, что мне в
них нравилось, но знаю, что безумно нравилось и волновало ум. То было не
искусство и не жизнь, картинки были мрачные, пожалуй, даже смехотворные, но
я любил в них каждый штрих. Они переносили меня в неведомые страны, точно
такие, какие рисовались моему воображению. Бывало, я сидел в оцепенении,
рассматривая картинку, на которой Джерри и Том наблюдают, как в Ньюгете
перед казнью с преступника снимают кандалы, и ужас орошал меня холодным
потом, но как же я ликовал, когда на следующей странице герои оказывались в
Таттерсоллз, как горячо пульсировала в моих жилах кровь. Я вовсе не хочу
сказать, что то были семена моей последующей блестящей литературной
деятельности, вряд ли я подражал прочитанному, но отдавал ему любовь,
внимание и интерес. Я знал, что не могу жить без рисунков и вымыслов, и это
сознание стало первой ступенькой лестницы, на которую я пытался взобраться,
- возможно, безуспешно. Кажется, я писал для школьного журнала, уже не
помню, что именно, и удивлюсь, если кто-нибудь помнит! По крайней мере, я не
корпел тайком над рукописью, хотя, признаюсь! пробовал свои силы и в
рисунке. Я всегда любил водить карандашом по бумаге, буквально с тех самых
пор, как научился держат его в руке, с четырех-пяти лет. Приехав из Индии, я
первым делом взялся изобразить тетушке Бичер, какой у нас был дом Калькутте,
мою обезьянку, выглядывающую из окна, Черную Бетти развешивающую полотенца,
- карандашом мне передать это было легче, чем словами. Чувство линии было у
меня врожденное, лошади мои выглядели как настоящие и вызывали восхищение
взрослых.
Когда маленький ребенок умеет рисовать, взрослые воспринимают это как
гениальность, что неудивительно. Как я заметил, маленькому Чарлзу, если он
немного рисует, умеет сыграть на пианино пьеску или без фальши спеть
мелодию, гарантирован успех, ибо талант его виден и слышен каждому и кажется
в два раза больше из-за того, что мальчик мал. Мне нравилось, когда меня
хвалили, а еще больше - когда рукоплескали. В школе я быстро понял, что
благодаря умению рисовать слыву незаменимым малым. Чаще всего изображал, что
приходило в голову: карикатуры на учителей и прочее, однако не меньшим
спросом пользовались копии картинок из "Тайн Удольфского замка" и романов
Вальтера Скотта. Вы представить себе не можете, как оживали хмурые титульные
листы "Латинской грамматики для школ" и других учебников благодаря нашим
усатым фехтовальщикам. Бриггс-младший и ваш покорный слуга, два Микеланджело
четвертого класса, занимавшиеся этим животворным делом, были в большой цене.
Наш дар, из которого мы выжимали все, что можно, уютно поместил нас в центре
дружеского круга, и школа перестала быть таким ужасным местом.
Помню, что я наловчился извлекать следующую пользу из своего
художества: положим, мне понадобилось что-то в моей комнате а подыматься
было лень, что же я делал? "Гарнер, послушав крошка Гарнер, - подзывал я
того, - если ты сходишь в мою комнат; и принесешь то-то и то-то, я дам тебе
полкроны". Гарнер взлет наверх и возвращался с нужной вещью. Тогда я важно
заявлял ему: "Ну вот что, малыш, полкроны я тебе не дам по той простой
причине, что у меня их нет, зато нарисую тебе лошадку, которая ничуть не
хуже полукроны и стоит гораздо больше". Так я и делал, юный Гарнер был
доволен, а значит, не следует меня винить в развязности и испорченности.
Друзья не просто скрасили мою школьную жизнь, они сделали больше - они
развеяли угрюмость мира. Взываю к тебе, юный Томкинс, мудро обзаведись,
подобно мне, друзьями, и не бреди один по жизни, надеясь только на себя.
Малый я был общительный, любил водить компанию и быстро сходился чуть не с
первым встречным, - что бы ни затеялось, я всегда был рад откликнуться и где
ни бывал, в долгу не оставался. Ясно помню, что удовольствия всегда стояли
для меня на первом месте и для доброго самочувствия нужны были мне каждый
божий день.
Картинки я любил даже больше, чем истории. - Сидя за партой, я
обкладывался толстыми томами словарей, латинскими и греческими учебниками и
часами листал какую-нибудь полюбившуюся книгу, разглядывая иллюстрации.
Какие они были странные, глядя на них сейчас, я не могу понять, что мне в
них нравилось, но знаю, что безумно нравилось и волновало ум. То было не
искусство и не жизнь, картинки были мрачные, пожалуй, даже смехотворные, но
я любил в них каждый штрих. Они переносили меня в неведомые страны, точно
такие, какие рисовались моему воображению. Бывало, я сидел в оцепенении,
рассматривая картинку, на которой Джерри и Том наблюдают, как в Ньюгете
перед казнью с преступника снимают кандалы, и ужас орошал меня холодным
потом, но как же я ликовал, когда на следующей странице герои оказывались в
Таттерсоллз, как горячо пульсировала в моих жилах кровь. Я вовсе не хочу
сказать, что то были семена моей последующей блестящей литературной
деятельности, вряд ли я подражал прочитанному, но отдавал ему любовь,
внимание и интерес. Я знал, что не могу жить без рисунков и вымыслов, и это
сознание стало первой ступенькой лестницы, на которую я пытался взобраться,
- возможно, безуспешно. Кажется, я писал для школьного журнала, уже не
помню, что именно, и удивлюсь, если кто-нибудь помнит! По крайней мере, я не
корпел тайком над рукописью, хотя, признаюсь! пробовал свои силы и в
рисунке. Я всегда любил водить карандашом по бумаге, буквально с тех самых
пор, как научился держат его в руке, с четырех-пяти лет. Приехав из Индии, я
первым делом взялся изобразить тетушке Бичер, какой у нас был дом Калькутте,
мою обезьянку, выглядывающую из окна, Черную Бетти развешивающую полотенца,
- карандашом мне передать это было легче, чем словами. Чувство линии было у
меня врожденное, лошади мои выглядели как настоящие и вызывали восхищение
взрослых.
Когда маленький ребенок умеет рисовать, взрослые воспринимают это как
гениальность, что неудивительно. Как я заметил, маленькому Чарлзу, если он
немного рисует, умеет сыграть на пианино пьеску или без фальши спеть
мелодию, гарантирован успех, ибо талант его виден и слышен каждому и кажется
в два раза больше из-за того, что мальчик мал. Мне нравилось, когда меня
хвалили, а еще больше - когда рукоплескали. В школе я быстро понял, что
благодаря умению рисовать слыву незаменимым малым. Чаще всего изображал, что
приходило в голову: карикатуры на учителей и прочее, однако не меньшим
спросом пользовались копии картинок из "Тайн Удольфского замка" и романов
Вальтера Скотта. Вы представить себе не можете, как оживали хмурые титульные
листы "Латинской грамматики для школ" и других учебников благодаря нашим
усатым фехтовальщикам. Бриггс-младший и ваш покорный слуга, два Микеланджело
четвертого класса, занимавшиеся этим животворным делом, были в большой цене.
Наш дар, из которого мы выжимали все, что можно, уютно поместил нас в центре
дружеского круга, и школа перестала быть таким ужасным местом.
Помню, что я наловчился извлекать следующую пользу из своего
художества: положим, мне понадобилось что-то в моей комнате а подыматься
было лень, что же я делал? "Гарнер, послушав крошка Гарнер, - подзывал я
того, - если ты сходишь в мою комнат; и принесешь то-то и то-то, я дам тебе
полкроны". Гарнер взлет наверх и возвращался с нужной вещью. Тогда я важно
заявлял ему: "Ну вот что, малыш, полкроны я тебе не дам по той простой
причине, что у меня их нет, зато нарисую тебе лошадку, которая ничуть не
хуже полукроны и стоит гораздо больше". Так я и делал, юный Гарнер был
доволен, а значит, не следует меня винить в развязности и испорченности.
Друзья не просто скрасили мою школьную жизнь, они сделали больше - они
развеяли угрюмость мира. Взываю к тебе, юный Томкинс, мудро обзаведись,
подобно мне, друзьями, и не бреди один по жизни, надеясь только на себя.
Малый я был общительный, любил водить компанию и быстро сходился чуть не с
первым встречным, - что бы ни затеялось, я всегда был рад откликнуться и где
ни бывал, в долгу не оставался. Ясно помню, что удовольствия всегда стояли
для меня на первом месте и для доброго самочувствия нужны были мне каждый
божий день.
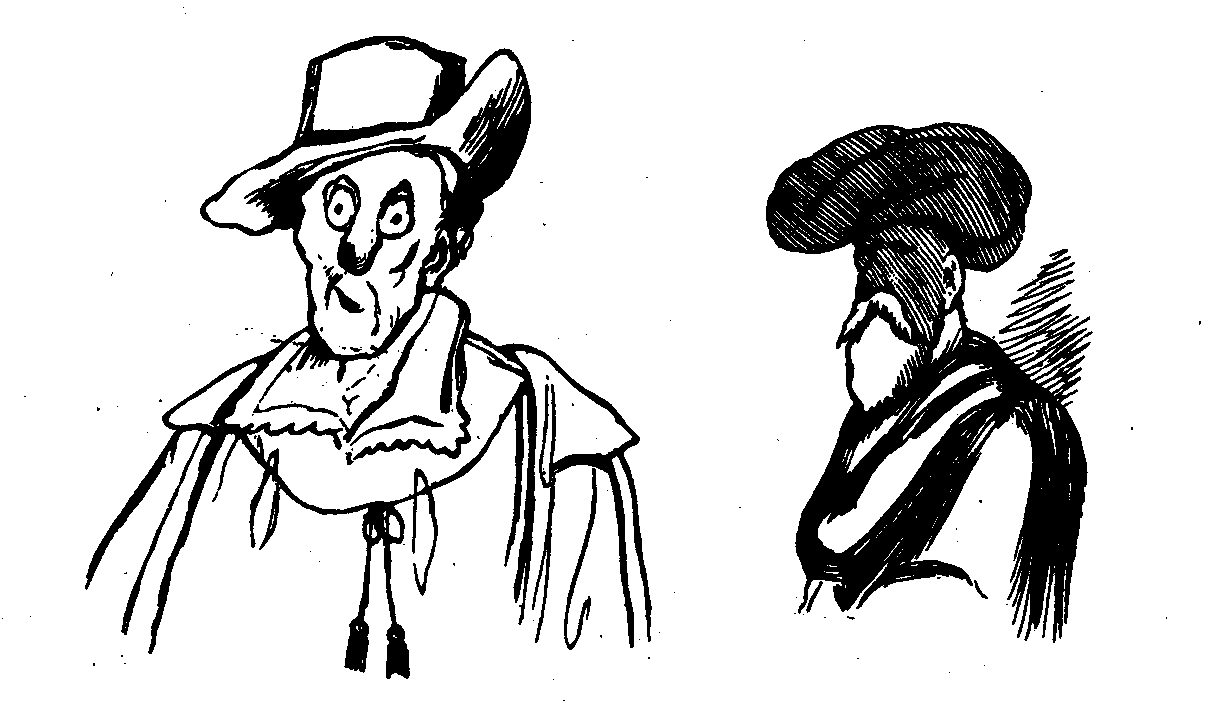 Пожалуй, самым большим удовольствием тех дней был театр. Боже мой, как
я бредил театром! Я помню, что даже мерзкий Артур повел нас какого в театр,
и острое наслаждение, которое я там испытал, овеяло золотой дымкой два
следующих унылых дня. Чем же я упивался? Признаюсь - женщинами. Задолго до
того, как эти богини обрели иную притягательность, я был заворожен их
красотой. Я был пленен ими гораздо раньше, чем стал на них заглядываться.
Вы, ныне живущие, не можете вообразить, как хороши были актрисы в
царствование моего короля Георга IV. Вам, молодые люди, лишь кажется, что вы
видели красивых женщин, но я их в самом деле видел, пожалуйста, не спорьте.
Где найти равных миссис Йейтс из "Адельфи" и миссис Серл из "Садлерз-Уэллз"?
Одно лишь воспоминание об их ослепительной красоте доводит меня до
умопомрачения. Когда я вижу тех, кто нынче занимает сцену, я плачу над
падением женщин: как виден грим! как измяты костюмы! как резки и надтреснуты
их голоса! О если бы я мог, мой юный Уолтер, взять вас за руку и на
мгновенье показать вам Дэверней в роли Баядеры - подобного уже не встретишь!
Переменились даже театры - эти гадкие, смрадные, полутемные, нездоровые
помещения, полные болтливых, скучающих старцев, ничто в сравнении с нежно
благоухавшими, волшебными замками моей юности, заполнена искушенными
зрителями, знавшими, зачем они пришли и что здесь происходит, - я был из их
числа, поистине один из самых искушенных зрителей. Мой бог, я и сейчас так
живо помню, с каким восторгом отправлялся в театр из Чартерхауса. Мы
собирались туда совсем иначе, чем в любое другое место, - разве можно было
знать что вас там ожидает, кто, вас подарит взглядом или бросит цветом! к
вам на колени. Да, да, я знаю, ничего такого не случается, не будьте
снисходительны к мальчишеской мечте. Как бесконечно до поднимают занавес, но
что мне до того, когда вокруг так много интересного, и эта лихорадочная
атмосфера ожидания так наполняет легкие и сердце, что они сейчас лопнут.
Клянусь, каждый раз, когда вступал оркестр и начиналась увертюра, я умирал:
закусывал ногти, сдвигался на край стула и не дышал, пока не открывался
первый проблеск сцены. Тут я уносился в другой мир, лишался чувства времени
и места, так что под конец приходилось довольно грубо возвращать меня на
землю, но и после, дома, и весь следующий день я оставался сам не свой.
Пожалуй, самым большим удовольствием тех дней был театр. Боже мой, как
я бредил театром! Я помню, что даже мерзкий Артур повел нас какого в театр,
и острое наслаждение, которое я там испытал, овеяло золотой дымкой два
следующих унылых дня. Чем же я упивался? Признаюсь - женщинами. Задолго до
того, как эти богини обрели иную притягательность, я был заворожен их
красотой. Я был пленен ими гораздо раньше, чем стал на них заглядываться.
Вы, ныне живущие, не можете вообразить, как хороши были актрисы в
царствование моего короля Георга IV. Вам, молодые люди, лишь кажется, что вы
видели красивых женщин, но я их в самом деле видел, пожалуйста, не спорьте.
Где найти равных миссис Йейтс из "Адельфи" и миссис Серл из "Садлерз-Уэллз"?
Одно лишь воспоминание об их ослепительной красоте доводит меня до
умопомрачения. Когда я вижу тех, кто нынче занимает сцену, я плачу над
падением женщин: как виден грим! как измяты костюмы! как резки и надтреснуты
их голоса! О если бы я мог, мой юный Уолтер, взять вас за руку и на
мгновенье показать вам Дэверней в роли Баядеры - подобного уже не встретишь!
Переменились даже театры - эти гадкие, смрадные, полутемные, нездоровые
помещения, полные болтливых, скучающих старцев, ничто в сравнении с нежно
благоухавшими, волшебными замками моей юности, заполнена искушенными
зрителями, знавшими, зачем они пришли и что здесь происходит, - я был из их
числа, поистине один из самых искушенных зрителей. Мой бог, я и сейчас так
живо помню, с каким восторгом отправлялся в театр из Чартерхауса. Мы
собирались туда совсем иначе, чем в любое другое место, - разве можно было
знать что вас там ожидает, кто, вас подарит взглядом или бросит цветом! к
вам на колени. Да, да, я знаю, ничего такого не случается, не будьте
снисходительны к мальчишеской мечте. Как бесконечно до поднимают занавес, но
что мне до того, когда вокруг так много интересного, и эта лихорадочная
атмосфера ожидания так наполняет легкие и сердце, что они сейчас лопнут.
Клянусь, каждый раз, когда вступал оркестр и начиналась увертюра, я умирал:
закусывал ногти, сдвигался на край стула и не дышал, пока не открывался
первый проблеск сцены. Тут я уносился в другой мир, лишался чувства времени
и места, так что под конец приходилось довольно грубо возвращать меня на
землю, но и после, дома, и весь следующий день я оставался сам не свой.
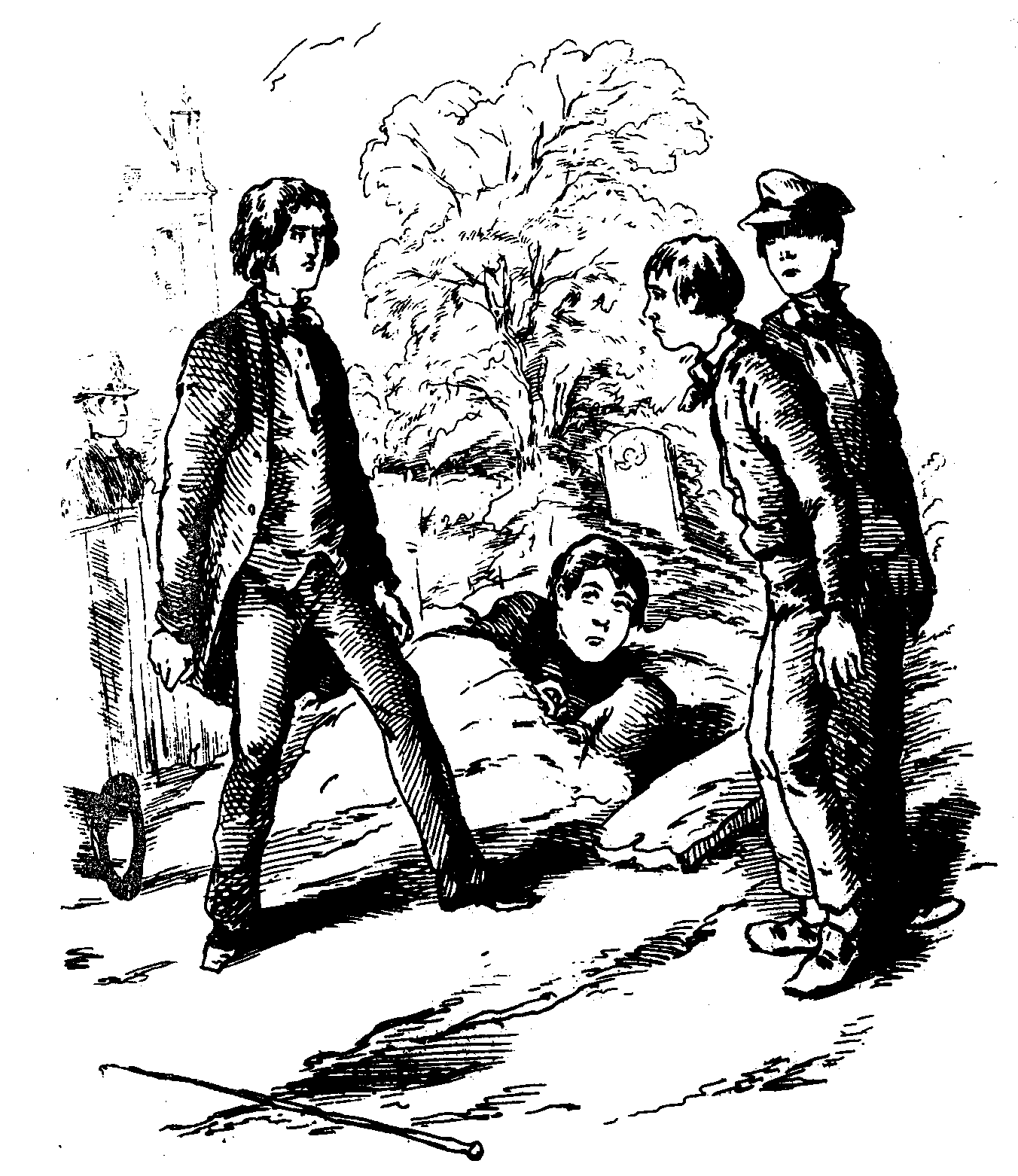 Я отдаю себе отчет в том, что в этих записках почти не говорю о том,
как трудился, как переживал облагораживающие влияния, как молился и читал
библию, как почитал достойных почитания и радовался знакам поощрения. Я
здесь все больше вспоминаю книжки, рисунки, театр, каникулы, но не свое
чревоугодие - стыдно признаться, до чего я был прожорлив и охоч до пирожков
из школьной кухни. А знаете, что мне кажется? Мне кажется, я был
удивительно, невероятно, до неправдоподобия нормален - обыкновенный
мальчик-школьник как и все. Что бы я ни извлек из своего прошлого, ничто не
бросит свет на мою литературную карьеру. Будь я доблестным воином, я
рассказал бы, как мне в сражении сломали нос, будь политиком - блеснул бы
нравоучительными примерами политических махинаций, будь замечательным
оратором - продемонстрировал искусство красноречия, но я был никто и ничто,
пусть все об этом знают. И если кто-либо дерзнет ворошить первые шестнадцать
лет моей жизни и выступит с каким-нибудь ошеломляющим открытием, не верьте,
я все сам рассказал, разве что забыл упомянуть, как в 1827 году мне
выправляли прикус. Я вам поведал все и ничего, но, как бы то ни было, такова
правда - удовлетворитесь ею.
^T2^U
^TНаш герой учится в университете. Последующие события^U
Все эти годы у меня хранятся два альбома для рисования, простеньких, с
голубовато-белой "мраморной" обложкой, из тех, что продавались за гроши в
любой писчебумажной лавке, - как мне порою кажется, в них уместилось все,
чем я могу похвастать за первые двадцать лет жизни. Один альбомчик - периода
Чартерхауса, второй - Кембриджа, Тринити-колледжа. Школьный альбом -
веселая, тощая тетрадка, рисунков в ней немного, все больше карандашные
наброски французских офицеров, одолевающих свирепых разбойников, глядя на
них, я не могу сдержать улыбки, и это славно. Кембриджский альбом потолще,
рисунки в нем изящнее: церкви, пригородные деревушки - Гренчестер, Коттон и
другие, - но они и вполовину так меня не радуют, как школьные. Я не могу
смотреть на них без сожаления, конечно, не из-за них самих, а из-за той
бездумной жизни, которую они напоминают. Я не виновен в том, что ничему не
научился в школе, это я знаю твердо, но я не так самонадеян, чтоб возлагать
вину за свои скромные университетские успехи на это почтенное учреждение.
Когда весной 1829 года меня зачислили в Кембридж, я вовсе не
предполагал транжирить время, но кто, какой знакомый вам юнец намеренно его
транжирит? Разве не все мы собираемся стяжать университетские награды?
Однако в этом возрасте мы верим, что успеть можно все: петь, танцевать,
забавляться и одновременно блистать на экзаменах. Каждое утро мы просыпаемся
в уверенности, что за двадцать четыре часа, если только правильно
распределить время, можно успеть все. Но Мы не успеваем, - по крайней мере,
я не успевал. Треклятое время мне не подчинялось. Порой я отправлялся спать
в три часа ночи, так и не зная, что мне помешало уделить пять-шесть часов
серьезному чтению и прослушать лекцию-другую. Ведь встал я в восемь, скромно
позавтракал, сел за книги ровно в девять, почему, черт побери, все пошло
кувырком? А вот почему: сначала зашел Карн, мы подкрепились, поболтали (в 18
лет браться за книги - дело нелегкое), затем заглянул Хайн и сказал, что
нужно что-то срочно посмотреть в соседней комнате, тем временем настал час
ленча, и вся наша веселая компания отправилась есть и пить (возвращаться
назад было уже бессмысленно), а после прогуляться, ибо солнце сияло ярко и
следовало вспомнить о здоровье; прогулка сменилась карточной игрой, которая
продлилась до обеда, тут нам потребовалось освежиться, распить
бутылочку-другую, словом, пробило три часа ночи. Ужасно, правда? То был,
конечно, день из худших, но признаюсь, что таких было немало, хотя случались
и другие, когда я пробовал работать.
Я отдаю себе отчет в том, что в этих записках почти не говорю о том,
как трудился, как переживал облагораживающие влияния, как молился и читал
библию, как почитал достойных почитания и радовался знакам поощрения. Я
здесь все больше вспоминаю книжки, рисунки, театр, каникулы, но не свое
чревоугодие - стыдно признаться, до чего я был прожорлив и охоч до пирожков
из школьной кухни. А знаете, что мне кажется? Мне кажется, я был
удивительно, невероятно, до неправдоподобия нормален - обыкновенный
мальчик-школьник как и все. Что бы я ни извлек из своего прошлого, ничто не
бросит свет на мою литературную карьеру. Будь я доблестным воином, я
рассказал бы, как мне в сражении сломали нос, будь политиком - блеснул бы
нравоучительными примерами политических махинаций, будь замечательным
оратором - продемонстрировал искусство красноречия, но я был никто и ничто,
пусть все об этом знают. И если кто-либо дерзнет ворошить первые шестнадцать
лет моей жизни и выступит с каким-нибудь ошеломляющим открытием, не верьте,
я все сам рассказал, разве что забыл упомянуть, как в 1827 году мне
выправляли прикус. Я вам поведал все и ничего, но, как бы то ни было, такова
правда - удовлетворитесь ею.
^T2^U
^TНаш герой учится в университете. Последующие события^U
Все эти годы у меня хранятся два альбома для рисования, простеньких, с
голубовато-белой "мраморной" обложкой, из тех, что продавались за гроши в
любой писчебумажной лавке, - как мне порою кажется, в них уместилось все,
чем я могу похвастать за первые двадцать лет жизни. Один альбомчик - периода
Чартерхауса, второй - Кембриджа, Тринити-колледжа. Школьный альбом -
веселая, тощая тетрадка, рисунков в ней немного, все больше карандашные
наброски французских офицеров, одолевающих свирепых разбойников, глядя на
них, я не могу сдержать улыбки, и это славно. Кембриджский альбом потолще,
рисунки в нем изящнее: церкви, пригородные деревушки - Гренчестер, Коттон и
другие, - но они и вполовину так меня не радуют, как школьные. Я не могу
смотреть на них без сожаления, конечно, не из-за них самих, а из-за той
бездумной жизни, которую они напоминают. Я не виновен в том, что ничему не
научился в школе, это я знаю твердо, но я не так самонадеян, чтоб возлагать
вину за свои скромные университетские успехи на это почтенное учреждение.
Когда весной 1829 года меня зачислили в Кембридж, я вовсе не
предполагал транжирить время, но кто, какой знакомый вам юнец намеренно его
транжирит? Разве не все мы собираемся стяжать университетские награды?
Однако в этом возрасте мы верим, что успеть можно все: петь, танцевать,
забавляться и одновременно блистать на экзаменах. Каждое утро мы просыпаемся
в уверенности, что за двадцать четыре часа, если только правильно
распределить время, можно успеть все. Но Мы не успеваем, - по крайней мере,
я не успевал. Треклятое время мне не подчинялось. Порой я отправлялся спать
в три часа ночи, так и не зная, что мне помешало уделить пять-шесть часов
серьезному чтению и прослушать лекцию-другую. Ведь встал я в восемь, скромно
позавтракал, сел за книги ровно в девять, почему, черт побери, все пошло
кувырком? А вот почему: сначала зашел Карн, мы подкрепились, поболтали (в 18
лет браться за книги - дело нелегкое), затем заглянул Хайн и сказал, что
нужно что-то срочно посмотреть в соседней комнате, тем временем настал час
ленча, и вся наша веселая компания отправилась есть и пить (возвращаться
назад было уже бессмысленно), а после прогуляться, ибо солнце сияло ярко и
следовало вспомнить о здоровье; прогулка сменилась карточной игрой, которая
продлилась до обеда, тут нам потребовалось освежиться, распить
бутылочку-другую, словом, пробило три часа ночи. Ужасно, правда? То был,
конечно, день из худших, но признаюсь, что таких было немало, хотя случались
и другие, когда я пробовал работать.
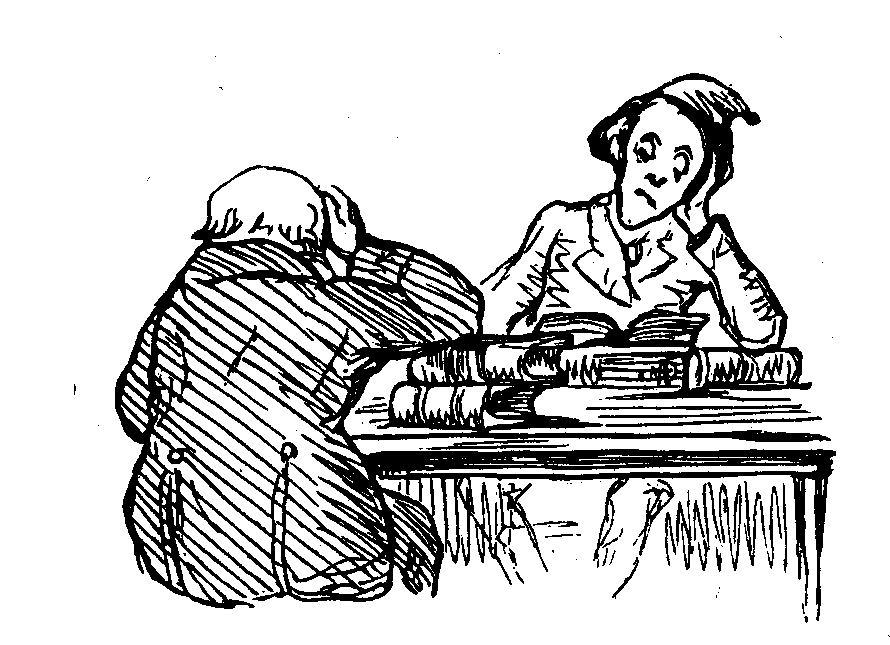 Не так давно я читал в Кембридже лекцию и счел своим первейшим долгом
постоять на Большом дворе Тринити и поглядеть на три окна на первом этаже
подъезда Е, где много лет назад помещалась моя комната. Чувство было
странное, будто время сместилось, потеряв реальность, и было непонятно, жил
ли я там когда-нибудь прежде или живу и до сих пор. В Кембридже все такое
древнее, здесь столько людей перебывало, не вызвав ни малейших перемен, что
годы, проведенные отдельным человеком, кажутся ничтожной малостью. Я помню,
что, попав сюда впервые, растрогался идеей преемственности, внушившей мне
тщеславное желание, чтобы и мои комнаты, как комнаты Ньютона, показывали
грядущим поколениям. Счастье приобщиться к этой традиции казалось мне
огромным, помню, как самозабвенно вышагивал я по прямоугольным дворикам, как
вдохновлялся самым видом этих зданий, как воспарял мой дух при мысли, что я
буду жить в окружении всей этой красоты и величия. Быть с ними в ладу
казалось очень просто, и я не сомневался, что Кембридж подвигнет меня на
великие деяния. Сколь многие узнали до и после, что, по неведомым причинам,
не все всегда идет, как думается. Великолепие и чары этого места прельстили
меня мыслью, будто оно меня преобразит без всякого усилия с моей стороны.
Если бы меня с моими чемоданами забросили в убогую дыру, в жалкое подземелье
без воздуха и света, в отчаянную грязь и нищету, как бы я возмутился, как бы
возопил, что знание не расцветает в темноте, и как бы я ошибся! Знание не
зависит от условий, не стоит принимать их в расчет: хорошие условия - штука
коварная, они имеют свойство проникать вам в душу, навязывая мысль, что их
необходимо оправдать.
Слова мои звучат как извинение за скромные успехи, правда? Но я не
оправдываюсь, я лишь пытаюсь показать, что, как ни любил Кембридж, проявить
себя там не сумел. Без направляющей руки я так и не выбрал себе дела, но в
Кембридже никто никого и не думал направлять. Я говорю это не для укора, мне
следовало самому наладить свою жизнь, но я не справился. Даже в свои
прилежные дни я беспомощно барахтался в сумятице книг и конспектов, не зная,
с чего начать и чем кончить. Возможно, изучай я что-нибудь менее точное, чем
математика, которая не допускает вольностей, я бы догреб до берега, но в
море алгебры и тригонометрии пошел ко дну. Я и сегодня вряд ли понимаю их
основы, но тогда все будто сговорились уверять меня, что я все превосходно
понимаю и незачем мне учиться заново. Не знаю, кто внушил учителям и мне,
что у меня есть способности к математике. Мой отчим любит вспоминать, что в
шестилетнем возрасте я чувствовал себя в геометрии Евклида, как рыба в воде,
но я не помню, чтобы меня к ней когда-нибудь тянуло.
Сейчас все это уже неважно, но для меня не потеряло остроты. Пожалуй,
матушка так никогда и не оправилась от разочарования, которое я ей доставил,
- наверное, меня поэтому и ныне задевает за живое эта тема. Она так уповала
на мои кембриджские успехи, что не смирилась, когда я предпочел выйти из
университета без степени. Все время, что я там оставался, я мучился из-за
нее страшными угрызениями совести. Сначала я задумал вести дневник и
посылать ей записи, но это быстро превратилось в каторгу: писать, чем я на
самом деле занимался, я не смел, а все мои попытки извернуться были горестно
заметны. Ее ответные письма, недоуменные и испытующие, повергали меня в
трепет и заставляли занимать постыдную оборонительную позицию. Пожалуй, то
было наше первое расхождение во взглядах. Мне было больно огорчать столь
любящую мать, но чтобы сохранить самоуважение, порой мы не должны стараться
угодить родителям. Сыновей у меня нет, но будь их у меня хоть двадцать,
верится, что я сумел бы уважать их независимость и не толкал в угодную мне
сторону. С бедняжками-дочками все обстоит иначе. Много ли перед девочкой
дорог, даже если она гениальна, как моя Анни, сидящая сейчас внизу? Жизнь
жестоко ограничивает женщин, замкнув их в круг домашних дел, и надежды на их
интеллектуальные занятия ничтожны. Сестра может учиться не хуже брата, но
обречена смотреть со стороны, как он применяет свои знания на практике. В
один прекрасный день - не знаю, как это произойдет, - женщины выйдут в жизнь
и удивят мужчин. Вы мне не верите, вам это кажется зазорным? Но отчего?
Разве в гостиных Англии вы не дивились обилию гибнущих женских талантов?
Подумайте, кем они могли бы стать и что могли бы совершить, если бы жили без
оков. Не спорю, очень неудобно, чтобы страна кишела Жаннами д'Арк, но я не к
тому веду речь. Я лишь хочу, чтоб женщины заняли достойное их место в
обществе, не оставались в стороне от жизни и не зависели от мужчин, которые
подчас не стоят их мизинца. Задумайтесь над этим.
Не так давно я читал в Кембридже лекцию и счел своим первейшим долгом
постоять на Большом дворе Тринити и поглядеть на три окна на первом этаже
подъезда Е, где много лет назад помещалась моя комната. Чувство было
странное, будто время сместилось, потеряв реальность, и было непонятно, жил
ли я там когда-нибудь прежде или живу и до сих пор. В Кембридже все такое
древнее, здесь столько людей перебывало, не вызвав ни малейших перемен, что
годы, проведенные отдельным человеком, кажутся ничтожной малостью. Я помню,
что, попав сюда впервые, растрогался идеей преемственности, внушившей мне
тщеславное желание, чтобы и мои комнаты, как комнаты Ньютона, показывали
грядущим поколениям. Счастье приобщиться к этой традиции казалось мне
огромным, помню, как самозабвенно вышагивал я по прямоугольным дворикам, как
вдохновлялся самым видом этих зданий, как воспарял мой дух при мысли, что я
буду жить в окружении всей этой красоты и величия. Быть с ними в ладу
казалось очень просто, и я не сомневался, что Кембридж подвигнет меня на
великие деяния. Сколь многие узнали до и после, что, по неведомым причинам,
не все всегда идет, как думается. Великолепие и чары этого места прельстили
меня мыслью, будто оно меня преобразит без всякого усилия с моей стороны.
Если бы меня с моими чемоданами забросили в убогую дыру, в жалкое подземелье
без воздуха и света, в отчаянную грязь и нищету, как бы я возмутился, как бы
возопил, что знание не расцветает в темноте, и как бы я ошибся! Знание не
зависит от условий, не стоит принимать их в расчет: хорошие условия - штука
коварная, они имеют свойство проникать вам в душу, навязывая мысль, что их
необходимо оправдать.
Слова мои звучат как извинение за скромные успехи, правда? Но я не
оправдываюсь, я лишь пытаюсь показать, что, как ни любил Кембридж, проявить
себя там не сумел. Без направляющей руки я так и не выбрал себе дела, но в
Кембридже никто никого и не думал направлять. Я говорю это не для укора, мне
следовало самому наладить свою жизнь, но я не справился. Даже в свои
прилежные дни я беспомощно барахтался в сумятице книг и конспектов, не зная,
с чего начать и чем кончить. Возможно, изучай я что-нибудь менее точное, чем
математика, которая не допускает вольностей, я бы догреб до берега, но в
море алгебры и тригонометрии пошел ко дну. Я и сегодня вряд ли понимаю их
основы, но тогда все будто сговорились уверять меня, что я все превосходно
понимаю и незачем мне учиться заново. Не знаю, кто внушил учителям и мне,
что у меня есть способности к математике. Мой отчим любит вспоминать, что в
шестилетнем возрасте я чувствовал себя в геометрии Евклида, как рыба в воде,
но я не помню, чтобы меня к ней когда-нибудь тянуло.
Сейчас все это уже неважно, но для меня не потеряло остроты. Пожалуй,
матушка так никогда и не оправилась от разочарования, которое я ей доставил,
- наверное, меня поэтому и ныне задевает за живое эта тема. Она так уповала
на мои кембриджские успехи, что не смирилась, когда я предпочел выйти из
университета без степени. Все время, что я там оставался, я мучился из-за
нее страшными угрызениями совести. Сначала я задумал вести дневник и
посылать ей записи, но это быстро превратилось в каторгу: писать, чем я на
самом деле занимался, я не смел, а все мои попытки извернуться были горестно
заметны. Ее ответные письма, недоуменные и испытующие, повергали меня в
трепет и заставляли занимать постыдную оборонительную позицию. Пожалуй, то
было наше первое расхождение во взглядах. Мне было больно огорчать столь
любящую мать, но чтобы сохранить самоуважение, порой мы не должны стараться
угодить родителям. Сыновей у меня нет, но будь их у меня хоть двадцать,
верится, что я сумел бы уважать их независимость и не толкал в угодную мне
сторону. С бедняжками-дочками все обстоит иначе. Много ли перед девочкой
дорог, даже если она гениальна, как моя Анни, сидящая сейчас внизу? Жизнь
жестоко ограничивает женщин, замкнув их в круг домашних дел, и надежды на их
интеллектуальные занятия ничтожны. Сестра может учиться не хуже брата, но
обречена смотреть со стороны, как он применяет свои знания на практике. В
один прекрасный день - не знаю, как это произойдет, - женщины выйдут в жизнь
и удивят мужчин. Вы мне не верите, вам это кажется зазорным? Но отчего?
Разве в гостиных Англии вы не дивились обилию гибнущих женских талантов?
Подумайте, кем они могли бы стать и что могли бы совершить, если бы жили без
оков. Не спорю, очень неудобно, чтобы страна кишела Жаннами д'Арк, но я не к
тому веду речь. Я лишь хочу, чтоб женщины заняли достойное их место в
обществе, не оставались в стороне от жизни и не зависели от мужчин, которые
подчас не стоят их мизинца. Задумайтесь над этим.
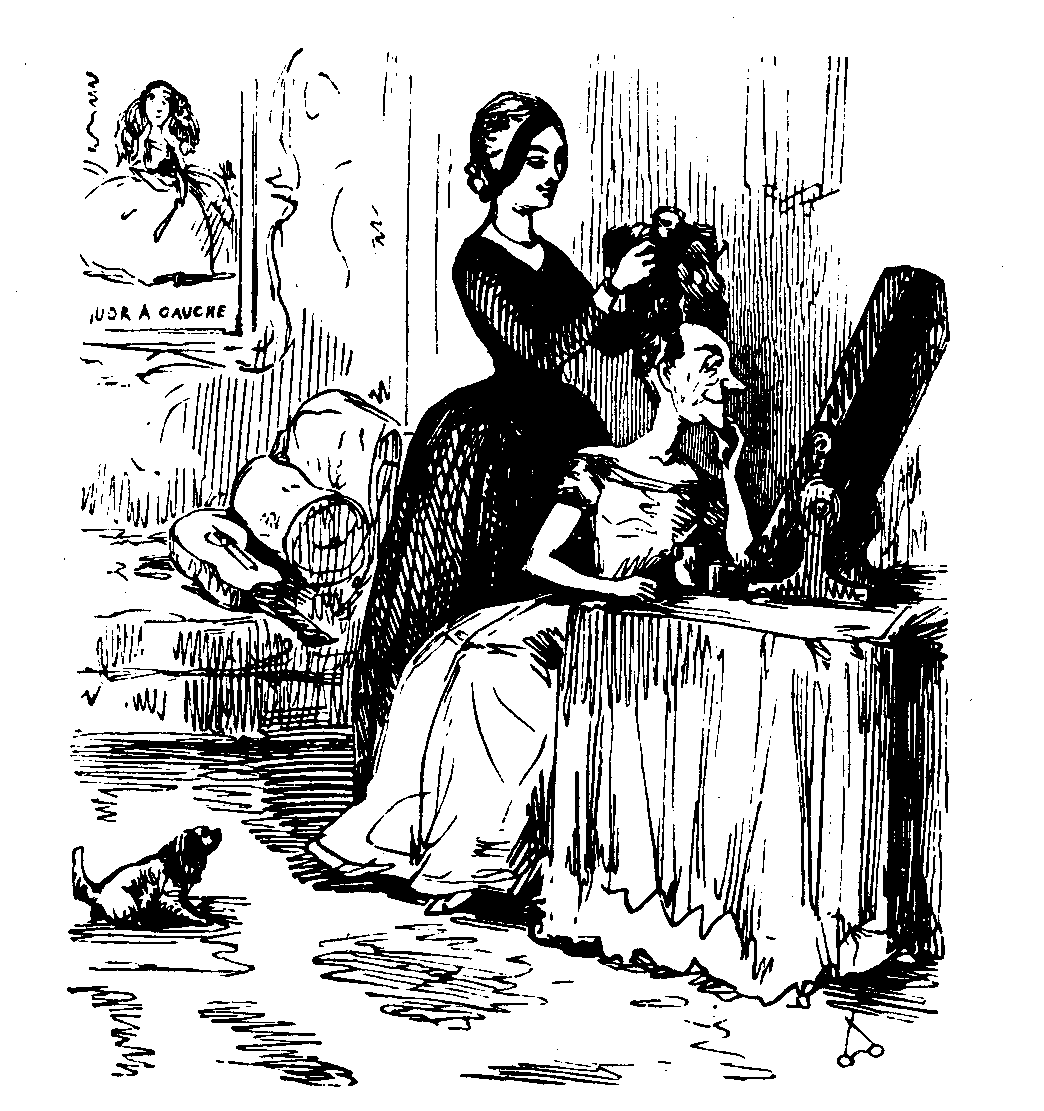 Кажется, на вышеозначенную тему я мог бы произнести спич, а то и два. В
свое время я видел себя в мечтах прославленным оратором, который витийствует
перед восторженно внемлющей публикой о делах государственной важности, но
Кембридж излечил меня от этого. Как каждый увлекающийся юноша, я отдал дань
словесным извержениям в студенческом союзе, но, боже мой, с каким я треском
провалился! Даже сейчас, тридцать лет спустя, лицо мое пылает при одном
воспоминании о том, как я кричал, сбивался, терял нить и запинался, вещая о
Наполеоне. Как хорошо, что у меня нет дара красноречия, хотя он и восхищает
меня в других. В опасную игру играют эти ораторы, особенно в университетах,
где, как известно, зажигательные речи порою произносятся людьми нестоящими,
которые и увлекают за собой других, тогда как неречистый Джонс, Радеющий о
правде, гораздо больше, чем они, заслуживает поддержки. В восемнадцать лет
нам очень важно, как мы выглядим, - нам хочется казаться обаятельными,
звучать пленительно и слыть неотразимыми. В этом возрасте никто не думает о
тихих, надежных добродетелях, никто не радуется, неприметно сделав что-то
благородное, - все хотят быть на виду.
Я был точно такой же. Все внешнее имело для меня первейшее значение.
Меня несло от дня ко дню сквозь это пьянящее существование, и, кажется,
стыда я при этом не испытывал, но даже сегодня я себя не осуждаю - я
снисходителен к заблуждениям молодости. Просить ли мне прощения за то, что
два семестра я ежедневно забавлялся фехтованием, или за то, что был
невероятным франтом, часами обдумывал свои новые туалеты, ходил в них
гоголем, и, несомненно, пресмешно при этом выглядел? С великой нежностью я
вспоминаю свои жилеты залихватского покроя и опушенный мехом плащ,
просторные складки которого - стоило лишь мне в него задрапироваться -
превращали меня, по моему глубокому убеждению, в денди - романтического
незнакомца. О vanitas! Хоть все это тщета, но совершенно безобидная. Она
отталкивает нас лишь в очень юных или очень старых. По-моему, на свете нет
ничего прелестнее двух, летней девочки, но мне не нравится, когда она
заботится о том, красиво ли лежат ее кудряшки; я рад склониться с уважением
перед дебелой пятидесятилетней матроной, но не готов к румянам на ее щеках
или девическому декольте. Словом, тщеславие хоть и ужасно, но не в двадцать
лет, когда оно простительно, естественно и более того, полезно. Мне нравится
смотреть, как молодые люди на балах со страстью выставляют напоказ свои
наряды, не зная, что их чары скрываются в их юности, а не в прическах,
платьях или притираниях. Нам умилительна их неуверенность в себе, а не
пунцовое платье или брюки в обтяжку. Когда я гордо вышагивал по Кембриджу,
путаясь в полах своего нелепого плаща, думаю, люди постарше глядели на меня
с улыбкой, сочувствуя моей наивной радости, и не честили меня пустоголовым
вертопрахом, ибо голова моя вовсе не была пуста. Напротив, в ней роились
замыслы, она шла кругом и кипела новыми идеями, пока я беспомощно барахтался
отыскивая свое место в жизни.
Нашел ли я такое в Кембридже? Нашел, и даже не одно, это то и было
плохо. Вы не забыли, читатель, как в студенческие годы терзались мыслью, чем
бы вам заняться? Как хорошо гребцам! Они не ведают сомнений, кто свой, а кто
чужой, когда что делать, как себя вести, какую принять позу. Я чуть было не
стал одним из них, остановило меня только то, что я не знал - пришлось
сказать себе правду, - как взять в руки, весло, хотя ни в силе, ни в росте я
никому из них не уступал. Как я завидовал невозмутимости их дней, их жизни в
лодках, на реке, ясному распределению всецело поглощавших их ролей и
равнодушию ко всем другим делам на свете. Встречались мне и настоящие
ученые, которые, еще не перешагнув двадцатилетия, так глубоко закапывались в
свой предмет, что извлекали из него всю нужную им пищу, библиотеки
превращались для них в храмы, где они простирались ниц и поклонялись
внимавшему им богу. Юноша, нашедший свое подлинное место в жизни, не
беспокоится о том, ведет ли он себя как должно, его не мучают сомнения и
угрызения совести. Сравните эту завидную судьбу с моей и большинства
студентов. Я сам не знал, что я намерен и что хотел бы делать. Бросаясь от
одного кружка людей к другому, от дела к делу, и ни в чем себя не находя, я
жил без твердой почвы под ногами, которую дает любимое занятие.
Кажется, на вышеозначенную тему я мог бы произнести спич, а то и два. В
свое время я видел себя в мечтах прославленным оратором, который витийствует
перед восторженно внемлющей публикой о делах государственной важности, но
Кембридж излечил меня от этого. Как каждый увлекающийся юноша, я отдал дань
словесным извержениям в студенческом союзе, но, боже мой, с каким я треском
провалился! Даже сейчас, тридцать лет спустя, лицо мое пылает при одном
воспоминании о том, как я кричал, сбивался, терял нить и запинался, вещая о
Наполеоне. Как хорошо, что у меня нет дара красноречия, хотя он и восхищает
меня в других. В опасную игру играют эти ораторы, особенно в университетах,
где, как известно, зажигательные речи порою произносятся людьми нестоящими,
которые и увлекают за собой других, тогда как неречистый Джонс, Радеющий о
правде, гораздо больше, чем они, заслуживает поддержки. В восемнадцать лет
нам очень важно, как мы выглядим, - нам хочется казаться обаятельными,
звучать пленительно и слыть неотразимыми. В этом возрасте никто не думает о
тихих, надежных добродетелях, никто не радуется, неприметно сделав что-то
благородное, - все хотят быть на виду.
Я был точно такой же. Все внешнее имело для меня первейшее значение.
Меня несло от дня ко дню сквозь это пьянящее существование, и, кажется,
стыда я при этом не испытывал, но даже сегодня я себя не осуждаю - я
снисходителен к заблуждениям молодости. Просить ли мне прощения за то, что
два семестра я ежедневно забавлялся фехтованием, или за то, что был
невероятным франтом, часами обдумывал свои новые туалеты, ходил в них
гоголем, и, несомненно, пресмешно при этом выглядел? С великой нежностью я
вспоминаю свои жилеты залихватского покроя и опушенный мехом плащ,
просторные складки которого - стоило лишь мне в него задрапироваться -
превращали меня, по моему глубокому убеждению, в денди - романтического
незнакомца. О vanitas! Хоть все это тщета, но совершенно безобидная. Она
отталкивает нас лишь в очень юных или очень старых. По-моему, на свете нет
ничего прелестнее двух, летней девочки, но мне не нравится, когда она
заботится о том, красиво ли лежат ее кудряшки; я рад склониться с уважением
перед дебелой пятидесятилетней матроной, но не готов к румянам на ее щеках
или девическому декольте. Словом, тщеславие хоть и ужасно, но не в двадцать
лет, когда оно простительно, естественно и более того, полезно. Мне нравится
смотреть, как молодые люди на балах со страстью выставляют напоказ свои
наряды, не зная, что их чары скрываются в их юности, а не в прическах,
платьях или притираниях. Нам умилительна их неуверенность в себе, а не
пунцовое платье или брюки в обтяжку. Когда я гордо вышагивал по Кембриджу,
путаясь в полах своего нелепого плаща, думаю, люди постарше глядели на меня
с улыбкой, сочувствуя моей наивной радости, и не честили меня пустоголовым
вертопрахом, ибо голова моя вовсе не была пуста. Напротив, в ней роились
замыслы, она шла кругом и кипела новыми идеями, пока я беспомощно барахтался
отыскивая свое место в жизни.
Нашел ли я такое в Кембридже? Нашел, и даже не одно, это то и было
плохо. Вы не забыли, читатель, как в студенческие годы терзались мыслью, чем
бы вам заняться? Как хорошо гребцам! Они не ведают сомнений, кто свой, а кто
чужой, когда что делать, как себя вести, какую принять позу. Я чуть было не
стал одним из них, остановило меня только то, что я не знал - пришлось
сказать себе правду, - как взять в руки, весло, хотя ни в силе, ни в росте я
никому из них не уступал. Как я завидовал невозмутимости их дней, их жизни в
лодках, на реке, ясному распределению всецело поглощавших их ролей и
равнодушию ко всем другим делам на свете. Встречались мне и настоящие
ученые, которые, еще не перешагнув двадцатилетия, так глубоко закапывались в
свой предмет, что извлекали из него всю нужную им пищу, библиотеки
превращались для них в храмы, где они простирались ниц и поклонялись
внимавшему им богу. Юноша, нашедший свое подлинное место в жизни, не
беспокоится о том, ведет ли он себя как должно, его не мучают сомнения и
угрызения совести. Сравните эту завидную судьбу с моей и большинства
студентов. Я сам не знал, что я намерен и что хотел бы делать. Бросаясь от
одного кружка людей к другому, от дела к делу, и ни в чем себя не находя, я
жил без твердой почвы под ногами, которую дает любимое занятие.
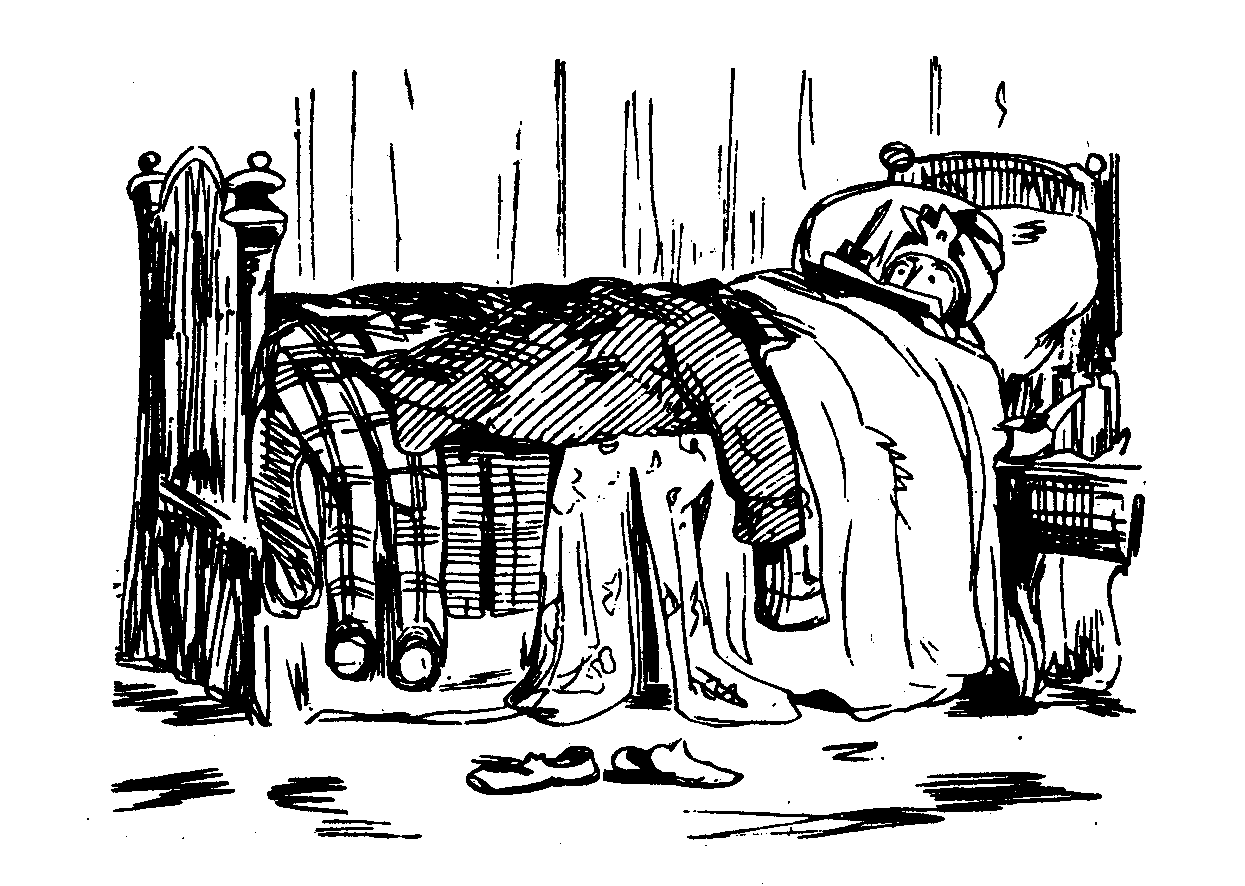 Как ни старался я исправить это несчастное положение, - впрочем,
"несчастное" сказано слишком сильно, скорее, неблагополучное, - ничего у
меня не выходило. Правду сказать, я не был глух к голосу
совести, и мучила она меня не только потому, что у меня была бдительная
мать. Меня тревожила моя учеба, она не ладилась, и я справедливо заключал,
что нужно ревностней работать. Но мне мешал недуг, преследовавший меня всю
жизнь, - лень. Не награди меня природа таким ленивым и праздным нравом, мне
не пришлось бы впоследствии так много трудиться. Я очень люблю понежиться
утром в постели, - верней, любил, теперь уж мне не спится. Но в восемнадцать
лет я мог заснуть и стоя, а просыпаясь, чувствовал себя как черепаха,
очнувшаяся после зимней спячки. В Кембридже никто, конечно, не считался с
этой немощью, и мне приходилось измысливать приемы, чтобы в разумное время
приводить свое тело в вертикальное положение. Я задабривал смотрителя
шестипенсовиками, чтоб он будил меня, что он честно исполнял, но я тут же
заваливался спать снова. Я пробовал заваривать смертельно крепкий чай - по
нескольку ложек заварки на чашку, - чтоб непрестанно бодрствовать, но ничего
не помогало. Я обзавелся будильником, издававшим такой чудовищный шум, что
мои соседи срывались с постелей и честили меня из конца в конец колледжа, но
я спал и под него. Порой с помощью всех ухищрений я умудрялся подняться в
шесть утра, но как я ни превозносил свою добродетель и свежесть утренней
поры, больше недели никогда не мог продержаться. Так как я оказался слаб для
тягот сурового режима, я пробовал сместить свои рабочие часы, но из этого
ничего не вышло из-за бесконечных отвлекающих обстоятельств: вечерами часто
затевалось что-нибудь неодолимо притягательное, а я, как вы помните, был
малый общительный. Пришлось трудиться днем, в положенное время, но если я не
укладывался в отведенные для работы часы, все было кончено - я ее не делал.
В каком-то смысле вскоре все и оказалось кончено. Я старался, честно
старался работать регулярно, но это слишком противоречило моей натуре,
поэтому трудился я рывками: один день десять часов кряду, другой - ни к чему
не притрагивался. Нетрудно догадаться, что случалось чаще. Главным камнем
преткновения была для меня алгебра. Я уже говорил, что не понимал ее основ,
но дело обстояло хуже - я вовсе ничего не понимал. Я единоборствовал с ней,
как Геркулес, но в моей голове есть дверца, захлопнутая навсегда для алгебры
и для тригонометрии. Возводя в степень выражение а+b, я не испытываю
душевного подъема и потому предпочитаю уткнуться в томик Перси Биши Шелли и
напрочь забыть о предыдущем деле. Наверное, вам хочется спросить, отчего я
не переменил предмета своих занятий и не взялся за что-нибудь другое? Это
загадка и для меня самого, но, наверное, из-за того, из-за чего у меня все
не складывалось в Кембридже: никто меня не направлял и не опекал, и всех
менее мой наставник. Предполагалось, что я должен успевать в том, за что
взялся, а если не успеваю, значит, сам виноват. К тому же перемены требуют
энергии, которой мне как раз и не хватало, потому я брел дальше, зная, что с
треском провалюсь на первой же сессии, и страшась того, каким ударом это
будет для матушки. Я пробовал подготовить ее, предупреждал, что не смогу
сдать экзамены по тысяче оправдывающих меня причин, но знал, что отсутствие
успехов у своего блестящего отпрыска она воспримет как смертельную обиду.
Моей душой отчасти владело самообольщение, я говорил себе, что все еще,
возможно, само собой устроится и неизвестно, что принесет мне день экзамена.
На долю тех, кто знает, что не вытянет, остаются только такие утешения.
Конечно же, я провалился, меня определили в последний разряд по успеваемости
и, несмотря на все мои предупреждения, матушка пришла в ужас, а я был
пристыжен и злился. Душа моя, как у ребенка, звенела криком: "Я не
виноват!", я еле его сдерживал, стараясь не оправдываться и не взваливать
вину на какого-нибудь козла отпущения. Я напирал на то, что заболел перед
экзаменом, расписывал свою болезнь во всех подробностях, во всех ее
мучительных симптомах, твердил, как тяжело восемь часов сряду просиживать за
книгами, все время напрягая ум. Стояли ли вы когда-либо, читатель, подле
аудитории, в которой идет экзамен, наблюдая за входящими? Знаете, каким из
них был я? Тем самым дикого вида малым, что на полчаса опаздывает, влетает в
расстегнутой тужурке, без очков - куда-то задевал, со сломанными карандашами
и со всеми возможными признаками переутомления. Какие угрызения совести я
чувствовал, бессмысленно уставившись на чистый лист бумаги, когда вокруг мои
знакомцы, лишь накануне клявшиеся, что ничего не знают, собранные и
спокойные, усердно наклонясь, изводили целые ее ворохи. Как это было
унизительно! Я твердо решил больше ничему подобному не подвергаться.
Как ни старался я исправить это несчастное положение, - впрочем,
"несчастное" сказано слишком сильно, скорее, неблагополучное, - ничего у
меня не выходило. Правду сказать, я не был глух к голосу
совести, и мучила она меня не только потому, что у меня была бдительная
мать. Меня тревожила моя учеба, она не ладилась, и я справедливо заключал,
что нужно ревностней работать. Но мне мешал недуг, преследовавший меня всю
жизнь, - лень. Не награди меня природа таким ленивым и праздным нравом, мне
не пришлось бы впоследствии так много трудиться. Я очень люблю понежиться
утром в постели, - верней, любил, теперь уж мне не спится. Но в восемнадцать
лет я мог заснуть и стоя, а просыпаясь, чувствовал себя как черепаха,
очнувшаяся после зимней спячки. В Кембридже никто, конечно, не считался с
этой немощью, и мне приходилось измысливать приемы, чтобы в разумное время
приводить свое тело в вертикальное положение. Я задабривал смотрителя
шестипенсовиками, чтоб он будил меня, что он честно исполнял, но я тут же
заваливался спать снова. Я пробовал заваривать смертельно крепкий чай - по
нескольку ложек заварки на чашку, - чтоб непрестанно бодрствовать, но ничего
не помогало. Я обзавелся будильником, издававшим такой чудовищный шум, что
мои соседи срывались с постелей и честили меня из конца в конец колледжа, но
я спал и под него. Порой с помощью всех ухищрений я умудрялся подняться в
шесть утра, но как я ни превозносил свою добродетель и свежесть утренней
поры, больше недели никогда не мог продержаться. Так как я оказался слаб для
тягот сурового режима, я пробовал сместить свои рабочие часы, но из этого
ничего не вышло из-за бесконечных отвлекающих обстоятельств: вечерами часто
затевалось что-нибудь неодолимо притягательное, а я, как вы помните, был
малый общительный. Пришлось трудиться днем, в положенное время, но если я не
укладывался в отведенные для работы часы, все было кончено - я ее не делал.
В каком-то смысле вскоре все и оказалось кончено. Я старался, честно
старался работать регулярно, но это слишком противоречило моей натуре,
поэтому трудился я рывками: один день десять часов кряду, другой - ни к чему
не притрагивался. Нетрудно догадаться, что случалось чаще. Главным камнем
преткновения была для меня алгебра. Я уже говорил, что не понимал ее основ,
но дело обстояло хуже - я вовсе ничего не понимал. Я единоборствовал с ней,
как Геркулес, но в моей голове есть дверца, захлопнутая навсегда для алгебры
и для тригонометрии. Возводя в степень выражение а+b, я не испытываю
душевного подъема и потому предпочитаю уткнуться в томик Перси Биши Шелли и
напрочь забыть о предыдущем деле. Наверное, вам хочется спросить, отчего я
не переменил предмета своих занятий и не взялся за что-нибудь другое? Это
загадка и для меня самого, но, наверное, из-за того, из-за чего у меня все
не складывалось в Кембридже: никто меня не направлял и не опекал, и всех
менее мой наставник. Предполагалось, что я должен успевать в том, за что
взялся, а если не успеваю, значит, сам виноват. К тому же перемены требуют
энергии, которой мне как раз и не хватало, потому я брел дальше, зная, что с
треском провалюсь на первой же сессии, и страшась того, каким ударом это
будет для матушки. Я пробовал подготовить ее, предупреждал, что не смогу
сдать экзамены по тысяче оправдывающих меня причин, но знал, что отсутствие
успехов у своего блестящего отпрыска она воспримет как смертельную обиду.
Моей душой отчасти владело самообольщение, я говорил себе, что все еще,
возможно, само собой устроится и неизвестно, что принесет мне день экзамена.
На долю тех, кто знает, что не вытянет, остаются только такие утешения.
Конечно же, я провалился, меня определили в последний разряд по успеваемости
и, несмотря на все мои предупреждения, матушка пришла в ужас, а я был
пристыжен и злился. Душа моя, как у ребенка, звенела криком: "Я не
виноват!", я еле его сдерживал, стараясь не оправдываться и не взваливать
вину на какого-нибудь козла отпущения. Я напирал на то, что заболел перед
экзаменом, расписывал свою болезнь во всех подробностях, во всех ее
мучительных симптомах, твердил, как тяжело восемь часов сряду просиживать за
книгами, все время напрягая ум. Стояли ли вы когда-либо, читатель, подле
аудитории, в которой идет экзамен, наблюдая за входящими? Знаете, каким из
них был я? Тем самым дикого вида малым, что на полчаса опаздывает, влетает в
расстегнутой тужурке, без очков - куда-то задевал, со сломанными карандашами
и со всеми возможными признаками переутомления. Какие угрызения совести я
чувствовал, бессмысленно уставившись на чистый лист бумаги, когда вокруг мои
знакомцы, лишь накануне клявшиеся, что ничего не знают, собранные и
спокойные, усердно наклонясь, изводили целые ее ворохи. Как это было
унизительно! Я твердо решил больше ничему подобному не подвергаться.
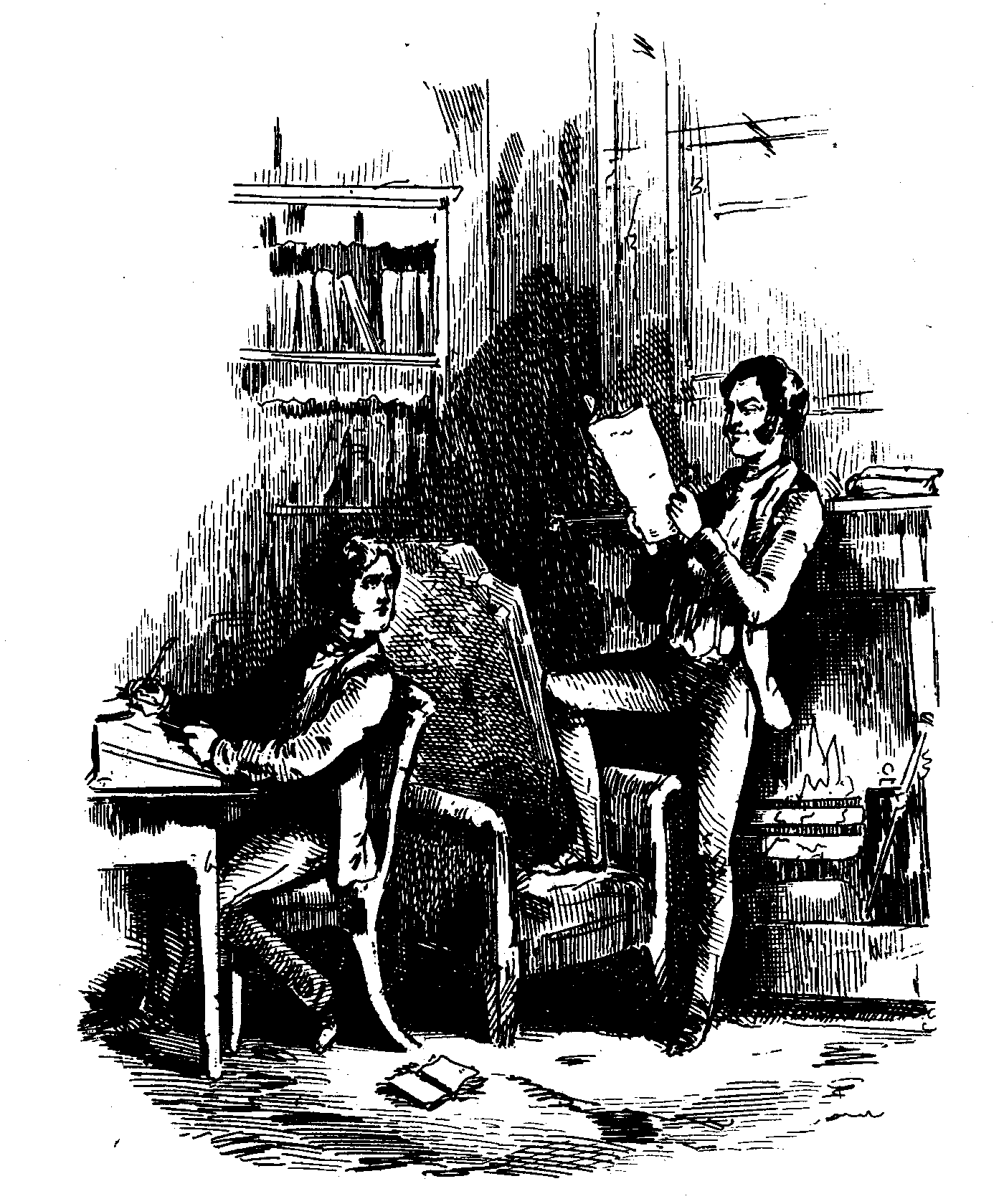 Жизнь порой дает нам полезные уроки, и чем раньше мы их получаем, тем
лучше, но вряд ли нам приносят пользу бесславные провалы, которые уродуют
душу и порождают ужасную неуверенность в себе, порой столь сильную, что
пострадавший, если это постигает его в юности, не приходит в себя до конца
своих дней. К счастью, со мной этого не случилось, но могло и случиться. Я
уже признавался, что мечтал блистать среди себе подобных и очень страдал,
плетясь в хвосте у сверстников, но у меня были иные утешения, которые мне
помогали выстоять временную непогоду. Я собрался с духом, огляделся по
сторонам и обнаружил, что в Кембридже мне многое по вкусу и что эти радости
искупают отсутствие академических наград. Конечно, я мог зубрить, не выходя
из комнаты, чтобы вдолбить-таки алгебру в свою тупую голову, но тогда бы я
не испытал себя ни в чем другом и не узнал бы разных других удовольствий.
Теперь, глядя назад, я скажу больше: если бы я не подымая головы корпел над
книгами, я не вошел бы в редакцию "Сноба" и, следовательно, упустил бы свой
первый журналистский опыт - какая потеря для человечества! Как, вы не
слышали о "Снобе", прославленном литературном и научном журнале, все номера
которого мгновенно расходились? Значит, вы много потеряли. По счастью, у
меня случайно сохранились все его семь выпусков, семь цветных бумажных
разворотов - обычных сдвоенных листков, искрящихся задором и весельем.
Жизнь порой дает нам полезные уроки, и чем раньше мы их получаем, тем
лучше, но вряд ли нам приносят пользу бесславные провалы, которые уродуют
душу и порождают ужасную неуверенность в себе, порой столь сильную, что
пострадавший, если это постигает его в юности, не приходит в себя до конца
своих дней. К счастью, со мной этого не случилось, но могло и случиться. Я
уже признавался, что мечтал блистать среди себе подобных и очень страдал,
плетясь в хвосте у сверстников, но у меня были иные утешения, которые мне
помогали выстоять временную непогоду. Я собрался с духом, огляделся по
сторонам и обнаружил, что в Кембридже мне многое по вкусу и что эти радости
искупают отсутствие академических наград. Конечно, я мог зубрить, не выходя
из комнаты, чтобы вдолбить-таки алгебру в свою тупую голову, но тогда бы я
не испытал себя ни в чем другом и не узнал бы разных других удовольствий.
Теперь, глядя назад, я скажу больше: если бы я не подымая головы корпел над
книгами, я не вошел бы в редакцию "Сноба" и, следовательно, упустил бы свой
первый журналистский опыт - какая потеря для человечества! Как, вы не
слышали о "Снобе", прославленном литературном и научном журнале, все номера
которого мгновенно расходились? Значит, вы много потеряли. По счастью, у
меня случайно сохранились все его семь выпусков, семь цветных бумажных
разворотов - обычных сдвоенных листков, искрящихся задором и весельем.
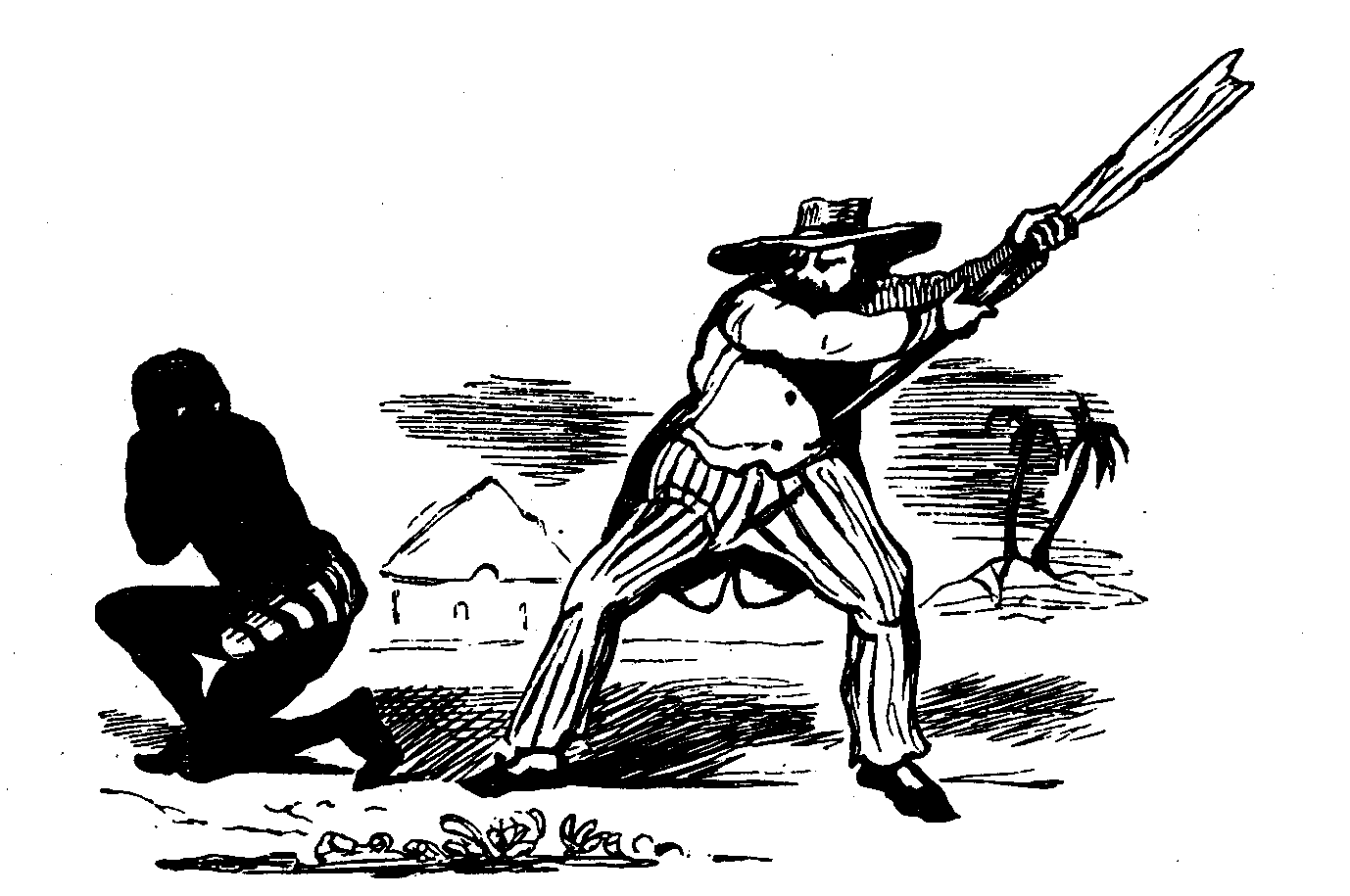 Я, сами понимаете, шучу. Студенческий юмор с годами - не меняется,
осмелюсь утверждать, что и сегодня в любом университетском городе желающие
могут купить на улицах точно такое же издание. Я помню, что валился с ног от
хохота, потешаясь над собственными остротами. О, как же мы смеялись - до
слез, до истерики, как обнимались, когда готовили материал для номера.
Трудно сказать, что было приятнее: пробы пера или дружеские тумаки. Мы
продавали наше детище по два с половиной пенса за штуку и очень гордились
выручкой. Там было много глубокомысленных изречений в таком духе: "И спаржа,
и поэзия в неволе погибают", и коротеньких стишков, пародировавших
господствовавший тогда литературный стиль, вроде "Оды к бредню":
Под серебристою волной,
Под равнодушною луной,
О бредень, на свою беду
Насквозь промокнешь ты в пруду.
Хоть это не мое творение, оно и сейчас меня смешит, тогда как вы,
читатель, небось, уже на полпути к окну, чтоб выбросить в него этот дурацкий
журнальный листок. Я не участвовал ни в печатавшейся по частям "Молли из
Воппинга", очень меня смешившей, ни в "Опыте о Большом Пальце, а также о
свойствах и природе всякого Большого Пальца", которые имитировали стиль
одного известного писателя. Мои собственные честолюбивые притязания
выразились в стихотворении под названием "Тимбукту", в котором при желании
можно усмотреть пародию на папашу Вордсворта, снабженную поучительными
замечаниями. Поскольку то было мое первое увидевшее свет творение, позволяю
себе привести его здесь:
Люд чернокожий в Африке курчавой
Живет, овеянный чудесной славой,
И где-то там, в таинственном цвету,
Лежит град величавый Тимбукту.
Там прячет лев свой рык в ночные недра,
Порой сжирая бедолагу негра,
Объедки оставляя по лесам
На подлый пир стервятникам и псам,
Насытившись, чудовище лесное
Лежит меж пальм в прохладе и покое.
И еще несколько строф в том же роде; соль же была в ужасно ученом
комментарии, с которым, боюсь, мне не убедить вас ознакомиться. Могу лишь
вас заверить, что мои однокашники нашли его восхитительным. Через несколько
дней по выходе номера я был в пивной, и там какие-то студенты расхваливали -
божественный нектар похвал! - и цитировали мой стишок, справляясь друг у
друга, кто его автор. Их похвалы я впитывал быстрее, чем вино, и весь
лучился счастьем. То было отраднейшее сочетание - делать то, что тебе по
вкусу, и получать за это комплименты. Мне бы очень хотелось сказать, что
этот случай пробудил во мне желание писать, но это было бы неправдой, в ту
пору я и не думал о писательстве. Мне в голову не приходило, что этим можно
зарабатывать на жизнь, мне и вообще не приходило в голову, что на жизнь
нужно зарабатывать. Я тратил, не задумываясь, и полагал, что деньги у меня
есть и всегда будут; идея возмещать потраченное или же зарабатывать, чтоб
тратить, показалось бы мне неприличной.
Зная дальнейшее, должен признать, что такая бездумность в обращении с
деньгами была не лучшей подготовкой к будущему, но не могу сказать, что
сожалею о своем мотовстве, разве только в одном, о чем сейчас поведаю. Что
бы ни говорила матушка, я не согласен с тем, что у меня были излишне дорогие
вкусы. Я хорошо одевался, держал приличный погреб - даже гордился своим
знанием вин, с размахом обставил свои апартаменты, но думаю, что все это
простительно. Возможно, не было нужды вешать гардины на медный стержень по
последней моде или расписывать каминную полку под мрамор, но то были
невинные и не слишком дорогие удовольствия. Немало денег я издержал на
книги, но полагаю, что хорошая библиотека - выгодное помещение капитала.
Если когда-нибудь придется продавать мою библиотеку - сохрани бог, конечно,
хочется верить, что она останется в семье, - но если так случится, многие
книги моей кембриджской поры принесут целое состояние. Неразрезанный Юм или
Смоллетт в 13-ти томах стоили три с половиной фунта, что считалось дорого,
истратить пять гиней на "Греческую историю" Митфорда казалось
расточительством, но эти книги многократно возместили свою стоимость и
принесли мне долгие часы познания и радости, и я не назову их "выброшенными
деньгами", как говаривал мой дядя Фрэнк, которого матушка назначила моим
казначеем. К нему мне надлежало обращаться с денежными просьбами, что меня
сердило - я так мечтал иметь своего банкира в Кембридже, - но, правду
сказать, дядя платил за все исправно.
Как хорошо сейчас признаться, что своим пером я заработал достаточно,
чтобы оставить девочкам по 10000 фунтов каждой и обеспечить приличное
содержание жене. Иначе я бы сошел в могилу терзаемый виной, что в Кембридже
промотал отцовское наследство. И промотал не на жилье, платье, книги и вино,
а на игру, азартную игру на деньги, гонясь за неверным счастьем. Теперь,
когда мой организм давно очистился от скверны, я толком не припомню, какая
сила влекла меня в ту сторону с таким упорством, страстью и равнодушием к
пускаемым по ветру суммам. Матушка, всегда догадывавшаяся, что пустяками, на
которые я ссылался, не объяснить мои чудовищные траты, приписывала такие
срывы несчастному выбору друзей, якобы совращавших меня с пути истинного. Ей
легче было думать, что ее прекрасный, честный и достойный сын - невинная
овечка, влекомая на бойню; счастливое заблуждение, но я его не разделяю. Я
уже говорил, какой я был неустойчивый малый, как разбрасывался, как был
готов принять любое предложение, поддержать любую компанию, отправиться куда
угодно по первому же зову.
Напрасно матушка винила других в моем беспутстве - я был из тех, кто
неизбежно вступает на путь увеселений. Ненасытное любопытство ко всему и
всем на свете опасно тем, что без разбору знается с хорошим и дурным, иначе
оно бы не называлось "ненасытным". Никто не любопытствует, заранее зная, что
та или иная вещь скучна, занятна, дурна или невинна, именно это каждый хочет
узнать сам. Того, кто любопытен, не удержишь, сообщив ему, что предмет его
любопытства невыразимо сер, малополезен и вряд ли в его вкусе, он это должен
открыть сам, чтобы изжить свой интерес. Я прекрасно знал, что карты -
гнусность, что до добра они меня не доведут и лучше держаться от них
подальше, но меня манила сама их предосудительность, а значит, и опасность.
Я был уверен, что только попробую, а потом брошу, сказав себе, что сорвал
еще одну завесу, но тут я ошибался.
Не стану мучить вас трактатом об искусе азартных игр, да и по
недостатку знаний не могу его составить, хотя изобразил себя я так, будто в
молодости был прожженным игроком. Несколько лет я играл довольно неумеренно,
но вследствие отчаянной борьбы с собой покончил с картами и больше не
потворствовал своей слабости - и значит, я счастливо отделался. Как страшно
было бы в те дни, когда у меня оставался за душой последний соверен, если
бы, не удержавшись, я просадил его в рулетку или поставил на карту. Когда я
вижу в казино это ужасное отчаяние в глазах у проигравшихся бедняг, мне
делается худо; довольно только посмотреть на них, чтобы понять, что это не
игра, а дело жизни или смерти, и не для них одних, но и для их близких. Как,
возвратившись после проигрыша, взглянуть в лицо жене и плачущим детям? Где
взять денег, чтобы купить еды и уплатить за жилище? Сам я не пережил ничего
подобного, но если бы и пережил, надеюсь, сумел бы вовремя остановиться.
Худшее, что мне довелось испытать, было чувство вины, когда я признавался
матушке или дяде Фрэнку в сделанном долге, это стоило мне нескольких
неприятных часов, но было не слишком мучительно. Матушкины упреки даже
сердили меня - неужто она хочет, чтоб я рос мямлей? Что ж мне, не
развлекаться? Или она не доверяет моей осмотрительности? Она ей,
действительно, не доверяла, равно как и моей мнимой неподверженности чужим
влияниям, и правильно делала. Меня ничего не стоило обвести вокруг пальца,
для шулеров я был находкой - такой невинный, благородный и убежденный в том,
что все остальные таковы же. Разделываясь со мной, они, наверное, хохотали
от души - уж очень легка была добыча. По-моему, эти типы с банковскими
чеками и векселями наготове всегда в погоне за подходящей жертвой;
настойчиво, как привидения, они рыщут по свету в поисках простаков вроде
меня. Не раз с дней моей собственной молодости я наблюдал, как юноша с
робким и любопытным взором, отлично мне известным, блуждает вокруг игорного
стола, как некогда блуждал и я, а тем временем к нему бесшумно подбираются
эти длиннолицые и остроносые мерзавцы. Как мне хотелось броситься вперед и
крикнуть: "Мой юный друг, не поддавайтесь ни на какие уговоры, к которым они
не преминут прибегнуть, приглашая вас в заднюю комнату для небольшой,
спокойной партии; они хотят вас ободрать как липку, освежевать ножом таким
же острым и разящим, каким пастух снимает с овцы шкуру". Но я не делаю и
шага. Недвижно стою на месте и смотрю, как юноша с готовностью бросается за
своими убийцами, и не произношу ни слова: предупреждениями делу не поможешь,
это бесполезно, битву с соблазном выигрывают в одиночку. Я понял, что азарт
и праздность - две слабости, которые искореняются лишь болезненными
средствами. Когда меня тянуло к красному и черному, удержать меня от игорных
домов нельзя было ничем.
Как же мне удалось рассеять эти страшные чары? Я рад бы передать другим
рецепт, в действенности которого убедился на собственном опыте, но знаю
только, что на это ушло много времени, и даже когда я повзрослел и стал
стыдиться этого наваждения, я все еще порой заглядывал в игорные дома.
Сколько раз я уверял встревоженную матушку, что дьявол повержен в прах, но
это было не так. Чем хуже шла работа, тем сильней манила к себе игра. Чем
больше я проигрывал, тем тверже верил, что в следующий раз выиграю
непременно, но это крик души любого игрока. И лишь когда я окунулся в
интересную работу, волновавшую мои ум и чувство, и оказался среди тех, кто
развивал мои духовные потребности, я оторвался от этой мерзостной забавы, но
то, было уже после Кембриджа. Оглядываясь назад, я сокрушенно думаю о том,
как много денег пущено по ветру, но сколько именно, не признаюсь - боюсь,
вам не захочется читать дальше. И все же то был необходимый опыт. Зная себя
и мир, не сомневаюсь, что я бы неизбежно пробовал играть, так уж лучше было
этому случиться в Кембридже, в раннюю пору жизни.
Мне стыдно рисовать такую мрачную картину, не оживляя ее мазками
посветлее, вы можете решить, что вся моя юность прошла в борениях с собой и
в лицезрении собственных несовершенств. Я просто не вставил это в рамку
счастливых, радостных часов, когда все шло как должно. Я вам живописал
дурное общество, в котором вращался, дурные страсти, которым предавался, но
не представил ни добрых друзей, ни достойных дел. Я заметил, что человек,
решившийся быть честным, почти всегда понимает под честностью перечисление
своих недостатков, словно достоинств у него нет. Нет, скромность и честность
должны идти рядом, и правды ради следует упомянуть и более счастливые
минуты. Вы угадали, я их проводил в кругу друзей. Порой я наслаждался
одиночеством: прогуливался вдоль реки, зажав под мышкой блокнот для
рисования, порой подолгу читал на подоконнике, - но взлеты духа я переживал
в другое время. Я их познал в кругу друзей, которых одобрила бы и матушка,
беседуя о стоящих предметах. Я говорю здесь не о шумных, дымных сборищах,
где все кричат, поют и притворяются веселыми, - правду сказать, такие
вечеринки всегда казались мне бессмыслицей, и часто, наскучив их
вульгарностью, я уходил задолго до конца, - но о гораздо более спокойных
встречах с Эдвардом Фицджералдом, Уильямом Брукфилдом и Джоном Алленом. Мне
было хорошо с ними, я рад был разделить мысли и убеждения тех, кто был умнее
и талантливей меня. Я совестился того, что они, считая меня ровней, тратят
на меня свое драгоценное время, и, расставаясь с ними, исполнялся решимости
изжить те слабости, о которых упоминал выше. Порой, прежде чем разойтись, мы
вместе молились - я ничуть не сомневаюсь, что молитвой искупается на свете
гораздо больше, чем мы думаем. Вдыхая воздух ночного Кембриджа, я медленно
возвращался к себе, обняв за плечи дорогого Фица, и чувствовал себя
очищенным, серьезным и твердо верил, что с завтрашнего дня начну жить
по-новому и больше не собьюсь с пути. Мир нисходил в мою душу, и жалко было
засыпать, чтоб не утратить это таинственное чувство счастья.
Я, сами понимаете, шучу. Студенческий юмор с годами - не меняется,
осмелюсь утверждать, что и сегодня в любом университетском городе желающие
могут купить на улицах точно такое же издание. Я помню, что валился с ног от
хохота, потешаясь над собственными остротами. О, как же мы смеялись - до
слез, до истерики, как обнимались, когда готовили материал для номера.
Трудно сказать, что было приятнее: пробы пера или дружеские тумаки. Мы
продавали наше детище по два с половиной пенса за штуку и очень гордились
выручкой. Там было много глубокомысленных изречений в таком духе: "И спаржа,
и поэзия в неволе погибают", и коротеньких стишков, пародировавших
господствовавший тогда литературный стиль, вроде "Оды к бредню":
Под серебристою волной,
Под равнодушною луной,
О бредень, на свою беду
Насквозь промокнешь ты в пруду.
Хоть это не мое творение, оно и сейчас меня смешит, тогда как вы,
читатель, небось, уже на полпути к окну, чтоб выбросить в него этот дурацкий
журнальный листок. Я не участвовал ни в печатавшейся по частям "Молли из
Воппинга", очень меня смешившей, ни в "Опыте о Большом Пальце, а также о
свойствах и природе всякого Большого Пальца", которые имитировали стиль
одного известного писателя. Мои собственные честолюбивые притязания
выразились в стихотворении под названием "Тимбукту", в котором при желании
можно усмотреть пародию на папашу Вордсворта, снабженную поучительными
замечаниями. Поскольку то было мое первое увидевшее свет творение, позволяю
себе привести его здесь:
Люд чернокожий в Африке курчавой
Живет, овеянный чудесной славой,
И где-то там, в таинственном цвету,
Лежит град величавый Тимбукту.
Там прячет лев свой рык в ночные недра,
Порой сжирая бедолагу негра,
Объедки оставляя по лесам
На подлый пир стервятникам и псам,
Насытившись, чудовище лесное
Лежит меж пальм в прохладе и покое.
И еще несколько строф в том же роде; соль же была в ужасно ученом
комментарии, с которым, боюсь, мне не убедить вас ознакомиться. Могу лишь
вас заверить, что мои однокашники нашли его восхитительным. Через несколько
дней по выходе номера я был в пивной, и там какие-то студенты расхваливали -
божественный нектар похвал! - и цитировали мой стишок, справляясь друг у
друга, кто его автор. Их похвалы я впитывал быстрее, чем вино, и весь
лучился счастьем. То было отраднейшее сочетание - делать то, что тебе по
вкусу, и получать за это комплименты. Мне бы очень хотелось сказать, что
этот случай пробудил во мне желание писать, но это было бы неправдой, в ту
пору я и не думал о писательстве. Мне в голову не приходило, что этим можно
зарабатывать на жизнь, мне и вообще не приходило в голову, что на жизнь
нужно зарабатывать. Я тратил, не задумываясь, и полагал, что деньги у меня
есть и всегда будут; идея возмещать потраченное или же зарабатывать, чтоб
тратить, показалось бы мне неприличной.
Зная дальнейшее, должен признать, что такая бездумность в обращении с
деньгами была не лучшей подготовкой к будущему, но не могу сказать, что
сожалею о своем мотовстве, разве только в одном, о чем сейчас поведаю. Что
бы ни говорила матушка, я не согласен с тем, что у меня были излишне дорогие
вкусы. Я хорошо одевался, держал приличный погреб - даже гордился своим
знанием вин, с размахом обставил свои апартаменты, но думаю, что все это
простительно. Возможно, не было нужды вешать гардины на медный стержень по
последней моде или расписывать каминную полку под мрамор, но то были
невинные и не слишком дорогие удовольствия. Немало денег я издержал на
книги, но полагаю, что хорошая библиотека - выгодное помещение капитала.
Если когда-нибудь придется продавать мою библиотеку - сохрани бог, конечно,
хочется верить, что она останется в семье, - но если так случится, многие
книги моей кембриджской поры принесут целое состояние. Неразрезанный Юм или
Смоллетт в 13-ти томах стоили три с половиной фунта, что считалось дорого,
истратить пять гиней на "Греческую историю" Митфорда казалось
расточительством, но эти книги многократно возместили свою стоимость и
принесли мне долгие часы познания и радости, и я не назову их "выброшенными
деньгами", как говаривал мой дядя Фрэнк, которого матушка назначила моим
казначеем. К нему мне надлежало обращаться с денежными просьбами, что меня
сердило - я так мечтал иметь своего банкира в Кембридже, - но, правду
сказать, дядя платил за все исправно.
Как хорошо сейчас признаться, что своим пером я заработал достаточно,
чтобы оставить девочкам по 10000 фунтов каждой и обеспечить приличное
содержание жене. Иначе я бы сошел в могилу терзаемый виной, что в Кембридже
промотал отцовское наследство. И промотал не на жилье, платье, книги и вино,
а на игру, азартную игру на деньги, гонясь за неверным счастьем. Теперь,
когда мой организм давно очистился от скверны, я толком не припомню, какая
сила влекла меня в ту сторону с таким упорством, страстью и равнодушием к
пускаемым по ветру суммам. Матушка, всегда догадывавшаяся, что пустяками, на
которые я ссылался, не объяснить мои чудовищные траты, приписывала такие
срывы несчастному выбору друзей, якобы совращавших меня с пути истинного. Ей
легче было думать, что ее прекрасный, честный и достойный сын - невинная
овечка, влекомая на бойню; счастливое заблуждение, но я его не разделяю. Я
уже говорил, какой я был неустойчивый малый, как разбрасывался, как был
готов принять любое предложение, поддержать любую компанию, отправиться куда
угодно по первому же зову.
Напрасно матушка винила других в моем беспутстве - я был из тех, кто
неизбежно вступает на путь увеселений. Ненасытное любопытство ко всему и
всем на свете опасно тем, что без разбору знается с хорошим и дурным, иначе
оно бы не называлось "ненасытным". Никто не любопытствует, заранее зная, что
та или иная вещь скучна, занятна, дурна или невинна, именно это каждый хочет
узнать сам. Того, кто любопытен, не удержишь, сообщив ему, что предмет его
любопытства невыразимо сер, малополезен и вряд ли в его вкусе, он это должен
открыть сам, чтобы изжить свой интерес. Я прекрасно знал, что карты -
гнусность, что до добра они меня не доведут и лучше держаться от них
подальше, но меня манила сама их предосудительность, а значит, и опасность.
Я был уверен, что только попробую, а потом брошу, сказав себе, что сорвал
еще одну завесу, но тут я ошибался.
Не стану мучить вас трактатом об искусе азартных игр, да и по
недостатку знаний не могу его составить, хотя изобразил себя я так, будто в
молодости был прожженным игроком. Несколько лет я играл довольно неумеренно,
но вследствие отчаянной борьбы с собой покончил с картами и больше не
потворствовал своей слабости - и значит, я счастливо отделался. Как страшно
было бы в те дни, когда у меня оставался за душой последний соверен, если
бы, не удержавшись, я просадил его в рулетку или поставил на карту. Когда я
вижу в казино это ужасное отчаяние в глазах у проигравшихся бедняг, мне
делается худо; довольно только посмотреть на них, чтобы понять, что это не
игра, а дело жизни или смерти, и не для них одних, но и для их близких. Как,
возвратившись после проигрыша, взглянуть в лицо жене и плачущим детям? Где
взять денег, чтобы купить еды и уплатить за жилище? Сам я не пережил ничего
подобного, но если бы и пережил, надеюсь, сумел бы вовремя остановиться.
Худшее, что мне довелось испытать, было чувство вины, когда я признавался
матушке или дяде Фрэнку в сделанном долге, это стоило мне нескольких
неприятных часов, но было не слишком мучительно. Матушкины упреки даже
сердили меня - неужто она хочет, чтоб я рос мямлей? Что ж мне, не
развлекаться? Или она не доверяет моей осмотрительности? Она ей,
действительно, не доверяла, равно как и моей мнимой неподверженности чужим
влияниям, и правильно делала. Меня ничего не стоило обвести вокруг пальца,
для шулеров я был находкой - такой невинный, благородный и убежденный в том,
что все остальные таковы же. Разделываясь со мной, они, наверное, хохотали
от души - уж очень легка была добыча. По-моему, эти типы с банковскими
чеками и векселями наготове всегда в погоне за подходящей жертвой;
настойчиво, как привидения, они рыщут по свету в поисках простаков вроде
меня. Не раз с дней моей собственной молодости я наблюдал, как юноша с
робким и любопытным взором, отлично мне известным, блуждает вокруг игорного
стола, как некогда блуждал и я, а тем временем к нему бесшумно подбираются
эти длиннолицые и остроносые мерзавцы. Как мне хотелось броситься вперед и
крикнуть: "Мой юный друг, не поддавайтесь ни на какие уговоры, к которым они
не преминут прибегнуть, приглашая вас в заднюю комнату для небольшой,
спокойной партии; они хотят вас ободрать как липку, освежевать ножом таким
же острым и разящим, каким пастух снимает с овцы шкуру". Но я не делаю и
шага. Недвижно стою на месте и смотрю, как юноша с готовностью бросается за
своими убийцами, и не произношу ни слова: предупреждениями делу не поможешь,
это бесполезно, битву с соблазном выигрывают в одиночку. Я понял, что азарт
и праздность - две слабости, которые искореняются лишь болезненными
средствами. Когда меня тянуло к красному и черному, удержать меня от игорных
домов нельзя было ничем.
Как же мне удалось рассеять эти страшные чары? Я рад бы передать другим
рецепт, в действенности которого убедился на собственном опыте, но знаю
только, что на это ушло много времени, и даже когда я повзрослел и стал
стыдиться этого наваждения, я все еще порой заглядывал в игорные дома.
Сколько раз я уверял встревоженную матушку, что дьявол повержен в прах, но
это было не так. Чем хуже шла работа, тем сильней манила к себе игра. Чем
больше я проигрывал, тем тверже верил, что в следующий раз выиграю
непременно, но это крик души любого игрока. И лишь когда я окунулся в
интересную работу, волновавшую мои ум и чувство, и оказался среди тех, кто
развивал мои духовные потребности, я оторвался от этой мерзостной забавы, но
то, было уже после Кембриджа. Оглядываясь назад, я сокрушенно думаю о том,
как много денег пущено по ветру, но сколько именно, не признаюсь - боюсь,
вам не захочется читать дальше. И все же то был необходимый опыт. Зная себя
и мир, не сомневаюсь, что я бы неизбежно пробовал играть, так уж лучше было
этому случиться в Кембридже, в раннюю пору жизни.
Мне стыдно рисовать такую мрачную картину, не оживляя ее мазками
посветлее, вы можете решить, что вся моя юность прошла в борениях с собой и
в лицезрении собственных несовершенств. Я просто не вставил это в рамку
счастливых, радостных часов, когда все шло как должно. Я вам живописал
дурное общество, в котором вращался, дурные страсти, которым предавался, но
не представил ни добрых друзей, ни достойных дел. Я заметил, что человек,
решившийся быть честным, почти всегда понимает под честностью перечисление
своих недостатков, словно достоинств у него нет. Нет, скромность и честность
должны идти рядом, и правды ради следует упомянуть и более счастливые
минуты. Вы угадали, я их проводил в кругу друзей. Порой я наслаждался
одиночеством: прогуливался вдоль реки, зажав под мышкой блокнот для
рисования, порой подолгу читал на подоконнике, - но взлеты духа я переживал
в другое время. Я их познал в кругу друзей, которых одобрила бы и матушка,
беседуя о стоящих предметах. Я говорю здесь не о шумных, дымных сборищах,
где все кричат, поют и притворяются веселыми, - правду сказать, такие
вечеринки всегда казались мне бессмыслицей, и часто, наскучив их
вульгарностью, я уходил задолго до конца, - но о гораздо более спокойных
встречах с Эдвардом Фицджералдом, Уильямом Брукфилдом и Джоном Алленом. Мне
было хорошо с ними, я рад был разделить мысли и убеждения тех, кто был умнее
и талантливей меня. Я совестился того, что они, считая меня ровней, тратят
на меня свое драгоценное время, и, расставаясь с ними, исполнялся решимости
изжить те слабости, о которых упоминал выше. Порой, прежде чем разойтись, мы
вместе молились - я ничуть не сомневаюсь, что молитвой искупается на свете
гораздо больше, чем мы думаем. Вдыхая воздух ночного Кембриджа, я медленно
возвращался к себе, обняв за плечи дорогого Фица, и чувствовал себя
очищенным, серьезным и твердо верил, что с завтрашнего дня начну жить
по-новому и больше не собьюсь с пути. Мир нисходил в мою душу, и жалко было
засыпать, чтоб не утратить это таинственное чувство счастья.
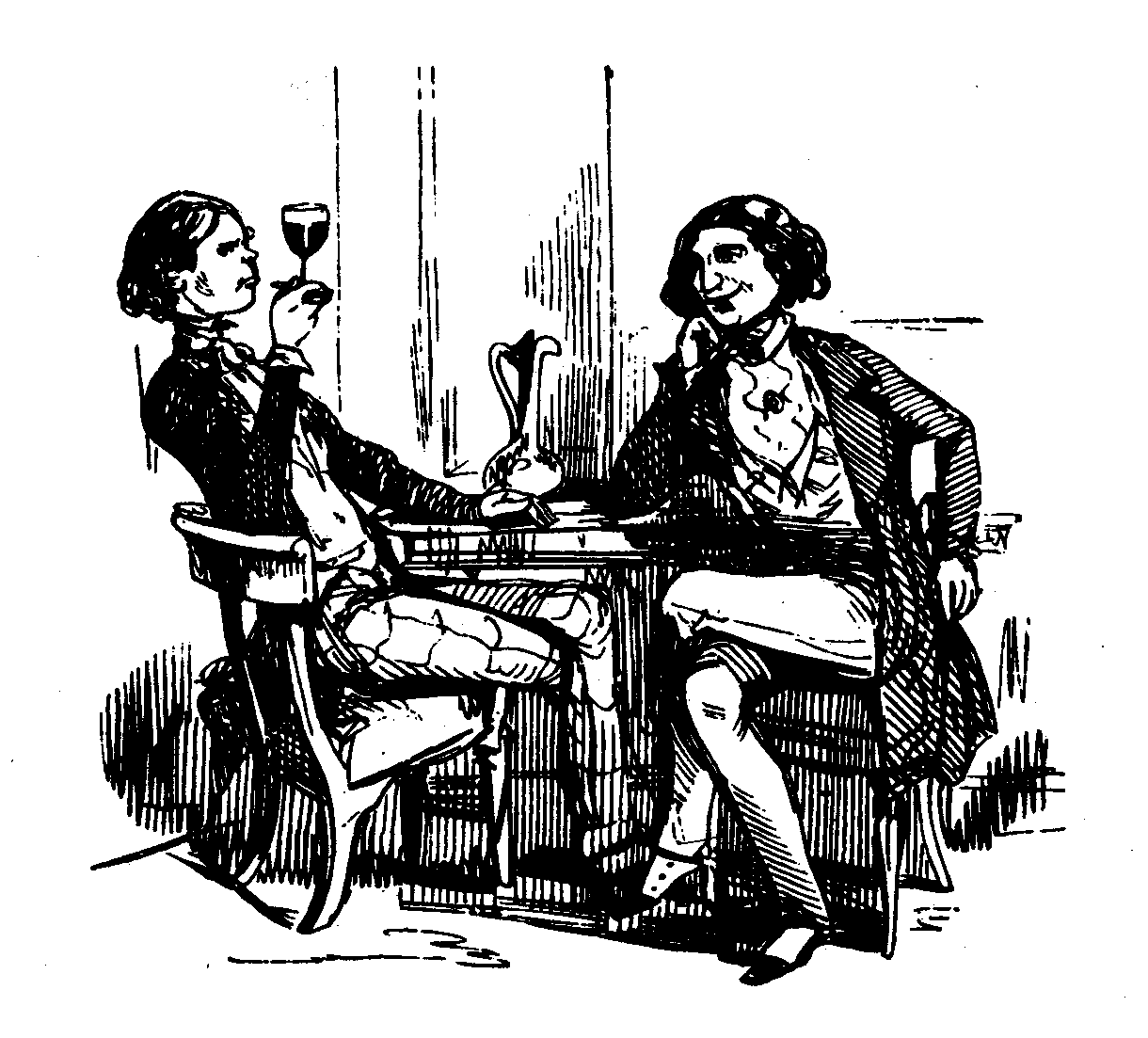 После Кембриджа у меня завязалось много новых дружб, но не таких
близких и, по крайней мере, не с мужчинами. Я искренне считаю, что люблю
Фица по-прежнему, хотя знаю, что, по его мнению, я от него отказался, ибо
пишу я ему редко, почти не навещаю и больше ничем не подтверждаю того, что
дружба наша жива. А нужно ли?
Неужто истинная дружба - такое нежное растение, что всходит только за
стеклом теплицы, где не бывает перепадов температуры? Надеюсь, это не так. В
душе я люблю Фица, как и встарь, лишь из-за внешних обстоятельств все
выглядит иначе. Как же меня бесит, что длительности, частоте и времени
визитов придается такое огромное значение, и если за полгода вы - о ужас! -
ни разу не повидали Брауна, то можно ли по этому судить о том, как вы к нему
относитесь? Никто не считается с тем, что за эти полгода вы побывали на
пороге смерти, что в вашем доме хозяйничали судебные исполнители, что вы
дважды объехали вокруг света и окончательно измучены бесчисленными
требованиями, которые к вам предъявляет жизнь. Все равно вам следовало
съездить к Брауну, пусть до него три дня пути и в доме не найдется места для
ночлега. По-моему, все это нелепо. Кто смеет переводить мою привязанность к
Брауну в часы, минуты и секунды, которые я у него пробыл? Однако что об этом
думает сам Браун? Осознает ли он так же ясно, как и вы, какое место занимает
в вашем сердце? Уверен ли он, как и раньше, когда получал свидетельства
вашего расположения, в неизменности ваших чувств и в том, что отсутствие
прежних знаков внимания ровно ничего не значит? Боюсь, что нет. И с грустью
признаю, что Браун или Фиц, должно быть, недоумевают. Однажды Фиц упрекнул
меня в письме, что теперь, когда у меня завелись новые друзья, я его не
помню, - то был крик души, призыв сохранять верность. Хоть я ему и возражал,
я знал, что он отчасти прав. Я клялся и клянусь, что люблю его, как прежде,
но ведь теперь я люблю не только его, другие разделили с ним мое сердце.
Покидая Кембридж, я несколько стыдился неумеренности своей привязанности к
нему. Там все это само собой разумелось, дружба цвела и процветала в
идеальных условиях, и было естественно называть его "мой милый Теддибус" и
горевать, если мы расставались больше чем на несколько часов. Дружба была
тогда всепоглощающим занятием и требовала полной самоотдачи, но мыслимо ли
сохранить такую ее исключительность в обычной жизни? Разве только в браке.
Если Фицджералду это грустно, что тут поделаешь? Но пусть не огорчается, мы
снова встретимся в аду и будем добрыми друзьями всю предстоящую нам
вечность.
В моей жизни есть такие периоды, что стоит только захотеть и в памяти
встает все, даже атмосфера моих бывших комнат, но с Кембриджем дело иное. Я
помню, где я жил и что делал, однако все как-то странно мертво для меня.
Отдельные золотые денечки и минуты я и сейчас могу восстановить, но как ни
стараюсь, не в силах охватить все в целом - мне не удается закрыть глаза и
возвратиться в прошлое. Мои воспоминания вымучены и быстро утомляют меня.
Возможно, беспокойство, снедавшее меня тогда, живет и много лет спустя,
поэтому мне не терпится покончить с рассказом об этом времени, как не
терпелось некогда покончить с ним и в жизни. Я рвался из Кембриджа, не зная
куда и зачем, рвался от матушкиных надежд. Я знал лишь, что с меня довольно
единоборства с алгеброй и что никакими радостями студенчества не искупить
чувства собственной несостоятельности. Пусть я разобью матушкино сердце,
решил я, но кончу с этой канителью и не дам себя уверить, будто в следующем
году буду успевать лучше. Еще одного года в Кембридже не будет.
^T3^U
^TГерой радуется жизни в Веймаре и прячется от будущего^U
Если к тому времени, когда вам попадется эта книга, жизнь в обществе
останется такой же, как сегодня, короткая заграничная поездка и тогда будет
считаться непременной частью образования молодого человека. Большое
Путешествие, столь принятое полстолетия назад, в наши дни проходит по
сокращенной программе, но, как и прежде, считается необходимым для
достигшего совершеннолетия юноши. Поездка - часть английского стандарта:
сначала ребенка посылают в приготовительную школу, где он проливает слезы,
затем - в среднюю, чтоб голодом склонить к повиновению, потом - в
университет, чтоб ошарашить смесью невыразимых удовольствий и неслыханных
трудов, и, наконец, прежде чем впихнуть в один из жизненных стереотипов, его
шлют за границу, якобы для того, чтоб он убедился в превосходстве нашей
английской культуры над всеми остальными низшими, а на самом деле - чтоб он
перебесился и тихо покорился жизни. Меня растили по такому же стандарту,
судьба моя была расчислена, и моего согласия не требовалось. Какое еще
согласие? Мальчишка, видимо, рехнулся, откуда ему знать, что ему лучше? Что
за бредовая идея спрашивать у молокососа, чего бы он хотел? Какая чушь!
Мне это не казалось чушью прежде - не кажется и сейчас. Мальчику
необходимо предоставить слово, когда планируют его судьбу. Чтобы из планов
любящих родителей вышло что-нибудь дельное, необходимо его горячее участие,
однако вокруг я вижу сплошное принуждение, ведущее к горю и жизненным
провалам. Джонсу всегда хотелось заниматься правом, и не успел Джонс-младший
появиться на свет, как ему тут же навязали отцовскую мечту, и сколько бы он
ни кричал: "Папа, мне лучше быть солдатом, я люблю битвы и ненавижу книги",
- все бесполезно. Еретик!
Заставьте его замолчать! Вымойте ему с мылом рот! Отец мечтал быть
адвокатом, а дед не разрешил, и значит, адвокатом будешь ты, изволь
радоваться и никаких разговоров. Когда Джонс-младший вырастет и воспитает
сына, он, в свою очередь, пошлет его в солдаты, и как бы тот ни плакал, как
бы ни молил: "Папа, я ненавижу битвы, я люблю книги, я лучше буду..." Нет,
не хочу и слышать, о чем мечтает юный Джонс, - что в том проку, если ему не
миновать солдатчины. Впрочем, порой бывает по-иному, и это еще хуже. Блоггс
- состоятельный виноторговец и очень этим горд. Он создал процветающее дело
и хочет передать его наследнику. Он жаждет, чтобы сын был в точности таким,
как он, любое несогласие воспринимает как измену и следует простому правилу:
"что хорошо для меня, то хорошо и для тебя". Трогательно, правда? Скажите,
почему Джонс-младший не может стать солдатом, адвокатом или кем ему угодно и
отчего Блоггс-младший, при всем своем уважении к отцовскому предприятию, не
может не входить в него? О, если бы мне объяснили, почему!
После Кембриджа у меня завязалось много новых дружб, но не таких
близких и, по крайней мере, не с мужчинами. Я искренне считаю, что люблю
Фица по-прежнему, хотя знаю, что, по его мнению, я от него отказался, ибо
пишу я ему редко, почти не навещаю и больше ничем не подтверждаю того, что
дружба наша жива. А нужно ли?
Неужто истинная дружба - такое нежное растение, что всходит только за
стеклом теплицы, где не бывает перепадов температуры? Надеюсь, это не так. В
душе я люблю Фица, как и встарь, лишь из-за внешних обстоятельств все
выглядит иначе. Как же меня бесит, что длительности, частоте и времени
визитов придается такое огромное значение, и если за полгода вы - о ужас! -
ни разу не повидали Брауна, то можно ли по этому судить о том, как вы к нему
относитесь? Никто не считается с тем, что за эти полгода вы побывали на
пороге смерти, что в вашем доме хозяйничали судебные исполнители, что вы
дважды объехали вокруг света и окончательно измучены бесчисленными
требованиями, которые к вам предъявляет жизнь. Все равно вам следовало
съездить к Брауну, пусть до него три дня пути и в доме не найдется места для
ночлега. По-моему, все это нелепо. Кто смеет переводить мою привязанность к
Брауну в часы, минуты и секунды, которые я у него пробыл? Однако что об этом
думает сам Браун? Осознает ли он так же ясно, как и вы, какое место занимает
в вашем сердце? Уверен ли он, как и раньше, когда получал свидетельства
вашего расположения, в неизменности ваших чувств и в том, что отсутствие
прежних знаков внимания ровно ничего не значит? Боюсь, что нет. И с грустью
признаю, что Браун или Фиц, должно быть, недоумевают. Однажды Фиц упрекнул
меня в письме, что теперь, когда у меня завелись новые друзья, я его не
помню, - то был крик души, призыв сохранять верность. Хоть я ему и возражал,
я знал, что он отчасти прав. Я клялся и клянусь, что люблю его, как прежде,
но ведь теперь я люблю не только его, другие разделили с ним мое сердце.
Покидая Кембридж, я несколько стыдился неумеренности своей привязанности к
нему. Там все это само собой разумелось, дружба цвела и процветала в
идеальных условиях, и было естественно называть его "мой милый Теддибус" и
горевать, если мы расставались больше чем на несколько часов. Дружба была
тогда всепоглощающим занятием и требовала полной самоотдачи, но мыслимо ли
сохранить такую ее исключительность в обычной жизни? Разве только в браке.
Если Фицджералду это грустно, что тут поделаешь? Но пусть не огорчается, мы
снова встретимся в аду и будем добрыми друзьями всю предстоящую нам
вечность.
В моей жизни есть такие периоды, что стоит только захотеть и в памяти
встает все, даже атмосфера моих бывших комнат, но с Кембриджем дело иное. Я
помню, где я жил и что делал, однако все как-то странно мертво для меня.
Отдельные золотые денечки и минуты я и сейчас могу восстановить, но как ни
стараюсь, не в силах охватить все в целом - мне не удается закрыть глаза и
возвратиться в прошлое. Мои воспоминания вымучены и быстро утомляют меня.
Возможно, беспокойство, снедавшее меня тогда, живет и много лет спустя,
поэтому мне не терпится покончить с рассказом об этом времени, как не
терпелось некогда покончить с ним и в жизни. Я рвался из Кембриджа, не зная
куда и зачем, рвался от матушкиных надежд. Я знал лишь, что с меня довольно
единоборства с алгеброй и что никакими радостями студенчества не искупить
чувства собственной несостоятельности. Пусть я разобью матушкино сердце,
решил я, но кончу с этой канителью и не дам себя уверить, будто в следующем
году буду успевать лучше. Еще одного года в Кембридже не будет.
^T3^U
^TГерой радуется жизни в Веймаре и прячется от будущего^U
Если к тому времени, когда вам попадется эта книга, жизнь в обществе
останется такой же, как сегодня, короткая заграничная поездка и тогда будет
считаться непременной частью образования молодого человека. Большое
Путешествие, столь принятое полстолетия назад, в наши дни проходит по
сокращенной программе, но, как и прежде, считается необходимым для
достигшего совершеннолетия юноши. Поездка - часть английского стандарта:
сначала ребенка посылают в приготовительную школу, где он проливает слезы,
затем - в среднюю, чтоб голодом склонить к повиновению, потом - в
университет, чтоб ошарашить смесью невыразимых удовольствий и неслыханных
трудов, и, наконец, прежде чем впихнуть в один из жизненных стереотипов, его
шлют за границу, якобы для того, чтоб он убедился в превосходстве нашей
английской культуры над всеми остальными низшими, а на самом деле - чтоб он
перебесился и тихо покорился жизни. Меня растили по такому же стандарту,
судьба моя была расчислена, и моего согласия не требовалось. Какое еще
согласие? Мальчишка, видимо, рехнулся, откуда ему знать, что ему лучше? Что
за бредовая идея спрашивать у молокососа, чего бы он хотел? Какая чушь!
Мне это не казалось чушью прежде - не кажется и сейчас. Мальчику
необходимо предоставить слово, когда планируют его судьбу. Чтобы из планов
любящих родителей вышло что-нибудь дельное, необходимо его горячее участие,
однако вокруг я вижу сплошное принуждение, ведущее к горю и жизненным
провалам. Джонсу всегда хотелось заниматься правом, и не успел Джонс-младший
появиться на свет, как ему тут же навязали отцовскую мечту, и сколько бы он
ни кричал: "Папа, мне лучше быть солдатом, я люблю битвы и ненавижу книги",
- все бесполезно. Еретик!
Заставьте его замолчать! Вымойте ему с мылом рот! Отец мечтал быть
адвокатом, а дед не разрешил, и значит, адвокатом будешь ты, изволь
радоваться и никаких разговоров. Когда Джонс-младший вырастет и воспитает
сына, он, в свою очередь, пошлет его в солдаты, и как бы тот ни плакал, как
бы ни молил: "Папа, я ненавижу битвы, я люблю книги, я лучше буду..." Нет,
не хочу и слышать, о чем мечтает юный Джонс, - что в том проку, если ему не
миновать солдатчины. Впрочем, порой бывает по-иному, и это еще хуже. Блоггс
- состоятельный виноторговец и очень этим горд. Он создал процветающее дело
и хочет передать его наследнику. Он жаждет, чтобы сын был в точности таким,
как он, любое несогласие воспринимает как измену и следует простому правилу:
"что хорошо для меня, то хорошо и для тебя". Трогательно, правда? Скажите,
почему Джонс-младший не может стать солдатом, адвокатом или кем ему угодно и
отчего Блоггс-младший, при всем своем уважении к отцовскому предприятию, не
может не входить в него? О, если бы мне объяснили, почему!
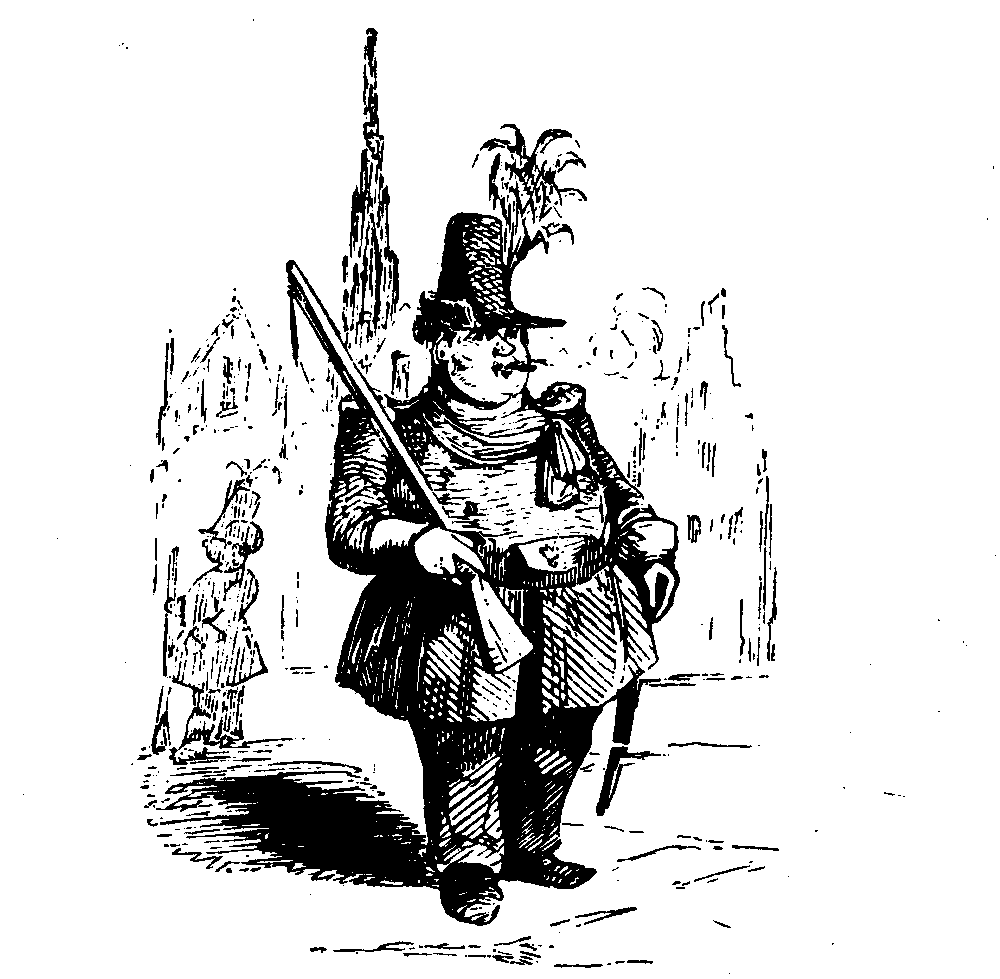 У меня все складывалось иначе. Матушке хотелось, чтоб я получил
блестящую ученую степень в качестве первого шага к... - к чему, она сама не
знала, мечты ее так далеко не простирались. Личность она была волевая, но не
сторонница насилия, коль скоро я вырос и мог говорить сам за себя, она
искренне предпочитала разум силе. Со своей стороны, я был, как часто
случается, в нелегком положении юноши, у которого нет ни ярко выраженного
дарования, ни ясной склонности к какому-нибудь делу. Не забывайте, в ту пору
я был еще человеком со средствами, хотя и скромными, но ощутимыми, и ожидал
прибавки в размере трех процентов с капитала, которые с момента
совершеннолетия должен был получать на руки. Следовательно, с выбором
жизненного поприща я мог не торопиться и не преминул воспользоваться этим
счастливым обстоятельством. Зачем спешить, взывал я? Зачем настаивать, чтоб
я вернулся в Кембридж, раз я оказался явно неспособен как раз к тому, к чему
меня определили? Чем плохо оглядеться, поразмыслить и вернуться туда позже,
когда я разберусь в себе и в жизни?
Матушка, видно, верила, что так оно и будет. Позволив мне оставить
Кембридж и провести зиму за границей, она надеялась, что даст мне случай
образумиться: оторванный от "дурного общества", я уразумею преимущества
образования, вернусь в университет, удвою рвение и тотчас удостоюсь золотой
медали за успехи. Признаюсь со стыдом: внушая ей, что так все и получится, я
тщательно скрывал предвкушаемую радость. Озабоченно на меня поглядывая, она
говорила отчиму, что я какой-то бледный, усталый, что я слишком быстро
вытянулся и мне, конечно, нужно отдохнуть и прийти в себя. Возможно, лицо ее
при этом чуть-чуть омрачалось, и она припоминала, что я уже ездил за границу
- я был в Париже на пасхальные каникулы - и что мои письма были полны
рассказами о посещениях Фраскатти (известного игорного дома на улице
Ришелье), разудалых вечеринках и всяких прочих "дурных компаниях". Лучше мне
было не писать ей так откровенно о своих веселых уроках танцев и восторгах
от походов в "Комеди Франсэз"; если бы я сравнивал Нотр-Дам с Эксетерским
собором в пользу последнего и этим ограничился, я бы встревожил ее гораздо
меньше. Мне никогда бы не выбраться из Кембриджа, заведи я речь о зиме в
Париже - quelle horreur! (какой ужас!). Но предложив в виде возможного
варианта маленький, тихий немецкий городок - безразлично, какой именно, - я
усыпил ее тревогу. Вряд ли я сознательно ее обманывал - ведь я не уточнял,
где буду жить и что буду делать; скорее всего, я напирал на то, что мне надо
выучить немецкий, и не старался рассеять ее впечатление, что то будет
степенное, здоровое и, в сущности, скучноватое существование.
Как бы то ни было, ее согласие было получено, и в июле 1830 года, еще
не остыв после провала на экзаменах, я отбыл, по-щенячьи весело отряхивая с
ног прах Кембриджа, с твердым намерением больше туда не возвращаться.
Сначала я поехал в Роттердам, затем по Рейну спустился в Кобленц и, наконец,
в Веймар. Я путешествовал с какими-то случайными знакомыми, но чувствовал,
что я один, и упивался этим ощущением. Возможно, раздраженный и усталый,
после какой-нибудь изнурительной поездки я и сказал в сердцах, что сыт по
горло путешествиями, но если так, беру свои слова обратно; ну, а в том
нежном возрасте, в котором я тогда находился, я обожал путешествовать. Я и
сейчас люблю новые места, будь то хоть крохотная английская деревушка, люблю
в первый раз ходить по улицам, знакомиться с достопримечательностями,
присматриваться к жизни. Путешествуя, я пребываю в мире и покое, как будто
все мои заботы мне привиделись, и пока поезд не сбавит ход, а судно не
пристанет к берегу, я о них не думаю. В 1830 году я не тосковал о
безвестности, о которой стал мечтать позже, мои широкие юные плечи не
гнулись под тяжестью сомнений, возвращаться ли мне в Кембридж, и тем не
менее в пути я ощутил подъем духа и окрылявшую меня свободу от опеки. Один
кембриджский приятель по имени Шульт приобщил меня к удовольствию наблюдать
за дуэлями и пить немецкие вина: однажды я влил в себя шесть бутылок кряду
и, должен признаться, это плохо сказалось на моем пищеварении и утвердило во
мнении, что французские вина лучше немецких. Многое радовало меня в этом
рейнском плавании: что ни день, пейзаж чуть-чуть менялся, мимо проносились
города и деревушки, которые недавно были всего лишь точками на карте. Я
увлеченно рисовал, по большей части, старинные мосты и церкви, стараясь
передать необычайную красоту Рейна, которая почти уравнивает его с Темзой.
Если вы никогда не покидали пределов своей родной страны, мне вас безмерно
жаль -поездка дает ни с чем не сравнимое чувство приключения. Чужие страны
обостряют ощущение родного края, которое бодрит и просвещает нас. Лишь
путешествуя, я осознал, что значит для меня Англия и что она дает мне,
насколько я неотделим от ее земли, домов, людей, насколько она часть моей
души. Когда я гляжу сейчас из своего окна и вижу самый что ни на есть
английский пейзаж - второго такого нет нигде на свете, - я чувствую
громадное удовлетворение: он мой, английский, и благодаря поездкам я знаю,
что это такое. (Кажется, я разразился патриотической речью, иначе ее никак
не назовешь.)
Чем больше я думаю о Веймаре, а думать мне о нем приятно, я был там
счастлив, - тем удивительней мне кажется, что из всех городов Германии я
выбрал именно его. Помнится, мне посоветовал его приятель, но что за
требования я выдвинул, подсказавшие ему мысль о Веймаре? Он не был похож ни
на одно другое место в Германии и скорее составлял исключение: странная,
тихая заводь - как из другого века - с особым ритмом жизни. Здесь все было
миниатюрное, какое-то очень четкое и удивительно надежное. Как он ни был
мал, в нем было решительно все, даже свой двор, для которого правящий герцог
устраивал торжественные приемы и балы. Я жил в почтенном семействе и
ежедневно посещал учителя немецкого языка, досточтимого доктора
Вайссенборна, у которого быстро делал успехи. Общество в городе было
отменное и довольно открытое, я даже появлялся при дворе в перешитых
панталонах, черной жилетке, черном сюртуке и треуголке, являя собой смесь
лакея с методистским пастором. Мучимый страхом, что в таком виде я очень
смешон, я уговорил матушку выслать мне лейб-гвардейскую форму, которую носил
с великим шиком и важностью, словно, по меньшей мере, генеральскую. Пожалуй,
в душе я надеялся, что так все и подумают: великий английский полководец,
генерал Теккерей, недавно вернувшийся после такой-то военной кампании... -
вот только кампании никакой нигде не было.
Надеюсь, вы не в обиде, что я полюбил Веймар больше Кембриджа, ведь я
уже продемонстрировал вам свой патриотизм. Дело было не в том, что в этом
городе со мной произошло чудо и я почувствовал себя счастливым, дело было в
свободе поступать как хочется, в независимости в самом широком смысле слова.
Удивительное дело, я пишу "свобода поступать как хочется", и это вовсе не
эвфемизм, чтоб намекнуть на дни, проведенные в постели, и бражничанье по
ночам. Ничего похожего - усердие мое было примерным. Я упорно трудился над
немецким языком и, когда не боролся с его синтаксисом, читал Шиллера, Гете и
других великих немцев. В городе был чудесный театр - какая неожиданность, не
правда ли? - и чуть ли не каждый вечер я отправлялся слушать драмы и оперы,
звучавшие по-немецки. Моя светская жизнь складывалась из разговоров на общие
темы с немцами постарше и из развлечений в кругу сверстников - вторых было
гораздо больше, о чем я не жалею. То была жизнь, которой мне хотелось:
приятная, легкая, беззаботная, с разумной мерой забав и удовольствий и
скромной толикой труда, дававшей мне и моим близким ощущение, что я не трачу
время понапрасну. Возможно, вы считаете такую жизнь безнравственной, и
бесконечное потворство еще не достигшему совершеннолетия юноше вызывает у
вас гнев, в таком случае вам необходимо разобраться в своих взглядах. Я не
могу поверить, что вредно быть счастливым, если никто от этого не страдает.
Неужто лучше было возвратиться в Кембридж и биться над тем, чего я не любил
и не умел? Сидящий в вас пуританин, возможно, скажет "да", но я с ним не
соглашусь.
В Веймаре я, делал литературные записи, но в тетради того времени нет
перлов, которые я там надеялся найти, она меня скорей смутила, и я рад, что
ее можно спрятать подальше. Теперь вы понимаете, из-за чего я предпочел сам
писать о своей жизни? В занятии этом нет ничего нечестного, хоть невозможно
избежать многозначительной болтовни о прошлом, - боюсь, что с высоты своей
нынешней позиции я то и дело донимаю ею молодежь. Кроме разных историй, по
большей части незаконченных, полных поэтических "ахов", "охов" и вздохов, в
этой тетради нет ничего интересного, одни лишь обрывки пьес, обнаруживающие
полную неспособность автора к написанию диалогов, и длинные цитаты из
восхитивших меня немецких сочинений. Во всяком случае, там нет ничего, что
стоило бы процитировать, разве только стихотворение "Звезды", напечатанное в
журнале "Хаос", - его я не стыжусь и привожу как доказательство того, что
пробовал свои силы и в серьезном жанре.
Только мы смежаем веки -
В небе звезды высыпают,
И лучей своих глаза
Вниз на землю устремляют.
Иероглифы судьбы
Мы в их россыпи читаем,
И надежды, и мольбы
К ним в тревоге воссылаем.
Тот, кто смотрит с вышины
И покой наш охраняет,
Видит все - и наши сны
Милосердно наблюдает.
Наверное, оно не так прекрасно в чтении, как мне тогда казалось, и мне
бы следовало подчеркнуть свою неопытность и молодость, но что это за
оправдание? Поэтому я лучше помолчу.
Не показалось ли вам странным, что я довел рассказ до двадцати одного
года, ни разу не упомянув о романтической привязанности? Кроме моей
достойной матушки, ни одна особа не украсила собой моей повести, и я
согласен с вами, что это неестественно - дожить до двадцати одного года, ни
разу не влюбившись. Что же меня останавливало? Да ничего, просто не
представлялось случая. До Веймара я почти не приближался к прекрасным юным
дамам: хотя мои мысли и устремлялись к ним, я не имел конкретного предмета.
Пожалуй, было бы излишне упоминать о молодой особе по имени Лэдд из
кембриджской лавки, которая так меня пленила, что я купил у нее пару
бронзовых подсвечников, - даже романисту трудно что-либо выжать из такого
скудного материала. Долгие годы я боготворил женщин - всегда боготворил и
всегда буду - боготворил, не сказав ни единого слова ни с одной из них,
подумать только, даже не коснувшись руки. Конечно, вы заметили огромное
яркое полотнище, которое реет над моей головой? Я обещал вам в случаях
неполной искренности давать предупреждающий сигнал, и этот флаг полощется
сейчас по той причине, что я не собираюсь обременять вас неаппетитными
подробностями о своих подвигах среди женщин, с которыми мне лучше было бы не
знаться. Довольно лишь заметить, что, прежде чем познакомиться с достойными
молодыми леди, я ненадолго свел знакомство с недостойными и был весьма
встревожен и напуган этими последними. Правду сказать, женщины занимали
немалое место в моей жизни. В Веймаре я только и думал, что о прекрасных
дамах, даже предупредил матушку, что в любую минуту могу явиться домой с
новоиспеченной миссис Теккерей под руку. Конечно, то была шутка, я бы не
говорил об этом так легко, если бы всерьез помышлял о чем-либо подобном, но
две юные веймарские красавицы и в самом деле держали меня в блаженном плену
влюбленности все мои дни в Германии. Одна была Мелани фон Шпигель, вторая -
Дженни фон Паппенхейм.
У меня все складывалось иначе. Матушке хотелось, чтоб я получил
блестящую ученую степень в качестве первого шага к... - к чему, она сама не
знала, мечты ее так далеко не простирались. Личность она была волевая, но не
сторонница насилия, коль скоро я вырос и мог говорить сам за себя, она
искренне предпочитала разум силе. Со своей стороны, я был, как часто
случается, в нелегком положении юноши, у которого нет ни ярко выраженного
дарования, ни ясной склонности к какому-нибудь делу. Не забывайте, в ту пору
я был еще человеком со средствами, хотя и скромными, но ощутимыми, и ожидал
прибавки в размере трех процентов с капитала, которые с момента
совершеннолетия должен был получать на руки. Следовательно, с выбором
жизненного поприща я мог не торопиться и не преминул воспользоваться этим
счастливым обстоятельством. Зачем спешить, взывал я? Зачем настаивать, чтоб
я вернулся в Кембридж, раз я оказался явно неспособен как раз к тому, к чему
меня определили? Чем плохо оглядеться, поразмыслить и вернуться туда позже,
когда я разберусь в себе и в жизни?
Матушка, видно, верила, что так оно и будет. Позволив мне оставить
Кембридж и провести зиму за границей, она надеялась, что даст мне случай
образумиться: оторванный от "дурного общества", я уразумею преимущества
образования, вернусь в университет, удвою рвение и тотчас удостоюсь золотой
медали за успехи. Признаюсь со стыдом: внушая ей, что так все и получится, я
тщательно скрывал предвкушаемую радость. Озабоченно на меня поглядывая, она
говорила отчиму, что я какой-то бледный, усталый, что я слишком быстро
вытянулся и мне, конечно, нужно отдохнуть и прийти в себя. Возможно, лицо ее
при этом чуть-чуть омрачалось, и она припоминала, что я уже ездил за границу
- я был в Париже на пасхальные каникулы - и что мои письма были полны
рассказами о посещениях Фраскатти (известного игорного дома на улице
Ришелье), разудалых вечеринках и всяких прочих "дурных компаниях". Лучше мне
было не писать ей так откровенно о своих веселых уроках танцев и восторгах
от походов в "Комеди Франсэз"; если бы я сравнивал Нотр-Дам с Эксетерским
собором в пользу последнего и этим ограничился, я бы встревожил ее гораздо
меньше. Мне никогда бы не выбраться из Кембриджа, заведи я речь о зиме в
Париже - quelle horreur! (какой ужас!). Но предложив в виде возможного
варианта маленький, тихий немецкий городок - безразлично, какой именно, - я
усыпил ее тревогу. Вряд ли я сознательно ее обманывал - ведь я не уточнял,
где буду жить и что буду делать; скорее всего, я напирал на то, что мне надо
выучить немецкий, и не старался рассеять ее впечатление, что то будет
степенное, здоровое и, в сущности, скучноватое существование.
Как бы то ни было, ее согласие было получено, и в июле 1830 года, еще
не остыв после провала на экзаменах, я отбыл, по-щенячьи весело отряхивая с
ног прах Кембриджа, с твердым намерением больше туда не возвращаться.
Сначала я поехал в Роттердам, затем по Рейну спустился в Кобленц и, наконец,
в Веймар. Я путешествовал с какими-то случайными знакомыми, но чувствовал,
что я один, и упивался этим ощущением. Возможно, раздраженный и усталый,
после какой-нибудь изнурительной поездки я и сказал в сердцах, что сыт по
горло путешествиями, но если так, беру свои слова обратно; ну, а в том
нежном возрасте, в котором я тогда находился, я обожал путешествовать. Я и
сейчас люблю новые места, будь то хоть крохотная английская деревушка, люблю
в первый раз ходить по улицам, знакомиться с достопримечательностями,
присматриваться к жизни. Путешествуя, я пребываю в мире и покое, как будто
все мои заботы мне привиделись, и пока поезд не сбавит ход, а судно не
пристанет к берегу, я о них не думаю. В 1830 году я не тосковал о
безвестности, о которой стал мечтать позже, мои широкие юные плечи не
гнулись под тяжестью сомнений, возвращаться ли мне в Кембридж, и тем не
менее в пути я ощутил подъем духа и окрылявшую меня свободу от опеки. Один
кембриджский приятель по имени Шульт приобщил меня к удовольствию наблюдать
за дуэлями и пить немецкие вина: однажды я влил в себя шесть бутылок кряду
и, должен признаться, это плохо сказалось на моем пищеварении и утвердило во
мнении, что французские вина лучше немецких. Многое радовало меня в этом
рейнском плавании: что ни день, пейзаж чуть-чуть менялся, мимо проносились
города и деревушки, которые недавно были всего лишь точками на карте. Я
увлеченно рисовал, по большей части, старинные мосты и церкви, стараясь
передать необычайную красоту Рейна, которая почти уравнивает его с Темзой.
Если вы никогда не покидали пределов своей родной страны, мне вас безмерно
жаль -поездка дает ни с чем не сравнимое чувство приключения. Чужие страны
обостряют ощущение родного края, которое бодрит и просвещает нас. Лишь
путешествуя, я осознал, что значит для меня Англия и что она дает мне,
насколько я неотделим от ее земли, домов, людей, насколько она часть моей
души. Когда я гляжу сейчас из своего окна и вижу самый что ни на есть
английский пейзаж - второго такого нет нигде на свете, - я чувствую
громадное удовлетворение: он мой, английский, и благодаря поездкам я знаю,
что это такое. (Кажется, я разразился патриотической речью, иначе ее никак
не назовешь.)
Чем больше я думаю о Веймаре, а думать мне о нем приятно, я был там
счастлив, - тем удивительней мне кажется, что из всех городов Германии я
выбрал именно его. Помнится, мне посоветовал его приятель, но что за
требования я выдвинул, подсказавшие ему мысль о Веймаре? Он не был похож ни
на одно другое место в Германии и скорее составлял исключение: странная,
тихая заводь - как из другого века - с особым ритмом жизни. Здесь все было
миниатюрное, какое-то очень четкое и удивительно надежное. Как он ни был
мал, в нем было решительно все, даже свой двор, для которого правящий герцог
устраивал торжественные приемы и балы. Я жил в почтенном семействе и
ежедневно посещал учителя немецкого языка, досточтимого доктора
Вайссенборна, у которого быстро делал успехи. Общество в городе было
отменное и довольно открытое, я даже появлялся при дворе в перешитых
панталонах, черной жилетке, черном сюртуке и треуголке, являя собой смесь
лакея с методистским пастором. Мучимый страхом, что в таком виде я очень
смешон, я уговорил матушку выслать мне лейб-гвардейскую форму, которую носил
с великим шиком и важностью, словно, по меньшей мере, генеральскую. Пожалуй,
в душе я надеялся, что так все и подумают: великий английский полководец,
генерал Теккерей, недавно вернувшийся после такой-то военной кампании... -
вот только кампании никакой нигде не было.
Надеюсь, вы не в обиде, что я полюбил Веймар больше Кембриджа, ведь я
уже продемонстрировал вам свой патриотизм. Дело было не в том, что в этом
городе со мной произошло чудо и я почувствовал себя счастливым, дело было в
свободе поступать как хочется, в независимости в самом широком смысле слова.
Удивительное дело, я пишу "свобода поступать как хочется", и это вовсе не
эвфемизм, чтоб намекнуть на дни, проведенные в постели, и бражничанье по
ночам. Ничего похожего - усердие мое было примерным. Я упорно трудился над
немецким языком и, когда не боролся с его синтаксисом, читал Шиллера, Гете и
других великих немцев. В городе был чудесный театр - какая неожиданность, не
правда ли? - и чуть ли не каждый вечер я отправлялся слушать драмы и оперы,
звучавшие по-немецки. Моя светская жизнь складывалась из разговоров на общие
темы с немцами постарше и из развлечений в кругу сверстников - вторых было
гораздо больше, о чем я не жалею. То была жизнь, которой мне хотелось:
приятная, легкая, беззаботная, с разумной мерой забав и удовольствий и
скромной толикой труда, дававшей мне и моим близким ощущение, что я не трачу
время понапрасну. Возможно, вы считаете такую жизнь безнравственной, и
бесконечное потворство еще не достигшему совершеннолетия юноше вызывает у
вас гнев, в таком случае вам необходимо разобраться в своих взглядах. Я не
могу поверить, что вредно быть счастливым, если никто от этого не страдает.
Неужто лучше было возвратиться в Кембридж и биться над тем, чего я не любил
и не умел? Сидящий в вас пуританин, возможно, скажет "да", но я с ним не
соглашусь.
В Веймаре я, делал литературные записи, но в тетради того времени нет
перлов, которые я там надеялся найти, она меня скорей смутила, и я рад, что
ее можно спрятать подальше. Теперь вы понимаете, из-за чего я предпочел сам
писать о своей жизни? В занятии этом нет ничего нечестного, хоть невозможно
избежать многозначительной болтовни о прошлом, - боюсь, что с высоты своей
нынешней позиции я то и дело донимаю ею молодежь. Кроме разных историй, по
большей части незаконченных, полных поэтических "ахов", "охов" и вздохов, в
этой тетради нет ничего интересного, одни лишь обрывки пьес, обнаруживающие
полную неспособность автора к написанию диалогов, и длинные цитаты из
восхитивших меня немецких сочинений. Во всяком случае, там нет ничего, что
стоило бы процитировать, разве только стихотворение "Звезды", напечатанное в
журнале "Хаос", - его я не стыжусь и привожу как доказательство того, что
пробовал свои силы и в серьезном жанре.
Только мы смежаем веки -
В небе звезды высыпают,
И лучей своих глаза
Вниз на землю устремляют.
Иероглифы судьбы
Мы в их россыпи читаем,
И надежды, и мольбы
К ним в тревоге воссылаем.
Тот, кто смотрит с вышины
И покой наш охраняет,
Видит все - и наши сны
Милосердно наблюдает.
Наверное, оно не так прекрасно в чтении, как мне тогда казалось, и мне
бы следовало подчеркнуть свою неопытность и молодость, но что это за
оправдание? Поэтому я лучше помолчу.
Не показалось ли вам странным, что я довел рассказ до двадцати одного
года, ни разу не упомянув о романтической привязанности? Кроме моей
достойной матушки, ни одна особа не украсила собой моей повести, и я
согласен с вами, что это неестественно - дожить до двадцати одного года, ни
разу не влюбившись. Что же меня останавливало? Да ничего, просто не
представлялось случая. До Веймара я почти не приближался к прекрасным юным
дамам: хотя мои мысли и устремлялись к ним, я не имел конкретного предмета.
Пожалуй, было бы излишне упоминать о молодой особе по имени Лэдд из
кембриджской лавки, которая так меня пленила, что я купил у нее пару
бронзовых подсвечников, - даже романисту трудно что-либо выжать из такого
скудного материала. Долгие годы я боготворил женщин - всегда боготворил и
всегда буду - боготворил, не сказав ни единого слова ни с одной из них,
подумать только, даже не коснувшись руки. Конечно, вы заметили огромное
яркое полотнище, которое реет над моей головой? Я обещал вам в случаях
неполной искренности давать предупреждающий сигнал, и этот флаг полощется
сейчас по той причине, что я не собираюсь обременять вас неаппетитными
подробностями о своих подвигах среди женщин, с которыми мне лучше было бы не
знаться. Довольно лишь заметить, что, прежде чем познакомиться с достойными
молодыми леди, я ненадолго свел знакомство с недостойными и был весьма
встревожен и напуган этими последними. Правду сказать, женщины занимали
немалое место в моей жизни. В Веймаре я только и думал, что о прекрасных
дамах, даже предупредил матушку, что в любую минуту могу явиться домой с
новоиспеченной миссис Теккерей под руку. Конечно, то была шутка, я бы не
говорил об этом так легко, если бы всерьез помышлял о чем-либо подобном, но
две юные веймарские красавицы и в самом деле держали меня в блаженном плену
влюбленности все мои дни в Германии. Одна была Мелани фон Шпигель, вторая -
Дженни фон Паппенхейм.
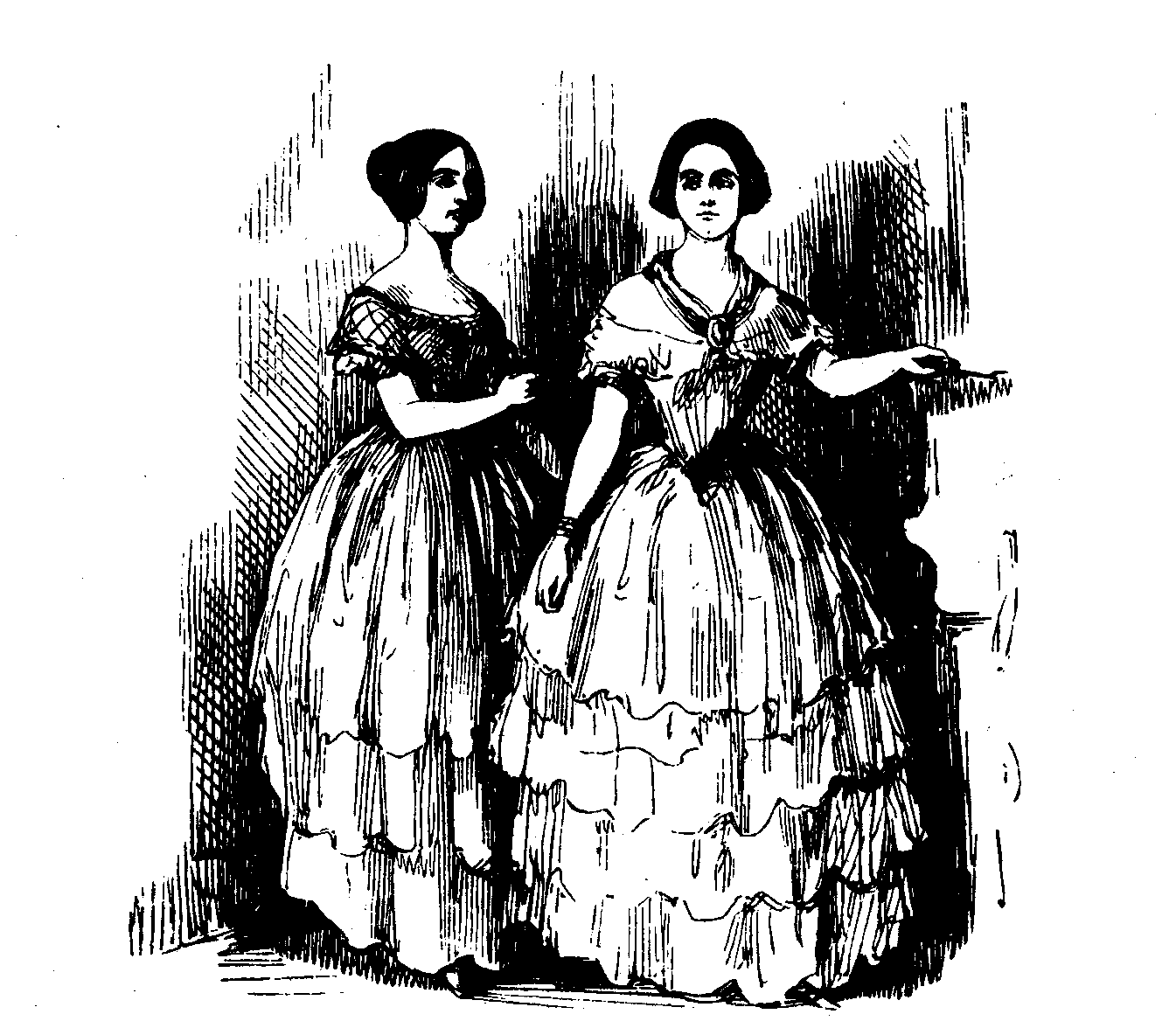 Старики охотно вспоминают ушедшую любовь, особенно ту, что не доставила
им боли. Они так нежно, любовно выговаривая то или иное имя, рассказывают о
юных девах, которых считанные дни дарили своим вниманием, что сразу
становится ясно: за этим нет реальной подоплеки. Таков и я. Я знал в жизни
подлинные чувства, которые мне больно облекать в слова, но о Мелани и Дженни
я вспоминаю очень весело, от души посмеиваясь над своей влюбленностью. Ни
та, ни другая не высекли не только пламени, но даже искры из моей души, и уж
конечно, не проникли в ее тайники. Мое чувство к ним вряд ли заслуживает
называться любовью - вам это, конечно, ясно. Они были миленькие, нежные,
изящно одевались и, шествуя по Веймару, пожинали комплименты - полагалось
безнадежно влюбиться в одну из них или в обеих сразу. Как юный англичанин я
был на виду, хоть старые аристократки, которыми кишмя кишел Веймар,
проведав, что я не милорд и не наследник сказочного состояния, меня не
признавали. Однако меня охотно приглашали на разные светские приемы и балы,
и добрый старый гофмаршал тех времен привечал меня и не мешал посещать все
официальные торжества. Пожалуй, предметом моего поклонения была его дочь
Мелани, а не Дженни, хоть я бы не отверг и Дженни, пади она к моим ногам,
как постоянно случалось в моих грезах.
Я был одним из многих, сраженных чарами Мелани, и откровенно за ней
ухаживал, если только тут годится это слово; в душе я был уверен, что мы
обмениваемся самыми утонченными знаками любовной страсти. Разве не на мне ее
голубые глаза задерживались дольше всех? Разве не мне предназначалась ее
едва приметная улыбка? И кто посмеет спорить, что именно к моим речам, к
моим оригинальным суждениям о Шиллере, Гете и "Фаусте" она чаще всего
склоняла слух? Все это так, но несмотря на явное предпочтение, оказанное
моей особе, юная леди вышла замуж за другого.
Я как-то встретил дорогую Мелани спустя долгие годы после той памятной
зимы в крохотной саксонской столице. То было в Италии, кажется в Венеции,
где я жил в гостинице со своими девочками. Проглядывая книгу постояльцев, я
заметил фамилию, которую, как ясно помнил, носила Мелани в замужестве. С
некоторой неуверенностью и даже трепетом я обратился к официанту с просьбой
указать мне носительницу имени; кого, вы думаете, он мне указал? Тучную и
безобразную матрону, молча поглощавшую вареное яйцо. Жестокость этого
зрелища сразила меня, я испытал смятение, и как ни упрашивали меня девочки,
заинтригованные моими романтическими воспоминаниями, чувствовал себя не в
силах возобновить знакомство. Ужасно было видеть причиненные временем
разрушения; не только черты лица, когда-то нежные, теперь отяжелели и
погрузнела прежде стройная фигура, но переменился весь ее облик. Она стала
заурядной, малоподвижной, дряблой, померк и ореол, и красота; когда я
оправился от первого впечатления, я чуть не зарыдал над разыгравшейся
трагедией. Я понимаю, что был глуп: Мелани, наверно, была счастлива, должно
быть, даже не заметила случившейся с ней перемены, а если и заметила, из-за
чего ей было плакать? Нельзя всю жизнь оставаться прелестной и
восемнадцатилетней, хотя я видел женщин, которым это удавалось: морщины и
седые волосы не помешали им сберечь очарование. Но Мелани была не из их
числа, и я не смел показывать ей свое огорчение. И все же мне хотелось
помнить ее такой, как прежде, не омрачая прошлого. Я твердо верю, что где-то
в ином мире мы все еще флиртуем: холодной зимней ночью в двухместном экипаже
мы катим по снегу во дворец, без умолку болтаем и неотрывно смотрим друг на
друга. Бродя по закоулкам памяти, я и сейчас могу увидеть, какими мы были и
как прелестно выглядели; там, бережно укрытых в прошлом, я и намерен нас
оставить. Тучная дама из Венеции не имеет ко всему этому ни малейшего
отношения, я не позволю ей вмешиваться и навязывать мне настоящее. Мелани,
которую я знал, пребудет в моей памяти такой, как прежде.
Старики охотно вспоминают ушедшую любовь, особенно ту, что не доставила
им боли. Они так нежно, любовно выговаривая то или иное имя, рассказывают о
юных девах, которых считанные дни дарили своим вниманием, что сразу
становится ясно: за этим нет реальной подоплеки. Таков и я. Я знал в жизни
подлинные чувства, которые мне больно облекать в слова, но о Мелани и Дженни
я вспоминаю очень весело, от души посмеиваясь над своей влюбленностью. Ни
та, ни другая не высекли не только пламени, но даже искры из моей души, и уж
конечно, не проникли в ее тайники. Мое чувство к ним вряд ли заслуживает
называться любовью - вам это, конечно, ясно. Они были миленькие, нежные,
изящно одевались и, шествуя по Веймару, пожинали комплименты - полагалось
безнадежно влюбиться в одну из них или в обеих сразу. Как юный англичанин я
был на виду, хоть старые аристократки, которыми кишмя кишел Веймар,
проведав, что я не милорд и не наследник сказочного состояния, меня не
признавали. Однако меня охотно приглашали на разные светские приемы и балы,
и добрый старый гофмаршал тех времен привечал меня и не мешал посещать все
официальные торжества. Пожалуй, предметом моего поклонения была его дочь
Мелани, а не Дженни, хоть я бы не отверг и Дженни, пади она к моим ногам,
как постоянно случалось в моих грезах.
Я был одним из многих, сраженных чарами Мелани, и откровенно за ней
ухаживал, если только тут годится это слово; в душе я был уверен, что мы
обмениваемся самыми утонченными знаками любовной страсти. Разве не на мне ее
голубые глаза задерживались дольше всех? Разве не мне предназначалась ее
едва приметная улыбка? И кто посмеет спорить, что именно к моим речам, к
моим оригинальным суждениям о Шиллере, Гете и "Фаусте" она чаще всего
склоняла слух? Все это так, но несмотря на явное предпочтение, оказанное
моей особе, юная леди вышла замуж за другого.
Я как-то встретил дорогую Мелани спустя долгие годы после той памятной
зимы в крохотной саксонской столице. То было в Италии, кажется в Венеции,
где я жил в гостинице со своими девочками. Проглядывая книгу постояльцев, я
заметил фамилию, которую, как ясно помнил, носила Мелани в замужестве. С
некоторой неуверенностью и даже трепетом я обратился к официанту с просьбой
указать мне носительницу имени; кого, вы думаете, он мне указал? Тучную и
безобразную матрону, молча поглощавшую вареное яйцо. Жестокость этого
зрелища сразила меня, я испытал смятение, и как ни упрашивали меня девочки,
заинтригованные моими романтическими воспоминаниями, чувствовал себя не в
силах возобновить знакомство. Ужасно было видеть причиненные временем
разрушения; не только черты лица, когда-то нежные, теперь отяжелели и
погрузнела прежде стройная фигура, но переменился весь ее облик. Она стала
заурядной, малоподвижной, дряблой, померк и ореол, и красота; когда я
оправился от первого впечатления, я чуть не зарыдал над разыгравшейся
трагедией. Я понимаю, что был глуп: Мелани, наверно, была счастлива, должно
быть, даже не заметила случившейся с ней перемены, а если и заметила, из-за
чего ей было плакать? Нельзя всю жизнь оставаться прелестной и
восемнадцатилетней, хотя я видел женщин, которым это удавалось: морщины и
седые волосы не помешали им сберечь очарование. Но Мелани была не из их
числа, и я не смел показывать ей свое огорчение. И все же мне хотелось
помнить ее такой, как прежде, не омрачая прошлого. Я твердо верю, что где-то
в ином мире мы все еще флиртуем: холодной зимней ночью в двухместном экипаже
мы катим по снегу во дворец, без умолку болтаем и неотрывно смотрим друг на
друга. Бродя по закоулкам памяти, я и сейчас могу увидеть, какими мы были и
как прелестно выглядели; там, бережно укрытых в прошлом, я и намерен нас
оставить. Тучная дама из Венеции не имеет ко всему этому ни малейшего
отношения, я не позволю ей вмешиваться и навязывать мне настоящее. Мелани,
которую я знал, пребудет в моей памяти такой, как прежде.
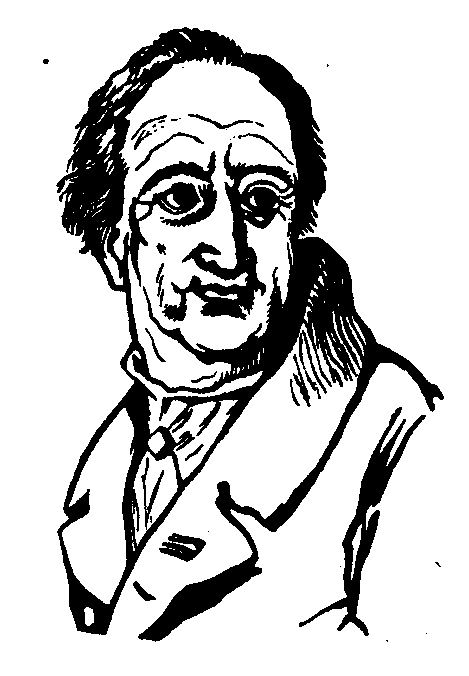 Кроме переполнявшего меня чувства счастья, пережитого самым
цивилизованным из всех доступных мне способов, от той поры остались и
другие, не столь противоречивые воспоминания. В Веймаре я видел, вернее,
посетил великого Гете и стал владельцем шпаги Шиллера. Что еще нужно
человеку, чтобы сойти в могилу с чувством собственной значительности? И то,
и другое доставило мне огромное удовольствие. Гете, официально удалившийся
от света, в ту пору еще принимал в своих апартаментах и сохранял интерес ко
всему новому. Когда его невестка сказала, что он заметил и одобрил мои шаржи
- я рисовал их для ее детей - и будет рад со мной познакомиться, я пришел в
необычайное волнение. Мы встретились и разговаривали, он задал мне несколько
вопросов, касавшихся моей особы, при этом не происходило ничего
значительного, но я доныне помню зоркий взгляд его темных глаз и звучный,
мягкий голос. Не думаю, что стыдно благоговеть перед истинно великим и
чувствовать себя польщенным, если вами интересуется великий человек.
Радоваться его вниманию нисколько не снобизм, а выражение смирения. Это
совсем не то, что раболепствовать перед ничтожеством, которое может
оказаться вам полезно, или ломаться ради выскочки. Гете в свое время был
легендой, и, преклоняясь перед ним, я вел себя как должно - думаю, меня за
это следует хвалить, а не ругать.
С тех пор прошло более тридцати лет, я путешествовал по разным странам,
бывал в различных обществах, но, кажется, нигде не встречал такого
простодушного и обходительного городка, как Веймар. Вы скажете, что в
воспоминаниях все выглядит иначе. Конечно, память неизбежно искажает и
отсеивает прошлое: мы помним события одного года, предав забвению другой.
Могу лишь сказать, что Веймар я любил тогда и еще больше люблю сейчас, когда
того, прежнего больше нет на свете, а это что-нибудь да значит. Я так любил
и город; и его обитателей, что и доныне жил бы там, если бы матушка не
извлекла меня из него, как устрицу из раковины. Все это время в ее письмах
звучал один и тот же рефрен: пора думать о будущем - оно висело надо мной,
словно дамоклов меч. Ее, конечно, радовало, что мне хорошо в Германии, но ни
одно ее письмо не обходилось без напоминания, что Веймар - только
промежуточная станция и, дескать, пора подумать, чем я буду заниматься
дальше. Чаще всего я пропускал ее слова мимо ушей и наводнял свои послания
восторженными рассказами о книгах и спектаклях. В ответ она допытывалась,
отчего я не отвечаю на ее вопросы и читал ли я ее последнее письмо. Пора
было высказаться, тянуть больше было невозможно.
Порой бывает трудно вспомнить, как случилось, что мы приняли то или
иное важное решение, - к примеру, я не помню, как появилась мысль о Веймаре,
- но в данном случае я очень ясно помню, как с удивлявшей меня самого
твердостью не поддавался матушкиным уговорам вернуться в Кембридж. Я не был
упрямым и неблагодарным сыном, я любил матушку и верил, что она желает мне
добра, но если до сих пор я без возражений поступал, как зелено, и
подчинялся даже с удовольствием, то теперь чувствовал, что должен твердо
стоять на своем. Надеюсь, я написал об этом матушке со всей подобающей
почтительностью, хотя, наверное, своевольный тон нет-нет да прорывался в
моих письмах. Увы, я не умею бесстрастно рассуждать о том, что меня задевает
за живое. Мне так хотелось сесть и написать ей, спокойно, по порядку
изложить все доводы, но, взявшись за письмо, я начинал горячиться и палил из
всех пушек сразу. Мало-помалу бедная женщина осознала, что в Кембридж ей
меня не вернуть ни для продолжения прежнего курса наук, ни для поступления в
новый колледж, и мудро, хоть и не без грусти, смирившись с моим упрямством,
направила свои усилия в другую сторону.
Кроме переполнявшего меня чувства счастья, пережитого самым
цивилизованным из всех доступных мне способов, от той поры остались и
другие, не столь противоречивые воспоминания. В Веймаре я видел, вернее,
посетил великого Гете и стал владельцем шпаги Шиллера. Что еще нужно
человеку, чтобы сойти в могилу с чувством собственной значительности? И то,
и другое доставило мне огромное удовольствие. Гете, официально удалившийся
от света, в ту пору еще принимал в своих апартаментах и сохранял интерес ко
всему новому. Когда его невестка сказала, что он заметил и одобрил мои шаржи
- я рисовал их для ее детей - и будет рад со мной познакомиться, я пришел в
необычайное волнение. Мы встретились и разговаривали, он задал мне несколько
вопросов, касавшихся моей особы, при этом не происходило ничего
значительного, но я доныне помню зоркий взгляд его темных глаз и звучный,
мягкий голос. Не думаю, что стыдно благоговеть перед истинно великим и
чувствовать себя польщенным, если вами интересуется великий человек.
Радоваться его вниманию нисколько не снобизм, а выражение смирения. Это
совсем не то, что раболепствовать перед ничтожеством, которое может
оказаться вам полезно, или ломаться ради выскочки. Гете в свое время был
легендой, и, преклоняясь перед ним, я вел себя как должно - думаю, меня за
это следует хвалить, а не ругать.
С тех пор прошло более тридцати лет, я путешествовал по разным странам,
бывал в различных обществах, но, кажется, нигде не встречал такого
простодушного и обходительного городка, как Веймар. Вы скажете, что в
воспоминаниях все выглядит иначе. Конечно, память неизбежно искажает и
отсеивает прошлое: мы помним события одного года, предав забвению другой.
Могу лишь сказать, что Веймар я любил тогда и еще больше люблю сейчас, когда
того, прежнего больше нет на свете, а это что-нибудь да значит. Я так любил
и город; и его обитателей, что и доныне жил бы там, если бы матушка не
извлекла меня из него, как устрицу из раковины. Все это время в ее письмах
звучал один и тот же рефрен: пора думать о будущем - оно висело надо мной,
словно дамоклов меч. Ее, конечно, радовало, что мне хорошо в Германии, но ни
одно ее письмо не обходилось без напоминания, что Веймар - только
промежуточная станция и, дескать, пора подумать, чем я буду заниматься
дальше. Чаще всего я пропускал ее слова мимо ушей и наводнял свои послания
восторженными рассказами о книгах и спектаклях. В ответ она допытывалась,
отчего я не отвечаю на ее вопросы и читал ли я ее последнее письмо. Пора
было высказаться, тянуть больше было невозможно.
Порой бывает трудно вспомнить, как случилось, что мы приняли то или
иное важное решение, - к примеру, я не помню, как появилась мысль о Веймаре,
- но в данном случае я очень ясно помню, как с удивлявшей меня самого
твердостью не поддавался матушкиным уговорам вернуться в Кембридж. Я не был
упрямым и неблагодарным сыном, я любил матушку и верил, что она желает мне
добра, но если до сих пор я без возражений поступал, как зелено, и
подчинялся даже с удовольствием, то теперь чувствовал, что должен твердо
стоять на своем. Надеюсь, я написал об этом матушке со всей подобающей
почтительностью, хотя, наверное, своевольный тон нет-нет да прорывался в
моих письмах. Увы, я не умею бесстрастно рассуждать о том, что меня задевает
за живое. Мне так хотелось сесть и написать ей, спокойно, по порядку
изложить все доводы, но, взявшись за письмо, я начинал горячиться и палил из
всех пушек сразу. Мало-помалу бедная женщина осознала, что в Кембридж ей
меня не вернуть ни для продолжения прежнего курса наук, ни для поступления в
новый колледж, и мудро, хоть и не без грусти, смирившись с моим упрямством,
направила свои усилия в другую сторону.
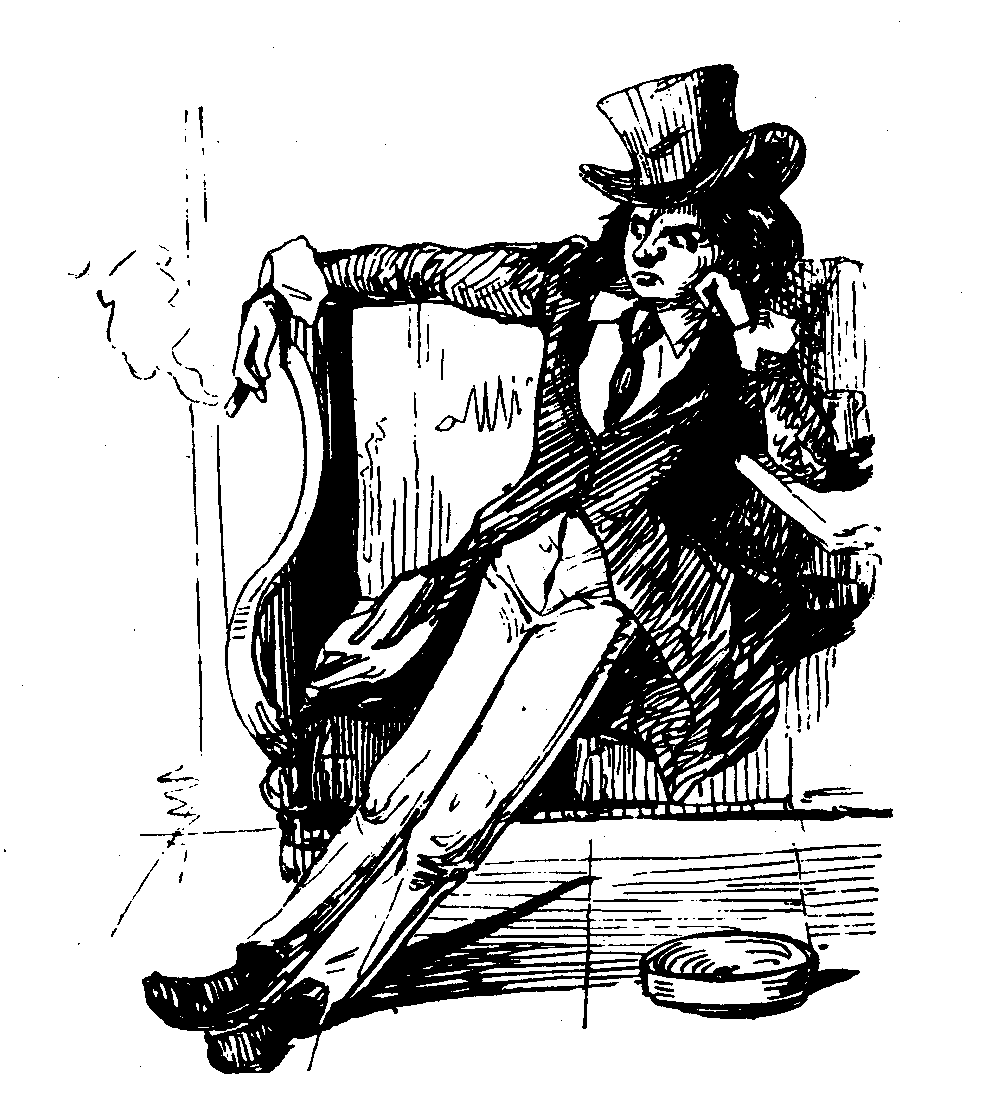 Заметьте, по иронии судьбы, среди обсуждавшихся возможностей не было
профессии литератора, но кто ее считал, да и сейчас считает достойной
джентльмена? Никто. И если нас почитают нижайшими из низких, нам некого
винить, кроме самих себя. Сделали мы хоть что-нибудь, чтобы повысить свой
престиж в глазах общества? Ровным счетом ничего. У нас нет даже корпорации с
уставом, правилами, отличиями и прочими цеховыми знаками, которыми ограждает
себя любая почтенная профессия. Небо свидетель, и я, и Диккенс старались
изменить это печальное положение, но безуспешно. Мы остаемся сборищем хапуг,
чуть ли не торгашей, и никакая уважающая себя мать не станет гордиться тем,
что ее сын - литератор. Сам я не придаю этому значения, о нет, нисколько, но
с удивлением замечаю, как сильно меня трогает печальная участь моих
собратьев по перу. В 1831 году я ничего не знал и знать не хотел о
литераторах. Я забавлялся нанизыванием стихотворных строк и очень ценил
чужие сочинения, но мне и в голову не приходило, что этим можно зарабатывать
на жизнь, и, согласитесь, это было хорошо, ибо займись я тогда литературным
заработком, я неминуемо бы потерпел крушение. Да и могла ли моя мать
одобрить такой выбор? Чему бы я учился? Ей хотелось, чтоб я нашел себе
занятие ей понятное, укладывавшееся в четко очерченные рамки, чтобы она
могла сказать своим друзьям, что я сейчас на первом, на втором или на
последнем курсе такого-то заведения и тому подобное. Если бы я сказал:
"Мама, я хочу написать книгу", что она могла ответить, кроме как: "Пиши,
сынок, но прежде научись чему-нибудь полезному"? И знаете, то был бы
неплохой совет, я сам бы дал его сегодня. Писательство - профессия
небезопасная, и браться за нее нужно, имея твердую почву под ногами. На мой
взгляд, в ней слишком многое зависит от удачи, а не от достоинств автора:
издательские расходы, распространение тиража, критические отзывы - любое из
этих неподвластных вам обстоятельств способно уничтожить книгу, как бы она
ни была хороша сама по себе. Словом, литература - занятие не для юнцов, и
мне повезло, что в ту пору она меня не соблазняла.
Как вы догадываетесь, правда заключалась в том, что меня ничто не
соблазняло, я жил, запрятавшись в уютный Веймар, вдали от тревог большого
мира. Угрюмо перебирая варианты, после пятиминутного обдумывания я отвергал
каждый. Медицина, пожалуй, была хуже всего - мысль мять, тыкать, кромсать
живое тело была мне невыносима, я не слишком высоко ценю эту профессию.
Скорей напротив, доктора всегда казались мне глупцами, которые сначала
говорят одно, затем другое, и всякий раз не знают сами, к чему ведут речь.
Матушка их никогда не жаловала и правильно делала, хотя по мне ее
гомеопатические средства немногим лучше. Я, со своей стороны, последние
двадцать лет не покидаю цепких докторских объятий, и хотя за эти годы мне
встречались и хорошие врачи, и хорошие люди, они не повлияли на мои
первоначальные воззрения. Возможно, впоследствии, когда медицина станет
точной наукой, я буду судить о ней иначе, но пока не вижу для этого резонов.
Меня влекло другое древнее занятие - военное искусство, профессия
британского солдата. Это, конечно, не оригинально, половина мальчиков
мечтает стать солдатами, и все же какая привлекательная карьера -
мужественная, сулящая и честь, и славу, и хвалу, и продвижение по службе, и
всенародное признание тем, кто выказывает доблесть, на что мы все, конечно,
уповаем. Военная жизнь всегда меня манила, и многие кампании я знал до
тонкостей. Наверное, солдатское житье пришлось бы мне по вкусу: мне хорошо
среди себе подобных, я легко схожусь с товарищами. Боясь опасности, матушка,
возможно, возражала бы поначалу, но вскоре бы смирилась. Оставалось одно
неодолимое препятствие; в Европе в это время нигде не сражались, а быть
солдатом и не воевать - это не по мне, это как-то несерьезно.
Заметьте, по иронии судьбы, среди обсуждавшихся возможностей не было
профессии литератора, но кто ее считал, да и сейчас считает достойной
джентльмена? Никто. И если нас почитают нижайшими из низких, нам некого
винить, кроме самих себя. Сделали мы хоть что-нибудь, чтобы повысить свой
престиж в глазах общества? Ровным счетом ничего. У нас нет даже корпорации с
уставом, правилами, отличиями и прочими цеховыми знаками, которыми ограждает
себя любая почтенная профессия. Небо свидетель, и я, и Диккенс старались
изменить это печальное положение, но безуспешно. Мы остаемся сборищем хапуг,
чуть ли не торгашей, и никакая уважающая себя мать не станет гордиться тем,
что ее сын - литератор. Сам я не придаю этому значения, о нет, нисколько, но
с удивлением замечаю, как сильно меня трогает печальная участь моих
собратьев по перу. В 1831 году я ничего не знал и знать не хотел о
литераторах. Я забавлялся нанизыванием стихотворных строк и очень ценил
чужие сочинения, но мне и в голову не приходило, что этим можно зарабатывать
на жизнь, и, согласитесь, это было хорошо, ибо займись я тогда литературным
заработком, я неминуемо бы потерпел крушение. Да и могла ли моя мать
одобрить такой выбор? Чему бы я учился? Ей хотелось, чтоб я нашел себе
занятие ей понятное, укладывавшееся в четко очерченные рамки, чтобы она
могла сказать своим друзьям, что я сейчас на первом, на втором или на
последнем курсе такого-то заведения и тому подобное. Если бы я сказал:
"Мама, я хочу написать книгу", что она могла ответить, кроме как: "Пиши,
сынок, но прежде научись чему-нибудь полезному"? И знаете, то был бы
неплохой совет, я сам бы дал его сегодня. Писательство - профессия
небезопасная, и браться за нее нужно, имея твердую почву под ногами. На мой
взгляд, в ней слишком многое зависит от удачи, а не от достоинств автора:
издательские расходы, распространение тиража, критические отзывы - любое из
этих неподвластных вам обстоятельств способно уничтожить книгу, как бы она
ни была хороша сама по себе. Словом, литература - занятие не для юнцов, и
мне повезло, что в ту пору она меня не соблазняла.
Как вы догадываетесь, правда заключалась в том, что меня ничто не
соблазняло, я жил, запрятавшись в уютный Веймар, вдали от тревог большого
мира. Угрюмо перебирая варианты, после пятиминутного обдумывания я отвергал
каждый. Медицина, пожалуй, была хуже всего - мысль мять, тыкать, кромсать
живое тело была мне невыносима, я не слишком высоко ценю эту профессию.
Скорей напротив, доктора всегда казались мне глупцами, которые сначала
говорят одно, затем другое, и всякий раз не знают сами, к чему ведут речь.
Матушка их никогда не жаловала и правильно делала, хотя по мне ее
гомеопатические средства немногим лучше. Я, со своей стороны, последние
двадцать лет не покидаю цепких докторских объятий, и хотя за эти годы мне
встречались и хорошие врачи, и хорошие люди, они не повлияли на мои
первоначальные воззрения. Возможно, впоследствии, когда медицина станет
точной наукой, я буду судить о ней иначе, но пока не вижу для этого резонов.
Меня влекло другое древнее занятие - военное искусство, профессия
британского солдата. Это, конечно, не оригинально, половина мальчиков
мечтает стать солдатами, и все же какая привлекательная карьера -
мужественная, сулящая и честь, и славу, и хвалу, и продвижение по службе, и
всенародное признание тем, кто выказывает доблесть, на что мы все, конечно,
уповаем. Военная жизнь всегда меня манила, и многие кампании я знал до
тонкостей. Наверное, солдатское житье пришлось бы мне по вкусу: мне хорошо
среди себе подобных, я легко схожусь с товарищами. Боясь опасности, матушка,
возможно, возражала бы поначалу, но вскоре бы смирилась. Оставалось одно
неодолимое препятствие; в Европе в это время нигде не сражались, а быть
солдатом и не воевать - это не по мне, это как-то несерьезно.
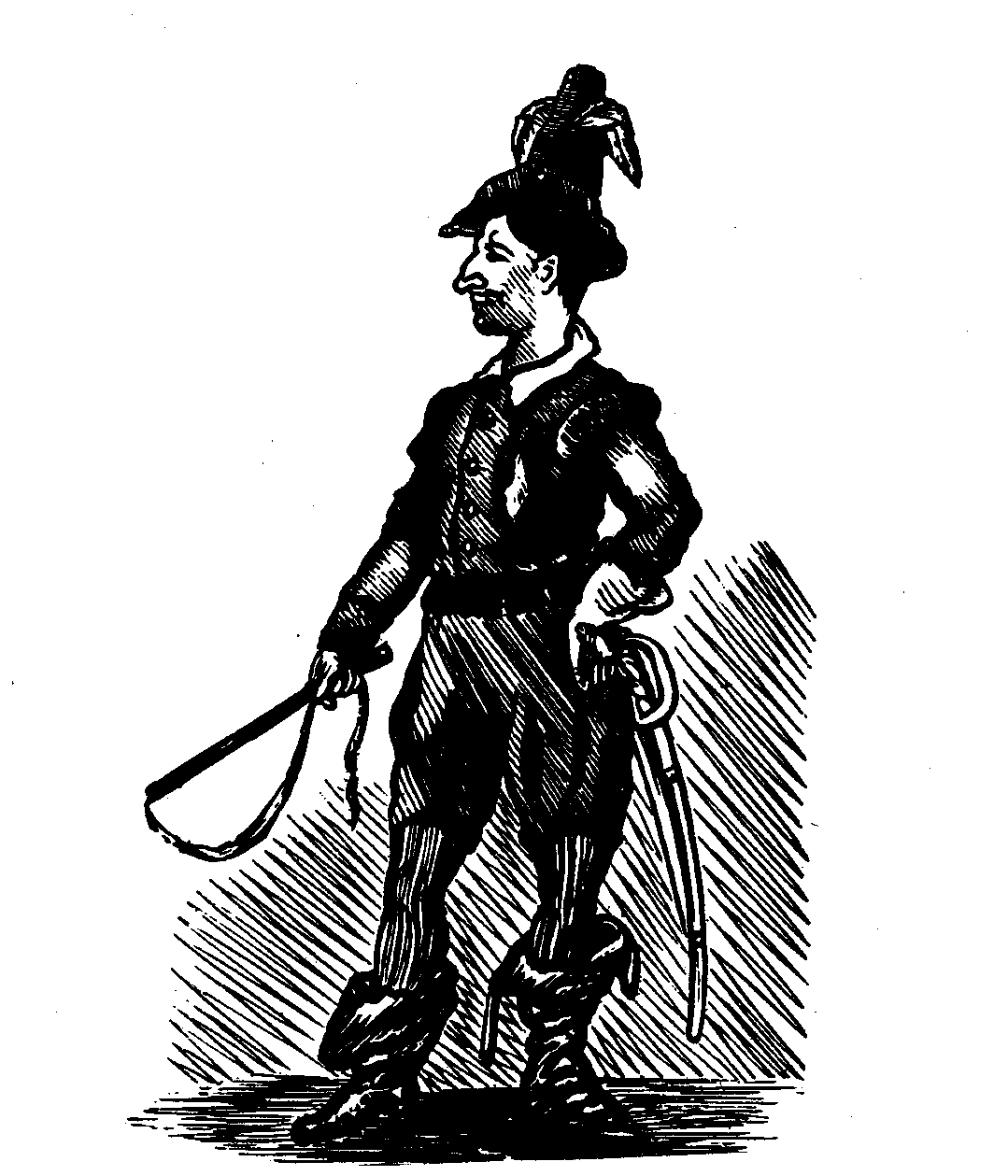 Что же оставалось, коль скоро я отверг науку, медицину и военную
службу? Ответ напрашивался сам собой в виде страшного, внушавшего мне трепет
слова - право. От него у меня бегали по спине мурашки, но как же оно
нравилось матушке! Оно прекрасно отвечало всем ее желаниям: благодаря праву
я стал бы респектабельным, известным, даже влиятельным и вызывал бы
восхищение. Вряд ли еще какая-нибудь профессия так тешит материнское сердце.
В недалеком будущем она уже видела меня лордом-канцлером, творящим суд над
всем и каждым. Робко выговорив слово "право", я сам подивился своей
глупости, ибо она, конечно, ухватилась за него и уже не отступалась. Посети
меня какая-нибудь лучшая идея, я бы не замедлил ее высказать и охладить ее
пыл, но хоть я мысленно метался как безумный и судорожно перебирал
возможности, ничто не приходило мне на ум. Духовное звание? Нет, это было бы
еще хуже, я знал, вернее, чувствовал, что наши взгляды на религию мало
совпадают, и ей бы захотелось, чтобы я понимал свои обязанности так же, как
она, - а я бы понимал их по-другому. Кроме того, хотя верования мои были
искренни, я знал, что не подхожу по темпераменту, - правда, это не всегда
считается препятствием: я видел немало молодых людей, не менее
легкомысленных, чем я, успешно сделавших духовную карьеру, - но меня это
соображение останавливало. Сюда примешивалось еще одно важное для меня
обстоятельство: для человека с талантами и деньгами - а именно так я о себе
и думал - духовный сан был неприемлем, ибо считался хорошим средством к
достижению успеха для тех, у кого не было иного выхода, и мне не хотелось
прослыть одним из этих неудачников лишь оттого, что я не ощущал в себе
высокого призвания. Я знаю, такое не говорится вслух, это звучит неприятно,
но каждый светский человек меня поймет.
В общем, мне ничего не оставалось, кроме как обучаться праву: дать,
себя засадить в адвокатскую контору и постигать унылейшее в мире ремесло
-как надувать все остальное человечество. Итак, я с самого начала смотрел на
право без почтения: судейские всегда казались мне ханжами. Еще в Веймаре я
заглянул в несколько томов гражданского права и просто взвыл от ужаса, то
было явно не по мне, но что я мог придумать? Я был не так богат, чтоб ничего
не делать, - хоть, видит бог, стократ богаче, чем в ближайшем будущем, - и
чтоб не возвращаться в Кембридж, должен был выбрать что-нибудь
основательное. Я пробовал утешить себя мыслью, что в Лондоне все будет
внове, а я люблю новизну и смогу участвовать в блестящей светской жизни
-такой она тогда мне представлялась. Правда, мне приходило в голову, что в
Веймаре, при некоторой умеренности в тратах, я мог бы безбедно жить на свои
доходы и избежать ужасной участи служить в Англии, но стоило мне только
заикнуться об этом, как матушка обрушила на меня поток возражений и
заклеймила эту мысль как недостойную, поэтому пришлось ее оставить. Мне
надлежало возвратиться в Англию и приступить к серьезной жизни. Этого было
не миновать. Я со стыдом напоминал себе, что в мои годы отец служил уже пять
лет, что близится мое совершеннолетие, а на моем счету нет никаких успехов.
Летом 1831 года с тяжелым сердцем я распростился со своей блаженной жизнью в
Веймаре и отправился в Англию, чтобы заняться правом. Итак, жребий брошен,
думал я, и назад возврата нет.
^T4^U
^TМеня определяют в адвокаты, но я спасаюсь бегством^U
В 1832 году я вел дневник, хотя не знаю, почему для этого я выбрал
именно тот год, а не какой-нибудь другой. Должно быть, считал, что
лондонская жизнь окажется примечательной и мне захочется запечатлеть
сиятельные имена тех, кто будет потчевать меня в своих домах; впрочем,
скорее всего, дневник казался достойным и солидным занятием в преддверии
близившегося совершеннолетия. Но лучше бы мне его не вести, ибо с тех давних
страниц встает убогая картина, которая не делает мне чести. В последующие
годы я много раз (и столь же беспорядочно) вел дневники, но ни один из них
не нагоняет на меня такую тоску, как этот унылый перечень дней праздности и
мотовства. Вряд ли отыщется там запись, которой я бы мог гордиться, если,
конечно, не считать заслугой само умение сказать себе неприятную правду -
чистосердечно признаться, что я попусту транжирю время,
Мне не хочется взбираться на котурны, но все же согласитесь, что
трезвая самооценка - редкость для молодых. В этом дневнике я не жалуюсь, не
ною, лишь неустанно корю себя за дурные привычки и нередко предаюсь
отчаянию. Пожалуй, меня радует, что я не забывал, что хорошо, что плохо, и
понимал, что по любым стандартам не оправдал надежд. Самодовольство
относится к тем редким недостаткам, которыми я не грешу. Нет, меня
переполняла злость, ужасная злость на себя, на свою никчемность, на жалкие
увеселения, в которых проходило время и от которых меня мутило все сильнее.
Никогда, ни до, ни после не знал я такого чувства горечи, как в те три года
в Лондоне, когда изображал из себя адвоката. Наверное, вам неприятно, что я
утверждаю это так решительно, как будто счастье, горе или воспоминания о них
могут быть столь определенны, но, честное слово, я не ошибаюсь, и дневник
подтверждает мои слова. Благодарение богу, это кончилось, и, проглядывая его
сегодня, я могут утешаться мыслью, что все осталось позади.
Полагаю, читатели, внимательно следившие за этой моей хроникой,
догадываются, что со мной происходило. Я принадлежал к числу тех, кто
ощущает потребность в работе, даже когда со стороны кажется, будто этому
малому хочется лишь прохлаждаться. Бездельничая, я не бываю счастлив, хотя
это и выглядит иначе. Целыми днями я слонялся и с виду наслаждался жизнью,
но на поверку то было не так. И в Кембридже, и после я видел немало молодых
людей, стремившихся лишь к одному - продлить беспечное, пустое, беззаботное
существование, но я был не из их числа. Я жаждал дела более основательного,
чем вся та чепуха, которая заполняла мои дни. Главное же, я не выносил
обмана, хотя сплошь и рядом прибегал к нему. Думал ли я когда-нибудь стать
адвокатом? Нисколько, не более, чем математиком. То был маневр, чтобы
успокоить матушку и выиграть время, пока я не найду что-нибудь более
подходящее. Тем, кто строит будущее на столь шатком основании, могу сказать
по собственному опыту, что они за это дорого заплатят. Судите сами, часто ли
в жизни все образуется само собой и волею небес мы избавляемся от
двойственного положения? Да такого почти никогда не бывает! И если мы
решаемся идти по пути, который нам заранее внушает отвращение, добра ждать
не приходится; мне не следовало соглашаться на право, не нужно было
хвататься за соломинку, лишь бы избегнуть Кембриджа, не нужно было лгать
себе, будто в том нет ничего предосудительного. Я пошел наперекор своей
натуре и уготовил себе чистилище.
Что же оставалось, коль скоро я отверг науку, медицину и военную
службу? Ответ напрашивался сам собой в виде страшного, внушавшего мне трепет
слова - право. От него у меня бегали по спине мурашки, но как же оно
нравилось матушке! Оно прекрасно отвечало всем ее желаниям: благодаря праву
я стал бы респектабельным, известным, даже влиятельным и вызывал бы
восхищение. Вряд ли еще какая-нибудь профессия так тешит материнское сердце.
В недалеком будущем она уже видела меня лордом-канцлером, творящим суд над
всем и каждым. Робко выговорив слово "право", я сам подивился своей
глупости, ибо она, конечно, ухватилась за него и уже не отступалась. Посети
меня какая-нибудь лучшая идея, я бы не замедлил ее высказать и охладить ее
пыл, но хоть я мысленно метался как безумный и судорожно перебирал
возможности, ничто не приходило мне на ум. Духовное звание? Нет, это было бы
еще хуже, я знал, вернее, чувствовал, что наши взгляды на религию мало
совпадают, и ей бы захотелось, чтобы я понимал свои обязанности так же, как
она, - а я бы понимал их по-другому. Кроме того, хотя верования мои были
искренни, я знал, что не подхожу по темпераменту, - правда, это не всегда
считается препятствием: я видел немало молодых людей, не менее
легкомысленных, чем я, успешно сделавших духовную карьеру, - но меня это
соображение останавливало. Сюда примешивалось еще одно важное для меня
обстоятельство: для человека с талантами и деньгами - а именно так я о себе
и думал - духовный сан был неприемлем, ибо считался хорошим средством к
достижению успеха для тех, у кого не было иного выхода, и мне не хотелось
прослыть одним из этих неудачников лишь оттого, что я не ощущал в себе
высокого призвания. Я знаю, такое не говорится вслух, это звучит неприятно,
но каждый светский человек меня поймет.
В общем, мне ничего не оставалось, кроме как обучаться праву: дать,
себя засадить в адвокатскую контору и постигать унылейшее в мире ремесло
-как надувать все остальное человечество. Итак, я с самого начала смотрел на
право без почтения: судейские всегда казались мне ханжами. Еще в Веймаре я
заглянул в несколько томов гражданского права и просто взвыл от ужаса, то
было явно не по мне, но что я мог придумать? Я был не так богат, чтоб ничего
не делать, - хоть, видит бог, стократ богаче, чем в ближайшем будущем, - и
чтоб не возвращаться в Кембридж, должен был выбрать что-нибудь
основательное. Я пробовал утешить себя мыслью, что в Лондоне все будет
внове, а я люблю новизну и смогу участвовать в блестящей светской жизни
-такой она тогда мне представлялась. Правда, мне приходило в голову, что в
Веймаре, при некоторой умеренности в тратах, я мог бы безбедно жить на свои
доходы и избежать ужасной участи служить в Англии, но стоило мне только
заикнуться об этом, как матушка обрушила на меня поток возражений и
заклеймила эту мысль как недостойную, поэтому пришлось ее оставить. Мне
надлежало возвратиться в Англию и приступить к серьезной жизни. Этого было
не миновать. Я со стыдом напоминал себе, что в мои годы отец служил уже пять
лет, что близится мое совершеннолетие, а на моем счету нет никаких успехов.
Летом 1831 года с тяжелым сердцем я распростился со своей блаженной жизнью в
Веймаре и отправился в Англию, чтобы заняться правом. Итак, жребий брошен,
думал я, и назад возврата нет.
^T4^U
^TМеня определяют в адвокаты, но я спасаюсь бегством^U
В 1832 году я вел дневник, хотя не знаю, почему для этого я выбрал
именно тот год, а не какой-нибудь другой. Должно быть, считал, что
лондонская жизнь окажется примечательной и мне захочется запечатлеть
сиятельные имена тех, кто будет потчевать меня в своих домах; впрочем,
скорее всего, дневник казался достойным и солидным занятием в преддверии
близившегося совершеннолетия. Но лучше бы мне его не вести, ибо с тех давних
страниц встает убогая картина, которая не делает мне чести. В последующие
годы я много раз (и столь же беспорядочно) вел дневники, но ни один из них
не нагоняет на меня такую тоску, как этот унылый перечень дней праздности и
мотовства. Вряд ли отыщется там запись, которой я бы мог гордиться, если,
конечно, не считать заслугой само умение сказать себе неприятную правду -
чистосердечно признаться, что я попусту транжирю время,
Мне не хочется взбираться на котурны, но все же согласитесь, что
трезвая самооценка - редкость для молодых. В этом дневнике я не жалуюсь, не
ною, лишь неустанно корю себя за дурные привычки и нередко предаюсь
отчаянию. Пожалуй, меня радует, что я не забывал, что хорошо, что плохо, и
понимал, что по любым стандартам не оправдал надежд. Самодовольство
относится к тем редким недостаткам, которыми я не грешу. Нет, меня
переполняла злость, ужасная злость на себя, на свою никчемность, на жалкие
увеселения, в которых проходило время и от которых меня мутило все сильнее.
Никогда, ни до, ни после не знал я такого чувства горечи, как в те три года
в Лондоне, когда изображал из себя адвоката. Наверное, вам неприятно, что я
утверждаю это так решительно, как будто счастье, горе или воспоминания о них
могут быть столь определенны, но, честное слово, я не ошибаюсь, и дневник
подтверждает мои слова. Благодарение богу, это кончилось, и, проглядывая его
сегодня, я могут утешаться мыслью, что все осталось позади.
Полагаю, читатели, внимательно следившие за этой моей хроникой,
догадываются, что со мной происходило. Я принадлежал к числу тех, кто
ощущает потребность в работе, даже когда со стороны кажется, будто этому
малому хочется лишь прохлаждаться. Бездельничая, я не бываю счастлив, хотя
это и выглядит иначе. Целыми днями я слонялся и с виду наслаждался жизнью,
но на поверку то было не так. И в Кембридже, и после я видел немало молодых
людей, стремившихся лишь к одному - продлить беспечное, пустое, беззаботное
существование, но я был не из их числа. Я жаждал дела более основательного,
чем вся та чепуха, которая заполняла мои дни. Главное же, я не выносил
обмана, хотя сплошь и рядом прибегал к нему. Думал ли я когда-нибудь стать
адвокатом? Нисколько, не более, чем математиком. То был маневр, чтобы
успокоить матушку и выиграть время, пока я не найду что-нибудь более
подходящее. Тем, кто строит будущее на столь шатком основании, могу сказать
по собственному опыту, что они за это дорого заплатят. Судите сами, часто ли
в жизни все образуется само собой и волею небес мы избавляемся от
двойственного положения? Да такого почти никогда не бывает! И если мы
решаемся идти по пути, который нам заранее внушает отвращение, добра ждать
не приходится; мне не следовало соглашаться на право, не нужно было
хвататься за соломинку, лишь бы избегнуть Кембриджа, не нужно было лгать
себе, будто в том нет ничего предосудительного. Я пошел наперекор своей
натуре и уготовил себе чистилище.
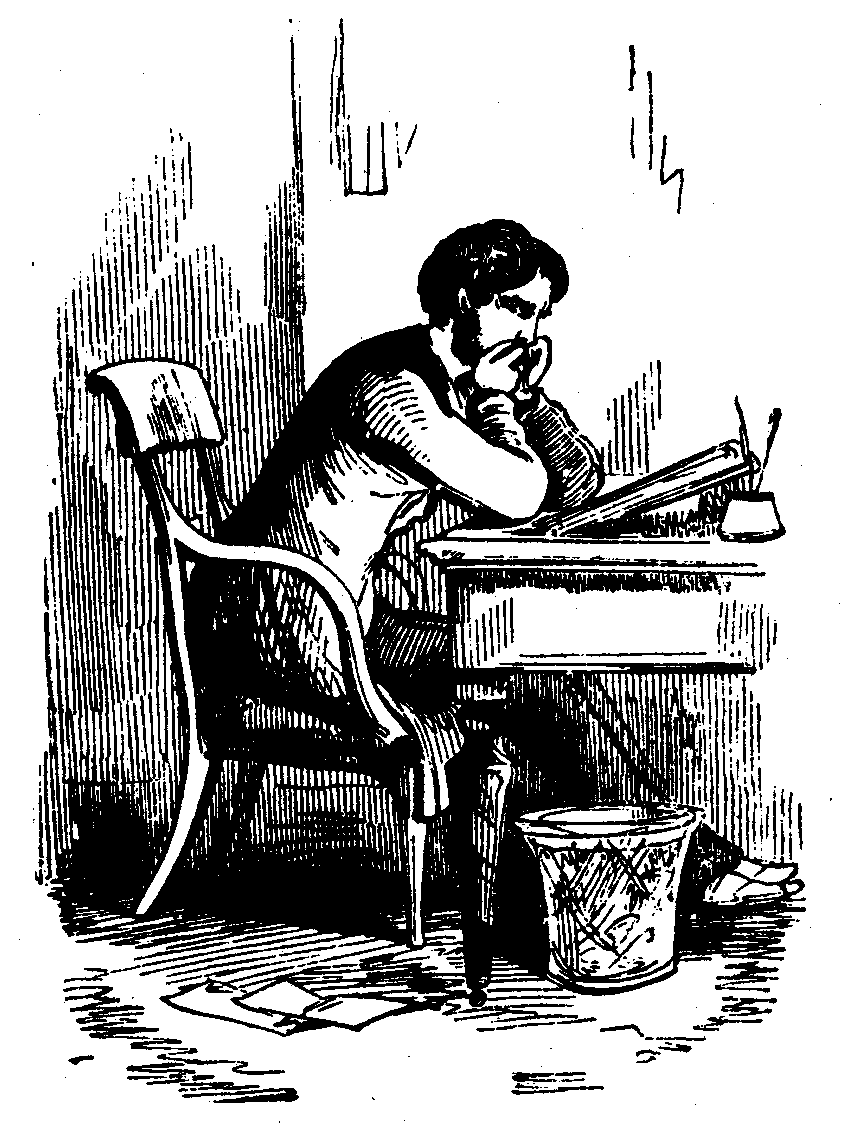 Ну что вы, не нужно преувеличивать, слышу я в ответ, не так уж тяжела
жизнь молодого преуспевающего адвоката. Неужто она в самом деле казалась вам
такой ужасной и так претила вам? Не сами ли вы себя настраиваете и
прибегаете к излишне сильным выражениям? Нет, не прибегаю. Я ненавидел это
поприще. И на работе, и в часы досуга я был безмерно несчастен и раздавлен
собственной никчемностью. Не знаю, сумею ли я вам передать особое ощущение
тех лет, но сам я помню его всем своим существом. Без всякого усилия я вновь
переношусь в эту комнату, в Хейр-Корт, в Миддл-Темпл, где я учился у некоего
Уильяма Тэпрелла; вот я стою за высокой адвокатской конторкой и, тупо
уставясь в какой-то юридический документ, пытаюсь вникнуть в его смысл,
зеваю до потери сознания и выискиваю первый попавшийся предлог, дабы
покинуть свой пост и улизнуть к "клиенту". Дорогу от комнат, где я жил в
Эссекс-Корте, до конторы я ежеутренне отмерял свинцовыми шагами, страшась
минуты, когда завершу ее и снова буду заперт в душном помещении, где треск
огня в камине и спертость воздуха нарушаются лишь бесконечным шорохом
листаемых страниц да легким перешептыванием адвокатов. Занятно, что подумал
клерк, унаследовавший мой стол у Тэпрелла, набитый рисунками и шаржами? Вы
улыбнетесь, какие это тяготы! Поверьте, скука - худшая из тягот, хуже
физической работы, хуже хлыста надсмотрщика, она парализует душу и тело,
хотя последнее и более выносливо. Нет ремесла бездушнее, чем ремесло юриста.
Судейский жаргон способен засушить самую страстную историю; как часто,
изучая за конторкой иск, возбужденный против какого-либо совратителя
невинной девы, я буквально через несколько строк всех этих улик, примет и
обстоятельств полностью лишался интереса к столь занимательному
происшествию. В конторе мистера Тэпрелла велось множество дел, большинство
их по самой своей природе были гораздо прозаичнее уже с самого начала, и я
заметил, что от частого употребления очень сроднился с юридическими штампами
и они просочились в мою повседневную речь. Я понял, что за три-четыре года
стану таким же осторожным, циничным и издерганным, как вся эта лицемерная,
изворотливая братия, и такое будущее ничуть меня не радовало. Что думал обо
мне мистер Тэпрелл? Догадаться нетрудно. Скорее всего, посмеивался про себя
над моими дерзкими замашками, понимая, что время и дело меня от них излечат.
Несомненно, он меня недолюбливал: в те времена у меня была несносная
привычка считать всех окружающих дураками, прошло немало времени, прежде чем
я понял, что старшие лучше моего разбираются в работе. Вряд ли я трудился
скрывать свои чувства, да и могли ли ему нравиться мои частые прогулы?
Вначале я позволял их себе в виде исключения, но мало-помалу осмелел и стал
не только регулярно появляться позже, но и не появляться вовсе и часто
отлучаться днем; с невероятной поспешностью сунув под мышку пачку бумаг, я
притворялся, будто спешу дать консультацию клиенту по делу чрезвычайной
важности. Этот маневр никого не мог обмануть - за недостатком опыта к
клиентам меня не посылали, мне надлежало отрабатывать свою науку писарским
трудом, но меня никто не останавливал. Должно быть, все считали, что в
положенное время я сам себе сломаю шею, а скорее всего, я был им
безразличен. Меня предоставляли моим хитростям, и я научился сносно коротать
время. Наверное, я проводил бы так восемь месяцев в году, вразвалку двигаясь
по жизни, - впереди расстилалась бескрайняя, однообразная равнина. Этого
оказалось довольно, чтоб привести меня сами понимаете куда.
Ну что вы, не нужно преувеличивать, слышу я в ответ, не так уж тяжела
жизнь молодого преуспевающего адвоката. Неужто она в самом деле казалась вам
такой ужасной и так претила вам? Не сами ли вы себя настраиваете и
прибегаете к излишне сильным выражениям? Нет, не прибегаю. Я ненавидел это
поприще. И на работе, и в часы досуга я был безмерно несчастен и раздавлен
собственной никчемностью. Не знаю, сумею ли я вам передать особое ощущение
тех лет, но сам я помню его всем своим существом. Без всякого усилия я вновь
переношусь в эту комнату, в Хейр-Корт, в Миддл-Темпл, где я учился у некоего
Уильяма Тэпрелла; вот я стою за высокой адвокатской конторкой и, тупо
уставясь в какой-то юридический документ, пытаюсь вникнуть в его смысл,
зеваю до потери сознания и выискиваю первый попавшийся предлог, дабы
покинуть свой пост и улизнуть к "клиенту". Дорогу от комнат, где я жил в
Эссекс-Корте, до конторы я ежеутренне отмерял свинцовыми шагами, страшась
минуты, когда завершу ее и снова буду заперт в душном помещении, где треск
огня в камине и спертость воздуха нарушаются лишь бесконечным шорохом
листаемых страниц да легким перешептыванием адвокатов. Занятно, что подумал
клерк, унаследовавший мой стол у Тэпрелла, набитый рисунками и шаржами? Вы
улыбнетесь, какие это тяготы! Поверьте, скука - худшая из тягот, хуже
физической работы, хуже хлыста надсмотрщика, она парализует душу и тело,
хотя последнее и более выносливо. Нет ремесла бездушнее, чем ремесло юриста.
Судейский жаргон способен засушить самую страстную историю; как часто,
изучая за конторкой иск, возбужденный против какого-либо совратителя
невинной девы, я буквально через несколько строк всех этих улик, примет и
обстоятельств полностью лишался интереса к столь занимательному
происшествию. В конторе мистера Тэпрелла велось множество дел, большинство
их по самой своей природе были гораздо прозаичнее уже с самого начала, и я
заметил, что от частого употребления очень сроднился с юридическими штампами
и они просочились в мою повседневную речь. Я понял, что за три-четыре года
стану таким же осторожным, циничным и издерганным, как вся эта лицемерная,
изворотливая братия, и такое будущее ничуть меня не радовало. Что думал обо
мне мистер Тэпрелл? Догадаться нетрудно. Скорее всего, посмеивался про себя
над моими дерзкими замашками, понимая, что время и дело меня от них излечат.
Несомненно, он меня недолюбливал: в те времена у меня была несносная
привычка считать всех окружающих дураками, прошло немало времени, прежде чем
я понял, что старшие лучше моего разбираются в работе. Вряд ли я трудился
скрывать свои чувства, да и могли ли ему нравиться мои частые прогулы?
Вначале я позволял их себе в виде исключения, но мало-помалу осмелел и стал
не только регулярно появляться позже, но и не появляться вовсе и часто
отлучаться днем; с невероятной поспешностью сунув под мышку пачку бумаг, я
притворялся, будто спешу дать консультацию клиенту по делу чрезвычайной
важности. Этот маневр никого не мог обмануть - за недостатком опыта к
клиентам меня не посылали, мне надлежало отрабатывать свою науку писарским
трудом, но меня никто не останавливал. Должно быть, все считали, что в
положенное время я сам себе сломаю шею, а скорее всего, я был им
безразличен. Меня предоставляли моим хитростям, и я научился сносно коротать
время. Наверное, я проводил бы так восемь месяцев в году, вразвалку двигаясь
по жизни, - впереди расстилалась бескрайняя, однообразная равнина. Этого
оказалось довольно, чтоб привести меня сами понимаете куда.
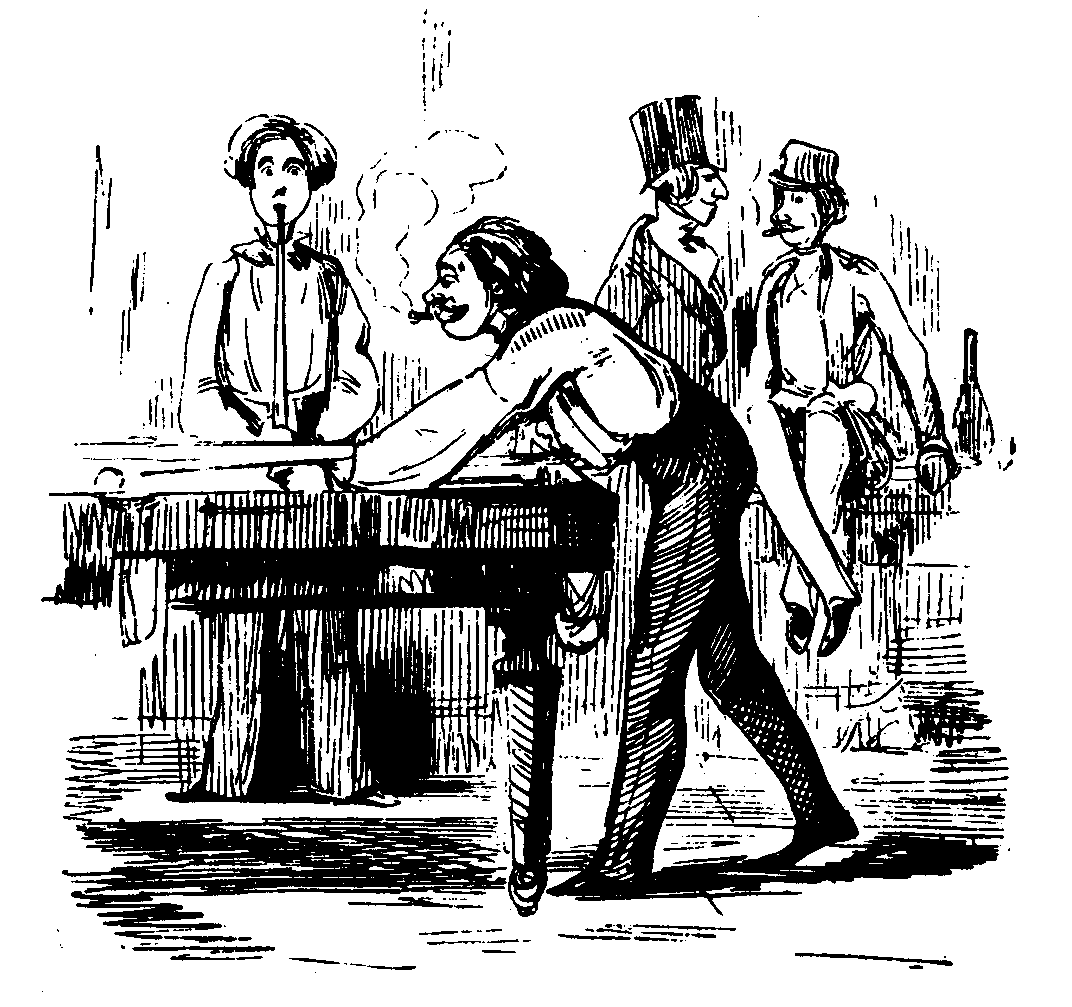 В те дни дом номер шестьдесят по Ридженс-Квадрант наиболее полно
воплощал мою идею ада. Там собирались прожженные игроки для своего
прискорбного занятия, и после отупляющего дня в конторе меня туда влекло
неудержимо. Причина вам понятна - эмоциональная встряска была для меня что
пища голодному, а что могло подействовать сильнее, чем игра? Возбуждала она
меня чудовищно, идти туда мне не хотелось, мне отвратительно было тамошнее
общество, я не испытывал ни малейшего веселья, только привычное сосущее
чувство пустоты, когда проигрывал или выигрывал. На сей раз матушка
оказалась права насчет дурной компании. Она, действительно, была дурная,
весьма дурная и состояла едва ли не из одних профессиональных игроков. Рядом
с этими регулярными визитами мои кембриджские вылазки выглядели детскими
шалостями, к тому же они уравновешивались более разумной деятельностью,
которой я не пренебрегал тогда. В Лондоне же, если я не торчал в конторе, я
вливался в толпы праздношатающихся или, по более изящному выражению того
времени, фланирующих джентльменов - легкую добычу дьявола. Я тосковал по
кембриджским друзьям, по их теплому кругу, который так легкомысленно
оставил. Порой я приезжал к ним, и их горячее радушие терзало мне сердце.
Что я наделал, что я натворил? Разве жар дружеских объятий, счастливое
волненье голосов и чувство, что я среди своих, не стоят каких угодно мук над
алгеброй? Когда меня, в свою очередь, проведывал Фицджералд, я был не в
силах отпустить его, а отпустив, терзался настоящим горем и с болью глядел
на оставшуюся после него тарелку, в какое отчаяние я приходил от каждой
встречи! Кружа по Лондону, чтоб не приближаться к дому номер шестьдесят, я
сотни раз спрашивал себя, зачем я это сделал. Что алгебра, что право, мне
было безразлично, а если говорить о людях, Кембридж был несравненно лучше
Лондона.
Сейчас, когда Лондон мне кажется самым родным городом на свете, когда я
не могу ступить и шагу по его улицам, не встретив доброго знакомого, трудно
поверить, каким бескрайним одиночеством я в нем тогда терзался. Огромный
город полон жителей, все они с самым решительным видом спешат по своим
делам, в нем очень трудно завязать знакомство. Не забывайте, у меня тут
почти никого не было, родители жили тогда в Девоншире, и я не состоял ни в
одном клубе. Дядя Фрэнк исправно и, как я сейчас понимаю, слишком часто
приглашал меня обедать, но что было делать великовозрастному, почти
совершеннолетнему молодому человеку на стариковских, чопорных обедах? Я ждал
хорошеньких надушенных записок от прекрасных дам и приглашений пожаловать на
званый вечер, но мне их не присылали, да я и не знал ни одной дамы -
жестокое лишение после Веймара. Теперь, отказываясь от приглашения
какой-нибудь очаровательной хозяйки, которая дает очередной бал или ужин, я
часто думаю, какое это расточительство, ведь сотни неприкаянных юнцов,
слоняющихся на улицах Лондона, запродали бы душу за клочок бумаги, небрежно
мной отправленный в камин. В те времена, бесцельно шатаясь вокруг театров,
кафе и клубов, я утешал себя тем, что когда-нибудь окажусь в самом центре
этой пленявшей меня жизни. Пожалуй, так оно и вышло, и долгое время она меня
очень занимала, но сейчас не трогает, и я хочу предупредить юнцов на улицах,
чтобы они не мучились понапрасну из-за того, что не приносит счастья.
Не думайте, будто я не знал иных увеселений, кроме карточной игры,
ничуть не бывало: я часто посещал театры, заглядывал с приятелями,
заменявшими мне кембриджских друзей, в недорогие ресторанчики, видел Макреди
во всех стоящих ролях, слушал Брейема, ел и пил на славу. Перелистывая
дневник, я дивлюсь заполненности тех дней, но знаю, что за этой видимой
активностью скрывается совсем иное: изо дня в день я слонялся по
Кенсингтонскому саду, уписывал печенье лежа на диване, а то и просто спал.
Живя среди большого мира, я не составлял с ним целого, жужжа вместе с
другими пчелами, я лишь летал по кругу. Сознание, что многие мои сверстники
уже выходят в люди, лишь усугубляло это ощущение: пока я ковылял неведомо в
какую сторону, они упорно строили карьеру. Знакомо ли вам это чувство,
читатель, нет, не зависти, а ужаса и изумления? Мы, неудачники, не хотим
верить, что имярек не плутовал и не имел сомнительных преимуществ, мы шумно
напираем на его удачливость, хоть знаем про себя, что вовсе не удачливость,
а упорство и усердие вывели его в люди. В молодости трудно дается
великодушное признание чужих заслуг, но кажется, я преодолел свой стыд и
зависть и отдал должное их славе.
Чарлз Буллер являл собой точно такой пример ошеломляющего трудолюбия.
Бедный Чарлз, тебе уже не узнать, какие чувства ты внушал мне! Буллер был
немногим старше меня, но уже входил в парламент и, как мы все считали,
твердо шел в гору к высочайшим почестям. Я не мог удержаться от угрюмого
сопоставления с ним, а так как мы были схожи внешне: оба с перебитыми носами
и крупные - более шести футов росту, - нас сравнивали и другие. Чарлз уже
учился в Тринити, когда я осчастливил своим появлением порталы этого
заведения, в отличие от меня он упорно занимался, стяжал награды и даже
председательствовал в студенческом союзе. Он был замечательный оратор -
можете себе представить, какие муки доставляло мне сравнение наших
достоинств, - и неотразимый человек. Его уж нет, бедного Чарлза, блестящие
надежды его юности остались несвершенными, а мы, не стоившие его мизинца,
живем, чтоб помнить и скорбеть. Я было хотел позабавить вас рассказом о том,
как однажды агитировал за Чарлза, какое то было сумасбродное, дурацкое
мероприятие и как я при этом веселился, но нет, это не имеет смысла. Не
стоит ворошить прошлое, которого не воскресить, подробностями ничего тут не
прибавишь: Чарлз Буллер и другие юноши моего возраста прекрасно учились и
достойно участвовали в жизни мира, а я был никто и ничто, и дело шло к тому,
что таковым и останусь. Все свое время я проводил в мечтах о славе и в
полном бездействии - слонялся и почитывал романы. Все, что касалось
государственных дел, проходило мимо меня, правда, однажды вечером я, помню,
отправился к Палате лордов посмотреть на их разъезд после чтения билля о
реформе, понуждая себя всерьез задуматься об опасностях, угрожающих нашей
конституции. Мало-помалу я осознал, что если в семнадцать лет был не по
годам развит, то в двадцать мой кругозор был уже, чем у многих сверстников,
и от этой мысли меня жег стыд.
Одного события я ждал с великим нетерпением, я ждал 18 июля 1832 года -
дня своего совершеннолетия. Самым нелепым образом все свои надежды я
возлагал на этот день. Утром, едва проснувшись, я лежал и воображал себе,
как распоряжусь своим огромным состоянием, - учитывая скромность суммы,
которую мне впоследствии вручили, трогательно вспоминать мои планы. Я
собирался выказать распорядительность, порядочность и благоразумие;
предвкушая удовольствие, я рисовал себе, как уплачу квартирной хозяйке, -
гм-гм! - раздам долги, после чего еще останется регулярный и неистощимый
месячный доход. Кроме того, я предприму вояж-другой, какие в этом могут быть
сомнения? Голова моя была полна видениями, которые должны были претвориться
в жизнь с рассветом того волшебного дня, когда я стану сам себе хозяин. Не
было ли тут мерзкого самодовольства? Словно все мои прегрешения, весь мой
малопочтенный образ жизни проистекали от того, что у меня не было своих
денег, как если бы одна только нехватка денег мешала мне стремиться к
благородным целям. Когда наконец наступил желанный день, знаете, что я
прежде всего сделал? Взял в банке двадцать пять фунтов и закатился пировать
в Кауз, а потом направил свои стопы во Францию, чтоб провести там долгие и
полноценные каникулы.
То был роковой шаг, но слава богу, что я совершил его, иначе я бы
доныне гнил в Миддл-Темпле. Как бы я выбрался из тамошней трясины, когда
наступило разорение? Поступок этот был недопустимым, но, хоть я того не
ведал, единственно верным - раз уж мне необходимо было осознать, чего я хочу
от жизни, я выбрал лучший способ. Бегство в Париж в час совершеннолетия было
чудесным избавлением; конечно, поздно или рано я все равно бы сбежал - хоть
официально я все еще числился у Тэпрелла, я вряд ли бы у него задержался и,
безусловно, покинул бы Хейр-Корт, последовав своим природным склонностям, -
но все же без долгих каникул, предпринятых так вовремя, без предвкушения
милой моему сердцу жизни то было бы гораздо хуже. Я дважды начинал свою
карьеру и дважды от нее отказывался, продолжать так дальше было невозможно,
тем более что прогорел Индийский банк - будто специально для того, чтобы
приблизить развязку, - и ровно через год после вступления в права наследства
я лишился своего состояния. Хотя передо мной лежит дневник, точные даты
словно затянуты дымкой, потоки разных событий сливались воедино, и их уже не
развести, поэтому я не могу точно сказать, как разделался с правом, когда
обосновался в Париже, как приняли это мои близкие и что я сам при этом
думал. Пожалуй, большую часть 1833, переломного года, когда я потерял
капитал, но обрел самого себя, - по крайней мере, так мне хочется думать, -
я провел в Париже, еще не порвав окончательно с Лондоном и правом и изо всех
сил стараясь ускорить этот процесс. Заранее планировать будущее мне не
свойственно: я склонен к долгим размышлениям и, играя мыслью о возможном
переезде, словно смакую вино, но потом - раз! - рывок и в пять минут все
кончено, решительно и бесповоротно. Это немилосердно по отношению к близким
- до них доходят лишь случайные намеки на совершающийся перелом и хаос, но в
ту пору я целиком принадлежал себе и никому не мог помешать. Как бы то ни
было, дело тогда еще не зашло так далеко, чтоб я решился громогласно заявить
о перемене места жительства и переезде в Париж со всеми своими пожитками,
все совершалось исподволь - я сновал туда-сюда и жил как придется. Узнав об
этом, матушка несколько вознегодовала, но, окрыленная моими восторгами перед
новым занятием, держалась стойко, не потому, чтоб очень его одобряла, а
потому, что как-никак это было дело, я вроде был им увлечен и, кажется,
хорошо себя проявлял. Растерянная моим отказом от уважаемых профессий, она
жаждала, чтоб я нашел себя хоть в чем-нибудь, хоть как-нибудь определился.
Не все ли матери помешаны на слове "определиться"? Оно ли не ценнее, не
желаннее всех лавров в их любящих глазах? Ей так хотелось думать, что в
двадцать один год я "полностью определился", не мечусь из стороны в сторону
и больше не внушаю ей тревоги. То же самое я заметил за собой, когда дело
коснулось моих дочек, подозрение, будто я хочу их сбыть с рук - чистейший
вздор, но все-таки меня немного беспокоит, что они "не определились". Я
подавляю это чувство, но оно меня не оставляет, было бы ложью отрицать его.
Когда речь шла обо мне - редкий случай! - я склонен был согласиться с
матушкой, ведь я и сам жаждал определиться и не тревожиться о будущем. Я сам
себе не верил и все же думал про себя, что передо мной еще откроется
блистательное будущее, и эти мысли повергали меня в трепет.
Я, кажется, раздразнил ваше любопытство и раздул из мухи слона, но
довольно, пора сказать, что это была за интересная работа. Да ничего
особенного - всего лишь журналистика. Тут вы, конечно, покачали головой и
отвели глаза в сторону, ибо если у писателей репутация неважная, у
журналистов она и вовсе никудышная, и без рекомендательного письма их не
следовало бы пускать в приличные дома. Прекрасно понимаю вашу точку зрения,
говорю как человек, сам тяжко пострадавший от этой братии, но все же
утверждаю, что хороший журналист, работающий в серьезном издании, играет в
нашем обществе важную роль, которую нелепо отрицать. Я говорю здесь не о
борзописцах с их злопыхательством, а о серьезных, блюдущих наши интересы
авторах, которые сообщают то, что нам полезно знать, касается ли это наших
парламентских деятелей, нового чуда искусства, доступного всеобщему
обозрению, или тяжелых условий труда рабочих. Новости любят все, зачем же
презирать тех, кто нам их доставляет? Я не стыдился журналистского труда
прежде и не стыжусь сейчас, по-моему, это дело нужное, не более других
подверженное злоупотреблениям и совершенно превосходное, когда им занимаются
талантливо и честно. Засим кончаю свое похвальное слово.
Достойный печатный орган", которому я предложил свои услуги (и кое-что
впридачу, но об этом позже), назывался "Нэшенел Стэндарт". То был
литературный журнал, открывшийся в начале 1833 года. Если вы помните, в ту
счастливую пору я был еще человеком со средствами и не должен был, как
впоследствии, продавать написанное ради пропитания. Я мог там помещать
серьезные обзоры и радоваться своему занятию, не заботясь о том, чтобы
попасть в тон, и о других подобных соображениях, а главное - меня не
подгоняло время, я мог писать старательно, без спешки. Таково было мое
вхождение в журналистику, и я придаю этому обстоятельству огромное значение
- начни я писать позже, когда мне пришлось работать ради денег, это,
наверное, повлекло бы за собой два очень вредных последствия. Во-первых, я
не стал бы обращаться в мелкие литературные журнальчики, лишь становившиеся
на ноги, которые платили очень скромно, а то и вовсе не платили, и, значит,
не осваивал бы ремесло в самых благоприятных условиях, как то было в
"Нэшенел Стэндарт", а норовил бы пробиться в первые ряды литературного
рынка, лез бы из кожи вон, чтоб нравиться, и неизбежно провалился бы.
Во-вторых, очень может быть, что мною никто бы не заинтересовался и моему
самолюбию был бы нанесен еще один сокрушительный удар. А так у меня был
энтузиазм и деньги, и в "Нэшенел Стэндарт" я был желанным автором, желаннее
других, более опытных, но работавших по более высоким ставкам и равнодушных
к публикации, тогда как я был рад услужить. Очарование росло так быстро, что
я в два счета стал владельцем и соиздателем журнала - очень крупной рыбой в
очень маленьком водоеме, вернее, журнале.
В те дни дом номер шестьдесят по Ридженс-Квадрант наиболее полно
воплощал мою идею ада. Там собирались прожженные игроки для своего
прискорбного занятия, и после отупляющего дня в конторе меня туда влекло
неудержимо. Причина вам понятна - эмоциональная встряска была для меня что
пища голодному, а что могло подействовать сильнее, чем игра? Возбуждала она
меня чудовищно, идти туда мне не хотелось, мне отвратительно было тамошнее
общество, я не испытывал ни малейшего веселья, только привычное сосущее
чувство пустоты, когда проигрывал или выигрывал. На сей раз матушка
оказалась права насчет дурной компании. Она, действительно, была дурная,
весьма дурная и состояла едва ли не из одних профессиональных игроков. Рядом
с этими регулярными визитами мои кембриджские вылазки выглядели детскими
шалостями, к тому же они уравновешивались более разумной деятельностью,
которой я не пренебрегал тогда. В Лондоне же, если я не торчал в конторе, я
вливался в толпы праздношатающихся или, по более изящному выражению того
времени, фланирующих джентльменов - легкую добычу дьявола. Я тосковал по
кембриджским друзьям, по их теплому кругу, который так легкомысленно
оставил. Порой я приезжал к ним, и их горячее радушие терзало мне сердце.
Что я наделал, что я натворил? Разве жар дружеских объятий, счастливое
волненье голосов и чувство, что я среди своих, не стоят каких угодно мук над
алгеброй? Когда меня, в свою очередь, проведывал Фицджералд, я был не в
силах отпустить его, а отпустив, терзался настоящим горем и с болью глядел
на оставшуюся после него тарелку, в какое отчаяние я приходил от каждой
встречи! Кружа по Лондону, чтоб не приближаться к дому номер шестьдесят, я
сотни раз спрашивал себя, зачем я это сделал. Что алгебра, что право, мне
было безразлично, а если говорить о людях, Кембридж был несравненно лучше
Лондона.
Сейчас, когда Лондон мне кажется самым родным городом на свете, когда я
не могу ступить и шагу по его улицам, не встретив доброго знакомого, трудно
поверить, каким бескрайним одиночеством я в нем тогда терзался. Огромный
город полон жителей, все они с самым решительным видом спешат по своим
делам, в нем очень трудно завязать знакомство. Не забывайте, у меня тут
почти никого не было, родители жили тогда в Девоншире, и я не состоял ни в
одном клубе. Дядя Фрэнк исправно и, как я сейчас понимаю, слишком часто
приглашал меня обедать, но что было делать великовозрастному, почти
совершеннолетнему молодому человеку на стариковских, чопорных обедах? Я ждал
хорошеньких надушенных записок от прекрасных дам и приглашений пожаловать на
званый вечер, но мне их не присылали, да я и не знал ни одной дамы -
жестокое лишение после Веймара. Теперь, отказываясь от приглашения
какой-нибудь очаровательной хозяйки, которая дает очередной бал или ужин, я
часто думаю, какое это расточительство, ведь сотни неприкаянных юнцов,
слоняющихся на улицах Лондона, запродали бы душу за клочок бумаги, небрежно
мной отправленный в камин. В те времена, бесцельно шатаясь вокруг театров,
кафе и клубов, я утешал себя тем, что когда-нибудь окажусь в самом центре
этой пленявшей меня жизни. Пожалуй, так оно и вышло, и долгое время она меня
очень занимала, но сейчас не трогает, и я хочу предупредить юнцов на улицах,
чтобы они не мучились понапрасну из-за того, что не приносит счастья.
Не думайте, будто я не знал иных увеселений, кроме карточной игры,
ничуть не бывало: я часто посещал театры, заглядывал с приятелями,
заменявшими мне кембриджских друзей, в недорогие ресторанчики, видел Макреди
во всех стоящих ролях, слушал Брейема, ел и пил на славу. Перелистывая
дневник, я дивлюсь заполненности тех дней, но знаю, что за этой видимой
активностью скрывается совсем иное: изо дня в день я слонялся по
Кенсингтонскому саду, уписывал печенье лежа на диване, а то и просто спал.
Живя среди большого мира, я не составлял с ним целого, жужжа вместе с
другими пчелами, я лишь летал по кругу. Сознание, что многие мои сверстники
уже выходят в люди, лишь усугубляло это ощущение: пока я ковылял неведомо в
какую сторону, они упорно строили карьеру. Знакомо ли вам это чувство,
читатель, нет, не зависти, а ужаса и изумления? Мы, неудачники, не хотим
верить, что имярек не плутовал и не имел сомнительных преимуществ, мы шумно
напираем на его удачливость, хоть знаем про себя, что вовсе не удачливость,
а упорство и усердие вывели его в люди. В молодости трудно дается
великодушное признание чужих заслуг, но кажется, я преодолел свой стыд и
зависть и отдал должное их славе.
Чарлз Буллер являл собой точно такой пример ошеломляющего трудолюбия.
Бедный Чарлз, тебе уже не узнать, какие чувства ты внушал мне! Буллер был
немногим старше меня, но уже входил в парламент и, как мы все считали,
твердо шел в гору к высочайшим почестям. Я не мог удержаться от угрюмого
сопоставления с ним, а так как мы были схожи внешне: оба с перебитыми носами
и крупные - более шести футов росту, - нас сравнивали и другие. Чарлз уже
учился в Тринити, когда я осчастливил своим появлением порталы этого
заведения, в отличие от меня он упорно занимался, стяжал награды и даже
председательствовал в студенческом союзе. Он был замечательный оратор -
можете себе представить, какие муки доставляло мне сравнение наших
достоинств, - и неотразимый человек. Его уж нет, бедного Чарлза, блестящие
надежды его юности остались несвершенными, а мы, не стоившие его мизинца,
живем, чтоб помнить и скорбеть. Я было хотел позабавить вас рассказом о том,
как однажды агитировал за Чарлза, какое то было сумасбродное, дурацкое
мероприятие и как я при этом веселился, но нет, это не имеет смысла. Не
стоит ворошить прошлое, которого не воскресить, подробностями ничего тут не
прибавишь: Чарлз Буллер и другие юноши моего возраста прекрасно учились и
достойно участвовали в жизни мира, а я был никто и ничто, и дело шло к тому,
что таковым и останусь. Все свое время я проводил в мечтах о славе и в
полном бездействии - слонялся и почитывал романы. Все, что касалось
государственных дел, проходило мимо меня, правда, однажды вечером я, помню,
отправился к Палате лордов посмотреть на их разъезд после чтения билля о
реформе, понуждая себя всерьез задуматься об опасностях, угрожающих нашей
конституции. Мало-помалу я осознал, что если в семнадцать лет был не по
годам развит, то в двадцать мой кругозор был уже, чем у многих сверстников,
и от этой мысли меня жег стыд.
Одного события я ждал с великим нетерпением, я ждал 18 июля 1832 года -
дня своего совершеннолетия. Самым нелепым образом все свои надежды я
возлагал на этот день. Утром, едва проснувшись, я лежал и воображал себе,
как распоряжусь своим огромным состоянием, - учитывая скромность суммы,
которую мне впоследствии вручили, трогательно вспоминать мои планы. Я
собирался выказать распорядительность, порядочность и благоразумие;
предвкушая удовольствие, я рисовал себе, как уплачу квартирной хозяйке, -
гм-гм! - раздам долги, после чего еще останется регулярный и неистощимый
месячный доход. Кроме того, я предприму вояж-другой, какие в этом могут быть
сомнения? Голова моя была полна видениями, которые должны были претвориться
в жизнь с рассветом того волшебного дня, когда я стану сам себе хозяин. Не
было ли тут мерзкого самодовольства? Словно все мои прегрешения, весь мой
малопочтенный образ жизни проистекали от того, что у меня не было своих
денег, как если бы одна только нехватка денег мешала мне стремиться к
благородным целям. Когда наконец наступил желанный день, знаете, что я
прежде всего сделал? Взял в банке двадцать пять фунтов и закатился пировать
в Кауз, а потом направил свои стопы во Францию, чтоб провести там долгие и
полноценные каникулы.
То был роковой шаг, но слава богу, что я совершил его, иначе я бы
доныне гнил в Миддл-Темпле. Как бы я выбрался из тамошней трясины, когда
наступило разорение? Поступок этот был недопустимым, но, хоть я того не
ведал, единственно верным - раз уж мне необходимо было осознать, чего я хочу
от жизни, я выбрал лучший способ. Бегство в Париж в час совершеннолетия было
чудесным избавлением; конечно, поздно или рано я все равно бы сбежал - хоть
официально я все еще числился у Тэпрелла, я вряд ли бы у него задержался и,
безусловно, покинул бы Хейр-Корт, последовав своим природным склонностям, -
но все же без долгих каникул, предпринятых так вовремя, без предвкушения
милой моему сердцу жизни то было бы гораздо хуже. Я дважды начинал свою
карьеру и дважды от нее отказывался, продолжать так дальше было невозможно,
тем более что прогорел Индийский банк - будто специально для того, чтобы
приблизить развязку, - и ровно через год после вступления в права наследства
я лишился своего состояния. Хотя передо мной лежит дневник, точные даты
словно затянуты дымкой, потоки разных событий сливались воедино, и их уже не
развести, поэтому я не могу точно сказать, как разделался с правом, когда
обосновался в Париже, как приняли это мои близкие и что я сам при этом
думал. Пожалуй, большую часть 1833, переломного года, когда я потерял
капитал, но обрел самого себя, - по крайней мере, так мне хочется думать, -
я провел в Париже, еще не порвав окончательно с Лондоном и правом и изо всех
сил стараясь ускорить этот процесс. Заранее планировать будущее мне не
свойственно: я склонен к долгим размышлениям и, играя мыслью о возможном
переезде, словно смакую вино, но потом - раз! - рывок и в пять минут все
кончено, решительно и бесповоротно. Это немилосердно по отношению к близким
- до них доходят лишь случайные намеки на совершающийся перелом и хаос, но в
ту пору я целиком принадлежал себе и никому не мог помешать. Как бы то ни
было, дело тогда еще не зашло так далеко, чтоб я решился громогласно заявить
о перемене места жительства и переезде в Париж со всеми своими пожитками,
все совершалось исподволь - я сновал туда-сюда и жил как придется. Узнав об
этом, матушка несколько вознегодовала, но, окрыленная моими восторгами перед
новым занятием, держалась стойко, не потому, чтоб очень его одобряла, а
потому, что как-никак это было дело, я вроде был им увлечен и, кажется,
хорошо себя проявлял. Растерянная моим отказом от уважаемых профессий, она
жаждала, чтоб я нашел себя хоть в чем-нибудь, хоть как-нибудь определился.
Не все ли матери помешаны на слове "определиться"? Оно ли не ценнее, не
желаннее всех лавров в их любящих глазах? Ей так хотелось думать, что в
двадцать один год я "полностью определился", не мечусь из стороны в сторону
и больше не внушаю ей тревоги. То же самое я заметил за собой, когда дело
коснулось моих дочек, подозрение, будто я хочу их сбыть с рук - чистейший
вздор, но все-таки меня немного беспокоит, что они "не определились". Я
подавляю это чувство, но оно меня не оставляет, было бы ложью отрицать его.
Когда речь шла обо мне - редкий случай! - я склонен был согласиться с
матушкой, ведь я и сам жаждал определиться и не тревожиться о будущем. Я сам
себе не верил и все же думал про себя, что передо мной еще откроется
блистательное будущее, и эти мысли повергали меня в трепет.
Я, кажется, раздразнил ваше любопытство и раздул из мухи слона, но
довольно, пора сказать, что это была за интересная работа. Да ничего
особенного - всего лишь журналистика. Тут вы, конечно, покачали головой и
отвели глаза в сторону, ибо если у писателей репутация неважная, у
журналистов она и вовсе никудышная, и без рекомендательного письма их не
следовало бы пускать в приличные дома. Прекрасно понимаю вашу точку зрения,
говорю как человек, сам тяжко пострадавший от этой братии, но все же
утверждаю, что хороший журналист, работающий в серьезном издании, играет в
нашем обществе важную роль, которую нелепо отрицать. Я говорю здесь не о
борзописцах с их злопыхательством, а о серьезных, блюдущих наши интересы
авторах, которые сообщают то, что нам полезно знать, касается ли это наших
парламентских деятелей, нового чуда искусства, доступного всеобщему
обозрению, или тяжелых условий труда рабочих. Новости любят все, зачем же
презирать тех, кто нам их доставляет? Я не стыдился журналистского труда
прежде и не стыжусь сейчас, по-моему, это дело нужное, не более других
подверженное злоупотреблениям и совершенно превосходное, когда им занимаются
талантливо и честно. Засим кончаю свое похвальное слово.
Достойный печатный орган", которому я предложил свои услуги (и кое-что
впридачу, но об этом позже), назывался "Нэшенел Стэндарт". То был
литературный журнал, открывшийся в начале 1833 года. Если вы помните, в ту
счастливую пору я был еще человеком со средствами и не должен был, как
впоследствии, продавать написанное ради пропитания. Я мог там помещать
серьезные обзоры и радоваться своему занятию, не заботясь о том, чтобы
попасть в тон, и о других подобных соображениях, а главное - меня не
подгоняло время, я мог писать старательно, без спешки. Таково было мое
вхождение в журналистику, и я придаю этому обстоятельству огромное значение
- начни я писать позже, когда мне пришлось работать ради денег, это,
наверное, повлекло бы за собой два очень вредных последствия. Во-первых, я
не стал бы обращаться в мелкие литературные журнальчики, лишь становившиеся
на ноги, которые платили очень скромно, а то и вовсе не платили, и, значит,
не осваивал бы ремесло в самых благоприятных условиях, как то было в
"Нэшенел Стэндарт", а норовил бы пробиться в первые ряды литературного
рынка, лез бы из кожи вон, чтоб нравиться, и неизбежно провалился бы.
Во-вторых, очень может быть, что мною никто бы не заинтересовался и моему
самолюбию был бы нанесен еще один сокрушительный удар. А так у меня был
энтузиазм и деньги, и в "Нэшенел Стэндарт" я был желанным автором, желаннее
других, более опытных, но работавших по более высоким ставкам и равнодушных
к публикации, тогда как я был рад услужить. Очарование росло так быстро, что
я в два счета стал владельцем и соиздателем журнала - очень крупной рыбой в
очень маленьком водоеме, вернее, журнале.
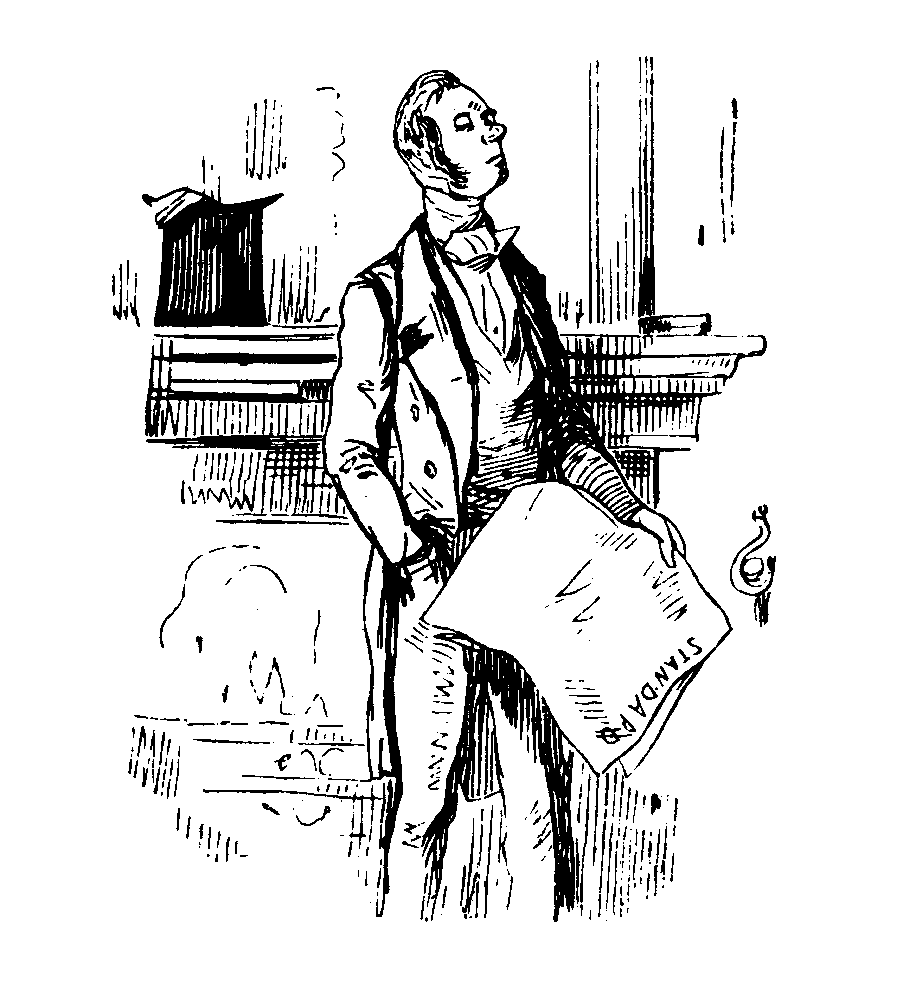 Если вы заподозрили - я ничего подобного пока не говорил, - что я купил
журнал, чтобы создать себе удобные условия, вы угадали, не отрицаю, но и не
вижу тут ничего зазорного. Я был одержим зудом издательской деятельности, а
есть ли лучший способ испытать свои силы? Газеты и журналы всегда меня
интересовали, я знал и скупал их все и с давних пор тешил себя мыслью, что
буду участвовать в издательском деле или в типографском производстве,
которое привлекало меня ничуть не меньше. Вас это удивляет? Значит, вам
неизвестно, как занимательно выпускать газету. Она сама собой не попадает в
ваш почтовый ящик, буквы не проступают сами на страницах, бумагу кто-то
разрезает и пакует в связки, рисунки печатают, а не наносят вручную в каждый
отдельный экземпляр, - процесс этот невероятно сложен и отлично слажен, я и
доныне удивляюсь, как он вообще совершается, да еще так быстро. Однажды в
Лондоне - я и сейчас помню, было то в среду вечером, - мой друг Уильям
Мэгинн привел меня в "Стэндарт" и посвятил в вышеописанные тайны,
воспламенив желанием немедленно применить их на практике. Сам Мэгинн владел
ими мастерски, в чем крылась немалая доля его очарования, он был гораздо
старше меня и покорил тем, что помог наладить выпуск "Фрейзерз Мэгэзин", в
который я посылал тайком статьи, с порога отвергаемые редакцией; признаюсь,
Мэгинн одно время был моим кумиром, я восторженно внимал каждому его слову и
жаждал одобрения. Он мне казался невероятно умным и остроумным, и я охотно
прощал ему приверженность к бутылке и к определенного сорта женщинам, а
заодно и прочие грехи, превращавшие его в неподходящую компанию для
простодушного молодого человека. Что могло быть естественней, если этому
самому Мэгинну я платил, чтобы он помог мне с журналом? С моей стороны было
рвение и деньги, с его - опыт, то был идеальный союз.
"Нэшенел Стандарт" удерживал меня в Лондоне, тогда как душа рвалась в
Париж. Я чувствовал, что если бы измыслил способ жить в Париже и выпускать
журнал в Лондоне, был бы совершенно счастлив, и убедил себя, что выдвинуться
в первые ряды моему изданию поможет парижский корреспондент, на каковую
должность я предложил самого себя и благосклонно принял вышеозначенную
кандидатуру. "Нэшенел Стэндарт" выходил каждое субботнее утро под надзором
Томаса Херста, проживающего в доме э 65 на Сент-Полз Черч-ярд, а также
своего парижского корреспондента, либо без непосредственного участия этого
последнего, но неизменно с его многочисленными материалами. Я был уверен,
что очень скоро мы заткнем за пояс "Фрейзерз", будем наперебой отказывать
маститым авторам, искать большее помещение и тому подобное. Тогда
выпускалось много журналов, как, впрочем, и сейчас, но отчего им всем не
процветать, думал я, если им хватает капитала? Капитал - то было решающее
обстоятельство. Теперь, когда у меня за плечами опыт издания крупного
журнала, я сознаю, как тщетны были мои упования. Я не понимал значения
капитала. Капитал - вот что губит молодых людей, его у них обычно нет, и
важности его они не понимают, им кажется, что можно возместить его трудом,
усердием и вкусом, но возместить его нельзя ничем. Если вы затеваете
печатный орган, запаситесь средствами, чтоб продержаться хотя бы полгода, не
рассчитывая выручить ни пенни, да-да, ни единого пенни. Вы мне не верите,
вам страшно? Тогда не затевайте дела. Какую бы цену за номер вы ни
назначили, расходы будут огромны. Если вы хотите, чтоб журнал стоил дешево,
необходима массовость, которой поначалу не добьешься, а если и добьешься,
полагаться на нее нельзя, поэтому приходится растягивать капитал, чтобы, не
повышая цены на номер, платить наборщику, покупать бумагу и выдавать
жалованье штату.
Ничего этого я не знал, хоть, должен признаться, Мэгинн и другие
пытались просветить меня, но дело казалось мне заманчивым, и трудности
ничего не меняли, но только до тех пор, пока во время краха Индийского банка
они не обрели дар речи, стремительной и страшной. Я понимал, что вся моя
жизнь поставлена на карту, и это было невыносимо: не успел я обрести милое
моему сердцу, приличное, возможно, даже выгодное дело, как снова был
низвергнут в пустоту. Мог ли "Нэшенел Стэндарт" выстоять благодаря своим
достоинствам да еще и содержать парижского корреспондента? Нет, это было
невозможно. Что ж собирался предпринять сей почтенный джентльмен? Важнее
всего ему было остаться в Париже, только это его и занимало - я полагал, что
жребий брошен, брошен вновь. Я решил не уезжать из Парижа, расшибиться в
лепешку, но выдержать. Я стану скромным студентом-живописцем, поселюсь среди
людей, равнодушных к бедности, оставлю на время журналистику. Я пробовал
взглянуть на мрачную тучу со стороны ее серебряной изнанки и радоваться
приобщению к искусству. Ведь я всегда хотел учиться живописи, не правда ли?
Теперь крах другого начинания и навалившееся безденежье вернули меня к этой
мечте, возможно, оно и к лучшему. Конечно, я не формулировал себе всего так
ясно, но помню, что не был чересчур подавлен или сломлен и неожиданную
перемену перенес довольно бодро.
Когда внезапно рушится привычный образ жизни, вам требуется время, чтоб
выработать новый, особенно если у вас нет склонности к рутине. Из тех ли вы,
кто подымается в семь тридцать, съедает завтрак в восемь, уходит на работу в
девять, в час удаляется на ленч, в пять отправляется домой, в шесть обедает,
а в половине двенадцатого укладывается в постель, и так - изо дня в день с
завидным постоянством? Вам очень неуютно, если вы не садитесь каждое утро на
привычное место в омнибусе или за тот же самый столик в ресторане, в котором
вы едите свой отличный ленч? В таком случае вы заблаговременно договорились,
где проведете следующий отпуск, за полгода вперед заказали билеты на
рождественскую пантомиму и своих детей еще в грудном возрасте записали в
школу. Я знаю, что на свете миллионы людей такого склада, и не могу не
верить в их существование лишь оттого, что мне такой режим не по нутру. Не
сомневаюсь, что в жизни по часам есть свои достоинства, что это полезно и
мудро, но я б ее не вынес. Единственное, с чем я сумел себя связать, - это с
домом, в который я ежевечерне возвращаюсь, да и то, если оказываюсь
неподалеку. Я ненавижу монотонность и очень ценю разнообразие, даже когда
оно приносит усталость и изнеможение. Не знаю, характер ли привел меня к
рассеянному образу жизни, в том числе и семейной, обстоятельства ли внесли в
мой быт горячку, но я усвоил ее поступь. Тогда, в 1834 году, в Париже я не
без ужаса заметил, что в мою жизнь вползает однообразие, и тотчас
взбунтовался. Прежний лихорадочный темп, когда я сновал туда-сюда и хватался
за все интересные дела сразу, постепенно сменился размеренным существованием
- я жил вместе с бабушкой - и регулярными посещениями мастерской, куда я
являлся с аккуратностью клерка.
Сказать по правде, мы с бабушкой всегда были несовместимы, и было
заранее ясно, что с моей стороны чистейшее безумие соглашаться на жизнь под
одной крышей, но первое, что я усвоил после разорения: нищие не выбирают. Я
не был нищим в буквальном смысле слова, но денег у меня было очень мало, а у
бабушки очень много, и только помешанный отказался бы от такого выгодного
предложения. Однако, как и все выгодные предложения, оно себя не оправдало.
Совместная жизнь с родственниками никогда себя не оправдывает, безразлично,
гость вы или хозяин. Я жил с бабушкой и ненавидел свою зависимость, жил с
родителями и умирал от скуки, жил с тещей и чуть было не наложил на себя
руки, жил с кузиной и доходил до ярости. По-моему, лучше спать под
железнодорожным мостом, чем утопать в роскоши в доме у родственников.
Наверное, тут дело в том, что мера обязательной вежливости вступает в
вопиющее противоречие с мерой допускаемой фамильярности. Вконец рассориться
с родственниками, с которыми вы до конца дней связаны нерасторжимыми узами
крови, невозможно, даже если вы сгоряча сказали им все то, что обычно вслух
не говорится, - они все равно приедут к вам снова, и это очень утомительно.
Позврослев, я стал держаться жестче с немилой моему сердцу родней, но в
юности я полагал, что нужно ее терпеть. Моя бабушка, мать моей матери,
вывела бы из себя и святого. Родив мою матушку, она вторично вышла замуж и
впоследствии вернулась из Калькутты богатой вдовой, горевшей родственными
чувствами. Фамилия ее была Батлер, Хэрриет Батлер, и вряд ли вам случалось
видеть существо более взбалмошное; правда, когда я повзрослел и мне уже не
нужно было жить с ней вместе, я очень привязался к старой даме. Но даже в
Париже, предоставленный всецело ее власти, я не мог не дивиться ее твердой
решимости всегда и во всем поступать по-своему, чего бы это ей ни стоило.
Жить вместе с Хэрриет Батлер означало плясать под ее дудку и все тут.
Тирания ее распространялась не только на то, когда и что вам есть, на какой
стул сесть, открыть или закрыть окно, но главное и самое небезопасное - на
вашу душу. Бабушка считала, что, предоставляя мне кров и стол, приобретает
право знать все, что я делаю и даже думаю. Я бы охотно делился с ней своими
мыслями, если бы она не требовала, чтобы они в точности повторяли ее
собственные. Всякий раз мы спорили из-за совершенных пустяков; из уважения к
ее возрасту и положению я старался сдерживаться, и ей поэтому казалось, что
она выигрывает в каждом раунде. Вначале мы поселились на улице Луи-ле-Гран,
можете себе вообразить, как мы развлекали окружающих: бабушку нимало не
заботило, слышат ли ее посторонние, напротив, аудитория лишь прибавляла ей
задору, но сковывала и смущала ее бедного внука. Я корчился под ударами ее
словесного бича и сжимался от публичного выражения гнева. Не думайте, что я
мирился со своим унизительным положением из-за денег, ничего подобного, -
просто за ревом бури я различал тепло и доброту, которых она почему-то не
умела высказать, и вряд ли я тут ошибался. В конечном счете, она была
хорошая женщина, но не спускала дуракам, которых вокруг нее водилось
множество, и по ошибке приняла меня за одного из них.
Если вы заподозрили - я ничего подобного пока не говорил, - что я купил
журнал, чтобы создать себе удобные условия, вы угадали, не отрицаю, но и не
вижу тут ничего зазорного. Я был одержим зудом издательской деятельности, а
есть ли лучший способ испытать свои силы? Газеты и журналы всегда меня
интересовали, я знал и скупал их все и с давних пор тешил себя мыслью, что
буду участвовать в издательском деле или в типографском производстве,
которое привлекало меня ничуть не меньше. Вас это удивляет? Значит, вам
неизвестно, как занимательно выпускать газету. Она сама собой не попадает в
ваш почтовый ящик, буквы не проступают сами на страницах, бумагу кто-то
разрезает и пакует в связки, рисунки печатают, а не наносят вручную в каждый
отдельный экземпляр, - процесс этот невероятно сложен и отлично слажен, я и
доныне удивляюсь, как он вообще совершается, да еще так быстро. Однажды в
Лондоне - я и сейчас помню, было то в среду вечером, - мой друг Уильям
Мэгинн привел меня в "Стэндарт" и посвятил в вышеописанные тайны,
воспламенив желанием немедленно применить их на практике. Сам Мэгинн владел
ими мастерски, в чем крылась немалая доля его очарования, он был гораздо
старше меня и покорил тем, что помог наладить выпуск "Фрейзерз Мэгэзин", в
который я посылал тайком статьи, с порога отвергаемые редакцией; признаюсь,
Мэгинн одно время был моим кумиром, я восторженно внимал каждому его слову и
жаждал одобрения. Он мне казался невероятно умным и остроумным, и я охотно
прощал ему приверженность к бутылке и к определенного сорта женщинам, а
заодно и прочие грехи, превращавшие его в неподходящую компанию для
простодушного молодого человека. Что могло быть естественней, если этому
самому Мэгинну я платил, чтобы он помог мне с журналом? С моей стороны было
рвение и деньги, с его - опыт, то был идеальный союз.
"Нэшенел Стандарт" удерживал меня в Лондоне, тогда как душа рвалась в
Париж. Я чувствовал, что если бы измыслил способ жить в Париже и выпускать
журнал в Лондоне, был бы совершенно счастлив, и убедил себя, что выдвинуться
в первые ряды моему изданию поможет парижский корреспондент, на каковую
должность я предложил самого себя и благосклонно принял вышеозначенную
кандидатуру. "Нэшенел Стэндарт" выходил каждое субботнее утро под надзором
Томаса Херста, проживающего в доме э 65 на Сент-Полз Черч-ярд, а также
своего парижского корреспондента, либо без непосредственного участия этого
последнего, но неизменно с его многочисленными материалами. Я был уверен,
что очень скоро мы заткнем за пояс "Фрейзерз", будем наперебой отказывать
маститым авторам, искать большее помещение и тому подобное. Тогда
выпускалось много журналов, как, впрочем, и сейчас, но отчего им всем не
процветать, думал я, если им хватает капитала? Капитал - то было решающее
обстоятельство. Теперь, когда у меня за плечами опыт издания крупного
журнала, я сознаю, как тщетны были мои упования. Я не понимал значения
капитала. Капитал - вот что губит молодых людей, его у них обычно нет, и
важности его они не понимают, им кажется, что можно возместить его трудом,
усердием и вкусом, но возместить его нельзя ничем. Если вы затеваете
печатный орган, запаситесь средствами, чтоб продержаться хотя бы полгода, не
рассчитывая выручить ни пенни, да-да, ни единого пенни. Вы мне не верите,
вам страшно? Тогда не затевайте дела. Какую бы цену за номер вы ни
назначили, расходы будут огромны. Если вы хотите, чтоб журнал стоил дешево,
необходима массовость, которой поначалу не добьешься, а если и добьешься,
полагаться на нее нельзя, поэтому приходится растягивать капитал, чтобы, не
повышая цены на номер, платить наборщику, покупать бумагу и выдавать
жалованье штату.
Ничего этого я не знал, хоть, должен признаться, Мэгинн и другие
пытались просветить меня, но дело казалось мне заманчивым, и трудности
ничего не меняли, но только до тех пор, пока во время краха Индийского банка
они не обрели дар речи, стремительной и страшной. Я понимал, что вся моя
жизнь поставлена на карту, и это было невыносимо: не успел я обрести милое
моему сердцу, приличное, возможно, даже выгодное дело, как снова был
низвергнут в пустоту. Мог ли "Нэшенел Стэндарт" выстоять благодаря своим
достоинствам да еще и содержать парижского корреспондента? Нет, это было
невозможно. Что ж собирался предпринять сей почтенный джентльмен? Важнее
всего ему было остаться в Париже, только это его и занимало - я полагал, что
жребий брошен, брошен вновь. Я решил не уезжать из Парижа, расшибиться в
лепешку, но выдержать. Я стану скромным студентом-живописцем, поселюсь среди
людей, равнодушных к бедности, оставлю на время журналистику. Я пробовал
взглянуть на мрачную тучу со стороны ее серебряной изнанки и радоваться
приобщению к искусству. Ведь я всегда хотел учиться живописи, не правда ли?
Теперь крах другого начинания и навалившееся безденежье вернули меня к этой
мечте, возможно, оно и к лучшему. Конечно, я не формулировал себе всего так
ясно, но помню, что не был чересчур подавлен или сломлен и неожиданную
перемену перенес довольно бодро.
Когда внезапно рушится привычный образ жизни, вам требуется время, чтоб
выработать новый, особенно если у вас нет склонности к рутине. Из тех ли вы,
кто подымается в семь тридцать, съедает завтрак в восемь, уходит на работу в
девять, в час удаляется на ленч, в пять отправляется домой, в шесть обедает,
а в половине двенадцатого укладывается в постель, и так - изо дня в день с
завидным постоянством? Вам очень неуютно, если вы не садитесь каждое утро на
привычное место в омнибусе или за тот же самый столик в ресторане, в котором
вы едите свой отличный ленч? В таком случае вы заблаговременно договорились,
где проведете следующий отпуск, за полгода вперед заказали билеты на
рождественскую пантомиму и своих детей еще в грудном возрасте записали в
школу. Я знаю, что на свете миллионы людей такого склада, и не могу не
верить в их существование лишь оттого, что мне такой режим не по нутру. Не
сомневаюсь, что в жизни по часам есть свои достоинства, что это полезно и
мудро, но я б ее не вынес. Единственное, с чем я сумел себя связать, - это с
домом, в который я ежевечерне возвращаюсь, да и то, если оказываюсь
неподалеку. Я ненавижу монотонность и очень ценю разнообразие, даже когда
оно приносит усталость и изнеможение. Не знаю, характер ли привел меня к
рассеянному образу жизни, в том числе и семейной, обстоятельства ли внесли в
мой быт горячку, но я усвоил ее поступь. Тогда, в 1834 году, в Париже я не
без ужаса заметил, что в мою жизнь вползает однообразие, и тотчас
взбунтовался. Прежний лихорадочный темп, когда я сновал туда-сюда и хватался
за все интересные дела сразу, постепенно сменился размеренным существованием
- я жил вместе с бабушкой - и регулярными посещениями мастерской, куда я
являлся с аккуратностью клерка.
Сказать по правде, мы с бабушкой всегда были несовместимы, и было
заранее ясно, что с моей стороны чистейшее безумие соглашаться на жизнь под
одной крышей, но первое, что я усвоил после разорения: нищие не выбирают. Я
не был нищим в буквальном смысле слова, но денег у меня было очень мало, а у
бабушки очень много, и только помешанный отказался бы от такого выгодного
предложения. Однако, как и все выгодные предложения, оно себя не оправдало.
Совместная жизнь с родственниками никогда себя не оправдывает, безразлично,
гость вы или хозяин. Я жил с бабушкой и ненавидел свою зависимость, жил с
родителями и умирал от скуки, жил с тещей и чуть было не наложил на себя
руки, жил с кузиной и доходил до ярости. По-моему, лучше спать под
железнодорожным мостом, чем утопать в роскоши в доме у родственников.
Наверное, тут дело в том, что мера обязательной вежливости вступает в
вопиющее противоречие с мерой допускаемой фамильярности. Вконец рассориться
с родственниками, с которыми вы до конца дней связаны нерасторжимыми узами
крови, невозможно, даже если вы сгоряча сказали им все то, что обычно вслух
не говорится, - они все равно приедут к вам снова, и это очень утомительно.
Позврослев, я стал держаться жестче с немилой моему сердцу родней, но в
юности я полагал, что нужно ее терпеть. Моя бабушка, мать моей матери,
вывела бы из себя и святого. Родив мою матушку, она вторично вышла замуж и
впоследствии вернулась из Калькутты богатой вдовой, горевшей родственными
чувствами. Фамилия ее была Батлер, Хэрриет Батлер, и вряд ли вам случалось
видеть существо более взбалмошное; правда, когда я повзрослел и мне уже не
нужно было жить с ней вместе, я очень привязался к старой даме. Но даже в
Париже, предоставленный всецело ее власти, я не мог не дивиться ее твердой
решимости всегда и во всем поступать по-своему, чего бы это ей ни стоило.
Жить вместе с Хэрриет Батлер означало плясать под ее дудку и все тут.
Тирания ее распространялась не только на то, когда и что вам есть, на какой
стул сесть, открыть или закрыть окно, но главное и самое небезопасное - на
вашу душу. Бабушка считала, что, предоставляя мне кров и стол, приобретает
право знать все, что я делаю и даже думаю. Я бы охотно делился с ней своими
мыслями, если бы она не требовала, чтобы они в точности повторяли ее
собственные. Всякий раз мы спорили из-за совершенных пустяков; из уважения к
ее возрасту и положению я старался сдерживаться, и ей поэтому казалось, что
она выигрывает в каждом раунде. Вначале мы поселились на улице Луи-ле-Гран,
можете себе вообразить, как мы развлекали окружающих: бабушку нимало не
заботило, слышат ли ее посторонние, напротив, аудитория лишь прибавляла ей
задору, но сковывала и смущала ее бедного внука. Я корчился под ударами ее
словесного бича и сжимался от публичного выражения гнева. Не думайте, что я
мирился со своим унизительным положением из-за денег, ничего подобного, -
просто за ревом бури я различал тепло и доброту, которых она почему-то не
умела высказать, и вряд ли я тут ошибался. В конечном счете, она была
хорошая женщина, но не спускала дуракам, которых вокруг нее водилось
множество, и по ошибке приняла меня за одного из них.
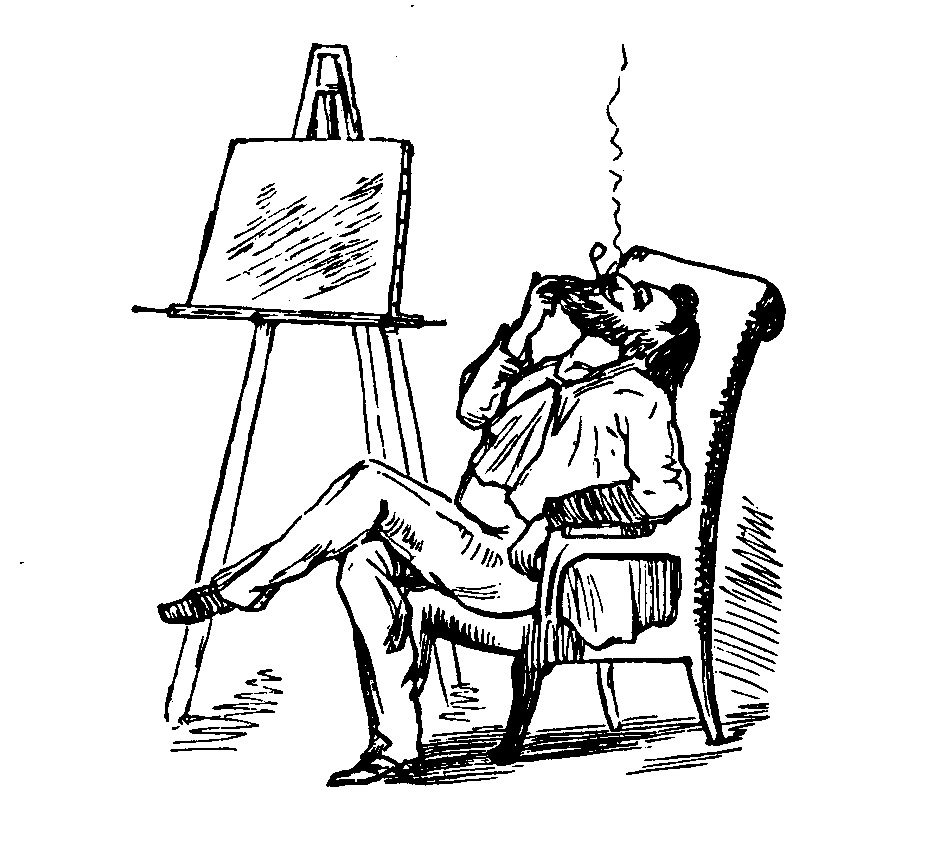 Позже, когда мы перебрились в уютные меблированные комнаты на улице
Прованс, я начал держаться с ней тверже и старался почаще пропускать
трапезы. Славный старый "Нэшенел Стэндарт" к тому времени испустил дух, и я
окончательно стал учеником живописной мастерской - точно так, как и задумал
в ту пору, когда передо мной еще оставался выбор. Но постепенно я совсем его
лишился, и это стало жизненным диктатом: чтоб тратить свои жалкие гроши на
личные потребности, мне ничего не оставалось, кроме как жить с бабушкой и
терпеть ее, и если я хотел прямо смотреть людям в глаза и показать, на что
способен, мне следовало в течение трех лет учиться живописи - так я и делал.
Как бы то ни было, я жил в Париже, а не в Лондоне, был свободен от
служебного рабства и ждал своего часа. Попав в ярмо, которое я сам себе
облюбовал, я быстро понял, что оно ничем не лучше прежних - тех, что мне
навязывали. Разница состояла лишь в том, что на этот раз у меня не было
иного выхода. Мне надлежало преуспеть как художнику или сделаться кем-нибудь
еще, чтобы прокормиться. Мою историю вы знаете - к чему еще я был способен,
кроме как к жизни джентльмена, которая мне стала недоступна? Я прошу у вас
не сочувствия - я сознаю, что был счастливчиком и никогда не знал нужды, - а
только понимания. Я даже не хочу сказать, что разорение мне причинило вред,
возможно, то было лучшее из всего со мной случившегося, но все-таки
вообразите, что я пережил, когда на меня обрушилась внезапная перемена
судьбы. Повторяю, я мужественно перенес дурные вести, но все же был выбит из
колеи и испытывал нервное возбуждение, которое принимал за душевную
приподнятость. Вам это кажется непостижимым, но именно так оно и было. Я
очень долго не ощущал уныния из-за своих финансов. Точно то же происходит с
любой моей трагедией, каков бы ни был ее повод: я встречаю ее твердо, все
отмечают бодрость моего духа, я предстаю достойным восхищения философом, но
спустя несколько недель или месяцев, к тому времени, когда все окончательно
забывают о случившемся, я начинаю стонать и корчиться от боли и предаюсь
глубокому и запоздалому отчаянию, которое тем больше, что я держу его под
спудом, - вот тогда-то, когда труднее всего рассчитывать на утешения, я в
них острее всего нуждаюсь. Так было и с потерей состояния. А что из этого
получилось, я расскажу вам в следующей главе.
^T5^U
^TЯ теряю состояние, но обретаю жизненное поприще^U
Итак, вот он я - счастливый до головокружения от того, что учусь
живописи в Париже, и возомнивший ненадолго, будто обрел, наконец, свое
подлинное "я", но так ли это было? Долгие годы все мы жили в убеждении, что
художник из меня получился бы гениальный, но мой талант никто и никогда не
подвергал проверке и не соизмерял с талантами других. И что же, я очень
быстро понял, что дело выглядит именно так, как я того боялся: я гораздо
лучше рисовал, чем писал красками, тогда как у обычного студента все обстоит
как раз наоборот. Хоть я и не желал себе в этом признаться, но чувство цвета
у меня было неважное - точно так же я никогда не признавался, что моим
романам не хватает действия, хоть втайне сознавал это. Рисунком я владел
довольно сносно, но в живописи был невыразителен. Очень скоро моих холстов
достало бы, чтобы изжарить на них буйвола, однако успехи были
обескураживающе скромными. Часами я копировал любимые полотна в Лувре и
постепенно стал задумываться, есть ли в этом смысл: первоклассного художника
из меня все равно не получилось бы. Не верилось, что я смогу когда-нибудь
продавать плоды своих трудов и выдержу три года ученичества, но я об этом
помалкивал. Я не мог не сравнивать свое равнодушие к тому, чего достиг как
художник, с тем, как горячо интересовался скромнейшим из литературных дел, и
стал спрашивать себя - не прямо, конечно, не называя вещи своими именами, -
разумно ли идти и дальше по избранному пути? Во мне росло отвращение к
собственным художническим потугам, и после целого года непрерывных усилий я
из протеста целый месяц валялся в постели и читал романы.
Опасный признак, говорите вы, да, верно, я тоже так считал. Разве я не
впадал всегда в апатию при первом же препятствии? Разве не знал, что после
апатии, если ее не одолеть, придет угрюмое отчаяние? Кроме меня, никто и не
думал ее одолевать: парижский мэтр интересовался мной не больше, чем мой
кембриджский наставник или мистер Тэпрелл из Хейр-Корта. Если я не
справлялся с живописью, математикой или юриспруденцией, они считали, что это
не их забота, а моя, и были правы: мои ошибки и решения были моим личным
делом. Я молил бога дать моим пальцам силу справиться с тем, к чему они, как
ни старались, не были пригодны, и в то же время вновь метался в поисках
выхода из положения, в которое сам себя поставил. Раз у меня нет денег,
достойных этого названия, значит, для того, чтоб распрощаться со
студенческой жизнью, нужно либо найти работу, либо вернуться домой и сдаться
на милость моей многострадальной матушки, чего мне никак не хотелось. Я изо
всех сил добивался, чтобы меня послали в Константинополь иностранным
корреспондентом от "Морнинг Кроникл", но мои отчаянные усилия ни к чему не
привели. Одному богу известно, что я рассчитывал там делать, но мне
казалось, что само слово "Константинополь" несет с собой освобождение. Когда
все в жизни идет вкривь и вкось, что может быть соблазнительнее бегства, тем
более бегства, совершаемого с разумной целью и к тому же оплаченного? В
таком назначении мне виделась не просто работа на год, но, очень вероятно,
будущая книга с рисунками автора, эдакий "Иллюстрированный год
путешественника", из-за которого передерутся все лондонские издатели. То был
мой первый честолюбивый замысел во всей его подкупающей наивности и
откровенности, тот самый, который впоследствии стал навязчивой идеей. Вам не
забавно, что я способен был вообразить себя автором путевых очерков, но не
романистом, и что мои мечты кружились вокруг словесных и карандашных
зарисовок увиденных мной мест, а не вымышленных характеров? То было
следствие занятий живописью: при всем своем увлечении журналистикой я
связывал свое будущее с карандашом, а не со словом. И я доволен, что
впоследствии сумел не раз, а много раз осуществить эту свою первую мечту,
хоть из нее не выросли великие литературные шедевры - впрочем, неизвестно,
есть ли вообще такие среди написанных мной книг.
Жить рядом с бабушкой и предаваться внутренним борениям оказалось
немыслимо. Можно ли было целыми днями бить баклуши под ее орлиным оком? Чем
заметнее была моя растерянность, тем утомительнее становились ее выговоры,
пока, наконец, я больше уже не мог выносить разоблачений этой дамы - неужто
она не замечала, что я и сам себе не давал спуску и вовсе не гордился своей
праздностью? Я решил, что обойдусь без комфортабельных апартаментов,
переберусь в мансарду и буду жить так же, как мои товарищи. Лишь только я
упомянул о переезде, бабушка тотчас же стала меня задабривать, но я был
тверд: мансарда и независимая бедность гораздо больше отвечали моему
тогдашнему умонастроению. Она, конечно, сочла мои слова пустой угрозой и
была обижена и удивлена, когда я привел их в исполнение и перевез свои
немногочисленные пожитки на улицу Боз-Ар, где, правду сказать, неизменно
испытывал острую нехватку денег. Стоило мне нанести визит врачу, как вся моя
наличность улетучивалась и я влезал в долги до следующего дня выплаты
процентов со все еще остававшегося у меня крохотного капитала, дававшего не
более ста фунтов в год. Вырвавшись, я почувствовал себя гораздо лучше и стал
осматриваться и подыскивать себе литературный заработок или заказы на
рисунки.
Позже, когда мы перебрились в уютные меблированные комнаты на улице
Прованс, я начал держаться с ней тверже и старался почаще пропускать
трапезы. Славный старый "Нэшенел Стэндарт" к тому времени испустил дух, и я
окончательно стал учеником живописной мастерской - точно так, как и задумал
в ту пору, когда передо мной еще оставался выбор. Но постепенно я совсем его
лишился, и это стало жизненным диктатом: чтоб тратить свои жалкие гроши на
личные потребности, мне ничего не оставалось, кроме как жить с бабушкой и
терпеть ее, и если я хотел прямо смотреть людям в глаза и показать, на что
способен, мне следовало в течение трех лет учиться живописи - так я и делал.
Как бы то ни было, я жил в Париже, а не в Лондоне, был свободен от
служебного рабства и ждал своего часа. Попав в ярмо, которое я сам себе
облюбовал, я быстро понял, что оно ничем не лучше прежних - тех, что мне
навязывали. Разница состояла лишь в том, что на этот раз у меня не было
иного выхода. Мне надлежало преуспеть как художнику или сделаться кем-нибудь
еще, чтобы прокормиться. Мою историю вы знаете - к чему еще я был способен,
кроме как к жизни джентльмена, которая мне стала недоступна? Я прошу у вас
не сочувствия - я сознаю, что был счастливчиком и никогда не знал нужды, - а
только понимания. Я даже не хочу сказать, что разорение мне причинило вред,
возможно, то было лучшее из всего со мной случившегося, но все-таки
вообразите, что я пережил, когда на меня обрушилась внезапная перемена
судьбы. Повторяю, я мужественно перенес дурные вести, но все же был выбит из
колеи и испытывал нервное возбуждение, которое принимал за душевную
приподнятость. Вам это кажется непостижимым, но именно так оно и было. Я
очень долго не ощущал уныния из-за своих финансов. Точно то же происходит с
любой моей трагедией, каков бы ни был ее повод: я встречаю ее твердо, все
отмечают бодрость моего духа, я предстаю достойным восхищения философом, но
спустя несколько недель или месяцев, к тому времени, когда все окончательно
забывают о случившемся, я начинаю стонать и корчиться от боли и предаюсь
глубокому и запоздалому отчаянию, которое тем больше, что я держу его под
спудом, - вот тогда-то, когда труднее всего рассчитывать на утешения, я в
них острее всего нуждаюсь. Так было и с потерей состояния. А что из этого
получилось, я расскажу вам в следующей главе.
^T5^U
^TЯ теряю состояние, но обретаю жизненное поприще^U
Итак, вот он я - счастливый до головокружения от того, что учусь
живописи в Париже, и возомнивший ненадолго, будто обрел, наконец, свое
подлинное "я", но так ли это было? Долгие годы все мы жили в убеждении, что
художник из меня получился бы гениальный, но мой талант никто и никогда не
подвергал проверке и не соизмерял с талантами других. И что же, я очень
быстро понял, что дело выглядит именно так, как я того боялся: я гораздо
лучше рисовал, чем писал красками, тогда как у обычного студента все обстоит
как раз наоборот. Хоть я и не желал себе в этом признаться, но чувство цвета
у меня было неважное - точно так же я никогда не признавался, что моим
романам не хватает действия, хоть втайне сознавал это. Рисунком я владел
довольно сносно, но в живописи был невыразителен. Очень скоро моих холстов
достало бы, чтобы изжарить на них буйвола, однако успехи были
обескураживающе скромными. Часами я копировал любимые полотна в Лувре и
постепенно стал задумываться, есть ли в этом смысл: первоклассного художника
из меня все равно не получилось бы. Не верилось, что я смогу когда-нибудь
продавать плоды своих трудов и выдержу три года ученичества, но я об этом
помалкивал. Я не мог не сравнивать свое равнодушие к тому, чего достиг как
художник, с тем, как горячо интересовался скромнейшим из литературных дел, и
стал спрашивать себя - не прямо, конечно, не называя вещи своими именами, -
разумно ли идти и дальше по избранному пути? Во мне росло отвращение к
собственным художническим потугам, и после целого года непрерывных усилий я
из протеста целый месяц валялся в постели и читал романы.
Опасный признак, говорите вы, да, верно, я тоже так считал. Разве я не
впадал всегда в апатию при первом же препятствии? Разве не знал, что после
апатии, если ее не одолеть, придет угрюмое отчаяние? Кроме меня, никто и не
думал ее одолевать: парижский мэтр интересовался мной не больше, чем мой
кембриджский наставник или мистер Тэпрелл из Хейр-Корта. Если я не
справлялся с живописью, математикой или юриспруденцией, они считали, что это
не их забота, а моя, и были правы: мои ошибки и решения были моим личным
делом. Я молил бога дать моим пальцам силу справиться с тем, к чему они, как
ни старались, не были пригодны, и в то же время вновь метался в поисках
выхода из положения, в которое сам себя поставил. Раз у меня нет денег,
достойных этого названия, значит, для того, чтоб распрощаться со
студенческой жизнью, нужно либо найти работу, либо вернуться домой и сдаться
на милость моей многострадальной матушки, чего мне никак не хотелось. Я изо
всех сил добивался, чтобы меня послали в Константинополь иностранным
корреспондентом от "Морнинг Кроникл", но мои отчаянные усилия ни к чему не
привели. Одному богу известно, что я рассчитывал там делать, но мне
казалось, что само слово "Константинополь" несет с собой освобождение. Когда
все в жизни идет вкривь и вкось, что может быть соблазнительнее бегства, тем
более бегства, совершаемого с разумной целью и к тому же оплаченного? В
таком назначении мне виделась не просто работа на год, но, очень вероятно,
будущая книга с рисунками автора, эдакий "Иллюстрированный год
путешественника", из-за которого передерутся все лондонские издатели. То был
мой первый честолюбивый замысел во всей его подкупающей наивности и
откровенности, тот самый, который впоследствии стал навязчивой идеей. Вам не
забавно, что я способен был вообразить себя автором путевых очерков, но не
романистом, и что мои мечты кружились вокруг словесных и карандашных
зарисовок увиденных мной мест, а не вымышленных характеров? То было
следствие занятий живописью: при всем своем увлечении журналистикой я
связывал свое будущее с карандашом, а не со словом. И я доволен, что
впоследствии сумел не раз, а много раз осуществить эту свою первую мечту,
хоть из нее не выросли великие литературные шедевры - впрочем, неизвестно,
есть ли вообще такие среди написанных мной книг.
Жить рядом с бабушкой и предаваться внутренним борениям оказалось
немыслимо. Можно ли было целыми днями бить баклуши под ее орлиным оком? Чем
заметнее была моя растерянность, тем утомительнее становились ее выговоры,
пока, наконец, я больше уже не мог выносить разоблачений этой дамы - неужто
она не замечала, что я и сам себе не давал спуску и вовсе не гордился своей
праздностью? Я решил, что обойдусь без комфортабельных апартаментов,
переберусь в мансарду и буду жить так же, как мои товарищи. Лишь только я
упомянул о переезде, бабушка тотчас же стала меня задабривать, но я был
тверд: мансарда и независимая бедность гораздо больше отвечали моему
тогдашнему умонастроению. Она, конечно, сочла мои слова пустой угрозой и
была обижена и удивлена, когда я привел их в исполнение и перевез свои
немногочисленные пожитки на улицу Боз-Ар, где, правду сказать, неизменно
испытывал острую нехватку денег. Стоило мне нанести визит врачу, как вся моя
наличность улетучивалась и я влезал в долги до следующего дня выплаты
процентов со все еще остававшегося у меня крохотного капитала, дававшего не
более ста фунтов в год. Вырвавшись, я почувствовал себя гораздо лучше и стал
осматриваться и подыскивать себе литературный заработок или заказы на
рисунки.
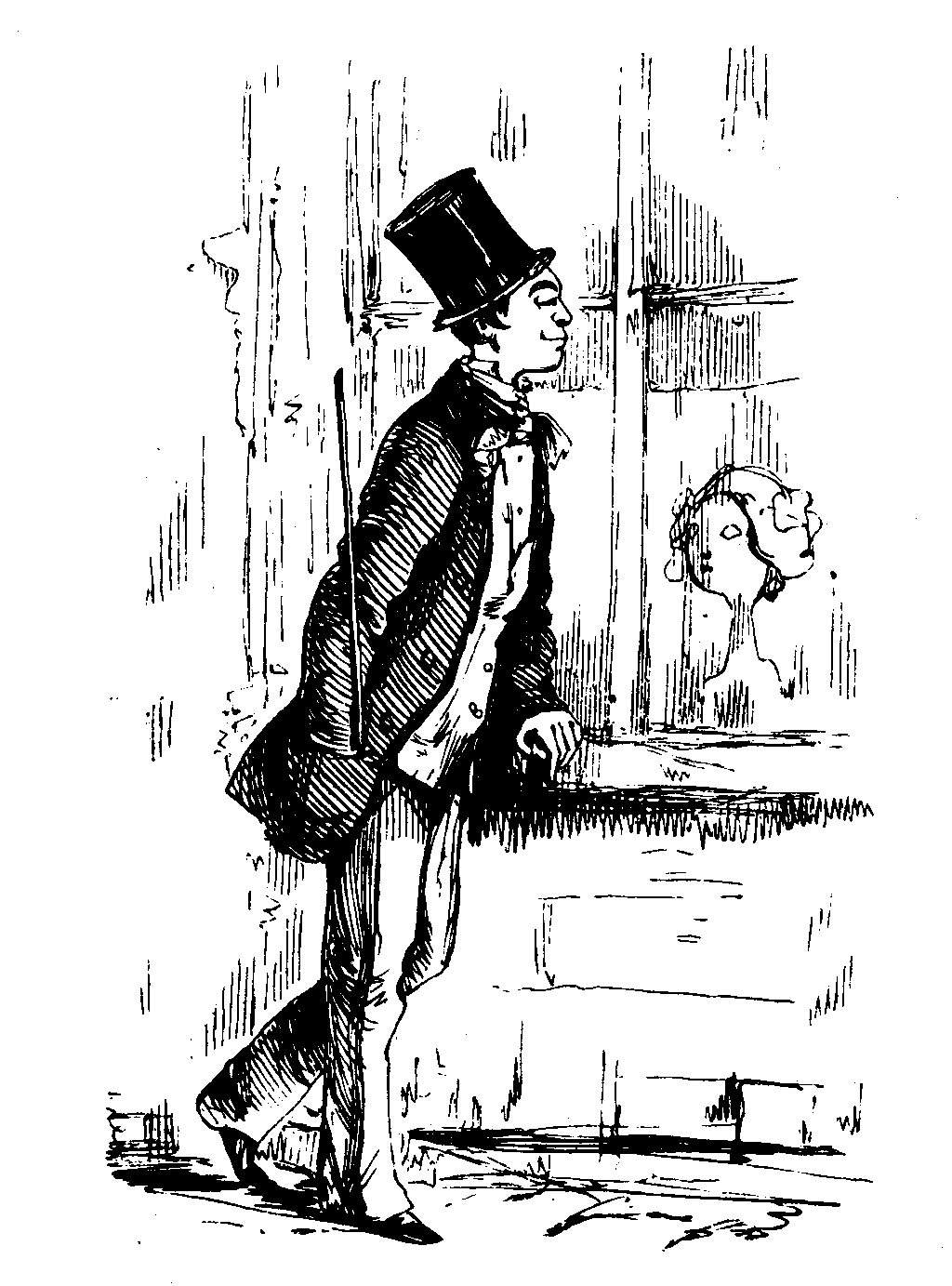 Мне повезло, что в Париже у меня было много знакомых: и французов, и
англичан - и, обронив словцо там и сям, я мог набрать немного небольших
заказов. Я переводил, печатал гравюры и тому подобное, хватало лишь свести
концы с концами, но тогда меня это не огорчало. В этом "тогда" была вся
суть. Мне стукнуло двадцать четыре года, а вам, наверное, известно, что
обычно происходит с молодыми людьми этого возраста. Они полны грандиозных
планов на счет того, чего при всем своем желании не могут себе позволить,
сюда относятся, как правило, и матримониальные намерения, требующие
чертовски больших средств. Мне было ясно, что в близком будущем мне
перестанет хватать тех жалких денег, которые я зарабатывал, и нужно
подыскать более серьезную и твердую прибавку к моему маленькому доходу.
Влюбись я и задумай жениться, бедность неодолимым препятствием встала бы на
моем, пути, разве что моя любимая оказалась бы богатой наследницей, но на
это не стоило рассчитывать. И в самом деле, девушка, которой я отдал сердце,
была почти так же бедна, как я, и с самого начала своего ухаживания я знал:
для того, чтобы дело дошло до чего-то серьезного, я должен ради нас обоих
поскорей устроиться работать, или же мне предстоит томиться весь свой век в
холостяках.
Изабеллу Шоу я встретил в Париже в конце лета 1835 года - тогда, когда
мои доходы и моя карьера были в самом плачевном состоянии, - об этом времени
я вам очень обстоятельно рассказывал. Я помню, как впервые ее встретил, но
не помню, где и когда это случилось, и вы будете избавлены от утомительных
подробностей. Сами понимаете, как и положено такому романтическому малому, я
влюбился с первого взгляда и тут же погрузился в вихрь восторга, потеряв
способность есть, пить и тому подобное - со всеми прочими симптомами
любовной лихорадки. Когда я говорю, что был в восторге от своей
влюбленности, я вовсе не хочу сказать что-то циничное или глумливое - мне
очень нравилось, что у меня нет аппетита, что я лежу, покуривая, на кровати
и предаюсь грезам наяву. Правда, я не мог дождаться, когда нас обвенчают, но
в остальном чувство мое не было мучительным, однако ждать, как вы понимаете,
было необходимо. Я был совершенно уверен, что сделал правильный выбор, и это
служило поддержкой и опорой; вспоминая прошлое, я удивляюсь своей полной
убежденности в том, что все в конце концов образуется и что Изабелла и есть
та девушка, которая предназначена мне судьбой. Естественней было бы начать с
сомнений, не правда ли? Ведь если не считать моего поклонения веймарским
красавицам, у меня не было ни знания женщин, ни романтических привязанностей
и, по справедливости, мне следовало бы пережить хотя бы два-три увлечения,
прежде чем выбирать себе подругу жизни, но нет, я начал с Изабеллы, и
никаких предметов нежной страсти до нее у меня не было. Надеюсь, мое
признание заденет нежные струны вашего сердца. Рискуя испортить всю историю,
предупрежу заранее, еще не доведя дело до женитьбы, что наше счастье
оказалось недолгим, поэтому я должен постараться выжать из нашего романа
каждую мыслимую каплю чувства. Я не могу перелистать десятки лет безоблачной
семейной жизни и указать на лучшие ее страницы, такой жизни у меня не было,
поэтому я должен обрисовать яркими красками те несколько лет, которые мы
провели вместе, чтобы извлечь на свет божий немногие из выпавших нам скудных
радостей. Больше, чем обо всем другом, жалею я о том, что не изведал
семейного счастья, долгого, полного и крепкого, я бы не променял его ни на
какие деньги, ни на какую литературную славу. Мужчине нужна жена, чтоб
возвращаться к ней по вечерам, - по крайней мере, мне она была необходима, и
всю жизнь я чувствовал, как сильно мне ее недостает.
Мне повезло, что в Париже у меня было много знакомых: и французов, и
англичан - и, обронив словцо там и сям, я мог набрать немного небольших
заказов. Я переводил, печатал гравюры и тому подобное, хватало лишь свести
концы с концами, но тогда меня это не огорчало. В этом "тогда" была вся
суть. Мне стукнуло двадцать четыре года, а вам, наверное, известно, что
обычно происходит с молодыми людьми этого возраста. Они полны грандиозных
планов на счет того, чего при всем своем желании не могут себе позволить,
сюда относятся, как правило, и матримониальные намерения, требующие
чертовски больших средств. Мне было ясно, что в близком будущем мне
перестанет хватать тех жалких денег, которые я зарабатывал, и нужно
подыскать более серьезную и твердую прибавку к моему маленькому доходу.
Влюбись я и задумай жениться, бедность неодолимым препятствием встала бы на
моем, пути, разве что моя любимая оказалась бы богатой наследницей, но на
это не стоило рассчитывать. И в самом деле, девушка, которой я отдал сердце,
была почти так же бедна, как я, и с самого начала своего ухаживания я знал:
для того, чтобы дело дошло до чего-то серьезного, я должен ради нас обоих
поскорей устроиться работать, или же мне предстоит томиться весь свой век в
холостяках.
Изабеллу Шоу я встретил в Париже в конце лета 1835 года - тогда, когда
мои доходы и моя карьера были в самом плачевном состоянии, - об этом времени
я вам очень обстоятельно рассказывал. Я помню, как впервые ее встретил, но
не помню, где и когда это случилось, и вы будете избавлены от утомительных
подробностей. Сами понимаете, как и положено такому романтическому малому, я
влюбился с первого взгляда и тут же погрузился в вихрь восторга, потеряв
способность есть, пить и тому подобное - со всеми прочими симптомами
любовной лихорадки. Когда я говорю, что был в восторге от своей
влюбленности, я вовсе не хочу сказать что-то циничное или глумливое - мне
очень нравилось, что у меня нет аппетита, что я лежу, покуривая, на кровати
и предаюсь грезам наяву. Правда, я не мог дождаться, когда нас обвенчают, но
в остальном чувство мое не было мучительным, однако ждать, как вы понимаете,
было необходимо. Я был совершенно уверен, что сделал правильный выбор, и это
служило поддержкой и опорой; вспоминая прошлое, я удивляюсь своей полной
убежденности в том, что все в конце концов образуется и что Изабелла и есть
та девушка, которая предназначена мне судьбой. Естественней было бы начать с
сомнений, не правда ли? Ведь если не считать моего поклонения веймарским
красавицам, у меня не было ни знания женщин, ни романтических привязанностей
и, по справедливости, мне следовало бы пережить хотя бы два-три увлечения,
прежде чем выбирать себе подругу жизни, но нет, я начал с Изабеллы, и
никаких предметов нежной страсти до нее у меня не было. Надеюсь, мое
признание заденет нежные струны вашего сердца. Рискуя испортить всю историю,
предупрежу заранее, еще не доведя дело до женитьбы, что наше счастье
оказалось недолгим, поэтому я должен постараться выжать из нашего романа
каждую мыслимую каплю чувства. Я не могу перелистать десятки лет безоблачной
семейной жизни и указать на лучшие ее страницы, такой жизни у меня не было,
поэтому я должен обрисовать яркими красками те несколько лет, которые мы
провели вместе, чтобы извлечь на свет божий немногие из выпавших нам скудных
радостей. Больше, чем обо всем другом, жалею я о том, что не изведал
семейного счастья, долгого, полного и крепкого, я бы не променял его ни на
какие деньги, ни на какую литературную славу. Мужчине нужна жена, чтоб
возвращаться к ней по вечерам, - по крайней мере, мне она была необходима, и
всю жизнь я чувствовал, как сильно мне ее недостает.
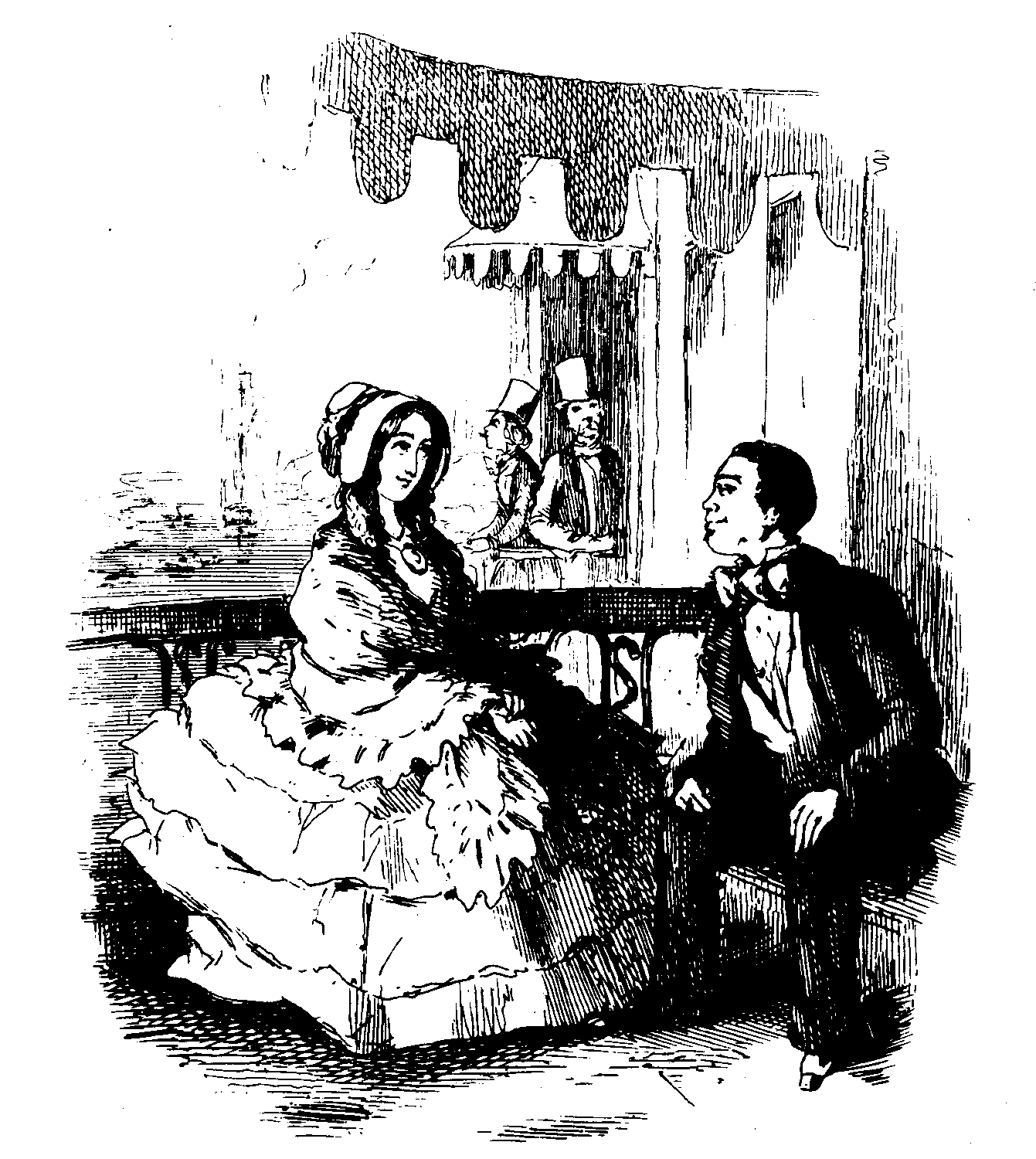 Как хорошо, что в 1835 году ни одна из этих мрачных, терзающих меня в
1862 году мыслей даже отдаленно не приходила мне в голову. Впрочем, не
говорил ли я на этих страницах ровно противоположное - не говорил ли я, что
лучше знать, что тебя ждет впереди? Но как было бы страшно провидеть будущее
в ту пору, когда я надеялся иметь десятерых детей, купить дом в городе и дом
в деревне и долгими вечерами греться у камина. Я был блаженно счастлив,
обдумывая и планируя свою женитьбу, прежде всего зависевшую от работы,
которая позволила бы мне содержать мое возросшее семейство, иначе все
откладывалось. Наверное, мой энтузиазм был устрашающе велик и, кажется, я до
смерти им напугал бедняжку Изабеллу, обрушивая на нее потоки слов и не делая
передышек, чтоб дать ей высказаться, - я полагал, что ее мнение в точности
совпадает с моим собственным. Боюсь, она была поражена моей
скоропалительностью: мы толком не успели познакомиться, а я уже решил
жениться, мы еще не поженились, а я без всякого стеснения заговорил о детях
- я торопил события, мечтал, чтоб все произошло как можно скорее, и только
недавно догадался, что моей бедной детке, возможно, хотелось более
неспешного и деликатного ухаживания. Как же я был опрометчив, когда очертя
голову ринулся в такое серьезное дело, как брак, ни разу не повременив, ни
разу не задумавшись, какой ущерб я причиняю более нежным душам. Не я ли
обратил в паническое бегство и утомил мою любимую? Не я ли помчал ее единым
духом к алтарю, вместо того чтоб, протянув ей руку, неспешно шагать рядом?
Не я ли заставил ее сердце колотиться, а голову кружиться от торопливости, с
которой сделал предложение? Да, я повинен во всем этом, но поплатился
суровее, чем заслужил.
Довольно неопределенности: я встретил Изабеллу в середине 1835 года и
женился на ней год спустя - на полгода позже, чем намеревался. Отсрочка была
вызвана отнюдь не поисками работы, которая в нужный час сама спустилась ко
мне в руки, а злобными интригами моей тещи, черт бы побрал ее душу. Это,
конечно, только шутка, как добрый христианин я никому не пожелаю вечных мук,
но все же в этом дурацком мелодраматическом восклицании кроется доля
истинного чувства. Миссис Шоу, несомненно, была скверная женщина, и никто не
знает этого лучше меня. Своих пятерых детей, особенно девочек, она
притесняла самым бессовестным образом и довела до того, что они не смели и
шагу ступить без ее соизволения. Мне следовало бы сразу распознать ее
жестокость, но я не распознал: когда я впервые посетил ее в парижском
пансионе, где она и ее дети жили на маленькую пенсию вдовы офицера индийских
колониальных войск - единственный источник дохода после смерти ее мужа, -
она мне просто показалась строгой, чопорной матроной. Парижские пансионы
кишмя кишат подобными чудовищами, которые проявляют чудеса изворотливости и
всеми мыслимыми способами восполняют свое жалкое денежное содержание, ни на
мгновенье не теряя бдительности, чтоб не упустить свой главный шанс. Когда я
впервые появился в жизни ее дочери, миссис Шоу, видимо, решила, что в ее
двери постучала удача, но вскоре, поскольку я никогда ни из чего не делал
тайны, утратила иллюзии на мой счет и пустилась во все тяжкие, чтобы не
допустить нашего союза. Прошло так много лет, что мне с моим знанием людей и
жизни следовало бы простить ее, но я не в силах это сделать. Однако мне
понятна ее забота о материальной стороне жизни: когда до меня в Америке
дошла весть о том, что одна из моих дочек питает склонность к больному,
бедному священнику, я пришел в ярость и разразился энергичнейшим посланием,
в котором запрещал этот брак. Миссис Шоу была права, когда заботилась о
благополучии дочери, и правильно бы поступила, если бы потребовала от меня
каких-либо гарантий, которые я счастлив был бы ей представить, но нет и не
может быть оправдания тому, что она настраивала против меня и терзала
попреками мою любимую за то, что та якобы бросает свою мать. Все это можно
было бы объяснить великой материнской любовью, но когда разразилась
катастрофа, эта любовь явилась в своем истинном свете, она оказалась мелким
своекорыстным чувством, карикатурой, к которой неприменимо высокое слово
"любовь".
Как хорошо, что в 1835 году ни одна из этих мрачных, терзающих меня в
1862 году мыслей даже отдаленно не приходила мне в голову. Впрочем, не
говорил ли я на этих страницах ровно противоположное - не говорил ли я, что
лучше знать, что тебя ждет впереди? Но как было бы страшно провидеть будущее
в ту пору, когда я надеялся иметь десятерых детей, купить дом в городе и дом
в деревне и долгими вечерами греться у камина. Я был блаженно счастлив,
обдумывая и планируя свою женитьбу, прежде всего зависевшую от работы,
которая позволила бы мне содержать мое возросшее семейство, иначе все
откладывалось. Наверное, мой энтузиазм был устрашающе велик и, кажется, я до
смерти им напугал бедняжку Изабеллу, обрушивая на нее потоки слов и не делая
передышек, чтоб дать ей высказаться, - я полагал, что ее мнение в точности
совпадает с моим собственным. Боюсь, она была поражена моей
скоропалительностью: мы толком не успели познакомиться, а я уже решил
жениться, мы еще не поженились, а я без всякого стеснения заговорил о детях
- я торопил события, мечтал, чтоб все произошло как можно скорее, и только
недавно догадался, что моей бедной детке, возможно, хотелось более
неспешного и деликатного ухаживания. Как же я был опрометчив, когда очертя
голову ринулся в такое серьезное дело, как брак, ни разу не повременив, ни
разу не задумавшись, какой ущерб я причиняю более нежным душам. Не я ли
обратил в паническое бегство и утомил мою любимую? Не я ли помчал ее единым
духом к алтарю, вместо того чтоб, протянув ей руку, неспешно шагать рядом?
Не я ли заставил ее сердце колотиться, а голову кружиться от торопливости, с
которой сделал предложение? Да, я повинен во всем этом, но поплатился
суровее, чем заслужил.
Довольно неопределенности: я встретил Изабеллу в середине 1835 года и
женился на ней год спустя - на полгода позже, чем намеревался. Отсрочка была
вызвана отнюдь не поисками работы, которая в нужный час сама спустилась ко
мне в руки, а злобными интригами моей тещи, черт бы побрал ее душу. Это,
конечно, только шутка, как добрый христианин я никому не пожелаю вечных мук,
но все же в этом дурацком мелодраматическом восклицании кроется доля
истинного чувства. Миссис Шоу, несомненно, была скверная женщина, и никто не
знает этого лучше меня. Своих пятерых детей, особенно девочек, она
притесняла самым бессовестным образом и довела до того, что они не смели и
шагу ступить без ее соизволения. Мне следовало бы сразу распознать ее
жестокость, но я не распознал: когда я впервые посетил ее в парижском
пансионе, где она и ее дети жили на маленькую пенсию вдовы офицера индийских
колониальных войск - единственный источник дохода после смерти ее мужа, -
она мне просто показалась строгой, чопорной матроной. Парижские пансионы
кишмя кишат подобными чудовищами, которые проявляют чудеса изворотливости и
всеми мыслимыми способами восполняют свое жалкое денежное содержание, ни на
мгновенье не теряя бдительности, чтоб не упустить свой главный шанс. Когда я
впервые появился в жизни ее дочери, миссис Шоу, видимо, решила, что в ее
двери постучала удача, но вскоре, поскольку я никогда ни из чего не делал
тайны, утратила иллюзии на мой счет и пустилась во все тяжкие, чтобы не
допустить нашего союза. Прошло так много лет, что мне с моим знанием людей и
жизни следовало бы простить ее, но я не в силах это сделать. Однако мне
понятна ее забота о материальной стороне жизни: когда до меня в Америке
дошла весть о том, что одна из моих дочек питает склонность к больному,
бедному священнику, я пришел в ярость и разразился энергичнейшим посланием,
в котором запрещал этот брак. Миссис Шоу была права, когда заботилась о
благополучии дочери, и правильно бы поступила, если бы потребовала от меня
каких-либо гарантий, которые я счастлив был бы ей представить, но нет и не
может быть оправдания тому, что она настраивала против меня и терзала
попреками мою любимую за то, что та якобы бросает свою мать. Все это можно
было бы объяснить великой материнской любовью, но когда разразилась
катастрофа, эта любовь явилась в своем истинном свете, она оказалась мелким
своекорыстным чувством, карикатурой, к которой неприменимо высокое слово
"любовь".
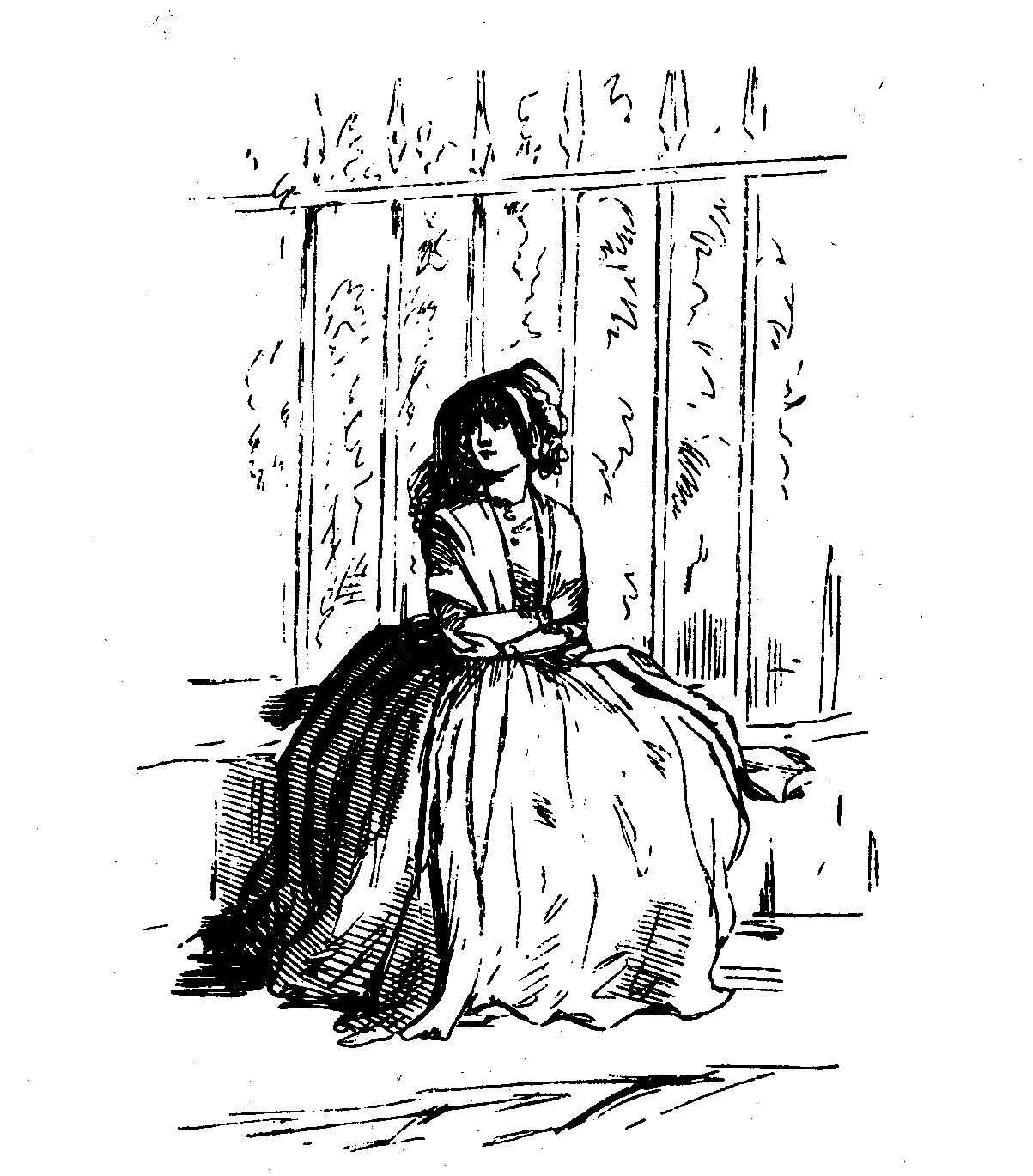 Вечно я все делаю наоборот: расписываю трудности сватовства и мерзости
несносных родственников, ни слова не сказав об Изабелле. Секрет в том, что
мою жену, вернее, то, что меня к ней привлекло, описать непросто. Можно,
конечно, рассказать, какая у нее была внешность (а еще лучше поместить здесь
один из моих карандашных набросков), но я сознаю свое бессилие: она
напоминала многих юных девушек, и если разбирать одну за другой черты ее
лица, в них не было ничего особенного, поэтому мои клятвенные заверения, что
Изабелла была - я в этом убежден - истинная красавица, покажутся вам пустым
бахвальством. И дело тут не в том, что для меня она была прекрасна, потому
что я любил ее - она и в самом деле была прекрасна, - а в том, что у нее был
тот редкий тип красоты, на который я всегда обращаю внимание, где бы его ни
встретил. Чтобы заметить эту неброскую красоту, между ее обладательницей и
восхищенным зрителем должно существовать душевное сродство. Нет, ничего не
получается, я не умею облекать сентиментальные воспоминания в изящные слова.
Попробую еще раз: с закрытыми глазами Изабелла не была так хороша, потому
что вся сила была в ее глазах, из них струились чистота, нежность и
мягкость, очаровавшие меня. В ней чувствовалась добродетель и спокойное
достоинство, которые больше всего пленяют меня в женщинах, и в то же время
пылкость чувств, неожиданная при таком мягком облике. Я не поклонник
величественных, бледноликих дев, которые сверкают и блистают в обществе, а
предпочитаю скромных девушек, которым так же мало хочется привлекать к себе
внимание, как, скажем, сквернословить. Если юная леди, которую я тщусь вам
описать, кажется вам простушкой, уверяю вас, это не так: и Изабелла, и все
ее сестры по духу - умные девушки с независимыми взглядами, просто они не
спешат выставлять свой ум напоказ. Они гораздо чаще опускают взор, чем
устремляют его с вызовом на собеседника, не рисуются обширностью своих
познаний и не спешат навязывать себя другим, но все это не означает, что в
них мало жизни или блеска: они предпочитают слушать, а не говорить, отчего
ничуть не делаются хуже. Критики сочли, что Эмилия из "Ярмарки тщеславия"
слишком идеальна, а значит, слишком скучна и быстро приедается, но если это
и так, то по вине повествователя и повествовательного жанра. Пробовали ли вы
когда-нибудь, читатель, растрогать публику рассказом о совершенной
добродетели? Невыполнимая задача, и Диккенс, как я заметил, справляется с
ней не лучше моего: добродетель блекнет при передаче в слове, тогда как
порок или, по крайней мере, нравственная слабость встают на бумаге как
живые. Все лучшие человеческие свойства, которые мы пытаемся запечатлеть, не
поддаются описанию, мы только и можем, что громоздить один эпитет на другой,
лишь увеличивая пустоту. Великая мера святости в герое не может не сердить
читателей или не вызывать у них улыбки недоверия, но даже если они и верят
этому его свойству, им быстро прискучивает столь безупречный персонаж.
В общем, хотя Изабелла во многом походила на Эмилию, которая, по мнению
критиков, не удалась мне, я все же дерзну, как это ни трудно, создать для
вас ее портрет. Замечу, что она была бледна, стройна, казалась хрупкой, что
у нее были прекрасные рыжие волосы, большие глаза и очень нежная улыбка. С
малознакомыми она держалась робко, но в обществе близких умела бурно
веселиться. Она неохотно делилась своими мыслями, но если удавалось ее
выспросить, ее суждения оказывались очень определенными. Меня к ней
привлекли не только внешность и манеры, которые были у нее как у настоящей
леди, но и ее явное восхищение моей особой. О, что за опьяняющий напиток!
Сумел ли бы я вынести ее презрение? Навряд ли. Увлекся ли бы я ею, если б
она меня не отличала? Не думаю. В тот первый вечер, когда, помню, увидел ее
в этом ужасном пансионе, она играла на рояле, а когда встала и, заливаясь
краской, повернулась к немногочисленным рукоплескавшим слушателям и наши
взгляды встретились, я, помню, ясно ощутил, что она в восторге от меня -
правда, я и сам был от нее в восторге - и хочет мне понравиться, хоть в этом
не было и тени кокетства, совершенно ей не свойственного. Есть ли на свете
мужчина, который точно так же, как и женщина, не жаждет поклонения? Хочется
верить, что речи мои не были бессвязными, - сам я находил собственное
остроумие неотразимым, а каждую фразу - перлом убийственной иронии. Изабелла
так смиренно, терпеливо и с обожанием во взоре выслушивала все, что я ни
изрекал, что под конец я раздулся от гордости. Казалось, она только и
думала, как угодить мне и одарить меня счастьем, - пожалуй, все то время,
что мы были вместе, она не знала никакого другого желания. Однако в ней не
было нерассуждающей покорности и уступчивости: как ни больно, как ни трудно
ей было возражать мне, она хотела и умела отстоять свои убеждения, когда они
приходили в столкновение с моими, - впрочем, столкновения эти бывали
пустяшными и не заслуживали такого громкого названия. Сначала она
колебалась, говорить ли, ее улыбка меркла, краска бросалась в лицо, потом
дрожащим голосом начинала перечислять, что, по ее мнению, верно или неверно
в том, что я сказал или сделал, - то было обворожительное зрелище, и я порой
не мог удержаться и намеренно вызывал в ней то, что она сама именовала
гневом. Гнев! Я думаю, она до самой смерти так и не знала, что такое гнев,
ярость, горечь, ненависть, - все эти мрачные чувства были неведомы моей
Изабелле. Нрав у нее был ангельский, и я почитал себя счастливейшим из
смертных.
Счастливейшим я и был бы, если бы не моя будущая теща - полная
противоположность своей дочери. Всю весну 1836 года я бился, чтобы получить
ее согласие на брак, но тщетно. Она упорствовала - я был неподходящей
партией. С терпением, которое мне самому казалось образцовым, я твердил ей о
новой газете, в которой предполагал работать, но она не уступала, и я снова
и снова напирал на то, что это будет твердый заработок - четыреста фунтов в
год и что риск обернется верной удачей. Я в самом деле в это верил, а не
придумывал заманчивые небылицы. Вышеупомянутая газета должна была называться
"Конститьюшенел энд Паблик Леджер", ее собиралось выпускать небольшое
акционерное общество, директором которого был мой отчим майор Кармайкл-Смит.
Предполагалось, что я стану ее парижским корреспондентом и буду писать об
искусстве и политике, а также обо всем, о чем мне заблагорассудится. На пост
редактора пригласили Ламана Бланшара, Дуглас Джерролд должен был возглавить
отдел театра, разные знаменитости обещали свою помощь. Надеюсь, вы меня не
осуждаете за то, что я пришел в восторг от этой перспективы? Я полагал, что
лучшей материальной базы для семейной жизни быть не может, но вы, кажется,
иного мнения? Я чувствую, вы колеблетесь, вы говорите, что понимаете мою
тещу и можете привести другие доводы, вроде того, что газета еще не вышла в
свет и неизвестно, будет ли она иметь успех, и пока я не заработал и
фартинга, а значит, незачем спешить. Черт подери, влюбленные не могут ждать!
Знаете ли вы, что то, чего вы требуете от пылкого молодого человека, и без
того страдавшего полгода, бесчеловечно. Теща моя бесчеловечна, и вы не
лучше.
Признаюсь, сейчас я чувствую раскаяние, не свойственное мне тогда. Да,
это был опасный шаг, не следовало разрешать его, не знаю, почему мои
родители не воспротивились, разве только по себе знали, каково это, когда
удушают первую любовь. То было поразительно великодушно: сказать своему
единственному, довольно беспутному отпрыску "дерзай" и позволить жениться на
его избраннице, не приведя ни единого возражения. Благодарю их за это от
души.
Однако вернемся к этому чудищу в юбке - миссис Шоу. По несчастному
стечению обстоятельств, мне приходилось по делам новой газеты часто ездить в
Лондон, вследствие чего я непрестанно разлучался с Изабеллой и оставлял ее
во власти матери. Хотя я ежедневно писал ей, чего стоят бумажные призывы в
сравнении с отравой, вливаемой прямо в уши? Эта мегера, ее мать, страстно
обличала преступность будущего брака, пока не измучила ее и не довела до
такого состояния, что здоровье девушки пошатнулось. Я оказался не особенно
догадлив, более того - я раздражался, когда не приходили письма от моей
любимой, не задаваясь вопросом, что может быть тому причиной. Но как она
могла писать мне о том, что лежало у нее на душе, если мать следила за
каждым ее шагом и делала все, чтоб не выпустить из рук? Ее записочки (их
даже письмами не назовешь, это было бы для них слишком лестно), короткие и
принужденные, занимавшие не больше полустранички, состояли из общепринятых
любезностей, которые могли быть адресованы кому угодно. Должен признаться,
дорогие моему сердцу женщины всегда были нерадивыми корреспондентками, то
был мой бич. Когда я умру, среди моих бумаг не найдется ни одного письма,
которое заслуживает название любовного, но как же сам я изливал душу, когда
мне представлялся случай, какие страстные послания оставлю после себя!
Интересно, хранит ли некая особа в пачке, перевязанной голубой ленточкой,
все эти письма, полные кипящих чувств, письма, в которых я открываю свое
сердце? Я говорю не о своей жене, хотя, возможно, и она прячет в
каком-нибудь потайном уголке эти первые невинные послания. Я не хотел бы их
видеть, как не хотел бы видеть и иные, адресованные той, второй, однако не
стал бы возражать, если бы их прочли другие люди. Мне было бы слишком больно
их перечитывать, я заплакал бы от одного их вида, но осмелюсь утверждать,
что вам они бы показались интересными. Они дышали искренностью, каждое их
слово было написано от чистого сердца, и мне остается лишь грустить от того,
что сам я ни разу в жизни не получил ничего похожего ни от своей жены, ни
от... какой-нибудь другой женщины.
Вечно я все делаю наоборот: расписываю трудности сватовства и мерзости
несносных родственников, ни слова не сказав об Изабелле. Секрет в том, что
мою жену, вернее, то, что меня к ней привлекло, описать непросто. Можно,
конечно, рассказать, какая у нее была внешность (а еще лучше поместить здесь
один из моих карандашных набросков), но я сознаю свое бессилие: она
напоминала многих юных девушек, и если разбирать одну за другой черты ее
лица, в них не было ничего особенного, поэтому мои клятвенные заверения, что
Изабелла была - я в этом убежден - истинная красавица, покажутся вам пустым
бахвальством. И дело тут не в том, что для меня она была прекрасна, потому
что я любил ее - она и в самом деле была прекрасна, - а в том, что у нее был
тот редкий тип красоты, на который я всегда обращаю внимание, где бы его ни
встретил. Чтобы заметить эту неброскую красоту, между ее обладательницей и
восхищенным зрителем должно существовать душевное сродство. Нет, ничего не
получается, я не умею облекать сентиментальные воспоминания в изящные слова.
Попробую еще раз: с закрытыми глазами Изабелла не была так хороша, потому
что вся сила была в ее глазах, из них струились чистота, нежность и
мягкость, очаровавшие меня. В ней чувствовалась добродетель и спокойное
достоинство, которые больше всего пленяют меня в женщинах, и в то же время
пылкость чувств, неожиданная при таком мягком облике. Я не поклонник
величественных, бледноликих дев, которые сверкают и блистают в обществе, а
предпочитаю скромных девушек, которым так же мало хочется привлекать к себе
внимание, как, скажем, сквернословить. Если юная леди, которую я тщусь вам
описать, кажется вам простушкой, уверяю вас, это не так: и Изабелла, и все
ее сестры по духу - умные девушки с независимыми взглядами, просто они не
спешат выставлять свой ум напоказ. Они гораздо чаще опускают взор, чем
устремляют его с вызовом на собеседника, не рисуются обширностью своих
познаний и не спешат навязывать себя другим, но все это не означает, что в
них мало жизни или блеска: они предпочитают слушать, а не говорить, отчего
ничуть не делаются хуже. Критики сочли, что Эмилия из "Ярмарки тщеславия"
слишком идеальна, а значит, слишком скучна и быстро приедается, но если это
и так, то по вине повествователя и повествовательного жанра. Пробовали ли вы
когда-нибудь, читатель, растрогать публику рассказом о совершенной
добродетели? Невыполнимая задача, и Диккенс, как я заметил, справляется с
ней не лучше моего: добродетель блекнет при передаче в слове, тогда как
порок или, по крайней мере, нравственная слабость встают на бумаге как
живые. Все лучшие человеческие свойства, которые мы пытаемся запечатлеть, не
поддаются описанию, мы только и можем, что громоздить один эпитет на другой,
лишь увеличивая пустоту. Великая мера святости в герое не может не сердить
читателей или не вызывать у них улыбки недоверия, но даже если они и верят
этому его свойству, им быстро прискучивает столь безупречный персонаж.
В общем, хотя Изабелла во многом походила на Эмилию, которая, по мнению
критиков, не удалась мне, я все же дерзну, как это ни трудно, создать для
вас ее портрет. Замечу, что она была бледна, стройна, казалась хрупкой, что
у нее были прекрасные рыжие волосы, большие глаза и очень нежная улыбка. С
малознакомыми она держалась робко, но в обществе близких умела бурно
веселиться. Она неохотно делилась своими мыслями, но если удавалось ее
выспросить, ее суждения оказывались очень определенными. Меня к ней
привлекли не только внешность и манеры, которые были у нее как у настоящей
леди, но и ее явное восхищение моей особой. О, что за опьяняющий напиток!
Сумел ли бы я вынести ее презрение? Навряд ли. Увлекся ли бы я ею, если б
она меня не отличала? Не думаю. В тот первый вечер, когда, помню, увидел ее
в этом ужасном пансионе, она играла на рояле, а когда встала и, заливаясь
краской, повернулась к немногочисленным рукоплескавшим слушателям и наши
взгляды встретились, я, помню, ясно ощутил, что она в восторге от меня -
правда, я и сам был от нее в восторге - и хочет мне понравиться, хоть в этом
не было и тени кокетства, совершенно ей не свойственного. Есть ли на свете
мужчина, который точно так же, как и женщина, не жаждет поклонения? Хочется
верить, что речи мои не были бессвязными, - сам я находил собственное
остроумие неотразимым, а каждую фразу - перлом убийственной иронии. Изабелла
так смиренно, терпеливо и с обожанием во взоре выслушивала все, что я ни
изрекал, что под конец я раздулся от гордости. Казалось, она только и
думала, как угодить мне и одарить меня счастьем, - пожалуй, все то время,
что мы были вместе, она не знала никакого другого желания. Однако в ней не
было нерассуждающей покорности и уступчивости: как ни больно, как ни трудно
ей было возражать мне, она хотела и умела отстоять свои убеждения, когда они
приходили в столкновение с моими, - впрочем, столкновения эти бывали
пустяшными и не заслуживали такого громкого названия. Сначала она
колебалась, говорить ли, ее улыбка меркла, краска бросалась в лицо, потом
дрожащим голосом начинала перечислять, что, по ее мнению, верно или неверно
в том, что я сказал или сделал, - то было обворожительное зрелище, и я порой
не мог удержаться и намеренно вызывал в ней то, что она сама именовала
гневом. Гнев! Я думаю, она до самой смерти так и не знала, что такое гнев,
ярость, горечь, ненависть, - все эти мрачные чувства были неведомы моей
Изабелле. Нрав у нее был ангельский, и я почитал себя счастливейшим из
смертных.
Счастливейшим я и был бы, если бы не моя будущая теща - полная
противоположность своей дочери. Всю весну 1836 года я бился, чтобы получить
ее согласие на брак, но тщетно. Она упорствовала - я был неподходящей
партией. С терпением, которое мне самому казалось образцовым, я твердил ей о
новой газете, в которой предполагал работать, но она не уступала, и я снова
и снова напирал на то, что это будет твердый заработок - четыреста фунтов в
год и что риск обернется верной удачей. Я в самом деле в это верил, а не
придумывал заманчивые небылицы. Вышеупомянутая газета должна была называться
"Конститьюшенел энд Паблик Леджер", ее собиралось выпускать небольшое
акционерное общество, директором которого был мой отчим майор Кармайкл-Смит.
Предполагалось, что я стану ее парижским корреспондентом и буду писать об
искусстве и политике, а также обо всем, о чем мне заблагорассудится. На пост
редактора пригласили Ламана Бланшара, Дуглас Джерролд должен был возглавить
отдел театра, разные знаменитости обещали свою помощь. Надеюсь, вы меня не
осуждаете за то, что я пришел в восторг от этой перспективы? Я полагал, что
лучшей материальной базы для семейной жизни быть не может, но вы, кажется,
иного мнения? Я чувствую, вы колеблетесь, вы говорите, что понимаете мою
тещу и можете привести другие доводы, вроде того, что газета еще не вышла в
свет и неизвестно, будет ли она иметь успех, и пока я не заработал и
фартинга, а значит, незачем спешить. Черт подери, влюбленные не могут ждать!
Знаете ли вы, что то, чего вы требуете от пылкого молодого человека, и без
того страдавшего полгода, бесчеловечно. Теща моя бесчеловечна, и вы не
лучше.
Признаюсь, сейчас я чувствую раскаяние, не свойственное мне тогда. Да,
это был опасный шаг, не следовало разрешать его, не знаю, почему мои
родители не воспротивились, разве только по себе знали, каково это, когда
удушают первую любовь. То было поразительно великодушно: сказать своему
единственному, довольно беспутному отпрыску "дерзай" и позволить жениться на
его избраннице, не приведя ни единого возражения. Благодарю их за это от
души.
Однако вернемся к этому чудищу в юбке - миссис Шоу. По несчастному
стечению обстоятельств, мне приходилось по делам новой газеты часто ездить в
Лондон, вследствие чего я непрестанно разлучался с Изабеллой и оставлял ее
во власти матери. Хотя я ежедневно писал ей, чего стоят бумажные призывы в
сравнении с отравой, вливаемой прямо в уши? Эта мегера, ее мать, страстно
обличала преступность будущего брака, пока не измучила ее и не довела до
такого состояния, что здоровье девушки пошатнулось. Я оказался не особенно
догадлив, более того - я раздражался, когда не приходили письма от моей
любимой, не задаваясь вопросом, что может быть тому причиной. Но как она
могла писать мне о том, что лежало у нее на душе, если мать следила за
каждым ее шагом и делала все, чтоб не выпустить из рук? Ее записочки (их
даже письмами не назовешь, это было бы для них слишком лестно), короткие и
принужденные, занимавшие не больше полустранички, состояли из общепринятых
любезностей, которые могли быть адресованы кому угодно. Должен признаться,
дорогие моему сердцу женщины всегда были нерадивыми корреспондентками, то
был мой бич. Когда я умру, среди моих бумаг не найдется ни одного письма,
которое заслуживает название любовного, но как же сам я изливал душу, когда
мне представлялся случай, какие страстные послания оставлю после себя!
Интересно, хранит ли некая особа в пачке, перевязанной голубой ленточкой,
все эти письма, полные кипящих чувств, письма, в которых я открываю свое
сердце? Я говорю не о своей жене, хотя, возможно, и она прячет в
каком-нибудь потайном уголке эти первые невинные послания. Я не хотел бы их
видеть, как не хотел бы видеть и иные, адресованные той, второй, однако не
стал бы возражать, если бы их прочли другие люди. Мне было бы слишком больно
их перечитывать, я заплакал бы от одного их вида, но осмелюсь утверждать,
что вам они бы показались интересными. Они дышали искренностью, каждое их
слово было написано от чистого сердца, и мне остается лишь грустить от того,
что сам я ни разу в жизни не получил ничего похожего ни от своей жены, ни
от... какой-нибудь другой женщины.
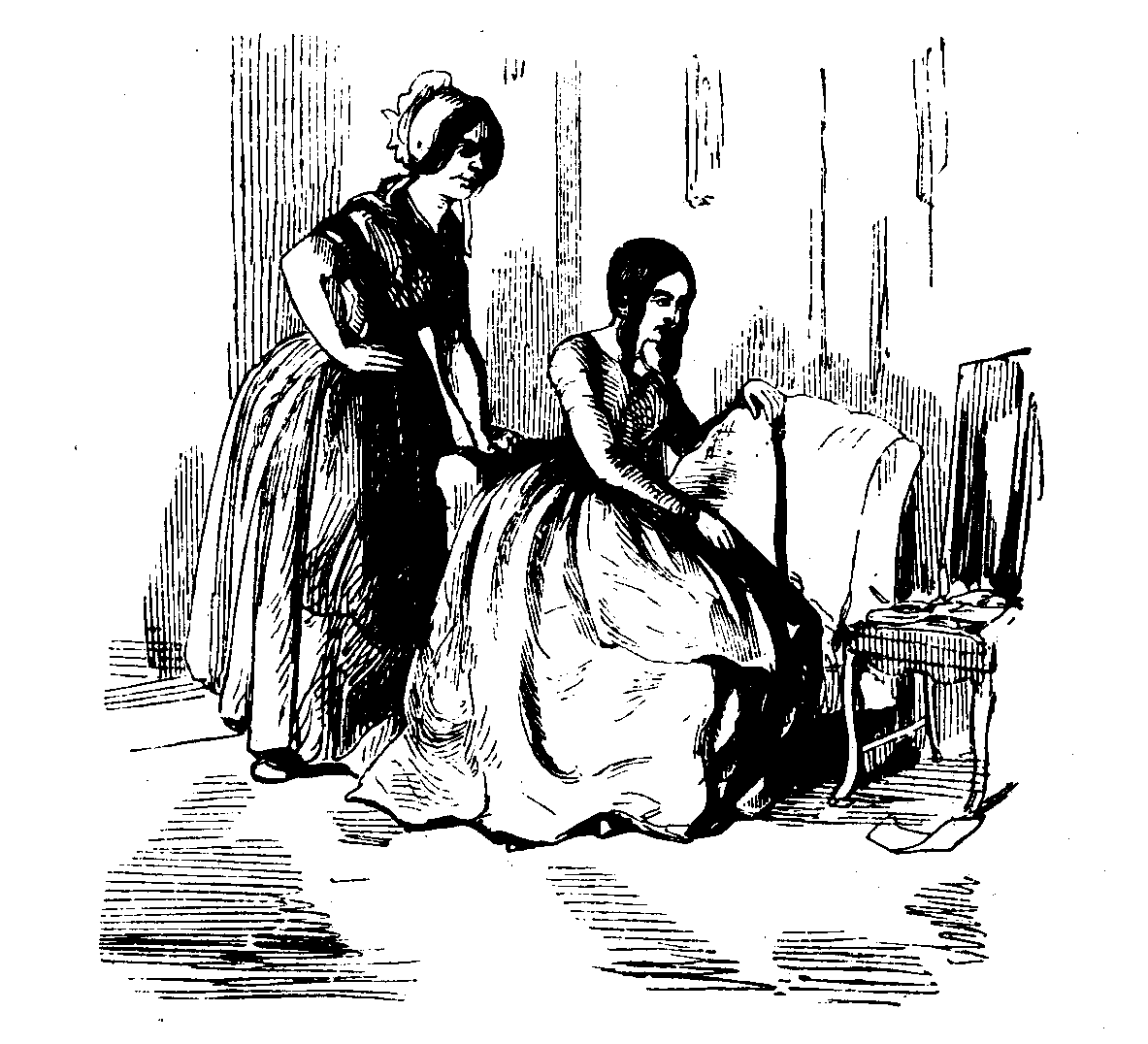 Короче говоря, я упрекал свою любимую за то, что она не пишет мне как
положено, хотя ничем не занята весь день. На самом деле, думал я о другом,
мне больше всего хотелось, чтобы она писала "как не положено", - подобно
мне, испещряла бумагу бесчисленными поцелуями, доверяла мне свои заветные
мечты и так же, как я, неудержимо и откровенно стремилась к совершению
некоего обряда. С таким же успехом я мог просить луну с неба. В ответ меня
уведомляли о самочувствии, погоде, о том, что маменька ополчается на мою
жестокость из-за того, что я добиваюсь их разлуки. Отвечать на этот щебет
было скучно, и, боюсь, порой я бывал нетерпелив и требовал хоть искры
чувства, что вызывало слезы другой стороны, после чего я тут же начинал
молить о прощении. Если бы мы с моей голубкой разлучились, - скажем, я уехал
бы на несколько лет служить в Индию и жил бы на другом краю земли, - смогла
бы выстоять наша любовь? Боюсь, что нет. По-моему, глупо говорить, что
настоящая любовь все может выдержать, я в это не верю, по крайней мере, не в
начале, когда ее не поддерживают узы брака. Как капля точит камень, так
Изабеллу донимала ее матушка и доняла бы в конце концов, даже если бы на это
ей потребовалось столько же лет, сколько капле' Изабелле не хватило бы
жизнестойкости, чтоб выдержать такое назойливое посягательство на ее
чувства. Я всегда считал, что настырность ее матери послужила началом всех
последующих бед, ибо причинила моей любимой такое горе, что нервные потери,
должно быть, оказались невосполнимы, но это означает, что и я, не проявивший
должной чуткости, был виноват не меньше миссис Шоу. Как тяжело, когда все в
жизни так запутывается!
Рыжеволосый образ Изабеллы преследовал меня в Лондоне повсюду, и я
вконец извелся. Я так измучился любовной лихорадкой, что решил жениться во
что бы то ни стало, независимо от того, будет выходить газета или нет; в
крайнем случае, мы могли поселиться в Лондоне у моих родителей (они как раз
недавно устроились на улице Альбион) и положиться на мое искусство
рисовальщика и на провидение. Я в самом деле думал, что если еще какое-то
время пробуду в разлуке с Изабеллой, то помешаюсь, помчусь в Париж и оттащу
ее за дивные косы от ее матери. Почти так все и произошло. К моему ужасу, -
и на этот раз я ничуть не преувеличиваю - в период чернейшего уныния я
получил письмо, из которого понял, что Изабелла хотела бы разорвать нашу
помолвку. Она обвиняла меня, желавшего разлучить ее с дорогой мамочкой, в
жестокости, словно разлука, на которой я вполне резонно настаивал, не
ограничивалась спальней - прошу прощения, если моя прямота вас покоробила. Я
просто погибал от гнева и горя и вовсе не собирался безропотно принять
суровый приговор: если Изабелла решила отказаться от меня, пусть скажет это
мне сама, своими собственными устами. Трудно было поверить, что она на это
способна. Что я такое сделал, в чем провинился, из-за чего такая перемена? Я
не знал за собой никакого проступка, все это были козни миссис Шоу, и я не
собирался стоять в стороне и ждать, пока она загубит мою жизнь. Помню, в
каком исступлении я сел писать ответ на это злосчастное письмо: я был не в
силах удержать перо в руке, не мог собраться с мыслями, не помнить о
приличиях. Я написал, что если огорчил ее, то неумышленно, - я каждый день
молился, чтоб небо отвратило меня от нечистых помыслов, которые могли бы
оттолкнуть ее, и что если я бывал не в меру страстен, то она, со своей
стороны, чрезмерно пеклась о мнении окружающих, и, по мне, уж лучше первое.
Я редко знал подобное неистовство, всего несколько раз в жизни мой ум
действительно мутился и меня охватывали такие мощные порывы чувства, что и
душой, и телом я погружался в полное смятение и сомневался, встречу ли
завтрашний рассвет. Какое благо прожить жизнь, не зная этого безумия, -
такие чувства оставляют по себе непреходящий след. Мне кажется, я и сегодня
вижу в зеркале морщины, прорезанные этими незабываемыми поворотами моей
жизненной истории, которые необратимо изменили соотношение черт - всю
географию лица. Гримасы боли проложили резкие морщины, на коже появились
ущелья - теснины горя, которые не исчезают, как я ни улыбаюсь.
Я, видимо, оказался красноречивее, чем ожидал, хотя не понимаю, как мои
сдавленные крики могли возыметь действие. Однако, когда я с великой
поспешностью, как мне и полагалось, вернулся в Париж и настоял на свидании с
Изабеллой, я застал ее раскаивающейся в поступке, к которому ее принудила
мать. Пришла пора проявить решительность и настойчивость, и на удивление
самому себе я проявил и то, и другое. Не стану задерживаться на всех
мерзостях, которые предшествовали нашему венчанию, - оно состоялось 20
августа 1836 года: Уильям Мейкпис Теккерей, 25 лет от роду, взял в жены
Изабеллу Геттин Шоу, 18 лет от роду, с согласия матери последней. Обратите
особое внимание на конец предыдущей фразы - "с согласия матери последней".
Вам, конечно, хочется узнать, как я воздействовал на миссис Шоу, но я вам
этого не расскажу по той простой причине, что уже не помню. Помню только,
что был в ударе, а гнев и пылкость придали особую силу моим доводам, но что
это были за доводы, мне уже не вспомнить. Согласие миссис Шоу было
необходимо - Изабелла была младшей, и мамаша знала, что держит на руках
козырь. Сама она, наверное, объяснила бы дело так, будто я грозился сбежать
с ее дочерью, -на что я был вполне способен - но ей бы следовало понимать,
что я не мог бы принести бесчестье любимой девушке. Она бы, чего доброго,
прибавила, будто я довел девушку до нервного срыва, и она как мать предпочла
уступить, опасаясь за жизнь дочери, - последнее верно, Изабелла способна
была умереть, если бы на ее любовь наложили запрет. Эта дама, миссис Шоу,
никогда не давала мне забыть об оказанной милости. Впоследствии, когда жизнь
сложилась так трагически, она всегда злобно шипела мне в спину, что она-де
меня предупреждала, она-де заранее предвидела, как все обернется, и тому
подобное. Ей было не понять, что если даже - не дай бог - она была права, я
все равно не жалею, что женился тогда.
Короче говоря, я упрекал свою любимую за то, что она не пишет мне как
положено, хотя ничем не занята весь день. На самом деле, думал я о другом,
мне больше всего хотелось, чтобы она писала "как не положено", - подобно
мне, испещряла бумагу бесчисленными поцелуями, доверяла мне свои заветные
мечты и так же, как я, неудержимо и откровенно стремилась к совершению
некоего обряда. С таким же успехом я мог просить луну с неба. В ответ меня
уведомляли о самочувствии, погоде, о том, что маменька ополчается на мою
жестокость из-за того, что я добиваюсь их разлуки. Отвечать на этот щебет
было скучно, и, боюсь, порой я бывал нетерпелив и требовал хоть искры
чувства, что вызывало слезы другой стороны, после чего я тут же начинал
молить о прощении. Если бы мы с моей голубкой разлучились, - скажем, я уехал
бы на несколько лет служить в Индию и жил бы на другом краю земли, - смогла
бы выстоять наша любовь? Боюсь, что нет. По-моему, глупо говорить, что
настоящая любовь все может выдержать, я в это не верю, по крайней мере, не в
начале, когда ее не поддерживают узы брака. Как капля точит камень, так
Изабеллу донимала ее матушка и доняла бы в конце концов, даже если бы на это
ей потребовалось столько же лет, сколько капле' Изабелле не хватило бы
жизнестойкости, чтоб выдержать такое назойливое посягательство на ее
чувства. Я всегда считал, что настырность ее матери послужила началом всех
последующих бед, ибо причинила моей любимой такое горе, что нервные потери,
должно быть, оказались невосполнимы, но это означает, что и я, не проявивший
должной чуткости, был виноват не меньше миссис Шоу. Как тяжело, когда все в
жизни так запутывается!
Рыжеволосый образ Изабеллы преследовал меня в Лондоне повсюду, и я
вконец извелся. Я так измучился любовной лихорадкой, что решил жениться во
что бы то ни стало, независимо от того, будет выходить газета или нет; в
крайнем случае, мы могли поселиться в Лондоне у моих родителей (они как раз
недавно устроились на улице Альбион) и положиться на мое искусство
рисовальщика и на провидение. Я в самом деле думал, что если еще какое-то
время пробуду в разлуке с Изабеллой, то помешаюсь, помчусь в Париж и оттащу
ее за дивные косы от ее матери. Почти так все и произошло. К моему ужасу, -
и на этот раз я ничуть не преувеличиваю - в период чернейшего уныния я
получил письмо, из которого понял, что Изабелла хотела бы разорвать нашу
помолвку. Она обвиняла меня, желавшего разлучить ее с дорогой мамочкой, в
жестокости, словно разлука, на которой я вполне резонно настаивал, не
ограничивалась спальней - прошу прощения, если моя прямота вас покоробила. Я
просто погибал от гнева и горя и вовсе не собирался безропотно принять
суровый приговор: если Изабелла решила отказаться от меня, пусть скажет это
мне сама, своими собственными устами. Трудно было поверить, что она на это
способна. Что я такое сделал, в чем провинился, из-за чего такая перемена? Я
не знал за собой никакого проступка, все это были козни миссис Шоу, и я не
собирался стоять в стороне и ждать, пока она загубит мою жизнь. Помню, в
каком исступлении я сел писать ответ на это злосчастное письмо: я был не в
силах удержать перо в руке, не мог собраться с мыслями, не помнить о
приличиях. Я написал, что если огорчил ее, то неумышленно, - я каждый день
молился, чтоб небо отвратило меня от нечистых помыслов, которые могли бы
оттолкнуть ее, и что если я бывал не в меру страстен, то она, со своей
стороны, чрезмерно пеклась о мнении окружающих, и, по мне, уж лучше первое.
Я редко знал подобное неистовство, всего несколько раз в жизни мой ум
действительно мутился и меня охватывали такие мощные порывы чувства, что и
душой, и телом я погружался в полное смятение и сомневался, встречу ли
завтрашний рассвет. Какое благо прожить жизнь, не зная этого безумия, -
такие чувства оставляют по себе непреходящий след. Мне кажется, я и сегодня
вижу в зеркале морщины, прорезанные этими незабываемыми поворотами моей
жизненной истории, которые необратимо изменили соотношение черт - всю
географию лица. Гримасы боли проложили резкие морщины, на коже появились
ущелья - теснины горя, которые не исчезают, как я ни улыбаюсь.
Я, видимо, оказался красноречивее, чем ожидал, хотя не понимаю, как мои
сдавленные крики могли возыметь действие. Однако, когда я с великой
поспешностью, как мне и полагалось, вернулся в Париж и настоял на свидании с
Изабеллой, я застал ее раскаивающейся в поступке, к которому ее принудила
мать. Пришла пора проявить решительность и настойчивость, и на удивление
самому себе я проявил и то, и другое. Не стану задерживаться на всех
мерзостях, которые предшествовали нашему венчанию, - оно состоялось 20
августа 1836 года: Уильям Мейкпис Теккерей, 25 лет от роду, взял в жены
Изабеллу Геттин Шоу, 18 лет от роду, с согласия матери последней. Обратите
особое внимание на конец предыдущей фразы - "с согласия матери последней".
Вам, конечно, хочется узнать, как я воздействовал на миссис Шоу, но я вам
этого не расскажу по той простой причине, что уже не помню. Помню только,
что был в ударе, а гнев и пылкость придали особую силу моим доводам, но что
это были за доводы, мне уже не вспомнить. Согласие миссис Шоу было
необходимо - Изабелла была младшей, и мамаша знала, что держит на руках
козырь. Сама она, наверное, объяснила бы дело так, будто я грозился сбежать
с ее дочерью, -на что я был вполне способен - но ей бы следовало понимать,
что я не мог бы принести бесчестье любимой девушке. Она бы, чего доброго,
прибавила, будто я довел девушку до нервного срыва, и она как мать предпочла
уступить, опасаясь за жизнь дочери, - последнее верно, Изабелла способна
была умереть, если бы на ее любовь наложили запрет. Эта дама, миссис Шоу,
никогда не давала мне забыть об оказанной милости. Впоследствии, когда жизнь
сложилась так трагически, она всегда злобно шипела мне в спину, что она-де
меня предупреждала, она-де заранее предвидела, как все обернется, и тому
подобное. Ей было не понять, что если даже - не дай бог - она была права, я
все равно не жалею, что женился тогда.
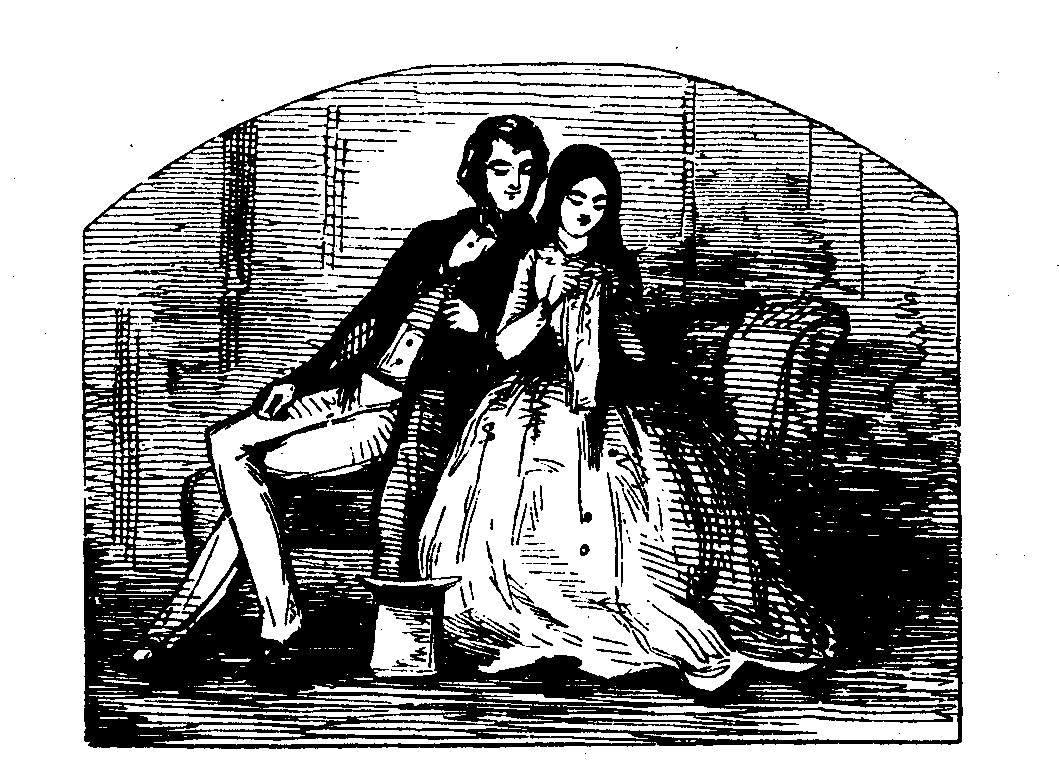 Нас обвенчали в доме британского посла в Париже в присутствии троих
свидетелей, от моей семьи никого не было. Не пели трубы и фанфары, не было
торжественного выхода подружек невесты и толпы элегантных гостей, то была
тихая, скромная церемония, пожалуй, даже сиротливая. Порою, проходя мимо
какой-нибудь церквушки, я вижу, как из нее выходят новобрачные, похожие на
нас с Изабеллой, в сопровождении кучки странноватых спутников, и это
трогательное зрелище вызывает у меня на глазах слезы. При виде такой
одинокой пары я неизменно задумываюсь, какая трепетная штука венчание и как
меркнет его волшебство из-за помпезных церемоний, словно прекрасный цветок в
бесчисленных обертках. То же происходит и со вторым значительным событием -
с похоронами, простите мне меланхоличность моих мыслей. Как часто, стоя с
одним-двумя друзьями у края наспех вырытой могилы, в которую опускают грубый
деревянный гроб, я исполняюсь истинного горя, но как же часто посреди густой
толпы в глубоком и великолепном трауре, рядом с роскошными, пунцовыми
султанами на лбу у черных лошадей и золоченым саркофагом, который точно так
же опускают в землю, я чувствую, что горе мое тает. Необходима простота,
чтоб сохранилось чувство, но, кажется, я снова взялся проповедовать. После
всяческого суесловия я наконец-то рассказал вам нечто важное, ибо любовь
мужчины к женщине - всегда важное событие. Когда я отбыл со своей женой
после венчания - своей женой, подумать только! - я чувствовал себя самым
счастливым человеком в мире. Мне было ни к чему, чтобы нас осыпали монетами
и рисом, чтоб убирали лентами карету, ибо сама моя радость достойно украшала
свадьбу. А как Изабелла? Была ли она счастлива? О да, но только трепетала,
даже плакала и во всем сомневалась, не то, что я, но мне хватало уверенности
на двоих. Какая чудесная, какая замечательная штука молодость!
^T6^U
^TСемейная идиллия в стесненных обстоятельствах^U
Перед всем тем мраком, который последует дальше, я бы хотел нарисовать
вам радостную картину, но тут передо мной встает неразрешимая задача: мое
перо бессильно описать идиллию. Счастье я бы дерзнул изобразить, но не
идиллию - она не поддается слову. Если я тонул, бился, из кожи вон лез,
стараясь показать вам добродетель, и окончательно удостоверился, что сделать
это невозможно, то в силах ли я воссоздать безоблачную атмосферу первых лет
моего супружества? Конечно, нет, конечно, мне с этим не справиться, но у
меня есть утешение: я испытал то, о чем пишу, и это главное. Вообразите, как
было бы ужасно взывать к прошлому, которое, на самом деле, было
малопривлекательно и которое я бы сейчас пытался приукрасить. Нет ничего
хуже, чем исходить слезами и хныкать о минувшем, зная в глубине души, что
оно ничуть не походило на картину, которую вы силитесь представить. Мне
радостно вспоминать, как мы с Изабеллой были счастливы в наших меблированных
комнатах на улице Нев-Сент-Огюстен, и этих воспоминаний никто у меня не
отнимет и не испортит кислой, сомневающейся миной. Мы были блаженно
счастливы, и этим все сказано.
Этим все сказано, но этим ничего не скажешь. Я захотел бы слишком
многого, если бы, сообщив вам наш парижский адрес, вообразил, что вы теперь
все знаете. Нет, я буду действовать иначе - я извлеку для вас из памяти
звуки, запахи и сцены, а вы их соберете в общую картину. (Надеюсь, мне
зачтется эта благородная попытка - после нее никто не сможет заявить, будто
старый циник только и пишет, что об изнанке жизни.) Начну с шарманки,
дрожащие звуки которой резко вступали и тут же обрывались, так и не
сложившись в ясный мелодический рисунок, а может быть, мне это только
казалось, ибо, разбуженный этими звуками, я тотчас засыпал снова. Вряд ли
шарманщик намеренно устраивался под нашим окном, но, неизменно под ним
располагаясь, с величайшим постоянством дарил нас утренней серенадой. Затем
вступал грохот колес: улица у нас была оживленная, и каждая повозка звучала
на свой лад. Порой мне представлялось, что наша комната куда-то славно катит
- так сильно было ощущение движения от проносившихся карет. А эти запахи!
Можно было подумать, будто рядом с нами помещались все лучшие кондитерские
Парижа, хоть это было и не так. Живя в Париже, невозможно первым делом не
вдохнуть теплое утреннее благоухание хлеба и булочек, которые пекутся в
каждом втором доме; признаюсь, то была весть моему желудку, увлекавшая меня
из края сна в страну живых. Затем, полуодевшись, мы садились за стол,
стоявший у открытого окна, на котором был сервирован присланный нам завтрак,
и по одну его сторону расцветали робкие улыбки, а по другую слышалось
громкое самодовольное хмыканье, и в этом беззастенчивом времяпрепровождении
уносились дни за днями.
Теперь я недоумеваю, как это получалось, что часы тянулись долго, а дни
летели быстро. Одно могу сказать: мы спали по одиннадцать часов в сутки, и я
растолстел. Конечно, я работал - я должен был очень усердно писать и
рисовать, но чем занималась в это время моя маленькая женушка? Понятия не
имею, хозяйство у нас было нехитрое, оно не отнимало у Изабеллы много
времени, а ничего другого я от нее не требовал и бывал очень доволен, если
она первую половину дня расчесывала волосы, а вторую - играла на рояле. Она
подолгу пела и играла - и то, и другое очаровательно и исключительно для
собственного удовольствия. Когда я пытаюсь представить себе нашу гостиную,
мне тотчас вспоминается рояль - кроме него там почти ничего не было, только
довольно красивые часы, образ которых неожиданно всплыл в моей памяти, да
старый просиженный диван, на котором я растягивался, попыхивая сигарой и
наслаждаясь импровизированными концертами. Меня нимало не тревожило, готова
ли моя жена к замужней жизни, которой она откровенно забавлялась, и не
мелькала мысль о том, что мне следует взять на себя заботу о ее развитии и
направить ее ум на что-нибудь более полезное, чем расчесывание волос и
музицирование. Отчего я не пытался приобщить ее к тому, чем наслаждался сам:
к искусству и книгам? Трудно сказать, но, несомненно, не потому, что она мне
казалась глупенькой, скорее дело было в том, что у нее не было к тому ни
расположения, ни подготовки, а я не догадывался разделить с ней то, чем
занимался. Наверное, я видел в ней ребенка, и мне хотелось, чтобы она целыми
днями веселилась. То были слабость и неразумие с моей стороны, о которых мне
остается только пожалеть. Мне следовало направлять ее развитие, но я не
относился к ней достаточно серьезно. Я страстно любил ее и полагал, что коль
скоро я ею восхищаюсь, ласкаю и защищаю ее, больше от меня ничего не
требуется, я не давал себе труда задуматься над тем, что скудный рацион
забавы чреват бедой. Она радовалась своему досугу и радовала меня, и я не
видел в этом ничего дурного, ведь после пойдут дети, думал я, и забот у нее
будет предостаточно. А до тех пор супружество казалось мне долгими
каникулами, которые даны для наслаждения.
Так мы и жили: ели прекрасные обеды, почти не требовавшие
приготовления, какими кормят лишь в Париже, пили прекрасное вино и мечтали о
будущем благоденствии. Получив деньги, мы их тут же тратили, пребывая в
полной уверенности, что нам пришлют их снова; у меня и впрямь не иссякал
приток небольших заказов. Люди были добры к нам, к этому верзиле Теккерею и
его крошке-женушке, - я знаю по себе, как меня умиляют влюбленные юные пары,
супружество которых еще находится в поре весеннего цветения. Навстречу нам
устремлялись руки помощи, и мы были не так горды, чтобы отказываться. У нас
была сказочно простая бухгалтерия: я обращал чек в деньги, как только
получал его, и тут же шел и тратил их, нимало не заботясь о сбережениях для
вереницы будущих Теккереев, которых мы надеялись произвести на свет. Я знал,
что на счету у меня пусто, но юности свойственно уповать на будущее, а я был
очень молод и очень верил в будущее. Я возлагал надежды не на какое-то
конкретное обстоятельство, а на свои силы, энергию и, позвольте сказать
честно, на свой талант. Тем не менее главное событие первого года моего
супружества отнюдь не прибавляло веры в будущее - то был крах
"Конститьюшенела", в котором погиб почти весь капитал моего отчима и остатки
моего наследства. Не знаю, что могло быть хуже, однако меня это не
подкосило, я не дал воли безудержному горю, отчаянию и тому подобному.
Напротив, это побудило меня к действию, а когда ленивый человек становится
деятельным, результаты бывают поразительны. Все это время во мне жила
несокрушимая уверенность, что я могу и хочу достичь чего-то на литературном
поприще, и это помогало мне держаться на плаву и побеждать уныние.
Нас обвенчали в доме британского посла в Париже в присутствии троих
свидетелей, от моей семьи никого не было. Не пели трубы и фанфары, не было
торжественного выхода подружек невесты и толпы элегантных гостей, то была
тихая, скромная церемония, пожалуй, даже сиротливая. Порою, проходя мимо
какой-нибудь церквушки, я вижу, как из нее выходят новобрачные, похожие на
нас с Изабеллой, в сопровождении кучки странноватых спутников, и это
трогательное зрелище вызывает у меня на глазах слезы. При виде такой
одинокой пары я неизменно задумываюсь, какая трепетная штука венчание и как
меркнет его волшебство из-за помпезных церемоний, словно прекрасный цветок в
бесчисленных обертках. То же происходит и со вторым значительным событием -
с похоронами, простите мне меланхоличность моих мыслей. Как часто, стоя с
одним-двумя друзьями у края наспех вырытой могилы, в которую опускают грубый
деревянный гроб, я исполняюсь истинного горя, но как же часто посреди густой
толпы в глубоком и великолепном трауре, рядом с роскошными, пунцовыми
султанами на лбу у черных лошадей и золоченым саркофагом, который точно так
же опускают в землю, я чувствую, что горе мое тает. Необходима простота,
чтоб сохранилось чувство, но, кажется, я снова взялся проповедовать. После
всяческого суесловия я наконец-то рассказал вам нечто важное, ибо любовь
мужчины к женщине - всегда важное событие. Когда я отбыл со своей женой
после венчания - своей женой, подумать только! - я чувствовал себя самым
счастливым человеком в мире. Мне было ни к чему, чтобы нас осыпали монетами
и рисом, чтоб убирали лентами карету, ибо сама моя радость достойно украшала
свадьбу. А как Изабелла? Была ли она счастлива? О да, но только трепетала,
даже плакала и во всем сомневалась, не то, что я, но мне хватало уверенности
на двоих. Какая чудесная, какая замечательная штука молодость!
^T6^U
^TСемейная идиллия в стесненных обстоятельствах^U
Перед всем тем мраком, который последует дальше, я бы хотел нарисовать
вам радостную картину, но тут передо мной встает неразрешимая задача: мое
перо бессильно описать идиллию. Счастье я бы дерзнул изобразить, но не
идиллию - она не поддается слову. Если я тонул, бился, из кожи вон лез,
стараясь показать вам добродетель, и окончательно удостоверился, что сделать
это невозможно, то в силах ли я воссоздать безоблачную атмосферу первых лет
моего супружества? Конечно, нет, конечно, мне с этим не справиться, но у
меня есть утешение: я испытал то, о чем пишу, и это главное. Вообразите, как
было бы ужасно взывать к прошлому, которое, на самом деле, было
малопривлекательно и которое я бы сейчас пытался приукрасить. Нет ничего
хуже, чем исходить слезами и хныкать о минувшем, зная в глубине души, что
оно ничуть не походило на картину, которую вы силитесь представить. Мне
радостно вспоминать, как мы с Изабеллой были счастливы в наших меблированных
комнатах на улице Нев-Сент-Огюстен, и этих воспоминаний никто у меня не
отнимет и не испортит кислой, сомневающейся миной. Мы были блаженно
счастливы, и этим все сказано.
Этим все сказано, но этим ничего не скажешь. Я захотел бы слишком
многого, если бы, сообщив вам наш парижский адрес, вообразил, что вы теперь
все знаете. Нет, я буду действовать иначе - я извлеку для вас из памяти
звуки, запахи и сцены, а вы их соберете в общую картину. (Надеюсь, мне
зачтется эта благородная попытка - после нее никто не сможет заявить, будто
старый циник только и пишет, что об изнанке жизни.) Начну с шарманки,
дрожащие звуки которой резко вступали и тут же обрывались, так и не
сложившись в ясный мелодический рисунок, а может быть, мне это только
казалось, ибо, разбуженный этими звуками, я тотчас засыпал снова. Вряд ли
шарманщик намеренно устраивался под нашим окном, но, неизменно под ним
располагаясь, с величайшим постоянством дарил нас утренней серенадой. Затем
вступал грохот колес: улица у нас была оживленная, и каждая повозка звучала
на свой лад. Порой мне представлялось, что наша комната куда-то славно катит
- так сильно было ощущение движения от проносившихся карет. А эти запахи!
Можно было подумать, будто рядом с нами помещались все лучшие кондитерские
Парижа, хоть это было и не так. Живя в Париже, невозможно первым делом не
вдохнуть теплое утреннее благоухание хлеба и булочек, которые пекутся в
каждом втором доме; признаюсь, то была весть моему желудку, увлекавшая меня
из края сна в страну живых. Затем, полуодевшись, мы садились за стол,
стоявший у открытого окна, на котором был сервирован присланный нам завтрак,
и по одну его сторону расцветали робкие улыбки, а по другую слышалось
громкое самодовольное хмыканье, и в этом беззастенчивом времяпрепровождении
уносились дни за днями.
Теперь я недоумеваю, как это получалось, что часы тянулись долго, а дни
летели быстро. Одно могу сказать: мы спали по одиннадцать часов в сутки, и я
растолстел. Конечно, я работал - я должен был очень усердно писать и
рисовать, но чем занималась в это время моя маленькая женушка? Понятия не
имею, хозяйство у нас было нехитрое, оно не отнимало у Изабеллы много
времени, а ничего другого я от нее не требовал и бывал очень доволен, если
она первую половину дня расчесывала волосы, а вторую - играла на рояле. Она
подолгу пела и играла - и то, и другое очаровательно и исключительно для
собственного удовольствия. Когда я пытаюсь представить себе нашу гостиную,
мне тотчас вспоминается рояль - кроме него там почти ничего не было, только
довольно красивые часы, образ которых неожиданно всплыл в моей памяти, да
старый просиженный диван, на котором я растягивался, попыхивая сигарой и
наслаждаясь импровизированными концертами. Меня нимало не тревожило, готова
ли моя жена к замужней жизни, которой она откровенно забавлялась, и не
мелькала мысль о том, что мне следует взять на себя заботу о ее развитии и
направить ее ум на что-нибудь более полезное, чем расчесывание волос и
музицирование. Отчего я не пытался приобщить ее к тому, чем наслаждался сам:
к искусству и книгам? Трудно сказать, но, несомненно, не потому, что она мне
казалась глупенькой, скорее дело было в том, что у нее не было к тому ни
расположения, ни подготовки, а я не догадывался разделить с ней то, чем
занимался. Наверное, я видел в ней ребенка, и мне хотелось, чтобы она целыми
днями веселилась. То были слабость и неразумие с моей стороны, о которых мне
остается только пожалеть. Мне следовало направлять ее развитие, но я не
относился к ней достаточно серьезно. Я страстно любил ее и полагал, что коль
скоро я ею восхищаюсь, ласкаю и защищаю ее, больше от меня ничего не
требуется, я не давал себе труда задуматься над тем, что скудный рацион
забавы чреват бедой. Она радовалась своему досугу и радовала меня, и я не
видел в этом ничего дурного, ведь после пойдут дети, думал я, и забот у нее
будет предостаточно. А до тех пор супружество казалось мне долгими
каникулами, которые даны для наслаждения.
Так мы и жили: ели прекрасные обеды, почти не требовавшие
приготовления, какими кормят лишь в Париже, пили прекрасное вино и мечтали о
будущем благоденствии. Получив деньги, мы их тут же тратили, пребывая в
полной уверенности, что нам пришлют их снова; у меня и впрямь не иссякал
приток небольших заказов. Люди были добры к нам, к этому верзиле Теккерею и
его крошке-женушке, - я знаю по себе, как меня умиляют влюбленные юные пары,
супружество которых еще находится в поре весеннего цветения. Навстречу нам
устремлялись руки помощи, и мы были не так горды, чтобы отказываться. У нас
была сказочно простая бухгалтерия: я обращал чек в деньги, как только
получал его, и тут же шел и тратил их, нимало не заботясь о сбережениях для
вереницы будущих Теккереев, которых мы надеялись произвести на свет. Я знал,
что на счету у меня пусто, но юности свойственно уповать на будущее, а я был
очень молод и очень верил в будущее. Я возлагал надежды не на какое-то
конкретное обстоятельство, а на свои силы, энергию и, позвольте сказать
честно, на свой талант. Тем не менее главное событие первого года моего
супружества отнюдь не прибавляло веры в будущее - то был крах
"Конститьюшенела", в котором погиб почти весь капитал моего отчима и остатки
моего наследства. Не знаю, что могло быть хуже, однако меня это не
подкосило, я не дал воли безудержному горю, отчаянию и тому подобному.
Напротив, это побудило меня к действию, а когда ленивый человек становится
деятельным, результаты бывают поразительны. Все это время во мне жила
несокрушимая уверенность, что я могу и хочу достичь чего-то на литературном
поприще, и это помогало мне держаться на плаву и побеждать уныние.
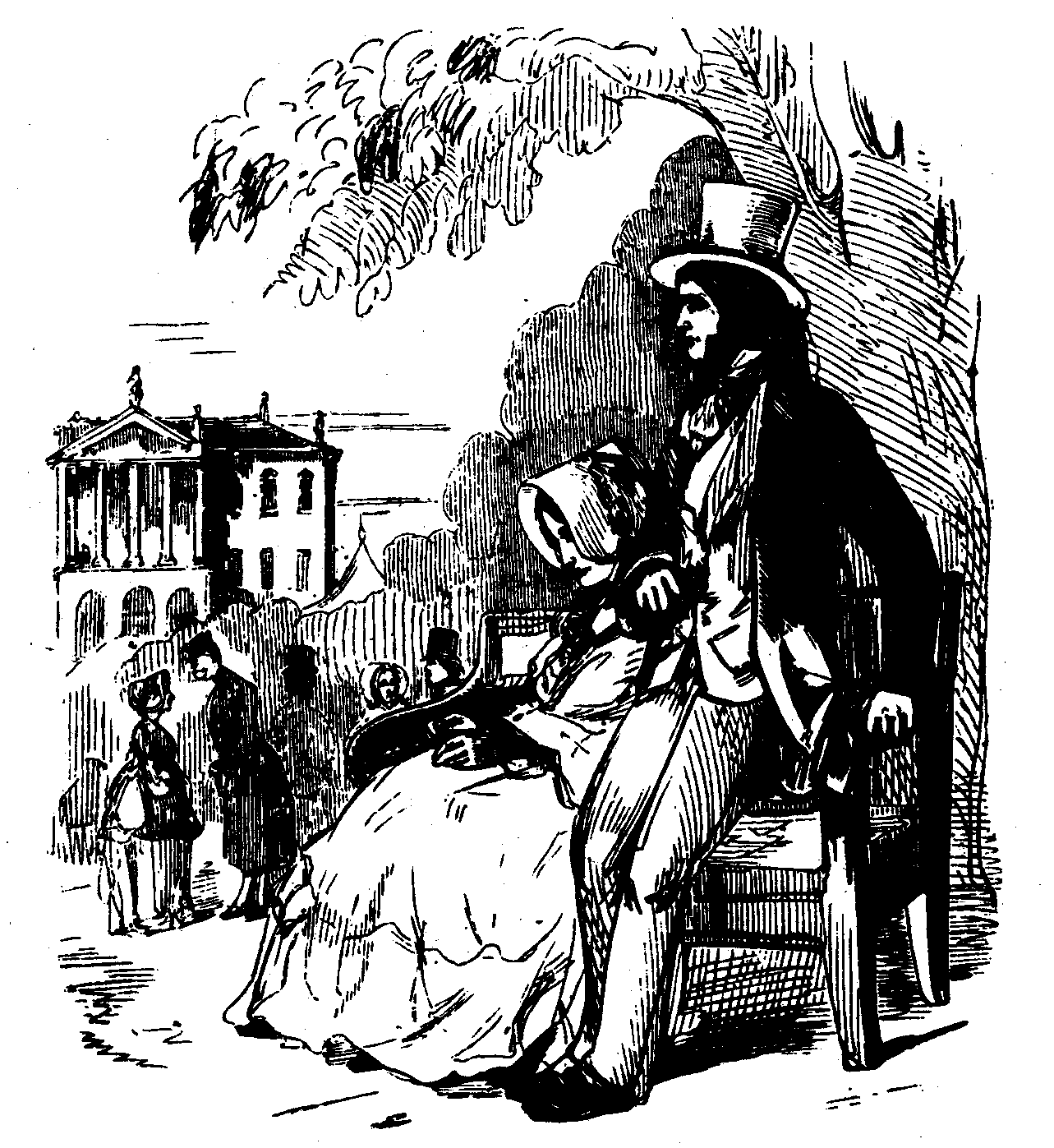 Итак, осенью 1837 года я решил трезво оценить свои возможности. В конце
концов, что питало эту мою благословенную уверенность, что я такого
совершил? Почти ничего, вернее, такую малость, что сам не пойму, откуда она
у меня взялась, но все-таки прекрасно, что она меня не покидала. За мной
только и числилось, что изрядное количество поденщины, которую я выполнял,
кто бы ее ни заказывал, - последнее мне было совершенно безразлично, за
плату любой журнал мог получить мой материал. "Рецензию на книгу? - Охотно,
сколько вы платите? - Заграничную корреспонденцию? - С удовольствием,
сколько вы начисляете за строчку? - Отзыв о выставке живописи? - Готово.
Оплата аккордная, пожалуйста. - Несколько рисунков? - Незамедлительно! Какие
у вас расценки?" Я не привередничал и не спрашивал, кому я требуюсь и для
какого издания, но человек остается себе верен, тем более такой, как я, и у
меня, конечно, были предпочтения. Догадываетесь, кого этот сноб от
журналистики предпочитал? "Морнинг Кроникл". Печататься там, где меня читали
серьезные люди, было особенно приятно, но уж когда я писал рецензии для
"Таймс", я просто лопался от гордости! Как почти все, что я печатал, мои
обзоры шли без подписи, но каждому желающему ничего не стоило узнать фамилию
автора. Вот Джонс сидит в своем любимом кресле в клубе, рядом - стакан
отличного портвейна, он разворачивает "Таймс", читает мою статью, которая,
конечно, сразу привлекает его внимание, тут же хлопает по плечу Брауна и,
потревожив сон последнего, спрашивает, не знает ли он, кто написал эту
потрясающую статью. "Бог мой, - отвечает Браун, улыбнувшись чуть
презрительно отсталости Джонса, - да это же Теккерей. Не может быть, чтоб вы
не слышали! Молодой человек, подающий большие надежды, о нем все говорят".
Примерно так я представлял себе, как мое имя прогремит по Лондону; к тому же
я внушил себе, будто создал неповторимый стиль, которому никто не может
подражать, иначе как на свою погибель, и, знаете, до определенной степени я
не, ошибался. Я вовсе не хочу сказать, будто на моих статьях лежала печать
гения, я только утверждаю, что в них была индивидуальность. Я высоко ценил
свою прямоту, честность и решительность суждений обо всем на свете -
энергичные нападки были моей отличительной особенностью, и полагал, что мой
словесный бич наносит невероятно меткие и крепкие удары: когда я хотел быть
саркастичным, на снисхождение рассчитывать не приходилось. Недавно кто-то
откопал и напечатал эти мои первые безделки: ох, я чуть не заплакал от стыда
и ужаснулся своему нахальству. Какая жуткая заносчивость, какая несносная
самоуверенность, какая дурацкая нетерпимость по отношению к чьему бы то ни
было таланту, кроме своего собственного! Не понимаю, как такая безудержность
не отвратила от меня читателей или не возбудила их презрение. Но в свое
время никто не выбранил меня, и не нашлось редактора, который посоветовал бы
мне умерить пыл, - не потому ли, что хлесткие статьи финансово себя
оправдывали? Конечно, было бы гораздо лучше, если б я так не усердствовал,
но время это отшумело, я научился осмотрительности и терпимости, того щенка,
который рубил с плеча, уже не существует, и я не должен на него сердиться,
ведь он не ведал, что творил, - клянусь, совсем не ведал.
Итак, осенью 1837 года я решил трезво оценить свои возможности. В конце
концов, что питало эту мою благословенную уверенность, что я такого
совершил? Почти ничего, вернее, такую малость, что сам не пойму, откуда она
у меня взялась, но все-таки прекрасно, что она меня не покидала. За мной
только и числилось, что изрядное количество поденщины, которую я выполнял,
кто бы ее ни заказывал, - последнее мне было совершенно безразлично, за
плату любой журнал мог получить мой материал. "Рецензию на книгу? - Охотно,
сколько вы платите? - Заграничную корреспонденцию? - С удовольствием,
сколько вы начисляете за строчку? - Отзыв о выставке живописи? - Готово.
Оплата аккордная, пожалуйста. - Несколько рисунков? - Незамедлительно! Какие
у вас расценки?" Я не привередничал и не спрашивал, кому я требуюсь и для
какого издания, но человек остается себе верен, тем более такой, как я, и у
меня, конечно, были предпочтения. Догадываетесь, кого этот сноб от
журналистики предпочитал? "Морнинг Кроникл". Печататься там, где меня читали
серьезные люди, было особенно приятно, но уж когда я писал рецензии для
"Таймс", я просто лопался от гордости! Как почти все, что я печатал, мои
обзоры шли без подписи, но каждому желающему ничего не стоило узнать фамилию
автора. Вот Джонс сидит в своем любимом кресле в клубе, рядом - стакан
отличного портвейна, он разворачивает "Таймс", читает мою статью, которая,
конечно, сразу привлекает его внимание, тут же хлопает по плечу Брауна и,
потревожив сон последнего, спрашивает, не знает ли он, кто написал эту
потрясающую статью. "Бог мой, - отвечает Браун, улыбнувшись чуть
презрительно отсталости Джонса, - да это же Теккерей. Не может быть, чтоб вы
не слышали! Молодой человек, подающий большие надежды, о нем все говорят".
Примерно так я представлял себе, как мое имя прогремит по Лондону; к тому же
я внушил себе, будто создал неповторимый стиль, которому никто не может
подражать, иначе как на свою погибель, и, знаете, до определенной степени я
не, ошибался. Я вовсе не хочу сказать, будто на моих статьях лежала печать
гения, я только утверждаю, что в них была индивидуальность. Я высоко ценил
свою прямоту, честность и решительность суждений обо всем на свете -
энергичные нападки были моей отличительной особенностью, и полагал, что мой
словесный бич наносит невероятно меткие и крепкие удары: когда я хотел быть
саркастичным, на снисхождение рассчитывать не приходилось. Недавно кто-то
откопал и напечатал эти мои первые безделки: ох, я чуть не заплакал от стыда
и ужаснулся своему нахальству. Какая жуткая заносчивость, какая несносная
самоуверенность, какая дурацкая нетерпимость по отношению к чьему бы то ни
было таланту, кроме своего собственного! Не понимаю, как такая безудержность
не отвратила от меня читателей или не возбудила их презрение. Но в свое
время никто не выбранил меня, и не нашлось редактора, который посоветовал бы
мне умерить пыл, - не потому ли, что хлесткие статьи финансово себя
оправдывали? Конечно, было бы гораздо лучше, если б я так не усердствовал,
но время это отшумело, я научился осмотрительности и терпимости, того щенка,
который рубил с плеча, уже не существует, и я не должен на него сердиться,
ведь он не ведал, что творил, - клянусь, совсем не ведал.
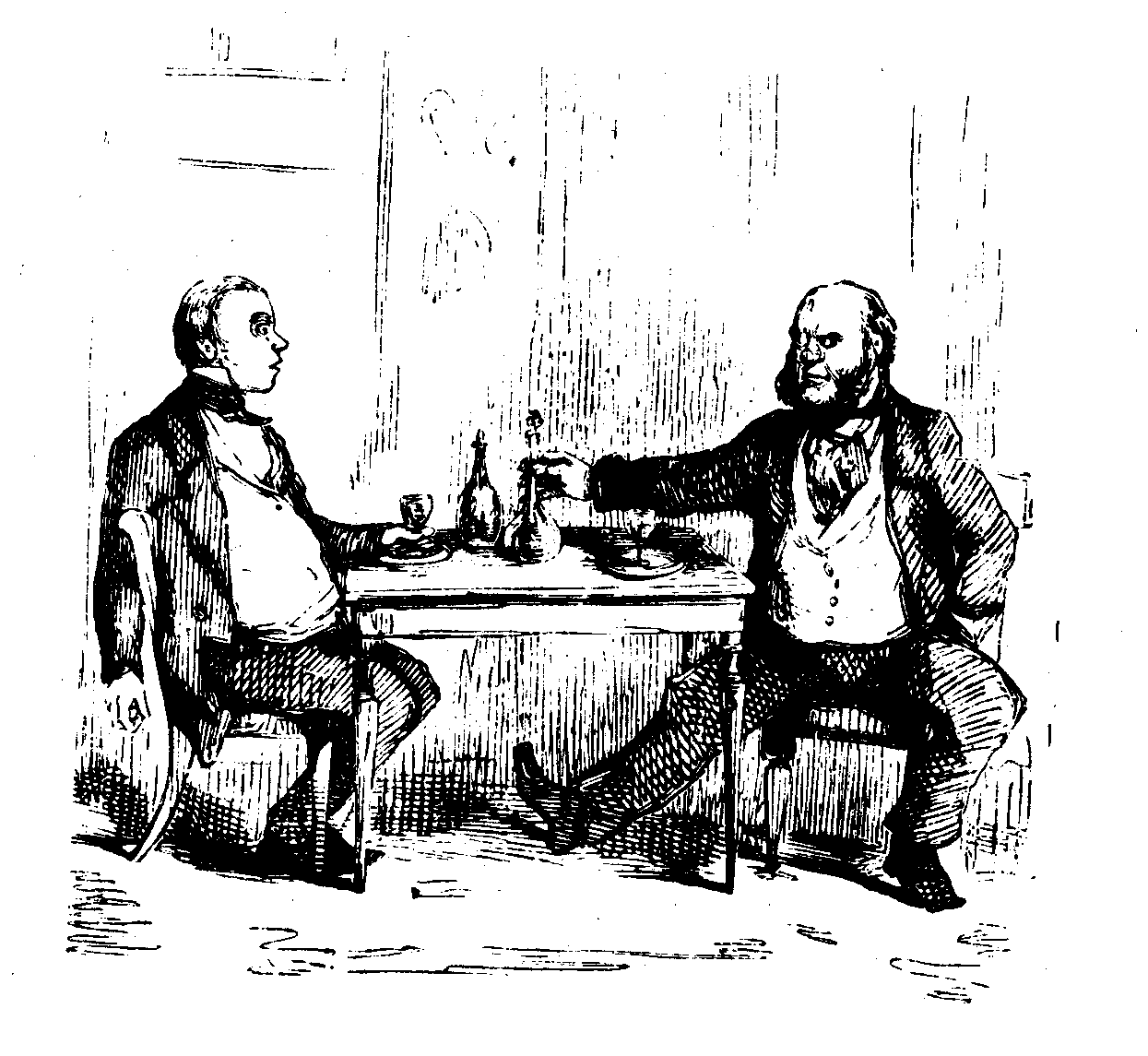 В то время меня влекло по течению еще одного ручья, который, вскоре
разлился в большую реку и служил нам всем надеждой на спасение, - я, имею в
виду сочинительство. Журналистикой и зарабатывал на хлеб насущный, без нее
нельзя было обойтись, но беллетристика была мне ближе, и в ней я соблюдал
большую сдержанность. Не мог же я повсюду так свирепствовать, как в
рецензиях, и к тому же мне было гораздо интереснее писать свою прозу,
казавшуюся мне удачной, чем постоянно высмеивать чужую, которую я находил
бездарной. Я где-то записал для себя дату публикации моего первого творения,
но не могу вспомнить, где именно. Знаю только, что писал я много и регулярно
и что большинство публикаций не привлекло к себе особого внимания. Довольно
много взял у меня "Фрейзерз Мэгэзин", котррым я всегда восхищался; "Записки
Желтоплюша" появились на его страницах в 1837 году.
Они возникли как интересная, но побочная работа, которая
нежданно-негаданно принесла мне больше пользы, чем я ожидал, и помогла
упрочить литературную репутацию. Началось с того, что некий торговец льняным
товаром по имени Скелетт выпустил книгу об изящных манерах - вы не находите,
что это достаточно смешно и само по себе? - и мне заказали на нее отзыв,
который как-то незаметно превратился в серию заметок, якобы написанных от
лица лакея Чарлза Желтоплюша, лондонского простолюдина, но то, что я задумал
как сатиру на творение галантерейщика, вылилось в забавные записки,
имитировавшие стиль лакея, которые так пленили, редактора, что он просил
меня о продолжении. Нет ничего легче! Если бы все мои детища так же легко
соскальзывали с кончика пера, как славный старина Желтоплюш, и так же
смешили публику! Не могу удержаться и не привести вам образчик моего юмора,
а заодно продемонстрировать, что я понимаю под смешным. Как вы находите
описание Желтоплюша в Париже?
В то время меня влекло по течению еще одного ручья, который, вскоре
разлился в большую реку и служил нам всем надеждой на спасение, - я, имею в
виду сочинительство. Журналистикой и зарабатывал на хлеб насущный, без нее
нельзя было обойтись, но беллетристика была мне ближе, и в ней я соблюдал
большую сдержанность. Не мог же я повсюду так свирепствовать, как в
рецензиях, и к тому же мне было гораздо интереснее писать свою прозу,
казавшуюся мне удачной, чем постоянно высмеивать чужую, которую я находил
бездарной. Я где-то записал для себя дату публикации моего первого творения,
но не могу вспомнить, где именно. Знаю только, что писал я много и регулярно
и что большинство публикаций не привлекло к себе особого внимания. Довольно
много взял у меня "Фрейзерз Мэгэзин", котррым я всегда восхищался; "Записки
Желтоплюша" появились на его страницах в 1837 году.
Они возникли как интересная, но побочная работа, которая
нежданно-негаданно принесла мне больше пользы, чем я ожидал, и помогла
упрочить литературную репутацию. Началось с того, что некий торговец льняным
товаром по имени Скелетт выпустил книгу об изящных манерах - вы не находите,
что это достаточно смешно и само по себе? - и мне заказали на нее отзыв,
который как-то незаметно превратился в серию заметок, якобы написанных от
лица лакея Чарлза Желтоплюша, лондонского простолюдина, но то, что я задумал
как сатиру на творение галантерейщика, вылилось в забавные записки,
имитировавшие стиль лакея, которые так пленили, редактора, что он просил
меня о продолжении. Нет ничего легче! Если бы все мои детища так же легко
соскальзывали с кончика пера, как славный старина Желтоплюш, и так же
смешили публику! Не могу удержаться и не привести вам образчик моего юмора,
а заодно продемонстрировать, что я понимаю под смешным. Как вы находите
описание Желтоплюша в Париже?
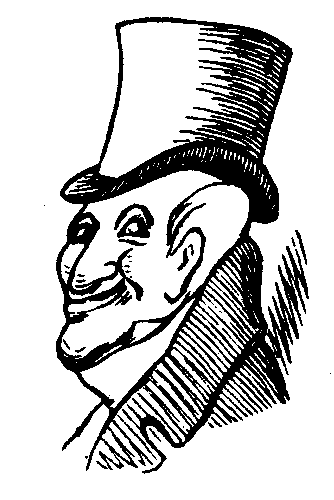 "Месяца три спустя, когда стали падать листья, а в Париже начался
сезон, милорд, миледи, и мы с Мортимером гуляли в Буа-де-Баллон. Экипаж
медленно ехал позади, а мы любовались лесом и золотым закатом. Милорд
распространялся насчет красот окружающей природы, высказывая при этом самые
возвышенные мысли. Слушать его было одно удовольствие.
- Ах, - сказал он, - жестокое надо иметь сердце, - не правда ли,
душенька? - чтобы не проникнуться таким зрелищем. Сияющая высь словно
изливает на нас неземное золото; и мы приобщаемся небесам с каждым глотком
этого чистого сладостного воздуха".
Все это был ужасный вздор, но он перерастал в сатиру на обычаи хозяев
Желтоплюша не в меньшей, если не в большей степени, чем на его собственные.
Однако на всех этих сатирических поделках и обзорах литературное имя не
составишь, во мне по-прежнему видели знающего критика и автора смешных
вещиц, а я мечта о большем, много большем.
Как же мне следовало действовать? Не этим ли вопросом задаются сейчас
многие тысячи молодых людей, которыми владеет тихое отчаяние? Я спрашивал
себя об этом постоянно и всякий раз приходил к другому ответу. Мне
представлялось, что решением всех моих проблем была бы постоянная должность
в газете, которая давала бы мне твердый заработок и оставляла время для
собственного творчества. Я изо всех сил старался найти место заместителя
редактора или что-нибудь в этом роде в "Морнинг Кроникл", но безуспешно. Я
пробую представить себе, как бы сложилась моя жизнь, получи я такую
должность. Правда, я обещал себе не поддаваться слабости и не играть в игру
"если бы да кабы", но я не прочь пройти по этому воображаемому маршруту.
Возможно, я бы стал редактором и погрузился с головой в дела газеты или
засел в каком-нибудь английском городишке и выпускал местного "Патриота",
"Наблюдателя" или "Утренние новости". И как бы это на мне отразилось?
Утратил бы я свой бешеный напор, перестал бы забрасывать журналы
всевозможной литературной продукцией и предпочел бы следить за тем, как это
делают другие? Никто не знает, как на нас повлияла бы смена обстоятельств и
как на нас сказывается образ жизни, который мы ведем. Эта крайняя
неудовлетворенность, эта неуспокоенность, это желание отличиться - они могли
меня оставить, если бы я обосновался на каком-нибудь постоянном месте с
хорошим окладом и твердым расписанием. Был ли бы я счастливее, если бы не
написал ни одного из своих романов, но жил спокойной и устроенной семейной
жизнью? Ответа мне никто не даст, но я порой задумываюсь, многих ли из вас
терзают такие же грустные вопросы.
Работы на горизонте не было - хотя я много лет надеялся, что она
вот-вот появится, - и я направил свои помыслы в другую сторону. Чтоб
утвердиться, решил я, нужно написать роман - сенсационную, большую вещь,
которая понравилась бы публике и хорошо распродалась бы, тогда я стану
желанным автором какого-нибудь издателя. Что шумный успех необходим и что
без него мне не попасть в великую когорту, это я рассудил совершенно
правильно. Наверное, есть писатели, которые медленно и верно создают себе
репутацию, неспешно увеличивая длинный список никому не ведомых книг, но все
известные мне авторы прославились в одну ночь какой-то одной книгой, и
именно их я взял за образец. По крайней мере, я был честен и откровенно
говорил себе, что хочу покорить публику, вопрос был лишь в том, как это
сделать, тут я отклонялся несколько от полной откровенности, но не
настолько, чтобы вам об этом стоило тревожиться. Я стал присматриваться,
какие книги приносят деньги. По большей части, то были книги о злодеях -
дурацкие, кровожадные, затянутые россказни, восхвалявшие жизнь преступников.
Мерзавцев прихорашивали, упрятав в тень их зверства, - как удалились мы от
Филдинга, он никогда не выдавал порок за добродетель, и все же именно его
винят порой в безнравственности. В тридцатые годы появилась целая серия
таких романов, то были нелепые книжонки о раскаявшихся убийцах и тому
подобный вздор, и я в ответ задумал повесть, в которой собирался вывести
преступника, его жизнь, нравы и моральные нормы в истинном свете. То была
моя первая попытка замахнуться на нечто посерьезнее и повесомее того, что я
писал прежде, я возлагал большие надежды на эту свою новую повесть.
Я не хочу, чтобы книга, которую вы читаете, превратилась в перечень
моих творений, иначе она вам быстро надоест. Прошло немало лет, прежде чем
моя мечта сбылась и я добился большого успеха, начни я вспоминать все, что
насочинял за это время, вы поразились бы моему упорству. Десять долгих лет я
как проклятый изводил бумагу, кропая книги, короткие и длинные, пока не
смастерил такую, которая удовлетворила всех: меня самого, критиков и
читателей. В столь долгом ученичестве есть что-то не совсем приличное,
словно ремесленник, которому с таким трудом дается добротное изделие, плохо
пригоден к своему делу. Одни писатели хранят в душе запас историй, которые
они стремятся рассказать, и в этом их не остановишь, в других кипит ключом
фантазия, третьих сжигает какая-то идея, которую они хотят возвестить
человечеству, но я не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий. Я
вынужден выстраивать задуманное, поддавшись лишь смутной тяге к самому акту
творения и обаянию письменного слова. Мне нужно пережить описываемое; прежде
чем браться за перо, и как следует его обдумать, прежде чем рассказывать о
нем другим, чего бы оно ни касалось. Неудивительно, что в молодости, еще не
испытав серьезных потрясений, я был не в силах написать что-либо
значительное.
К счастью, мне некогда было над всем этим раздумывать и
философствовать. Сколько бы я сейчас ни рассуждал с серьезной миной о том,
что кажется великим честолюбием, - ведь так оно выглядит, не правда ли? - на
деле я жил в такой сумятице, стараясь кое-как свести концы с концами, что в
моей голове вряд ли умещались две мысли одновременно, касалось ли то моей
прошлой или будущей деятельности. Я так мало надеялся на силу своего
честолюбия, что мечтал связать себя договором и писать по необходимости. Я
постоянно искал издателя, который вынудил бы меня поставить ему вовремя
товар или упрятал бы за решетку за невыполнение взятых обязательств. Жизнь
проходила в спешке и становилась все сумбурнее из-за того, что я решил,
перебраться в Лондон, еще до того, как в гроб "Конститьюшенела" был вбит
последний гвоздь. К марту 1837 года уже было ясно, куда ветер дует, и мне
хотелось обрести устойчивое положение, чтоб переждать бурю, когда бы она ни
разразилась, тем более что Изабелла ждала ребенка. В то время полем
деятельности мне служила журналистика, а в Лондоне с работой было
несравненно легче, чем в Париже. Кроме того, как мог я содержать жену и
детей в Париже, не получая жалованья? А в Лондоне можно было некоторое время
пожить на улице Альбион, 18, где, благодарение небу, обитали тогда мои
родители. Расставаться с Парижем было тяжело, он был гораздо солнечней и
веселей туманного Лондона, но так было нужно, к тому же со мною вместе
отправлялась моя женушка, которую я с каждым днем любил все больше, и,
значит, главное оставалось неизменным.
"Месяца три спустя, когда стали падать листья, а в Париже начался
сезон, милорд, миледи, и мы с Мортимером гуляли в Буа-де-Баллон. Экипаж
медленно ехал позади, а мы любовались лесом и золотым закатом. Милорд
распространялся насчет красот окружающей природы, высказывая при этом самые
возвышенные мысли. Слушать его было одно удовольствие.
- Ах, - сказал он, - жестокое надо иметь сердце, - не правда ли,
душенька? - чтобы не проникнуться таким зрелищем. Сияющая высь словно
изливает на нас неземное золото; и мы приобщаемся небесам с каждым глотком
этого чистого сладостного воздуха".
Все это был ужасный вздор, но он перерастал в сатиру на обычаи хозяев
Желтоплюша не в меньшей, если не в большей степени, чем на его собственные.
Однако на всех этих сатирических поделках и обзорах литературное имя не
составишь, во мне по-прежнему видели знающего критика и автора смешных
вещиц, а я мечта о большем, много большем.
Как же мне следовало действовать? Не этим ли вопросом задаются сейчас
многие тысячи молодых людей, которыми владеет тихое отчаяние? Я спрашивал
себя об этом постоянно и всякий раз приходил к другому ответу. Мне
представлялось, что решением всех моих проблем была бы постоянная должность
в газете, которая давала бы мне твердый заработок и оставляла время для
собственного творчества. Я изо всех сил старался найти место заместителя
редактора или что-нибудь в этом роде в "Морнинг Кроникл", но безуспешно. Я
пробую представить себе, как бы сложилась моя жизнь, получи я такую
должность. Правда, я обещал себе не поддаваться слабости и не играть в игру
"если бы да кабы", но я не прочь пройти по этому воображаемому маршруту.
Возможно, я бы стал редактором и погрузился с головой в дела газеты или
засел в каком-нибудь английском городишке и выпускал местного "Патриота",
"Наблюдателя" или "Утренние новости". И как бы это на мне отразилось?
Утратил бы я свой бешеный напор, перестал бы забрасывать журналы
всевозможной литературной продукцией и предпочел бы следить за тем, как это
делают другие? Никто не знает, как на нас повлияла бы смена обстоятельств и
как на нас сказывается образ жизни, который мы ведем. Эта крайняя
неудовлетворенность, эта неуспокоенность, это желание отличиться - они могли
меня оставить, если бы я обосновался на каком-нибудь постоянном месте с
хорошим окладом и твердым расписанием. Был ли бы я счастливее, если бы не
написал ни одного из своих романов, но жил спокойной и устроенной семейной
жизнью? Ответа мне никто не даст, но я порой задумываюсь, многих ли из вас
терзают такие же грустные вопросы.
Работы на горизонте не было - хотя я много лет надеялся, что она
вот-вот появится, - и я направил свои помыслы в другую сторону. Чтоб
утвердиться, решил я, нужно написать роман - сенсационную, большую вещь,
которая понравилась бы публике и хорошо распродалась бы, тогда я стану
желанным автором какого-нибудь издателя. Что шумный успех необходим и что
без него мне не попасть в великую когорту, это я рассудил совершенно
правильно. Наверное, есть писатели, которые медленно и верно создают себе
репутацию, неспешно увеличивая длинный список никому не ведомых книг, но все
известные мне авторы прославились в одну ночь какой-то одной книгой, и
именно их я взял за образец. По крайней мере, я был честен и откровенно
говорил себе, что хочу покорить публику, вопрос был лишь в том, как это
сделать, тут я отклонялся несколько от полной откровенности, но не
настолько, чтобы вам об этом стоило тревожиться. Я стал присматриваться,
какие книги приносят деньги. По большей части, то были книги о злодеях -
дурацкие, кровожадные, затянутые россказни, восхвалявшие жизнь преступников.
Мерзавцев прихорашивали, упрятав в тень их зверства, - как удалились мы от
Филдинга, он никогда не выдавал порок за добродетель, и все же именно его
винят порой в безнравственности. В тридцатые годы появилась целая серия
таких романов, то были нелепые книжонки о раскаявшихся убийцах и тому
подобный вздор, и я в ответ задумал повесть, в которой собирался вывести
преступника, его жизнь, нравы и моральные нормы в истинном свете. То была
моя первая попытка замахнуться на нечто посерьезнее и повесомее того, что я
писал прежде, я возлагал большие надежды на эту свою новую повесть.
Я не хочу, чтобы книга, которую вы читаете, превратилась в перечень
моих творений, иначе она вам быстро надоест. Прошло немало лет, прежде чем
моя мечта сбылась и я добился большого успеха, начни я вспоминать все, что
насочинял за это время, вы поразились бы моему упорству. Десять долгих лет я
как проклятый изводил бумагу, кропая книги, короткие и длинные, пока не
смастерил такую, которая удовлетворила всех: меня самого, критиков и
читателей. В столь долгом ученичестве есть что-то не совсем приличное,
словно ремесленник, которому с таким трудом дается добротное изделие, плохо
пригоден к своему делу. Одни писатели хранят в душе запас историй, которые
они стремятся рассказать, и в этом их не остановишь, в других кипит ключом
фантазия, третьих сжигает какая-то идея, которую они хотят возвестить
человечеству, но я не принадлежу ни к одной из перечисленных категорий. Я
вынужден выстраивать задуманное, поддавшись лишь смутной тяге к самому акту
творения и обаянию письменного слова. Мне нужно пережить описываемое; прежде
чем браться за перо, и как следует его обдумать, прежде чем рассказывать о
нем другим, чего бы оно ни касалось. Неудивительно, что в молодости, еще не
испытав серьезных потрясений, я был не в силах написать что-либо
значительное.
К счастью, мне некогда было над всем этим раздумывать и
философствовать. Сколько бы я сейчас ни рассуждал с серьезной миной о том,
что кажется великим честолюбием, - ведь так оно выглядит, не правда ли? - на
деле я жил в такой сумятице, стараясь кое-как свести концы с концами, что в
моей голове вряд ли умещались две мысли одновременно, касалось ли то моей
прошлой или будущей деятельности. Я так мало надеялся на силу своего
честолюбия, что мечтал связать себя договором и писать по необходимости. Я
постоянно искал издателя, который вынудил бы меня поставить ему вовремя
товар или упрятал бы за решетку за невыполнение взятых обязательств. Жизнь
проходила в спешке и становилась все сумбурнее из-за того, что я решил,
перебраться в Лондон, еще до того, как в гроб "Конститьюшенела" был вбит
последний гвоздь. К марту 1837 года уже было ясно, куда ветер дует, и мне
хотелось обрести устойчивое положение, чтоб переждать бурю, когда бы она ни
разразилась, тем более что Изабелла ждала ребенка. В то время полем
деятельности мне служила журналистика, а в Лондоне с работой было
несравненно легче, чем в Париже. Кроме того, как мог я содержать жену и
детей в Париже, не получая жалованья? А в Лондоне можно было некоторое время
пожить на улице Альбион, 18, где, благодарение небу, обитали тогда мои
родители. Расставаться с Парижем было тяжело, он был гораздо солнечней и
веселей туманного Лондона, но так было нужно, к тому же со мною вместе
отправлялась моя женушка, которую я с каждым днем любил все больше, и,
значит, главное оставалось неизменным.
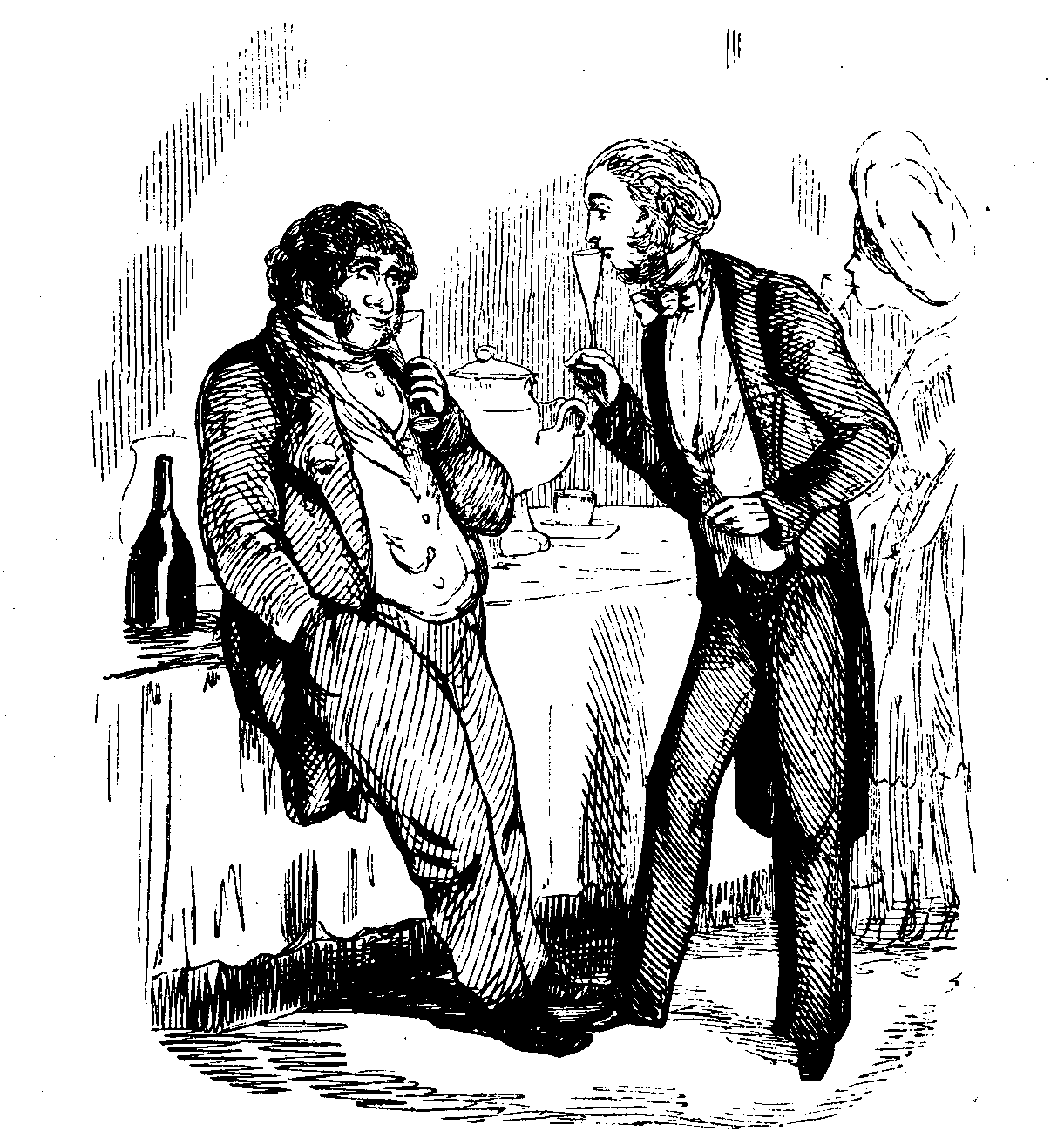 Я и до нынешнего дня не знаю, многое ли изменилось от этого переезда,
но подозреваю, что очень многое. В Лондоне нам обоим жилось гораздо тяжелее.
Наше богемное житье сменилось судорожными попытками блюсти режим и
дисциплину. Изабелле приходилось выдерживать огромную нагрузку: ее ленивый
муж, который еще вчера только и знал, что лежал в постели до полудня, едва
оторвав от подушки голову, принимался вопить, если завтрак не был подан
ровно в восемь. По вечерам бывало еще хуже - я так тяжко работал, что поели
дня газетной каторги непременно должен был отвлечься и удирал из дому, чтобы
рассеяться в "Гаррик-клубе". Я и раньше состоял его членом, но прежде он был
мне безразличен, теперь же стал местом моих ежевечерних посещений. Мне
больше не хотелось лежать и слушать, как Изабелла играет на рояле, я жаждал
говорить, вращаться в кругу себе подобных в этом распроклятом клубе. Если
меня и мучила совесть - в чем нет уверенности, - то, как и все мужчины, я
успокаивал себя тем, что женщины любят сидеть у камелька с младенцем на
руках и обожают бывать дома одни - так им спокойнее. Моя голубка не
позволяла себе ни единой жалобы и не журила за отлучки: Уильям тяжело
работает, Уильям должен отдохнуть - но ведь и ты, и ты, моя любимая,
нуждалась в отдыхе! Я, знаете ли, считал, что наша любовь достаточно сильна,
чтоб выдержать все, что ниспошлет судьба, и ждал каких-то страшных
испытаний, которые придут извне, не подозревая, что враг притаился внутри.
Как мог я пренебрегать женой, которую любил? Скажи мне кто-нибудь, что я
пренебрегаю ею, дело бы дошло до рукопашной.
Отец семейства - совсем не то, что женатый человек, это гораздо больше.
Наш первый ребенок появился на свет 9 июня 1837 года, поверьте, из простого
смертного я тотчас превратился в существо священное - в Отца Семейства. У
нас родилась девочка, которую мы назвали Анна-Изабелла, и несмотря на
мрачные предсказания сиделок на счет того, что Изабелла слабенькая и тому
подобное, ребенок доставил ей минимум хлопот и неприятностей. Сил у Изабеллы
оказалось предостаточно, она разрешилась Анной-Изабеллой легко и выглядела
самой прелестной и розовощекой юной матерью на свете. Наверное, именно эта
легкость позволила мне думать, что все и дальше пойдет в том же духе, -
казалось, самое тяжелое и опасное осталось позади, мне и на миг не приходило
в голову, что трудности еще грядут. Мать чувствовала себя хорошо, младенец и
того лучше, о чем же было беспокоиться? Подозреваю, что избавил себя от
многих часов детского крика, но неумышленно: ведь я вертелся как белка в
колесе, чтоб поддержать нашу кредитоспособность. Я был горд и счастлив своим
дитятей, но много ли от мужчины проку, пока младенцу не исполнится год? Он
только и умеет, что ворковать, немного покачать его, а, главным образом,
путаться у всех под ногами. Я очень любил глядеть на личико своей дочки и
мог без устали наблюдать за тем, как она овладевает все новыми уменьями, но,
признаюсь, после получаса с ней наедине я начинал скучать. Порой маленькая
мисс Теккерей вопила пять часов без передышки, а потом вдруг умолкала,
заставляя меня задумываться над тайнами детского организма и над тем, от
чего они зависят. Когда она научилась ходить и говорить, я стал участвовать
в ее играх, но поначалу воспринимал ее как бремя - было гораздо
естественней, чтобы она сидела на руках у матери. Мужчина с ребенком на
руках выглядит нескладно: он кажется каким-то старым, чересчур высоким,
чересчур громоздким рядом с таким малюсеньким и хрупким существом, при этом
все женщины вокруг принимаются кричать, чтоб он немедленно вернул ребенка
матери, и я с ними совершенно согласен!
По правде говоря, мы были крайне стеснены в средствах. Став семейным
человеком, я принял на себя весь груз ответственности и не мог об этом не
тревожиться. Когда в доме заводились хоть какие-то деньги, это было ужасно -
так мы боялись потратиться на что-нибудь лишнее. Необходимо было жить своим
домом, но плата за квартиру на улице Грейт-Корэм, 13, куда мы переехали в
начале 1838 года, на самом деле очень скромная, показалась нам огромной.
Рядом с нами никого не было, кто оградил бы нас от тягот хозяйственных
расходов, - господи, как же они громоздились один на другой, все эти
распрекрасные налоги, счета, жалованье слугам! Доверять деньги Изабелле было
безнадежно, ее неопытность в житейских делах только сердила меня, и все
попытки обучить ее разумной бережливости ни к чему не приводили. Кажется,
именно тогда я изобрел простейшее из средств: держать дома не более пяти
фунтов и растягивать их до последнего фартинга прежде чем идти и добывать
следующую порцию, - если, конечно, было где добывать, на что я всегда
надеялся. Теперь мне вспоминаются с улыбкой мои тогдашние заботы, но тогда
мне было не до смеха. Одно дело быть бедным художником в Париже и совсем
другое - бедным семейным человеком в Лондоне, особенно если учесть, что мы
ожидали появления следующей мисс Теккерей. Не говорите, что я не бедствовал
по-настоящему, что на меня никогда не надвигалась тень работного дома, и,
следовательно, слово "бедность" звучит в моих устах нелепо, я убежден, что
отчаянные попытки удержаться на уровне скромного достатка бывают не менее
мучительны, чем борьба за выживание. Пропасть у ваших ног бездонна, и падать
в нее вам дальше, чем тем несчастным, которые уже наполовину съехали вниз.
Говорю вам, меня преследовали по ночам кошмары: что станется с моей женой и
детьми, если я умру, не обеспечив их? Зрелище их нищеты преследовало меня
годами, и страдал я ничуть не меньше, нежели человек, совершенно
обездоленный. Я трепетал, видя, как велико наше счастье и как велика
опасность, грозившая ему из-за нашего шаткого финансового положения.
В то время я работал как вол. В моей голове роились безумные планы:
сдать наш дом, пустить постояльца и тому подобное - что-нибудь такое должно
было нас вызволить из беды. Моим главным источником доходов оставался
"Фрейзерз Мэгэзин". Я был его постоянным и популярным автором: узнав, что
некоторым другим своим корреспондентам "Фрейзерз" платит больше, чем мне, я
взвинтил себя и решил потребовать прибавки, пригрозив, что иначе перестану
писать для них. Никогда в жизни мне не было так страшно, как после того, что
я отправил свое взволнованное послание с требованием больших гонораров, - а
вдруг мне скажут "нет" и "убирайтесь вон" в ответ на мои домогательства? Кто
не знает по себе, что значит забастовка, тому неведомо, какой ужасный страх
охватывает вас при мысли, что дело может кончиться не прибавкой, а полной
потерей заработка; сюда примешивается боязнь унижения - страх просить
отступного и работать за прежнюю плату, а может быть, даже за меньшую, о
которой вы будете молить! Все это проносилось в моей голове, но не
остановило меня, прибавка, слава богу, последовала тотчас же, и это
заставило меня устыдиться моего вызывающего тона. Деньги подоспели как раз
вовремя, чтоб уплатить доктору и акушерке, принимавшим нашу вторую дочь
Джейн, которая так легко появилась на свет, что, мне кажется, в их услугах
не было нужды, разве только для того, чтоб Изабелла чувствовала себе
уверенней. Джейн родилась 9 июля 1838 года (я помню этот день и сейчас, хотя
после ее смерти прошло так много лет, что точная дата, возможно, покажется
вам несущественной) - в разгар летней жары, принудившей всех здравомыслящих
людей покинуть Лондон и вывезти свои семьи. О, как мне хотелось удрать от
этого нестерпимого зноя, казалось, он доведет меня до удушья, до размягчения
мозгов, до душевной слабости, которая не продлилась бы и часа в любой
другой, более прохладной, точке земного шара. Но с новорожденным ребенком на
руках семья не могла тронуться с места, это мог себе позволить только я
один, да и то по делу, причем очень хорошо оплачиваемому. Признаться ли
сразу, что и в том году, и в следующем я провел немало времени, ломая голову
над тем, как устроить себе жизненно важные поездки за пределы Лондона? Да,
так оно и было, но вовсе не из-за того, что я не любил свою жену и детей,
напротив, сердце мое оставалось на Грейт-Корэм, вдали от них я чувствовал
себя потерянным, и все валилось у меня из рук. Поэтому поверьте мне, когда я
говорю, что работать дома не было ни малейшей возможности. Мы жили в
обстановке домашнего хаоса, и я был его средоточием. Как бы строго-настрого
я ни наказывал, чтобы никто ни под каким видом не входил в мою маленькую
комнатку в течение трех утренних и трех вечерних часов, все в доме постоянно
нарушали мой запрет. То и дело заглядывала жена, чтобы спросить что-нибудь
совершенно очевидное, ибо внушила себе, что только я могу разрешить ее
сомнения. Непрестанно, семеня, вбегала Анни и, подергав меня за рукав,
очаровательно лепетала, чтобы я ей что-нибудь нарисовал. Зачастую врывались
с диким криком все вместе: жена, дочка и малютка - я должен был уладить
какое-нибудь ужасное происшествие, ибо лишь я один способен был помочь им.
И, наконец, шум - сейчас, когда я пишу в этом тихом доме, невозможно
вообразить, как ходуном ходили стены от шума на улице Грейт-Корэм: малютка
заливалась плачем, гремел звонок, кричали слуги -нельзя было написать двух
слов подряд. На этих жизненных подмостках во всем остальном порядка тоже не
было: еда подгорала и подавалась с огромным опозданием, белье не стиралось,
пока не шла в ход последняя чистая вещь, то и дело кто-нибудь укладывался в
только что убранные постели - больше всего это напоминало одно из отделений
Бедлама. И если я преувеличиваю, то ровно настолько, насколько необходимо,
чтоб вы почувствовали неповторимый аромат нашего существования, который мог
бы ускользнуть от вас, разбавь я крепость этого состава случайно выдавшимся
тихим днем, когда все шло гладко и на щеках у Изабеллы выступала краска
гордости от того, что наконец-то она становится примерной хозяюшкой. Мне
никогда не хватало духу выговаривать ей за просчеты, мог ли я позволить себе
такую грубость, когда она старалась сделать все как можно лучше и была равно
нежна с мужем, детьми и слугами? Я не жалел и о появлении детей, напротив,
ежедневно дивился гениальности Анни, эта благородная крошка неизменно
радовала нас с минуты своего рождения. Однако я начал винить свои домашние
обстоятельства в том, что все еще не написал задуманного мной шедевра, и
стал искать какое-нибудь тихое место под солнцем, где мог создать нечто
более значительное, чем статьи и обозрения, которыми все еще вынужден был
пробавляться. Я вечно запаздывал с этими своими трудами ради хлеба насущного
и не переставал мечтать о романах, путевых заметках и других дерзких и
манивших меня замыслах, к которым у меня не было возможности приступить. Я
бился над "Катрин" - моей первой попыткой в жанре повести, которая должна
была стяжать мне славу, о ней я вам рассказывал - той самой, в которой
разоблачалось злодейство, - но потерял к ней интерес задолго до того, как ее
кончил. Не повторялось ли это каждый раз со мной впоследствии? Писатели
поймут, о чем я говорю. Как велико волнение вначале, но как приходится с
собой бороться, чтоб не бросить работу, дойдя до середины, и - боже мой! -
какая скука под конец!
Я и до нынешнего дня не знаю, многое ли изменилось от этого переезда,
но подозреваю, что очень многое. В Лондоне нам обоим жилось гораздо тяжелее.
Наше богемное житье сменилось судорожными попытками блюсти режим и
дисциплину. Изабелле приходилось выдерживать огромную нагрузку: ее ленивый
муж, который еще вчера только и знал, что лежал в постели до полудня, едва
оторвав от подушки голову, принимался вопить, если завтрак не был подан
ровно в восемь. По вечерам бывало еще хуже - я так тяжко работал, что поели
дня газетной каторги непременно должен был отвлечься и удирал из дому, чтобы
рассеяться в "Гаррик-клубе". Я и раньше состоял его членом, но прежде он был
мне безразличен, теперь же стал местом моих ежевечерних посещений. Мне
больше не хотелось лежать и слушать, как Изабелла играет на рояле, я жаждал
говорить, вращаться в кругу себе подобных в этом распроклятом клубе. Если
меня и мучила совесть - в чем нет уверенности, - то, как и все мужчины, я
успокаивал себя тем, что женщины любят сидеть у камелька с младенцем на
руках и обожают бывать дома одни - так им спокойнее. Моя голубка не
позволяла себе ни единой жалобы и не журила за отлучки: Уильям тяжело
работает, Уильям должен отдохнуть - но ведь и ты, и ты, моя любимая,
нуждалась в отдыхе! Я, знаете ли, считал, что наша любовь достаточно сильна,
чтоб выдержать все, что ниспошлет судьба, и ждал каких-то страшных
испытаний, которые придут извне, не подозревая, что враг притаился внутри.
Как мог я пренебрегать женой, которую любил? Скажи мне кто-нибудь, что я
пренебрегаю ею, дело бы дошло до рукопашной.
Отец семейства - совсем не то, что женатый человек, это гораздо больше.
Наш первый ребенок появился на свет 9 июня 1837 года, поверьте, из простого
смертного я тотчас превратился в существо священное - в Отца Семейства. У
нас родилась девочка, которую мы назвали Анна-Изабелла, и несмотря на
мрачные предсказания сиделок на счет того, что Изабелла слабенькая и тому
подобное, ребенок доставил ей минимум хлопот и неприятностей. Сил у Изабеллы
оказалось предостаточно, она разрешилась Анной-Изабеллой легко и выглядела
самой прелестной и розовощекой юной матерью на свете. Наверное, именно эта
легкость позволила мне думать, что все и дальше пойдет в том же духе, -
казалось, самое тяжелое и опасное осталось позади, мне и на миг не приходило
в голову, что трудности еще грядут. Мать чувствовала себя хорошо, младенец и
того лучше, о чем же было беспокоиться? Подозреваю, что избавил себя от
многих часов детского крика, но неумышленно: ведь я вертелся как белка в
колесе, чтоб поддержать нашу кредитоспособность. Я был горд и счастлив своим
дитятей, но много ли от мужчины проку, пока младенцу не исполнится год? Он
только и умеет, что ворковать, немного покачать его, а, главным образом,
путаться у всех под ногами. Я очень любил глядеть на личико своей дочки и
мог без устали наблюдать за тем, как она овладевает все новыми уменьями, но,
признаюсь, после получаса с ней наедине я начинал скучать. Порой маленькая
мисс Теккерей вопила пять часов без передышки, а потом вдруг умолкала,
заставляя меня задумываться над тайнами детского организма и над тем, от
чего они зависят. Когда она научилась ходить и говорить, я стал участвовать
в ее играх, но поначалу воспринимал ее как бремя - было гораздо
естественней, чтобы она сидела на руках у матери. Мужчина с ребенком на
руках выглядит нескладно: он кажется каким-то старым, чересчур высоким,
чересчур громоздким рядом с таким малюсеньким и хрупким существом, при этом
все женщины вокруг принимаются кричать, чтоб он немедленно вернул ребенка
матери, и я с ними совершенно согласен!
По правде говоря, мы были крайне стеснены в средствах. Став семейным
человеком, я принял на себя весь груз ответственности и не мог об этом не
тревожиться. Когда в доме заводились хоть какие-то деньги, это было ужасно -
так мы боялись потратиться на что-нибудь лишнее. Необходимо было жить своим
домом, но плата за квартиру на улице Грейт-Корэм, 13, куда мы переехали в
начале 1838 года, на самом деле очень скромная, показалась нам огромной.
Рядом с нами никого не было, кто оградил бы нас от тягот хозяйственных
расходов, - господи, как же они громоздились один на другой, все эти
распрекрасные налоги, счета, жалованье слугам! Доверять деньги Изабелле было
безнадежно, ее неопытность в житейских делах только сердила меня, и все
попытки обучить ее разумной бережливости ни к чему не приводили. Кажется,
именно тогда я изобрел простейшее из средств: держать дома не более пяти
фунтов и растягивать их до последнего фартинга прежде чем идти и добывать
следующую порцию, - если, конечно, было где добывать, на что я всегда
надеялся. Теперь мне вспоминаются с улыбкой мои тогдашние заботы, но тогда
мне было не до смеха. Одно дело быть бедным художником в Париже и совсем
другое - бедным семейным человеком в Лондоне, особенно если учесть, что мы
ожидали появления следующей мисс Теккерей. Не говорите, что я не бедствовал
по-настоящему, что на меня никогда не надвигалась тень работного дома, и,
следовательно, слово "бедность" звучит в моих устах нелепо, я убежден, что
отчаянные попытки удержаться на уровне скромного достатка бывают не менее
мучительны, чем борьба за выживание. Пропасть у ваших ног бездонна, и падать
в нее вам дальше, чем тем несчастным, которые уже наполовину съехали вниз.
Говорю вам, меня преследовали по ночам кошмары: что станется с моей женой и
детьми, если я умру, не обеспечив их? Зрелище их нищеты преследовало меня
годами, и страдал я ничуть не меньше, нежели человек, совершенно
обездоленный. Я трепетал, видя, как велико наше счастье и как велика
опасность, грозившая ему из-за нашего шаткого финансового положения.
В то время я работал как вол. В моей голове роились безумные планы:
сдать наш дом, пустить постояльца и тому подобное - что-нибудь такое должно
было нас вызволить из беды. Моим главным источником доходов оставался
"Фрейзерз Мэгэзин". Я был его постоянным и популярным автором: узнав, что
некоторым другим своим корреспондентам "Фрейзерз" платит больше, чем мне, я
взвинтил себя и решил потребовать прибавки, пригрозив, что иначе перестану
писать для них. Никогда в жизни мне не было так страшно, как после того, что
я отправил свое взволнованное послание с требованием больших гонораров, - а
вдруг мне скажут "нет" и "убирайтесь вон" в ответ на мои домогательства? Кто
не знает по себе, что значит забастовка, тому неведомо, какой ужасный страх
охватывает вас при мысли, что дело может кончиться не прибавкой, а полной
потерей заработка; сюда примешивается боязнь унижения - страх просить
отступного и работать за прежнюю плату, а может быть, даже за меньшую, о
которой вы будете молить! Все это проносилось в моей голове, но не
остановило меня, прибавка, слава богу, последовала тотчас же, и это
заставило меня устыдиться моего вызывающего тона. Деньги подоспели как раз
вовремя, чтоб уплатить доктору и акушерке, принимавшим нашу вторую дочь
Джейн, которая так легко появилась на свет, что, мне кажется, в их услугах
не было нужды, разве только для того, чтоб Изабелла чувствовала себе
уверенней. Джейн родилась 9 июля 1838 года (я помню этот день и сейчас, хотя
после ее смерти прошло так много лет, что точная дата, возможно, покажется
вам несущественной) - в разгар летней жары, принудившей всех здравомыслящих
людей покинуть Лондон и вывезти свои семьи. О, как мне хотелось удрать от
этого нестерпимого зноя, казалось, он доведет меня до удушья, до размягчения
мозгов, до душевной слабости, которая не продлилась бы и часа в любой
другой, более прохладной, точке земного шара. Но с новорожденным ребенком на
руках семья не могла тронуться с места, это мог себе позволить только я
один, да и то по делу, причем очень хорошо оплачиваемому. Признаться ли
сразу, что и в том году, и в следующем я провел немало времени, ломая голову
над тем, как устроить себе жизненно важные поездки за пределы Лондона? Да,
так оно и было, но вовсе не из-за того, что я не любил свою жену и детей,
напротив, сердце мое оставалось на Грейт-Корэм, вдали от них я чувствовал
себя потерянным, и все валилось у меня из рук. Поэтому поверьте мне, когда я
говорю, что работать дома не было ни малейшей возможности. Мы жили в
обстановке домашнего хаоса, и я был его средоточием. Как бы строго-настрого
я ни наказывал, чтобы никто ни под каким видом не входил в мою маленькую
комнатку в течение трех утренних и трех вечерних часов, все в доме постоянно
нарушали мой запрет. То и дело заглядывала жена, чтобы спросить что-нибудь
совершенно очевидное, ибо внушила себе, что только я могу разрешить ее
сомнения. Непрестанно, семеня, вбегала Анни и, подергав меня за рукав,
очаровательно лепетала, чтобы я ей что-нибудь нарисовал. Зачастую врывались
с диким криком все вместе: жена, дочка и малютка - я должен был уладить
какое-нибудь ужасное происшествие, ибо лишь я один способен был помочь им.
И, наконец, шум - сейчас, когда я пишу в этом тихом доме, невозможно
вообразить, как ходуном ходили стены от шума на улице Грейт-Корэм: малютка
заливалась плачем, гремел звонок, кричали слуги -нельзя было написать двух
слов подряд. На этих жизненных подмостках во всем остальном порядка тоже не
было: еда подгорала и подавалась с огромным опозданием, белье не стиралось,
пока не шла в ход последняя чистая вещь, то и дело кто-нибудь укладывался в
только что убранные постели - больше всего это напоминало одно из отделений
Бедлама. И если я преувеличиваю, то ровно настолько, насколько необходимо,
чтоб вы почувствовали неповторимый аромат нашего существования, который мог
бы ускользнуть от вас, разбавь я крепость этого состава случайно выдавшимся
тихим днем, когда все шло гладко и на щеках у Изабеллы выступала краска
гордости от того, что наконец-то она становится примерной хозяюшкой. Мне
никогда не хватало духу выговаривать ей за просчеты, мог ли я позволить себе
такую грубость, когда она старалась сделать все как можно лучше и была равно
нежна с мужем, детьми и слугами? Я не жалел и о появлении детей, напротив,
ежедневно дивился гениальности Анни, эта благородная крошка неизменно
радовала нас с минуты своего рождения. Однако я начал винить свои домашние
обстоятельства в том, что все еще не написал задуманного мной шедевра, и
стал искать какое-нибудь тихое место под солнцем, где мог создать нечто
более значительное, чем статьи и обозрения, которыми все еще вынужден был
пробавляться. Я вечно запаздывал с этими своими трудами ради хлеба насущного
и не переставал мечтать о романах, путевых заметках и других дерзких и
манивших меня замыслах, к которым у меня не было возможности приступить. Я
бился над "Катрин" - моей первой попыткой в жанре повести, которая должна
была стяжать мне славу, о ней я вам рассказывал - той самой, в которой
разоблачалось злодейство, - но потерял к ней интерес задолго до того, как ее
кончил. Не повторялось ли это каждый раз со мной впоследствии? Писатели
поймут, о чем я говорю. Как велико волнение вначале, но как приходится с
собой бороться, чтоб не бросить работу, дойдя до середины, и - боже мой! -
какая скука под конец!
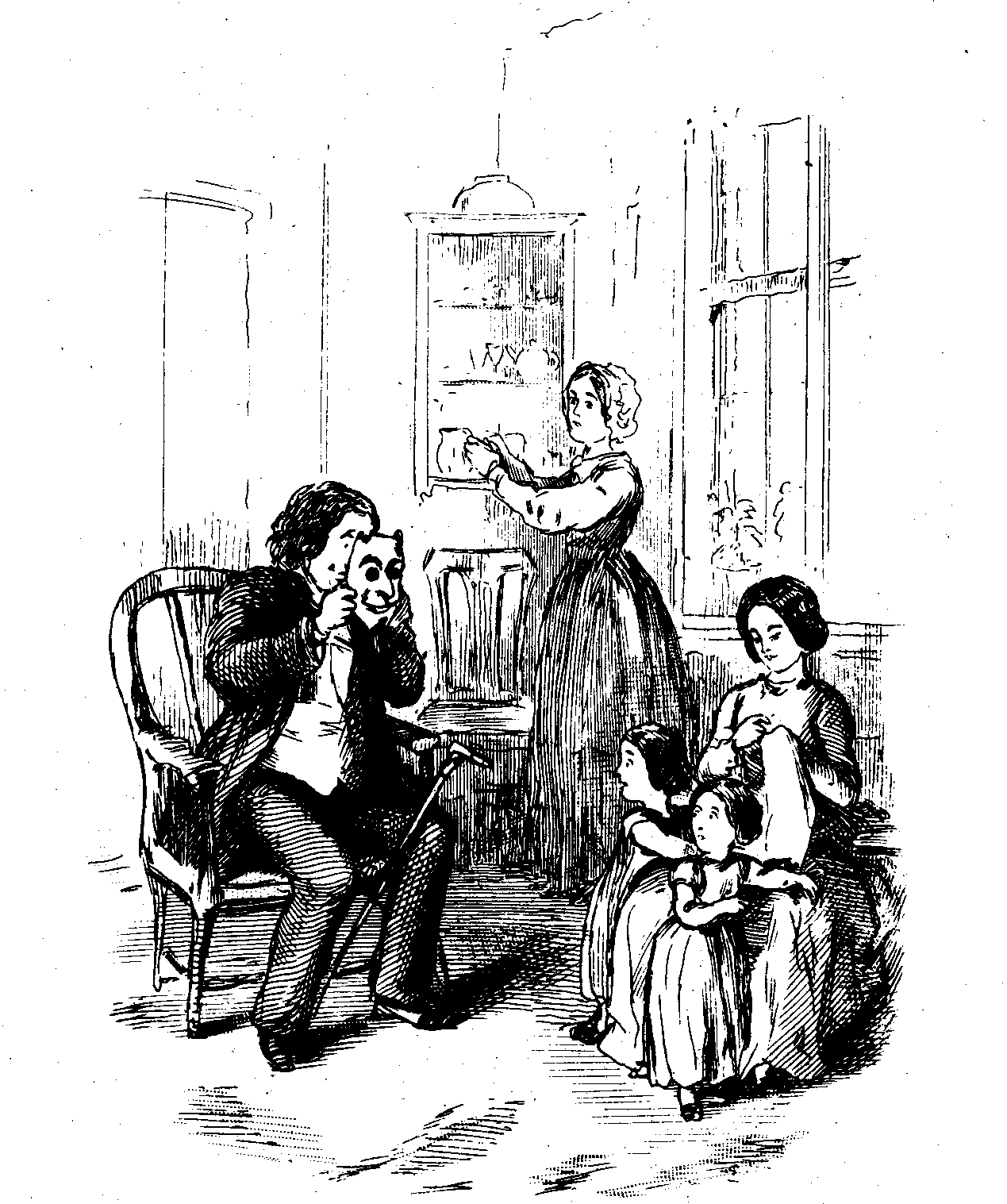 В те годы я мечтал удрать куда-нибудь один, чтоб сесть и написать
гениальную вещь, которая меня прославит, но об этом нечего было и думать,
правда, порой мне удавалось урвать два-три денька и поработать в
какой-нибудь гостинице под Гринвичем или Ричмондом, но большего я не мог
себе позволить. Вряд ли стоит сетовать на то, что более полное одиночество
мне было недоступно. Сколько лет прошло с тех пор, как я не знаю спешки,
шума и необходимости работать ради куска хлеба! Столько лет - и так мало
сделано! Я вспоминаю те лихорадочные годы и не могу не гордиться качеством
работы, выполненной под таким ужасным давлением обстоятельств. Возможно, там
не было шедевров, но острых, метких, хорошо написанных кусков было очень
много, по ним не скажешь, в каких условиях они выходили из-под моего пера.
Уехать от Изабеллы было невозможно, значит, нужно было исхитриться и
испытать свой талант беллетриста в каком-нибудь укрытии. Она ужасно не
любила, когда я уезжал, и чем дальше, тем больше, даже по самому неотложному
делу мне не удавалось отправиться за границу без слез и вздохов.
Заметили ли вы некоторую черствость в своем герое? Теперь и я ее вижу,
но не видел тогда. Признаюсь, горе Изабеллы раздражало меня, и я не умел
скрыть своих чувств. Весь этот шум из-за моих поездок - я, в двух словах мог
бы объяснить, до чего они были необходимы, - сделался совсем невыносимым к
концу 1839 года, когда умерла наша малютка Джейн. Понятно было, что Изабелла
скорбит, - мы все скорбели. Смерть восьмимесячной малютки, еще не
научившейся ходить и говорить, так же ужасна, как смерть дорогого человека,
с которым вас связывали самые тесные узы. Вы можете мне не поверить и даже
счесть это нелепостью, но смерть Джейн была для нас душераздирающей
трагедией, и горе захлестнуло нас. Не будьте бессердечны и не говорите, что
у нас был еще один ребенок и что мы имели все основания надеяться родить
других детей, не напоминайте мне, что дети умирают часто и это всегда может
случиться, дитя неповторимо, и его нельзя заменить другим ребенком. Я
говорил тогда, что думаю о Джейн как о чудесном даре, которым нам позволили
недолго наслаждаться, и со стороны могло казаться, будто я примирился с
волей господа, взявшего ее к себе, но все это была лишь маска, скрывавшая
глубокое чувство боли и утраты. Я пробовал утешаться тем, что она, как
ангел, там наверху, радуется своей лучшей доле и вечно пребудет непорочной.
Но Изабелла? С каждым днем она все глубже погружалась в скорбь, и невозможно
было подбодрить ее или утешить. Ее охватила ужасная апатия, она часами
сидела, покачиваясь взад-вперед, и непрестанно плакала. Надеюсь, я был
терпелив и утешал ее, но это, может быть, лишь ухудшало дело, ибо я
оставался деятелен, и от этого контраста ей делалось еще больнее. В общем,
положение было скверное, и с моей стороны было глупостью наградить ее
следующим ребенком, не поняв, что это не лекарство от ее горя. Не хочется
верить, что третья беременность, наступившая так скоро после двух
предыдущих, оказалась трагической, это наверняка было не так, Изабелла
выглядела гораздо счастливее, ожидая ребенка, и если порыться в памяти,
можно припомнить немало хороших дней и прогулок, относящихся к тому времени,
- все это, конечно, были нехитрые затеи, но именно в таких мелочах находит
себе приют счастье. Она была нетребовательна - довольно было побродить с ней
вечером по городу, полюбоваться праздничной иллюминацией и убранством улиц
ко дню венчанья королевы, и она приходила в восхищение; о поездке в Уотфорд
и о пикнике на лугу она вспоминала много дней спустя, а посещение концерта и
хорошее исполнение "Мессии" вызывало у нее такой безудержный восторг, что я
только дивился ее простодушию. Пожалуй, самое большее, что мы могли себе
позволить, это день у моря, но Изабелла казалась вполне довольной, а для
меня ее непритязательность была бесценна.
В те годы я мечтал удрать куда-нибудь один, чтоб сесть и написать
гениальную вещь, которая меня прославит, но об этом нечего было и думать,
правда, порой мне удавалось урвать два-три денька и поработать в
какой-нибудь гостинице под Гринвичем или Ричмондом, но большего я не мог
себе позволить. Вряд ли стоит сетовать на то, что более полное одиночество
мне было недоступно. Сколько лет прошло с тех пор, как я не знаю спешки,
шума и необходимости работать ради куска хлеба! Столько лет - и так мало
сделано! Я вспоминаю те лихорадочные годы и не могу не гордиться качеством
работы, выполненной под таким ужасным давлением обстоятельств. Возможно, там
не было шедевров, но острых, метких, хорошо написанных кусков было очень
много, по ним не скажешь, в каких условиях они выходили из-под моего пера.
Уехать от Изабеллы было невозможно, значит, нужно было исхитриться и
испытать свой талант беллетриста в каком-нибудь укрытии. Она ужасно не
любила, когда я уезжал, и чем дальше, тем больше, даже по самому неотложному
делу мне не удавалось отправиться за границу без слез и вздохов.
Заметили ли вы некоторую черствость в своем герое? Теперь и я ее вижу,
но не видел тогда. Признаюсь, горе Изабеллы раздражало меня, и я не умел
скрыть своих чувств. Весь этот шум из-за моих поездок - я, в двух словах мог
бы объяснить, до чего они были необходимы, - сделался совсем невыносимым к
концу 1839 года, когда умерла наша малютка Джейн. Понятно было, что Изабелла
скорбит, - мы все скорбели. Смерть восьмимесячной малютки, еще не
научившейся ходить и говорить, так же ужасна, как смерть дорогого человека,
с которым вас связывали самые тесные узы. Вы можете мне не поверить и даже
счесть это нелепостью, но смерть Джейн была для нас душераздирающей
трагедией, и горе захлестнуло нас. Не будьте бессердечны и не говорите, что
у нас был еще один ребенок и что мы имели все основания надеяться родить
других детей, не напоминайте мне, что дети умирают часто и это всегда может
случиться, дитя неповторимо, и его нельзя заменить другим ребенком. Я
говорил тогда, что думаю о Джейн как о чудесном даре, которым нам позволили
недолго наслаждаться, и со стороны могло казаться, будто я примирился с
волей господа, взявшего ее к себе, но все это была лишь маска, скрывавшая
глубокое чувство боли и утраты. Я пробовал утешаться тем, что она, как
ангел, там наверху, радуется своей лучшей доле и вечно пребудет непорочной.
Но Изабелла? С каждым днем она все глубже погружалась в скорбь, и невозможно
было подбодрить ее или утешить. Ее охватила ужасная апатия, она часами
сидела, покачиваясь взад-вперед, и непрестанно плакала. Надеюсь, я был
терпелив и утешал ее, но это, может быть, лишь ухудшало дело, ибо я
оставался деятелен, и от этого контраста ей делалось еще больнее. В общем,
положение было скверное, и с моей стороны было глупостью наградить ее
следующим ребенком, не поняв, что это не лекарство от ее горя. Не хочется
верить, что третья беременность, наступившая так скоро после двух
предыдущих, оказалась трагической, это наверняка было не так, Изабелла
выглядела гораздо счастливее, ожидая ребенка, и если порыться в памяти,
можно припомнить немало хороших дней и прогулок, относящихся к тому времени,
- все это, конечно, были нехитрые затеи, но именно в таких мелочах находит
себе приют счастье. Она была нетребовательна - довольно было побродить с ней
вечером по городу, полюбоваться праздничной иллюминацией и убранством улиц
ко дню венчанья королевы, и она приходила в восхищение; о поездке в Уотфорд
и о пикнике на лугу она вспоминала много дней спустя, а посещение концерта и
хорошее исполнение "Мессии" вызывало у нее такой безудержный восторг, что я
только дивился ее простодушию. Пожалуй, самое большее, что мы могли себе
позволить, это день у моря, но Изабелла казалась вполне довольной, а для
меня ее непритязательность была бесценна.
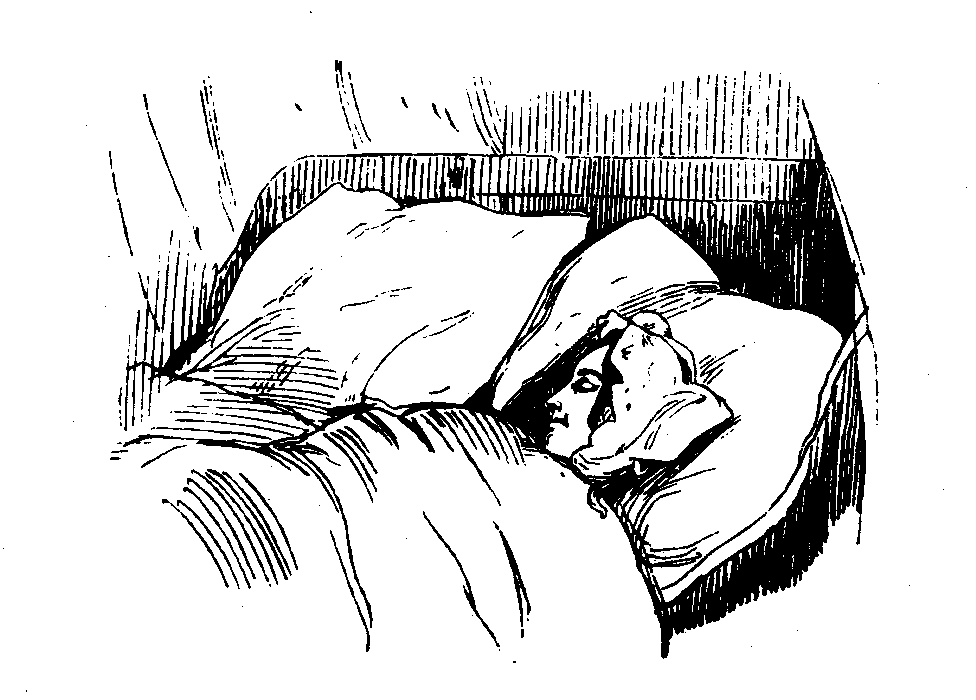 В мае 1840 года, когда родилась Хэрриет, я верил, что вскоре мне не
придется работать так исступленно, чтоб выполнить все набранные заказы. Хотя
"Катрин" давным-давно была написана и напечатана, она не привлекла к себе
внимания, правда, некоторые критики отнеслись к ней благосклонно, но у меня
была надежда, что вскоре сбудется другой мой план - комментированная книга
очерков об Ирландии в том же роде, что "Парижская книга очерков", которая
вышла несколько лет назад. Правда, те очерки были не особенно удачными, но я
сумел убедить издателей, что новые будут лучше, что мое имя теперь стало
гораздо известнее, благодаря многочисленным публикациям в журналах и
газетах, и это привлечет поклонников моего пера. Лонгмен, знаменитый
издатель того времени, и Чапмен и Холл, издатели Диккенса, к моему
величайшему изумлению, готовы были заключить со мной контракт. Мешало только
одно, догадываетесь, что именно? Нужно было либо на несколько месяцев
расстаться с семьей, что исключалось, либо ехать со всем выводком, что также
исключалось. Задача была не из простых, но как она ни решалась, ясно было
одно - книга должна быть написана, коль скоро мне готовы уплатить триста
фунтов за три месяца работы. Возможно, в связи с этим мне даже удалось бы
сделать передышку в моей изнурительной журналистской работе. К моему
большому облегчению, Изабелла загорелась так же, как и я, и беспокоилась
лишь о деталях и резонах тех или иных приготовлений. Пожалуй, я склонялся к
тому, чтобы проявить твердость и расстаться с семьей на три месяца, - на это
время мои родители перебрались бы к Изабелле, - но она и слышать об этом не
хотела и заявила, что не вынесет жизни врозь. Что было делать? Я отложил
решение, а мне тем временем свалился в руки еще один спелый плод, впрочем,
свалился он не сам, пришлось на цыпочках тянуться к ветке, чтобы стряхнуть
его оттуда и отправиться в Бельгию смотреть картины, о которых я должен был
написать небольшую книжицу, - по возвращении я продал ее Чапмену и Холлу.
Разве не удачно?
В данном случае - нисколько. То было первое проявление моей тупости и
неразумия, которые вызывают у меня теперь горе и угрызения совести. Изабелла
не захотела ехать в Бельгию, хотя то была короткая поездка, вопрос
нескольких дней, максимум одной-двух недель, но разве суть тут в точной мере
времени? Дело в другом: я поехал один, преследуемый мольбами жены остаться,
звеневшими в моих ушах, и слезами, от которых было мокро ее лицо, но я
ожесточил свое сердце и _все-таки поехал_. Вот так. Не стану укрываться за
удобными и здравыми доводами, что деньги были нам необходимы, что не поехать
было невозможно... - я уехал потому, что хотел того. И очень наслаждался
жизнью. Что еще нужно человеку, если ему предоставляется роскошь смотреть
прекрасные картины, получая за это деньги, а после солнечной прогулки и
стаканчика доброго вина, выпитого для прочистки мозгов, высказывать о них
свои суждения? Признаюсь, свобода действовала опьяняюще, и я ею упивался. Я
считал, что не создан для того, чтобы похоронить себя на улице Грейт-Корэм и
слушать детский плач и крик, как мог я в этом хаосе написать свою лучшую
книгу? Черт побери, я не был семьянином по призванию и не собирался в него
превращаться!
Вам отвратительна моя бесчувственность? Мне тоже. Почему я не поставил
себя на место Изабеллы? Не знаю. Я должен был все понять с первого взгляда,
как только вернулся из этой бельгийской поездки, - я и сейчас вижу, как она
сидит, тихая, в той же позе, в которой я ее оставил, безразличная,
несчастная, слезы безостановочно текут ручьями по ее худым щекам, безвольная
рука протянута, чтобы коснуться меня, а я уклоняюсь от этого прикосновения и
чувствую одно лишь раздражение от того, что она не бросается ко мне на шею и
не целует розовыми губками. Само собой, я вызвал доктора, и он сказал то,
что обычно говорится, а именно, что свежий воздух все поправит. И мы
отправились в Маргет, взяв с собой Броди, нашу славную няню-шотландку; я был
убежден, что все неприятности моей жены проистекают от какого-то
нераспознанного несварения желудка. Морской воздух и полный покой совершенно
ее вылечат, и она перестанет быть для меня обузой, ибо, конечно, в этом было
все дело. Я не хотел, чтобы меня обременяли, я уклонялся от осознания
серьезности положения и впадал в неистовство из-за малейшего намека на то,
что это ее пугающее состояние может затянуться.
Маргет постарался ради нас на славу. Мы жили в очаровательном домике на
приморском бульваре, наши окна смотрели прямо на море, и дверь нашей
причудливой маленькой гостиной открывалась на пляж. Нельзя было придумать
ничего прелестней. Солнце сияло, дул освежающий бриз, у детей было чудесное
настроение, на Броди можно было положиться, но Изабелле это не помогало.
Рука об руку мы расхаживали взад и вперед, я приглашал ее полюбоваться
окружающей красотой, но она смотрела безучастно и вздыхала. Из вечера в
вечер мы сидели вдвоем в гостиной, и я пытался работать, стараясь
представить дело так, будто не хочу лишаться ее общества, но она
чувствовала, что я сторожу ее, - каждый раз, когда я подымал взгляд, я видел
эти огромные, наполненные слезами, глаза, жалобно на меня глядевшие, так что
в конце концов я готов был замахнуться на нее, да-да, замахнуться, такое во
мне накопилось раздражение и злоба на то, что я принимал за ее упрямство.
Почему она не стряхивает с себя эту вялость? Почему даже не пытается это
сделать, господи боже мой? Мне приходилось удаляться на три с лишним мили,
чтоб вырваться из этой гнетущей обстановки и написать хоть слово, - когда
становилось совсем невмоготу, я добирался до небольшой лужайки для игры в
шары, устраивался в беседке и сочинял.
Как видите, я был далек от понимания истины и делал все возможное,
чтобы навлечь беду, - пока она не грянула, я так и не распознал ее.
^T7^U
^TЗа счастием следует трагедия...^U
Все мы вернулись из Маргета в ужасно подавленном состоянии, все, кроме
Анни, которая забавно вспоминала, как далеко она ездила. Порою даже в очень
мрачном расположении духа я не мог сдержать улыбки, но Изабелла оставалась
безразлична к чарам нашего ребенка. Я думаю, именно это ее равнодушие к
детям пугало меня больше всего и привело к решению ни при каких
обстоятельствах не отпускать Броди. Должно быть, я так и сказал нашей доброй
нянюшке - пришлось сказать, тем более что я задолжал ей к этому времени
немалую сумму, - но хоть я и старался не выдавать своего отчаяния, она
тотчас поняла меня и ответила неколебимой верностью. Вправе ли я был
требовать от бедной Броди такой великой самоотверженности? Не знаю, но
женское сердце, одно из лучших творений божьих, способно на такие глубины
сострадания, какие и не снились ни одному мужчине, и если я злоупотреблял
сочувствием Броди, то ежедневно возносил хвалы творцу за ее жертву.
Не знаю, поверите ли вы, но мы, представьте, собрались в Корк, где с
давних пор обосновались миссис Шоу и Джейн. Можно ли было придумать более
верный способ приблизить катастрофу, чем эти сборы всей семьей в Ирландию на
неопределенный срок? Подумайте, что с этим связано: покупки, сортировка,
упаковка одежды и вещей, уборка и сдача дома в наем на время нашего
отсутствия, бесконечные хождения туда-сюда между пароходной конторой и
багажным отделением - одним словом, кошмар, к которому никто из нас не был
готов. Я продолжал внушать себе, что предотъездная суета пойдет на пользу
Изабелле, но вряд ли это было бы под силу даже и здоровой женщине.
Препроводив в сундук одно-единственное платье, Изабелла впадала в
изнеможение, но я по-прежнему твердил себе, что ей все это очень нравится.
Конечно, мне необходимо было ехать в Ирландию и приниматься за книгу
очерков, того требовало положение наших финансов, и Изабеллу нужно было
взять с собой, ибо бросить ее на произвол судьбы в таком состоянии было
немыслимо, однако должен признаться, что дело было не только в суровой
необходимости, сюда, примешивалось кое-что другое: я не хотел оставаться
один на один со своей женой. Постыдное признание, но я их сделаю еще немало,
пока дойду до конца. Меня сводила с ума мысль, что я несу ежечасную заботу о
тяжело больной жене, и я намеревался разделить ответственность с ее сестрой
и матерью. Я написал им, чтобы предупредить о меланхолии, в которой
пребывала Изабелла, просил их взять ее под свою опеку и постараться поднять
ее дух. Наверное, приготовляя впрок целительный мясной бульон, одна другой
сказала, что ничего иного и не ожидала от мужчины, и что-нибудь еще
прибавила, но мне было неважно, что они скажут: я чувствовал, что выдохся.
Не знаю, видно ли это было по мне или нет и заметила ли что-нибудь Изабелла,
но мне было необходимо, чтоб кто-нибудь подставил мне плечо и посоветовал,
что делать. Помочь могла бы матушка, но они с отчимом жили в Париже, а
письма - это решительно не то. Хуже того, они могли и навредить: в одном из
них я описал матушке состояние Изабеллы, она пересказала его своей подруге,
а та, в свою очередь, - Изабелле, которая залилась слезами: она так огорчает
своего Уильяма! - в общем, от писем толку не было. Да и вообще в семейных
делах лучше держать язык за зубами.
В мае 1840 года, когда родилась Хэрриет, я верил, что вскоре мне не
придется работать так исступленно, чтоб выполнить все набранные заказы. Хотя
"Катрин" давным-давно была написана и напечатана, она не привлекла к себе
внимания, правда, некоторые критики отнеслись к ней благосклонно, но у меня
была надежда, что вскоре сбудется другой мой план - комментированная книга
очерков об Ирландии в том же роде, что "Парижская книга очерков", которая
вышла несколько лет назад. Правда, те очерки были не особенно удачными, но я
сумел убедить издателей, что новые будут лучше, что мое имя теперь стало
гораздо известнее, благодаря многочисленным публикациям в журналах и
газетах, и это привлечет поклонников моего пера. Лонгмен, знаменитый
издатель того времени, и Чапмен и Холл, издатели Диккенса, к моему
величайшему изумлению, готовы были заключить со мной контракт. Мешало только
одно, догадываетесь, что именно? Нужно было либо на несколько месяцев
расстаться с семьей, что исключалось, либо ехать со всем выводком, что также
исключалось. Задача была не из простых, но как она ни решалась, ясно было
одно - книга должна быть написана, коль скоро мне готовы уплатить триста
фунтов за три месяца работы. Возможно, в связи с этим мне даже удалось бы
сделать передышку в моей изнурительной журналистской работе. К моему
большому облегчению, Изабелла загорелась так же, как и я, и беспокоилась
лишь о деталях и резонах тех или иных приготовлений. Пожалуй, я склонялся к
тому, чтобы проявить твердость и расстаться с семьей на три месяца, - на это
время мои родители перебрались бы к Изабелле, - но она и слышать об этом не
хотела и заявила, что не вынесет жизни врозь. Что было делать? Я отложил
решение, а мне тем временем свалился в руки еще один спелый плод, впрочем,
свалился он не сам, пришлось на цыпочках тянуться к ветке, чтобы стряхнуть
его оттуда и отправиться в Бельгию смотреть картины, о которых я должен был
написать небольшую книжицу, - по возвращении я продал ее Чапмену и Холлу.
Разве не удачно?
В данном случае - нисколько. То было первое проявление моей тупости и
неразумия, которые вызывают у меня теперь горе и угрызения совести. Изабелла
не захотела ехать в Бельгию, хотя то была короткая поездка, вопрос
нескольких дней, максимум одной-двух недель, но разве суть тут в точной мере
времени? Дело в другом: я поехал один, преследуемый мольбами жены остаться,
звеневшими в моих ушах, и слезами, от которых было мокро ее лицо, но я
ожесточил свое сердце и _все-таки поехал_. Вот так. Не стану укрываться за
удобными и здравыми доводами, что деньги были нам необходимы, что не поехать
было невозможно... - я уехал потому, что хотел того. И очень наслаждался
жизнью. Что еще нужно человеку, если ему предоставляется роскошь смотреть
прекрасные картины, получая за это деньги, а после солнечной прогулки и
стаканчика доброго вина, выпитого для прочистки мозгов, высказывать о них
свои суждения? Признаюсь, свобода действовала опьяняюще, и я ею упивался. Я
считал, что не создан для того, чтобы похоронить себя на улице Грейт-Корэм и
слушать детский плач и крик, как мог я в этом хаосе написать свою лучшую
книгу? Черт побери, я не был семьянином по призванию и не собирался в него
превращаться!
Вам отвратительна моя бесчувственность? Мне тоже. Почему я не поставил
себя на место Изабеллы? Не знаю. Я должен был все понять с первого взгляда,
как только вернулся из этой бельгийской поездки, - я и сейчас вижу, как она
сидит, тихая, в той же позе, в которой я ее оставил, безразличная,
несчастная, слезы безостановочно текут ручьями по ее худым щекам, безвольная
рука протянута, чтобы коснуться меня, а я уклоняюсь от этого прикосновения и
чувствую одно лишь раздражение от того, что она не бросается ко мне на шею и
не целует розовыми губками. Само собой, я вызвал доктора, и он сказал то,
что обычно говорится, а именно, что свежий воздух все поправит. И мы
отправились в Маргет, взяв с собой Броди, нашу славную няню-шотландку; я был
убежден, что все неприятности моей жены проистекают от какого-то
нераспознанного несварения желудка. Морской воздух и полный покой совершенно
ее вылечат, и она перестанет быть для меня обузой, ибо, конечно, в этом было
все дело. Я не хотел, чтобы меня обременяли, я уклонялся от осознания
серьезности положения и впадал в неистовство из-за малейшего намека на то,
что это ее пугающее состояние может затянуться.
Маргет постарался ради нас на славу. Мы жили в очаровательном домике на
приморском бульваре, наши окна смотрели прямо на море, и дверь нашей
причудливой маленькой гостиной открывалась на пляж. Нельзя было придумать
ничего прелестней. Солнце сияло, дул освежающий бриз, у детей было чудесное
настроение, на Броди можно было положиться, но Изабелле это не помогало.
Рука об руку мы расхаживали взад и вперед, я приглашал ее полюбоваться
окружающей красотой, но она смотрела безучастно и вздыхала. Из вечера в
вечер мы сидели вдвоем в гостиной, и я пытался работать, стараясь
представить дело так, будто не хочу лишаться ее общества, но она
чувствовала, что я сторожу ее, - каждый раз, когда я подымал взгляд, я видел
эти огромные, наполненные слезами, глаза, жалобно на меня глядевшие, так что
в конце концов я готов был замахнуться на нее, да-да, замахнуться, такое во
мне накопилось раздражение и злоба на то, что я принимал за ее упрямство.
Почему она не стряхивает с себя эту вялость? Почему даже не пытается это
сделать, господи боже мой? Мне приходилось удаляться на три с лишним мили,
чтоб вырваться из этой гнетущей обстановки и написать хоть слово, - когда
становилось совсем невмоготу, я добирался до небольшой лужайки для игры в
шары, устраивался в беседке и сочинял.
Как видите, я был далек от понимания истины и делал все возможное,
чтобы навлечь беду, - пока она не грянула, я так и не распознал ее.
^T7^U
^TЗа счастием следует трагедия...^U
Все мы вернулись из Маргета в ужасно подавленном состоянии, все, кроме
Анни, которая забавно вспоминала, как далеко она ездила. Порою даже в очень
мрачном расположении духа я не мог сдержать улыбки, но Изабелла оставалась
безразлична к чарам нашего ребенка. Я думаю, именно это ее равнодушие к
детям пугало меня больше всего и привело к решению ни при каких
обстоятельствах не отпускать Броди. Должно быть, я так и сказал нашей доброй
нянюшке - пришлось сказать, тем более что я задолжал ей к этому времени
немалую сумму, - но хоть я и старался не выдавать своего отчаяния, она
тотчас поняла меня и ответила неколебимой верностью. Вправе ли я был
требовать от бедной Броди такой великой самоотверженности? Не знаю, но
женское сердце, одно из лучших творений божьих, способно на такие глубины
сострадания, какие и не снились ни одному мужчине, и если я злоупотреблял
сочувствием Броди, то ежедневно возносил хвалы творцу за ее жертву.
Не знаю, поверите ли вы, но мы, представьте, собрались в Корк, где с
давних пор обосновались миссис Шоу и Джейн. Можно ли было придумать более
верный способ приблизить катастрофу, чем эти сборы всей семьей в Ирландию на
неопределенный срок? Подумайте, что с этим связано: покупки, сортировка,
упаковка одежды и вещей, уборка и сдача дома в наем на время нашего
отсутствия, бесконечные хождения туда-сюда между пароходной конторой и
багажным отделением - одним словом, кошмар, к которому никто из нас не был
готов. Я продолжал внушать себе, что предотъездная суета пойдет на пользу
Изабелле, но вряд ли это было бы под силу даже и здоровой женщине.
Препроводив в сундук одно-единственное платье, Изабелла впадала в
изнеможение, но я по-прежнему твердил себе, что ей все это очень нравится.
Конечно, мне необходимо было ехать в Ирландию и приниматься за книгу
очерков, того требовало положение наших финансов, и Изабеллу нужно было
взять с собой, ибо бросить ее на произвол судьбы в таком состоянии было
немыслимо, однако должен признаться, что дело было не только в суровой
необходимости, сюда, примешивалось кое-что другое: я не хотел оставаться
один на один со своей женой. Постыдное признание, но я их сделаю еще немало,
пока дойду до конца. Меня сводила с ума мысль, что я несу ежечасную заботу о
тяжело больной жене, и я намеревался разделить ответственность с ее сестрой
и матерью. Я написал им, чтобы предупредить о меланхолии, в которой
пребывала Изабелла, просил их взять ее под свою опеку и постараться поднять
ее дух. Наверное, приготовляя впрок целительный мясной бульон, одна другой
сказала, что ничего иного и не ожидала от мужчины, и что-нибудь еще
прибавила, но мне было неважно, что они скажут: я чувствовал, что выдохся.
Не знаю, видно ли это было по мне или нет и заметила ли что-нибудь Изабелла,
но мне было необходимо, чтоб кто-нибудь подставил мне плечо и посоветовал,
что делать. Помочь могла бы матушка, но они с отчимом жили в Париже, а
письма - это решительно не то. Хуже того, они могли и навредить: в одном из
них я описал матушке состояние Изабеллы, она пересказала его своей подруге,
а та, в свою очередь, - Изабелле, которая залилась слезами: она так огорчает
своего Уильяма! - в общем, от писем толку не было. Да и вообще в семейных
делах лучше держать язык за зубами.
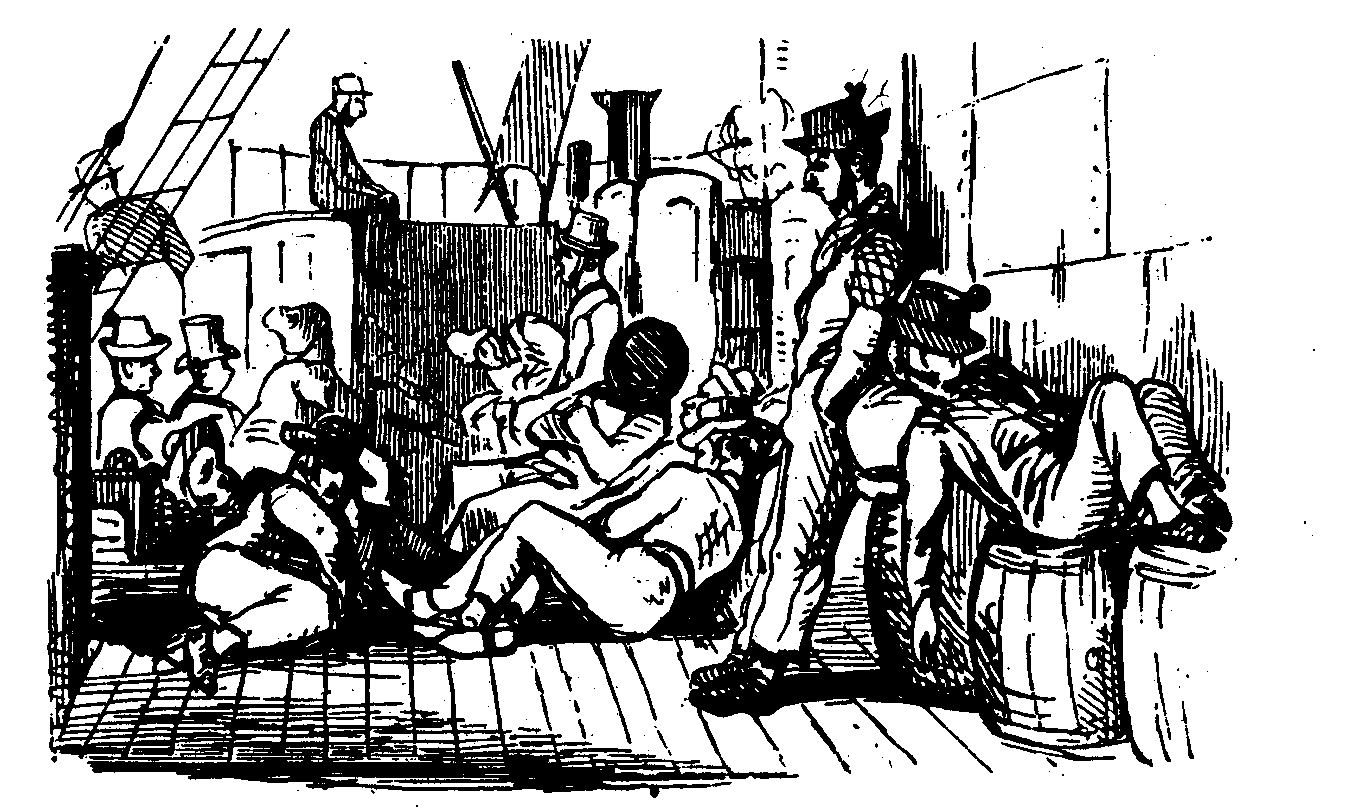 12 сентября мы отплыли в Ирландию; в ту пору такое путешествие занимало
около семидесяти часов и не относилось к числу самых приятных. Чтобы
представить себе, как оно выглядело, утройте тяготы плавания до Кале через
пролив; никаких дополнительных удобств для женщин и детей тогда не
предусматривалось, не знаю, может быть, теперь что-нибудь изменилось к
лучшему. Мне было больно подвергать любимых тяготам пути, но иного выхода я
не видел. Вся прелесть путешествия меркнет, когда к радостному предчувствию
приключения примешивается беспокойство за близких - жену и малышей; не
думаю, что можно наслаждаться новыми впечатлениями, тревожась о том, как
обогреть детей и поддержать угасающую веру жены в благополучный исход всей
затеи. Путешествуя с семьей, я много раз за эти годы познал ужасы дороги,
но, ей-богу, все это были пустяки рядом с тем, что мы перенесли на пути в
Корк, тогда я в самом деле усомнился, выйдем ли мы из этого приключения
живыми, Даже теперь, когда я вижу, как покидает гавань один из пыхтящих
пароходиков и женщины на палубе, укутанные в шали, поднимают машущих ручками
детей, меня охватывает тот же тошнотворный страх, и я спешу прочь, сжимая
зубы и обещая себе больше никогда не вспоминать о нашей давней поездке, но
мне, конечно, не забыть ее, и в этом, наверное, моя кара.
Сначала все шло отлично. Уже то, что все мы были в сборе, вовремя
погрузились, отправили чемоданы в трюмы и покончили со всеми предотъездными
тревогами, казалось нам победой. Относительная беззаботность не покидала нас
весь первый субботний вечер: мы поздравляли друг друга с тем, что
мужественно справились с отъездом; Изабелла, правда, не разделяла моего
восторга, но я не видел в том ничего особенного: она ведь, как бы это
сказать, отвыкла от таких чувств. Я долго распространялся об Ирландии, о
том, как всем нам будет хорошо там, вдали от туманов Грейт-Корэм, и
живописал Анни и Броди, а также всем желавшим меня слушать, красоты страны,
в которую ни разу не ступал ногой. В пути нашей опорой была Броди: она
успокаивала детей, взяв на себя все то, что должна была бы делать Изабелла,
и занимала нас рассказами, щедро черпая из своего запаса; баюкая малышку и
укрывая Анни от холода, Броди нимало не заботилась о собственных удобствах.
Изабелла и не пыталась уснуть: она сказала, что ей будет лучше на свежем
воздухе, и хотя на палубе было более чем свежо - последнее плохо описывает
порывы леденящего ветра - я ее не отговаривал. Я привык приветствовать любое
принятое ею решение, любой поступок казался лучше, чем ее обычная апатия. Мы
оба поднялись на палубу, она прильнула к поручням и, будто зачарованная,
вглядывалась в черную воду моря. Не знаю, что ее так привлекло: нас окружала
темнота, а холод, шум машины и скрип судна были не лучшие средства, чтобы
успокоить расшатанные нервы. Но на мою жену эта картина, казалось,
действовала завораживающе - она не собиралась спускаться вниз и, застыв в
неподвижности, не отвечала на мои вопросы, лишь время от времени, закрыв
глаза, откидывала назад голову, словно хотела подставить веки дыханию ветра.
Мне первому наскучило стоять на палубе, и я стал уговаривать ее спуститься
вниз и поспать, пока море относительно спокойно; помню, мне приходилось чуть
не силой отрывать от поручней ее сопротивляющиеся пальцы. Возможно, я
остался бы на палубе и дольше, если бы она издала хоть слово протеста, а не
просто цеплялась за поручни, но она молчала, а я так озяб и хотел спать, что
отвел ее в нашу каюту и настоял на том, чтобы мы легли.
Что было дальше, я не знаю - не знаю, что было с Изабеллой. Лежала ли
она рядом со мною, широко открыв глаза, перед которыми вздымались пенистые
волны, пока я посапывал во сне, равнодушный к ее страданиям? Поднялась ли
она по-воровски, украдкой, взглянула ли, а, может быть, даже поцеловала меня
- о боже! - и выскользнула из каюты со сжавшимся от страха, но исполненным
решимости сердцем? Не знаю, она мне так тогда и не сказала, а позже мы не
касались этой темы, на мою долю остаются лишь догадки и страшные картины,
которые я перебираю в разных сочетаниях. Был ли то внезапный безрассудный
приступ буйства или заранее взвешенный, с обдуманной холодной ясностью
совершенный поступок? Не знаю, что я предпочел бы. Так или иначе, он был
чудовищен, и я поныне не в силах о нем думать: вообразите, моя бедная жена
еще раз поднялась на палубу и бросилась в кипящую пучину океана. Вы слышите
тот страшный звук, с которым ее тело ударяется о воду? Вы можете себе
представить крик, которым она оглашает воздух? Кому достанет сил не
крикнуть: "Зачем?"
Даже сегодня, через двадцать лет, в течение которых я свыкся с мыслью,
что моя жена психически больна, я задаю еще и еще раз один и тот же вопрос:
как можно было решиться на такой ужасный шаг? Для нас, здоровых,
непостижимо, когда родной нам человек, который всего лишь несколько минут
назад говорил и смеялся вместе с нами, совершает нечто столь жестокое и
страшное. Но ничего не остается, только стиснуть зубы и посмотреть правде в
глаза: что было, то было, ничего не поделаешь. Быть может, когда медицина
станет совершеннее, врачи научатся читать в умах этих несчастных, и вместо
того, чтобы воздевать руки в отчаянии и страхе, мы сможем помогать их душам,
как помогаем их истерзанным телам. Должно быть, существует какой-то нам пока
неведомый прием - что-то вроде ключа к головоломке, которого не видят из-за
его простоты, - совсем нехитрый, наподобие лубка, в который помещают
сломанную руку, но только мы его пока не знаем. Я не поверю, что есть
божественный закон, который запрещает понимать безумцев, равно как не верю,
что их душами завладевает дьявол и лучше нам их сторониться. У бога не могло
быть такой цели: толкнуть мою жену на самоубийство, он лишь благословил бы
мудреца, который изобрел бы средство, любое средство вернуть ей здоровье и
благополучие.
В ту страшную ночь я плохо понимал происходящее. Казалось, каждая
подробность должна была бы врезаться мне в память, однако я не могу
восстановить последовательность событий: думаю, что меня разбудил звук
корабельного колокола, но лишь гораздо позже я связал царившее на судне
смятение с тем, что жены не было рядом. Даже когда я полностью стряхнул с
себя сон, ее отсутствие не вызвало во мне тревоги, я был скорее озадачен, но
решил, что она, должно быть, пошла взглянуть на детей. Отнюдь не
предчувствие беды, которого я не испытывал, и не страх, а любопытство
побудило меня подняться на палубу; по дороге я заглянул в каюту, где были
дети и Броди, и с облегчением убедился, что, несмотря на поднявшийся шум,
все трое ее обитателей спят. Вы спрашиваете, что произошло дальше? Как я
осознал, что на меня обрушилось несчастье? Не знаю, просто не могу
вспомнить, и если бы меня заставили воспроизвести всю драму шаг за шагом, я
стал бы, возможно, фантазировать. Наверное, мне сказали, что молодая женщина
выбросилась за борт, я тотчас подумал об Изабелле и связал это с ее
отсутствием, - впрочем, не уверен; скорее, это было так: я протискивался к
поручням сквозь толпу пассажиров, движимый непреодолимым желанием узнать,
найдено ли тело, когда меня вдруг охватило ужасное чувство - я совершенно
ясно понял, что ищут именно мою жену. Не думаю, чтобы я закричал, да меня бы
и не услышали, кругом царила суматоха, беготня, одна за другой гремели
команды, и все это заглушалось ревом ветра и моря, пока, наконец, судовая
машина не задрожала и. не замерла.
Никто не надеялся найти тело. Много времени ушло на то, чтобы
остановить судно, да и кто мог знать, далеко ли унесло несчастную в
непроглядную тьму, которую нельзя было рассеять слабыми огнями парохода.
Нужно отдать должное человеколюбию капитана, который решился затеять поиски,
и уж, конечно, я всецело обязан энергии этого храброго человека и его
гребцов тем, что после двадцати страшных минут Изабелла была найдена: она
держалась на спине, тихонько подгребая руками. Какое странное противоречие!
Выбросившись за борт, она инстинктивно держалась на плаву, ожидая помощи. В
тот миг меня пронзил чуть ли не стыд за нее: все могут подумать, что она
только и хотела, что обратить на себя внимание, а не покончить счеты с
жизнью. Жестокое предположение, бог мне судья, и все же в тот миг, когда я
принял на руки переданное с лодки тело, с которого струилась вода, я ощутил
одну лишь радость. Затем пришел стыд, и он был ужасен: я едва мог взглянуть
в глаза жене и окружающим, и если бы я знал на судне какой-нибудь темный
угол, куда бы мог забиться и завыть, я бросился бы туда со всех ног. В
оставшуюся часть ночи я лежал рядом с переодетой в сухое и укутанной в
теплые одеяла Изабеллой, которая погрузилась в глубокий, немыслимо глубокий
сон; малейшее ее движение натягивало веревку, привязанную к моему запястью,
и тотчас разбудило бы меня, вздумай она повторить свою попытку. Однако в
этой мере не было нужды: я больше не сомкнул глаз той ночью. Помню, что был
спокоен и вполне рассудителен. Рассматривая над собою деревянный потолок
каюты, я благодарил бога за то, что он оставил жизнь моей жене, а мне послал
предупреждение, которым я еще мог воспользоваться. Теперь я понимал, как
ошибался, относя ее меланхолию на счет телесного недуга, и проклинал себя за
глупую надежду, что все пройдет само собой. Но хуже всего были угрызения
совести: я укорял себя за раздражительность и бессердечие по отношению к
нежнейшему созданию на свете и клялся воскресить жену, если любовь и
преданность способны это сделать. Я готов был пасть на колени и обещать, что
посвящу всего себя до конца дней моей несчастной подруге жизни.
Оставшуюся часть пути я ел, пил, гулял по палубе, вступал в разговоры с
пассажирами, как совершенно нормальный человек, хотя в душе я знал, что
жизнь моя разбита вдребезги. Я обнаружил, что могу даже смеяться, причем без
всякой нарочитости, с интересом обсуждать погоду, знакомых и прочие
житейские новости, хоть вы, наверное, считаете, что все эти радости должны
были мне быть заказаны. И не то чтобы я изображал из себя нормального
человека, тогда как внутри меня все клокотало: ничуть не бывало, я в самом
деле был постыдно спокоен и даже доволен собой. Интересно, кивали ли на меня
другие пассажиры, знавшие мою историю, и аттестовали ли меня чудовищем?
Интересно, что они говорили о моем благодушном настроении и мягком
обхождении, не называли Ли они меня между собой бесчувственным животным?
Наверное, если бы я появился на палубе с запавшими глазами и рвал на себе
волосы, они сочли бы это более уместным, и им[ стало бы как-то легче. Я
вовсе не собирался их разочаровывать, : но не умею изображать помешанного,
не ощущая помешательства. Возможно, вам это покажется бессмыслицей, но по
мере того, как корабль с его горестным грузом удалялся от берегов Англии,
пересекая Ирландское море, я чувствовал, как мир, глубокий мир спускается на
мою душу.
Когда мы добрались до дома тещи, мне поначалу показалось, что дела наши
еще поправятся и состояние Изабеллы вовсе не так серьезно, как следовало из
ее недавнего поступка. Попав в дом, где было много женщин, готовых, как
наседки, хлопотать и суетиться вокруг моей бедной женушки, я почувствовал
облегчение и даже вообразил, что миссис Шоу, кажется, не так плоха, как я
привык считать. Правда же заключалась в том, что миссис Шоу была из тех, кто
обожает болезни и наслаждается их театральными эффектами, толпой снующих
взад-вперед врачей, в общем, всем тем, чего я терпеть не мог; понятия не
имею, как ей удавалось зазывать в эту забытую богом дыру такие полчища
медиков! Они прибывали дюжинами, вооруженные целительными саквояжами,
высажи^ вались из повозок, запряженных пони,, и в один голос с большой само-
уверенностью заявляли, что моя жена нуждается в покое, отдыхе и легкой
диете, а также в успокоительных и укрепляющих микстурах, которыми они были
готовы снабдить нас в ту же минуту и по умопомрачительным ценам. Миссис Шоу
выслушивала их самые нелепые советы с величайшей важностью, торжественно
кивала и без конца входила и выходила из комнаты Изабеллы, причем всегда на
цыпочках и с крайне озабоченным выражением. Случившееся было приписано
уединению, в котором последнее время жила Изабелла, и у миссис Шоу даже
вошло в привычку, когда в очередной раз произносился этот диагноз, глядеть
на меня в упор, всем своим видом выражая отвращение и словно говоря, что
знает, кто виноват в случившемся. Я не пытался спорить и тихо предоставил
Изабеллу ее попечениям. Утешить себя я мог лишь тем, что пока рядом с
больной находится моя свояченица Джейн, которая была сама доброта и
буквально не отходила от сестры, ее матушка не станет давать воли своему
дурному нраву.
Наконец, паника, с которой начался наш визит, улеглась, и наступило
время вспомнить о его первоначальной цели. Не могло быть и речи о том, чтобы
разъезжать по Ирландии, - Изабеллу нельзя было ни оставить, ни взять с
собой, - поэтому мое знакомство со страной пришлось ограничить домом тещи и
ждать, пока обстоятельства позволят мне большее. Но несмотря на то, что я
был связан по рукам и ногам и радости туризма были мне заказаны, впечатления
каким-то образом стали просачиваться сквозь стены дома миссис Шоу и
проникать мне в душу, мало-помалу я начал ощущать, что за страна Ирландия; в
другие годы я разъезжал по ней несколько недель, но вряд ли мое первое,
интуитивное представление от этого существенно обогатилось. Конечно, я
понимаю, что для всякого, кто не родился и не вырос на этой исполненной
противоречий земле, она навсегда останется загадкой. Больше всего меня
поразила красота ее природы, которая видна была даже из окон моего
заключения. Всюду, куда ни устремляешь взор, природа здесь господствует над
человеком - я так и не понял, что тому причиной, праздность или бедность ее
обитателей, которые, кстати сказать, обращают поразительно мало внимания на
ее красоты, вызывавшие у меня приступы восторженного красноречия. Похоже,
что великолепие пейзажа местные жители воспринимают не с гордостью, а с
равнодушной покорностью, как неизбежный дар всевышнего.
Должен заметить, что всякое великолепие кончалось у дверей тещиного
дома, равно как у дверей любого ирландского дома, в котором мне доводилось
бывать Позднее я убедился, что ирландцы заслуженно гордятся многими
прекрасными поместьями и комфортабельными домами, но в Корке, сколько мне
известно, таковых нет. Видели бы вы, в какой роскошной гостиной я провел
большую часть времени: голые, без обоев стены, выкрашенные клеевой краской,
с таким множеством трещин, что одно их созерцание заняло у меня много часов,
окно в гостиной, всегда припертое стулом, чтобы оно, не дай бог, не
распахнулось и не вывалилась рама, а вместе с ней и половина стены. Каждый
стол и стул в этом доме был инвалидом, а уж о роскоши не было и речи. Вот в
этой-то лачуге я и проторчал большую часть своих дней в Ирландии, пытаясь
сквозь бесконечное, хвастливое пустозвонство тещи разобрать, что говорит на
улице (с ужасным ирландским акцентом, вдвое более сильным, чем у ее
товарищей) своим ясным голоском Анни, играющая в эту минуту с детворой из
соседнего дома, и заставлял себя работать над пьесой, за которую взялся,
чтобы как-то позабыть свои горести. Из затеи с пьесой так ничего и не вышло,
но я ей благодарен за то, что смог отвлечься, и за ту радость, которую
доставляет сама возможность выводить слова на бумаге. Работа, скажу я вам, -
самый надежный способ исцелиться, единственное снадобье, принимая которое
регулярно и большими дозами, можно заглушить боль и страдания. Не так уж
важно, что это за работа и как она у вас выходит, - если вы ее не бросаете и
упорно движетесь к намеченной цели, она вам непременно поможет. Боже, как
тяжело за нее браться под грузом навалившейся на вас беды, но стоит вам ее
начать - и тяжесть исчезает. Я вовсе не хочу сказать, что, взявшись за нее,
вы позабудете свои несчастья: вам не избавиться от неотвязной боли, вам не
забыть дитя, которое лежит в могиле, вам не наполнить пустую кладовую, но
ваши муки - какова бы ни была их причина - понемногу отступают, а когда вы
доведете ее до конца, само ощущение, что несмотря на все препоны вы достигли
цели, становится для вас источником надежды.
12 сентября мы отплыли в Ирландию; в ту пору такое путешествие занимало
около семидесяти часов и не относилось к числу самых приятных. Чтобы
представить себе, как оно выглядело, утройте тяготы плавания до Кале через
пролив; никаких дополнительных удобств для женщин и детей тогда не
предусматривалось, не знаю, может быть, теперь что-нибудь изменилось к
лучшему. Мне было больно подвергать любимых тяготам пути, но иного выхода я
не видел. Вся прелесть путешествия меркнет, когда к радостному предчувствию
приключения примешивается беспокойство за близких - жену и малышей; не
думаю, что можно наслаждаться новыми впечатлениями, тревожась о том, как
обогреть детей и поддержать угасающую веру жены в благополучный исход всей
затеи. Путешествуя с семьей, я много раз за эти годы познал ужасы дороги,
но, ей-богу, все это были пустяки рядом с тем, что мы перенесли на пути в
Корк, тогда я в самом деле усомнился, выйдем ли мы из этого приключения
живыми, Даже теперь, когда я вижу, как покидает гавань один из пыхтящих
пароходиков и женщины на палубе, укутанные в шали, поднимают машущих ручками
детей, меня охватывает тот же тошнотворный страх, и я спешу прочь, сжимая
зубы и обещая себе больше никогда не вспоминать о нашей давней поездке, но
мне, конечно, не забыть ее, и в этом, наверное, моя кара.
Сначала все шло отлично. Уже то, что все мы были в сборе, вовремя
погрузились, отправили чемоданы в трюмы и покончили со всеми предотъездными
тревогами, казалось нам победой. Относительная беззаботность не покидала нас
весь первый субботний вечер: мы поздравляли друг друга с тем, что
мужественно справились с отъездом; Изабелла, правда, не разделяла моего
восторга, но я не видел в том ничего особенного: она ведь, как бы это
сказать, отвыкла от таких чувств. Я долго распространялся об Ирландии, о
том, как всем нам будет хорошо там, вдали от туманов Грейт-Корэм, и
живописал Анни и Броди, а также всем желавшим меня слушать, красоты страны,
в которую ни разу не ступал ногой. В пути нашей опорой была Броди: она
успокаивала детей, взяв на себя все то, что должна была бы делать Изабелла,
и занимала нас рассказами, щедро черпая из своего запаса; баюкая малышку и
укрывая Анни от холода, Броди нимало не заботилась о собственных удобствах.
Изабелла и не пыталась уснуть: она сказала, что ей будет лучше на свежем
воздухе, и хотя на палубе было более чем свежо - последнее плохо описывает
порывы леденящего ветра - я ее не отговаривал. Я привык приветствовать любое
принятое ею решение, любой поступок казался лучше, чем ее обычная апатия. Мы
оба поднялись на палубу, она прильнула к поручням и, будто зачарованная,
вглядывалась в черную воду моря. Не знаю, что ее так привлекло: нас окружала
темнота, а холод, шум машины и скрип судна были не лучшие средства, чтобы
успокоить расшатанные нервы. Но на мою жену эта картина, казалось,
действовала завораживающе - она не собиралась спускаться вниз и, застыв в
неподвижности, не отвечала на мои вопросы, лишь время от времени, закрыв
глаза, откидывала назад голову, словно хотела подставить веки дыханию ветра.
Мне первому наскучило стоять на палубе, и я стал уговаривать ее спуститься
вниз и поспать, пока море относительно спокойно; помню, мне приходилось чуть
не силой отрывать от поручней ее сопротивляющиеся пальцы. Возможно, я
остался бы на палубе и дольше, если бы она издала хоть слово протеста, а не
просто цеплялась за поручни, но она молчала, а я так озяб и хотел спать, что
отвел ее в нашу каюту и настоял на том, чтобы мы легли.
Что было дальше, я не знаю - не знаю, что было с Изабеллой. Лежала ли
она рядом со мною, широко открыв глаза, перед которыми вздымались пенистые
волны, пока я посапывал во сне, равнодушный к ее страданиям? Поднялась ли
она по-воровски, украдкой, взглянула ли, а, может быть, даже поцеловала меня
- о боже! - и выскользнула из каюты со сжавшимся от страха, но исполненным
решимости сердцем? Не знаю, она мне так тогда и не сказала, а позже мы не
касались этой темы, на мою долю остаются лишь догадки и страшные картины,
которые я перебираю в разных сочетаниях. Был ли то внезапный безрассудный
приступ буйства или заранее взвешенный, с обдуманной холодной ясностью
совершенный поступок? Не знаю, что я предпочел бы. Так или иначе, он был
чудовищен, и я поныне не в силах о нем думать: вообразите, моя бедная жена
еще раз поднялась на палубу и бросилась в кипящую пучину океана. Вы слышите
тот страшный звук, с которым ее тело ударяется о воду? Вы можете себе
представить крик, которым она оглашает воздух? Кому достанет сил не
крикнуть: "Зачем?"
Даже сегодня, через двадцать лет, в течение которых я свыкся с мыслью,
что моя жена психически больна, я задаю еще и еще раз один и тот же вопрос:
как можно было решиться на такой ужасный шаг? Для нас, здоровых,
непостижимо, когда родной нам человек, который всего лишь несколько минут
назад говорил и смеялся вместе с нами, совершает нечто столь жестокое и
страшное. Но ничего не остается, только стиснуть зубы и посмотреть правде в
глаза: что было, то было, ничего не поделаешь. Быть может, когда медицина
станет совершеннее, врачи научатся читать в умах этих несчастных, и вместо
того, чтобы воздевать руки в отчаянии и страхе, мы сможем помогать их душам,
как помогаем их истерзанным телам. Должно быть, существует какой-то нам пока
неведомый прием - что-то вроде ключа к головоломке, которого не видят из-за
его простоты, - совсем нехитрый, наподобие лубка, в который помещают
сломанную руку, но только мы его пока не знаем. Я не поверю, что есть
божественный закон, который запрещает понимать безумцев, равно как не верю,
что их душами завладевает дьявол и лучше нам их сторониться. У бога не могло
быть такой цели: толкнуть мою жену на самоубийство, он лишь благословил бы
мудреца, который изобрел бы средство, любое средство вернуть ей здоровье и
благополучие.
В ту страшную ночь я плохо понимал происходящее. Казалось, каждая
подробность должна была бы врезаться мне в память, однако я не могу
восстановить последовательность событий: думаю, что меня разбудил звук
корабельного колокола, но лишь гораздо позже я связал царившее на судне
смятение с тем, что жены не было рядом. Даже когда я полностью стряхнул с
себя сон, ее отсутствие не вызвало во мне тревоги, я был скорее озадачен, но
решил, что она, должно быть, пошла взглянуть на детей. Отнюдь не
предчувствие беды, которого я не испытывал, и не страх, а любопытство
побудило меня подняться на палубу; по дороге я заглянул в каюту, где были
дети и Броди, и с облегчением убедился, что, несмотря на поднявшийся шум,
все трое ее обитателей спят. Вы спрашиваете, что произошло дальше? Как я
осознал, что на меня обрушилось несчастье? Не знаю, просто не могу
вспомнить, и если бы меня заставили воспроизвести всю драму шаг за шагом, я
стал бы, возможно, фантазировать. Наверное, мне сказали, что молодая женщина
выбросилась за борт, я тотчас подумал об Изабелле и связал это с ее
отсутствием, - впрочем, не уверен; скорее, это было так: я протискивался к
поручням сквозь толпу пассажиров, движимый непреодолимым желанием узнать,
найдено ли тело, когда меня вдруг охватило ужасное чувство - я совершенно
ясно понял, что ищут именно мою жену. Не думаю, чтобы я закричал, да меня бы
и не услышали, кругом царила суматоха, беготня, одна за другой гремели
команды, и все это заглушалось ревом ветра и моря, пока, наконец, судовая
машина не задрожала и. не замерла.
Никто не надеялся найти тело. Много времени ушло на то, чтобы
остановить судно, да и кто мог знать, далеко ли унесло несчастную в
непроглядную тьму, которую нельзя было рассеять слабыми огнями парохода.
Нужно отдать должное человеколюбию капитана, который решился затеять поиски,
и уж, конечно, я всецело обязан энергии этого храброго человека и его
гребцов тем, что после двадцати страшных минут Изабелла была найдена: она
держалась на спине, тихонько подгребая руками. Какое странное противоречие!
Выбросившись за борт, она инстинктивно держалась на плаву, ожидая помощи. В
тот миг меня пронзил чуть ли не стыд за нее: все могут подумать, что она
только и хотела, что обратить на себя внимание, а не покончить счеты с
жизнью. Жестокое предположение, бог мне судья, и все же в тот миг, когда я
принял на руки переданное с лодки тело, с которого струилась вода, я ощутил
одну лишь радость. Затем пришел стыд, и он был ужасен: я едва мог взглянуть
в глаза жене и окружающим, и если бы я знал на судне какой-нибудь темный
угол, куда бы мог забиться и завыть, я бросился бы туда со всех ног. В
оставшуюся часть ночи я лежал рядом с переодетой в сухое и укутанной в
теплые одеяла Изабеллой, которая погрузилась в глубокий, немыслимо глубокий
сон; малейшее ее движение натягивало веревку, привязанную к моему запястью,
и тотчас разбудило бы меня, вздумай она повторить свою попытку. Однако в
этой мере не было нужды: я больше не сомкнул глаз той ночью. Помню, что был
спокоен и вполне рассудителен. Рассматривая над собою деревянный потолок
каюты, я благодарил бога за то, что он оставил жизнь моей жене, а мне послал
предупреждение, которым я еще мог воспользоваться. Теперь я понимал, как
ошибался, относя ее меланхолию на счет телесного недуга, и проклинал себя за
глупую надежду, что все пройдет само собой. Но хуже всего были угрызения
совести: я укорял себя за раздражительность и бессердечие по отношению к
нежнейшему созданию на свете и клялся воскресить жену, если любовь и
преданность способны это сделать. Я готов был пасть на колени и обещать, что
посвящу всего себя до конца дней моей несчастной подруге жизни.
Оставшуюся часть пути я ел, пил, гулял по палубе, вступал в разговоры с
пассажирами, как совершенно нормальный человек, хотя в душе я знал, что
жизнь моя разбита вдребезги. Я обнаружил, что могу даже смеяться, причем без
всякой нарочитости, с интересом обсуждать погоду, знакомых и прочие
житейские новости, хоть вы, наверное, считаете, что все эти радости должны
были мне быть заказаны. И не то чтобы я изображал из себя нормального
человека, тогда как внутри меня все клокотало: ничуть не бывало, я в самом
деле был постыдно спокоен и даже доволен собой. Интересно, кивали ли на меня
другие пассажиры, знавшие мою историю, и аттестовали ли меня чудовищем?
Интересно, что они говорили о моем благодушном настроении и мягком
обхождении, не называли Ли они меня между собой бесчувственным животным?
Наверное, если бы я появился на палубе с запавшими глазами и рвал на себе
волосы, они сочли бы это более уместным, и им[ стало бы как-то легче. Я
вовсе не собирался их разочаровывать, : но не умею изображать помешанного,
не ощущая помешательства. Возможно, вам это покажется бессмыслицей, но по
мере того, как корабль с его горестным грузом удалялся от берегов Англии,
пересекая Ирландское море, я чувствовал, как мир, глубокий мир спускается на
мою душу.
Когда мы добрались до дома тещи, мне поначалу показалось, что дела наши
еще поправятся и состояние Изабеллы вовсе не так серьезно, как следовало из
ее недавнего поступка. Попав в дом, где было много женщин, готовых, как
наседки, хлопотать и суетиться вокруг моей бедной женушки, я почувствовал
облегчение и даже вообразил, что миссис Шоу, кажется, не так плоха, как я
привык считать. Правда же заключалась в том, что миссис Шоу была из тех, кто
обожает болезни и наслаждается их театральными эффектами, толпой снующих
взад-вперед врачей, в общем, всем тем, чего я терпеть не мог; понятия не
имею, как ей удавалось зазывать в эту забытую богом дыру такие полчища
медиков! Они прибывали дюжинами, вооруженные целительными саквояжами,
высажи^ вались из повозок, запряженных пони,, и в один голос с большой само-
уверенностью заявляли, что моя жена нуждается в покое, отдыхе и легкой
диете, а также в успокоительных и укрепляющих микстурах, которыми они были
готовы снабдить нас в ту же минуту и по умопомрачительным ценам. Миссис Шоу
выслушивала их самые нелепые советы с величайшей важностью, торжественно
кивала и без конца входила и выходила из комнаты Изабеллы, причем всегда на
цыпочках и с крайне озабоченным выражением. Случившееся было приписано
уединению, в котором последнее время жила Изабелла, и у миссис Шоу даже
вошло в привычку, когда в очередной раз произносился этот диагноз, глядеть
на меня в упор, всем своим видом выражая отвращение и словно говоря, что
знает, кто виноват в случившемся. Я не пытался спорить и тихо предоставил
Изабеллу ее попечениям. Утешить себя я мог лишь тем, что пока рядом с
больной находится моя свояченица Джейн, которая была сама доброта и
буквально не отходила от сестры, ее матушка не станет давать воли своему
дурному нраву.
Наконец, паника, с которой начался наш визит, улеглась, и наступило
время вспомнить о его первоначальной цели. Не могло быть и речи о том, чтобы
разъезжать по Ирландии, - Изабеллу нельзя было ни оставить, ни взять с
собой, - поэтому мое знакомство со страной пришлось ограничить домом тещи и
ждать, пока обстоятельства позволят мне большее. Но несмотря на то, что я
был связан по рукам и ногам и радости туризма были мне заказаны, впечатления
каким-то образом стали просачиваться сквозь стены дома миссис Шоу и
проникать мне в душу, мало-помалу я начал ощущать, что за страна Ирландия; в
другие годы я разъезжал по ней несколько недель, но вряд ли мое первое,
интуитивное представление от этого существенно обогатилось. Конечно, я
понимаю, что для всякого, кто не родился и не вырос на этой исполненной
противоречий земле, она навсегда останется загадкой. Больше всего меня
поразила красота ее природы, которая видна была даже из окон моего
заключения. Всюду, куда ни устремляешь взор, природа здесь господствует над
человеком - я так и не понял, что тому причиной, праздность или бедность ее
обитателей, которые, кстати сказать, обращают поразительно мало внимания на
ее красоты, вызывавшие у меня приступы восторженного красноречия. Похоже,
что великолепие пейзажа местные жители воспринимают не с гордостью, а с
равнодушной покорностью, как неизбежный дар всевышнего.
Должен заметить, что всякое великолепие кончалось у дверей тещиного
дома, равно как у дверей любого ирландского дома, в котором мне доводилось
бывать Позднее я убедился, что ирландцы заслуженно гордятся многими
прекрасными поместьями и комфортабельными домами, но в Корке, сколько мне
известно, таковых нет. Видели бы вы, в какой роскошной гостиной я провел
большую часть времени: голые, без обоев стены, выкрашенные клеевой краской,
с таким множеством трещин, что одно их созерцание заняло у меня много часов,
окно в гостиной, всегда припертое стулом, чтобы оно, не дай бог, не
распахнулось и не вывалилась рама, а вместе с ней и половина стены. Каждый
стол и стул в этом доме был инвалидом, а уж о роскоши не было и речи. Вот в
этой-то лачуге я и проторчал большую часть своих дней в Ирландии, пытаясь
сквозь бесконечное, хвастливое пустозвонство тещи разобрать, что говорит на
улице (с ужасным ирландским акцентом, вдвое более сильным, чем у ее
товарищей) своим ясным голоском Анни, играющая в эту минуту с детворой из
соседнего дома, и заставлял себя работать над пьесой, за которую взялся,
чтобы как-то позабыть свои горести. Из затеи с пьесой так ничего и не вышло,
но я ей благодарен за то, что смог отвлечься, и за ту радость, которую
доставляет сама возможность выводить слова на бумаге. Работа, скажу я вам, -
самый надежный способ исцелиться, единственное снадобье, принимая которое
регулярно и большими дозами, можно заглушить боль и страдания. Не так уж
важно, что это за работа и как она у вас выходит, - если вы ее не бросаете и
упорно движетесь к намеченной цели, она вам непременно поможет. Боже, как
тяжело за нее браться под грузом навалившейся на вас беды, но стоит вам ее
начать - и тяжесть исчезает. Я вовсе не хочу сказать, что, взявшись за нее,
вы позабудете свои несчастья: вам не избавиться от неотвязной боли, вам не
забыть дитя, которое лежит в могиле, вам не наполнить пустую кладовую, но
ваши муки - какова бы ни была их причина - понемногу отступают, а когда вы
доведете ее до конца, само ощущение, что несмотря на все препоны вы достигли
цели, становится для вас источником надежды.
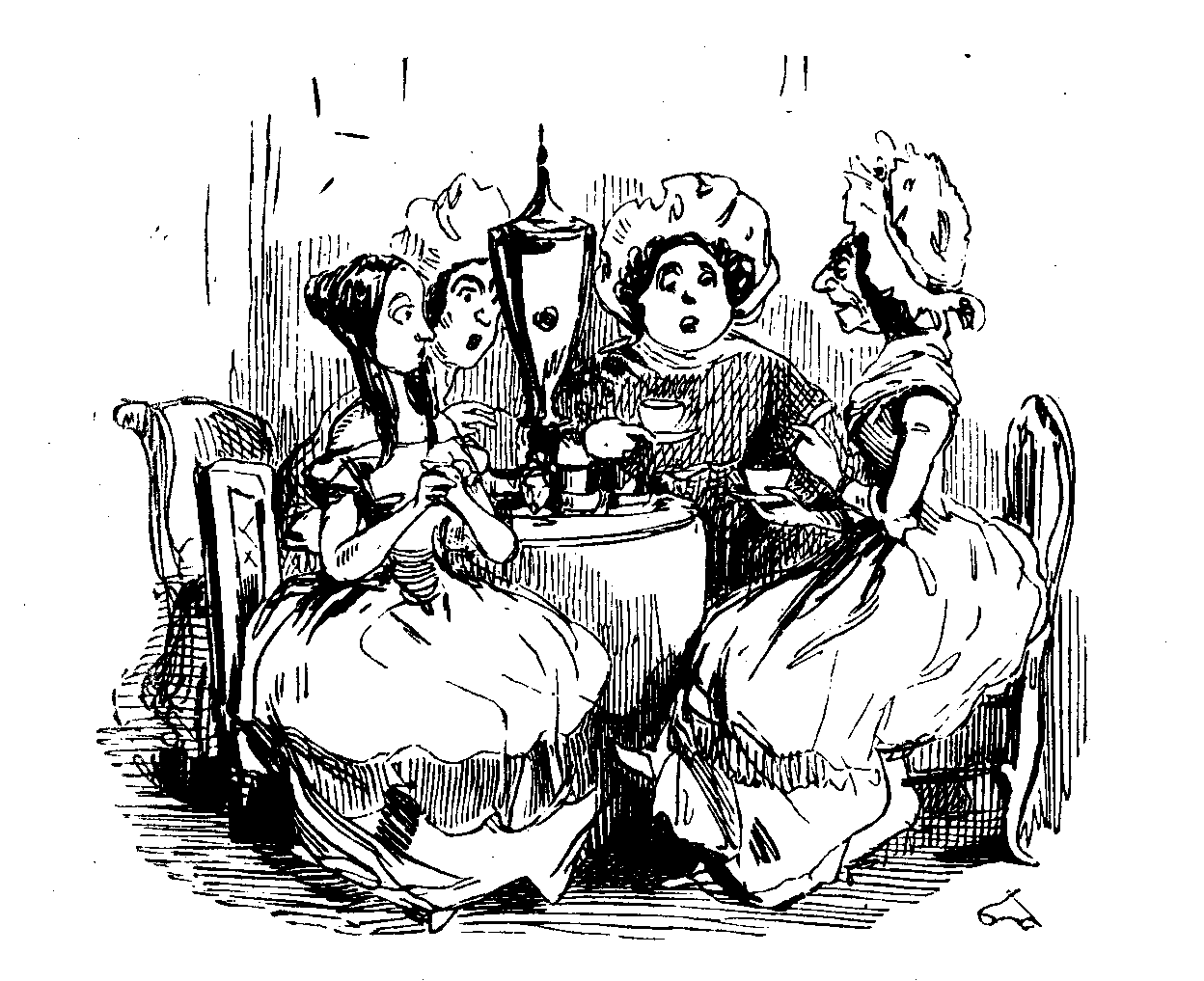 Конечно, мне и в голову не приходило делиться этой своей доморощенной
философией с любезной миссис Шоу, которая подозревала, что я ежедневно
запираюсь в жалкой клетушке в задней части дома, чтобы предаваться пьянству
или какому-нибудь другому тайному пороку. Я, в свою очередь, быстро понял,
что, признав вначале за этой женщиной достоинства, благодушно принял
желаемое за действительное и дал себя одурачить тем убедительным спектаклем,
который она разыграла, изображая заботливую мать, но это было чистое
представление. По существу, ей не было никакого дела ни до дочери, ни до
внучек, меня же она охотнее отправила бы в преисподнюю, чем проявила хоть
каплю сочувствия. Единственное, что ее по-настоящему беспокоило, так это
расходы, в которые мы ее ввели. А то, что мы вроде были ее собственной
кровью и плотью, для нее ничего не значило. Она ни на секунду не давала мне
забыть, как много для нас сделала, предоставив нам кров и стол, и все чаще
напоминала, что в своих несчастьях я повинен сам. Каюсь, я искренне ее
ненавидел, и это чувство ничуть не ослабело с ходом времени. Глядя на эту
жестокую женщину, я тосковал о своей матушке, которая знала бы, как утешить
нас всех, и никогда бы не заикнулась о тратах и неудобствах, которые мы ей
доставили. И в самом деле, не успел я написать родителям о наших
злоключениях, как получил исполненный горячего сочувствия ответ с
предложением немедленной помощи. Контраст был так мучителен, что я
почувствовал неодолимое желание сейчас же избавиться от моей деспотичной
тещи и перебраться с семьей в Париж, где нам будут искренне рады.
Переезд был связан с такими трудностями, что я почти не надеялся с ним
сладить. Ведь перевезти нужно было не просто семью и детей, а тяжело больную
женщину, нуждавшуюся в неусыпном наблюдении, способную совершить
непоправимое и под надзором. Доктора продолжали твердить, что ей необходим
покой, только покой, но где, спрашивается, было взять этот покой? Куда было
деваться в этом доме от бесконечных хождений туда-сюда, тирад и проповедей
миссис Шоу? Где было спрятаться от воплей нашей крошки, от шума, который в
наших комнатках поднимала Анни? Здоровье Изабеллы не поправлялось: ее
сознание оставалось помутненным, она либо бессвязно бредила о прошлом, либо
погружалась в зловещую апатию, приступов которой я стал бояться. Я
представлял себе, какой крик поднимет миссис Шоу, как будет называть меня
убийцей, едва я заикнусь об отъезде, но надеялся, что, напоив жену
успокоительным и избегая особенно мучительных перегонов, сумею добраться до
Лондона, а там - и до Парижа. Материальные потери будут невосполнимы: на
моем счету в банке было пусто, а договора с издательством "Чампен и Холл" я
не выполнил, - но делать было нечего. Заказанную книгу очерков об Ирландии я
все равно не мог написать, разумнее было урезать траты и вернуться домой,
пока у меня еще оставался шиллинг-другой на дорогу.
Согласитесь, что во всем этом было очень мало веселого, но все же я не
мог отказать себе в злобном удовольствии поводить эту старую каргу, миссис
Шоу, за нос. Обсуждать с ней отъезд было, понятное дело, невозможно: как ни
раздражало ее наше присутствие, она непременно стала бы вопить и обзывать
меня всеми мыслимыми бранными словами, как только бы узнала, что ее
обожаемую - на словах - дочь увозят, а доктора, которые все перед ней
трепетали, ее бы непременно поддержали. Она и так уже зашла достаточно
далеко, настойчиво пытаясь выудить у Броди свидетельства моего дурного
обращения с женой, и я не мог идти на риск и допустить скандал, совершенно
неизбежный, заикнись я об отъезде. Правда, одна половина моего существа
жаждала объясниться и высказать ей все, что накипело на душе, но вторая,
более разумная, сознавала, что это было бы ошибкой, о которой я бы после
пожалел. Выяснения отношений неплохо выглядят в романах - я и сам описывал
их с удовольствием - но в жизни от них больше вреда, чем пользы, да и, кроме
того, они никогда не приносят желаемого облегчения, по крайней мере, мне и
мне подобным. Я не терплю насилия, не помню, чтоб я кого-нибудь ударил, с
детства, да и тогда я дрался только потому, что так положено, и больше
прикидывался разъяренным, чтоб не прослыть маменькиным сынком, но что-то в
характере миссис Шоу так меня раздражало, что подвернись случай - я бы за
себя не поручился... То-то была бы сцена! Представляю, как мы запускаем друг
в друга ногти, таскаем за волосы, обмениваемся затрещинами и оплеухами - я
прямо-таки вижу, как Титмарш проигрывает и в окровавленной сорочке уходит с
поля боя. Ну нет, на драку я бы не отважился! Вместо того я подучил славную,
верную Броди, которая была на моей стороне и сама немало претерпела от
гнусной бабы, проявив чудеса храбрости, выкрал собственную семью в полном
составе и уехал, не сказав теще "до свидания". Честное слово, все то время,
что мы пересекали Ирландское море, я хохотал, представляя, какое лицо будет
у миссис Шоу, когда она поймет, что мы уехали, и несколько отрезвел,
вообразив, чего все это будет стоить бедной Джейн. С тех пор я никогда не
видел этой дамы - речь идет, конечно, о моей теще - и не предполагаю видеть.
По мне, пусть хоть в пекло провалится. Вернувшись, я написал ей злющее
письмо, но, кажется, не отправил его, а может, и отправил, и вы еще придете
в ужас, когда она его опубликует. Если она и впрямь это сделает, читая его,
не забывайте, в какое положение я был поставлен.
Мы добрались до Бристоля, потом до Лондона, причем в кармане у меня
осталось, без всякого преувеличения, полпенса. Наши финансы беспокоили меня
тогда даже больше, чем здоровье Изабеллы. Где, скажите на милость, было мне
взять денег, чтоб оплатить уход, в котором нуждалась моя жена? Кажется, еще
совсем недавно я ликовал, почувствовав себя почти зажиточным человеком, меня
даже покинул неотвязный страх, достану ли я денег, чтоб расплатиться за
квартиру в следующем месяце, и вот этот кошмар ко мне вернулся, мне снова
предстояло погрузиться в бесконечные подсчеты - схождение дебета и кредита
всецело зависело от темпов моей работы. Да и на что я мог рассчитывать, как
мог работать с больной женой под боком? А кто будет присматривать за домом,
за детьми и, наконец, за мной? Быть может, я сам? Но я был настолько не
приспособлен к ведению хозяйства, что мысль об этом вызвала у меня улыбку,
которая не сходила с моего лица несколькб очень тряских миль. Если я брошу
писать, жить будет не на что, но чтоб писать, мне нужно хоть немного тишины.
Я сидел и думал, что делают другие в подобном положении. Сначала мне пришла
в голову мысль, что моих малюток могла бы прижать к своей груди какая-нибудь
из моих родственниц, но в семействе Теккереев не так легко найти подходящую
грудь, и, перебрав в уме свою родню, я отверг всех возможных претенденток. В
сущности, единственное, что оставалось, - это пожить у матушки, пока все
как-то не образуется, и я благодарил судьбу за то, что моя мать была еще не
так стара и не так обременена другими заботами, чтобы этот выход был
немыслим.
Помню, до чего мне тогда хотелось, как хочется и сегодня, обсудить с
кем-нибудь создавшееся положение, я смотрел на Изабеллу, которая с того
ужасного дня, когда она пыталась утопиться, все чаще и чаще улыбалась,
словно хотела меня задобрить, и мучился желанием поговорить с ней о нашем
будущем. Порой она казалась мне такой разумной и спокойной, что я с трудом
удерживал слова, готовые сорваться с уст, и, знаете, я видел, как при этом
омрачается ее лицо, словно она понимала, что подвела меня вновь. Мужчина
привыкает делиться мыслями с женой и поверять ей все свои заботы, расстаться
с этой привычкой ему очень и очень трудно. Кто, как не жена, так стойко
защитит его, когда ему нужна будет защита, и кто другой так горячо его
поддержит, даже если правота его окажется сомнительной? Никто так быстро не
поймет, что на уме у мужа нечто важное, хотя он мямлит о каких-то пустяках,
никто так долго не откажется от веры в его конечную победу, даже когда
вокруг все скажут, что он сдал позиции. Самая преданная мать не в силах
заменить сыну жену - родную ему душу, ибо она слепа, она, бедняжка, уверена,
что сын - это она сама, тогда как жена не забывает, что муж существует сам
по себе и что не стоит обольщаться, будто она знает о нем все. Ну, а дети,
дети стараются понять вас - мои, например, старались не жалея сил, однако
легко ли обнажить душу перед детьми и как просить помощи у тех, кому вы сами
привыкли служить опорой? Нет, никто вам не заменит преданной и любящей жены,
даже самая пылкая возлюбленная, хотя, признаюсь, я этого не проверял.
Мужчина, лишившийся такой жены, на всю жизнь обездолен.
Будущее рисовалось мне в самом мрачном свете, когда мы вернулись домой
осенним днем 1840 года; хорошо еще, что, ожидая трудных времен - на что
другое можно было рассчитывать? - я понятия не имел, что моя жена никогда не
станет прежней. В голове у меня было полно планов на будущее, неизменно
основывавшихся на том, что матушка возьмет к себе детей, а я тем временем
найду врача, который догадается, как помочь Изабелле, а потом забьюсь в
какую-нибудь глушь и напишу тот самый шедевр, который разом перевернет всю
нашу жизнь. Вы морщитесь: жена так тяжело больна, а муж только и думает, что
о своем успехе. Надеюсь, вы так не считаете. Надеюсь, вы посочувствуете
раненому, лежащему в грязи, на поле брани, которому чудятся великолепные
луга, вы не откажете в глотке воды бредущему пустыней бедуину? Да и как,
скажите, на милость, я бы выжил, если бы не мечтал? Должно быть, у природы
есть свои приемы, она умеет защищать нас, когда действительность становится
невыносима: мы устремляем взор поверх кипящей вокруг схватки к дальним
горизонтам и под гипнозом красоты одолеваем боль от раны. Конечно, я мечтал
о будущем, о славе, об успехе, о чем угодно, только бы не глядеть на свою
несчастную жену и не повторять себе, что отныне я обречен. И если я,
по-вашему, сухарь и эгоцентрик, прекрасно, приветствую ваш приговор.
Одновременно я молился, я горячо молил всевышнего позволить мне еще раз
полюбить жену и позаботиться о ней как должно! И если я о чем-нибудь лил
слезы, так это об упущенных возможностях, о том, что мягкость и; терпимость
Изабеллы я принимал без должной благодарности. О, если бы мне только
разрешили, я вел бы себя совсем иначе! Я не был так глуп, чтобы вообразить,
будто стоит мне стать на колени и пообещать исправиться, как Изабелла тотчас
выздоровеет, я даже понимал, что мне нечем жертвовать и нечего отдать, чтоб
удостоиться такого огромного дара. Все, что мне оставалось, - это, смиренно
склонив голову, двигаться вперед - делать что положено. Мне и в голову не
приходило сидеть сложа руки и ждать чуда.
Конечно, мне и в голову не приходило делиться этой своей доморощенной
философией с любезной миссис Шоу, которая подозревала, что я ежедневно
запираюсь в жалкой клетушке в задней части дома, чтобы предаваться пьянству
или какому-нибудь другому тайному пороку. Я, в свою очередь, быстро понял,
что, признав вначале за этой женщиной достоинства, благодушно принял
желаемое за действительное и дал себя одурачить тем убедительным спектаклем,
который она разыграла, изображая заботливую мать, но это было чистое
представление. По существу, ей не было никакого дела ни до дочери, ни до
внучек, меня же она охотнее отправила бы в преисподнюю, чем проявила хоть
каплю сочувствия. Единственное, что ее по-настоящему беспокоило, так это
расходы, в которые мы ее ввели. А то, что мы вроде были ее собственной
кровью и плотью, для нее ничего не значило. Она ни на секунду не давала мне
забыть, как много для нас сделала, предоставив нам кров и стол, и все чаще
напоминала, что в своих несчастьях я повинен сам. Каюсь, я искренне ее
ненавидел, и это чувство ничуть не ослабело с ходом времени. Глядя на эту
жестокую женщину, я тосковал о своей матушке, которая знала бы, как утешить
нас всех, и никогда бы не заикнулась о тратах и неудобствах, которые мы ей
доставили. И в самом деле, не успел я написать родителям о наших
злоключениях, как получил исполненный горячего сочувствия ответ с
предложением немедленной помощи. Контраст был так мучителен, что я
почувствовал неодолимое желание сейчас же избавиться от моей деспотичной
тещи и перебраться с семьей в Париж, где нам будут искренне рады.
Переезд был связан с такими трудностями, что я почти не надеялся с ним
сладить. Ведь перевезти нужно было не просто семью и детей, а тяжело больную
женщину, нуждавшуюся в неусыпном наблюдении, способную совершить
непоправимое и под надзором. Доктора продолжали твердить, что ей необходим
покой, только покой, но где, спрашивается, было взять этот покой? Куда было
деваться в этом доме от бесконечных хождений туда-сюда, тирад и проповедей
миссис Шоу? Где было спрятаться от воплей нашей крошки, от шума, который в
наших комнатках поднимала Анни? Здоровье Изабеллы не поправлялось: ее
сознание оставалось помутненным, она либо бессвязно бредила о прошлом, либо
погружалась в зловещую апатию, приступов которой я стал бояться. Я
представлял себе, какой крик поднимет миссис Шоу, как будет называть меня
убийцей, едва я заикнусь об отъезде, но надеялся, что, напоив жену
успокоительным и избегая особенно мучительных перегонов, сумею добраться до
Лондона, а там - и до Парижа. Материальные потери будут невосполнимы: на
моем счету в банке было пусто, а договора с издательством "Чампен и Холл" я
не выполнил, - но делать было нечего. Заказанную книгу очерков об Ирландии я
все равно не мог написать, разумнее было урезать траты и вернуться домой,
пока у меня еще оставался шиллинг-другой на дорогу.
Согласитесь, что во всем этом было очень мало веселого, но все же я не
мог отказать себе в злобном удовольствии поводить эту старую каргу, миссис
Шоу, за нос. Обсуждать с ней отъезд было, понятное дело, невозможно: как ни
раздражало ее наше присутствие, она непременно стала бы вопить и обзывать
меня всеми мыслимыми бранными словами, как только бы узнала, что ее
обожаемую - на словах - дочь увозят, а доктора, которые все перед ней
трепетали, ее бы непременно поддержали. Она и так уже зашла достаточно
далеко, настойчиво пытаясь выудить у Броди свидетельства моего дурного
обращения с женой, и я не мог идти на риск и допустить скандал, совершенно
неизбежный, заикнись я об отъезде. Правда, одна половина моего существа
жаждала объясниться и высказать ей все, что накипело на душе, но вторая,
более разумная, сознавала, что это было бы ошибкой, о которой я бы после
пожалел. Выяснения отношений неплохо выглядят в романах - я и сам описывал
их с удовольствием - но в жизни от них больше вреда, чем пользы, да и, кроме
того, они никогда не приносят желаемого облегчения, по крайней мере, мне и
мне подобным. Я не терплю насилия, не помню, чтоб я кого-нибудь ударил, с
детства, да и тогда я дрался только потому, что так положено, и больше
прикидывался разъяренным, чтоб не прослыть маменькиным сынком, но что-то в
характере миссис Шоу так меня раздражало, что подвернись случай - я бы за
себя не поручился... То-то была бы сцена! Представляю, как мы запускаем друг
в друга ногти, таскаем за волосы, обмениваемся затрещинами и оплеухами - я
прямо-таки вижу, как Титмарш проигрывает и в окровавленной сорочке уходит с
поля боя. Ну нет, на драку я бы не отважился! Вместо того я подучил славную,
верную Броди, которая была на моей стороне и сама немало претерпела от
гнусной бабы, проявив чудеса храбрости, выкрал собственную семью в полном
составе и уехал, не сказав теще "до свидания". Честное слово, все то время,
что мы пересекали Ирландское море, я хохотал, представляя, какое лицо будет
у миссис Шоу, когда она поймет, что мы уехали, и несколько отрезвел,
вообразив, чего все это будет стоить бедной Джейн. С тех пор я никогда не
видел этой дамы - речь идет, конечно, о моей теще - и не предполагаю видеть.
По мне, пусть хоть в пекло провалится. Вернувшись, я написал ей злющее
письмо, но, кажется, не отправил его, а может, и отправил, и вы еще придете
в ужас, когда она его опубликует. Если она и впрямь это сделает, читая его,
не забывайте, в какое положение я был поставлен.
Мы добрались до Бристоля, потом до Лондона, причем в кармане у меня
осталось, без всякого преувеличения, полпенса. Наши финансы беспокоили меня
тогда даже больше, чем здоровье Изабеллы. Где, скажите на милость, было мне
взять денег, чтоб оплатить уход, в котором нуждалась моя жена? Кажется, еще
совсем недавно я ликовал, почувствовав себя почти зажиточным человеком, меня
даже покинул неотвязный страх, достану ли я денег, чтоб расплатиться за
квартиру в следующем месяце, и вот этот кошмар ко мне вернулся, мне снова
предстояло погрузиться в бесконечные подсчеты - схождение дебета и кредита
всецело зависело от темпов моей работы. Да и на что я мог рассчитывать, как
мог работать с больной женой под боком? А кто будет присматривать за домом,
за детьми и, наконец, за мной? Быть может, я сам? Но я был настолько не
приспособлен к ведению хозяйства, что мысль об этом вызвала у меня улыбку,
которая не сходила с моего лица несколькб очень тряских миль. Если я брошу
писать, жить будет не на что, но чтоб писать, мне нужно хоть немного тишины.
Я сидел и думал, что делают другие в подобном положении. Сначала мне пришла
в голову мысль, что моих малюток могла бы прижать к своей груди какая-нибудь
из моих родственниц, но в семействе Теккереев не так легко найти подходящую
грудь, и, перебрав в уме свою родню, я отверг всех возможных претенденток. В
сущности, единственное, что оставалось, - это пожить у матушки, пока все
как-то не образуется, и я благодарил судьбу за то, что моя мать была еще не
так стара и не так обременена другими заботами, чтобы этот выход был
немыслим.
Помню, до чего мне тогда хотелось, как хочется и сегодня, обсудить с
кем-нибудь создавшееся положение, я смотрел на Изабеллу, которая с того
ужасного дня, когда она пыталась утопиться, все чаще и чаще улыбалась,
словно хотела меня задобрить, и мучился желанием поговорить с ней о нашем
будущем. Порой она казалась мне такой разумной и спокойной, что я с трудом
удерживал слова, готовые сорваться с уст, и, знаете, я видел, как при этом
омрачается ее лицо, словно она понимала, что подвела меня вновь. Мужчина
привыкает делиться мыслями с женой и поверять ей все свои заботы, расстаться
с этой привычкой ему очень и очень трудно. Кто, как не жена, так стойко
защитит его, когда ему нужна будет защита, и кто другой так горячо его
поддержит, даже если правота его окажется сомнительной? Никто так быстро не
поймет, что на уме у мужа нечто важное, хотя он мямлит о каких-то пустяках,
никто так долго не откажется от веры в его конечную победу, даже когда
вокруг все скажут, что он сдал позиции. Самая преданная мать не в силах
заменить сыну жену - родную ему душу, ибо она слепа, она, бедняжка, уверена,
что сын - это она сама, тогда как жена не забывает, что муж существует сам
по себе и что не стоит обольщаться, будто она знает о нем все. Ну, а дети,
дети стараются понять вас - мои, например, старались не жалея сил, однако
легко ли обнажить душу перед детьми и как просить помощи у тех, кому вы сами
привыкли служить опорой? Нет, никто вам не заменит преданной и любящей жены,
даже самая пылкая возлюбленная, хотя, признаюсь, я этого не проверял.
Мужчина, лишившийся такой жены, на всю жизнь обездолен.
Будущее рисовалось мне в самом мрачном свете, когда мы вернулись домой
осенним днем 1840 года; хорошо еще, что, ожидая трудных времен - на что
другое можно было рассчитывать? - я понятия не имел, что моя жена никогда не
станет прежней. В голове у меня было полно планов на будущее, неизменно
основывавшихся на том, что матушка возьмет к себе детей, а я тем временем
найду врача, который догадается, как помочь Изабелле, а потом забьюсь в
какую-нибудь глушь и напишу тот самый шедевр, который разом перевернет всю
нашу жизнь. Вы морщитесь: жена так тяжело больна, а муж только и думает, что
о своем успехе. Надеюсь, вы так не считаете. Надеюсь, вы посочувствуете
раненому, лежащему в грязи, на поле брани, которому чудятся великолепные
луга, вы не откажете в глотке воды бредущему пустыней бедуину? Да и как,
скажите, на милость, я бы выжил, если бы не мечтал? Должно быть, у природы
есть свои приемы, она умеет защищать нас, когда действительность становится
невыносима: мы устремляем взор поверх кипящей вокруг схватки к дальним
горизонтам и под гипнозом красоты одолеваем боль от раны. Конечно, я мечтал
о будущем, о славе, об успехе, о чем угодно, только бы не глядеть на свою
несчастную жену и не повторять себе, что отныне я обречен. И если я,
по-вашему, сухарь и эгоцентрик, прекрасно, приветствую ваш приговор.
Одновременно я молился, я горячо молил всевышнего позволить мне еще раз
полюбить жену и позаботиться о ней как должно! И если я о чем-нибудь лил
слезы, так это об упущенных возможностях, о том, что мягкость и; терпимость
Изабеллы я принимал без должной благодарности. О, если бы мне только
разрешили, я вел бы себя совсем иначе! Я не был так глуп, чтобы вообразить,
будто стоит мне стать на колени и пообещать исправиться, как Изабелла тотчас
выздоровеет, я даже понимал, что мне нечем жертвовать и нечего отдать, чтоб
удостоиться такого огромного дара. Все, что мне оставалось, - это, смиренно
склонив голову, двигаться вперед - делать что положено. Мне и в голову не
приходило сидеть сложа руки и ждать чуда.
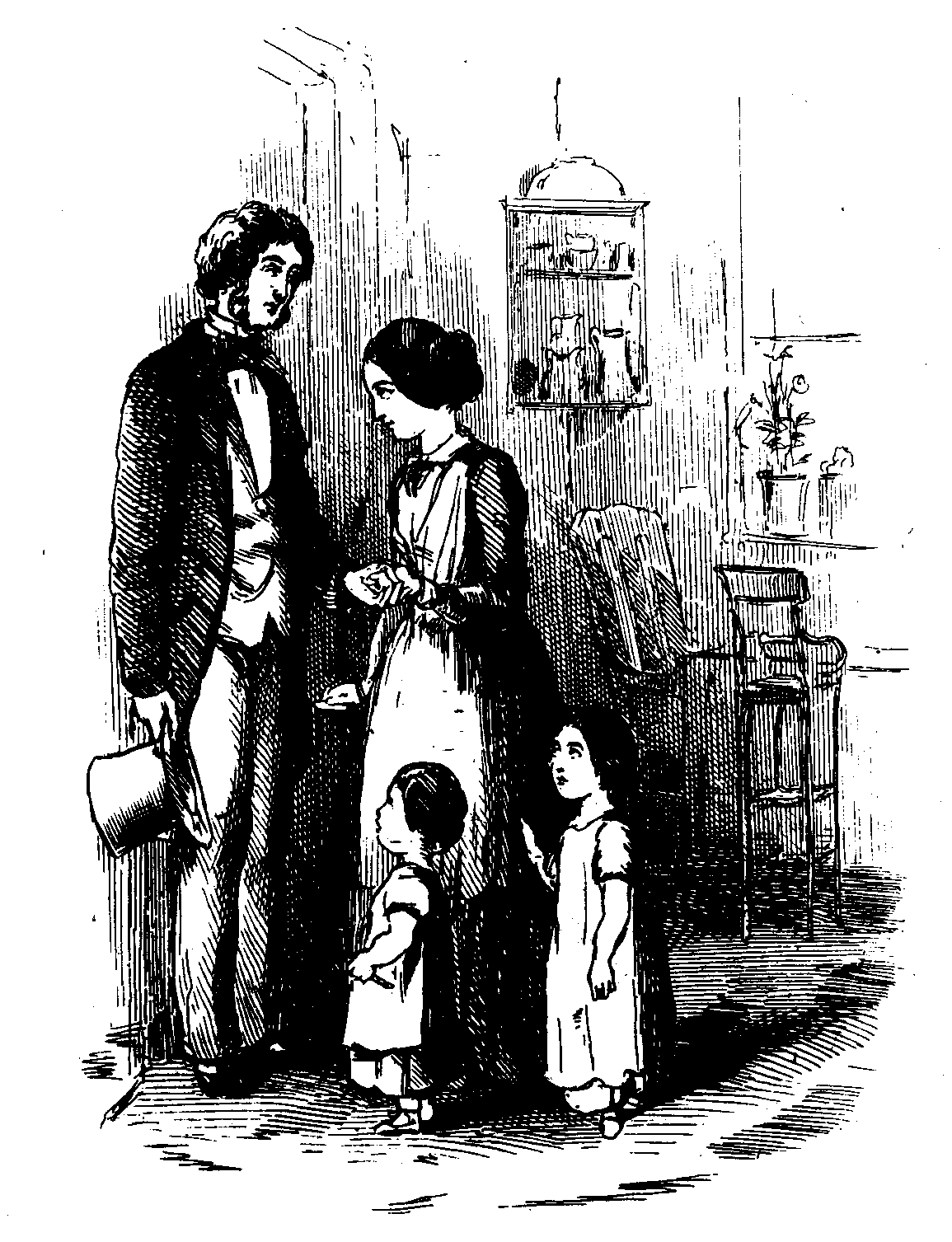 Увы, нельзя изъять какую-то часть жизни, отбросить ее прочь и со
словами: "Сделанного не воротишь" больше ее не вспоминать. Когда я привез
свою семью в Париж из Ирландии, жизнь моя полностью переменилась, и больше
мне не довелось вкусить семейных радостей, которые я знал совсем недавно. Я
даже не был больше семейным человеком в полном смысле слова, хотя моя семья
стала мне еще дороже и наша связь еще больше укрепилась.
Я обнаружил, что снова одинок и волею судьбы должен играть роль, к
которой не имею призвания. Вы помните, что холостяцкая жизнь мне никогда не
нравилась? Помните, как пылко я желал вступить в брак и обрести спутницу
жизни? Сейчас все пошло прахом: я снова был один и в то же время не один,
свободен в том, в чем не желал свободы, но не свободен от обязанности
растить двух маленьких девочек - дело, о котором я не имел ни малейшего
понятия, - и не свободен от заботы о своей карьере, которая только недавно
начала было складываться, но снова оказалась на грани катастрофы. Как вы,
наверное, знаете - думаю, что знаете, - моя карьера не погибла, но и она не
самое главное в жизни мужчины. Прошу вас, не судите обо мне лишь по моим
писательским успехам, а попытайтесь понять меня как человека, что
невозможно, если не вообразить себе, чего я лишился тогда, в 1840 году.
Болезнь Изабеллы перечеркнула всю мою жизнь и счастье. Я не собираюсь к
этому возвращаться, не буду стонать, не буду пытаться объяснить этой
болезнью все дурное, что дальше произойдет со мной, но я хочу заявить вам с
полной ответственностью: гибель жены - а то была на самом деле гибель -
самым пагубным образом сказалась на моей жизни, помните об этом, листая
дальше эту книгу. У каждого из нас есть в прошлом обстоятельства, которые
бросают свет на наше настоящее и даже предрекают будущее. Так вот:
катастрофа, случившаяся с Изабеллой, - в немалой мере ключ к судьбе
Титмарша.
Впрочем, я слишком долго мучаю вас поучениями; обещаю, что в
последующих главах прибавлю шагу и постараюсь вознаградить вас за терпение.
^T8^U
^TВсе сначала.^U
Не знаю, сумел ли я дать хоть отдаленное представление о том, что за
удивительный человек моя матушка, без этого вам не понять, каким якорем
спасения была она для меня долгие годы, пока, по обыкновению многих якорей,
не стала чрезмерно отягощать мой ковчег, так что мне захотелось несколько от
нее освободиться. Когда заболела моя жена, матушке исполнилось всего сорок
восемь лет, она все еще была поразительно хороша собой, все так же полна
энергии и, как женщина с характером, все так же играла заметную роль в моей
жизни и в жизни своего окружения. Сильная воля и твердость свойственны ей и
сейчас, но годы несколько умерили ее решительность. Она из тех натур,
которые не ведают сомнений, - идеальное качество для матери очень молодого
человека, оно дает ему чувство надежности, особенно когда смягчается
изрядной долей природной веселости и неиссякаемой сердечностью, как у
матушки. Не то чтобы она была домашним тираном в юбке или мучительницей -
смешно и думать, - но предпочитала, чтоб окружающие поступали так, как она
находит нужным, что они чаще всего и выполняли, охотно давая себя увлечь
тому потоку жизненной энергии, который она излучала. В те годы - с 1840 по
1846 - не знаю, что бы я без матушки и делал. Я бы не написал и строчки,
если бы она не заменила моим детям мать, и я снова и снова благодарю
всевышнего за ту радостную готовность, с какой она взяла на себя это
нелегкое бремя. По некоторым соображениям я не мог подкинуть все свое
семейство прямо на крыльцо к матушке, поэтому сначала я поселил их у
бабушки, миссис Батлер, которая очень быстро обнаружила, что взвалила на
себя непомерную ношу (подобное признание могли бы сделать и
облагодетельствованные), но все наилучшим образом устроилось, как только
девочки обосновались у моих родителей, на улице Сен-Мари. Обе стороны тотчас
привязались друг к другу, и не могу сказать, какое я испытал облегчение,
когда лица моих малюток утратили то потерянное, затравленное выражение, от
которого их не могли избавить даже заботы верной Броди. Они сразу
почувствовали, что здесь их любят и не дадут в обиду, и ничего плохого не
случится, даже если уедет их дорогой папочка, который постоянно твердит,
будто должен куда-то ехать. К тому же у моих родителей им было весело:
матушка - человек своеобразный и изобретательный, а отчим рад был
обзавестись небольшой аудиторией для всяких своих розыгрышей и затей. И в
гости, и на прогулки они здесь выезжали чаще, чем в последнее время в
Лондоне, а от парижской жизни и погоды были без ума. Я быстро понял, что
могу больше не беспокоиться за своих дочурок.
К сожалению, я ничего похожего не мог сказать об Изабелле - в первые
годы ее болезни моим тревогам не было конца. Я обещал вам не расписывать
нашу печальную историю и постараюсь сдержать слово, но, боже мой, чего она
мне стоила! Я стал замечать за собой в ту пору, что мне не очень-то приятны
рассказы о чужих успехах, тогда как неудачи ближних, напротив, доставляют
искреннее удовольствие, я просто умолял друзей немедленно сообщать мне обо
всех, кого обезобразит оспа, обчистят жулики или постигнет еще какое-нибудь
горе - из тех, что повергают любого нормального человека в трепет. Однако я
сам был не вполне нормален, да и могло ли быть иначе, когда у меня на руках
была больная жена, которую никто не брался вылечить? Я возил ее по всей
Европе в надежде, что найду спасительное средство, но лечение всюду
выглядело одинаково: сначала, казалось, она шла на поправку, и я воспарял
душой, затем улучшение неминуемо сходило на нет, и очень скоро она
возвращалась в свое обычное безотрадное состояние. Как же я надеялся, что
найдется старый славный доктор, эдакое медицинское светило, который отведет
меня в сторонку, растолкует, что с ней не так, и посоветует, как лучше все
это поправить. Я мужественно принял бы любой приговор, будь я уверен в его
справедливости, но я так и не встретил подобного оракула. Зато встретил и
выслушал десятки знаменитых докторов, и никто из них не сказал ничего
дельного. Все, что я узнал о ее болезни, я узнал сам, путем проб и ошибок -
самым мучительным путем. Я очень скоро понял, что это не телесный недуг:
покой, усиленное питание и многочасовой сон быстро восстановили ее плоть, но
не разум. Нет, то было умственное расстройство, отличавшееся неровным
течением: длительные промежутки времени, когда она выглядела совершенно
нормальной и была в ясном сознании, сменялись типичной для нее черной
меланхолией. Что ж, если ее болезнь неизлечима, то, может быть, разумнее
держать ее дома под наблюдением сиделки? Возможно, я бы тоже мог ухаживать
за ней и сохранил хотя бы некоторые радости общения? Но как ни больно было
это сознавать, такого выхода у нас не было. Держать Изабеллу дома было
рискованно именно из-за того, что она порой производила впечатление
совершенно нормального человека, но окажись она один на один с ребенком в
минуту помрачения разума - могло случиться непоправимое. Настроение ее
менялось непредсказуемо, а спрашивать с нее ответа было невозможно.
Сознательно она бы никогда не нанесла вреда детям, разве только случайно, но
последствия такой случайности могли быть столь ужасны, что я серьезно
сомневался, можно ли оставлять двух маленьких девочек в одном доме с
психически неуравновешенной матерью. Однако, несмотря на нервное
расстройство, Изабелла стоически переносила физическую боль - нас это всех
сбивало с толку. Помню, как ей удаляли громадный коренной зуб, величиной
чуть не с чернильницу, и она не издала ни единого стона; подумать только, та
самая женщина, которая была не в силах совладать с обычными житейскими
заботами: с усталостью, хозяйством, воспитанием детей.
Увы, нельзя изъять какую-то часть жизни, отбросить ее прочь и со
словами: "Сделанного не воротишь" больше ее не вспоминать. Когда я привез
свою семью в Париж из Ирландии, жизнь моя полностью переменилась, и больше
мне не довелось вкусить семейных радостей, которые я знал совсем недавно. Я
даже не был больше семейным человеком в полном смысле слова, хотя моя семья
стала мне еще дороже и наша связь еще больше укрепилась.
Я обнаружил, что снова одинок и волею судьбы должен играть роль, к
которой не имею призвания. Вы помните, что холостяцкая жизнь мне никогда не
нравилась? Помните, как пылко я желал вступить в брак и обрести спутницу
жизни? Сейчас все пошло прахом: я снова был один и в то же время не один,
свободен в том, в чем не желал свободы, но не свободен от обязанности
растить двух маленьких девочек - дело, о котором я не имел ни малейшего
понятия, - и не свободен от заботы о своей карьере, которая только недавно
начала было складываться, но снова оказалась на грани катастрофы. Как вы,
наверное, знаете - думаю, что знаете, - моя карьера не погибла, но и она не
самое главное в жизни мужчины. Прошу вас, не судите обо мне лишь по моим
писательским успехам, а попытайтесь понять меня как человека, что
невозможно, если не вообразить себе, чего я лишился тогда, в 1840 году.
Болезнь Изабеллы перечеркнула всю мою жизнь и счастье. Я не собираюсь к
этому возвращаться, не буду стонать, не буду пытаться объяснить этой
болезнью все дурное, что дальше произойдет со мной, но я хочу заявить вам с
полной ответственностью: гибель жены - а то была на самом деле гибель -
самым пагубным образом сказалась на моей жизни, помните об этом, листая
дальше эту книгу. У каждого из нас есть в прошлом обстоятельства, которые
бросают свет на наше настоящее и даже предрекают будущее. Так вот:
катастрофа, случившаяся с Изабеллой, - в немалой мере ключ к судьбе
Титмарша.
Впрочем, я слишком долго мучаю вас поучениями; обещаю, что в
последующих главах прибавлю шагу и постараюсь вознаградить вас за терпение.
^T8^U
^TВсе сначала.^U
Не знаю, сумел ли я дать хоть отдаленное представление о том, что за
удивительный человек моя матушка, без этого вам не понять, каким якорем
спасения была она для меня долгие годы, пока, по обыкновению многих якорей,
не стала чрезмерно отягощать мой ковчег, так что мне захотелось несколько от
нее освободиться. Когда заболела моя жена, матушке исполнилось всего сорок
восемь лет, она все еще была поразительно хороша собой, все так же полна
энергии и, как женщина с характером, все так же играла заметную роль в моей
жизни и в жизни своего окружения. Сильная воля и твердость свойственны ей и
сейчас, но годы несколько умерили ее решительность. Она из тех натур,
которые не ведают сомнений, - идеальное качество для матери очень молодого
человека, оно дает ему чувство надежности, особенно когда смягчается
изрядной долей природной веселости и неиссякаемой сердечностью, как у
матушки. Не то чтобы она была домашним тираном в юбке или мучительницей -
смешно и думать, - но предпочитала, чтоб окружающие поступали так, как она
находит нужным, что они чаще всего и выполняли, охотно давая себя увлечь
тому потоку жизненной энергии, который она излучала. В те годы - с 1840 по
1846 - не знаю, что бы я без матушки и делал. Я бы не написал и строчки,
если бы она не заменила моим детям мать, и я снова и снова благодарю
всевышнего за ту радостную готовность, с какой она взяла на себя это
нелегкое бремя. По некоторым соображениям я не мог подкинуть все свое
семейство прямо на крыльцо к матушке, поэтому сначала я поселил их у
бабушки, миссис Батлер, которая очень быстро обнаружила, что взвалила на
себя непомерную ношу (подобное признание могли бы сделать и
облагодетельствованные), но все наилучшим образом устроилось, как только
девочки обосновались у моих родителей, на улице Сен-Мари. Обе стороны тотчас
привязались друг к другу, и не могу сказать, какое я испытал облегчение,
когда лица моих малюток утратили то потерянное, затравленное выражение, от
которого их не могли избавить даже заботы верной Броди. Они сразу
почувствовали, что здесь их любят и не дадут в обиду, и ничего плохого не
случится, даже если уедет их дорогой папочка, который постоянно твердит,
будто должен куда-то ехать. К тому же у моих родителей им было весело:
матушка - человек своеобразный и изобретательный, а отчим рад был
обзавестись небольшой аудиторией для всяких своих розыгрышей и затей. И в
гости, и на прогулки они здесь выезжали чаще, чем в последнее время в
Лондоне, а от парижской жизни и погоды были без ума. Я быстро понял, что
могу больше не беспокоиться за своих дочурок.
К сожалению, я ничего похожего не мог сказать об Изабелле - в первые
годы ее болезни моим тревогам не было конца. Я обещал вам не расписывать
нашу печальную историю и постараюсь сдержать слово, но, боже мой, чего она
мне стоила! Я стал замечать за собой в ту пору, что мне не очень-то приятны
рассказы о чужих успехах, тогда как неудачи ближних, напротив, доставляют
искреннее удовольствие, я просто умолял друзей немедленно сообщать мне обо
всех, кого обезобразит оспа, обчистят жулики или постигнет еще какое-нибудь
горе - из тех, что повергают любого нормального человека в трепет. Однако я
сам был не вполне нормален, да и могло ли быть иначе, когда у меня на руках
была больная жена, которую никто не брался вылечить? Я возил ее по всей
Европе в надежде, что найду спасительное средство, но лечение всюду
выглядело одинаково: сначала, казалось, она шла на поправку, и я воспарял
душой, затем улучшение неминуемо сходило на нет, и очень скоро она
возвращалась в свое обычное безотрадное состояние. Как же я надеялся, что
найдется старый славный доктор, эдакое медицинское светило, который отведет
меня в сторонку, растолкует, что с ней не так, и посоветует, как лучше все
это поправить. Я мужественно принял бы любой приговор, будь я уверен в его
справедливости, но я так и не встретил подобного оракула. Зато встретил и
выслушал десятки знаменитых докторов, и никто из них не сказал ничего
дельного. Все, что я узнал о ее болезни, я узнал сам, путем проб и ошибок -
самым мучительным путем. Я очень скоро понял, что это не телесный недуг:
покой, усиленное питание и многочасовой сон быстро восстановили ее плоть, но
не разум. Нет, то было умственное расстройство, отличавшееся неровным
течением: длительные промежутки времени, когда она выглядела совершенно
нормальной и была в ясном сознании, сменялись типичной для нее черной
меланхолией. Что ж, если ее болезнь неизлечима, то, может быть, разумнее
держать ее дома под наблюдением сиделки? Возможно, я бы тоже мог ухаживать
за ней и сохранил хотя бы некоторые радости общения? Но как ни больно было
это сознавать, такого выхода у нас не было. Держать Изабеллу дома было
рискованно именно из-за того, что она порой производила впечатление
совершенно нормального человека, но окажись она один на один с ребенком в
минуту помрачения разума - могло случиться непоправимое. Настроение ее
менялось непредсказуемо, а спрашивать с нее ответа было невозможно.
Сознательно она бы никогда не нанесла вреда детям, разве только случайно, но
последствия такой случайности могли быть столь ужасны, что я серьезно
сомневался, можно ли оставлять двух маленьких девочек в одном доме с
психически неуравновешенной матерью. Однако, несмотря на нервное
расстройство, Изабелла стоически переносила физическую боль - нас это всех
сбивало с толку. Помню, как ей удаляли громадный коренной зуб, величиной
чуть не с чернильницу, и она не издала ни единого стона; подумать только, та
самая женщина, которая была не в силах совладать с обычными житейскими
заботами: с усталостью, хозяйством, воспитанием детей.
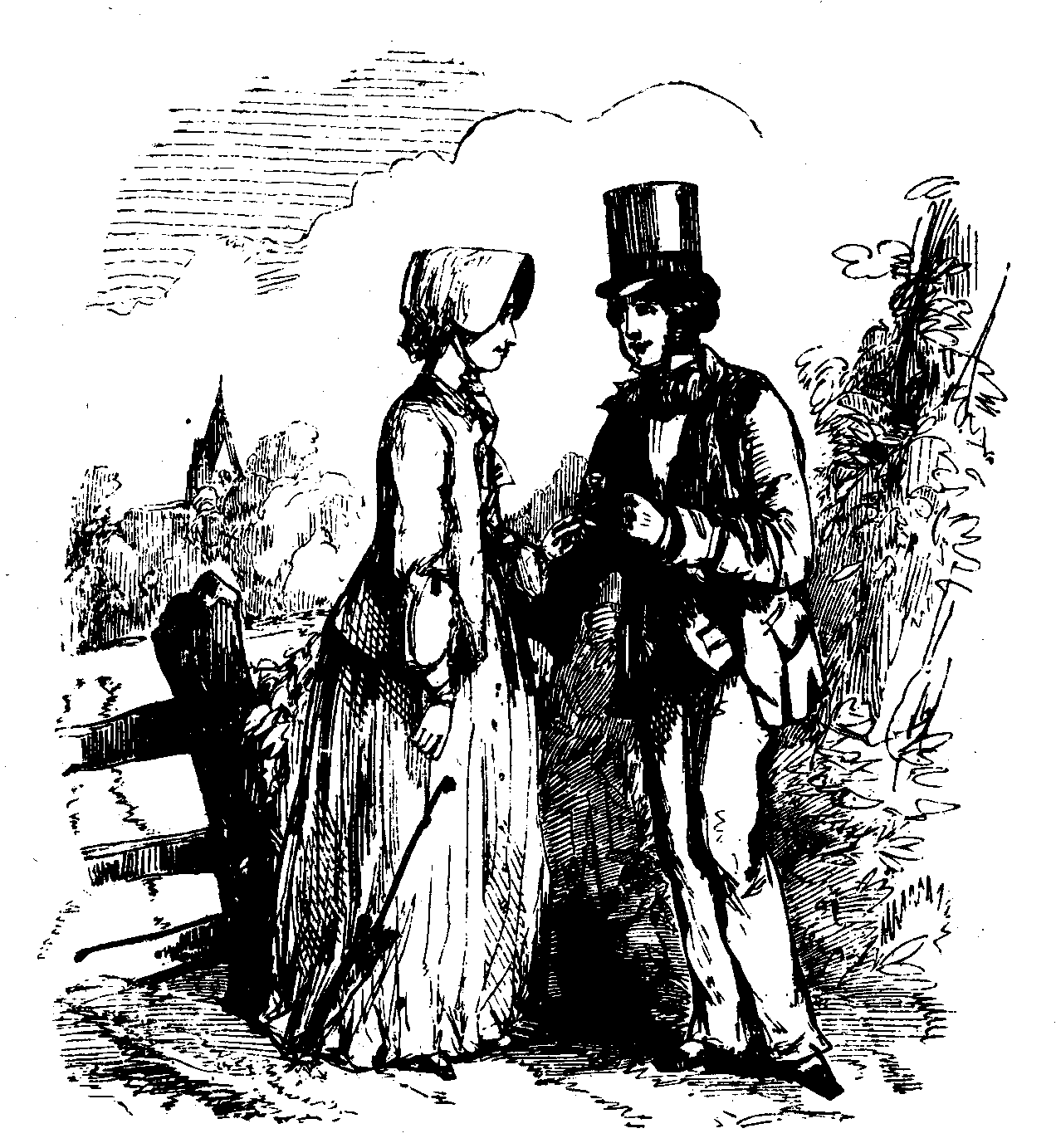 Итак, я решил, что Изабелла будет жить не с нами, но то была лишь
половина дела, следовало еще решить, куда ее определить. Сначала то была
знаменитая клиника Эскироля под Парижем, но место оказалось неподходящим. Во
время посещений Изабелла постоянно уговаривала меня забрать ее, и порой я
уступал ей. Помню среди всего этого беспросветного мрака весенний день в
Иври: сияло солнце, мы шли полями рука об руку, у наших ног благоухали цветы
и серебрилась река, помню ее смех, такой естественный и непринужденный,
согревавший мое истомившееся за долгие месяцы сердце, - казалось, он говорил
мне: потерпи и все образуется; мы ворковали, рассказывали друг другу разные
истории, она так нежно опиралась на мою руку, и, глядя в ее ясные глаза, я
знал - она здорова. Обедали мы и пили шампанское в маленькой таверне.
Изабелла целовала меня, положив голову ко мне на грудь, и официант, увидев
наши объятия, не хотел верить, что мы давно женаты. О, если бы так могло
продолжаться, молил я небо, я был бы счастливейшим человеком в мире! Одно
время казалось, что судьба мне внемлет, но дальше последовало неизбежное
ухудшение, и нужно было искать новую клинику, на сей раз в Германии.
Господи, что это был за ужас! Санаторий, в который я отвез жену, находился
вблизи Боппарда на Рейне. Лечение состояло в том, что пациента попеременно
обдавали очень горячим и очень холодным душем в надежде, что шок вернет ему
утраченное равновесие. Меня одолевали серьезные сомнения, но, поддавшись
уговорам, я решил попробовать. Вначале Изабелла была не в силах выдержать
такую массу льющейся воды, поэтому мне приходилось сопровождать ее в ванное
заведение, где я фигурировал в одних лишь старых нижних юбках матушки и
выглядел, должно быть, преглупо. Скорее всего, идиотизм этого зрелища и
убедил меня окончательно, что пора расстаться с курсом лечения и следует
искать для Изабеллы постоянное пристанище.
Вы, может быть, предполагаете, что в мире полным-полно румяных, добрых
нянюшек, которые сидят и ждут, когда их пригласят к душевнобольной женщине?
Признаюсь, я примерно так и думал и жестоко ошибся. Уход за душевнобольным
пробуждает в человеке худшие черты, почему-то считается, что ненормальный
пациент не может пожаловаться на своих нянек, словно нечесаные волосы и
грязное платье не говорят сами за себя! Впрочем, моя жена не была ни
невменяемой, ни слабоумной, это несомненно, и говорю я это не из ложной
гордости. Боже правый, я видел невменяемых, но Изабелла ничуть не походила
на этих странных, исступленных, неистовых женщин, которые бродят в
беспамятстве вокруг приютов. Она никогда не принадлежала к числу этих
несчастных, скорее к серой ничейной полосе между ними и здоровыми людьми. Я
никогда не верил, - хотя меня и убеждали в этом, - что в ней угасли чувства
и что лучше всего упрятать ее в заведение, дескать, ей там будет хорошо, - я
знал, что хорошо ей там не будет, да и, кроме всего прочего, у нее как у
человека и христианки были те же права, что и у нас с вами. Тем более что в
нашей стране обращаются с умалишенными отвратительно, и я искренне считаю,
что их участь - худшее из всех известных зол. Если мне нужно было ревностно
трудиться, чтоб обеспечить будущность своих детей, то еще усерднее я должен
был работать, чтоб дать моей бедной жене покой и блага хорошего ухода.
Сейчас я вздохну, всхлипну, покачаю головой и доскажу эту печальную
историю. После того, как я махнул рукой на клиники и чудодейственные методы
лечения, я временно оставил жену в Шайо, а сам отправился в Лондон, чтоб
окунуться в другую жизнь. По-вашему, я бессердечен, вам претит мое отношение
к жене? Что ж, это очень благородно с вашей стороны, но я могу сказать лишь
следующее: во-первых, вам не доводилось мучиться в обществе душевнобольного,
а во-вторых, и это самое существенное, вы - это вы, а я - это я. Я убедился,
что с моим характером жить взаперти, ухаживая за больным, - значит самому
превратиться в чудовище, хотя по природе я вовсе не злой человек. Что толку
в подобной жертве? Не лучше ли мне сохранить человеческий облик и проявлять
доброту в естественной для меня форме? Я знаю, некоторые фанатики со мной не
согласятся и сочтут, что я жертвую высокими идеалами человечности, но если я
и восхищаюсь их самоотверженностью (в чем я не уверен), я не могу им
подражать. К тому же, и другие, материальные соображения, никак мне не
позволяли превратиться в сиделку при больной жене - я должен был кормить
семью. Матушка великодушно предложила мне все, что имела, но этого "вcего"
было не бог весть сколько; а я не хотел злоупотреблять ее щедростью.
Довольно было и того, что она приютила моих девочек на все то время, пока я
не найду для них другого пристанища, но чтобы его найти, необходимо было
возвратиться в Лондон и рьяно браться за работу, как иначе мог я обеспечить
своих близких? Мне нужно было жить в Лондоне и, значит, я должен быть
свободен от больной жены и маленьких детей - так я решил и никогда не
сожалел об этом.
Итак, я решил, что Изабелла будет жить не с нами, но то была лишь
половина дела, следовало еще решить, куда ее определить. Сначала то была
знаменитая клиника Эскироля под Парижем, но место оказалось неподходящим. Во
время посещений Изабелла постоянно уговаривала меня забрать ее, и порой я
уступал ей. Помню среди всего этого беспросветного мрака весенний день в
Иври: сияло солнце, мы шли полями рука об руку, у наших ног благоухали цветы
и серебрилась река, помню ее смех, такой естественный и непринужденный,
согревавший мое истомившееся за долгие месяцы сердце, - казалось, он говорил
мне: потерпи и все образуется; мы ворковали, рассказывали друг другу разные
истории, она так нежно опиралась на мою руку, и, глядя в ее ясные глаза, я
знал - она здорова. Обедали мы и пили шампанское в маленькой таверне.
Изабелла целовала меня, положив голову ко мне на грудь, и официант, увидев
наши объятия, не хотел верить, что мы давно женаты. О, если бы так могло
продолжаться, молил я небо, я был бы счастливейшим человеком в мире! Одно
время казалось, что судьба мне внемлет, но дальше последовало неизбежное
ухудшение, и нужно было искать новую клинику, на сей раз в Германии.
Господи, что это был за ужас! Санаторий, в который я отвез жену, находился
вблизи Боппарда на Рейне. Лечение состояло в том, что пациента попеременно
обдавали очень горячим и очень холодным душем в надежде, что шок вернет ему
утраченное равновесие. Меня одолевали серьезные сомнения, но, поддавшись
уговорам, я решил попробовать. Вначале Изабелла была не в силах выдержать
такую массу льющейся воды, поэтому мне приходилось сопровождать ее в ванное
заведение, где я фигурировал в одних лишь старых нижних юбках матушки и
выглядел, должно быть, преглупо. Скорее всего, идиотизм этого зрелища и
убедил меня окончательно, что пора расстаться с курсом лечения и следует
искать для Изабеллы постоянное пристанище.
Вы, может быть, предполагаете, что в мире полным-полно румяных, добрых
нянюшек, которые сидят и ждут, когда их пригласят к душевнобольной женщине?
Признаюсь, я примерно так и думал и жестоко ошибся. Уход за душевнобольным
пробуждает в человеке худшие черты, почему-то считается, что ненормальный
пациент не может пожаловаться на своих нянек, словно нечесаные волосы и
грязное платье не говорят сами за себя! Впрочем, моя жена не была ни
невменяемой, ни слабоумной, это несомненно, и говорю я это не из ложной
гордости. Боже правый, я видел невменяемых, но Изабелла ничуть не походила
на этих странных, исступленных, неистовых женщин, которые бродят в
беспамятстве вокруг приютов. Она никогда не принадлежала к числу этих
несчастных, скорее к серой ничейной полосе между ними и здоровыми людьми. Я
никогда не верил, - хотя меня и убеждали в этом, - что в ней угасли чувства
и что лучше всего упрятать ее в заведение, дескать, ей там будет хорошо, - я
знал, что хорошо ей там не будет, да и, кроме всего прочего, у нее как у
человека и христианки были те же права, что и у нас с вами. Тем более что в
нашей стране обращаются с умалишенными отвратительно, и я искренне считаю,
что их участь - худшее из всех известных зол. Если мне нужно было ревностно
трудиться, чтоб обеспечить будущность своих детей, то еще усерднее я должен
был работать, чтоб дать моей бедной жене покой и блага хорошего ухода.
Сейчас я вздохну, всхлипну, покачаю головой и доскажу эту печальную
историю. После того, как я махнул рукой на клиники и чудодейственные методы
лечения, я временно оставил жену в Шайо, а сам отправился в Лондон, чтоб
окунуться в другую жизнь. По-вашему, я бессердечен, вам претит мое отношение
к жене? Что ж, это очень благородно с вашей стороны, но я могу сказать лишь
следующее: во-первых, вам не доводилось мучиться в обществе душевнобольного,
а во-вторых, и это самое существенное, вы - это вы, а я - это я. Я убедился,
что с моим характером жить взаперти, ухаживая за больным, - значит самому
превратиться в чудовище, хотя по природе я вовсе не злой человек. Что толку
в подобной жертве? Не лучше ли мне сохранить человеческий облик и проявлять
доброту в естественной для меня форме? Я знаю, некоторые фанатики со мной не
согласятся и сочтут, что я жертвую высокими идеалами человечности, но если я
и восхищаюсь их самоотверженностью (в чем я не уверен), я не могу им
подражать. К тому же, и другие, материальные соображения, никак мне не
позволяли превратиться в сиделку при больной жене - я должен был кормить
семью. Матушка великодушно предложила мне все, что имела, но этого "вcего"
было не бог весть сколько; а я не хотел злоупотреблять ее щедростью.
Довольно было и того, что она приютила моих девочек на все то время, пока я
не найду для них другого пристанища, но чтобы его найти, необходимо было
возвратиться в Лондон и рьяно браться за работу, как иначе мог я обеспечить
своих близких? Мне нужно было жить в Лондоне и, значит, я должен быть
свободен от больной жены и маленьких детей - так я решил и никогда не
сожалел об этом.
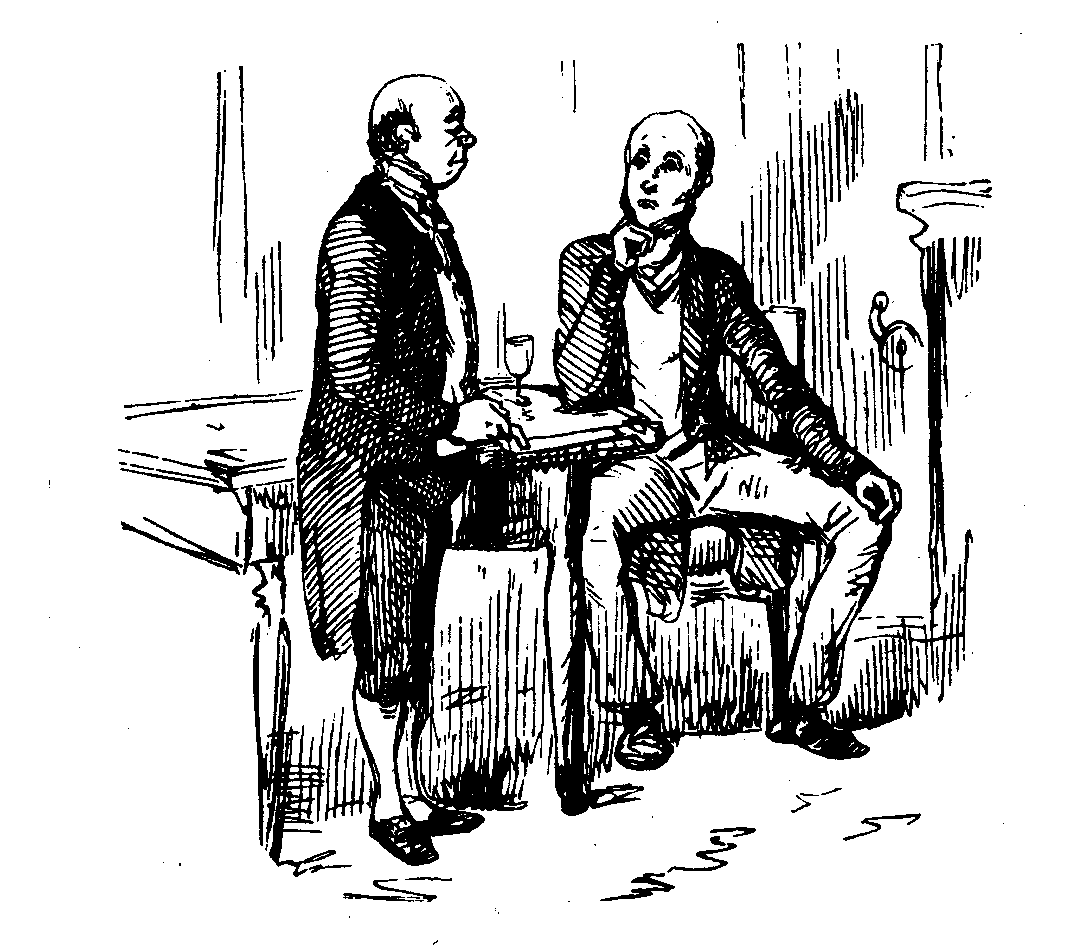 Наверное, я напрасно возвратился в наш прежний дом на Грейт-Корэм,
который делил теперь со своей кузиной Мэри и ее мужем. Это было не слишком
удобно, но зато дешево: на мою долю приходилась лишь часть квартирной платы,
а экономил я на всем, на чем можно. Хозяйкой Мэри была не лучшей, чем моя
бедная жена, но если сердечность Изабеллы все преображала и скрадывала даже
свисающую отовсюду паутину, то теперь в этом чужом, бесприютном жилище она
выглядывала изо всех углов. Впрочем, у меня были и другие способы
времяпрепровождения - клубы, дома добрых знакомых, со многими из которых я
все более сходился. Собственно, клубы и придуманы для таких людей, как я:
лишенных своего семейного очага и ищущих приюта в другом месте, где можно
найти себе компанию, вкусно поесть и славно выпить, не привлекая ничьего
внимания. На это вы мне резонно возразите, что все это в моих устах звучит
не очень убедительно, ведь даже когда у меня были семья и дом, я норовил
улизнуть оттуда в клуб. Но то было совсем другое дело: прежде я отправлялся
в клуб для развлечения, теперь он стал моим прибежищем. Неужели вы не видите
разницы?
Мне нравится, когда меня узнают при встрече, но не на улице - это
отвратительно, и не в общественных местах - это утомительно, а в клубах,
членом которых я состою. Мне нравится идти по Кинг-стрит к клубу и знать
заранее, что швейцар, заметивший меня у входа, поднимется, чтоб одарить меня
улыбкой и газетой, что официант мне первому сообщит, есть ли сегодня в меню
бобы и бекон. Мне нравится, что мне освобождают место у камина, когда я
захожу в курительный салон, что кто-то из знакомых предлагает мне сигару
моей любимой марки, кто-то еще - выпивку, а если я отказываюсь и от того и
от другого и просто опускаюсь в кресло, чтоб помечтать, глядя на огонь, я
знаю, что меня здесь правильно поймут и никто не обидится. Мне нравятся все
мелкие удобства: писчая бумага со знаком клуба, всегда полные чернильницы,
всегда пустые пепельницы, посыльный, готовый бежать с моей запиской, газеты
и журналы, выложенные на столики, - в общем, все эти неприметные безделицы.
Мне по душе и правила - приятно, когда знаешь, как себя вести: где можно
говорить, не понижая голоса, где следует перейти на шепот, куда повесить
плащ и спрятать грязные ботинки, где лучше сесть, чтоб официант заметил тебя
первым, в каком часу прийти к открытию, в каком - уйти, чтоб быть последним
и никому не помешать. На заре моей клубной карьеры, пока я еще не стал одним
из кряжистых столпов этих почтенных заведений, мне нравились та теплота и
уважительность, которые я чувствовал по отношению к своей особе, они мне
придавали ощущение собственного веса, и я их высоко ценил, даже когда
подшучивал над клубным духом.
К 1842 году я не составил себе имени даже в узком клубном кругу.
Чистосердечно вам признаюсь: моя безвестность страшно меня угнетала и
доводила чуть не до скрежета зубовного. Конечно, у меня была некая
репутация, но какая-то непонятная и непохожая на славу. Как бы то ни было,
вот уже десять лет я постоянно печатался то под одним, то под другим
псевдонимом, и было бы странно, если бы все мои разнообразные и
многочисленные сочинения не получили никакого отклика. Меня, действительно,
хорошо знали, но знали "заказчики", а не читающая публика. Ведь я никогда не
выступал под собственным именем, а всегда либо под псевдонимом, либо
анонимно. Будь я только Микел Анджело Титмарш или Фиц-Будл, слух о том, кто
это такой на самом деле, распространился бы очень быстро, но, выступая под
доброй дюжиной псевдонимов, я сам себе ставил палки в колеса, - впрочем, тут
был свой расчет: я бы не мог так много печататься под одним и тем же именем.
В мире журналистики, как вам известно, предпочитают, чтобы корреспондент был
верен своей газете.
В общем, в ту пору мне, как никогда, необходимо было написать ту самую
вожделенную сенсационную книгу, тогда бы я отбросил свои маски и стал,
наконец, самим собой. С этой целью я изводил груды бумаги, работал не
покладая рук сразу над десятком разных замыслов в надежде, что набреду на
золотую жилу. Наверное, вас смущает моя холодная расчетливость, наверное, вы
предпочитаете, чтоб не расчет, а вдохновение всечасно двигали художником?
Возможно, иные из моих собратьев по перу и могут этим похвастаться, но я не
из их числа; мне нужно выстроить и тщательно обдумать все произведение, а
если я этого не делаю, меня ждет адский труд. Единственное мое преимущество
в том, что я точно знаю, что способен написать, а чего - нет. Во всяком
случае, сейчас я это знаю и научился этому давно, хоть и немалой кровью. Не
стану вам рассказывать, как я приобретал эту науку, перебирая свои
многочисленные опусы, - если они вас интересуют, снимите их просто с полки,
- но хочу привести два примера: "Катрин" и "Барри Линдона" как иллюстрацию
своих неудач и "Вторые похороны Наполеона" как доказательство того, что если
я и добивался желаемого результата, он ровным счетом никого не интересовал,
из чего я заключаю, что суд литературного мира - суд неправедный, на нем
никто не стал бы слушать самого Шекспира, случись ему сейчас воскреснуть.
Наверное, я напрасно возвратился в наш прежний дом на Грейт-Корэм,
который делил теперь со своей кузиной Мэри и ее мужем. Это было не слишком
удобно, но зато дешево: на мою долю приходилась лишь часть квартирной платы,
а экономил я на всем, на чем можно. Хозяйкой Мэри была не лучшей, чем моя
бедная жена, но если сердечность Изабеллы все преображала и скрадывала даже
свисающую отовсюду паутину, то теперь в этом чужом, бесприютном жилище она
выглядывала изо всех углов. Впрочем, у меня были и другие способы
времяпрепровождения - клубы, дома добрых знакомых, со многими из которых я
все более сходился. Собственно, клубы и придуманы для таких людей, как я:
лишенных своего семейного очага и ищущих приюта в другом месте, где можно
найти себе компанию, вкусно поесть и славно выпить, не привлекая ничьего
внимания. На это вы мне резонно возразите, что все это в моих устах звучит
не очень убедительно, ведь даже когда у меня были семья и дом, я норовил
улизнуть оттуда в клуб. Но то было совсем другое дело: прежде я отправлялся
в клуб для развлечения, теперь он стал моим прибежищем. Неужели вы не видите
разницы?
Мне нравится, когда меня узнают при встрече, но не на улице - это
отвратительно, и не в общественных местах - это утомительно, а в клубах,
членом которых я состою. Мне нравится идти по Кинг-стрит к клубу и знать
заранее, что швейцар, заметивший меня у входа, поднимется, чтоб одарить меня
улыбкой и газетой, что официант мне первому сообщит, есть ли сегодня в меню
бобы и бекон. Мне нравится, что мне освобождают место у камина, когда я
захожу в курительный салон, что кто-то из знакомых предлагает мне сигару
моей любимой марки, кто-то еще - выпивку, а если я отказываюсь и от того и
от другого и просто опускаюсь в кресло, чтоб помечтать, глядя на огонь, я
знаю, что меня здесь правильно поймут и никто не обидится. Мне нравятся все
мелкие удобства: писчая бумага со знаком клуба, всегда полные чернильницы,
всегда пустые пепельницы, посыльный, готовый бежать с моей запиской, газеты
и журналы, выложенные на столики, - в общем, все эти неприметные безделицы.
Мне по душе и правила - приятно, когда знаешь, как себя вести: где можно
говорить, не понижая голоса, где следует перейти на шепот, куда повесить
плащ и спрятать грязные ботинки, где лучше сесть, чтоб официант заметил тебя
первым, в каком часу прийти к открытию, в каком - уйти, чтоб быть последним
и никому не помешать. На заре моей клубной карьеры, пока я еще не стал одним
из кряжистых столпов этих почтенных заведений, мне нравились та теплота и
уважительность, которые я чувствовал по отношению к своей особе, они мне
придавали ощущение собственного веса, и я их высоко ценил, даже когда
подшучивал над клубным духом.
К 1842 году я не составил себе имени даже в узком клубном кругу.
Чистосердечно вам признаюсь: моя безвестность страшно меня угнетала и
доводила чуть не до скрежета зубовного. Конечно, у меня была некая
репутация, но какая-то непонятная и непохожая на славу. Как бы то ни было,
вот уже десять лет я постоянно печатался то под одним, то под другим
псевдонимом, и было бы странно, если бы все мои разнообразные и
многочисленные сочинения не получили никакого отклика. Меня, действительно,
хорошо знали, но знали "заказчики", а не читающая публика. Ведь я никогда не
выступал под собственным именем, а всегда либо под псевдонимом, либо
анонимно. Будь я только Микел Анджело Титмарш или Фиц-Будл, слух о том, кто
это такой на самом деле, распространился бы очень быстро, но, выступая под
доброй дюжиной псевдонимов, я сам себе ставил палки в колеса, - впрочем, тут
был свой расчет: я бы не мог так много печататься под одним и тем же именем.
В мире журналистики, как вам известно, предпочитают, чтобы корреспондент был
верен своей газете.
В общем, в ту пору мне, как никогда, необходимо было написать ту самую
вожделенную сенсационную книгу, тогда бы я отбросил свои маски и стал,
наконец, самим собой. С этой целью я изводил груды бумаги, работал не
покладая рук сразу над десятком разных замыслов в надежде, что набреду на
золотую жилу. Наверное, вас смущает моя холодная расчетливость, наверное, вы
предпочитаете, чтоб не расчет, а вдохновение всечасно двигали художником?
Возможно, иные из моих собратьев по перу и могут этим похвастаться, но я не
из их числа; мне нужно выстроить и тщательно обдумать все произведение, а
если я этого не делаю, меня ждет адский труд. Единственное мое преимущество
в том, что я точно знаю, что способен написать, а чего - нет. Во всяком
случае, сейчас я это знаю и научился этому давно, хоть и немалой кровью. Не
стану вам рассказывать, как я приобретал эту науку, перебирая свои
многочисленные опусы, - если они вас интересуют, снимите их просто с полки,
- но хочу привести два примера: "Катрин" и "Барри Линдона" как иллюстрацию
своих неудач и "Вторые похороны Наполеона" как доказательство того, что если
я и добивался желаемого результата, он ровным счетом никого не интересовал,
из чего я заключаю, что суд литературного мира - суд неправедный, на нем
никто не стал бы слушать самого Шекспира, случись ему сейчас воскреснуть.
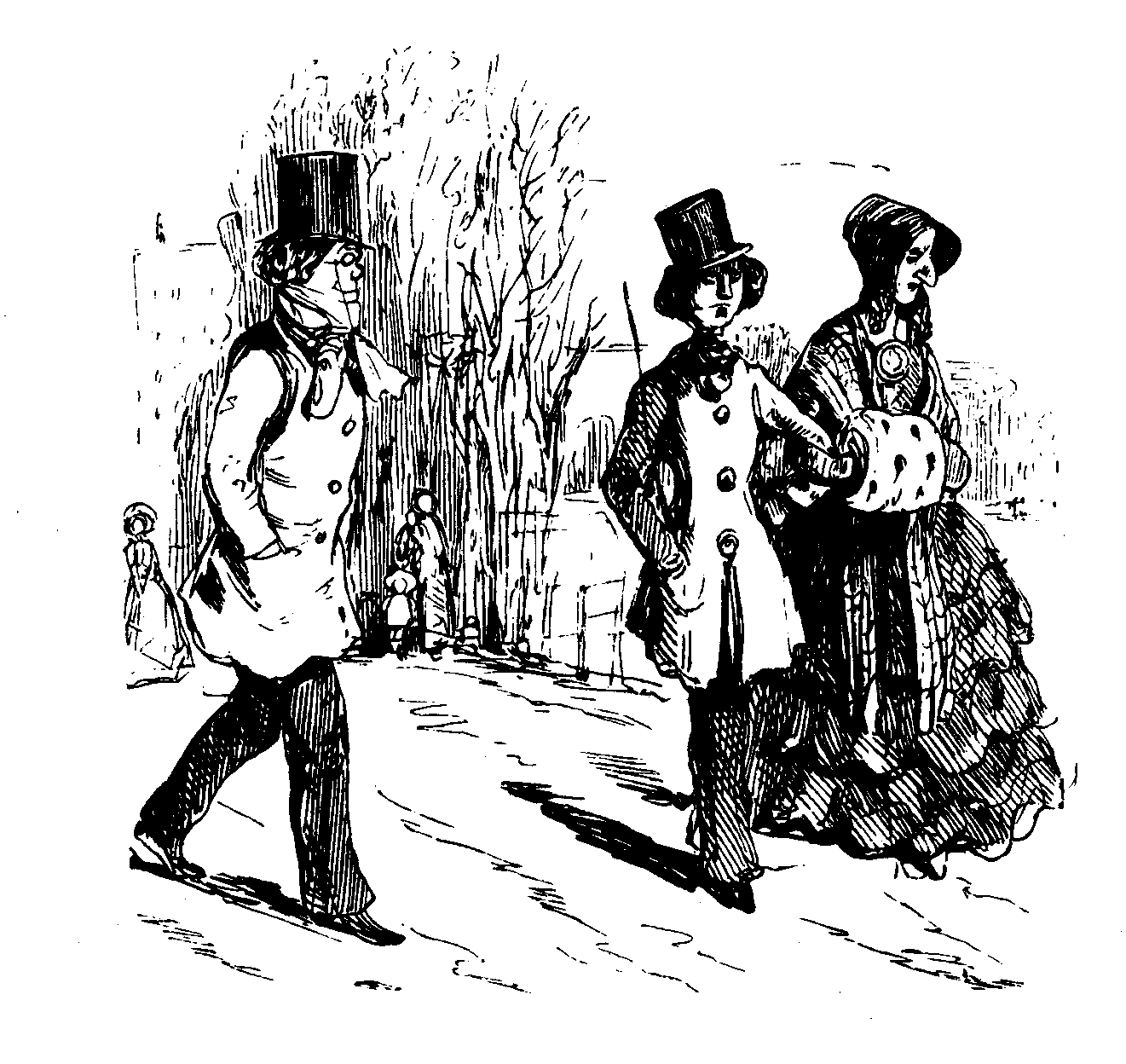 "Катрин" стала моей первой попыткой написать настоящий, толстый роман;
я задумал показать злодейство в его истинном свете - мне припоминается, что
я уже рассказывал, какой ничтожный отклик в прессе получила эта книга. В
"Барри Линдоне", который был написан в 1844 году, после моей второй поездки
в Ирландию и выхода в свет долго откладывавшейся книги "Ирландских очерков",
я претендовал на большее. Я попытался соединить несколько элементов,
которые, как мне казалось, необходимы для шедевра: главный герой - злодей,
действие то и дело переносится из одной европейской страны в другую, из
княжеских хором - в бедную крестьянскую хижину. Рецепт был выдержан до
конца, но "Барри Линдон" провалился; едва принявшись за него, я уже знал,
что так оно и будет. У меня получилась мешанина из нескольких, упорно не
желавших соединяться между собой тем, и книга легла гнетом мне на душу. Она
публиковалась по частям в журнале "Фрейзерз Мэгэзин", тянуть с работой было
невозможно, и чтобы побыстрее отвязаться от ставшей мне ненавистной книги, я
согласился поплыть в Египет и обратно на борту "Леди Мэри Вуд", где мне
предложили бесплатную каюту. Я думал, что, едва я в ней запрусь, слова
польются сами, но не тут-то было! Я стонал и мучился над каждой из этих
ужасных глав, и каждая строка, приближавшая меня к концу маршрута, была
оплачена укусами насекомых - меня заели клопы - и приступами морской
болезни. Когда я кончил эту книгу - где-то у берегов Мальты, - от меня мало
что осталось, а немногое оставшееся, по логике вещей, должно было навеки
излечиться от желания стать романистом. Поставь меня кто-нибудь тогда во
главе литературного журнала, боевого и вместе с тем не чуждого
аристократизма, и я бы тотчас отправил за борт все свои писательские
притязания и запрыгал бы от радости.
Но никто не сделал мне такого предложения. Я вернулся в Лондон, утешая
себя мыслью, что поездка, по крайней мере, дала мне материал для еще одной
книги путевых очерков - "Заметок о путешествии из Корнхилла до Большого
Каира" и отчасти утолила мою страсть к перемене мест. Но помню, с каким
внутренним беспокойством я вернулся к прежнему бурному светскому безделью.
Мысленно я вижу, как поднимаюсь по лестнице в свое новое пристанище над
аптекой на Джермин-стрит, 44, которое снял после того, как съехал с
Грейт-Корэм, где жил вместе с кузиной. Ох, как медленно поднимаюсь я по этой
лестнице, как мне не хочется возвращаться в комнату, где меня ждет
деревянный стол и порция дневной работы. Обстановка в комнате была самая
простая: стулья с плетеными сиденьями и французская крашеная кровать. Утром,
позавтракав булочкой за пенни и чашкой горячего шоколада, я садился за стол
и в тихом отчаянии принимался за горы статей и рецензий, и так корпел до
вечера, после чего отправлялся в гости или на званый ужин - улыбаться,
болтать, кланяться налево и направо, обходя знакомых, пока не наступало
время вернуться на мой убогий чердак. Я, кажется, пытаюсь вас разжалобить,
и, конечно, безуспешно. Да и в самом деле, возвращался я вовсе не на чердак
и работал в шелковом халате, и все же вздохните обо мне разочек: ведь я был
одинок. Мне не хватало жены, детей, дома, очень и очень не хватало. Конечно,
от меня не ускользает ирония судьбы; еще совсем недавно я проклинал шум и
гам, который поднимали мои домашние, не давая мне работать, теперь я
проклинал то самое уединение, которого так жаждал. Во мне росла ужасная
обида: неужто мне заказаны все радости домашнего уюта и общения с детьми
лишь потому, что у меня больна жена? Можно ли сомневаться, что после
нескольких мнимо холостяцких лет я почувствовал голод по семейной жизни? Мне
отчаянно не хватало моих девочек, тоска по ним рождала в голове какой-то
туман и путаницу, мешавшую мне работать; к тому же я верил в их благотворное
влияние на меня. Я, кажется, никогда не разводил сантиментов вокруг
спасительной детской невинности, но когда я представлял себе, что держу за
руку Анни или сажаю на колени Минни, моя нынешняя жизнь представлялась мне
убогой и бессодержательной, и меня пронзала мысль, что они мои
ангелы-хранители и должны быть всегда рядом со мной. Пожалуйста, не думайте,
что в Лондоне я предавался каким-то страшным порокам: я не вернулся к
карточной игре или к каким-нибудь другим сомнительным удовольствиям, но все
то время, что не работал, я проводил в еде, питье и в светском водовороте,
именно с этим пустым коловращением я и хотел покончить. Хотя я был уверен,
что девочкам в Париже живется очень хорошо и без меня, расставаясь с ними, я
каждый раз обличался горючими слезами, а в течение нескольких дней после
нашей разлуки впадал в тоску, завидя какого-нибудь ребенка их возраста.
Однажды, вообразив, что они прошли мимо меня по улице, я бросился вслед и
испытал ужасный стыд, остановив совершенно чужих людей. Ничуть не меньше я
тосковал и о своей жене, мне так хотелось глянуть ей в лицо, поймать еще
одну счастливую минуту из тех, что выпадали, когда я заставал ее светлые
периоды. Мечта перевезти семью в Лондон стала навязчивой идеей. Я думал
поселить их в двухквартирном коттедже в Хампстеде или в Хаммерсмите, где мы
могли быть рядом, но не вместе. Камнем преткновения были деньги: для этого
нужна была куча денег, но сколько я ни работал и сколько ни зарабатывал, я
не мог собрать нужную сумму, чтоб осуществить свою мечту, - вот если бы я
написал шедевр! Видите, как я упорно возвращался к идее этого злосчастного
шедевра, который никак мне не давался.
Мне всегда хватало настойчивости добиться своего, когда я хотел
чего-нибудь достаточно сильно, а я очень хотел как можно скорее соединиться
со своей семьей, вследствие чего стал требовать более высокие гонорары и был
изумлен, когда не встретил ни малейших возражений: мне тут же стали платить
больше. Я начал писать для нового, не слишком почтенного журнала "Панч",
издания забавного и щедрого к своим авторам. Пришлось немного потрудиться,
чтобы попасть в тон, но после первой не совсем удачной попытки я с этим
отлично справился и обрел прекрасный рупор, который использовал на всю
мощность. Очень скоро издатели дали мне полную свободу: я нес в "Панч" все,
что хотел, - стихи, пародии, карикатуры, рецензии - и все принималось, в
итоге я ощутил уверенность в себе в самую нужную минуту. Такой уверенности
мне никогда не давало одновременное сотрудничество с десятью - двенадцатью
журналами, но с этим процветающим изданием у меня завязались тесные
отношения, я понимал, что оно в какой-то мере даже зависит от меня - я был
их основным автором. Не думайте, что устойчивость этих связей и уверенность
в том, что меня опубликуют, заставили меня снизить требования к себе: ни в
малейшей степени - я никогда не снижал этих требований, напротив, неизменно
сознавал, что написанное моим пером могло быть несравненно лучше. Оно всегда
носило следы многократной правки, и если мне и доводилось расстаться с не
удовлетворявшей меня рукописью, то только потому, что посыльный из
типографии не соглашался больше ждать. Оглядываясь назад, я нимало не жалею
о потраченных усилиях, ибо к журналистике можно, конечно, относиться
свысока, но тем не менее она бывает и хорошей - она служит читателю и
доставляет ему удовольствие, что само по себе достойно уважения. Читая
"Панч", вы можете вообразить, что все это кто-то набросал за пять минут, так
быстро и легко бегут перед глазами строки - поверьте, это совсем не так: на
мелкие заметки я тратил по многу часов, порой не меньше, чем на главу иного
романа. Да и подготовительная работа занимает много времени: хорошо
информированные и ответственные журналисты, среди которых я числю и себя,
тратят бездну времени на проверку фактов и цитируемых источников, на чтение
литературы, относящейся к затронутой теме, и все это - тяжелый труд. Не было
случая, чтоб я не прочитал, а только перелистал рецензируемую книгу,
напротив, я не чувствовал себя вправе о ней высказываться, не дав себе труда
узнать, что представляет собой ее автор, - без этого, мне казалось, я не
сумею верно оценить ее. Я серьезно относился и к самому себе, и к своему
ремеслу, порой в ущерб здоровью и очень часто - собственному благополучию.
Особенно запомнилась мне одна заметка, которая мучила меня много
месяцев, настолько серьезно я к ней относился. Речь в ней шла о казни через
повешение, я даже посетил одну такую экзекуцию, чтобы составить собственное
мнение о степени ее варварства и соответственно настроить читателей. То, что
я испытал, было чудовищно, но, как и полагалось, я честно доложил обо всех
подробностях этой страшной процедуры и о собственных ощущениях, - надеюсь, я
открыл глаза некоторым людям. Или еще одна заметка, на сей раз об
эмигрантах, - я плакал целую неделю после того, как посетил причалы, откуда
они отправлялись в путь, и думаю, что честно рассказал моим читателям нечто
такое, чего они прежде не знали и что им надлежало знать - за знанием,
возможно, последуют и действия. Нет, я не жду, что они бросятся снимать
веревку с человека, стоящего у виселицы, или поселят У себя бездомную семью,
вынужденную эмигрировать, - ничего похожего, - но под влиянием возникших
чувств каждый человек может влиять на общественное мнение, и это со временем
изменит общество.
Боюсь, что мое чересчур страстное выступление в защиту журналистики
заставило вас заподозрить, что одной журналистики было мне мало, -
признаюсь, я не готов был ею ограничиться и согласиться на замену, пусть
самую соблазнительную, которую подсовывала мне судьба, ибо хотел быть
романистом. Только роман, переплетенный в кожу, хранящийся на книжной полке,
- ничто иное не могло мне дать удовлетворения, все остальное казалось
однодневкой, которая завтра проследует в корзину для бумаг. О, суета сует! И
вот передо мной романы, целая шеренга романов, а я все так же недоволен,
правда, порой, когда мой взгляд задерживается на одной - много двух - из
этих книг, я чувствую, что в дальнем уголке души шевелится какое-то
тщеславное, гордое чувство. Ну что ж, спасибо и на том, могло быть хуже, я
мог бы не оставить после себя совсем ничего стоящего и наше время
запомнилось бы как время безраздельного господства Диккенса. Помню, летом
1842 в Ливерпуле, где я ждал судна, чтобы отправиться писать свои
"Ирландские очерки", я развернул газету в гостинице и подумал, что в ней
могло бы найтись место - два-три абзаца - для сообщения о том, что довольно
известный лондонский журналист имярек находится на пути в Ирландию, а вместо
этого обнаружил, что весь номер посвящен возвращению Диккенса из Америки. Я
рассмеялся над собой, но в этом смехе было что-то жалобное; я часто думал о
Диккенсе, не стану притворяться, будто его судьба меня не занимала. Одно
время мысли о нем буквально меня преследовали, да и кто из писателей мог
похвастать тем, что равнодушен к Диккенсу? Он был в зените славы: двадцати
пяти лет от роду написал "Пиквика", до тридцати выпустил еще четыре
нашумевшие книги, он признанный гений своего времени, как же о нем не
думать? Я и сейчас о нем думаю и завидую ему, вернее, не ему, а его
поразительному мастерству, которому, надеюсь, воздал должное и в узком
кругу, и перед широкой публикой. Да мне бы ничего другого не оставалось,
даже если бы я не считал его гением, каковым он, несомненно, является, меня
бы заставили признать это мои собственные дети. Они обожали Диккенса: Минни
читала "Николаса Никльби", когда ей было весело, и того же "Николаса
Никльби", когда ей было грустно, "Николас Никльби" шел в ход утром, днем и
вечером, пока, наконец, она не спросила меня, подняв глаза от книги:
"Папочка, а ты почему не напишешь что-нибудь вроде "Николаса Никльби"?"
Дитя, я бы не смог, даже если бы и хотел, но правду сказать, - до сих пор я
не решался это выговорить из опасения, что вы меня неправильно поймете, - я
не хочу и никогда не хотел писать, как он. Вы поражены? "Зелен виноград",
думаете вы? Жаль, очень жаль, потому что я говорю правду: я восхищаюсь
Диккенсом, почтительно снимаю перед ним шляпу, но даже в те далекие годы,
когда мне было тридцать шесть и я не написал еще ни одного романа, а он был
знаменитым автором восьми сенсационных книг, я не хотел быть на его месте.
Вы спрашиваете, по какой причине. Скажу вам так: Диккенс прекрасен,
прекраснее, чем жизнь, но я не желаю быть лучше жизни, я хочу быть самой
жизнью. С моей точки зрения, художник - зеркало действительности, и от себя
он добавляет ровно столько, сколько нужно, чтоб сделать ее более отчетливой.
Он не вправе искажать и подтасовывать ее ни для того, чтобы повеселить нас,
ни для того, чтоб вызвать наши слезы, иначе мы потеряем к нему доверие,
книга станет для нас пустой, незначащей забавой и самые замечательные цели
потеряют смысл. Возьмем, к примеру, Микобера из прекрасной книги "Дэвид
Копперфилд". Мы смеемся над Микобером, мы показываем на него пальцем, мы
покатываемся со смеху, но понимаем в конце концов, что этот образ превзошел
самое жизнь - он не укладывается в ее рамки - и что его создатель
презрительно относится ко всем Микоберам на свете и обращает их в посмешище.
Насколько было бы лучше, если бы, пожертвовав частью смешных сцен и
драматических эффектов, автор сделал Микобера более жизненной, более
узнаваемой фигурой, от знакомства с которой не оставалось бы такого
неприятного осадка. Вы не согласны, вы любите Микобера и говорите, что
"Дэвид Копперфилд" много лучше всего, что довелось написать вашему покорному
слуге? Не стану спорить, но сна из-за вас не потеряю - вы ровным счетом
ничего не поняли. Впрочем, неважно, я все равно скажу то, что собирался.
Произведения Диккенса прекрасны, его герои трогают до слез, но в то же время
они утрированы и умаляют силу его романов. На мой взгляд, призвание писателя
- изображать натуру, его искусство - в умении правдиво воссоздать ее.
"Катрин" стала моей первой попыткой написать настоящий, толстый роман;
я задумал показать злодейство в его истинном свете - мне припоминается, что
я уже рассказывал, какой ничтожный отклик в прессе получила эта книга. В
"Барри Линдоне", который был написан в 1844 году, после моей второй поездки
в Ирландию и выхода в свет долго откладывавшейся книги "Ирландских очерков",
я претендовал на большее. Я попытался соединить несколько элементов,
которые, как мне казалось, необходимы для шедевра: главный герой - злодей,
действие то и дело переносится из одной европейской страны в другую, из
княжеских хором - в бедную крестьянскую хижину. Рецепт был выдержан до
конца, но "Барри Линдон" провалился; едва принявшись за него, я уже знал,
что так оно и будет. У меня получилась мешанина из нескольких, упорно не
желавших соединяться между собой тем, и книга легла гнетом мне на душу. Она
публиковалась по частям в журнале "Фрейзерз Мэгэзин", тянуть с работой было
невозможно, и чтобы побыстрее отвязаться от ставшей мне ненавистной книги, я
согласился поплыть в Египет и обратно на борту "Леди Мэри Вуд", где мне
предложили бесплатную каюту. Я думал, что, едва я в ней запрусь, слова
польются сами, но не тут-то было! Я стонал и мучился над каждой из этих
ужасных глав, и каждая строка, приближавшая меня к концу маршрута, была
оплачена укусами насекомых - меня заели клопы - и приступами морской
болезни. Когда я кончил эту книгу - где-то у берегов Мальты, - от меня мало
что осталось, а немногое оставшееся, по логике вещей, должно было навеки
излечиться от желания стать романистом. Поставь меня кто-нибудь тогда во
главе литературного журнала, боевого и вместе с тем не чуждого
аристократизма, и я бы тотчас отправил за борт все свои писательские
притязания и запрыгал бы от радости.
Но никто не сделал мне такого предложения. Я вернулся в Лондон, утешая
себя мыслью, что поездка, по крайней мере, дала мне материал для еще одной
книги путевых очерков - "Заметок о путешествии из Корнхилла до Большого
Каира" и отчасти утолила мою страсть к перемене мест. Но помню, с каким
внутренним беспокойством я вернулся к прежнему бурному светскому безделью.
Мысленно я вижу, как поднимаюсь по лестнице в свое новое пристанище над
аптекой на Джермин-стрит, 44, которое снял после того, как съехал с
Грейт-Корэм, где жил вместе с кузиной. Ох, как медленно поднимаюсь я по этой
лестнице, как мне не хочется возвращаться в комнату, где меня ждет
деревянный стол и порция дневной работы. Обстановка в комнате была самая
простая: стулья с плетеными сиденьями и французская крашеная кровать. Утром,
позавтракав булочкой за пенни и чашкой горячего шоколада, я садился за стол
и в тихом отчаянии принимался за горы статей и рецензий, и так корпел до
вечера, после чего отправлялся в гости или на званый ужин - улыбаться,
болтать, кланяться налево и направо, обходя знакомых, пока не наступало
время вернуться на мой убогий чердак. Я, кажется, пытаюсь вас разжалобить,
и, конечно, безуспешно. Да и в самом деле, возвращался я вовсе не на чердак
и работал в шелковом халате, и все же вздохните обо мне разочек: ведь я был
одинок. Мне не хватало жены, детей, дома, очень и очень не хватало. Конечно,
от меня не ускользает ирония судьбы; еще совсем недавно я проклинал шум и
гам, который поднимали мои домашние, не давая мне работать, теперь я
проклинал то самое уединение, которого так жаждал. Во мне росла ужасная
обида: неужто мне заказаны все радости домашнего уюта и общения с детьми
лишь потому, что у меня больна жена? Можно ли сомневаться, что после
нескольких мнимо холостяцких лет я почувствовал голод по семейной жизни? Мне
отчаянно не хватало моих девочек, тоска по ним рождала в голове какой-то
туман и путаницу, мешавшую мне работать; к тому же я верил в их благотворное
влияние на меня. Я, кажется, никогда не разводил сантиментов вокруг
спасительной детской невинности, но когда я представлял себе, что держу за
руку Анни или сажаю на колени Минни, моя нынешняя жизнь представлялась мне
убогой и бессодержательной, и меня пронзала мысль, что они мои
ангелы-хранители и должны быть всегда рядом со мной. Пожалуйста, не думайте,
что в Лондоне я предавался каким-то страшным порокам: я не вернулся к
карточной игре или к каким-нибудь другим сомнительным удовольствиям, но все
то время, что не работал, я проводил в еде, питье и в светском водовороте,
именно с этим пустым коловращением я и хотел покончить. Хотя я был уверен,
что девочкам в Париже живется очень хорошо и без меня, расставаясь с ними, я
каждый раз обличался горючими слезами, а в течение нескольких дней после
нашей разлуки впадал в тоску, завидя какого-нибудь ребенка их возраста.
Однажды, вообразив, что они прошли мимо меня по улице, я бросился вслед и
испытал ужасный стыд, остановив совершенно чужих людей. Ничуть не меньше я
тосковал и о своей жене, мне так хотелось глянуть ей в лицо, поймать еще
одну счастливую минуту из тех, что выпадали, когда я заставал ее светлые
периоды. Мечта перевезти семью в Лондон стала навязчивой идеей. Я думал
поселить их в двухквартирном коттедже в Хампстеде или в Хаммерсмите, где мы
могли быть рядом, но не вместе. Камнем преткновения были деньги: для этого
нужна была куча денег, но сколько я ни работал и сколько ни зарабатывал, я
не мог собрать нужную сумму, чтоб осуществить свою мечту, - вот если бы я
написал шедевр! Видите, как я упорно возвращался к идее этого злосчастного
шедевра, который никак мне не давался.
Мне всегда хватало настойчивости добиться своего, когда я хотел
чего-нибудь достаточно сильно, а я очень хотел как можно скорее соединиться
со своей семьей, вследствие чего стал требовать более высокие гонорары и был
изумлен, когда не встретил ни малейших возражений: мне тут же стали платить
больше. Я начал писать для нового, не слишком почтенного журнала "Панч",
издания забавного и щедрого к своим авторам. Пришлось немного потрудиться,
чтобы попасть в тон, но после первой не совсем удачной попытки я с этим
отлично справился и обрел прекрасный рупор, который использовал на всю
мощность. Очень скоро издатели дали мне полную свободу: я нес в "Панч" все,
что хотел, - стихи, пародии, карикатуры, рецензии - и все принималось, в
итоге я ощутил уверенность в себе в самую нужную минуту. Такой уверенности
мне никогда не давало одновременное сотрудничество с десятью - двенадцатью
журналами, но с этим процветающим изданием у меня завязались тесные
отношения, я понимал, что оно в какой-то мере даже зависит от меня - я был
их основным автором. Не думайте, что устойчивость этих связей и уверенность
в том, что меня опубликуют, заставили меня снизить требования к себе: ни в
малейшей степени - я никогда не снижал этих требований, напротив, неизменно
сознавал, что написанное моим пером могло быть несравненно лучше. Оно всегда
носило следы многократной правки, и если мне и доводилось расстаться с не
удовлетворявшей меня рукописью, то только потому, что посыльный из
типографии не соглашался больше ждать. Оглядываясь назад, я нимало не жалею
о потраченных усилиях, ибо к журналистике можно, конечно, относиться
свысока, но тем не менее она бывает и хорошей - она служит читателю и
доставляет ему удовольствие, что само по себе достойно уважения. Читая
"Панч", вы можете вообразить, что все это кто-то набросал за пять минут, так
быстро и легко бегут перед глазами строки - поверьте, это совсем не так: на
мелкие заметки я тратил по многу часов, порой не меньше, чем на главу иного
романа. Да и подготовительная работа занимает много времени: хорошо
информированные и ответственные журналисты, среди которых я числю и себя,
тратят бездну времени на проверку фактов и цитируемых источников, на чтение
литературы, относящейся к затронутой теме, и все это - тяжелый труд. Не было
случая, чтоб я не прочитал, а только перелистал рецензируемую книгу,
напротив, я не чувствовал себя вправе о ней высказываться, не дав себе труда
узнать, что представляет собой ее автор, - без этого, мне казалось, я не
сумею верно оценить ее. Я серьезно относился и к самому себе, и к своему
ремеслу, порой в ущерб здоровью и очень часто - собственному благополучию.
Особенно запомнилась мне одна заметка, которая мучила меня много
месяцев, настолько серьезно я к ней относился. Речь в ней шла о казни через
повешение, я даже посетил одну такую экзекуцию, чтобы составить собственное
мнение о степени ее варварства и соответственно настроить читателей. То, что
я испытал, было чудовищно, но, как и полагалось, я честно доложил обо всех
подробностях этой страшной процедуры и о собственных ощущениях, - надеюсь, я
открыл глаза некоторым людям. Или еще одна заметка, на сей раз об
эмигрантах, - я плакал целую неделю после того, как посетил причалы, откуда
они отправлялись в путь, и думаю, что честно рассказал моим читателям нечто
такое, чего они прежде не знали и что им надлежало знать - за знанием,
возможно, последуют и действия. Нет, я не жду, что они бросятся снимать
веревку с человека, стоящего у виселицы, или поселят У себя бездомную семью,
вынужденную эмигрировать, - ничего похожего, - но под влиянием возникших
чувств каждый человек может влиять на общественное мнение, и это со временем
изменит общество.
Боюсь, что мое чересчур страстное выступление в защиту журналистики
заставило вас заподозрить, что одной журналистики было мне мало, -
признаюсь, я не готов был ею ограничиться и согласиться на замену, пусть
самую соблазнительную, которую подсовывала мне судьба, ибо хотел быть
романистом. Только роман, переплетенный в кожу, хранящийся на книжной полке,
- ничто иное не могло мне дать удовлетворения, все остальное казалось
однодневкой, которая завтра проследует в корзину для бумаг. О, суета сует! И
вот передо мной романы, целая шеренга романов, а я все так же недоволен,
правда, порой, когда мой взгляд задерживается на одной - много двух - из
этих книг, я чувствую, что в дальнем уголке души шевелится какое-то
тщеславное, гордое чувство. Ну что ж, спасибо и на том, могло быть хуже, я
мог бы не оставить после себя совсем ничего стоящего и наше время
запомнилось бы как время безраздельного господства Диккенса. Помню, летом
1842 в Ливерпуле, где я ждал судна, чтобы отправиться писать свои
"Ирландские очерки", я развернул газету в гостинице и подумал, что в ней
могло бы найтись место - два-три абзаца - для сообщения о том, что довольно
известный лондонский журналист имярек находится на пути в Ирландию, а вместо
этого обнаружил, что весь номер посвящен возвращению Диккенса из Америки. Я
рассмеялся над собой, но в этом смехе было что-то жалобное; я часто думал о
Диккенсе, не стану притворяться, будто его судьба меня не занимала. Одно
время мысли о нем буквально меня преследовали, да и кто из писателей мог
похвастать тем, что равнодушен к Диккенсу? Он был в зените славы: двадцати
пяти лет от роду написал "Пиквика", до тридцати выпустил еще четыре
нашумевшие книги, он признанный гений своего времени, как же о нем не
думать? Я и сейчас о нем думаю и завидую ему, вернее, не ему, а его
поразительному мастерству, которому, надеюсь, воздал должное и в узком
кругу, и перед широкой публикой. Да мне бы ничего другого не оставалось,
даже если бы я не считал его гением, каковым он, несомненно, является, меня
бы заставили признать это мои собственные дети. Они обожали Диккенса: Минни
читала "Николаса Никльби", когда ей было весело, и того же "Николаса
Никльби", когда ей было грустно, "Николас Никльби" шел в ход утром, днем и
вечером, пока, наконец, она не спросила меня, подняв глаза от книги:
"Папочка, а ты почему не напишешь что-нибудь вроде "Николаса Никльби"?"
Дитя, я бы не смог, даже если бы и хотел, но правду сказать, - до сих пор я
не решался это выговорить из опасения, что вы меня неправильно поймете, - я
не хочу и никогда не хотел писать, как он. Вы поражены? "Зелен виноград",
думаете вы? Жаль, очень жаль, потому что я говорю правду: я восхищаюсь
Диккенсом, почтительно снимаю перед ним шляпу, но даже в те далекие годы,
когда мне было тридцать шесть и я не написал еще ни одного романа, а он был
знаменитым автором восьми сенсационных книг, я не хотел быть на его месте.
Вы спрашиваете, по какой причине. Скажу вам так: Диккенс прекрасен,
прекраснее, чем жизнь, но я не желаю быть лучше жизни, я хочу быть самой
жизнью. С моей точки зрения, художник - зеркало действительности, и от себя
он добавляет ровно столько, сколько нужно, чтоб сделать ее более отчетливой.
Он не вправе искажать и подтасовывать ее ни для того, чтобы повеселить нас,
ни для того, чтоб вызвать наши слезы, иначе мы потеряем к нему доверие,
книга станет для нас пустой, незначащей забавой и самые замечательные цели
потеряют смысл. Возьмем, к примеру, Микобера из прекрасной книги "Дэвид
Копперфилд". Мы смеемся над Микобером, мы показываем на него пальцем, мы
покатываемся со смеху, но понимаем в конце концов, что этот образ превзошел
самое жизнь - он не укладывается в ее рамки - и что его создатель
презрительно относится ко всем Микоберам на свете и обращает их в посмешище.
Насколько было бы лучше, если бы, пожертвовав частью смешных сцен и
драматических эффектов, автор сделал Микобера более жизненной, более
узнаваемой фигурой, от знакомства с которой не оставалось бы такого
неприятного осадка. Вы не согласны, вы любите Микобера и говорите, что
"Дэвид Копперфилд" много лучше всего, что довелось написать вашему покорному
слуге? Не стану спорить, но сна из-за вас не потеряю - вы ровным счетом
ничего не поняли. Впрочем, неважно, я все равно скажу то, что собирался.
Произведения Диккенса прекрасны, его герои трогают до слез, но в то же время
они утрированы и умаляют силу его романов. На мой взгляд, призвание писателя
- изображать натуру, его искусство - в умении правдиво воссоздать ее.
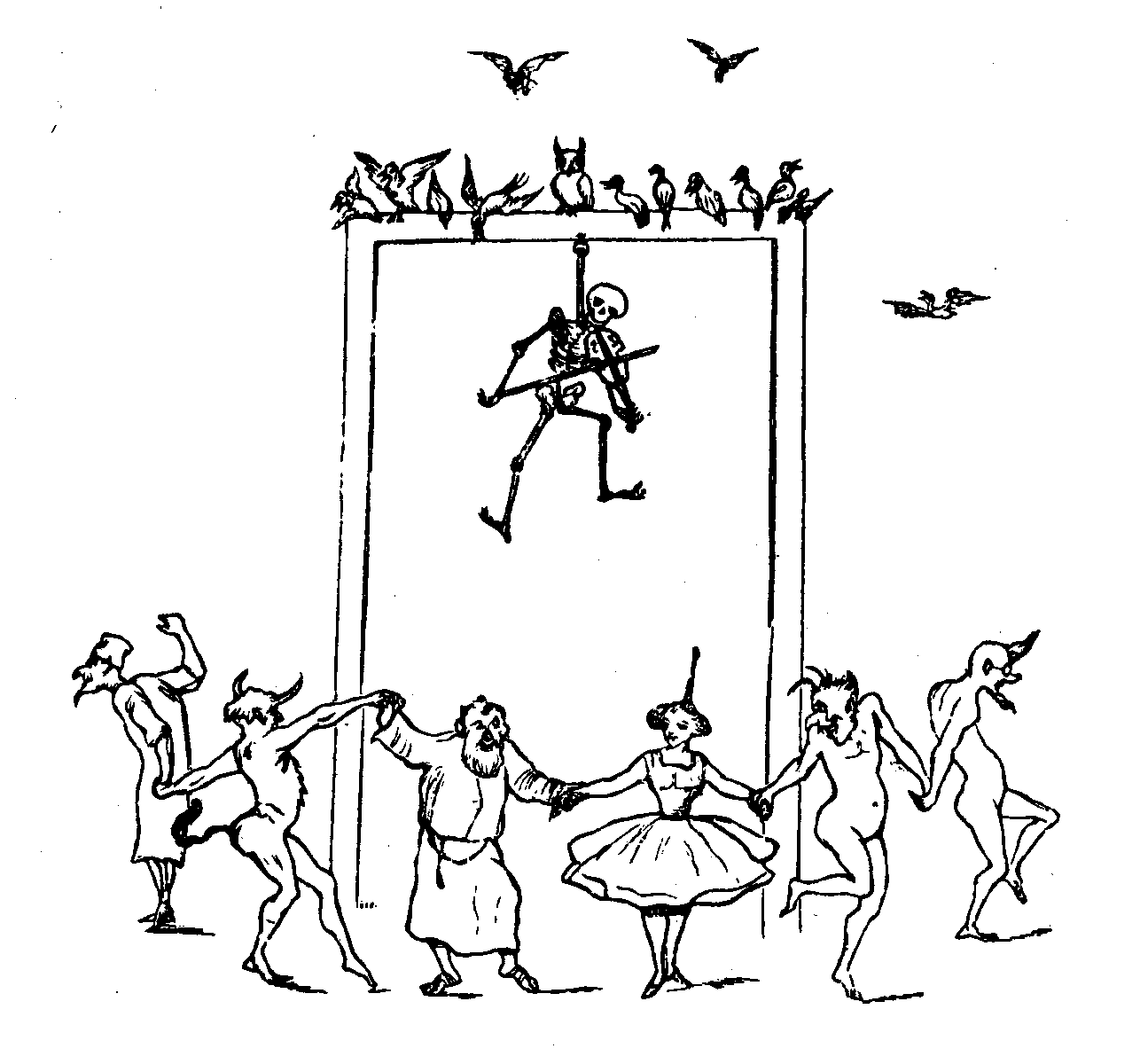 Итак, с самоуверенностью, присущей молодости, - правда, молодость моя
была не первой, - я дерзко не желал писать, как Диккенс. Он мог не
беспокоиться: мой дар, велик он или мал, - совсем иного рода. Я знаю, что
пишу задиристо: мой стиль склоняется к сарказму, а не к сатире, как я того
хотел бы. Когда меня волнует тема, в моих писаниях чувствуется темперамент,
я разражаюсь яростными обличениями. Наверное, вы удивитесь, но я не чужд
морализаторства - звучит ужасно, правда? - а также критицизма, когда
пускаюсь толковать о всяких тонкостях. Я ощущаю современность, у меня острый
язык и чуткий слух - я быстро улавливаю дух сегодняшнего дня. Мой стиль,
надеюсь, заслуживает одобрения: языком я владею образцово. В общем, по этой
части все обстоит недурно, но есть и недостатки. Я плохо строю действие: мне
трудно справиться с романным временем - и не умею писать трогательно, хотя в
жизни я человек чувствительный. Что было делать этому честолюбивому и
рассудочному чудовищу? Как подчеркнуть сильные стороны своего таланта и
затушевать слабые? За что приняться?
Я мог бы с легкостью поведать, как написал все свои романы, - чего,
разумеется, делать не буду, разве только мимоходом, - но когда заходит речь
о "Ярмарке тщеславия", я становлюсь в тупик. Не помню точно, в какую минуту
возник у меня ее замысел, зато довольно ясно помню, как ее писал. Началась
она с серии очерков об английском светском обществе, которое мало-помалу
стало для меня основным полем для наблюдений. Порхая с одного приема на
другой и впитывая впечатления, я долго не понимал, что это и есть мой
литературный материал. С величайшей легкостью принимая одно приглашение за
другим, я превратился в светского мотылька, но, быстро наскучив новой ролью,
вознаграждал себя тем, что высмеивал эти забавы на бумаге. Конечно, поначалу
я посещал балы не для того, чтобы их высмеивать, первое время меня порядком
занимало, пригласят ли меня в тот или иной известный дом, но постепенно за
мишурным блеском я научился видеть подлинные лица, читать по ним истории
отчаяния или порока, и жизнь этого мира обрела - для меня особую
притягательность. Дома я записывал свои наблюдения, пока не осознал, что они
перерастают в очерки нравов, а вскоре мне пришло в голову объединить их в
книгу и получить роман - многочастный роман, смелый, самобытный и правдивый,
возможно, тот самый шедевр, который мне так долго грезился. Я затрепетал от
этой мысли: успех был близок, но все еще далек. Он плыл мне в руки, но готов
был ускользнуть в любую минуту, меня буквально била лихорадка, когда я стал
сводить свои заметки воедино, все время уговаривая себя не ждать от этой
затеи слишком многого и помнить о недавних неудачах. И все же я ощущал, что
на сей раз все изменилось: меня вдохновляла тема. Мне не нужно было выжимать
из себя что-то занимательное или пересказывать чужие истории, я не
придумывал суждений и взглядов своих героев, не пытался из схем и вымыслов
сделать живых людей - я знал своих героев очень близко. Как по-вашему,
скольких Бекки Шарп я наблюдал прежде, чем на страницах моей рукописи
появилось это имя? Скольких Эмилий мне случилось встретить? И разве я не
видел сотни сцен, в которых участвовал Джордж Осборн, и разве не был коротко
знаком с его отцом? Вы спросите, с кого же списаны герои? И я отвечу: ни с
кого или со всех и каждого, но я не стану играть в эту игру. Не спорю, я
писал Эмилию, думая о жене и еще одной знакомой, но они послужили мне всего
лишь отправным пунктом: пока я вживался в характер героини, столько всего
произошло, что в ней почти ничего не осталось от реальных прообразов; ну, а
таких, как Бекки, полным-полно на белом свете - на каждой вечеринке я видел
старых и молодых хищниц ее склада и никогда не уставал читать их лица. Это
совсем несложно, довольно только глянуть на мелкие острые черты такой особы,
и перед вами как на ладони вся ее подлая история, воображения тут не
требуется. Да, крошка. Бекки удалась мне; она потешила меня не меньше, чем
выдуманная мной уловка, будто мои герои - куклы, которыми я управляю на
потеху публике. То была гениальная находка, как я был счастлив в ту минуту,
когда меня осенило! Теперь я мог уйти за сцену и невозбранно управлять
оттуда действием. Без путеводной нити мне страшно погружаться в ткань
произведения, мне легче присвоить себе роль рассказчика или придумать
что-нибудь еще, возможно, вам эти приемы кажутся громоздкими, но меня они
нисколько не стесняют, напротив, даже развязывают руки.
Итак, с самоуверенностью, присущей молодости, - правда, молодость моя
была не первой, - я дерзко не желал писать, как Диккенс. Он мог не
беспокоиться: мой дар, велик он или мал, - совсем иного рода. Я знаю, что
пишу задиристо: мой стиль склоняется к сарказму, а не к сатире, как я того
хотел бы. Когда меня волнует тема, в моих писаниях чувствуется темперамент,
я разражаюсь яростными обличениями. Наверное, вы удивитесь, но я не чужд
морализаторства - звучит ужасно, правда? - а также критицизма, когда
пускаюсь толковать о всяких тонкостях. Я ощущаю современность, у меня острый
язык и чуткий слух - я быстро улавливаю дух сегодняшнего дня. Мой стиль,
надеюсь, заслуживает одобрения: языком я владею образцово. В общем, по этой
части все обстоит недурно, но есть и недостатки. Я плохо строю действие: мне
трудно справиться с романным временем - и не умею писать трогательно, хотя в
жизни я человек чувствительный. Что было делать этому честолюбивому и
рассудочному чудовищу? Как подчеркнуть сильные стороны своего таланта и
затушевать слабые? За что приняться?
Я мог бы с легкостью поведать, как написал все свои романы, - чего,
разумеется, делать не буду, разве только мимоходом, - но когда заходит речь
о "Ярмарке тщеславия", я становлюсь в тупик. Не помню точно, в какую минуту
возник у меня ее замысел, зато довольно ясно помню, как ее писал. Началась
она с серии очерков об английском светском обществе, которое мало-помалу
стало для меня основным полем для наблюдений. Порхая с одного приема на
другой и впитывая впечатления, я долго не понимал, что это и есть мой
литературный материал. С величайшей легкостью принимая одно приглашение за
другим, я превратился в светского мотылька, но, быстро наскучив новой ролью,
вознаграждал себя тем, что высмеивал эти забавы на бумаге. Конечно, поначалу
я посещал балы не для того, чтобы их высмеивать, первое время меня порядком
занимало, пригласят ли меня в тот или иной известный дом, но постепенно за
мишурным блеском я научился видеть подлинные лица, читать по ним истории
отчаяния или порока, и жизнь этого мира обрела - для меня особую
притягательность. Дома я записывал свои наблюдения, пока не осознал, что они
перерастают в очерки нравов, а вскоре мне пришло в голову объединить их в
книгу и получить роман - многочастный роман, смелый, самобытный и правдивый,
возможно, тот самый шедевр, который мне так долго грезился. Я затрепетал от
этой мысли: успех был близок, но все еще далек. Он плыл мне в руки, но готов
был ускользнуть в любую минуту, меня буквально била лихорадка, когда я стал
сводить свои заметки воедино, все время уговаривая себя не ждать от этой
затеи слишком многого и помнить о недавних неудачах. И все же я ощущал, что
на сей раз все изменилось: меня вдохновляла тема. Мне не нужно было выжимать
из себя что-то занимательное или пересказывать чужие истории, я не
придумывал суждений и взглядов своих героев, не пытался из схем и вымыслов
сделать живых людей - я знал своих героев очень близко. Как по-вашему,
скольких Бекки Шарп я наблюдал прежде, чем на страницах моей рукописи
появилось это имя? Скольких Эмилий мне случилось встретить? И разве я не
видел сотни сцен, в которых участвовал Джордж Осборн, и разве не был коротко
знаком с его отцом? Вы спросите, с кого же списаны герои? И я отвечу: ни с
кого или со всех и каждого, но я не стану играть в эту игру. Не спорю, я
писал Эмилию, думая о жене и еще одной знакомой, но они послужили мне всего
лишь отправным пунктом: пока я вживался в характер героини, столько всего
произошло, что в ней почти ничего не осталось от реальных прообразов; ну, а
таких, как Бекки, полным-полно на белом свете - на каждой вечеринке я видел
старых и молодых хищниц ее склада и никогда не уставал читать их лица. Это
совсем несложно, довольно только глянуть на мелкие острые черты такой особы,
и перед вами как на ладони вся ее подлая история, воображения тут не
требуется. Да, крошка. Бекки удалась мне; она потешила меня не меньше, чем
выдуманная мной уловка, будто мои герои - куклы, которыми я управляю на
потеху публике. То была гениальная находка, как я был счастлив в ту минуту,
когда меня осенило! Теперь я мог уйти за сцену и невозбранно управлять
оттуда действием. Без путеводной нити мне страшно погружаться в ткань
произведения, мне легче присвоить себе роль рассказчика или придумать
что-нибудь еще, возможно, вам эти приемы кажутся громоздкими, но меня они
нисколько не стесняют, напротив, даже развязывают руки.
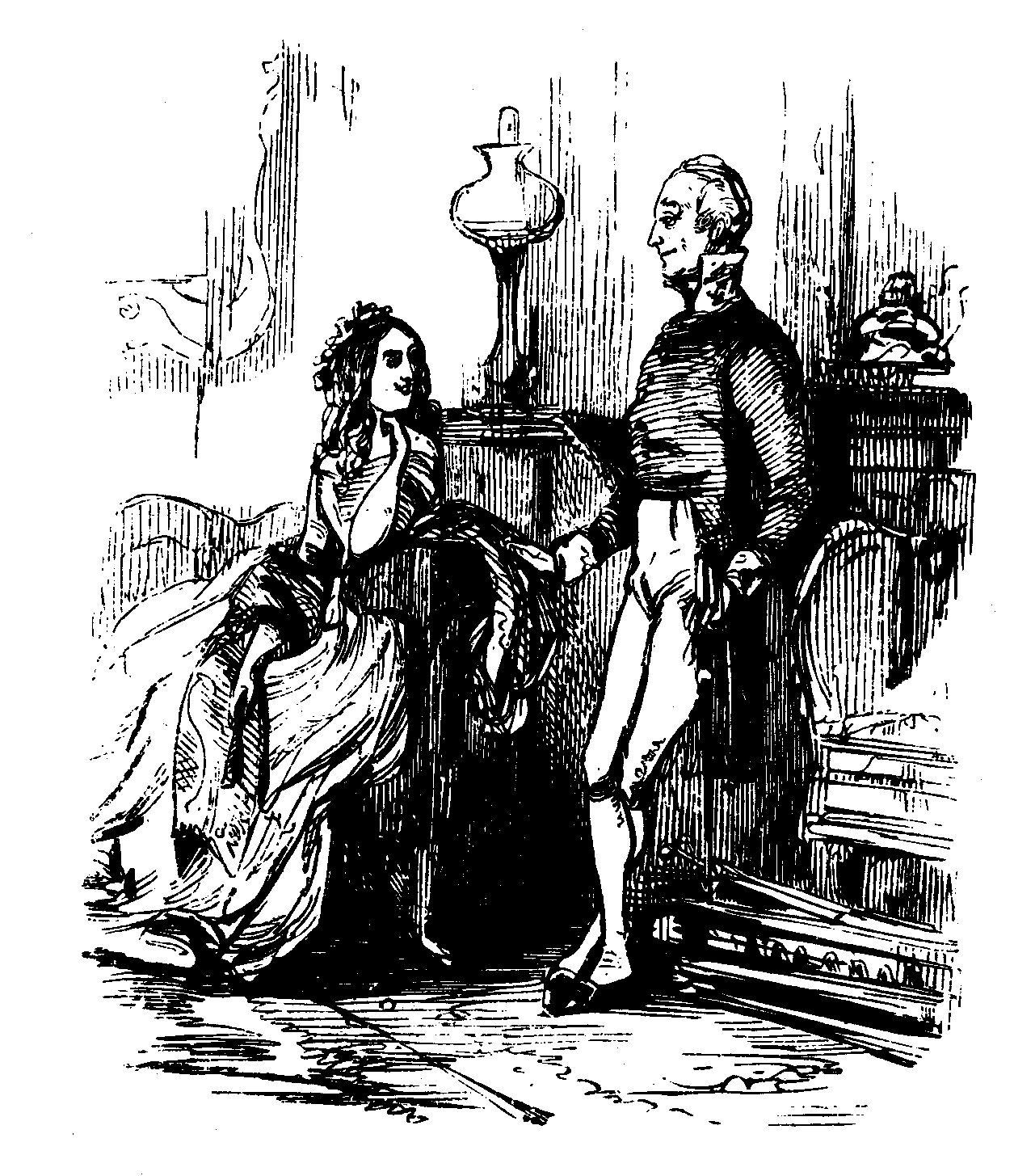 Простите, я забежал вперед: "Ярмарка тщеславия" еще не вышла в свет, а
я позволил воспоминаниям заслонить все, случившееся прежде (однако, как я
уже предупреждал, мои воспоминания довольно ненадежны). Но если бы я ковылял
от одного события к другому, упрямо цепляясь за хронологию, что у меня бы
получилось? Да что-то вроде тех самых нудных биографий, которые я запрещаю
сочинять о себе. Правда, упорно стремясь к простоте и откровенности, я,
кажется, сам впадаю в буквализм и загоняю себя в мышеловку, которую так
самонадеянно считал для себя неопасной. Но как же быть? О чем я собирался
написать? Я просто полагал, что в жизни каждого из нас есть несколько
достойных упоминания событий, и незачем их погребать среди 800 страниц
цветистой прозы. Наверное, мне хочется понять смысл прожитых пятидесяти с
лишним лет, найти к ним ключ - ведь где-то он хранится, а может быть,
причина и не в нем, а в опасном стариковском недуге - губительном эгоизме,
который питается постоянным возвращением к зауряднейшим событиям прошлого.
Через несколько страниц я расскажу вам об улице Янг, о моей тамошней
семейной жизни, и, знаете, я предвкушаю, как припомню даже сумму арендной
платы за дом. Жалкая слабость, но ничего не поделаешь; я замечаю, что
воспоминания о самых скучных подробностях былого трогают и моих ровесников,
которые им предаются, уютно устроившись в больших кожаных креслах. Вам
безразлично, сколько я платил за дом, как звали моего слугу и что мне
ежедневно подавали на обед? Вам безразлично, и мне тоже, но лишь начните
вспоминать, и все это доставит вам радость.
Простите, я забежал вперед: "Ярмарка тщеславия" еще не вышла в свет, а
я позволил воспоминаниям заслонить все, случившееся прежде (однако, как я
уже предупреждал, мои воспоминания довольно ненадежны). Но если бы я ковылял
от одного события к другому, упрямо цепляясь за хронологию, что у меня бы
получилось? Да что-то вроде тех самых нудных биографий, которые я запрещаю
сочинять о себе. Правда, упорно стремясь к простоте и откровенности, я,
кажется, сам впадаю в буквализм и загоняю себя в мышеловку, которую так
самонадеянно считал для себя неопасной. Но как же быть? О чем я собирался
написать? Я просто полагал, что в жизни каждого из нас есть несколько
достойных упоминания событий, и незачем их погребать среди 800 страниц
цветистой прозы. Наверное, мне хочется понять смысл прожитых пятидесяти с
лишним лет, найти к ним ключ - ведь где-то он хранится, а может быть,
причина и не в нем, а в опасном стариковском недуге - губительном эгоизме,
который питается постоянным возвращением к зауряднейшим событиям прошлого.
Через несколько страниц я расскажу вам об улице Янг, о моей тамошней
семейной жизни, и, знаете, я предвкушаю, как припомню даже сумму арендной
платы за дом. Жалкая слабость, но ничего не поделаешь; я замечаю, что
воспоминания о самых скучных подробностях былого трогают и моих ровесников,
которые им предаются, уютно устроившись в больших кожаных креслах. Вам
безразлично, сколько я платил за дом, как звали моего слугу и что мне
ежедневно подавали на обед? Вам безразлично, и мне тоже, но лишь начните
вспоминать, и все это доставит вам радость.
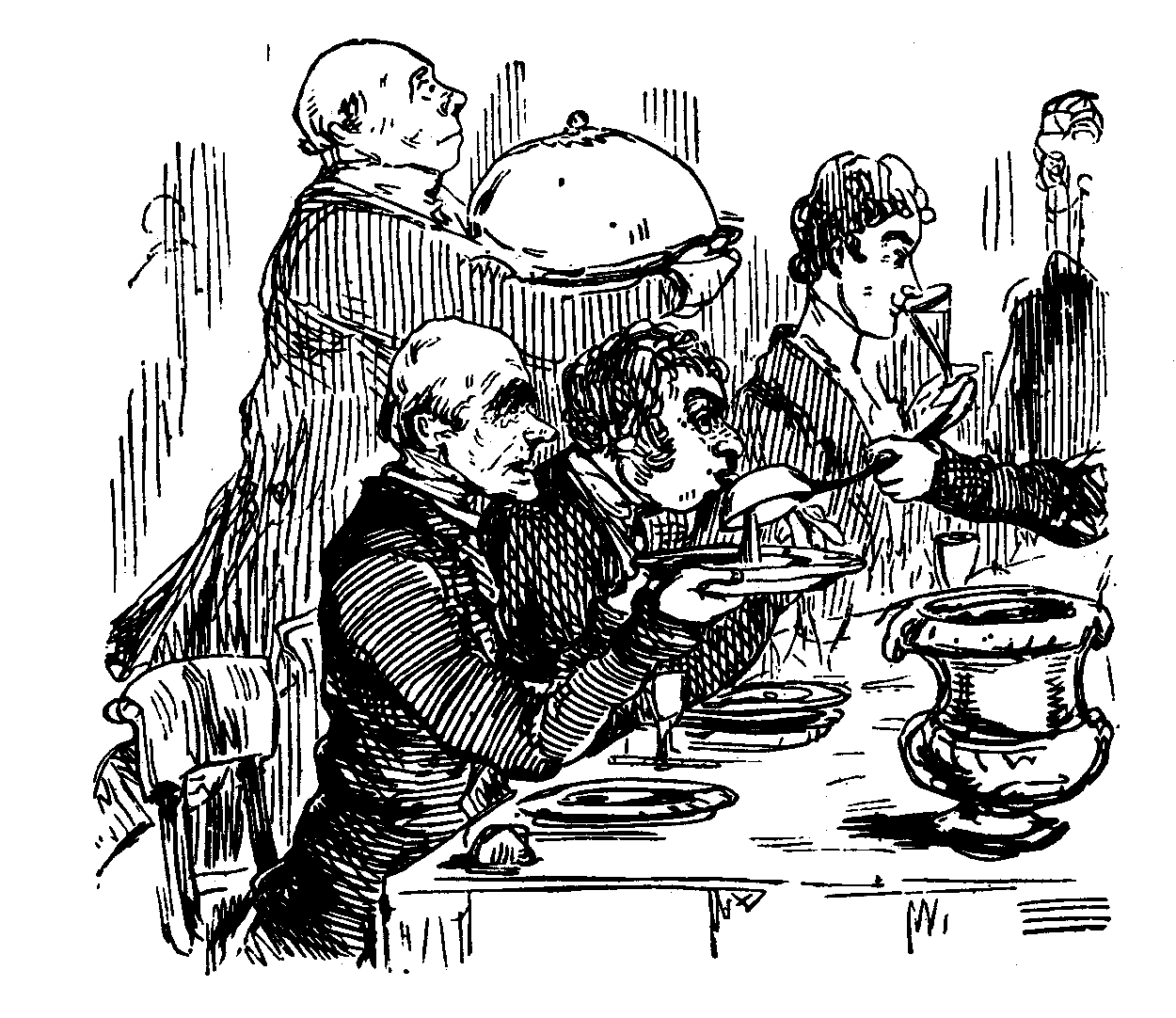 1846 год. Неплохой год, если оглянуться назад, но думал ли я так в ту
пору? Сомневаюсь. Тогда я повесил нос и отворачивался от удачи, которая сама
ко мне спускалась, - вернее, я не узнавал ее, привыкнув получать от судьбы
одни только удары. Целыми днями я строчил, а вечерами отправлялся побыть
среди себе подобных, лишь изредка делая перерывы, чтобы не сойти с ума.
Мысли мои в то время были заняты тем, как перевезти в Лондон жену и девочек,
а вовсе не поисками издателя для "Ярмарки тщеславия", - речь, разумеется,
идет о первых главах, - хотя, по правде говоря, одно было тесно связано с
другим. Но все-таки я рад, что сумел забрать семью в Лондон прежде, чем
успех "Ярмарки тщеславия" дал мне для этого средства: мне было бы не по
себе, если бы получилось, что все упиралось только в деньги. Да это и в
самом деле было не так: если не считать двух первых лет нашей тягостной
разлуки, препятствием служили не деньги, а боязнь ответственности, которая
легла бы на меня, забери я дочурок от бабушки и дедушки, с которыми им так
счастливо жилось, и помести их среди хаоса, который окружал их бедного отца.
Имею ли я на это право, непрестанно спрашивал я себя и отвечал то "да", то
"нет". К тому времени Анни исполнилось восемь лет, и с каждой встречей я все
больше замечал, до чего мы похожи. Она писала очень смешные письма: "Я
нисчасна, ни знаю, пачиму", - прямо настоящий Желтоплюш. Ей-богу, она была
гениальна, а ее бурный темперамент внушал мне немалую тревогу. Матушка все
чаще и чаще писала мне, что Анни порой бывает страшно раздражительна и что
ее характер нуждается в обуздании и воспитании. Я отвечал, чтобы ее
наказывали, если необходимо-то и розгой (в какую панику я впал, отдав это
распоряжение!), но про себя немедленно решил, что за выходками моей дочери
скрывается ощущение безысходности, которого не может не испытывать пылкое и
молодое существо среди пожилых косных родственников и их друзей. Влияние
матушки на детей было огромно, и это меня тоже беспокоило: я был не в
восторге от того, что две умные, чуткие девочки воспитываются в убеждении,
что Ветхий завет - точное описание реальных событий. Я бы хотел им
рассказать о моих собственных верованиях и дать им возможность самим решить,
во что они будут верить, а не забивать им голову чепухой, которую матушка
почитала за истину, полагая, что всякая иная точка зрения безнравственна.
Если это не пресечь, девочки очень скоро будут ее, а не моими дочками, я
пропущу те самые решающие годы, когда формируется характер, и после мне
будет трудно наверстать упущенное, сколько бы я ни написал им писем и
сколько бы ни нанес мимолетных визитов. Но как ни велика была моя тревога,
долгое время я не мог ничего предпринять, так как многочисленные "как?",
"где?" и "с кем?" ставили меня в тупик. Я вел жизнь одинокого, вечно
занятого мужчины: как, спрашивается, мог я воспитывать двух маленьких
девочек? Мне требовалась помощница, целый легион помощниц на долгие годы, и
не просто служанка, а женщина, способная заменить девочкам мать, проводить с
ними дни и ночи, но даже если я найду такую женщину, смогу ли я с ней
ужиться? Мне было страшно попасть в зависимость к какой-нибудь старой
ведьме, которая быстро осознает размеры своей власти и выживет меня из
собственного дома (буде мне удастся завести таковой) - тогда все пропало!
Конечно, было бы лучше моим родителям перебраться в Лондон, но отчим увяз в
какой-то очередной афере, которая должна была принести ему деньги, и слышать
не хотел о том, чтобы покинуть Париж, а матушка не желала оставлять его
одного. Но девочек она тоже не хотела отдавать, и с этим приходилось
считаться: забрать их - значило бы причинить ей боль и отплатить
неблагодарностью за всю ту щедрую любовь и заботу, которыми она их окружила.
Но даже если бы она сюда приехала, осталась в Лондоне и регулярно их
навещала, это все равно было бы не то: жили бы они врозь, и в их отношениях
поневоле образовалась бы трещина.
Ну что мне было делать? Иногда я говорю себе: блаженны те, что
равнодушны к нуждам ближних, -как утомительно переживать боль окружающих и
постоянно чувствовать их муки, тогда любое действие становится невыполнимым!
Нет ничего изнурительнее, чем дар читать чужие мысли и сердца; скорбь
другого человека тяжелее нашей собственной. Как беспрепятственно скользят по
жизни те, что знают лишь свои сомнения и страхи, как быстро катит по дороге
жизни их карета, не прерывая хода, чтобы подобрать еще одного пассажира, как
им удобно думать только о себе, не ведая о тех, что ожидают на дороге! Я
часто мечтал сидеть в такой карете и проклинал свое несчастное умение читать
чужие мысли.
Ну ладно, хватит. В 1846 году я перевез жену и детей в Лондон и в
следующей главе буду иметь удовольствие рассказать вам, какое это возымело
на меня действие, ибо Некто был Спасен в Последнюю Минуту - нет, нет, я
только и хочу сказать, что сохранил семью.
^T9^U
^TЖизнь в Кенсингтоне на улице Янг, 13^U
У меня есть несколько знакомых семей, вкушающих радость жизни в доме,
доставшемся им от предков: такой дом обычно гораздо больше прочих в своей
округе, при нем есть парк и другие угодья, десятки лет в нем жили их отцы,
деды, прадеды, и я всегда этому завидовал - не дому, конечно, и не
подразумеваемому им богатству, но ощущению преемственности, которое он
придает их жизни. Мне бы хотелось владеть домом Теккереев где-нибудь в
районе Харрогита, откуда мы родом, не слишком большим и импозантным, но
достаточно поместительным, чтобы приютить не только моих близких, но и
нескольких друзей. Меня бы одушевляли семейные предания; это окно прорубил
дядя Генри, этот летний домик построил дедушка, эту лужайку разбили по
настоянию двоюродной бабушки Люси - и чувство корней, которое приходит
вместе с ними, я с радостью бы покупал и собирал красивые вещи, чтобы они
стояли бок о бок с семейными реликвиями, имеющими давнюю историю. Как было
бы приятно, если бы Анни спала в моей старой детской спальне или Минни
сидела с книжкой в том самом углу у камина, который с общего согласия
считался некогда моим. А как чудесно указать на яблоню и, срывая с нее
яблоко, заметить, что ее посадили в день моего рождения, или раскачивать
ребенка на качелях под дубом, на который я взбирался мальчиком, - ах, я
сентиментальный старый дурень, нет ни такого дома, ни дуба, ни яблони, ни
традиций. Все нынешние Теккереи - перекати-поле, и чтобы установить
наследственные связи, которые мне грезятся, мне лучше бы поехать в Индию,
где, может статься, отыскались бы две-три вещицы, о которых матушка сумела
бы рассказать мне что-нибудь значительное. Будь моя жена здорова, возможно,
я бы осуществил свою не столь уж дерзкую мечту и основал подобный дом, но
теперь мне лучше удовольствоваться своим нынешним кровом. Кто знает, может
быть, со временем его заполнят семьи моих девочек и он им будет в радость,
которой мне с ними уже не разделить.
Как бы то ни было, вы понимаете, отчего я так дорожил домом в
Кенсингтоне на улице Янг, 13, хотя он был всего только подобием того, о чем
я грезил, и никогда не принадлежал мне по-настоящему. Мы с девочками жили в
нем с 1846 по 1854 год, долго - дольше, чем где бы то ни было, - и
счастливо. Дом этот был самый обыкновенный, двухфасадный, с эркерами, но
славный, стоял в удобном месте на лондонской окраине и сдавался за умеренную
цену - 65 фунтов в год (ну вот, я вас предупреждал, что не утерплю и приведу
вам точную сумму арендной платы). Под кабинет я занял в задней части дома
комнату в два окна, увитых виноградом и выходящих на мушмулу и кусты
крупноцветного жасмина. Сад был довольно большой, усеянный пряными цветами:
вербеной, ирисами, камнеломкой, алыми розами, - и очень светлый, вобравший в
себя все лондонское солнце. Над кабинетом, также в задней части дома,
помещалась моя спальня, а над ней - классная комната, откуда доносилось
столько энергичного хлопанья и стука, что я слышал его через этаж. Эта
классная превратилась в истинный зверинец: кроме кошек, Минни держала там
двух голубей, улиток и всяких мошек, которыми кишели подоконники. В
остальной части дома все было как обычно, но не хватало спален - ведь с нами
постоянно жила гувернантка (о гувернантках я расскажу дальше) и подолгу
гостили родственники. Комнаты были обставлены самой невероятной смесью:
что-то дала мне матушка, что-то осталось после Грейт-Корэм, а что-то я порою
покупал. Короче, то было холостяцкое хозяйство, отчасти элегантное, в
основном удобное и, несомненно, беспорядочное: чай наливали из старого
растрескавшегося чайника в изящнейшие чашки, оловянными приборами ели с
золотых тарелок - возможно, я слегка преувеличиваю, но дух передаю вам
верно. Девочкам это было безразлично, мне обычно тоже, лишь изредка душа
просила красоты и малой толики роскоши, но я к ней не прислушивался, ибо
дорожил той новой жизнью, которая была мне отпущена.
Не проходило дня, чтоб я не благословлял судьбу за детский шум и смех,
звучавшие в моем доме; после стольких лет, прожитых в холодных, чужих
комнатах, то было райское блаженство: открыть входную дверь, ответить на
восторженные поцелуи, вдохнуть запах готовящегося обеда и почувствовать себя
дома. Радость, которую мне доставляли дети, во много раз превышала
незначительные родительские огорчения; девочки трогательно старались
справиться с ролью примерных дочек, казалось, им не мешала ни моя
сумасбродная привычка исчезать и возвращаться, когда вздумается, ни долгие
часы, которые я проводил взаперти в своем кабинете. Этот самый кабинет,
порога которого они, по идее, не должны были переступать, был их излюбленным
местом. Они подолгу, с восхищением разглядывали мои остро отточенные
карандаши и наблюдали с восторженным вниманием, как я обрезаю перья под
привычным мне углом, - в конце концов я не выдерживал и начинал смеяться над
благоговением, с каким они созерцали самые простые действия. Надеюсь, они не
были несчастны, хотя подозреваю, что порой бывал не в меру серьезен, излишне
строг и недостаточно внимателен к нуждам двух юных женщин. Благослови их
господи, они никогда не жаловались, но мне бы следовало чаще с ними играть и
вносить в дом больше оживления. Однажды я пытался это высказать, но Анни,
смеясь, закрыла мне ладошкой рот, и потребовала, чтоб я перечислил, куда их
беру и как много интересных людей они видят, а это гораздо лучше, чем сидеть
дома. То была правда - я их брал повсюду. Дамам, приглашавшим мистера
Теккерея в дневное время, приходилось мириться с тем, что их приглашение
распространялось и на мисс Анни и Хэрриет Теккерей. Девочки никогда меня не
подводили: с миссис Карлейль, всегда встречавшей их двумя чашками горячего
шоколада, они с замечательной серьезностью говорили о погоде, с миссис
Браунинг - с похвальным энтузиазмом - о поэзии и с каждым желающим - о
здоровье. У этих добрых дам они невероятно лакомились бесчисленными чашками
чая, пирожными, желе и, того и гляди, грозили стать настоящими толстушками,
особенно Анни, которая пошла в вашего покорного слугу. Минни больше
напоминала мать, в ней чувствовалась хрупкость, весьма меня тревожившая, и я
следил за тем, чтобы она не переутомлялась, не перевозбуждалась и чтоб с нее
не слишком много спрашивали. Она была не так умна, как Анни, но более
sympathique и излучала спокойствие и нежность, которых не доставало более
крепкой Анни. У меня всегда было такое чувство - оно и сейчас со мной, - что
Минни нужно оберегать, иначе на нее падет тень матери; бог даст, она выйдет
замуж за человека, способного понять это.
1846 год. Неплохой год, если оглянуться назад, но думал ли я так в ту
пору? Сомневаюсь. Тогда я повесил нос и отворачивался от удачи, которая сама
ко мне спускалась, - вернее, я не узнавал ее, привыкнув получать от судьбы
одни только удары. Целыми днями я строчил, а вечерами отправлялся побыть
среди себе подобных, лишь изредка делая перерывы, чтобы не сойти с ума.
Мысли мои в то время были заняты тем, как перевезти в Лондон жену и девочек,
а вовсе не поисками издателя для "Ярмарки тщеславия", - речь, разумеется,
идет о первых главах, - хотя, по правде говоря, одно было тесно связано с
другим. Но все-таки я рад, что сумел забрать семью в Лондон прежде, чем
успех "Ярмарки тщеславия" дал мне для этого средства: мне было бы не по
себе, если бы получилось, что все упиралось только в деньги. Да это и в
самом деле было не так: если не считать двух первых лет нашей тягостной
разлуки, препятствием служили не деньги, а боязнь ответственности, которая
легла бы на меня, забери я дочурок от бабушки и дедушки, с которыми им так
счастливо жилось, и помести их среди хаоса, который окружал их бедного отца.
Имею ли я на это право, непрестанно спрашивал я себя и отвечал то "да", то
"нет". К тому времени Анни исполнилось восемь лет, и с каждой встречей я все
больше замечал, до чего мы похожи. Она писала очень смешные письма: "Я
нисчасна, ни знаю, пачиму", - прямо настоящий Желтоплюш. Ей-богу, она была
гениальна, а ее бурный темперамент внушал мне немалую тревогу. Матушка все
чаще и чаще писала мне, что Анни порой бывает страшно раздражительна и что
ее характер нуждается в обуздании и воспитании. Я отвечал, чтобы ее
наказывали, если необходимо-то и розгой (в какую панику я впал, отдав это
распоряжение!), но про себя немедленно решил, что за выходками моей дочери
скрывается ощущение безысходности, которого не может не испытывать пылкое и
молодое существо среди пожилых косных родственников и их друзей. Влияние
матушки на детей было огромно, и это меня тоже беспокоило: я был не в
восторге от того, что две умные, чуткие девочки воспитываются в убеждении,
что Ветхий завет - точное описание реальных событий. Я бы хотел им
рассказать о моих собственных верованиях и дать им возможность самим решить,
во что они будут верить, а не забивать им голову чепухой, которую матушка
почитала за истину, полагая, что всякая иная точка зрения безнравственна.
Если это не пресечь, девочки очень скоро будут ее, а не моими дочками, я
пропущу те самые решающие годы, когда формируется характер, и после мне
будет трудно наверстать упущенное, сколько бы я ни написал им писем и
сколько бы ни нанес мимолетных визитов. Но как ни велика была моя тревога,
долгое время я не мог ничего предпринять, так как многочисленные "как?",
"где?" и "с кем?" ставили меня в тупик. Я вел жизнь одинокого, вечно
занятого мужчины: как, спрашивается, мог я воспитывать двух маленьких
девочек? Мне требовалась помощница, целый легион помощниц на долгие годы, и
не просто служанка, а женщина, способная заменить девочкам мать, проводить с
ними дни и ночи, но даже если я найду такую женщину, смогу ли я с ней
ужиться? Мне было страшно попасть в зависимость к какой-нибудь старой
ведьме, которая быстро осознает размеры своей власти и выживет меня из
собственного дома (буде мне удастся завести таковой) - тогда все пропало!
Конечно, было бы лучше моим родителям перебраться в Лондон, но отчим увяз в
какой-то очередной афере, которая должна была принести ему деньги, и слышать
не хотел о том, чтобы покинуть Париж, а матушка не желала оставлять его
одного. Но девочек она тоже не хотела отдавать, и с этим приходилось
считаться: забрать их - значило бы причинить ей боль и отплатить
неблагодарностью за всю ту щедрую любовь и заботу, которыми она их окружила.
Но даже если бы она сюда приехала, осталась в Лондоне и регулярно их
навещала, это все равно было бы не то: жили бы они врозь, и в их отношениях
поневоле образовалась бы трещина.
Ну что мне было делать? Иногда я говорю себе: блаженны те, что
равнодушны к нуждам ближних, -как утомительно переживать боль окружающих и
постоянно чувствовать их муки, тогда любое действие становится невыполнимым!
Нет ничего изнурительнее, чем дар читать чужие мысли и сердца; скорбь
другого человека тяжелее нашей собственной. Как беспрепятственно скользят по
жизни те, что знают лишь свои сомнения и страхи, как быстро катит по дороге
жизни их карета, не прерывая хода, чтобы подобрать еще одного пассажира, как
им удобно думать только о себе, не ведая о тех, что ожидают на дороге! Я
часто мечтал сидеть в такой карете и проклинал свое несчастное умение читать
чужие мысли.
Ну ладно, хватит. В 1846 году я перевез жену и детей в Лондон и в
следующей главе буду иметь удовольствие рассказать вам, какое это возымело
на меня действие, ибо Некто был Спасен в Последнюю Минуту - нет, нет, я
только и хочу сказать, что сохранил семью.
^T9^U
^TЖизнь в Кенсингтоне на улице Янг, 13^U
У меня есть несколько знакомых семей, вкушающих радость жизни в доме,
доставшемся им от предков: такой дом обычно гораздо больше прочих в своей
округе, при нем есть парк и другие угодья, десятки лет в нем жили их отцы,
деды, прадеды, и я всегда этому завидовал - не дому, конечно, и не
подразумеваемому им богатству, но ощущению преемственности, которое он
придает их жизни. Мне бы хотелось владеть домом Теккереев где-нибудь в
районе Харрогита, откуда мы родом, не слишком большим и импозантным, но
достаточно поместительным, чтобы приютить не только моих близких, но и
нескольких друзей. Меня бы одушевляли семейные предания; это окно прорубил
дядя Генри, этот летний домик построил дедушка, эту лужайку разбили по
настоянию двоюродной бабушки Люси - и чувство корней, которое приходит
вместе с ними, я с радостью бы покупал и собирал красивые вещи, чтобы они
стояли бок о бок с семейными реликвиями, имеющими давнюю историю. Как было
бы приятно, если бы Анни спала в моей старой детской спальне или Минни
сидела с книжкой в том самом углу у камина, который с общего согласия
считался некогда моим. А как чудесно указать на яблоню и, срывая с нее
яблоко, заметить, что ее посадили в день моего рождения, или раскачивать
ребенка на качелях под дубом, на который я взбирался мальчиком, - ах, я
сентиментальный старый дурень, нет ни такого дома, ни дуба, ни яблони, ни
традиций. Все нынешние Теккереи - перекати-поле, и чтобы установить
наследственные связи, которые мне грезятся, мне лучше бы поехать в Индию,
где, может статься, отыскались бы две-три вещицы, о которых матушка сумела
бы рассказать мне что-нибудь значительное. Будь моя жена здорова, возможно,
я бы осуществил свою не столь уж дерзкую мечту и основал подобный дом, но
теперь мне лучше удовольствоваться своим нынешним кровом. Кто знает, может
быть, со временем его заполнят семьи моих девочек и он им будет в радость,
которой мне с ними уже не разделить.
Как бы то ни было, вы понимаете, отчего я так дорожил домом в
Кенсингтоне на улице Янг, 13, хотя он был всего только подобием того, о чем
я грезил, и никогда не принадлежал мне по-настоящему. Мы с девочками жили в
нем с 1846 по 1854 год, долго - дольше, чем где бы то ни было, - и
счастливо. Дом этот был самый обыкновенный, двухфасадный, с эркерами, но
славный, стоял в удобном месте на лондонской окраине и сдавался за умеренную
цену - 65 фунтов в год (ну вот, я вас предупреждал, что не утерплю и приведу
вам точную сумму арендной платы). Под кабинет я занял в задней части дома
комнату в два окна, увитых виноградом и выходящих на мушмулу и кусты
крупноцветного жасмина. Сад был довольно большой, усеянный пряными цветами:
вербеной, ирисами, камнеломкой, алыми розами, - и очень светлый, вобравший в
себя все лондонское солнце. Над кабинетом, также в задней части дома,
помещалась моя спальня, а над ней - классная комната, откуда доносилось
столько энергичного хлопанья и стука, что я слышал его через этаж. Эта
классная превратилась в истинный зверинец: кроме кошек, Минни держала там
двух голубей, улиток и всяких мошек, которыми кишели подоконники. В
остальной части дома все было как обычно, но не хватало спален - ведь с нами
постоянно жила гувернантка (о гувернантках я расскажу дальше) и подолгу
гостили родственники. Комнаты были обставлены самой невероятной смесью:
что-то дала мне матушка, что-то осталось после Грейт-Корэм, а что-то я порою
покупал. Короче, то было холостяцкое хозяйство, отчасти элегантное, в
основном удобное и, несомненно, беспорядочное: чай наливали из старого
растрескавшегося чайника в изящнейшие чашки, оловянными приборами ели с
золотых тарелок - возможно, я слегка преувеличиваю, но дух передаю вам
верно. Девочкам это было безразлично, мне обычно тоже, лишь изредка душа
просила красоты и малой толики роскоши, но я к ней не прислушивался, ибо
дорожил той новой жизнью, которая была мне отпущена.
Не проходило дня, чтоб я не благословлял судьбу за детский шум и смех,
звучавшие в моем доме; после стольких лет, прожитых в холодных, чужих
комнатах, то было райское блаженство: открыть входную дверь, ответить на
восторженные поцелуи, вдохнуть запах готовящегося обеда и почувствовать себя
дома. Радость, которую мне доставляли дети, во много раз превышала
незначительные родительские огорчения; девочки трогательно старались
справиться с ролью примерных дочек, казалось, им не мешала ни моя
сумасбродная привычка исчезать и возвращаться, когда вздумается, ни долгие
часы, которые я проводил взаперти в своем кабинете. Этот самый кабинет,
порога которого они, по идее, не должны были переступать, был их излюбленным
местом. Они подолгу, с восхищением разглядывали мои остро отточенные
карандаши и наблюдали с восторженным вниманием, как я обрезаю перья под
привычным мне углом, - в конце концов я не выдерживал и начинал смеяться над
благоговением, с каким они созерцали самые простые действия. Надеюсь, они не
были несчастны, хотя подозреваю, что порой бывал не в меру серьезен, излишне
строг и недостаточно внимателен к нуждам двух юных женщин. Благослови их
господи, они никогда не жаловались, но мне бы следовало чаще с ними играть и
вносить в дом больше оживления. Однажды я пытался это высказать, но Анни,
смеясь, закрыла мне ладошкой рот, и потребовала, чтоб я перечислил, куда их
беру и как много интересных людей они видят, а это гораздо лучше, чем сидеть
дома. То была правда - я их брал повсюду. Дамам, приглашавшим мистера
Теккерея в дневное время, приходилось мириться с тем, что их приглашение
распространялось и на мисс Анни и Хэрриет Теккерей. Девочки никогда меня не
подводили: с миссис Карлейль, всегда встречавшей их двумя чашками горячего
шоколада, они с замечательной серьезностью говорили о погоде, с миссис
Браунинг - с похвальным энтузиазмом - о поэзии и с каждым желающим - о
здоровье. У этих добрых дам они невероятно лакомились бесчисленными чашками
чая, пирожными, желе и, того и гляди, грозили стать настоящими толстушками,
особенно Анни, которая пошла в вашего покорного слугу. Минни больше
напоминала мать, в ней чувствовалась хрупкость, весьма меня тревожившая, и я
следил за тем, чтобы она не переутомлялась, не перевозбуждалась и чтоб с нее
не слишком много спрашивали. Она была не так умна, как Анни, но более
sympathique и излучала спокойствие и нежность, которых не доставало более
крепкой Анни. У меня всегда было такое чувство - оно и сейчас со мной, - что
Минни нужно оберегать, иначе на нее падет тень матери; бог даст, она выйдет
замуж за человека, способного понять это.
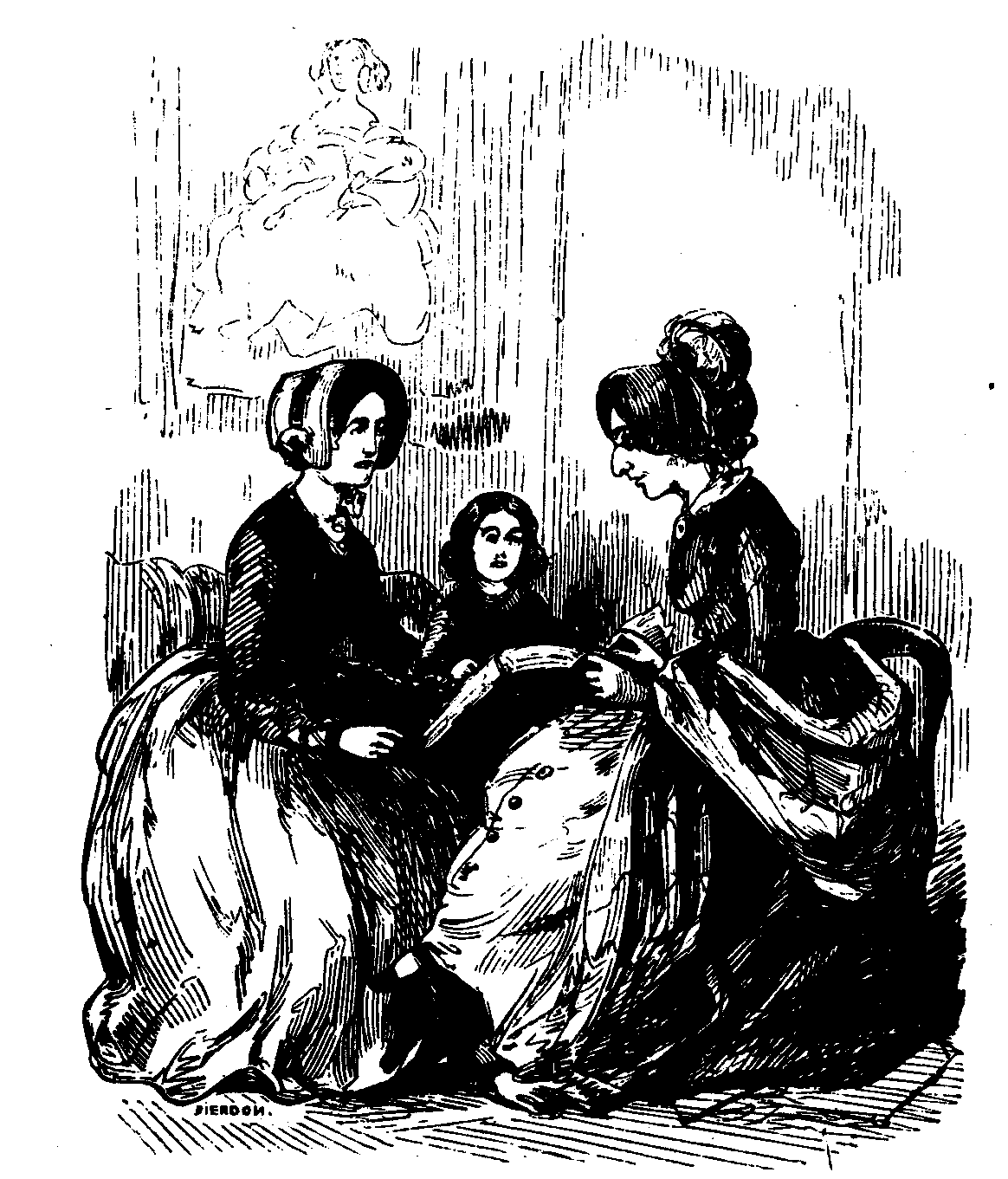 Изабелла не входила в этот счастливый мирок, но я надеялся, что в один
прекрасный день это случится - вот только девочки немного подрастут. Моя
тревога о ней значительно уменьшилась с тех пор, как я поместил ее у одной
превосходной женщины в Кэмбервилле - у некоей миссис Бейквилл. Через неделю
после того, как я привез ее из Парижа к миссис Бейквилл, произошла
разительная перемена, и у меня гора свалилась с плеч, когда я увидел, как
она прекрасно выглядит: волосы ее блестели, одета она была к лицу,
по-прежнему смеялась и весело играла на рояле. В те дни я часто посещал ее и
брал с собою девочек, хотя порой им это приносило огорчения: мать почти не
узнавала их, хотя в Париже, по моему настоянию, они регулярно виделись.
Придется мне когда-нибудь рассказать им об Изабелле, но только не сейчас, а
позже, когда они вырастут, - надеюсь, их не испугают и не потрясут
подробности, которые при этом неизбежно обнаружатся. В детстве они верили,
что их мать - красивая дама, к которой они иногда приходят в гости, - не
совсем здорова и потому живет от них отдельно. Если им это и было странно,
они, сколько помнится, никогда этого не говорили, ибо росли без матери и до
более позднего возраста не видели в том ничего особенного. Я пришел к
убеждению, что детей не нужно наводить на мысли, им не свойственные, пока их
не подскажут взрослые. Не плачьте об Анни и Минни, пусть ваши платочки
останутся сухими, сами они не плакали.
Изабелла не входила в этот счастливый мирок, но я надеялся, что в один
прекрасный день это случится - вот только девочки немного подрастут. Моя
тревога о ней значительно уменьшилась с тех пор, как я поместил ее у одной
превосходной женщины в Кэмбервилле - у некоей миссис Бейквилл. Через неделю
после того, как я привез ее из Парижа к миссис Бейквилл, произошла
разительная перемена, и у меня гора свалилась с плеч, когда я увидел, как
она прекрасно выглядит: волосы ее блестели, одета она была к лицу,
по-прежнему смеялась и весело играла на рояле. В те дни я часто посещал ее и
брал с собою девочек, хотя порой им это приносило огорчения: мать почти не
узнавала их, хотя в Париже, по моему настоянию, они регулярно виделись.
Придется мне когда-нибудь рассказать им об Изабелле, но только не сейчас, а
позже, когда они вырастут, - надеюсь, их не испугают и не потрясут
подробности, которые при этом неизбежно обнаружатся. В детстве они верили,
что их мать - красивая дама, к которой они иногда приходят в гости, - не
совсем здорова и потому живет от них отдельно. Если им это и было странно,
они, сколько помнится, никогда этого не говорили, ибо росли без матери и до
более позднего возраста не видели в том ничего особенного. Я пришел к
убеждению, что детей не нужно наводить на мысли, им не свойственные, пока их
не подскажут взрослые. Не плачьте об Анни и Минни, пусть ваши платочки
останутся сухими, сами они не плакали.
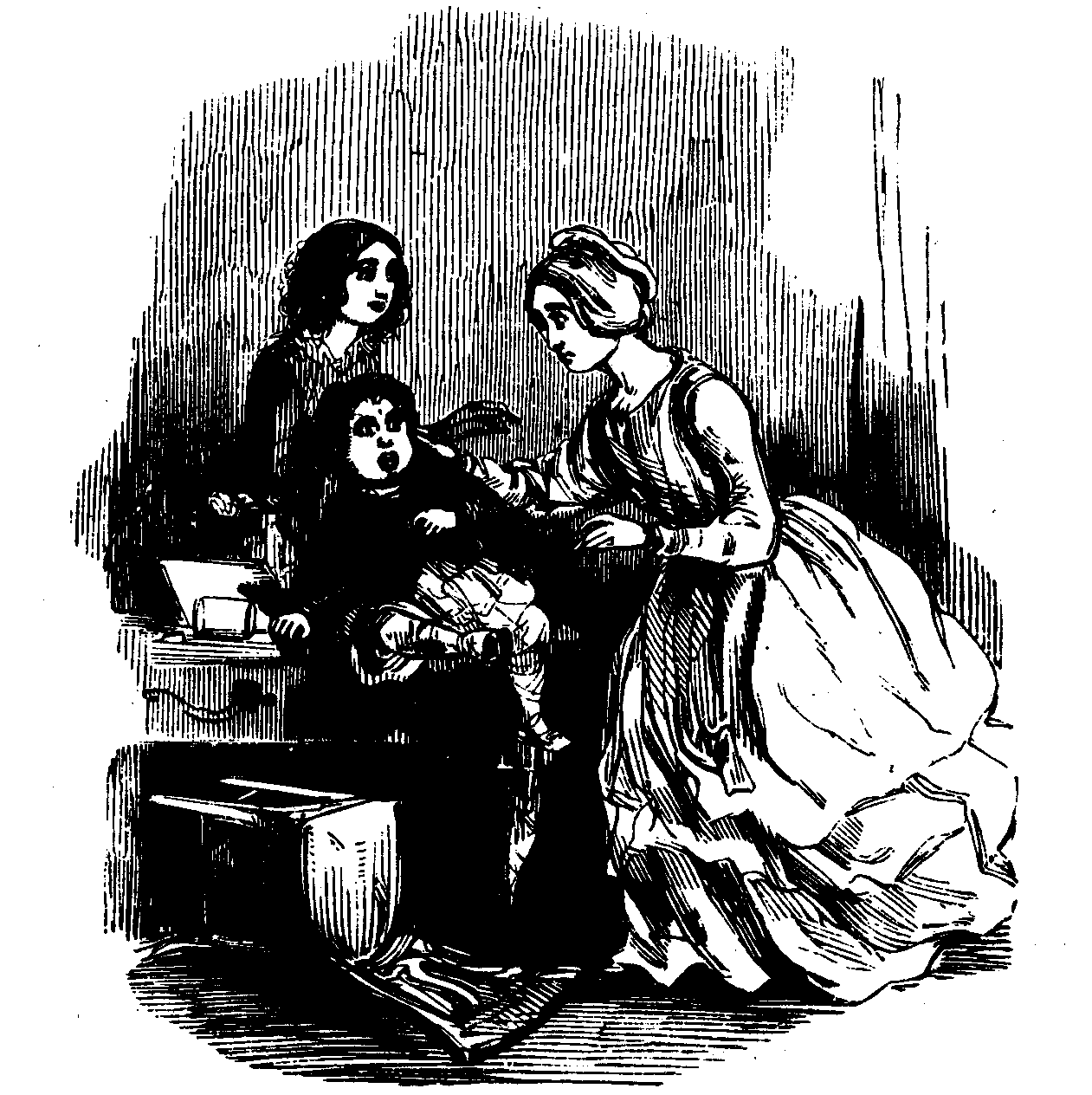 Я спрашиваю себя, было ли то простое совпадение, что мои дети
соединились со мной в 1846 году, а "Ярмарка тщеславия" вышла с большим
успехом год спустя. Когда я переехал на улицу Янг и снова включился в
повседневную семейную жизнь, первые главы были уже закончены, но большую
часть романа я написал при них, и хочется думать, что моя новая счастливая
жизнь немало тому способствовала. Я не надеюсь, что вы со мною согласитесь,
и даже слышу, как вы говорите, что книга могла бы получиться лучше, не будь
я так опутан семейными обязанностями. Обязанности эти и в самом деле были
утомительны, но не из-за детей, а из-за того, что ведение дома без хозяйки
превращалось в бесконечную эквилибристику. Одно время мне казалось, что я
вышел из положения, пригласив к нам дальнюю родственницу Бэсс Хэммертон, но
эта затея провалилась, ею так же невозможно было заменить Изабеллу, как вино
- водой. Ведь мне нужна была не просто экономка или компаньонка для девочек,
а воплощение женской мудрости, нежности, строгости, терпимости и
здравомыслия. Бэсс ничем из вышеперечисленного не обладала.
Домоправительница она была довольно сносная и умело распоряжалась слугами,
но в роли матери была ниже всякой критики. Единственной ее заботой была
пошлейшая благопристойность, доводившая Анни до исступления, страсть, с
которой она настаивала на соблюдении нелепых мелочей, неизменно толкала
девочку на неповиновение. Она способна была проследить, чтобы дети были
чистенькими, аккуратными, чтобы, по крайней мере, внешне, не нарушался
распорядок, но этим все и ограничивалось. Необходимой умственной и духовной
пищи она им дать не могла, и меня ничуть не удивило, что очень скоро ее
прилипчивая манера стала вызывать у них раздражение и даже ненависть, мне и
самому она была настолько неприятна, что я взял за обыкновение завтракать в
своей комнате, лишь бы избежать ее общества в эту нежную пору дня. Дело
кончилось тем, что я попросил ее уехать, да-да, не обинуясь и удивляясь
собственной решительности, которой, как я полагал, не достает в моем
характере. Она уехала обиженная, а я ощутил угрызения совести и -
облегчение. Но тут же попал из огня да в полымя - без женщины в доме мне
было не обойтись и ничего не оставалось, кроме как - о ужас! - завести
гувернантку. Случалось ли вам, читатель, испытывать крайнюю нужду в услугах
такого рода? Если случалось, то вы знаете что тяжело приходится обеим
сторонам. Никто больше моего не сокрушается о бедных юных эксплуатируемых
девушках, но у меня болит душа и за хозяев, особенно когда они, подобно мне,
находятся в совершенно безвыходном положении. Всякий раз я вступал в
переговоры с венцом всех добродетелей - воплощением нежности и
разнообразнейших достоинств, - и всякий раз дело кончалось какой-нибудь
желтолицей фурией или того хуже: хорошенькой и совершенно несведущей
кокеткой. Да, верно, мне хотелось невозможного - я хотел, чтоб девушка была
миловидна, но не возмущала моего душевного покоя (если вы понимаете, что я
хочу сказать), чтобы она умела держаться неприметно, но приятно, чтобы она
была тверда без властности, чтобы она была весела, но не хохотушка и тому
подобное. Но я не отыскал такую, хотя одна или две были совсем не плохи.
После отъезда Бэсс у нас служила некая мисс Друри - дочь священника,
представившая прекрасные рекомендации, она продержалась полгода, пока не
стало ясно - мне и, думаю, ей тоже, что всем в доме заправляет Анни и так
продолжаться не может, после чего нам пришлось пройти через ужас ее
увольнения: слезы, смятение, молящие взгляды - и поиски ее заместительницы.
Как я обычно падал духом, ожидая очередного появления столь важной для нас
неведомой особы, которая волей-неволей должна была войти в нашу жизнь и без
которой мы предпочли бы обойтись; полагаю, что и ее мысли не составляли для
меня тайны. Мисс Друри сменилась некоей мисс Александер, которая была всем в
тягость, но лучше отвечала своему назначению, - главным ее недостатком была
неотвязность: она никогда не умела вовремя уйти и дать мне насладиться
обществом детей. Если я появлялся в классной и говорил, что мы идем сегодня
в театр, кто, как вы думаете, не дожидаясь приглашения, первым надевал
пальто? Мисс Александер, конечно же. Она был бестактна и присасывалась как
пиявка, но честно относилась к своим обязанностям, горела желанием как можно
лучше выполнить свой долг и прекрасно справлялась с обучением, поэтому мне
приходилось с ней мириться, особенно когда в доме хозяйничала ветрянка, а я
буквально утопал в работе. В конце концов, я так к ней притерпелся, что стал
бояться ее ухода, порой это случается: привычка делает вас мягче, сознание,
что дети хоть как-то наконец пристроены, приносит облегчение, и вы уже не
помните, что сия особа вам не по душе. Я неизменно наказывал девочкам расти
побыстрее, чтоб можно было обойтись без гувернанток, и угрожал им пансионом
всякий раз, когда какой-нибудь очередной контракт расстраивался и мы на
время оставались одни, не считая моей бабушки, которая довольно долго нами
правила и имела собственные, очень твердые представления о том, как это
следует делать. Я полагаю, чтобы покончить с настоящей темой, мне еще
придется к ней вернуться - эта проблема всегда маячила на горизонте - но
можете не сомневаться; я был все тот же и не влюбился под конец в одну из
гувернанток или что-нибудь такое.
Я спрашиваю себя, было ли то простое совпадение, что мои дети
соединились со мной в 1846 году, а "Ярмарка тщеславия" вышла с большим
успехом год спустя. Когда я переехал на улицу Янг и снова включился в
повседневную семейную жизнь, первые главы были уже закончены, но большую
часть романа я написал при них, и хочется думать, что моя новая счастливая
жизнь немало тому способствовала. Я не надеюсь, что вы со мною согласитесь,
и даже слышу, как вы говорите, что книга могла бы получиться лучше, не будь
я так опутан семейными обязанностями. Обязанности эти и в самом деле были
утомительны, но не из-за детей, а из-за того, что ведение дома без хозяйки
превращалось в бесконечную эквилибристику. Одно время мне казалось, что я
вышел из положения, пригласив к нам дальнюю родственницу Бэсс Хэммертон, но
эта затея провалилась, ею так же невозможно было заменить Изабеллу, как вино
- водой. Ведь мне нужна была не просто экономка или компаньонка для девочек,
а воплощение женской мудрости, нежности, строгости, терпимости и
здравомыслия. Бэсс ничем из вышеперечисленного не обладала.
Домоправительница она была довольно сносная и умело распоряжалась слугами,
но в роли матери была ниже всякой критики. Единственной ее заботой была
пошлейшая благопристойность, доводившая Анни до исступления, страсть, с
которой она настаивала на соблюдении нелепых мелочей, неизменно толкала
девочку на неповиновение. Она способна была проследить, чтобы дети были
чистенькими, аккуратными, чтобы, по крайней мере, внешне, не нарушался
распорядок, но этим все и ограничивалось. Необходимой умственной и духовной
пищи она им дать не могла, и меня ничуть не удивило, что очень скоро ее
прилипчивая манера стала вызывать у них раздражение и даже ненависть, мне и
самому она была настолько неприятна, что я взял за обыкновение завтракать в
своей комнате, лишь бы избежать ее общества в эту нежную пору дня. Дело
кончилось тем, что я попросил ее уехать, да-да, не обинуясь и удивляясь
собственной решительности, которой, как я полагал, не достает в моем
характере. Она уехала обиженная, а я ощутил угрызения совести и -
облегчение. Но тут же попал из огня да в полымя - без женщины в доме мне
было не обойтись и ничего не оставалось, кроме как - о ужас! - завести
гувернантку. Случалось ли вам, читатель, испытывать крайнюю нужду в услугах
такого рода? Если случалось, то вы знаете что тяжело приходится обеим
сторонам. Никто больше моего не сокрушается о бедных юных эксплуатируемых
девушках, но у меня болит душа и за хозяев, особенно когда они, подобно мне,
находятся в совершенно безвыходном положении. Всякий раз я вступал в
переговоры с венцом всех добродетелей - воплощением нежности и
разнообразнейших достоинств, - и всякий раз дело кончалось какой-нибудь
желтолицей фурией или того хуже: хорошенькой и совершенно несведущей
кокеткой. Да, верно, мне хотелось невозможного - я хотел, чтоб девушка была
миловидна, но не возмущала моего душевного покоя (если вы понимаете, что я
хочу сказать), чтобы она умела держаться неприметно, но приятно, чтобы она
была тверда без властности, чтобы она была весела, но не хохотушка и тому
подобное. Но я не отыскал такую, хотя одна или две были совсем не плохи.
После отъезда Бэсс у нас служила некая мисс Друри - дочь священника,
представившая прекрасные рекомендации, она продержалась полгода, пока не
стало ясно - мне и, думаю, ей тоже, что всем в доме заправляет Анни и так
продолжаться не может, после чего нам пришлось пройти через ужас ее
увольнения: слезы, смятение, молящие взгляды - и поиски ее заместительницы.
Как я обычно падал духом, ожидая очередного появления столь важной для нас
неведомой особы, которая волей-неволей должна была войти в нашу жизнь и без
которой мы предпочли бы обойтись; полагаю, что и ее мысли не составляли для
меня тайны. Мисс Друри сменилась некоей мисс Александер, которая была всем в
тягость, но лучше отвечала своему назначению, - главным ее недостатком была
неотвязность: она никогда не умела вовремя уйти и дать мне насладиться
обществом детей. Если я появлялся в классной и говорил, что мы идем сегодня
в театр, кто, как вы думаете, не дожидаясь приглашения, первым надевал
пальто? Мисс Александер, конечно же. Она был бестактна и присасывалась как
пиявка, но честно относилась к своим обязанностям, горела желанием как можно
лучше выполнить свой долг и прекрасно справлялась с обучением, поэтому мне
приходилось с ней мириться, особенно когда в доме хозяйничала ветрянка, а я
буквально утопал в работе. В конце концов, я так к ней притерпелся, что стал
бояться ее ухода, порой это случается: привычка делает вас мягче, сознание,
что дети хоть как-то наконец пристроены, приносит облегчение, и вы уже не
помните, что сия особа вам не по душе. Я неизменно наказывал девочкам расти
побыстрее, чтоб можно было обойтись без гувернанток, и угрожал им пансионом
всякий раз, когда какой-нибудь очередной контракт расстраивался и мы на
время оставались одни, не считая моей бабушки, которая довольно долго нами
правила и имела собственные, очень твердые представления о том, как это
следует делать. Я полагаю, чтобы покончить с настоящей темой, мне еще
придется к ней вернуться - эта проблема всегда маячила на горизонте - но
можете не сомневаться; я был все тот же и не влюбился под конец в одну из
гувернанток или что-нибудь такое.
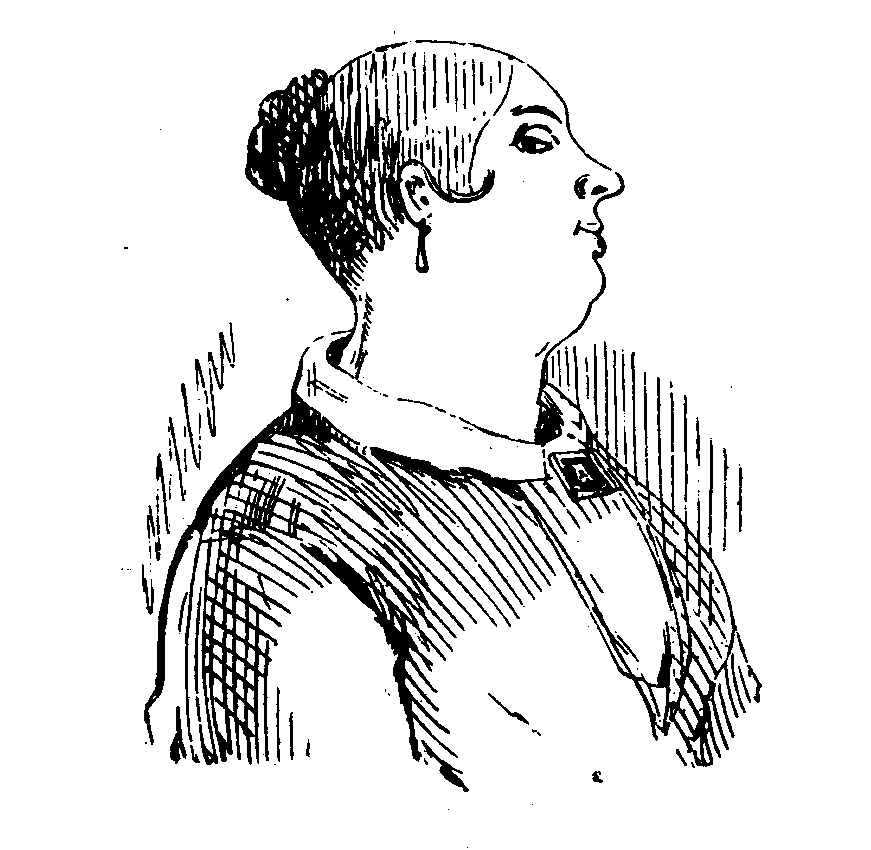 Но я действительно влюбился, и не упомяни я здесь об этом, рассказ мой
оказался бы неполон. (Хочу напомнить вам: я, безусловно, намерен быть
правдивым, но не за чужой счет, я не желаю оскорблять оказанного мне
доверия.) Интересно, что будут говорить о нас с Джейн Брукфилд после нашей
смерти? Возможно, ничего, и эта печальная история будет погребена навеки,
как ей и надлежит, но как бы мне того ни хотелось, я не могу обойти ее
молчанием. Ничто не причинило мне такого горя, не исключая болезни Изабеллы
и смерти ребенка, как мое чувство к Джейн. Оно терзало меня долгие годы, но
и тогда, когда в конце концов угасло и перешло в тупую боль, а после - в
ощущение пустоты, я не забыл и не простил того, как со мной обошлись. Вы
недоумеваете - что, черт побери, все это значит? Что он пытается сказать?
Что это за любовь такая, доставившая столько огорчений?
В подобных случаях невероятно трудно дается откровенность. Окажись я
снова на улицу Янг в 1847 году, я бы легко, с улыбкой представил вам своего
друга Джейн Брукфилд, жену моего давнишнего кембриджского приятеля Уильяма
Брукфилда. И сделал бы это с гордостью и совершенно открыто - вот, сказал бы
я, обворожительная леди, которой я восхищаюсь больше всех на свете, вот
добрая, благородная женщина, которую мои девочки обожают и, полагаю, будут
обожать и впредь, вот богиня, которой я ежедневно поклоняюсь, и я сказал бы
все это в присутствии ее мужа. Вы удивляетесь, вы думаете, что я ввожу вас в
заблуждение? Нет, ничего похожего, но история моей любви к Джейн непроста.
Трудно быть откровенным, еще труднее вообще заговорить на эту тему. Начнем
лучше с Уильяма, потому что все и впрямь началось с него. Уильям был
священником, но не столько по собственному выбору, сколько потому, что при
его больших талантах и малых доходах то был единственный способ продвинуться
в жизни. Наша дружба возобновилась, когда я вернулся в Лондон после болезни
Изабеллы. Он был викарием церкви св. Иакова на Пиккадилли, и, поскольку я
был все равно что холост, общались мы по большей части в доме Уильяма. Он
убеждал меня считать его дом своим, всегда приглашал заходить, уговаривал
остаться, вышучивал мою нерешительность, когда я появлялся неожиданно. Вряд
ли я ошибаюсь, подчеркивая его радушие и настойчивое гостеприимство, я не
раз задумывался, не толкую ли я превратно эту историю, но нет, здесь нет
ошибки; я не втирался к ним в доверие, не навязывал им своего общества, и
Брукфилды, несомненно, подтвердили бы мои слова. Мы дружили, мы любили друг
друга - стоило ли этого стыдиться? Я никогда не виделся с Джейн иначе, как в
присутствии Уильяма, ни разу не сделал ей комплимента, которого бы не слышал
ее муж, и мне казалось, он радовался похвалам не меньше, чем она. В наших
отношениях не было ничего дурного, пока их не испортили другие. У нас все
было общее: вкусы, друзья, развлечения, и мы, естественно, встречались чуть
не каждый день и переписывались, если не встречались. Я, со своей стороны, и
на мгновение не допускал мысли, что должен чего-то остерегаться, ибо никогда
не заглядывал в будущее, но если б и заглядывал, то думал бы, что все так
будет продолжаться вечно. По-вашему, глупо? Вы улыбаетесь насмешливо и
недоверчиво или посмеиваетесь над моей наивностью? Что ж, - я был наивен, я
и сейчас таков: я знаю, что совершенно честен, женат, что я отец семейства и
не испытываю угрызений совести. Мне никогда не приходило в голову рассуждать
следующим образом: жена моего друга прекрасна и я люблю ее, эта любовь может
перерасти в неудержимую страсть, и если ей придется выбирать, она, возможно,
предпочтет его и отвергнет меня, тогда я буду неутешен, и лучше мне с ними
не знаться. Я, как и вы, так не живу и убежден, что поступаю правильно.
Суть же заключалась в том, что мне нужна была такая Джейн Брукфилд. Я
всегда любил женское общество, от души восхищался прекрасным полом и не мог
существовать, если не оказывался рядом с какой-нибудь нежной, миловидной
юной особой хотя бы на час в день. Вы знаете, как я тосковал о жене, не
стоит возвращаться к этой теме, но вы не знаете, как мне было трудно
свыкнуться с мыслью, что я отныне буду навсегда лишен женского общества лишь
оттого, что у меня нет жены. О, я видел множество женщин, кружась в светском
вихре, переходя с приема на прием, с обеда на обед, но говорю я не о них -
мне не хватало женского общества в домашнем кругу. И Джейн Брукфилд
восполняла мне его. По вечерам она садилась за рояль, играла и пела для нас
с Уильямом, разливала чай перед камином, занимала непринужденным разговором,
на который женщины такие мастерицы. Мне нравилось ей прекословить, чтоб
наблюдать, как легкий румянец окрашивает ее щеки, и слушать, как она пылко
протестует, считая свои слова необычайно резкими, хотя на самом деле они
были мягки и нежны, как музыка. Но Джейн отнюдь не была кроткой и
уступчивой, о нет - у нее был острый ум, которым я восхищался. Впервые я мог
говорить с женщиной свободно и на равных на любую занимавшую меня тему, и
для меня было открытием, как животворно это действовало. Ведь с Изабеллой,
если вы помните, я ничего похожего не знал - возможно, по своей вине. Джейн
была совсем другая - ее таланты гибли дома.
Мне представлялось, что на ее примере я видел трагическую участь
женщины, обреченной в нашем обществе на бесцветное прозябание, тогда как ее
ум, а может быть, и честолюбие не уступали мужскому, хоть не были направлены
в определенное русло. Она никогда не выражала вслух своей горечи или
неудовлетворенности, но я прекрасно видел, что она живет как в мышеловке и
мучительно жаждет свободы. Детей у нее в то время не было, а бездетная
женщина, я думаю, еще острее сознает, что природа ее обделяет и что она
проводит дни противно своему творческому духу. У Джейн был муж и приятная
жизнь, но этого ей было мало - ее ум нуждался в пище, и я стремился всей
душой дать ей такую пищу. Я возвел ее на пьедестал, ставил ее в пример Анни
и Минни, писал все лучшее с мыслями о ней, и мне казалось, что Уильям
поощряет меня и радуется восхищению, которое мне внушает его жена. Мы стали
так близки, что Джейн порой заботилась о девочках, как мать, и это было так
удачно: у нее не было детей, и ей хотелось их иметь, а у них не было матери,
и им ее тоже очень недоставало. Обе стороны только и желали, что приносить
взаимную пользу и любить друг друга, и всем нам виделась в таком союзе лишь
удача. Редкий день мы не встречались, и если уже тогда, на заре нашей
дружбы, люди нас провожали недобрыми взглядами и шушукались за нашими
спинами, я этого не замечал.
Но я действительно влюбился, и не упомяни я здесь об этом, рассказ мой
оказался бы неполон. (Хочу напомнить вам: я, безусловно, намерен быть
правдивым, но не за чужой счет, я не желаю оскорблять оказанного мне
доверия.) Интересно, что будут говорить о нас с Джейн Брукфилд после нашей
смерти? Возможно, ничего, и эта печальная история будет погребена навеки,
как ей и надлежит, но как бы мне того ни хотелось, я не могу обойти ее
молчанием. Ничто не причинило мне такого горя, не исключая болезни Изабеллы
и смерти ребенка, как мое чувство к Джейн. Оно терзало меня долгие годы, но
и тогда, когда в конце концов угасло и перешло в тупую боль, а после - в
ощущение пустоты, я не забыл и не простил того, как со мной обошлись. Вы
недоумеваете - что, черт побери, все это значит? Что он пытается сказать?
Что это за любовь такая, доставившая столько огорчений?
В подобных случаях невероятно трудно дается откровенность. Окажись я
снова на улицу Янг в 1847 году, я бы легко, с улыбкой представил вам своего
друга Джейн Брукфилд, жену моего давнишнего кембриджского приятеля Уильяма
Брукфилда. И сделал бы это с гордостью и совершенно открыто - вот, сказал бы
я, обворожительная леди, которой я восхищаюсь больше всех на свете, вот
добрая, благородная женщина, которую мои девочки обожают и, полагаю, будут
обожать и впредь, вот богиня, которой я ежедневно поклоняюсь, и я сказал бы
все это в присутствии ее мужа. Вы удивляетесь, вы думаете, что я ввожу вас в
заблуждение? Нет, ничего похожего, но история моей любви к Джейн непроста.
Трудно быть откровенным, еще труднее вообще заговорить на эту тему. Начнем
лучше с Уильяма, потому что все и впрямь началось с него. Уильям был
священником, но не столько по собственному выбору, сколько потому, что при
его больших талантах и малых доходах то был единственный способ продвинуться
в жизни. Наша дружба возобновилась, когда я вернулся в Лондон после болезни
Изабеллы. Он был викарием церкви св. Иакова на Пиккадилли, и, поскольку я
был все равно что холост, общались мы по большей части в доме Уильяма. Он
убеждал меня считать его дом своим, всегда приглашал заходить, уговаривал
остаться, вышучивал мою нерешительность, когда я появлялся неожиданно. Вряд
ли я ошибаюсь, подчеркивая его радушие и настойчивое гостеприимство, я не
раз задумывался, не толкую ли я превратно эту историю, но нет, здесь нет
ошибки; я не втирался к ним в доверие, не навязывал им своего общества, и
Брукфилды, несомненно, подтвердили бы мои слова. Мы дружили, мы любили друг
друга - стоило ли этого стыдиться? Я никогда не виделся с Джейн иначе, как в
присутствии Уильяма, ни разу не сделал ей комплимента, которого бы не слышал
ее муж, и мне казалось, он радовался похвалам не меньше, чем она. В наших
отношениях не было ничего дурного, пока их не испортили другие. У нас все
было общее: вкусы, друзья, развлечения, и мы, естественно, встречались чуть
не каждый день и переписывались, если не встречались. Я, со своей стороны, и
на мгновение не допускал мысли, что должен чего-то остерегаться, ибо никогда
не заглядывал в будущее, но если б и заглядывал, то думал бы, что все так
будет продолжаться вечно. По-вашему, глупо? Вы улыбаетесь насмешливо и
недоверчиво или посмеиваетесь над моей наивностью? Что ж, - я был наивен, я
и сейчас таков: я знаю, что совершенно честен, женат, что я отец семейства и
не испытываю угрызений совести. Мне никогда не приходило в голову рассуждать
следующим образом: жена моего друга прекрасна и я люблю ее, эта любовь может
перерасти в неудержимую страсть, и если ей придется выбирать, она, возможно,
предпочтет его и отвергнет меня, тогда я буду неутешен, и лучше мне с ними
не знаться. Я, как и вы, так не живу и убежден, что поступаю правильно.
Суть же заключалась в том, что мне нужна была такая Джейн Брукфилд. Я
всегда любил женское общество, от души восхищался прекрасным полом и не мог
существовать, если не оказывался рядом с какой-нибудь нежной, миловидной
юной особой хотя бы на час в день. Вы знаете, как я тосковал о жене, не
стоит возвращаться к этой теме, но вы не знаете, как мне было трудно
свыкнуться с мыслью, что я отныне буду навсегда лишен женского общества лишь
оттого, что у меня нет жены. О, я видел множество женщин, кружась в светском
вихре, переходя с приема на прием, с обеда на обед, но говорю я не о них -
мне не хватало женского общества в домашнем кругу. И Джейн Брукфилд
восполняла мне его. По вечерам она садилась за рояль, играла и пела для нас
с Уильямом, разливала чай перед камином, занимала непринужденным разговором,
на который женщины такие мастерицы. Мне нравилось ей прекословить, чтоб
наблюдать, как легкий румянец окрашивает ее щеки, и слушать, как она пылко
протестует, считая свои слова необычайно резкими, хотя на самом деле они
были мягки и нежны, как музыка. Но Джейн отнюдь не была кроткой и
уступчивой, о нет - у нее был острый ум, которым я восхищался. Впервые я мог
говорить с женщиной свободно и на равных на любую занимавшую меня тему, и
для меня было открытием, как животворно это действовало. Ведь с Изабеллой,
если вы помните, я ничего похожего не знал - возможно, по своей вине. Джейн
была совсем другая - ее таланты гибли дома.
Мне представлялось, что на ее примере я видел трагическую участь
женщины, обреченной в нашем обществе на бесцветное прозябание, тогда как ее
ум, а может быть, и честолюбие не уступали мужскому, хоть не были направлены
в определенное русло. Она никогда не выражала вслух своей горечи или
неудовлетворенности, но я прекрасно видел, что она живет как в мышеловке и
мучительно жаждет свободы. Детей у нее в то время не было, а бездетная
женщина, я думаю, еще острее сознает, что природа ее обделяет и что она
проводит дни противно своему творческому духу. У Джейн был муж и приятная
жизнь, но этого ей было мало - ее ум нуждался в пище, и я стремился всей
душой дать ей такую пищу. Я возвел ее на пьедестал, ставил ее в пример Анни
и Минни, писал все лучшее с мыслями о ней, и мне казалось, что Уильям
поощряет меня и радуется восхищению, которое мне внушает его жена. Мы стали
так близки, что Джейн порой заботилась о девочках, как мать, и это было так
удачно: у нее не было детей, и ей хотелось их иметь, а у них не было матери,
и им ее тоже очень недоставало. Обе стороны только и желали, что приносить
взаимную пользу и любить друг друга, и всем нам виделась в таком союзе лишь
удача. Редкий день мы не встречались, и если уже тогда, на заре нашей
дружбы, люди нас провожали недобрыми взглядами и шушукались за нашими
спинами, я этого не замечал.
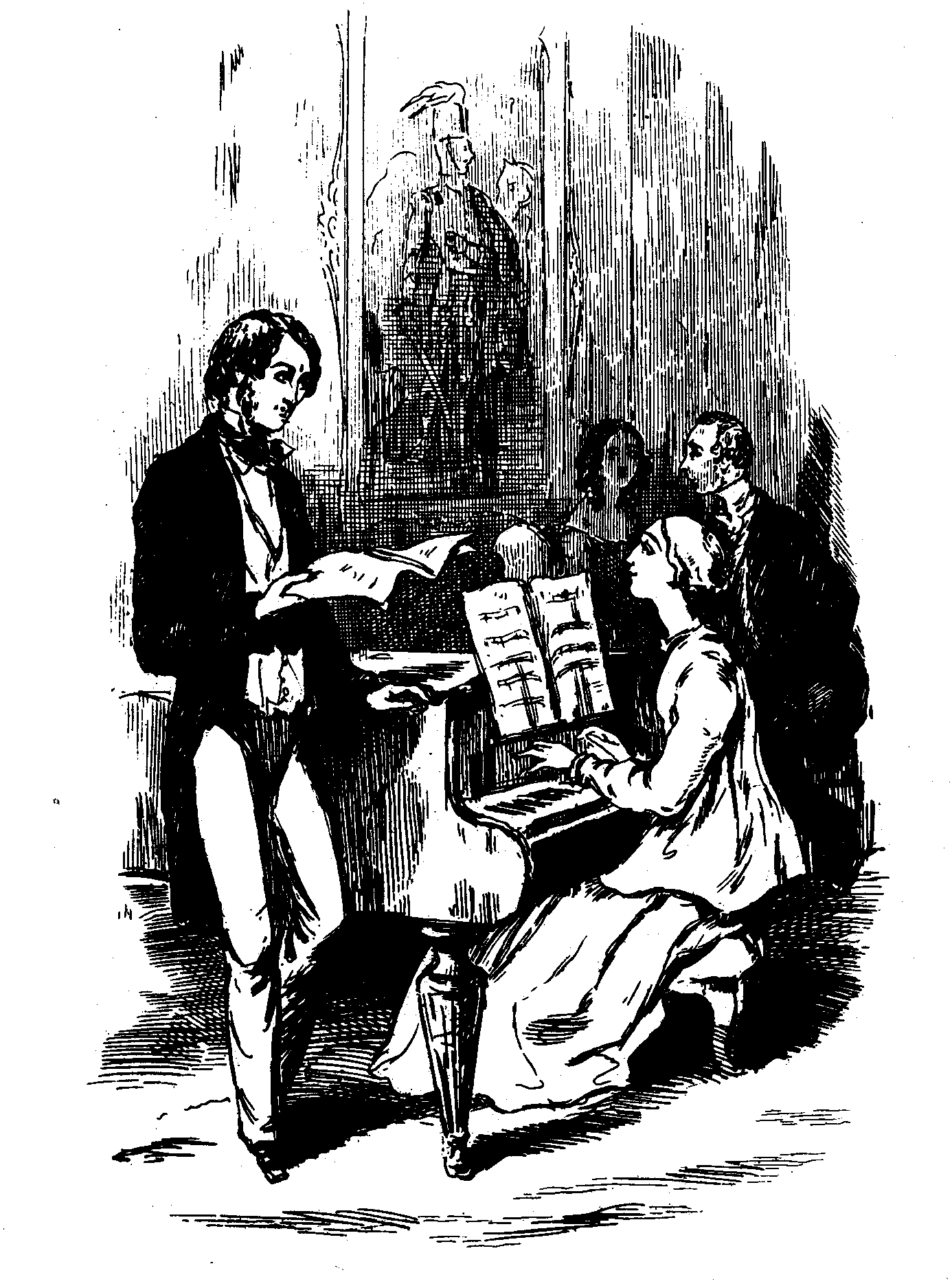 Вам может показаться, что я уклонился от своего рассказа, устроил по
дороге ненужный, искусственный привал, однако, введя эти развернутые скобки,
я приближаюсь к сути дела. Сейчас я подхожу, как вам известно, к своему
великому успеху, вот-вот на крыльях "Ярмарки тщеславия" я подымусь на
верхнюю ступеньку славы и тотчас прослыву невероятным снобом, поэтому мне
нужно показать вам, как твердо я стоял на почве семейной жизни и как чужд
был чванства, не совместимого с моими тогдашними заботами. Я мог отправиться
куда угодно - довольно было поманить меня, я вхож был всюду, ибо
великосветское общество интересовало меня ничуть не меньше всякого другого,
но неизменно возвращался домой, к двум маленьким девочкам, которые спускали
меня с небес на землю, - ведь им хотелось, чтобы я применялся к нуждам их
возраста. Мог ли я похваляться своими успехами перед двумя парами очень
серьезных глаз, владелицам которых не терпелось мне поведать, что с ними
сегодня произошло в саду? И мог ли я считать блестящий бал пределом всех
мечтаний, если совсем недавно вернулся с дочками из зоопарка и убедился, что
лучше этого нет ничего на свете? Нет, семейная жизнь спасала меня от
головокружения, что бы ни говорили обо мне другие. Изабелла всегда боялась,
что похвалы меня испортят, но она напрасно беспокоилась: где я ни бывал, я
ежедневно просил бога о том, чтоб он помог мне оправдать надежды двух
маленьких, во всем полагавшихся на меня девочек. Когда я пресыщался
черепаховым супом и шампанским, я отправлялся домой, где меня ждал обед из
баранины и две бесхитростные собеседницы, готовые прощебетать мне уши. Мысли
о них не оставляли меня ни в каком обществе, и пока два моих ангела меня
хранили, я не боялся Ярмарки Тщеславия. Не забывайте, что судьба мудро
готовила меня к успеху: разве я не провел четырнадцать лет в пустыне,
дожидаясь его прихода, разве не был закален разочарованиями, разве не знал
ему истинную цену. О мудрая судьба, так вышколившая своего слугу!
Вам может показаться, что я уклонился от своего рассказа, устроил по
дороге ненужный, искусственный привал, однако, введя эти развернутые скобки,
я приближаюсь к сути дела. Сейчас я подхожу, как вам известно, к своему
великому успеху, вот-вот на крыльях "Ярмарки тщеславия" я подымусь на
верхнюю ступеньку славы и тотчас прослыву невероятным снобом, поэтому мне
нужно показать вам, как твердо я стоял на почве семейной жизни и как чужд
был чванства, не совместимого с моими тогдашними заботами. Я мог отправиться
куда угодно - довольно было поманить меня, я вхож был всюду, ибо
великосветское общество интересовало меня ничуть не меньше всякого другого,
но неизменно возвращался домой, к двум маленьким девочкам, которые спускали
меня с небес на землю, - ведь им хотелось, чтобы я применялся к нуждам их
возраста. Мог ли я похваляться своими успехами перед двумя парами очень
серьезных глаз, владелицам которых не терпелось мне поведать, что с ними
сегодня произошло в саду? И мог ли я считать блестящий бал пределом всех
мечтаний, если совсем недавно вернулся с дочками из зоопарка и убедился, что
лучше этого нет ничего на свете? Нет, семейная жизнь спасала меня от
головокружения, что бы ни говорили обо мне другие. Изабелла всегда боялась,
что похвалы меня испортят, но она напрасно беспокоилась: где я ни бывал, я
ежедневно просил бога о том, чтоб он помог мне оправдать надежды двух
маленьких, во всем полагавшихся на меня девочек. Когда я пресыщался
черепаховым супом и шампанским, я отправлялся домой, где меня ждал обед из
баранины и две бесхитростные собеседницы, готовые прощебетать мне уши. Мысли
о них не оставляли меня ни в каком обществе, и пока два моих ангела меня
хранили, я не боялся Ярмарки Тщеславия. Не забывайте, что судьба мудро
готовила меня к успеху: разве я не провел четырнадцать лет в пустыне,
дожидаясь его прихода, разве не был закален разочарованиями, разве не знал
ему истинную цену. О мудрая судьба, так вышколившая своего слугу!
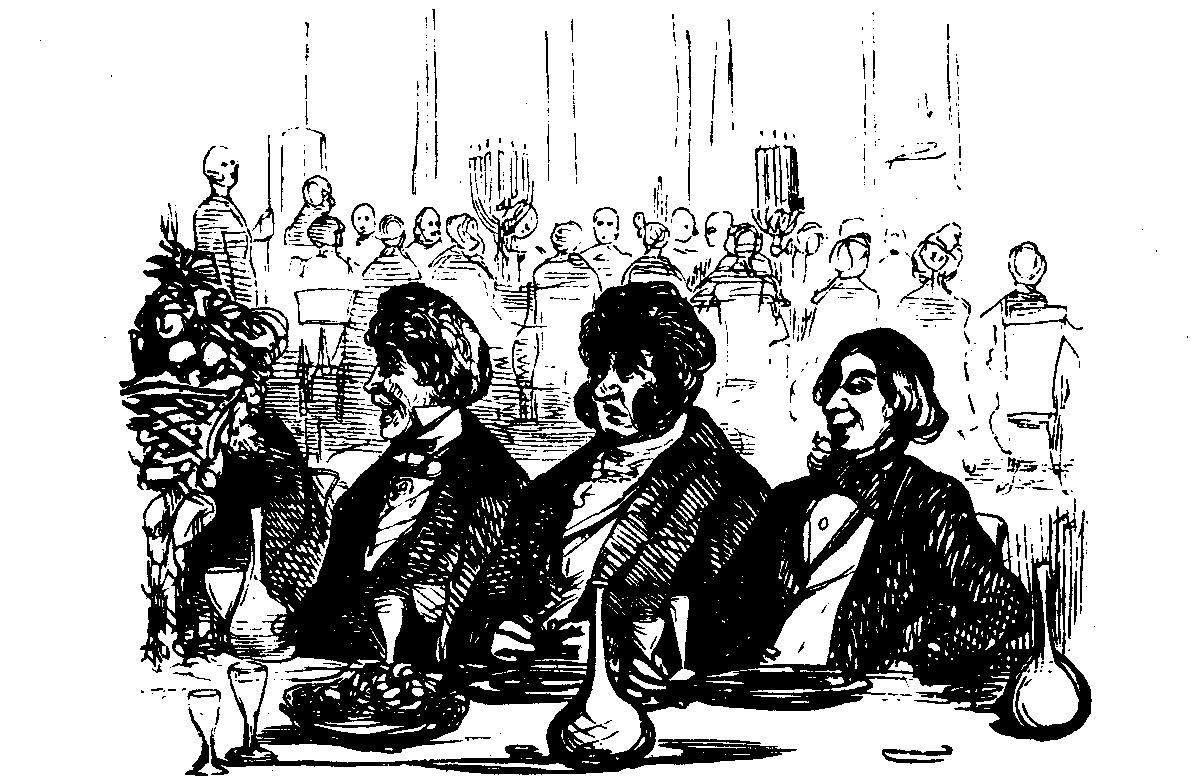 Никто не знал лучше меня, что успех, выпадающий на долю книги, зависит
от целого ряда обстоятельств, совершенно не связанных с ее содержанием. Не
стоит рассчитывать, что вам удастся возбудить к своему детищу горячий
интерес и что публика его полюбит и раскупит, это дело неверное, в нем много
всяких "но" и "если". Секрет бестселлеров не разгадать, я знаю это на
собственном горьком опыте, и если бы писать их было просто как дважды два,
не думаете ли вы, что их бы фабриковали миллионами? Когда в 1847 году
"Ярмарка тщеславия" стала выходить в желтых обложках "Панча", я ощутил
великую растерянность - не знал, как держаться. С одной стороны, мне
хотелось рекламы, шума, анонсов и тому подобного, я даже написал кое-кому из
влиятельных друзей, прося о снисхождении и поддержке, с другой стороны, я
сомневался, что шум пойдет на пользу делу, и стал мечтать, чтоб все
разыгрывалось тихо и книга сама собою набирала силу. И вовсе не потому, что
во мне заговорило самолюбие, хотя не обошлось и без него, просто я
интуитивно чувствовал, что публика не любит, когда ей навязывают товар, и
лучше молчать, чем кричать. Рискованно было и то, и другое - и шумиха, и
безмолвие, но с этим ничего нельзя было поделать, поэтому я спокойно ждал и
уповал на лучшее. Отчасти меня поддерживало то, что моя рождественская
повесть "Бал у миссис Перкинс" не так давно прекрасно разошлась - всего на
20000 экземпляров меньше Диккенса. Имя мое приобрело известность, и я
надеялся, что этот маленький успех поможет и моей большой книге и привлечет,
по крайней мере, тот же круг читателей.
Если вы думаете, что в день, когда вышел первый отрывок "Ярмарки
тщеславия", люди танцевали на улицах и кричали "Ура Теккерею!", вы очень
ошибаетесь. Те несколько месяцев, пока я сидел дома и молился о чуде, ничего
вообще не происходило. Возможно, дело в том, что в первых главах нет ничего
особенного, а, может быть, нужно опубликовать несколько выпусков романа,
выходящего по частям, прежде чем кто-нибудь решится высказаться, но какова
бы ни была причина, прошла добрая часть лета, прежде чем я с величайшей
осторожностью позволил себе предположить, что добился успеха. Но даже тогда
то был скорей триумф у критиков, чем денежный успех, и меня это сердило:
приятно, ничего не скажешь, когда тебя одобрительно хлопают по плечу, но мне
гораздо больше нужна была монета в руки. Однако дружного взрыва
приветственных аплодисментов не последовало, и тогда, правда, мне стали
наперебой делать комплименты, особенно дамы, да-да, в самом деле, началось с
дам, благослови их господи, а после повысились и гонорары, но очень
постепенно, так что я стал подумывать, что книга принесла мне что угодно, но
не деньги, однако если я и мечтал о чем-нибудь, кроме хорошей прессы и
признания, так это, поверьте, о чистогане - о грудах чистогана, чтобы
раздать долги. Хотя я был не так беден, как прежде, в ту пору я себе
позволил неосторожную биржевую спекуляцию железнодорожными акциями и очень
сильно прогорел, и вот по этой низменной причине - если, конечно, считать,
что деньги - дело низменное, чего мне не кажется, - я, затаив дыхание,
следил за судьбой "Ярмарки тщеславия". И все же я не был уверен в успехе,
пока в июльском номере "Атенеума" не прочитал объявление:
Новое произведение Микел Анджело Титмарша
цена сегодняшнего номера - 1 шиллинг;
VII часть "Ярмарки тщеславия",
с многочисленными гравюрами на стали и дереве
Картины английского общества
выполненные пером и карандашом!
У. М. Теккерей,
автор "Бала у миссис Перкинс" и проч.
Не так ли поступают все издатели - начинают рекламировать книгу,
которая уже снискала популярность. Я никогда не мог их понять, вечно они
трезвонят на каждом перекрестке о том, что и без них все знают. Но коль
скоро это объявление вышло, мне стало ясно, что можно, наконец, разжать
суеверно скрещенные пальцы и радоваться аплодисментам, если, конечно, у меня
найдется для этого время - ведь надлежало ежемесячно представить очередной
отрывок. Стараясь уложиться в крайний срок, я к середине месяца превращался
в одержимого и клялся, что в следующий раз напишу два отрывка заранее, чтобы
не знать гнетущего страха не добраться до конца главы, но ничего из этого не
получалось. Я никогда не мог преодолеть себя и каждый месяц боролся не на
жизнь, а на смерть, то и дело выныривая на поверхность, чтобы набрать
воздуха в легкие и тотчас снова погрузиться в водоворот работы. Когда я
перелистывал готовые страницы, я удивлялся осмысленности написанных мной
слов, - казалось, я бросал их на бумагу как попало. Меня не покидало
ощущение неразберихи и смятения, однако из неразберихи выходило - решусь ли
выговорить? - гениальное творение. Я не гений и отлично это знаю, но при
всей моей скромности не могу не поражаться тому, что "Ярмарка тщеславия"
превышает средний уровень, - возможно, я писал ее, переродившись временно и
перепутав смятение и вдохновение. Наверное, я себя переоцениваю, но одно я
знаю твердо: с тех пор я больше никогда не ощущал смятения и, кроме скуки,
ничего не подавлял, когда я писал другие книги, мешало мне не умопомрачение,
а только лень, и больше никогда меня не увлекал могучий внутренний порыв,
как было с "Ярмаркой тщеславия". Ужасно ли мое признание? Ужасно или нет,
но, безусловно, грустно - грустно сознавать, что все те миллионы слов,
которые я написал с тех пор, почти ничего не прибавили к итогу "Ярмарки
тщеславия". Мой первый роман оказался самым лучшим, несравненно лучше
остальных, правда, я не теряю надежды, что будущие поколения оценят
"Эсмонда" вернее современников. Признаюсь, меня не покидают тревога и
недоумение: отчего я больше никогда не мог приблизиться к искусству своего
первого романа, а Диккенс непрестанно затмевает сам себя?
Никто не знал лучше меня, что успех, выпадающий на долю книги, зависит
от целого ряда обстоятельств, совершенно не связанных с ее содержанием. Не
стоит рассчитывать, что вам удастся возбудить к своему детищу горячий
интерес и что публика его полюбит и раскупит, это дело неверное, в нем много
всяких "но" и "если". Секрет бестселлеров не разгадать, я знаю это на
собственном горьком опыте, и если бы писать их было просто как дважды два,
не думаете ли вы, что их бы фабриковали миллионами? Когда в 1847 году
"Ярмарка тщеславия" стала выходить в желтых обложках "Панча", я ощутил
великую растерянность - не знал, как держаться. С одной стороны, мне
хотелось рекламы, шума, анонсов и тому подобного, я даже написал кое-кому из
влиятельных друзей, прося о снисхождении и поддержке, с другой стороны, я
сомневался, что шум пойдет на пользу делу, и стал мечтать, чтоб все
разыгрывалось тихо и книга сама собою набирала силу. И вовсе не потому, что
во мне заговорило самолюбие, хотя не обошлось и без него, просто я
интуитивно чувствовал, что публика не любит, когда ей навязывают товар, и
лучше молчать, чем кричать. Рискованно было и то, и другое - и шумиха, и
безмолвие, но с этим ничего нельзя было поделать, поэтому я спокойно ждал и
уповал на лучшее. Отчасти меня поддерживало то, что моя рождественская
повесть "Бал у миссис Перкинс" не так давно прекрасно разошлась - всего на
20000 экземпляров меньше Диккенса. Имя мое приобрело известность, и я
надеялся, что этот маленький успех поможет и моей большой книге и привлечет,
по крайней мере, тот же круг читателей.
Если вы думаете, что в день, когда вышел первый отрывок "Ярмарки
тщеславия", люди танцевали на улицах и кричали "Ура Теккерею!", вы очень
ошибаетесь. Те несколько месяцев, пока я сидел дома и молился о чуде, ничего
вообще не происходило. Возможно, дело в том, что в первых главах нет ничего
особенного, а, может быть, нужно опубликовать несколько выпусков романа,
выходящего по частям, прежде чем кто-нибудь решится высказаться, но какова
бы ни была причина, прошла добрая часть лета, прежде чем я с величайшей
осторожностью позволил себе предположить, что добился успеха. Но даже тогда
то был скорей триумф у критиков, чем денежный успех, и меня это сердило:
приятно, ничего не скажешь, когда тебя одобрительно хлопают по плечу, но мне
гораздо больше нужна была монета в руки. Однако дружного взрыва
приветственных аплодисментов не последовало, и тогда, правда, мне стали
наперебой делать комплименты, особенно дамы, да-да, в самом деле, началось с
дам, благослови их господи, а после повысились и гонорары, но очень
постепенно, так что я стал подумывать, что книга принесла мне что угодно, но
не деньги, однако если я и мечтал о чем-нибудь, кроме хорошей прессы и
признания, так это, поверьте, о чистогане - о грудах чистогана, чтобы
раздать долги. Хотя я был не так беден, как прежде, в ту пору я себе
позволил неосторожную биржевую спекуляцию железнодорожными акциями и очень
сильно прогорел, и вот по этой низменной причине - если, конечно, считать,
что деньги - дело низменное, чего мне не кажется, - я, затаив дыхание,
следил за судьбой "Ярмарки тщеславия". И все же я не был уверен в успехе,
пока в июльском номере "Атенеума" не прочитал объявление:
Новое произведение Микел Анджело Титмарша
цена сегодняшнего номера - 1 шиллинг;
VII часть "Ярмарки тщеславия",
с многочисленными гравюрами на стали и дереве
Картины английского общества
выполненные пером и карандашом!
У. М. Теккерей,
автор "Бала у миссис Перкинс" и проч.
Не так ли поступают все издатели - начинают рекламировать книгу,
которая уже снискала популярность. Я никогда не мог их понять, вечно они
трезвонят на каждом перекрестке о том, что и без них все знают. Но коль
скоро это объявление вышло, мне стало ясно, что можно, наконец, разжать
суеверно скрещенные пальцы и радоваться аплодисментам, если, конечно, у меня
найдется для этого время - ведь надлежало ежемесячно представить очередной
отрывок. Стараясь уложиться в крайний срок, я к середине месяца превращался
в одержимого и клялся, что в следующий раз напишу два отрывка заранее, чтобы
не знать гнетущего страха не добраться до конца главы, но ничего из этого не
получалось. Я никогда не мог преодолеть себя и каждый месяц боролся не на
жизнь, а на смерть, то и дело выныривая на поверхность, чтобы набрать
воздуха в легкие и тотчас снова погрузиться в водоворот работы. Когда я
перелистывал готовые страницы, я удивлялся осмысленности написанных мной
слов, - казалось, я бросал их на бумагу как попало. Меня не покидало
ощущение неразберихи и смятения, однако из неразберихи выходило - решусь ли
выговорить? - гениальное творение. Я не гений и отлично это знаю, но при
всей моей скромности не могу не поражаться тому, что "Ярмарка тщеславия"
превышает средний уровень, - возможно, я писал ее, переродившись временно и
перепутав смятение и вдохновение. Наверное, я себя переоцениваю, но одно я
знаю твердо: с тех пор я больше никогда не ощущал смятения и, кроме скуки,
ничего не подавлял, когда я писал другие книги, мешало мне не умопомрачение,
а только лень, и больше никогда меня не увлекал могучий внутренний порыв,
как было с "Ярмаркой тщеславия". Ужасно ли мое признание? Ужасно или нет,
но, безусловно, грустно - грустно сознавать, что все те миллионы слов,
которые я написал с тех пор, почти ничего не прибавили к итогу "Ярмарки
тщеславия". Мой первый роман оказался самым лучшим, несравненно лучше
остальных, правда, я не теряю надежды, что будущие поколения оценят
"Эсмонда" вернее современников. Признаюсь, меня не покидают тревога и
недоумение: отчего я больше никогда не мог приблизиться к искусству своего
первого романа, а Диккенс непрестанно затмевает сам себя?
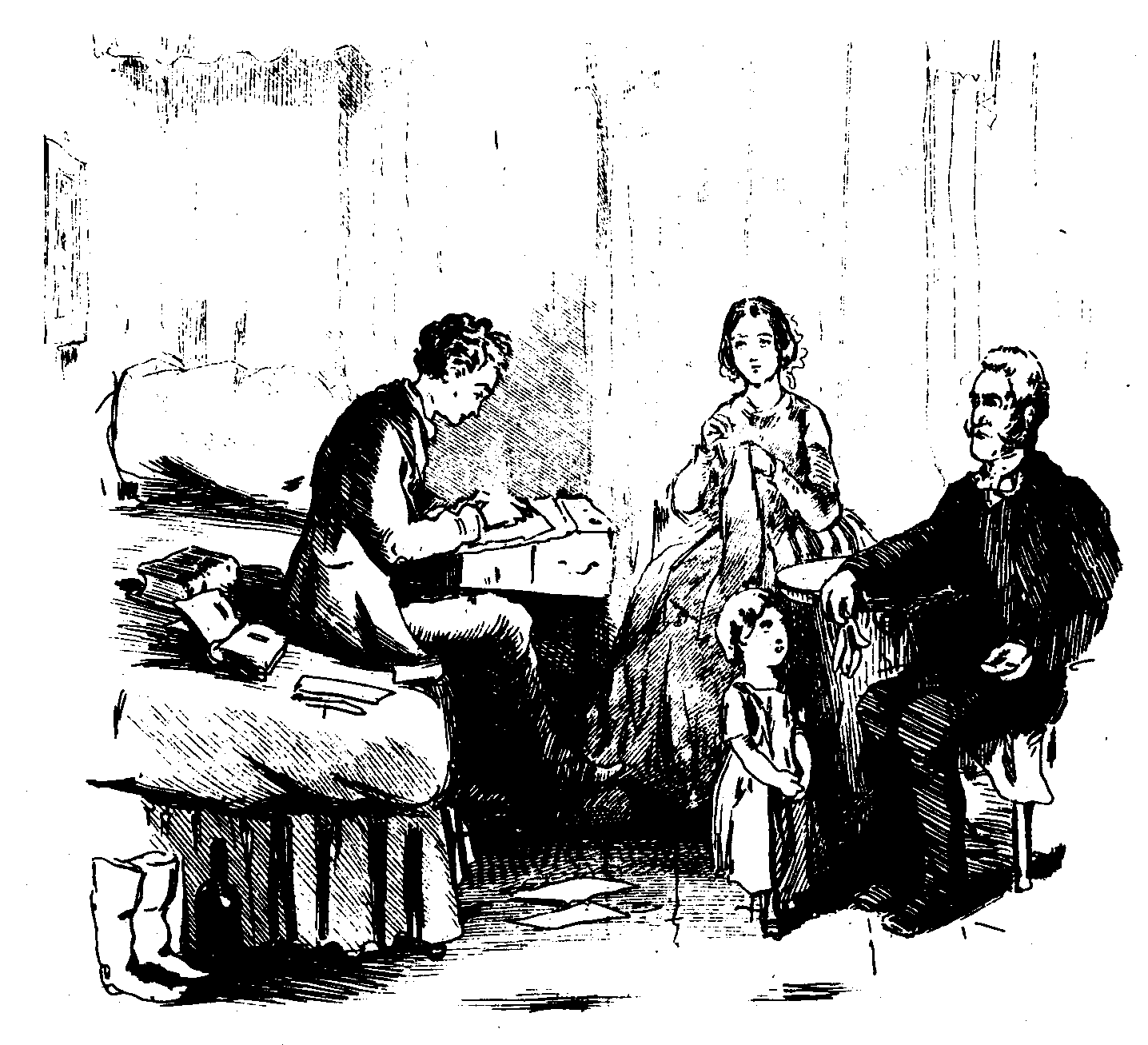 Надеюсь, вы читали "Ярмарку тщеславия"? Должно быть, читали, иначе вряд
ли бы взялись за эту книгу, но если я ошибаюсь, остановитесь и прочтите;
вернетесь к настоящей хронике, когда закончите. Я не намерен входить здесь в
обсуждение моего романа, равно как и прочих моих книг, но лучше вам
составить о нем собственное мнение, прежде чем выслушивать чужие, которые я
дальше буду пересказывать. Лондон полон благодушных дураков, которые в ту
самую минуту, как кто-то крикнет "Ах!", немедля вторят, словно эхо:
"Потрясающе!" Но я в два счета научился отличать подлинное одобрение от
пустопорожней лести. Несколько критиков проявили проницательность, однако
большинство показали себя тупицами, которым я вежливо кланялся, отводя
глаза. Мнения критиков - о, сколько бы я мог порассказать об этой братии! -
разделились. В июле 1848 года роман вышел отдельной книгой. Не стану
утомлять вас, потрясая, словно стареющий актер, альбомом вырезок, но все же
позвольте мне составить резюме. Сторонники поддерживали книгу по большей
части не из-за ее литературных достоинств, хотя кое-кто их признавал, но
потому, что видели в ее авторе всесильного моралиста, бичевавшего пороки во
имя исправления человечества; а нападавшие считали, что чувства, в ней
выраженные, развращают читателей и основаны на искаженных представлениях об
обществе. Замечу, что их рассуждения о том, как я извращаю действительность,
звучали смехотворно: под пером иных запальчивых критиков мои герои
становились неузнаваемы. Обычно здравый Белл заявил во "Фрейзерз Мэгэзин",
что "люди, населяющие пестрые сцены "Ярмарки тщеславия", настолько же
порочны и гнусны, насколько сознательное преувеличение самых подлых качеств
способно их такими сделать". Бог мой, где Белл живет? Затем Форстер из
"Экзэминера" заговорил о "неискупленном пороке" и о том, что "книга
перенасыщена миазмами людского безумия и зла". Ринтоул из "Зрителя" пошел
еще дальше, он сделал вывод, что мое пристрастие к изнанке жизни
свидетельствует о "скудости воображения и отсутствии широкого взгляда на
жизнь" и, следовательно, мой роман нельзя считать произведением искусства.
Если вы написали книгу, не допускайте, чтобы ее рецензировали, в
противном случае вам нужно ясно понимать, что это значит положить голову на
плаху и просить палача, чтоб он по ней ударил. Я сам был критиком немало
лет, о которых теперь мне не хочется и думать, и когда настал мой черед
выслушивать чужие мнения, прекрасно представлял себе, какое это рискованное
дело и для рецензента и для рецензируемого. Я полагаю, что задача критика -
очистить ум от предрассудков, вдумчиво прочесть книгу и, вникнув в цели,
которые провозглашает автор, ясно и непредвзято выразить о ней свое мнение,
заодно разъясняя публике, в чем тут суть. Ни один критик не может сделать
большего, зато большинство довольствуется гораздо меньшим. Иные, взяв в руки
книгу, смотрят на имя автора и говорят примерно так: "Ах, Теккерей!
Противный малый. Не верю, что он способен написать что-то дельное, несмотря
на всю эту шумиху, которая, говорят, ударила ему в голову. Собьем-ка с него
спесь", и дальше в том же духе. Такие судьи не достойны называться
критиками, и утешает меня только то, что здравомыслящий читатель сразу
узнает их по развязному тону и воздает им по заслугам. Гораздо опаснее
совестливый рецензент, который использует свой отзыв как повод обнародовать
свои воззрения, не думая о том, насколько они связаны с обсуждаемой книгой.
Я знаю, как трудно удержаться и не высказаться обо всей французской
живописи, оценивая книгу о французском живописце, можно, конечно,
воспользовавшись случаем, затронуть необъятный круг вопросов, которые
умножат эрудицию и удовольствие читателей и даже будут достаточно уместны,
беда лишь в том, что при этом нельзя не потерять из виду книгу, о которой
пишешь.
Мои жалобы - хотя, по правде говоря, я ни на что не жалуюсь: успех
вознаградил меня и сделал удивительно терпимым, - но если все же я
высказываю жалобы на критиков "Ярмарки тщеславия", то лишь по той причине,
что ни один из них - а в их числе были весьма маститые и знаменитые - не
потрудился задуматься, ради чего я написал роман, хоть, видит бог, тут нет
секрета. Я хотел вывести круг людей, которые живут без бога в мире, жадных,
чванных, низких, как правило, чудовищно самодовольных и не ведающих сомнения
в своих высоких добродетелях. Внести во все это немного юмора или добавить
трогательных чувств, чтоб разогнать тьму, как советовали некоторые
рецензенты, значило бы разрушить мою цель. По поводу того, что я сгустил
краски, могу только сказать, что мое изображение совсем не так черно, как
жизнь, и не вскрывает половины гнусных дел, которые и по сей день творятся в
высшем свете. Не будь я связан чувством приличия и условностями нашего
времени, я написал бы не такую книгу! Бог мой, я обнажил лишь самую верхушку
той навозной кучи, на которой живут именитые члены нашего общества, и это
страшно возмутило иных чувствительных джентльменов, но что бы они сказали,
если бы я обрушил всю лавину? Скажите на милость, не те ли, кто бранят меня
как лжесвидетеля, а мою книгу как поклеп, - чудовищные лицемеры, которых
следует заставить взять свои слова обратно? Я утверждаю, что у них нет
причины всплескивать руками, - они прекрасно знают, что портрет мой верен,
беспристрастен и нисколько не циничен. Ну, а разглагольствования, что книга,
написанная о пороке, не искусство, - просто смехотворны. Искусство - это
стиль, а не сюжет, и я призываю к ответу каждого, кто берется доказать, что
в "Ярмарке тщеславия" нет стиля. Искусство - это правда, и я призываю
ополчившихся на меня критиков доказать, что "Ярмарка тщеславия" неправдива.
Они прекрасно знают, что сделать этого не могут, и безответственно болтают,
будто я увидел общество в кривом зеркале и описал лишь самые низменные
стороны действительности вместо того, чтобы сосредоточиться на чистом и
хорошем. Но для чего было писать о чистом и хорошем? Разве мало
дам-писательниц только и делают, что пекут роман за романом о чистых, добрых
маленьких девочках, вроде них самих, которые живут, не ведая дурного, и чьи
сердца и головы с утра до вечера набиты романтическими бреднями? Спросите
себя, что толку от таких романов, спросите себя, честно ли они написаны,
спросите себя, способны ли вы сами так узко и близоруко смотреть на жизнь. Я
ненавижу зло, питаю отвращение к пороку, которым полны страницы "Ярмарки
тщеславия", но это не дает мне права делать вид, что его не существует. Чтоб
искоренить порок, нужно начать с его изобличения, только это я и сделал в
своей книге.
Боюсь, что закипаю до сих пор, когда говорю на эту тему, но критики мне
причинили больше зла, чем многим, к тому же, вспоминая "Ярмарку тщеславия",
я не могу не думать о том, что позднее пережил с "Эсмондом" и другими своими
сочинениями, которые никому не понравились. Я чувствовал, что в некоторых
кругах ко мне относились неприязненно, а значит, и предубежденно, и меня это
тревожило. В их похвалах - я говорю о людях из другого стана - всегда
ощущалась сдержанность и я, неизменно благожелательный к их главе, очень об
этом сокрушался. Черт побери, о ком вы? - спросите вы меня. О Диккенсе,
отвечу я, - конечно, о Диккенсе и его приверженцах, нет, мне не привиделась
их сдержанность. Нельзя сказать, что они мне откровенно завидовали или не
желали моего успеха, но я не мог не видеть их холодности. Знаете, как я
обычно вел себя, прочитав восхитившую меня вещь Диккенса? Хватал извозчика,
мчался к нему и радостно хлопал по плечу, если он был в пределах
досягаемости, а если нет, расхваливал его всем и каждому. Помню, как,
прочитав пятый выпуск "Домби и сына", я пришел в такой восторг, что запихнул
журнал в карман, поспешил в редакцию "Панча", где, выложив его на стол
редактора, заявил, что это изумительно, что Диккенс гений и мне с ним нечего
тягаться. Мои сторонники заразились моим восторгом и вели себя
соответственно, но когда весь Лондон гремел аплодисментами в мой адрес,
услышал ли я от них хоть одно прямое, неуклончивое слово? Такого не
последовало. Возможно, Диккенсу не нравилась "Ярмарка тщеславия", возможно,
он не одобрял ее, не знаю, я его не спрашивал, но предпочел бы, чтобы он
высказался откровенно, как друг и как мужчина, а не шептался с присными за
моей спиной.
Признаюсь, я необычайно щепетилен в некоторых вопросах и, прежде всего,
в вопросах чести. Пусть кто угодно бранит мою дурную внешность или
бесталанность, я не скажу ни слова, но не позволю порочить мою честь. Я
джентльмен и не вижу, почему мне нужно этого стесняться, я придерживаюсь
джентльменского кодекса и надеюсь, что те, с кем я общаюсь, следуют ему же.
Если, по-вашему, это звучит высокопарно, я объясню, что понимаю под словом
"джентльмен". Конечно, не аристократа, вы знаете, что я и сам не аристократ,
не богача - манеры не покупаются за деньги, но просто человека, который
живет по-христиански, стараясь по мере сил придерживаться заповедей правды,
скромности и благородства. Джентльмен не мошенничает, не лжет, не пользуется
слабостью другого, не старается выдвинуться, - в общем, высокие идеалы
джентльменства можно перечислять бесконечно, но ни один джентльмен не может
сказать вам, в чем суть этого понятия, он просто это чувствует. Именно такое
мое представление о джентльменстве и породило ссору, которая в то время
вышла у меня с Джоном Форстером, правой рукой Диккенса: меня обвинили в
неджентльменском поведении, и я не собирался этого терпеть, тем более что
обвинение исходило от недружелюбных лиц. Я знал, что за этим выпадом стоит
злоба, и это даже больше, чем оскорбление, меня подстегивало.
Ворошить старые ссоры - жалкое занятие, я знаю, что делать этого не
следует, но чувство, которое я помню и сейчас, подсказывает мне, что то был
не пустяк и тут нужно разобраться. С виду дело было самое обыкновенное,
рассказ о нем не займет и шести строк. Я написал пародию на Форстера в серии
"Лауреаты "Панча"", и он обиделся. Не знаю, имел ли он на то основания, но я
находил свою заметку остроумной и дозволенной, и уж, конечно, ничуть не
беспокоился о возможных последствиях - она была в своем роде вполне
безобидна. Однако Форстер обиделся и сказал нашему общему приятелю Тому
Тейлору, что "Теккерей коварен как дьявол", ибо писал это, прикидываясь
другом. Таковы были его слова - "коварен как дьявол". Том их пересказал мне,
и я немедленно поставил Форстера на место, он, в свою очередь, еще больше
распалился. Неловко вспоминать дальнейшее, мы мигом оказались в гуще
мальчишеской ссоры. Диккенса призвали как посредника, письма летали туда и
обратно, выглядело это смешно, и через несколько дней я почувствовал, что
сыт по горло этой историей. Что ж, единственный раз в жизни я, видно,
проявил неуместную серьезность, но я не мог позволить, чтобы меня, пусть
даже в минуту гнева, называли коварной бестией. Я не был коварен и не желал,
чтобы обо мне так отзывались. По правде говоря, Форстеру не следовало
говорить того, что он сказал, Тейлору не следовало это мне пересказывать, а
мне - принимать так близко к сердцу. В конце концов, все мы выразили
сожаление, после чего состоялось официальное примирение, но на наших
отношениях осталась тень, так никогда и не рассеявшаяся. Все это заставило
меня понять, что успех имеет свои опасные стороны, - чем еще можно было
объяснить внезапное падение моей популярности? Год назад все меня любили, а
теперь, когда я, можно сказать, стал знаменитостью, со всех сторон высыпали
враги, и мне стало казаться, что лучше оставаться неприметным и любимым, чем
славным и окруженным ненавистью из-за этой самой славы.
На самом деле, картина была не так уныла, ибо моя новообретенная слава
привлекла ко мне друзей и почитателей, которых мне жаль было бы лишиться.
Вот вам приятная история под конец главы. Как-то раз я сидел и работал как
бешеный над очередным отрывком "Ярмарки тщеславия", когда от Уильяма
Уильямса, литературного консультанта издательства "Смит, Элдер и Кo" мне
принесли рукопись нового романа. При виде него я застонал - мне положительно
некогда было читать чужие сочинения, когда следовало писать свое
собственное, - но все же открыл его, решив прочесть страничку-другую из
любопытства, и не успел опомниться, как совершенно утонул в нем. Роман
назывался "Джейн Эйр" и принадлежал перу кого-то, выступавшего под именем
Каррер Белл, я говорю "под именем", потому что для меня было несомненно, что
автор - женщина. Но женщина или мужчина, а книга была прекрасная, с живым и
ясным стилем, любовные сцены растрогали меня до слез. Надеюсь, мои похвалы
помогли ее публикации, и я горжусь, если и в самом деле помог мисс Шарлотте
Бронте в минуту, когда она нуждалась в помощи. Ее неумеренная ответная
благодарность выразилась не только в письмах, но и в посвящении, которое она
предпослала второму изданию книги, составив его в самых теплых выражениях.
Читая его, прежде всего из-за того, что в нем описывался мой характер, но
неузнаваемо. Мисс Бронте знала меня только по "Ярмарке тщеславия" и
заключила из нее, что я являю собой подобие карающего ангела, ниспосланного
бичевать слабых и грешных - гм-гм! Она не догадывалась, какие слухи вызвал
этот ее шаг, ибо пол-Лондона увидели во мне Рочестера с минуты, как прочли
посвящение и книгу. Бедная женщина была огорчена гораздо больше моего, она
не знала прежде о моей больной жене и неизбежных гувернантках. Я подразнил
бы ее этим, но можно ли дразнить Жанну д'Арк?
Надеюсь, вы читали "Ярмарку тщеславия"? Должно быть, читали, иначе вряд
ли бы взялись за эту книгу, но если я ошибаюсь, остановитесь и прочтите;
вернетесь к настоящей хронике, когда закончите. Я не намерен входить здесь в
обсуждение моего романа, равно как и прочих моих книг, но лучше вам
составить о нем собственное мнение, прежде чем выслушивать чужие, которые я
дальше буду пересказывать. Лондон полон благодушных дураков, которые в ту
самую минуту, как кто-то крикнет "Ах!", немедля вторят, словно эхо:
"Потрясающе!" Но я в два счета научился отличать подлинное одобрение от
пустопорожней лести. Несколько критиков проявили проницательность, однако
большинство показали себя тупицами, которым я вежливо кланялся, отводя
глаза. Мнения критиков - о, сколько бы я мог порассказать об этой братии! -
разделились. В июле 1848 года роман вышел отдельной книгой. Не стану
утомлять вас, потрясая, словно стареющий актер, альбомом вырезок, но все же
позвольте мне составить резюме. Сторонники поддерживали книгу по большей
части не из-за ее литературных достоинств, хотя кое-кто их признавал, но
потому, что видели в ее авторе всесильного моралиста, бичевавшего пороки во
имя исправления человечества; а нападавшие считали, что чувства, в ней
выраженные, развращают читателей и основаны на искаженных представлениях об
обществе. Замечу, что их рассуждения о том, как я извращаю действительность,
звучали смехотворно: под пером иных запальчивых критиков мои герои
становились неузнаваемы. Обычно здравый Белл заявил во "Фрейзерз Мэгэзин",
что "люди, населяющие пестрые сцены "Ярмарки тщеславия", настолько же
порочны и гнусны, насколько сознательное преувеличение самых подлых качеств
способно их такими сделать". Бог мой, где Белл живет? Затем Форстер из
"Экзэминера" заговорил о "неискупленном пороке" и о том, что "книга
перенасыщена миазмами людского безумия и зла". Ринтоул из "Зрителя" пошел
еще дальше, он сделал вывод, что мое пристрастие к изнанке жизни
свидетельствует о "скудости воображения и отсутствии широкого взгляда на
жизнь" и, следовательно, мой роман нельзя считать произведением искусства.
Если вы написали книгу, не допускайте, чтобы ее рецензировали, в
противном случае вам нужно ясно понимать, что это значит положить голову на
плаху и просить палача, чтоб он по ней ударил. Я сам был критиком немало
лет, о которых теперь мне не хочется и думать, и когда настал мой черед
выслушивать чужие мнения, прекрасно представлял себе, какое это рискованное
дело и для рецензента и для рецензируемого. Я полагаю, что задача критика -
очистить ум от предрассудков, вдумчиво прочесть книгу и, вникнув в цели,
которые провозглашает автор, ясно и непредвзято выразить о ней свое мнение,
заодно разъясняя публике, в чем тут суть. Ни один критик не может сделать
большего, зато большинство довольствуется гораздо меньшим. Иные, взяв в руки
книгу, смотрят на имя автора и говорят примерно так: "Ах, Теккерей!
Противный малый. Не верю, что он способен написать что-то дельное, несмотря
на всю эту шумиху, которая, говорят, ударила ему в голову. Собьем-ка с него
спесь", и дальше в том же духе. Такие судьи не достойны называться
критиками, и утешает меня только то, что здравомыслящий читатель сразу
узнает их по развязному тону и воздает им по заслугам. Гораздо опаснее
совестливый рецензент, который использует свой отзыв как повод обнародовать
свои воззрения, не думая о том, насколько они связаны с обсуждаемой книгой.
Я знаю, как трудно удержаться и не высказаться обо всей французской
живописи, оценивая книгу о французском живописце, можно, конечно,
воспользовавшись случаем, затронуть необъятный круг вопросов, которые
умножат эрудицию и удовольствие читателей и даже будут достаточно уместны,
беда лишь в том, что при этом нельзя не потерять из виду книгу, о которой
пишешь.
Мои жалобы - хотя, по правде говоря, я ни на что не жалуюсь: успех
вознаградил меня и сделал удивительно терпимым, - но если все же я
высказываю жалобы на критиков "Ярмарки тщеславия", то лишь по той причине,
что ни один из них - а в их числе были весьма маститые и знаменитые - не
потрудился задуматься, ради чего я написал роман, хоть, видит бог, тут нет
секрета. Я хотел вывести круг людей, которые живут без бога в мире, жадных,
чванных, низких, как правило, чудовищно самодовольных и не ведающих сомнения
в своих высоких добродетелях. Внести во все это немного юмора или добавить
трогательных чувств, чтоб разогнать тьму, как советовали некоторые
рецензенты, значило бы разрушить мою цель. По поводу того, что я сгустил
краски, могу только сказать, что мое изображение совсем не так черно, как
жизнь, и не вскрывает половины гнусных дел, которые и по сей день творятся в
высшем свете. Не будь я связан чувством приличия и условностями нашего
времени, я написал бы не такую книгу! Бог мой, я обнажил лишь самую верхушку
той навозной кучи, на которой живут именитые члены нашего общества, и это
страшно возмутило иных чувствительных джентльменов, но что бы они сказали,
если бы я обрушил всю лавину? Скажите на милость, не те ли, кто бранят меня
как лжесвидетеля, а мою книгу как поклеп, - чудовищные лицемеры, которых
следует заставить взять свои слова обратно? Я утверждаю, что у них нет
причины всплескивать руками, - они прекрасно знают, что портрет мой верен,
беспристрастен и нисколько не циничен. Ну, а разглагольствования, что книга,
написанная о пороке, не искусство, - просто смехотворны. Искусство - это
стиль, а не сюжет, и я призываю к ответу каждого, кто берется доказать, что
в "Ярмарке тщеславия" нет стиля. Искусство - это правда, и я призываю
ополчившихся на меня критиков доказать, что "Ярмарка тщеславия" неправдива.
Они прекрасно знают, что сделать этого не могут, и безответственно болтают,
будто я увидел общество в кривом зеркале и описал лишь самые низменные
стороны действительности вместо того, чтобы сосредоточиться на чистом и
хорошем. Но для чего было писать о чистом и хорошем? Разве мало
дам-писательниц только и делают, что пекут роман за романом о чистых, добрых
маленьких девочках, вроде них самих, которые живут, не ведая дурного, и чьи
сердца и головы с утра до вечера набиты романтическими бреднями? Спросите
себя, что толку от таких романов, спросите себя, честно ли они написаны,
спросите себя, способны ли вы сами так узко и близоруко смотреть на жизнь. Я
ненавижу зло, питаю отвращение к пороку, которым полны страницы "Ярмарки
тщеславия", но это не дает мне права делать вид, что его не существует. Чтоб
искоренить порок, нужно начать с его изобличения, только это я и сделал в
своей книге.
Боюсь, что закипаю до сих пор, когда говорю на эту тему, но критики мне
причинили больше зла, чем многим, к тому же, вспоминая "Ярмарку тщеславия",
я не могу не думать о том, что позднее пережил с "Эсмондом" и другими своими
сочинениями, которые никому не понравились. Я чувствовал, что в некоторых
кругах ко мне относились неприязненно, а значит, и предубежденно, и меня это
тревожило. В их похвалах - я говорю о людях из другого стана - всегда
ощущалась сдержанность и я, неизменно благожелательный к их главе, очень об
этом сокрушался. Черт побери, о ком вы? - спросите вы меня. О Диккенсе,
отвечу я, - конечно, о Диккенсе и его приверженцах, нет, мне не привиделась
их сдержанность. Нельзя сказать, что они мне откровенно завидовали или не
желали моего успеха, но я не мог не видеть их холодности. Знаете, как я
обычно вел себя, прочитав восхитившую меня вещь Диккенса? Хватал извозчика,
мчался к нему и радостно хлопал по плечу, если он был в пределах
досягаемости, а если нет, расхваливал его всем и каждому. Помню, как,
прочитав пятый выпуск "Домби и сына", я пришел в такой восторг, что запихнул
журнал в карман, поспешил в редакцию "Панча", где, выложив его на стол
редактора, заявил, что это изумительно, что Диккенс гений и мне с ним нечего
тягаться. Мои сторонники заразились моим восторгом и вели себя
соответственно, но когда весь Лондон гремел аплодисментами в мой адрес,
услышал ли я от них хоть одно прямое, неуклончивое слово? Такого не
последовало. Возможно, Диккенсу не нравилась "Ярмарка тщеславия", возможно,
он не одобрял ее, не знаю, я его не спрашивал, но предпочел бы, чтобы он
высказался откровенно, как друг и как мужчина, а не шептался с присными за
моей спиной.
Признаюсь, я необычайно щепетилен в некоторых вопросах и, прежде всего,
в вопросах чести. Пусть кто угодно бранит мою дурную внешность или
бесталанность, я не скажу ни слова, но не позволю порочить мою честь. Я
джентльмен и не вижу, почему мне нужно этого стесняться, я придерживаюсь
джентльменского кодекса и надеюсь, что те, с кем я общаюсь, следуют ему же.
Если, по-вашему, это звучит высокопарно, я объясню, что понимаю под словом
"джентльмен". Конечно, не аристократа, вы знаете, что я и сам не аристократ,
не богача - манеры не покупаются за деньги, но просто человека, который
живет по-христиански, стараясь по мере сил придерживаться заповедей правды,
скромности и благородства. Джентльмен не мошенничает, не лжет, не пользуется
слабостью другого, не старается выдвинуться, - в общем, высокие идеалы
джентльменства можно перечислять бесконечно, но ни один джентльмен не может
сказать вам, в чем суть этого понятия, он просто это чувствует. Именно такое
мое представление о джентльменстве и породило ссору, которая в то время
вышла у меня с Джоном Форстером, правой рукой Диккенса: меня обвинили в
неджентльменском поведении, и я не собирался этого терпеть, тем более что
обвинение исходило от недружелюбных лиц. Я знал, что за этим выпадом стоит
злоба, и это даже больше, чем оскорбление, меня подстегивало.
Ворошить старые ссоры - жалкое занятие, я знаю, что делать этого не
следует, но чувство, которое я помню и сейчас, подсказывает мне, что то был
не пустяк и тут нужно разобраться. С виду дело было самое обыкновенное,
рассказ о нем не займет и шести строк. Я написал пародию на Форстера в серии
"Лауреаты "Панча"", и он обиделся. Не знаю, имел ли он на то основания, но я
находил свою заметку остроумной и дозволенной, и уж, конечно, ничуть не
беспокоился о возможных последствиях - она была в своем роде вполне
безобидна. Однако Форстер обиделся и сказал нашему общему приятелю Тому
Тейлору, что "Теккерей коварен как дьявол", ибо писал это, прикидываясь
другом. Таковы были его слова - "коварен как дьявол". Том их пересказал мне,
и я немедленно поставил Форстера на место, он, в свою очередь, еще больше
распалился. Неловко вспоминать дальнейшее, мы мигом оказались в гуще
мальчишеской ссоры. Диккенса призвали как посредника, письма летали туда и
обратно, выглядело это смешно, и через несколько дней я почувствовал, что
сыт по горло этой историей. Что ж, единственный раз в жизни я, видно,
проявил неуместную серьезность, но я не мог позволить, чтобы меня, пусть
даже в минуту гнева, называли коварной бестией. Я не был коварен и не желал,
чтобы обо мне так отзывались. По правде говоря, Форстеру не следовало
говорить того, что он сказал, Тейлору не следовало это мне пересказывать, а
мне - принимать так близко к сердцу. В конце концов, все мы выразили
сожаление, после чего состоялось официальное примирение, но на наших
отношениях осталась тень, так никогда и не рассеявшаяся. Все это заставило
меня понять, что успех имеет свои опасные стороны, - чем еще можно было
объяснить внезапное падение моей популярности? Год назад все меня любили, а
теперь, когда я, можно сказать, стал знаменитостью, со всех сторон высыпали
враги, и мне стало казаться, что лучше оставаться неприметным и любимым, чем
славным и окруженным ненавистью из-за этой самой славы.
На самом деле, картина была не так уныла, ибо моя новообретенная слава
привлекла ко мне друзей и почитателей, которых мне жаль было бы лишиться.
Вот вам приятная история под конец главы. Как-то раз я сидел и работал как
бешеный над очередным отрывком "Ярмарки тщеславия", когда от Уильяма
Уильямса, литературного консультанта издательства "Смит, Элдер и Кo" мне
принесли рукопись нового романа. При виде него я застонал - мне положительно
некогда было читать чужие сочинения, когда следовало писать свое
собственное, - но все же открыл его, решив прочесть страничку-другую из
любопытства, и не успел опомниться, как совершенно утонул в нем. Роман
назывался "Джейн Эйр" и принадлежал перу кого-то, выступавшего под именем
Каррер Белл, я говорю "под именем", потому что для меня было несомненно, что
автор - женщина. Но женщина или мужчина, а книга была прекрасная, с живым и
ясным стилем, любовные сцены растрогали меня до слез. Надеюсь, мои похвалы
помогли ее публикации, и я горжусь, если и в самом деле помог мисс Шарлотте
Бронте в минуту, когда она нуждалась в помощи. Ее неумеренная ответная
благодарность выразилась не только в письмах, но и в посвящении, которое она
предпослала второму изданию книги, составив его в самых теплых выражениях.
Читая его, прежде всего из-за того, что в нем описывался мой характер, но
неузнаваемо. Мисс Бронте знала меня только по "Ярмарке тщеславия" и
заключила из нее, что я являю собой подобие карающего ангела, ниспосланного
бичевать слабых и грешных - гм-гм! Она не догадывалась, какие слухи вызвал
этот ее шаг, ибо пол-Лондона увидели во мне Рочестера с минуты, как прочли
посвящение и книгу. Бедная женщина была огорчена гораздо больше моего, она
не знала прежде о моей больной жене и неизбежных гувернантках. Я подразнил
бы ее этим, но можно ли дразнить Жанну д'Арк?
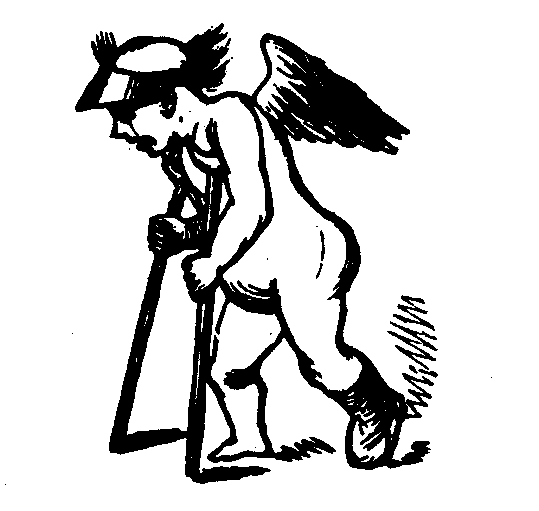 Ну вот, я рассказал вам все, что нужно, о своем большом успехе. Не
слишком ли быстро он закончился, хоть вам, наверное, казалось, что я тяну и
мямлю? Вот я стою на самой вершине славы и того не ведаю. Как так "не
ведаю"? А вот так, не ведаю: ведь я считал, что "Ярмарка тщеславия" - только
начало, что я буду писать все лучше и лучше и это лишь преддверие золотого
века. Правда была бы непереносима, знай я ее наперед.
^T10^U
^TВ зените славы - "Ярмарка тщеславия"^U
Кажется, никогда в жизни я не был в таком смятении духа, как в конце
лета 1848 года. Закончив "Ярмарку тщеславия" и препоручив детей нежным
заботам гувернантки мисс Александер, которая взяла их погостить к своим
родным и тем весьма возвысилась в моих глазах, я тотчас отправился отдыхать
на континент. Как я устал, заметно было всем, но как был опустошен душевно,
знал лишь я один. Я перестал понимать, здоров я или болен, весел или
грустен. Лишь только у меня появилось свободное время и больше никто ничего
от меня не требовал: ни наборщики, ни дети, ни хозяйки светских салонов, -
последовал упадок сил, я с трудом заставлял себя подняться с постели, но и
оставался в ней без малейшего удовольствия - меня не освежал многочасовой
сон. Все стало мне безразлично, кроме недавнего прошлого: денно и нощно
передо мной роились образы "Ярмарки тщеславия", я мысленно вступал с ними в
беседу, воображал, что они сейчас делают, почти забыв, что это не живые
люди, а порождения фантазии, уже изъятые из коловращения жизни. Я расстался
с книгой, но она не рассталась со мной, в ней все было свежо и живо, словно
случилось только накануне. Как будто из моего корсета вынули пластинки из
китового уса - ничто больше не поддерживало мое обмякшее, дрожащее тело. Я
погрузился в полное уныние, в черную тоску - чернее я ничего не знал в
жизни. Часами я сидел, не отрывая глаз от моря и не испытывая ни малейшего
желания встать, пройтись и недоуменно себя спрашивая, что это со мной
случилось, почему ничто меня не радует. Впервые я отдаленно представил себе,
что чувствовала моя бедная жена во время первого приступа болезни. Есть ли в
жизни смысл? Стоит ли трудиться и подыматься с места? Кого все это тревожит?
Ах, в этом-то и было дело: мне бы хотелось, чтоб обо мне тревожились. Но кто
же? Мои дети? Они и так были достаточно встревожены; Матушка, никогда не
перестававшая тревожиться? Нет, кое-кто другой, чье имя начиналось с Д. и
Б., ибо моя болезнь отчасти объяснялась переутомлением, а больше
одиночеством и ощущением покинутости, охватившим меня, лишь только начался
мой отдых - что в нем радости, если у нас нет близкой души?
Ну вот, я рассказал вам все, что нужно, о своем большом успехе. Не
слишком ли быстро он закончился, хоть вам, наверное, казалось, что я тяну и
мямлю? Вот я стою на самой вершине славы и того не ведаю. Как так "не
ведаю"? А вот так, не ведаю: ведь я считал, что "Ярмарка тщеславия" - только
начало, что я буду писать все лучше и лучше и это лишь преддверие золотого
века. Правда была бы непереносима, знай я ее наперед.
^T10^U
^TВ зените славы - "Ярмарка тщеславия"^U
Кажется, никогда в жизни я не был в таком смятении духа, как в конце
лета 1848 года. Закончив "Ярмарку тщеславия" и препоручив детей нежным
заботам гувернантки мисс Александер, которая взяла их погостить к своим
родным и тем весьма возвысилась в моих глазах, я тотчас отправился отдыхать
на континент. Как я устал, заметно было всем, но как был опустошен душевно,
знал лишь я один. Я перестал понимать, здоров я или болен, весел или
грустен. Лишь только у меня появилось свободное время и больше никто ничего
от меня не требовал: ни наборщики, ни дети, ни хозяйки светских салонов, -
последовал упадок сил, я с трудом заставлял себя подняться с постели, но и
оставался в ней без малейшего удовольствия - меня не освежал многочасовой
сон. Все стало мне безразлично, кроме недавнего прошлого: денно и нощно
передо мной роились образы "Ярмарки тщеславия", я мысленно вступал с ними в
беседу, воображал, что они сейчас делают, почти забыв, что это не живые
люди, а порождения фантазии, уже изъятые из коловращения жизни. Я расстался
с книгой, но она не рассталась со мной, в ней все было свежо и живо, словно
случилось только накануне. Как будто из моего корсета вынули пластинки из
китового уса - ничто больше не поддерживало мое обмякшее, дрожащее тело. Я
погрузился в полное уныние, в черную тоску - чернее я ничего не знал в
жизни. Часами я сидел, не отрывая глаз от моря и не испытывая ни малейшего
желания встать, пройтись и недоуменно себя спрашивая, что это со мной
случилось, почему ничто меня не радует. Впервые я отдаленно представил себе,
что чувствовала моя бедная жена во время первого приступа болезни. Есть ли в
жизни смысл? Стоит ли трудиться и подыматься с места? Кого все это тревожит?
Ах, в этом-то и было дело: мне бы хотелось, чтоб обо мне тревожились. Но кто
же? Мои дети? Они и так были достаточно встревожены; Матушка, никогда не
перестававшая тревожиться? Нет, кое-кто другой, чье имя начиналось с Д. и
Б., ибо моя болезнь отчасти объяснялась переутомлением, а больше
одиночеством и ощущением покинутости, охватившим меня, лишь только начался
мой отдых - что в нем радости, если у нас нет близкой души?
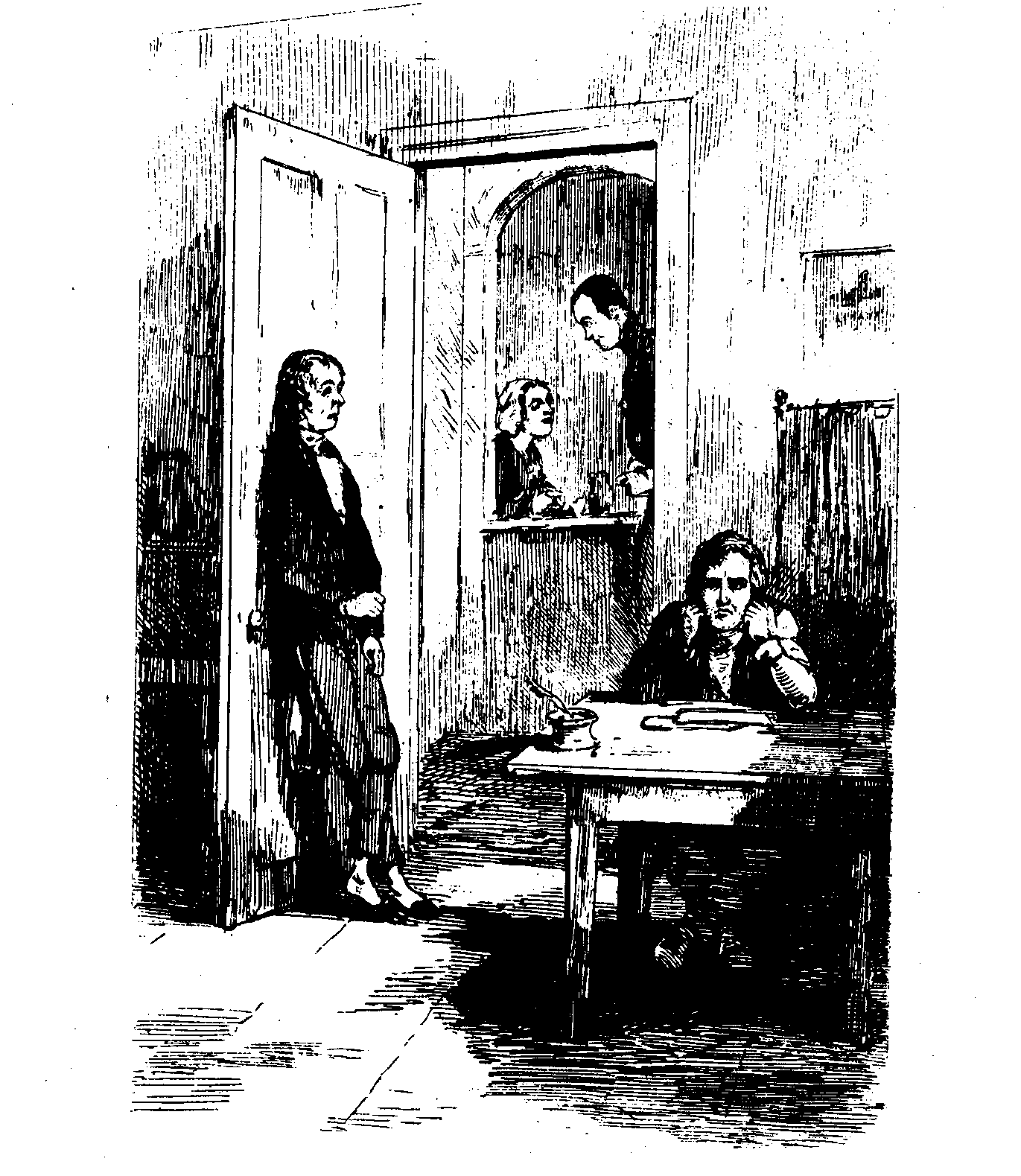 К этому времени все мои чувства безраздельно принадлежали Джейн Октавии
Брукфилд, и больше я не притворялся, будто у меня по-прежнему есть жена,
которая в один прекрасный день ко мне вернется. Нет, не подумайте, Изабелла
была жива, но ее давно ничто не волновало, кроме обеда, стакана портвейна и
рояля, можно было уезжать, приезжать, умирать, процветать - ей было все
равно, и если я все реже навещал ее, то вовсе не потому, что позабыл ее, а
потому, что за время моего отсутствия она меня забывала, я это ясно видел. Я
слушал, как она играет свои пьески, весело мне улыбаясь, смотрел, как молодо
она выглядит, и думал, что незачем мне продолжать эти мучения. Конечно, я
был обязан о ней заботиться и прилагал все силы к тому, чтобы ей было
хорошо, то был мой долг, но мне больше не нужно было утруждать себя
соблюдением верности - она не помнила, что это такое; порой в начале
посещения я чувствовал, что она не узнавала меня. Да и как ей было узнать
своего Уильяма в этом серо-седом, немолодом мужчине? Она так и осталась
двадцатипятилетней, а я между двумя визитами старел на целый век. Я для нее
ничего не значил, нет, так нельзя сказать, это несправедливо, образ Уильяма
никогда не покидал ее помраченного ума и под конец встречи она всегда
вспоминала меня и была нежна, трогательно нежна, но если я не приезжал, она
не замечала моего отсутствия. Я продолжал навещать ее, но из чувства долга,
надежду я давно утратил, мне просто не хватало духу взглянуть правде в
глаза. Я очень нуждался в том, чтобы рядом со мною была женщина, но как бы я
ни цеплялся за воспоминания, ею не могла быть Изабелла.
Возможно, такова моя судьба - желать недостижимого, чем еще можно
объяснить, что любовь к своей неизлечимо больной жене я сменил на любовь к
чужой, не менее недоступной? Вы не находите, что тут есть что-то нездоровое
и, как я ни стараюсь приписать это случайности, слова мои звучат
неубедительно? Я очень долго не тревожился о том, что моя новая любовь
безнадежна, и говорил себе, что мне довольно любить Джейн как сестру и что
моему благоговению не нужно будущего. Любить значило для меня восхищаться,
заботиться, радоваться, делиться, защищать, а не владеть, ласкать или
как-нибудь иначе и столь же неуместно проявлять свои чувства. Я не хотел ни
обладать, ни даже касаться женщины, в любви к которой признавался, я даже не
хотел, чтобы она мне принадлежала, из-за чего был усыплен сознанием ложной
безопасности - ощущал себя вне подозрений. Но под покровом братской любви во
мне заговорило другое, пугавшее меня чувство, с которым вскоре я был не в
силах справиться: Джейн стала внушать мне страсть, и чем больше я себя
обманывал, тем сильней дрожал, встречаясь с ней глазами. (Вывешивайте самый
большой и яркий флаг, какой только найдете, ибо я собираюсь высказаться,
презрев запреты, налагаемые на эту тему, но - только о себе.) Клянусь вам, я
переменился к Джейн, сам того не замечая, иначе это было бы безумием,
сравнимым лишь с самоубийством, но так или иначе, чувство мое росло и вскоре
дошло до того, что я не мог с ней находиться в одной комнате. Как ни
старался я подавить свою любовь, ничего не помогало. Вы скажете, что нужно
было тотчас порвать с ней и больше никогда не видеться. Я ждал от вас
чего-нибудь подобного и повторю вам то, что говорил себе: зачем мне было это
делать, зачем нам было расставаться? Как ни была мучительна моя любовь, я
знал, что никогда не сделаю и _шага в сторону Джейн_. В этом была вся суть.
Я был семейным человеком - отцом двух детей, и на меня можно было
положиться. Разорвать нашу дружбу значило признаться, что я не в
силах с собой справиться, но я отлично знал, что справлюсь, зачем же мне
было лишаться самых дорогих друзей?
Спустя несколько месяцев после того, как я осознал истину, я все еще
был преисполнен похвального намерения держаться безупречно и искренне на это
уповал. Но боже, как я мучился! Когда я бывал один, я думал лишь о Джейн и
чувствовал, что, потеряв ее, утрачу веру в жизнь и окончательно собьюсь с
пути. Мне представлялось, что любовь не может быть дурна: в любви есть бог,
она должна нести добро. В молитвах я вновь и вновь благодарил Уильяма и
обещал не посрамить его доверия. Я так же смиренно боготворил Джейн, как и
раньше, и благословлял ее мужа за то, что истязаю себя с его полного
одобрения, но думаю, даже я взбунтовался бы в конце концов против тягот
такого сурового режима, если бы мной не владела полная уверенность, что
Джейн отвечает мне взаимностью. Довольно было мне взглянуть в ее глаза, и я
видел, что она разделяет мои муки, я знал, что это не плод моего воображения
и что она меня любит. Могу ли я представить доказательства, спрашиваете вы
меня, кроме пустой болтовни о глазах? Нет, не могу, Джейн ни разу не
доверилась бумаге, но это ничего не меняет, я не был молокососом, бредившим
любовью и видевшим в каждой женщине жертву своей неотразимости, я
приближался к сорока годам и сохранил мало иллюзий. Джейн Брукфилд любила
меня, и это так же верно, как то, что я любил ее. Вот все, что я могу
сказать, не выходя за рамки доверия, которые преступать нельзя.
Не знаю, сколько времени все это продолжалось бы, если бы какой-то
доброжелатель не нашептал Брукфилду, что он простак, и не подсказал ему по
дружбе, что могут подумать в свете о моих ежедневных посещениях его дома.
Когда я, отдохнувший, но все такой же мрачный вернулся из своей поездки на
континент, я был к Джейн ближе, чем когда-либо. Осенью я останавливался у
них на Кливден-Корт и думаю, что именно в это счастливое время некто, кого
мы оставим безымянным, осудил нашу дружбу и подбил Брукфилда сказать мне,
что нам следует вернуться к более приемлемой форме отношений. Уильям заявил
мне, что я пишу и появляюсь слишком часто и что писать я должен лишь в
ответ, а навещать их дом - лишь по приглашению. Мой гнев сравним был только
с моим горем - мог ли я выжить на голодном рационе, отныне мне предписанном?
Я с нетерпением ждал почты, и когда от Джейн пришел куцый обрывок письма,
каким потоком слов я разразился в ответ! Наверное, вы презираете меня за то,
что я согласился на такие условия, по-вашему, мне следовало заявить:
"Прекрасно, сэр, раз так, прощайте и подите к дьяволу вместе с вашей женой".
Возможно, вы бы стали больше уважать меня, пошли я Брукфилду вызов и проткни
его шпагой, которую в подобных драматических коллизиях Титмарш вытаскивает
из ножен. В ответ могу сказать только одно: если вам по душе такие
мелодрамы, вы не знаете, что такое любовь. Ради любви можно пойти на все,
можно продать душу дьяволу, чтобы бросить один-единственный взгляд на
любимую, можно месяцами ждать встречи. Несправедливость приговора Брукфилда
заставила меня кипеть от ярости, но я не возражал - мне ничего не оставалось
делать. Единственное утешение я находил в стихах - я изливал в них душу и
посылал Джейн. Она на них не отзывалась и писала мне светские послания, в
которых пересказывала, что сказал или сделал ее муж, и давала советы, как
беречь здоровье. Я ненавидел эти жалкие, по-родственному заботливые письма,
но не мог без них жить. От одного вида ее почерка на конверте я чувствовал
себя счастливым целый день.
К этому времени все мои чувства безраздельно принадлежали Джейн Октавии
Брукфилд, и больше я не притворялся, будто у меня по-прежнему есть жена,
которая в один прекрасный день ко мне вернется. Нет, не подумайте, Изабелла
была жива, но ее давно ничто не волновало, кроме обеда, стакана портвейна и
рояля, можно было уезжать, приезжать, умирать, процветать - ей было все
равно, и если я все реже навещал ее, то вовсе не потому, что позабыл ее, а
потому, что за время моего отсутствия она меня забывала, я это ясно видел. Я
слушал, как она играет свои пьески, весело мне улыбаясь, смотрел, как молодо
она выглядит, и думал, что незачем мне продолжать эти мучения. Конечно, я
был обязан о ней заботиться и прилагал все силы к тому, чтобы ей было
хорошо, то был мой долг, но мне больше не нужно было утруждать себя
соблюдением верности - она не помнила, что это такое; порой в начале
посещения я чувствовал, что она не узнавала меня. Да и как ей было узнать
своего Уильяма в этом серо-седом, немолодом мужчине? Она так и осталась
двадцатипятилетней, а я между двумя визитами старел на целый век. Я для нее
ничего не значил, нет, так нельзя сказать, это несправедливо, образ Уильяма
никогда не покидал ее помраченного ума и под конец встречи она всегда
вспоминала меня и была нежна, трогательно нежна, но если я не приезжал, она
не замечала моего отсутствия. Я продолжал навещать ее, но из чувства долга,
надежду я давно утратил, мне просто не хватало духу взглянуть правде в
глаза. Я очень нуждался в том, чтобы рядом со мною была женщина, но как бы я
ни цеплялся за воспоминания, ею не могла быть Изабелла.
Возможно, такова моя судьба - желать недостижимого, чем еще можно
объяснить, что любовь к своей неизлечимо больной жене я сменил на любовь к
чужой, не менее недоступной? Вы не находите, что тут есть что-то нездоровое
и, как я ни стараюсь приписать это случайности, слова мои звучат
неубедительно? Я очень долго не тревожился о том, что моя новая любовь
безнадежна, и говорил себе, что мне довольно любить Джейн как сестру и что
моему благоговению не нужно будущего. Любить значило для меня восхищаться,
заботиться, радоваться, делиться, защищать, а не владеть, ласкать или
как-нибудь иначе и столь же неуместно проявлять свои чувства. Я не хотел ни
обладать, ни даже касаться женщины, в любви к которой признавался, я даже не
хотел, чтобы она мне принадлежала, из-за чего был усыплен сознанием ложной
безопасности - ощущал себя вне подозрений. Но под покровом братской любви во
мне заговорило другое, пугавшее меня чувство, с которым вскоре я был не в
силах справиться: Джейн стала внушать мне страсть, и чем больше я себя
обманывал, тем сильней дрожал, встречаясь с ней глазами. (Вывешивайте самый
большой и яркий флаг, какой только найдете, ибо я собираюсь высказаться,
презрев запреты, налагаемые на эту тему, но - только о себе.) Клянусь вам, я
переменился к Джейн, сам того не замечая, иначе это было бы безумием,
сравнимым лишь с самоубийством, но так или иначе, чувство мое росло и вскоре
дошло до того, что я не мог с ней находиться в одной комнате. Как ни
старался я подавить свою любовь, ничего не помогало. Вы скажете, что нужно
было тотчас порвать с ней и больше никогда не видеться. Я ждал от вас
чего-нибудь подобного и повторю вам то, что говорил себе: зачем мне было это
делать, зачем нам было расставаться? Как ни была мучительна моя любовь, я
знал, что никогда не сделаю и _шага в сторону Джейн_. В этом была вся суть.
Я был семейным человеком - отцом двух детей, и на меня можно было
положиться. Разорвать нашу дружбу значило признаться, что я не в
силах с собой справиться, но я отлично знал, что справлюсь, зачем же мне
было лишаться самых дорогих друзей?
Спустя несколько месяцев после того, как я осознал истину, я все еще
был преисполнен похвального намерения держаться безупречно и искренне на это
уповал. Но боже, как я мучился! Когда я бывал один, я думал лишь о Джейн и
чувствовал, что, потеряв ее, утрачу веру в жизнь и окончательно собьюсь с
пути. Мне представлялось, что любовь не может быть дурна: в любви есть бог,
она должна нести добро. В молитвах я вновь и вновь благодарил Уильяма и
обещал не посрамить его доверия. Я так же смиренно боготворил Джейн, как и
раньше, и благословлял ее мужа за то, что истязаю себя с его полного
одобрения, но думаю, даже я взбунтовался бы в конце концов против тягот
такого сурового режима, если бы мной не владела полная уверенность, что
Джейн отвечает мне взаимностью. Довольно было мне взглянуть в ее глаза, и я
видел, что она разделяет мои муки, я знал, что это не плод моего воображения
и что она меня любит. Могу ли я представить доказательства, спрашиваете вы
меня, кроме пустой болтовни о глазах? Нет, не могу, Джейн ни разу не
доверилась бумаге, но это ничего не меняет, я не был молокососом, бредившим
любовью и видевшим в каждой женщине жертву своей неотразимости, я
приближался к сорока годам и сохранил мало иллюзий. Джейн Брукфилд любила
меня, и это так же верно, как то, что я любил ее. Вот все, что я могу
сказать, не выходя за рамки доверия, которые преступать нельзя.
Не знаю, сколько времени все это продолжалось бы, если бы какой-то
доброжелатель не нашептал Брукфилду, что он простак, и не подсказал ему по
дружбе, что могут подумать в свете о моих ежедневных посещениях его дома.
Когда я, отдохнувший, но все такой же мрачный вернулся из своей поездки на
континент, я был к Джейн ближе, чем когда-либо. Осенью я останавливался у
них на Кливден-Корт и думаю, что именно в это счастливое время некто, кого
мы оставим безымянным, осудил нашу дружбу и подбил Брукфилда сказать мне,
что нам следует вернуться к более приемлемой форме отношений. Уильям заявил
мне, что я пишу и появляюсь слишком часто и что писать я должен лишь в
ответ, а навещать их дом - лишь по приглашению. Мой гнев сравним был только
с моим горем - мог ли я выжить на голодном рационе, отныне мне предписанном?
Я с нетерпением ждал почты, и когда от Джейн пришел куцый обрывок письма,
каким потоком слов я разразился в ответ! Наверное, вы презираете меня за то,
что я согласился на такие условия, по-вашему, мне следовало заявить:
"Прекрасно, сэр, раз так, прощайте и подите к дьяволу вместе с вашей женой".
Возможно, вы бы стали больше уважать меня, пошли я Брукфилду вызов и проткни
его шпагой, которую в подобных драматических коллизиях Титмарш вытаскивает
из ножен. В ответ могу сказать только одно: если вам по душе такие
мелодрамы, вы не знаете, что такое любовь. Ради любви можно пойти на все,
можно продать душу дьяволу, чтобы бросить один-единственный взгляд на
любимую, можно месяцами ждать встречи. Несправедливость приговора Брукфилда
заставила меня кипеть от ярости, но я не возражал - мне ничего не оставалось
делать. Единственное утешение я находил в стихах - я изливал в них душу и
посылал Джейн. Она на них не отзывалась и писала мне светские послания, в
которых пересказывала, что сказал или сделал ее муж, и давала советы, как
беречь здоровье. Я ненавидел эти жалкие, по-родственному заботливые письма,
но не мог без них жить. От одного вида ее почерка на конверте я чувствовал
себя счастливым целый день.
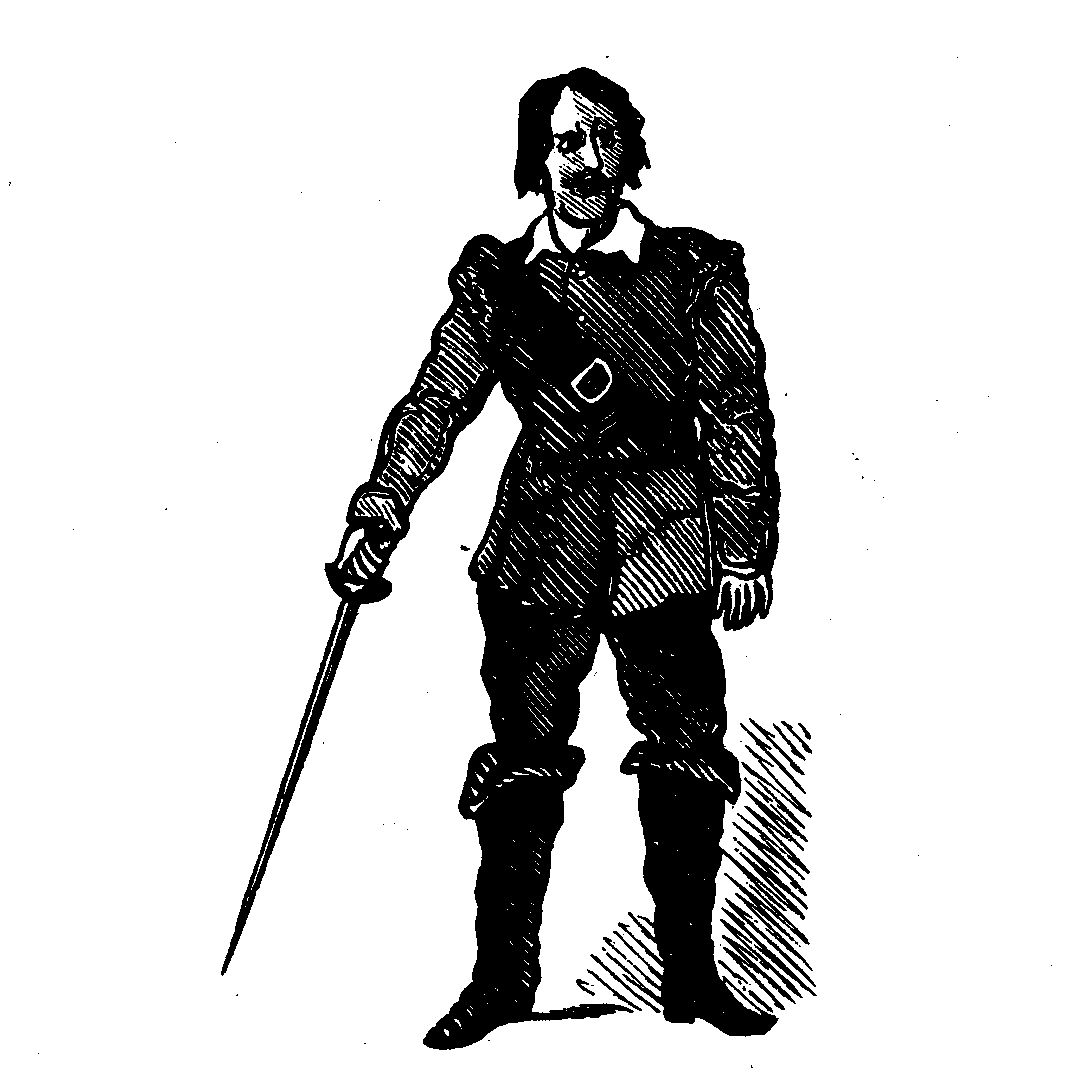 Ей, конечно, приходилось много хуже. Негоже мне соваться в супружеские
отношения Брукфилдов, но судите сами, может ли умная, тонко чувствующая
женщина быть счастлива с гораздо менее умным, властным мужем, который
зачастую не считается с ее желаниями? Мне одному известны горести,
выпадавшие на ее долю, и я сохраню их в тайне. Она покорилась нашей разлуке,
потому что у нас не было иного выхода. Конечно, мы могли пойти на сделку с
дьяволом и убежать вдвоем, но в мире не нашлось бы места, где нас не жег бы
стыд из-за оставленного позади разгрома. Преодолеть разделявшие нас
препятствия было невозможно, поэтому я продолжал тосковать о Джейн, все
глубже загоняя себя в болезнь и расшатывая свое и без того подорванное
здоровье. Сокрушительный удар довершил мои несчастья: Брукфилд сообщил мне
конфиденциально, что Джейн весной ждет разрешения от бремени, один бог
знает, как я задрожал при этом известии, как побледнел, нахмурился, как
жаждал оказаться где угодно, но только не в его гостиной. То была полная
неожиданность - после стольких лет бездетного брака, сейчас, когда она
любила меня, носить его дитя - это было ужасно! Ревность моя была
безудержна, обида безобразна, ужас неподделен. День за днем мне предстояло
наблюдать, как раздается тело любимой женщины из-за ребенка, зачатого не от
меня. Неважно, что отцом малютки был ее муж, мне виделось тут что-то
непристойное, похожее на неотвязные кошмары, преследовавшие меня по ночам.
Как вынести такую муку? Когда мне приказали умерить свое чересчур пылкое
обожание, пилюля была горькой, но то был комар в сравнении с этой новой,
величиной с верблюда.
Ей, конечно, приходилось много хуже. Негоже мне соваться в супружеские
отношения Брукфилдов, но судите сами, может ли умная, тонко чувствующая
женщина быть счастлива с гораздо менее умным, властным мужем, который
зачастую не считается с ее желаниями? Мне одному известны горести,
выпадавшие на ее долю, и я сохраню их в тайне. Она покорилась нашей разлуке,
потому что у нас не было иного выхода. Конечно, мы могли пойти на сделку с
дьяволом и убежать вдвоем, но в мире не нашлось бы места, где нас не жег бы
стыд из-за оставленного позади разгрома. Преодолеть разделявшие нас
препятствия было невозможно, поэтому я продолжал тосковать о Джейн, все
глубже загоняя себя в болезнь и расшатывая свое и без того подорванное
здоровье. Сокрушительный удар довершил мои несчастья: Брукфилд сообщил мне
конфиденциально, что Джейн весной ждет разрешения от бремени, один бог
знает, как я задрожал при этом известии, как побледнел, нахмурился, как
жаждал оказаться где угодно, но только не в его гостиной. То была полная
неожиданность - после стольких лет бездетного брака, сейчас, когда она
любила меня, носить его дитя - это было ужасно! Ревность моя была
безудержна, обида безобразна, ужас неподделен. День за днем мне предстояло
наблюдать, как раздается тело любимой женщины из-за ребенка, зачатого не от
меня. Неважно, что отцом малютки был ее муж, мне виделось тут что-то
непристойное, похожее на неотвязные кошмары, преследовавшие меня по ночам.
Как вынести такую муку? Когда мне приказали умерить свое чересчур пылкое
обожание, пилюля была горькой, но то был комар в сравнении с этой новой,
величиной с верблюда.
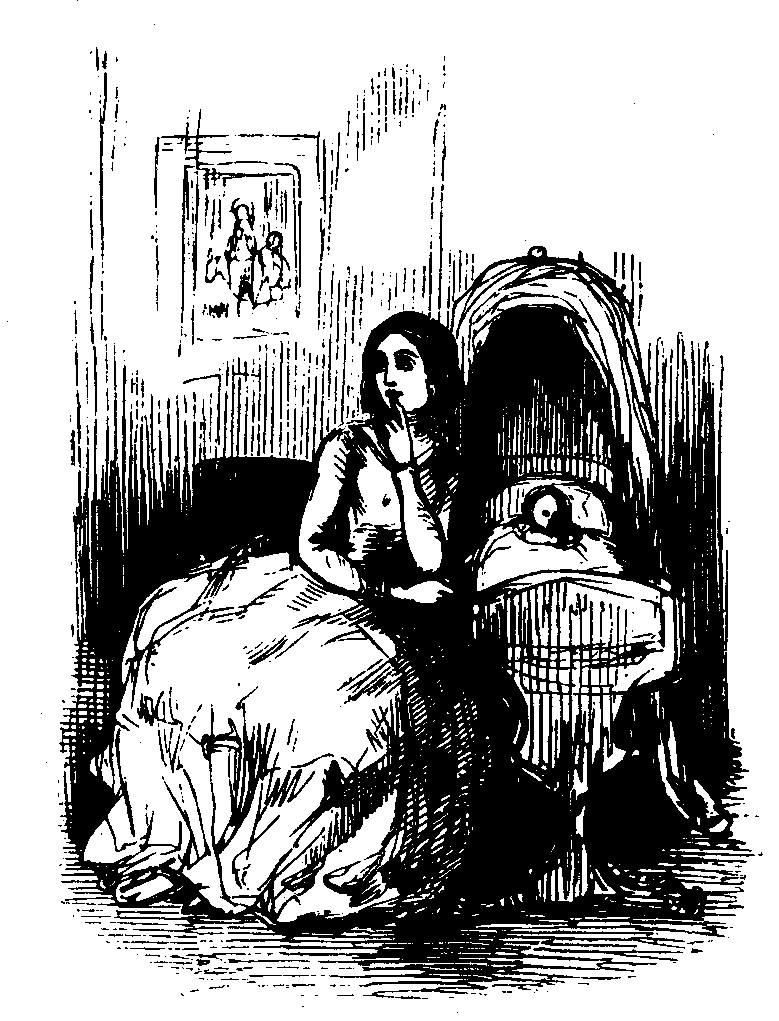 Со временем я успокоился и начал разделять радость Джейн. Она так
тосковала по ребенку и совсем было отчаялась. Теперь это ее утешит и утолит
печаль, которую ей причинила наша разлука, и было бы несправедливо, если бы
я не разделил с ней ее радость. За Брукфилда я тоже должен порадоваться,
ведь он мой друг. До чего запутанный клубок - как я терзался, как хотел
когда-нибудь его распутать. Ребенок скрепит их союз неразрывными узами, нас
с Джейн отныне будут разделять три ангелочка - мои девочки и ее крошка.
Могли ли мы обречь этих детей на муки и повести себя как эгоисты? О нет, мы
неспособны были на подобную жестокость. И я по-прежнему ходил к ним в дом,
когда мне позволяли, делил общество Джейн с любым случайным гостем, смотрел
на нее издали, вел светскую беседу и про себя дивился, как я все это выношу,
а после, когда очередное самоистязание кончалось и я оставался в своей
комнате один, возводил каждый ее взгляд в событие и цеплялся, словно
утопающий, за каждое прикосновение ее руки, когда прощался или вел ее к
столу. Это было чудовищно. Не сомневаюсь, что Брукфилды не хуже моего
понимали чудовищность происходящего; отчего Уильям не отказал мне от дома
сразу же? Зачем он позволял мне думать, будто наша дружба может
продолжаться? Толкуйте это как хотите, но я подозреваю, что ему было приятно
наблюдать, как я поклоняюсь его жене, а ей я был нужен не меньше, чем она
мне.
У каждого из нас есть в жизни обстоятельства, которых нелегко касаться,
такова и моя история. Если вы приведете мне в пример мужчину, чье сердце не
было опалено несчастной любовью, я докажу вам, что он не жил по-настоящему и
не растратил те кладези и водоемы чувств, которые лежат в его душе
нетронутыми, пусть он и счастлив, и доволен - он меньше человек, чем мог бы
быть. Когда-то я считал, что обрести хорошую жену и теплый очаг, уметь
прокормиться и делать свое дело - это и значит жить, как должно: стремиться
надо к тихим водам, но сейчас мне думается, что только в буре формируется
характер, - ее намеренно не ищут, но с неизбежностью находят, когда
оставляют спокойную гавань и устремляются навстречу риску. Пожалуй, я так же
не хотел бы избежать выпавших мне на долю бурь и непогод, как не хотел бы
остаться навсегда ребенком, хотя выстаивать их было тяжко. Нет, я не верю,
что у каждой тучи есть серебряная изнанка или что бог испытывает тех, кого
любит, но думаю, что нам не следует бояться риска - благодаря ему мы учимся,
а если иным из нас назначено изведать больше, чем собратьям, давайте
постараемся узнать как можно больше. Позвольте вам посоветовать: стремитесь
вперед, покорно принимая все происходящее, не жалуйтесь, если выходите из
испытания измученным и душевно сломленным, зато вы многое узнаете, научитесь
сочувствовать своим товарищам по плаванию и, добравшись до другого берега,
порадуетесь, что пустились в путь.
Вы замечаете, что каждое упоминание о Джейн Брукфилд настраивает меня
невероятно философски? Я над собой не властен - даже после стольких лет я
падаю духом, вспоминая те времена, и не могу не предаваться мрачным,
беспокойным мыслям. Единственное, что спасало меня тогда, как спасает и
теперь, когда накатывает прежняя тоска, - это причуды окружающих; нередко,
поражаясь их нелепости, я вслух смеюсь над их диковинной чванливостью или
безумием и говорю себе, что мир смешон и нет причины принимать его всерьез.
Помню, как раз закончив "Ярмарку тщеславия", я очень тосковал во время
своего отдыха, но как-то, сидя в ресторане и тупо глядя в меню, заметил с
великим изумлением, что дама за соседним столиком, недавно громогласно
заявлявшая, что чувствует себя ужасно, буквально умирает и ничего не может
взять в рот, поглотила немыслимые горы снеди и тут же впала вновь в свою
предсмертную истому. Столь неумеренная глупость так меня развеселила, что я
на время совершенно позабыл свою тоску и понял, что открыл секрет. Чем
больше я смотрел и наблюдал, тем больше развлекался, а вскоре и совсем
пришел в себя. Когда мы подавлены, нет ничего хуже, чем запереться в четырех
стенах и пестовать свою тоску как хворого зверька, вместо того чтобы
воспользоваться тем, что нас от прочих тварей отличает, - нашим разумом.
Чтобы забыться, нужно занять ум, и, значит, нужно непрестанно давать ему
пищу и повод для работы, что мы и делаем, когда выходим из дому и наблюдаем
за происходящим.
Трудно вообразить, сколько раз я повторял себе все это с тех пор, как
получил известие о том, что Джейн ждет ребенка. Нет, я не уединялся в своей
комнате и не предавался скорби, и, если не работал, выезжал в свет, как и
встарь. Я посещал теперь самые знатные дома, но хоть и радовался случаю
увидеть Дизраэли или Пальмерстона, это не вызывало у меня прежнего
воодушевления. Я жил, как в трауре, и если в обществе, в котором я вращался,
меня поругивали за угрюмый нрав' и мрачность, то правильно делали, тем более
что причин тому они не знали. Догадываетесь ли вы, что, кроме отношений с
Джейн, усугубляло мою мрачность? Как ни странно, моя работа. Да, верно, обо
мне говорил весь Лондон, у моих ног лежал литературный мир, издатели
осаждали мою дверь, требуя новой книги, но, оказавшись первой скрипкой, я
был не в силах удержать смычок. "Пенденнис" совсем не продвигался вперед,
хотя первый выпуск вышел в свет еще в ноябре 1848 года. Я начал его, не
очень точно зная, каким он будет, задумав два-три образа и общие контуры
сюжета, чего мне казалось достаточно, ибо так было и с "Ярмаркой тщеславия".
К несчастью, "Пенденнис" не последовал ее примеру, работалось мне медленно,
я утешал себя тем, что книги пишутся по-разному, что это самое начало,
спешить пока некуда, что я еще не отдохнул, не нужно торопиться и тому
подобное. Я бы не допустил выхода первой части, если бы не искус денег.
"Ярмарка тщеславия" покрыла все мои долги, а после смерти бабушки я получил
наследство, и, значит, следующий год был обеспечен, но я научился смотреть
дальше собственного носа и понимал, что нужно ковать железо, пока горячо - я
рвался возместить потерянное состояние и обеспечить будущее жены и детей. Я
знаю, вы хотите сказать, что это губительно для дела - позднее я и сам стал
так думать, но в ту пору у меня еще не было подобных опасений, да я и все
равно бы взялся за "Пенденниса", даже если бы не нуждался в деньгах. Тут не
было ничего опасного: мои писательские требования оставались высокими, я не
намерен был компрометировать себя ради сомнительных рынков сбыта, но все
равно было ужасно писать такую тягомотину, когда в противном стане Диккенс
печатал "Дэвида Копперфилда". Не стану спрашивать, читали ли вы его, его все
читали, он прекрасен. Друзья мне льстили, один зашел так далеко, что уверял,
будто я затмил его "Пенденнисом", - о, что за ложь, ведь Диккенс превзошел
тут самого себя, я первый готов был в этом поклясться. Но между нами говоря,
я думаю, что "Дэвид Копперфилд" стал лучшей книгой Диккенса, оставив позади
все прежние романы, ибо он усвоил урок, преподанный ему романом Другого
Автора. Он понял подсказку "Ярмарки тщеславия" и, ко всеобщей радости,
заметно упростил свой стиль. Наверное, сам бы он в этом не признался, - по
крайней мере, мне так кажется, - но посмотрите беспристрастно - и вы будете
поражены открывшимся. Можно было бы ожидать, что под воздействием "Дэвида
Копперфилда" я испытаю прилив сил, но какое там! - я продолжал с трудом
брести вперед, медленно и мучительно выдавливая из себя одну унылую главу за
другой. Меня пугал не только мой черепаший темп, но и легкость, с которой я
способен был упустить нить повествования, напрочь забыть целые эпизоды,
имена героев и тому подобное. Казалось, слабоумие подстерегало меня за
углом, и я опасался, что Анни вскоре придется нянчить бессвязно бормочущего
старика и утирать ему слюнявый рот. Я с ужасом заметил, что в моем творении
нет ни живости, ни веселья, - оно и понятно, ибо сам автор не ощущал ни
того, ни другого. Мои светские вылазки не доставляли мне удовольствия;
наливаться кларетом было, конечно, приятно, но это вызывало удушье и тяжесть
в голове на следующее утро. После целого дня угрюмого нанизывания бесцветных
слов мне необходимо было посетить питейное заведение, напоминавшее
раскаленную топку, где из-за давки буйствовали посетители и где я подымал
стакан отменной влаги размером с канделябр и осушал его, прислушиваясь к
разговорам окружающих, словно старый филер, удивляясь про себя, какого черта
я здесь делаю. В памфлете того времени я был поименован "книжных дел
мастером на все руки", специалистом по "откалыванию несообразностей".
Неужели это было справедливо? Неужели я был способен лишь на это? Но если в
моей душе и вспыхивали крошечные искорки протеста, я вынужден был
согласиться. Изо дня в день я до семи часов вечера корпел над рукописью, и
результат бывал ничтожен - я исписывал назначенное количество страниц и этим
все исчерпывалось. После каждой порции я чувствовал себя усталым и больным и
ужасался перспективе тотчас же впрячься в работу снова. Но отступать было
невозможно: за первые выпуски я получил больше денег, чем за всю "Ярмарку
тщеславия", но не скажу вам, сколько именно, чтобы вас не покоробило, что за
плохие книги писатели получают столько же, сколько за хорошие. Но книги -
это бизнес, как и многое другое, издатели - бизнесмены, готовые нанять вас
по цене, которую вы получили за последнюю работу, а это значит, что автор
порою получает за последнюю плохую книгу вдвое больше, чем за предыдущую
хорошую. Успокаивает лишь то, что так не может продолжаться вечно: если ваша
последняя книга провалится, за следующую заплатят очень мало, как бы она ни
была хороша. Возможно, вы полагаете, что я проявляю нездоровый интерес к
презренному металлу, вместо того чтобы витать в облаках в поисках
вдохновения, как приличествует писателю, но замечу вам, что ни разу в жизни
не встречал собрата-литератора, не озабоченного тем же, и что у читающей
публики сложилось совершенно неверное представление о предмете. Почему нам
нельзя заботиться о том, сколько мы зарабатываем? Почему нам следует
стыдиться признания, что, уповая тронуть ваше сердце, мы заодно надеемся
прокормиться пером? Смею вас уверить, я бы не стал писать бесплатно, и
ничуть не верю, что это умаляет то, что я пишу. Деньги, дорогой сэр,
отличный стимул.
Со временем я успокоился и начал разделять радость Джейн. Она так
тосковала по ребенку и совсем было отчаялась. Теперь это ее утешит и утолит
печаль, которую ей причинила наша разлука, и было бы несправедливо, если бы
я не разделил с ней ее радость. За Брукфилда я тоже должен порадоваться,
ведь он мой друг. До чего запутанный клубок - как я терзался, как хотел
когда-нибудь его распутать. Ребенок скрепит их союз неразрывными узами, нас
с Джейн отныне будут разделять три ангелочка - мои девочки и ее крошка.
Могли ли мы обречь этих детей на муки и повести себя как эгоисты? О нет, мы
неспособны были на подобную жестокость. И я по-прежнему ходил к ним в дом,
когда мне позволяли, делил общество Джейн с любым случайным гостем, смотрел
на нее издали, вел светскую беседу и про себя дивился, как я все это выношу,
а после, когда очередное самоистязание кончалось и я оставался в своей
комнате один, возводил каждый ее взгляд в событие и цеплялся, словно
утопающий, за каждое прикосновение ее руки, когда прощался или вел ее к
столу. Это было чудовищно. Не сомневаюсь, что Брукфилды не хуже моего
понимали чудовищность происходящего; отчего Уильям не отказал мне от дома
сразу же? Зачем он позволял мне думать, будто наша дружба может
продолжаться? Толкуйте это как хотите, но я подозреваю, что ему было приятно
наблюдать, как я поклоняюсь его жене, а ей я был нужен не меньше, чем она
мне.
У каждого из нас есть в жизни обстоятельства, которых нелегко касаться,
такова и моя история. Если вы приведете мне в пример мужчину, чье сердце не
было опалено несчастной любовью, я докажу вам, что он не жил по-настоящему и
не растратил те кладези и водоемы чувств, которые лежат в его душе
нетронутыми, пусть он и счастлив, и доволен - он меньше человек, чем мог бы
быть. Когда-то я считал, что обрести хорошую жену и теплый очаг, уметь
прокормиться и делать свое дело - это и значит жить, как должно: стремиться
надо к тихим водам, но сейчас мне думается, что только в буре формируется
характер, - ее намеренно не ищут, но с неизбежностью находят, когда
оставляют спокойную гавань и устремляются навстречу риску. Пожалуй, я так же
не хотел бы избежать выпавших мне на долю бурь и непогод, как не хотел бы
остаться навсегда ребенком, хотя выстаивать их было тяжко. Нет, я не верю,
что у каждой тучи есть серебряная изнанка или что бог испытывает тех, кого
любит, но думаю, что нам не следует бояться риска - благодаря ему мы учимся,
а если иным из нас назначено изведать больше, чем собратьям, давайте
постараемся узнать как можно больше. Позвольте вам посоветовать: стремитесь
вперед, покорно принимая все происходящее, не жалуйтесь, если выходите из
испытания измученным и душевно сломленным, зато вы многое узнаете, научитесь
сочувствовать своим товарищам по плаванию и, добравшись до другого берега,
порадуетесь, что пустились в путь.
Вы замечаете, что каждое упоминание о Джейн Брукфилд настраивает меня
невероятно философски? Я над собой не властен - даже после стольких лет я
падаю духом, вспоминая те времена, и не могу не предаваться мрачным,
беспокойным мыслям. Единственное, что спасало меня тогда, как спасает и
теперь, когда накатывает прежняя тоска, - это причуды окружающих; нередко,
поражаясь их нелепости, я вслух смеюсь над их диковинной чванливостью или
безумием и говорю себе, что мир смешон и нет причины принимать его всерьез.
Помню, как раз закончив "Ярмарку тщеславия", я очень тосковал во время
своего отдыха, но как-то, сидя в ресторане и тупо глядя в меню, заметил с
великим изумлением, что дама за соседним столиком, недавно громогласно
заявлявшая, что чувствует себя ужасно, буквально умирает и ничего не может
взять в рот, поглотила немыслимые горы снеди и тут же впала вновь в свою
предсмертную истому. Столь неумеренная глупость так меня развеселила, что я
на время совершенно позабыл свою тоску и понял, что открыл секрет. Чем
больше я смотрел и наблюдал, тем больше развлекался, а вскоре и совсем
пришел в себя. Когда мы подавлены, нет ничего хуже, чем запереться в четырех
стенах и пестовать свою тоску как хворого зверька, вместо того чтобы
воспользоваться тем, что нас от прочих тварей отличает, - нашим разумом.
Чтобы забыться, нужно занять ум, и, значит, нужно непрестанно давать ему
пищу и повод для работы, что мы и делаем, когда выходим из дому и наблюдаем
за происходящим.
Трудно вообразить, сколько раз я повторял себе все это с тех пор, как
получил известие о том, что Джейн ждет ребенка. Нет, я не уединялся в своей
комнате и не предавался скорби, и, если не работал, выезжал в свет, как и
встарь. Я посещал теперь самые знатные дома, но хоть и радовался случаю
увидеть Дизраэли или Пальмерстона, это не вызывало у меня прежнего
воодушевления. Я жил, как в трауре, и если в обществе, в котором я вращался,
меня поругивали за угрюмый нрав' и мрачность, то правильно делали, тем более
что причин тому они не знали. Догадываетесь ли вы, что, кроме отношений с
Джейн, усугубляло мою мрачность? Как ни странно, моя работа. Да, верно, обо
мне говорил весь Лондон, у моих ног лежал литературный мир, издатели
осаждали мою дверь, требуя новой книги, но, оказавшись первой скрипкой, я
был не в силах удержать смычок. "Пенденнис" совсем не продвигался вперед,
хотя первый выпуск вышел в свет еще в ноябре 1848 года. Я начал его, не
очень точно зная, каким он будет, задумав два-три образа и общие контуры
сюжета, чего мне казалось достаточно, ибо так было и с "Ярмаркой тщеславия".
К несчастью, "Пенденнис" не последовал ее примеру, работалось мне медленно,
я утешал себя тем, что книги пишутся по-разному, что это самое начало,
спешить пока некуда, что я еще не отдохнул, не нужно торопиться и тому
подобное. Я бы не допустил выхода первой части, если бы не искус денег.
"Ярмарка тщеславия" покрыла все мои долги, а после смерти бабушки я получил
наследство, и, значит, следующий год был обеспечен, но я научился смотреть
дальше собственного носа и понимал, что нужно ковать железо, пока горячо - я
рвался возместить потерянное состояние и обеспечить будущее жены и детей. Я
знаю, вы хотите сказать, что это губительно для дела - позднее я и сам стал
так думать, но в ту пору у меня еще не было подобных опасений, да я и все
равно бы взялся за "Пенденниса", даже если бы не нуждался в деньгах. Тут не
было ничего опасного: мои писательские требования оставались высокими, я не
намерен был компрометировать себя ради сомнительных рынков сбыта, но все
равно было ужасно писать такую тягомотину, когда в противном стане Диккенс
печатал "Дэвида Копперфилда". Не стану спрашивать, читали ли вы его, его все
читали, он прекрасен. Друзья мне льстили, один зашел так далеко, что уверял,
будто я затмил его "Пенденнисом", - о, что за ложь, ведь Диккенс превзошел
тут самого себя, я первый готов был в этом поклясться. Но между нами говоря,
я думаю, что "Дэвид Копперфилд" стал лучшей книгой Диккенса, оставив позади
все прежние романы, ибо он усвоил урок, преподанный ему романом Другого
Автора. Он понял подсказку "Ярмарки тщеславия" и, ко всеобщей радости,
заметно упростил свой стиль. Наверное, сам бы он в этом не признался, - по
крайней мере, мне так кажется, - но посмотрите беспристрастно - и вы будете
поражены открывшимся. Можно было бы ожидать, что под воздействием "Дэвида
Копперфилда" я испытаю прилив сил, но какое там! - я продолжал с трудом
брести вперед, медленно и мучительно выдавливая из себя одну унылую главу за
другой. Меня пугал не только мой черепаший темп, но и легкость, с которой я
способен был упустить нить повествования, напрочь забыть целые эпизоды,
имена героев и тому подобное. Казалось, слабоумие подстерегало меня за
углом, и я опасался, что Анни вскоре придется нянчить бессвязно бормочущего
старика и утирать ему слюнявый рот. Я с ужасом заметил, что в моем творении
нет ни живости, ни веселья, - оно и понятно, ибо сам автор не ощущал ни
того, ни другого. Мои светские вылазки не доставляли мне удовольствия;
наливаться кларетом было, конечно, приятно, но это вызывало удушье и тяжесть
в голове на следующее утро. После целого дня угрюмого нанизывания бесцветных
слов мне необходимо было посетить питейное заведение, напоминавшее
раскаленную топку, где из-за давки буйствовали посетители и где я подымал
стакан отменной влаги размером с канделябр и осушал его, прислушиваясь к
разговорам окружающих, словно старый филер, удивляясь про себя, какого черта
я здесь делаю. В памфлете того времени я был поименован "книжных дел
мастером на все руки", специалистом по "откалыванию несообразностей".
Неужели это было справедливо? Неужели я был способен лишь на это? Но если в
моей душе и вспыхивали крошечные искорки протеста, я вынужден был
согласиться. Изо дня в день я до семи часов вечера корпел над рукописью, и
результат бывал ничтожен - я исписывал назначенное количество страниц и этим
все исчерпывалось. После каждой порции я чувствовал себя усталым и больным и
ужасался перспективе тотчас же впрячься в работу снова. Но отступать было
невозможно: за первые выпуски я получил больше денег, чем за всю "Ярмарку
тщеславия", но не скажу вам, сколько именно, чтобы вас не покоробило, что за
плохие книги писатели получают столько же, сколько за хорошие. Но книги -
это бизнес, как и многое другое, издатели - бизнесмены, готовые нанять вас
по цене, которую вы получили за последнюю работу, а это значит, что автор
порою получает за последнюю плохую книгу вдвое больше, чем за предыдущую
хорошую. Успокаивает лишь то, что так не может продолжаться вечно: если ваша
последняя книга провалится, за следующую заплатят очень мало, как бы она ни
была хороша. Возможно, вы полагаете, что я проявляю нездоровый интерес к
презренному металлу, вместо того чтобы витать в облаках в поисках
вдохновения, как приличествует писателю, но замечу вам, что ни разу в жизни
не встречал собрата-литератора, не озабоченного тем же, и что у читающей
публики сложилось совершенно неверное представление о предмете. Почему нам
нельзя заботиться о том, сколько мы зарабатываем? Почему нам следует
стыдиться признания, что, уповая тронуть ваше сердце, мы заодно надеемся
прокормиться пером? Смею вас уверить, я бы не стал писать бесплатно, и
ничуть не верю, что это умаляет то, что я пишу. Деньги, дорогой сэр,
отличный стимул.
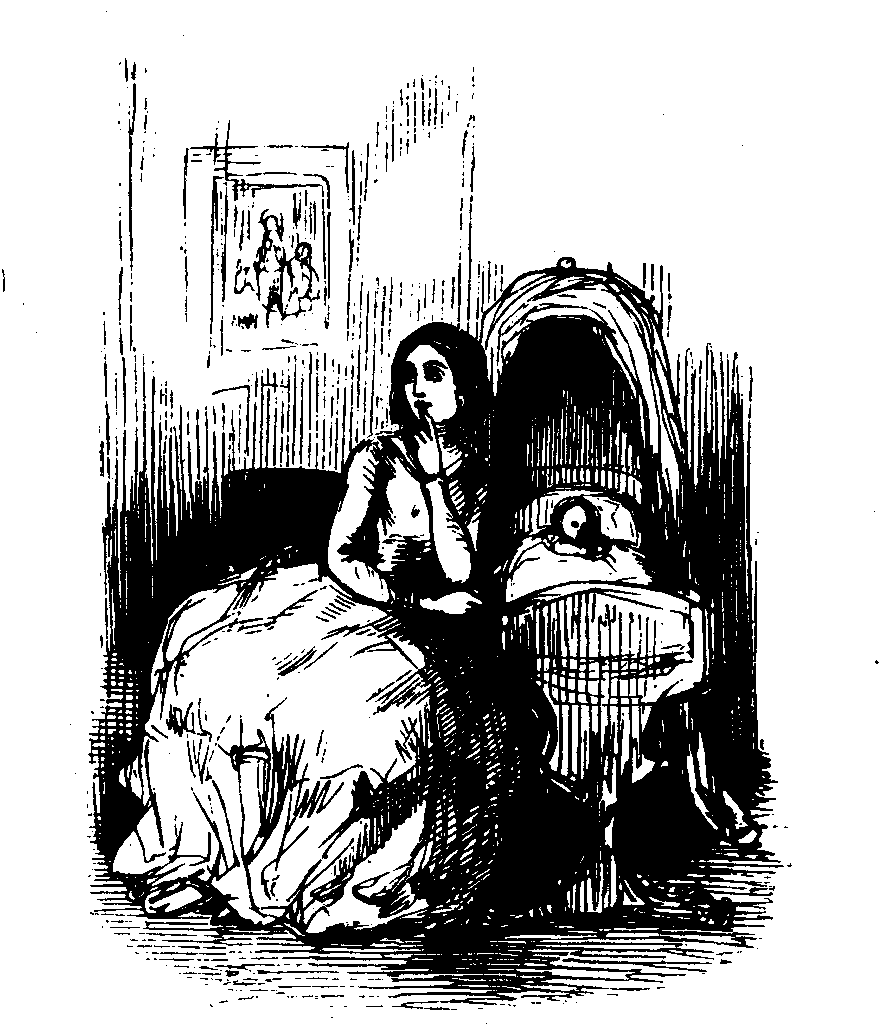 Однако стимул этот оказался слаб и не помог мне написать тогда что-либо
стоящее. То был один из худших периодов в моей жизни, хуже болезни Изабеллы:
в ту пору, как ни велика была трагедия, я был здоров и даже доволен собой,
но в дни, когда я начинал "Пенденниса", самочувствие мое было ужасно, и
впереди я не ждал ничего хорошего. Таких периодов следует остерегаться, этих
ужасных провалов между волнами, когда, по нашему твердому убеждению, нам
больше не бывать на гребне. Мне в жизни чаще приходилось отчаянно
барахтаться между волнами, чем выплывать из глубины, и эти
беспросветно-серые дни - большее испытание жизнеспособности, чем настоящий
шторм. Когда я замечаю, что меня затягивает мертвая зыбь, я начинаю, сдирая
кожу с рук, отчаянно цепляться за корабль, и поскольку у меня немалый опыт,
должен признаться, что довольно ловко управляюсь.
Конечно, порою я борюсь напрасно, и что тогда? Тогда оказывается, что
мой недуг никакая не хандра, а самая настоящая болезнь, и все мои усилия,
как правило, бесплодные, не говорить себе правды еще глубже загоняют меня в
болезнь. Именно так и случилось осенью 1849 года. Я вернулся в Лондон после
короткого и драгоценного отдыха подле Джейн Брукфилд на острове Уайт, уверяя
себя, что плохо себя чувствую из-за разлуки, из-за возвращения к
томительному "Пенденнису", - меня не отпускала боль и мнимое, как мне
казалось, ощущение жара, но то было приближение телесного недуга. Сколько
помнится, диагноза мне так и не поставили, но как бы моя хворь ни
называлась, она унесла три месяца жизни и едва меня не прикончила, однако в
чем-то - я в это искренне верю - непредсказуемо меня улучшила, и я благодарю
за нее судьбу. Не правда ли, звучит невероятно - можно ли благодарить судьбу
за тяжкую болезнь? Тем не менее это правда, сейчас я объясню, что хочу
сказать, и вы, быть может, со мною согласитесь.
Однако стимул этот оказался слаб и не помог мне написать тогда что-либо
стоящее. То был один из худших периодов в моей жизни, хуже болезни Изабеллы:
в ту пору, как ни велика была трагедия, я был здоров и даже доволен собой,
но в дни, когда я начинал "Пенденниса", самочувствие мое было ужасно, и
впереди я не ждал ничего хорошего. Таких периодов следует остерегаться, этих
ужасных провалов между волнами, когда, по нашему твердому убеждению, нам
больше не бывать на гребне. Мне в жизни чаще приходилось отчаянно
барахтаться между волнами, чем выплывать из глубины, и эти
беспросветно-серые дни - большее испытание жизнеспособности, чем настоящий
шторм. Когда я замечаю, что меня затягивает мертвая зыбь, я начинаю, сдирая
кожу с рук, отчаянно цепляться за корабль, и поскольку у меня немалый опыт,
должен признаться, что довольно ловко управляюсь.
Конечно, порою я борюсь напрасно, и что тогда? Тогда оказывается, что
мой недуг никакая не хандра, а самая настоящая болезнь, и все мои усилия,
как правило, бесплодные, не говорить себе правды еще глубже загоняют меня в
болезнь. Именно так и случилось осенью 1849 года. Я вернулся в Лондон после
короткого и драгоценного отдыха подле Джейн Брукфилд на острове Уайт, уверяя
себя, что плохо себя чувствую из-за разлуки, из-за возвращения к
томительному "Пенденнису", - меня не отпускала боль и мнимое, как мне
казалось, ощущение жара, но то было приближение телесного недуга. Сколько
помнится, диагноза мне так и не поставили, но как бы моя хворь ни
называлась, она унесла три месяца жизни и едва меня не прикончила, однако в
чем-то - я в это искренне верю - непредсказуемо меня улучшила, и я благодарю
за нее судьбу. Не правда ли, звучит невероятно - можно ли благодарить судьбу
за тяжкую болезнь? Тем не менее это правда, сейчас я объясню, что хочу
сказать, и вы, быть может, со мною согласитесь.
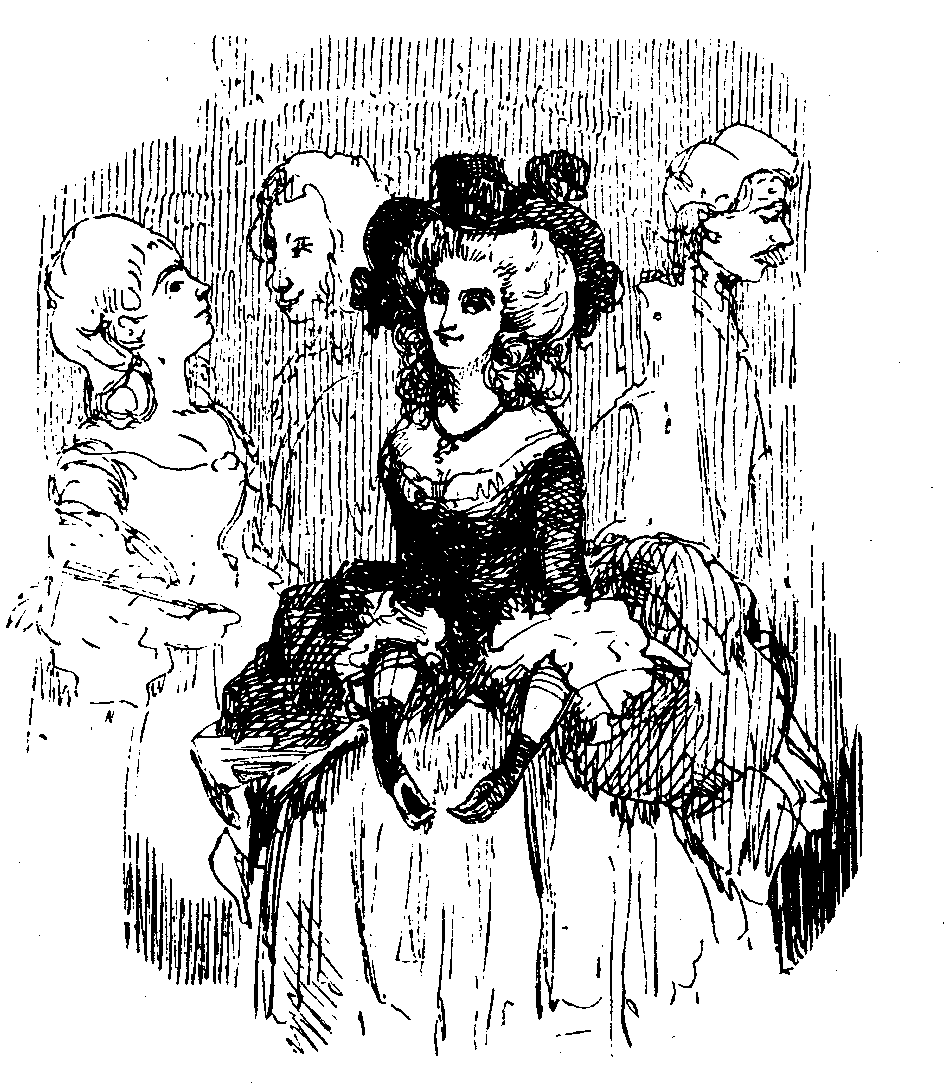 Я мало что помню о начале болезни, помню только, что потерял сознание и
меня перенесли в постель, затем поднялась невероятная суета: доктора и
какие-то другие люди склонялись над кроватью, в которой я лежал, нимало не
тревожась о случившемся. Много дней я терял сознание и снова приходил в
себя, ощущая только муки, боль и озноб, но даже их воспринимая как-то
отстраненно, словно издалека. Иногда меня обуревали страшные мысли о моих
девочках, и тогда тревога обостряла терзавшую меня боль, но чаще всего я был
во власти какой-то, пожалуй, приятной бесчувственности, которая отнимала всю
мою волю. Я и на миг не допускаю мысли, что боролся за жизнь, оказавшись
тогда у смертного порога, напротив, я от всего сердца говорил: "Да будет
воля Твоя". Я не испугался смерти, увидев ее так близко, и знаю, что не
испытаю ужаса, когда вскоре окажусь подле нее снова. Трудно умирать лишь
тем, кто упрямо цепляется за жизнь, но я не стану за нее цепляться. Когда
пробьет мой час, я буду наготове, вы не увидите моих сомнений - я не спрошу,
неужто мне пора. Помню, что тогда, незадолго перед моими собственными играми
со смертью, я ездил в Париж навещать престарелую родственницу и с каким-то
холодным ужасом смотрел на то, что ждет нас всех, и думал про себя, как мне
хотелось бы не подвергаться ничему подобному. Передо мной лежала худая,
серо-желтая, беззубая старуха, которая металась, обессиленно постанывала и
отчаянно сопротивлялась неизбежному даже в последние минуты. Как она
боролась, и как я дивился ее цепкости и спрашивал себя, найдутся ли у меня
силы сопротивляться так же, когда придет мой час. Да пребудет с нами милость
господня!
Постепенно я выходил из этого полубессознательного состояния, в котором
чувствовал лишь равнодушие к происходившему - по-новому увидел дорогие лица
Анни и Минни и полюбил их вновь. Стараясь восстановить силы, я лежал долгие
недели, исполненный одним лишь новым, чудесным ощущением счастья от того,
что выжил и любим, от того, какое благо каждый божий день. Пожалуй, вернее
всего сказать, что несмотря на слабость или, скорее, благодаря слабости, я
был чист и кроток, словно высвободился из тисков постоянного противоборства
с заботами и неприятностями. Я не знал ни того, что со мной было, ни того,
что ждало меня впереди, но ко мне вернулась вера в жизнь. Солнце вставало и
садилось, а тем временем добрые люди преданно за мной ухаживали. О, доброта
на свете поразительна! Едва ли не каждые пять минут слышался стук в дверь и
дорогому мистеру Теккерею передавали очередную записку и гостинец. Каждая
дама в Лондоне почитала своим долгом приготовить больному желе и питательный
бульон и отослать их с самыми горячими заверениями в своей безмерной
преданности. Вы думаете, я пытался их остановить? Ничуть не бывало, я
купался в любви, считал и пересчитывал, как много у меня друзей, благодарил
судьбу и лежа размышлял, как много упустил в те мрачные дни плаксивой
жалости к себе, предшествовавшие моей болезни. Голова моя раскалывалась -
она полна была Джейн Брукфилд и "Пенденниса", больше в ней ничего тогда не
умещалось, но ведь имелись и другие люди, и другие интересы, которых я
предпочитал не замечать. Я обещал себе, что больше этого не допущу - не
стану закрывать глаза и уши, забыв про целый мир.
Едва я смог двигаться, я отправился в Брайтон, чтобы набраться сил, и
наслаждался там роскошью безделия и праздности. Закутанного в шали и пледы,
меня выкатывали в кресле на мол, откуда я каждый день следил за
устремлявшимися вниз чайками, слушал их крики, ощущал на щеках жжение
соленых брызг и ветра, и мне хотелось прыгать и кричать от счастья, но не
хватало сил. Силы возвращались медленно, возможно, к счастью, ибо моя
телесная слабость продлила часы отдохновения и дала мне время осознать мои
планы. Я заметил, что лежа в кресле у воды думаю совсем не так поспешно и
смятенно, как в Лондоне, где на меня давила ежедневная работа, а в более
тихом и прозрачном духе. Что ж, нужно снова взяться за "Пенденниса",
прерванного болезнью, - несколько месяцев он не поступал в продажу - нужно
встряхнуть как следует эту историю и приложить все силы, чтоб оживить
повествование и вновь привлечь внимание публики, - вот вам самое
замечательное следствие моей болезни. Ко мне вернулось честолюбие в минуту,
когда я счел, что с ним покончено, или, скорее, вернулось мое рвение к
работе. Если прежде я ужасался мысли, что нужно сесть за стол, и даже самый
вид пера, чернил и бумаги вызывал у меня отвращение, то сейчас мне не
терпелось иметь под рукой орудия моего ремесла, чтоб энергично взяться за
дело. Во мне пробудилось прежнее желание писать, я понимал, что оно во
что-то выльется, и мне это казалось маленьким чудом. Я ему очень радовался,
ведь я уже счел себя мошенником, возненавидел писательство, стал видеть в
нем лишь средство заработка, сомневаясь, есть ли во мне хоть, искра таланта;
как же я возликовал, когда почувствовал, что, словно двадцатилетний юноша,
горю желанием попробовать свое перо. Без дела я не мог быть счастлив; как бы
я ни был богат и обеспечен, я не хотел бы жить на свете, не представляя
своего труда на суд других, - в последнее время (особенно когда мне хочется
поворчать на тяготы писательства) я часто напоминаю себе об этом. Вновь
пробудившееся желание писать доставило мне одну из величайших радостей.
Не стану больше распространяться о своей болезни, иначе уподоблюсь тем
несчастным, которые с таким великим удовольствием рассказывают о своих
мучениях, что это противоречит всякой логике. Они привносят в свой недуг всю
мистику святого причастия, стараясь представить себя подвижниками вследствие
перенесенных, по их словам, страданий. Болезнь не менее важное событие в их
жизни, чем их собственное зачатие, и, кажется, они ее описывают с той же
сомнительной достоверностью. Какое нагромождение деталей! Как они смакуют
симптомы: щекочущий кашель во вторник, режущая боль в животе в среду, жар в
четверг, бред в пятницу, ломота в суставах в субботу, тошнота в воскресенье,
сыпь в понедельник, после чего, вконец измученные, мы снова попадаем во
вторник, чтобы услышать все сначала. В глазах этих людей врачи - верховные
жрецы, и каждое их слово свято. С достойной сожаления радостью они
расписывают, как эскулапы противоречили друг другу, пока не объявился,
наконец, такой, который сказал, что в жизни не встречал ничего подобного -
что это худший случай в Лондоне, худший в его практике, худший в истории
медицины, и, можете не сомневаться, ему и выпадает честь исцеления, так что
наш собеседник становится его коронным пациентом. Что же касается лекарств,
то, боже мой, как эти люди многословны! Настои, микстуры, таблетки, порошки
всех видов, форм и оттенков, точно отмеряемые серебряными ложками, зажатыми
в трясущихся руках, принимаемые по дням, часам, минутам с сосредоточенной
страстью, пока в каждый уголок, в каждую пору их тела не оказывается влито
какое-нибудь снадобье, и все это в количествах, достаточных, чтобы аптекарь
целый год купался в роскоши. Из слов этих недужных становится понятно, что
то было самое волнующее переживание в их жизни, но если вам достанет
смелости заметить это вслух, воздух огласится криками, что вы бесчувственный
наглец, после чего они лишатся чувств и снова расхвораются, так что лучше
поостерегитесь. Все дело в том, что никто из них не хочет выздоравливать. Из
их рассказа ясно, что они тоскуют по болезни, чего не смеют заявить, но не
способны и скрыть.
Полагаю, о моей болезни сказано достаточно, из подобных испытаний мы
выходим эдакими моралистами, мудрыми-премудрыми, и ждем, что все склонят к
нам слух и будут нам сосредоточенно внимать. Как вы догадываетесь,
происшедшее ничуть не облегчило моего положения. Поскольку "Пенденнис"
задержался, мне предстояло наверстать упущенное время, а заодно и переделать
его - черная работа, не радовавшая меня даже в нынешнем благостном
состоянии. Мне не терпелось взяться за перо и снова показать, на что я
способен, но будь моя воля, я выбрал бы не эту, давно наскучившую книгу.
Однако ничего другого мне не оставалось, я был далек от процветания, поэтому
чем больше денег можно было заработать, тем лучше. Кстати, насколько меньше
нас страшила бы Серьезная Болезнь, не ведай мы, во что нам станет каждая
минута лихорадки. Тревога о том, в какую сумму обойдется нам недуг, доводит
до крайне тяжелого состояния гораздо больше людей, чем мне хочется думать.
Только скажите, что доктору и аптекарю уплатят не из нашего кармана и что
жалованье чудесным образом будет поступать, даже когда мы не работаем, и вы
увидите, как быстро мы поправимся. У меня - нашелся добрый друг,
предложивший мне взаймы денег, чтобы я мог свести концы с концами, по-моему,
он проявил гораздо больше здравомыслия, чем все остальные вместе взятые,
осыпавшие меня подарками. Он сумел поставить себя на мое место, а это
ценнее, чем участие и сострадание. Правду сказать, мои расходы удвоились за
время болезни: девочки, по странному обыкновению девочек, выросли и стали
нуждаться в более дорогих вещах, матушка, что было неотвратимо, постарела и
больше нуждалась в заботе и помощи, мое хозяйство непрерывно расширялось и
требовало новых и новых рабочих рук, - ни в чем, что было нам доступно, мы
так себя и не ограничили. Мы жили на широкую ногу, и я не склонен был менять
привычки, болезнь меня, конечно, напугала, но не настолько, чтоб я решился
экономить, готовясь к ее следующей атаке. Мой новый спутник звался Оптимизм,
и Оптимизм не позволял мне жертвовать комфортом и позорно поддаваться
панике. Мои планы откладывать средства на будущее не заходили так далеко,
чтоб я стал ущемлять себя в настоящем. Я не желал отказываться от удобств, а
значит, и от некоторой привычной толики роскоши, и это не подлежало
пересмотру. Не могу вам сказать, до чего я рад, что усвоил этот свободный
взгляд на вещи. Теперь, когда у меня так много денег и так мало от них
проку, было бы ужасно вспоминать, что я отказал себе в собственном выезде, а
девочкам в нарядах ради того, чтоб сэкономить несколько жалких фунтов,
которыми, в конце концов, я даже и не воспользовался. Конечно, вы можете мне
возразить со свойственной вам логикой, что я бы рассуждал иначе, если бы в
пятьдесят лет сидел без гроша, - тогда бы я горько сожалел об этом лишнем
экипаже и о ненужных новых платьях, но я так не считаю. Окажись я сегодня в
беспросветной нужде, что изменили бы эти безделицы? Почти ничего, зато в
свое время они доставили нам много удовольствия. Надеюсь, с этим вы
согласны?
Я мало что помню о начале болезни, помню только, что потерял сознание и
меня перенесли в постель, затем поднялась невероятная суета: доктора и
какие-то другие люди склонялись над кроватью, в которой я лежал, нимало не
тревожась о случившемся. Много дней я терял сознание и снова приходил в
себя, ощущая только муки, боль и озноб, но даже их воспринимая как-то
отстраненно, словно издалека. Иногда меня обуревали страшные мысли о моих
девочках, и тогда тревога обостряла терзавшую меня боль, но чаще всего я был
во власти какой-то, пожалуй, приятной бесчувственности, которая отнимала всю
мою волю. Я и на миг не допускаю мысли, что боролся за жизнь, оказавшись
тогда у смертного порога, напротив, я от всего сердца говорил: "Да будет
воля Твоя". Я не испугался смерти, увидев ее так близко, и знаю, что не
испытаю ужаса, когда вскоре окажусь подле нее снова. Трудно умирать лишь
тем, кто упрямо цепляется за жизнь, но я не стану за нее цепляться. Когда
пробьет мой час, я буду наготове, вы не увидите моих сомнений - я не спрошу,
неужто мне пора. Помню, что тогда, незадолго перед моими собственными играми
со смертью, я ездил в Париж навещать престарелую родственницу и с каким-то
холодным ужасом смотрел на то, что ждет нас всех, и думал про себя, как мне
хотелось бы не подвергаться ничему подобному. Передо мной лежала худая,
серо-желтая, беззубая старуха, которая металась, обессиленно постанывала и
отчаянно сопротивлялась неизбежному даже в последние минуты. Как она
боролась, и как я дивился ее цепкости и спрашивал себя, найдутся ли у меня
силы сопротивляться так же, когда придет мой час. Да пребудет с нами милость
господня!
Постепенно я выходил из этого полубессознательного состояния, в котором
чувствовал лишь равнодушие к происходившему - по-новому увидел дорогие лица
Анни и Минни и полюбил их вновь. Стараясь восстановить силы, я лежал долгие
недели, исполненный одним лишь новым, чудесным ощущением счастья от того,
что выжил и любим, от того, какое благо каждый божий день. Пожалуй, вернее
всего сказать, что несмотря на слабость или, скорее, благодаря слабости, я
был чист и кроток, словно высвободился из тисков постоянного противоборства
с заботами и неприятностями. Я не знал ни того, что со мной было, ни того,
что ждало меня впереди, но ко мне вернулась вера в жизнь. Солнце вставало и
садилось, а тем временем добрые люди преданно за мной ухаживали. О, доброта
на свете поразительна! Едва ли не каждые пять минут слышался стук в дверь и
дорогому мистеру Теккерею передавали очередную записку и гостинец. Каждая
дама в Лондоне почитала своим долгом приготовить больному желе и питательный
бульон и отослать их с самыми горячими заверениями в своей безмерной
преданности. Вы думаете, я пытался их остановить? Ничуть не бывало, я
купался в любви, считал и пересчитывал, как много у меня друзей, благодарил
судьбу и лежа размышлял, как много упустил в те мрачные дни плаксивой
жалости к себе, предшествовавшие моей болезни. Голова моя раскалывалась -
она полна была Джейн Брукфилд и "Пенденниса", больше в ней ничего тогда не
умещалось, но ведь имелись и другие люди, и другие интересы, которых я
предпочитал не замечать. Я обещал себе, что больше этого не допущу - не
стану закрывать глаза и уши, забыв про целый мир.
Едва я смог двигаться, я отправился в Брайтон, чтобы набраться сил, и
наслаждался там роскошью безделия и праздности. Закутанного в шали и пледы,
меня выкатывали в кресле на мол, откуда я каждый день следил за
устремлявшимися вниз чайками, слушал их крики, ощущал на щеках жжение
соленых брызг и ветра, и мне хотелось прыгать и кричать от счастья, но не
хватало сил. Силы возвращались медленно, возможно, к счастью, ибо моя
телесная слабость продлила часы отдохновения и дала мне время осознать мои
планы. Я заметил, что лежа в кресле у воды думаю совсем не так поспешно и
смятенно, как в Лондоне, где на меня давила ежедневная работа, а в более
тихом и прозрачном духе. Что ж, нужно снова взяться за "Пенденниса",
прерванного болезнью, - несколько месяцев он не поступал в продажу - нужно
встряхнуть как следует эту историю и приложить все силы, чтоб оживить
повествование и вновь привлечь внимание публики, - вот вам самое
замечательное следствие моей болезни. Ко мне вернулось честолюбие в минуту,
когда я счел, что с ним покончено, или, скорее, вернулось мое рвение к
работе. Если прежде я ужасался мысли, что нужно сесть за стол, и даже самый
вид пера, чернил и бумаги вызывал у меня отвращение, то сейчас мне не
терпелось иметь под рукой орудия моего ремесла, чтоб энергично взяться за
дело. Во мне пробудилось прежнее желание писать, я понимал, что оно во
что-то выльется, и мне это казалось маленьким чудом. Я ему очень радовался,
ведь я уже счел себя мошенником, возненавидел писательство, стал видеть в
нем лишь средство заработка, сомневаясь, есть ли во мне хоть, искра таланта;
как же я возликовал, когда почувствовал, что, словно двадцатилетний юноша,
горю желанием попробовать свое перо. Без дела я не мог быть счастлив; как бы
я ни был богат и обеспечен, я не хотел бы жить на свете, не представляя
своего труда на суд других, - в последнее время (особенно когда мне хочется
поворчать на тяготы писательства) я часто напоминаю себе об этом. Вновь
пробудившееся желание писать доставило мне одну из величайших радостей.
Не стану больше распространяться о своей болезни, иначе уподоблюсь тем
несчастным, которые с таким великим удовольствием рассказывают о своих
мучениях, что это противоречит всякой логике. Они привносят в свой недуг всю
мистику святого причастия, стараясь представить себя подвижниками вследствие
перенесенных, по их словам, страданий. Болезнь не менее важное событие в их
жизни, чем их собственное зачатие, и, кажется, они ее описывают с той же
сомнительной достоверностью. Какое нагромождение деталей! Как они смакуют
симптомы: щекочущий кашель во вторник, режущая боль в животе в среду, жар в
четверг, бред в пятницу, ломота в суставах в субботу, тошнота в воскресенье,
сыпь в понедельник, после чего, вконец измученные, мы снова попадаем во
вторник, чтобы услышать все сначала. В глазах этих людей врачи - верховные
жрецы, и каждое их слово свято. С достойной сожаления радостью они
расписывают, как эскулапы противоречили друг другу, пока не объявился,
наконец, такой, который сказал, что в жизни не встречал ничего подобного -
что это худший случай в Лондоне, худший в его практике, худший в истории
медицины, и, можете не сомневаться, ему и выпадает честь исцеления, так что
наш собеседник становится его коронным пациентом. Что же касается лекарств,
то, боже мой, как эти люди многословны! Настои, микстуры, таблетки, порошки
всех видов, форм и оттенков, точно отмеряемые серебряными ложками, зажатыми
в трясущихся руках, принимаемые по дням, часам, минутам с сосредоточенной
страстью, пока в каждый уголок, в каждую пору их тела не оказывается влито
какое-нибудь снадобье, и все это в количествах, достаточных, чтобы аптекарь
целый год купался в роскоши. Из слов этих недужных становится понятно, что
то было самое волнующее переживание в их жизни, но если вам достанет
смелости заметить это вслух, воздух огласится криками, что вы бесчувственный
наглец, после чего они лишатся чувств и снова расхвораются, так что лучше
поостерегитесь. Все дело в том, что никто из них не хочет выздоравливать. Из
их рассказа ясно, что они тоскуют по болезни, чего не смеют заявить, но не
способны и скрыть.
Полагаю, о моей болезни сказано достаточно, из подобных испытаний мы
выходим эдакими моралистами, мудрыми-премудрыми, и ждем, что все склонят к
нам слух и будут нам сосредоточенно внимать. Как вы догадываетесь,
происшедшее ничуть не облегчило моего положения. Поскольку "Пенденнис"
задержался, мне предстояло наверстать упущенное время, а заодно и переделать
его - черная работа, не радовавшая меня даже в нынешнем благостном
состоянии. Мне не терпелось взяться за перо и снова показать, на что я
способен, но будь моя воля, я выбрал бы не эту, давно наскучившую книгу.
Однако ничего другого мне не оставалось, я был далек от процветания, поэтому
чем больше денег можно было заработать, тем лучше. Кстати, насколько меньше
нас страшила бы Серьезная Болезнь, не ведай мы, во что нам станет каждая
минута лихорадки. Тревога о том, в какую сумму обойдется нам недуг, доводит
до крайне тяжелого состояния гораздо больше людей, чем мне хочется думать.
Только скажите, что доктору и аптекарю уплатят не из нашего кармана и что
жалованье чудесным образом будет поступать, даже когда мы не работаем, и вы
увидите, как быстро мы поправимся. У меня - нашелся добрый друг,
предложивший мне взаймы денег, чтобы я мог свести концы с концами, по-моему,
он проявил гораздо больше здравомыслия, чем все остальные вместе взятые,
осыпавшие меня подарками. Он сумел поставить себя на мое место, а это
ценнее, чем участие и сострадание. Правду сказать, мои расходы удвоились за
время болезни: девочки, по странному обыкновению девочек, выросли и стали
нуждаться в более дорогих вещах, матушка, что было неотвратимо, постарела и
больше нуждалась в заботе и помощи, мое хозяйство непрерывно расширялось и
требовало новых и новых рабочих рук, - ни в чем, что было нам доступно, мы
так себя и не ограничили. Мы жили на широкую ногу, и я не склонен был менять
привычки, болезнь меня, конечно, напугала, но не настолько, чтоб я решился
экономить, готовясь к ее следующей атаке. Мой новый спутник звался Оптимизм,
и Оптимизм не позволял мне жертвовать комфортом и позорно поддаваться
панике. Мои планы откладывать средства на будущее не заходили так далеко,
чтоб я стал ущемлять себя в настоящем. Я не желал отказываться от удобств, а
значит, и от некоторой привычной толики роскоши, и это не подлежало
пересмотру. Не могу вам сказать, до чего я рад, что усвоил этот свободный
взгляд на вещи. Теперь, когда у меня так много денег и так мало от них
проку, было бы ужасно вспоминать, что я отказал себе в собственном выезде, а
девочкам в нарядах ради того, чтоб сэкономить несколько жалких фунтов,
которыми, в конце концов, я даже и не воспользовался. Конечно, вы можете мне
возразить со свойственной вам логикой, что я бы рассуждал иначе, если бы в
пятьдесят лет сидел без гроша, - тогда бы я горько сожалел об этом лишнем
экипаже и о ненужных новых платьях, но я так не считаю. Окажись я сегодня в
беспросветной нужде, что изменили бы эти безделицы? Почти ничего, зато в
свое время они доставили нам много удовольствия. Надеюсь, с этим вы
согласны?
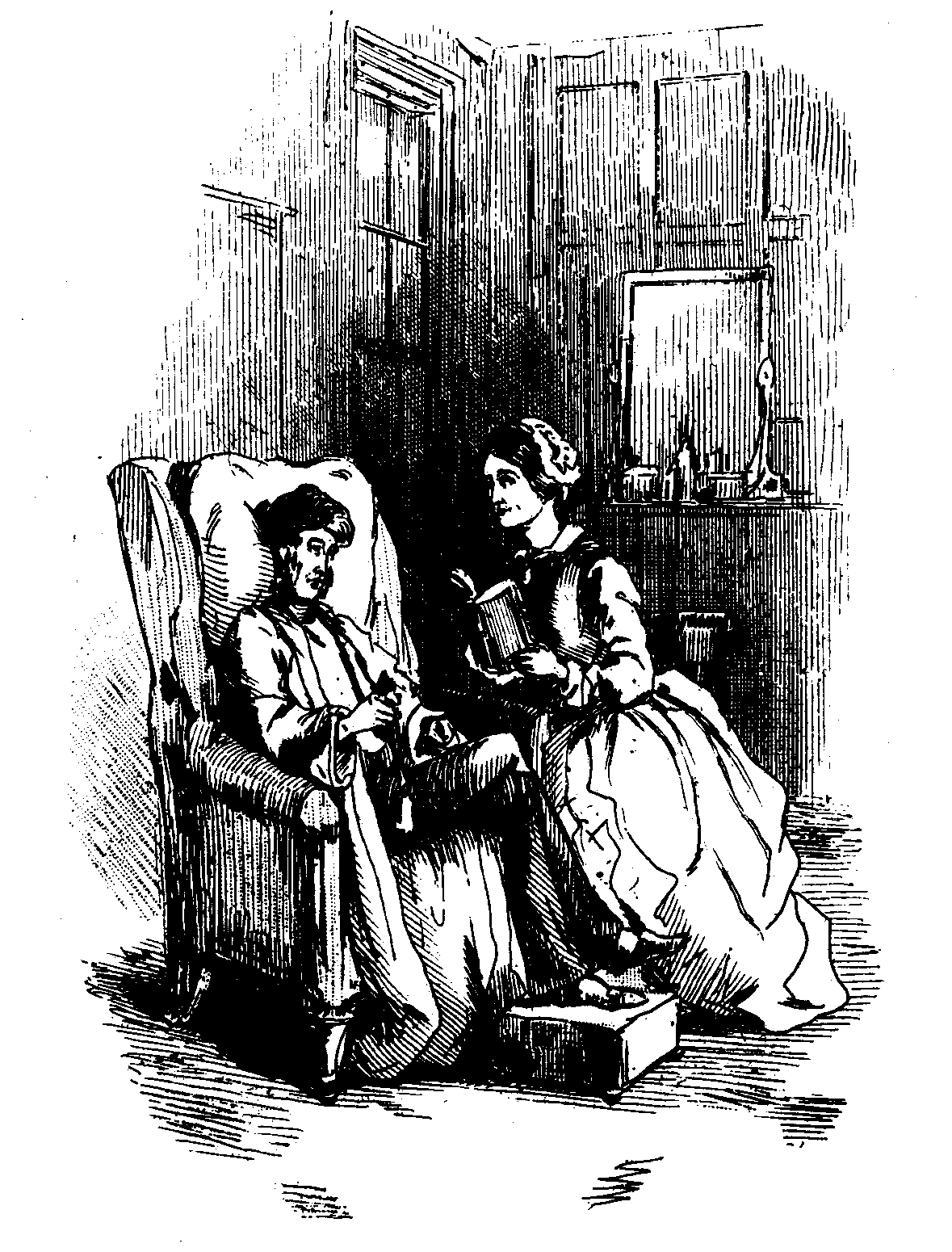 Ну вот, я шел вперед, взбодрившись духом и с надеждой в сердце, хотя
порою чувствовал в нем легкое покалывание (вы знаете, кто был тому
причиной), державшееся очень долго после того, как здоровье мое во всех
остальных отношениях поправилось. Интересно, что ждет меня в делах сердечных
в следующей главе? Но что бы меня ни ожидало, я был намерен сохранять
жизнелюбие и ясность духа и не поддаваться обстоятельствам. Признаюсь,
однако, что меня томило предчувствие чего-то в будущем, - не решаюсь
употребить слово более определенное. Я был уверен, что вскоре со мной
случится что-то важное, но не догадывался, что это может быть такое. А вы
догадываетесь? Тогда вы проницательней меня.
^T11^U
^TНа новом пути^U
Вскоре здоровье мое совсем поправилось, ко мне вернулись прежние силы,
и я, как встарь, порхал по всему Лондону. Мне не терпелось побыстрей
отбарабанить свою проповедь - роман "Пенденнис" (казалось, он выходил из-под
пера пастора, а не сатирика), чтобы приняться за новый труд, который
клокотал в моей груди и рвался наружу. Наверное, так всегда бывает, и нас
влечет неначатая книга, грядущий праздник, предстоящие каникулы... на мой
взгляд, это к лучшему: ведь если будущее перестанет нас манить, нам не
захочется идти вперед. Мне было б очень грустно лишиться своей тайной веры в
близость счастливых перемен; как, потерять надежду на то, что новый замысел
даст дивный плод и следующая книга станет откровением? Нет, это было бы
ужасно, по мне уж лучше риск, что все ожидания пойдут прахом и обернутся еще
одним провалом. В конце концов, провалы входят в правила игры - они
неизбежны. Любой писатель предпочитает взяться за новую книгу, а не возиться
с переделками и исправлениями старой, и я здесь не исключение. Чистый лист
бумаги, остро очиненное перо и свежий замысел - вот радости, которые нам
доставляет ремесло. Недели через две порыв угаснет, перо сломается, бумага
покроется помарками, но это оборотная сторона дела, и надо с ней мириться.
Ну вот, я шел вперед, взбодрившись духом и с надеждой в сердце, хотя
порою чувствовал в нем легкое покалывание (вы знаете, кто был тому
причиной), державшееся очень долго после того, как здоровье мое во всех
остальных отношениях поправилось. Интересно, что ждет меня в делах сердечных
в следующей главе? Но что бы меня ни ожидало, я был намерен сохранять
жизнелюбие и ясность духа и не поддаваться обстоятельствам. Признаюсь,
однако, что меня томило предчувствие чего-то в будущем, - не решаюсь
употребить слово более определенное. Я был уверен, что вскоре со мной
случится что-то важное, но не догадывался, что это может быть такое. А вы
догадываетесь? Тогда вы проницательней меня.
^T11^U
^TНа новом пути^U
Вскоре здоровье мое совсем поправилось, ко мне вернулись прежние силы,
и я, как встарь, порхал по всему Лондону. Мне не терпелось побыстрей
отбарабанить свою проповедь - роман "Пенденнис" (казалось, он выходил из-под
пера пастора, а не сатирика), чтобы приняться за новый труд, который
клокотал в моей груди и рвался наружу. Наверное, так всегда бывает, и нас
влечет неначатая книга, грядущий праздник, предстоящие каникулы... на мой
взгляд, это к лучшему: ведь если будущее перестанет нас манить, нам не
захочется идти вперед. Мне было б очень грустно лишиться своей тайной веры в
близость счастливых перемен; как, потерять надежду на то, что новый замысел
даст дивный плод и следующая книга станет откровением? Нет, это было бы
ужасно, по мне уж лучше риск, что все ожидания пойдут прахом и обернутся еще
одним провалом. В конце концов, провалы входят в правила игры - они
неизбежны. Любой писатель предпочитает взяться за новую книгу, а не возиться
с переделками и исправлениями старой, и я здесь не исключение. Чистый лист
бумаги, остро очиненное перо и свежий замысел - вот радости, которые нам
доставляет ремесло. Недели через две порыв угаснет, перо сломается, бумага
покроется помарками, но это оборотная сторона дела, и надо с ней мириться.
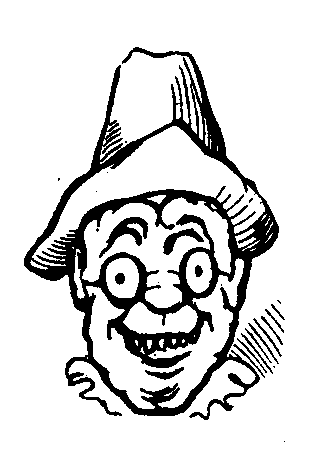 Итак, я с радостью вернулся к прежним привычкам и четыре раза в неделю
веселым вертопрахом выезжал, в свет порезвиться, и все же я переменился -
мне и, самому это было заметно - и к обязанностям, и к развлечениям. Мое
неистребимое, казалось, легкомыслие куда-то испарилось и уступило место
чинной трезвости, удивлявшей меня самого и удивлявшей не всегда приятно.
Ей-богу, не стоит гордиться легкомыслием, но оно как-то больше сродни тому
стилю жизни, который я нахожу приемлемым. Конечно, я догадывался, что в моей
умеренности сказывался возраст - я приближался к сорокалетию. Немолодого
человека не смешит любая малость, к тому же, по мнению некоторых, я и вовсе
должен был напустить на себя сановный вид, тщательно взвешивать каждое
слово, не улыбаться и изображать из себя кладезь премудрости, по большей
части, горькой. Мисс Шарлотта Бронте, например, неустанно попрекала меня
неуместной веселостью, призывала быть достойным автора "Ярмарки тщеславия",
роль которого я сам себе назначил, и моя несговорчивость очень ее огорчала.
Какая она была странная, упокой господи ее душу, и на жизнь, и на литературу
мы смотрели совсем по-разному, да я и мало знал ее - встречались мы всего
раз шесть. Но и этого было довольно, чтоб угадать за хрупкой внешностью
стальной характер - она держалась несгибаемо, а ее большие серые немигающие
глаза горели страстью. По-моему, в этом мире немногое ей доставляло радость,
френолог не отыскал бы на ее голове шишки счастья, как я не отыскал во всех
ее речах ни тени юмора. Возможно, жизнь не баловала ее поводами для веселья,
но суть не в них: одни смеются даже по дороге на виселицу и в смертный час
острят и забавляются, другие сидят с каменными лицами в компании, где царит
самое что ни на есть заразительное веселье. Впрочем, характер мисс Бронте,
по правде говоря, не вызывавший у меня восторга, докучал мне гораздо меньше,
чем ее постоянные требования, чтобы каждая новая книга была крестовым!
походом против того или иного порока, а каждый автор - рыцарем не только в
книгах, но и в жизни. По-моему, она решила, что весь остаток дней я должен
посвятить искоренению язв, которые обнажил в "Ярмарке тщеславия", и шутки по
поводу этой моей миссии приводили ее в немалое негодование. Да и вообще она
не одобряла шуток - воспринимала их совершенно серьезно и, честно сказать,
очень меня этим раздражала. Мне как человеку бесконечно чужда подобная
бескомпромиссная серьезность, эдакая мрачная решимость все понимать
буквально, свидетельствующая, на мой взгляд, о поистине плачевном отсутствии
жизненного опыта. Поверьте, мне отвратительна пустая болтовня, которая
гремит, прокатываясь эхом, по гостиным Англии, так что, в конце концов,
отчаиваешься услышать что-нибудь более осмысленное, чем "Прекрасный день, не
правда ли?", но, согласитесь, невозможно разражаться целой лекцией в ответ
на безобидную остроту вроде тех, которые я отпускал в присутствии мисс
Бронте и которые не вынесли бы повторения на страницах этой книги.
Помню, однажды вечером она особенно неистовствовала, и я еле
сдерживался, чтоб не смутить ее каким-нибудь шутливым замечанием, но не мог
себе этого позволить - мисс Бронте была моей гостьей. Вы, любезные читатели,
верно, давненько недоумеваете, как это я, так широко пользовавшийся
гостеприимством в Лондоне, ни разу до сих пор не заикнулся о том, кого и как
принимал у себя дома. Мой дом и впрямь в те дни не славился радушием, более
того, я делал все возможное, чтоб никого не приглашать, порою доходя до
неприличия, но вы, надеюсь, не заподозрили меня в прижимистости? Ведь у меня
не было жены, а, значит, и хозяйки, что крайне затрудняло исполнение
светских обязанностей. Гораздо проще и удобнее было потчевать гостей в
клубе, и, думаю, я делал это с достаточным размахом, но мисс Бронте была
дамой и, значит, принять ее, раз уж я это надумал, можно было только дома,
но приглашать ее одну было бы не совсем прилично, и я позвал друзей, короче
говоря, не успел я оглянуться, как оказалось, что устраиваю званый ужин. Что
за кошмар эти домашние приемы! Впрочем, сейчас, когда я наблюдаю, какое
удовольствие доставляют подобные празднества моим дочкам, я понимаю, что не
все со мной согласны. В доме подымается невероятная суматоха, слуги
остервенело мечутся по комнатам, чтобы собрать необходимые принадлежности,
слишком роскошные для повседневной жизни и рассыпанные по комодам, ящикам,
шкафам, коробкам; кухня превращается в священную обитель, кухарка - в
примадонну, и пока она занята столь важными делами, ее нельзя унизить
просьбой приготовить что-нибудь незатейливое, вроде яичницы с беконом, а
потому несколько дней все голодают. К тому времени, когда настал
долгожданный июньский вечер, на который было назначено это грандиозное
празднество, настроение мое окончательно испортилось: не находя себе места,
я бродил по дому, проклиная эту дурацкую затею, и кричал, что больше не
поддамся и в последний раз участвую в подобной глупости. Анни и Минни не
разделяли моих чувств и были упоены царившей суетой и всеобщим возбуждением.
Им было позволено остаться со взрослыми - даже каменное сердце не устояло бы
перед их отчаянными просьбами, - и вот, все в лентах и кисее, они замерли на
ступеньках, готовые восхищаться каждым гостем. Бедные мои глупышки, как они,
наверное, были разочарованы, разве что приглашенные вели себя занятнее, чем
представлялось? моему взору. Мисс Бронте, одетая в глухое темное платье,
сурово глянула на моих дочурок, когда я вел ее к столу; какую смешную пару
мы собой являли: я - встрепанный, громадный, она - едва мне по плечо,
крохотная и очень подтянутая. Однако никто при виде нас не засмеялся, да и
мое оживление вскоре угасло, сменившись парализующей скукой. Как это было
мучительно - держа руки по швам, давать прямые ответы на самые что ни на
есть прямые вопросы и, не отважившись ни на одно живое слово, наблюдать, как
в этой смирительной рубашке глупеет вся собравшаяся компания, среди которой,
право, было несколько отличных остроумцев. Уставившись на чадящие свечи - в
тот вечер все шло из рук вон плохо - и на видневшееся за ними напряженное
лицо мисс Бронте, я с трудом подавлял зевоту. Казалось, пытке не будет
конца. Я мужественно заставлял себя сосредоточиться на важных, злободневных
темах, вокруг которых велась застольная беседа, и вслушивался в один
невыносимо скучный монолог за другим. Что, интересно, думала сама мисс
Бронте? Томилась ли, подобно мне, или забава была в ее вкусе? Когда я
проводил ее, на душе у меня было так скверно и тяжко, что, не дожидаясь,
пока разойдутся остальные гости, я потихоньку улизнул из дому и отправился в
клуб. Каюсь, предосудительный поступок, но мне необходимо было поскорей
встряхнуться, побыть средь шума и веселья, чтоб отойти душой.
Вы спросите, зачем нужно было приглашать эту львицу? Не знаю, но что-то
в ней меня тревожило, и даже в наших стычках, досадных и огорчительных, было
что-то манящее. Думаю, позвал я ее потому, что это само собою разумелось:
она провозгласила себя горячей поклонницей моего таланта, никого не знала в
Лондоне, вдобавок у нас был общий издатель, который нас и познакомил, - и
было бы неприлично поступить иначе. Да и потом, не станете же вы отрицать,
что принимать у себя дома прославленного автора нашумевшего романа, да еще
женщину, - большая честь? Хотя я не готов был мерить себя ее мерками, меня к
ней привлекала ее одержимость, а отношение к литературной славе вызывало
любопытство: ни до, ни после я не встречал писателя, который так ревниво
скрывал бы свое авторство и так твердо уклонялся бы от поздравлений, как
мисс Бронте. Однажды, забыв, что упоминать о ее книгах запрещается, я шутя
представил ее матушке как Джейн Эйр, ох, что тут воспоследовало! Вы бы
только - видели, как гневно и презрительно она на меня глянула! Вы бы только
слышали звенящий голос, осыпавший меня упреками! Вы испугались бы за меня и
не напрасно: я ожидал, что дело кончится пощечиной. В какую-то минуту, можно
сказать, мисс Бронте сквитала счет и нанесла ответный удар - неожиданный и
вызвавший у меня недоумение. "Как бы вам понравилось, если бы вас
представили как Джорджа Уоррингтона?" - спросила она. "Вы хотите сказать,
Артура Пенденниса!" - отвечал я со смехом. "Нисколько. Я сказала -
Уоррингтона и не оговорилась", - и посмотрела на меня с таким вызовом, что я
отшатнулся. Это я-то - Джордж Уоррингтон? Как странно! Я доподлинно знал,
что я - Артур Пенденнис, а если вы не верите, прочтите книгу.
Признаюсь, виноват, я испытывал какое-то извращенное удовольствие,
шокируя мисс Бронте и демонстративно отвергая принципы, которые она пыталась
навязать мне, хоть делал все возможное - пожалуй, больше, чем она требовала,
- чтоб соответствовать им в жизни. Вы, наверное, помните, что незадолго
перед тем, как я заболел, стало известно, что Джейн Брукфилд ждет
счастливого события. В положенное время оно произошло и оказалось, как и
положено, счастливым, хотя среди последовавших за ним торжеств я чувствовал
себя потерянно. Несмотря на полученное предупреждение, я так же часто
посещал свою дорогую Джейн и под конец решил, что крошка, пожалуй, даже
укрепит наши отношения, как бы послужит нам дуэньей: никто не станет
сплетничать о людях, склонившихся над колыбелью. И сможет ли Брукфилд
возражать, если я буду приходить поиграть с ребенком, - все знают, что
Теккерей души не чает в детях! Как вы заметили, мой новый друг - Оптимизм -
пытался скрасить даже эту, самую запутанную сторону моей жизни, и я
продолжал навещать. Джейн до самого появления малютки и любовался ею в
образе Мадонны. Надеясь повидать ее, я заглянул к ним в день, когда начались
боли, - как же я испугался. Я зашел после завтрака, и мне сказали, что
миссис Брукфилд нездоровится и послали за врачом, не могу вам описать свою
тревогу: меня трясло от страха, и, передав наилучшие пожелания, я потихоньку
удалился. Боюсь, сам того не сознавая, я волновался больше, чем отец
ребенка: работа валилась у меня из рук, я ни на чем не мог сосредоточиться и
только с беспокойством ждал дальнейших новостей. Вечером стало известно, что
родилась девочка - Магдалина, и обе, мать и дитя, чувствуют себя хорошо.
Когда я прочел записку, слезы брызнули у меня из глаз, и я разразился
нелепым посланием к только что родившейся крошке, затем сел в изнеможении и
задумался, как скажутся события сегодняшнего дня на моей дальнейшей жизни. Я
повторял на все лады: "Магдалина Брукфилд, Магдалина Брукфилд...", чтобы
привыкнуть к звуку имени, и мысленно наделял его крошечную обладательницу
любимыми чертами. Что она будет за человек и что подумает о друге своей
матери? Как важно, чтоб мы пришлись друг другу по сердцу, и, как ни глупо,
должен чистосердечно признаться, что в глубине души я ощущал, будто
маленькая Магдалина - мой ребенок. И сколько я ни говорил себе, что должен
позабыть этот вздор, внутренний голос продолжал твердить: сложись все чуть
иначе... Ах, что за чепуха! В иные минуты, когда все мои мысли словно
заволакивает какой-то сладкой ватой, мне кажется, что в прежнем воплощении я
был, пожалуй, женщиной. Долгие часы я провожу в пустых мечтаниях и так
запутываюсь в разных "если бы", "быть может", "но", что не могу спуститься с
облаков на землю. В этот раз мне помогло простое средство: стоило бросить
один-единственный взгляд на счастливую мать и гордого отца, как я опомнился,
- Магдалина Брукфилд была их ребенком, скрепившим их союз прочнее, чем
десять лет совместной жизни. Мне предстояло вернуться к своей привычной
роли, вести себя смиренно и никого не раздражать, если я надеялся
по-прежнему лицезреть свою госпожу - единственное благо, о котором я просил
после восьми лет постоянства. Мне следовало бы сообразить, что с появлением
ребенка Брукфилд еще ревнивей будет оберегать свое семейное счастье и
мужское достоинство, но я до этого не додумался. Как мне ни было тяжко, я не
мог не видеться с Джейн. Выставь меня Брукфилды за дверь в день, когда
родилась девочка, они бы, в сущности, оказали мне милость, но если при виде
меня ее не распахивали гостеприимно во всю ширь, то неизменно открывали,
лишь только я к ней прикасался. По-вашему, входить не стоило?
Сегодня, десять лет спустя, я сам не понимаю, зачем я так хотел себя
унизить, даже растоптать, и, вспоминая, как дошел до полного позора, злюсь
на собственную глупость. Я сам себя терзал, сам вонзал в себя кинжал, сам
поворачивал его в ране, не думая о боли. Жизнь - слишком короткая и ценная
штука для подобного самоистязания, но вместо того, чтоб выбраться из трясины
своих отношений с Брукфилдами, я делал все возможное, чтоб глубже увязнуть.
Казалось, меня лишили воли и отныне моя участь - молча сносить муки. Меня не
отрезвила даже смерть молодого Генри Хеллема - хотя, по логике вещей, мне
следовало испугаться, в свете этого несчастья иначе взглянуть на собственное
гибельное положение и поскорее из него вырваться, пока не стало слишком
поздно и я не наложил на себя руки, но я погружался все глубже и глубже,
только ревел, словно влюбленный бык, бессмысленно растрачивая силы и время.
В Кливден на похороны Генри я приехал, ничего не чувствуя, - моя
бесчувственность граничила с жестокостью. О, я, конечно, плакал, да и кто не
плакал над гробом привлекательного юноши, перед которым открывалось
блестящее будущее? Но глядя, как вороные кони, покачивая черными султанами,
переступают среди траурной толпы, я ощущал одну лишь ужасающую холодность.
Что ж, Генри больше нет. А через миг не станет, может быть, и меня. Но эта
мысль меня ничуть не испугала, даже не встревожила. Я оставался странно
безучастен - только досадовал на старую, как мир, погребальную комедию - и
вышел с кладбища, не испытав потрясения. О смерти мне все было известно -
разве недавно я не побывал в ее объятиях? И не увидел ничего ужасного -
догадываетесь, по какой причине? Я был несчастен. Внешне я держался бодро,
старался смотреть на жизнь весело и воздавал судьбе хвалу за все ее дары, но
эйфория, последовавшая за моей болезнью, растаяла как дым - меня объял
привычный мрак. Я был на грани очередного срыва и наблюдал со стороны, как
он ко мне приближается, предчувствуя, что в этот раз мне не отделаться
телесным недугом - противник будет пострашнее, возможно, то будет сам рок.
Итак, я с радостью вернулся к прежним привычкам и четыре раза в неделю
веселым вертопрахом выезжал, в свет порезвиться, и все же я переменился -
мне и, самому это было заметно - и к обязанностям, и к развлечениям. Мое
неистребимое, казалось, легкомыслие куда-то испарилось и уступило место
чинной трезвости, удивлявшей меня самого и удивлявшей не всегда приятно.
Ей-богу, не стоит гордиться легкомыслием, но оно как-то больше сродни тому
стилю жизни, который я нахожу приемлемым. Конечно, я догадывался, что в моей
умеренности сказывался возраст - я приближался к сорокалетию. Немолодого
человека не смешит любая малость, к тому же, по мнению некоторых, я и вовсе
должен был напустить на себя сановный вид, тщательно взвешивать каждое
слово, не улыбаться и изображать из себя кладезь премудрости, по большей
части, горькой. Мисс Шарлотта Бронте, например, неустанно попрекала меня
неуместной веселостью, призывала быть достойным автора "Ярмарки тщеславия",
роль которого я сам себе назначил, и моя несговорчивость очень ее огорчала.
Какая она была странная, упокой господи ее душу, и на жизнь, и на литературу
мы смотрели совсем по-разному, да я и мало знал ее - встречались мы всего
раз шесть. Но и этого было довольно, чтоб угадать за хрупкой внешностью
стальной характер - она держалась несгибаемо, а ее большие серые немигающие
глаза горели страстью. По-моему, в этом мире немногое ей доставляло радость,
френолог не отыскал бы на ее голове шишки счастья, как я не отыскал во всех
ее речах ни тени юмора. Возможно, жизнь не баловала ее поводами для веселья,
но суть не в них: одни смеются даже по дороге на виселицу и в смертный час
острят и забавляются, другие сидят с каменными лицами в компании, где царит
самое что ни на есть заразительное веселье. Впрочем, характер мисс Бронте,
по правде говоря, не вызывавший у меня восторга, докучал мне гораздо меньше,
чем ее постоянные требования, чтобы каждая новая книга была крестовым!
походом против того или иного порока, а каждый автор - рыцарем не только в
книгах, но и в жизни. По-моему, она решила, что весь остаток дней я должен
посвятить искоренению язв, которые обнажил в "Ярмарке тщеславия", и шутки по
поводу этой моей миссии приводили ее в немалое негодование. Да и вообще она
не одобряла шуток - воспринимала их совершенно серьезно и, честно сказать,
очень меня этим раздражала. Мне как человеку бесконечно чужда подобная
бескомпромиссная серьезность, эдакая мрачная решимость все понимать
буквально, свидетельствующая, на мой взгляд, о поистине плачевном отсутствии
жизненного опыта. Поверьте, мне отвратительна пустая болтовня, которая
гремит, прокатываясь эхом, по гостиным Англии, так что, в конце концов,
отчаиваешься услышать что-нибудь более осмысленное, чем "Прекрасный день, не
правда ли?", но, согласитесь, невозможно разражаться целой лекцией в ответ
на безобидную остроту вроде тех, которые я отпускал в присутствии мисс
Бронте и которые не вынесли бы повторения на страницах этой книги.
Помню, однажды вечером она особенно неистовствовала, и я еле
сдерживался, чтоб не смутить ее каким-нибудь шутливым замечанием, но не мог
себе этого позволить - мисс Бронте была моей гостьей. Вы, любезные читатели,
верно, давненько недоумеваете, как это я, так широко пользовавшийся
гостеприимством в Лондоне, ни разу до сих пор не заикнулся о том, кого и как
принимал у себя дома. Мой дом и впрямь в те дни не славился радушием, более
того, я делал все возможное, чтоб никого не приглашать, порою доходя до
неприличия, но вы, надеюсь, не заподозрили меня в прижимистости? Ведь у меня
не было жены, а, значит, и хозяйки, что крайне затрудняло исполнение
светских обязанностей. Гораздо проще и удобнее было потчевать гостей в
клубе, и, думаю, я делал это с достаточным размахом, но мисс Бронте была
дамой и, значит, принять ее, раз уж я это надумал, можно было только дома,
но приглашать ее одну было бы не совсем прилично, и я позвал друзей, короче
говоря, не успел я оглянуться, как оказалось, что устраиваю званый ужин. Что
за кошмар эти домашние приемы! Впрочем, сейчас, когда я наблюдаю, какое
удовольствие доставляют подобные празднества моим дочкам, я понимаю, что не
все со мной согласны. В доме подымается невероятная суматоха, слуги
остервенело мечутся по комнатам, чтобы собрать необходимые принадлежности,
слишком роскошные для повседневной жизни и рассыпанные по комодам, ящикам,
шкафам, коробкам; кухня превращается в священную обитель, кухарка - в
примадонну, и пока она занята столь важными делами, ее нельзя унизить
просьбой приготовить что-нибудь незатейливое, вроде яичницы с беконом, а
потому несколько дней все голодают. К тому времени, когда настал
долгожданный июньский вечер, на который было назначено это грандиозное
празднество, настроение мое окончательно испортилось: не находя себе места,
я бродил по дому, проклиная эту дурацкую затею, и кричал, что больше не
поддамся и в последний раз участвую в подобной глупости. Анни и Минни не
разделяли моих чувств и были упоены царившей суетой и всеобщим возбуждением.
Им было позволено остаться со взрослыми - даже каменное сердце не устояло бы
перед их отчаянными просьбами, - и вот, все в лентах и кисее, они замерли на
ступеньках, готовые восхищаться каждым гостем. Бедные мои глупышки, как они,
наверное, были разочарованы, разве что приглашенные вели себя занятнее, чем
представлялось? моему взору. Мисс Бронте, одетая в глухое темное платье,
сурово глянула на моих дочурок, когда я вел ее к столу; какую смешную пару
мы собой являли: я - встрепанный, громадный, она - едва мне по плечо,
крохотная и очень подтянутая. Однако никто при виде нас не засмеялся, да и
мое оживление вскоре угасло, сменившись парализующей скукой. Как это было
мучительно - держа руки по швам, давать прямые ответы на самые что ни на
есть прямые вопросы и, не отважившись ни на одно живое слово, наблюдать, как
в этой смирительной рубашке глупеет вся собравшаяся компания, среди которой,
право, было несколько отличных остроумцев. Уставившись на чадящие свечи - в
тот вечер все шло из рук вон плохо - и на видневшееся за ними напряженное
лицо мисс Бронте, я с трудом подавлял зевоту. Казалось, пытке не будет
конца. Я мужественно заставлял себя сосредоточиться на важных, злободневных
темах, вокруг которых велась застольная беседа, и вслушивался в один
невыносимо скучный монолог за другим. Что, интересно, думала сама мисс
Бронте? Томилась ли, подобно мне, или забава была в ее вкусе? Когда я
проводил ее, на душе у меня было так скверно и тяжко, что, не дожидаясь,
пока разойдутся остальные гости, я потихоньку улизнул из дому и отправился в
клуб. Каюсь, предосудительный поступок, но мне необходимо было поскорей
встряхнуться, побыть средь шума и веселья, чтоб отойти душой.
Вы спросите, зачем нужно было приглашать эту львицу? Не знаю, но что-то
в ней меня тревожило, и даже в наших стычках, досадных и огорчительных, было
что-то манящее. Думаю, позвал я ее потому, что это само собою разумелось:
она провозгласила себя горячей поклонницей моего таланта, никого не знала в
Лондоне, вдобавок у нас был общий издатель, который нас и познакомил, - и
было бы неприлично поступить иначе. Да и потом, не станете же вы отрицать,
что принимать у себя дома прославленного автора нашумевшего романа, да еще
женщину, - большая честь? Хотя я не готов был мерить себя ее мерками, меня к
ней привлекала ее одержимость, а отношение к литературной славе вызывало
любопытство: ни до, ни после я не встречал писателя, который так ревниво
скрывал бы свое авторство и так твердо уклонялся бы от поздравлений, как
мисс Бронте. Однажды, забыв, что упоминать о ее книгах запрещается, я шутя
представил ее матушке как Джейн Эйр, ох, что тут воспоследовало! Вы бы
только - видели, как гневно и презрительно она на меня глянула! Вы бы только
слышали звенящий голос, осыпавший меня упреками! Вы испугались бы за меня и
не напрасно: я ожидал, что дело кончится пощечиной. В какую-то минуту, можно
сказать, мисс Бронте сквитала счет и нанесла ответный удар - неожиданный и
вызвавший у меня недоумение. "Как бы вам понравилось, если бы вас
представили как Джорджа Уоррингтона?" - спросила она. "Вы хотите сказать,
Артура Пенденниса!" - отвечал я со смехом. "Нисколько. Я сказала -
Уоррингтона и не оговорилась", - и посмотрела на меня с таким вызовом, что я
отшатнулся. Это я-то - Джордж Уоррингтон? Как странно! Я доподлинно знал,
что я - Артур Пенденнис, а если вы не верите, прочтите книгу.
Признаюсь, виноват, я испытывал какое-то извращенное удовольствие,
шокируя мисс Бронте и демонстративно отвергая принципы, которые она пыталась
навязать мне, хоть делал все возможное - пожалуй, больше, чем она требовала,
- чтоб соответствовать им в жизни. Вы, наверное, помните, что незадолго
перед тем, как я заболел, стало известно, что Джейн Брукфилд ждет
счастливого события. В положенное время оно произошло и оказалось, как и
положено, счастливым, хотя среди последовавших за ним торжеств я чувствовал
себя потерянно. Несмотря на полученное предупреждение, я так же часто
посещал свою дорогую Джейн и под конец решил, что крошка, пожалуй, даже
укрепит наши отношения, как бы послужит нам дуэньей: никто не станет
сплетничать о людях, склонившихся над колыбелью. И сможет ли Брукфилд
возражать, если я буду приходить поиграть с ребенком, - все знают, что
Теккерей души не чает в детях! Как вы заметили, мой новый друг - Оптимизм -
пытался скрасить даже эту, самую запутанную сторону моей жизни, и я
продолжал навещать. Джейн до самого появления малютки и любовался ею в
образе Мадонны. Надеясь повидать ее, я заглянул к ним в день, когда начались
боли, - как же я испугался. Я зашел после завтрака, и мне сказали, что
миссис Брукфилд нездоровится и послали за врачом, не могу вам описать свою
тревогу: меня трясло от страха, и, передав наилучшие пожелания, я потихоньку
удалился. Боюсь, сам того не сознавая, я волновался больше, чем отец
ребенка: работа валилась у меня из рук, я ни на чем не мог сосредоточиться и
только с беспокойством ждал дальнейших новостей. Вечером стало известно, что
родилась девочка - Магдалина, и обе, мать и дитя, чувствуют себя хорошо.
Когда я прочел записку, слезы брызнули у меня из глаз, и я разразился
нелепым посланием к только что родившейся крошке, затем сел в изнеможении и
задумался, как скажутся события сегодняшнего дня на моей дальнейшей жизни. Я
повторял на все лады: "Магдалина Брукфилд, Магдалина Брукфилд...", чтобы
привыкнуть к звуку имени, и мысленно наделял его крошечную обладательницу
любимыми чертами. Что она будет за человек и что подумает о друге своей
матери? Как важно, чтоб мы пришлись друг другу по сердцу, и, как ни глупо,
должен чистосердечно признаться, что в глубине души я ощущал, будто
маленькая Магдалина - мой ребенок. И сколько я ни говорил себе, что должен
позабыть этот вздор, внутренний голос продолжал твердить: сложись все чуть
иначе... Ах, что за чепуха! В иные минуты, когда все мои мысли словно
заволакивает какой-то сладкой ватой, мне кажется, что в прежнем воплощении я
был, пожалуй, женщиной. Долгие часы я провожу в пустых мечтаниях и так
запутываюсь в разных "если бы", "быть может", "но", что не могу спуститься с
облаков на землю. В этот раз мне помогло простое средство: стоило бросить
один-единственный взгляд на счастливую мать и гордого отца, как я опомнился,
- Магдалина Брукфилд была их ребенком, скрепившим их союз прочнее, чем
десять лет совместной жизни. Мне предстояло вернуться к своей привычной
роли, вести себя смиренно и никого не раздражать, если я надеялся
по-прежнему лицезреть свою госпожу - единственное благо, о котором я просил
после восьми лет постоянства. Мне следовало бы сообразить, что с появлением
ребенка Брукфилд еще ревнивей будет оберегать свое семейное счастье и
мужское достоинство, но я до этого не додумался. Как мне ни было тяжко, я не
мог не видеться с Джейн. Выставь меня Брукфилды за дверь в день, когда
родилась девочка, они бы, в сущности, оказали мне милость, но если при виде
меня ее не распахивали гостеприимно во всю ширь, то неизменно открывали,
лишь только я к ней прикасался. По-вашему, входить не стоило?
Сегодня, десять лет спустя, я сам не понимаю, зачем я так хотел себя
унизить, даже растоптать, и, вспоминая, как дошел до полного позора, злюсь
на собственную глупость. Я сам себя терзал, сам вонзал в себя кинжал, сам
поворачивал его в ране, не думая о боли. Жизнь - слишком короткая и ценная
штука для подобного самоистязания, но вместо того, чтоб выбраться из трясины
своих отношений с Брукфилдами, я делал все возможное, чтоб глубже увязнуть.
Казалось, меня лишили воли и отныне моя участь - молча сносить муки. Меня не
отрезвила даже смерть молодого Генри Хеллема - хотя, по логике вещей, мне
следовало испугаться, в свете этого несчастья иначе взглянуть на собственное
гибельное положение и поскорее из него вырваться, пока не стало слишком
поздно и я не наложил на себя руки, но я погружался все глубже и глубже,
только ревел, словно влюбленный бык, бессмысленно растрачивая силы и время.
В Кливден на похороны Генри я приехал, ничего не чувствуя, - моя
бесчувственность граничила с жестокостью. О, я, конечно, плакал, да и кто не
плакал над гробом привлекательного юноши, перед которым открывалось
блестящее будущее? Но глядя, как вороные кони, покачивая черными султанами,
переступают среди траурной толпы, я ощущал одну лишь ужасающую холодность.
Что ж, Генри больше нет. А через миг не станет, может быть, и меня. Но эта
мысль меня ничуть не испугала, даже не встревожила. Я оставался странно
безучастен - только досадовал на старую, как мир, погребальную комедию - и
вышел с кладбища, не испытав потрясения. О смерти мне все было известно -
разве недавно я не побывал в ее объятиях? И не увидел ничего ужасного -
догадываетесь, по какой причине? Я был несчастен. Внешне я держался бодро,
старался смотреть на жизнь весело и воздавал судьбе хвалу за все ее дары, но
эйфория, последовавшая за моей болезнью, растаяла как дым - меня объял
привычный мрак. Я был на грани очередного срыва и наблюдал со стороны, как
он ко мне приближается, предчувствуя, что в этот раз мне не отделаться
телесным недугом - противник будет пострашнее, возможно, то будет сам рок.
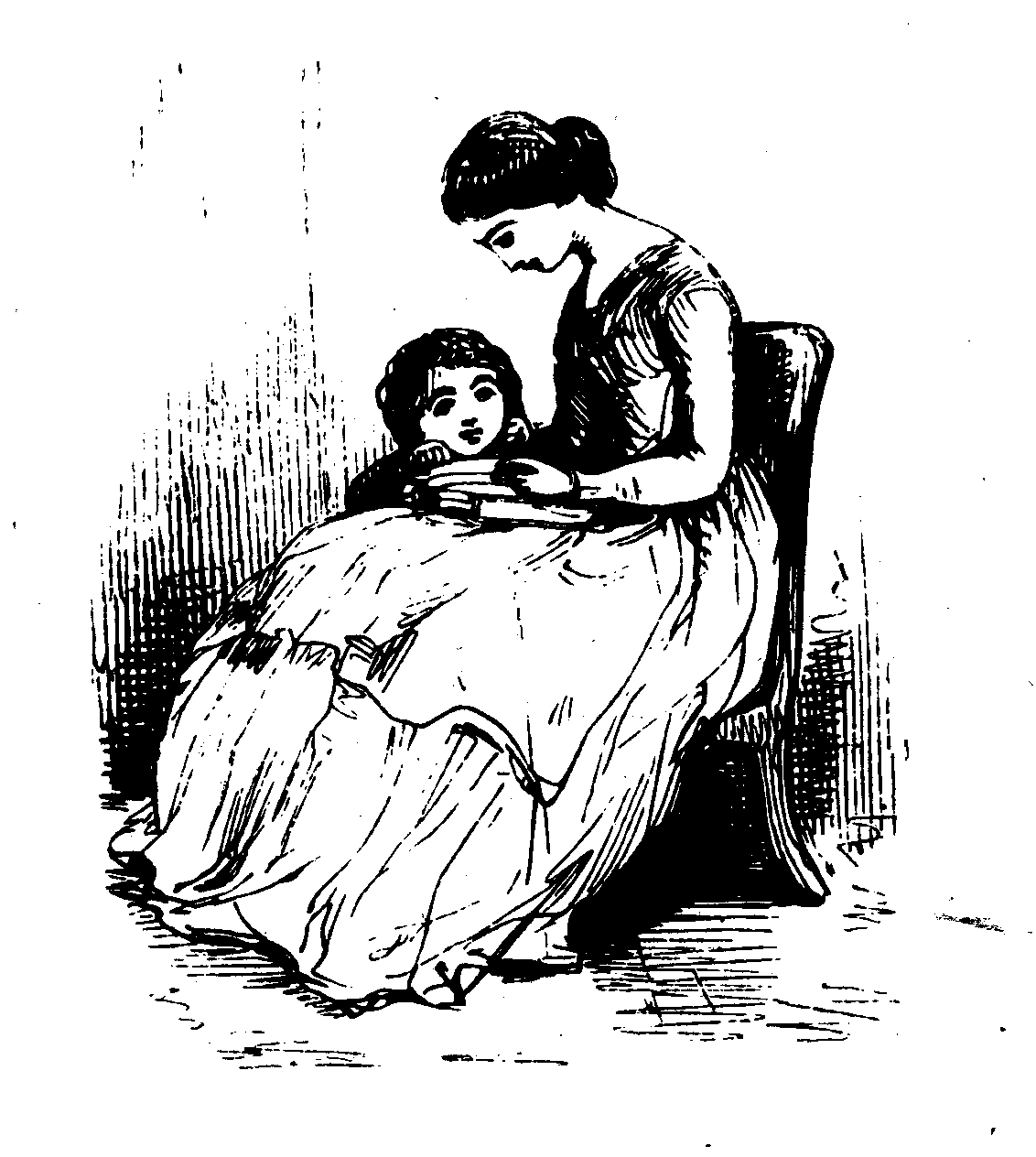 Я завершил работу над "Пенденнисом" к концу 1850 года, но, сбросив
тягостную ношу, не ощутил ни малейшего облегчения. Избавившись от
неизбежного оброка - я ежедневно писал намеченную порцию слов, - я не
избавился от изнеможения, которое, пожалуй, даже усилилось, как ни старался
я убежать от него, кружа по Лондону и нанося визиты. Что-то висело в
воздухе, но что? Мне беспрестанно снилось по ночам, будто надвигаются
какие-то неприятности, я вздрагивал и вскакивал с постели, и слово
"Брукфилд" звенело у меня в ушах. Но почему? Все шло по заведенному порядку:
я строго соблюдал приличия, казалось, в наших отношениях ничто не
изменилось, разве только сам их дух - все мы чувствовали себя скованно. Я
говорю сейчас не о себе, Уильяме и Джейн, мы трое давно привыкли скрывать
свои подлинные мысли, но что-то изменилось между моими детьми и Джейн: в их
дружбу вкралась неловкость, хотя Анни и Минни по-прежнему обожали ее.
Девочки выросли - одной исполнилось тринадцать, другой - десять, - и,
видимо, подобно мне, стали задумываться, какие узы соединяют их с миссис
Брукфилд, а, может быть, я недооценивал их чуткость: наверное, они замечали,
что отец несчастен, и понимали, что причина этого - их верный друг миссис
Брукфилд. Несомненно, Джейн была им предана, как встарь, и страшно
огорчилась бы, узнай она, что девочки из-за нее страдают. Мы никогда не
обсуждали Брукфилдов: я не решался возложить на хрупкие юные плечи такое
бремя, да и естественная сдержанность обеих сторон исключала подобные
разговоры. И все же, не сомневаюсь, мои дочки понимали, что значит для меня
Джейн Брукфилд, как понимали многое другое, чего не называли по имени, но
доказывали понимание делом, за что я был им бесконечно благодарен, ибо не
знаю более восхитительного свойства в юных, чем деликатность.
Я прибегнул к испытанному средству - к отдыху, пока не изобрел другое,
более действенное. Сперва я повидался в Париже с матушкой, а после ездил по
Европе, попутно собирая материал для забавных рождественских повестей. За
это время мне встретилось несколько великолепных образчиков человеческой
глупости, которые придали резвости моему перу, так что я даже призадумался,
отчего прежде не писал веселых святочных историй. Пусть я бы не нажил на них
состояния, но как бы славно мне жилось, а в свободное время я рисовал бы к
ним картинки. Надеюсь, они меня переживут и выдержат проверку временем,
надеюсь, они будут радовать людей и после моей смерти; как весело их было
сочинять! Меня ничуть не огорчает, если они поверхностны и не пробуждают
разных там глубоких чувств. Кому это нужно, чтобы писатель в каждой книге
выворачивал душу наизнанку? Решительно никому, я плачу от досады, вспоминая,
как бился, чтобы расшевелить читателей, - ей-богу, следовало
удовольствоваться меньшим. Что за проклятие такое честолюбие, из-за него я
двадцать лет не разрешал себе вздохнуть, да и сегодня еще с ним не
распростился. Я не умру спокойно, пока не допишу "Дени Дюваля" и не дождусь,
пока все, включая вашего покорного слугу, не назовут его шедевром. Как,
неужели он не успокоился, спросите вы? Конечно, нет, и все еще хочу
рукоплесканий.
Мы отвлеклись от нашего рассказа, но эта его часть меня не слишком
радует и, кажется, вас также, мой читатель, иначе вы не тянули бы меня за
рукав и не просили поскорей свернуть в соседнюю долину. Я бы охотно
подчинился и обошел стороной два-три утеса, но долг есть долг, и он меня
удерживает на выбранном пути, сверни мы в сторону, и мы собьемся. Каков
моралист, воскликнете вы, не хуже, чем мисс Бронте. Но ведь одно мое обличье
- ветреник, который с наслаждением кропает детские книжонки, другое - старый
мрачный проповедник, который без конца толкует о долге и грозно напоминает о
расплате, когда его речам не внемлют. Порою верх берет один, порою - другой,
но что за чудо получается, когда они между собою ладят! Вот я и придумал
себе дело, для которого потребовались обе мои ипостаси - оно меня избавило
на время от множества хлопот и забот.
Получилось это так. Как вы помните, я мечтал заработать побольше, чтоб
не тревожиться о будущем жены и детей, и вознамерился собрать такую сумму,
которая позволила бы положить по десять тысяч фунтов на имя каждой из них и
обеспечить им приличный постоянный доход и независимое существование. Будь у
меня сыновья, я бы гораздо меньше о них беспокоился: молодые люди сами
пробьют себе дорогу в жизни (и я могу служить тому примером), но что ждет
девушку, кроме жалкой участи гувернантки или учительницы музыки? Грошовые
уроки или замужество - вот все, что предоставляется неимущей девушке, чтоб
избежать работного дома, и, честно говоря, не знаю, какое из двух зол хуже.
Меня тошнит от ярмарки невест, одна лишь мысль, что Анни или Минни наденут
брачное ярмо и примут предложение какого-нибудь прохвоста, чтоб обрести
крышу над головой, приводит меня в содрогание. Пока этот порядок не
изменится - с чего ему измениться? - женщины должны жить как полевые лилии,
и обходиться с ними надо так же нежно. Чтобы мои девочки могли располагать
собой, им нужны деньги, и если этих денег мне не принесут романы - чего пока
не случилось, хоть мы и жили очень сносно, - придется изобрести какое-нибудь
другое средство.
Я завершил работу над "Пенденнисом" к концу 1850 года, но, сбросив
тягостную ношу, не ощутил ни малейшего облегчения. Избавившись от
неизбежного оброка - я ежедневно писал намеченную порцию слов, - я не
избавился от изнеможения, которое, пожалуй, даже усилилось, как ни старался
я убежать от него, кружа по Лондону и нанося визиты. Что-то висело в
воздухе, но что? Мне беспрестанно снилось по ночам, будто надвигаются
какие-то неприятности, я вздрагивал и вскакивал с постели, и слово
"Брукфилд" звенело у меня в ушах. Но почему? Все шло по заведенному порядку:
я строго соблюдал приличия, казалось, в наших отношениях ничто не
изменилось, разве только сам их дух - все мы чувствовали себя скованно. Я
говорю сейчас не о себе, Уильяме и Джейн, мы трое давно привыкли скрывать
свои подлинные мысли, но что-то изменилось между моими детьми и Джейн: в их
дружбу вкралась неловкость, хотя Анни и Минни по-прежнему обожали ее.
Девочки выросли - одной исполнилось тринадцать, другой - десять, - и,
видимо, подобно мне, стали задумываться, какие узы соединяют их с миссис
Брукфилд, а, может быть, я недооценивал их чуткость: наверное, они замечали,
что отец несчастен, и понимали, что причина этого - их верный друг миссис
Брукфилд. Несомненно, Джейн была им предана, как встарь, и страшно
огорчилась бы, узнай она, что девочки из-за нее страдают. Мы никогда не
обсуждали Брукфилдов: я не решался возложить на хрупкие юные плечи такое
бремя, да и естественная сдержанность обеих сторон исключала подобные
разговоры. И все же, не сомневаюсь, мои дочки понимали, что значит для меня
Джейн Брукфилд, как понимали многое другое, чего не называли по имени, но
доказывали понимание делом, за что я был им бесконечно благодарен, ибо не
знаю более восхитительного свойства в юных, чем деликатность.
Я прибегнул к испытанному средству - к отдыху, пока не изобрел другое,
более действенное. Сперва я повидался в Париже с матушкой, а после ездил по
Европе, попутно собирая материал для забавных рождественских повестей. За
это время мне встретилось несколько великолепных образчиков человеческой
глупости, которые придали резвости моему перу, так что я даже призадумался,
отчего прежде не писал веселых святочных историй. Пусть я бы не нажил на них
состояния, но как бы славно мне жилось, а в свободное время я рисовал бы к
ним картинки. Надеюсь, они меня переживут и выдержат проверку временем,
надеюсь, они будут радовать людей и после моей смерти; как весело их было
сочинять! Меня ничуть не огорчает, если они поверхностны и не пробуждают
разных там глубоких чувств. Кому это нужно, чтобы писатель в каждой книге
выворачивал душу наизнанку? Решительно никому, я плачу от досады, вспоминая,
как бился, чтобы расшевелить читателей, - ей-богу, следовало
удовольствоваться меньшим. Что за проклятие такое честолюбие, из-за него я
двадцать лет не разрешал себе вздохнуть, да и сегодня еще с ним не
распростился. Я не умру спокойно, пока не допишу "Дени Дюваля" и не дождусь,
пока все, включая вашего покорного слугу, не назовут его шедевром. Как,
неужели он не успокоился, спросите вы? Конечно, нет, и все еще хочу
рукоплесканий.
Мы отвлеклись от нашего рассказа, но эта его часть меня не слишком
радует и, кажется, вас также, мой читатель, иначе вы не тянули бы меня за
рукав и не просили поскорей свернуть в соседнюю долину. Я бы охотно
подчинился и обошел стороной два-три утеса, но долг есть долг, и он меня
удерживает на выбранном пути, сверни мы в сторону, и мы собьемся. Каков
моралист, воскликнете вы, не хуже, чем мисс Бронте. Но ведь одно мое обличье
- ветреник, который с наслаждением кропает детские книжонки, другое - старый
мрачный проповедник, который без конца толкует о долге и грозно напоминает о
расплате, когда его речам не внемлют. Порою верх берет один, порою - другой,
но что за чудо получается, когда они между собою ладят! Вот я и придумал
себе дело, для которого потребовались обе мои ипостаси - оно меня избавило
на время от множества хлопот и забот.
Получилось это так. Как вы помните, я мечтал заработать побольше, чтоб
не тревожиться о будущем жены и детей, и вознамерился собрать такую сумму,
которая позволила бы положить по десять тысяч фунтов на имя каждой из них и
обеспечить им приличный постоянный доход и независимое существование. Будь у
меня сыновья, я бы гораздо меньше о них беспокоился: молодые люди сами
пробьют себе дорогу в жизни (и я могу служить тому примером), но что ждет
девушку, кроме жалкой участи гувернантки или учительницы музыки? Грошовые
уроки или замужество - вот все, что предоставляется неимущей девушке, чтоб
избежать работного дома, и, честно говоря, не знаю, какое из двух зол хуже.
Меня тошнит от ярмарки невест, одна лишь мысль, что Анни или Минни наденут
брачное ярмо и примут предложение какого-нибудь прохвоста, чтоб обрести
крышу над головой, приводит меня в содрогание. Пока этот порядок не
изменится - с чего ему измениться? - женщины должны жить как полевые лилии,
и обходиться с ними надо так же нежно. Чтобы мои девочки могли располагать
собой, им нужны деньги, и если этих денег мне не принесут романы - чего пока
не случилось, хоть мы и жили очень сносно, - придется изобрести какое-нибудь
другое средство.
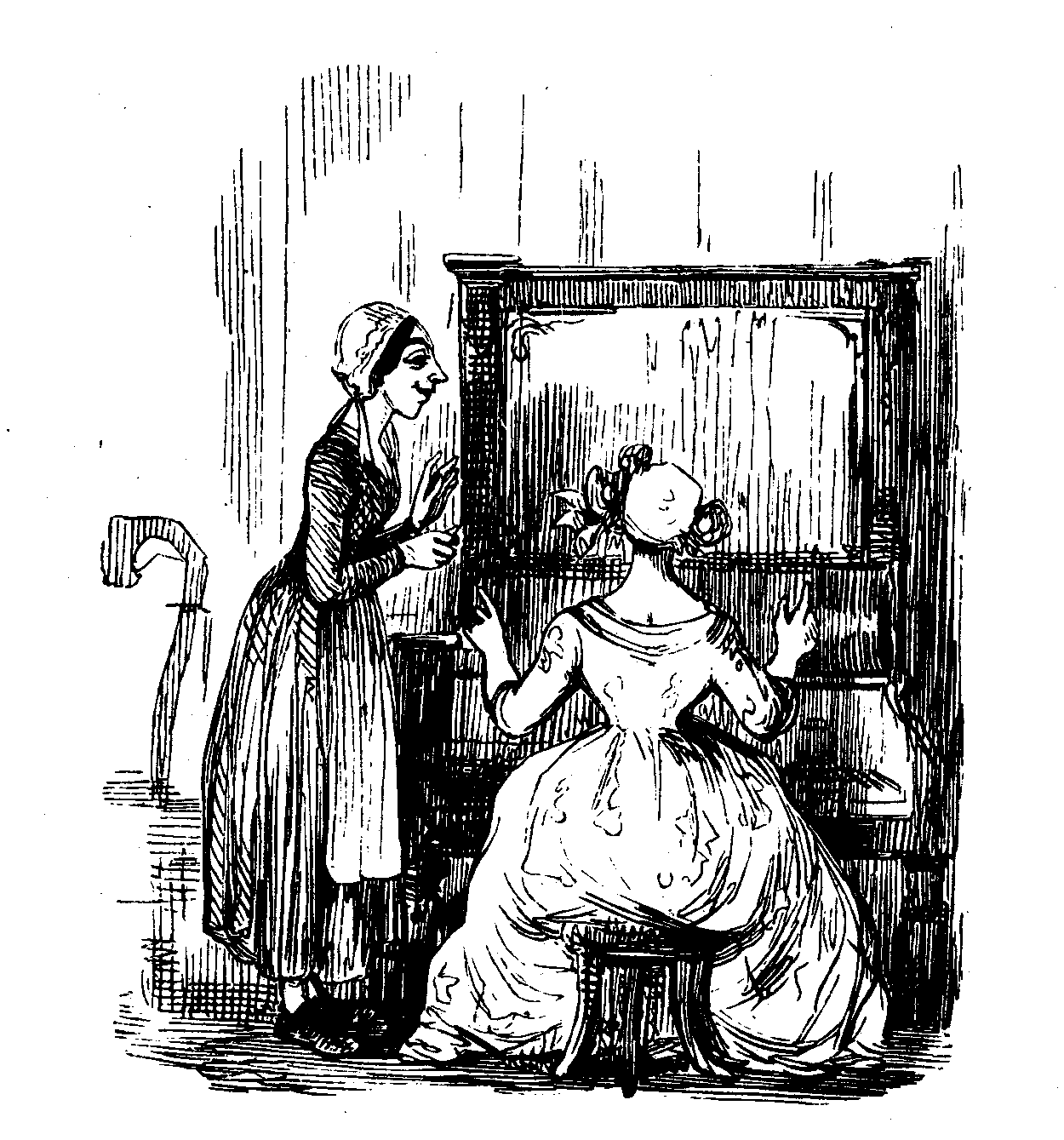 Не помню, как и когда мне пришла в голову мысль подняться на подмостки
и после представления пускать шапку по кругу. Нет, не подумайте, я не
подался в актеры - я решил снять зал и читать лекции. К подобному вы не были
готовы? Поначалу я тоже, но лекции в ту пору вошли в моду, со всех сторон
только и слышалось, как много денег гребут лекторы, и чем больше я размышлял
над этой идеей, тем больше она мне нравилась. Читаю я обычно много, а после
своей злополучной болезни - и того больше, ибо похварываю, а когда
выздоравливаешь, что может быть лучше, чем, примостив книгу на одеяле,
углубиться в нее на долгие часы. В литературе моя любимая эпоха -
восемнадцатый век, правление королевы Анны, и все тогдашние писатели мне
хорошо известны. Сколько себя помню, я всегда читал и перечитывал Филдинга,
Смоллетта, Аддисона, Стила и Попа и возвращался к ним, когда разочаровывался
в современной литературе. Мне не потребовалось и часу, чтобы прикинуть, как
будет выглядеть цикл лекций об этом горячо любимом мной предмете, а вскоре
само собой нашлось и название - "Английские юмористы восемнадцатого века";
было бы странно, если бы я не мог составить о них занятного и поучительного
рассказа. Тему я выбрал правильно: я знал предмет, а это очень важно, но что
еще важнее, он увлекал меня, как увлекает и по сей день, хотя я прочел о
нем, наверное, миллион лекций. Если и вас, читатель, соблазняет лекторская
кафедра, призываю вас, будьте осторожны с темой, ибо если вы остановитесь на
такой, которая ничего не говорит уму и сердцу, вы уподобитесь старому
мореходу Колриджа - повесите себе на шею мертвого альбатроса и он испортит
всю затею трупным смрадом. Я до сих почитаю Филдинга и прочих авторов,
по-прежнему люблю их и все еще готов взойти на кафедру, чтобы порассуждать о
них, хотя сами лекции мне опротивели.
Додуматься до всего этого было несложно, к тому же, похвастаю, я был
отлично подготовлен, и тем не менее, прежде чем выйти с моими юмористами на
трибуну, пришлось изрядно потрудиться. Читать их было чистым удовольствием,
я не расставался с полюбившимися мне томиками и до того зачитывался, что
просто забывал, во имя чего это делаю. Глаза привычно перескакивали с одной
знакомой строчки на другую, а нужно было остановиться, отметить важные места
и тщательно все обдумать, прежде чем, преисполнившись дерзости, браться за
перо. Мне хотелось построить изложение в свободном, разговорном стиле, вроде
того, которым я пытаюсь писать настоящую книгу, ибо я не намеревался
доводить слушателей до зевоты, напыщенными словоизлияниями. Если люди и
придут, то для того, чтобы развлечься, и я не видел в том ничего зазорного.
Мне следовало во что бы то ни стало овладеть вниманием аудитории и обратить
ее в свою веру, лишь тогда можно будет сообщить ей что-либо содержательное,
и значит, тон моих лекций должен быть непринужденным, а доводы - простыми. Я
огорчился бы, подай я повод хотя бы одному из слушателей заявить: "Это
непонятно, а значит, дьявольски умно, надо бы не заснуть, иначе все заметят,
какой я невежда". Я бы хотел говорить просто, правдиво и понятно, по-моему,
нет иного способа возместить потраченные публикой деньги и преуспеть в своем
начинании. Я не согласен с теми, кто считает, будто подлинное знание должно
звучать невразумительно, совсем напротив, не вижу, с какой стати читатель
или слушатель обязан биться над расшифровкой того, что хотел сказать
писатель или лектор, по мне, это свидетельствует о провале.
Впрочем, свободное владение материалом еще не означало, что я сумею
изложить его как должно - публичные выступления всегда были для меня камнем
преткновения. Я никогда их не любил - у меня нет к ним дара. Даже мой голос
не годится - он слишком слаб, и хотя текст будет лежать у меня перед
глазами, многое зависит от того, как я его прочту. Меня страшат большие
скопления людей, меня охватывает паника, когда они сидят и молча на меня
взирают, я так волнуюсь, что заболеваю. Диккенс, к примеру, чувствует себя
иначе, его подстегивают и зажигают огромные толпы, пришедшие его послушать,
но у него другой природный темперамент, тогда как мой удел - дрожать,
бледнеть, бороться с желанием удрать подальше и мечтать - тщетная надежда! -
чтоб лекция не состоялась. Еще мгновение - и люди уставятся на меня бусинами
своих глаз и ни в какую не согласятся, чтобы мой текст прочел кто-нибудь
другой: по условиям игры его должен прочесть сам автор. А, собственно, по
какой причине? Почему это так важно? Откуда такое любопытство к его особе? Я
никогда, наверное, не пойму, чем интересно мое платье, мимика или привычка
волноваться во время выступления. Зачем, изображая интерес к предмету
лекции, превращать докладчика в диковинку из зоопарка? Появление на кафедре
автора собственной персоной должно, по непонятной мне причине, вызывать
трепет у его поклонников, вернее, причина эта мне понятна, но заставляет
грустно призадуматься над человеческой природой. Я понимаю, можно
встретиться с любимым автором, пожать ему руку, обменяться добрыми словами,
но есть ли смысл прийти с толпой зевак, чтоб просто поглазеть на него? Нет,
мне это невдомек.
Сейчас я распинаюсь о десятках, даже сотнях слушателей, но ясно помню,
как боялся, что на мою лекцию не придет ни одна душа, кроме матушки с Анни и
Минни да Джейн Брукфилд. При мысли о большом стечении народа я покрывался
испариной, но пустой зал и унизительное положение, в которое я попал бы,
обращаясь к бесконечным рядам зияющих провалами кресел, страшили меня
неизмеримо больше. С чего я взял, что люди согласятся выкладывать деньги за
удовольствие меня послушать? Какая дерзость, нет, нужно поскорее это
отменить! Сколько ни утешали меня друзья и родственники, мне не именно
виделся пустой гулкий зал, я приходил в отчаяние, воображая, как прогорю на
этой авантюре. Что за насмешка: погнавшись за золотым тельцом, обобрать себя
и близких и потерять то немногое, что у нас есть.
И все же, несмотря на мучившие меня страхи, я решился выступать в залах
Уиллиса на Кинг-стрит в Сент-Джеймсе и назначил две гинеи за посещение шести
лекций и семь шиллингов шесть пенсов за вход на одну лекцию. Лравда, похоже,
будто дети играют в театр? Меня это смешило, хотя дело было чертовски
серьезное, я называл себя канатоходцем и усиленно приглашал друзей прийти
полюбоваться моей несравненной ловкостью и бесстрашием. Первая лекция
состоялась 22 мая 1851 года в четверг утром. Мое возбуждение нарастало с
каждым часом, а когда у меня расходятся нервы, со мной нет никакого сладу.
Ах, будь у меня жена, она легонько провела бы ладонью по моему лбу, одернула
на мне костюм, нашла запасную пару очков и оказала тысячу других знаков
внимания! Анни и Минни, как всегда, очень старались помочь, но я внушал им
страх и жалость, которой они меня едва не доконали. Я шел на лекцию, как на
войну, на которой, по правде говоря, никогда не был и потому имею о ней
довольно смутные представления. Во всяком случае, когда я садился в карету,
чтоб ехать на будущее поле боя, говорить я мог только шепотом. А вдруг,
когда дойдет до дела, я совсем осипну или - о ужас! - потеряю текст, в
который вцепился мертвой хваткой и не выпускал из рук ни на минуту? Я
рисовал себе одну ужасную картину за другой, пока к сердцу не подступила
черная тоска, оно успокоилось и перестало стучать как бешеное, а мне все
стало безразлично: будь что будет, все, что можно, уже сделано. С богом!
Не помню, как и когда мне пришла в голову мысль подняться на подмостки
и после представления пускать шапку по кругу. Нет, не подумайте, я не
подался в актеры - я решил снять зал и читать лекции. К подобному вы не были
готовы? Поначалу я тоже, но лекции в ту пору вошли в моду, со всех сторон
только и слышалось, как много денег гребут лекторы, и чем больше я размышлял
над этой идеей, тем больше она мне нравилась. Читаю я обычно много, а после
своей злополучной болезни - и того больше, ибо похварываю, а когда
выздоравливаешь, что может быть лучше, чем, примостив книгу на одеяле,
углубиться в нее на долгие часы. В литературе моя любимая эпоха -
восемнадцатый век, правление королевы Анны, и все тогдашние писатели мне
хорошо известны. Сколько себя помню, я всегда читал и перечитывал Филдинга,
Смоллетта, Аддисона, Стила и Попа и возвращался к ним, когда разочаровывался
в современной литературе. Мне не потребовалось и часу, чтобы прикинуть, как
будет выглядеть цикл лекций об этом горячо любимом мной предмете, а вскоре
само собой нашлось и название - "Английские юмористы восемнадцатого века";
было бы странно, если бы я не мог составить о них занятного и поучительного
рассказа. Тему я выбрал правильно: я знал предмет, а это очень важно, но что
еще важнее, он увлекал меня, как увлекает и по сей день, хотя я прочел о
нем, наверное, миллион лекций. Если и вас, читатель, соблазняет лекторская
кафедра, призываю вас, будьте осторожны с темой, ибо если вы остановитесь на
такой, которая ничего не говорит уму и сердцу, вы уподобитесь старому
мореходу Колриджа - повесите себе на шею мертвого альбатроса и он испортит
всю затею трупным смрадом. Я до сих почитаю Филдинга и прочих авторов,
по-прежнему люблю их и все еще готов взойти на кафедру, чтобы порассуждать о
них, хотя сами лекции мне опротивели.
Додуматься до всего этого было несложно, к тому же, похвастаю, я был
отлично подготовлен, и тем не менее, прежде чем выйти с моими юмористами на
трибуну, пришлось изрядно потрудиться. Читать их было чистым удовольствием,
я не расставался с полюбившимися мне томиками и до того зачитывался, что
просто забывал, во имя чего это делаю. Глаза привычно перескакивали с одной
знакомой строчки на другую, а нужно было остановиться, отметить важные места
и тщательно все обдумать, прежде чем, преисполнившись дерзости, браться за
перо. Мне хотелось построить изложение в свободном, разговорном стиле, вроде
того, которым я пытаюсь писать настоящую книгу, ибо я не намеревался
доводить слушателей до зевоты, напыщенными словоизлияниями. Если люди и
придут, то для того, чтобы развлечься, и я не видел в том ничего зазорного.
Мне следовало во что бы то ни стало овладеть вниманием аудитории и обратить
ее в свою веру, лишь тогда можно будет сообщить ей что-либо содержательное,
и значит, тон моих лекций должен быть непринужденным, а доводы - простыми. Я
огорчился бы, подай я повод хотя бы одному из слушателей заявить: "Это
непонятно, а значит, дьявольски умно, надо бы не заснуть, иначе все заметят,
какой я невежда". Я бы хотел говорить просто, правдиво и понятно, по-моему,
нет иного способа возместить потраченные публикой деньги и преуспеть в своем
начинании. Я не согласен с теми, кто считает, будто подлинное знание должно
звучать невразумительно, совсем напротив, не вижу, с какой стати читатель
или слушатель обязан биться над расшифровкой того, что хотел сказать
писатель или лектор, по мне, это свидетельствует о провале.
Впрочем, свободное владение материалом еще не означало, что я сумею
изложить его как должно - публичные выступления всегда были для меня камнем
преткновения. Я никогда их не любил - у меня нет к ним дара. Даже мой голос
не годится - он слишком слаб, и хотя текст будет лежать у меня перед
глазами, многое зависит от того, как я его прочту. Меня страшат большие
скопления людей, меня охватывает паника, когда они сидят и молча на меня
взирают, я так волнуюсь, что заболеваю. Диккенс, к примеру, чувствует себя
иначе, его подстегивают и зажигают огромные толпы, пришедшие его послушать,
но у него другой природный темперамент, тогда как мой удел - дрожать,
бледнеть, бороться с желанием удрать подальше и мечтать - тщетная надежда! -
чтоб лекция не состоялась. Еще мгновение - и люди уставятся на меня бусинами
своих глаз и ни в какую не согласятся, чтобы мой текст прочел кто-нибудь
другой: по условиям игры его должен прочесть сам автор. А, собственно, по
какой причине? Почему это так важно? Откуда такое любопытство к его особе? Я
никогда, наверное, не пойму, чем интересно мое платье, мимика или привычка
волноваться во время выступления. Зачем, изображая интерес к предмету
лекции, превращать докладчика в диковинку из зоопарка? Появление на кафедре
автора собственной персоной должно, по непонятной мне причине, вызывать
трепет у его поклонников, вернее, причина эта мне понятна, но заставляет
грустно призадуматься над человеческой природой. Я понимаю, можно
встретиться с любимым автором, пожать ему руку, обменяться добрыми словами,
но есть ли смысл прийти с толпой зевак, чтоб просто поглазеть на него? Нет,
мне это невдомек.
Сейчас я распинаюсь о десятках, даже сотнях слушателей, но ясно помню,
как боялся, что на мою лекцию не придет ни одна душа, кроме матушки с Анни и
Минни да Джейн Брукфилд. При мысли о большом стечении народа я покрывался
испариной, но пустой зал и унизительное положение, в которое я попал бы,
обращаясь к бесконечным рядам зияющих провалами кресел, страшили меня
неизмеримо больше. С чего я взял, что люди согласятся выкладывать деньги за
удовольствие меня послушать? Какая дерзость, нет, нужно поскорее это
отменить! Сколько ни утешали меня друзья и родственники, мне не именно
виделся пустой гулкий зал, я приходил в отчаяние, воображая, как прогорю на
этой авантюре. Что за насмешка: погнавшись за золотым тельцом, обобрать себя
и близких и потерять то немногое, что у нас есть.
И все же, несмотря на мучившие меня страхи, я решился выступать в залах
Уиллиса на Кинг-стрит в Сент-Джеймсе и назначил две гинеи за посещение шести
лекций и семь шиллингов шесть пенсов за вход на одну лекцию. Лравда, похоже,
будто дети играют в театр? Меня это смешило, хотя дело было чертовски
серьезное, я называл себя канатоходцем и усиленно приглашал друзей прийти
полюбоваться моей несравненной ловкостью и бесстрашием. Первая лекция
состоялась 22 мая 1851 года в четверг утром. Мое возбуждение нарастало с
каждым часом, а когда у меня расходятся нервы, со мной нет никакого сладу.
Ах, будь у меня жена, она легонько провела бы ладонью по моему лбу, одернула
на мне костюм, нашла запасную пару очков и оказала тысячу других знаков
внимания! Анни и Минни, как всегда, очень старались помочь, но я внушал им
страх и жалость, которой они меня едва не доконали. Я шел на лекцию, как на
войну, на которой, по правде говоря, никогда не был и потому имею о ней
довольно смутные представления. Во всяком случае, когда я садился в карету,
чтоб ехать на будущее поле боя, говорить я мог только шепотом. А вдруг,
когда дойдет до дела, я совсем осипну или - о ужас! - потеряю текст, в
который вцепился мертвой хваткой и не выпускал из рук ни на минуту? Я
рисовал себе одну ужасную картину за другой, пока к сердцу не подступила
черная тоска, оно успокоилось и перестало стучать как бешеное, а мне все
стало безразлично: будь что будет, все, что можно, уже сделано. С богом!
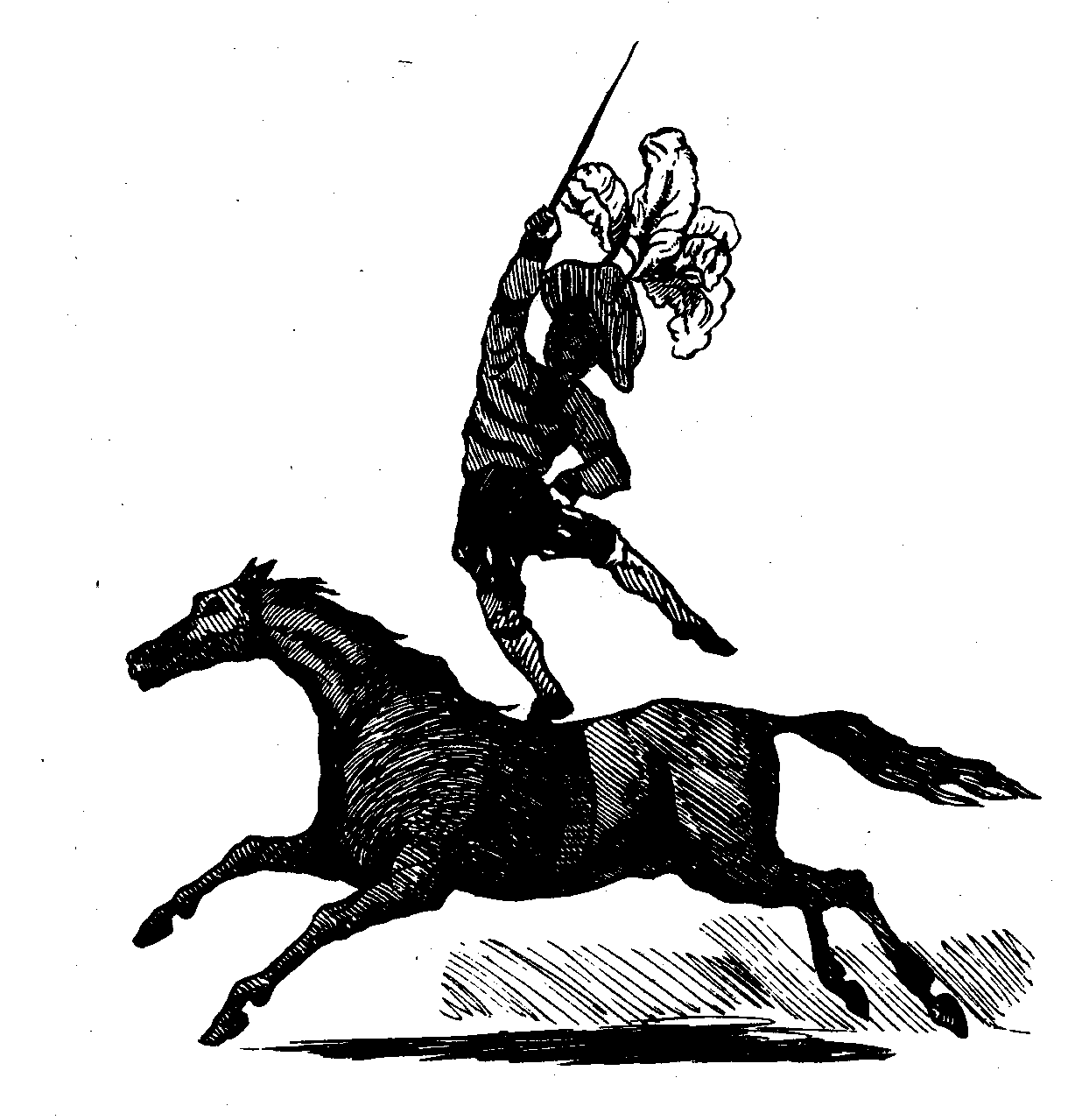 За несколько дней до лекции я предусмотрительно заглянул в залы
Уиллиса, чтоб познакомиться поближе с местом предстоящей казни и послушать,
как звучит мой голос; к великому смущению служителя, послушно стоявшего по
моей просьбе в дальнем углу зала, я принялся громко выкрикивать таблицу
умножения, после чего он меня заверил, что отлично слышал каждое сказанное
слово, но само помещение в то майское утро показалось мне чужим и жутким.
Случалось ли вам бывать в зале до того, как его заполнит публика, читатель?
Если да, вы почувствовали его гнетущую атмосферу и знаете, как потерянно
ощущает себя лектор, шагая взад и вперед вдоль гулких и пустых проходов. В
такую минуту не верится, что из этих темных кресел раздастся смех и звуки
речи, повеет человеческим теплом, и волнение слушателей всколыхнет затхлый,
тусклый воздух. Пока все мертво. Лишь громким эхом отдаются шаги
встревоженного лектора, и, если он нечаянно споткнется о скамью или уронит
книгу, по залу разносится звук, подобный грозному раскату грома. От страха
меня поташнивало и разбирало зло на себя за то, что я по доброй воле пошел
на предстоящее неминуемое, как мне казалось, унижение. Наверное, я бы просто
задал стрекача, если бы не Фанни Кембл, которая решила приехать пораньше. До
чего же она, бедняжка, была, наверное, ошарашена, когда я, как безумный,
бросился ей навстречу и стал упрашивать не уезжать и скоротать со мной
оставшееся время. Воображаете, что со мной творилось? Конечно, не следовало
приходить так рано да еще одному, то была ошибка, мне вовсе не нужен был
покой и тишина, чтобы собраться с мыслями, как я утверждал, а нужно было
отвлечься. Да и вообще незачем было так волноваться, но паника в два счета
одерживает верх над здравым смыслом, и если бы не Фанни Кембл, не знаю, что
вышло бы из моей первой лекции.
Она увела меня в артистическую уборную, примыкавшую к залу, и сделала
все возможное, чтобы рассеять мои. страхи. Не помню, о чем мы говорили, да и
нарастающий гул голосов заглушал наши слова, но я был рад, что у меня есть
собеседница, и с тех пор стараюсь никогда не оставаться перед лекцией один.
По мере того, как приближалась злосчастная минута моего выхода на сцену, я
стал горько сожалеть о том, что оставил текст выступления на пюпитре
кафедры: само прикосновение к бумаге меня бы успокаивало и придавало
осязаемость предстоящему. Конечно, нечего было и думать о том, чтобы выйти
на сцену и забрать его: собравшиеся решили бы, что я начинаю, но,
оказывается, все это время я сетовал вслух, и славная Фанни вызвалась мне
принести вожделенные листочки. Бесшумно и ловко, как и подобает ангелу
милосердия, она проследовала к пюпитру, который я отрегулировал по
собственному росту, и обнаружила, что не достает до лежащих на нем записок.
Стараясь по возможности не привлекать к себе внимания, она стала слегка
подпрыгивать в надежде, что - дотянется до рукописи, и, сдвинув с места,
подхватит на лету. Вместо чего листки упали на пол и рассыпались во все
стороны. Со слезами она сгребала их в кучки, напоминавшие побитые градом
пучки колосьев, и принесла их мне, боясь поднять глаза от страха, что я
сейчас, накинусь и разорву ее на части. На деле, она мне оказала огромную
услугу, ибо все оставшееся время я пор порядку их раскладывал, и эта
механическая работа вернула мне спокойствие. На сцену я вышел собранный,
готовый сражаться и победить.
За несколько дней до лекции я предусмотрительно заглянул в залы
Уиллиса, чтоб познакомиться поближе с местом предстоящей казни и послушать,
как звучит мой голос; к великому смущению служителя, послушно стоявшего по
моей просьбе в дальнем углу зала, я принялся громко выкрикивать таблицу
умножения, после чего он меня заверил, что отлично слышал каждое сказанное
слово, но само помещение в то майское утро показалось мне чужим и жутким.
Случалось ли вам бывать в зале до того, как его заполнит публика, читатель?
Если да, вы почувствовали его гнетущую атмосферу и знаете, как потерянно
ощущает себя лектор, шагая взад и вперед вдоль гулких и пустых проходов. В
такую минуту не верится, что из этих темных кресел раздастся смех и звуки
речи, повеет человеческим теплом, и волнение слушателей всколыхнет затхлый,
тусклый воздух. Пока все мертво. Лишь громким эхом отдаются шаги
встревоженного лектора, и, если он нечаянно споткнется о скамью или уронит
книгу, по залу разносится звук, подобный грозному раскату грома. От страха
меня поташнивало и разбирало зло на себя за то, что я по доброй воле пошел
на предстоящее неминуемое, как мне казалось, унижение. Наверное, я бы просто
задал стрекача, если бы не Фанни Кембл, которая решила приехать пораньше. До
чего же она, бедняжка, была, наверное, ошарашена, когда я, как безумный,
бросился ей навстречу и стал упрашивать не уезжать и скоротать со мной
оставшееся время. Воображаете, что со мной творилось? Конечно, не следовало
приходить так рано да еще одному, то была ошибка, мне вовсе не нужен был
покой и тишина, чтобы собраться с мыслями, как я утверждал, а нужно было
отвлечься. Да и вообще незачем было так волноваться, но паника в два счета
одерживает верх над здравым смыслом, и если бы не Фанни Кембл, не знаю, что
вышло бы из моей первой лекции.
Она увела меня в артистическую уборную, примыкавшую к залу, и сделала
все возможное, чтобы рассеять мои. страхи. Не помню, о чем мы говорили, да и
нарастающий гул голосов заглушал наши слова, но я был рад, что у меня есть
собеседница, и с тех пор стараюсь никогда не оставаться перед лекцией один.
По мере того, как приближалась злосчастная минута моего выхода на сцену, я
стал горько сожалеть о том, что оставил текст выступления на пюпитре
кафедры: само прикосновение к бумаге меня бы успокаивало и придавало
осязаемость предстоящему. Конечно, нечего было и думать о том, чтобы выйти
на сцену и забрать его: собравшиеся решили бы, что я начинаю, но,
оказывается, все это время я сетовал вслух, и славная Фанни вызвалась мне
принести вожделенные листочки. Бесшумно и ловко, как и подобает ангелу
милосердия, она проследовала к пюпитру, который я отрегулировал по
собственному росту, и обнаружила, что не достает до лежащих на нем записок.
Стараясь по возможности не привлекать к себе внимания, она стала слегка
подпрыгивать в надежде, что - дотянется до рукописи, и, сдвинув с места,
подхватит на лету. Вместо чего листки упали на пол и рассыпались во все
стороны. Со слезами она сгребала их в кучки, напоминавшие побитые градом
пучки колосьев, и принесла их мне, боясь поднять глаза от страха, что я
сейчас, накинусь и разорву ее на части. На деле, она мне оказала огромную
услугу, ибо все оставшееся время я пор порядку их раскладывал, и эта
механическая работа вернула мне спокойствие. На сцену я вышел собранный,
готовый сражаться и победить.
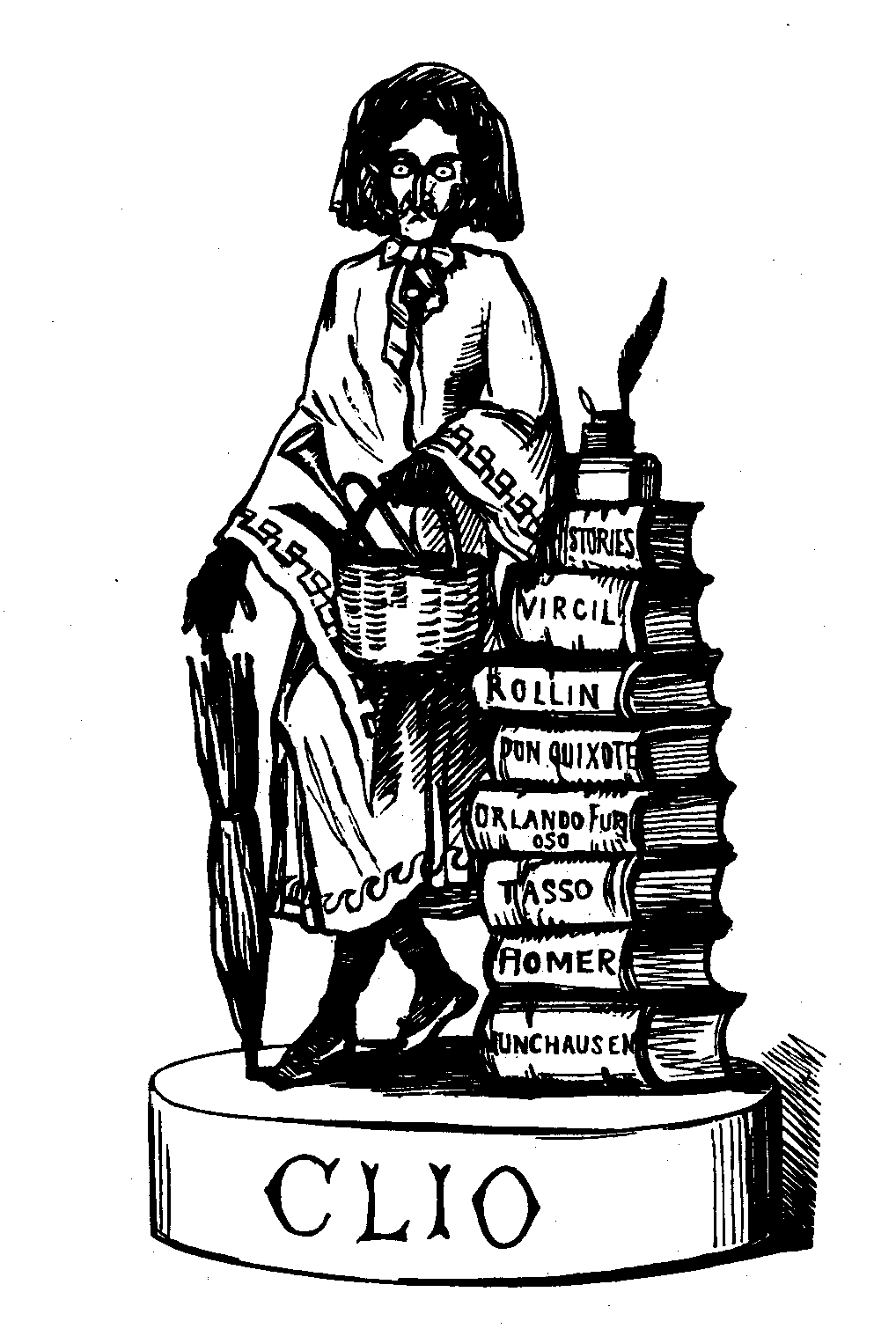 Скажу по опыту, что лектор почти не видит своей аудитории, он только
ощущает присутствие большого числа лиц и тел, сливающихся в одну общую
массу, расчленять которую для него гибельно. Поднимая глаза на зал, он либо
скользит по нему взором, либо смотрит перед собой, не захватывая и первого
ряда, либо устремляет его вдаль, но не рискует задерживаться на чем-нибудь,
кроме края пюпитра. Сначала он не отрывается от текста, даже если знает его
наизусть, но постепенно, его уверенность в себе растет, он решается дать
отдых глазам и поднимает их от рукописи, но держит пальцем место, на котором
остановился, чтоб в случае чего вернуться к спасительной надежности
письменного слова. Мало-помалу я овладел этим искусством, и если бы мне
вновь - не приведи господи - довелось читать лекции, я следовал бы тем же
простым правилам, не допуская и мысли, что можно отказаться от записей или,
увидев в третьем ряду двоюродную бабушку, приветливо ей помахать. Едва начав
читать, я тотчас заметил, что слова свободно льются у меня из уст, текстом я
почти не пользуюсь, в нужных местах сами собой возникают паузы и на кафедре
я выгляжу вполне уместно. Аудитория тоже оказалась управляемой: она
прислушивалась к моим словам, смеялась над остротами и энергично хлопала в
конце. О чем еще мечтать лектору?
И в самом деле, о чем? После лекции я пожал бессчетное число рук - люди
рвались поздравить меня с успехом. Было ли это приятно? Разумеется. Вы
спрашиваете, не опьянил ли меня успех? Вне всякого сомнения, и очень сильно:
я улыбался как дурак и чувствовал себя покорителем вселенной. Скромность моя
неожиданно куда-то улетучилась - нет, нет, не насовсем: я понимал, что это
игра случая, и старался умерить свою хвастливость. Да и вообще не стоит
откровенно радоваться своему успеху. Это не по-английски. Мы, англичане,
больше всего ценим сдержанность, хотя не знаю, хорошо ли это. Некоторые,
кажется, сочли мой восторг неподобающим, и разгромная статья Джона Форстера,
появившаяся в "Экзэминере" два дня спустя, объяснялась скорее всего моим
неуместным ликованием. Ничего не оставалось, кроме как мудро взяться за
подготовку следующей лекции.
Мой импрессарио Митчелл был чрезвычайно доволен таким началом и стал
немедленно договариваться, чтобы на следующую лекцию поставили
дополнительные стулья и проч. Меня осаждали жаждавшие билетов - признаюсь,
это было лестно. По мере того, как я продолжал читать, аудитория росла, и
под конец я стал богаче и известнее, чем прежде. В этом неожиданном успехе
мне поневоле виделся добрый знак, но сердце не соглашалось с разумом. Я
говорил себе: не бойся, опасность прошла стороной и больше не вернется,
перед тобой отныне новый, легкий и счастливый путь. Так я говорил и не верил
себе, а почему, вы узнаете дальше.
^T12^U
^TУжасная сцена: моя любовь отвергнута^U
Итак, из гавани св. Екатерины 10 июля 1851 года - добавим нашему
повествованию немного хронологии - отплыло некое счастливое семейство,
которое, судя по новым нарядным платьицам кое-кого из его членов, держало
путь на континент. Папаша излучал довольство, но и его довольство и не
лишенная приятности улыбка совершенно меркли рядом с сияющими рожицами двух
его дочек, которые сияли бы и вовсе ослепительно, если бы их новые шляпки,
украшенные атласными лентами и венчиками из цветов акации (одна - голубым,
вторая - розовым), красовались на их головках, а не покоились в дорожном
сундуке, но папа запретил их надевать, сказав, что шляпки соберут толпу
зевак. Как вы отлично понимаете, владелицы последних ни одного мгновения не
могли устоять на месте, они подпрыгивали, приседали, тянулись и вертелись во
все стороны, так что делалось страшно за их шейки, которых они нисколько не
щадили. Двум юным мисс все было интересно, вследствие чего они ежесекундно
подзывали к себе отца и засыпали градом всевозможных "что", "как", "зачем" и
"почему", так что бедняга должен был бы изнемочь от их неистощимой
любознательности, однако он ей явно радовался и отвечал на все расспросы с
неиссякаемым терпением, не ускользнувшим от внимания их спутников, которые
сочли его домашним учителем девочек. Во время перехода до Антверпена море
сильно штормило, и невозможно было не восхищаться силой духа, которую
несмотря на донимавшую их морскую болезнь выказывали при этом две молодые
леди. Казалось, они решили про себя, что путешествие пройдет отлично, и
упорно не замечали всего тому противоречившего. Черта эта у взрослых порою
утомительна, но очень подкупает в детях и заслуживает всяческого поощрения.
По крайней мере, так считал глава нашего семейства, который благодарил
судьбу за радостное настроение своих детей и верил, что оно продержится всю
поездку. Так оно и оказалось. Мы наслаждались этими давно задуманными
каникулами, весело переезжали из города в город, то и дело возбужденно
собирая и разбирая вещи, - занятие, которое пришлось по вкусу девочкам, - по
правде говоря, последние больше напоминали молоденьких барышень, сознание
чего и позволило мне согласиться на совместную поездку. Они молили меня о
ней годами, но я не поддавался, пока они не распростились с няньками и
гувернантками. В свои четырнадцать лет Анни, несомненно, созрела для такого
путешествия, но брать с собою одиннадцатилетнюю Минни, которая лишь начинала
приобщаться к миру взрослых, было с моей стороны, наверное, неразумно.
Однако разлучить их и взять с собой одну, оставив другую дома, я не мог: они
были невероятно привязаны друг к другу. Из-за того, что они выросли без
матери, их соединяло чувство более горячее, чем это водится обычно между
сестрами, и их взаимная забота и опека трогали меня до слез. Помню, однажды
в Бадене я ушел пить чай с приятельницей, не слишком милосердно предоставив,
моих птичек собственному попечению, а когда вернулся в гостиницу - много
позже, чем намеревался, не хочется даже вспоминать, когда именно, - застал
Минни на коленях у Анни, которая, чтоб успокоить младшую, читала ей
по-матерински вслух. Анни всегда свойственны были доброта и мягкость, а
Минни - доверчивость и послушание, хотя порой я замечал за младшенькой
проделки, которые не назовешь высокодобродетельными. Анни была открытая
натура и отличалась добротой и разумом, тогда как за Минни водились чисто
женские грешки, она владела целой серией уловок, которые не посрамили бы и
Бекки Шарп, и очень искусно ими пользовалась, когда хотела выставить сестру
в невыгодном свете - глуповатой или скучной, чего последняя не замечала.
Отца она встречала нежным воркованием, но в Анни часто запускала свои
кошачьи коготки - проказница считала, что я ничего не вижу. Я все прекрасно
видел, но просто был не в силах устоять перед ее смышленностью и не
сердился: таков уж был ее природный нрав; кроме того, я знал, что она бы
никогда не обидела сестру всерьез, напротив, вздумай кто-нибудь
злоупотребить доверием Анни, она бы первая бросилась на ее защиту.
Скажу по опыту, что лектор почти не видит своей аудитории, он только
ощущает присутствие большого числа лиц и тел, сливающихся в одну общую
массу, расчленять которую для него гибельно. Поднимая глаза на зал, он либо
скользит по нему взором, либо смотрит перед собой, не захватывая и первого
ряда, либо устремляет его вдаль, но не рискует задерживаться на чем-нибудь,
кроме края пюпитра. Сначала он не отрывается от текста, даже если знает его
наизусть, но постепенно, его уверенность в себе растет, он решается дать
отдых глазам и поднимает их от рукописи, но держит пальцем место, на котором
остановился, чтоб в случае чего вернуться к спасительной надежности
письменного слова. Мало-помалу я овладел этим искусством, и если бы мне
вновь - не приведи господи - довелось читать лекции, я следовал бы тем же
простым правилам, не допуская и мысли, что можно отказаться от записей или,
увидев в третьем ряду двоюродную бабушку, приветливо ей помахать. Едва начав
читать, я тотчас заметил, что слова свободно льются у меня из уст, текстом я
почти не пользуюсь, в нужных местах сами собой возникают паузы и на кафедре
я выгляжу вполне уместно. Аудитория тоже оказалась управляемой: она
прислушивалась к моим словам, смеялась над остротами и энергично хлопала в
конце. О чем еще мечтать лектору?
И в самом деле, о чем? После лекции я пожал бессчетное число рук - люди
рвались поздравить меня с успехом. Было ли это приятно? Разумеется. Вы
спрашиваете, не опьянил ли меня успех? Вне всякого сомнения, и очень сильно:
я улыбался как дурак и чувствовал себя покорителем вселенной. Скромность моя
неожиданно куда-то улетучилась - нет, нет, не насовсем: я понимал, что это
игра случая, и старался умерить свою хвастливость. Да и вообще не стоит
откровенно радоваться своему успеху. Это не по-английски. Мы, англичане,
больше всего ценим сдержанность, хотя не знаю, хорошо ли это. Некоторые,
кажется, сочли мой восторг неподобающим, и разгромная статья Джона Форстера,
появившаяся в "Экзэминере" два дня спустя, объяснялась скорее всего моим
неуместным ликованием. Ничего не оставалось, кроме как мудро взяться за
подготовку следующей лекции.
Мой импрессарио Митчелл был чрезвычайно доволен таким началом и стал
немедленно договариваться, чтобы на следующую лекцию поставили
дополнительные стулья и проч. Меня осаждали жаждавшие билетов - признаюсь,
это было лестно. По мере того, как я продолжал читать, аудитория росла, и
под конец я стал богаче и известнее, чем прежде. В этом неожиданном успехе
мне поневоле виделся добрый знак, но сердце не соглашалось с разумом. Я
говорил себе: не бойся, опасность прошла стороной и больше не вернется,
перед тобой отныне новый, легкий и счастливый путь. Так я говорил и не верил
себе, а почему, вы узнаете дальше.
^T12^U
^TУжасная сцена: моя любовь отвергнута^U
Итак, из гавани св. Екатерины 10 июля 1851 года - добавим нашему
повествованию немного хронологии - отплыло некое счастливое семейство,
которое, судя по новым нарядным платьицам кое-кого из его членов, держало
путь на континент. Папаша излучал довольство, но и его довольство и не
лишенная приятности улыбка совершенно меркли рядом с сияющими рожицами двух
его дочек, которые сияли бы и вовсе ослепительно, если бы их новые шляпки,
украшенные атласными лентами и венчиками из цветов акации (одна - голубым,
вторая - розовым), красовались на их головках, а не покоились в дорожном
сундуке, но папа запретил их надевать, сказав, что шляпки соберут толпу
зевак. Как вы отлично понимаете, владелицы последних ни одного мгновения не
могли устоять на месте, они подпрыгивали, приседали, тянулись и вертелись во
все стороны, так что делалось страшно за их шейки, которых они нисколько не
щадили. Двум юным мисс все было интересно, вследствие чего они ежесекундно
подзывали к себе отца и засыпали градом всевозможных "что", "как", "зачем" и
"почему", так что бедняга должен был бы изнемочь от их неистощимой
любознательности, однако он ей явно радовался и отвечал на все расспросы с
неиссякаемым терпением, не ускользнувшим от внимания их спутников, которые
сочли его домашним учителем девочек. Во время перехода до Антверпена море
сильно штормило, и невозможно было не восхищаться силой духа, которую
несмотря на донимавшую их морскую болезнь выказывали при этом две молодые
леди. Казалось, они решили про себя, что путешествие пройдет отлично, и
упорно не замечали всего тому противоречившего. Черта эта у взрослых порою
утомительна, но очень подкупает в детях и заслуживает всяческого поощрения.
По крайней мере, так считал глава нашего семейства, который благодарил
судьбу за радостное настроение своих детей и верил, что оно продержится всю
поездку. Так оно и оказалось. Мы наслаждались этими давно задуманными
каникулами, весело переезжали из города в город, то и дело возбужденно
собирая и разбирая вещи, - занятие, которое пришлось по вкусу девочкам, - по
правде говоря, последние больше напоминали молоденьких барышень, сознание
чего и позволило мне согласиться на совместную поездку. Они молили меня о
ней годами, но я не поддавался, пока они не распростились с няньками и
гувернантками. В свои четырнадцать лет Анни, несомненно, созрела для такого
путешествия, но брать с собою одиннадцатилетнюю Минни, которая лишь начинала
приобщаться к миру взрослых, было с моей стороны, наверное, неразумно.
Однако разлучить их и взять с собой одну, оставив другую дома, я не мог: они
были невероятно привязаны друг к другу. Из-за того, что они выросли без
матери, их соединяло чувство более горячее, чем это водится обычно между
сестрами, и их взаимная забота и опека трогали меня до слез. Помню, однажды
в Бадене я ушел пить чай с приятельницей, не слишком милосердно предоставив,
моих птичек собственному попечению, а когда вернулся в гостиницу - много
позже, чем намеревался, не хочется даже вспоминать, когда именно, - застал
Минни на коленях у Анни, которая, чтоб успокоить младшую, читала ей
по-матерински вслух. Анни всегда свойственны были доброта и мягкость, а
Минни - доверчивость и послушание, хотя порой я замечал за младшенькой
проделки, которые не назовешь высокодобродетельными. Анни была открытая
натура и отличалась добротой и разумом, тогда как за Минни водились чисто
женские грешки, она владела целой серией уловок, которые не посрамили бы и
Бекки Шарп, и очень искусно ими пользовалась, когда хотела выставить сестру
в невыгодном свете - глуповатой или скучной, чего последняя не замечала.
Отца она встречала нежным воркованием, но в Анни часто запускала свои
кошачьи коготки - проказница считала, что я ничего не вижу. Я все прекрасно
видел, но просто был не в силах устоять перед ее смышленностью и не
сердился: таков уж был ее природный нрав; кроме того, я знал, что она бы
никогда не обидела сестру всерьез, напротив, вздумай кто-нибудь
злоупотребить доверием Анни, она бы первая бросилась на ее защиту.
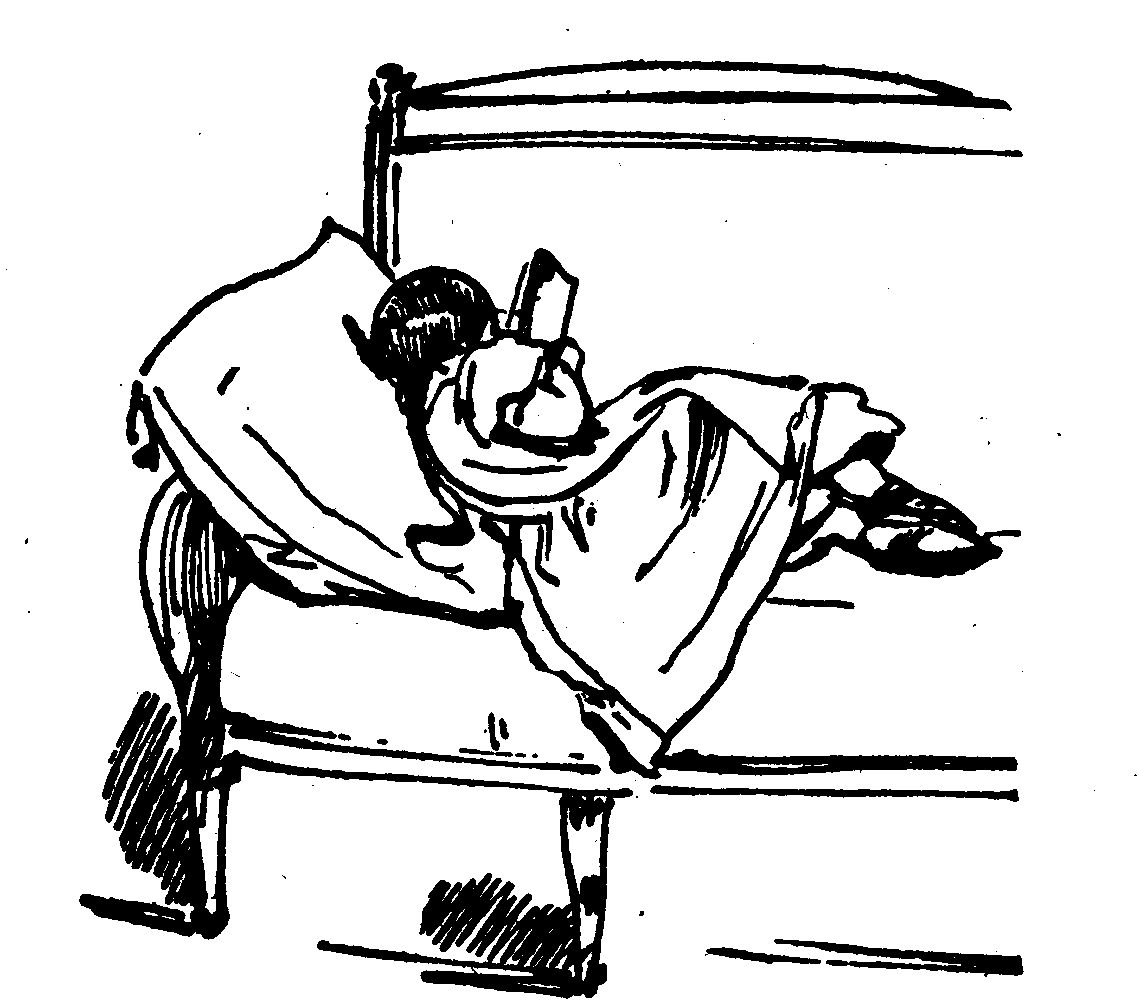 Ну вот, теперь вы видите, как занимало меня все связанное с моими
дочками и как пристально я следил за становлением их характеров. Вскоре
после моей болезни, когда девочки подросли и покинули пределы детской, мы
очень сблизились; и я увидел в них друзей. С каждой меня связывало что-то
особенное, неповторимое, и каждая на свой лад восполняла пустоту,
поселившуюся в моем сердце. С Анни я мог говорить о книгах и картинах и с
радостью отмечал независимость и основательность ее суждений. Она и сама
пыталась писать, пока у нее это не очень складно получалось, но, безусловно,
она многое унаследовала от щедрого таланта своего отца. Она была великая
насмешница, очень любила поострить даже на бумаге, но я в корне пресекал
всякую игривость слога, считая, что, прежде чем резвиться, нужно выработать
простой и ясный стиль. Возможно, я был чересчур суров, но для ее же пользы,
пестуя ее талант. Я верю, что Анни примет у меня эстафету и будет всех нас
содержать своим пером, - я первый буду горд и счастлив, хотя порою не могу
продраться через невероятную душещипательность ее рассказов. У девочки есть
редкая способность - она невероятно тонко чувствует людей, хоть этого не
заподозришь, глядя, как просто она с ними держится. Вот некрасивая и
здравомыслящая девочка, приветливая, но, кажется, не слишком умная, подумал
бы сторонний наблюдатель, но как бы он ошибся! За пухлым личиком и неуклюжим
телом скрывается острейший ум и чуткая душа, улавливающая каждое движение
сердца окружающих. Не скрою, Анни нехороша собой - я первый готов это
признать - и, видимо, поэтому особенно усердно старается понравиться, словно
пытаясь искупить свою физическую непривлекательность. Наверно, мать, умело
подбирая ее платья, смогла бы это сгладить, впрочем, не знаю, не берусь
судить. Да, верно, Анни нехороша собой и неизящна, но так ли это важно, раз
у нее доброе и любящее сердце? Я не меньше ею очарован, чем был, наверное,
очарован своим чадом отец самой Клеопатры.
Ну вот, теперь вы видите, как занимало меня все связанное с моими
дочками и как пристально я следил за становлением их характеров. Вскоре
после моей болезни, когда девочки подросли и покинули пределы детской, мы
очень сблизились; и я увидел в них друзей. С каждой меня связывало что-то
особенное, неповторимое, и каждая на свой лад восполняла пустоту,
поселившуюся в моем сердце. С Анни я мог говорить о книгах и картинах и с
радостью отмечал независимость и основательность ее суждений. Она и сама
пыталась писать, пока у нее это не очень складно получалось, но, безусловно,
она многое унаследовала от щедрого таланта своего отца. Она была великая
насмешница, очень любила поострить даже на бумаге, но я в корне пресекал
всякую игривость слога, считая, что, прежде чем резвиться, нужно выработать
простой и ясный стиль. Возможно, я был чересчур суров, но для ее же пользы,
пестуя ее талант. Я верю, что Анни примет у меня эстафету и будет всех нас
содержать своим пером, - я первый буду горд и счастлив, хотя порою не могу
продраться через невероятную душещипательность ее рассказов. У девочки есть
редкая способность - она невероятно тонко чувствует людей, хоть этого не
заподозришь, глядя, как просто она с ними держится. Вот некрасивая и
здравомыслящая девочка, приветливая, но, кажется, не слишком умная, подумал
бы сторонний наблюдатель, но как бы он ошибся! За пухлым личиком и неуклюжим
телом скрывается острейший ум и чуткая душа, улавливающая каждое движение
сердца окружающих. Не скрою, Анни нехороша собой - я первый готов это
признать - и, видимо, поэтому особенно усердно старается понравиться, словно
пытаясь искупить свою физическую непривлекательность. Наверно, мать, умело
подбирая ее платья, смогла бы это сгладить, впрочем, не знаю, не берусь
судить. Да, верно, Анни нехороша собой и неизящна, но так ли это важно, раз
у нее доброе и любящее сердце? Я не меньше ею очарован, чем был, наверное,
очарован своим чадом отец самой Клеопатры.
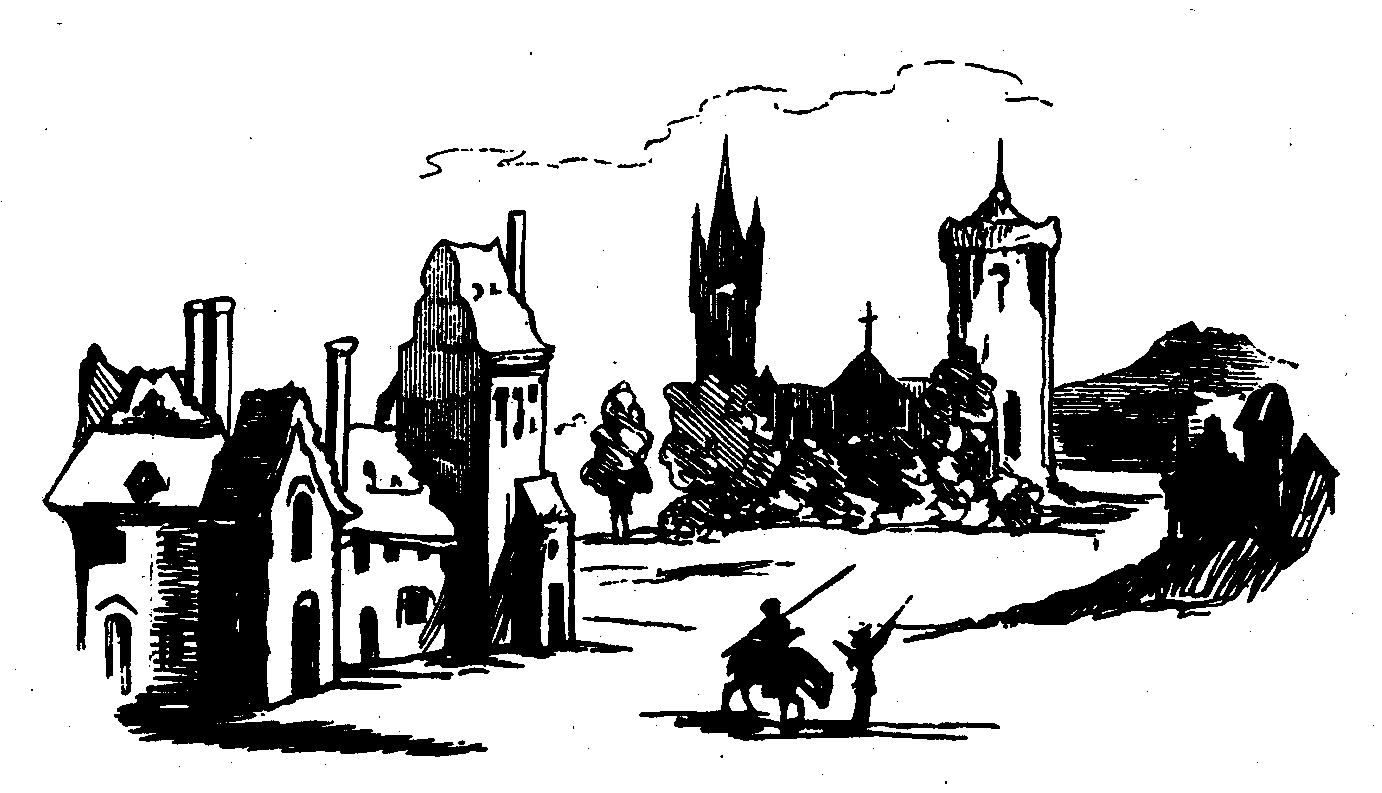 Минни совсем другая, в ней развиты другие свойства. Начать с того, что
она очень хорошенькая и миниатюрная, - такую крошку каждому хочется скорее
спрятать под крыло. Она светленькая, с тонкими чертами, в которых нет ничего
от теккереевской тяжести, всегда прелестно выглядит, во что бы ни была
одета, и очень грациозно движется. Она - натура замкнутая и не станет
пускаться в откровенности с малознакомыми людьми, в отличие от Анни, которая
охотно завяжет беседу с первым встречным, а Минни будет при этом стоять
рядом, прислушиваясь и приглядываясь, но не проронит ни словечка, даже если
к ней обратятся. Анни готова высказать свои взгляды по любому вопросу, у
Минни, чаще всего, их просто нет, но если и есть, она предпочитает держать
их при себе. Анни веселая, шумная, смешливая - Минни спокойна, задумчива,
скупа на улыбку. Мне никогда не удалось бы воспитать в ней вкус к моим
интеллектуальным занятиям, но и из Анни не получилось бы той утешительницы,
которой стала для меня Минни. Еще совсем крохой, она приходила и взбиралась
ко мне на колени, а когда подросла - садилась рядом, и уже само ее соседство
действовало на меня умиротворяюще. Ее спокойствие смиряло мою ярость,
поддерживало в периоды уныния, и слов нам для этого не требовалось.
Единственным выражением ее привязанности было прикосновение прохладной ручки
- она клала ее на мою ладонь или прижималась щекой к моей щеке, но мне было
достаточно и этого. Порой своей безмолвной нежностью она так напоминала
мать, что мне делалось страшно за нее и я начинал ломать голову, как лучше
закалить ее, и подготовить к неизбежным ударам судьбы. Благодарение богу,
пока их у нее было немного.
В один из славных дней этих давно минувших праздников, вслед за
которыми нагрянула беда (не будем думать о ней прежде времени), я впервые
заговорил с моими дочками о матери - я очень ясно помню, что мы сидели за
обедом в маленькой гостинице в Висбадене, был час заката, перед нами
открывался дивный вид. Зачем же было портить день таким печальным
разговором, спросите вы меня, но именно окружающее великолепие и делало его
естественным и своевременным, словно в разлитое кругом блаженство мои
жестокие слова падали как в воду, не причиняя боли. Девочки слушали меня
молча, без единого вопроса, только у Минни глаза блестели слезами и Анни
удерживала слова, чтоб не выдать своего волнения. Пожалуй, никогда мы не
(были друг другу ближе, и никогда я так не ощущал всю силу соединявшего нас
чувства. Мы долго сидели за столом, и за эти несколько часов они уразумели
многое, чего не понимали прежде, и их захлестнуло сострадание, которое мне
трудно было вынести. Но позже, когда мне довелось его подвергнуть суровой
жизненной проверке, они мне показали всю его глубину, и я был рад, что между
нами больше нет секретов. Да, то были золотые денечки, и зная, что
последовало дальше, я вспоминаю их с любовью, и все же... не хочется
признаваться, да и девочки, боюсь, мне этого не простят, но наша
неразлучность порою меня раздражала. Кроме того, случались и непредвиденные
затруднения. Так, например, я прежде не догадывался, что снять две комнаты
гораздо труднее, чем одну, и та из них, которая похуже и поменьше,
предназначается, конечно, папочке. Я как-то упустил из виду, что юные особы
далеко не все едят и привычную им пищу вкушают регулярно и в самое
неподходящее время, а если этого не происходит, разводят сырость. Я знать не
знал, что на отца с двумя детьми смотрят по-иному, чем на одинокого мужчину,
и что ему заказаны многие удовольствия и зрелища, которые он бы охотно
посетил, зато не миновать других, совсем ему неинтересных, просто потому,
что их обожают его детки. Я недооценил выносливость моих спутниц и
переоценил их терпение. Если мне хотелось встать попозже и поваляться в
постели, они с рассвета были на ногах и, свеженькие и отдохнувшие, с
нетерпением ожидали новых развлечений, зато если я надеялся после обеда
походить по музею, уже через десять минут они принимались зевать и теребить
меня. Я клялся, что больше никогда в жизни не посетую на свое одиночество за
границей. Впрочем, не верьте, я очернил своих бедняжек, то была дивная
поездка - особенно хорошо было в Швейцарии, где радости заготовлены на все
вкусы и возрасты и счастлив может быть и стар и млад, - в Лондон мы
возвратились самыми лучшими друзьями и в замечательном расположении духа.
После чего мне было позволено вернуться к моим обычным занятиям: урвав
солидный кус моего времени, дочки оставили меня в покое.
Я тотчас сел писать роман, который, как мне думалось, станет моей
лучшей книгой. Я не забыл, что обещал вас не морочить рассказом о каждом
новом сочинении, но "История Генри Эсмонда" занимает особое место в моей
жизни, над ней я трудился с невероятным тщанием, как ни над чем другим, и
вложил в него гораздо больше личного, чем может показаться. Я великолепно
понимал, что "Пенденнис", как бы прекрасно он ни продавался и скольких
похвал ни удостоился, безнадежно глуп и скучен, и на сей раз решил поправить
дело. Я задумал описать историю любви молодого (человека к женщине много его
старше и, чтобы не шокировать иных своих читателей, перенес действие в
минувшее столетие. Я вознамерился как можно более точно воссоздать
историческую обстановку и очень основательно, с большим вниманием к деталям
обрисовать характер главного героя. "Эсмонд" должен был появиться сразу в
виде книги, чтобы я мог его отредактировать и переделать все необходимое, не
подвергаясь деспотизму многочастного издания, каждый выпуск которого
становится для автора очередным, капканом. Кажется, никто и никогда не
исполнялся такой решимости вложить все силы и способности в свое творение, я
был готов добиться цели любой ценой - она оказалась непомерной. При всем
(Несходстве внешних обстоятельств несчастная история Генри Эсмрнда во всех
существенных чертах совпадала с моей собственной, горе Генри было моим
горем, не знаю, как я не умер, пока дописал до конца. Будь эта моя хроника
романом, я постарался бы сейчас направить вас, дорогой читатель, по ложному
следу, чтоб после удивить ошеломляющим поворотом событий, но мне не до
подобных игр, поэтому скажу вам прямо: "Эсмонд" едва не потерпел крушение
из-за того, что осенью 1851 года - как раз в то время, когда я начал его
писать, - Брукфилды со мной порвали.
Ну вот, я и выговорил это слово. Гром грянул, земля разверзлась и
грозила поглотить меня; сердце мое разрывалось от горя, сознание помутилось,
и я искал, куда бы спрятаться, чтоб выть от боли. Я и сегодня не могу
смотреть на прошлое со снисходительной усмешкой и примиренно говорить, что
все обернулось к лучшему, или, покачивая головой, иронизировать над
собственными муками и притворяться, что уже не помню, отчего я так убивался
в ту пору. Нет, если я и простил, то не забыл адские пытки, через которце
прошел тогда, - я и сейчас способен воскресить те душераздирающие чувства. И
если я примирился с неизбежным, это не значит, что я примирился с ненужной
жестокостью, оставившей незаживающие раны. Не верю, что страдание меня
возвысило, нет и еще раз нет - оно меня душевно искалечило, лишило радости
на долгие годы и отравило сердце горечью. Я не готов сказать, смиренно
склонив голову: "Да будет воля Твоя!", ибо уверен, что божий промысел здесь
ни при чем, то было творение рук человеческих, которого легко могло бы и не
быть. Как часто люди приписывают свои злые действия всевышнему, как много
чепухи можно услышать по поводу божественного провидения, когда все дело в
жестокости людей друг к другу. И никогда я не скажу: "Ах, все это быльем
поросло", - подернув дымкой очертания драмы, время лишь несколько смягчило,
но не излечило мою боль.
Однако что же все-таки случилось? Отвечу, на сей раз без всяких
недомолвок, что это ведомо лишь богу, а остальные если что и знают, то очень
приблизительно, и я надеюсь, - не сочтите это святотатством! - всевышний
когда-нибудь отведет меня в сторонку и разъяснит всю подоплеку ссоры. Даю
вам слово, я ее не знаю, хоть в нижеследующей сцене мне досталась одна из
главных ролей. Однажды в сентябре стояла ясная погода, пестрели листья, в
мире все шло своим чередом, и я, по своему обыкновению, решил проведать
Брукфилдов, но, переступив порог их дома, нарвался на ужасный скандал.
Сколько помнится, в гостиной я застал только Джейн, она сидела у камина
спиной ко мне в какой-то странной позе, будто съежившись от холода, и нервно
комкала свой платок. Я было решил, что ей нездоровится, как это часто с ней
бывало, и устремился к ней с протянутыми руками, но она повернула свое
ужасно бледное, заплаканное лицо, и я понял, что боль, застывшая в ее
глазах, не связана с болезнью. Кажется, никогда я не любил ее сильнее, чем в
ту минуту, да и как было не любить ее - такую прекрасную, несчастную и
беззащитную! Помнится, я стал ее расспрашивать и выражать сочувствие и
огорчение, но, не сказав ни слова, она в ответ так страшно разрыдалась, что
у меня перевернулось сердце. Тут вошел мрачный Уильям и, не поздоровавшись,
стал против меня, скрестил на груди руки и принялся осыпать меня
оскорблениями. Не стану повторять того, что мы друг другу говорили, ибо
прибегали к сильным выражениям, которых после устыдились, и лучше их не
вспоминать, оба мы были взвинчены и слов не выбирали; своей жестокой
перепалкой мы до смерти напугали нашу даму, которая с ужасом переводила
взгляд с одного на другого, словно видела перед собою двух помешанных. В
сущности, так оно и было, оба мы обезумели от гнева, и каждый, считая
другого варваром и грубияном и зная слабые места противника, наносил удары
прямо в сердце. Случалось ли вам видеть, мой читатель, как дерутся близкие
друзья? Между чужими дело не доходит до такого зверства. Мы с Брукфилдом
были знакомы двадцать лет, мы знали друг друга мальчиками и взрослыми
людьми, мы провели вместе тысячи часов, мы были близки как братья, и, раня
Брукфилда, я ранил самого себя - легко ли объяснить мою жестокость? Я
адресовал ему эпитеты, которых не числил прежде в своем словаре, и сам не
ожидал, что их знаю, я уличал его в безмерной низости и подлости, ну а он...
он наговорил мне такого, что я не мог глядеть ему в глаза.
Минни совсем другая, в ней развиты другие свойства. Начать с того, что
она очень хорошенькая и миниатюрная, - такую крошку каждому хочется скорее
спрятать под крыло. Она светленькая, с тонкими чертами, в которых нет ничего
от теккереевской тяжести, всегда прелестно выглядит, во что бы ни была
одета, и очень грациозно движется. Она - натура замкнутая и не станет
пускаться в откровенности с малознакомыми людьми, в отличие от Анни, которая
охотно завяжет беседу с первым встречным, а Минни будет при этом стоять
рядом, прислушиваясь и приглядываясь, но не проронит ни словечка, даже если
к ней обратятся. Анни готова высказать свои взгляды по любому вопросу, у
Минни, чаще всего, их просто нет, но если и есть, она предпочитает держать
их при себе. Анни веселая, шумная, смешливая - Минни спокойна, задумчива,
скупа на улыбку. Мне никогда не удалось бы воспитать в ней вкус к моим
интеллектуальным занятиям, но и из Анни не получилось бы той утешительницы,
которой стала для меня Минни. Еще совсем крохой, она приходила и взбиралась
ко мне на колени, а когда подросла - садилась рядом, и уже само ее соседство
действовало на меня умиротворяюще. Ее спокойствие смиряло мою ярость,
поддерживало в периоды уныния, и слов нам для этого не требовалось.
Единственным выражением ее привязанности было прикосновение прохладной ручки
- она клала ее на мою ладонь или прижималась щекой к моей щеке, но мне было
достаточно и этого. Порой своей безмолвной нежностью она так напоминала
мать, что мне делалось страшно за нее и я начинал ломать голову, как лучше
закалить ее, и подготовить к неизбежным ударам судьбы. Благодарение богу,
пока их у нее было немного.
В один из славных дней этих давно минувших праздников, вслед за
которыми нагрянула беда (не будем думать о ней прежде времени), я впервые
заговорил с моими дочками о матери - я очень ясно помню, что мы сидели за
обедом в маленькой гостинице в Висбадене, был час заката, перед нами
открывался дивный вид. Зачем же было портить день таким печальным
разговором, спросите вы меня, но именно окружающее великолепие и делало его
естественным и своевременным, словно в разлитое кругом блаженство мои
жестокие слова падали как в воду, не причиняя боли. Девочки слушали меня
молча, без единого вопроса, только у Минни глаза блестели слезами и Анни
удерживала слова, чтоб не выдать своего волнения. Пожалуй, никогда мы не
(были друг другу ближе, и никогда я так не ощущал всю силу соединявшего нас
чувства. Мы долго сидели за столом, и за эти несколько часов они уразумели
многое, чего не понимали прежде, и их захлестнуло сострадание, которое мне
трудно было вынести. Но позже, когда мне довелось его подвергнуть суровой
жизненной проверке, они мне показали всю его глубину, и я был рад, что между
нами больше нет секретов. Да, то были золотые денечки, и зная, что
последовало дальше, я вспоминаю их с любовью, и все же... не хочется
признаваться, да и девочки, боюсь, мне этого не простят, но наша
неразлучность порою меня раздражала. Кроме того, случались и непредвиденные
затруднения. Так, например, я прежде не догадывался, что снять две комнаты
гораздо труднее, чем одну, и та из них, которая похуже и поменьше,
предназначается, конечно, папочке. Я как-то упустил из виду, что юные особы
далеко не все едят и привычную им пищу вкушают регулярно и в самое
неподходящее время, а если этого не происходит, разводят сырость. Я знать не
знал, что на отца с двумя детьми смотрят по-иному, чем на одинокого мужчину,
и что ему заказаны многие удовольствия и зрелища, которые он бы охотно
посетил, зато не миновать других, совсем ему неинтересных, просто потому,
что их обожают его детки. Я недооценил выносливость моих спутниц и
переоценил их терпение. Если мне хотелось встать попозже и поваляться в
постели, они с рассвета были на ногах и, свеженькие и отдохнувшие, с
нетерпением ожидали новых развлечений, зато если я надеялся после обеда
походить по музею, уже через десять минут они принимались зевать и теребить
меня. Я клялся, что больше никогда в жизни не посетую на свое одиночество за
границей. Впрочем, не верьте, я очернил своих бедняжек, то была дивная
поездка - особенно хорошо было в Швейцарии, где радости заготовлены на все
вкусы и возрасты и счастлив может быть и стар и млад, - в Лондон мы
возвратились самыми лучшими друзьями и в замечательном расположении духа.
После чего мне было позволено вернуться к моим обычным занятиям: урвав
солидный кус моего времени, дочки оставили меня в покое.
Я тотчас сел писать роман, который, как мне думалось, станет моей
лучшей книгой. Я не забыл, что обещал вас не морочить рассказом о каждом
новом сочинении, но "История Генри Эсмонда" занимает особое место в моей
жизни, над ней я трудился с невероятным тщанием, как ни над чем другим, и
вложил в него гораздо больше личного, чем может показаться. Я великолепно
понимал, что "Пенденнис", как бы прекрасно он ни продавался и скольких
похвал ни удостоился, безнадежно глуп и скучен, и на сей раз решил поправить
дело. Я задумал описать историю любви молодого (человека к женщине много его
старше и, чтобы не шокировать иных своих читателей, перенес действие в
минувшее столетие. Я вознамерился как можно более точно воссоздать
историческую обстановку и очень основательно, с большим вниманием к деталям
обрисовать характер главного героя. "Эсмонд" должен был появиться сразу в
виде книги, чтобы я мог его отредактировать и переделать все необходимое, не
подвергаясь деспотизму многочастного издания, каждый выпуск которого
становится для автора очередным, капканом. Кажется, никто и никогда не
исполнялся такой решимости вложить все силы и способности в свое творение, я
был готов добиться цели любой ценой - она оказалась непомерной. При всем
(Несходстве внешних обстоятельств несчастная история Генри Эсмрнда во всех
существенных чертах совпадала с моей собственной, горе Генри было моим
горем, не знаю, как я не умер, пока дописал до конца. Будь эта моя хроника
романом, я постарался бы сейчас направить вас, дорогой читатель, по ложному
следу, чтоб после удивить ошеломляющим поворотом событий, но мне не до
подобных игр, поэтому скажу вам прямо: "Эсмонд" едва не потерпел крушение
из-за того, что осенью 1851 года - как раз в то время, когда я начал его
писать, - Брукфилды со мной порвали.
Ну вот, я и выговорил это слово. Гром грянул, земля разверзлась и
грозила поглотить меня; сердце мое разрывалось от горя, сознание помутилось,
и я искал, куда бы спрятаться, чтоб выть от боли. Я и сегодня не могу
смотреть на прошлое со снисходительной усмешкой и примиренно говорить, что
все обернулось к лучшему, или, покачивая головой, иронизировать над
собственными муками и притворяться, что уже не помню, отчего я так убивался
в ту пору. Нет, если я и простил, то не забыл адские пытки, через которце
прошел тогда, - я и сейчас способен воскресить те душераздирающие чувства. И
если я примирился с неизбежным, это не значит, что я примирился с ненужной
жестокостью, оставившей незаживающие раны. Не верю, что страдание меня
возвысило, нет и еще раз нет - оно меня душевно искалечило, лишило радости
на долгие годы и отравило сердце горечью. Я не готов сказать, смиренно
склонив голову: "Да будет воля Твоя!", ибо уверен, что божий промысел здесь
ни при чем, то было творение рук человеческих, которого легко могло бы и не
быть. Как часто люди приписывают свои злые действия всевышнему, как много
чепухи можно услышать по поводу божественного провидения, когда все дело в
жестокости людей друг к другу. И никогда я не скажу: "Ах, все это быльем
поросло", - подернув дымкой очертания драмы, время лишь несколько смягчило,
но не излечило мою боль.
Однако что же все-таки случилось? Отвечу, на сей раз без всяких
недомолвок, что это ведомо лишь богу, а остальные если что и знают, то очень
приблизительно, и я надеюсь, - не сочтите это святотатством! - всевышний
когда-нибудь отведет меня в сторонку и разъяснит всю подоплеку ссоры. Даю
вам слово, я ее не знаю, хоть в нижеследующей сцене мне досталась одна из
главных ролей. Однажды в сентябре стояла ясная погода, пестрели листья, в
мире все шло своим чередом, и я, по своему обыкновению, решил проведать
Брукфилдов, но, переступив порог их дома, нарвался на ужасный скандал.
Сколько помнится, в гостиной я застал только Джейн, она сидела у камина
спиной ко мне в какой-то странной позе, будто съежившись от холода, и нервно
комкала свой платок. Я было решил, что ей нездоровится, как это часто с ней
бывало, и устремился к ней с протянутыми руками, но она повернула свое
ужасно бледное, заплаканное лицо, и я понял, что боль, застывшая в ее
глазах, не связана с болезнью. Кажется, никогда я не любил ее сильнее, чем в
ту минуту, да и как было не любить ее - такую прекрасную, несчастную и
беззащитную! Помнится, я стал ее расспрашивать и выражать сочувствие и
огорчение, но, не сказав ни слова, она в ответ так страшно разрыдалась, что
у меня перевернулось сердце. Тут вошел мрачный Уильям и, не поздоровавшись,
стал против меня, скрестил на груди руки и принялся осыпать меня
оскорблениями. Не стану повторять того, что мы друг другу говорили, ибо
прибегали к сильным выражениям, которых после устыдились, и лучше их не
вспоминать, оба мы были взвинчены и слов не выбирали; своей жестокой
перепалкой мы до смерти напугали нашу даму, которая с ужасом переводила
взгляд с одного на другого, словно видела перед собою двух помешанных. В
сущности, так оно и было, оба мы обезумели от гнева, и каждый, считая
другого варваром и грубияном и зная слабые места противника, наносил удары
прямо в сердце. Случалось ли вам видеть, мой читатель, как дерутся близкие
друзья? Между чужими дело не доходит до такого зверства. Мы с Брукфилдом
были знакомы двадцать лет, мы знали друг друга мальчиками и взрослыми
людьми, мы провели вместе тысячи часов, мы были близки как братья, и, раня
Брукфилда, я ранил самого себя - легко ли объяснить мою жестокость? Я
адресовал ему эпитеты, которых не числил прежде в своем словаре, и сам не
ожидал, что их знаю, я уличал его в безмерной низости и подлости, ну а он...
он наговорил мне такого, что я не мог глядеть ему в глаза.
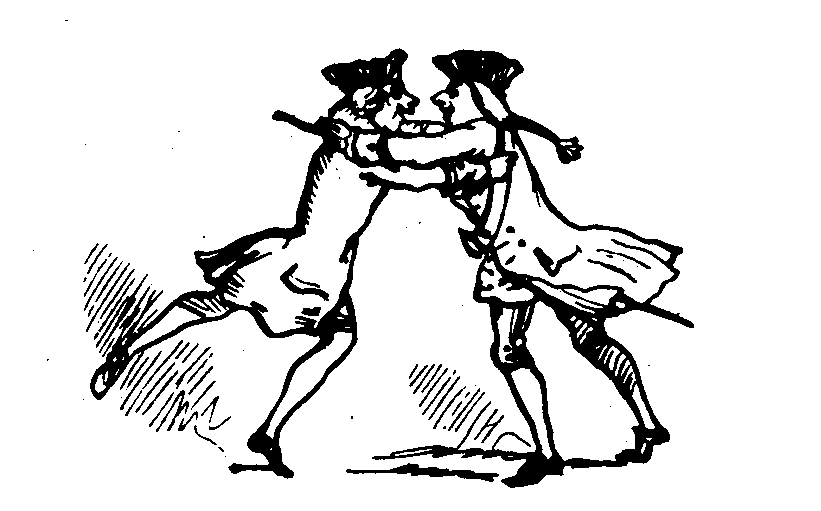 Нам было невыносимо больно: ему - из-за моего несомненного, как он
считал, двоедушия, мне - из-за его жестокой несправедливости. Какая мука -
невозможность доказать дорогому человеку, что ты не совершал бесчестного
поступка! Я никогда не смел коснуться Джейн, ни разу не оскорбил ее нечистой
мыслью, он же осмеливался говорить о нас, словно я был пошлый соблазнитель,
а она шлюха! Да, ничего не скажешь, крепкие словечки, но и его можно понять,
ведь он считал себя рогоносцем, и что бы мы ему ни сказали, Джейн или я,
-это ничего не меняло. Всю вину, он возлагал на меня, слушать не хотел моих
заверений в моей полнейшей невиновности и начисто отметал мои обвинения в
намеренной жестокости. Сколько лет, спрашивается, я ухаживал за его женой с
его ведома и разрешения? Долгие-долгие годы я следовал всем выдуманным им
правилам, и вот вам благодарность - он гонит меня, как собаку, только
потому, что меня оговорили! Впрочем, оговорили ли? Я так этого и не знаю. В
ту пору я считал, что моего старого друга натравили на меня враги и вынудили
порвать со мной, но сейчас больше склоняюсь к мысли, что он был болен
ревностью, которая, как у Отелло, питалась одними лишь подозрениями. И
значит, он заслуживает жалости, ибо ничто так страшно не терзает душу, как
язва ревности, которая сжирает в человеке все: порядочность, милосердие,
здравый смысл, - ей в корм идет любая малость: мы с Джейн беседуем, смеемся,
прогуливаемся, играем с его ребенком... - да, это и в самом деле пытка, и я
теперь готов ему посочувствовать, но в ту давнюю пору слишком сокрушался о
себе.
Я сокрушался и о сестре моей души - о Джейн, которая во время всей этой
невообразимой сцены сидела в полнейшем оцепенении, не шелохнувшись, не
проронив ни слова. Потом мне часто приходило в голову, что ей бы следовало
возмутиться и произнести хоть слово в мою защиту, но как я ни хотел того,
она так и не раскрыла рта и позволяла мужу обливать меня потоками грязи.
Словно окаменев, безмолвная и безучастная, она как бы не замечала рушившихся
и на нее ударов. Не знаю, что было между ними до моего прихода, но, как я
догадывался, она уже сказала все, что можно, но ничего не добилась - о чем
свидетельствовал ее убитый вид - и, обессилев, перестала сопротивляться.
Мучительно и постепенно я осознал, что Джейн намерена остаться с мужем и
хочет смягчить его безропотностью. Подай она хотя бы слабый знак - довольно
было мановения руки - и я бы схватил ее в объятия и унес из этого дома
навсегда, ни разу не оглянувшись. Для этого счастливого безумия достаточно
было одного-единственного вздоха, шепота согласия, остальное довершил бы я
сам, но ни движения, ни взгляда, ни единого признака сочувствия не
последовало, оставалось думать - не забывайте, что горе затмило мой разум, -
будто и она вступила в заговор против меня. Во всей этой унизительной сцене
молчание Джейн было для меня самым страшным.
Позже я понял, что она и не могла вести себя иначе. Верная жена и
преданная мать - то была ее жизненная роль, сколько раз мы это обсуждали!
Просто я понадеялся невесть на что и обманулся, как все, кто слишком многого
хочет. Я верил, что любовь способна двигать горы и что нас с Джейн не
устрашит суд мелочной толпы. Не тут-то было. Скажите, отчего любовь так
быстро покоряется условностям, быстрее, чем всему другому? Меня это убивает.
Я покинул Брукфилдов, испытывая отвращение к жизни и желание больше никогда
не видеть, их обоих. Настало тяжелое время, я спрашивал себя, что делать,
куда податься, где взять силы жить. Я тотчас оставил Лондон, чтобы,
укрывшись в номере какой-нибудь провинциальной гостиницы - я беспрестанно
кочевал, - вновь и вновь предаваться своему неистовому горю, все нужные для
жизни действия я выполнял бездумно, механически, стараясь не попадаться
людям на глаза. И днем, и ночью меня терзали самые черные мысли, и долгие
прогулки по полям и лугам не помогали от них отделаться. Невыносимее всего
была несправедливость - невозможно было примириться с тем, что со мной так
низко обошлись. Образ дрожащей, бледной Джейн не покидал меня ни на минуту.
Она стояла перед моими глазами, когда я просыпался, она была передо мной по
вечерам, когда сон смежал мои веки, она являлась ночью в страшных снах. Мой
гнев на нее довольно скоро сменился жалостью и тревогой. Каково ей было все
время оставаться подле Уильяма, терпеть его ярость, скрывая свою боль? Рядом
с такой участью мои собственные мучения показались мне игрушкой. И я ничем
не мог помочь ей! Мысленно я непрестанно объяснялся с Брукфилдом и очень
убедительно и красноречиво опровергал вынесенный им приговор, хотя на самом
деле вряд ли отважился бы заговорить с ним. Что ж, я упустил возможность
высказаться, когда она мне представилась, и пошел на поводу у чувств. Я
возвращался к каждому сказанному слову, стараясь отыскать в нем более
утешительный смысл. О, как изысканно вели мы нашу воображаемую беседу! Как
были вежливы! Разумны! Как быстро разрешали все проблемы - разумеется, в мою
пользу! Как весело усаживались потом за стол, чтоб закусить, поговорить и
посмеяться, как делали когда-то сотни раз.
В конце концов, мы в самом деле собрались все за столом, как это
рисовалось моему воображению, но только через много-много лет, к тому
времени все действующие лица окончательно протрезвели и чинно исполнили свои
роли. Но осенью 1851 года примирение, даже чисто символическое, казалось мне
невозможным, однако загляни я в будущее и узнай о предстоящей мирной сцене
за столом, к которой вроде бы стремился, вряд ли бы я ей обрадовался. Да и
вообще компромиссы меня в ту пору не устраивали, а только крайние исходы:
либо мы оба с Джейн умираем, либо остаемся вместе. Смерть мне казалась более
вероятной, я опасался, что Джейн не выдержит суровых требований, которые к
ней предъявила жизнь, ее здоровье, и в лучшие времена внушавшее тревогу,
надломится и она быстро угаснет. Должен сказать, я ожидал чего-нибудь
похожего, но верность истине заставляет меня признаться, грустно
улыбнувшись, что Джейн не только оправилась от потрясения, но родила еще
двоих детей и, надо думать, доживет до преклонного возраста. Боюсь, все эти
добрые известия в ту пору меня бы не утешили - моя душа нуждалась в скорбных
нотах. Того внутреннего мира, который не покидал меня во время несчастья с
Изабеллой, не было и в помине. Даже когда, зализывая раны, я добрался до
Лондона и оказался в кругу родных и друзей, я не обрел покоя. Кстати, о
друзьях - я до сих пор все время говорил о Брукфилдах да о Брукфилдах, а
остальные как бы не заслуживали упоминания, и я не рассказал вам о своих
близких приятельницах: Кейт Перри, миссис Эллиот, Энн Проктер, леди
Эшбертон, которые так были добры ко мне. Они дружили и с Джейн и горевали о
нас обоих, не знаю, как бы мы без них справились, особенно без сестер
Эллиот. Две эти дамы служили нам с Джейн чем-то вроде почтового ящика - она
через них посылала мне письма, а я ей отвечал. Вы поражены? Вначале я не
хотел участвовать в обмане, полагая, что полное молчание больше мне
пристало, но после утомился этим добровольным мученичеством и отменил запрет
на тайную переписку. Да и кому от нее был вред? Жалкие крохотные записочки
Джейн были для меня что капли воды для погибающего в пустыне: и все, и
ничего, зато в ответ я получал право писать ей, писать то, что я в самом
деле чувствовал, - какое сладостное ощущение! - писать, выводить на бумаге
"люблю вас, люблю", уничижать себя, твердить, что хотел бы целовать ее
следы, вспоминать счастливые времена в Кливдене, когда она звала меня по
вечерам. Я писал ей непрестанно, писал и жег, писал - и в огонь, как бы
единым лихорадочным движением. Писал я по-французски, но не из осторожности,
а потому, что чужой язык давал мне большую свободу выражения, чем родной,
который почему-то стал меня стеснять. Интересно, что она с ними сделала?
Хранит ли до сих пор? Впрочем, теперь это не важно, но тогда они мне очень
помогли. Я твердо знаю, что не написал ни слова, о котором после пожалел бы,
- ни одного неискреннего слова! Какое счастье доставляли мне ее скупые
строчки, оно меня буквально распирало, так что порой я был не в силах
удержаться и вскакивал на лошадь, чтобы проехать мимо ее дома и ощутить себя
ближе к ней. Смотрела ли она в окно? Не думаю, но это не имеет ни малейшего
значения; я получал письма и был вблизи нее, а больше мне ничего не
требовалось.
Но я не мог не говорить о своей любви со всеми, кто готов был меня
слушать, - конечно, только с близкими людьми. Вышеупомянутые дамы порой
внимали мне часами, Фицджералд приезжал меня утешить, и, знаете, кто еще
сочувственно меня выслушивал? Собственная матушка. Она не просто меня
слушала, она вместе со мной плакала и, осушив свой и мои слезы, давала
разумные советы, основанные на немалом знании людей и жизни. Она очень
душевно относилась к Джейн, прекрасно понимала происшедшее и видела ловушку,
в которую мы все попали, более того, она мне намекнула, что благословляет
нас на любой шаг. Слышали ли вы что-нибудь подобное? Хочется надеяться, что
и я, в свою очередь, сумею так же отнестись к своим девочкам. Участие к
чужому горю, которое выказывают добрые люди, вроде моей матушки, - благо
поистине бесценное, и мне его не позабыть. Друзей и в самом деле познают в
беде.
Нам было невыносимо больно: ему - из-за моего несомненного, как он
считал, двоедушия, мне - из-за его жестокой несправедливости. Какая мука -
невозможность доказать дорогому человеку, что ты не совершал бесчестного
поступка! Я никогда не смел коснуться Джейн, ни разу не оскорбил ее нечистой
мыслью, он же осмеливался говорить о нас, словно я был пошлый соблазнитель,
а она шлюха! Да, ничего не скажешь, крепкие словечки, но и его можно понять,
ведь он считал себя рогоносцем, и что бы мы ему ни сказали, Джейн или я,
-это ничего не меняло. Всю вину, он возлагал на меня, слушать не хотел моих
заверений в моей полнейшей невиновности и начисто отметал мои обвинения в
намеренной жестокости. Сколько лет, спрашивается, я ухаживал за его женой с
его ведома и разрешения? Долгие-долгие годы я следовал всем выдуманным им
правилам, и вот вам благодарность - он гонит меня, как собаку, только
потому, что меня оговорили! Впрочем, оговорили ли? Я так этого и не знаю. В
ту пору я считал, что моего старого друга натравили на меня враги и вынудили
порвать со мной, но сейчас больше склоняюсь к мысли, что он был болен
ревностью, которая, как у Отелло, питалась одними лишь подозрениями. И
значит, он заслуживает жалости, ибо ничто так страшно не терзает душу, как
язва ревности, которая сжирает в человеке все: порядочность, милосердие,
здравый смысл, - ей в корм идет любая малость: мы с Джейн беседуем, смеемся,
прогуливаемся, играем с его ребенком... - да, это и в самом деле пытка, и я
теперь готов ему посочувствовать, но в ту давнюю пору слишком сокрушался о
себе.
Я сокрушался и о сестре моей души - о Джейн, которая во время всей этой
невообразимой сцены сидела в полнейшем оцепенении, не шелохнувшись, не
проронив ни слова. Потом мне часто приходило в голову, что ей бы следовало
возмутиться и произнести хоть слово в мою защиту, но как я ни хотел того,
она так и не раскрыла рта и позволяла мужу обливать меня потоками грязи.
Словно окаменев, безмолвная и безучастная, она как бы не замечала рушившихся
и на нее ударов. Не знаю, что было между ними до моего прихода, но, как я
догадывался, она уже сказала все, что можно, но ничего не добилась - о чем
свидетельствовал ее убитый вид - и, обессилев, перестала сопротивляться.
Мучительно и постепенно я осознал, что Джейн намерена остаться с мужем и
хочет смягчить его безропотностью. Подай она хотя бы слабый знак - довольно
было мановения руки - и я бы схватил ее в объятия и унес из этого дома
навсегда, ни разу не оглянувшись. Для этого счастливого безумия достаточно
было одного-единственного вздоха, шепота согласия, остальное довершил бы я
сам, но ни движения, ни взгляда, ни единого признака сочувствия не
последовало, оставалось думать - не забывайте, что горе затмило мой разум, -
будто и она вступила в заговор против меня. Во всей этой унизительной сцене
молчание Джейн было для меня самым страшным.
Позже я понял, что она и не могла вести себя иначе. Верная жена и
преданная мать - то была ее жизненная роль, сколько раз мы это обсуждали!
Просто я понадеялся невесть на что и обманулся, как все, кто слишком многого
хочет. Я верил, что любовь способна двигать горы и что нас с Джейн не
устрашит суд мелочной толпы. Не тут-то было. Скажите, отчего любовь так
быстро покоряется условностям, быстрее, чем всему другому? Меня это убивает.
Я покинул Брукфилдов, испытывая отвращение к жизни и желание больше никогда
не видеть, их обоих. Настало тяжелое время, я спрашивал себя, что делать,
куда податься, где взять силы жить. Я тотчас оставил Лондон, чтобы,
укрывшись в номере какой-нибудь провинциальной гостиницы - я беспрестанно
кочевал, - вновь и вновь предаваться своему неистовому горю, все нужные для
жизни действия я выполнял бездумно, механически, стараясь не попадаться
людям на глаза. И днем, и ночью меня терзали самые черные мысли, и долгие
прогулки по полям и лугам не помогали от них отделаться. Невыносимее всего
была несправедливость - невозможно было примириться с тем, что со мной так
низко обошлись. Образ дрожащей, бледной Джейн не покидал меня ни на минуту.
Она стояла перед моими глазами, когда я просыпался, она была передо мной по
вечерам, когда сон смежал мои веки, она являлась ночью в страшных снах. Мой
гнев на нее довольно скоро сменился жалостью и тревогой. Каково ей было все
время оставаться подле Уильяма, терпеть его ярость, скрывая свою боль? Рядом
с такой участью мои собственные мучения показались мне игрушкой. И я ничем
не мог помочь ей! Мысленно я непрестанно объяснялся с Брукфилдом и очень
убедительно и красноречиво опровергал вынесенный им приговор, хотя на самом
деле вряд ли отважился бы заговорить с ним. Что ж, я упустил возможность
высказаться, когда она мне представилась, и пошел на поводу у чувств. Я
возвращался к каждому сказанному слову, стараясь отыскать в нем более
утешительный смысл. О, как изысканно вели мы нашу воображаемую беседу! Как
были вежливы! Разумны! Как быстро разрешали все проблемы - разумеется, в мою
пользу! Как весело усаживались потом за стол, чтоб закусить, поговорить и
посмеяться, как делали когда-то сотни раз.
В конце концов, мы в самом деле собрались все за столом, как это
рисовалось моему воображению, но только через много-много лет, к тому
времени все действующие лица окончательно протрезвели и чинно исполнили свои
роли. Но осенью 1851 года примирение, даже чисто символическое, казалось мне
невозможным, однако загляни я в будущее и узнай о предстоящей мирной сцене
за столом, к которой вроде бы стремился, вряд ли бы я ей обрадовался. Да и
вообще компромиссы меня в ту пору не устраивали, а только крайние исходы:
либо мы оба с Джейн умираем, либо остаемся вместе. Смерть мне казалась более
вероятной, я опасался, что Джейн не выдержит суровых требований, которые к
ней предъявила жизнь, ее здоровье, и в лучшие времена внушавшее тревогу,
надломится и она быстро угаснет. Должен сказать, я ожидал чего-нибудь
похожего, но верность истине заставляет меня признаться, грустно
улыбнувшись, что Джейн не только оправилась от потрясения, но родила еще
двоих детей и, надо думать, доживет до преклонного возраста. Боюсь, все эти
добрые известия в ту пору меня бы не утешили - моя душа нуждалась в скорбных
нотах. Того внутреннего мира, который не покидал меня во время несчастья с
Изабеллой, не было и в помине. Даже когда, зализывая раны, я добрался до
Лондона и оказался в кругу родных и друзей, я не обрел покоя. Кстати, о
друзьях - я до сих пор все время говорил о Брукфилдах да о Брукфилдах, а
остальные как бы не заслуживали упоминания, и я не рассказал вам о своих
близких приятельницах: Кейт Перри, миссис Эллиот, Энн Проктер, леди
Эшбертон, которые так были добры ко мне. Они дружили и с Джейн и горевали о
нас обоих, не знаю, как бы мы без них справились, особенно без сестер
Эллиот. Две эти дамы служили нам с Джейн чем-то вроде почтового ящика - она
через них посылала мне письма, а я ей отвечал. Вы поражены? Вначале я не
хотел участвовать в обмане, полагая, что полное молчание больше мне
пристало, но после утомился этим добровольным мученичеством и отменил запрет
на тайную переписку. Да и кому от нее был вред? Жалкие крохотные записочки
Джейн были для меня что капли воды для погибающего в пустыне: и все, и
ничего, зато в ответ я получал право писать ей, писать то, что я в самом
деле чувствовал, - какое сладостное ощущение! - писать, выводить на бумаге
"люблю вас, люблю", уничижать себя, твердить, что хотел бы целовать ее
следы, вспоминать счастливые времена в Кливдене, когда она звала меня по
вечерам. Я писал ей непрестанно, писал и жег, писал - и в огонь, как бы
единым лихорадочным движением. Писал я по-французски, но не из осторожности,
а потому, что чужой язык давал мне большую свободу выражения, чем родной,
который почему-то стал меня стеснять. Интересно, что она с ними сделала?
Хранит ли до сих пор? Впрочем, теперь это не важно, но тогда они мне очень
помогли. Я твердо знаю, что не написал ни слова, о котором после пожалел бы,
- ни одного неискреннего слова! Какое счастье доставляли мне ее скупые
строчки, оно меня буквально распирало, так что порой я был не в силах
удержаться и вскакивал на лошадь, чтобы проехать мимо ее дома и ощутить себя
ближе к ней. Смотрела ли она в окно? Не думаю, но это не имеет ни малейшего
значения; я получал письма и был вблизи нее, а больше мне ничего не
требовалось.
Но я не мог не говорить о своей любви со всеми, кто готов был меня
слушать, - конечно, только с близкими людьми. Вышеупомянутые дамы порой
внимали мне часами, Фицджералд приезжал меня утешить, и, знаете, кто еще
сочувственно меня выслушивал? Собственная матушка. Она не просто меня
слушала, она вместе со мной плакала и, осушив свой и мои слезы, давала
разумные советы, основанные на немалом знании людей и жизни. Она очень
душевно относилась к Джейн, прекрасно понимала происшедшее и видела ловушку,
в которую мы все попали, более того, она мне намекнула, что благословляет
нас на любой шаг. Слышали ли вы что-нибудь подобное? Хочется надеяться, что
и я, в свою очередь, сумею так же отнестись к своим девочкам. Участие к
чужому горю, которое выказывают добрые люди, вроде моей матушки, - благо
поистине бесценное, и мне его не позабыть. Друзей и в самом деле познают в
беде.
 Да, общие друзья - мои и Джейн - и впрямь были огорчены случившимся не
меньше нашего. Кстати, не знаю, стали ли мы притчей во языцех в Лондоне, но
я бы этому не удивился - могу вообразить, какое удовольствие доставили мы
любителям чужих несчастий, черт бы их побрал! Разговоры в повышенном тоне
случаются порою в каждом доме, их слышит челядь и пересказывает слугам
знакомых, и тут ничего не поделаешь, так уж устроен мир. Наши друзья
потратили немало времени, чтоб выяснить причину ссоры, и еще больше - чтоб
как-то нам помочь. Наконец, леди Эшбертон - добрейшая душа - решила устроить
наше примирение. Ужасная идея! Легко вообразить, что я при этом ощутил. Мне
навязывали гнусный фарс, и раз я не хотел быть стороной, отвергшей мир,
пришлось согласиться: нас всех страшит дурная репутация человека
несговорчивого, ибо она вызывает осуждение общества. Бессмысленно было
объяснять, что эта встреча ничего не даст, - наши друзья убеждены были в
обратном. Они говорили, что Джейн слегла от огорчения, что она не в силах
так со мной расстаться, что нам ничего не придется делать - всего лишь
поздороваться друг с другом, а Джейн станет намного легче и, наконец, - то
будет первый шаг на пути к дальнейшим переговорам. Испытывая отвращение к
затее, я некоторое время уклонялся, но в конце концов вынужден был
подчиниться неизбежному. Свидание состоялось в "Грэндже", доме Эшбертонов. В
присутствии других мы с Брукфилдом несколько минут поговорили о погоде,
обменялись рукопожатием и разошлись - каждый пошел своей дорогой: Уильям
вместе с Джейн, я - один.
Наверное, не нужно объяснять, что это была за странная встреча. Против
ожидания обстановка не была такой напряженной, как вы, наверное,
воображаете: лишь оказавшись рядом с Джейн и Уильямом, я понял, как люблю
бывать в их обществе, что бы я по отношению к каждому из них ни испытывал.
Меня не сковывало их физическое присутствие, неловкость вызывалась
необходимостью произносить какие-то слова. В подобной обстановке все
представляется значительным, любое движение руки, любой кивок кажутся в
десять раз важнее, чем они есть на самом деле, но ничего существенного так и
не было сказано. Я пристально следил за каждым жестом супругов и,
расставаясь, окончательно уверился в том, о чем только недавно стал
догадываться: они страдали больше моего. Скажи мне кто-нибудь это раньше, я
возмущенно отмахнулся бы от дерзкого утешителя, но теперь увидел, что и они
жили в аду, - наверное, наша встреча тем и была полезна. Уильям выглядел
осунувшимся, измученным, у него был какой-то подавленный вид, да-да,
подавленный, нельзя было узнать в нем победителя, каким, по логике вещей,
ему следовало себя чувствовать, а Джейн перенесла эту историю даже хуже, чем
я ожидал. Да, никто из них не стал счастливее, и хотя меня не обрадовало
такое грустное, открытие - бог милует, я никогда не опущусь так низко - я
знал, что смогу отныне терпеливее сносить собственную боль. Тогда мне
впервые пришло в голову, что и противная сторона может ощущать себя
ущемленной. Уильям, как я понимал, собирался за границу - лечиться, Джейн
должна была сопровождать его. А что предполагал делать я? Кажется, еще
недавно я писал роман, и лучше всего мне было к нему вернуться,
сосредоточить на нем все свои усилия и попытаться собрать из осколков
разбитую жизнь, - мне предстояло научиться прятать слезы за стеклами очков и
пустоту в том месте, где у меня прежде было сердце. К чему только человек не
приспосабливается и чего только он не способен вынести!
Я уже говорил вам и скажу еще раз: работа, стоит лишь ее начать,
прекрасно заживляет раны и возвращает бодрость духа. Но в данном случае
осмелюсь утверждать, что - "Эсмонд" сделал для меня гораздо больше - нет, он
не просто спас меня от помешательства, заняв мой ум работой, не просто
заполнил день размеренным трудом, без которого часы тянулись бы как годы, не
просто послужил бальзамом для моего израненного сердца, заставив меня
напряженно мыслить, а значит, отвлекаться, - благодаря ему я пережил
катарсис. Я словно шел по беспросветно-темному туннелю, боролся, чтоб
нащупать выход, и, наконец, весь в грязи, бледный, обессиленный, но живой,
выбрался на божий свет. Однако никто не ощутил той мощи и того страдания,
которое, как мне казалось, я вложил в этот роман, читатели увидели в нем
лишь странную любовную историю, ничуть их не растрогавшую. Тут я немного
забегу вперед и расскажу, что на эту книгу, написанную в самое мучительное
для меня время, появилась по ее выходе убийственная рецензия в "Таймс",
невероятно поверхностная и злобная, - когда я прочел ее, меня просто
затошнило от отвращения. Меня не волновало, как это скажется на продаже
книги, мои издатели и без того готовы были предоставить мне внушительный
аванс на следующий роман, но я испытывал невыразимое презрение к ее
рецензенту - тупице, который ухитрился ничего в ней не заметить. Он даже
заставил меня перечитать мое творение и убедиться, что я вовсе не такой
глупец, каким стал себе казаться с его легкой руки, напротив, я ощутил
уверенность и нечто вроде гордости. Да, в "Эсмонде" есть боль - но это боль
любви, которая проходит трудный путь, - и сокрушение сердца, и сила чувств,
которые мы пробуем преодолеть и подавить, но уступаем их напору. И значит, я
добился своей цели, а это все, что может совершить художник.
В ноябре того же 1851 года, печальные события которого я, кажется,
рассказываю добрую сотню лет, Брукфилд с женой, как мне и говорили,
отправился на Мадейру и предоставил в мое распоряжение все беговое поле, -
впрочем, не знаю, зачем я сравниваю жизнь с бегами. Я лишь хочу сказать, что
с их отъездом нашим общим друзьям стало дышаться легче, - они перестали
опасаться, как бы мы с Брукфилдами - случайно или намеренно - не оказались в
одной гостиной. Не то чтобы нас никогда не приглашали вместе и, отправляясь
в гости я не проверял заранее, позвали ли их тоже, однако во всех домах, где
мы бывали, и гости, и хозяева чувствовали себя напряженно. Порой я
сталкивался с Джейн, осунувшейся и печальной, в театре, она улыбалась и
храбро мне кивала, но при виде выступавшего с ней рядом мужа у меня от
гнева, который, как мне казалось, я давно изжил, мутился взор. Бывало,
раздавался смех, и, обернувшись, я видел Джейн в заполненной людьми гостиной
и, радуясь ее веселью, хотел приблизиться, поцеловать ей руку, но тут же с
горьким чувством удалялся, заметив рядом Уильяма. Наша тайная переписка
продолжалась, но я возненавидел это жалкое притворство: раз нам не на что
было надеяться, по мне уж лучше было все отрезать и соблюдать правила игры.
Как только Брукфилды покинули арену (я снова выбрал неудачный образ, но
думаю, что в самом деле напоминал измученного пикадорами быка), хотя бы
часть моих терзаний кончилась, и я возблагодарил судьбу. Навалившаяся
пустота была ужасна, но целительна. Мне больше незачем было ездить мимо
безлюдного дома на Кэдоген-сквер - его зашторенные окна ясно говорили, что
жизнь там замерла, я перестал встречать его владельцев, черты их лиц не
вспоминались мне так живо. Облик и голос Джейн всегда были со мной, но и
они, питаемые лишь воспоминаниями, потеряли надо мной былую власть. Мой сон
улучшился, и даже дышать стало легче с тех пор, как меня перестало
будоражить ее присутствие. Меня по-прежнему влекло к ней, но взглянув на
вещи цинично (а я тогда вдруг сделался ужасным циником), я пришел к выводу,
что острота моего состояния во многом объясняется обычной тягой к женщине и
вовсе не обязательно, чтоб этой женщиной непременно была Джейн. Но тут уж
мне никто не мог помочь: на званых вечерах, которые я посещал с натянутой
улыбкой, меня представили несметному числу прелестных юных дам, но ни одной
я не прельстился. После Джейн все они казались невзрачными, не умели сказать
двух слов, не впав в банальность, - им было далеко до гибкого ума Джейн, и
никому из них я не был интересен, разве только как новый экспонат в
коллекции скальпов, тогда как Джейн заставляла меня верить, что каждую новую
мысль я передаю ей в законное владение. О Джейн, что ты со мной сделала - я
больше не гожусь для жизни! Ведь то была не только жалость, правда? И ты не
поддалась приманке окружавшей меня славы, в лучах которой тебе, нравилось
купаться? А может быть, я был навязчив и не заметил твоего намека? Но нет
же, нет, ты ни на что не намекала и не приказывала мне остановиться, ты
верно понимала мои чувства - скажи, что это так!
Да, общие друзья - мои и Джейн - и впрямь были огорчены случившимся не
меньше нашего. Кстати, не знаю, стали ли мы притчей во языцех в Лондоне, но
я бы этому не удивился - могу вообразить, какое удовольствие доставили мы
любителям чужих несчастий, черт бы их побрал! Разговоры в повышенном тоне
случаются порою в каждом доме, их слышит челядь и пересказывает слугам
знакомых, и тут ничего не поделаешь, так уж устроен мир. Наши друзья
потратили немало времени, чтоб выяснить причину ссоры, и еще больше - чтоб
как-то нам помочь. Наконец, леди Эшбертон - добрейшая душа - решила устроить
наше примирение. Ужасная идея! Легко вообразить, что я при этом ощутил. Мне
навязывали гнусный фарс, и раз я не хотел быть стороной, отвергшей мир,
пришлось согласиться: нас всех страшит дурная репутация человека
несговорчивого, ибо она вызывает осуждение общества. Бессмысленно было
объяснять, что эта встреча ничего не даст, - наши друзья убеждены были в
обратном. Они говорили, что Джейн слегла от огорчения, что она не в силах
так со мной расстаться, что нам ничего не придется делать - всего лишь
поздороваться друг с другом, а Джейн станет намного легче и, наконец, - то
будет первый шаг на пути к дальнейшим переговорам. Испытывая отвращение к
затее, я некоторое время уклонялся, но в конце концов вынужден был
подчиниться неизбежному. Свидание состоялось в "Грэндже", доме Эшбертонов. В
присутствии других мы с Брукфилдом несколько минут поговорили о погоде,
обменялись рукопожатием и разошлись - каждый пошел своей дорогой: Уильям
вместе с Джейн, я - один.
Наверное, не нужно объяснять, что это была за странная встреча. Против
ожидания обстановка не была такой напряженной, как вы, наверное,
воображаете: лишь оказавшись рядом с Джейн и Уильямом, я понял, как люблю
бывать в их обществе, что бы я по отношению к каждому из них ни испытывал.
Меня не сковывало их физическое присутствие, неловкость вызывалась
необходимостью произносить какие-то слова. В подобной обстановке все
представляется значительным, любое движение руки, любой кивок кажутся в
десять раз важнее, чем они есть на самом деле, но ничего существенного так и
не было сказано. Я пристально следил за каждым жестом супругов и,
расставаясь, окончательно уверился в том, о чем только недавно стал
догадываться: они страдали больше моего. Скажи мне кто-нибудь это раньше, я
возмущенно отмахнулся бы от дерзкого утешителя, но теперь увидел, что и они
жили в аду, - наверное, наша встреча тем и была полезна. Уильям выглядел
осунувшимся, измученным, у него был какой-то подавленный вид, да-да,
подавленный, нельзя было узнать в нем победителя, каким, по логике вещей,
ему следовало себя чувствовать, а Джейн перенесла эту историю даже хуже, чем
я ожидал. Да, никто из них не стал счастливее, и хотя меня не обрадовало
такое грустное, открытие - бог милует, я никогда не опущусь так низко - я
знал, что смогу отныне терпеливее сносить собственную боль. Тогда мне
впервые пришло в голову, что и противная сторона может ощущать себя
ущемленной. Уильям, как я понимал, собирался за границу - лечиться, Джейн
должна была сопровождать его. А что предполагал делать я? Кажется, еще
недавно я писал роман, и лучше всего мне было к нему вернуться,
сосредоточить на нем все свои усилия и попытаться собрать из осколков
разбитую жизнь, - мне предстояло научиться прятать слезы за стеклами очков и
пустоту в том месте, где у меня прежде было сердце. К чему только человек не
приспосабливается и чего только он не способен вынести!
Я уже говорил вам и скажу еще раз: работа, стоит лишь ее начать,
прекрасно заживляет раны и возвращает бодрость духа. Но в данном случае
осмелюсь утверждать, что - "Эсмонд" сделал для меня гораздо больше - нет, он
не просто спас меня от помешательства, заняв мой ум работой, не просто
заполнил день размеренным трудом, без которого часы тянулись бы как годы, не
просто послужил бальзамом для моего израненного сердца, заставив меня
напряженно мыслить, а значит, отвлекаться, - благодаря ему я пережил
катарсис. Я словно шел по беспросветно-темному туннелю, боролся, чтоб
нащупать выход, и, наконец, весь в грязи, бледный, обессиленный, но живой,
выбрался на божий свет. Однако никто не ощутил той мощи и того страдания,
которое, как мне казалось, я вложил в этот роман, читатели увидели в нем
лишь странную любовную историю, ничуть их не растрогавшую. Тут я немного
забегу вперед и расскажу, что на эту книгу, написанную в самое мучительное
для меня время, появилась по ее выходе убийственная рецензия в "Таймс",
невероятно поверхностная и злобная, - когда я прочел ее, меня просто
затошнило от отвращения. Меня не волновало, как это скажется на продаже
книги, мои издатели и без того готовы были предоставить мне внушительный
аванс на следующий роман, но я испытывал невыразимое презрение к ее
рецензенту - тупице, который ухитрился ничего в ней не заметить. Он даже
заставил меня перечитать мое творение и убедиться, что я вовсе не такой
глупец, каким стал себе казаться с его легкой руки, напротив, я ощутил
уверенность и нечто вроде гордости. Да, в "Эсмонде" есть боль - но это боль
любви, которая проходит трудный путь, - и сокрушение сердца, и сила чувств,
которые мы пробуем преодолеть и подавить, но уступаем их напору. И значит, я
добился своей цели, а это все, что может совершить художник.
В ноябре того же 1851 года, печальные события которого я, кажется,
рассказываю добрую сотню лет, Брукфилд с женой, как мне и говорили,
отправился на Мадейру и предоставил в мое распоряжение все беговое поле, -
впрочем, не знаю, зачем я сравниваю жизнь с бегами. Я лишь хочу сказать, что
с их отъездом нашим общим друзьям стало дышаться легче, - они перестали
опасаться, как бы мы с Брукфилдами - случайно или намеренно - не оказались в
одной гостиной. Не то чтобы нас никогда не приглашали вместе и, отправляясь
в гости я не проверял заранее, позвали ли их тоже, однако во всех домах, где
мы бывали, и гости, и хозяева чувствовали себя напряженно. Порой я
сталкивался с Джейн, осунувшейся и печальной, в театре, она улыбалась и
храбро мне кивала, но при виде выступавшего с ней рядом мужа у меня от
гнева, который, как мне казалось, я давно изжил, мутился взор. Бывало,
раздавался смех, и, обернувшись, я видел Джейн в заполненной людьми гостиной
и, радуясь ее веселью, хотел приблизиться, поцеловать ей руку, но тут же с
горьким чувством удалялся, заметив рядом Уильяма. Наша тайная переписка
продолжалась, но я возненавидел это жалкое притворство: раз нам не на что
было надеяться, по мне уж лучше было все отрезать и соблюдать правила игры.
Как только Брукфилды покинули арену (я снова выбрал неудачный образ, но
думаю, что в самом деле напоминал измученного пикадорами быка), хотя бы
часть моих терзаний кончилась, и я возблагодарил судьбу. Навалившаяся
пустота была ужасна, но целительна. Мне больше незачем было ездить мимо
безлюдного дома на Кэдоген-сквер - его зашторенные окна ясно говорили, что
жизнь там замерла, я перестал встречать его владельцев, черты их лиц не
вспоминались мне так живо. Облик и голос Джейн всегда были со мной, но и
они, питаемые лишь воспоминаниями, потеряли надо мной былую власть. Мой сон
улучшился, и даже дышать стало легче с тех пор, как меня перестало
будоражить ее присутствие. Меня по-прежнему влекло к ней, но взглянув на
вещи цинично (а я тогда вдруг сделался ужасным циником), я пришел к выводу,
что острота моего состояния во многом объясняется обычной тягой к женщине и
вовсе не обязательно, чтоб этой женщиной непременно была Джейн. Но тут уж
мне никто не мог помочь: на званых вечерах, которые я посещал с натянутой
улыбкой, меня представили несметному числу прелестных юных дам, но ни одной
я не прельстился. После Джейн все они казались невзрачными, не умели сказать
двух слов, не впав в банальность, - им было далеко до гибкого ума Джейн, и
никому из них я не был интересен, разве только как новый экспонат в
коллекции скальпов, тогда как Джейн заставляла меня верить, что каждую новую
мысль я передаю ей в законное владение. О Джейн, что ты со мной сделала - я
больше не гожусь для жизни! Ведь то была не только жалость, правда? И ты не
поддалась приманке окружавшей меня славы, в лучах которой тебе, нравилось
купаться? А может быть, я был навязчив и не заметил твоего намека? Но нет
же, нет, ты ни на что не намекала и не приказывала мне остановиться, ты
верно понимала мои чувства - скажи, что это так!
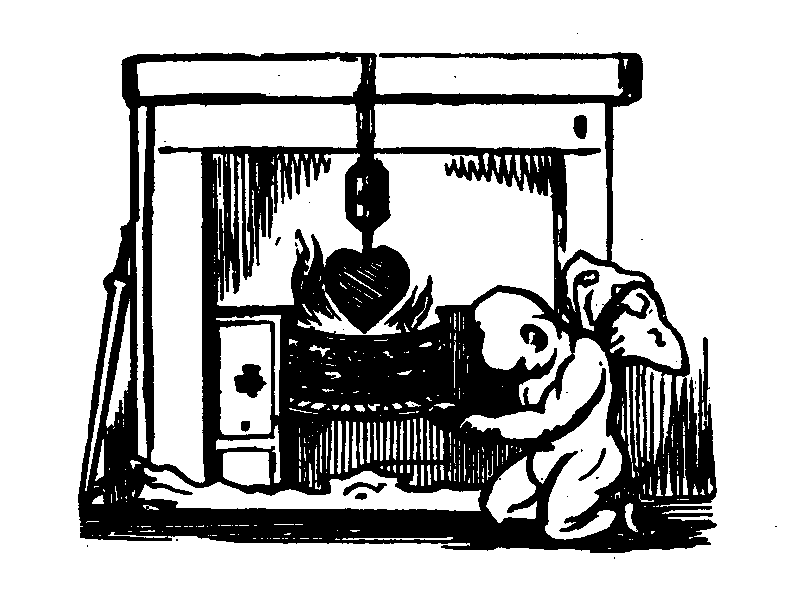 Бог мой, ну что вы скажете об этом человеке - не написав и полстраницы
о женщине, в которую он был влюблен двенадцать лет назад, он снова чувствует
к ней страсть! Однако двенадцать лет - немалый срок, и чувство мое за эти
годы очень изменилось. Наверное, будь я восемнадцатилетним юношей, все
позабылось бы через неделю после отъезда Джейн на Мадейру, и я бы отыскал
другой предмет для воздыханий, но в сорок лет сердечные раны затягиваются
долго, и то было не увлечение, а любовь всей жизни. Прошли годы, прежде чем
я научился не вздрагивать при виде ее имени, и лишь совсем недавно заметил -
всего какие-нибудь года два, - что больше не теряю голову в ее присутствии,
нет, я не безразличен, но спокоен, уравновешен и могу смотреть на нее без
волнения. Она по-прежнему красива и умна, но это уже другая женщина: мы
разошлись и больше не близки, как встарь. Я все еще сожалею о несбывшемся,
но чувствую при этом непоправимую отчужденность. Испытывает ли и она то же
самое? Понимает ли, что огонь погас и вновь не возгорится, а если понимает,
радуется или печалится? Надеюсь, что печалится. Тогда меня удерживали три
невинные души - мои девочки и ее крошка, - при виде них смущавший мою душу
враг рода человеческого удрал, поджавши хвост, и все же сейчас, когда я
приближаюсь к концу жизни и знаю истинную цену любви, я не испытываю
гордости от того, что призывал их ангельские образы, чтоб удержаться от
поступка, которого так жаждал. Я вел себя как должно по всем человеческим
законам, включая и свой собственный, но все- таки то было немыслимое
расточительство. Я пренебрег даром судьбы - даром разделенной любви и не
послушал внутреннего голоса, который мне твердил: "Действуй же, действуй, не
думай о последствиях", и это трагично. Есть люди, пожертвовавшие всем ради
любви: карьерой, видами на будущее, не посчитавшиеся с близкими людьми, и
даже если им грозит утрата вечного блаженства, они про себя знают: счастье
того стоило. Буря нагрянет и пронесется, грозные волны уйдут в океан, а
впереди откроется тихая гавань. Так что скажу вам, дети мои, всякий плод да
будет сорван вовремя.
^T13^U
^TЯ покидаю Англию. Причины отъезда^U
Должно быть, после всех разыгравшихся в гостиной трагедий вам, как в
свое время и мне, хочется прийти в себя и посмотреть, что делается в мире.
Стоит нам захандрить, как медики усиленно рекомендуют смену обстановки и
свежий воздух, - с вас пять гиней, сэр! - словно такой рецепт мы не могли бы
прописать себе и сами. Бесспорно, путешествие пошло бы нам на пользу, вот
только куда и с кем поехать и кто за все это уплатит? Врачи, конечно, не
вникают в подобные материи, но если что нас и заставило просить у них
совета, так это потеря всяческой инициативы, неодолимая вялость и полнейшая
неспособность справиться со сборами в дорогу.
Однако невозможно лежать в постели и предаваться меланхолии, когда
необходимо зарабатывать на жизнь, и в этой нашей подневольности, как мы ее
ни проклинаем, как ни тяготимся - залог нашего спасения. Когда не действуют
все прочие соображения, нас выручает забота о хлебе насущном. Холодная и
неумолимая, она нас подгоняет и подталкивает в спину, так что в конце концов
мы восстаем против ее тиранства и жаждем стать миллионерами, но если ими и
становимся, как же нам не хватает висящего над головой дамоклова меча
бедности! Спешу заметить, что я не стал миллионером и вряд ли стану, но
больше не пишу для денег - теперь это уже не нужно. Однако у меня есть все
основания радоваться, что в 1852 году я не мог освободиться от того, что
называл проклятием труда, иначе и поныне влачил бы жалкое существование и
так и не придумал бы, как по-настоящему встряхнуться, в чем, как все мы
согласились, приспела великая нужда.
Я уже говорил вам, что для меня дисциплинирующим началом была
необходимость кончить "Эсмонда", но вот роман дописан, и что дальше?
Знакомый вопрос и знакомый ответ: устроить небольшие, жалкие каникулы (на
этот раз я побывал в Германии, где несколько утешился под темными сводами ее
храмов и мрачных островерхих крыш), чтобы потом вернуться в Лондон и
погрузиться в спячку. Я чувствовал себя невероятно старым и разбитым, ничто
меня не занимало, и как бы я ни прославлял всю пользу новизны, в душе я
начал ненавидеть всяческие перемены. Свифт в свое время клялся, что избежит
ужасной стариковской слабости: оберегать ум от нового и уклоняться от всего,
что угрожает испытанным и устоявшимся воззрениям, к которым пожилые люди так
привержены. Но он писал о старости как наблюдатель, не зная ничего о ее
чувствах, а я их понимаю и понимал задолго до того, как сам состарился.
Я снова принялся за лекции; на этот раз, клянусь, по настоянию публики,
- казалось, все население Британских островов взялось осаждать мою дверь,
умоляя меня пожаловать к ним в город - об отказе не могло быть и речи. Это
была хоть какая-то деятельность, к тому же выманивавшая меня из Лондона. Ну,
а если говорить серьезно, я сам придумал - никто мне этого не предлагал -
проверить свои силы в университетской аудитории. Должен сказать, меня весьма
подстегнуло, что получить разрешение оказалось невероятно трудно, и каждый
новый унизительный отказ заставлял меня еще жарче приняться за дело, а чем
жарче я за него принимался, тем веселей глядел наш невеселый старый мир.
Ведь это вопрос воли: стоит нам загореться каким-нибудь желанием, не так уж
важно, каким именно, и по телу разливается жизненная сила - мы приближаемся
к выздоровлению. Я дерзко вознамерился взойти на кафедру там, где все только
и делают, что выступают с кафедры, чем как бы показал нос своим
неприятностям, которые сникли при виде эдакой непочтительности.
Я должен вознаградить вас за терпение, с которым вы слушаете мои
нравоучительные речи, и рассказать, как мне разрешили читать лекции в
Оксфорде. Я попросил приема у вице-канцлера университета, чтобы подать ему
прошение, и вручил ему визитную карточку в надежде, что напечатанное там
прославленное имя возымеет должное действие. - К моему ужасу, он лишь сказал
с насмешливой, как мне показалось, улыбкой: - Г-м, так вы и есть тот самый
лектор. О чем намереваетесь говорить: о религии или о политике? - Ни о том,
ни о другом, сэр. Я литератор. - Он задумался, еще раз посмотрел в мою
карточку и спросил: - Вы что-нибудь уже написали? - Я несколько пал духом и
пробормотал: - Да, "Ярмарку тщеславия". - Сурово на меня взглянув, он
вымолвил: - Так вы из диссентеров? Ваша книга связана с трудом Беньяна? - Не
совсем, - промямлил я и в замешательстве добавил: - Я написал также
"Пенденниса". - Вице-канцлер признался, что не слыхал об этих книгах, но
убежден, что это весьма достойные сочинения. Я лихорадочно искал, чем бы мне
расположить своего собеседника, и неожиданно для себя выпалил, что печатаюсь
и в "Панче". Ей-богу, не пойму, какая муха меня укусила. Да, о "Панче" он
слыхал, но лишь как о сомнительном издании, и ссылка на него отнюдь не
подняла меня в его глазах, так что пришлось заглаживать возникшую
неловкость. Дело кончилось тем, что он потребовал поручительств: лишь после
того, как я их представил, мне было выдано искомое разрешение, да и то на
ограниченный срок. Прикажете смеяться или плакать? Почтенный вице-канцлер,
который не знал ни одного имени в английской литературе, появившегося менее
столетия назад, впоследствии отрицал все вышесказанное. Возможно, я и в
самом деле воспроизвожу не слово в слово наш курьезный диалог, но думаю, это
мало что меняет по существу. Дух я передаю верно, своих тогдашних ощущений
тоже не забыл, а большего и помнить не желаю.
Бог мой, ну что вы скажете об этом человеке - не написав и полстраницы
о женщине, в которую он был влюблен двенадцать лет назад, он снова чувствует
к ней страсть! Однако двенадцать лет - немалый срок, и чувство мое за эти
годы очень изменилось. Наверное, будь я восемнадцатилетним юношей, все
позабылось бы через неделю после отъезда Джейн на Мадейру, и я бы отыскал
другой предмет для воздыханий, но в сорок лет сердечные раны затягиваются
долго, и то было не увлечение, а любовь всей жизни. Прошли годы, прежде чем
я научился не вздрагивать при виде ее имени, и лишь совсем недавно заметил -
всего какие-нибудь года два, - что больше не теряю голову в ее присутствии,
нет, я не безразличен, но спокоен, уравновешен и могу смотреть на нее без
волнения. Она по-прежнему красива и умна, но это уже другая женщина: мы
разошлись и больше не близки, как встарь. Я все еще сожалею о несбывшемся,
но чувствую при этом непоправимую отчужденность. Испытывает ли и она то же
самое? Понимает ли, что огонь погас и вновь не возгорится, а если понимает,
радуется или печалится? Надеюсь, что печалится. Тогда меня удерживали три
невинные души - мои девочки и ее крошка, - при виде них смущавший мою душу
враг рода человеческого удрал, поджавши хвост, и все же сейчас, когда я
приближаюсь к концу жизни и знаю истинную цену любви, я не испытываю
гордости от того, что призывал их ангельские образы, чтоб удержаться от
поступка, которого так жаждал. Я вел себя как должно по всем человеческим
законам, включая и свой собственный, но все- таки то было немыслимое
расточительство. Я пренебрег даром судьбы - даром разделенной любви и не
послушал внутреннего голоса, который мне твердил: "Действуй же, действуй, не
думай о последствиях", и это трагично. Есть люди, пожертвовавшие всем ради
любви: карьерой, видами на будущее, не посчитавшиеся с близкими людьми, и
даже если им грозит утрата вечного блаженства, они про себя знают: счастье
того стоило. Буря нагрянет и пронесется, грозные волны уйдут в океан, а
впереди откроется тихая гавань. Так что скажу вам, дети мои, всякий плод да
будет сорван вовремя.
^T13^U
^TЯ покидаю Англию. Причины отъезда^U
Должно быть, после всех разыгравшихся в гостиной трагедий вам, как в
свое время и мне, хочется прийти в себя и посмотреть, что делается в мире.
Стоит нам захандрить, как медики усиленно рекомендуют смену обстановки и
свежий воздух, - с вас пять гиней, сэр! - словно такой рецепт мы не могли бы
прописать себе и сами. Бесспорно, путешествие пошло бы нам на пользу, вот
только куда и с кем поехать и кто за все это уплатит? Врачи, конечно, не
вникают в подобные материи, но если что нас и заставило просить у них
совета, так это потеря всяческой инициативы, неодолимая вялость и полнейшая
неспособность справиться со сборами в дорогу.
Однако невозможно лежать в постели и предаваться меланхолии, когда
необходимо зарабатывать на жизнь, и в этой нашей подневольности, как мы ее
ни проклинаем, как ни тяготимся - залог нашего спасения. Когда не действуют
все прочие соображения, нас выручает забота о хлебе насущном. Холодная и
неумолимая, она нас подгоняет и подталкивает в спину, так что в конце концов
мы восстаем против ее тиранства и жаждем стать миллионерами, но если ими и
становимся, как же нам не хватает висящего над головой дамоклова меча
бедности! Спешу заметить, что я не стал миллионером и вряд ли стану, но
больше не пишу для денег - теперь это уже не нужно. Однако у меня есть все
основания радоваться, что в 1852 году я не мог освободиться от того, что
называл проклятием труда, иначе и поныне влачил бы жалкое существование и
так и не придумал бы, как по-настоящему встряхнуться, в чем, как все мы
согласились, приспела великая нужда.
Я уже говорил вам, что для меня дисциплинирующим началом была
необходимость кончить "Эсмонда", но вот роман дописан, и что дальше?
Знакомый вопрос и знакомый ответ: устроить небольшие, жалкие каникулы (на
этот раз я побывал в Германии, где несколько утешился под темными сводами ее
храмов и мрачных островерхих крыш), чтобы потом вернуться в Лондон и
погрузиться в спячку. Я чувствовал себя невероятно старым и разбитым, ничто
меня не занимало, и как бы я ни прославлял всю пользу новизны, в душе я
начал ненавидеть всяческие перемены. Свифт в свое время клялся, что избежит
ужасной стариковской слабости: оберегать ум от нового и уклоняться от всего,
что угрожает испытанным и устоявшимся воззрениям, к которым пожилые люди так
привержены. Но он писал о старости как наблюдатель, не зная ничего о ее
чувствах, а я их понимаю и понимал задолго до того, как сам состарился.
Я снова принялся за лекции; на этот раз, клянусь, по настоянию публики,
- казалось, все население Британских островов взялось осаждать мою дверь,
умоляя меня пожаловать к ним в город - об отказе не могло быть и речи. Это
была хоть какая-то деятельность, к тому же выманивавшая меня из Лондона. Ну,
а если говорить серьезно, я сам придумал - никто мне этого не предлагал -
проверить свои силы в университетской аудитории. Должен сказать, меня весьма
подстегнуло, что получить разрешение оказалось невероятно трудно, и каждый
новый унизительный отказ заставлял меня еще жарче приняться за дело, а чем
жарче я за него принимался, тем веселей глядел наш невеселый старый мир.
Ведь это вопрос воли: стоит нам загореться каким-нибудь желанием, не так уж
важно, каким именно, и по телу разливается жизненная сила - мы приближаемся
к выздоровлению. Я дерзко вознамерился взойти на кафедру там, где все только
и делают, что выступают с кафедры, чем как бы показал нос своим
неприятностям, которые сникли при виде эдакой непочтительности.
Я должен вознаградить вас за терпение, с которым вы слушаете мои
нравоучительные речи, и рассказать, как мне разрешили читать лекции в
Оксфорде. Я попросил приема у вице-канцлера университета, чтобы подать ему
прошение, и вручил ему визитную карточку в надежде, что напечатанное там
прославленное имя возымеет должное действие. - К моему ужасу, он лишь сказал
с насмешливой, как мне показалось, улыбкой: - Г-м, так вы и есть тот самый
лектор. О чем намереваетесь говорить: о религии или о политике? - Ни о том,
ни о другом, сэр. Я литератор. - Он задумался, еще раз посмотрел в мою
карточку и спросил: - Вы что-нибудь уже написали? - Я несколько пал духом и
пробормотал: - Да, "Ярмарку тщеславия". - Сурово на меня взглянув, он
вымолвил: - Так вы из диссентеров? Ваша книга связана с трудом Беньяна? - Не
совсем, - промямлил я и в замешательстве добавил: - Я написал также
"Пенденниса". - Вице-канцлер признался, что не слыхал об этих книгах, но
убежден, что это весьма достойные сочинения. Я лихорадочно искал, чем бы мне
расположить своего собеседника, и неожиданно для себя выпалил, что печатаюсь
и в "Панче". Ей-богу, не пойму, какая муха меня укусила. Да, о "Панче" он
слыхал, но лишь как о сомнительном издании, и ссылка на него отнюдь не
подняла меня в его глазах, так что пришлось заглаживать возникшую
неловкость. Дело кончилось тем, что он потребовал поручительств: лишь после
того, как я их представил, мне было выдано искомое разрешение, да и то на
ограниченный срок. Прикажете смеяться или плакать? Почтенный вице-канцлер,
который не знал ни одного имени в английской литературе, появившегося менее
столетия назад, впоследствии отрицал все вышесказанное. Возможно, я и в
самом деле воспроизвожу не слово в слово наш курьезный диалог, но думаю, это
мало что меняет по существу. Дух я передаю верно, своих тогдашних ощущений
тоже не забыл, а большего и помнить не желаю.
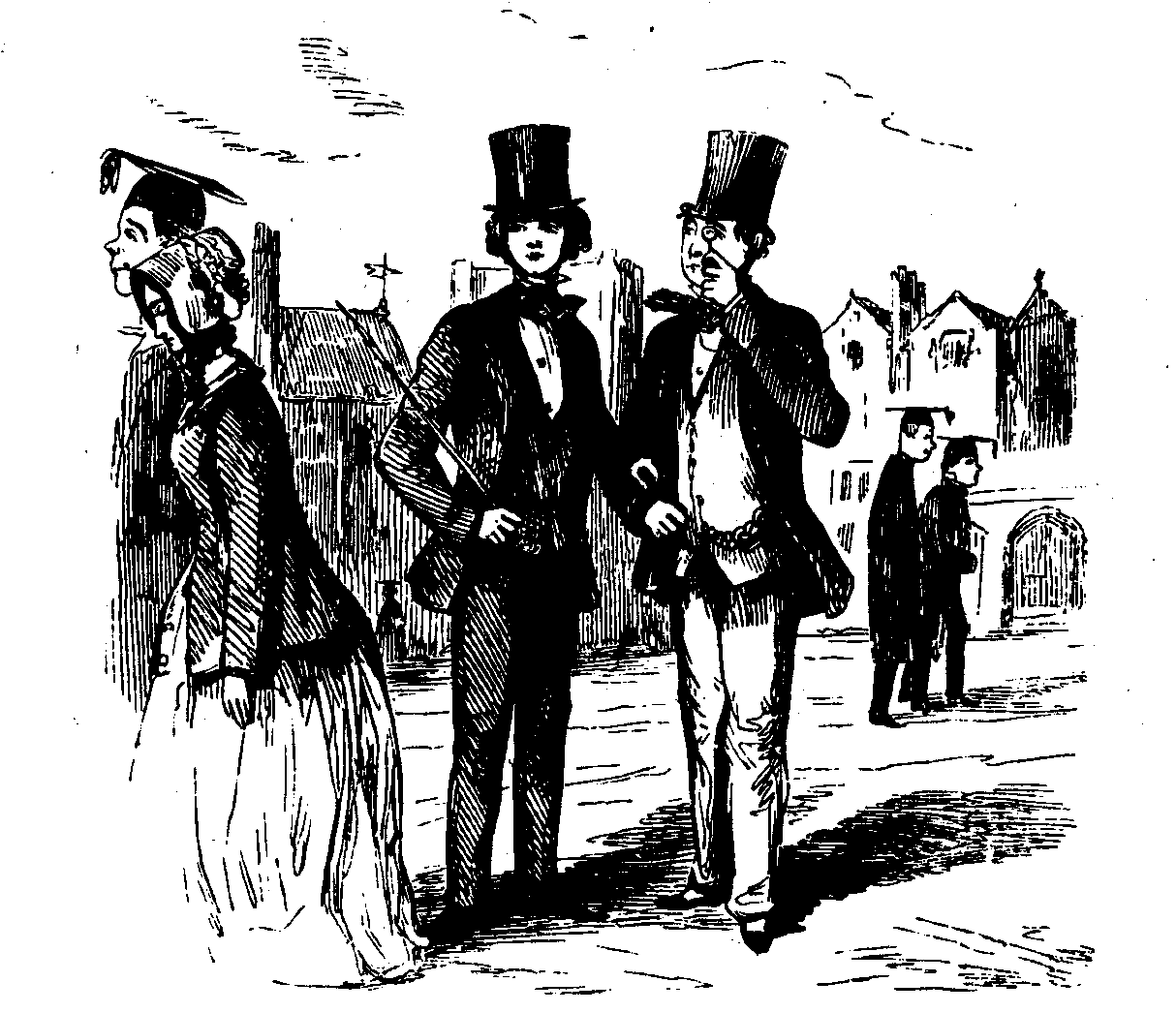 Это комическое происшествие ничуть меня не огорчило: я отнюдь не
грустил от того, что девять десятых Англии не слышали моего имени; лекции о
юмористах, тем не менее, пользовались немалым успехом. Не хочу сказать, что
залы в провинции были битком набиты, как в Лондоне, или что аплодисменты не
смолкали так же долго, но под конец я неизменно видел улыбающиеся лица и
протянутые руки и стал испытывать профессиональное удовлетворение, которого
не знал в столице. Я понемногу стал осознавать, что значит лекционное турне
и как мало оно напоминает привычное лондонское занятие, когда ты мигом
вскакиваешь в кэб и едешь по соседству, чтоб час-другой поговорить перед
собранием, по большей части, состоящим из знакомых, родственников и друзей.
В провинции я отучился волноваться, да и невозможно каждый раз
волноваться, отправляясь из незнакомого гостиничного номера в такой же
незнакомый зал, тут нужно, засучив рукава, делать свое дело.
Вся эта затея дала еще один приятный плод: у меня появились новые
друзья. По-вашему, я сам себе противоречу: не я ли только что сказал, что
всем пресытился и не терплю новых людей? Минуточку, сейчас все объясню: я
лишь хотел сказать, что у меня нет сил завязывать знакомства, но тут я и не
прилагал усилий, а если другие их прикладывают за меня, я возражать не
собираюсь.
Так, в Эдинбурге, куда меня привело все то же желание испробовать свои
силы, я познакомился с доктором Джоном Брауном и его семейством и подружился
с ними со всеми на всю жизнь. Как же оттаивало мое заиндевевшее сердце,
когда я появлялся в таком доме, как у Брауна, видел добрые лица и обращенные
ко мне лучистые улыбки; возможно, по лондонским стандартам угощение здесь
было скромное, но если сравнивать радушие...
Это комическое происшествие ничуть меня не огорчило: я отнюдь не
грустил от того, что девять десятых Англии не слышали моего имени; лекции о
юмористах, тем не менее, пользовались немалым успехом. Не хочу сказать, что
залы в провинции были битком набиты, как в Лондоне, или что аплодисменты не
смолкали так же долго, но под конец я неизменно видел улыбающиеся лица и
протянутые руки и стал испытывать профессиональное удовлетворение, которого
не знал в столице. Я понемногу стал осознавать, что значит лекционное турне
и как мало оно напоминает привычное лондонское занятие, когда ты мигом
вскакиваешь в кэб и едешь по соседству, чтоб час-другой поговорить перед
собранием, по большей части, состоящим из знакомых, родственников и друзей.
В провинции я отучился волноваться, да и невозможно каждый раз
волноваться, отправляясь из незнакомого гостиничного номера в такой же
незнакомый зал, тут нужно, засучив рукава, делать свое дело.
Вся эта затея дала еще один приятный плод: у меня появились новые
друзья. По-вашему, я сам себе противоречу: не я ли только что сказал, что
всем пресытился и не терплю новых людей? Минуточку, сейчас все объясню: я
лишь хотел сказать, что у меня нет сил завязывать знакомства, но тут я и не
прилагал усилий, а если другие их прикладывают за меня, я возражать не
собираюсь.
Так, в Эдинбурге, куда меня привело все то же желание испробовать свои
силы, я познакомился с доктором Джоном Брауном и его семейством и подружился
с ними со всеми на всю жизнь. Как же оттаивало мое заиндевевшее сердце,
когда я появлялся в таком доме, как у Брауна, видел добрые лица и обращенные
ко мне лучистые улыбки; возможно, по лондонским стандартам угощение здесь
было скромное, но если сравнивать радушие...
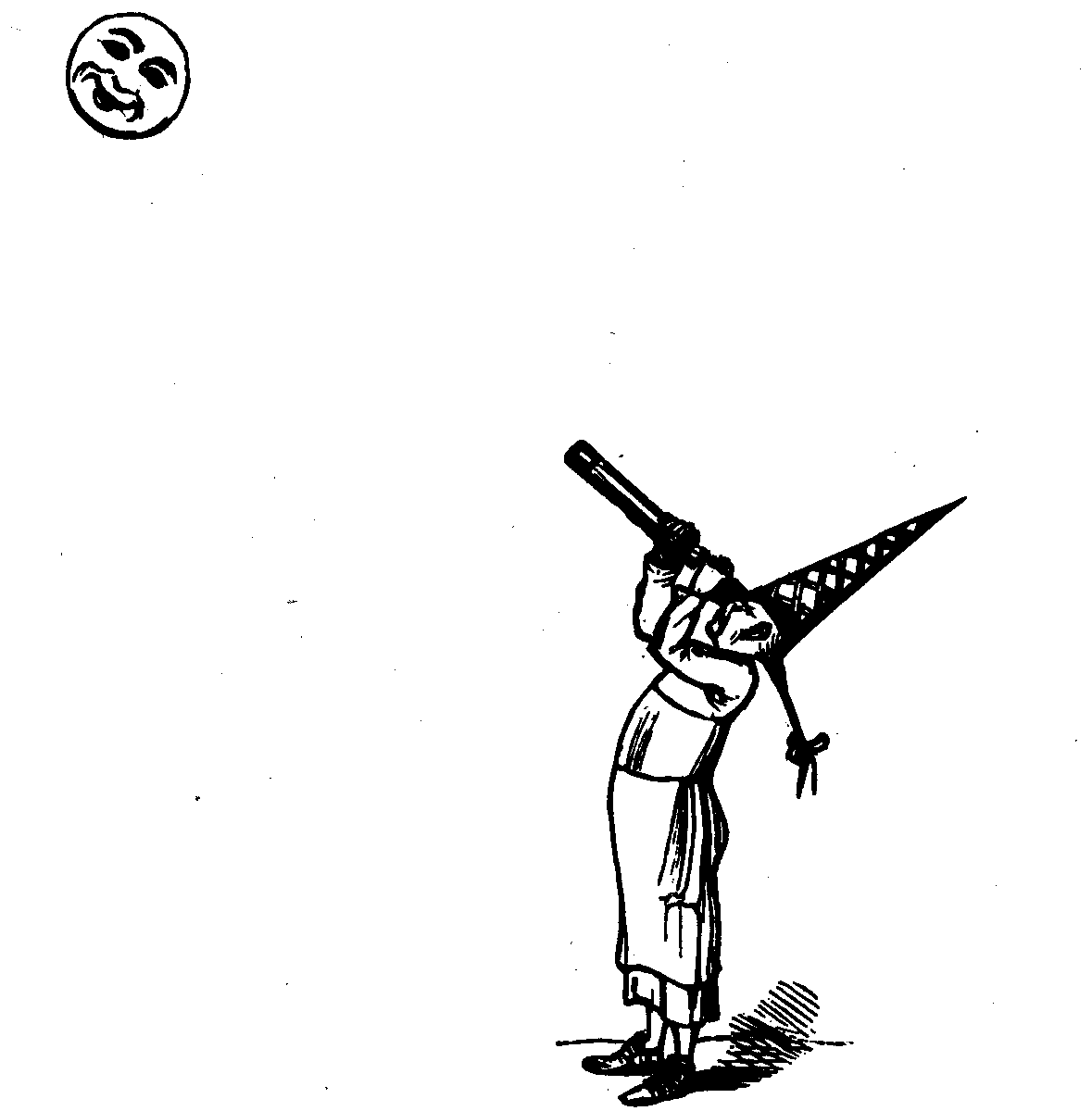 Вы спрашиваете, как на мне сказалось мое новое занятие? Оно меня
переменило, и переменило к лучшему. Я никогда не верил, что, проносясь
"галопом по Европам", мы в самом деле чему-то научаемся, разве только
географии, которую усваиваем в силу самой ее наглядности, зато я издавна
считаю, что всем нам следует пожить в каком-то уголке, не похожем на наше
обычное местопребывание, чтобы стряхнуть самодовольство, если оно нам
угрожает. То же самое касается и городов: что толку мчаться через них со
страшной скоростью, как мне это не раз случалось делать, и умножать их
список? - не лучше ли побыть в каком-нибудь одном хотя бы три-четыре дня,
немного побродить по улицам и, если представится возможность, навестить
нескольких обитателей? Это и в самом деле расширяет кругозор и заставляет с
изумлением понять ту недавно еще чужую жизнь, которая течет под его крышами.
По возвращении мы видим по-иному и собственные лары и пенаты, а некоторое
неизбежное при этом смятение действует оздоровляюще.
С какой-то непонятной целью я вновь и вновь жевал и пережевывал все эти
мысли, словно задумавшаяся корова, сравнение с которой, наверное, уже пришло
вам в голову, пока меня не осенила вдруг блестящая идея: а не поехать ли мне
с лекциями в Америку? Что вы на это скажете? Все окружающие заявили, что я,
вне всякого сомнения, вернусь с целыми сундуками звонкой монеты, смогу
расстаться с литературной поденщиной, заживу припеваючи и буду писать одни
только шедевры. Тут было над чем призадуматься, тем более что мне это
казалось естественным продолжением поездок в Кембридж, Оксфорд и Эдинбург,
на время весьма меня взбодривших. Мне было ясно, что турне по Америке -
затея вполне реальная, причем способная повлечь за собой то самое великое
обновление, в котором я нуждался; ведь там все будет другое: воздух, страна,
обычаи, пейзажи, люди, даже культура! - то будет гигантская, крутая,
потрясающая ломка, которая либо вернет меня к жизни, либо окончательно
убьет. Как тут не рискнуть! Да, не рискнуть было бы жаль, но многое меня
удерживало, и чем дальше, тем я больше сомневался в выполнимости подобного
плана. Нельзя отправиться за океан немедленно, в один день такое не
делается, никто не скажет: "Вам в Америку? Пожалуйста, вот билет на сегодня
- на двухчасовой поезд до Ливерпуля, судно отплывает с вечерним приливом,
багаж ждет в каюте; не беспокойтесь, все предусмотрено, в Америке вам
обеспечен радушный прием, здесь тоже все будет в порядке". Так не бывает,
предстоит преодолеть миллион трудностей. Прежде всего, нужно переплыть
океан. Нельзя подняться на борт судна, когда вам это заблагорассудится:
билет заказывают за несколько месяцев вперед, а после, когда становится
известен день отплытия, необходимо подтвердить, что вы не переменили своего
намерения. И, значит, нужно спланировать свою жизнь на несколько месяцев
вперед, но кто способен на такое в нашем беспокойном мире? Меня это приводит
в ужас, я ненавижу связывать себя и обещать, что ровно через год сделаю
то-то и то-то. И, наконец, главное: я отправлюсь на другой конец света со
своими худосочными лекциями, но кто мне гарантирует, что их там хоть одна
душа захочет слушать? Переговоры на эту тему напоминали попытки измерить
глубину Атлантики. Однако, в конце концов, дело сдвинулось с мертвой точки,
и путь в Америку был открыт для меня. Оставалось последнее препятствие -
самое серьезное: мои дети. Вы понимаете мои чувства. Я знал, что матушка в
Париже встретит их с распростертыми объятиями, да и они с великим
удовольствием вернутся к ней на несколько месяцев. С моими стариками они
виделись регулярно - те часто приезжали на улицу Янг, а кто откажется пожить
полгода в Париже? Сложность была не в том, как подыскать им временный приют,
а в том, чтоб этот приют не оказался постоянным. Никто не станет отрицать,
что путешествие в Америку небезопасно, и корабли все время тонут, возможно,
эта участь постигнет и меня, что тогда будут делать мои крошки, которых
судьба уже лишила матери, а теперь может лишить и отца, - вправе ли я так
рисковать? Вознося должное количество молитв, я ждал от небес ответа, какое
принять решение. Я ощущал тоску и усталость, и Америка казалась мне
громадной бутылью лекарства, которое следует выпить залпом, чтоб тотчас
исцелиться, но я себе не признавался в подобных мыслях. Во мне боролись
надежда и страх, энтузиазм и сомнения, вера и неверие. В какую-то минуту я
было - решил, что бросаться в Америку очертя голову и вовсе неразумно, ну,
не совсем очертя голову, - конечно, на сборы уйдут месяцы, но все равно я не
успею подготовиться к поездке. Да и с какой стати туда ехать, когда и в
Англии я побывал далеко не всюду?
Итак, я колебался. Сначала приводил веские доводы против поездки, потом
еще более веские - в пользу поездки, и вся эта нелепость продолжалась до
последней минуты. Поэтому я был разбит и душой, и телом, так разбит, что
нечего было и думать ехать в Америку без надежного спутника (сознаю, что
заслуживал обвинения в изнеженности: в моем возрасте обычно обходятся без
нянек). Но и тут меня подстерегала трудность: надежный спутник - что это
может быть за птица? Безусловно, не камердинер (как ни привлекательна была
мысль передать кому-то нехитрую заботу о моем платье и утреннем кофе,
который мне подавали бы в постель) и, разумеется, не досужий приятель, но и
не обычный секретарь, который только бы и делал, что вел мою корреспонденцию
и переписывал лекции. Мне нужен был настоящий помощник, достаточно сведущий,
чтоб справиться с бумажной работой и всякими переговорами и договорами, но
не гнушавшийся и мелких поручений, строго говоря, не входивших в его
обязанности. Было бы хорошо, если бы я мог с ним порой потолковать о том о
сем, но мог бы и помолчать, когда душа не лежит к разговорам. Я предпочел
бы, чтоб он был мне ровней, но и не чувствовал бы себя униженным, если его
порой не станут приглашать во всякие заманчивые места, куда буду ходить я.
Больше всего меня пугала перспектива оказаться один на один с растяпой, от
которого будет больше вреда, чем проку, и от которого нельзя будет
избавиться за столько миль от Англии, - даже увязавшуюся в пути собаку не
прогоняют далеко от дома.
Когда у меня бывало хорошее настроение, я начинал воображать, что со
мной поедет настоящий друг, скажем, Фицджералд, - мечта невыполнимая и, в
любом случае, глупая, но подсказавшая мне мысль присмотреться к семьям моих
друзей, чтоб подыскать там человека, в какой-то мере мне известного и по
склонностям, и по личным свойствам, которого соблазнила бы возможность
побывать в Америке. Вот так я и отыскал Эйра Кроу, молодого художника, с
родителями которого познакомился давным-давно, еще в Париже. Я помнил Эйра
славным десятилетним мальчиком, но в 1852 году ему было уже лет двадцать
пять; в наших судьбах было много общего: как некогда и я, он обучался
живописи, к которой обнаружил определенные способности, и мог рассчитывать
на скромный заработок в будущем, но когда семья Кроу узнала трудные времена,
дни Эйра как художника оказались сочтены, и ему пришлось искать себе другой
источник пропитания. Вам это ничего не напоминает? Огромное его достоинство
было в умении молчать. Есть люди, особенно молодые, которых молчание выводит
из себя, им тотчас хочется его заполнить, оно их тяготит, но Эйр был им
противоположностью. Молчание для него было родной стихией, и одиночества он
не боялся, ибо, по-моему, не знал, что это такое. Когда я предложил ему
сопровождать меня в качестве секретаря, он очень загорелся, удерживала его
лишь мысль о матери, которая была серьезно больна, некоторые даже говорили,
что она при смерти, и сыновний долг повелевал ему остаться. Мне следовало бы
за это похвалить его и погладить по головке, но, каюсь, я поступил иначе.
Времени оставалось в обрез, и я употребил все свое красноречие, чтоб убедить
его ехать со мной. Достойная женщина, его мать настаивала на том же, как
делают в подобных случаях все эти святые мученицы матери, и я добился
своего. Эйр согласился ехать, и сразу с моих плеч спала добрая половина
забот. С самых первых дней он выказал себя надежным и дельным человеком, и
если бы не... - нет, это немилосердно, у вас может сложиться неверное
впечатление, если я начну критиковать его, ничего не рассказав о нашей
поездке, да и говоря всерьез, критиковать его было не за что.
Итак, все было готово, правда, ваш покорный слуга находился в ужасном
расположении духа, однако о лекциях он условился, удостоверился, что его
ждут на другом материке, отправил детей в Париж и заказал билет на судно.
Единственное, чего ему недоставало, так это спокойствия и удовлетворения от
всего предпринятого. На этих страницах я не раз вам говорил, чего мне стоит
расставаться с детьми, так вот, умножьте на сто мой обычный страх и горе, и
вы получите отдаленное представление о тех муках, через которые я прошел на
сей раз. Выложить девочкам напрямик, как полагается мужчине) "Всего
хорошего, детки, я уезжаю в Америку, ведите себя примерно, пока меня не
будет" - я был не в состоянии, о нет, я сделал это совсем не так и
попрощался с ними трусливо, наспех - им, должно быть, показалось, что папа
уезжает купить неподалеку книгу. Обмануть таким способом матушку было,
конечно, невозможно. Если меня и самого пугало задуманное предприятие, то ее
оно повергало в трепет, и на ее стенания и слезы нельзя было смотреть без
ужаса. Она потратила недели на то, чтоб подыскать соответствующий моей
комплекции спасательный жилет, который ждал меня в каюте во всем своем
мерзком клеенчатом великолепии и был чудовищно вонюч. Не думаю, чтобы мне
удалось его напялить, даже если бы я трудился над ним целую неделю, но, к
счастью, мне не пришлось вверять себя его благоуханным объятиям. Наверное,
вы посмеиваетесь над всей этой забавной суматохой, но я ее вспоминаю без
стыда: поездка была для меня делом нешуточным.
Вы спрашиваете, как на мне сказалось мое новое занятие? Оно меня
переменило, и переменило к лучшему. Я никогда не верил, что, проносясь
"галопом по Европам", мы в самом деле чему-то научаемся, разве только
географии, которую усваиваем в силу самой ее наглядности, зато я издавна
считаю, что всем нам следует пожить в каком-то уголке, не похожем на наше
обычное местопребывание, чтобы стряхнуть самодовольство, если оно нам
угрожает. То же самое касается и городов: что толку мчаться через них со
страшной скоростью, как мне это не раз случалось делать, и умножать их
список? - не лучше ли побыть в каком-нибудь одном хотя бы три-четыре дня,
немного побродить по улицам и, если представится возможность, навестить
нескольких обитателей? Это и в самом деле расширяет кругозор и заставляет с
изумлением понять ту недавно еще чужую жизнь, которая течет под его крышами.
По возвращении мы видим по-иному и собственные лары и пенаты, а некоторое
неизбежное при этом смятение действует оздоровляюще.
С какой-то непонятной целью я вновь и вновь жевал и пережевывал все эти
мысли, словно задумавшаяся корова, сравнение с которой, наверное, уже пришло
вам в голову, пока меня не осенила вдруг блестящая идея: а не поехать ли мне
с лекциями в Америку? Что вы на это скажете? Все окружающие заявили, что я,
вне всякого сомнения, вернусь с целыми сундуками звонкой монеты, смогу
расстаться с литературной поденщиной, заживу припеваючи и буду писать одни
только шедевры. Тут было над чем призадуматься, тем более что мне это
казалось естественным продолжением поездок в Кембридж, Оксфорд и Эдинбург,
на время весьма меня взбодривших. Мне было ясно, что турне по Америке -
затея вполне реальная, причем способная повлечь за собой то самое великое
обновление, в котором я нуждался; ведь там все будет другое: воздух, страна,
обычаи, пейзажи, люди, даже культура! - то будет гигантская, крутая,
потрясающая ломка, которая либо вернет меня к жизни, либо окончательно
убьет. Как тут не рискнуть! Да, не рискнуть было бы жаль, но многое меня
удерживало, и чем дальше, тем я больше сомневался в выполнимости подобного
плана. Нельзя отправиться за океан немедленно, в один день такое не
делается, никто не скажет: "Вам в Америку? Пожалуйста, вот билет на сегодня
- на двухчасовой поезд до Ливерпуля, судно отплывает с вечерним приливом,
багаж ждет в каюте; не беспокойтесь, все предусмотрено, в Америке вам
обеспечен радушный прием, здесь тоже все будет в порядке". Так не бывает,
предстоит преодолеть миллион трудностей. Прежде всего, нужно переплыть
океан. Нельзя подняться на борт судна, когда вам это заблагорассудится:
билет заказывают за несколько месяцев вперед, а после, когда становится
известен день отплытия, необходимо подтвердить, что вы не переменили своего
намерения. И, значит, нужно спланировать свою жизнь на несколько месяцев
вперед, но кто способен на такое в нашем беспокойном мире? Меня это приводит
в ужас, я ненавижу связывать себя и обещать, что ровно через год сделаю
то-то и то-то. И, наконец, главное: я отправлюсь на другой конец света со
своими худосочными лекциями, но кто мне гарантирует, что их там хоть одна
душа захочет слушать? Переговоры на эту тему напоминали попытки измерить
глубину Атлантики. Однако, в конце концов, дело сдвинулось с мертвой точки,
и путь в Америку был открыт для меня. Оставалось последнее препятствие -
самое серьезное: мои дети. Вы понимаете мои чувства. Я знал, что матушка в
Париже встретит их с распростертыми объятиями, да и они с великим
удовольствием вернутся к ней на несколько месяцев. С моими стариками они
виделись регулярно - те часто приезжали на улицу Янг, а кто откажется пожить
полгода в Париже? Сложность была не в том, как подыскать им временный приют,
а в том, чтоб этот приют не оказался постоянным. Никто не станет отрицать,
что путешествие в Америку небезопасно, и корабли все время тонут, возможно,
эта участь постигнет и меня, что тогда будут делать мои крошки, которых
судьба уже лишила матери, а теперь может лишить и отца, - вправе ли я так
рисковать? Вознося должное количество молитв, я ждал от небес ответа, какое
принять решение. Я ощущал тоску и усталость, и Америка казалась мне
громадной бутылью лекарства, которое следует выпить залпом, чтоб тотчас
исцелиться, но я себе не признавался в подобных мыслях. Во мне боролись
надежда и страх, энтузиазм и сомнения, вера и неверие. В какую-то минуту я
было - решил, что бросаться в Америку очертя голову и вовсе неразумно, ну,
не совсем очертя голову, - конечно, на сборы уйдут месяцы, но все равно я не
успею подготовиться к поездке. Да и с какой стати туда ехать, когда и в
Англии я побывал далеко не всюду?
Итак, я колебался. Сначала приводил веские доводы против поездки, потом
еще более веские - в пользу поездки, и вся эта нелепость продолжалась до
последней минуты. Поэтому я был разбит и душой, и телом, так разбит, что
нечего было и думать ехать в Америку без надежного спутника (сознаю, что
заслуживал обвинения в изнеженности: в моем возрасте обычно обходятся без
нянек). Но и тут меня подстерегала трудность: надежный спутник - что это
может быть за птица? Безусловно, не камердинер (как ни привлекательна была
мысль передать кому-то нехитрую заботу о моем платье и утреннем кофе,
который мне подавали бы в постель) и, разумеется, не досужий приятель, но и
не обычный секретарь, который только бы и делал, что вел мою корреспонденцию
и переписывал лекции. Мне нужен был настоящий помощник, достаточно сведущий,
чтоб справиться с бумажной работой и всякими переговорами и договорами, но
не гнушавшийся и мелких поручений, строго говоря, не входивших в его
обязанности. Было бы хорошо, если бы я мог с ним порой потолковать о том о
сем, но мог бы и помолчать, когда душа не лежит к разговорам. Я предпочел
бы, чтоб он был мне ровней, но и не чувствовал бы себя униженным, если его
порой не станут приглашать во всякие заманчивые места, куда буду ходить я.
Больше всего меня пугала перспектива оказаться один на один с растяпой, от
которого будет больше вреда, чем проку, и от которого нельзя будет
избавиться за столько миль от Англии, - даже увязавшуюся в пути собаку не
прогоняют далеко от дома.
Когда у меня бывало хорошее настроение, я начинал воображать, что со
мной поедет настоящий друг, скажем, Фицджералд, - мечта невыполнимая и, в
любом случае, глупая, но подсказавшая мне мысль присмотреться к семьям моих
друзей, чтоб подыскать там человека, в какой-то мере мне известного и по
склонностям, и по личным свойствам, которого соблазнила бы возможность
побывать в Америке. Вот так я и отыскал Эйра Кроу, молодого художника, с
родителями которого познакомился давным-давно, еще в Париже. Я помнил Эйра
славным десятилетним мальчиком, но в 1852 году ему было уже лет двадцать
пять; в наших судьбах было много общего: как некогда и я, он обучался
живописи, к которой обнаружил определенные способности, и мог рассчитывать
на скромный заработок в будущем, но когда семья Кроу узнала трудные времена,
дни Эйра как художника оказались сочтены, и ему пришлось искать себе другой
источник пропитания. Вам это ничего не напоминает? Огромное его достоинство
было в умении молчать. Есть люди, особенно молодые, которых молчание выводит
из себя, им тотчас хочется его заполнить, оно их тяготит, но Эйр был им
противоположностью. Молчание для него было родной стихией, и одиночества он
не боялся, ибо, по-моему, не знал, что это такое. Когда я предложил ему
сопровождать меня в качестве секретаря, он очень загорелся, удерживала его
лишь мысль о матери, которая была серьезно больна, некоторые даже говорили,
что она при смерти, и сыновний долг повелевал ему остаться. Мне следовало бы
за это похвалить его и погладить по головке, но, каюсь, я поступил иначе.
Времени оставалось в обрез, и я употребил все свое красноречие, чтоб убедить
его ехать со мной. Достойная женщина, его мать настаивала на том же, как
делают в подобных случаях все эти святые мученицы матери, и я добился
своего. Эйр согласился ехать, и сразу с моих плеч спала добрая половина
забот. С самых первых дней он выказал себя надежным и дельным человеком, и
если бы не... - нет, это немилосердно, у вас может сложиться неверное
впечатление, если я начну критиковать его, ничего не рассказав о нашей
поездке, да и говоря всерьез, критиковать его было не за что.
Итак, все было готово, правда, ваш покорный слуга находился в ужасном
расположении духа, однако о лекциях он условился, удостоверился, что его
ждут на другом материке, отправил детей в Париж и заказал билет на судно.
Единственное, чего ему недоставало, так это спокойствия и удовлетворения от
всего предпринятого. На этих страницах я не раз вам говорил, чего мне стоит
расставаться с детьми, так вот, умножьте на сто мой обычный страх и горе, и
вы получите отдаленное представление о тех муках, через которые я прошел на
сей раз. Выложить девочкам напрямик, как полагается мужчине) "Всего
хорошего, детки, я уезжаю в Америку, ведите себя примерно, пока меня не
будет" - я был не в состоянии, о нет, я сделал это совсем не так и
попрощался с ними трусливо, наспех - им, должно быть, показалось, что папа
уезжает купить неподалеку книгу. Обмануть таким способом матушку было,
конечно, невозможно. Если меня и самого пугало задуманное предприятие, то ее
оно повергало в трепет, и на ее стенания и слезы нельзя было смотреть без
ужаса. Она потратила недели на то, чтоб подыскать соответствующий моей
комплекции спасательный жилет, который ждал меня в каюте во всем своем
мерзком клеенчатом великолепии и был чудовищно вонюч. Не думаю, чтобы мне
удалось его напялить, даже если бы я трудился над ним целую неделю, но, к
счастью, мне не пришлось вверять себя его благоуханным объятиям. Наверное,
вы посмеиваетесь над всей этой забавной суматохой, но я ее вспоминаю без
стыда: поездка была для меня делом нешуточным.
 В октябре 1852 года, серьезный и торжественный, я поднялся на борт
"Канады" в Ливерпульском порту, не чувствуя ни малейшего возбуждения.
Возбуждение в таких случаях бывает радостным, но я не испытывал ничего
радостного. Уж слишком мои приготовления напоминали сборы в последний путь,
я походил на фараона, который, готовясь к путешествию в неведомое, упрятал в
пирамиду все свои пожитки, осталось произнести последнюю молитву и - с
богом! Ощущение обреченности усилилось после того, как я прочел присланную
мне вырезку из газеты "Нью-Йорк Гералд", которая выбрала минуту, когда я
начинал свое турне, чтобы таранить задуманное предприятие. В ней порицалось
низкопоклонство американцев перед каждой заезжей знаменитостью, к числу
которых, по мнению автора статьи, я даже и не принадлежал, и говорилось, что
чествовать меня, как Диккенса, было бы, по меньшей мере, глупо, а заодно
меня именовали снобом-кокни! Неплохое начало.
Бог с ними, с чествованиями - ликующие толпы и восторженные крики я
уступаю Диккенсу - но меня отнюдь не привлекала обстановка всеобщей
враждебности. В конце концов, зачем ехать туда, где мне не рады? Нет таких
денег, ради которых я согласился бы терпеть потоки брани. Что же, на
пристани в меня будут швырять гнилыми помидорами? К счастью, я хорошо знаком
был с газетными нравами у себя на родине и знал, что публика порой совсем
^не думает того, что от ее имени возвещают газетчики, и прежде времени не
стоит обращать на них внимание. Возможно, в чем-то я и вправду чересчур
ранимый человек, но газетной критикой меня не проймешь.
В октябре 1852 года, серьезный и торжественный, я поднялся на борт
"Канады" в Ливерпульском порту, не чувствуя ни малейшего возбуждения.
Возбуждение в таких случаях бывает радостным, но я не испытывал ничего
радостного. Уж слишком мои приготовления напоминали сборы в последний путь,
я походил на фараона, который, готовясь к путешествию в неведомое, упрятал в
пирамиду все свои пожитки, осталось произнести последнюю молитву и - с
богом! Ощущение обреченности усилилось после того, как я прочел присланную
мне вырезку из газеты "Нью-Йорк Гералд", которая выбрала минуту, когда я
начинал свое турне, чтобы таранить задуманное предприятие. В ней порицалось
низкопоклонство американцев перед каждой заезжей знаменитостью, к числу
которых, по мнению автора статьи, я даже и не принадлежал, и говорилось, что
чествовать меня, как Диккенса, было бы, по меньшей мере, глупо, а заодно
меня именовали снобом-кокни! Неплохое начало.
Бог с ними, с чествованиями - ликующие толпы и восторженные крики я
уступаю Диккенсу - но меня отнюдь не привлекала обстановка всеобщей
враждебности. В конце концов, зачем ехать туда, где мне не рады? Нет таких
денег, ради которых я согласился бы терпеть потоки брани. Что же, на
пристани в меня будут швырять гнилыми помидорами? К счастью, я хорошо знаком
был с газетными нравами у себя на родине и знал, что публика порой совсем
^не думает того, что от ее имени возвещают газетчики, и прежде времени не
стоит обращать на них внимание. Возможно, в чем-то я и вправду чересчур
ранимый человек, но газетной критикой меня не проймешь.
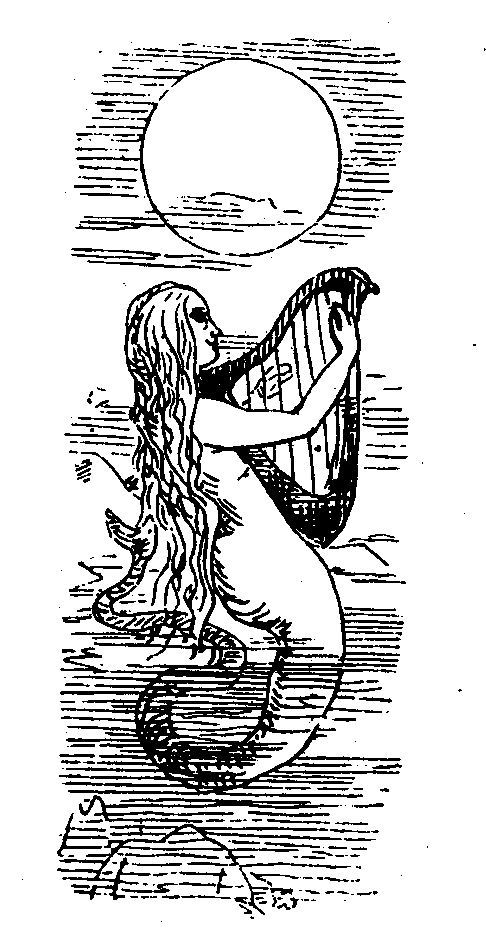 От вашего внимания, скорей всего, не укрылось, что со времени моего
разрыва с Брукфилдами до октября 1852 года, когда я отплывал в Америку,
промчался целый год. Каралось бы, немалый срок, совсем немалый, и вам,
наверное, подумалось: что ж, если он и ищет перемен, но теперь уже, конечно,
не из-за той злосчастной истории, которая перевернула всю его жизнь. Но для
такой душевной утраты, как моя, год - это очень мало, очень и очень мало. Он
пролетел, а я лишь начал поправляться, лишь начал приходить в себя после
тяжелого сердечного недуга, неверными шагами нащупывал дорогу среди
повседневных житейских забот. Весь этот год мое сердце оставалось тощей,
невозделанной нивой, на которую не упало ни одно семя нового чувства, и лишь
недавно я поверил, что под, целительным воздействием времени, которому под
силу утучнить и голую скалу, ко мне еще вернется способность растить всходы.
Период бесплодия после душевной драмы неизбежен, по-моему, быстрого возврата
к полноте жизни тут быть не может. Долгие недели и месяцы должны пройти в
пустоте, иначе вам грозит еще одно такое же несчастье. Мне много раз
случалось видеть, как пострадавший в состоянии безумия бросается в очередную
любовную историю, внушая себе, что оба чувства равноценны, хоть про себя
знает, что ищет утешения, а не любви. Кстати, позвольте рассказать, пока мы
не взошли на борт "Канады", одну коротенькую историю, случившуюся со мной в
том же 1852 году, - иначе вы решите, что я окончательно впал в менторский
тон. Я как-то получил письмо от одной молодой особы, по имени Мэри Холмс,
которую знал еще по тем временам, когда приезжал в Девон на школьные
каникулы. Я смутно помнил ее имя, и в сочетании с сентиментальным чувством,
которое вызвал у меня обратный адрес на конверте, этого оказалось
достаточно, чтоб пробудить во мне интерес к ее заботам. Сколько помнится,
Мэри Холмс, подобно сотням моих корреспонденток, просила помочь ей
напечатать несколько стихотворений - или церковных песнопений, не могу
сказать точно, - но, несомненно, речь шла о публикации. Ко мне косяками
прибывали письма от многочисленных мисс Смит из разных концов страны,
просивших меня пристроить в печать пробы их пера, которые папочка,
приходской священник или друг дома находили восхитительными. Обычно я
советовал им не тратить понапрасну времени, разве что они владели скромным
капиталом и были бы не прочь пустить его по ветру, но, отвечая Мэри Холмс, я
подобрал для своего сурового совета более мягкую форму и нашел возможным
присовокупить к нему несколько комплиментов. Не знаю, зачем я это сделал,
возможно, меня тронула наивность ее письма. Как бы то ни было, между нами
завязалась переписка, и из Девона потек ручей очаровательных посланий,
которых, признаюсь, я стал ждать с волнением и радостью, порой растроганно
задумываясь над личностью своей корреспондентки. Догадываетесь, куда ветер
дует? Довольно скоро Мэри Холмс призналась, что ей хотелось бы найти в
Лондоне место гувернантки или учительницы музыки и она была бы необычайно
признательна, если бы... если бы... нет, это слишком дерзко с ее стороны,
она не смеет и заикнуться о такой любезности, но все-таки, не мог ли бы я ей
посоветовать, как взяться за поиски. Тут во мне заговорила осторожность,
удержавшая меня от поспешных шагов, и, подавив желание пригласить это
небесное создание приехать прямо к нам, я уклончиво обещал навести справки у
знакомых дам, которые, возможно, смогут приискать ей место. Интересно, что я
писал ей в своих письмах, отыщется ли там одна-две нежные фразы, на которые
она могла бы сослаться? Не думаю, хотя как знать. Скорее всего, я был добр и
хотел помочь ей, не более того, но почему, скажите на милость, я был так
жестоко разочарован, когда увидел ее во плоти? Бедняжкой Мэри Холмс,
писавшей такие пленительные письма, плениться было трудно: она была рыжая,
красноносая, нескладная, колченогая - увы, ни добродетель, ни мастерство, с
которым она преподавала музыку, не возмещали недостатков ее внешности. Скажу
по совести, что греха таить: я быстро потерял к ней интерес, зато запомнил
навсегда преподанный мне жизнью своевременный урок. Мне стало ясно, что я
вовсе не так равнодушен к прекрасному полу, как утверждал, и гораздо меньше
привержен памяти Джейн Брукфилд, чем мне нравилось думать. Опасность
заключалась не в том, что я внушу себе несуществующую страсть к какой-то
даме ради того, чтобы утешиться, - а в другом, гораздо худшем: я буду
обожествлять Джейн до тех пор, пока отношения с любой другой женщиной станут
для меня немыслимы. Очень похвально, что я не увлекся кем попало ради того
чтобы забыться, но кажется, я перехватил в другую сторону, и если история с
Мэри Холмс чему-нибудь меня и научила, так это не слишком усердствовать в
своей скорби и не обрекать себя на чувства, мне не свойственные.
От вашего внимания, скорей всего, не укрылось, что со времени моего
разрыва с Брукфилдами до октября 1852 года, когда я отплывал в Америку,
промчался целый год. Каралось бы, немалый срок, совсем немалый, и вам,
наверное, подумалось: что ж, если он и ищет перемен, но теперь уже, конечно,
не из-за той злосчастной истории, которая перевернула всю его жизнь. Но для
такой душевной утраты, как моя, год - это очень мало, очень и очень мало. Он
пролетел, а я лишь начал поправляться, лишь начал приходить в себя после
тяжелого сердечного недуга, неверными шагами нащупывал дорогу среди
повседневных житейских забот. Весь этот год мое сердце оставалось тощей,
невозделанной нивой, на которую не упало ни одно семя нового чувства, и лишь
недавно я поверил, что под, целительным воздействием времени, которому под
силу утучнить и голую скалу, ко мне еще вернется способность растить всходы.
Период бесплодия после душевной драмы неизбежен, по-моему, быстрого возврата
к полноте жизни тут быть не может. Долгие недели и месяцы должны пройти в
пустоте, иначе вам грозит еще одно такое же несчастье. Мне много раз
случалось видеть, как пострадавший в состоянии безумия бросается в очередную
любовную историю, внушая себе, что оба чувства равноценны, хоть про себя
знает, что ищет утешения, а не любви. Кстати, позвольте рассказать, пока мы
не взошли на борт "Канады", одну коротенькую историю, случившуюся со мной в
том же 1852 году, - иначе вы решите, что я окончательно впал в менторский
тон. Я как-то получил письмо от одной молодой особы, по имени Мэри Холмс,
которую знал еще по тем временам, когда приезжал в Девон на школьные
каникулы. Я смутно помнил ее имя, и в сочетании с сентиментальным чувством,
которое вызвал у меня обратный адрес на конверте, этого оказалось
достаточно, чтоб пробудить во мне интерес к ее заботам. Сколько помнится,
Мэри Холмс, подобно сотням моих корреспонденток, просила помочь ей
напечатать несколько стихотворений - или церковных песнопений, не могу
сказать точно, - но, несомненно, речь шла о публикации. Ко мне косяками
прибывали письма от многочисленных мисс Смит из разных концов страны,
просивших меня пристроить в печать пробы их пера, которые папочка,
приходской священник или друг дома находили восхитительными. Обычно я
советовал им не тратить понапрасну времени, разве что они владели скромным
капиталом и были бы не прочь пустить его по ветру, но, отвечая Мэри Холмс, я
подобрал для своего сурового совета более мягкую форму и нашел возможным
присовокупить к нему несколько комплиментов. Не знаю, зачем я это сделал,
возможно, меня тронула наивность ее письма. Как бы то ни было, между нами
завязалась переписка, и из Девона потек ручей очаровательных посланий,
которых, признаюсь, я стал ждать с волнением и радостью, порой растроганно
задумываясь над личностью своей корреспондентки. Догадываетесь, куда ветер
дует? Довольно скоро Мэри Холмс призналась, что ей хотелось бы найти в
Лондоне место гувернантки или учительницы музыки и она была бы необычайно
признательна, если бы... если бы... нет, это слишком дерзко с ее стороны,
она не смеет и заикнуться о такой любезности, но все-таки, не мог ли бы я ей
посоветовать, как взяться за поиски. Тут во мне заговорила осторожность,
удержавшая меня от поспешных шагов, и, подавив желание пригласить это
небесное создание приехать прямо к нам, я уклончиво обещал навести справки у
знакомых дам, которые, возможно, смогут приискать ей место. Интересно, что я
писал ей в своих письмах, отыщется ли там одна-две нежные фразы, на которые
она могла бы сослаться? Не думаю, хотя как знать. Скорее всего, я был добр и
хотел помочь ей, не более того, но почему, скажите на милость, я был так
жестоко разочарован, когда увидел ее во плоти? Бедняжкой Мэри Холмс,
писавшей такие пленительные письма, плениться было трудно: она была рыжая,
красноносая, нескладная, колченогая - увы, ни добродетель, ни мастерство, с
которым она преподавала музыку, не возмещали недостатков ее внешности. Скажу
по совести, что греха таить: я быстро потерял к ней интерес, зато запомнил
навсегда преподанный мне жизнью своевременный урок. Мне стало ясно, что я
вовсе не так равнодушен к прекрасному полу, как утверждал, и гораздо меньше
привержен памяти Джейн Брукфилд, чем мне нравилось думать. Опасность
заключалась не в том, что я внушу себе несуществующую страсть к какой-то
даме ради того, чтобы утешиться, - а в другом, гораздо худшем: я буду
обожествлять Джейн до тех пор, пока отношения с любой другой женщиной станут
для меня немыслимы. Очень похвально, что я не увлекся кем попало ради того
чтобы забыться, но кажется, я перехватил в другую сторону, и если история с
Мэри Холмс чему-нибудь меня и научила, так это не слишком усердствовать в
своей скорби и не обрекать себя на чувства, мне не свойственные.
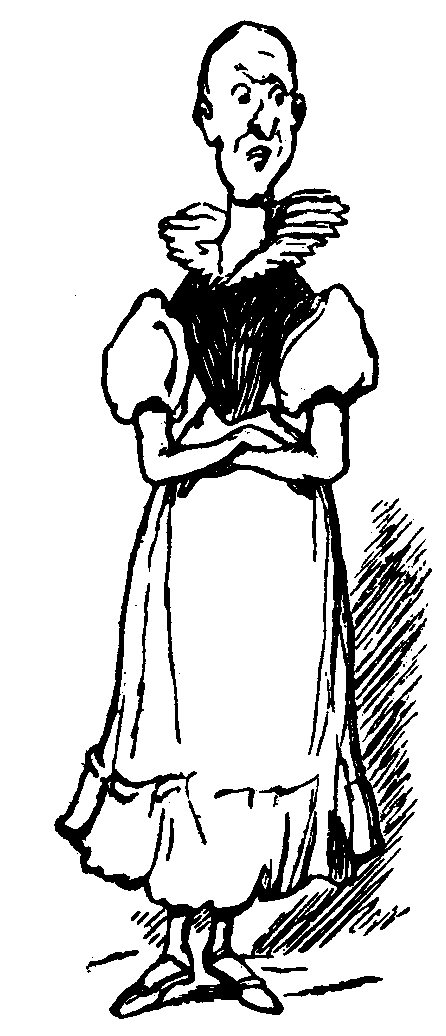 Итак, в моем лице "Канада" получила пассажира, имевшего большую
склонность к меланхолическим раздумьям, он бы являл собой довольно грустное
зрелище, если бы ровно в ту минуту, когда он подымался на борт, ему не
принесли первые экземпляры "Эсмонда". Видели бы вы улыбку, которой озарилось
лицо этого старого меланхолика! Как просветлело его хмурое чело, как
заблестели его скорбные глаза, когда он увидел это полиграфическое чудо. А
это и в самом деле было чудо. Очень советую вам подержать в руках первое
издание "Эсмонда", хотя бы для того, чтоб насладиться шрифтом эпохи королевы
Анны, плотной бумагой и общим оформлением тома, оставлявшего впечатление
подлинного шедевра того времени. Конечно, подобная стилизация стоит
недешево, и от типографа тут требуется подлинное мастерство, но он прекрасно
воплотил мой замысел, и я готов был раскошелиться, ну, а если публика не
последует моему примеру, тем хуже для нее. Я с самого начала знал, что
"Эсмонд" принесет убыток, но полагал, что если это и неудача, то почетная. Я
взял в дорогу первый экземпляр, на который поглядывал с нежностью и
удовольствием, как взял бы с собой счастливый талисман, - более того, мне
виделась в нем веха, которой завершается грустный период моей жизни и
начинается новая, счастливая пора. Под этим переплетом скрывалась история
моих страданий, и мне казалось, что я перевернул последнюю страницу прошлого
и теперь могу жить дальше, даже если мне не дано его забыть.
Не стану утверждать, будто в час отплытия благодаря случайной доставке
"Эсмонда" на пристань испытывал великий подъем духа, но не было во мне и той
свинцовой тяжести, которой я боялся. А может быть, я зря ее боялся, ибо в
самой обстановке большого порта есть что-то завораживающее - оно заставляет
человека позабыть свои дела и пробуждает нетерпеливое желание скорей
отправиться в путь. Я долго стоял на палубе и, наблюдая за погрузкой,
разглядывал на редкость выразительные лица матросов, группки машущих белыми
платками родственников, которые пришли проститься с близкими, кружащих над
головой в ожидании поживы чаек и, наконец, само море, мутное и темное,
вскипающее волнами и раскатывающее их до самого горизонта. Земля с ее полями
и городами кажется однообразной и унылой рядом с манящей и беспокойной
подвижностью моря, и тянет нас не к ней назад, а лишь вперед, в его
бескрайность. У кромки берега море так много обещает - ничто в нем не
предвещает той серой монотонности, безбрежной многодневной пустоты воды и
неба, которая потом рождает злобную угрюмость. Море - это приключение, и
всем нам хочется стоять на палубе отчаливающего корабля. Даже предвидя, что
через день-другой дело дойдет до крика: "Стюард, скорее тазик", мы радуемся
брызгам, ветру и веселой сутолоке в порту. Мы знаем, что на следующие две
недели выйдем из-под власти времени и, как бы перестав существовать, паря
меж небом и землей, будем замечать одни лишь капризы погоды. Отрезанные от
мира с его голодом, войнами и эпидемиями, мы попадем в полосу отчуждения -
заманчивое состояние для тех из нас, кто не смакует несчастья. По-моему,
отплытие - лучшая часть всего путешествия в Америку, и даже если б это было
возможно, жалко было бы его лишиться, - боюсь, правда, что поздно или рано
люди научатся пересекать Атлантику мгновенно, и пассажир, не проведя и ночи
в пути, окажется на другой ее стороне - тогда, у него не будет времени для
размышлений, вроде тех, которым я предавался, держась за поручни "Канады".
Да, если такой день настанет, а это неизбежно, я от души жалею будущего
путешественника. Мне не хотелось бы прибыть в Америку, не перебросив
мысленно моста между двумя мирами, не побывав в нейтральных водах,
пролегающих между нашими культурами. Даю вам слово, едва "Канада" отошла от
Англии и пустилась в путь, соединяющий два дальних берега, из моей груди
вырвался вздох облегчения. Что ж, выбор сделан, назад возврата нет, и это
меня радовало, ибо наконец-то я не желал возврата, а чувствовал отважное
стремление двигаться вперед.
^T14^U
^Tприключение на другом континенте, которое возвращает мне бодрость духа^U
Плавание оказалось довольно бурным - почти все время дул встречный
ветер, небо хмурилось, солнце выглядывало редко, "Канада" по-дельфиньи
подпрыгивала на волнах - но я прекрасно перенес его. Повезло мне и со
спутниками, хотя я не всех уже помню по имени. Вместе со мной плыли Рассел
Лоуэлл и Артур Клаф, в чьем славном обществе я коротал время, когда оно
начинало слишком медленно тянуться, и, конечно, молодой Эйр Кроу, успевший
проявить себя как верный помощник и радовавший меня все больше. Но самое
лучшее в корабельной жизни - вынужденное безделье, к которому, как вы,
наверное, помните, я всегда питал слабость, а в настоящую минуту еще и
чрезвычайно в нем нуждался. Первое время я, как и все, страдал морской
болезнью, но вскоре мои внутренности привыкли к разным видам качки - и к
бортовой, и к килевой, и я стал с удовольствием читать в каюте, покидая ее
лишь для того, чтоб пообедать и вечером посидеть за рюмкой с капитаном и
другими пассажирами. Что же я читал? Конечно, "Эсмонда"! И, знаете, он мне
понравился! На меня снизошло дивное ощущение покоя: "Эсмонд" дописан, книга
получилась хорошая, ничто не висит у меня над душой, - казалось, я до конца
дней не перестану радоваться этому умиротворенному состоянию. Однако очень
скоро - примерно на десятый день пути - меня, как и других пассажиров,
охватило нетерпеливое желание отделаться от моря, и все мы стали терзать
капитана вопросом, когда же, наконец, покажется земля. С неиссякаемым
терпением он отвечал, что мы уже почти у цели. Но вот, наконец, наступила
волнующая минута - мы сидели за обедом, кажется, на одиннадцатые сутки
плавания, дело было вечером, вдруг как бы ненароком он отправил матроса на
вышку, посмотреть, не видна ли суша. Последовал ответ: нет, ничего не видно,
и капитан спокойно продолжал есть, а через полчаса опять послал справиться,
и в этот раз - о чудо! - посланец увидал огонь, и нам объявили, что завтра
мы причаливаем. Я был буквально ошарашен - что за чертовщина, как можно с
точностью до получаса рассчитать, когда покажется Америка? Откуда капитану
было знать, когда матросу карабкаться на мачту? Как ему удавалось двигаться
в океане по прямой и с полным хладнокровием прибыть в нужную точку? Что за
волшебники эти капитаны, и как они творят такие чудеса с помощью нескольких
несложных с виду инструментов? Той ночью я долго ворочался на койке и все
раздумывал над тайнами координат, и что-то даже забрезжило в моем мозгу, но
впрочем, мне это, наверное, только померещилось. Когда вы видите воочию
такое диво мореходного искусства, вы прикасаетесь к божественному чуду, и
что бы мне в ответ ни говорили и ни втолковывали, моя романтическая натура
усматривает тут именно чудо.
Итак, в моем лице "Канада" получила пассажира, имевшего большую
склонность к меланхолическим раздумьям, он бы являл собой довольно грустное
зрелище, если бы ровно в ту минуту, когда он подымался на борт, ему не
принесли первые экземпляры "Эсмонда". Видели бы вы улыбку, которой озарилось
лицо этого старого меланхолика! Как просветлело его хмурое чело, как
заблестели его скорбные глаза, когда он увидел это полиграфическое чудо. А
это и в самом деле было чудо. Очень советую вам подержать в руках первое
издание "Эсмонда", хотя бы для того, чтоб насладиться шрифтом эпохи королевы
Анны, плотной бумагой и общим оформлением тома, оставлявшего впечатление
подлинного шедевра того времени. Конечно, подобная стилизация стоит
недешево, и от типографа тут требуется подлинное мастерство, но он прекрасно
воплотил мой замысел, и я готов был раскошелиться, ну, а если публика не
последует моему примеру, тем хуже для нее. Я с самого начала знал, что
"Эсмонд" принесет убыток, но полагал, что если это и неудача, то почетная. Я
взял в дорогу первый экземпляр, на который поглядывал с нежностью и
удовольствием, как взял бы с собой счастливый талисман, - более того, мне
виделась в нем веха, которой завершается грустный период моей жизни и
начинается новая, счастливая пора. Под этим переплетом скрывалась история
моих страданий, и мне казалось, что я перевернул последнюю страницу прошлого
и теперь могу жить дальше, даже если мне не дано его забыть.
Не стану утверждать, будто в час отплытия благодаря случайной доставке
"Эсмонда" на пристань испытывал великий подъем духа, но не было во мне и той
свинцовой тяжести, которой я боялся. А может быть, я зря ее боялся, ибо в
самой обстановке большого порта есть что-то завораживающее - оно заставляет
человека позабыть свои дела и пробуждает нетерпеливое желание скорей
отправиться в путь. Я долго стоял на палубе и, наблюдая за погрузкой,
разглядывал на редкость выразительные лица матросов, группки машущих белыми
платками родственников, которые пришли проститься с близкими, кружащих над
головой в ожидании поживы чаек и, наконец, само море, мутное и темное,
вскипающее волнами и раскатывающее их до самого горизонта. Земля с ее полями
и городами кажется однообразной и унылой рядом с манящей и беспокойной
подвижностью моря, и тянет нас не к ней назад, а лишь вперед, в его
бескрайность. У кромки берега море так много обещает - ничто в нем не
предвещает той серой монотонности, безбрежной многодневной пустоты воды и
неба, которая потом рождает злобную угрюмость. Море - это приключение, и
всем нам хочется стоять на палубе отчаливающего корабля. Даже предвидя, что
через день-другой дело дойдет до крика: "Стюард, скорее тазик", мы радуемся
брызгам, ветру и веселой сутолоке в порту. Мы знаем, что на следующие две
недели выйдем из-под власти времени и, как бы перестав существовать, паря
меж небом и землей, будем замечать одни лишь капризы погоды. Отрезанные от
мира с его голодом, войнами и эпидемиями, мы попадем в полосу отчуждения -
заманчивое состояние для тех из нас, кто не смакует несчастья. По-моему,
отплытие - лучшая часть всего путешествия в Америку, и даже если б это было
возможно, жалко было бы его лишиться, - боюсь, правда, что поздно или рано
люди научатся пересекать Атлантику мгновенно, и пассажир, не проведя и ночи
в пути, окажется на другой ее стороне - тогда, у него не будет времени для
размышлений, вроде тех, которым я предавался, держась за поручни "Канады".
Да, если такой день настанет, а это неизбежно, я от души жалею будущего
путешественника. Мне не хотелось бы прибыть в Америку, не перебросив
мысленно моста между двумя мирами, не побывав в нейтральных водах,
пролегающих между нашими культурами. Даю вам слово, едва "Канада" отошла от
Англии и пустилась в путь, соединяющий два дальних берега, из моей груди
вырвался вздох облегчения. Что ж, выбор сделан, назад возврата нет, и это
меня радовало, ибо наконец-то я не желал возврата, а чувствовал отважное
стремление двигаться вперед.
^T14^U
^Tприключение на другом континенте, которое возвращает мне бодрость духа^U
Плавание оказалось довольно бурным - почти все время дул встречный
ветер, небо хмурилось, солнце выглядывало редко, "Канада" по-дельфиньи
подпрыгивала на волнах - но я прекрасно перенес его. Повезло мне и со
спутниками, хотя я не всех уже помню по имени. Вместе со мной плыли Рассел
Лоуэлл и Артур Клаф, в чьем славном обществе я коротал время, когда оно
начинало слишком медленно тянуться, и, конечно, молодой Эйр Кроу, успевший
проявить себя как верный помощник и радовавший меня все больше. Но самое
лучшее в корабельной жизни - вынужденное безделье, к которому, как вы,
наверное, помните, я всегда питал слабость, а в настоящую минуту еще и
чрезвычайно в нем нуждался. Первое время я, как и все, страдал морской
болезнью, но вскоре мои внутренности привыкли к разным видам качки - и к
бортовой, и к килевой, и я стал с удовольствием читать в каюте, покидая ее
лишь для того, чтоб пообедать и вечером посидеть за рюмкой с капитаном и
другими пассажирами. Что же я читал? Конечно, "Эсмонда"! И, знаете, он мне
понравился! На меня снизошло дивное ощущение покоя: "Эсмонд" дописан, книга
получилась хорошая, ничто не висит у меня над душой, - казалось, я до конца
дней не перестану радоваться этому умиротворенному состоянию. Однако очень
скоро - примерно на десятый день пути - меня, как и других пассажиров,
охватило нетерпеливое желание отделаться от моря, и все мы стали терзать
капитана вопросом, когда же, наконец, покажется земля. С неиссякаемым
терпением он отвечал, что мы уже почти у цели. Но вот, наконец, наступила
волнующая минута - мы сидели за обедом, кажется, на одиннадцатые сутки
плавания, дело было вечером, вдруг как бы ненароком он отправил матроса на
вышку, посмотреть, не видна ли суша. Последовал ответ: нет, ничего не видно,
и капитан спокойно продолжал есть, а через полчаса опять послал справиться,
и в этот раз - о чудо! - посланец увидал огонь, и нам объявили, что завтра
мы причаливаем. Я был буквально ошарашен - что за чертовщина, как можно с
точностью до получаса рассчитать, когда покажется Америка? Откуда капитану
было знать, когда матросу карабкаться на мачту? Как ему удавалось двигаться
в океане по прямой и с полным хладнокровием прибыть в нужную точку? Что за
волшебники эти капитаны, и как они творят такие чудеса с помощью нескольких
несложных с виду инструментов? Той ночью я долго ворочался на койке и все
раздумывал над тайнами координат, и что-то даже забрезжило в моем мозгу, но
впрочем, мне это, наверное, только померещилось. Когда вы видите воочию
такое диво мореходного искусства, вы прикасаетесь к божественному чуду, и
что бы мне в ответ ни говорили и ни втолковывали, моя романтическая натура
усматривает тут именно чудо.
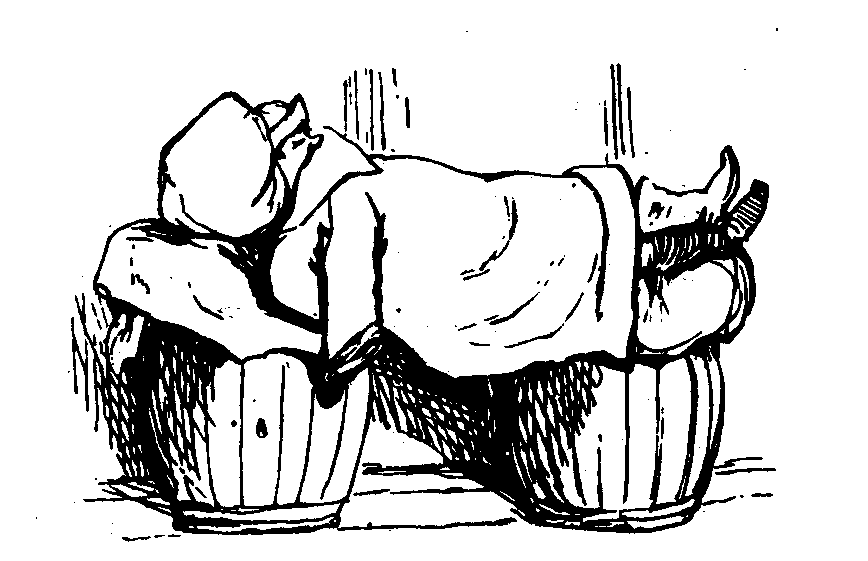 Едва мы оказались в виду земли, как все пришло в движение: недавняя
безучастность сменилась оживлением, равнодушная покорность - обостренной
чувствительностью. Мы уложили и увязали свои вещи и быстро улеглись, но не
решались спать от страха пропустить то дивное и долгожданное зрелище,
которое уже почти отчаялись увидеть. Каждому въезжающему в Америку
полагается иметь свой собственный образ страны, которую ему предстоит
узнать, но мой, сколько помню, был странно хаотичен. Калейдоскоп фактов,
выхваченных из книг и рассказов очевидцев, не складывался в сколько-нибудь
связную картину. Я ожидал увидеть и сказочное изобилие - нечто вроде земли
обетованной, где реки текут молоком и медом, и в то же время - варварский и
первозданный край дикарей и роскошной до безвкусия природы. Если вы
собираетесь в Америку, очень вас прошу, составьте список того, что вы
надеетесь там встретить, - заглянете в него, когда окажетесь на месте, - вас
еще больше поразит увиденное. Америка! Должно быть, нас завораживает само ее
название, я не встречал другой такой страны, которая вызывала бы у людей
столь противоречивые чувства. Они испытывают к ней любовь или ненависть, еще
не побывав там, дерзают прикидываться знатоками каждой пяди ее огромной
территории, ни разу не ступив туда ногой, судят решительно и, как правило,
неверно о привычках, нравах и обычаях ее обитателей, в глаза не видев никого
из них. Есть у Америки какое-то неведомое свойство, которое их побуждает
нести весь этот, в основном, враждебный вздор с большой самоуверенностью.
Возможно, секрет в ее размерах, просторы и богатство этой могучей державы
непроизвольно порождают зависть - и люди ищут повод, чтоб ее охаять.
Мне это было чуждо. Мне вовсе не хотелось ополчаться на страну и ее
общественное устройство, прежде чем я удостоюсь чести посетить ее. Если бы я
нуждался в каком-либо предостережении - поверьте, я ничуть в нем не нуждался
- мне послужил бы сигналом листок нью-йоркской газеты, прочитанной накануне
отъезда в Ливерпуле. Мой предстоящий визит расценивался в нем как
"поощряющий безмерно расплодившееся племя лекторов, которые сначала
приезжают обирать наших сограждан, а после у себя на родине высмеивают их в
памфлетах". Совершенно верно, и я не меньше автора этой отповеди презираю
подобных грубых вымогателей. Когда в то ноябрьское утро я стоял на
корабельной палубе, вытягивая шею, чтоб рассмотреть хоть что-нибудь на
берегу, я чувствовал одно лишь любопытство и ничего более. Сначала "Канада"
зашла в Галифакс, а после двинулась в Бостон, причем с такой уверенностью,
словно ее тянули на канате. Не знаю, писал ли кто-нибудь о восходе солнца
над американским побережьем как об одном из чудес света, но это в самом деле
чудо: мы поднялись на палубу, ее простые, выскобленные доски купались в
золотисто-алых лучах зари, и перед нами возникла сияющая греза. Наверное,
обитатели Галифакса считают свой город самым заурядным местом в мире, но
после трех тысяч миль морского перехода, когда лучи сверкающего солнца
зажглись в каждом стеклышке и пятнышке позолоты, он показался нам ожившей
сказкой и пламенел как небесное знамение. Я просто задохнулся от восторга, и
красота лежащей передо мной страны тронула меня до слез. Да и как, переплыв
океан, не преисполниться благоговения перед природой нашего мира? Мы
воспаряем духом просто от того, что земли, о которых мы прежде знали только
понаслышке, на самом деле существуют, и ликование переполняет грудь.
Едва мы оказались в виду земли, как все пришло в движение: недавняя
безучастность сменилась оживлением, равнодушная покорность - обостренной
чувствительностью. Мы уложили и увязали свои вещи и быстро улеглись, но не
решались спать от страха пропустить то дивное и долгожданное зрелище,
которое уже почти отчаялись увидеть. Каждому въезжающему в Америку
полагается иметь свой собственный образ страны, которую ему предстоит
узнать, но мой, сколько помню, был странно хаотичен. Калейдоскоп фактов,
выхваченных из книг и рассказов очевидцев, не складывался в сколько-нибудь
связную картину. Я ожидал увидеть и сказочное изобилие - нечто вроде земли
обетованной, где реки текут молоком и медом, и в то же время - варварский и
первозданный край дикарей и роскошной до безвкусия природы. Если вы
собираетесь в Америку, очень вас прошу, составьте список того, что вы
надеетесь там встретить, - заглянете в него, когда окажетесь на месте, - вас
еще больше поразит увиденное. Америка! Должно быть, нас завораживает само ее
название, я не встречал другой такой страны, которая вызывала бы у людей
столь противоречивые чувства. Они испытывают к ней любовь или ненависть, еще
не побывав там, дерзают прикидываться знатоками каждой пяди ее огромной
территории, ни разу не ступив туда ногой, судят решительно и, как правило,
неверно о привычках, нравах и обычаях ее обитателей, в глаза не видев никого
из них. Есть у Америки какое-то неведомое свойство, которое их побуждает
нести весь этот, в основном, враждебный вздор с большой самоуверенностью.
Возможно, секрет в ее размерах, просторы и богатство этой могучей державы
непроизвольно порождают зависть - и люди ищут повод, чтоб ее охаять.
Мне это было чуждо. Мне вовсе не хотелось ополчаться на страну и ее
общественное устройство, прежде чем я удостоюсь чести посетить ее. Если бы я
нуждался в каком-либо предостережении - поверьте, я ничуть в нем не нуждался
- мне послужил бы сигналом листок нью-йоркской газеты, прочитанной накануне
отъезда в Ливерпуле. Мой предстоящий визит расценивался в нем как
"поощряющий безмерно расплодившееся племя лекторов, которые сначала
приезжают обирать наших сограждан, а после у себя на родине высмеивают их в
памфлетах". Совершенно верно, и я не меньше автора этой отповеди презираю
подобных грубых вымогателей. Когда в то ноябрьское утро я стоял на
корабельной палубе, вытягивая шею, чтоб рассмотреть хоть что-нибудь на
берегу, я чувствовал одно лишь любопытство и ничего более. Сначала "Канада"
зашла в Галифакс, а после двинулась в Бостон, причем с такой уверенностью,
словно ее тянули на канате. Не знаю, писал ли кто-нибудь о восходе солнца
над американским побережьем как об одном из чудес света, но это в самом деле
чудо: мы поднялись на палубу, ее простые, выскобленные доски купались в
золотисто-алых лучах зари, и перед нами возникла сияющая греза. Наверное,
обитатели Галифакса считают свой город самым заурядным местом в мире, но
после трех тысяч миль морского перехода, когда лучи сверкающего солнца
зажглись в каждом стеклышке и пятнышке позолоты, он показался нам ожившей
сказкой и пламенел как небесное знамение. Я просто задохнулся от восторга, и
красота лежащей передо мной страны тронула меня до слез. Да и как, переплыв
океан, не преисполниться благоговения перед природой нашего мира? Мы
воспаряем духом просто от того, что земли, о которых мы прежде знали только
понаслышке, на самом деле существуют, и ликование переполняет грудь.
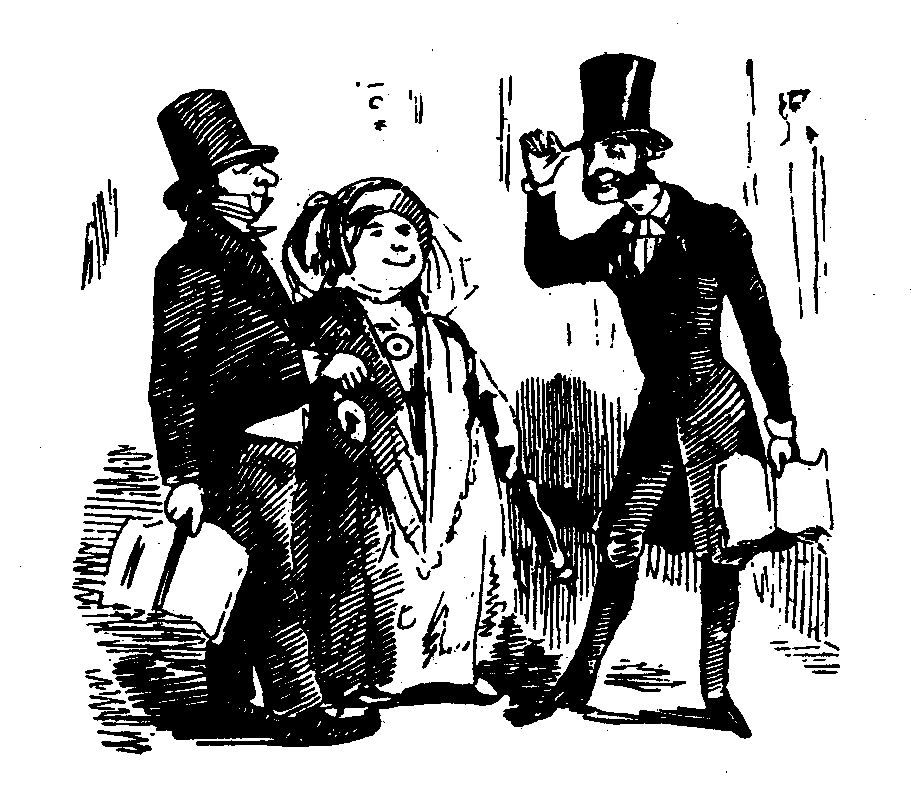 В Бостоне было пасмурно, и нам не привелось второй раз насладиться
таким же зрелищем, зато мы высадились как положено и наконец ступили на
американскую землю. Царившая в порту сутолока, пожалуй, раза в два
превосходила ливерпульскую, а может быть, мне это только померещилось, ибо
ритм корабельной жизни довел меня до сонной одури - и все вокруг, казалось,
неслось с быстротою молнии. Я только и мог, что стоять на набережной,
воззрившись на сновавших туда-сюда людей, непрестанно что-то швырявших,
толкавших, вопивших и кричавших, словно в сумасшедшем доме. На первые
впечатления полагаться не стоит, и все же когда я говорю, что Америка
ошеломила меня скоростью, я, честное слово, ничуть не преувеличиваю.
Американцы все делают в два раза быстрее, чем мы: говорят, двигаются - и
есть основания считать, что и думают. Ум англичанина не может поначалу с
этим справиться, но постепенно привыкает и начинает получать от нового темпа
удовольствие, и, наконец, встряхнувшись, его обладатель и сам начинает
шевелиться быстрее, хотя для этого ему порой приходится отказаться от
исконных жизненных привычек. Спешка не оставляет американцам времени на
излишние любезности, они не ломают комедий, на которые мы тратим столько
времени, поэтому вам не услышать в разговоре обращение "сэр" больше одного
раза, да и то скороговоркой, а что касается разных там "пожалуйста" и
"спасибо", число их также сведено до минимума. Сначала меня коробило от
такой бесцеремонности, особенно со стороны швейцаров и официантов, но после,
когда я догадался, что ее секрет - все в той же замеченной мною жажде
скорости, она мне стала нравиться. Да и в самом деле, что тут можно
возразить, и так ли уж необходимы все наши расшаркивания и хорошие манеры,
которые, по большей части, никакие не манеры, а отвратительная лесть и
лицемерие? Когда с тобой все обращаются как с равным, это действует
отрезвляюще, и вскоре я стал делать то же самое, и с удовольствием. И вот
еще что: американцы склонны все понимать буквально; помню, что, завтракая в
первый раз в Бостоне, я заказал вареные яйца, но среди множества
поставленных передо мною блюд их не было, хотя стоял бокал с чем-то
непонятным, и я поинтересовался у официанта: - А где яйца? - Да вот же они,
в рюмке! - Как, без скорлупы? - А вы не заказывали в скорлупе. Что ж,
скорлупы я в самом деле не заказывал, и вправе ли я гневаться на этого
малого, который отчитал меня как равного? Сколько я мог заметить, все здесь
действительно равны, и это еще одно мое впечатление об Америке - из самых
первых и выдержавших испытание временем. Я вовсе не хочу сказать, что тут не
различают бедных и богатых, но по обращению людей друг с другом не скажешь,
кто каков. Пожалуй, они порой заходят слишком далеко в этой своей
непринужденности - помню, мне как-то нужно было починить жилет, и я пришел к
портному, который подозвал подмастерье: - Починишь жилет этому человеку, -
и, повернувшись ко мне, бросил: - Вами займется этот джентльмен. Что вы на
это скажете? Здесь можно начать с нуля и стать миллионером или просто
богачом и принимать у себя лучшие семейства города. Как это получается? У
нас, чтоб бедный человек по-настоящему вошел в общество, должны пройти
десятилетия, и не одно поколение должно обдуманно жениться, плодиться,
стяжать особые награды. В Америке нет высшего света в нашем смысле слова,
двери его открыты для каждого, кто туда стремится, и с самого рождения ему
позволено питать самые смелые надежды. В этой обстановке и рождается та
широта взглядов, которая совершенно пьянит засушенного английского
джентльмена, привыкшего всю жизнь осторожно возвращаться на круги своя и
считать, что за деньги можно, купить роскошь, но не положение в обществе.
Пробыв в Америке неделю, я понял, что здесь нет и быть не может ярмарки
тщеславия, и очень этим восхищался.
Да я и всем здесь восхищался, от устриц до криков газетных разносчиков
- неотразимых, нахальных сорванцов с обаятельной улыбкой, что же касается
устриц, то каждая из них была величиной с тарелку и одолеть ее в один глоток
не представлялось возможным, хоть я и пытался, дабы не посрамить честь
Англии. Бостонцы превзошли себя в своем радушии, но то было лишь скромное
начало того горячего гостеприимства, которое ждало нас в каждом городе. Из
всех известных мне человечьих пород американцы - самая приветливая, в них
есть открытость и желание узнать другого, не скованное той нарочитой
сухостью, к которой мы привыкли дома. Признаюсь, однако, что неумеренный
восторг, с которым меня встречали люди совершенно незнакомые, вызывал у меня
приступы замешательства, я еле сдерживался, чтоб не отпрянуть при виде
бурных изъявлений дружеских чувств: энергичных рукопожатий и воодушевления,
написанного на лицах. Вследствие чего я постоянно опасался, что мою ответную
сдержанность - а я не больше вашего привык к подобной экспансивности -
расценят как заносчивость и чванство, и изо всех сил старался сгладить
возможное неблагоприятное впечатление повышенным вниманием к речам моих
хозяев. Недопустимо, чтоб разнеслось известие, будто Титмарш важничает. Я
ощущал себя послом своей страны - хотя, увы! никто меня им не назначал, - и
очень старался не допустить ничего такого, в чем можно было усмотреть хоть
тень неуважения. Это я с вами сейчас говорю свободно и чистосердечно, а там,
среди чужих, я тщательно следил за каждым своим словом и открывал рот лишь
для того, чтобы сказать что-нибудь лестное. Я твердо решил не поддаваться
искушению и не соваться с непрошенными приговорами, как позволяют себе
многие мои соотечественники. По-моему, это дерзость, не проведя в стране и
полугода, строчить о ней книгу. Я не собирался делать ничего подобного.
Не собирался - и отлично, то было мудрое решение, не знаю, где бы я
нашел необходимое спокойствие и тишину, не говоря уже о времени, настройся я
иначе. С той самой минуты, когда я высадился в Бостонском порту, мои дни
превратились в бесконечную череду встреч и знакомств, вечером я добирался до
кровати совершенно измочаленным и был не в силах удержать в руках перо или
книгу. Наверное, меня не чествовали так, как Диккенса, но непонятно откуда
взявшаяся армия поклонников жаждала обменяться со мной рукопожатиями,
сообщить, что знает меня по книгам и т.п. Друзья, о существовании которых я
и не подозревал, устраивали в мою честь приемы, показывали город, принимали
как дорогого гостя, так что я понемногу начал забывать, ради чего сюда
пожаловал. Невероятно трудно оказалось проявить решительность и перестать
жить так, словно я прибыл развлекаться, но меня ждал Нью-Йорк, пора было
подумать о хлебе насущном.
Я добирался туда поездом, все время изумляясь обилию читающих
пассажиров. Можно ли вообразить себе английского бакалейщика, который
ежедневно по дороге из Брайтона на Брод-стрит углубляется в Теннисона или
Браунинга, - да ни за что на свете! Он бросит взгляд в свою газету и
погрузится в дрему до конца пути. В Америке же пассажиры, независимо от
маршрута, короткого или длинного, всецело отдаются чтению, и я не мог ими не
восхищаться. Кстати сказать, на себя самого я также взирал весьма
одобрительно, ибо превратился в заправского путешественника, готового
похвастать, что ему нипочем пересечь Атлантику, и снисходительно
посмеивающегося над собственными недавними страхами перед этой самой обычной
поездкой. И если мне нетрудно было переправиться через океан, то уж
добраться до Нью-Йорка оказалось просто пустяком, только и оставалось, что
зевнуть и заявить, что это скука. Забавно, правда? Забавно, когда
невероятные события пытаются изобразить как повседневную рутину. Но все же
это трогательный вид снобизма - он трогает своей наивностью. Впрочем, я и в
самом деле был горд собой, вернее, горд тем относительным спокойствием, с
которым думал о необходимости завоевать Нью-Йорк, ибо Нью-Йорк, конечно, -
нечто ужасающее. Бостон, университетский город, подобен Кембриджу и
Оксфорду, но Нью-Йорк - типично американское явление и не похож ни на какое
иное место в мире. Я не могу сказать, что он красив, ибо это не так, и не
могу назвать ни одного архитектурного сооружения, ради которого стоило бы
сюда приехать, но в нем есть та суета и спешка, которая либо доводит вас до
одури, либо вызывает прилив сил, но безусловно заслуживает того, чтобы ее
изведать. Почти все время я чувствовал себя словно в дурмане, не знал
толком, куда иду и что делаю, не раз ловил себя на том, что встал столбом на
улице и о меня как о преграду разбивается людской поток. Я разучился
выполнять простые действия: не мог усесться в экипаж, не мог из него
выбраться - моя медлительность все превращала в непосильный труд, и, где бы
я ни оказался, напор бурливших вокруг толп доводил меня до головокружения.
Казалось, в самом нью-йоркском воздухе было разлито что-то особое - пьянящее
и нагоняющее дрему. Мне в самом деле много раз случалось слышать, будто тут
какой-то необычный воздух и европейцам нужно привыкать к нему неделями. Я
пробовал вести себя, как в каждом новом городе: бродить по улицам,
рассматривать красоты, но он не поддавался. Построен он невероятно просто и
разумно - состоит из параллельных улиц, разбитых на ровные кварталы, и в
плане больше всего напоминает старательный детский рисунок, но, кажется, в
него забыли вдохнуть душу, а если и не забыли, боюсь, мне ее не отыскать.
Итак, в нем нет души и почти нет зелени, зато каждая улица кончается видом
на реку и на какую реку! - гораздо шире Темзы, и чувствуется, что она
морской рукав. Пожалуй, мне мешала архитектурная "вневременность" Нью-Йорка:
в нем совершенно не ощущаешь постепенности застройки, и выглядит он так,
будто его кварталы готовенькими высыпали на землю. С той, правда, оговоркой,
что в городе нет ничего готового и завершенного - в Америке все не
закончено, повсюду стройки, и воздух оглашает стук молотков и визг пил. Я
постоянно себя спрашивал, где всему этому конец и успокоятся ли когда-нибудь
неугомонные американцы.
Остановился я в отеле "Кларендон" на углу 4-й авеню и 18-й стрит,
по-моему, то был самый шумный перекресток в мире, хотя сама гостиница,
уютная и тихая, мне очень нравилась. Я занимал там две отличные комнаты, но
от надежды, что мне удастся в них работать, пришлось сразу отказаться из-за
непрестанных вторжений посетителей. На лестнице, ведущей к моей двери, все
время слышались шаги; не отвлекаясь, нельзя было набросать и записки в три
строки, не говоря о чем-нибудь более серьезном. Вы думаете, я жалуюсь?
Нисколько! Вся эта беготня и суета была мне по душе, именно ее мне
недоставало, и я неустанно поздравлял себя с тем, что додумался сюда
приехать.
В конце ноября 1852 года я прочел первый цикл лекций по приглашению
Ассоциации библиотек для служащих (благодарю их от души!). Догадайтесь, что
помещалось на Бродвее под номером 548? Представьте себе - церковь, церковь -
на главной улице города. Впрочем, в Нью-Йорке нет улиц главных и неглавных,
все они выглядят одинаково - не стоит воображать себе нечто вроде лондонской
Мэлл. Я очень удивился, когда секретарь Ассоциации мистер Фелт привел меня
в, главную унитарную церковь Нью-Йорка и, указав на дубовую кафедру и
окруженный колоннами центральный неф, объяснил, что выступать я буду здесь.
Мне как-то не улыбалось зарабатывать деньги, причем немалые, в божьем храме,
но местных жителей это нисколько не смущало. Судя по всему, они не так, как
мы, относятся к церквям, не знаю, чем они при этом руководствуются, но во
время поездок по стране я не раз замечал, что церкви используются здесь для
целей, весьма далеких от религии, и часто служат чем-то вроде
административных деревенских зданий. Порой во время лекций, стоя за
церковной кафедрой, я еле сдерживался, чтоб не огласить номер очередного
псалма, и совершенно бы не удивился, если бы вся паства, простите, публика
внезапно опустилась на колени и принялась молиться. По правде говоря,
выступления в церквях отличались от всех прочих одной только особенностью:
благодаря акустике храмовых сводов мой голос обретал ту самую ласкающую
глубину и звучность, о которой я всегда мечтал, - мне бы хотелось увезти ее
с собой.
В Бостоне было пасмурно, и нам не привелось второй раз насладиться
таким же зрелищем, зато мы высадились как положено и наконец ступили на
американскую землю. Царившая в порту сутолока, пожалуй, раза в два
превосходила ливерпульскую, а может быть, мне это только померещилось, ибо
ритм корабельной жизни довел меня до сонной одури - и все вокруг, казалось,
неслось с быстротою молнии. Я только и мог, что стоять на набережной,
воззрившись на сновавших туда-сюда людей, непрестанно что-то швырявших,
толкавших, вопивших и кричавших, словно в сумасшедшем доме. На первые
впечатления полагаться не стоит, и все же когда я говорю, что Америка
ошеломила меня скоростью, я, честное слово, ничуть не преувеличиваю.
Американцы все делают в два раза быстрее, чем мы: говорят, двигаются - и
есть основания считать, что и думают. Ум англичанина не может поначалу с
этим справиться, но постепенно привыкает и начинает получать от нового темпа
удовольствие, и, наконец, встряхнувшись, его обладатель и сам начинает
шевелиться быстрее, хотя для этого ему порой приходится отказаться от
исконных жизненных привычек. Спешка не оставляет американцам времени на
излишние любезности, они не ломают комедий, на которые мы тратим столько
времени, поэтому вам не услышать в разговоре обращение "сэр" больше одного
раза, да и то скороговоркой, а что касается разных там "пожалуйста" и
"спасибо", число их также сведено до минимума. Сначала меня коробило от
такой бесцеремонности, особенно со стороны швейцаров и официантов, но после,
когда я догадался, что ее секрет - все в той же замеченной мною жажде
скорости, она мне стала нравиться. Да и в самом деле, что тут можно
возразить, и так ли уж необходимы все наши расшаркивания и хорошие манеры,
которые, по большей части, никакие не манеры, а отвратительная лесть и
лицемерие? Когда с тобой все обращаются как с равным, это действует
отрезвляюще, и вскоре я стал делать то же самое, и с удовольствием. И вот
еще что: американцы склонны все понимать буквально; помню, что, завтракая в
первый раз в Бостоне, я заказал вареные яйца, но среди множества
поставленных передо мною блюд их не было, хотя стоял бокал с чем-то
непонятным, и я поинтересовался у официанта: - А где яйца? - Да вот же они,
в рюмке! - Как, без скорлупы? - А вы не заказывали в скорлупе. Что ж,
скорлупы я в самом деле не заказывал, и вправе ли я гневаться на этого
малого, который отчитал меня как равного? Сколько я мог заметить, все здесь
действительно равны, и это еще одно мое впечатление об Америке - из самых
первых и выдержавших испытание временем. Я вовсе не хочу сказать, что тут не
различают бедных и богатых, но по обращению людей друг с другом не скажешь,
кто каков. Пожалуй, они порой заходят слишком далеко в этой своей
непринужденности - помню, мне как-то нужно было починить жилет, и я пришел к
портному, который подозвал подмастерье: - Починишь жилет этому человеку, -
и, повернувшись ко мне, бросил: - Вами займется этот джентльмен. Что вы на
это скажете? Здесь можно начать с нуля и стать миллионером или просто
богачом и принимать у себя лучшие семейства города. Как это получается? У
нас, чтоб бедный человек по-настоящему вошел в общество, должны пройти
десятилетия, и не одно поколение должно обдуманно жениться, плодиться,
стяжать особые награды. В Америке нет высшего света в нашем смысле слова,
двери его открыты для каждого, кто туда стремится, и с самого рождения ему
позволено питать самые смелые надежды. В этой обстановке и рождается та
широта взглядов, которая совершенно пьянит засушенного английского
джентльмена, привыкшего всю жизнь осторожно возвращаться на круги своя и
считать, что за деньги можно, купить роскошь, но не положение в обществе.
Пробыв в Америке неделю, я понял, что здесь нет и быть не может ярмарки
тщеславия, и очень этим восхищался.
Да я и всем здесь восхищался, от устриц до криков газетных разносчиков
- неотразимых, нахальных сорванцов с обаятельной улыбкой, что же касается
устриц, то каждая из них была величиной с тарелку и одолеть ее в один глоток
не представлялось возможным, хоть я и пытался, дабы не посрамить честь
Англии. Бостонцы превзошли себя в своем радушии, но то было лишь скромное
начало того горячего гостеприимства, которое ждало нас в каждом городе. Из
всех известных мне человечьих пород американцы - самая приветливая, в них
есть открытость и желание узнать другого, не скованное той нарочитой
сухостью, к которой мы привыкли дома. Признаюсь, однако, что неумеренный
восторг, с которым меня встречали люди совершенно незнакомые, вызывал у меня
приступы замешательства, я еле сдерживался, чтоб не отпрянуть при виде
бурных изъявлений дружеских чувств: энергичных рукопожатий и воодушевления,
написанного на лицах. Вследствие чего я постоянно опасался, что мою ответную
сдержанность - а я не больше вашего привык к подобной экспансивности -
расценят как заносчивость и чванство, и изо всех сил старался сгладить
возможное неблагоприятное впечатление повышенным вниманием к речам моих
хозяев. Недопустимо, чтоб разнеслось известие, будто Титмарш важничает. Я
ощущал себя послом своей страны - хотя, увы! никто меня им не назначал, - и
очень старался не допустить ничего такого, в чем можно было усмотреть хоть
тень неуважения. Это я с вами сейчас говорю свободно и чистосердечно, а там,
среди чужих, я тщательно следил за каждым своим словом и открывал рот лишь
для того, чтобы сказать что-нибудь лестное. Я твердо решил не поддаваться
искушению и не соваться с непрошенными приговорами, как позволяют себе
многие мои соотечественники. По-моему, это дерзость, не проведя в стране и
полугода, строчить о ней книгу. Я не собирался делать ничего подобного.
Не собирался - и отлично, то было мудрое решение, не знаю, где бы я
нашел необходимое спокойствие и тишину, не говоря уже о времени, настройся я
иначе. С той самой минуты, когда я высадился в Бостонском порту, мои дни
превратились в бесконечную череду встреч и знакомств, вечером я добирался до
кровати совершенно измочаленным и был не в силах удержать в руках перо или
книгу. Наверное, меня не чествовали так, как Диккенса, но непонятно откуда
взявшаяся армия поклонников жаждала обменяться со мной рукопожатиями,
сообщить, что знает меня по книгам и т.п. Друзья, о существовании которых я
и не подозревал, устраивали в мою честь приемы, показывали город, принимали
как дорогого гостя, так что я понемногу начал забывать, ради чего сюда
пожаловал. Невероятно трудно оказалось проявить решительность и перестать
жить так, словно я прибыл развлекаться, но меня ждал Нью-Йорк, пора было
подумать о хлебе насущном.
Я добирался туда поездом, все время изумляясь обилию читающих
пассажиров. Можно ли вообразить себе английского бакалейщика, который
ежедневно по дороге из Брайтона на Брод-стрит углубляется в Теннисона или
Браунинга, - да ни за что на свете! Он бросит взгляд в свою газету и
погрузится в дрему до конца пути. В Америке же пассажиры, независимо от
маршрута, короткого или длинного, всецело отдаются чтению, и я не мог ими не
восхищаться. Кстати сказать, на себя самого я также взирал весьма
одобрительно, ибо превратился в заправского путешественника, готового
похвастать, что ему нипочем пересечь Атлантику, и снисходительно
посмеивающегося над собственными недавними страхами перед этой самой обычной
поездкой. И если мне нетрудно было переправиться через океан, то уж
добраться до Нью-Йорка оказалось просто пустяком, только и оставалось, что
зевнуть и заявить, что это скука. Забавно, правда? Забавно, когда
невероятные события пытаются изобразить как повседневную рутину. Но все же
это трогательный вид снобизма - он трогает своей наивностью. Впрочем, я и в
самом деле был горд собой, вернее, горд тем относительным спокойствием, с
которым думал о необходимости завоевать Нью-Йорк, ибо Нью-Йорк, конечно, -
нечто ужасающее. Бостон, университетский город, подобен Кембриджу и
Оксфорду, но Нью-Йорк - типично американское явление и не похож ни на какое
иное место в мире. Я не могу сказать, что он красив, ибо это не так, и не
могу назвать ни одного архитектурного сооружения, ради которого стоило бы
сюда приехать, но в нем есть та суета и спешка, которая либо доводит вас до
одури, либо вызывает прилив сил, но безусловно заслуживает того, чтобы ее
изведать. Почти все время я чувствовал себя словно в дурмане, не знал
толком, куда иду и что делаю, не раз ловил себя на том, что встал столбом на
улице и о меня как о преграду разбивается людской поток. Я разучился
выполнять простые действия: не мог усесться в экипаж, не мог из него
выбраться - моя медлительность все превращала в непосильный труд, и, где бы
я ни оказался, напор бурливших вокруг толп доводил меня до головокружения.
Казалось, в самом нью-йоркском воздухе было разлито что-то особое - пьянящее
и нагоняющее дрему. Мне в самом деле много раз случалось слышать, будто тут
какой-то необычный воздух и европейцам нужно привыкать к нему неделями. Я
пробовал вести себя, как в каждом новом городе: бродить по улицам,
рассматривать красоты, но он не поддавался. Построен он невероятно просто и
разумно - состоит из параллельных улиц, разбитых на ровные кварталы, и в
плане больше всего напоминает старательный детский рисунок, но, кажется, в
него забыли вдохнуть душу, а если и не забыли, боюсь, мне ее не отыскать.
Итак, в нем нет души и почти нет зелени, зато каждая улица кончается видом
на реку и на какую реку! - гораздо шире Темзы, и чувствуется, что она
морской рукав. Пожалуй, мне мешала архитектурная "вневременность" Нью-Йорка:
в нем совершенно не ощущаешь постепенности застройки, и выглядит он так,
будто его кварталы готовенькими высыпали на землю. С той, правда, оговоркой,
что в городе нет ничего готового и завершенного - в Америке все не
закончено, повсюду стройки, и воздух оглашает стук молотков и визг пил. Я
постоянно себя спрашивал, где всему этому конец и успокоятся ли когда-нибудь
неугомонные американцы.
Остановился я в отеле "Кларендон" на углу 4-й авеню и 18-й стрит,
по-моему, то был самый шумный перекресток в мире, хотя сама гостиница,
уютная и тихая, мне очень нравилась. Я занимал там две отличные комнаты, но
от надежды, что мне удастся в них работать, пришлось сразу отказаться из-за
непрестанных вторжений посетителей. На лестнице, ведущей к моей двери, все
время слышались шаги; не отвлекаясь, нельзя было набросать и записки в три
строки, не говоря о чем-нибудь более серьезном. Вы думаете, я жалуюсь?
Нисколько! Вся эта беготня и суета была мне по душе, именно ее мне
недоставало, и я неустанно поздравлял себя с тем, что додумался сюда
приехать.
В конце ноября 1852 года я прочел первый цикл лекций по приглашению
Ассоциации библиотек для служащих (благодарю их от души!). Догадайтесь, что
помещалось на Бродвее под номером 548? Представьте себе - церковь, церковь -
на главной улице города. Впрочем, в Нью-Йорке нет улиц главных и неглавных,
все они выглядят одинаково - не стоит воображать себе нечто вроде лондонской
Мэлл. Я очень удивился, когда секретарь Ассоциации мистер Фелт привел меня
в, главную унитарную церковь Нью-Йорка и, указав на дубовую кафедру и
окруженный колоннами центральный неф, объяснил, что выступать я буду здесь.
Мне как-то не улыбалось зарабатывать деньги, причем немалые, в божьем храме,
но местных жителей это нисколько не смущало. Судя по всему, они не так, как
мы, относятся к церквям, не знаю, чем они при этом руководствуются, но во
время поездок по стране я не раз замечал, что церкви используются здесь для
целей, весьма далеких от религии, и часто служат чем-то вроде
административных деревенских зданий. Порой во время лекций, стоя за
церковной кафедрой, я еле сдерживался, чтоб не огласить номер очередного
псалма, и совершенно бы не удивился, если бы вся паства, простите, публика
внезапно опустилась на колени и принялась молиться. По правде говоря,
выступления в церквях отличались от всех прочих одной только особенностью:
благодаря акустике храмовых сводов мой голос обретал ту самую ласкающую
глубину и звучность, о которой я всегда мечтал, - мне бы хотелось увезти ее
с собой.
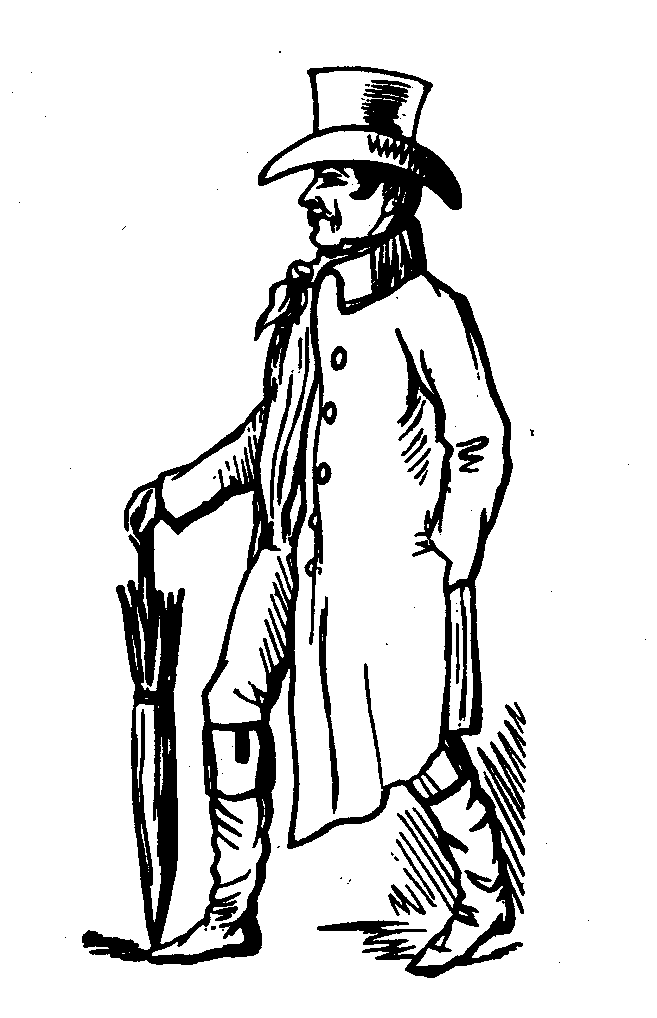 На мой взгляд, лекции пользовались успехом, хотя не все печатные
издания разделяли мою точку зрения. Спустившись к завтраку на утро после
первой лекции, я заметил, что половина присутствующих старается убрать
куда-нибудь свои газеты: в последнем номере "Нью-Йорк Гералд" была помещена
возмутительная статейка о моем вчерашнем выступлении - при ознакомлении с
оной, по мнению моих сотрапезников, ее героя должен был хватить удар.
Безосновательные опасения! По части газетной ругани я человек бывалый; и,
выбранив про себя критика, который унизился до оскорбительного тона,
посокрушавшись о потерях, которые понесет финансовая сторона дела, я
отмахнулся от всех этих выпадов, поскольку знал, что сотни вчерашних моих
слушателей, делясь впечатлениями со знакомыми, разоблачат стряпню газетных
писак. К тому же, я утешался, читая хвалебные рецензии. Как-то так
получилось - заметьте, это всегда так получается, - что в моих бумагах нет
ни одного экземпляра того ругательного отзыва (если вы случайно им
располагаете, прошу вас, не трудитесь присылать его), зато осталась отлично
сохранившаяся вырезка из "Нью-Йорк Ивнинг Пост". Прошу вас с нею
ознакомиться:
"Как заметил некий джентльмен, присутствовавший на вчерашней лекции
мистера Теккерея, случись зданию, в котором она проходила, рухнуть и
погрести под собой сидевших в зале слушателей, НьюЙорк в интеллектуальном
отношении оказался бы отброшен на полстолетия назад... Для всех собравшихся
то был наиболее приятный час в их жизни. Оратор обладает превосходной
дикцией... его великолепный тенор..."
Пожалуй, хватит. В моем почтенном возрасте негоже утешаться выцветшими
от времени комплиментами, но мне хотелось показать вам, что слушатели были
мной довольны и - что более важно - просили продолжения.
Америка вернула мне вкус к жизни, и я не знал, за что бы еще приняться,
чтоб дать выход вновь пробудившимся жизненным силам. Подавленный, подчас
больной, я месяцами писал, выступал с лекциями и так привык превозмогать
себя и выполнять весь круг ежедневных обязанностей, что теперь, исполнившись
сил и здоровья, не знал, как себя занять, мне было недостаточно моих обычных
дел. Утром я вставал, отправлялся с визитами, расхаживал по городу и, словно
животное, с трудом выбравшееся из-под земли на поверхность и опьяненное
свежим воздухом, жадно к нему принюхивался. Все приводило меня в восторг. Я
глазел на металлического дельфина - фонтанчик, из которого за три цента
можно было наполнить стакан газированной водой, на блещущие сталью крыши,
доходившие до самого горизонта, со стороны, наверное, казалось, будто я
только что приехал из какой-нибудь глухомани. Вскоре я стал неотъемлемой
принадлежностью Бродвея, вернее, того его очень оживленного отрезка в две с
половиной мили, где в свободное от дел время постоянно расхаживал в поисках
чего-нибудь любопытного или забавного. Не думайте, что дела мне лишь
пригрезились - они у меня и вправду были: я встретился с издателем Харпером
и разными другими людьми в надежде уладить наши споры об авторских правах.
Вы, должно быть, знаете, что американцы способны присвоить любую нашу книгу
и выпустить пиратское издание, не спрашивая согласия автора. Как раз когда я
был в Америке, они не только именно так и поступили с "Эсмондом", пустив
его, к моей досаде, по 50 центов за экземпляр, но и набрали дешевым шрифтом,
вместо того чтобы в соответствии с авторским замыслом стилизовать под
издания времен королевы Анны.
Как бы то ни было, меня снедало нетерпение и ожидание чего-то важного:
сегодня мне предстоит новое волнующее дело, говорил я себе каждый день,
словно само пребывание в Америке не было достаточно волнующим переживанием.
Я спрашивал себя, на всех ли этот край действует подобным образом или так
проявляется мой истинный характер, и, может быть, я и всегда кипел бы
энергией, если бы все в жизни шло, как мне того хотелось. Меня и самого
невероятно удивляла собственная бодрость и хорошее настроение, я изумлялся
глядевшему на меня из зеркал оживленному лицу, впрочем, с седыми, как и
прежде, волосами. Короче говоря, лекции отнюдь не поглощали всех моих сил,
не столько физических, сколько душевных, и, озираясь по сторонам, я искал
какой-нибудь новой точки приложения, чтобы отдать ей все свое внимание и
обрести в ней цель для бродивших во мне неназванных желаний.
На мой взгляд, лекции пользовались успехом, хотя не все печатные
издания разделяли мою точку зрения. Спустившись к завтраку на утро после
первой лекции, я заметил, что половина присутствующих старается убрать
куда-нибудь свои газеты: в последнем номере "Нью-Йорк Гералд" была помещена
возмутительная статейка о моем вчерашнем выступлении - при ознакомлении с
оной, по мнению моих сотрапезников, ее героя должен был хватить удар.
Безосновательные опасения! По части газетной ругани я человек бывалый; и,
выбранив про себя критика, который унизился до оскорбительного тона,
посокрушавшись о потерях, которые понесет финансовая сторона дела, я
отмахнулся от всех этих выпадов, поскольку знал, что сотни вчерашних моих
слушателей, делясь впечатлениями со знакомыми, разоблачат стряпню газетных
писак. К тому же, я утешался, читая хвалебные рецензии. Как-то так
получилось - заметьте, это всегда так получается, - что в моих бумагах нет
ни одного экземпляра того ругательного отзыва (если вы случайно им
располагаете, прошу вас, не трудитесь присылать его), зато осталась отлично
сохранившаяся вырезка из "Нью-Йорк Ивнинг Пост". Прошу вас с нею
ознакомиться:
"Как заметил некий джентльмен, присутствовавший на вчерашней лекции
мистера Теккерея, случись зданию, в котором она проходила, рухнуть и
погрести под собой сидевших в зале слушателей, НьюЙорк в интеллектуальном
отношении оказался бы отброшен на полстолетия назад... Для всех собравшихся
то был наиболее приятный час в их жизни. Оратор обладает превосходной
дикцией... его великолепный тенор..."
Пожалуй, хватит. В моем почтенном возрасте негоже утешаться выцветшими
от времени комплиментами, но мне хотелось показать вам, что слушатели были
мной довольны и - что более важно - просили продолжения.
Америка вернула мне вкус к жизни, и я не знал, за что бы еще приняться,
чтоб дать выход вновь пробудившимся жизненным силам. Подавленный, подчас
больной, я месяцами писал, выступал с лекциями и так привык превозмогать
себя и выполнять весь круг ежедневных обязанностей, что теперь, исполнившись
сил и здоровья, не знал, как себя занять, мне было недостаточно моих обычных
дел. Утром я вставал, отправлялся с визитами, расхаживал по городу и, словно
животное, с трудом выбравшееся из-под земли на поверхность и опьяненное
свежим воздухом, жадно к нему принюхивался. Все приводило меня в восторг. Я
глазел на металлического дельфина - фонтанчик, из которого за три цента
можно было наполнить стакан газированной водой, на блещущие сталью крыши,
доходившие до самого горизонта, со стороны, наверное, казалось, будто я
только что приехал из какой-нибудь глухомани. Вскоре я стал неотъемлемой
принадлежностью Бродвея, вернее, того его очень оживленного отрезка в две с
половиной мили, где в свободное от дел время постоянно расхаживал в поисках
чего-нибудь любопытного или забавного. Не думайте, что дела мне лишь
пригрезились - они у меня и вправду были: я встретился с издателем Харпером
и разными другими людьми в надежде уладить наши споры об авторских правах.
Вы, должно быть, знаете, что американцы способны присвоить любую нашу книгу
и выпустить пиратское издание, не спрашивая согласия автора. Как раз когда я
был в Америке, они не только именно так и поступили с "Эсмондом", пустив
его, к моей досаде, по 50 центов за экземпляр, но и набрали дешевым шрифтом,
вместо того чтобы в соответствии с авторским замыслом стилизовать под
издания времен королевы Анны.
Как бы то ни было, меня снедало нетерпение и ожидание чего-то важного:
сегодня мне предстоит новое волнующее дело, говорил я себе каждый день,
словно само пребывание в Америке не было достаточно волнующим переживанием.
Я спрашивал себя, на всех ли этот край действует подобным образом или так
проявляется мой истинный характер, и, может быть, я и всегда кипел бы
энергией, если бы все в жизни шло, как мне того хотелось. Меня и самого
невероятно удивляла собственная бодрость и хорошее настроение, я изумлялся
глядевшему на меня из зеркал оживленному лицу, впрочем, с седыми, как и
прежде, волосами. Короче говоря, лекции отнюдь не поглощали всех моих сил,
не столько физических, сколько душевных, и, озираясь по сторонам, я искал
какой-нибудь новой точки приложения, чтобы отдать ей все свое внимание и
обрести в ней цель для бродивших во мне неназванных желаний.
 Сам я навряд ли отыскал бы такую цель, но мне помогли другие,
представившие меня семейству неких Бакстеров. Как видите, мне не пришлось
карабкаться на Эверест или спускаться по Ниагарскому водопаду, оказалось
довольно познакомиться с еще одной семьей, чтобы ощутить покой и душевную
ублаготворенность. Я и в самом деле очень соскучился по дружбе, особенно -
по женской, неловко, правда, говорить об этом вслух. Ну вот, вам тотчас
стало любопытно, из кого же состояла семья Бакстеров, которую я осторожно
помянул как единое целое. Сейчас я вам их всех представлю: глава семьи -
папаша Бакстер, прекрасный малый, с которым меня, собственно, и познакомили:
его жена - очаровательная мамаша Бакстер, к которой меня тут же отвели; их
маленькие дочки - прелестные создания; юный Бакстер - в семье, помнится, был
только один наследник (но кто обращает внимание на мальчишек?) и, наконец,
еще одна юная особа по имени Салли.
Восемнадцатилетняя Салли Бакстер была самым обворожительным и
своенравным существом на свете. Мне показалось, что я встретил Беатрису
Эсмонд и тотчас подарил ей свое сердце. Увидев ее, я сразу понял, что обрел
ту вожделенную цель, которую искал. Больше я не слонялся бесцельно по
Нью-Йорку, ноги сами меня несли на Вторую авеню к дому под названием
"Браун-хаус", где мне всегда были рады и встречали с тем радушием и участием
- в излюбленных мной максимальных дозах, - без которого я не умел
существовать. Я больше не был одинок.
Итак, позвольте рассказать о Салли Бакстер; правда, испортив заранее
историю, предупрежу, что Салли уже нет в живых. Как и почему она умерла, об
этом сейчас не стоит говорить, но само печальное событие я не вправе утаить
- оно придает особую окраску всему, что я собираюсь сказать дальше. Когда
нас покидает молодой и подававший надежды человек, наше сознание заключает
его образ в рамку - и он навсегда остается таким, каким мы его увидели
впервые; превратись Салли в дебелую матрону с выводком детей, вцепившихся ей
в юбку, ее черты, должно быть, не сияли бы так ярко в моей памяти. Смерть в
этом смысле великодушна: на траурном фоне я лучше различаю облик Салли,
какой она была зимой 1852, а стоит ей залиться смехом или улыбнуться чуть
язвительно, и меня пронзает боль утраты, хотя Салли никогда мне не
принадлежала, да и вряд ли могла бы принадлежать. Напрасные надежды,
несостоявшаяся любовь, - утерянные возможности! - мой вам совет, не
упускайте их из страха перед условностями и обычаями вашего времени. Как же
я любил тебя, Салли Бакстер, но потерял тебя, ибо был робок, медлителен, не
верил в свои силы, боялся ответственности, а главное - оказался слаб и
недостоин.
Прошу простить мою невольную сентиментальность, сейчас я откашляюсь и
буду продолжать. Салли Бакстер была американской девушкой - наблюдение хоть
и не новое, но важное, ибо из него следует, что она ничуть не походила на
моих юных соотечественниц. Американки - совсем особая порода. Им дарована
такая свобода и самостоятельность, какая и не снилась их сверстницам в
Англии, она их превращает в совершенно независимые существа, чье поведение
порой граничит с дерзостью. В обществе им позволено говорить что в голову
взбредет, перебивать старших, не соглашаться с опытными и знающими людьми,
но если вы решили, что они развязны и бесцеремонны, то ошиблись - уверяю
вас, это вовсе не так. Напротив, именно своеволие, на которое сквозь пальцы
смотрят окружающие, придает американской девушке особую притягательность. Ее
не выращивают в тесной клетке, превратившей в безжизненных восковых кукол
миллион других девушек, но дают сформироваться как самостоятельной и
заслуживающей уважения личности. Если английских барышень приходится долго
уламывать и чуть не клещами вытягивать из них слова, то здешние юные леди, в
соответствии с уже известным нам американским принципом экономии времени,
буквально врываются в разговор, бряцая аргументами. Услышав это в первый
раз, я просто задохнулся от неожиданности и стал оглядываться по сторонам -
на батюшку и матушку Салли, полагая, что они сейчас одернут молодую леди и
выговорят ей за несдержанность, но, заметив игравшую на их лицах
одобрительную улыбку, превозмог свое замешательство, махнул рукой на этикет
и стал наслаждаться беседами с Салли. Я говорил с ней обо всем на свете и
вскоре привык, что мое просвещенное мнение может быть оспорено, высмеяно и
отвергнуто с такой решительностью, какой я не встречал нигде и никогда.
Подобного я в самом деле не встречал: Изабелла во всем со мной соглашалась,
ну, а Джейн - Джейн была слишком серьезна и умна, чтобы позволить себе такую
категоричность. Я вовсе не собираюсь сравнивать всех этих женщин, это было
бы и бестактно, и бессмысленно, но Салли и впрямь была единственной в своем
роде, - надеюсь, вы понимаете, что говорю я это не для того, чтобы
кого-нибудь унизить, - я на такое не способен.
Сам я навряд ли отыскал бы такую цель, но мне помогли другие,
представившие меня семейству неких Бакстеров. Как видите, мне не пришлось
карабкаться на Эверест или спускаться по Ниагарскому водопаду, оказалось
довольно познакомиться с еще одной семьей, чтобы ощутить покой и душевную
ублаготворенность. Я и в самом деле очень соскучился по дружбе, особенно -
по женской, неловко, правда, говорить об этом вслух. Ну вот, вам тотчас
стало любопытно, из кого же состояла семья Бакстеров, которую я осторожно
помянул как единое целое. Сейчас я вам их всех представлю: глава семьи -
папаша Бакстер, прекрасный малый, с которым меня, собственно, и познакомили:
его жена - очаровательная мамаша Бакстер, к которой меня тут же отвели; их
маленькие дочки - прелестные создания; юный Бакстер - в семье, помнится, был
только один наследник (но кто обращает внимание на мальчишек?) и, наконец,
еще одна юная особа по имени Салли.
Восемнадцатилетняя Салли Бакстер была самым обворожительным и
своенравным существом на свете. Мне показалось, что я встретил Беатрису
Эсмонд и тотчас подарил ей свое сердце. Увидев ее, я сразу понял, что обрел
ту вожделенную цель, которую искал. Больше я не слонялся бесцельно по
Нью-Йорку, ноги сами меня несли на Вторую авеню к дому под названием
"Браун-хаус", где мне всегда были рады и встречали с тем радушием и участием
- в излюбленных мной максимальных дозах, - без которого я не умел
существовать. Я больше не был одинок.
Итак, позвольте рассказать о Салли Бакстер; правда, испортив заранее
историю, предупрежу, что Салли уже нет в живых. Как и почему она умерла, об
этом сейчас не стоит говорить, но само печальное событие я не вправе утаить
- оно придает особую окраску всему, что я собираюсь сказать дальше. Когда
нас покидает молодой и подававший надежды человек, наше сознание заключает
его образ в рамку - и он навсегда остается таким, каким мы его увидели
впервые; превратись Салли в дебелую матрону с выводком детей, вцепившихся ей
в юбку, ее черты, должно быть, не сияли бы так ярко в моей памяти. Смерть в
этом смысле великодушна: на траурном фоне я лучше различаю облик Салли,
какой она была зимой 1852, а стоит ей залиться смехом или улыбнуться чуть
язвительно, и меня пронзает боль утраты, хотя Салли никогда мне не
принадлежала, да и вряд ли могла бы принадлежать. Напрасные надежды,
несостоявшаяся любовь, - утерянные возможности! - мой вам совет, не
упускайте их из страха перед условностями и обычаями вашего времени. Как же
я любил тебя, Салли Бакстер, но потерял тебя, ибо был робок, медлителен, не
верил в свои силы, боялся ответственности, а главное - оказался слаб и
недостоин.
Прошу простить мою невольную сентиментальность, сейчас я откашляюсь и
буду продолжать. Салли Бакстер была американской девушкой - наблюдение хоть
и не новое, но важное, ибо из него следует, что она ничуть не походила на
моих юных соотечественниц. Американки - совсем особая порода. Им дарована
такая свобода и самостоятельность, какая и не снилась их сверстницам в
Англии, она их превращает в совершенно независимые существа, чье поведение
порой граничит с дерзостью. В обществе им позволено говорить что в голову
взбредет, перебивать старших, не соглашаться с опытными и знающими людьми,
но если вы решили, что они развязны и бесцеремонны, то ошиблись - уверяю
вас, это вовсе не так. Напротив, именно своеволие, на которое сквозь пальцы
смотрят окружающие, придает американской девушке особую притягательность. Ее
не выращивают в тесной клетке, превратившей в безжизненных восковых кукол
миллион других девушек, но дают сформироваться как самостоятельной и
заслуживающей уважения личности. Если английских барышень приходится долго
уламывать и чуть не клещами вытягивать из них слова, то здешние юные леди, в
соответствии с уже известным нам американским принципом экономии времени,
буквально врываются в разговор, бряцая аргументами. Услышав это в первый
раз, я просто задохнулся от неожиданности и стал оглядываться по сторонам -
на батюшку и матушку Салли, полагая, что они сейчас одернут молодую леди и
выговорят ей за несдержанность, но, заметив игравшую на их лицах
одобрительную улыбку, превозмог свое замешательство, махнул рукой на этикет
и стал наслаждаться беседами с Салли. Я говорил с ней обо всем на свете и
вскоре привык, что мое просвещенное мнение может быть оспорено, высмеяно и
отвергнуто с такой решительностью, какой я не встречал нигде и никогда.
Подобного я в самом деле не встречал: Изабелла во всем со мной соглашалась,
ну, а Джейн - Джейн была слишком серьезна и умна, чтобы позволить себе такую
категоричность. Я вовсе не собираюсь сравнивать всех этих женщин, это было
бы и бестактно, и бессмысленно, но Салли и впрямь была единственной в своем
роде, - надеюсь, вы понимаете, что говорю я это не для того, чтобы
кого-нибудь унизить, - я на такое не способен.
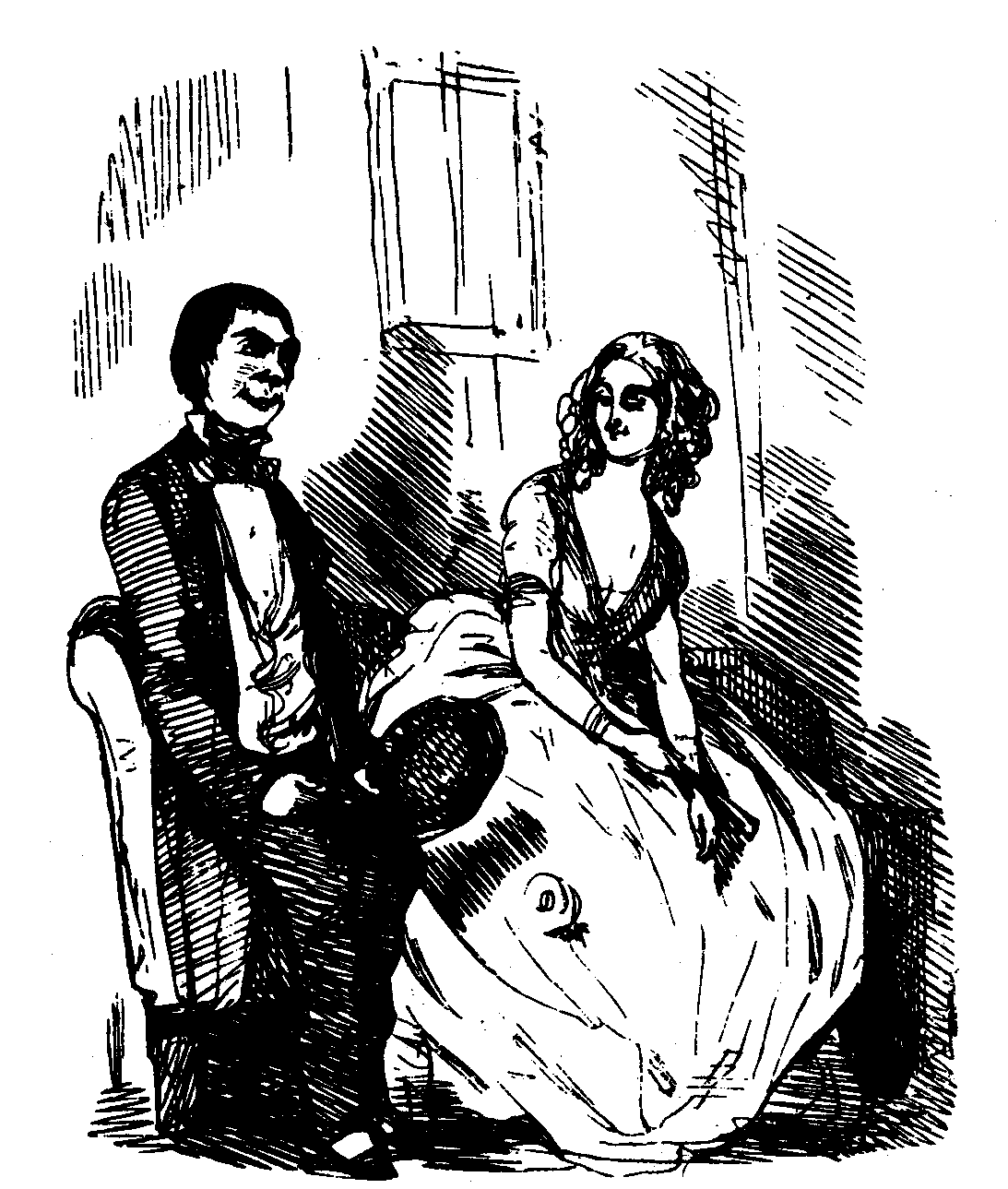 Надеюсь также, вы не подумали, будто рассказчик позабыл о своем
возрасте. Никак нет, не позабыл - отлично помнил, что ему исполнился сорок
один год, - и потому прибегнул к следующей; уловке, которую находил весьма
разумной, - возможно, вы его одобрите. Я, так сказать, прибил свой флаг
гвоздями к мачте, демонстративно приглашая окружающих наблюдать за моими
ухаживаниями. Я не скрывал того, что обожаю Салли, я заявил ей это в
присутствии всех Бакстеров, ясно дав понять, что в ней заключена главная
причина моих посещений "Браун-хауса". Я говорил направо и налево, что Салли
- самая очаровательная девушка на свете и, того и гляди, разобьет мое
усталое старое сердце (делая при этом особый упор на слове "старое"). Мистер
Бакстер в ответ лишь улыбался, ничуть не озаботясь моим заявлением, миссис
Бакстер тоже тепло мне улыбалась, а молодая поросль встретила мои слова
смехом и криками "ура" в честь старшей сестрицы. Согласитесь, публичное
выражение истинных чувств - это совсем неглупо, и все наверняка сочли, что
чувства эти несерьезны. Начни кто-нибудь сплетничать, что Теккерей всерьез
увлекся девицей Бакстер, ее родные тотчас бы воскликнули: "Ну как же,
знаем-знаем, он сам нам объявил, что по уши влюбился в нашу Салли,
предупредил, чтоб мы следили в оба!" - и тут же всякие подозрения рассеялись
бы как дым. То был поистине макиавеллиев ход, я был горд своей стратегией и
дальновидностью. Правда, в моей душе звучал тоненький голосок: "Ты можешь
провести кого угодно, только не меня". На свой лад, я и в самом деле влюблен
был в Салли Бакстер, это и повергло меня в панику, потому я так и держался,
что хотел предостеречь других не меньше, чем самого себя. Наверное, не
слишком благородно в этом признаваться, но кажется, я полюбил не столько
девушку, сколько ее облик, звучание голоса. Правду сказать, я никогда не
питал слабости к кипучим, бурным натурам, но к Салли меня притягивала ее
пылкость и юность, это несомненно. Мне нравилось следить за каждым ее
жестом, особенно на удивлявших меня американских балах, куда она, как и все
прочие особы ее пола, являлась в тщательно обдуманных и очень ярких
туалетах, - в Европе их нашли бы крикливыми, излишне смелыми и вульгарными,
но по эту сторону Атлантики они выглядели вполне уместно и радовали взор. Ее
наряд, прическа, легкость, с какой она кружилась в танце, смех - все в ней
меня пленяло. Однако когда я сел писать ей из Бостона, оказалось, что не
знаю, к кому обращаюсь, - ею можно было восхищаться, припоминать с
невероятной ясностью каждую ее черточку, но не иметь понятия, что она за
человек. Мы очень много разговаривали, но всегда на людях и по-светски - не
раскрывая друг другу душу: это было бы чересчур серьезно. Мы обменивались
впечатлениями, делились взглядами, не более того, и, честно говоря, - этим
все и ограничивалось, я не был уверен в своих чувствах к Салли. Я громко
заявлял, что как только на горизонте объявится какой-нибудь Томкинс,
претендующий на ее руку и сердце, я тихо скроюсь из виду, но про себя решал,
принадлежу ли я сам к разряду Томкинсов. Сорокалетние мужчины не раз
женились на восемнадцатилетних девушках, порой вполне удачно, отчего бы не
попытать счастья и вашему покорному слуге?
Надеюсь также, вы не подумали, будто рассказчик позабыл о своем
возрасте. Никак нет, не позабыл - отлично помнил, что ему исполнился сорок
один год, - и потому прибегнул к следующей; уловке, которую находил весьма
разумной, - возможно, вы его одобрите. Я, так сказать, прибил свой флаг
гвоздями к мачте, демонстративно приглашая окружающих наблюдать за моими
ухаживаниями. Я не скрывал того, что обожаю Салли, я заявил ей это в
присутствии всех Бакстеров, ясно дав понять, что в ней заключена главная
причина моих посещений "Браун-хауса". Я говорил направо и налево, что Салли
- самая очаровательная девушка на свете и, того и гляди, разобьет мое
усталое старое сердце (делая при этом особый упор на слове "старое"). Мистер
Бакстер в ответ лишь улыбался, ничуть не озаботясь моим заявлением, миссис
Бакстер тоже тепло мне улыбалась, а молодая поросль встретила мои слова
смехом и криками "ура" в честь старшей сестрицы. Согласитесь, публичное
выражение истинных чувств - это совсем неглупо, и все наверняка сочли, что
чувства эти несерьезны. Начни кто-нибудь сплетничать, что Теккерей всерьез
увлекся девицей Бакстер, ее родные тотчас бы воскликнули: "Ну как же,
знаем-знаем, он сам нам объявил, что по уши влюбился в нашу Салли,
предупредил, чтоб мы следили в оба!" - и тут же всякие подозрения рассеялись
бы как дым. То был поистине макиавеллиев ход, я был горд своей стратегией и
дальновидностью. Правда, в моей душе звучал тоненький голосок: "Ты можешь
провести кого угодно, только не меня". На свой лад, я и в самом деле влюблен
был в Салли Бакстер, это и повергло меня в панику, потому я так и держался,
что хотел предостеречь других не меньше, чем самого себя. Наверное, не
слишком благородно в этом признаваться, но кажется, я полюбил не столько
девушку, сколько ее облик, звучание голоса. Правду сказать, я никогда не
питал слабости к кипучим, бурным натурам, но к Салли меня притягивала ее
пылкость и юность, это несомненно. Мне нравилось следить за каждым ее
жестом, особенно на удивлявших меня американских балах, куда она, как и все
прочие особы ее пола, являлась в тщательно обдуманных и очень ярких
туалетах, - в Европе их нашли бы крикливыми, излишне смелыми и вульгарными,
но по эту сторону Атлантики они выглядели вполне уместно и радовали взор. Ее
наряд, прическа, легкость, с какой она кружилась в танце, смех - все в ней
меня пленяло. Однако когда я сел писать ей из Бостона, оказалось, что не
знаю, к кому обращаюсь, - ею можно было восхищаться, припоминать с
невероятной ясностью каждую ее черточку, но не иметь понятия, что она за
человек. Мы очень много разговаривали, но всегда на людях и по-светски - не
раскрывая друг другу душу: это было бы чересчур серьезно. Мы обменивались
впечатлениями, делились взглядами, не более того, и, честно говоря, - этим
все и ограничивалось, я не был уверен в своих чувствах к Салли. Я громко
заявлял, что как только на горизонте объявится какой-нибудь Томкинс,
претендующий на ее руку и сердце, я тихо скроюсь из виду, но про себя решал,
принадлежу ли я сам к разряду Томкинсов. Сорокалетние мужчины не раз
женились на восемнадцатилетних девушках, порой вполне удачно, отчего бы не
попытать счастья и вашему покорному слуге?
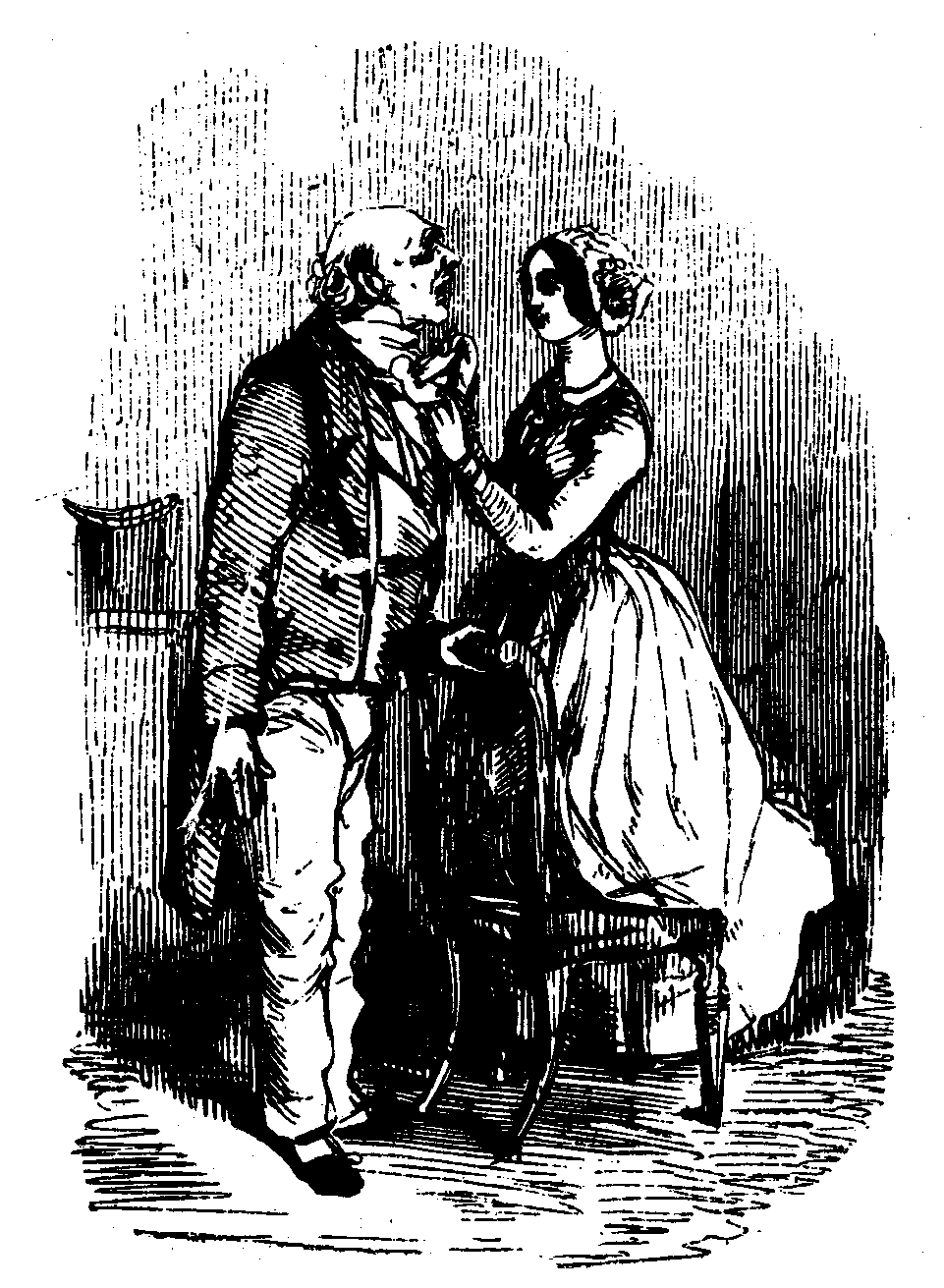 С этими мыслями я и вернулся в Бостон читать лекции. Ехать из Бостона в
Нью-Йорк, а потом назад, что за бессмысленная трата сил! Однако в Америке
все начинается с Нью-Йорка - необходимо получить его благословение, после
чего можно отправляться дальше. Раз я начал с Нью-Йорка и начал успешно,
значит, меня хотели услышать и в других частях страны - я мог рассчитывать
на приглашения. Как бы то ни было, сам я ничуть не возражал против того,
чтоб, побывав в Нью-Йорке, опять попасть в Бостон и познакомиться с ним
поближе. Здесь было приятно в канун рождества: очень снежно, чистый воздух,
здоровая, почти деревенская обстановка. Порой казалось, что я снова в
Англии, - так мне ее напоминали здешние пейзажи. Друзья частенько
подтрунивали над моими восторгами: я то и дело удивлялся цивилизованному
виду города, который - легко было предвидеть - за двести с лишком лет,
прошедших со дня его основания, утратил сходство с лагерем переселенцев,
однако я никак не ожидал, что он так далеко продвинулся по этому пути. Я не
нашел здесь ничего недавно сделанного, временного, грубо сколоченного -
боюсь, я готов был все это тут увидеть. Не предполагал я и того, что местная
флора до такой степени повторяет нашу островную, хотя, конечно, знал, что
поселенцы назвали эту часть страны Новой Англией не только потому, что сами
приехали из Англии. Короче говоря, я не обнаружил в Бостоне ничего
заморского, и меня это едва ли не разочаровало.
Рождество 1852 года я встретил, тоскуя по дому, хотя со всех сторон был
окружен заботами и попечениями. Снег за окном приятно все преобразил;
катаясь на санях и наблюдая, как детвора на всем подряд съезжает с гор, я
сокрушался, что со мною нет Анни и Минни, и дал себе слово, что в следующее
рождество мы будем вместе и повеселимся на славу (рад доложить, что слово я
сдержал). Я думал и о Салли и писал ей, но, большей частью, рвал написанное
- никак не мог найти верную интонацию (как вы заметили, я неизменно рву свои
послания, когда пишу любимым), все время получалось чуть более интимно, чуть
более сентиментально, чем хотелось бы, и оттого казалось глупо. В конце
концов, письмо, которое я все же отослал ей, почти целиком состояло из
объяснения, почему я не писал ей раньше, и, в самом деле, вышло довольно
нелепым. По-моему, она мне не ответила, во всяком случае, не ответила ничем,
достойным упоминания.
Но это не слишком меня заботило. Скорей, я радовался своему любовному
страданию, ибо еще недавно опасался, что отмахнусь от самой Венеры, случись
ей выступить из волн и поманить меня к себе. Я тешился сознанием, что
влюблен, прекрасно понимая, что мое новое чувство мало напоминает недавнюю
испепеляющую страсть. Кажется, недостаток слушателей на лекциях задевал меня
больнее, чем отсутствие вестей от Салли, и судьбу своего заработка я
принимал гораздо ближе к сердцу, чем любовные дела. Народу ходило мало,
отчасти это объяснялось плохой погодой: снег удерживал людей дома, по
крайней мере, тех, которые обычно любят меня слушать, - дам и старых
чудаков. Мне понравилась начитанная бостонская публика, но в целом я нашел
ее гораздо более чинной и важной, чем в других городах, - завоевать ее было
не так-то просто, В Бостоне есть высшее общество, которым здесь гордятся и
не спешат пускать в него посторонних, даже в лице бедного лектора,
сочинившего на досуге несколько книг. К началу года мне стало ясно: если я
надеюсь зарабатывать деньги с той же ошеломляющей скоростью, что и в
Нью-Йорке, мне нужно поездить по стране, а не сидеть из робости и лени в
таких общедоступных городах, как Бостон и Нью-Йорк. Я радовался своему
решению - боялся упустить многое из того, что мне могла дать Америка, и
удовольствоваться лишь краешком большого пирога, а это было бы изрядной
потерей. Гораздо лучше было путешествовать, своими глазами увидеть разные
места и убедиться в бескрайности ее просторов. Сидя в Бостоне или Нью-Йорке,
нельзя вообразить, как велика Америка; восточный берег, куда причаливают
европейские суда, играет роль приманки и сбивает с толку путешественника,
превратно представляющего себе край, в который приехал, и, лишь отправившись
на юг или на запад, он избавляется от впечатления, что все тут в точности
как дома. Бостонцы, не захотевшие покинуть для меня своих каминов, оказали
мне гораздо большую услугу, чем собирались.
В начале января 1853 года я весело сложил вещи и с легким сердцем, без
тени досады сел в поезд, идущий в Филадельфию. Мне хочется воспользоваться
оставшимся до отправления временем, чтобы сказать похвальное слово железным
дорогам. Если б не они, я никогда бы не отважился пуститься через всю
Америку, ведь здешние расстояния огромны, и будь я ограничен скоростью
кареты, я не сумел бы посмотреть и четверти того, что увидал за несколько
недель. Короче говоря, благодарность моя этому виду транспорта безмерна и
долг неоплатен, к тому же, я люблю его удобства - люблю за то, что в вагоне
можно свободно сидеть, подняться, сделать шаг-другой по коридору, за то, что
при огромной скорости передвижения я не утомляю ни людей, ни животных.
Ритмичная и ровная езда в попыхивающем поезде настраивает нас на философский
лад, и в нем нам не страшны стихии, хотя мне раза два случалось попадать в
снежные заносы. Мне нравится уединение, которое дарует мне вагон, и вместе с
тем - соседство других людей, с которыми совсем необязательно вступать в
общение - не то что на корабле или в дилижансе. Нравится, что я могу в нем
есть или читать с немалой степенью комфорта, мне по душе зов паровозного
свистка, клубы пара, проносящиеся за окном, и ровный путь - без рытвин, ям и
других дорожных опасностей; нравится, что я не ограничен в багаже и могу
взять столько вещей, сколько мне заблагорассудится, но больше всего я
радуюсь чувству легкости: без всяких усилий, если не считать усилий паровой
машины, мы мчимся по стальным путям, и я их от всей души приветствую.
Кстати, знаете ли вы, что, несмотря на весь мой энтузиазм, одна из самых
неудачных финансовых спекуляций была у меня связана с железными дорогами?
Ну, не станем в это углубляться, филадельфийский поезд трогается,
пожалуйста, не стойте у ступенек!
^T15^U
^TЗаметки о нежных чувствах^U
Помню, как, отправившись, наконец, на юг, я грустил о том, что поезд
все дальше уносит меня от дома, и мучился мыслью, что теперь, покинув север,
теряю связь с судами, привозящими новости из Англии. Вам это, наверное,
смешно: стоит ли горевать о нескольких лишних сотнях миль, и без того
находясь за тридевять земель от Европы? Но я остро ощущал, что рву
единственную связывающую меня с нею нить, и очень не желал того. Пока я был
в Нью-Йорке и Бостоне, письма от матушки и девочек приходили довольно
регулярно, но после, когда я стал ездить по стране, их посылали вдогонку,
порою они меня не заставали, и тогда я порядком изводил себя, воображая
всяческие ужасы и внушая себе, что я забыт и никому не нужен. Когда вы на
чужбине, письма из дому - неоценимая радость, довольно вида почтовой марки
на конверте, чтобы вызвать сердцебиение у истосковавшегося по дому
путешественника, а как истрепываются по краям листки, которые он вновь и
вновь вытаскивает и перечитывает, они вызывают в памяти стол, за которым их
написали, почтовый ящик, в который их бросили, и все эти знакомые картины
пронзают сердце болью. Письма издалека не так волнуют того, кто остался
дома, - о да, они, конечно, будоражат, рассказывают о неведомом, но ничего
не напоминают (разве что вы сами бывали в тех краях), и как ни развито ваше
воображение, оно не усадит вас рядом с писавшим на чужбине. Письма из дому
громко и явственно зовут вас вернуться - порой я закрывал руками уши, чтобы
не слышать их призыва.
С этими мыслями я и вернулся в Бостон читать лекции. Ехать из Бостона в
Нью-Йорк, а потом назад, что за бессмысленная трата сил! Однако в Америке
все начинается с Нью-Йорка - необходимо получить его благословение, после
чего можно отправляться дальше. Раз я начал с Нью-Йорка и начал успешно,
значит, меня хотели услышать и в других частях страны - я мог рассчитывать
на приглашения. Как бы то ни было, сам я ничуть не возражал против того,
чтоб, побывав в Нью-Йорке, опять попасть в Бостон и познакомиться с ним
поближе. Здесь было приятно в канун рождества: очень снежно, чистый воздух,
здоровая, почти деревенская обстановка. Порой казалось, что я снова в
Англии, - так мне ее напоминали здешние пейзажи. Друзья частенько
подтрунивали над моими восторгами: я то и дело удивлялся цивилизованному
виду города, который - легко было предвидеть - за двести с лишком лет,
прошедших со дня его основания, утратил сходство с лагерем переселенцев,
однако я никак не ожидал, что он так далеко продвинулся по этому пути. Я не
нашел здесь ничего недавно сделанного, временного, грубо сколоченного -
боюсь, я готов был все это тут увидеть. Не предполагал я и того, что местная
флора до такой степени повторяет нашу островную, хотя, конечно, знал, что
поселенцы назвали эту часть страны Новой Англией не только потому, что сами
приехали из Англии. Короче говоря, я не обнаружил в Бостоне ничего
заморского, и меня это едва ли не разочаровало.
Рождество 1852 года я встретил, тоскуя по дому, хотя со всех сторон был
окружен заботами и попечениями. Снег за окном приятно все преобразил;
катаясь на санях и наблюдая, как детвора на всем подряд съезжает с гор, я
сокрушался, что со мною нет Анни и Минни, и дал себе слово, что в следующее
рождество мы будем вместе и повеселимся на славу (рад доложить, что слово я
сдержал). Я думал и о Салли и писал ей, но, большей частью, рвал написанное
- никак не мог найти верную интонацию (как вы заметили, я неизменно рву свои
послания, когда пишу любимым), все время получалось чуть более интимно, чуть
более сентиментально, чем хотелось бы, и оттого казалось глупо. В конце
концов, письмо, которое я все же отослал ей, почти целиком состояло из
объяснения, почему я не писал ей раньше, и, в самом деле, вышло довольно
нелепым. По-моему, она мне не ответила, во всяком случае, не ответила ничем,
достойным упоминания.
Но это не слишком меня заботило. Скорей, я радовался своему любовному
страданию, ибо еще недавно опасался, что отмахнусь от самой Венеры, случись
ей выступить из волн и поманить меня к себе. Я тешился сознанием, что
влюблен, прекрасно понимая, что мое новое чувство мало напоминает недавнюю
испепеляющую страсть. Кажется, недостаток слушателей на лекциях задевал меня
больнее, чем отсутствие вестей от Салли, и судьбу своего заработка я
принимал гораздо ближе к сердцу, чем любовные дела. Народу ходило мало,
отчасти это объяснялось плохой погодой: снег удерживал людей дома, по
крайней мере, тех, которые обычно любят меня слушать, - дам и старых
чудаков. Мне понравилась начитанная бостонская публика, но в целом я нашел
ее гораздо более чинной и важной, чем в других городах, - завоевать ее было
не так-то просто, В Бостоне есть высшее общество, которым здесь гордятся и
не спешат пускать в него посторонних, даже в лице бедного лектора,
сочинившего на досуге несколько книг. К началу года мне стало ясно: если я
надеюсь зарабатывать деньги с той же ошеломляющей скоростью, что и в
Нью-Йорке, мне нужно поездить по стране, а не сидеть из робости и лени в
таких общедоступных городах, как Бостон и Нью-Йорк. Я радовался своему
решению - боялся упустить многое из того, что мне могла дать Америка, и
удовольствоваться лишь краешком большого пирога, а это было бы изрядной
потерей. Гораздо лучше было путешествовать, своими глазами увидеть разные
места и убедиться в бескрайности ее просторов. Сидя в Бостоне или Нью-Йорке,
нельзя вообразить, как велика Америка; восточный берег, куда причаливают
европейские суда, играет роль приманки и сбивает с толку путешественника,
превратно представляющего себе край, в который приехал, и, лишь отправившись
на юг или на запад, он избавляется от впечатления, что все тут в точности
как дома. Бостонцы, не захотевшие покинуть для меня своих каминов, оказали
мне гораздо большую услугу, чем собирались.
В начале января 1853 года я весело сложил вещи и с легким сердцем, без
тени досады сел в поезд, идущий в Филадельфию. Мне хочется воспользоваться
оставшимся до отправления временем, чтобы сказать похвальное слово железным
дорогам. Если б не они, я никогда бы не отважился пуститься через всю
Америку, ведь здешние расстояния огромны, и будь я ограничен скоростью
кареты, я не сумел бы посмотреть и четверти того, что увидал за несколько
недель. Короче говоря, благодарность моя этому виду транспорта безмерна и
долг неоплатен, к тому же, я люблю его удобства - люблю за то, что в вагоне
можно свободно сидеть, подняться, сделать шаг-другой по коридору, за то, что
при огромной скорости передвижения я не утомляю ни людей, ни животных.
Ритмичная и ровная езда в попыхивающем поезде настраивает нас на философский
лад, и в нем нам не страшны стихии, хотя мне раза два случалось попадать в
снежные заносы. Мне нравится уединение, которое дарует мне вагон, и вместе с
тем - соседство других людей, с которыми совсем необязательно вступать в
общение - не то что на корабле или в дилижансе. Нравится, что я могу в нем
есть или читать с немалой степенью комфорта, мне по душе зов паровозного
свистка, клубы пара, проносящиеся за окном, и ровный путь - без рытвин, ям и
других дорожных опасностей; нравится, что я не ограничен в багаже и могу
взять столько вещей, сколько мне заблагорассудится, но больше всего я
радуюсь чувству легкости: без всяких усилий, если не считать усилий паровой
машины, мы мчимся по стальным путям, и я их от всей души приветствую.
Кстати, знаете ли вы, что, несмотря на весь мой энтузиазм, одна из самых
неудачных финансовых спекуляций была у меня связана с железными дорогами?
Ну, не станем в это углубляться, филадельфийский поезд трогается,
пожалуйста, не стойте у ступенек!
^T15^U
^TЗаметки о нежных чувствах^U
Помню, как, отправившись, наконец, на юг, я грустил о том, что поезд
все дальше уносит меня от дома, и мучился мыслью, что теперь, покинув север,
теряю связь с судами, привозящими новости из Англии. Вам это, наверное,
смешно: стоит ли горевать о нескольких лишних сотнях миль, и без того
находясь за тридевять земель от Европы? Но я остро ощущал, что рву
единственную связывающую меня с нею нить, и очень не желал того. Пока я был
в Нью-Йорке и Бостоне, письма от матушки и девочек приходили довольно
регулярно, но после, когда я стал ездить по стране, их посылали вдогонку,
порою они меня не заставали, и тогда я порядком изводил себя, воображая
всяческие ужасы и внушая себе, что я забыт и никому не нужен. Когда вы на
чужбине, письма из дому - неоценимая радость, довольно вида почтовой марки
на конверте, чтобы вызвать сердцебиение у истосковавшегося по дому
путешественника, а как истрепываются по краям листки, которые он вновь и
вновь вытаскивает и перечитывает, они вызывают в памяти стол, за которым их
написали, почтовый ящик, в который их бросили, и все эти знакомые картины
пронзают сердце болью. Письма издалека не так волнуют того, кто остался
дома, - о да, они, конечно, будоражат, рассказывают о неведомом, но ничего
не напоминают (разве что вы сами бывали в тех краях), и как ни развито ваше
воображение, оно не усадит вас рядом с писавшим на чужбине. Письма из дому
громко и явственно зовут вас вернуться - порой я закрывал руками уши, чтобы
не слышать их призыва.
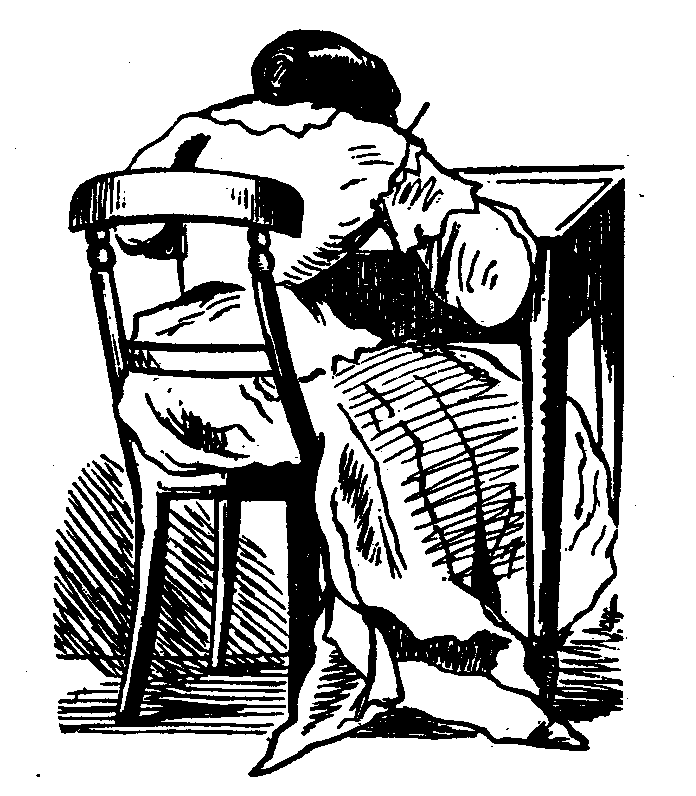 Мне повезло с корреспондентами - их письма брали за душу. Матушка
способна была покрыть бессчетное число страниц и так точно передавала
колорит своего житья-бытья, что у меня не оставалось никаких сомнений: у них
там все идет по-прежнему, - на расстоянии это чувство успокаивало и
очаровывало меня, но, честно сказать, донельзя раздражало, когда я находился
в гуще тамошней жизни. Маленькая Минни писала прелестные, трогательные
записочки, но живость нашей связи поддерживалась гением Анни. То были не
письма, а маленькие чудеса, я был не в силах наслаждаться ими в одиночку.
Каким докучным старым дураком, должно быть, я казался, когда то и дело
вытаскивал из кармана густо исписанные листки и бросался к каждому
случившемуся рядом, чтоб прочитать очередной пассаж, возможно, ничем не
примечательный. Наверное, слушатели на меня досадовали. А впрочем, не думаю.
Сам я никогда не досадую на родителей, которые хвастают достоинствами своих
детей, если чувствую, что ими движет непритворная любовь и восхищение. Анни
писала мне в Америку с такой живостью и остроумием, что трогала меня до
слез, и я их не стыдился. Она так метко изображала матушку и матушкин мирок,
что я вслух изумлялся ее великой проницательности, поразительной в столь
юном существе, но даже в ее самых откровенных, клинически точных описаниях
чувствовалась доброта, спасавшая их от жестокости, и мне хотелось протянуть
к ней руки через океан и заключить в объятия. Они с Минни любили Париж - об
этом я мог не беспокоиться, я с радостью вычитывал из их писем, что они не
упускали случая узнать его. Анни повсюду замечала своим острым глазом все,
что заметил бы и я, и вставляла в свои письма зарисовки разных сторон
парижской жизни, очень изысканные, но совершенно детские - тем больше было
их очарование. Особенно одно письмо заставило меня смеяться, потом плакать,
потом снова смеяться - то самое, в котором она писала, какой видела чудесный
парад, и признавалась под конец, что мечтала бы родиться молодцеватым
адъютантом. Образ моей милой, толстенькой девочки, которая стоит на
Елисейских полях, провожает влюбленным взглядом бравых вояк и воображает
себя в их форме, был одновременно и смешон, и трогателен, кажется, я читал
это письмо так часто, что мог бы процитировать его дословно. Я просто слышал
ее голос, видел тоску в ее глазах и был готов сию минуту вскочить на корабль
и плыть домой.
Мне повезло с корреспондентами - их письма брали за душу. Матушка
способна была покрыть бессчетное число страниц и так точно передавала
колорит своего житья-бытья, что у меня не оставалось никаких сомнений: у них
там все идет по-прежнему, - на расстоянии это чувство успокаивало и
очаровывало меня, но, честно сказать, донельзя раздражало, когда я находился
в гуще тамошней жизни. Маленькая Минни писала прелестные, трогательные
записочки, но живость нашей связи поддерживалась гением Анни. То были не
письма, а маленькие чудеса, я был не в силах наслаждаться ими в одиночку.
Каким докучным старым дураком, должно быть, я казался, когда то и дело
вытаскивал из кармана густо исписанные листки и бросался к каждому
случившемуся рядом, чтоб прочитать очередной пассаж, возможно, ничем не
примечательный. Наверное, слушатели на меня досадовали. А впрочем, не думаю.
Сам я никогда не досадую на родителей, которые хвастают достоинствами своих
детей, если чувствую, что ими движет непритворная любовь и восхищение. Анни
писала мне в Америку с такой живостью и остроумием, что трогала меня до
слез, и я их не стыдился. Она так метко изображала матушку и матушкин мирок,
что я вслух изумлялся ее великой проницательности, поразительной в столь
юном существе, но даже в ее самых откровенных, клинически точных описаниях
чувствовалась доброта, спасавшая их от жестокости, и мне хотелось протянуть
к ней руки через океан и заключить в объятия. Они с Минни любили Париж - об
этом я мог не беспокоиться, я с радостью вычитывал из их писем, что они не
упускали случая узнать его. Анни повсюду замечала своим острым глазом все,
что заметил бы и я, и вставляла в свои письма зарисовки разных сторон
парижской жизни, очень изысканные, но совершенно детские - тем больше было
их очарование. Особенно одно письмо заставило меня смеяться, потом плакать,
потом снова смеяться - то самое, в котором она писала, какой видела чудесный
парад, и признавалась под конец, что мечтала бы родиться молодцеватым
адъютантом. Образ моей милой, толстенькой девочки, которая стоит на
Елисейских полях, провожает влюбленным взглядом бравых вояк и воображает
себя в их форме, был одновременно и смешон, и трогателен, кажется, я читал
это письмо так часто, что мог бы процитировать его дословно. Я просто слышал
ее голос, видел тоску в ее глазах и был готов сию минуту вскочить на корабль
и плыть домой.
 Удерживало меня лишь то, что я сидел в филадельфийском поезде, глядел
на бесконечные просторы за окном и размышлял: к тому времени, когда у Анни
будут взрослые дети, эта страна совсем изменится. Нельзя себе "представить,
какие у Америки резервы роста, если не проехать через нее, как я, и не
увидеть воочию истинную протяженность ее территории. Она тянется и тянется,
не прерываясь, до самого горизонта, который кажется бесконечно далеким, и
если вспомнить, что в этой почве, должно быть, лежат всевозможные нетронутые
сокровища, и прибавить к ним человеческую энергию, которая кипит везде и
всюду, вам станет ясно, что перед вами - в колыбели великая империя, которая
со временем вырастет в более могущественную нацию, чем здесь дерзают думать.
Не фыркайте и не говорите, что примитивная страна вроде Америки никогда не
сравнится с древней цивилизацией вроде нашей. Напрасно вы так думаете! Все
цивилизации с чего-то начинались, и говорю вам совершенно твердо: одна из
них начинается здесь и будет не меньше Рима, Греции и Британской империи, не
меньше, а, может быть, и больше. Ее ничто не остановит, ей не грозит
крушение, и при всем моем патриотизме я ничуть не скорблю, что в пору, когда
Америка будет торжествовать, мы, дома, будем прозябать в бесславии. Вы мне,
конечно, возразите, что я принимаю количество за качество и ныне ничто не
предвещает тех интеллектуальных и эстетических достижений, без которых не
может возвыситься ни одна цивилизация, верно, тут вы правы: Америка сейчас -
культурная пустыня, нация безродных выскочек, и в ней пока не выявилось
ничего такого, что могло бы двинуть вперед массы, но это требует времени,
дайте им сто лет и подходящую обстановку, и все появится. Вот почему я был
очень сдержан в оценках и никогда не насмехался над жалкими культурными
ценностями американцев; жестоко и бессмысленно ругать их живопись за
дерзость, а скульптуру за грубость, они и сами это чувствуют, и когда у них
появится что-нибудь получше, они признают это вслух. Конечно, безвкусица
коробит англичан, но мне кажется, лучше промолчать и отвести глаза в
сторону, чем огорчать и оскорблять хозяев, сообщая им, что мы в Европе
многое умеем лучше - еще бы не уметь: мы трудимся без малого две тысячи лет,
чему ж тут удивляться? Порою моим спутникам хотелось продемонстрировать мне
какое-либо особо безобразное произведение местного искусства, тогда
единственное, что мне удавалось сделать, - это сдержаться и не закричать:
"Сожгите его!". Они напоминали мне нетерпеливых щенят, которые тычутся и
просят ласки, хоть знают, что они ее не заслужили. Высмеивать их было бы
бестактно, и если порой смолчать невозможно, по мне, уж лучше отделаться
сомнительным комплиментом. Вы говорите, я отъявленный ханжа? Прекрасно, я
ханжа и очень тем доволен.
Удерживало меня лишь то, что я сидел в филадельфийском поезде, глядел
на бесконечные просторы за окном и размышлял: к тому времени, когда у Анни
будут взрослые дети, эта страна совсем изменится. Нельзя себе "представить,
какие у Америки резервы роста, если не проехать через нее, как я, и не
увидеть воочию истинную протяженность ее территории. Она тянется и тянется,
не прерываясь, до самого горизонта, который кажется бесконечно далеким, и
если вспомнить, что в этой почве, должно быть, лежат всевозможные нетронутые
сокровища, и прибавить к ним человеческую энергию, которая кипит везде и
всюду, вам станет ясно, что перед вами - в колыбели великая империя, которая
со временем вырастет в более могущественную нацию, чем здесь дерзают думать.
Не фыркайте и не говорите, что примитивная страна вроде Америки никогда не
сравнится с древней цивилизацией вроде нашей. Напрасно вы так думаете! Все
цивилизации с чего-то начинались, и говорю вам совершенно твердо: одна из
них начинается здесь и будет не меньше Рима, Греции и Британской империи, не
меньше, а, может быть, и больше. Ее ничто не остановит, ей не грозит
крушение, и при всем моем патриотизме я ничуть не скорблю, что в пору, когда
Америка будет торжествовать, мы, дома, будем прозябать в бесславии. Вы мне,
конечно, возразите, что я принимаю количество за качество и ныне ничто не
предвещает тех интеллектуальных и эстетических достижений, без которых не
может возвыситься ни одна цивилизация, верно, тут вы правы: Америка сейчас -
культурная пустыня, нация безродных выскочек, и в ней пока не выявилось
ничего такого, что могло бы двинуть вперед массы, но это требует времени,
дайте им сто лет и подходящую обстановку, и все появится. Вот почему я был
очень сдержан в оценках и никогда не насмехался над жалкими культурными
ценностями американцев; жестоко и бессмысленно ругать их живопись за
дерзость, а скульптуру за грубость, они и сами это чувствуют, и когда у них
появится что-нибудь получше, они признают это вслух. Конечно, безвкусица
коробит англичан, но мне кажется, лучше промолчать и отвести глаза в
сторону, чем огорчать и оскорблять хозяев, сообщая им, что мы в Европе
многое умеем лучше - еще бы не уметь: мы трудимся без малого две тысячи лет,
чему ж тут удивляться? Порою моим спутникам хотелось продемонстрировать мне
какое-либо особо безобразное произведение местного искусства, тогда
единственное, что мне удавалось сделать, - это сдержаться и не закричать:
"Сожгите его!". Они напоминали мне нетерпеливых щенят, которые тычутся и
просят ласки, хоть знают, что они ее не заслужили. Высмеивать их было бы
бестактно, и если порой смолчать невозможно, по мне, уж лучше отделаться
сомнительным комплиментом. Вы говорите, я отъявленный ханжа? Прекрасно, я
ханжа и очень тем доволен.
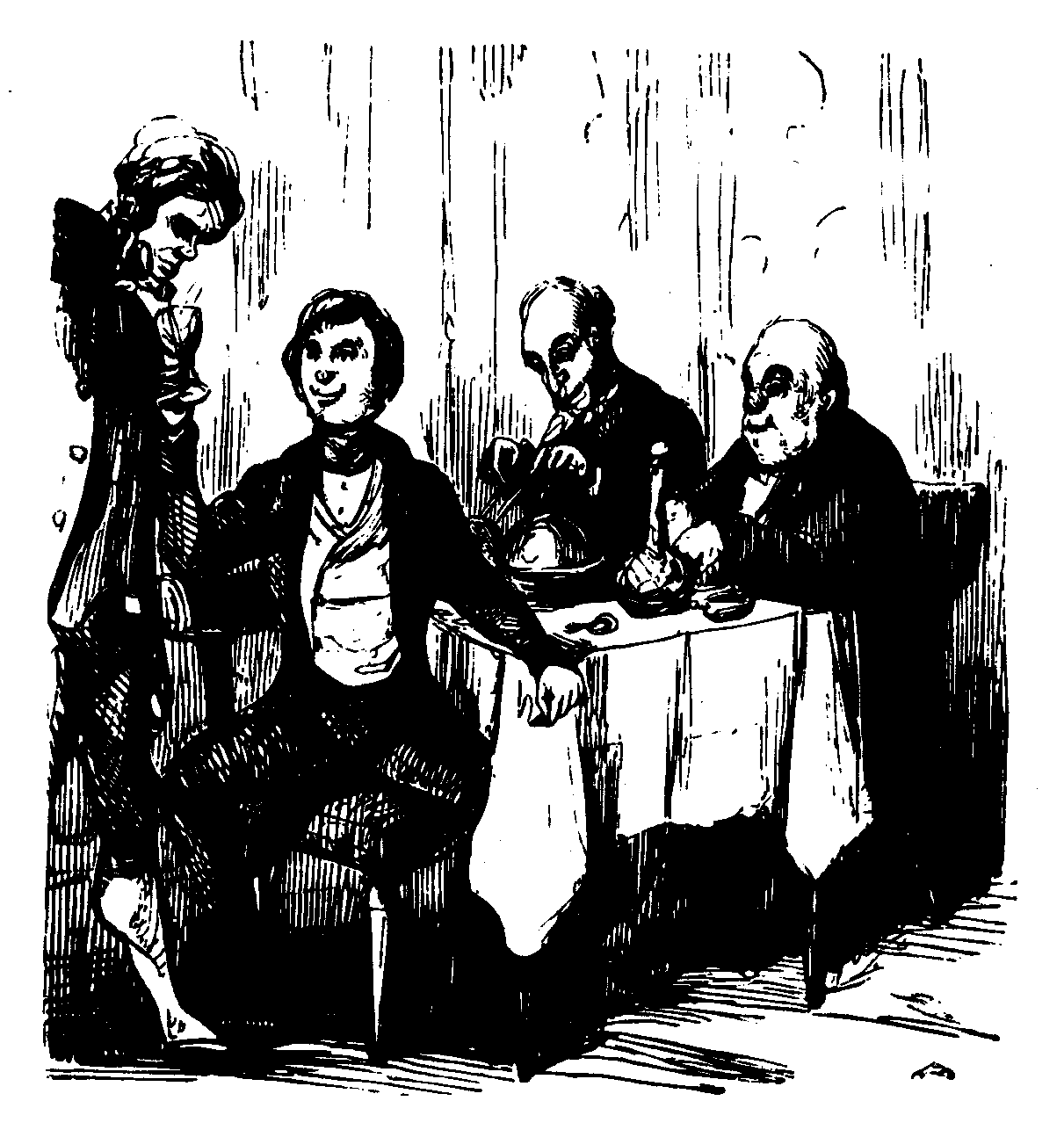 Филадельфия также поразила меня своеобразием. Благодаря приятной
квакерской опрятности и величественности, у города есть свое лицо, и я рад,
что побывал там, хотя тяготы моего официального чествования меня едва не
доконали. Как только я прибыл, мы уселись за совершенно невыносимый обед
человек на шестьдесят: речи, бесконечные "позвольте вам представить",
выражения признательности - все так торжественно и многословно, о господи!
Полагаю, что был мрачен и огорчал своим видом почтенных хозяев, но ничего не
мог с собой поделать, - поверьте, невозможно, совершенно невозможно высидеть
подобное действо, не погрузившись в транс. Я знал, что каждый из
присутствующих сам по себе - славный, жизнерадостный человек, но, к
сожалению, обстановка убивала их природную веселость. Мне выпала высокая
честь - в этом огромном зале меня принимали самые именитые граждане, но я
без нее прекрасно бы обошелся. Гораздо больше мне пришлась по вкусу
неофициальная пирушка, которая была у "Проссеров" - в городском ночном
клубе, куда меня отвел попозже какой-то добрый дух - благодарение богу,
такой всегда оказывался рядом и вызволял меня из затруднения. Мы спели все
известные баллады - я, наверное, опозорился, исполнив "Крошку Билли", -
крепко выпили, и, должен признаться, я ничуть не возражаю, когда в подобной
обстановке меня десять миллионов раз подряд спрашивают, нравится ли мне
Америка. Очень нравится, дорогой сэр, очень и очень нравится, особенно
сейчас, пора бы вам это усвоить.
В Филадельфии я быстро научился ценить еще одну ее примету -
встречавшихся повсюду молодых квакерш; бог мой, как они были хороши в своих
серых и черных платьях с ослепительно белыми накрахмаленными воротниками и в
таких же чепцах. Когда я впервые увидел их в первом ряду на своих нудных
лекциях, от неожиданности я просто лишился дара речи. Одевали ли вы
когда-нибудь самых хорошеньких из всех известных вам девушек в подобный
костюм? Попробуйте - и вы поймете мой восторг. Белое и черное отнюдь не
убивают красоту, но служат ей отличным обрамлением и придают оттенок чистоты
и целомудрия, - по крайней мере, таково было намерение изобретателей этого
наряда, эффект же оказался противоположным. Никакое пышное бальное платье,
никакой вечерний туалет не способны украсить хорошенькую женщину лучше, чем
квакерское одеяние, задуманное как выпад против грехов плоти, но неудачно,
вовсе неудачно. Порхая по городу, в котором родилась свобода, эти создания
воспламеняют жителей желанием коснуться или завладеть одним из них, -
впрочем, возможно, то был лишь плод моего воображения. Я был не в силах
сосредоточиться на приевшихся, унылых словесах, имея перед глазами эти
видения женской прелести, стоило мне посмотреть в зал и встретить пару
немигающих, серьезных глаз, устремленных на меня из этого ангельского
обрамления, как мне тут же приходил конец. Они напоминали мне Джейн
Брукфилд, в них чувствовался тот же дух, то же спокойствие, та же скромность
- эти квакерши вносили смуту в мою душу. Я благодарил бога за то, что от
моего костра остался только пепел, ибо соблазниться было безумно легко. Вы
не поверите, но некоторые американские барышни, сраженные моими чарами,
следовали за мной по пятам из города в город, по их словам, они положительно
были неспособны расстаться со мной. Одну из этих очарованных девиц я
повстречал в Бостоне на Бикен-стрит, позже я слышал, что за ней явился в
великом гневе ее батюшка и препроводил домой. Но, дорогой сэр, здесь нет
моей вины; вполне разделяю вашу точку зрения; клянусь, я только и позволил
себе при встрече, что приподнять из вежливости шляпу.
Филадельфия также поразила меня своеобразием. Благодаря приятной
квакерской опрятности и величественности, у города есть свое лицо, и я рад,
что побывал там, хотя тяготы моего официального чествования меня едва не
доконали. Как только я прибыл, мы уселись за совершенно невыносимый обед
человек на шестьдесят: речи, бесконечные "позвольте вам представить",
выражения признательности - все так торжественно и многословно, о господи!
Полагаю, что был мрачен и огорчал своим видом почтенных хозяев, но ничего не
мог с собой поделать, - поверьте, невозможно, совершенно невозможно высидеть
подобное действо, не погрузившись в транс. Я знал, что каждый из
присутствующих сам по себе - славный, жизнерадостный человек, но, к
сожалению, обстановка убивала их природную веселость. Мне выпала высокая
честь - в этом огромном зале меня принимали самые именитые граждане, но я
без нее прекрасно бы обошелся. Гораздо больше мне пришлась по вкусу
неофициальная пирушка, которая была у "Проссеров" - в городском ночном
клубе, куда меня отвел попозже какой-то добрый дух - благодарение богу,
такой всегда оказывался рядом и вызволял меня из затруднения. Мы спели все
известные баллады - я, наверное, опозорился, исполнив "Крошку Билли", -
крепко выпили, и, должен признаться, я ничуть не возражаю, когда в подобной
обстановке меня десять миллионов раз подряд спрашивают, нравится ли мне
Америка. Очень нравится, дорогой сэр, очень и очень нравится, особенно
сейчас, пора бы вам это усвоить.
В Филадельфии я быстро научился ценить еще одну ее примету -
встречавшихся повсюду молодых квакерш; бог мой, как они были хороши в своих
серых и черных платьях с ослепительно белыми накрахмаленными воротниками и в
таких же чепцах. Когда я впервые увидел их в первом ряду на своих нудных
лекциях, от неожиданности я просто лишился дара речи. Одевали ли вы
когда-нибудь самых хорошеньких из всех известных вам девушек в подобный
костюм? Попробуйте - и вы поймете мой восторг. Белое и черное отнюдь не
убивают красоту, но служат ей отличным обрамлением и придают оттенок чистоты
и целомудрия, - по крайней мере, таково было намерение изобретателей этого
наряда, эффект же оказался противоположным. Никакое пышное бальное платье,
никакой вечерний туалет не способны украсить хорошенькую женщину лучше, чем
квакерское одеяние, задуманное как выпад против грехов плоти, но неудачно,
вовсе неудачно. Порхая по городу, в котором родилась свобода, эти создания
воспламеняют жителей желанием коснуться или завладеть одним из них, -
впрочем, возможно, то был лишь плод моего воображения. Я был не в силах
сосредоточиться на приевшихся, унылых словесах, имея перед глазами эти
видения женской прелести, стоило мне посмотреть в зал и встретить пару
немигающих, серьезных глаз, устремленных на меня из этого ангельского
обрамления, как мне тут же приходил конец. Они напоминали мне Джейн
Брукфилд, в них чувствовался тот же дух, то же спокойствие, та же скромность
- эти квакерши вносили смуту в мою душу. Я благодарил бога за то, что от
моего костра остался только пепел, ибо соблазниться было безумно легко. Вы
не поверите, но некоторые американские барышни, сраженные моими чарами,
следовали за мной по пятам из города в город, по их словам, они положительно
были неспособны расстаться со мной. Одну из этих очарованных девиц я
повстречал в Бостоне на Бикен-стрит, позже я слышал, что за ней явился в
великом гневе ее батюшка и препроводил домой. Но, дорогой сэр, здесь нет
моей вины; вполне разделяю вашу точку зрения; клянусь, я только и позволил
себе при встрече, что приподнять из вежливости шляпу.
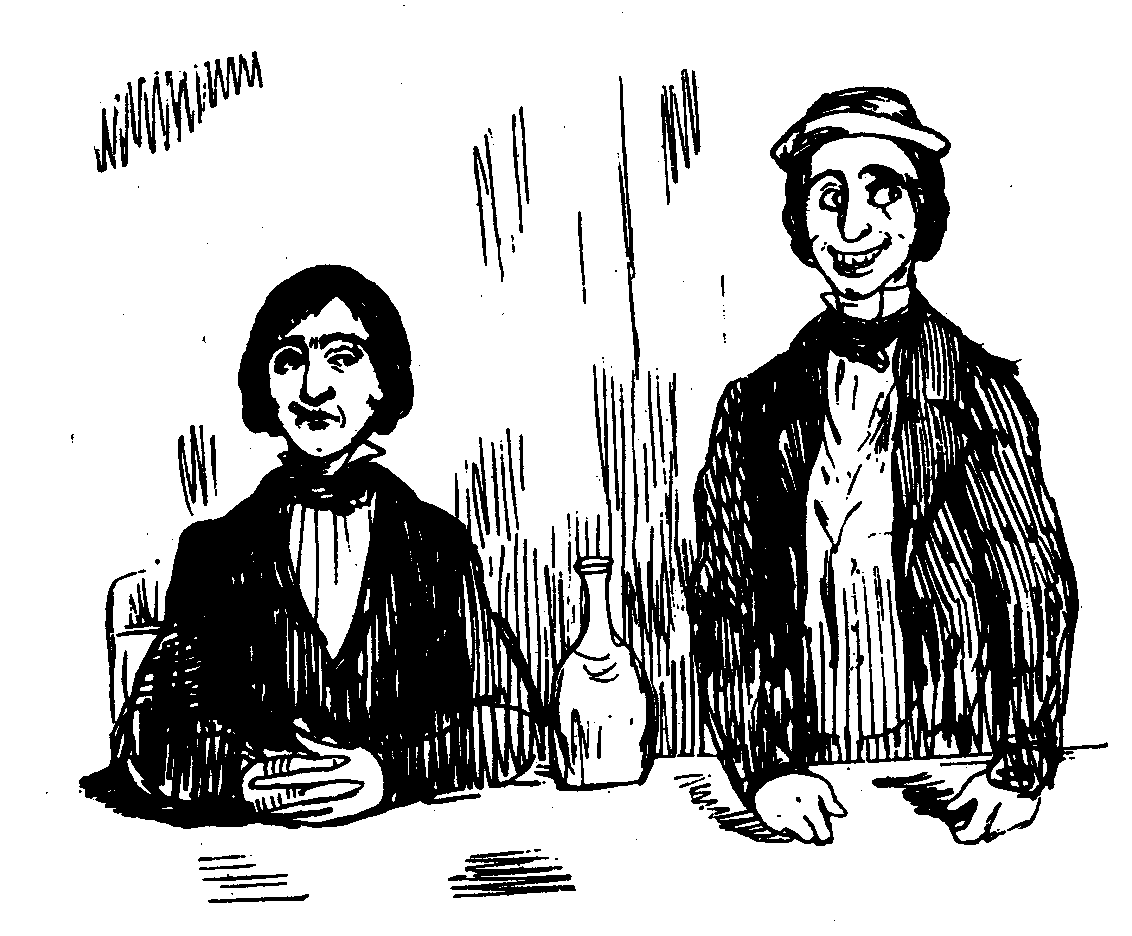 В Филадельфии я заработал кучу денег: большие гонорары, хорошие сборы
дали достаточно, чтоб оправдать поездку. Отважусь сказать, что мог бы
заработать больше, согласись я ходить с протянутой рукой по редакторам
двенадцати городских газет, чтоб засвидетельствовать свое почтение,
наговорить любезностей и преувеличенных комплиментов, как сделал некто
Бекингем, о чем мне много раз рассказывали. Кто, черт побери, был этот
Бекингем? Какой-то неизвестный малый, который выступал с кафедры незадолго
до меня и почитал своим первейшим долгом предусмотрительно умасливать
газетчиков. Ничего такого я делать не собирался, мое желание заработать
деньги не зашло так далеко, чтоб пресмыкаться перед этими людьми, да и они
ничего подобного от меня не ждали, если уважали свободную прессу.
Администратор лекционного зала ломал руки при виде моего упрямства и умолял
как следует подумать, но я отказывался и не покидал своего номера, чем,
думаю, никому не повредил. Я нисколько не стыдился того, чем зарабатывал
деньги, пока отпускал свой товар полной мерой, не жульничал и ни перед кем
не лебезил. И знаете, скажу без ложной скромности, что честно оделял товаром
слушателей, хотя мне очень скоро до смерти надоели мои лекции. Странная
история, от мысли, что я вновь буду говорить те же приевшиеся речи, меня
охватывали усталость и уныние, и вместе с тем я сознавал, что читаю все
лучше и лучше, словно актер на каждом следующем спектакле. Я никогда не шел
на поводу у публики, какой она ни была, и даже за миллион миль от залов
Уиллиса в Сент-Джеймсе, вдали от элегантной, образованной толпы, читал ровно
ту же лекцию, хотя порой мне приходило в голову, что это, мягко говоря,
чудачество - толковать об английских юмористах прошлого века перед кучкой
обитателей глухой американской деревушки. Хватало ли им подготовки, чтобы
слушать мои лекции? А если не хватало, и половина пришла потому, что знала
меня по книгам, а вторая - потому, что дома не нашлось лучшего дела, были ли
мои лекции достаточно занятны сами по себе? Эти вопросы меня тревожили, но
оставались без ответа; порой я, правда, начинал подозревать, что мои
слушатели поняли бы в моих рассказах ровно столько же, если бы я изъяснялся
на языке интегралов и дифференциалов, но убедиться в этом мне ни разу не
случилось. Добрые души приходили, платили, внимательно слушали и под конец
рукоплескали - чего еще я мог хотеть?
В Филадельфии я пробыл две недели и ненадолго отправился в Нью-Йорк:
прочесть там еще одну лекцию и забрать почту. Филадельфия запомнилась мне
как чистый, ухоженный и деловитый город; большинство ее населения -
зажиточные торговцы, но для Америки то был не самый благоприятный вариант -
я хочу сказать, что там не было ни светского общества, ни университетских
кругов, но много добрых граждан, трудом зарабатывавших свой хлеб и тем
гордившихся. При всем моем восхищении здешним бизнесом мне вряд ли
захотелось бы там жить. У них был свой Колокол Свободы, свой Зал
Независимости - прекрасно, - свое место в истории, но чего-то им
недоставало, не знаю, чего именно. Может быть, тоска по дому окрасила мое
восприятие в темные тона? В самом деле, к концу января 1853 года (в ту пору
я завершал свою двухнедельную поездку в Филадельфию и трехмесячное
пребывание в Америке) мой энтузиазм стал убывать. Что делать дальше?
Положить заработанные деньги в банк под восемь процентов и поспешить домой?
Или остаться, пока на лекции ходили слушатели? Я выбрал второе: путь до
Америки невероятно долгий, кто знает, совершу ли я его второй раз в жизни,
да и популярность, которой я пользовался, была весьма ненадежна и могла
исчезнуть при первом появлении следующего лектора - нет, лучше взять себя в
руки и дальше нести вахту. Следовало решить, в какую сторону податься. Может
быть, на север, через границу в Монреаль, где, как мне говорили, можно было
ждать хороших сборов? Вытаскивайте шубы, Эйр, и купите мне, пожалуйста,
теплые ботинки - мы едем в снежную пустыню. А может, двинуться на юг, к
окутанным парами рекам и болотистым почвам Миссисипи? Уберите эти дурацкие
шубы, Эйр, и закажите несколько тонких батистовых рубашек да парочку
соломенных шляп. А может, побывать и тут, и там? Черт побери, не
прикасайтесь к чемоданам, Эйр, я сам не знаю, приезжаю я или уезжаю.
Я и впрямь этого не знал. Я словно висел меж небом и землею и готов был
податься в любую сторону, в которую поманит меня судьба. Решали мелочи: в
нужную минуту подворачивалось нужное приглашение, и я принимал его,
чувствуя, что делаю нечто от меня не зависящее, и только удивлялся после,
было ли то самое разумное решение. Редко случалось, чтобы я знал, как долго
пробуду в том или ином месте и где остановлюсь, я просто приезжал в надежде,
что все само собой устроится. Бедному Эйру пришлось сносить все тяготы моей
неуравновешенности: он подыскивал гостиницы, договаривался о встречах, и все
это без слова жалобы. Порой я сам себе не верил, неужто непредсказуемое
существо, в которое я превратился, - тот самый человек, который обычно
обретается на улице Янг, 13 и каждый день которого имеет строгий распорядок.
К примеру, что меня заставило выбрать юг - Балтимор и Вашингтон, а не север?
Не знаю, возможно, Эйр мог бы ответить, но, как бы то ни было, я поехал,
поддавшись настроению, и приглашение здесь было ни при чем. В конце концов,
в Америке, утешал я себя, можно отбросить педантизм и предаться
беспорядочности, склонность к которой я всегда старался обуздать.
В Филадельфии я заработал кучу денег: большие гонорары, хорошие сборы
дали достаточно, чтоб оправдать поездку. Отважусь сказать, что мог бы
заработать больше, согласись я ходить с протянутой рукой по редакторам
двенадцати городских газет, чтоб засвидетельствовать свое почтение,
наговорить любезностей и преувеличенных комплиментов, как сделал некто
Бекингем, о чем мне много раз рассказывали. Кто, черт побери, был этот
Бекингем? Какой-то неизвестный малый, который выступал с кафедры незадолго
до меня и почитал своим первейшим долгом предусмотрительно умасливать
газетчиков. Ничего такого я делать не собирался, мое желание заработать
деньги не зашло так далеко, чтоб пресмыкаться перед этими людьми, да и они
ничего подобного от меня не ждали, если уважали свободную прессу.
Администратор лекционного зала ломал руки при виде моего упрямства и умолял
как следует подумать, но я отказывался и не покидал своего номера, чем,
думаю, никому не повредил. Я нисколько не стыдился того, чем зарабатывал
деньги, пока отпускал свой товар полной мерой, не жульничал и ни перед кем
не лебезил. И знаете, скажу без ложной скромности, что честно оделял товаром
слушателей, хотя мне очень скоро до смерти надоели мои лекции. Странная
история, от мысли, что я вновь буду говорить те же приевшиеся речи, меня
охватывали усталость и уныние, и вместе с тем я сознавал, что читаю все
лучше и лучше, словно актер на каждом следующем спектакле. Я никогда не шел
на поводу у публики, какой она ни была, и даже за миллион миль от залов
Уиллиса в Сент-Джеймсе, вдали от элегантной, образованной толпы, читал ровно
ту же лекцию, хотя порой мне приходило в голову, что это, мягко говоря,
чудачество - толковать об английских юмористах прошлого века перед кучкой
обитателей глухой американской деревушки. Хватало ли им подготовки, чтобы
слушать мои лекции? А если не хватало, и половина пришла потому, что знала
меня по книгам, а вторая - потому, что дома не нашлось лучшего дела, были ли
мои лекции достаточно занятны сами по себе? Эти вопросы меня тревожили, но
оставались без ответа; порой я, правда, начинал подозревать, что мои
слушатели поняли бы в моих рассказах ровно столько же, если бы я изъяснялся
на языке интегралов и дифференциалов, но убедиться в этом мне ни разу не
случилось. Добрые души приходили, платили, внимательно слушали и под конец
рукоплескали - чего еще я мог хотеть?
В Филадельфии я пробыл две недели и ненадолго отправился в Нью-Йорк:
прочесть там еще одну лекцию и забрать почту. Филадельфия запомнилась мне
как чистый, ухоженный и деловитый город; большинство ее населения -
зажиточные торговцы, но для Америки то был не самый благоприятный вариант -
я хочу сказать, что там не было ни светского общества, ни университетских
кругов, но много добрых граждан, трудом зарабатывавших свой хлеб и тем
гордившихся. При всем моем восхищении здешним бизнесом мне вряд ли
захотелось бы там жить. У них был свой Колокол Свободы, свой Зал
Независимости - прекрасно, - свое место в истории, но чего-то им
недоставало, не знаю, чего именно. Может быть, тоска по дому окрасила мое
восприятие в темные тона? В самом деле, к концу января 1853 года (в ту пору
я завершал свою двухнедельную поездку в Филадельфию и трехмесячное
пребывание в Америке) мой энтузиазм стал убывать. Что делать дальше?
Положить заработанные деньги в банк под восемь процентов и поспешить домой?
Или остаться, пока на лекции ходили слушатели? Я выбрал второе: путь до
Америки невероятно долгий, кто знает, совершу ли я его второй раз в жизни,
да и популярность, которой я пользовался, была весьма ненадежна и могла
исчезнуть при первом появлении следующего лектора - нет, лучше взять себя в
руки и дальше нести вахту. Следовало решить, в какую сторону податься. Может
быть, на север, через границу в Монреаль, где, как мне говорили, можно было
ждать хороших сборов? Вытаскивайте шубы, Эйр, и купите мне, пожалуйста,
теплые ботинки - мы едем в снежную пустыню. А может, двинуться на юг, к
окутанным парами рекам и болотистым почвам Миссисипи? Уберите эти дурацкие
шубы, Эйр, и закажите несколько тонких батистовых рубашек да парочку
соломенных шляп. А может, побывать и тут, и там? Черт побери, не
прикасайтесь к чемоданам, Эйр, я сам не знаю, приезжаю я или уезжаю.
Я и впрямь этого не знал. Я словно висел меж небом и землею и готов был
податься в любую сторону, в которую поманит меня судьба. Решали мелочи: в
нужную минуту подворачивалось нужное приглашение, и я принимал его,
чувствуя, что делаю нечто от меня не зависящее, и только удивлялся после,
было ли то самое разумное решение. Редко случалось, чтобы я знал, как долго
пробуду в том или ином месте и где остановлюсь, я просто приезжал в надежде,
что все само собой устроится. Бедному Эйру пришлось сносить все тяготы моей
неуравновешенности: он подыскивал гостиницы, договаривался о встречах, и все
это без слова жалобы. Порой я сам себе не верил, неужто непредсказуемое
существо, в которое я превратился, - тот самый человек, который обычно
обретается на улице Янг, 13 и каждый день которого имеет строгий распорядок.
К примеру, что меня заставило выбрать юг - Балтимор и Вашингтон, а не север?
Не знаю, возможно, Эйр мог бы ответить, но, как бы то ни было, я поехал,
поддавшись настроению, и приглашение здесь было ни при чем. В конце концов,
в Америке, утешал я себя, можно отбросить педантизм и предаться
беспорядочности, склонность к которой я всегда старался обуздать.
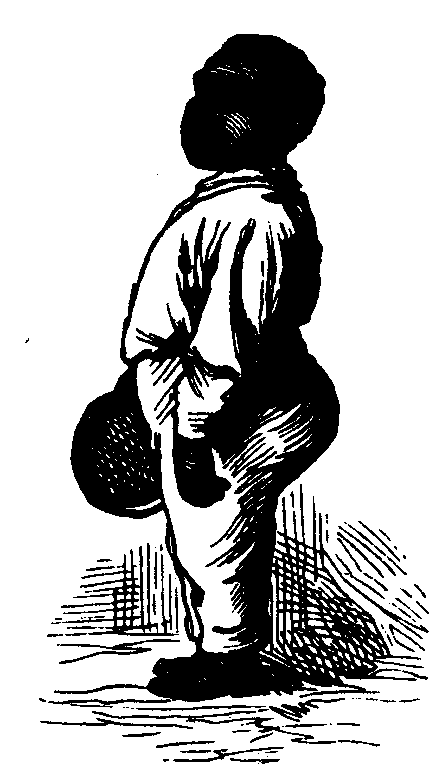 Приняв решение ехать в Вашингтон, а после - на крайний юг, возможно, в
Новый Орлеан, я был доволен. Мои кости были слишком стары для холода, а
американские зимы гораздо холоднее наших (случай узнать, насколько именно,
представился мне в другой мой приезд). Мне нравилось, что, оставшись в той
же самой стране, где всего день или два назад мне в лицо отчаянно хлестало
градом, я буду греться в теплых солнечных лучах, - как славно испытать
такое! Кроме того, чем дальше я углублялся на юг, тем лучше мог узнать чужую
страну - чужую, а не ту, что так сильно напоминала мою собственную.
Тревожило меня только одно - меня смущала проблема рабства. На севере она не
так заметна, но, как я знал, на юге мне неизбежно придется с ней
столкнуться. Мои опытные друзья предупреждали меня в Англии, что, если я
хочу, чтобы меня в Америке встретили гостеприимно и мои лекции пользовались
успехом, - чего я, естественно, хотел от всей души, - я должен быть
необычайно осторожен и не принимать ничьей стороны в споре о рабовладении.
Меня также предупреждали, что я не должен рисковать, не должен высказывать
никаких, даже самых обтекаемых мнений; любой поступок, заявляли мои друзья
со всей решительностью, сочтут в Америке значительным, будь то разговор с
негром где-то в сторонке или посещение собрания, на котором обсуждается
негритянский вопрос, - в общем, любое, даже самое мелкое действие, в котором
можно усмотреть предвзятость, чревато неприятными последствиями. Я тотчас
навлеку на себя гнев противной стороны, тогда как поддержка дружественной
мне не возместит урона. Я очень серьезно отнесся к этим наставлениям, что,
правду сказать, вовсе не было трудно. Можете сетовать на мою
бесчувственность, можете поражаться слабости моих моральных устоев, но я не
для того приехал в Америку, чтобы громить чужие привычки, обычаи и образ
жизни, я приехал читать лекции об английских юмористах, и не, более того. К
тому же я не чувствовал великого негодования по поводу рабства негров. Какое
страшное признание, говорите вы? Так думаете вы, чувствительные дамы,
проливающие слезы над бедным крошкой-негритенком, разлученным с матерью, но
я смотрю на дело проще и трезвее. Я ничего не мог тут изменить. В моей
родной стране есть много такого, о чем мне следует гораздо больше
беспокоиться, и никому не повредит, если я тем и ограничусь.
Звучит не очень утешительно, не правда ли? Честно сказать, меня это не
утешало, хотя из соображений личной выгоды я очень старался верить в то, что
говорю. Если я чего и боялся, так это того, что моя нейтральность
подвергнется проверке. Положим, я увижу, как белый надсмотрщик до крови
избивает раба-негра, что я предприму? Отвернусь, еще раз скажу, что это не
мое дело, и поспешу в сторону, испытывая легкое поташнивание? Или, положим,
увижу, как плачущую рабыню-негритянку оттаскивают от ее детей, чтоб
разлучить с ними навеки, неужто я в самом деле скажу, что это меня не
касается, и не вмешаюсь? При одной мысли об этом на меня нападала дрожь. К
испытанию, которого я так боялся, ближе всего я оказался на пути из
Филадельфии в Балтимор, когда из нашего купе, или, как тут говорят,
отделения, выдворили негра, с которого Эйр делал набросок. Кондуктор сказал
очень грубо: "Живо в первое отделение, тоже расселся среди белых!" Бедняга
тихо выскользнул, но был так жалок, что я внутренне к нему рванулся. Что он
такого сделал? Он был пристоен, чисто одет, прилично вел себя. Я беспокойно
заерзал и побагровел от стыда, но, боюсь, этим и ограничился. Была ли то с
моей стороны трусость или здравомыслие, решайте сами. Чем ближе мы
подъезжали к югу, тем больше я волновался, оправдает ли себя моя тактика
осмотрительности. Выглядывая из окна на каждой станции, я видел, что темных
лиц становится все больше, обстановка здесь совсем другая, чем на севере, и
ощущал тревогу, но вскоре не мог не заметить, что черные лица, которых тут
были сотни, казались счастливыми и улыбающимися, а голоса звучали громко,
переливаясь смехом, и, судя по внешнему впечатлению, принадлежали людям,
вполне довольным жизнью. После чего я несколько распрямился и больше не
забивался в угол купе; понемногу мне стало приходить в голову, что я,
наверное, зря волнуюсь и вряд ли меня ждут героические подвиги и
мученическая смерть за дело освобождения негров, скорее, мне предстоит жить,
стыдясь своего бездушия. Я обещал себе, что буду и впредь глядеть не дальше,
чем необходимо, и слушать не больше, чем придется, держа свои выводы при
себе. Кто, как вы думаете, необычайно затруднил весь этот план? Кто чуть не
загубил мою поездку своей прямолинейностью? Кто своей пристрастностью чуть
не довел меня до бегства из города? Представьте себе, - юный Эйр Кроу, мой
секретарь и спутник, венец всех добродетелей, вежливый, застенчивый, милый
молодой человек, тихоня, который, как я считал, и мухи не обидит и уж тем
более не станет делать глупости. Признаюсь, никогда и ничему я так не
удивлялся, как позиции, которую занял Эйр.
Приняв решение ехать в Вашингтон, а после - на крайний юг, возможно, в
Новый Орлеан, я был доволен. Мои кости были слишком стары для холода, а
американские зимы гораздо холоднее наших (случай узнать, насколько именно,
представился мне в другой мой приезд). Мне нравилось, что, оставшись в той
же самой стране, где всего день или два назад мне в лицо отчаянно хлестало
градом, я буду греться в теплых солнечных лучах, - как славно испытать
такое! Кроме того, чем дальше я углублялся на юг, тем лучше мог узнать чужую
страну - чужую, а не ту, что так сильно напоминала мою собственную.
Тревожило меня только одно - меня смущала проблема рабства. На севере она не
так заметна, но, как я знал, на юге мне неизбежно придется с ней
столкнуться. Мои опытные друзья предупреждали меня в Англии, что, если я
хочу, чтобы меня в Америке встретили гостеприимно и мои лекции пользовались
успехом, - чего я, естественно, хотел от всей души, - я должен быть
необычайно осторожен и не принимать ничьей стороны в споре о рабовладении.
Меня также предупреждали, что я не должен рисковать, не должен высказывать
никаких, даже самых обтекаемых мнений; любой поступок, заявляли мои друзья
со всей решительностью, сочтут в Америке значительным, будь то разговор с
негром где-то в сторонке или посещение собрания, на котором обсуждается
негритянский вопрос, - в общем, любое, даже самое мелкое действие, в котором
можно усмотреть предвзятость, чревато неприятными последствиями. Я тотчас
навлеку на себя гнев противной стороны, тогда как поддержка дружественной
мне не возместит урона. Я очень серьезно отнесся к этим наставлениям, что,
правду сказать, вовсе не было трудно. Можете сетовать на мою
бесчувственность, можете поражаться слабости моих моральных устоев, но я не
для того приехал в Америку, чтобы громить чужие привычки, обычаи и образ
жизни, я приехал читать лекции об английских юмористах, и не, более того. К
тому же я не чувствовал великого негодования по поводу рабства негров. Какое
страшное признание, говорите вы? Так думаете вы, чувствительные дамы,
проливающие слезы над бедным крошкой-негритенком, разлученным с матерью, но
я смотрю на дело проще и трезвее. Я ничего не мог тут изменить. В моей
родной стране есть много такого, о чем мне следует гораздо больше
беспокоиться, и никому не повредит, если я тем и ограничусь.
Звучит не очень утешительно, не правда ли? Честно сказать, меня это не
утешало, хотя из соображений личной выгоды я очень старался верить в то, что
говорю. Если я чего и боялся, так это того, что моя нейтральность
подвергнется проверке. Положим, я увижу, как белый надсмотрщик до крови
избивает раба-негра, что я предприму? Отвернусь, еще раз скажу, что это не
мое дело, и поспешу в сторону, испытывая легкое поташнивание? Или, положим,
увижу, как плачущую рабыню-негритянку оттаскивают от ее детей, чтоб
разлучить с ними навеки, неужто я в самом деле скажу, что это меня не
касается, и не вмешаюсь? При одной мысли об этом на меня нападала дрожь. К
испытанию, которого я так боялся, ближе всего я оказался на пути из
Филадельфии в Балтимор, когда из нашего купе, или, как тут говорят,
отделения, выдворили негра, с которого Эйр делал набросок. Кондуктор сказал
очень грубо: "Живо в первое отделение, тоже расселся среди белых!" Бедняга
тихо выскользнул, но был так жалок, что я внутренне к нему рванулся. Что он
такого сделал? Он был пристоен, чисто одет, прилично вел себя. Я беспокойно
заерзал и побагровел от стыда, но, боюсь, этим и ограничился. Была ли то с
моей стороны трусость или здравомыслие, решайте сами. Чем ближе мы
подъезжали к югу, тем больше я волновался, оправдает ли себя моя тактика
осмотрительности. Выглядывая из окна на каждой станции, я видел, что темных
лиц становится все больше, обстановка здесь совсем другая, чем на севере, и
ощущал тревогу, но вскоре не мог не заметить, что черные лица, которых тут
были сотни, казались счастливыми и улыбающимися, а голоса звучали громко,
переливаясь смехом, и, судя по внешнему впечатлению, принадлежали людям,
вполне довольным жизнью. После чего я несколько распрямился и больше не
забивался в угол купе; понемногу мне стало приходить в голову, что я,
наверное, зря волнуюсь и вряд ли меня ждут героические подвиги и
мученическая смерть за дело освобождения негров, скорее, мне предстоит жить,
стыдясь своего бездушия. Я обещал себе, что буду и впредь глядеть не дальше,
чем необходимо, и слушать не больше, чем придется, держа свои выводы при
себе. Кто, как вы думаете, необычайно затруднил весь этот план? Кто чуть не
загубил мою поездку своей прямолинейностью? Кто своей пристрастностью чуть
не довел меня до бегства из города? Представьте себе, - юный Эйр Кроу, мой
секретарь и спутник, венец всех добродетелей, вежливый, застенчивый, милый
молодой человек, тихоня, который, как я считал, и мухи не обидит и уж тем
более не станет делать глупости. Признаюсь, никогда и ничему я так не
удивлялся, как позиции, которую занял Эйр.
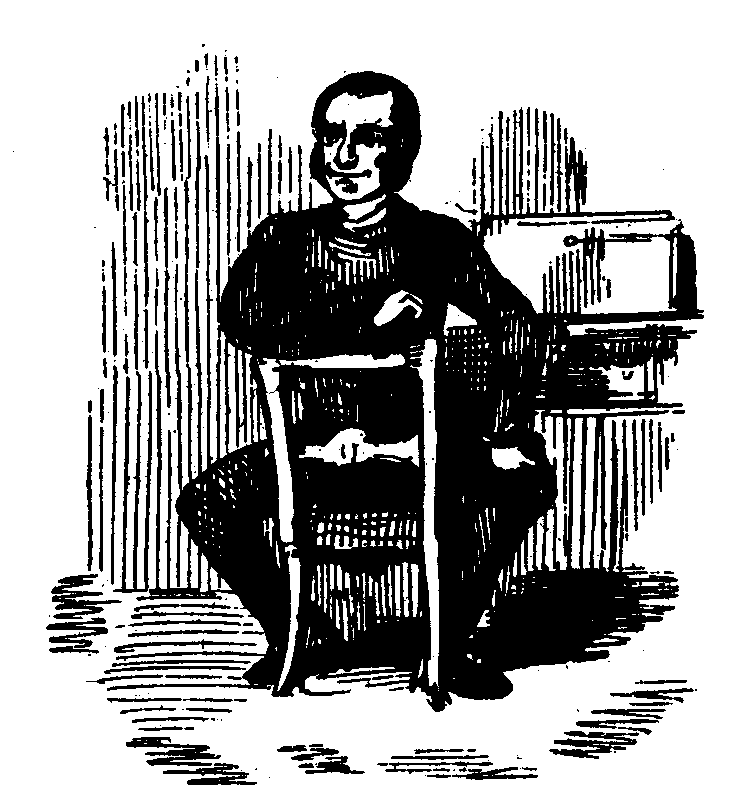 Я знать не знал о его взглядах на рабовладельческий вопрос, когда
решился взять его в Америку, даже не помню, чтоб он их выражал вслух, пока
мы не столкнулись с этой проблемой в жизни, однако он, должно быть, их
высказывал, ибо то был 1852 год, год выхода "Хижины дяди Тома" Гарриет
Бичер-Стоу, заставившей обливаться слезами полмира и разделившей всех
читателей на два лагеря, так что вряд ли он хранил бы молчание, даже если б
и не знал книги. Помню, он купил ее в самом начале нашего американского
турне и читал в поезде, она его очень взволновала, и он уговаривал меня
последовать его примеру. Говорил, что я обязан это сделать, что это мой
гражданский долг, - да-да, он бывал необычайно прямолинеен, - и мне пришлось
отказаться в очень резкой форме, прежде чем он понял, что отказ мой
окончателен. Он обдумывал его с невероятной серьезностью и явно был не в
силах совместить со всем остальным, что знал обо мне, но я держался
непреклонно. Почему я должен гореть желанием читать эту удручающую книгу? Я,
как и все, прекрасно знал, что это cause celebre (нашумевшая книга. - фр.) и
в ней содержатся душераздирающие, возможно, даже и правдивые описания
жестокостей и мук. По-моему, такие болезненные темы не входят в сферу
художественной литературы. Пусть миссис Бичер-Стоу, если ей угодно, проведет
обследование истинного положения негров в Америке и опубликует научные
результаты своих трудов, чтоб их читали те, кто ими интересуется, но пусть
не пробует скрывать политику в одеждах беллетристики, я, например, ни в чем
подобном не нуждаюсь. Должен сознаться, что позже, когда я встретил эту
даму, ее доброта и очарование смягчили мою суровость и заставили иначе
взглянуть на книгу, которой я так и не читал, но в ту давнюю пору я был
настроен в высшей степени непримиримо.
Я знать не знал о его взглядах на рабовладельческий вопрос, когда
решился взять его в Америку, даже не помню, чтоб он их выражал вслух, пока
мы не столкнулись с этой проблемой в жизни, однако он, должно быть, их
высказывал, ибо то был 1852 год, год выхода "Хижины дяди Тома" Гарриет
Бичер-Стоу, заставившей обливаться слезами полмира и разделившей всех
читателей на два лагеря, так что вряд ли он хранил бы молчание, даже если б
и не знал книги. Помню, он купил ее в самом начале нашего американского
турне и читал в поезде, она его очень взволновала, и он уговаривал меня
последовать его примеру. Говорил, что я обязан это сделать, что это мой
гражданский долг, - да-да, он бывал необычайно прямолинеен, - и мне пришлось
отказаться в очень резкой форме, прежде чем он понял, что отказ мой
окончателен. Он обдумывал его с невероятной серьезностью и явно был не в
силах совместить со всем остальным, что знал обо мне, но я держался
непреклонно. Почему я должен гореть желанием читать эту удручающую книгу? Я,
как и все, прекрасно знал, что это cause celebre (нашумевшая книга. - фр.) и
в ней содержатся душераздирающие, возможно, даже и правдивые описания
жестокостей и мук. По-моему, такие болезненные темы не входят в сферу
художественной литературы. Пусть миссис Бичер-Стоу, если ей угодно, проведет
обследование истинного положения негров в Америке и опубликует научные
результаты своих трудов, чтоб их читали те, кто ими интересуется, но пусть
не пробует скрывать политику в одеждах беллетристики, я, например, ни в чем
подобном не нуждаюсь. Должен сознаться, что позже, когда я встретил эту
даму, ее доброта и очарование смягчили мою суровость и заставили иначе
взглянуть на книгу, которой я так и не читал, но в ту давнюю пору я был
настроен в высшей степени непримиримо.
 Я полагал, что свои взгляды на обсуждаемый предмет выразил достаточно
ясно во время нашего столкновения с Эйром и что мне больше не придется
внушать ему, как важно, чтобы он, будучи моим секретарем, считался с моими
желаниями, поэтому мне и в голову не пришло что-либо возбранять ему - я
полагался на его чувство долга, да и кроме того, немыслимо было обращаться с
ним как с ребенком и запрещать бывать там или сям. Однако он не оправдал
моего доверия и отправился слушать преподобного Теодора Паркера, лидера
сторонников отмены рабства, где его присутствие было должным образом
отмечено и оценено теми, кто считает своим кровным делом сколачивать себе
политический капитал. Я рассердился, но ничего не сказал, ведь все это я уже
говорил, однако когда во время нашего пребывания в Нью-Йорке Эйр взял альбом
для рисования и отправился на Уоллстрит в аукционный зал, где шла
работорговля, чем привлек всеобщее внимание к себе, а следовательно, и ко
мне, я рассердился по-настоящему. Он думал, что сумеет тихо проскользнуть
внутрь, сядет в уголок и, никому не мешая, будет делать наброски с того, что
его заинтересует, но тут проявилась его ни с чем не сообразная наивность.
Как мог он не привлечь к себе внимания, если был там единственным белым, да
еще и рисовал в подобных условиях - зрелище и для рабов, и для их хозяев
диковинное. Естественно, торговцы заподозрили, что он явился сюда по
соображениям, которым они отнюдь не сочувствовали, последовала безобразная
сцена, и его оттуда вытолкали. Он пробовал сопротивляться, но когда стало
понятно, что нужно либо сдаться и уйти, либо стать жертвой насилия, он
заговорил и сказал - признаюсь, я повторяю его слова с оттенком восхищения,
- так вот, он сказал, что выгнать его можно, но нельзя помешать ему
запомнить и записать все, что он тут видел. В гостиницу он вернулся страшно
расстроенный и тотчас стал мне описывать, какие наблюдал унизительные сцены
и как с рабами, особенно с женщинами, обращались хуже, чем со скотом, но я
его остановил, успокоил и сказал, что не только не стану его слушать, но и
не допущу, чтобы он совершал впредь подобные безумства. Справедливости ради
должен заметить, что Эйр меня понял и больше не подавал повода для
беспокойства, хотя, подозреваю, навсегда проникся ко мне презрением за
слабость и жестокосердие. Я, со своей стороны, считал, что он не сумел
понять всей сложности вопроса: конечно, очень хорошо кипеть благородным
негодованием, защищать темнокожего друга, брата и проч., но существует целый
ряд соображений иного, не морального свойства, осложняющих проблему. Те, кто
в Америке подписали "Манифест против рабства", не предвидели экономических
последствий освобождения трех миллионов рабов и не задумались над точкой
зрения рабовладельцев, которые несли заботы и расходы по содержанию негров,
скорее всего, огромные, и рассчитать их как слуг было невозможно. На деле,
несчастья наших бедняков ничуть не меньше, если не больше, чем несчастья
негров, и незачем прикрываться красивой фразой, будто они, по крайней мере,
свободны, ибо что значит свобода в таких условиях?
Видите, чем обернулось наше продвижение на юг? Лишь на месте с меня
спало напряжение - я понял, что ни мне, ни Эйру, как бы страстно он ни желал
того, не предстоит решать, на чьей мы стороне. Сначала мы отправились в
Вашингтон, который своей атмосферой и смешением архитектурных стилей
напоминал курорт Спа. То был очень дружелюбный городок, но какой-то странный
- с чертами Парижа, Лондона и даже Рима. Общая планировка тут французская, и
улицы похожи на бульвары, но вот вы доходите до Капитолия, и он напоминает
вам о Риме, церкви - об Англии, а зелень повсюду - сады, деревья - приводит
на ум Лондон. Вашингтону, хотя он и столица, не хватает оживленности
Нью-Йорка, местами он так походит на деревню, что тут, подумалось мне,
наверное, неплохо бы жилось. Люди здесь были милые, чуткие к искусству,
горевшие желанием внушить мне любовь к своему городу. В Вашингтоне напротив
Белого дома, который больше всего смахивает на загородное строение, есть
площадь, где жители воздвигли памятник генералу Джексону работы Кларка
Миллза, - поверьте мне, хуже этой статуи нет ничего на свете (какое тяжелое
испытание для прославленной деликатности Титмарша!). Пусть бы меня провели
мимо нее один раз и спросили с этой пугающей американской откровенностью,
что я о ней думаю (пугает же она потому, что от вас не ждут ответного
чистосердечия), но меня водили к ней десятки раз, казалось, все пути ведут
туда, поэтому передо мной стояла чертовски трудная задача: не показать, что
вышеозначенная статуя, изображавшая чудовищного всадника на чудовищной
лошади, заслуживает, на мой взгляд, единственного приговора - чудовищно.
Каждый раз, когда она начинала маячить впереди, я знал, что встреча
неминуема, и прибегал к маленькой хитрости: принимался что-нибудь очень
быстро говорить спутнику, шагавшему слева, чтоб не глядеть вправо и не
уткнуться невзначай взглядом в это чудище, иногда я даже временно как бы
лишался зрения - знаете, соринка попадала в глаз или что-нибудь такое же.
В Вашингтоне, в этом неказистом Белом доме мне случилось сидеть за
обеденным столом с двумя президентами Соединенных Штатов. Не правда ли,
достойное событие, чтоб написать о нем матушке? Пожалуй, если не считать
того, что президент не вызывает у американцев того; великого почтения, какое
внушает им наша королева. Еще бы, говорите вы, побагровев от гнева, какое
может быть сравнение! Не знаю, почему мне их не сравнивать. Не потому ли
наша королева кажется нам более великой, что корона - более древнее
установление? Признаюсь, преклонение американцев перед высочествами внушает
мне тревогу. Вы полагаете, оно уменьшится, как только их собственная система
власти станет более зрелой? Хочется в это верить, надеюсь, что спустя сто
лет они не станут охать и ахать над маленькой женщиной в блестящем венце, -
правду сказать, в последнее время я даже и блеска особого не видел - и будут
больше гордиться демократическими институтами, которые провозгласили своим
достоянием. Сам я был на седьмом небе, когда оказался рядом с их тринадцатым
президентом, и буду помнить об этом событии до конца дней. К тому же он был
славный малый, этот президент, правда, не слишком начитанный, но кто из
наших правителей начитан? Счастье, если все они вместе прочли дюжину книг, и
если на эту дюжину приходится один роман, мы все кричим "ура!".
Признаюсь, - хотя боюсь, мое признание противоречит сказанному ранее, -
в ту пору, когда мы уехали из Вашингтона, у меня появилось чувство, будто
мои странствия только начинаются. После Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии
пейзажи вокруг Вашингтона казались мне чужими, но стоило нам их оставить, и
я увидел, что ошибся: по мере того, как мы продвигались дальше и видели, как
выглядела южная часть страны, мы сознавали, что ничего особенно чуждого в
Вашингтоне не было. И вот, наконец, несмотря на февраль, настала чудесная
погода - совсем весна, тепло, повсюду распустившиеся деревья и цветы, и
главная отрада - свежие бананы к столу. Повсюду чувствовалось изобилие -
всепобеждающее и неизвестное нам в Англии: бескрайние мили зелени,
многоцветная листва и пряные ароматы неведомых растений. Дома стали
встречаться реже и выглядели примитивнее, города уменьшились и дальше друг
от друга отодвинулись, Ричмонд казался нам деревней, пока мы не попадали в
Чарльстон, который глядел столицей в сравнении с Саванной. Я нашел, что
Виргиния очень красива, не хуже самых красивых уголков Англии, только более
своеобразна, но Джорджия оказалась слишком равнинной и однообразной по
растительности и по характеру поселений. Поражало, как быстро лесистые
горные склоны Виргинии перешли в илистые берега и красноводные реки
Джорджии, я мог поклясться, что мы пересекли океан, а то и два, чтобы сюда
добраться, но нет, то была часть той же страны. Сидя на одном из белых
пыхтящих пароходиков, плывших вверх по красной воде реки между огромными
топкими островами серых отмелей, я чувствовал себя миссионером и не мог
поверить, что на всей реке найдется хоть один человек, испытывающий пусть
самый мимолетный интерес к английским юмористам восемнадцатого века. Как
нелепо я себя чувствовал: облаченный в жесткий костюм джентльмена безвестный
писатель из дальней крошечной страны, дерзнувший забраться в такую глушь,
чтобы читать лекции! Но как же было удивительно, что даже там, где вместо
мощеных тротуаров перед нами лежала песчаная дорога, буквально из ниоткуда
появлялось десятка два, а то и больше человек, которые собирались в простом
деревянном сарае и слушали меня с видом величайшего понимания и
удовольствия. Вы не считаете, что это много говорит о человеческой природе?
Я полагал, что свои взгляды на обсуждаемый предмет выразил достаточно
ясно во время нашего столкновения с Эйром и что мне больше не придется
внушать ему, как важно, чтобы он, будучи моим секретарем, считался с моими
желаниями, поэтому мне и в голову не пришло что-либо возбранять ему - я
полагался на его чувство долга, да и кроме того, немыслимо было обращаться с
ним как с ребенком и запрещать бывать там или сям. Однако он не оправдал
моего доверия и отправился слушать преподобного Теодора Паркера, лидера
сторонников отмены рабства, где его присутствие было должным образом
отмечено и оценено теми, кто считает своим кровным делом сколачивать себе
политический капитал. Я рассердился, но ничего не сказал, ведь все это я уже
говорил, однако когда во время нашего пребывания в Нью-Йорке Эйр взял альбом
для рисования и отправился на Уоллстрит в аукционный зал, где шла
работорговля, чем привлек всеобщее внимание к себе, а следовательно, и ко
мне, я рассердился по-настоящему. Он думал, что сумеет тихо проскользнуть
внутрь, сядет в уголок и, никому не мешая, будет делать наброски с того, что
его заинтересует, но тут проявилась его ни с чем не сообразная наивность.
Как мог он не привлечь к себе внимания, если был там единственным белым, да
еще и рисовал в подобных условиях - зрелище и для рабов, и для их хозяев
диковинное. Естественно, торговцы заподозрили, что он явился сюда по
соображениям, которым они отнюдь не сочувствовали, последовала безобразная
сцена, и его оттуда вытолкали. Он пробовал сопротивляться, но когда стало
понятно, что нужно либо сдаться и уйти, либо стать жертвой насилия, он
заговорил и сказал - признаюсь, я повторяю его слова с оттенком восхищения,
- так вот, он сказал, что выгнать его можно, но нельзя помешать ему
запомнить и записать все, что он тут видел. В гостиницу он вернулся страшно
расстроенный и тотчас стал мне описывать, какие наблюдал унизительные сцены
и как с рабами, особенно с женщинами, обращались хуже, чем со скотом, но я
его остановил, успокоил и сказал, что не только не стану его слушать, но и
не допущу, чтобы он совершал впредь подобные безумства. Справедливости ради
должен заметить, что Эйр меня понял и больше не подавал повода для
беспокойства, хотя, подозреваю, навсегда проникся ко мне презрением за
слабость и жестокосердие. Я, со своей стороны, считал, что он не сумел
понять всей сложности вопроса: конечно, очень хорошо кипеть благородным
негодованием, защищать темнокожего друга, брата и проч., но существует целый
ряд соображений иного, не морального свойства, осложняющих проблему. Те, кто
в Америке подписали "Манифест против рабства", не предвидели экономических
последствий освобождения трех миллионов рабов и не задумались над точкой
зрения рабовладельцев, которые несли заботы и расходы по содержанию негров,
скорее всего, огромные, и рассчитать их как слуг было невозможно. На деле,
несчастья наших бедняков ничуть не меньше, если не больше, чем несчастья
негров, и незачем прикрываться красивой фразой, будто они, по крайней мере,
свободны, ибо что значит свобода в таких условиях?
Видите, чем обернулось наше продвижение на юг? Лишь на месте с меня
спало напряжение - я понял, что ни мне, ни Эйру, как бы страстно он ни желал
того, не предстоит решать, на чьей мы стороне. Сначала мы отправились в
Вашингтон, который своей атмосферой и смешением архитектурных стилей
напоминал курорт Спа. То был очень дружелюбный городок, но какой-то странный
- с чертами Парижа, Лондона и даже Рима. Общая планировка тут французская, и
улицы похожи на бульвары, но вот вы доходите до Капитолия, и он напоминает
вам о Риме, церкви - об Англии, а зелень повсюду - сады, деревья - приводит
на ум Лондон. Вашингтону, хотя он и столица, не хватает оживленности
Нью-Йорка, местами он так походит на деревню, что тут, подумалось мне,
наверное, неплохо бы жилось. Люди здесь были милые, чуткие к искусству,
горевшие желанием внушить мне любовь к своему городу. В Вашингтоне напротив
Белого дома, который больше всего смахивает на загородное строение, есть
площадь, где жители воздвигли памятник генералу Джексону работы Кларка
Миллза, - поверьте мне, хуже этой статуи нет ничего на свете (какое тяжелое
испытание для прославленной деликатности Титмарша!). Пусть бы меня провели
мимо нее один раз и спросили с этой пугающей американской откровенностью,
что я о ней думаю (пугает же она потому, что от вас не ждут ответного
чистосердечия), но меня водили к ней десятки раз, казалось, все пути ведут
туда, поэтому передо мной стояла чертовски трудная задача: не показать, что
вышеозначенная статуя, изображавшая чудовищного всадника на чудовищной
лошади, заслуживает, на мой взгляд, единственного приговора - чудовищно.
Каждый раз, когда она начинала маячить впереди, я знал, что встреча
неминуема, и прибегал к маленькой хитрости: принимался что-нибудь очень
быстро говорить спутнику, шагавшему слева, чтоб не глядеть вправо и не
уткнуться невзначай взглядом в это чудище, иногда я даже временно как бы
лишался зрения - знаете, соринка попадала в глаз или что-нибудь такое же.
В Вашингтоне, в этом неказистом Белом доме мне случилось сидеть за
обеденным столом с двумя президентами Соединенных Штатов. Не правда ли,
достойное событие, чтоб написать о нем матушке? Пожалуй, если не считать
того, что президент не вызывает у американцев того; великого почтения, какое
внушает им наша королева. Еще бы, говорите вы, побагровев от гнева, какое
может быть сравнение! Не знаю, почему мне их не сравнивать. Не потому ли
наша королева кажется нам более великой, что корона - более древнее
установление? Признаюсь, преклонение американцев перед высочествами внушает
мне тревогу. Вы полагаете, оно уменьшится, как только их собственная система
власти станет более зрелой? Хочется в это верить, надеюсь, что спустя сто
лет они не станут охать и ахать над маленькой женщиной в блестящем венце, -
правду сказать, в последнее время я даже и блеска особого не видел - и будут
больше гордиться демократическими институтами, которые провозгласили своим
достоянием. Сам я был на седьмом небе, когда оказался рядом с их тринадцатым
президентом, и буду помнить об этом событии до конца дней. К тому же он был
славный малый, этот президент, правда, не слишком начитанный, но кто из
наших правителей начитан? Счастье, если все они вместе прочли дюжину книг, и
если на эту дюжину приходится один роман, мы все кричим "ура!".
Признаюсь, - хотя боюсь, мое признание противоречит сказанному ранее, -
в ту пору, когда мы уехали из Вашингтона, у меня появилось чувство, будто
мои странствия только начинаются. После Бостона, Нью-Йорка и Филадельфии
пейзажи вокруг Вашингтона казались мне чужими, но стоило нам их оставить, и
я увидел, что ошибся: по мере того, как мы продвигались дальше и видели, как
выглядела южная часть страны, мы сознавали, что ничего особенно чуждого в
Вашингтоне не было. И вот, наконец, несмотря на февраль, настала чудесная
погода - совсем весна, тепло, повсюду распустившиеся деревья и цветы, и
главная отрада - свежие бананы к столу. Повсюду чувствовалось изобилие -
всепобеждающее и неизвестное нам в Англии: бескрайние мили зелени,
многоцветная листва и пряные ароматы неведомых растений. Дома стали
встречаться реже и выглядели примитивнее, города уменьшились и дальше друг
от друга отодвинулись, Ричмонд казался нам деревней, пока мы не попадали в
Чарльстон, который глядел столицей в сравнении с Саванной. Я нашел, что
Виргиния очень красива, не хуже самых красивых уголков Англии, только более
своеобразна, но Джорджия оказалась слишком равнинной и однообразной по
растительности и по характеру поселений. Поражало, как быстро лесистые
горные склоны Виргинии перешли в илистые берега и красноводные реки
Джорджии, я мог поклясться, что мы пересекли океан, а то и два, чтобы сюда
добраться, но нет, то была часть той же страны. Сидя на одном из белых
пыхтящих пароходиков, плывших вверх по красной воде реки между огромными
топкими островами серых отмелей, я чувствовал себя миссионером и не мог
поверить, что на всей реке найдется хоть один человек, испытывающий пусть
самый мимолетный интерес к английским юмористам восемнадцатого века. Как
нелепо я себя чувствовал: облаченный в жесткий костюм джентльмена безвестный
писатель из дальней крошечной страны, дерзнувший забраться в такую глушь,
чтобы читать лекции! Но как же было удивительно, что даже там, где вместо
мощеных тротуаров перед нами лежала песчаная дорога, буквально из ниоткуда
появлялось десятка два, а то и больше человек, которые собирались в простом
деревянном сарае и слушали меня с видом величайшего понимания и
удовольствия. Вы не считаете, что это много говорит о человеческой природе?
 Странствие по югу превратилось в настоящее путешествие, подчас очень
опасное. Однажды между Фредериксбергом и Ричмондом два дюжих негра на крутом
откосе стопорили движение поезда, время от времени бросая бревна на рельсы,
потому что тормозов у паровоза не было. Если вам даже думать об этом
страшно, вообразите, что чувствовал я, когда сидел в вагоне и переживал все
это въяве - бр-р-р! Мы с Эйром порою останавливались в страшной глухомани и
очень гордились своей отвагой. Некоторые гостиницы были так наводнены
блохами - уж в этом-то я разбираюсь, - что мы боялись быть съеденными
заживо, а когда выходили погулять, не верилось, что окружающий пейзаж нам не
приснился: вокруг царили невероятные убожество и ветхость. Нас очень
сковывало и смущало, что мы так сильно отличаемся от местных жителей: хотя
мы с ними говорили на одном языке - если прибавить или убавить
гласную-другую - общение наше протекало так, словно то было тарабарское
наречие. Все негры из речных верховьев неспешно двигались по своим делам, и,
глядя на их чужие лица, совсем отличные от наших, я не мог себя не
спрашивать, грешно ли думать, что их толстые, приплюснутые физиономии
свидетельствуют о врожденном недостатке интеллекта? Само их лицезрение
ставило меня в тупик и наполняло чувствами, которых мне бы не хотелось
знать, поэтому я предпочитал глядеть на мальчишек, похожих на всех мальчишек
в мире, лишь более живых и подвижных, в отличие от их родителей. Мне
нравилось болтать и шутить с ними, должен сказать, что они были понятливы и
отвечали дружелюбно. Эйр, конечно, пытался отравить это невинное
удовольствие, пытаясь привлечь мое внимание к печальным созданиям с жалкими
узелками, которые ждали отправки на аукцион, но я предпочитал замечать
светлую сторону и вглядывался в играющих детей или в веселую улыбку
негритянки, торговки арахисом, которая в ответ на мой вопрос о здоровье
ответила: "Спасибо, дела идут на лад". Слишком легко видеть повсюду только
горе, и так во всем в жизни.
В этой части страны у меня было не так много лекций, как в городах, но
это и неудивительно. В промежутках мне хватало времени слоняться, сидеть на
солнышке, зевать, спать, есть, пить, курить - ритм жизни был тут такой
неспешный, что моего безделья, пожалуй, никто не замечал. Поначалу оно мне
нравилось, но вскоре наскучило, ничто меня не взбадривало: ни общество, ни
театры, ни клубы - делать особенно было нечего, осматривать тоже, и над всем
краем стояло марево лени, пропитавшей меня до мозга костей. Возможно, где-то
какие-то люди тяжко трудились, но я их не видел и не слышал и чувствовал,
что прирастаю к месту, в котором остановилось время. Все чаще и чаще я стал
возвращаться мыслями к дому и к близким, хотя меня манил Новый Орлеан, где,
как говорили, можно было ждать хороших сборов от изголодавшейся по
культурным развлечениям публики, но я стал уставать от юга и меня
останавливала мысль о неудобствах шестидневного пути. Я снова не знал, что
делать дальше. Пора было задуматься - и очень глубоко - не только о том,
куда ехать по Америке, но и о том, в какую сторону двигаться по жизни,
однако дремотный дух этих мест вызывал во мне лишь вялость и сонливость, и
если я о чем и думал, так это о том, что подадут к обеду. Конечно, я мечтал,
мечтал и ночью, и днем, но стыдно сказать, о чем были мои грезы, - они,
наверное, вас разочаруют. Разве я не предал прошлое забвению, разве не
исцелился, разве Америка не вернула мне жизнелюбие? Но что бы нас ни
разделяло, осталась память о добром старом времени, которое нельзя было
отринуть, и, несмотря на боль и горе, из него струились потоки прежней любви
и доброты. Что за загадки? - спрашиваете вы. Какие там загадки, я говорю о
Джейн. Однако то не были неотступные, страстные думы, терзавшие меня так
много лет подряд, но грустные, неясные, не лишенные приятности грезы, в
которых я глядел на нее издали и слал прощальный привет, исполненный печали.
Она прислала мне в Америку одну из своих чопорных, ненавистных мне записочек
- я ни за что ее не процитирую из страха, что вы станете смеяться, -
сообщала, что снова в положении, здорова и желает мне того же. Другие мои
корреспондентки, сестры Эллиот, тоже сообщили мне эту новость, добавив, что
Джейн еще страдает, но спокойна. Что ж, я тоже хранил спокойствие настолько,
что распорядился, чтоб в день, рождения ей от моего имени доставили две
лилии: для нее и для ее новорожденного младенца, - и все же в моей душе был
тайный уголок, который посвящен был ей одной. А Салли Бакстер? Ах, что за
глупости, это маленькое увлечение совсем улетучилось из моей памяти.
Я полагал, что поеду в Канаду и оттуда отправлюсь домой примерно в
июне, но пока я мешкал на юге, не желая расставаться с теплыми солнечными
лучами, пришло письмо, вернее, два письма, заставившие меня поторопиться и
ехать прямо в Нью-Йорк, откуда при желании я мог отправиться домой
немедленно. В письмах говорилось, что мой отчим тяжело болел, перенес что-то
вроде удара, но уже оправился и для тревоги нет причин. Вся эта грустная
история случилась несколько недель назад, сокрушаться было бесполезно,
принимать срочные меры - поздно, но, сидя на юге, на веранде, я читал письмо
и снова переживал с ними это ужасное время, делил их горе и хотел быть с
ними рядом. В конце концов, все обошлось, но все же меня охватила великая
тревога, и я изводил себя мыслью, что на месте моих девочек - будь я в
положении отчима, делать бы вообще ничего не пришлось - я впал бы в истерику
и не сумел от страха пальцем шевельнуть. За сколько дней можно доехать до
Нью-Йорка? Сколько недель ждут судна? Боже мой, это немыслимо, это ужасно, я
был не вправе задерживаться ни на минуту. Что ни говорите, а я подвел
матушку как раз тогда, когда она больше всего во мне нуждалась, - уж она-то,
видит бог, никогда меня не подводила, когда бывала мне нужна. Я принялся
думать о горе этой достойной женщины, и мое раздражение на ее безмерную
преданность отчиму сменилось чувством вины из-за того, что я не оценил как
должно любовь, их, несомненно, соединявшую. Мне следовало быть с ней рядом,
держать ее за руку, подставить ей плечо, на котором она могла бы
выплакаться; но когда я вообразил, что Анни, а может быть, и Минни пришлось
это делать вместо меня, я ощутил еще большую тревогу: что если они оказались
недостаточно крепкими и сломились под тяжестью испытания?
То был толчок, в котором я нуждался, - мы упаковали вещи и отправились
в Нью-Йорк с величайшей поспешностью. Как сильно отличался путь назад:
занятому своими думами путешественнику, которого тянет домой, ничто не
интересно, кроме стрелок часов и железнодорожных расписаний, и хотя я вовсе
не был уверен в том, что мне и в самом деле следует ехать домой и оставить
мысли о Канаде, я торопился попасть туда, где мог бы часто получать известия
из дому, и думал лишь об этом.
^T16^U
^TЯ возвращаюсь домой и снова впадаю в уныние^U
Как только я оказался в Нью-Йорке, где мог регулярно получать почту, я
настолько успокоился, что вновь всерьез стал размышлять: а не поехать ли мне
все-таки в Канаду? Это было очень близко, мне не пришлось бы возвращаться в
Нью-Йорк: из Монреаля в Ливерпуль ходили суда, - по крайней мере, я считал,
что ходили, - и отказаться от поездки значило упустить случай. Уже стоял
апрель, зима кончилась, лучше всего - думал я - вернуться домой к июню, чтоб
вывезти куда-нибудь семью и хорошенько отдохнуть. Пока я навещал старых
друзей" и носился по городу, все мои мысли бежали в этом направлении, но вот
что случилось дальше. Я сидел в "Кларендоне", в некоем подобии холла, где
американцы обычно читают газеты, когда в глаза мне бросилось объявление о
том, что сегодня утром отбывает пассажирский лайнер "Кунард", казалось, это
напечатали специально для меня. Я сразу понял, что непременно должен на него
попасть, хоть эта мысль была, вне всякого сомнения, нелепа. Словно
одержимый, я бросился к Эйру и велел ему паковаться, ибо хотел, чтоб мы
отправились сегодня же. Не дожидаясь его ответа, я выскочил на лестницу и
уже снова бежал по улице к билетной кассе на Уолл-стрит. Думаю, что меня там
приняли за сумасшедшего: - У вас есть два места на этот, как он называется,
лайнер, который сегодня отплывает? - Есть, сэр, но он вот-вот отчалит. -
Неважно, я их покупаю. - Вам надо быть на судне через двадцать минут, - и я
оттуда выскочил. Не знаю, как это Эйру удалось, но к минуте моего
возвращения наш багаж был собран, мы даже поднялись на борт заблаговременно.
Хотел бы я всегда так уезжать: без суеты, без нервотрепки, без
мучительных прощаний, просто подняться и уехать. Боюсь, друзья, которых я
оставил, сочли, что поступил я очень странно, невоспитанно и не
по-джентльменски, жалею, если огорчил их, но зря они усмотрели в моей
поспешности знак неуважения, знай они меня лучше, они бы так не подумали.
Секрет же в том, что мною иногда овладевают неудержимые порывы, которым я
вынужден подчиняться, иначе потом невыносимо страдаю от тоски и
разочарования. В такие минуты меня охватывает страшное нервное возбуждение,
которое придает мне редкостную энергию и решимость: я чувствую прилив
жизненных сил и весь горю энтузиазмом. Тогда в "Кларендоне" мне словно
кто-то приказал или внушил под гипнозом: _домой_! Объявление гласило:
_домой_, - и я поехал домой.
Странствие по югу превратилось в настоящее путешествие, подчас очень
опасное. Однажды между Фредериксбергом и Ричмондом два дюжих негра на крутом
откосе стопорили движение поезда, время от времени бросая бревна на рельсы,
потому что тормозов у паровоза не было. Если вам даже думать об этом
страшно, вообразите, что чувствовал я, когда сидел в вагоне и переживал все
это въяве - бр-р-р! Мы с Эйром порою останавливались в страшной глухомани и
очень гордились своей отвагой. Некоторые гостиницы были так наводнены
блохами - уж в этом-то я разбираюсь, - что мы боялись быть съеденными
заживо, а когда выходили погулять, не верилось, что окружающий пейзаж нам не
приснился: вокруг царили невероятные убожество и ветхость. Нас очень
сковывало и смущало, что мы так сильно отличаемся от местных жителей: хотя
мы с ними говорили на одном языке - если прибавить или убавить
гласную-другую - общение наше протекало так, словно то было тарабарское
наречие. Все негры из речных верховьев неспешно двигались по своим делам, и,
глядя на их чужие лица, совсем отличные от наших, я не мог себя не
спрашивать, грешно ли думать, что их толстые, приплюснутые физиономии
свидетельствуют о врожденном недостатке интеллекта? Само их лицезрение
ставило меня в тупик и наполняло чувствами, которых мне бы не хотелось
знать, поэтому я предпочитал глядеть на мальчишек, похожих на всех мальчишек
в мире, лишь более живых и подвижных, в отличие от их родителей. Мне
нравилось болтать и шутить с ними, должен сказать, что они были понятливы и
отвечали дружелюбно. Эйр, конечно, пытался отравить это невинное
удовольствие, пытаясь привлечь мое внимание к печальным созданиям с жалкими
узелками, которые ждали отправки на аукцион, но я предпочитал замечать
светлую сторону и вглядывался в играющих детей или в веселую улыбку
негритянки, торговки арахисом, которая в ответ на мой вопрос о здоровье
ответила: "Спасибо, дела идут на лад". Слишком легко видеть повсюду только
горе, и так во всем в жизни.
В этой части страны у меня было не так много лекций, как в городах, но
это и неудивительно. В промежутках мне хватало времени слоняться, сидеть на
солнышке, зевать, спать, есть, пить, курить - ритм жизни был тут такой
неспешный, что моего безделья, пожалуй, никто не замечал. Поначалу оно мне
нравилось, но вскоре наскучило, ничто меня не взбадривало: ни общество, ни
театры, ни клубы - делать особенно было нечего, осматривать тоже, и над всем
краем стояло марево лени, пропитавшей меня до мозга костей. Возможно, где-то
какие-то люди тяжко трудились, но я их не видел и не слышал и чувствовал,
что прирастаю к месту, в котором остановилось время. Все чаще и чаще я стал
возвращаться мыслями к дому и к близким, хотя меня манил Новый Орлеан, где,
как говорили, можно было ждать хороших сборов от изголодавшейся по
культурным развлечениям публики, но я стал уставать от юга и меня
останавливала мысль о неудобствах шестидневного пути. Я снова не знал, что
делать дальше. Пора было задуматься - и очень глубоко - не только о том,
куда ехать по Америке, но и о том, в какую сторону двигаться по жизни,
однако дремотный дух этих мест вызывал во мне лишь вялость и сонливость, и
если я о чем и думал, так это о том, что подадут к обеду. Конечно, я мечтал,
мечтал и ночью, и днем, но стыдно сказать, о чем были мои грезы, - они,
наверное, вас разочаруют. Разве я не предал прошлое забвению, разве не
исцелился, разве Америка не вернула мне жизнелюбие? Но что бы нас ни
разделяло, осталась память о добром старом времени, которое нельзя было
отринуть, и, несмотря на боль и горе, из него струились потоки прежней любви
и доброты. Что за загадки? - спрашиваете вы. Какие там загадки, я говорю о
Джейн. Однако то не были неотступные, страстные думы, терзавшие меня так
много лет подряд, но грустные, неясные, не лишенные приятности грезы, в
которых я глядел на нее издали и слал прощальный привет, исполненный печали.
Она прислала мне в Америку одну из своих чопорных, ненавистных мне записочек
- я ни за что ее не процитирую из страха, что вы станете смеяться, -
сообщала, что снова в положении, здорова и желает мне того же. Другие мои
корреспондентки, сестры Эллиот, тоже сообщили мне эту новость, добавив, что
Джейн еще страдает, но спокойна. Что ж, я тоже хранил спокойствие настолько,
что распорядился, чтоб в день, рождения ей от моего имени доставили две
лилии: для нее и для ее новорожденного младенца, - и все же в моей душе был
тайный уголок, который посвящен был ей одной. А Салли Бакстер? Ах, что за
глупости, это маленькое увлечение совсем улетучилось из моей памяти.
Я полагал, что поеду в Канаду и оттуда отправлюсь домой примерно в
июне, но пока я мешкал на юге, не желая расставаться с теплыми солнечными
лучами, пришло письмо, вернее, два письма, заставившие меня поторопиться и
ехать прямо в Нью-Йорк, откуда при желании я мог отправиться домой
немедленно. В письмах говорилось, что мой отчим тяжело болел, перенес что-то
вроде удара, но уже оправился и для тревоги нет причин. Вся эта грустная
история случилась несколько недель назад, сокрушаться было бесполезно,
принимать срочные меры - поздно, но, сидя на юге, на веранде, я читал письмо
и снова переживал с ними это ужасное время, делил их горе и хотел быть с
ними рядом. В конце концов, все обошлось, но все же меня охватила великая
тревога, и я изводил себя мыслью, что на месте моих девочек - будь я в
положении отчима, делать бы вообще ничего не пришлось - я впал бы в истерику
и не сумел от страха пальцем шевельнуть. За сколько дней можно доехать до
Нью-Йорка? Сколько недель ждут судна? Боже мой, это немыслимо, это ужасно, я
был не вправе задерживаться ни на минуту. Что ни говорите, а я подвел
матушку как раз тогда, когда она больше всего во мне нуждалась, - уж она-то,
видит бог, никогда меня не подводила, когда бывала мне нужна. Я принялся
думать о горе этой достойной женщины, и мое раздражение на ее безмерную
преданность отчиму сменилось чувством вины из-за того, что я не оценил как
должно любовь, их, несомненно, соединявшую. Мне следовало быть с ней рядом,
держать ее за руку, подставить ей плечо, на котором она могла бы
выплакаться; но когда я вообразил, что Анни, а может быть, и Минни пришлось
это делать вместо меня, я ощутил еще большую тревогу: что если они оказались
недостаточно крепкими и сломились под тяжестью испытания?
То был толчок, в котором я нуждался, - мы упаковали вещи и отправились
в Нью-Йорк с величайшей поспешностью. Как сильно отличался путь назад:
занятому своими думами путешественнику, которого тянет домой, ничто не
интересно, кроме стрелок часов и железнодорожных расписаний, и хотя я вовсе
не был уверен в том, что мне и в самом деле следует ехать домой и оставить
мысли о Канаде, я торопился попасть туда, где мог бы часто получать известия
из дому, и думал лишь об этом.
^T16^U
^TЯ возвращаюсь домой и снова впадаю в уныние^U
Как только я оказался в Нью-Йорке, где мог регулярно получать почту, я
настолько успокоился, что вновь всерьез стал размышлять: а не поехать ли мне
все-таки в Канаду? Это было очень близко, мне не пришлось бы возвращаться в
Нью-Йорк: из Монреаля в Ливерпуль ходили суда, - по крайней мере, я считал,
что ходили, - и отказаться от поездки значило упустить случай. Уже стоял
апрель, зима кончилась, лучше всего - думал я - вернуться домой к июню, чтоб
вывезти куда-нибудь семью и хорошенько отдохнуть. Пока я навещал старых
друзей" и носился по городу, все мои мысли бежали в этом направлении, но вот
что случилось дальше. Я сидел в "Кларендоне", в некоем подобии холла, где
американцы обычно читают газеты, когда в глаза мне бросилось объявление о
том, что сегодня утром отбывает пассажирский лайнер "Кунард", казалось, это
напечатали специально для меня. Я сразу понял, что непременно должен на него
попасть, хоть эта мысль была, вне всякого сомнения, нелепа. Словно
одержимый, я бросился к Эйру и велел ему паковаться, ибо хотел, чтоб мы
отправились сегодня же. Не дожидаясь его ответа, я выскочил на лестницу и
уже снова бежал по улице к билетной кассе на Уолл-стрит. Думаю, что меня там
приняли за сумасшедшего: - У вас есть два места на этот, как он называется,
лайнер, который сегодня отплывает? - Есть, сэр, но он вот-вот отчалит. -
Неважно, я их покупаю. - Вам надо быть на судне через двадцать минут, - и я
оттуда выскочил. Не знаю, как это Эйру удалось, но к минуте моего
возвращения наш багаж был собран, мы даже поднялись на борт заблаговременно.
Хотел бы я всегда так уезжать: без суеты, без нервотрепки, без
мучительных прощаний, просто подняться и уехать. Боюсь, друзья, которых я
оставил, сочли, что поступил я очень странно, невоспитанно и не
по-джентльменски, жалею, если огорчил их, но зря они усмотрели в моей
поспешности знак неуважения, знай они меня лучше, они бы так не подумали.
Секрет же в том, что мною иногда овладевают неудержимые порывы, которым я
вынужден подчиняться, иначе потом невыносимо страдаю от тоски и
разочарования. В такие минуты меня охватывает страшное нервное возбуждение,
которое придает мне редкостную энергию и решимость: я чувствую прилив
жизненных сил и весь горю энтузиазмом. Тогда в "Кларендоне" мне словно
кто-то приказал или внушил под гипнозом: _домой_! Объявление гласило:
_домой_, - и я поехал домой.
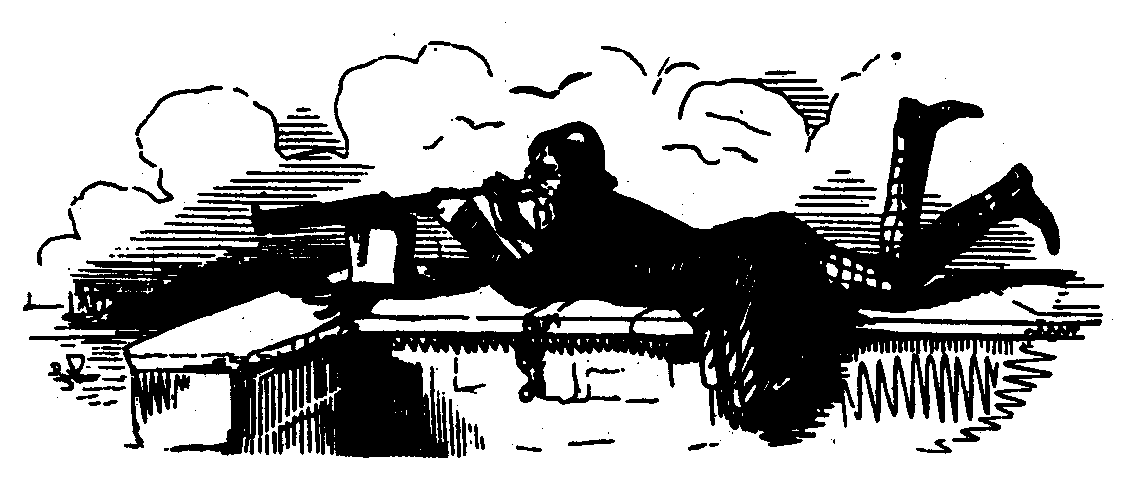 Естественно, что обстоятельства исключали прощания, но я ухитрился
набросать торопливую записочку тем, кого мой отъезд задевал всего больнее.
То были, конечно, Бакстеры, которых я просил не ставить мне в вину
внезапность моего отъезда и обещал вскоре вернуться. Верил ли я своим
словам? Вне всякого сомнения. Моя любовь к Америке была совершенно
искренней, я чувствовал к ней благодарность. Разве я не приехал сюда
измученным и подавленным и разве не покидал ее приязненные берега здоровым и
бодрым? Само мое здоровье доказывало пользу путешествия, замечательно, что
почти все время я чувствовал себя отлично. Меня больше не мучили приступы
болезни, донимавшей меня в Англии, я был на удивленье бодр. Как это
объяснить, ведь я все время поглощал немыслимые горы снеди - тамошние порции
неправдоподобно велики, - изрядно пил и часто менял климат? Не знаю и знать
не хочу, я радовался своему здоровью и не докапывался до его причин,
впрочем, порой мне приходило в голову, что здоров я оттого, что счастлив.
Наверное, теоретическое допущение, что дух способен править телом, не
выдерживает серьезной научной проверки, но не теряет от этого своей
привлекательности. Хотел бы я превратить его сейчас в закономерность: одним
усилием воли избавиться от всех терзающих меня болей и мук и снова стать
здоровым, хотел бы я, чтоб счастье жить в прелестном доме с дочками способно
было исцелить меня от всех недугов, но увы, не могу этим похвастать.
Старость зашла слишком далеко, чтоб чары возымели действие, мне остается
только смириться, не сетовать и благодарить судьбу за те способности,
которые не пострадали. Одна из них, моя память, за исключением немногих
досадных случаев, становится все лучше, и легкость, с которой я вспоминаю не
только места и события, но и владевшие мной некогда чувства и умонастроения,
почитаю за счастье. Как будто у меня есть доступ к какой-то огромной
сокровищнице, по которой я могу расхаживать в любую пору, заглядывая во
всякие чарующие тайники - все разноцветные и с драгоценными дарами. Все чаще
и чаще я вхожу туда, чтобы открыть еще одну дверь и насладиться созерцанием
часок-другой, но дом так необъятен, что мне не обойти его покоев, - всегда
найдется неизвестная светелка вверху потайной лестницы, которую я обнаружу
невзначай, зайду и буду там блаженствовать. Что сталось бы с нами,
стариками, без такого дома?
Мы с бедным, измученным Эйром не могли прийти в себя от изумления,
когда 20 апреля 1853 года поняли, что в самом деле находимся в открытом море
и держим путь к Европе. С добрым чувством простился я с Америкой,
скрывавшейся за горизонтом, не сомневаясь, что вернусь сюда вновь, как
только подготовлю следующий курс лекций, и заранее предвкушая этот
счастливый день, ибо теперь у меня были друзья и пристанище по эту сторону
Атлантики. Когда мы освоились с корабельным распорядком, я захотел многое
обдумать и с удовольствием систематизировал свои впечатления от только что
покинутой страны, да и в Лондоне, я знал, меня о них спросят. О большинстве
из них я вам рассказывал по ходу дела, но, кажется, забыл вам доложить - уж
эта мне скромность! - о своей собственной великой популярности. Последняя
весьма расположила меня к американцам, равно как их наивная, бесхитростная
манера всячески ее подчеркивать. Я нахожу, что англичане не умеют так
носиться со знаменитостями, как обитатели Америки, которая, в отличие от
нас, испытывает голод на общественные фигуры; я вовсе не хочу этим сказать,
что в Англии не чтят, не чествуют и не обожествляют великих людей, конечно,
чтят, и чествуют, и поклоняются, но совсем иначе, чем за океаном. Я,
разумеется, не был так ослеплен своим успехом, чтобы хоть на минуту забыть
истинные размеры своей личности и вообразить себя Великим Человеком, но
американцы сделали это за меня. Я думаю, они способны, коль скоро им того
захочется, превратить в знаменитость каждого, буде он предоставит им для
начала строчку-другую печатного текста. Эта их восторженность со всеми
вытекающими последствиями помогла мне сделать интересное открытие, над
которым я долго размышлял по пути домой; я понял, что большая популярность
вовсе не так приятна, как мне прежде думалось. Если вы помните, именно
известности и успеха я жаждал когда-то всей душой, но Америка открыла мне
глаза на то, к чему они ведут, когда, в конце концов, приходят. В
известности есть страшное однообразие - все люди так похожи в своих чувствах
и словах, и вам так быстро это приедается, так трудно изображать интерес к
тому, что стало для вас обыденным. Позировать, разыгрывая льва, очень
утомительно, и я, лишенный уединения и отдыха, быстро устал от всего этого.
Судите сами, полезно ли мне было осознать это в преддверии того близкого
дня, когда за здоровье Титмарша будет подымать тосты вся Европа?
Естественно, что обстоятельства исключали прощания, но я ухитрился
набросать торопливую записочку тем, кого мой отъезд задевал всего больнее.
То были, конечно, Бакстеры, которых я просил не ставить мне в вину
внезапность моего отъезда и обещал вскоре вернуться. Верил ли я своим
словам? Вне всякого сомнения. Моя любовь к Америке была совершенно
искренней, я чувствовал к ней благодарность. Разве я не приехал сюда
измученным и подавленным и разве не покидал ее приязненные берега здоровым и
бодрым? Само мое здоровье доказывало пользу путешествия, замечательно, что
почти все время я чувствовал себя отлично. Меня больше не мучили приступы
болезни, донимавшей меня в Англии, я был на удивленье бодр. Как это
объяснить, ведь я все время поглощал немыслимые горы снеди - тамошние порции
неправдоподобно велики, - изрядно пил и часто менял климат? Не знаю и знать
не хочу, я радовался своему здоровью и не докапывался до его причин,
впрочем, порой мне приходило в голову, что здоров я оттого, что счастлив.
Наверное, теоретическое допущение, что дух способен править телом, не
выдерживает серьезной научной проверки, но не теряет от этого своей
привлекательности. Хотел бы я превратить его сейчас в закономерность: одним
усилием воли избавиться от всех терзающих меня болей и мук и снова стать
здоровым, хотел бы я, чтоб счастье жить в прелестном доме с дочками способно
было исцелить меня от всех недугов, но увы, не могу этим похвастать.
Старость зашла слишком далеко, чтоб чары возымели действие, мне остается
только смириться, не сетовать и благодарить судьбу за те способности,
которые не пострадали. Одна из них, моя память, за исключением немногих
досадных случаев, становится все лучше, и легкость, с которой я вспоминаю не
только места и события, но и владевшие мной некогда чувства и умонастроения,
почитаю за счастье. Как будто у меня есть доступ к какой-то огромной
сокровищнице, по которой я могу расхаживать в любую пору, заглядывая во
всякие чарующие тайники - все разноцветные и с драгоценными дарами. Все чаще
и чаще я вхожу туда, чтобы открыть еще одну дверь и насладиться созерцанием
часок-другой, но дом так необъятен, что мне не обойти его покоев, - всегда
найдется неизвестная светелка вверху потайной лестницы, которую я обнаружу
невзначай, зайду и буду там блаженствовать. Что сталось бы с нами,
стариками, без такого дома?
Мы с бедным, измученным Эйром не могли прийти в себя от изумления,
когда 20 апреля 1853 года поняли, что в самом деле находимся в открытом море
и держим путь к Европе. С добрым чувством простился я с Америкой,
скрывавшейся за горизонтом, не сомневаясь, что вернусь сюда вновь, как
только подготовлю следующий курс лекций, и заранее предвкушая этот
счастливый день, ибо теперь у меня были друзья и пристанище по эту сторону
Атлантики. Когда мы освоились с корабельным распорядком, я захотел многое
обдумать и с удовольствием систематизировал свои впечатления от только что
покинутой страны, да и в Лондоне, я знал, меня о них спросят. О большинстве
из них я вам рассказывал по ходу дела, но, кажется, забыл вам доложить - уж
эта мне скромность! - о своей собственной великой популярности. Последняя
весьма расположила меня к американцам, равно как их наивная, бесхитростная
манера всячески ее подчеркивать. Я нахожу, что англичане не умеют так
носиться со знаменитостями, как обитатели Америки, которая, в отличие от
нас, испытывает голод на общественные фигуры; я вовсе не хочу этим сказать,
что в Англии не чтят, не чествуют и не обожествляют великих людей, конечно,
чтят, и чествуют, и поклоняются, но совсем иначе, чем за океаном. Я,
разумеется, не был так ослеплен своим успехом, чтобы хоть на минуту забыть
истинные размеры своей личности и вообразить себя Великим Человеком, но
американцы сделали это за меня. Я думаю, они способны, коль скоро им того
захочется, превратить в знаменитость каждого, буде он предоставит им для
начала строчку-другую печатного текста. Эта их восторженность со всеми
вытекающими последствиями помогла мне сделать интересное открытие, над
которым я долго размышлял по пути домой; я понял, что большая популярность
вовсе не так приятна, как мне прежде думалось. Если вы помните, именно
известности и успеха я жаждал когда-то всей душой, но Америка открыла мне
глаза на то, к чему они ведут, когда, в конце концов, приходят. В
известности есть страшное однообразие - все люди так похожи в своих чувствах
и словах, и вам так быстро это приедается, так трудно изображать интерес к
тому, что стало для вас обыденным. Позировать, разыгрывая льва, очень
утомительно, и я, лишенный уединения и отдыха, быстро устал от всего этого.
Судите сами, полезно ли мне было осознать это в преддверии того близкого
дня, когда за здоровье Титмарша будет подымать тосты вся Европа?
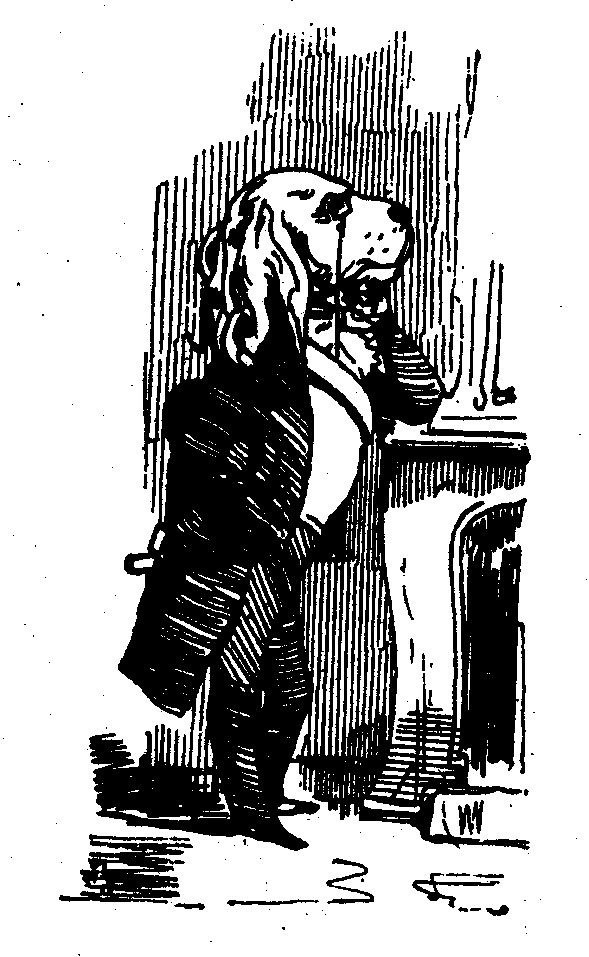 Эта тема подводит меня - пожалуй, слишком прямо - к другой, больше
всего меня мучившей с тех пор, как мы поплыли на огромной скорости домой: за
что приняться дальше? Писательство - особое занятие, это не то, что право,
где требуется подобрать в конторе папку очередного дела, или политика, где
собирают голоса для следующих выборов, ничто в нем не напоминает бизнес, где
вещи покупаются и продаются, или медицину, где врач обходит больницу и
назначает операцию тем, кто в ней нуждается, не похоже оно и на обязанности
священника, который следует порядку служб и проповедей, - оно вообще ни на
что не похоже. Писатель должен решить, о чем ему писать, и это никак не
связано с его желанием писать. Последнее бесплодно, пока его не выручает
тема. Не говорите мне, что я объездил всю Америку и, надо думать, накопил
немало наблюдений для романа, да, верно, я ее объездил, но романы так не
пишутся. Сначала нужно изобрести сюжет (всегда самая хлопотная часть дела) и
героев, только тогда мне может пригодиться мой американский опыт. Но
хотелось ли мне писать роман? Не провалился ли "Эсмонд" из-за плохих
рецензий в "Тайме", было ли время благоприятно для нового сочинения
Теккерея? Со времени успеха "Ярмарки тщеславия" прошло много лет,
"Пенденниса" встретили прохладно, "Эсмонда" холодно - о боже, мое
писательское имя гибло, а рядом Диккенс все время упрочивал свое. Я был не
столько подавлен, сколько страшился того, что утерял свой дар рассказчика,
как тогда быть? Вряд ли мне достанет сил сесть и сплести интригу, когда
ничто нейдет само на ум. Что оставалось на долю усталой, загнанной клячи?
Тревога не отпускала меня ни на миг, я видел себя дома: день за днем я
сижу в кабинете, уставившись на чистые страницы, - картина приводила меня в
ужас. Конечно, можно было" тотчас приступить к новому курсу лекций, но,
выполнив недавно такой большой подряд на Лекции, я не испытывал к ним
влечения. К тому же, оставаясь моей важнейшей заботой, деньги больше не
держали меня в страхе, в банке лежало достаточно, чтоб обеспечить жену и
девочек на случай, если меня не станет, правда до 10 000 фунтов на каждую я
не дотянул, но нужда и без того им не грозила. Мне, несомненно, предстоит
подписывать контракты на романы - я не способен отказаться от предложений
издателей (на мой взгляд, это и неразумно, и эгоистично), но не из-за денег
- с тех пор, как я вернулся из Америки, они перестали быть для меня главным
соображением, - а по другой причине. Пожалуй, из-за честолюбия, видно, я
всегда был честолюбивее, чем соглашался сказать даже самому себе:
признаться, что я отчаянно стремлюсь к тому, чего мне не дано, - писать
первоклассные книги, казалось унизительно. Как мне было трудно тогда,
терзаясь страхом и неверием в свои силы, преодолеть себя и взяться за
работу, и все же сдерживаться и выжидать, пока меня посетит еще одна
блестящая идея, было бы еще трудней. Задним числом легко говорить, что
следовало на год-другой оставить землю под паром, чтоб к ней вернулось
плодородие. Я поступил иначе, решил писать, что напишется, в надежде, что
благодаря упорному труду добьюсь успеха. Возвращаясь из Америки, я знал:
если мне закажут роман, я вынужден буду согласиться, даже не имея за душой
увлекательного замысла, и было грустно, что именно так все и получается.
Угнетали меня и иные обстоятельства, о которых, надеюсь, никто не
догадывался. Вот я громко провозглашаю вместе с другими пассажирами, что
невыносимо истосковался по дому и рад, что приближаюсь к Англии, но в душе я
все время себя спрашивал, о ком истосковался и куда рад возвратиться.
Конечно, к девочкам и к матушке, в том сомнений не было, в свой маленький
домик в Кенсингтоне, который я, по правде говоря, подумывал сменить на
что-нибудь получше. О, как это будет восхитительно, когда две пары нежных
юных ручек обовьются вокруг моей шеи, два улыбающихся личика прижмутся к
моему лицу, две милые сороки наполнят мои уши всяким вздором, да, это будет
восхитительно, и я всплакну, начну сморкаться, но тотчас засмеюсь, решу, что
самое большое счастье в мире иметь таких детей, взгляну на матушку, чья
нежная улыбка пленит меня, как всех и каждого, почувствую, как щемит сердце
при виде новых знаков бренности, которые я замечаю после очередной разлуки,
и снова дам волю слезам. Сентиментально, правда? Мое возвращение,
действительно, было сентиментально, и я это предвкушал. Я рад был
возобновить прежние знакомства, проведать старые места, кивая и улыбаясь в
знак приветствия, вернуться, в привычную колею, но всего этого было
недостаточно, нет, недостаточно, в душе я подозревал, что томлюсь о доме,
которого не существует, спешу навстречу пустоте, которую нельзя заполнить,
со страхом я воображал, что меня ждет впереди. Беда заключалась в том, - и я
знал это, - что я томился о женской ласке, которой в моей жизни не было. Я
страстно хотел вернуться домой к... пустому очагу. Мне предстояло увидеть
Джейн мельком, в обществе Уильяма, с еще одним его ребенком на коленях. Так
ли возвращаются домой? Этого было довольно, чтобы снова ввергнуть меня в
глубокую тоску, я заметил, что начинаю говорить вслух, когда об этом думаю,
а думалось мне часто: хотелось верить, что им достанет благопристойности
удалиться в деревню и не показываться в Лондоне после моего приезда.
Эта тема подводит меня - пожалуй, слишком прямо - к другой, больше
всего меня мучившей с тех пор, как мы поплыли на огромной скорости домой: за
что приняться дальше? Писательство - особое занятие, это не то, что право,
где требуется подобрать в конторе папку очередного дела, или политика, где
собирают голоса для следующих выборов, ничто в нем не напоминает бизнес, где
вещи покупаются и продаются, или медицину, где врач обходит больницу и
назначает операцию тем, кто в ней нуждается, не похоже оно и на обязанности
священника, который следует порядку служб и проповедей, - оно вообще ни на
что не похоже. Писатель должен решить, о чем ему писать, и это никак не
связано с его желанием писать. Последнее бесплодно, пока его не выручает
тема. Не говорите мне, что я объездил всю Америку и, надо думать, накопил
немало наблюдений для романа, да, верно, я ее объездил, но романы так не
пишутся. Сначала нужно изобрести сюжет (всегда самая хлопотная часть дела) и
героев, только тогда мне может пригодиться мой американский опыт. Но
хотелось ли мне писать роман? Не провалился ли "Эсмонд" из-за плохих
рецензий в "Тайме", было ли время благоприятно для нового сочинения
Теккерея? Со времени успеха "Ярмарки тщеславия" прошло много лет,
"Пенденниса" встретили прохладно, "Эсмонда" холодно - о боже, мое
писательское имя гибло, а рядом Диккенс все время упрочивал свое. Я был не
столько подавлен, сколько страшился того, что утерял свой дар рассказчика,
как тогда быть? Вряд ли мне достанет сил сесть и сплести интригу, когда
ничто нейдет само на ум. Что оставалось на долю усталой, загнанной клячи?
Тревога не отпускала меня ни на миг, я видел себя дома: день за днем я
сижу в кабинете, уставившись на чистые страницы, - картина приводила меня в
ужас. Конечно, можно было" тотчас приступить к новому курсу лекций, но,
выполнив недавно такой большой подряд на Лекции, я не испытывал к ним
влечения. К тому же, оставаясь моей важнейшей заботой, деньги больше не
держали меня в страхе, в банке лежало достаточно, чтоб обеспечить жену и
девочек на случай, если меня не станет, правда до 10 000 фунтов на каждую я
не дотянул, но нужда и без того им не грозила. Мне, несомненно, предстоит
подписывать контракты на романы - я не способен отказаться от предложений
издателей (на мой взгляд, это и неразумно, и эгоистично), но не из-за денег
- с тех пор, как я вернулся из Америки, они перестали быть для меня главным
соображением, - а по другой причине. Пожалуй, из-за честолюбия, видно, я
всегда был честолюбивее, чем соглашался сказать даже самому себе:
признаться, что я отчаянно стремлюсь к тому, чего мне не дано, - писать
первоклассные книги, казалось унизительно. Как мне было трудно тогда,
терзаясь страхом и неверием в свои силы, преодолеть себя и взяться за
работу, и все же сдерживаться и выжидать, пока меня посетит еще одна
блестящая идея, было бы еще трудней. Задним числом легко говорить, что
следовало на год-другой оставить землю под паром, чтоб к ней вернулось
плодородие. Я поступил иначе, решил писать, что напишется, в надежде, что
благодаря упорному труду добьюсь успеха. Возвращаясь из Америки, я знал:
если мне закажут роман, я вынужден буду согласиться, даже не имея за душой
увлекательного замысла, и было грустно, что именно так все и получается.
Угнетали меня и иные обстоятельства, о которых, надеюсь, никто не
догадывался. Вот я громко провозглашаю вместе с другими пассажирами, что
невыносимо истосковался по дому и рад, что приближаюсь к Англии, но в душе я
все время себя спрашивал, о ком истосковался и куда рад возвратиться.
Конечно, к девочкам и к матушке, в том сомнений не было, в свой маленький
домик в Кенсингтоне, который я, по правде говоря, подумывал сменить на
что-нибудь получше. О, как это будет восхитительно, когда две пары нежных
юных ручек обовьются вокруг моей шеи, два улыбающихся личика прижмутся к
моему лицу, две милые сороки наполнят мои уши всяким вздором, да, это будет
восхитительно, и я всплакну, начну сморкаться, но тотчас засмеюсь, решу, что
самое большое счастье в мире иметь таких детей, взгляну на матушку, чья
нежная улыбка пленит меня, как всех и каждого, почувствую, как щемит сердце
при виде новых знаков бренности, которые я замечаю после очередной разлуки,
и снова дам волю слезам. Сентиментально, правда? Мое возвращение,
действительно, было сентиментально, и я это предвкушал. Я рад был
возобновить прежние знакомства, проведать старые места, кивая и улыбаясь в
знак приветствия, вернуться, в привычную колею, но всего этого было
недостаточно, нет, недостаточно, в душе я подозревал, что томлюсь о доме,
которого не существует, спешу навстречу пустоте, которую нельзя заполнить,
со страхом я воображал, что меня ждет впереди. Беда заключалась в том, - и я
знал это, - что я томился о женской ласке, которой в моей жизни не было. Я
страстно хотел вернуться домой к... пустому очагу. Мне предстояло увидеть
Джейн мельком, в обществе Уильяма, с еще одним его ребенком на коленях. Так
ли возвращаются домой? Этого было довольно, чтобы снова ввергнуть меня в
глубокую тоску, я заметил, что начинаю говорить вслух, когда об этом думаю,
а думалось мне часто: хотелось верить, что им достанет благопристойности
удалиться в деревню и не показываться в Лондоне после моего приезда.
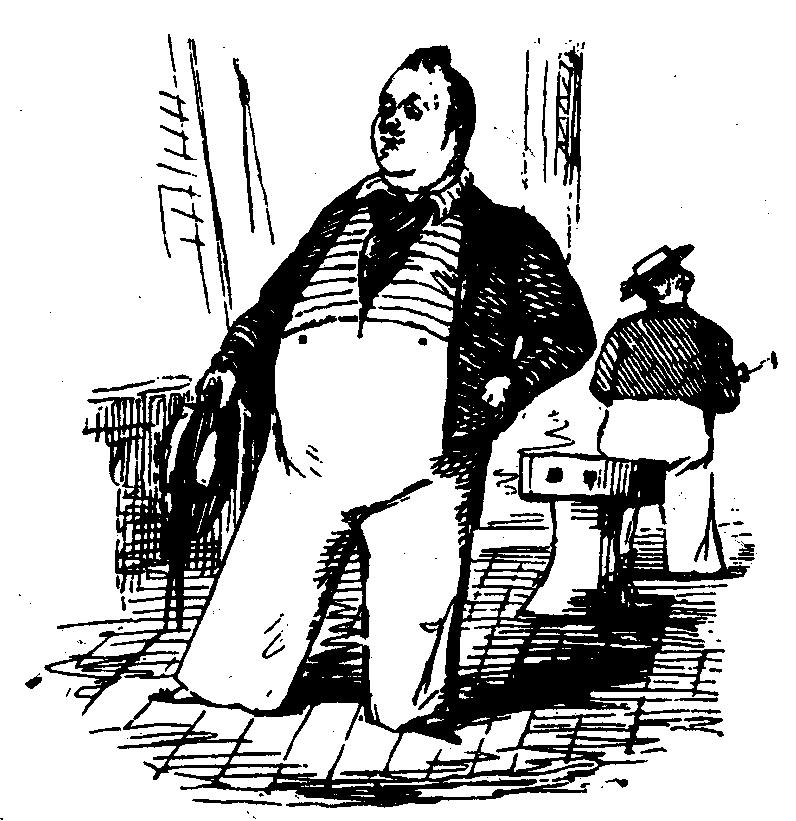 Вам, наверное, кажется, будто я только и делал по пути домой, что думал
о неприятном, вовсе нет. Лишь когда я опирался на поручни, подставляя лицо
солнцу и ветру, - погода нам благоприятствовала, - меня пронзала мысль о
том, что меня ожидает дома, или же по ночам, когда я засыпал. В остальное
время я был бодр, как и все прочие, так же возбужден сознанием, что
приближаюсь к Англии. Возвращение на родину и в самом деле возбуждает: вы
напряженно вглядываетесь в горизонт, чтобы заметить первый признак суши, и,
глупо улыбаясь, долгими часами смотрите на воду. Как хорошо ни в чем не
сомневаться, все узнавать с первого взгляда, не задаваться вопросом, что
делать и куда пойти, знать как свои пять пальцев каждую повадку, каждое
словцо своих соотечественников, примечать мелкие новшества, которые значат
только то, что в целом ничего не изменилось, все принимать как есть, словно
расположившись в старом кресле. Я знал, что с той минуты, как сойду на
берег, все обо мне забудут, никто меня не спросит, что я думаю об Англии, и
не потащит в сторону, чтоб десять миллионов раз пожать руку, - я скроюсь в
темноте, из которой ненадолго вынырнул и, предвкушая это, я вздыхал с
безмерным облегчением.
Вам, наверное, кажется, будто я только и делал по пути домой, что думал
о неприятном, вовсе нет. Лишь когда я опирался на поручни, подставляя лицо
солнцу и ветру, - погода нам благоприятствовала, - меня пронзала мысль о
том, что меня ожидает дома, или же по ночам, когда я засыпал. В остальное
время я был бодр, как и все прочие, так же возбужден сознанием, что
приближаюсь к Англии. Возвращение на родину и в самом деле возбуждает: вы
напряженно вглядываетесь в горизонт, чтобы заметить первый признак суши, и,
глупо улыбаясь, долгими часами смотрите на воду. Как хорошо ни в чем не
сомневаться, все узнавать с первого взгляда, не задаваться вопросом, что
делать и куда пойти, знать как свои пять пальцев каждую повадку, каждое
словцо своих соотечественников, примечать мелкие новшества, которые значат
только то, что в целом ничего не изменилось, все принимать как есть, словно
расположившись в старом кресле. Я знал, что с той минуты, как сойду на
берег, все обо мне забудут, никто меня не спросит, что я думаю об Англии, и
не потащит в сторону, чтоб десять миллионов раз пожать руку, - я скроюсь в
темноте, из которой ненадолго вынырнул и, предвкушая это, я вздыхал с
безмерным облегчением.
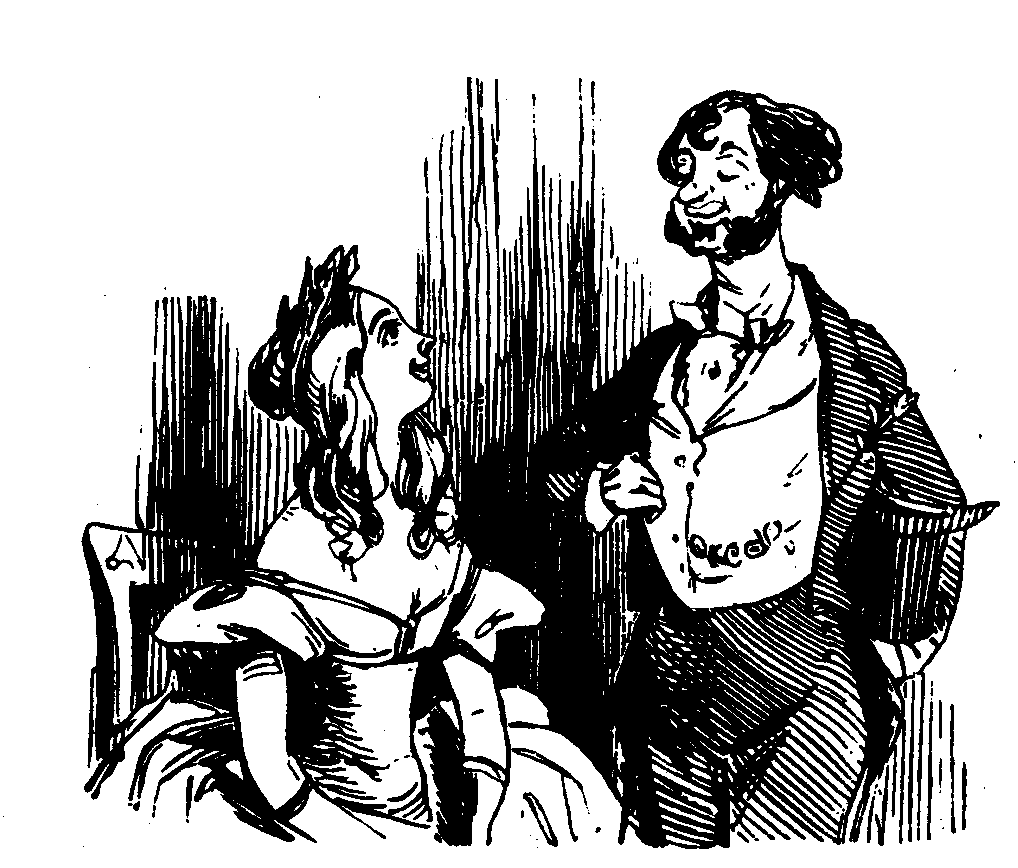 Никто не ждал меня на пристани, к чему я был готов, и, пробираясь между
кучками трогательно обнимавшихся людей, напоминал себе, что мое настоящее
возвращение еще не наступило, - ведь девочки были в Париже, и ручек,
обвившихся вокруг моей шеи, которые я так красноречиво описал, нужно
подождать. Ничто, однако, не могло меня обескуражить, и прямо из Ливерпуля я
поспешил на бал к леди Стенли, где мое появление вызвало бурю восторга.
Постойте, не я ли утверждал, что жажду остаться незамеченным, и вот,
пожалуйста, я делаю все возможное, чтоб оказаться в центре внимания, нелепо,
правда? Но если бы вы переступили вместе со мной порог улицы Янг, если бы вы
побывали в этом ужасно безлюдном, запертом доме, вы поняли бы, почему мне
захотелось веселья, общества и радостных приветствий. Я просто был не в
силах поставить чемоданы в холле, отправиться наверх и там расположиться, а
если вам непонятно, по какой причине, значит, вам не случалось открывать
дверь дома, простоявшего полгода на запоре и издающего особый затхлый запах
пыли, закупоренных окон и безмолвия. Возможно, я несколько преувеличиваю, и
дом, наверное, был в порядке, но я нисколько не преувеличиваю трепета,
пробежавшего по Моей спине от тишины. Любимые не вслушивались в звук моих
шагов, никто не закричал от радости при виде меня - не слышно было ничего,
только скрип моих башмаков на лестнице, мой кашель - я задохнулся спертым
воздухом - и удары моего сердца, стучавшего с невероятной силой. Поэтому я
навострил лыжи и обратился в бегство; проведав после небольшого сыска про
бал у леди Стенли, я поспешил туда, где, как я знал, удачно застану всех
своих друзей в сборе.
Недавно я видел человека в "Гаррик-клубе", заурядного, скучного малого,
который объявил, что на днях вернулся из Америки, и тотчас возникло общее
движение, вокруг него мгновенно выросла толпа, градом посыпались вопросы,
так что он весь побагровел от натуги и едва мог выдавить свои банальности.
Признаюсь, эта сцена потрясла меня; не возбудил ли я подобное же
любопытство, возвратившись из Америки десять лет назад, и не кажется ли вам,
что десять лет - серьезный срок и новизна за это время могла бы несколько
поистереться? Я задаюсь вопросом, станет ли когда-нибудь посещение Америки
таким же привычным и бездумным делом, как поездка в Брайтон. У меня нет
никаких тому свидетельств, но допускаю, что когда-нибудь картина будет
выглядеть примерно так: некто нам скажет, что возвратился из Америки, а мы в
ответ зевнем, заметим "вот как!" и снова уткнемся в свои газеты, удивляясь
про себя, какого дьявола нас оторвали, чтобы сообщить такую скучную, ничем
не примечательную новость. И если вы к этому всему давно уже привыкли, мой
читатель, вам трудно будет поверить, что лучшее общество Лондона столпилось
вокруг меня, горя желанием услышать, что я думаю о континенте, который
только что покинул. Я, можно сказать, кормился своими впечатлениями - изо
дня в день ездил на званые обеды и растолстел не столько от еды, сколько от
собственных раздутых описаний. В Америке меня измучили вопросом, как она мне
нравится, но дома этот же вопрос я встречал с огромным удовольствием и
великой радостью. Нет, я не возражал, когда мне его задавали, я возражал,
когда его не задавали, более того, почитал себя глубоко задетым и
положительно жаждал иметь аудиторию для небольшой лекции на вышеозначенную
тему. Думаю, удовольствие отчасти объяснялось возможностью шокировать
публику: все ожидали, что я питаю неприязнь к Америке, и стоило мне дать
понять, что я не только не испытываю ничего похожего, но в чем-то даже отдаю
ей предпочтение, как слушатели бывали огорошены. Когда по невежеству или из
предвзятости мои собеседники отпускали какое-нибудь уничижительное замечание
об Америке и американцах, я только что не доходил до откровенной грубости, и
это было неразумно, ибо в подобном случае достало бы и мягкого упрека. Я
стал главным поборником американских нравов и обычаев, должно быть, моим
слушателям частенько хотелось посоветовать мне сложить вещички и махнуть
туда снова, раз мне все там нравится. Думаю, что, как это часто бывает, я
перегибал палку в другую сторону, но такова уж человеческая природа, и
незаметно для себя я начал оскорблять чужие чувства, настаивая на
превосходстве всего американского. О, говорил я на каком-нибудь большом
балу, разве это бал - вот если бы вы видели американские наряды (по правде
говоря, я их считал безвкусными); разве это угощение - вот если бы вы видели
американскую снедь, - и так далее и тому подобное. Не странно ли, что не
сыскалось патриота, который расквасил бы мой перебитый нос? Впрочем, я и сам
готов был надавать затрещин, ибо нет ничего несноснее чем
разглагольствования невежд, которые ничего не знают, не имеют никакого опыта
в обсуждаемом вопросе, но выступают, словно знатоки. И если я был неумерен в
своей преданности Америке, то только потому, что меня на это подбивали
несправедливые нападки тех, кто полагал, что насмехаться модно.
Радость возвращения и благодарность за удачную поездку оказалась
недолгой. Некоторое время я демонстративно не переводил часы, поставленные
по нью-йоркскому времени, и ощущал невыносимую тоску, когда смотрел на
солнце, ежевечерне заходившее на западе, и думал о местах, где оно сейчас
еще светит. Стоило мне очутиться дома, и Америка мне показалась безупречной,
я забыл все раздражавшие меня порой мелочи. К тому же, не был ли я там
всегда здоров и не сразила ли меня, лишь только я вернулся, зверская зубная
боль? Можете смеяться и говорить: "и что за беда - зубная боль?" - мой зуб,
вернее, три болевших зуба доставили мне самые ужасные страдания, какие я
испытал во всю свою жизнь. От боли - мучительной, сверлящей - горела голова,
хотелось кричать в голос, но я не мог издать ни звука, потому что мой рот
был забит креозотом. Какую картину я являл собой! Я лежал в этом унылом,
мертвом доме, стонал, охал, мечтал перенестись в Америку и убеждал себя, что
надо пойти к зубному врачу. Я не люблю зубных врачей - всех и всяческих. На
мой взгляд, зубоврачебному искусству, как и всему прочему искусству
врачевания, предстоит еще многому научиться, и потому предпочитаю держаться
в стороне от медиков, но ясно было, что в данном случае мне это не удастся.
Боль не утихала, я не мог ни есть, ни спать, ни появляться в приличном
обществе. Каким я ни был трусом, пришла пора взглянуть в лицо неизбежному,
и, хлопнув большой стакан... неважно чего для поддержания духа, я отправился
к мистеру Гилберту на улицу Суффолк. Я сильно подозревал, что при виде этих
кошмарных стальных клещей, или как они там называются, мне тотчас
припомнится срочное свидание и я опрометью выскочу на улицу, а если даже и
не выскочу, то при первом же прикосновении металла зареву как бык, врач
ничего не сможет сделать, и в зубоврачебном мире - а есть ли такой мир? что
за смешная мысль! - меня ославят трусом. Однако на сей раз я, пожалуй,
остался собой доволен: решительно, как полагается мужчине, сел в кресло,
открыл рот, сделал глубокий вдох, и через пять страшных минут - за это время
я не раз бледнел и морщился - все было кончено. Какое чудо! - боль прошла
немедленно, на свете нет ничего лучше! Не это ли одно из самых дивных
ощущений? И разве мы потом не спрашиваем себя с удивлением, отчего мы
колебались, если знали заранее, что именно так все и произойдет? Возможно,
будь я способен вынести мысль о скальпеле хирурга, как вынес, в конце
концов, щипцы дантиста, я испытал бы не меньшее облегчение, но дело в том,
что боль во внутренностях терзает меня не всегда, и стоит ей утихнуть, как я
говорю себе, что она больше не повторится и незачем спешить под нож.
Как бы то ни было, три черных, источавших боль чудовища были извлечены
у меня изо рта, и я почувствовал себя намного лучше, правда, осталась дырка,
казавшаяся глубокой и бездонной, словно океан, и я непрестанно трогал ее
языком. Зубы - ужасная докука, по-моему, природа очень неудобно их
придумала, но стоит их лишиться, как нам их очень не хватает. Из-за этой
малоприятной процедуры отложилась моя долгожданная встреча с семьей в
Париже, однако я задержался лишь настолько, сколько потребовалось, чтоб
убедиться, что боль не повторится, и поспешил во Францию. В ту пору матушка
жила на Ангулем, 19, красивой улице в приятном оживленном месте, - помню,
как, стоя на ступеньках ее дома и дергая звонок, я думал, что тут веселее
Кенсингтона и что неплохо было бы и мне сюда перебраться. Может, и неплохо,
кто это знал? Во всяком случае, не я, я понятия не имел, куда ветер дует, и
с интересом ждал, когда это выяснится. Наверное, стоя на ступеньках
матушкиного дома, я глупо улыбался, взволнованный, трепещущий и больше
похожий на возвратившегося любовника, чем на отца: сердце мое стучало часто,
а от необъяснимого возбуждения по спине пробегали мурашки восторга.
Никто не ждал меня на пристани, к чему я был готов, и, пробираясь между
кучками трогательно обнимавшихся людей, напоминал себе, что мое настоящее
возвращение еще не наступило, - ведь девочки были в Париже, и ручек,
обвившихся вокруг моей шеи, которые я так красноречиво описал, нужно
подождать. Ничто, однако, не могло меня обескуражить, и прямо из Ливерпуля я
поспешил на бал к леди Стенли, где мое появление вызвало бурю восторга.
Постойте, не я ли утверждал, что жажду остаться незамеченным, и вот,
пожалуйста, я делаю все возможное, чтоб оказаться в центре внимания, нелепо,
правда? Но если бы вы переступили вместе со мной порог улицы Янг, если бы вы
побывали в этом ужасно безлюдном, запертом доме, вы поняли бы, почему мне
захотелось веселья, общества и радостных приветствий. Я просто был не в
силах поставить чемоданы в холле, отправиться наверх и там расположиться, а
если вам непонятно, по какой причине, значит, вам не случалось открывать
дверь дома, простоявшего полгода на запоре и издающего особый затхлый запах
пыли, закупоренных окон и безмолвия. Возможно, я несколько преувеличиваю, и
дом, наверное, был в порядке, но я нисколько не преувеличиваю трепета,
пробежавшего по Моей спине от тишины. Любимые не вслушивались в звук моих
шагов, никто не закричал от радости при виде меня - не слышно было ничего,
только скрип моих башмаков на лестнице, мой кашель - я задохнулся спертым
воздухом - и удары моего сердца, стучавшего с невероятной силой. Поэтому я
навострил лыжи и обратился в бегство; проведав после небольшого сыска про
бал у леди Стенли, я поспешил туда, где, как я знал, удачно застану всех
своих друзей в сборе.
Недавно я видел человека в "Гаррик-клубе", заурядного, скучного малого,
который объявил, что на днях вернулся из Америки, и тотчас возникло общее
движение, вокруг него мгновенно выросла толпа, градом посыпались вопросы,
так что он весь побагровел от натуги и едва мог выдавить свои банальности.
Признаюсь, эта сцена потрясла меня; не возбудил ли я подобное же
любопытство, возвратившись из Америки десять лет назад, и не кажется ли вам,
что десять лет - серьезный срок и новизна за это время могла бы несколько
поистереться? Я задаюсь вопросом, станет ли когда-нибудь посещение Америки
таким же привычным и бездумным делом, как поездка в Брайтон. У меня нет
никаких тому свидетельств, но допускаю, что когда-нибудь картина будет
выглядеть примерно так: некто нам скажет, что возвратился из Америки, а мы в
ответ зевнем, заметим "вот как!" и снова уткнемся в свои газеты, удивляясь
про себя, какого дьявола нас оторвали, чтобы сообщить такую скучную, ничем
не примечательную новость. И если вы к этому всему давно уже привыкли, мой
читатель, вам трудно будет поверить, что лучшее общество Лондона столпилось
вокруг меня, горя желанием услышать, что я думаю о континенте, который
только что покинул. Я, можно сказать, кормился своими впечатлениями - изо
дня в день ездил на званые обеды и растолстел не столько от еды, сколько от
собственных раздутых описаний. В Америке меня измучили вопросом, как она мне
нравится, но дома этот же вопрос я встречал с огромным удовольствием и
великой радостью. Нет, я не возражал, когда мне его задавали, я возражал,
когда его не задавали, более того, почитал себя глубоко задетым и
положительно жаждал иметь аудиторию для небольшой лекции на вышеозначенную
тему. Думаю, удовольствие отчасти объяснялось возможностью шокировать
публику: все ожидали, что я питаю неприязнь к Америке, и стоило мне дать
понять, что я не только не испытываю ничего похожего, но в чем-то даже отдаю
ей предпочтение, как слушатели бывали огорошены. Когда по невежеству или из
предвзятости мои собеседники отпускали какое-нибудь уничижительное замечание
об Америке и американцах, я только что не доходил до откровенной грубости, и
это было неразумно, ибо в подобном случае достало бы и мягкого упрека. Я
стал главным поборником американских нравов и обычаев, должно быть, моим
слушателям частенько хотелось посоветовать мне сложить вещички и махнуть
туда снова, раз мне все там нравится. Думаю, что, как это часто бывает, я
перегибал палку в другую сторону, но такова уж человеческая природа, и
незаметно для себя я начал оскорблять чужие чувства, настаивая на
превосходстве всего американского. О, говорил я на каком-нибудь большом
балу, разве это бал - вот если бы вы видели американские наряды (по правде
говоря, я их считал безвкусными); разве это угощение - вот если бы вы видели
американскую снедь, - и так далее и тому подобное. Не странно ли, что не
сыскалось патриота, который расквасил бы мой перебитый нос? Впрочем, я и сам
готов был надавать затрещин, ибо нет ничего несноснее чем
разглагольствования невежд, которые ничего не знают, не имеют никакого опыта
в обсуждаемом вопросе, но выступают, словно знатоки. И если я был неумерен в
своей преданности Америке, то только потому, что меня на это подбивали
несправедливые нападки тех, кто полагал, что насмехаться модно.
Радость возвращения и благодарность за удачную поездку оказалась
недолгой. Некоторое время я демонстративно не переводил часы, поставленные
по нью-йоркскому времени, и ощущал невыносимую тоску, когда смотрел на
солнце, ежевечерне заходившее на западе, и думал о местах, где оно сейчас
еще светит. Стоило мне очутиться дома, и Америка мне показалась безупречной,
я забыл все раздражавшие меня порой мелочи. К тому же, не был ли я там
всегда здоров и не сразила ли меня, лишь только я вернулся, зверская зубная
боль? Можете смеяться и говорить: "и что за беда - зубная боль?" - мой зуб,
вернее, три болевших зуба доставили мне самые ужасные страдания, какие я
испытал во всю свою жизнь. От боли - мучительной, сверлящей - горела голова,
хотелось кричать в голос, но я не мог издать ни звука, потому что мой рот
был забит креозотом. Какую картину я являл собой! Я лежал в этом унылом,
мертвом доме, стонал, охал, мечтал перенестись в Америку и убеждал себя, что
надо пойти к зубному врачу. Я не люблю зубных врачей - всех и всяческих. На
мой взгляд, зубоврачебному искусству, как и всему прочему искусству
врачевания, предстоит еще многому научиться, и потому предпочитаю держаться
в стороне от медиков, но ясно было, что в данном случае мне это не удастся.
Боль не утихала, я не мог ни есть, ни спать, ни появляться в приличном
обществе. Каким я ни был трусом, пришла пора взглянуть в лицо неизбежному,
и, хлопнув большой стакан... неважно чего для поддержания духа, я отправился
к мистеру Гилберту на улицу Суффолк. Я сильно подозревал, что при виде этих
кошмарных стальных клещей, или как они там называются, мне тотчас
припомнится срочное свидание и я опрометью выскочу на улицу, а если даже и
не выскочу, то при первом же прикосновении металла зареву как бык, врач
ничего не сможет сделать, и в зубоврачебном мире - а есть ли такой мир? что
за смешная мысль! - меня ославят трусом. Однако на сей раз я, пожалуй,
остался собой доволен: решительно, как полагается мужчине, сел в кресло,
открыл рот, сделал глубокий вдох, и через пять страшных минут - за это время
я не раз бледнел и морщился - все было кончено. Какое чудо! - боль прошла
немедленно, на свете нет ничего лучше! Не это ли одно из самых дивных
ощущений? И разве мы потом не спрашиваем себя с удивлением, отчего мы
колебались, если знали заранее, что именно так все и произойдет? Возможно,
будь я способен вынести мысль о скальпеле хирурга, как вынес, в конце
концов, щипцы дантиста, я испытал бы не меньшее облегчение, но дело в том,
что боль во внутренностях терзает меня не всегда, и стоит ей утихнуть, как я
говорю себе, что она больше не повторится и незачем спешить под нож.
Как бы то ни было, три черных, источавших боль чудовища были извлечены
у меня изо рта, и я почувствовал себя намного лучше, правда, осталась дырка,
казавшаяся глубокой и бездонной, словно океан, и я непрестанно трогал ее
языком. Зубы - ужасная докука, по-моему, природа очень неудобно их
придумала, но стоит их лишиться, как нам их очень не хватает. Из-за этой
малоприятной процедуры отложилась моя долгожданная встреча с семьей в
Париже, однако я задержался лишь настолько, сколько потребовалось, чтоб
убедиться, что боль не повторится, и поспешил во Францию. В ту пору матушка
жила на Ангулем, 19, красивой улице в приятном оживленном месте, - помню,
как, стоя на ступеньках ее дома и дергая звонок, я думал, что тут веселее
Кенсингтона и что неплохо было бы и мне сюда перебраться. Может, и неплохо,
кто это знал? Во всяком случае, не я, я понятия не имел, куда ветер дует, и
с интересом ждал, когда это выяснится. Наверное, стоя на ступеньках
матушкиного дома, я глупо улыбался, взволнованный, трепещущий и больше
похожий на возвратившегося любовника, чем на отца: сердце мое стучало часто,
а от необъяснимого возбуждения по спине пробегали мурашки восторга.
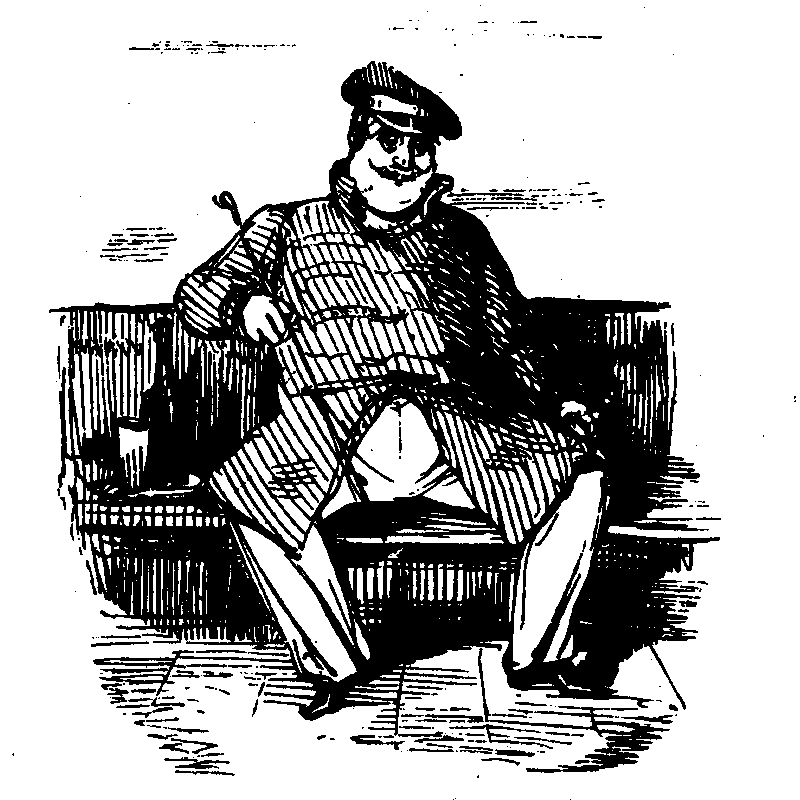 Я вынужден был позвонить дважды, ответа не было, но меня это не
испугало: я слишком хорошо знал, в чем тут причина. Девочки, даже когда
сердца их разрывались от чувств, были так же застенчивы, как и я, - я слышал
за дверью тихие возгласы, возню и улыбался, воображая, что там делается, но,
наконец, почувствовав, что настало время избавить их от нерешительности,
позабыл о своей собственной. Я заколотил в дверь и спросил, собираются ли
мне отпереть ее, но вот она открылась и все мы, наконец, прижали друг друга
к сердцу. Ах, что это была за встреча! Объятия, поцелуи, слезы радости не
прекращались целый день, и мне никогда не забыть своего потрясения, когда на
несколько секунд взглянул на девочек глазами постороннего и залюбовался ими.
Большие расстояния оказывают нам неоценимую услугу: мы принимаем близких не
задумываясь, когда живем вместе, и потому не видим их в настоящем свете, и
очень хорошо, когда порой нам выдается случай это сделать. Анни стала очень
высокой и женственной, даже не верилось, что какие-нибудь полгода так сильно
преобразили мою неуклюжую девочку, а Минни сделалась такой хорошенькой, что
я был очарован и предвидел, что через несколько лет за ней будет увиваться
весь город. Сама их плоть излучала здоровье - то было второе потрясшее меня
впечатление: сознание счастья от их физического присутствия. Когда я держал
их в своих объятиях, я ощущал себя иссохшим деревом, впитывающим живительную
влагу, - во мне как будто расцветала какая-то заброшенная часть души. У
одинокого сорокадвухлетнего мужчины немного людей, которых он может
заключить в объятия, чего ему порою очень хочется. Я напомнил себе об этом,
когда увидел дедушку - своего отчима: ужасно тощий и изнуренный, он радостно
мне улыбался и ожидал, что я прижму его к груди, как и прочих. Матушку я,
конечно, чуть не задушил от радости, после чего отодвинул на расстояние
вытянутой руки, чтоб разглядеть получше, и снова стал душить - изматывающий
ритуал! Потом девочки порхнули за пианино и удивили меня вновь, на этот раз
своими успехами по музыкальной части, затем я должен был послушать их
французский и заявить, будто ни за что бы не догадался, что они не
урожденные француженки, затем последовали ярды вышивок, которые мне
надлежало осмотреть и восхититься, и так далее и тому подобное. Плоды их
трудов были огромны и сложены к моим ногам, словно жертвоприношения к ногам
древнего божества. Там, где всегда царили одиночество и грусть, настали
любовь и радость, и я ощущал полноту сердца. Еще раз скажу вам, что ради
семьи пожертвовал бы любым своим успехом, любым, какой ни назовите, лучше
нее нет ничего на свете.
Некоторое время мы жили в Париже, все еще не веря до конца, что завтра
утром снова увидим улыбающиеся лица друг друга, и ненадолго мне показалось,
будто я снова молод: гуляя под каштанами или поднимая глаза на видневшиеся
за ними купола Тюильри, я ощущал душевный мир. Почему нужно непременно
что-нибудь делать? Почему не наслаждаться семейным кругом и просто жить? Не
знаю, почему, но после нескольких недель такой идиллии ко мне вернулось мое
обычное беспокойство и злость на себя за то, что я не умею его скрыть. Жизнь
с матушкой была не по мне. На что способны краснобаи, кроме пустопорожней
болтовни? Ну вот, я и назвал вещи своими именами. Я имею в виду общество, в
котором вращалась эта добрая душа; оно меня ужасно раздражало, я терпеть не
мог царившего там преклонения перед матушкой, к которому эти люди пытались
побудить и меня, - то было нездорово. Не мог я вынести и особого духа ее
верований, в которых главный упор делался на Ветхий завет. Анни части
ссорилась с ней из-за этого, и хотя я внутренне рукоплескал дочке, я не смел
обижать матушку и подрывать ее авторитет, прилюдно ей противореча. Нет,
нужно, думал я, забрать отсюда девочек, вернуться в Лондон - в другую жизнь.
Как водится, это было сопряжено с разными трудностями бытового свойства. До
чего меня сердило, что Анни и Минни, одна шестнадцати, другая тринадцати
лет, не были достаточно взрослыми, чтоб окончательно расстаться с
гувернантками; возвратись мы все вместе в Лондон, как я того хотел, вся
морока началась бы снова, тогда как в Париже при них была матушка и
превосходная французская гувернантка, которую они обожали. Я думал было
соблазнить ее поехать с нами, но мог ли я это себе позволить, зная, что
положение гувернантки в Англии совсем иное, чем здесь? Она была хорошенькая,
обворожительная девушка, свободно вращавшаяся в любом избранном ею обществе,
где к ней относились как к равной, тогда как в Лондоне она была бы низведена
в иных домах почти до положения прислуги и я бы ничего не мог с этим
поделать. Кроме того, появись в кругу моей семьи такое пленительное
существо, вообразите, какие пошли бы пересуды - в них не бывало недостатка,
даже когда у меня в услужении находилась какая-нибудь старая карга, не
вызывающая и тени подозрения. Нет, об этом не могло быть и речи, лучше мне
одному как можно скорее вернуться в Лондон, уладить все дела и приехать за
девочками. Перед отъездом я дал им слово, что по моем возвращении мы поедем
в Рим и проведем там зиму. Воображаете, какие раздались крики восторга? Как
только эти слова слетели с моих уст, напуганный бурными изъявлениями их
чувств, я почти пожалел о сказанном: мне стало страшно, что я беру на себя
такую огромную ответственность, и одновременно немного стыдно своего страха;
наверное, лучше было подождать с обещаниями и прежде убедиться, что с
поездкой все улажено, чтобы не видеть их мучительного разочарования, если
она сорвется.
Я вынужден был позвонить дважды, ответа не было, но меня это не
испугало: я слишком хорошо знал, в чем тут причина. Девочки, даже когда
сердца их разрывались от чувств, были так же застенчивы, как и я, - я слышал
за дверью тихие возгласы, возню и улыбался, воображая, что там делается, но,
наконец, почувствовав, что настало время избавить их от нерешительности,
позабыл о своей собственной. Я заколотил в дверь и спросил, собираются ли
мне отпереть ее, но вот она открылась и все мы, наконец, прижали друг друга
к сердцу. Ах, что это была за встреча! Объятия, поцелуи, слезы радости не
прекращались целый день, и мне никогда не забыть своего потрясения, когда на
несколько секунд взглянул на девочек глазами постороннего и залюбовался ими.
Большие расстояния оказывают нам неоценимую услугу: мы принимаем близких не
задумываясь, когда живем вместе, и потому не видим их в настоящем свете, и
очень хорошо, когда порой нам выдается случай это сделать. Анни стала очень
высокой и женственной, даже не верилось, что какие-нибудь полгода так сильно
преобразили мою неуклюжую девочку, а Минни сделалась такой хорошенькой, что
я был очарован и предвидел, что через несколько лет за ней будет увиваться
весь город. Сама их плоть излучала здоровье - то было второе потрясшее меня
впечатление: сознание счастья от их физического присутствия. Когда я держал
их в своих объятиях, я ощущал себя иссохшим деревом, впитывающим живительную
влагу, - во мне как будто расцветала какая-то заброшенная часть души. У
одинокого сорокадвухлетнего мужчины немного людей, которых он может
заключить в объятия, чего ему порою очень хочется. Я напомнил себе об этом,
когда увидел дедушку - своего отчима: ужасно тощий и изнуренный, он радостно
мне улыбался и ожидал, что я прижму его к груди, как и прочих. Матушку я,
конечно, чуть не задушил от радости, после чего отодвинул на расстояние
вытянутой руки, чтоб разглядеть получше, и снова стал душить - изматывающий
ритуал! Потом девочки порхнули за пианино и удивили меня вновь, на этот раз
своими успехами по музыкальной части, затем я должен был послушать их
французский и заявить, будто ни за что бы не догадался, что они не
урожденные француженки, затем последовали ярды вышивок, которые мне
надлежало осмотреть и восхититься, и так далее и тому подобное. Плоды их
трудов были огромны и сложены к моим ногам, словно жертвоприношения к ногам
древнего божества. Там, где всегда царили одиночество и грусть, настали
любовь и радость, и я ощущал полноту сердца. Еще раз скажу вам, что ради
семьи пожертвовал бы любым своим успехом, любым, какой ни назовите, лучше
нее нет ничего на свете.
Некоторое время мы жили в Париже, все еще не веря до конца, что завтра
утром снова увидим улыбающиеся лица друг друга, и ненадолго мне показалось,
будто я снова молод: гуляя под каштанами или поднимая глаза на видневшиеся
за ними купола Тюильри, я ощущал душевный мир. Почему нужно непременно
что-нибудь делать? Почему не наслаждаться семейным кругом и просто жить? Не
знаю, почему, но после нескольких недель такой идиллии ко мне вернулось мое
обычное беспокойство и злость на себя за то, что я не умею его скрыть. Жизнь
с матушкой была не по мне. На что способны краснобаи, кроме пустопорожней
болтовни? Ну вот, я и назвал вещи своими именами. Я имею в виду общество, в
котором вращалась эта добрая душа; оно меня ужасно раздражало, я терпеть не
мог царившего там преклонения перед матушкой, к которому эти люди пытались
побудить и меня, - то было нездорово. Не мог я вынести и особого духа ее
верований, в которых главный упор делался на Ветхий завет. Анни части
ссорилась с ней из-за этого, и хотя я внутренне рукоплескал дочке, я не смел
обижать матушку и подрывать ее авторитет, прилюдно ей противореча. Нет,
нужно, думал я, забрать отсюда девочек, вернуться в Лондон - в другую жизнь.
Как водится, это было сопряжено с разными трудностями бытового свойства. До
чего меня сердило, что Анни и Минни, одна шестнадцати, другая тринадцати
лет, не были достаточно взрослыми, чтоб окончательно расстаться с
гувернантками; возвратись мы все вместе в Лондон, как я того хотел, вся
морока началась бы снова, тогда как в Париже при них была матушка и
превосходная французская гувернантка, которую они обожали. Я думал было
соблазнить ее поехать с нами, но мог ли я это себе позволить, зная, что
положение гувернантки в Англии совсем иное, чем здесь? Она была хорошенькая,
обворожительная девушка, свободно вращавшаяся в любом избранном ею обществе,
где к ней относились как к равной, тогда как в Лондоне она была бы низведена
в иных домах почти до положения прислуги и я бы ничего не мог с этим
поделать. Кроме того, появись в кругу моей семьи такое пленительное
существо, вообразите, какие пошли бы пересуды - в них не бывало недостатка,
даже когда у меня в услужении находилась какая-нибудь старая карга, не
вызывающая и тени подозрения. Нет, об этом не могло быть и речи, лучше мне
одному как можно скорее вернуться в Лондон, уладить все дела и приехать за
девочками. Перед отъездом я дал им слово, что по моем возвращении мы поедем
в Рим и проведем там зиму. Воображаете, какие раздались крики восторга? Как
только эти слова слетели с моих уст, напуганный бурными изъявлениями их
чувств, я почти пожалел о сказанном: мне стало страшно, что я беру на себя
такую огромную ответственность, и одновременно немного стыдно своего страха;
наверное, лучше было подождать с обещаниями и прежде убедиться, что с
поездкой все улажено, чтобы не видеть их мучительного разочарования, если
она сорвется.
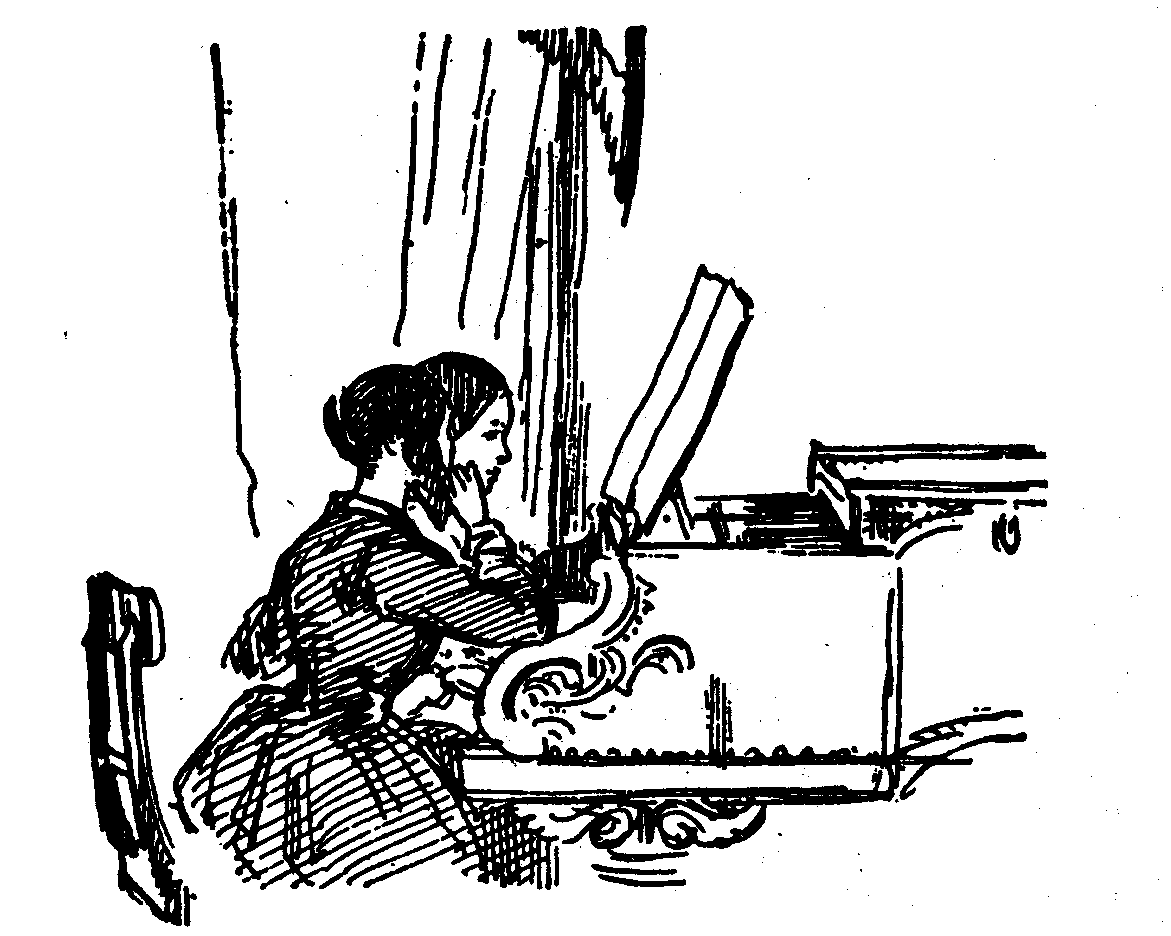 Вернувшись в Лондон, я попытался взглянуть в лицо действительности, к
чему всегда считал себя способным, работать ради денег, словно сам дьявол
гнался за мной по пятам, мне больше не приходилось, но деньги все же были
нужны, и чем больше я мог заработать, пока был в силах, тем лучше. Одно
время я подумывал подготовить несколько лекций об Америке. Меня подбивали на
это некоторые мои друзья, очарованные, по их словам, моими рассказами, но я
не мог за это взяться без помощи своего секретаря - Эйра Кроу, который
принялся в то время за всякие другие дела, - что вполне понятно, - и был вне
досягаемости. К тому же, чему бы ни были посвящены новые лекции, это опять
были лекции, а я был ими сыт по горло. Возможно, я написал бы книгу, если бы
не сменил полностью курс действий и не ударился в другую, совершенно
неожиданную крайность - в политику. Хоть мне и совестно, скажу по чести, что
меня привлекала подобная карьера, - я получил большое удовольствие от своей
затеи. Виной тому, наверное, был возраст: в сорок два года я чувствовал
потребность внести в общественное благо нечто более значительное, чем
десяток книг для избранного круга, которые я кропал, не слишком себя
утруждая и тратя по несколько часов в день. Во мне жило сильное гражданское
чувство, которое искало себе выхода, и я надеялся, что в качестве члена
парламента сумею внести в эту деятельность крупицу опыта и понимания жизни.
При сложившихся обстоятельствах меня удерживало лишь одно: если бы я
выдвинул свою кандидатуру, я баллотировался бы как независимый, а это было
дорого, такую роскошь я Мог себе позволить, лишь основательно истощив свои
недавние накопления. Осторожность удержала меня, и, думаю, к лучшему.
Короче говоря, в июне 1853 года я подписал с Брэдбери и Эвансом договор
на новую книгу, которая, как и "Пенденнис", должна была выйти в двадцати
четырех выпусках на следующих условиях; 3600 фунтов наличными плюс 500
фунтов от американцев - Харпера и Таухница. Нет, вам не изменяет зрение, не
трите глаза так яростно, это и в самом деле куча денег - стыдно сказать, как
много мне платили. Но стоило мне сесть за стол и задуматься, откуда, черт
подери, мне взять героев и как сплести интригу, которая составила бы
двадцать четыре выпуска и нечто цельное в итоге, как я понял, что отработаю
каждый пенни, ибо меня ждет геркулесов труд. Впереди были адовы муки -
только мазохист мог добровольно наложить на себя такое страшное наказание.
Не я ли клялся после "Пенденниса", что больше никогда ничего подобного не
сделаю? И вот, пожалуйста, я пускаюсь в еще более рискованное предприятие. В
голове у меня не было ни фабулы романа, ни достаточно ясного представления о
том, чему он будет посвящен, - лишь самое общее понятие о действующих лицах;
я сознавал, что заблужусь без крепкой путеводной нити. Во мне не бил родник
фантазии, мне не дано было черпать из него, сколько заблагорассудится,
отнюдь нет. Но стоило мне подписать договор и осознать, что отступление
отрезано, как я ощутил подъем духа, не имевший ничего общего с
предполагаемым гонораром. Я был полон рвения - мне не терпелось взяться за
перо - и наслаждался этим ощущением. Кто, знает, что я напишу после целого
года отдыха, начав все в новых, более благоприятных условиях? Я думал, что,
уютно устроившись с девочками под зимним римским солнцем, обрету мир и
спокойствие, которых мне, возможно, не доставало, чтоб вновь подняться до
великих. Теперь я знаю, что оба решения - и поездка в Рим, и договор на
"Ньюкомов" - были роковыми, но в отличие от тех моих решений, которые я
вспоминаю с изумлением, и спрашиваю себя, как мог принять их, эти мне
понятны, и думаю, что в сходных обстоятельствах принял бы их снова. Полезная
штука - жизненный урок, однако порой еще полезнее не извлекать его.
Вернувшись в Лондон, я попытался взглянуть в лицо действительности, к
чему всегда считал себя способным, работать ради денег, словно сам дьявол
гнался за мной по пятам, мне больше не приходилось, но деньги все же были
нужны, и чем больше я мог заработать, пока был в силах, тем лучше. Одно
время я подумывал подготовить несколько лекций об Америке. Меня подбивали на
это некоторые мои друзья, очарованные, по их словам, моими рассказами, но я
не мог за это взяться без помощи своего секретаря - Эйра Кроу, который
принялся в то время за всякие другие дела, - что вполне понятно, - и был вне
досягаемости. К тому же, чему бы ни были посвящены новые лекции, это опять
были лекции, а я был ими сыт по горло. Возможно, я написал бы книгу, если бы
не сменил полностью курс действий и не ударился в другую, совершенно
неожиданную крайность - в политику. Хоть мне и совестно, скажу по чести, что
меня привлекала подобная карьера, - я получил большое удовольствие от своей
затеи. Виной тому, наверное, был возраст: в сорок два года я чувствовал
потребность внести в общественное благо нечто более значительное, чем
десяток книг для избранного круга, которые я кропал, не слишком себя
утруждая и тратя по несколько часов в день. Во мне жило сильное гражданское
чувство, которое искало себе выхода, и я надеялся, что в качестве члена
парламента сумею внести в эту деятельность крупицу опыта и понимания жизни.
При сложившихся обстоятельствах меня удерживало лишь одно: если бы я
выдвинул свою кандидатуру, я баллотировался бы как независимый, а это было
дорого, такую роскошь я Мог себе позволить, лишь основательно истощив свои
недавние накопления. Осторожность удержала меня, и, думаю, к лучшему.
Короче говоря, в июне 1853 года я подписал с Брэдбери и Эвансом договор
на новую книгу, которая, как и "Пенденнис", должна была выйти в двадцати
четырех выпусках на следующих условиях; 3600 фунтов наличными плюс 500
фунтов от американцев - Харпера и Таухница. Нет, вам не изменяет зрение, не
трите глаза так яростно, это и в самом деле куча денег - стыдно сказать, как
много мне платили. Но стоило мне сесть за стол и задуматься, откуда, черт
подери, мне взять героев и как сплести интригу, которая составила бы
двадцать четыре выпуска и нечто цельное в итоге, как я понял, что отработаю
каждый пенни, ибо меня ждет геркулесов труд. Впереди были адовы муки -
только мазохист мог добровольно наложить на себя такое страшное наказание.
Не я ли клялся после "Пенденниса", что больше никогда ничего подобного не
сделаю? И вот, пожалуйста, я пускаюсь в еще более рискованное предприятие. В
голове у меня не было ни фабулы романа, ни достаточно ясного представления о
том, чему он будет посвящен, - лишь самое общее понятие о действующих лицах;
я сознавал, что заблужусь без крепкой путеводной нити. Во мне не бил родник
фантазии, мне не дано было черпать из него, сколько заблагорассудится,
отнюдь нет. Но стоило мне подписать договор и осознать, что отступление
отрезано, как я ощутил подъем духа, не имевший ничего общего с
предполагаемым гонораром. Я был полон рвения - мне не терпелось взяться за
перо - и наслаждался этим ощущением. Кто, знает, что я напишу после целого
года отдыха, начав все в новых, более благоприятных условиях? Я думал, что,
уютно устроившись с девочками под зимним римским солнцем, обрету мир и
спокойствие, которых мне, возможно, не доставало, чтоб вновь подняться до
великих. Теперь я знаю, что оба решения - и поездка в Рим, и договор на
"Ньюкомов" - были роковыми, но в отличие от тех моих решений, которые я
вспоминаю с изумлением, и спрашиваю себя, как мог принять их, эти мне
понятны, и думаю, что в сходных обстоятельствах принял бы их снова. Полезная
штука - жизненный урок, однако порой еще полезнее не извлекать его.
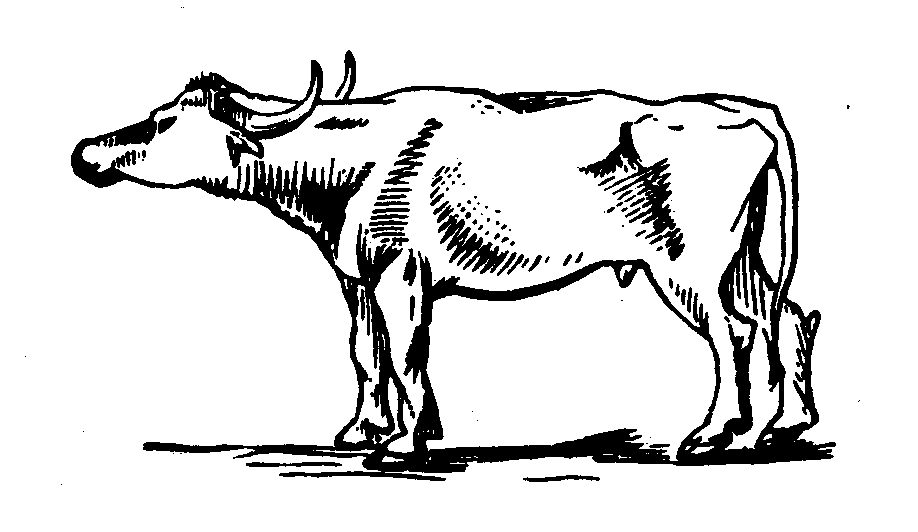 Мы не выезжали в Рим до ноября того года, дожидаясь, пока благополучно
выйдет первый номер "Ньюкомов", и до той поры два месяца путешествовали по
Швейцарии. Мне хотелось начать новую книгу в спокойной обстановке и дать
девочкам возможность проветриться, но все получилось совсем не так, и мне бы
следовало это предвидеть. Я почти ничего не помню из нашей поездки, потому
что всю ее затмил кошмар "Ньюкомов". Книга не задалась с самого начала, она
преследовала меня, словно большое и глупое привидение. Поняв, что не могу
вдохнуть в своих героев жизнь, я буквально скрежетал зубами - теми
немногими, которые у меня остались, - от безудержного бешенства и готов был
вернуть деньги, но не позволяла гордость. Я упорно писал намеченную порцию
слов каждое утро, в надежде, что дисциплина принесет достойный плод, но
каждый следующий день лишь увеличивал мою досаду. Бедным Анни и Минни
пришлось вытерпеть всю тяжесть моего недовольства собой, впрочем, хочется
верить, что я не был слишком обременителен и что новые места и люди щедро
вознаградили их за все плохое. Одно я знаю точно: им было очень весело, а
меня ужасно раздражало поведение всех встреченных американцев. Что было
толку твердить, будто американцы - такой же цивилизованный народ, как и мы,
если в каждом швейцарском городе мы видели, как они едят с ножа? Я
обнаружил, что американцы за границей держатся самым вредным для своей
репутации и самым отталкивающим образом. Что было проку отстаивать их
скромность и бесхитростность, если в гостиничной книге постояльцев в графе
"Место следования" они хвастливо и вульгарно подмахивали: "Куда в голову
взбредет"? Что было пользы клясться и божиться, будто они так же умны и
развиты, как большинство культурных англичан, если никто из них не мог
сказать и слова по-французски? Я думаю, вам ясно: перед вами сварливый
папаша, сопровождающий своих дочек, тот самый, который нипочем не верит, что
смешки за его спиной раздаются не только в адрес американских туристов, но и
в его собственный.
Осталось упомянуть только одно, и я немедленно препровожу, вас в Рим,
чего вы, наверное, ждете с нетерпением. Я пережил великое разочарование.
Кажется, я признавался вам, как мне хотелось - и хочется поныне - написать
историческую книгу и как я постоянно перебирал в уме замыслы этого opus
magnus (великого произведения. - лат.). И вот перед самым отъездом в Рим,
когда я уже был опутан псгрукам и ногам благословенными "Ньюкомами", мне
предложили заняться изданием писем Хораса Уолпола. Какая пытка -
замечательное предложение, пришедшее слишком поздно! Вы только вообразите,
получать деньги за то, чтобы целыми днями читать письма Уолпола! Как бы мне
хотелось выполнить этот восхитительный заказ! Вообразите удовольствие
перебирать подробности жизни великого человека, составить свод затронутых им
тем и близко с ним познакомиться. Не могу, не хочу верить, что мне не
суждено изведать этого счастья. Господи боже, когда я думаю, что все эти
годы мог бы заниматься делом, гораздо больше мне подходившим и по
склонностям и по способностям, и писать исторические или биографические
книги, мне хочется растоптать и истолочь в труху все свои романы. Почему я
не разобрался в себе раньше? Понятия не имею, но очень об этом горюю.
Загадки вроде этой - самое тяжкое в пожилом возрасте, особенно когда они
дело собственных рук.
Как бы то ни было, я вынужден был отказаться, выразив глубочайшее
сожаление, и стал готовить свою маленькую армию к выступлению на Рим. Если
вам кажется, что зимний сезон в Риме -это звучит романтично, если вы
завистливо вздыхаете в ненастный зимний день, не торопитесь и запаситесь
терпением.
^T17^U
^TМы переезжаем в новый дом и испытываем все связанные с этим неудобства^U
Не помню, почему так получилось, но большую часть пути до Рима мы
проплыли на речном пароходе. Не знаю, что взбрело нам в голову, - ехали мы
долго, медленно и очень мучились от холода. Девочки, как всегда, сносили
дорожные тяготы и неудобства с замечательным мужеством и, хотя их зубы
выбивали дробь, неизменно твердили: "С-с-спасибо, все пр-р-рекрасно".
Квартиру в Риме мы сняли - очень неразумно - над кондитерской в палаццо
Понятовского на Виа делла Кроче. Не думайте, будто мы жили в роскоши, здесь
каждый второй дом, даже совсем маленький и неприглядный, называется
"палаццо", хотя в нем может ничего не быть от того великолепия, которое, как
мы обычно полагаем, означает это слово. Наша хозяйка, маленькая синьора
Эрколе, - как после оказалось, очень славная старушка, - не светилась
материнской добротой, и девочки вначале отнеслись к ней настороженно. Жила
она совсем отдельно в том же нелепом старом доме, обогреваемом медной
жаровней, в которую накладывали уголь, и заставленном диковинной старинной
мебелью, так что казалось, будто мы попали в музей. Наши скромные пожитки
терялись среди этой рухляди, я даже усомнился, сможем ли мы чувствовать себя
уютно в такой причудливой и мрачной обстановке, но Анни и Минни заявили, что
здесь чудесно, так и должно быть за границей, и они не променяют это жилье
ни на какое другое.
Едва мы оказались в Римег стало понятно, что я плохо продумал, как мы
будем жить. Сам я отлично знал, что намереваюсь делать, но девочки... По
утрам я собирался работать над "Ньюкомами", днем - пойти размяться, а
вечером - обедать с любезными сердцу друзьями. Однако быстро обнаружил, что
если не буду брать с собой Анни и Минни, они ничего не увидят. Но я привез
их в Рим, разве этого мало? Конечно, мало, если им придется сидеть в четырех
стенах в угрюмом старом доме, где нечем заняться и не с кем слово сказать.
Всему есть предел, нельзя до бесконечности играть на пианино и вышивать,
молодежи нужны развлечения - как я заранее об этом не подумал И не пригласил
какую-нибудь даму, которая взяла бы на себя эту обязанность? В конце концов,
мы порешили так: пока я работаю, они ведут себя тихо и занимаются своими
делами, а вечером, если я отправляюсь в гости, в театр или прогуляться, они
в положенное время беспрекословно ложатся спать, зато днем я им показываю
Рим и слежу за тем, чтобы они бывали на людях и веселились.
Мы не выезжали в Рим до ноября того года, дожидаясь, пока благополучно
выйдет первый номер "Ньюкомов", и до той поры два месяца путешествовали по
Швейцарии. Мне хотелось начать новую книгу в спокойной обстановке и дать
девочкам возможность проветриться, но все получилось совсем не так, и мне бы
следовало это предвидеть. Я почти ничего не помню из нашей поездки, потому
что всю ее затмил кошмар "Ньюкомов". Книга не задалась с самого начала, она
преследовала меня, словно большое и глупое привидение. Поняв, что не могу
вдохнуть в своих героев жизнь, я буквально скрежетал зубами - теми
немногими, которые у меня остались, - от безудержного бешенства и готов был
вернуть деньги, но не позволяла гордость. Я упорно писал намеченную порцию
слов каждое утро, в надежде, что дисциплина принесет достойный плод, но
каждый следующий день лишь увеличивал мою досаду. Бедным Анни и Минни
пришлось вытерпеть всю тяжесть моего недовольства собой, впрочем, хочется
верить, что я не был слишком обременителен и что новые места и люди щедро
вознаградили их за все плохое. Одно я знаю точно: им было очень весело, а
меня ужасно раздражало поведение всех встреченных американцев. Что было
толку твердить, будто американцы - такой же цивилизованный народ, как и мы,
если в каждом швейцарском городе мы видели, как они едят с ножа? Я
обнаружил, что американцы за границей держатся самым вредным для своей
репутации и самым отталкивающим образом. Что было проку отстаивать их
скромность и бесхитростность, если в гостиничной книге постояльцев в графе
"Место следования" они хвастливо и вульгарно подмахивали: "Куда в голову
взбредет"? Что было пользы клясться и божиться, будто они так же умны и
развиты, как большинство культурных англичан, если никто из них не мог
сказать и слова по-французски? Я думаю, вам ясно: перед вами сварливый
папаша, сопровождающий своих дочек, тот самый, который нипочем не верит, что
смешки за его спиной раздаются не только в адрес американских туристов, но и
в его собственный.
Осталось упомянуть только одно, и я немедленно препровожу, вас в Рим,
чего вы, наверное, ждете с нетерпением. Я пережил великое разочарование.
Кажется, я признавался вам, как мне хотелось - и хочется поныне - написать
историческую книгу и как я постоянно перебирал в уме замыслы этого opus
magnus (великого произведения. - лат.). И вот перед самым отъездом в Рим,
когда я уже был опутан псгрукам и ногам благословенными "Ньюкомами", мне
предложили заняться изданием писем Хораса Уолпола. Какая пытка -
замечательное предложение, пришедшее слишком поздно! Вы только вообразите,
получать деньги за то, чтобы целыми днями читать письма Уолпола! Как бы мне
хотелось выполнить этот восхитительный заказ! Вообразите удовольствие
перебирать подробности жизни великого человека, составить свод затронутых им
тем и близко с ним познакомиться. Не могу, не хочу верить, что мне не
суждено изведать этого счастья. Господи боже, когда я думаю, что все эти
годы мог бы заниматься делом, гораздо больше мне подходившим и по
склонностям и по способностям, и писать исторические или биографические
книги, мне хочется растоптать и истолочь в труху все свои романы. Почему я
не разобрался в себе раньше? Понятия не имею, но очень об этом горюю.
Загадки вроде этой - самое тяжкое в пожилом возрасте, особенно когда они
дело собственных рук.
Как бы то ни было, я вынужден был отказаться, выразив глубочайшее
сожаление, и стал готовить свою маленькую армию к выступлению на Рим. Если
вам кажется, что зимний сезон в Риме -это звучит романтично, если вы
завистливо вздыхаете в ненастный зимний день, не торопитесь и запаситесь
терпением.
^T17^U
^TМы переезжаем в новый дом и испытываем все связанные с этим неудобства^U
Не помню, почему так получилось, но большую часть пути до Рима мы
проплыли на речном пароходе. Не знаю, что взбрело нам в голову, - ехали мы
долго, медленно и очень мучились от холода. Девочки, как всегда, сносили
дорожные тяготы и неудобства с замечательным мужеством и, хотя их зубы
выбивали дробь, неизменно твердили: "С-с-спасибо, все пр-р-рекрасно".
Квартиру в Риме мы сняли - очень неразумно - над кондитерской в палаццо
Понятовского на Виа делла Кроче. Не думайте, будто мы жили в роскоши, здесь
каждый второй дом, даже совсем маленький и неприглядный, называется
"палаццо", хотя в нем может ничего не быть от того великолепия, которое, как
мы обычно полагаем, означает это слово. Наша хозяйка, маленькая синьора
Эрколе, - как после оказалось, очень славная старушка, - не светилась
материнской добротой, и девочки вначале отнеслись к ней настороженно. Жила
она совсем отдельно в том же нелепом старом доме, обогреваемом медной
жаровней, в которую накладывали уголь, и заставленном диковинной старинной
мебелью, так что казалось, будто мы попали в музей. Наши скромные пожитки
терялись среди этой рухляди, я даже усомнился, сможем ли мы чувствовать себя
уютно в такой причудливой и мрачной обстановке, но Анни и Минни заявили, что
здесь чудесно, так и должно быть за границей, и они не променяют это жилье
ни на какое другое.
Едва мы оказались в Римег стало понятно, что я плохо продумал, как мы
будем жить. Сам я отлично знал, что намереваюсь делать, но девочки... По
утрам я собирался работать над "Ньюкомами", днем - пойти размяться, а
вечером - обедать с любезными сердцу друзьями. Однако быстро обнаружил, что
если не буду брать с собой Анни и Минни, они ничего не увидят. Но я привез
их в Рим, разве этого мало? Конечно, мало, если им придется сидеть в четырех
стенах в угрюмом старом доме, где нечем заняться и не с кем слово сказать.
Всему есть предел, нельзя до бесконечности играть на пианино и вышивать,
молодежи нужны развлечения - как я заранее об этом не подумал И не пригласил
какую-нибудь даму, которая взяла бы на себя эту обязанность? В конце концов,
мы порешили так: пока я работаю, они ведут себя тихо и занимаются своими
делами, а вечером, если я отправляюсь в гости, в театр или прогуляться, они
в положенное время беспрекословно ложатся спать, зато днем я им показываю
Рим и слежу за тем, чтобы они бывали на людях и веселились.
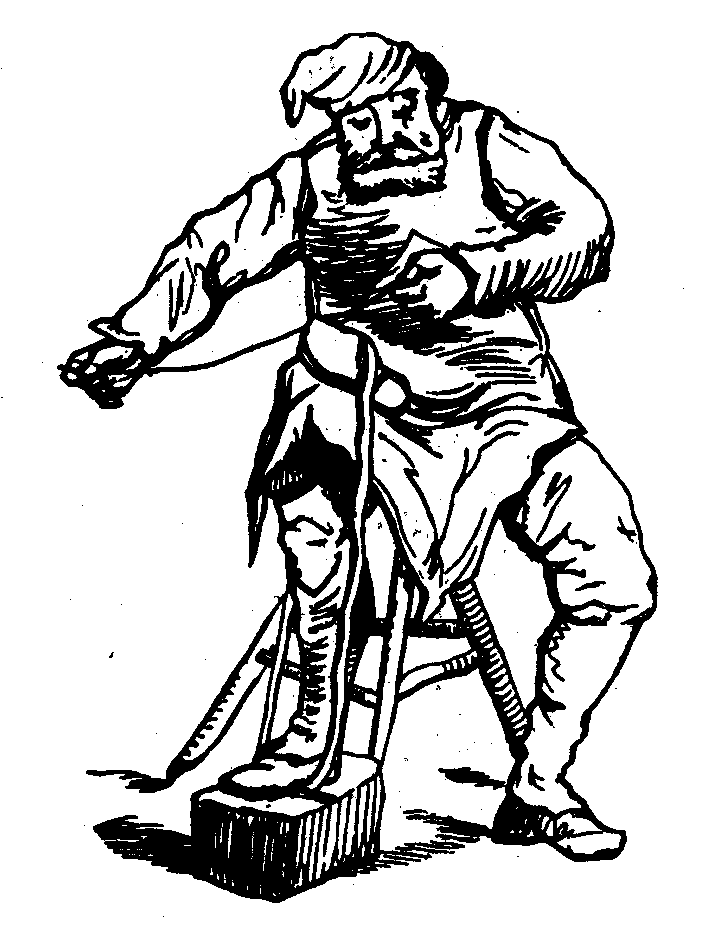 Рим, конечно, - интересный город, но по части развлечений и
утонченности не идет ни в какое сравнение с Парижем, так что мы были слегка
разочарованы. Осмотрев все достопримечательности, какие положено, мы
признались себе, что собор св. Петра не заставил наши сердца биться
учащенно, а Колизей и остальные перлы архитектуры не привели нас в трепет. Я
знаю, это позор, но больше всего нам понравилась местная кухня. Еду нам
доставляли в судочках - ах, что за аромат распространялся по квартире, когда
мы открывали крышки! Нам нравилось бродить по узким римским улочкам,
смотреть, как трудятся мастеровые всех мастей, заглядывать в распахнутые
двери их лавчонок и каждый вечер любоваться солнцем, садившимся за купол
собора св. Петра, - пожалуй, то были лучшие минуты за день. Я пытался
оживить для девочек камни этого города и рассказывал все, что мог припомнить
из истории, но, кажется, мои слова влетали в одно ухо и вылетали в другое.
Гораздо больше их интересовали разговоры взрослых, и с превеликой охотой они
ходили со мной в гости к членам местной английской колонии. Пределом всех
мечтаний был для них дом Элизабет Браунинг, которая вместе с мужем Робертом
и маленьким сыном, чье несуразное имя выскользнуло сейчас из моей памяти,
жила в ту пору в Риме. Уже в почтенном возрасте - ей было 42 года - она
бежала со своим поэтом от деспота-отца, тайком покинув Лондон, и к тому
времени, когда мы встретились, благополучно излечилась от чахотки и была
блаженно счастлива, Анни и Минни считали ее историю невероятно романтичной,
прочли все ее стихи и были преданы ей душой и телом. Она была необычайно к
ним добра, разговаривала, точно с равными, приглашала на чашку чая и прочее,
но, как я догадывался, осуждала меня за то, что дети ведут "богемный образ
жизни, недопустимый в их нежном возрасте. Однако я не разделяю мнения, будто
моим дочкам полезней было бы сидеть дома до самого дня совершеннолетия.
По-моему, это вздор и путешествия не могут повредить ни мальчикам, ни
девочкам, пусть ездят и обогащают ум, а не томятся в узком кругу привычных
впечатлений, в котором их пытаются замкнуть.
Той зимой в Риме у нас сложилась тесная компания соотечественников, и
без нее я ощущал бы себя неприкаянно, ибо отцу с двумя детьми не так-то
просто попасть в римское общество. Правда, у меня тут завелось несколько
друзей, но семьями мы не встречались, и девочкам не подобало проводить с
ними время. Я честно стараюсь описать ту римскую зиму непредвзято и
рассказать все самое хорошее, но у меня не получается, ибо, по правде
говоря, хорошего было мало. Не успели мы толком устроиться, как я заболел и
мое дурное самочувствие отравило всю поездку. Не знаю, что со мной
стряслось, но мои внутренности взбунтовались, меня терзала горячка, да и
вообще здоровье мое совсем расстроилось. Случалось ли вам заболеть в чужом
краю, читатель? Да минует вас чаша сия! Как жаль, что я не собрался с духом
и не поспешил домой или хотя бы в Париж, едва лишь ощутил первые признаки
недомогания, но, если подобное несчастье постигнет меня вновь, клянусь, я
прикажу привязать себя к носилкам, закутать в одеяла и с курьерской
скоростью отправить в Англию. Анни и Минни искренне старались облегчить мою
участь и были прекрасными маленькими сиделками, но, глядя на них, я мучился
еще больше: от жизни взаперти они день ото дня бледнели, а ведь я привез их
в Рим, чтобы они погрелись на солнышке и вознаградили себя за терпение, с
которым прошлой зимой дежурили у постели деда. Но главным огорчением была
работа: не успел я по-настоящему взяться за "Ньюкомов", в счет которых мы и
позволили себе эту римскую поездку, как меня свалила болезнь, и мне уже не
удержать пера в руке. Я лежал и истязал себя, воображая, что будет, если я
не поспею к сроку, о последствиях страшно было и думать. В те редкие минуты,
когда мне доставало, сил, я брел к столу, чтоб приписать строку-другую,
боясь, что потеряю слабенькую нить повествования и не смогу потом продолжить
свой рассказ, но часто, очень часто ничто на свете не заставило бы меня
подняться и выжать из себя хоть слово, мне только и оставалось, что охать да
стонать в постели. Тогда на помощь приходила Анни, и, если я оказывался
способен продиктовать "одну-две фразы, она садилась за мраморный столик у
окна, всем своим видом возвращая мне спокойствие, и писала под неумолчную
возню и воркование голубей в глубоких оконных нишах и дудочки piflerari
где-то далеко на улице.
Веселенький переплет, вы не находите? Когда я представлял себе, как мои
лондонские знакомые, выглядывая в ненастный декабрьский день в окно,
завидуют старине Теккерею, который наслаждается зимним римским солнцем, меня
смех разбирал. С таким же успехом я мог бы наслаждаться теплом Аида. Когда
похолодало, мне стало чуть полегче, и пока позволяло здоровье, я лихорадочно
набросился на "Ньюкомов". Тем самым одной заботой стало меньше, но мрачные
мысли и уныние меня не покидали, хоть ради девочек я притворялся, будто мне
хорошо, но получалось не очень убедительно.
В какую-то минуту я чуть не сбежал из Рима, благо представился
прекрасный случай. В конце января 1854 года я почувствовал себя бодрее, но
все еще не выздоровел, и тут мне сообщили из Парижа, что скончалась моя
тетка миссис Ритчи, та самая, которая приютила меня, когда я приехал
ребенком из Индии. Я очень взволновался и ощутил сильнейшее желание
поспешить в Париж, чтоб поддержать мою кузину Шарлотту и хоть немного ее
утешить. Теперь мне кажется, что мое горе и беспокойство проистекали не
столько от сочувствия к кузине, сколько от того, что я инстинктивно связывал
тетушкину судьбу со своей собственной. Когда мы подавлены, как было тогда со
мной, и нездоровы - а я еще не оправился от тяжелой болезни, - смерть
родственников лишь предвещает нашу собственную, и ужас от сознания своей
бренности заставляет нас преувеличивать тяжесть понесенной утраты. Горюя об
ушедших, мы горюем и о себе, и оба эти чувства так тесно переплетаются в
душе, что мы и сами не знаем, кого оплакиваем. Я целый день судорожно
пытался собраться в путь, но вскоре сдался и сказал себе, что неразумно
срываться с места среди зимы, да и приедем мы слишком поздно, чтоб утирать
чьи-либо слезы, и лучше ограничиться молитвами и письмами, отложив все
остальное до весны.
Как жаль, что я послушался тогда унылых доводов рассудка. Насколько
было бы лучше, если бы, как иногда бывало, я поддался порыву и поспешил
домой, презрев все трудности, - я увернулся бы от следующей порции жизненных
ударов и сохранил хоть несколько недель этого злосчастного отдыха. Но я
остался в Италии и даже перебрался в Неаполь в надежде, что перемена
обстановки благотворно отразится на работе. Я убедил себя, что в Риме мне не
пишется и нужно из него вырваться в новое, более вдохновляющее место, где я
воскресну душой и телом и к моему перу вернется легкость. Поэтому мы
переехали в Неаполь - поближе к теплу и сняли славные комнаты с видом на
остров Капри, но тут дела пошли из рук вон плохо. Вам надоели мои жалобы, и
вы теряете терпение? Но вы послушайте, какой подарок мне припасла судьба, и
если вы не заплачете со мной, значит, у вас каменное сердце. Не успел я
приехать, как тотчас заболел - все то же самое жар, боль в желудке; и тут же
одна за другой заболели скарлатиной обе мои дочки. Что это был за ужас -
едва я поднялся на ноги, как бедняжка Анни слегла с такой горячкой, что мои
недомогания показались мне безделками. День ото дня ей становилось хуже,
перепуганный до смерти, я не отпускал от себя Минни, зная, что вскоре
настанет ее черед, а при ее хрупкости опасность была гораздо больше. И все
это в чужом доме, в незнакомом городе, где я не успел познакомиться ни с кем
из соотечественников или итальянцев, и рядом ни одной женщины, которая
ухаживала бы за девочками. Нет, я не могу найти ничего утешительного во всей
той ужасной полосе неудач, разве только то, что мы не мучились от бедности.
Рим, конечно, - интересный город, но по части развлечений и
утонченности не идет ни в какое сравнение с Парижем, так что мы были слегка
разочарованы. Осмотрев все достопримечательности, какие положено, мы
признались себе, что собор св. Петра не заставил наши сердца биться
учащенно, а Колизей и остальные перлы архитектуры не привели нас в трепет. Я
знаю, это позор, но больше всего нам понравилась местная кухня. Еду нам
доставляли в судочках - ах, что за аромат распространялся по квартире, когда
мы открывали крышки! Нам нравилось бродить по узким римским улочкам,
смотреть, как трудятся мастеровые всех мастей, заглядывать в распахнутые
двери их лавчонок и каждый вечер любоваться солнцем, садившимся за купол
собора св. Петра, - пожалуй, то были лучшие минуты за день. Я пытался
оживить для девочек камни этого города и рассказывал все, что мог припомнить
из истории, но, кажется, мои слова влетали в одно ухо и вылетали в другое.
Гораздо больше их интересовали разговоры взрослых, и с превеликой охотой они
ходили со мной в гости к членам местной английской колонии. Пределом всех
мечтаний был для них дом Элизабет Браунинг, которая вместе с мужем Робертом
и маленьким сыном, чье несуразное имя выскользнуло сейчас из моей памяти,
жила в ту пору в Риме. Уже в почтенном возрасте - ей было 42 года - она
бежала со своим поэтом от деспота-отца, тайком покинув Лондон, и к тому
времени, когда мы встретились, благополучно излечилась от чахотки и была
блаженно счастлива, Анни и Минни считали ее историю невероятно романтичной,
прочли все ее стихи и были преданы ей душой и телом. Она была необычайно к
ним добра, разговаривала, точно с равными, приглашала на чашку чая и прочее,
но, как я догадывался, осуждала меня за то, что дети ведут "богемный образ
жизни, недопустимый в их нежном возрасте. Однако я не разделяю мнения, будто
моим дочкам полезней было бы сидеть дома до самого дня совершеннолетия.
По-моему, это вздор и путешествия не могут повредить ни мальчикам, ни
девочкам, пусть ездят и обогащают ум, а не томятся в узком кругу привычных
впечатлений, в котором их пытаются замкнуть.
Той зимой в Риме у нас сложилась тесная компания соотечественников, и
без нее я ощущал бы себя неприкаянно, ибо отцу с двумя детьми не так-то
просто попасть в римское общество. Правда, у меня тут завелось несколько
друзей, но семьями мы не встречались, и девочкам не подобало проводить с
ними время. Я честно стараюсь описать ту римскую зиму непредвзято и
рассказать все самое хорошее, но у меня не получается, ибо, по правде
говоря, хорошего было мало. Не успели мы толком устроиться, как я заболел и
мое дурное самочувствие отравило всю поездку. Не знаю, что со мной
стряслось, но мои внутренности взбунтовались, меня терзала горячка, да и
вообще здоровье мое совсем расстроилось. Случалось ли вам заболеть в чужом
краю, читатель? Да минует вас чаша сия! Как жаль, что я не собрался с духом
и не поспешил домой или хотя бы в Париж, едва лишь ощутил первые признаки
недомогания, но, если подобное несчастье постигнет меня вновь, клянусь, я
прикажу привязать себя к носилкам, закутать в одеяла и с курьерской
скоростью отправить в Англию. Анни и Минни искренне старались облегчить мою
участь и были прекрасными маленькими сиделками, но, глядя на них, я мучился
еще больше: от жизни взаперти они день ото дня бледнели, а ведь я привез их
в Рим, чтобы они погрелись на солнышке и вознаградили себя за терпение, с
которым прошлой зимой дежурили у постели деда. Но главным огорчением была
работа: не успел я по-настоящему взяться за "Ньюкомов", в счет которых мы и
позволили себе эту римскую поездку, как меня свалила болезнь, и мне уже не
удержать пера в руке. Я лежал и истязал себя, воображая, что будет, если я
не поспею к сроку, о последствиях страшно было и думать. В те редкие минуты,
когда мне доставало, сил, я брел к столу, чтоб приписать строку-другую,
боясь, что потеряю слабенькую нить повествования и не смогу потом продолжить
свой рассказ, но часто, очень часто ничто на свете не заставило бы меня
подняться и выжать из себя хоть слово, мне только и оставалось, что охать да
стонать в постели. Тогда на помощь приходила Анни, и, если я оказывался
способен продиктовать "одну-две фразы, она садилась за мраморный столик у
окна, всем своим видом возвращая мне спокойствие, и писала под неумолчную
возню и воркование голубей в глубоких оконных нишах и дудочки piflerari
где-то далеко на улице.
Веселенький переплет, вы не находите? Когда я представлял себе, как мои
лондонские знакомые, выглядывая в ненастный декабрьский день в окно,
завидуют старине Теккерею, который наслаждается зимним римским солнцем, меня
смех разбирал. С таким же успехом я мог бы наслаждаться теплом Аида. Когда
похолодало, мне стало чуть полегче, и пока позволяло здоровье, я лихорадочно
набросился на "Ньюкомов". Тем самым одной заботой стало меньше, но мрачные
мысли и уныние меня не покидали, хоть ради девочек я притворялся, будто мне
хорошо, но получалось не очень убедительно.
В какую-то минуту я чуть не сбежал из Рима, благо представился
прекрасный случай. В конце января 1854 года я почувствовал себя бодрее, но
все еще не выздоровел, и тут мне сообщили из Парижа, что скончалась моя
тетка миссис Ритчи, та самая, которая приютила меня, когда я приехал
ребенком из Индии. Я очень взволновался и ощутил сильнейшее желание
поспешить в Париж, чтоб поддержать мою кузину Шарлотту и хоть немного ее
утешить. Теперь мне кажется, что мое горе и беспокойство проистекали не
столько от сочувствия к кузине, сколько от того, что я инстинктивно связывал
тетушкину судьбу со своей собственной. Когда мы подавлены, как было тогда со
мной, и нездоровы - а я еще не оправился от тяжелой болезни, - смерть
родственников лишь предвещает нашу собственную, и ужас от сознания своей
бренности заставляет нас преувеличивать тяжесть понесенной утраты. Горюя об
ушедших, мы горюем и о себе, и оба эти чувства так тесно переплетаются в
душе, что мы и сами не знаем, кого оплакиваем. Я целый день судорожно
пытался собраться в путь, но вскоре сдался и сказал себе, что неразумно
срываться с места среди зимы, да и приедем мы слишком поздно, чтоб утирать
чьи-либо слезы, и лучше ограничиться молитвами и письмами, отложив все
остальное до весны.
Как жаль, что я послушался тогда унылых доводов рассудка. Насколько
было бы лучше, если бы, как иногда бывало, я поддался порыву и поспешил
домой, презрев все трудности, - я увернулся бы от следующей порции жизненных
ударов и сохранил хоть несколько недель этого злосчастного отдыха. Но я
остался в Италии и даже перебрался в Неаполь в надежде, что перемена
обстановки благотворно отразится на работе. Я убедил себя, что в Риме мне не
пишется и нужно из него вырваться в новое, более вдохновляющее место, где я
воскресну душой и телом и к моему перу вернется легкость. Поэтому мы
переехали в Неаполь - поближе к теплу и сняли славные комнаты с видом на
остров Капри, но тут дела пошли из рук вон плохо. Вам надоели мои жалобы, и
вы теряете терпение? Но вы послушайте, какой подарок мне припасла судьба, и
если вы не заплачете со мной, значит, у вас каменное сердце. Не успел я
приехать, как тотчас заболел - все то же самое жар, боль в желудке; и тут же
одна за другой заболели скарлатиной обе мои дочки. Что это был за ужас -
едва я поднялся на ноги, как бедняжка Анни слегла с такой горячкой, что мои
недомогания показались мне безделками. День ото дня ей становилось хуже,
перепуганный до смерти, я не отпускал от себя Минни, зная, что вскоре
настанет ее черед, а при ее хрупкости опасность была гораздо больше. И все
это в чужом доме, в незнакомом городе, где я не успел познакомиться ни с кем
из соотечественников или итальянцев, и рядом ни одной женщины, которая
ухаживала бы за девочками. Нет, я не могу найти ничего утешительного во всей
той ужасной полосе неудач, разве только то, что мы не мучились от бедности.
 О работе нечего было и думать. Но все же невозможно сидеть сложа руки.
Женщина, наверное, занялась бы рукоделием, но как бы ни позабавили бедных
больных крошек мои попытки справиться с иголкой или спицами, такое было явно
не по мне, и я взялся за карандаш, чтобы, рисуя, отвлечь себя и их. Людей я
рисую лучше, чем пейзажи, и пока я водил карандашом по бумаге, ко мне пришли
разные занятные мысли и стали незаметно складываться в детскую сказку
"Кольцо и роза". Книжица, конечно, получилась пустяковая, но она мне очень
помогла скоротать время, и я ее люблю. К моей радости, дочки не потеряли к
ней интереса и после того, как кончился карантин, понравилась она и другим
детям, с которыми они свели знакомство. Я придумывал сюжет и рисовал
картинки, благодаря чему не помешался, хотя порой все шло к тому: задача
быть отцом и матерью сразу мне явно не по плечу, и, что греха таить, я ею
тяготился. Впрочем, надеюсь, это было незаметно - хорошенькая была бы
история, если бы мои бедняжки, и без того измученные болезнью, страдали и от
угрызений совести. До чего я умилялся, наблюдая, как дочки ухаживают друг за
другом, не брезгуя самой черной работой, - сколько в них было смирения и
милосердия! Особенно меня восхищала преданность Минни старшей сестре, и я
стал думать, что, пожалуй, недооценил силу характера своей маленькой
проказницы. Я постоянно беспокоился, как беспокоюсь до сих пор, что Минни
недостаточно вынослива, чтобы противостоять жизненным бедам и испытаниям,
но, встречаясь с ними, она, как и сестра, всегда оказывается на высоте.
О работе нечего было и думать. Но все же невозможно сидеть сложа руки.
Женщина, наверное, занялась бы рукоделием, но как бы ни позабавили бедных
больных крошек мои попытки справиться с иголкой или спицами, такое было явно
не по мне, и я взялся за карандаш, чтобы, рисуя, отвлечь себя и их. Людей я
рисую лучше, чем пейзажи, и пока я водил карандашом по бумаге, ко мне пришли
разные занятные мысли и стали незаметно складываться в детскую сказку
"Кольцо и роза". Книжица, конечно, получилась пустяковая, но она мне очень
помогла скоротать время, и я ее люблю. К моей радости, дочки не потеряли к
ней интереса и после того, как кончился карантин, понравилась она и другим
детям, с которыми они свели знакомство. Я придумывал сюжет и рисовал
картинки, благодаря чему не помешался, хотя порой все шло к тому: задача
быть отцом и матерью сразу мне явно не по плечу, и, что греха таить, я ею
тяготился. Впрочем, надеюсь, это было незаметно - хорошенькая была бы
история, если бы мои бедняжки, и без того измученные болезнью, страдали и от
угрызений совести. До чего я умилялся, наблюдая, как дочки ухаживают друг за
другом, не брезгуя самой черной работой, - сколько в них было смирения и
милосердия! Особенно меня восхищала преданность Минни старшей сестре, и я
стал думать, что, пожалуй, недооценил силу характера своей маленькой
проказницы. Я постоянно беспокоился, как беспокоюсь до сих пор, что Минни
недостаточно вынослива, чтобы противостоять жизненным бедам и испытаниям,
но, встречаясь с ними, она, как и сестра, всегда оказывается на высоте.
 Мне нечего сказать вам о Неаполе - я его почти и не видел, и посему
перейду к нашему возвращению домой в апреле 1854 года. По пути мы заехали в
Париж к родителям, а, оказавшись в Кенсингтоне, я с головой ушел в работу,
чтоб наверстать упущенное время. Казалось бы, в разгар такой рабочей
лихорадки я ни о чем другом не стану думать и предоставлю жизни идти своим
ходом, но не тут-то было: не успели мы добраться до улицы Янг, я тотчас
затеял переезд в особняк на Онслоу-сквер, и до самого Нового года мы жили
весьма неуютно - на два дома. Есть люди, которые умеют переехать за день:
утром они спокойно и неторопливо завтракают в старом доме среди заботливо
уложенных и аккуратно надписанных вещей, глядишь - и вечером того же дня они
невозмутимо садятся за обед в свежеокрашенной и полностью обставленной
столовой в новом доме. Такие люди, конечно, не испытывают мелких неудобств,
вроде незанавешенных окон: к их новым нишам прекрасно подходят прежние
гардины, либо их украшают недавно сшитые - заранее измеренные и заказанные.
Полы в таких домах устланы коврами: скрип пыльных голых половиц не
раздражает слуха, кровати и рояли беспрепятственно внесены наверх, ибо о
ширине дверных проемов позаботились заранее. Но эта неземная добродетель мне
не свойственна, и наш переезд напоминал стихийное бедствие. Но почему так
получилось? Не я ли клялся и божился, что не тронусь с места, пока работы в
новом доме не закончатся, а вместо того в один прекрасный июньский день
выгрузил свое имущество в холле, где стучали молотками плотники и лежал
строительный мусор, а в комнатах, из которых лишь две были готовы, но
предназначались не мне, еще трудились маляры. К тому же, приглядывать за
всеми работами мне было некогда - пришлось подвинуть в сторону рулоны
скатанных ковров, чтобы добраться до письменного стола, стоявшего в чехле на
лестничной площадке, и сесть работать. Если читая "Ньюкомов", вы заметите,
что в том или ином месте не все вяжется, знайте: эти главы написаны во время
переезда, в страшной суете. Как оказалось, каждую мелочь я должен решать сам
- от девочек проку было мало: многолетняя привычка угождать папеньке
совершенно лишила их самостоятельности, не поглядев в его сердитое лицо, они
и сами не знали, каково их мнение. И я боролся в одиночку: корпел над
"Ньюкомами", срывался и бежал в спальню, чтоб проследить за цветом стен,
затем садился вновь за прерванную страницу, чтоб тут же отложить перо и
побыстрей ответить на вопрос, куда нести большой комод. Куда ни падал взор,
всюду что-нибудь было не в порядке, даже наш славный, влажный, зеленый сад
раздражал меня - в нем столько нужно было сделать, но никто не собирался
прикладывать к нему рук, кроме Минни, которая отважно и безуспешно ковыряла
землю тяпкой. Моя мечта выдержать дом в светлозеленых тонах, чтоб он
напоминал затененную листвой беседку, оказалась под угрозой: некому было
перепоручить надзор за ее исполнением. Бессмысленно было говорить себе, что
со временем все образуется само собой и мои планы воплотятся в жизнь, я
знал, что этого не случится, если я твердо не буду направлять в нужную
сторону маленькую армию мастеровых, каждый из которых был занят своим делом
и не имел понятия об общем замысле.
Мне нечего сказать вам о Неаполе - я его почти и не видел, и посему
перейду к нашему возвращению домой в апреле 1854 года. По пути мы заехали в
Париж к родителям, а, оказавшись в Кенсингтоне, я с головой ушел в работу,
чтоб наверстать упущенное время. Казалось бы, в разгар такой рабочей
лихорадки я ни о чем другом не стану думать и предоставлю жизни идти своим
ходом, но не тут-то было: не успели мы добраться до улицы Янг, я тотчас
затеял переезд в особняк на Онслоу-сквер, и до самого Нового года мы жили
весьма неуютно - на два дома. Есть люди, которые умеют переехать за день:
утром они спокойно и неторопливо завтракают в старом доме среди заботливо
уложенных и аккуратно надписанных вещей, глядишь - и вечером того же дня они
невозмутимо садятся за обед в свежеокрашенной и полностью обставленной
столовой в новом доме. Такие люди, конечно, не испытывают мелких неудобств,
вроде незанавешенных окон: к их новым нишам прекрасно подходят прежние
гардины, либо их украшают недавно сшитые - заранее измеренные и заказанные.
Полы в таких домах устланы коврами: скрип пыльных голых половиц не
раздражает слуха, кровати и рояли беспрепятственно внесены наверх, ибо о
ширине дверных проемов позаботились заранее. Но эта неземная добродетель мне
не свойственна, и наш переезд напоминал стихийное бедствие. Но почему так
получилось? Не я ли клялся и божился, что не тронусь с места, пока работы в
новом доме не закончатся, а вместо того в один прекрасный июньский день
выгрузил свое имущество в холле, где стучали молотками плотники и лежал
строительный мусор, а в комнатах, из которых лишь две были готовы, но
предназначались не мне, еще трудились маляры. К тому же, приглядывать за
всеми работами мне было некогда - пришлось подвинуть в сторону рулоны
скатанных ковров, чтобы добраться до письменного стола, стоявшего в чехле на
лестничной площадке, и сесть работать. Если читая "Ньюкомов", вы заметите,
что в том или ином месте не все вяжется, знайте: эти главы написаны во время
переезда, в страшной суете. Как оказалось, каждую мелочь я должен решать сам
- от девочек проку было мало: многолетняя привычка угождать папеньке
совершенно лишила их самостоятельности, не поглядев в его сердитое лицо, они
и сами не знали, каково их мнение. И я боролся в одиночку: корпел над
"Ньюкомами", срывался и бежал в спальню, чтоб проследить за цветом стен,
затем садился вновь за прерванную страницу, чтоб тут же отложить перо и
побыстрей ответить на вопрос, куда нести большой комод. Куда ни падал взор,
всюду что-нибудь было не в порядке, даже наш славный, влажный, зеленый сад
раздражал меня - в нем столько нужно было сделать, но никто не собирался
прикладывать к нему рук, кроме Минни, которая отважно и безуспешно ковыряла
землю тяпкой. Моя мечта выдержать дом в светлозеленых тонах, чтоб он
напоминал затененную листвой беседку, оказалась под угрозой: некому было
перепоручить надзор за ее исполнением. Бессмысленно было говорить себе, что
со временем все образуется само собой и мои планы воплотятся в жизнь, я
знал, что этого не случится, если я твердо не буду направлять в нужную
сторону маленькую армию мастеровых, каждый из которых был занят своим делом
и не имел понятия об общем замысле.
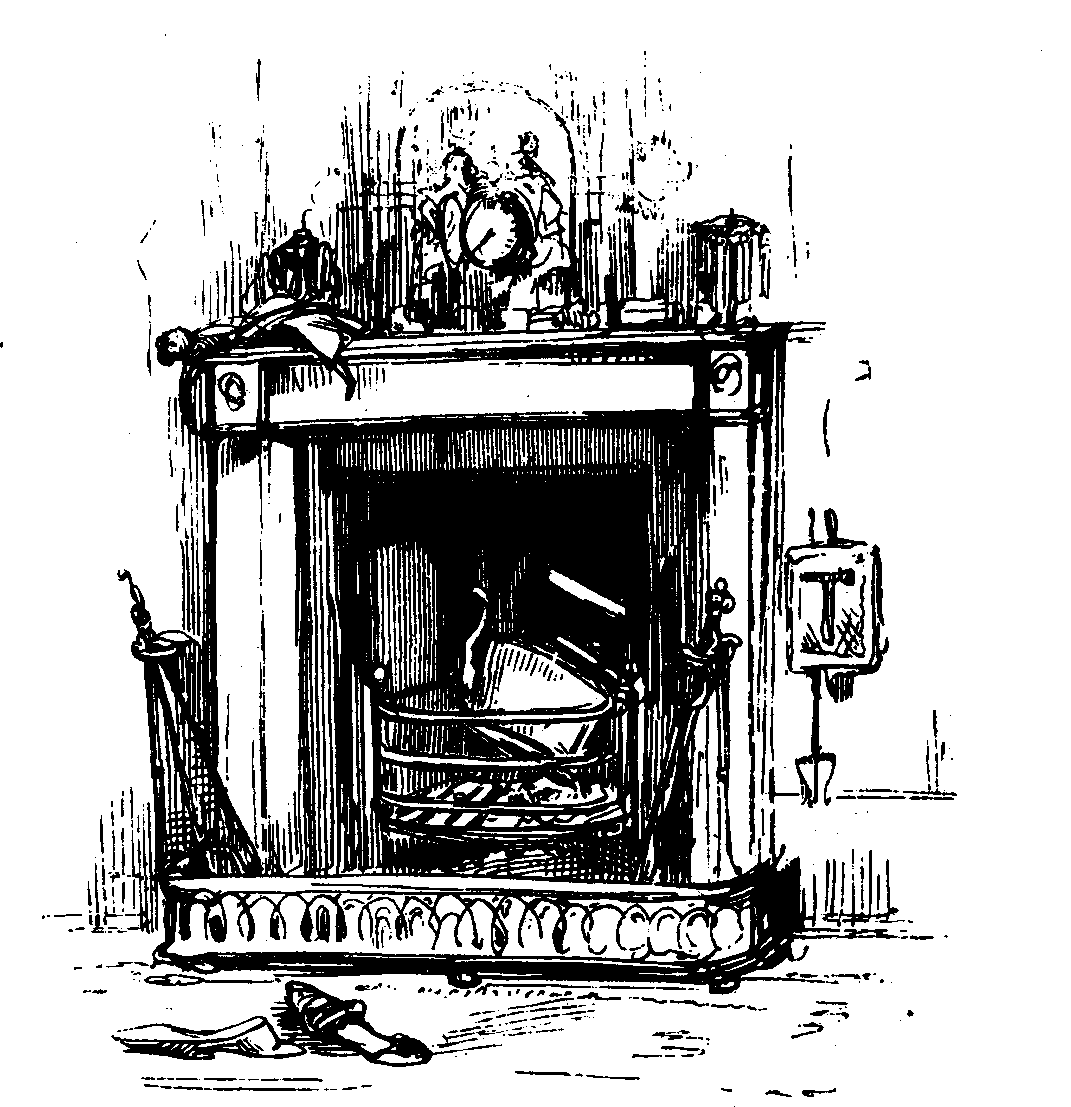 В конечном счете, все устроилось. Уж это мне "в конечном счете"! В эти
три слова вмещается любой отрезок времени, и с языка они соскальзывают так
легко, словно ничего особенного за эту пору не случилось. Но как понять, что
они в самом деле значат? Как сосчитать дни и недели, как вычислить минуту,
когда они обретают смысл? Я не могу сказать. В английском языке полнымполно
таких успокоительных словечек, которые, по сути, означают ровно
противоположное, что не мешает мне, как всем и каждому, беспрестанно ими
пользоваться. "В конечном счете" - говорю я, делая небрежный жест рукой, "в
конечном счете" - заявляю я рассеянно, как человек, который долго мучился,
но позабыл, в чем было дело, "в конечном счете" - восклицаю я и завершаю тем
свою тираду, о чем бы я ни говорил. Итак, в конечном счете, мой новый дом
был готов, и я успокоился, хотя и не совсем: он не был воплощением моей
мечты, но все же приближался к ней.
Пожалуй, это же стремление встряхнуться подвигло меня и на покупку
лошади: я начал ежедневно ездить верхом. Пожалуйста, не смейтесь, а если не
можете сдержаться, то, умоляю вас, - улыбнитесь беззлобно. Несмотря на
лихорадку, трепавшую меня в Италии, которая, казалось, должна была бы
довести меня до измождения, я очень погрузнел в последнее время и,
поразмыслив, решил, что все мои недуги проистекают от лени. Я мало ходил и
ничего не делал, чтоб горы снеди и напитков, которые я поглощал, не
причиняли вреда моему организму, и более подвижный образ жизни - не просто
несколько кварталов, которые я вышагивал до клуба, где тотчас погружался в
кресло, - пошел бы мне на пользу. Не воображайте, пожалуйста, будто я
гарцевал на вороном жеребце: пар из ноздрей, горящие глаза, стремительный
галоп - нет, ничего похожего, у меня была смирная гнедая животина, вполне
под стать ее неповоротливому всаднику: Я купил эту коренастую кобылку у
своего нового соседа Карло Марочегти, который уверял, что именно такая мне и
нужна. Очень может быть, но ей это не помешало бросить меня оземь в ту самую
минуту, как я на нее взобрался. Правду сказать, под моим весом оборвался
ремешок, державший стремя, но мне гораздо лучше запомнились последствия, а
не причина: ваш покорный слуга был изукрашен ссадинами и синяками и весьма
обескуражен. Но храбро и неустрашимо доблестный Титмарш, едва оправившись,
вновь взгромоздился на лошадку и часто трусил рысцой в парке, уверенный, в
своей неотразимости, гуляющие провожали его взглядами. Не сомневаюсь, вы бы
тоже были очарованы. От ветра на его щеках горели розы, в седле он держался
прямо, вытянувшись в струнку, - он знал, что на него обращены все взоры, - и
расточал улыбки во все стороны, ибо и в самом деле радовался движению и
свежему воздуху, которому приписывал великую целительную силу. О ломоте в
суставах и насморке, а также обо всем прочем мы здесь не станем вспоминать,
а скажем только то, что он любил прогулки в парке.
В конечном счете, все устроилось. Уж это мне "в конечном счете"! В эти
три слова вмещается любой отрезок времени, и с языка они соскальзывают так
легко, словно ничего особенного за эту пору не случилось. Но как понять, что
они в самом деле значат? Как сосчитать дни и недели, как вычислить минуту,
когда они обретают смысл? Я не могу сказать. В английском языке полнымполно
таких успокоительных словечек, которые, по сути, означают ровно
противоположное, что не мешает мне, как всем и каждому, беспрестанно ими
пользоваться. "В конечном счете" - говорю я, делая небрежный жест рукой, "в
конечном счете" - заявляю я рассеянно, как человек, который долго мучился,
но позабыл, в чем было дело, "в конечном счете" - восклицаю я и завершаю тем
свою тираду, о чем бы я ни говорил. Итак, в конечном счете, мой новый дом
был готов, и я успокоился, хотя и не совсем: он не был воплощением моей
мечты, но все же приближался к ней.
Пожалуй, это же стремление встряхнуться подвигло меня и на покупку
лошади: я начал ежедневно ездить верхом. Пожалуйста, не смейтесь, а если не
можете сдержаться, то, умоляю вас, - улыбнитесь беззлобно. Несмотря на
лихорадку, трепавшую меня в Италии, которая, казалось, должна была бы
довести меня до измождения, я очень погрузнел в последнее время и,
поразмыслив, решил, что все мои недуги проистекают от лени. Я мало ходил и
ничего не делал, чтоб горы снеди и напитков, которые я поглощал, не
причиняли вреда моему организму, и более подвижный образ жизни - не просто
несколько кварталов, которые я вышагивал до клуба, где тотчас погружался в
кресло, - пошел бы мне на пользу. Не воображайте, пожалуйста, будто я
гарцевал на вороном жеребце: пар из ноздрей, горящие глаза, стремительный
галоп - нет, ничего похожего, у меня была смирная гнедая животина, вполне
под стать ее неповоротливому всаднику: Я купил эту коренастую кобылку у
своего нового соседа Карло Марочегти, который уверял, что именно такая мне и
нужна. Очень может быть, но ей это не помешало бросить меня оземь в ту самую
минуту, как я на нее взобрался. Правду сказать, под моим весом оборвался
ремешок, державший стремя, но мне гораздо лучше запомнились последствия, а
не причина: ваш покорный слуга был изукрашен ссадинами и синяками и весьма
обескуражен. Но храбро и неустрашимо доблестный Титмарш, едва оправившись,
вновь взгромоздился на лошадку и часто трусил рысцой в парке, уверенный, в
своей неотразимости, гуляющие провожали его взглядами. Не сомневаюсь, вы бы
тоже были очарованы. От ветра на его щеках горели розы, в седле он держался
прямо, вытянувшись в струнку, - он знал, что на него обращены все взоры, - и
расточал улыбки во все стороны, ибо и в самом деле радовался движению и
свежему воздуху, которому приписывал великую целительную силу. О ломоте в
суставах и насморке, а также обо всем прочем мы здесь не станем вспоминать,
а скажем только то, что он любил прогулки в парке.
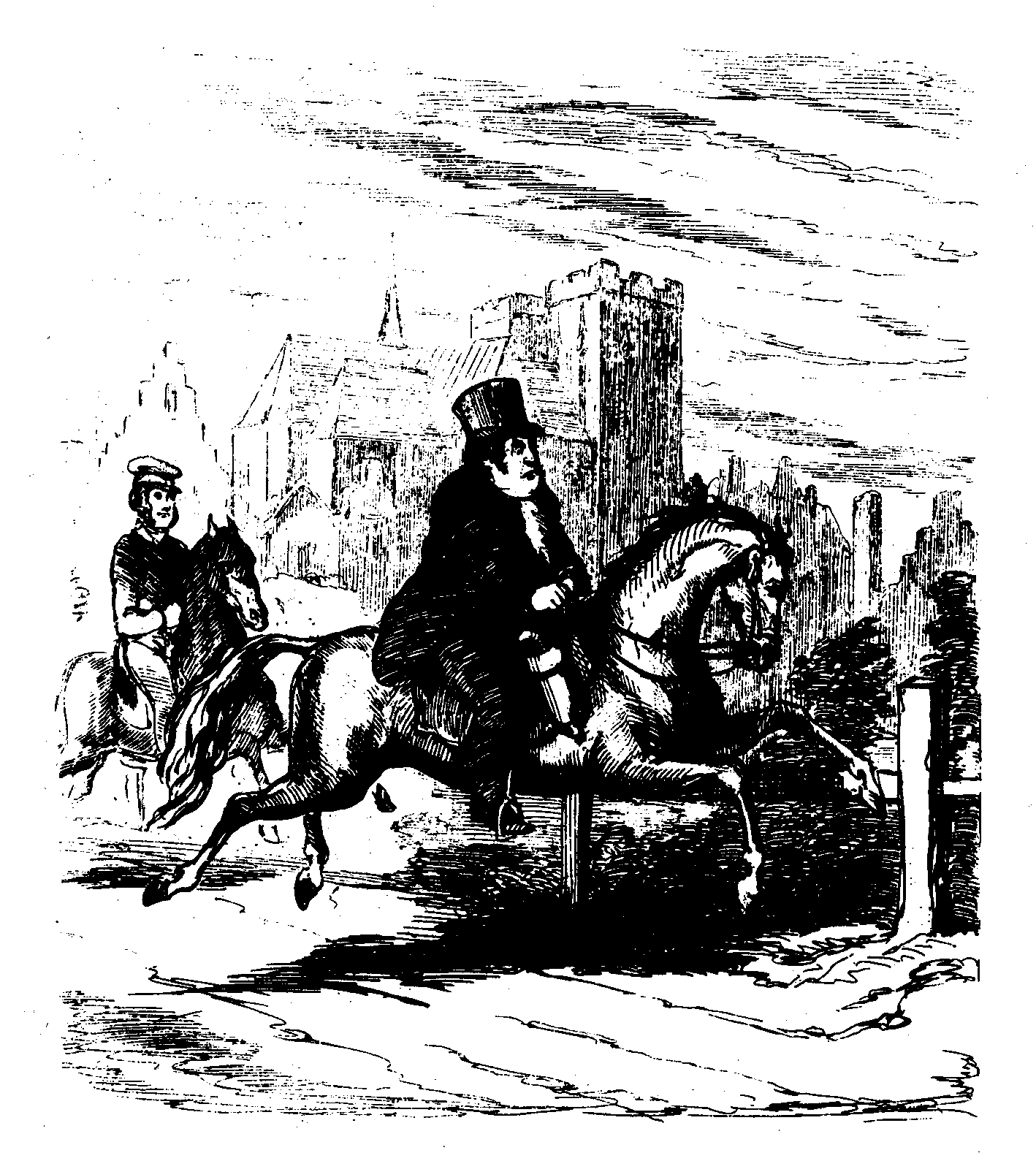 Когда-нибудь столь модное теперь искусство фотографии достаточно
созреет, чтоб сохранять для нас картины прошлого, и сценки вроде
вышеописанной мы сможем разглядывать подолгу и вклеивать в альбом как
доказательство своей правдивости. Положим, кто-нибудь меня тогда бы
неприметно сфотографировал: вот я сижу на вышеупомянутой кобылке, рот до
ушей, приветственно размахиваю шляпой; положим, снимок бы раскрасили, и он
запечатлел бы мой румянец и голубое небо за спиной; положим, это маленькое
чудо было возможно - и что тогда? Да то, что карточка, даже самая правдивая,
вас все равно бы обманула: я получился бы на ней счастливым, беззаботным и
веселым, но это и была бы ложь. Я постоянно поражаюсь, как мало наши
впечатления о людях похожи на то, что нам о них известно. Взгляните,
например, на эту женщину: веселая и оживленная, она идет по улице, ведет на
поводке собачку и то и дело улыбается знакомым. Кто заподозрит, что
старуха-мать, с которой она делит кров, прикована к постели и самодурством
отравляет дочери жизнь? И кто заметит, что в ее душе царит отчаяние: сейчас
окончится этот кусочек улицы, а с ним и вся свобода, отпущенная на сегодня.
Да, люди не похожи на то, чем кажутся, и автор этих строк и сам притворщик,
каких мало.
Когда-нибудь столь модное теперь искусство фотографии достаточно
созреет, чтоб сохранять для нас картины прошлого, и сценки вроде
вышеописанной мы сможем разглядывать подолгу и вклеивать в альбом как
доказательство своей правдивости. Положим, кто-нибудь меня тогда бы
неприметно сфотографировал: вот я сижу на вышеупомянутой кобылке, рот до
ушей, приветственно размахиваю шляпой; положим, снимок бы раскрасили, и он
запечатлел бы мой румянец и голубое небо за спиной; положим, это маленькое
чудо было возможно - и что тогда? Да то, что карточка, даже самая правдивая,
вас все равно бы обманула: я получился бы на ней счастливым, беззаботным и
веселым, но это и была бы ложь. Я постоянно поражаюсь, как мало наши
впечатления о людях похожи на то, что нам о них известно. Взгляните,
например, на эту женщину: веселая и оживленная, она идет по улице, ведет на
поводке собачку и то и дело улыбается знакомым. Кто заподозрит, что
старуха-мать, с которой она делит кров, прикована к постели и самодурством
отравляет дочери жизнь? И кто заметит, что в ее душе царит отчаяние: сейчас
окончится этот кусочек улицы, а с ним и вся свобода, отпущенная на сегодня.
Да, люди не похожи на то, чем кажутся, и автор этих строк и сам притворщик,
каких мало.
 Тогда, в 1854 году, осилив переезд на Онслоу-сквер и сделав все
возможное, чтобы стряхнуть оцепенение, готовое меня сковать, я ощутил
сильнейший страх, дописывая "Ньюкомов", - перед глазами стояло слово
"ПРОВАЛ", написанное большими буквами. К тому же я не знал, за что приняться
дальше. Мной овладела ненависть к писательскому ремеслу, от одного вида
пера, бумаги и чернил мне делалось не по себе, я еле сдерживался, чтоб не
отправить их в окно. Мне очень неприятно сознаваться, как мало удовольствия
порою доставляла мне работа и до чего бывало трудно писать без страсти, без
внутренней уверенности. Но эта мука оказалась благом, и без нее мне было б
не понять, как глубоко и неизбывно мое желание творить, - пиши я легко,
играючи, я б никогда не оценил тот скромный дар, который отпущен мне
судьбой, и не пытался бы упорно выразить его сейчас в "Дени Дювале", пока у
меня еще есть время. "Старайтесь следовать своим стремлениям, а не тому, что
вам легко дается", - замечу я сурово и подкреплю свои слова кивком - ни
дать, ни взять Великий Моралист, которому мы посвятим и следующую главу.
^T18^U
^TЯ вновь посещаю Америку, которая оказывается не так уж хороша^U
В четверг, 28 июня, в семь часов вечера я дописал "Ньюкомов" и,
опустившись на колени, сотворил молитву. Перевернуть последнюю страницу
длинного романа, хорош он или плох, любили вы его или писали с отвращением,
- великая минута для автора. Как я ни клял злосчастных "Ньюкомов" пока
работал, закончив, я пришел в волнение и сам не знал, радоваться мне или
печалиться. Я отдал им два года жизни, два скучных и нелегких года,
гордиться, правда, было нечем, но все-таки ушло два года. Описывая смерть
полковника Ньюкома, я плакал - сидел в залитой солнцем парижской квартире, и
слезы сами текли у меня из глаз; хотя я до сих пор считал своих героев
пустыми и бессодержательными, теперь, когда пришла пора прощаться,
оказалось, что я к ним очень привязан, мне даже стало стыдно - я их всегда
недооценивал, и если раньше я презирал себя за то, что пишу неведомо о чем,
сейчас я понял, что был несправедлив и в "Ньюкомах" есть содержание. Стоило
мне посмотреть на книгу непредвзято, чего я прежде был не в силах сделать, и
я увидел, что она написана о важном: о современной ярмарке невест. Нет-нет,
я ничего не присочиняю, прочтите сами и убедитесь, что эта тема - из ведущих
в "Ньюкомах", хотя, возможно, и не главная. Быть может, в ваше время она
порядком устареет - вам будет непонятен гнев и отвращение, с которым я гляжу
на молодых особ, кочующих из одной великосветской гостиной в другую в
поисках титула и десяти тысяч фунтов годового дохода. Над ними витает дух
мамоны и, потирая сальные руки, алчно глядит на толпы верных слуг, готовый
раздавить своей пятой их брошенные в прах кровоточащие сердца. Я признавался
вам, что писал "Ньюкомов", не чувствуя огня в душе и не имея ясной цели, за
что сурово себя осуждал, но вспомнив, сколько раз я содрогался, наблюдая
чудовищное торжище невест, я осознал, что многие страницы этой книги
подсказаны мне истинным вдохновением. Подчас, любуясь той или иной
прелестной и нарядной юной барышней, я замечал, как она поднимает над краем
своего бокала большие, ясные глаза - чудесное украшение тонкого и умного
лица - и ищет взглядом юношу, который неотрывно смотрит на нее из дальнего
угла гостиной. Я улыбался снисходительно, подметив нежные секреты юности, и,
скромно опустив седую голову, мысленно желал им счастья. Но что это? Не
удержавшись от соблазна еще раз насладиться зрелищем чужого счастья, я снова
поднимаю голову - и вижу, что моя барышня, растерянная и опечаленная, с
трудом выдавливает из себя улыбку и шлет ее уже в другую сторону! Но что это
за улыбка: застывшая, вымученная, черты лица напоминаю! перекошенную маску,
- и предназначена она уродливому старикашке, который годится ей в отцы.
Хотите знать, в чем дело? Все очень просто: любезный ее сердцу юноша -
начинающий художник без гроша за душой, а старик - вдовец, сэр Как-там-бишь,
задумавший жениться, и десять тысяч фунтов годовых помогут ему очень быстро
обрести желаемое. Барышня выйдет за него замуж - да-да, не сомневайтесь,
можете смело биться об заклад - она за него выйдет, за что ее дружно
похвалят окружающие, и в полном соответствии с нравами нашего времени
совершит правильный выбор. Возможно, она не будет слишком мучиться и даже не
поймет, чего лишилась, или научится считать, что ее первая любовь была
предосудительной слабостью, которую, благодаренье богу, вовремя заметили
старшие. На мой взгляд, милостивый государь и милостивая - государыня, это и
есть безнравственность, о чем вам прямо заявляю,, хотя мне и известно, что к
вашей младшей дочери, восемнадцатилетней Арабелле, посватался сэр Мерзок
Кроули, пятидесяти двух лет от роду, и вы, довольные удачной партией,
сегодня огласили их помолвку. Поэтому, достопочтенные мои читатели, ругайте
"Ньюкомов", как вам заблагорассудится, - я лишь поддакну: да, верно, книга
скучная, запутанная, рыхлая, но у нее есть и достоинства - их я не уступлю
без боя, и в их числе - разоблачение торжища невест. Впрочем, у меня сейчас
мелькнула мысль, что я, по сути, возвратился к теме "Ярмарки тщеславия" и
Бекки и Этель - две стороны одной медали, должно быть, это у меня навязчивая
идея, и вам смешно, что я подсовываю перепевы старых песен. Однако браки по
расчету и ныне совершаются на белом свете, и я готов изобличать их вновь и
вновь, если только мне хватит таланта изобразить их новыми красками.
Скажи мне кто-нибудь летом 1855 года, что в недалеком будущем я напишу
два толстых романа, я бы не поверил. Я честно думал, что больше не возьмусь,
за сочинительство. С романами покончено - такое мной владело чувство. Меня
обуяла мысль, что будущее, внушавшее мне столько опасений, само собой
устроится, если я получу казенную должность. А, собственно, почему не гак
лучить? Вокруг, казалось, все только и делали, что поступали на
государственную службу. Когда освободилось место секретаря нашей миссии в
Вашингтоне, я тут же попросил своего доброго знакомого - "друга" было бы
слишком сильно сказано - министра иностранных дел лорда Кларендона назначить
меня на этот пост. Как я и ожидал, последовал отказ. Ничуть не
обескураженный, я обратился к леди Стенли с просьбой выхлопотать для меня
место ревизора герцогства Ланкаширского, полагая, что семисот фунтов в год -
при том, что делать ничего бы не пришлось, - мне будет предостаточно.
Наверное, можно было бы не говорить, что повезло кому-то другому. Но, правду
сказать, что бы я делал в Вашингтоне, если бы стал секретарем посольства?
Наверное, сходил бы медленно с ума или, прослужив без году неделю, сбежал
домой. Неужто мне понравилось бы подсчитывать звонкую монету герцогства
Ланкаширского? Да ни за что на свете! Нет, такие синекуры не по мне, и
попади я в парламент, я добивался бы их упразднения.
Тогда, в 1854 году, осилив переезд на Онслоу-сквер и сделав все
возможное, чтобы стряхнуть оцепенение, готовое меня сковать, я ощутил
сильнейший страх, дописывая "Ньюкомов", - перед глазами стояло слово
"ПРОВАЛ", написанное большими буквами. К тому же я не знал, за что приняться
дальше. Мной овладела ненависть к писательскому ремеслу, от одного вида
пера, бумаги и чернил мне делалось не по себе, я еле сдерживался, чтоб не
отправить их в окно. Мне очень неприятно сознаваться, как мало удовольствия
порою доставляла мне работа и до чего бывало трудно писать без страсти, без
внутренней уверенности. Но эта мука оказалась благом, и без нее мне было б
не понять, как глубоко и неизбывно мое желание творить, - пиши я легко,
играючи, я б никогда не оценил тот скромный дар, который отпущен мне
судьбой, и не пытался бы упорно выразить его сейчас в "Дени Дювале", пока у
меня еще есть время. "Старайтесь следовать своим стремлениям, а не тому, что
вам легко дается", - замечу я сурово и подкреплю свои слова кивком - ни
дать, ни взять Великий Моралист, которому мы посвятим и следующую главу.
^T18^U
^TЯ вновь посещаю Америку, которая оказывается не так уж хороша^U
В четверг, 28 июня, в семь часов вечера я дописал "Ньюкомов" и,
опустившись на колени, сотворил молитву. Перевернуть последнюю страницу
длинного романа, хорош он или плох, любили вы его или писали с отвращением,
- великая минута для автора. Как я ни клял злосчастных "Ньюкомов" пока
работал, закончив, я пришел в волнение и сам не знал, радоваться мне или
печалиться. Я отдал им два года жизни, два скучных и нелегких года,
гордиться, правда, было нечем, но все-таки ушло два года. Описывая смерть
полковника Ньюкома, я плакал - сидел в залитой солнцем парижской квартире, и
слезы сами текли у меня из глаз; хотя я до сих пор считал своих героев
пустыми и бессодержательными, теперь, когда пришла пора прощаться,
оказалось, что я к ним очень привязан, мне даже стало стыдно - я их всегда
недооценивал, и если раньше я презирал себя за то, что пишу неведомо о чем,
сейчас я понял, что был несправедлив и в "Ньюкомах" есть содержание. Стоило
мне посмотреть на книгу непредвзято, чего я прежде был не в силах сделать, и
я увидел, что она написана о важном: о современной ярмарке невест. Нет-нет,
я ничего не присочиняю, прочтите сами и убедитесь, что эта тема - из ведущих
в "Ньюкомах", хотя, возможно, и не главная. Быть может, в ваше время она
порядком устареет - вам будет непонятен гнев и отвращение, с которым я гляжу
на молодых особ, кочующих из одной великосветской гостиной в другую в
поисках титула и десяти тысяч фунтов годового дохода. Над ними витает дух
мамоны и, потирая сальные руки, алчно глядит на толпы верных слуг, готовый
раздавить своей пятой их брошенные в прах кровоточащие сердца. Я признавался
вам, что писал "Ньюкомов", не чувствуя огня в душе и не имея ясной цели, за
что сурово себя осуждал, но вспомнив, сколько раз я содрогался, наблюдая
чудовищное торжище невест, я осознал, что многие страницы этой книги
подсказаны мне истинным вдохновением. Подчас, любуясь той или иной
прелестной и нарядной юной барышней, я замечал, как она поднимает над краем
своего бокала большие, ясные глаза - чудесное украшение тонкого и умного
лица - и ищет взглядом юношу, который неотрывно смотрит на нее из дальнего
угла гостиной. Я улыбался снисходительно, подметив нежные секреты юности, и,
скромно опустив седую голову, мысленно желал им счастья. Но что это? Не
удержавшись от соблазна еще раз насладиться зрелищем чужого счастья, я снова
поднимаю голову - и вижу, что моя барышня, растерянная и опечаленная, с
трудом выдавливает из себя улыбку и шлет ее уже в другую сторону! Но что это
за улыбка: застывшая, вымученная, черты лица напоминаю! перекошенную маску,
- и предназначена она уродливому старикашке, который годится ей в отцы.
Хотите знать, в чем дело? Все очень просто: любезный ее сердцу юноша -
начинающий художник без гроша за душой, а старик - вдовец, сэр Как-там-бишь,
задумавший жениться, и десять тысяч фунтов годовых помогут ему очень быстро
обрести желаемое. Барышня выйдет за него замуж - да-да, не сомневайтесь,
можете смело биться об заклад - она за него выйдет, за что ее дружно
похвалят окружающие, и в полном соответствии с нравами нашего времени
совершит правильный выбор. Возможно, она не будет слишком мучиться и даже не
поймет, чего лишилась, или научится считать, что ее первая любовь была
предосудительной слабостью, которую, благодаренье богу, вовремя заметили
старшие. На мой взгляд, милостивый государь и милостивая - государыня, это и
есть безнравственность, о чем вам прямо заявляю,, хотя мне и известно, что к
вашей младшей дочери, восемнадцатилетней Арабелле, посватался сэр Мерзок
Кроули, пятидесяти двух лет от роду, и вы, довольные удачной партией,
сегодня огласили их помолвку. Поэтому, достопочтенные мои читатели, ругайте
"Ньюкомов", как вам заблагорассудится, - я лишь поддакну: да, верно, книга
скучная, запутанная, рыхлая, но у нее есть и достоинства - их я не уступлю
без боя, и в их числе - разоблачение торжища невест. Впрочем, у меня сейчас
мелькнула мысль, что я, по сути, возвратился к теме "Ярмарки тщеславия" и
Бекки и Этель - две стороны одной медали, должно быть, это у меня навязчивая
идея, и вам смешно, что я подсовываю перепевы старых песен. Однако браки по
расчету и ныне совершаются на белом свете, и я готов изобличать их вновь и
вновь, если только мне хватит таланта изобразить их новыми красками.
Скажи мне кто-нибудь летом 1855 года, что в недалеком будущем я напишу
два толстых романа, я бы не поверил. Я честно думал, что больше не возьмусь,
за сочинительство. С романами покончено - такое мной владело чувство. Меня
обуяла мысль, что будущее, внушавшее мне столько опасений, само собой
устроится, если я получу казенную должность. А, собственно, почему не гак
лучить? Вокруг, казалось, все только и делали, что поступали на
государственную службу. Когда освободилось место секретаря нашей миссии в
Вашингтоне, я тут же попросил своего доброго знакомого - "друга" было бы
слишком сильно сказано - министра иностранных дел лорда Кларендона назначить
меня на этот пост. Как я и ожидал, последовал отказ. Ничуть не
обескураженный, я обратился к леди Стенли с просьбой выхлопотать для меня
место ревизора герцогства Ланкаширского, полагая, что семисот фунтов в год -
при том, что делать ничего бы не пришлось, - мне будет предостаточно.
Наверное, можно было бы не говорить, что повезло кому-то другому. Но, правду
сказать, что бы я делал в Вашингтоне, если бы стал секретарем посольства?
Наверное, сходил бы медленно с ума или, прослужив без году неделю, сбежал
домой. Неужто мне понравилось бы подсчитывать звонкую монету герцогства
Ланкаширского? Да ни за что на свете! Нет, такие синекуры не по мне, и
попади я в парламент, я добивался бы их упразднения.
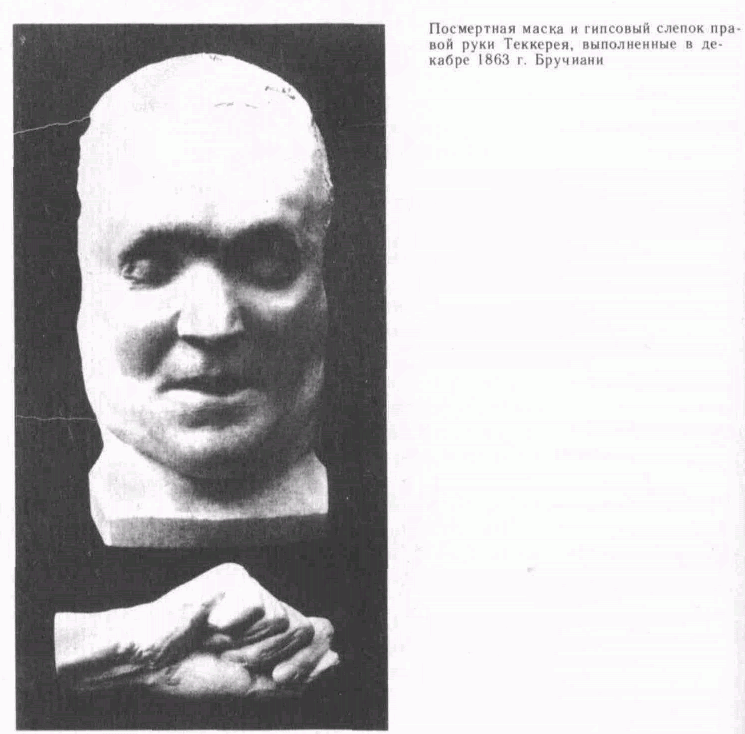 Как раз в то время "Блэквуд Мэгэзин" поместил ряд статей о Диккенсе,
Булвере-Литтоне и вашем покорном слуге (причем последнему достались
неумеренные похвалы) и под конец провел нечто вроде опроса читательского
мнения, чтобы вручить одному из нас пальму первенства; прежде чем эта
сомнительная честь досталась Булверу-Литтону, чаша весов едва не склонилась
в мою сторону, Я говорю "сомнительная", ибо подобные сравнения всегда
бессмыслица - кому дано измерить достоинства писателя? Мне совершенно ясно,
что гениальным даром - не одаренностью и не способностями - из нас троих
наделен лишь Диккенс, но критики сочли иначе. Должно быть, в данном случае
огромная известность повредила Диккенсу: литературные жрецы решили, будто
глас толпы не может совпадать с изощренным критическим суждением, но если
так, они ошиблись. Их оттолкнули лавры Диккенса и армия поклонников, но это
было неразумно с их стороны. Его слава никогда не вызывала у меня недоброго
чувства (хотя я мог бы упрекнуть его в другом...), и когда однажды мне
случилось убедиться, как он владычествует над сердцами, я лишь развеселился.
Как-то раз меня в числе других пригласили в одно поместье поохотиться на
кроликов и зайцев.
Собралось большое общество, ожидали и Диккенса, но когда мы все вместе
в прекрасном расположении духа собрались тронуться в путь из "Гаррика", от
Диккенса пришла записка с просьбой известить хозяйку, что он прибыть не
может и приносит извинения. Мне поручили передать это хозяйке; узнав
новость, она поспешила в кухню, и я услышал, как она крикнула повару:
"Мартин, не жарьте рябчиков, мистера Диккенса не будет". Кажется, ни разу в
жизни я не был так унижен: значит, рябчики предназначались только Дэвиду
Копперфилду, Артуру Пенденнису рябчиков не положено, тут уж важничать не
приходится.
Среди планов, которые я пытался осуществить в 1855 году, был один,
особенно дорогой моему сердцу, но из него так ничего и не вышло.
Догадайтесь, чем мне всегда больше всего хотелось заниматься? Издавать
какой-нибудь почтенный журнал или газету! В 1855 году мне предложили
подумать, не хочу ли я возглавить литературно-критическую газету, наподобие
"Зрителя" или "Болтуна" Аддисона и Стила. Называться она должна была "Игра
по правилам", и если бы затея состоялась, я раньше и удачнее вступил бы на
стезю, на которую мне суждено было встать слишком поздно. Что если бы уже
тогда то был бы "Корнхилл Мэгэзин"? Да, если бы я стал в то время редактором
газеты, мне не пришлось бы снова плыть в Америку, впрочем, не знаю, было ли
бы то к лучшему. А так мне ничего не оставалось, кроме как снова читать
лекции в Америке, никакого другого надежного дела не подвернулось, а у
Америки были свои приятные стороны: там можно было повидать старых друзей и
заработать кучу денег. Правда, я сам не знал, какому предмету будут
посвящены мои новые лекции. Какой позор: я собирался выступать, не
подготовив курса! Без ясной цели я копался в событиях прошлого века в
надежде наткнуться на что-нибудь подходящее. У меня уже были заказаны билеты
на 13 октября, а в сентябре я еще лихорадочно читал и делал выписки в
Британском музее, так и не решив, какая тема мне по вкусу.
Как раз в то время "Блэквуд Мэгэзин" поместил ряд статей о Диккенсе,
Булвере-Литтоне и вашем покорном слуге (причем последнему достались
неумеренные похвалы) и под конец провел нечто вроде опроса читательского
мнения, чтобы вручить одному из нас пальму первенства; прежде чем эта
сомнительная честь досталась Булверу-Литтону, чаша весов едва не склонилась
в мою сторону, Я говорю "сомнительная", ибо подобные сравнения всегда
бессмыслица - кому дано измерить достоинства писателя? Мне совершенно ясно,
что гениальным даром - не одаренностью и не способностями - из нас троих
наделен лишь Диккенс, но критики сочли иначе. Должно быть, в данном случае
огромная известность повредила Диккенсу: литературные жрецы решили, будто
глас толпы не может совпадать с изощренным критическим суждением, но если
так, они ошиблись. Их оттолкнули лавры Диккенса и армия поклонников, но это
было неразумно с их стороны. Его слава никогда не вызывала у меня недоброго
чувства (хотя я мог бы упрекнуть его в другом...), и когда однажды мне
случилось убедиться, как он владычествует над сердцами, я лишь развеселился.
Как-то раз меня в числе других пригласили в одно поместье поохотиться на
кроликов и зайцев.
Собралось большое общество, ожидали и Диккенса, но когда мы все вместе
в прекрасном расположении духа собрались тронуться в путь из "Гаррика", от
Диккенса пришла записка с просьбой известить хозяйку, что он прибыть не
может и приносит извинения. Мне поручили передать это хозяйке; узнав
новость, она поспешила в кухню, и я услышал, как она крикнула повару:
"Мартин, не жарьте рябчиков, мистера Диккенса не будет". Кажется, ни разу в
жизни я не был так унижен: значит, рябчики предназначались только Дэвиду
Копперфилду, Артуру Пенденнису рябчиков не положено, тут уж важничать не
приходится.
Среди планов, которые я пытался осуществить в 1855 году, был один,
особенно дорогой моему сердцу, но из него так ничего и не вышло.
Догадайтесь, чем мне всегда больше всего хотелось заниматься? Издавать
какой-нибудь почтенный журнал или газету! В 1855 году мне предложили
подумать, не хочу ли я возглавить литературно-критическую газету, наподобие
"Зрителя" или "Болтуна" Аддисона и Стила. Называться она должна была "Игра
по правилам", и если бы затея состоялась, я раньше и удачнее вступил бы на
стезю, на которую мне суждено было встать слишком поздно. Что если бы уже
тогда то был бы "Корнхилл Мэгэзин"? Да, если бы я стал в то время редактором
газеты, мне не пришлось бы снова плыть в Америку, впрочем, не знаю, было ли
бы то к лучшему. А так мне ничего не оставалось, кроме как снова читать
лекции в Америке, никакого другого надежного дела не подвернулось, а у
Америки были свои приятные стороны: там можно было повидать старых друзей и
заработать кучу денег. Правда, я сам не знал, какому предмету будут
посвящены мои новые лекции. Какой позор: я собирался выступать, не
подготовив курса! Без ясной цели я копался в событиях прошлого века в
надежде наткнуться на что-нибудь подходящее. У меня уже были заказаны билеты
на 13 октября, а в сентябре я еще лихорадочно читал и делал выписки в
Британском музее, так и не решив, какая тема мне по вкусу.
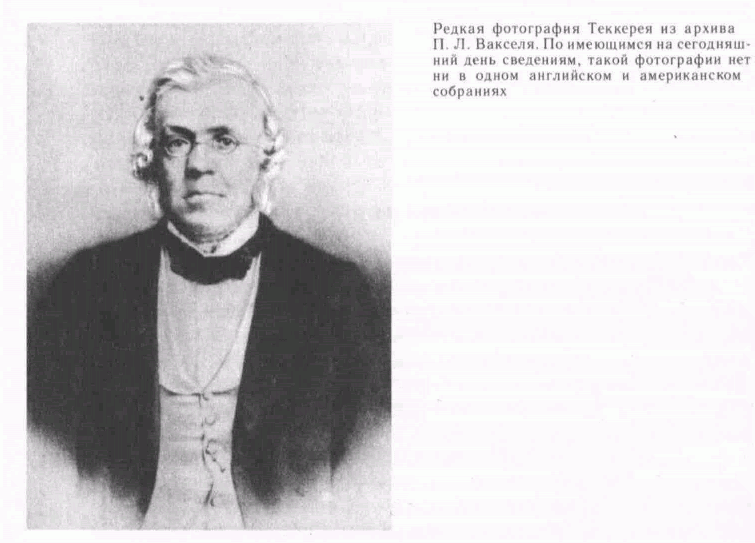 Той скверной осенью все как нарочно оборачивалось против меня. Я только
и делал, что спешил, и очень худо себя чувствовал, поэтому я не решился
отправиться в другое полушарие один и взял с собою своего камердинера Чарлза
Пирмена. Прежде чем отплыть из ливерпульских доков на борту "Африки", мы не
избежали обычных треволнений и хлопот, но я не стану мучить вас их повторным
описанием: однажды я их благополучно пережил, и это нас очень успокаивало. К
тому же, сейчас я ехал не в пустоту, а к добрым друзьям - Бакстерам и
другим, с которыми порою переписывался, и не сомневался, что меня там
встретят с распростертыми объятиями. Я мог бы, конечно, красочно представить
все наше путешествие, но воздержусь и отошлю вас лучше к моим "Заметкам о
разных разностях" - там вы найдете все, что пожелаете. Мне как-то не пишется
о второй поездке через океан, и за разгадкой не нужно далеко ходить: в 1853
году Америка вернула мне вкус к жизни и зарядила бодростью, и, возвращаясь
мыслью к тому времени, я ощущаю прежний пыл, который сам находит для себя
слова, но в 1856 году я был разочарован, а обманутые ожидания не вдохновляют
на рассказы. Не знаю, что тому причиной: страна или я сам. Ясно мне лишь
одно: если вы влюбились в чужой край и превозносите его направо и налево,
посетите его еще раз, а до тех пор старайтесь помалкивать. Не то чтоб я
взглянул на Америку иначе, скорей я сам переменился и оценил все по-иному,
по большей части неблагоприятно. Пожалуй, в первый раз я так был поражен
культурой, которую не ожидал тут встретить, что не дал себе труда
присмотреться повнимательней и спросить себя, сумел ли бы я жить в этой
стране, которая, как я твердил, мне очень нравится. Так ли приятно
находиться среди людей, которые всегда ведут себя запанибрата? Помню, я
как-то задремал в трамвае, а очнувшись, увидел свою газету в руках у соседа,
который, заметив выражение моего лица, - я не произнес ни звука, - сунул мне
ее назад со словами: "А я тут почитал вашу газетку, пока вы соснули". Да, во
второй раз - а пробыл я довольно долго - все это воспринимается иначе. Вы
начинаете замечать, кому принадлежат права, а кто бесправен, как власти
распоряжаются народом, вы видите сословные различия, которых, как вам
казалось прежде, в этой стране нет, и все становится на свои места, и можно
либо полюбить ее с новой силой, либо окончательно к ней охладеть. Я понял с
огорчением, что никогда не смог бы жить при таком политически незрелом
строе. Как ни хороши жизнеспособность и энергия граждан, пленившие меня в
тот раз, их, к сожалению, недостаточно, чтобы обеспечить порядок и
устойчивость, без которых не может обойтись ни одно общество. Отсутствие
сословных рамок, прежде меня восхищавшее, теперь показалось мне опасным: на
мой взгляд, Америке - особенно это заметно в южных штатах - недостает
социального равновесия и не похоже, что она вскоре его достигнет. Раньше я
восторгался тем, что неимущий может разбогатеть за год-другой, теперь я
осознал без всякого восторга, что вместе с деньгами он получает власть.
Стоило мне проехаться по городам и весям юга и посмотреть на грубых,
сквернословящих заправил, в тяжелых сапогах, с немытыми руками, и я
похолодел от ужаса. Несомненно, в Америке не меньше образованных людей, чем
в Англии, которым они ни в чем не уступают, но не они хозяева страны, а те,
другие, и их неизмеримо больше. Американская демократия, и в самом деле,
отлично задумана и тщательно спланирована, но в жизни бывает очень страшной.
Кто знает, что из нее в один прекрасный день вырастет? По-моему, в нее не
встроены предохранительные клапаны, перекрывающие путь невежественным
выскочкам, которых здесь не счесть, и о последствиях не хочется и думать.
Той скверной осенью все как нарочно оборачивалось против меня. Я только
и делал, что спешил, и очень худо себя чувствовал, поэтому я не решился
отправиться в другое полушарие один и взял с собою своего камердинера Чарлза
Пирмена. Прежде чем отплыть из ливерпульских доков на борту "Африки", мы не
избежали обычных треволнений и хлопот, но я не стану мучить вас их повторным
описанием: однажды я их благополучно пережил, и это нас очень успокаивало. К
тому же, сейчас я ехал не в пустоту, а к добрым друзьям - Бакстерам и
другим, с которыми порою переписывался, и не сомневался, что меня там
встретят с распростертыми объятиями. Я мог бы, конечно, красочно представить
все наше путешествие, но воздержусь и отошлю вас лучше к моим "Заметкам о
разных разностях" - там вы найдете все, что пожелаете. Мне как-то не пишется
о второй поездке через океан, и за разгадкой не нужно далеко ходить: в 1853
году Америка вернула мне вкус к жизни и зарядила бодростью, и, возвращаясь
мыслью к тому времени, я ощущаю прежний пыл, который сам находит для себя
слова, но в 1856 году я был разочарован, а обманутые ожидания не вдохновляют
на рассказы. Не знаю, что тому причиной: страна или я сам. Ясно мне лишь
одно: если вы влюбились в чужой край и превозносите его направо и налево,
посетите его еще раз, а до тех пор старайтесь помалкивать. Не то чтоб я
взглянул на Америку иначе, скорей я сам переменился и оценил все по-иному,
по большей части неблагоприятно. Пожалуй, в первый раз я так был поражен
культурой, которую не ожидал тут встретить, что не дал себе труда
присмотреться повнимательней и спросить себя, сумел ли бы я жить в этой
стране, которая, как я твердил, мне очень нравится. Так ли приятно
находиться среди людей, которые всегда ведут себя запанибрата? Помню, я
как-то задремал в трамвае, а очнувшись, увидел свою газету в руках у соседа,
который, заметив выражение моего лица, - я не произнес ни звука, - сунул мне
ее назад со словами: "А я тут почитал вашу газетку, пока вы соснули". Да, во
второй раз - а пробыл я довольно долго - все это воспринимается иначе. Вы
начинаете замечать, кому принадлежат права, а кто бесправен, как власти
распоряжаются народом, вы видите сословные различия, которых, как вам
казалось прежде, в этой стране нет, и все становится на свои места, и можно
либо полюбить ее с новой силой, либо окончательно к ней охладеть. Я понял с
огорчением, что никогда не смог бы жить при таком политически незрелом
строе. Как ни хороши жизнеспособность и энергия граждан, пленившие меня в
тот раз, их, к сожалению, недостаточно, чтобы обеспечить порядок и
устойчивость, без которых не может обойтись ни одно общество. Отсутствие
сословных рамок, прежде меня восхищавшее, теперь показалось мне опасным: на
мой взгляд, Америке - особенно это заметно в южных штатах - недостает
социального равновесия и не похоже, что она вскоре его достигнет. Раньше я
восторгался тем, что неимущий может разбогатеть за год-другой, теперь я
осознал без всякого восторга, что вместе с деньгами он получает власть.
Стоило мне проехаться по городам и весям юга и посмотреть на грубых,
сквернословящих заправил, в тяжелых сапогах, с немытыми руками, и я
похолодел от ужаса. Несомненно, в Америке не меньше образованных людей, чем
в Англии, которым они ни в чем не уступают, но не они хозяева страны, а те,
другие, и их неизмеримо больше. Американская демократия, и в самом деле,
отлично задумана и тщательно спланирована, но в жизни бывает очень страшной.
Кто знает, что из нее в один прекрасный день вырастет? По-моему, в нее не
встроены предохранительные клапаны, перекрывающие путь невежественным
выскочкам, которых здесь не счесть, и о последствиях не хочется и думать.
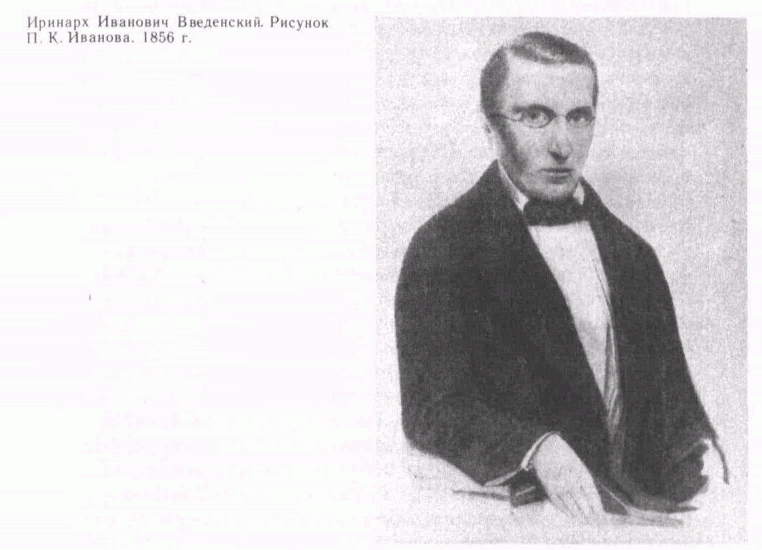 Не помню, из-за чего я разразился этой речью. Конечно, проникновенный
рассказ о Ниагарском водопаде или какой-нибудь другой диковинке был бы здесь
гораздо уместнее. Но до водопада я не добрался, хотя проделал весь перегон
до Буффало и почти достиг цели. Мне помешала непогода, омрачившая всю мою
поездку. Как оказалось, я выбрал самую холодную зиму за последние шестьдесят
лет. Пожалуйста, не говорите, что немного снега - это даже приятно, вы
просто не знаете, что такое снег, горы снега, которые стоят и не тают. Вьюга
бушевала непрестанно, вихри наметали кучи сухого колючего снега, сугробы
громоздились даже на центральных улицах, от холода перехватывало дыхание, на
губах повисали сосульки, и так - неделя за неделей, да что там недели - это
длилось несколько месяцев без единой оттепели: весь мир словно сковало
льдом. Поезда не ходили, о лошадях нечего было и думать, движение порою
замирало полностью, обогреть дом стоило немалых денег - морозы сеяли
неисчислимые бедствия.
Я, конечно, не был подготовлен к таким невзгодам, но быстро научился
натягивать на себя сто одежек, прежде чем показать нос на улицу. Огромным
усилием воли я заставлял себя утром встать с постели и так уставал от этой
борьбы с собой, что жаждал вновь нырнуть под одеяло и заснуть покрепче, а
проснуться летним утром в Англии от шума ветерка в зеленых кронах за окном,
вдали от льдов и снегопадов. Морозы свирепствовали все время, что я был на
севере страны, и скрыться от них было некуда. Люди очень страдали от
разбушевавшейся стихии: поезда застревали в заносах, пассажиры жгли скамьи,
чтобы не замерзнуть. Со мною, слава богу, ничего такого не случилось, но
порою приходилось подолгу пережидать непогоду в самых неподходящих местах.
Подчас бывало нелегко: добравшись до какой-нибудь глуши не за два дня, как
предполагалось, а за три из-за снегопадов в пути, я обнаруживал, что
собралась лишь горстка слушателей - в такое время никто не хочет отрываться
от своих каминов. Залы, в которых я выступал, как ни старались устроители,
всегда были плохо натоплены, из-под дверей тянуло сквозняками, я постоянно
мерз. Да, это было неуютно, тем более что мне часто нездоровилось, порою
даже приходилось отменять лекции. Во время этого путешествия я понял, как
ценю земные блага и удобства и как хотел бы, чтобы и мои дочери к ним
относились соответственно, правда, я несколько стыжусь горячности, с которой
отстаивал перед ними свои взгляды на сей предмет. Дело, кажется, было так: я
получил письмо от Минни, а может быть, от матушки, - не помню точно, хотя
скорее все-таки от Минни, - в котором очень прочувствованно описывалось,
какую нежную привязанность питает Анни к некоему викарию - человеку больному
(у него не было одного легкого) и бедному. Как же я рассердился! Я тотчас
отправил своей старшей дочери свирепое послание, в котором уведомлял ее, что
никогда не допущу подобного союза, даже если разобью тем ее сердце. Я метал
громы и молнии, - выговаривал ей за неразумие, заявлял, что не для того
тружусь всю жизнь, как каторжник, чтоб содержать жалких личностей вроде ее
избранника. Я выложил без околичностей, что претендент на ее руку должен
быть способен содержать жену. И так далее и тому подобное. Как после
выяснилось, то была лишь шутка, и я почувствовал себя необычайно глупо. Но
вдруг бы это оказалось правдой - хорош бы я был со своими громогласными
тирадами! Я просто содрогнулся, когда представил себе, как грубо вторгся в
отношения, которые могли потребовать особой деликатности, - что бы я сам
сказал в ответ на подобное вмешательство? Как ни полезно родительское
попечение, проявляться оно должно иначе, - кстати сказать, тогда и толку от
него бывает больше; но как же часто мы, родители, идем на поводу у своих
чувств - нам кажется, будто дети должны понимать, что мы все делаем для их
же пользы. Ведь мы во что бы то ни стало хотим, чтобы они были счастливы, а
долговечно ли счастье на чердаке с чахоточным священником? Как мне потом
рассказывали, мой дом дрожал от хохота, когда там читали вслух мои поучения,
и тем не менее он мог дрожать от слез - что бы я тогда стал делать? Нет, я
больше ничего подобного себе не позволю, и кто бы ни посватался к моим
девочкам, буду держаться - достойно и доброжелательно. И все же я
по-прежнему считаю: мужчина, который не может прокормить семью, жениться не
вправе. Вы спрашиваете, не забыл ли я 1836 год? Это, конечно, верно, но то
было другое дело, я был совершенно убежден, что сумею обеспечить Изабеллу, -
у меня была прекрасная должность, - ну, если не прекрасная, то все-таки
какая-никакая, а должность, - согласен, еще не было, но я твердо на нее
рассчитывал, - ладно, не спорю, ни один отец не обрадовался бы такому зятю.
Ах, я старею, а старые люди легко впадают в косность. Нам слишком хорошо
известны ловушки, расставленные жизнью, и, опасаясь за молодых, мы забываем,
как сами были бесстрашны в юности.
Не помню, из-за чего я разразился этой речью. Конечно, проникновенный
рассказ о Ниагарском водопаде или какой-нибудь другой диковинке был бы здесь
гораздо уместнее. Но до водопада я не добрался, хотя проделал весь перегон
до Буффало и почти достиг цели. Мне помешала непогода, омрачившая всю мою
поездку. Как оказалось, я выбрал самую холодную зиму за последние шестьдесят
лет. Пожалуйста, не говорите, что немного снега - это даже приятно, вы
просто не знаете, что такое снег, горы снега, которые стоят и не тают. Вьюга
бушевала непрестанно, вихри наметали кучи сухого колючего снега, сугробы
громоздились даже на центральных улицах, от холода перехватывало дыхание, на
губах повисали сосульки, и так - неделя за неделей, да что там недели - это
длилось несколько месяцев без единой оттепели: весь мир словно сковало
льдом. Поезда не ходили, о лошадях нечего было и думать, движение порою
замирало полностью, обогреть дом стоило немалых денег - морозы сеяли
неисчислимые бедствия.
Я, конечно, не был подготовлен к таким невзгодам, но быстро научился
натягивать на себя сто одежек, прежде чем показать нос на улицу. Огромным
усилием воли я заставлял себя утром встать с постели и так уставал от этой
борьбы с собой, что жаждал вновь нырнуть под одеяло и заснуть покрепче, а
проснуться летним утром в Англии от шума ветерка в зеленых кронах за окном,
вдали от льдов и снегопадов. Морозы свирепствовали все время, что я был на
севере страны, и скрыться от них было некуда. Люди очень страдали от
разбушевавшейся стихии: поезда застревали в заносах, пассажиры жгли скамьи,
чтобы не замерзнуть. Со мною, слава богу, ничего такого не случилось, но
порою приходилось подолгу пережидать непогоду в самых неподходящих местах.
Подчас бывало нелегко: добравшись до какой-нибудь глуши не за два дня, как
предполагалось, а за три из-за снегопадов в пути, я обнаруживал, что
собралась лишь горстка слушателей - в такое время никто не хочет отрываться
от своих каминов. Залы, в которых я выступал, как ни старались устроители,
всегда были плохо натоплены, из-под дверей тянуло сквозняками, я постоянно
мерз. Да, это было неуютно, тем более что мне часто нездоровилось, порою
даже приходилось отменять лекции. Во время этого путешествия я понял, как
ценю земные блага и удобства и как хотел бы, чтобы и мои дочери к ним
относились соответственно, правда, я несколько стыжусь горячности, с которой
отстаивал перед ними свои взгляды на сей предмет. Дело, кажется, было так: я
получил письмо от Минни, а может быть, от матушки, - не помню точно, хотя
скорее все-таки от Минни, - в котором очень прочувствованно описывалось,
какую нежную привязанность питает Анни к некоему викарию - человеку больному
(у него не было одного легкого) и бедному. Как же я рассердился! Я тотчас
отправил своей старшей дочери свирепое послание, в котором уведомлял ее, что
никогда не допущу подобного союза, даже если разобью тем ее сердце. Я метал
громы и молнии, - выговаривал ей за неразумие, заявлял, что не для того
тружусь всю жизнь, как каторжник, чтоб содержать жалких личностей вроде ее
избранника. Я выложил без околичностей, что претендент на ее руку должен
быть способен содержать жену. И так далее и тому подобное. Как после
выяснилось, то была лишь шутка, и я почувствовал себя необычайно глупо. Но
вдруг бы это оказалось правдой - хорош бы я был со своими громогласными
тирадами! Я просто содрогнулся, когда представил себе, как грубо вторгся в
отношения, которые могли потребовать особой деликатности, - что бы я сам
сказал в ответ на подобное вмешательство? Как ни полезно родительское
попечение, проявляться оно должно иначе, - кстати сказать, тогда и толку от
него бывает больше; но как же часто мы, родители, идем на поводу у своих
чувств - нам кажется, будто дети должны понимать, что мы все делаем для их
же пользы. Ведь мы во что бы то ни стало хотим, чтобы они были счастливы, а
долговечно ли счастье на чердаке с чахоточным священником? Как мне потом
рассказывали, мой дом дрожал от хохота, когда там читали вслух мои поучения,
и тем не менее он мог дрожать от слез - что бы я тогда стал делать? Нет, я
больше ничего подобного себе не позволю, и кто бы ни посватался к моим
девочкам, буду держаться - достойно и доброжелательно. И все же я
по-прежнему считаю: мужчина, который не может прокормить семью, жениться не
вправе. Вы спрашиваете, не забыл ли я 1836 год? Это, конечно, верно, но то
было другое дело, я был совершенно убежден, что сумею обеспечить Изабеллу, -
у меня была прекрасная должность, - ну, если не прекрасная, то все-таки
какая-никакая, а должность, - согласен, еще не было, но я твердо на нее
рассчитывал, - ладно, не спорю, ни один отец не обрадовался бы такому зятю.
Ах, я старею, а старые люди легко впадают в косность. Нам слишком хорошо
известны ловушки, расставленные жизнью, и, опасаясь за молодых, мы забываем,
как сами были бесстрашны в юности.
 ^T19^U
^TЯ разъезжаю с лекциями^U
24 апреля 1856 года, простившись с Бакстерами и другими друзьями, я
покинул Америку на пароходе "Балтика". Ах, да, вы правы, я еще не рассказал
о Салли; но стоит ли? - это довольно огорчительная история, - впрочем,
ладно, будь по-вашему: Салли Бакстер вышла замуж. Теперь вы удовлетворены и
понимаете, почему в заметках о втором посещении Америки я не упомянул это
милейшее семейство? Не знаю, что случилось, но с самого начала между нами не
пошло по-старому. Впрочем, замужество Салли имеет к этому, наверное, самое
прямое отношение, и новость о ее помолвке, которую мне выложили сразу по
прибытии в Бостон, должно быть, охладила пыл нашей встречи. Я, разумеется,
прекрасно сознавал, что поздно или рано - естественно было предположить, что
рано, - Салли выйдет замуж, да и моя легкая влюбленность в нее ничуть не
походила на ту испепеляющую страсть, которая меня сжигала раньше, но все же
это был удар. Не помню ясно, до того ли, как меня ошарашили известием о ее
обручении, или вскоре после, но только я заметил, что Салли подурнела и
лучшие ее годы, вне всякого сомнения, миновали: это была уже совсем не та
прелестная, запомнившаяся мне девочка. Я подшучивал в обществе над своей
ролью отвергнутого поклонника, не делая тайны из своего огорчения, и от души
поздравил невесту, и все же из наших отношений с Бакстерами ушла
непринужденность. На венчание я не поехал, хотя меня, конечно, пригласили,
ждали и тому подобное. Теперь я понимаю: быть там мне не стоило, но тогда я
очень казнился мыслью, что поступил неправильно. Церемония состоялась в
Нью-Йорке и назначена была на день, когда я читал в Бостоне лекцию. Но дело
было не в ней - не так уж серьезно я отношусь к своим лекциям, - а в дурном
самочувствии: у меня начался один из тех тяжелых приступов болезни, о
которых я уже рассказывал, и ехать было рискованно. Я счел, что должен
остаться дома, и написал об этом Бакстерам в надежде, что они достаточно
хорошо меня знают и не припишут мое отсутствие обиде. Позже, уже на юге, я
повидался с Салли и ее новоиспеченным мужем Фрэнком Хэмденом, славным малым,
и подивился, как быстро она поблекла после замужества, однако таков удел
американок. Лет в тридцать пять их отличает какая-то понурая, костлявая
поджарость, как у борзых, которая нисколько мне не нравится, тогда как в
Англии прекрасный пол приобретает с возрастом приятную и зрелую округлость
форм, мягкую и женственную. Бедняжка Салли...
Обратный путь домой был не из легких, и я не ощущал и тени той кипучей
жизнерадостности, которая подгоняла меня в прошлый раз. Я знал, что все
ближайшее лето мне предстоит болеть и лечиться, и, разумеется, меня это не
радовало. Пора было заняться моими внутренними органами, и меры должны были
быть самыми решительными - вплоть до ножа хирурга. Предчувствие не из
приятных, когда вы возвращаетесь домой. Приятного и в самом деле вокруг было
немного, кроме моего банковского счета, который вознаградил меня за все, так
что, даже согнувшись пополам от боли, я слабо улыбался, глядя на него.
Большую часть заработанного в Америке я там и оставил, вложив в
железнодорожные акции и другие ценные бумаги.
И вот, наконец, я дома, лежу в постели и предаюсь тоске и унынию после
своей постылой, хоть и прибыльной поездки (последнее, правда, меня несколько
подбадривает), и ощущаю жар, боль и колики во всем теле, кроме разве языка,
который день ото дня становится все злее. До чего я был несносен - не знаю,
как меня выдерживали домашние, которые лишь терпеливо посмеивались и
говорили утешительные слова в ответ на мое неумолчное брюзжание. Я вовсе не
собирался кротко улыбаться и, утопая в подушках, толковать об ангелах, о
нет, я рвал и метал, швырял все на пол, словно капризный ребенок в порыве
раздражения. Неделю-другую я был готов соблюдать постельный режим и жить на
манной каше, как советовали мне эскулапы, но вскоре убедился, что от этих
нелепых мер проку не будет, и решил, что перед смертью можно и повеселиться,
и принялся ездить в гости и развлекаться, сделав ставку на подвижный образ
жизни и удовольствия. Не слишком благоразумно, не правда ли? Тяжелее всех
приходилось моим бедным дочкам, особенно Анни, которая в тот год стала
выезжать в свет и ожидала с нетерпением приемов и балов своего первого
лондонского сезона. Несколько раз я заставлял себя сопровождать ее, но
подозреваю, что мои героические усилия оборачивались для нее пыткой: не
слишком весело, когда в самую интересную минуту тебя подхватывает папочка,
который вот-вот лишится чувств и потому спешит домой, и уволакивает тебя с
бала.
^T19^U
^TЯ разъезжаю с лекциями^U
24 апреля 1856 года, простившись с Бакстерами и другими друзьями, я
покинул Америку на пароходе "Балтика". Ах, да, вы правы, я еще не рассказал
о Салли; но стоит ли? - это довольно огорчительная история, - впрочем,
ладно, будь по-вашему: Салли Бакстер вышла замуж. Теперь вы удовлетворены и
понимаете, почему в заметках о втором посещении Америки я не упомянул это
милейшее семейство? Не знаю, что случилось, но с самого начала между нами не
пошло по-старому. Впрочем, замужество Салли имеет к этому, наверное, самое
прямое отношение, и новость о ее помолвке, которую мне выложили сразу по
прибытии в Бостон, должно быть, охладила пыл нашей встречи. Я, разумеется,
прекрасно сознавал, что поздно или рано - естественно было предположить, что
рано, - Салли выйдет замуж, да и моя легкая влюбленность в нее ничуть не
походила на ту испепеляющую страсть, которая меня сжигала раньше, но все же
это был удар. Не помню ясно, до того ли, как меня ошарашили известием о ее
обручении, или вскоре после, но только я заметил, что Салли подурнела и
лучшие ее годы, вне всякого сомнения, миновали: это была уже совсем не та
прелестная, запомнившаяся мне девочка. Я подшучивал в обществе над своей
ролью отвергнутого поклонника, не делая тайны из своего огорчения, и от души
поздравил невесту, и все же из наших отношений с Бакстерами ушла
непринужденность. На венчание я не поехал, хотя меня, конечно, пригласили,
ждали и тому подобное. Теперь я понимаю: быть там мне не стоило, но тогда я
очень казнился мыслью, что поступил неправильно. Церемония состоялась в
Нью-Йорке и назначена была на день, когда я читал в Бостоне лекцию. Но дело
было не в ней - не так уж серьезно я отношусь к своим лекциям, - а в дурном
самочувствии: у меня начался один из тех тяжелых приступов болезни, о
которых я уже рассказывал, и ехать было рискованно. Я счел, что должен
остаться дома, и написал об этом Бакстерам в надежде, что они достаточно
хорошо меня знают и не припишут мое отсутствие обиде. Позже, уже на юге, я
повидался с Салли и ее новоиспеченным мужем Фрэнком Хэмденом, славным малым,
и подивился, как быстро она поблекла после замужества, однако таков удел
американок. Лет в тридцать пять их отличает какая-то понурая, костлявая
поджарость, как у борзых, которая нисколько мне не нравится, тогда как в
Англии прекрасный пол приобретает с возрастом приятную и зрелую округлость
форм, мягкую и женственную. Бедняжка Салли...
Обратный путь домой был не из легких, и я не ощущал и тени той кипучей
жизнерадостности, которая подгоняла меня в прошлый раз. Я знал, что все
ближайшее лето мне предстоит болеть и лечиться, и, разумеется, меня это не
радовало. Пора было заняться моими внутренними органами, и меры должны были
быть самыми решительными - вплоть до ножа хирурга. Предчувствие не из
приятных, когда вы возвращаетесь домой. Приятного и в самом деле вокруг было
немного, кроме моего банковского счета, который вознаградил меня за все, так
что, даже согнувшись пополам от боли, я слабо улыбался, глядя на него.
Большую часть заработанного в Америке я там и оставил, вложив в
железнодорожные акции и другие ценные бумаги.
И вот, наконец, я дома, лежу в постели и предаюсь тоске и унынию после
своей постылой, хоть и прибыльной поездки (последнее, правда, меня несколько
подбадривает), и ощущаю жар, боль и колики во всем теле, кроме разве языка,
который день ото дня становится все злее. До чего я был несносен - не знаю,
как меня выдерживали домашние, которые лишь терпеливо посмеивались и
говорили утешительные слова в ответ на мое неумолчное брюзжание. Я вовсе не
собирался кротко улыбаться и, утопая в подушках, толковать об ангелах, о
нет, я рвал и метал, швырял все на пол, словно капризный ребенок в порыве
раздражения. Неделю-другую я был готов соблюдать постельный режим и жить на
манной каше, как советовали мне эскулапы, но вскоре убедился, что от этих
нелепых мер проку не будет, и решил, что перед смертью можно и повеселиться,
и принялся ездить в гости и развлекаться, сделав ставку на подвижный образ
жизни и удовольствия. Не слишком благоразумно, не правда ли? Тяжелее всех
приходилось моим бедным дочкам, особенно Анни, которая в тот год стала
выезжать в свет и ожидала с нетерпением приемов и балов своего первого
лондонского сезона. Несколько раз я заставлял себя сопровождать ее, но
подозреваю, что мои героические усилия оборачивались для нее пыткой: не
слишком весело, когда в самую интересную минуту тебя подхватывает папочка,
который вот-вот лишится чувств и потому спешит домой, и уволакивает тебя с
бала.
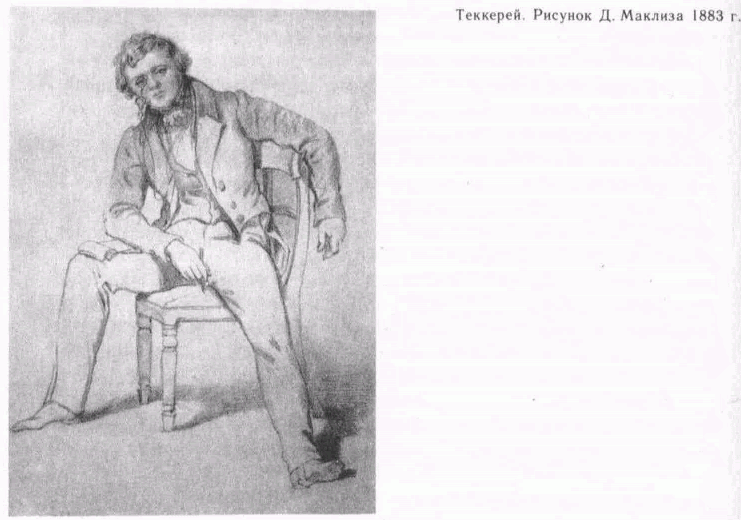 Кажется, когда я вывез Анни на один из подобных вечеров, - впрочем,
возможно, я напрасно связываю эти два события, - в моей голове зародился
замысел нового романа, склонивший меня принять аванс в 6000 фунтов, больше
напоминавший взятку: продавать было еще нечего. На каждом балу меня
преследовала мысль о Бекки - она мне виделась повсюду; порочная и хитрая,
она по-прежнему плела свои интриги, словно я никогда не изобличал ее. Не
странно ли, что она всегда мне вспоминалась, когда со мною рядом была Анни,
возможно, сама их противоположность побуждала меня к тому. А что если
написать многочастный роман, большую семейную хронику и показать другую
сторону "Ярмарки тщеславия"? Что если вернуться к теме, которой я едва
коснулся в "Ньюкомах", но сделать ее главной, раскрыть во всех подробностях
и написать о настоящей доброте, прямоте и честности, воздав должное радостям
домашнего очага? Не того ли жаждет мой читатель? Сам бы я предпочел совсем
другую книгу, но о ней нечего было и думать. Это Диккенсу дозволено писать о
трущобах, злодействах и прочих ужасах - публика все встречает
рукоплесканиями и криками "браво", но стоит мне разрешить себе вольность и
рассказать о муках человека, полюбившего замужнюю женщину, и неизбежном
крушении судеб, как раздаются негодующие возгласы и призывы расправиться с
автором. Итак, все это уже было: с одной стороны - вялые литературные
поползновения, с другой - подписанный договор на многочастный роман в
выпусках, а я болею. Старая история: смерть на пороге, неотвязная забота о
деньгах, никаких других дельных предложений и надежда, что все как-нибудь
образуется. Наверное, и вам это надоело не меньше моего. Я собирался
написать большую семейную хронику с новыми героями и проследить их судьбы
шаг за шагом, но кто эти герои и каковы их судьбы? Пока я возил Анни по
балам, расплывчатые образы носились перед моим взором, но не выливались ни
во что определенное: я твердо знал одно - нужно написать нечто
жизнеутверждающее. Я трижды начинал новый роман, пытаясь воплотить свои
намерения, и все три раза жег написанное. Придумать героя, которого не знали
бы мои читатели и о котором я бы не сказал еще всего, что собирался, никак
не удавалось. Поскольку в конце "Ньюкомов" я намекнул, что, может быть,
вернусь когда-нибудь к истории Дж. Дж., я пробовал писать продолжение, но
получалась безотрадная картина, а мне на сей раз необходимо было вывести
натуру жизнерадостную. В промежутках между приступами своего недуга я
изводил горы бумаги в надежде нащупать нить повествования, но нить рвалась,
а не разматывалась, и я никак не мог начать, а дни бежали, и я терял покой.
Кажется, когда я вывез Анни на один из подобных вечеров, - впрочем,
возможно, я напрасно связываю эти два события, - в моей голове зародился
замысел нового романа, склонивший меня принять аванс в 6000 фунтов, больше
напоминавший взятку: продавать было еще нечего. На каждом балу меня
преследовала мысль о Бекки - она мне виделась повсюду; порочная и хитрая,
она по-прежнему плела свои интриги, словно я никогда не изобличал ее. Не
странно ли, что она всегда мне вспоминалась, когда со мною рядом была Анни,
возможно, сама их противоположность побуждала меня к тому. А что если
написать многочастный роман, большую семейную хронику и показать другую
сторону "Ярмарки тщеславия"? Что если вернуться к теме, которой я едва
коснулся в "Ньюкомах", но сделать ее главной, раскрыть во всех подробностях
и написать о настоящей доброте, прямоте и честности, воздав должное радостям
домашнего очага? Не того ли жаждет мой читатель? Сам бы я предпочел совсем
другую книгу, но о ней нечего было и думать. Это Диккенсу дозволено писать о
трущобах, злодействах и прочих ужасах - публика все встречает
рукоплесканиями и криками "браво", но стоит мне разрешить себе вольность и
рассказать о муках человека, полюбившего замужнюю женщину, и неизбежном
крушении судеб, как раздаются негодующие возгласы и призывы расправиться с
автором. Итак, все это уже было: с одной стороны - вялые литературные
поползновения, с другой - подписанный договор на многочастный роман в
выпусках, а я болею. Старая история: смерть на пороге, неотвязная забота о
деньгах, никаких других дельных предложений и надежда, что все как-нибудь
образуется. Наверное, и вам это надоело не меньше моего. Я собирался
написать большую семейную хронику с новыми героями и проследить их судьбы
шаг за шагом, но кто эти герои и каковы их судьбы? Пока я возил Анни по
балам, расплывчатые образы носились перед моим взором, но не выливались ни
во что определенное: я твердо знал одно - нужно написать нечто
жизнеутверждающее. Я трижды начинал новый роман, пытаясь воплотить свои
намерения, и все три раза жег написанное. Придумать героя, которого не знали
бы мои читатели и о котором я бы не сказал еще всего, что собирался, никак
не удавалось. Поскольку в конце "Ньюкомов" я намекнул, что, может быть,
вернусь когда-нибудь к истории Дж. Дж., я пробовал писать продолжение, но
получалась безотрадная картина, а мне на сей раз необходимо было вывести
натуру жизнерадостную. В промежутках между приступами своего недуга я
изводил горы бумаги в надежде нащупать нить повествования, но нить рвалась,
а не разматывалась, и я никак не мог начать, а дни бежали, и я терял покой.
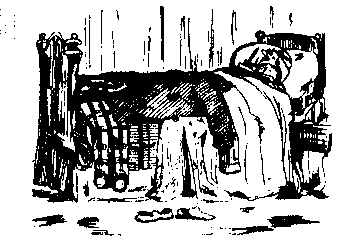 После целого года бесславных попыток написать первые главы нового
обещанного романа, я стал утешать себя, что впереди еще довольно времени (по
условиям договора первый выпуск должен был появиться осенью 1857 года), чтоб
наверстать упущенное, когда я окончательно поправлюсь. Увы, год близился к
концу, и я стал понимать, что, может статься, здоровье больше не вернется и
надо научиться жить так, как есть: я несколько пришел в себя, но так и не
исцелился.
Коль скоро я был относительно здоров, бездельничать и дальше было
невозможно, и раз мне не удалось спустить на воду мою хронику, а от
застолий, приемов и прочих развлечений я устал, значит - едва решаюсь
выговорить - нужно было снова браться за лекции. Получилось это так: пока я
болел, через мою комнату прошла длинная вереница милых дам, почитавших своим
первейшим долгом приободрить меня. Сгорая от любопытства, тончайшим образом
разыгранного, они меня расспрашивали, что я поделывал в Америке и каково там
путешествовать: "Ах, милый, славный мистер Теккерей, расскажите, пожалуйста,
как вы плавали по Миссисипи", - хотя в ответ я заявлял ворчливо, что сыт
Америкой по горло, я с удовольствием живописал им свои приключения, чем,
несомненно, скрасил себе однообразные и долгие полуденные часы и избежал
гнетущих размышлений о том, как тягостно лежать в постели и как хорошо было
бы пройтись по парку. Эти лукавые дамы - прошу простить мою
непочтительность, - стоило мне замолчать или сказать: "и там я прочел
очередную лекцию", принимались молить: "О мистер Теккерей, прочтите же ее и
нам", и их широко открытые глаза блестели от восторга. Меня, конечно, не
поймать на эту удочку, я не так прост, и все же лесть была мне по душе (уж
очень я был угнетен) и даже шла на пользу. Хотя я ей не поддавался, но
все-таки отметил про себя их любопытство, казавшееся мне неподдельным, и
подумал, что в Англии и в самом деле никто не слышал моих лекций о Георгах.
К тому же, у меня созрел великий план, и для него мне было бы очень кстати
поездить по графствам Англии. Я не скажу вам, что задумал - пусть у нас
будет тайна в этой хронике, - пока не расскажу о лекциях.
После целого года бесславных попыток написать первые главы нового
обещанного романа, я стал утешать себя, что впереди еще довольно времени (по
условиям договора первый выпуск должен был появиться осенью 1857 года), чтоб
наверстать упущенное, когда я окончательно поправлюсь. Увы, год близился к
концу, и я стал понимать, что, может статься, здоровье больше не вернется и
надо научиться жить так, как есть: я несколько пришел в себя, но так и не
исцелился.
Коль скоро я был относительно здоров, бездельничать и дальше было
невозможно, и раз мне не удалось спустить на воду мою хронику, а от
застолий, приемов и прочих развлечений я устал, значит - едва решаюсь
выговорить - нужно было снова браться за лекции. Получилось это так: пока я
болел, через мою комнату прошла длинная вереница милых дам, почитавших своим
первейшим долгом приободрить меня. Сгорая от любопытства, тончайшим образом
разыгранного, они меня расспрашивали, что я поделывал в Америке и каково там
путешествовать: "Ах, милый, славный мистер Теккерей, расскажите, пожалуйста,
как вы плавали по Миссисипи", - хотя в ответ я заявлял ворчливо, что сыт
Америкой по горло, я с удовольствием живописал им свои приключения, чем,
несомненно, скрасил себе однообразные и долгие полуденные часы и избежал
гнетущих размышлений о том, как тягостно лежать в постели и как хорошо было
бы пройтись по парку. Эти лукавые дамы - прошу простить мою
непочтительность, - стоило мне замолчать или сказать: "и там я прочел
очередную лекцию", принимались молить: "О мистер Теккерей, прочтите же ее и
нам", и их широко открытые глаза блестели от восторга. Меня, конечно, не
поймать на эту удочку, я не так прост, и все же лесть была мне по душе (уж
очень я был угнетен) и даже шла на пользу. Хотя я ей не поддавался, но
все-таки отметил про себя их любопытство, казавшееся мне неподдельным, и
подумал, что в Англии и в самом деле никто не слышал моих лекций о Георгах.
К тому же, у меня созрел великий план, и для него мне было бы очень кстати
поездить по графствам Англии. Я не скажу вам, что задумал - пусть у нас
будет тайна в этой хронике, - пока не расскажу о лекциях.
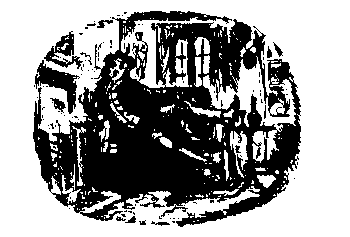 Я решил начать с Шотландии, а не с Англии. Ведь Анни и Минни заслужили
отдых после того, как целое лето просидели взаперти со старым
ворчуном-отцом, а добрые друзья из Эдинбурга давно меня упрашивали приехать
всей семьей, к тому же девочки не видели Шотландии, и я надеялся, что мы
прекрасно проведем там время и убьем двух зайцев, совместив приятное с
полезным. Анни и Минни очень обрадовались, но не успели мы толком продумать
наше путешествие и обо всем договориться, как разразилось новое несчастье:
заболела моя матушка. Если, по-вашему, "несчастье" - это сказано слишком
громко, вообразите всю картину. Матушка жила в Париже, отчим давно
похварывал и ухаживать за ней был неспособен, и у человека, наделенного хоть
каплей сострадания, - а девочкам его было не занимать - сомнений быть не
могло: нужно ехать к ней. И бедняжки отправились в Париж - дежурить в
комнате больной, думая лишь о том, как добра была всегда к ним их любимая
бабушка. Я, разумеется, поехал с ними, и хотя матушке и в самом деле было
очень худо: она не поднималась с постели, - я тотчас понял, что истинная
причина ее недуга в нервах. Пришлось принять временное решение: девочки
остаются в Париже, а я отправляюсь читать лекции, позже, если обстоятельства
изменятся, я, может быть, придумаю что-нибудь более утешительное. Оставил я
их с тяжелым сердцем, но старался держаться бодро и не поддаваться страхам,
что очередное заточение плохо отразится на здоровье Минни, - в конце концов,
она справлялась с ним раньше, справится и сейчас, возможно, ей даже придется
не слишком трудно: похоже, матушка скоро встанет на ноги и худшее явно
позади.
Скажу вам сразу, что, несмотря на скверное начало, поездка удалась.
"Георгов" слушали на родине гораздо лучше, чем в Америке, что, несомненно,
следует отнести на счет лучшей подготовленности слушателей. Какое
удовольствие я испытал, когда меня освистали в Эдинбурге за то, что я
нелестно отозвался о королеве Марии Стюарт! Конечно, в первую минуту я был
обескуражен: я столько раз читал точно ту же лекцию, и столько раз зал
каменным молчанием встречал ту же самую фразу! Все мои речи оставались без
ответа, поэтому я напрочь позабыл, что есть на свете люди, которые чтут
память этой королевы. Ах, как меня воспламенил открытый вызов! Я тотчас
высказался еще более решительно, и опостылевшие лекции обрели совсем иной
вкус. Нет ничего хуже, чем обращаться к серой массе равнодушных слушателей,
на лицах у которых не дрогнет ни один мускул, ведут они себя, как в церкви:
боятся шевельнуться, пока святой отец не даст им знака; но до чего же хорошо
выступать перед людьми, которые горят одушевлением и настороженно следят за
каждой вашей мыслью: один неверный шаг - и вам не сдобровать. Вместо потока
слов лекция становится потоком страсти, ваш голос, набирая силу, взмывает
вверх, волнение пронизывает воздух и заражает слушателей. Да, это истинное
наслаждение, в вашем занятии вам больше не видится ничего корыстного или
постыдного, даже денежная его сторона становится для вас приемлемой, и вы
больше не ощущаете уныния, не чувствуете себя странствующим торговцем,
расхваливающим свой товар, напротив, - занимаетесь достойным делом. Публика
ублаготворена, вы тоже, она от вас чему-то научилась, научив и вас, все
счастливы, и можно ехать дальше, в следующий город, благословляя свою удачу.
Ах, если бы так было и в Америке, но все четыре короля были мертвы для моих
слушателей, точно доисторические чудовища, и оживить их я не мог, сколько ни
старался. С юмористами было как-то лучше, хотя их так же мало знали, не
понимаю, почему.
Я решил начать с Шотландии, а не с Англии. Ведь Анни и Минни заслужили
отдых после того, как целое лето просидели взаперти со старым
ворчуном-отцом, а добрые друзья из Эдинбурга давно меня упрашивали приехать
всей семьей, к тому же девочки не видели Шотландии, и я надеялся, что мы
прекрасно проведем там время и убьем двух зайцев, совместив приятное с
полезным. Анни и Минни очень обрадовались, но не успели мы толком продумать
наше путешествие и обо всем договориться, как разразилось новое несчастье:
заболела моя матушка. Если, по-вашему, "несчастье" - это сказано слишком
громко, вообразите всю картину. Матушка жила в Париже, отчим давно
похварывал и ухаживать за ней был неспособен, и у человека, наделенного хоть
каплей сострадания, - а девочкам его было не занимать - сомнений быть не
могло: нужно ехать к ней. И бедняжки отправились в Париж - дежурить в
комнате больной, думая лишь о том, как добра была всегда к ним их любимая
бабушка. Я, разумеется, поехал с ними, и хотя матушке и в самом деле было
очень худо: она не поднималась с постели, - я тотчас понял, что истинная
причина ее недуга в нервах. Пришлось принять временное решение: девочки
остаются в Париже, а я отправляюсь читать лекции, позже, если обстоятельства
изменятся, я, может быть, придумаю что-нибудь более утешительное. Оставил я
их с тяжелым сердцем, но старался держаться бодро и не поддаваться страхам,
что очередное заточение плохо отразится на здоровье Минни, - в конце концов,
она справлялась с ним раньше, справится и сейчас, возможно, ей даже придется
не слишком трудно: похоже, матушка скоро встанет на ноги и худшее явно
позади.
Скажу вам сразу, что, несмотря на скверное начало, поездка удалась.
"Георгов" слушали на родине гораздо лучше, чем в Америке, что, несомненно,
следует отнести на счет лучшей подготовленности слушателей. Какое
удовольствие я испытал, когда меня освистали в Эдинбурге за то, что я
нелестно отозвался о королеве Марии Стюарт! Конечно, в первую минуту я был
обескуражен: я столько раз читал точно ту же лекцию, и столько раз зал
каменным молчанием встречал ту же самую фразу! Все мои речи оставались без
ответа, поэтому я напрочь позабыл, что есть на свете люди, которые чтут
память этой королевы. Ах, как меня воспламенил открытый вызов! Я тотчас
высказался еще более решительно, и опостылевшие лекции обрели совсем иной
вкус. Нет ничего хуже, чем обращаться к серой массе равнодушных слушателей,
на лицах у которых не дрогнет ни один мускул, ведут они себя, как в церкви:
боятся шевельнуться, пока святой отец не даст им знака; но до чего же хорошо
выступать перед людьми, которые горят одушевлением и настороженно следят за
каждой вашей мыслью: один неверный шаг - и вам не сдобровать. Вместо потока
слов лекция становится потоком страсти, ваш голос, набирая силу, взмывает
вверх, волнение пронизывает воздух и заражает слушателей. Да, это истинное
наслаждение, в вашем занятии вам больше не видится ничего корыстного или
постыдного, даже денежная его сторона становится для вас приемлемой, и вы
больше не ощущаете уныния, не чувствуете себя странствующим торговцем,
расхваливающим свой товар, напротив, - занимаетесь достойным делом. Публика
ублаготворена, вы тоже, она от вас чему-то научилась, научив и вас, все
счастливы, и можно ехать дальше, в следующий город, благословляя свою удачу.
Ах, если бы так было и в Америке, но все четыре короля были мертвы для моих
слушателей, точно доисторические чудовища, и оживить их я не мог, сколько ни
старался. С юмористами было как-то лучше, хотя их так же мало знали, не
понимаю, почему.
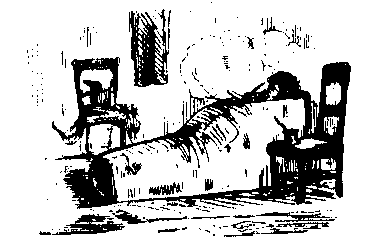 После лекции, как водится, бывал обычно званый ужин, я, правда, поостыл
к подобным пиршествам: не все, что подавалось за столом, я мог позволить
себе есть после недавней болезни, да и зубы стали меня подводить в последнее
время, но я мужественно отсиживал на этих ужинах и наслаждался обществом.
Если вы житель Лондона, вы непременно удивитесь: какое еще общество? кого
можно найти в провинции? Ведь всем известно, что в этих нелепых городишках
за пределами столицы - вдали от города - не существует никакого общества,
там только и есть, что непролазная грязь, невежество и скука - едва ли не
варварство. Не знаю, кто это придумал, наверное, столичный сноб с какой-то
задней мыслью, но смею вас заверить: это вздор, и в трехстах милях от
Лондона вы встретите гораздо больше умных собеседников, чем можете себе
представить, вдобавок лишенных того глупого жеманства, которым отличается
наш свет. Как часто, сидя зажатый между двумя дородными врачами, торговцами
или священниками, я думал про себя, что слышал за последний час гораздо
больше здравого, чем за целый день бесед со светскими людьми. Эти
провинциалы скромны, но не от ложного смирения, а оттого, что трезво сознают
свои возможности. И говорят только о том, что знают. Они не строят из себя
всезнаек и, если не слышали о том или ином известном человеке, охотно
спрашивают, кто это такой. Не силятся затмить вас каждую минуту, не
углубляются в знакомый им предмет ради того, чтобы порисоваться, но держатся
всегда на равных. Надеюсь, из моих слов не следует, что они невежественны,
ибо это далеко не так: они прекрасно начитаны, и их суждения свободны от
навязших в зубах похвал и порицаний лондонского света, где все твердят одно
и то же, подхватывая друг у друга. Все это заставило меня задуматься о том,
как часто в Лондоне судят о людях по успеху, забыв их истинную ценность, -
бывало, поговорив с каким-нибудь священником, который зарабатывает сто
пятьдесят фунтов в год, я с ужасом осознавал, что получаю больше за неделю.
Я даже не мог бы возразить, будто тружусь больше: священники, врачи и многие
другие, делившие со мной застолье, работают гораздо тяжелее вашего покорного
слуги, который пробавляется испытанными лекциями, порой расплачиваясь за них
лишь легкими приступами хандры. И я не стал бы утверждать, будто мой труд
ценнее, ибо что тут особенного - часок-другой порассуждать о четырех
покойных королях? Можно ли это сравнить с всечасной заботой человека о самых
неотложных нуждах целого прихода? Кто я такой? Забавник - развлекаю публику,
и платят за мои затеи слишком много, - так этого оставлять нельзя. Пока
общественная жизнь полна таких противоречий, никто не может быть уверен, что
получает по заслугам за свой труд; не понимаю, отчего моя особа не возмущает
ближних много больше, чем это имеет место.
После лекции, как водится, бывал обычно званый ужин, я, правда, поостыл
к подобным пиршествам: не все, что подавалось за столом, я мог позволить
себе есть после недавней болезни, да и зубы стали меня подводить в последнее
время, но я мужественно отсиживал на этих ужинах и наслаждался обществом.
Если вы житель Лондона, вы непременно удивитесь: какое еще общество? кого
можно найти в провинции? Ведь всем известно, что в этих нелепых городишках
за пределами столицы - вдали от города - не существует никакого общества,
там только и есть, что непролазная грязь, невежество и скука - едва ли не
варварство. Не знаю, кто это придумал, наверное, столичный сноб с какой-то
задней мыслью, но смею вас заверить: это вздор, и в трехстах милях от
Лондона вы встретите гораздо больше умных собеседников, чем можете себе
представить, вдобавок лишенных того глупого жеманства, которым отличается
наш свет. Как часто, сидя зажатый между двумя дородными врачами, торговцами
или священниками, я думал про себя, что слышал за последний час гораздо
больше здравого, чем за целый день бесед со светскими людьми. Эти
провинциалы скромны, но не от ложного смирения, а оттого, что трезво сознают
свои возможности. И говорят только о том, что знают. Они не строят из себя
всезнаек и, если не слышали о том или ином известном человеке, охотно
спрашивают, кто это такой. Не силятся затмить вас каждую минуту, не
углубляются в знакомый им предмет ради того, чтобы порисоваться, но держатся
всегда на равных. Надеюсь, из моих слов не следует, что они невежественны,
ибо это далеко не так: они прекрасно начитаны, и их суждения свободны от
навязших в зубах похвал и порицаний лондонского света, где все твердят одно
и то же, подхватывая друг у друга. Все это заставило меня задуматься о том,
как часто в Лондоне судят о людях по успеху, забыв их истинную ценность, -
бывало, поговорив с каким-нибудь священником, который зарабатывает сто
пятьдесят фунтов в год, я с ужасом осознавал, что получаю больше за неделю.
Я даже не мог бы возразить, будто тружусь больше: священники, врачи и многие
другие, делившие со мной застолье, работают гораздо тяжелее вашего покорного
слуги, который пробавляется испытанными лекциями, порой расплачиваясь за них
лишь легкими приступами хандры. И я не стал бы утверждать, будто мой труд
ценнее, ибо что тут особенного - часок-другой порассуждать о четырех
покойных королях? Можно ли это сравнить с всечасной заботой человека о самых
неотложных нуждах целого прихода? Кто я такой? Забавник - развлекаю публику,
и платят за мои затеи слишком много, - так этого оставлять нельзя. Пока
общественная жизнь полна таких противоречий, никто не может быть уверен, что
получает по заслугам за свой труд; не понимаю, отчего моя особа не возмущает
ближних много больше, чем это имеет место.
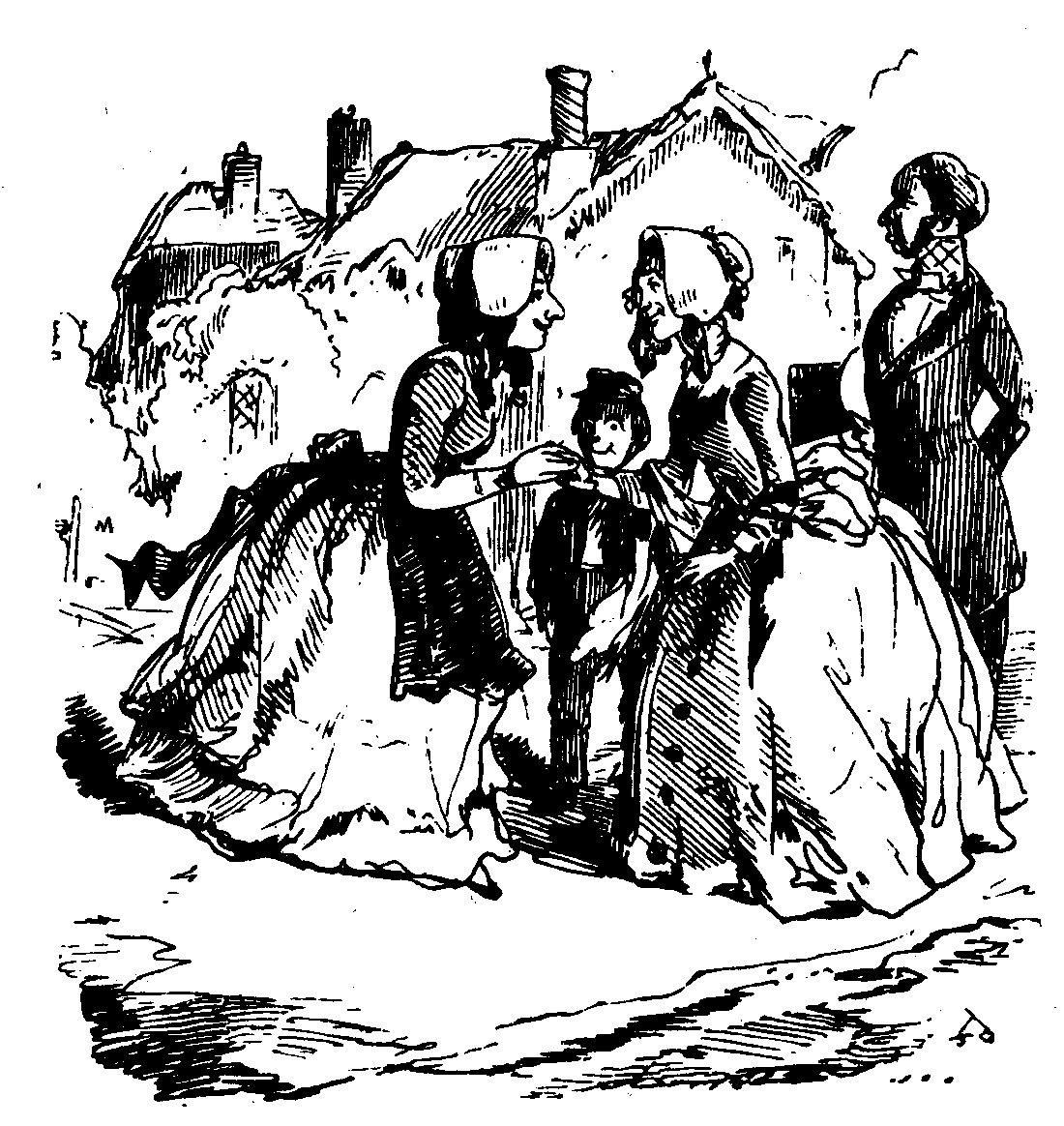 Так с чувством, с толком я разъезжал по городам и весям Англии, словно
почтенный окружной судья, и, окрыленный успехом своих "Четырех Георгов",
предавался философским размышлениям - настроен я был превосходно. Пошаливало
лишь здоровье, я, правда, обещал вам не касаться этого предмета, но иногда
оно так властно вмешивалось в жизнь, что невозможно обойти его, рассказывая
о себе. Порою приступы болезни укладывали меня в постель, и всякий раз это
случалось в какой-нибудь отвратительной гостинице. Да, можно восхвалять
покой, добросердечие и теплую компанию провинциальных городков, но
захолустные гостиницы... бр-р! Конечно, попадаются и там порядочные
заведения, и вы о них, должно быть, слышали, к примеру, в Гулле, Брэдфорде,
да и в других местах, где я и сам бывал; но, по несчастью, заболевал я
непременно в какой-нибудь очередной дыре: холодной, грязной, мерзкой,
лишенной самого необходимого для больного человека. В такие минуты мой
собственный кров казался мне раем, и требовалось немалое присутствие духа,
чтобы не бросить все и не поспешить в свои пенаты. Собрав остатки мужества,
я довел до конца поездку и возвратился в Лондон, выполнив все обязательства.
Там на меня напал другой недуг, гораздо более неотвязный: я захотел купить
поместье. Годами я носился с этой мыслью, особенно настойчиво она меня
преследовала, когда я заболевал; с недавних пор такая трата была мне по
карману. А в самом деле, отчего бы не купить хороший загородный дом со
скромными угодьями, что меня останавливает? Недавно под Саутгемптоном, в
Бевис-хилле я видел усадьбу, назначенную к продаже: шесть акров земли и
прочее, - наверное, было бы занятно примерить на себя роль сквайра в жизни,
а не только мысленно - описывая их в романах. Но тут мне пригодилась - в
виде исключения - моя, обычно обременительная, способность заглядывать в
будущее: вот я в своих крагах торчу один-одинешенек в Бевис-хилле, а Минни и
Анни где-то далеко со своими мужьями - и мне стало невыносимо тоскливо. Да
что я себе думаю: в моем возрасте (не нужно забывать, что одиночество уже не
за горами; девочки вот-вот выйдут замуж) лишиться городских удобств, в
которых с каждым днем я буду нуждаться все больше и больше? Ну нет, так не
годится. Я человек городской, и если мне понадобилась новая игрушка, - а я,
как вы заметили, без них не обхожусь, - значит, придется придумать
что-нибудь другое. Останусь-ка я лучше в Лондоне и приступлю к своему
Тайному Замыслу: займусь-ка я политикой - достаточно рискованное
предприятие.
^T20^U
^TНедолговечные радости политики^U
Сколько бы я ни твердил, что ненавижу новшества и суматоху, вы
давным-давно, должно быть, догадались, что я кривлю душой, и на самом деле
они воскрешают меня к жизни, особенно когда не требуют усилий и хотя бы на
первых порах совершаются сами собой. Именно так в 1857 году мне, словно на
блюдечке, преподнесли Оксфорд, и я немедля окунулся с головой в лихорадочную
и очень увлекательную деятельность - нет-нет, моя любезная читательница, я
говорю не о научной степени, а о месте в парламенте от этого города.
Так с чувством, с толком я разъезжал по городам и весям Англии, словно
почтенный окружной судья, и, окрыленный успехом своих "Четырех Георгов",
предавался философским размышлениям - настроен я был превосходно. Пошаливало
лишь здоровье, я, правда, обещал вам не касаться этого предмета, но иногда
оно так властно вмешивалось в жизнь, что невозможно обойти его, рассказывая
о себе. Порою приступы болезни укладывали меня в постель, и всякий раз это
случалось в какой-нибудь отвратительной гостинице. Да, можно восхвалять
покой, добросердечие и теплую компанию провинциальных городков, но
захолустные гостиницы... бр-р! Конечно, попадаются и там порядочные
заведения, и вы о них, должно быть, слышали, к примеру, в Гулле, Брэдфорде,
да и в других местах, где я и сам бывал; но, по несчастью, заболевал я
непременно в какой-нибудь очередной дыре: холодной, грязной, мерзкой,
лишенной самого необходимого для больного человека. В такие минуты мой
собственный кров казался мне раем, и требовалось немалое присутствие духа,
чтобы не бросить все и не поспешить в свои пенаты. Собрав остатки мужества,
я довел до конца поездку и возвратился в Лондон, выполнив все обязательства.
Там на меня напал другой недуг, гораздо более неотвязный: я захотел купить
поместье. Годами я носился с этой мыслью, особенно настойчиво она меня
преследовала, когда я заболевал; с недавних пор такая трата была мне по
карману. А в самом деле, отчего бы не купить хороший загородный дом со
скромными угодьями, что меня останавливает? Недавно под Саутгемптоном, в
Бевис-хилле я видел усадьбу, назначенную к продаже: шесть акров земли и
прочее, - наверное, было бы занятно примерить на себя роль сквайра в жизни,
а не только мысленно - описывая их в романах. Но тут мне пригодилась - в
виде исключения - моя, обычно обременительная, способность заглядывать в
будущее: вот я в своих крагах торчу один-одинешенек в Бевис-хилле, а Минни и
Анни где-то далеко со своими мужьями - и мне стало невыносимо тоскливо. Да
что я себе думаю: в моем возрасте (не нужно забывать, что одиночество уже не
за горами; девочки вот-вот выйдут замуж) лишиться городских удобств, в
которых с каждым днем я буду нуждаться все больше и больше? Ну нет, так не
годится. Я человек городской, и если мне понадобилась новая игрушка, - а я,
как вы заметили, без них не обхожусь, - значит, придется придумать
что-нибудь другое. Останусь-ка я лучше в Лондоне и приступлю к своему
Тайному Замыслу: займусь-ка я политикой - достаточно рискованное
предприятие.
^T20^U
^TНедолговечные радости политики^U
Сколько бы я ни твердил, что ненавижу новшества и суматоху, вы
давным-давно, должно быть, догадались, что я кривлю душой, и на самом деле
они воскрешают меня к жизни, особенно когда не требуют усилий и хотя бы на
первых порах совершаются сами собой. Именно так в 1857 году мне, словно на
блюдечке, преподнесли Оксфорд, и я немедля окунулся с головой в лихорадочную
и очень увлекательную деятельность - нет-нет, моя любезная читательница, я
говорю не о научной степени, а о месте в парламенте от этого города.
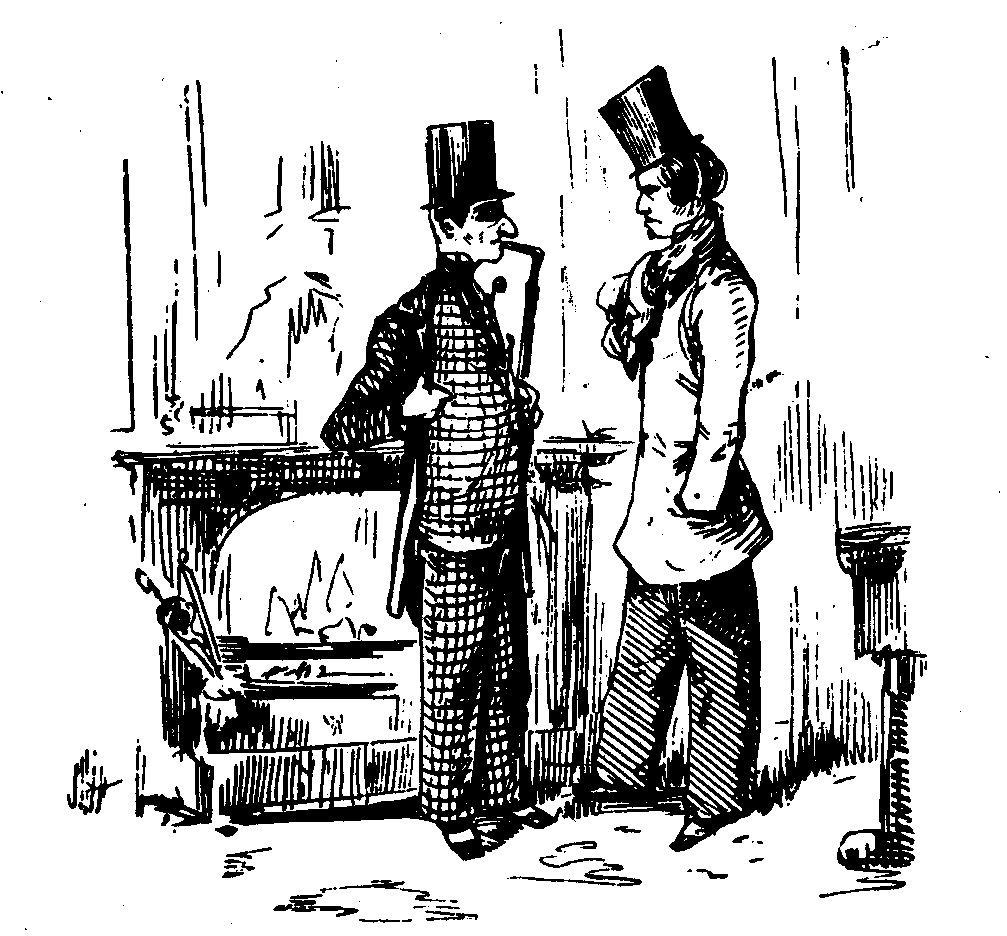 Прошу вас, не сочтите, будто от слишком щедрых аплодисментов и
непомерных заработков мне неожиданно взбрело на ум выставить свою
кандидатуру в парламент - чего я, кстати, никогда не стал бы делать, если бы
мне этого не предложили, - о нет, я смолоду мечтал о политической карьере,
пожалуй, с тех же пор, что стал писать. Вы помните, как я однажды агитировал
за Чарлза Буллера, которому так жарко поклонялся в юности? А помните, как я
витийствовал в Студенческом союзе, как горевал, когда провалился, и как
мечтал произнести когда-нибудь блистательную речь? - И только из боязни вам
наскучить я не рассказал тут, как увлекался Обществом административных
реформ; ну, а американская политика - вы не забыли, какое отвращение я
испытал, когда увидел, что в ней нет и быть не может джентльменов; я мог бы
перечислять и дальше, но довольно и этого. Вас удивляет, отчего я не
баллотировался раньше, но я всегда хотел быть кандидатом независимых, а это
требовало средств. Конечно, я мог бы и раньше заседать в Палате как
представитель вигов, но был ли в том толк? Зависеть от чужой воли и
голосовать по указке, нет, это не по мне, уж если участвовать в заседаниях,
то как свободомыслящая личность, и все, что доведется, решать по
собственному разумению, без оглядки на высоких покровителей. Как бы я взялся
искоренять столь ненавистную мне всеобщую продажность, если бы и сам был
подкуплен? Нет, если представительствовать, то как независимый и следовать
единственному политическому курсу - своему собственному, но это означало,
что все расходы по предвыборной кампании мне предстояло оплатить из
собственного кармана. Чем бы ни обернулись выборы, они влетят в копеечку, а
если мне повезет и я пройду в Палату, моя дальнейшая общественная
деятельность истощит - и очень быстро! - с таким трудом наполненный кошелек.
Чтобы пуститься в это разорительное предприятие, мне нужно было, по
предварительным подсчетам, примерно двадцать тысяч фунтов, каковой суммой я
стал располагать совсем недавно, лишь после того, как поездил с "Четырьмя
Георгами" по Англии и основательно набил мошну, - теперь я мог решать: буду
я выставлять свою кандидатуру или нет. А тут как раз подоспела оксфордская
вакансия, и я решил ею воспользоваться.
Все разразилось очень неожиданно, но молниеносность лишь увеличивала
удовольствие от игры. В результате всеобщих парламентских выборов в апреле
1857 года мой друг Чарлз Нит, лидер независимых Оксфорда, прошел в Палату
(второе место от Оксфорда досталось кандидату вигов), но вскоре, по
несправедливому обвинению во взяточничестве, был лишен мандата, и на июль
были назначены дополнительные выборы. Нит уговаривал меня попытать счастья,
объяснял, что другого такого случая не будет - нельзя рассчитывать, что он
мне подвернется снова, да еще и в удобную минуту, нужно ковать железо пока
горячо и, не теряя ни минуты, выставить свою кандидатуру против претендента
либералов - богатого ирландского пэра виконта Монка. Как я колебался! Как
мучился! Советовался с разными людьми, часами метался по своему кабинету,
делал выкладки, лихорадочно подсчитывал свои преимущества, - в общем,
безумствовал, пока не принял окончательно решение: дал согласие и помчался в
Оксфорд.
Прошу вас, не сочтите, будто от слишком щедрых аплодисментов и
непомерных заработков мне неожиданно взбрело на ум выставить свою
кандидатуру в парламент - чего я, кстати, никогда не стал бы делать, если бы
мне этого не предложили, - о нет, я смолоду мечтал о политической карьере,
пожалуй, с тех же пор, что стал писать. Вы помните, как я однажды агитировал
за Чарлза Буллера, которому так жарко поклонялся в юности? А помните, как я
витийствовал в Студенческом союзе, как горевал, когда провалился, и как
мечтал произнести когда-нибудь блистательную речь? - И только из боязни вам
наскучить я не рассказал тут, как увлекался Обществом административных
реформ; ну, а американская политика - вы не забыли, какое отвращение я
испытал, когда увидел, что в ней нет и быть не может джентльменов; я мог бы
перечислять и дальше, но довольно и этого. Вас удивляет, отчего я не
баллотировался раньше, но я всегда хотел быть кандидатом независимых, а это
требовало средств. Конечно, я мог бы и раньше заседать в Палате как
представитель вигов, но был ли в том толк? Зависеть от чужой воли и
голосовать по указке, нет, это не по мне, уж если участвовать в заседаниях,
то как свободомыслящая личность, и все, что доведется, решать по
собственному разумению, без оглядки на высоких покровителей. Как бы я взялся
искоренять столь ненавистную мне всеобщую продажность, если бы и сам был
подкуплен? Нет, если представительствовать, то как независимый и следовать
единственному политическому курсу - своему собственному, но это означало,
что все расходы по предвыборной кампании мне предстояло оплатить из
собственного кармана. Чем бы ни обернулись выборы, они влетят в копеечку, а
если мне повезет и я пройду в Палату, моя дальнейшая общественная
деятельность истощит - и очень быстро! - с таким трудом наполненный кошелек.
Чтобы пуститься в это разорительное предприятие, мне нужно было, по
предварительным подсчетам, примерно двадцать тысяч фунтов, каковой суммой я
стал располагать совсем недавно, лишь после того, как поездил с "Четырьмя
Георгами" по Англии и основательно набил мошну, - теперь я мог решать: буду
я выставлять свою кандидатуру или нет. А тут как раз подоспела оксфордская
вакансия, и я решил ею воспользоваться.
Все разразилось очень неожиданно, но молниеносность лишь увеличивала
удовольствие от игры. В результате всеобщих парламентских выборов в апреле
1857 года мой друг Чарлз Нит, лидер независимых Оксфорда, прошел в Палату
(второе место от Оксфорда досталось кандидату вигов), но вскоре, по
несправедливому обвинению во взяточничестве, был лишен мандата, и на июль
были назначены дополнительные выборы. Нит уговаривал меня попытать счастья,
объяснял, что другого такого случая не будет - нельзя рассчитывать, что он
мне подвернется снова, да еще и в удобную минуту, нужно ковать железо пока
горячо и, не теряя ни минуты, выставить свою кандидатуру против претендента
либералов - богатого ирландского пэра виконта Монка. Как я колебался! Как
мучился! Советовался с разными людьми, часами метался по своему кабинету,
делал выкладки, лихорадочно подсчитывал свои преимущества, - в общем,
безумствовал, пока не принял окончательно решение: дал согласие и помчался в
Оксфорд.
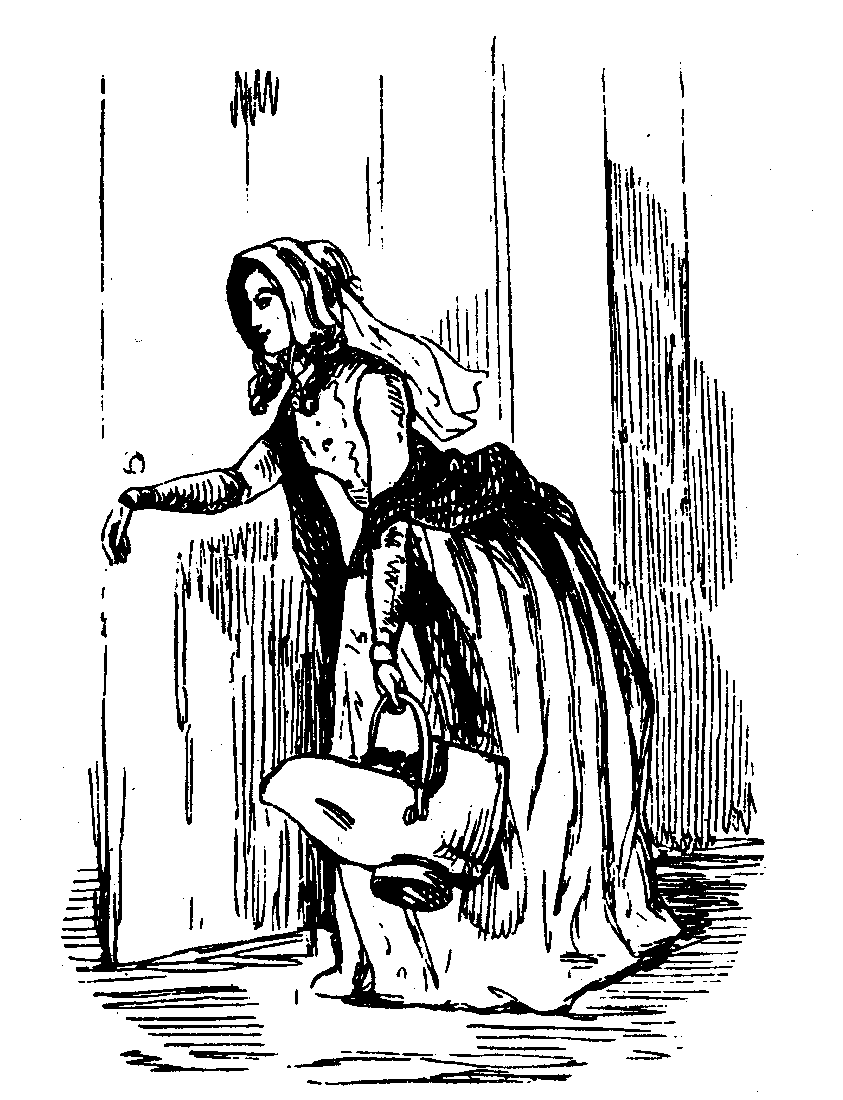 Возможно, вы считаете, что Оксфорд вам достаточно известен: там
помещается известный университет, и этим все сказано. Но Оксфорд - это не
только чудесная река и здания колледжей, увенчанные дремлющими шпилями, куда
молодежь приезжает, поучиться, вместо чего кутит и веселится, а люди пожилые
- покопаться в книгах, нет, это далеко не все. В Оксфорде - о чем я прежде
не догадывался - два разных города. Пока вы ходите вдоль Айсиса или по
лужайке у Крайст-Черч или по Броду - по всем известной части, вы видите
университетский рай: прекрасная архитектура, зеленая трава, священные
традиции, но стоит вам свернуть немного в сторону, взять чуть южнее, перейти
мост Магдалины, и перед вами - незнакомый город, нимало не похожий на ту
райскую обитель, которую вы только что оставили. Никто из жителей последней
словно и не знает, что здесь возникли новые кварталы, кишащие рабочим людом,
который тяжко трудится и превратит когда-нибудь сей Храм науки в могучий
оплот промышленности. Два Оксфорда не смешиваются друг с другом: студенты и
профессора не ходят в новый Оксфорд, и мастеровые не портят своим видом
нетленную красу - университетского святилища. Два города предпочитают не
замечать друг друга, один - по собственному выбору, второй - по
необходимости, и получается диковинное раздвоение - нигде я не встречал
ничего подобного. Нетрудно догадаться, какой из Оксфордов был для меня
естественной средой обитания, и все же, когда меня, взяв за руку, провели по
улицам другого Оксфорда и показали то, чего я никогда не замечал по слепоте
или невежеству, я понял, кого бы мне хотелось представлять. Пока в руках у
вигов были оба парламентских места, у местных тружеников не было защитника,
и я как независимый счел своим долгом взять на себя эту обязанность. Ученый
Оксфорд проживет и без меня, и в помощи нуждается не он, а тот, другой,
которому я и хотел бы посвятить свои усилия.
Зачем в моих речах так много чувства, - спрашиваете вы. Из-за того, что
выборы - занятие будоражащее. Судите сами, к чему взывает кандидат, когда
бросает в зал свои кипучие и пламенные речи? Отнюдь не к разуму собравшихся
- холодной логикой их не проймешь, сюда приходят поразвлечься, и надо
ублажить толпу, иначе наш вития может отправляться восвояси. Вот он
взобрался на подмостки, готовый привести заранее подобранные доводы,
продуманные и упорядоченные, но тут его перебивают криком: "А как там насчет
воскресений?" - и все летит вверх тормашками: если он тотчас не найдет
удачного ответа, его больше не станут слушать. Всякими "с одной стороны, с
другой стороны" тут не отделаешься - необходимо удержать внимание толпы, и
значит, хороши любые средства, даже те, что подешевле и погрубее. Оратор
быстро постигает, что лучше всего поможет делу шутка, да попроще, и даже то,
в чем нет смешного, он тут же обращает в шутку: как комик в мюзик-холле, он
готов встать на голову, лишь бы рассмешить толпу. Иначе ему пришлось бы
превратиться в эдакого зверя и, прибегая к грубой силе, обрушивать кулак на
все, что под руку попадет: коли нет кафедры, сойдет и чужая голова, и,
добившись тишины криком, который поднял бы и мертвых, чеканить каждый слог,
даже предлоги и союзы, словно в них скрыта вся премудрость жизни, чтобы
расшевелить и самых маловерных. Здесь все решает метод: очень важно, как вы
говорите, и вовсе неважно - что, а если вам это невдомек, вас ждет провал,
разве что место в Палате вам обеспечено заранее.
Я столько тут наговорил вам разного, но так и не сказал, в чем состояла
моя программа, и вы, наверное, заподозрили, что у меня ее вовсе не было,
однако программа у меня была, но самая обыкновенная, без всяких новшеств и
откровений. Требования мои были просты: увеличить избирательные округи,
добиться большей популярности правительства, ввести тайное голосование и
допустить до выборов более широкие народные слои, хотя всеобщее
избирательное право казалось мне бессмыслицей. Больше всего пришелся по
вкусу моим избирателям призыв покончить с правлением аристократии. Слышали
бы вы, какой рев поднялся в зале, когда мне задали вопрос, отчего, когда
государство находится в тяжелом положении, на выручку всегда зовут
какого-нибудь лорда или герцога, чем не хорош просто мистер. Я вижу в этом
дань традиции, - ответил я, - отжившей и смешной в стране, где стольким
одаренным людям преграждают путь наверх, и, со своей; стороны, хотел бы,
чтоб им расчистили дорогу. Как вы понимаете с такими взглядами я мог
баллотироваться лишь как независимый: депутат вигов, подотчетный своим
сиятельным патронам, не мог бы позволить себе ничего подобного. Конечно, не
я один, а очень многие тяготились засильем титулованной знати в
правительстве, поэтому мои убеждения встречали самый горячий отклик
избирателей, и я учился понемногу играть на их сердцах. Но тут мне было
далеко до моих противников, те были мастера ловить на лету любое слово,
тотчас выворачивать его наизнанку и, с виду ничего не передергивая, вносить
в него какой-то темный смысл. Взять, к примеру, все тот же вопрос о
воскресениях. Я как-то сказал, что, на мой взгляд, было бы неплохо, если бы
в выходные дни были открыты некоторые зрелищные заведения. Мои соперники
немедля это подхватили, представив дело так, будто мистер Теккерей хочет,
чтобы не только Хрустальный дворец, Британский музей и Национальная галерея
распахнули свои двери в день господень, но и концертные залы, и даже театры.
Что тут поднялось! Какой раздался шум, рев, топот! Я тотчас вскочил на ноги
и стал горячо возражать: я никогда не говорил и даже не имел в виду ничего
похожего; да, я за то, чтоб галереи, музеи и прочие заведения, где можно
любоваться предметами искусства, были открыты в выходные дни, но это не
касается театров, и сейчас я пользуюсь случаем, чтобы открыто высказать свой
взгляд, и громко заявляю: я - против театров в воскресенье. Если закон о
воскресеньях и нуждается в пересмотре, то лишь для одного: чтобы найти
противоядие от пьянства, которое страшно возрастает именно по воскресеньям,
и возрастает прежде всего потому, что простому люду некуда себя девать, и
если предложить ему разумные занятия, это, возможно, несколько поможет делу.
Но что бы я ни говорил и как бы я ни оправдывался, удар был нанесен, и я
узнал по собственному опыту, что доводы хороши при нападении, но не при
обороне. Мне следовало догадаться, что выходные дни - больная тема, и
высказаться по йей первым, а не дожидаться, пока противники обрушат ее на
меня.
Возможно, вы считаете, что Оксфорд вам достаточно известен: там
помещается известный университет, и этим все сказано. Но Оксфорд - это не
только чудесная река и здания колледжей, увенчанные дремлющими шпилями, куда
молодежь приезжает, поучиться, вместо чего кутит и веселится, а люди пожилые
- покопаться в книгах, нет, это далеко не все. В Оксфорде - о чем я прежде
не догадывался - два разных города. Пока вы ходите вдоль Айсиса или по
лужайке у Крайст-Черч или по Броду - по всем известной части, вы видите
университетский рай: прекрасная архитектура, зеленая трава, священные
традиции, но стоит вам свернуть немного в сторону, взять чуть южнее, перейти
мост Магдалины, и перед вами - незнакомый город, нимало не похожий на ту
райскую обитель, которую вы только что оставили. Никто из жителей последней
словно и не знает, что здесь возникли новые кварталы, кишащие рабочим людом,
который тяжко трудится и превратит когда-нибудь сей Храм науки в могучий
оплот промышленности. Два Оксфорда не смешиваются друг с другом: студенты и
профессора не ходят в новый Оксфорд, и мастеровые не портят своим видом
нетленную красу - университетского святилища. Два города предпочитают не
замечать друг друга, один - по собственному выбору, второй - по
необходимости, и получается диковинное раздвоение - нигде я не встречал
ничего подобного. Нетрудно догадаться, какой из Оксфордов был для меня
естественной средой обитания, и все же, когда меня, взяв за руку, провели по
улицам другого Оксфорда и показали то, чего я никогда не замечал по слепоте
или невежеству, я понял, кого бы мне хотелось представлять. Пока в руках у
вигов были оба парламентских места, у местных тружеников не было защитника,
и я как независимый счел своим долгом взять на себя эту обязанность. Ученый
Оксфорд проживет и без меня, и в помощи нуждается не он, а тот, другой,
которому я и хотел бы посвятить свои усилия.
Зачем в моих речах так много чувства, - спрашиваете вы. Из-за того, что
выборы - занятие будоражащее. Судите сами, к чему взывает кандидат, когда
бросает в зал свои кипучие и пламенные речи? Отнюдь не к разуму собравшихся
- холодной логикой их не проймешь, сюда приходят поразвлечься, и надо
ублажить толпу, иначе наш вития может отправляться восвояси. Вот он
взобрался на подмостки, готовый привести заранее подобранные доводы,
продуманные и упорядоченные, но тут его перебивают криком: "А как там насчет
воскресений?" - и все летит вверх тормашками: если он тотчас не найдет
удачного ответа, его больше не станут слушать. Всякими "с одной стороны, с
другой стороны" тут не отделаешься - необходимо удержать внимание толпы, и
значит, хороши любые средства, даже те, что подешевле и погрубее. Оратор
быстро постигает, что лучше всего поможет делу шутка, да попроще, и даже то,
в чем нет смешного, он тут же обращает в шутку: как комик в мюзик-холле, он
готов встать на голову, лишь бы рассмешить толпу. Иначе ему пришлось бы
превратиться в эдакого зверя и, прибегая к грубой силе, обрушивать кулак на
все, что под руку попадет: коли нет кафедры, сойдет и чужая голова, и,
добившись тишины криком, который поднял бы и мертвых, чеканить каждый слог,
даже предлоги и союзы, словно в них скрыта вся премудрость жизни, чтобы
расшевелить и самых маловерных. Здесь все решает метод: очень важно, как вы
говорите, и вовсе неважно - что, а если вам это невдомек, вас ждет провал,
разве что место в Палате вам обеспечено заранее.
Я столько тут наговорил вам разного, но так и не сказал, в чем состояла
моя программа, и вы, наверное, заподозрили, что у меня ее вовсе не было,
однако программа у меня была, но самая обыкновенная, без всяких новшеств и
откровений. Требования мои были просты: увеличить избирательные округи,
добиться большей популярности правительства, ввести тайное голосование и
допустить до выборов более широкие народные слои, хотя всеобщее
избирательное право казалось мне бессмыслицей. Больше всего пришелся по
вкусу моим избирателям призыв покончить с правлением аристократии. Слышали
бы вы, какой рев поднялся в зале, когда мне задали вопрос, отчего, когда
государство находится в тяжелом положении, на выручку всегда зовут
какого-нибудь лорда или герцога, чем не хорош просто мистер. Я вижу в этом
дань традиции, - ответил я, - отжившей и смешной в стране, где стольким
одаренным людям преграждают путь наверх, и, со своей; стороны, хотел бы,
чтоб им расчистили дорогу. Как вы понимаете с такими взглядами я мог
баллотироваться лишь как независимый: депутат вигов, подотчетный своим
сиятельным патронам, не мог бы позволить себе ничего подобного. Конечно, не
я один, а очень многие тяготились засильем титулованной знати в
правительстве, поэтому мои убеждения встречали самый горячий отклик
избирателей, и я учился понемногу играть на их сердцах. Но тут мне было
далеко до моих противников, те были мастера ловить на лету любое слово,
тотчас выворачивать его наизнанку и, с виду ничего не передергивая, вносить
в него какой-то темный смысл. Взять, к примеру, все тот же вопрос о
воскресениях. Я как-то сказал, что, на мой взгляд, было бы неплохо, если бы
в выходные дни были открыты некоторые зрелищные заведения. Мои соперники
немедля это подхватили, представив дело так, будто мистер Теккерей хочет,
чтобы не только Хрустальный дворец, Британский музей и Национальная галерея
распахнули свои двери в день господень, но и концертные залы, и даже театры.
Что тут поднялось! Какой раздался шум, рев, топот! Я тотчас вскочил на ноги
и стал горячо возражать: я никогда не говорил и даже не имел в виду ничего
похожего; да, я за то, чтоб галереи, музеи и прочие заведения, где можно
любоваться предметами искусства, были открыты в выходные дни, но это не
касается театров, и сейчас я пользуюсь случаем, чтобы открыто высказать свой
взгляд, и громко заявляю: я - против театров в воскресенье. Если закон о
воскресеньях и нуждается в пересмотре, то лишь для одного: чтобы найти
противоядие от пьянства, которое страшно возрастает именно по воскресеньям,
и возрастает прежде всего потому, что простому люду некуда себя девать, и
если предложить ему разумные занятия, это, возможно, несколько поможет делу.
Но что бы я ни говорил и как бы я ни оправдывался, удар был нанесен, и я
узнал по собственному опыту, что доводы хороши при нападении, но не при
обороне. Мне следовало догадаться, что выходные дни - больная тема, и
высказаться по йей первым, а не дожидаться, пока противники обрушат ее на
меня.
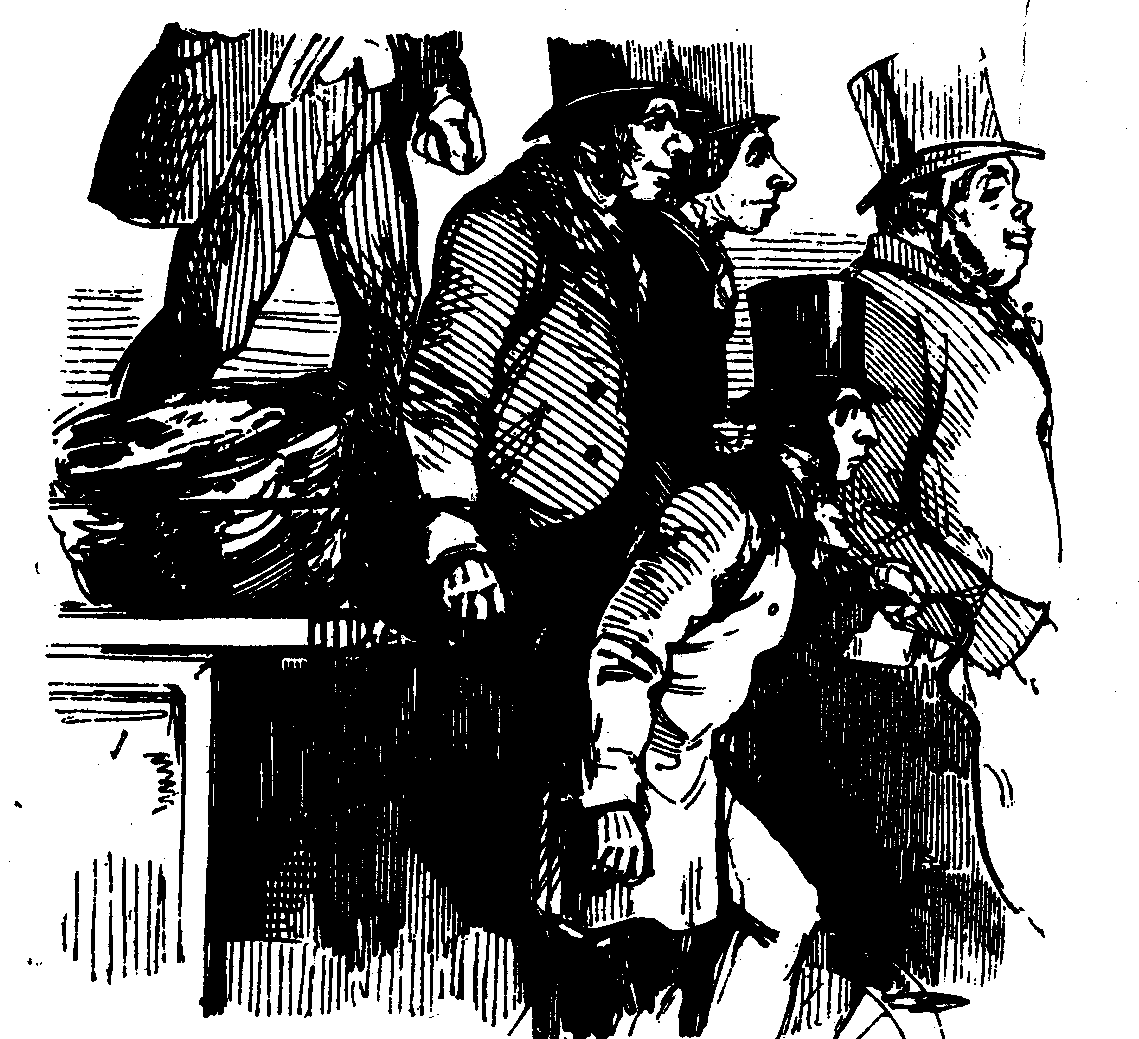 Все эти речи, выступления и споры были мне очень по душе, но у
предвыборной кампании была и другая сторона, совсем не столь приятная, и
давалась она мне с трудом. Вы помните, как в Филадельфии я не последовал
совету доброхотов и не отправился к издателям газет, чтоб заручиться их
поддержкой. Но в Оксфорде мне пришлось склонить свою гордую седую голову и
обивать пороги избирателей, прося отдать за меня голос. Тут не было бы
ничего страшного, имей я дело с джентльменами: постучавшись в очередную
дверь, я попросил бы хозяина уделить мне пять минут, проследовал бы за ним в
кабинет и изложил бы ему свою программу, возможно, даже за рюмочкой вина, но
вместо этого мне досталась бездна унижений: то дверь захлопывалась перед
самым моим носом, то высовывался какой-нибудь наглый недоросль и орал, что
хозяина нет дома, но он ему передаст, чтоб тот голосовал за меня. Я играл в
эту игру честно, не давал взяток, ни перед кем не пресмыкался не призывал на
помощь влиятельных друзей. И убедился в том, о чем подозревал заранее: никто
здесь обо мне и слыхом не слыхал. Я даже подумывал попросить Диккенса
поагитировать за меня: там, где Титмарша знали один или двое, его, возможно,
знали трое, а может быть, и четверо, но я не поддался искушению. Если уж
побеждать, то собственными силами, - впрочем, не в буквальном смысле слова:
у меня были надежные помощники и посредники, люди бывалые и опытные, без
которых я потерял бы почву под ногами.
К великому сожалению, вскоре выбыл из игры лорд Монк, к которому я
проникся самыми дружескими чувствами. Когда мы встречались на улицах
Оксфорда, он приветствовал меня учтивым поклоном, минуту-другую говорил о
том о сем, но только не о выборах, и всякий раз завершал нашу беседу одними
и теми же словами: "Прощайте, мистер Теккерей, пусть победит достойный". Но
если я успевал произнести эту фразу первым - а мне порой хотелось
поддразнить его, - он неизменно отвечал с очаровательной серьезностью и
скромностью: "Надеюсь, что нет, сэр". Каково? По-моему, он был великолепен,
я улыбался в ответ, радуясь, что борьба, хотя бы между основными
участниками, ведется по-джентльменски. Манеры лорда Монка среди царившей
вокруг грубости действовали ободряюще, он приводил меня в восторг, я даже
сочинил стишок для Анни и Минни о нашем соперничестве:
Насколько мне известно, любимые мои,
Виконту не доверят свой голос бедняки,
Но люди познатнее, скажу не без стыда,
Увы, предпочитают не вашего пап_а_.
Что ж, драки не бывает без боли и обид.
Святой Георгий с нами, пусть лучший победит.
Увы, стишок нашел себе место в корзине, а Монка сменил Кардуэлл, птица
совсем другого полета. Тот самый Кардуэлл, который проиграл Ниту в
апрельских выборах, впоследствии признанных недействительными, но у меня
было мало надежды обойти его. Он отлично знал Оксфорд, имел большой опыт
предвыборной борьбы и, в отличие от Монка, державшегося как бы над схваткой,
не гнушался совершать вылазки в дома моих избирателей и отбивать их. И все
же меня не покидала душевная приподнятость, я с удовольствием отдавался
царившей вокруг кутерьме и кипению страстей и радовался плакатам,,
расклеенным по городу, на которых красовалось мое имя. Нет, это и в самом
деле приятно - быть в самой гуще событий и сознавать, что из-за вас весь
город вскоре празднично преобразится и жители оставят повседневные дела,
чтобы принять участие в выборах.
Читатель, я проиграл. Позор, не правда ли? Впрочем, то не было
постыдное поражение: я получил 1005 голосов против 1070, поданных за
Кардуэлла, - не так уж плохо для первой попытки. Все окружающие советовали
мне выставить свою кандидатуру вновь, как только откроется следующая
вакансия, но я наотрез отказался даже думать об этом. И не из-за уязвленного
самолюбия или чего-нибудь такого, а из-за денег. Вы знаете, во что мне стало
это маленькое развлечение, во что мне обошлось мое дурацкое тщеславие? В 850
фунтов! 850 фунтов - за удовольствие проиграть на выборах! Стоило мне
сосчитать, сколько лекций мне пришлось бы прочитать, сколько тряских миль
проехать, сколько написать страниц, чтоб заработать эти баснословные деньги,
как я схватился за голову. Пустить на ветер такой тяжкий труд! В
какие-нибудь несколько недель все эти денежки уплыли между пальцев, словно
песок. Разве это было разумно? Можно ли сравнить эту забаву с покупкой
недвижимости, хорошего винного погреба, железнодорожных акций? То было
обыкновенное потворство собственным мелким страстишкам, и хотя мне никто не
сделал выговора, я устыдился самого себя.
И все же в Лондон я вернулся без следа уныния, одушевленный недавней
борьбой; я, правда, не собирался выставлять свою кандидатуру вновь, но и не
исключал такой возможности. Как вы, должно быть, знаете, я этого не сделал,
насколько мне известно, в парламенте никогда не было великого трибуна или
реформатора по фамилии Теккерей, и, право же, никто от этого не пострадал.
Трудно поверить, что из Титмарша вышел бы порядочный законодатель. Вот он
сидит насупленный, побагровевший от смущения и от натуги, и, напрягая свой
мощный государственный ум, бьется над очередной задачей. Или дрожащей от
волнения рукой просит слова у спикера. И если он его получит, он
окончательно растеряется, начнет сбиваться и запинаться, и всем захочется,
чтоб он скорее сел на место. Нет, мне не верится, что без него парламент
многого лишился.
Мне предстояло возместить не только деньги - я должен был нагнать
упущенное время, а это было не так-то просто. Я знал заранее, что мне нельзя
разбрасываться: надо мной нависло столько лекций, столько ненаписанных
страниц - ведь впереди маячил обещанный роман. По условиям договора, первый
отрывок должен был появиться в печати осенью 1857 года, но приближался
август, а я не завершил и первых четырех глав. Правда, наконец-то я придумал
название - "Виргинцы", но этим все и ограничивалось. Я вскоре понял, что
муки, которые я испытал с "Ньюкомами", покажутся мне детскими игрушками по
сравнению с тем, что ждет меня на сей раз. Роман не клеился, я никакими
силами не мог добиться плавности рассказа. Мало того, что мне отказывало
воображение, в такое решающее для работы время у меня не оказалось хорошего
секретаря. Издавна, еще со времен "Эсмонда", я, большей частью, диктую свои
романы и даже помыслить не могу о том, чтобы своей рукой от начала до конца
написать большую книгу. Для вас, я знаю, это неожиданность: ведь автор вроде
бы не жаловался на артрит, не поминал про скрюченные пальцы - но я и себе не
мог бы объяснить, почему я предпочитаю диктовать. Все, кто за мной
записывали, делали это не быстрее, а порой и много медленнее, чем сделал бы
я сам, но лежа на кушетке и выговаривая вслух каждое слово, я меньше
напрягаюсь и, пожалуй, меньше устаю. Конечно, я не сразу приобрел
необходимую сноровку: диктуя, я иначе строю фразу, мне приходится
внимательно следить за тем, чтоб не растягивать вводные предложения, которые
сами собой просятся на язык, когда не видишь перед глазами текста, но я
всегда перечитываю написанное за день, вношу необходимые поправки, и, как
мне кажется, мой стиль от этого не страдает. Девочки, особенно Анни,
справляются с делом прекрасно и очень быстро, к тому же мне очень помогает
их усердие, горячая заинтересованность и читательское нетерпение: им хочется
узнать, что дальше случилось с героями, но если они не дома, а, скажем, в
Париже у захворавшей бабушки или где-нибудь еще, мне приходится прибегать к
посторонней помощи, и работа страдает. Летом 1857 года я взял в секретари
шотландца с прекрасными рекомендациями. Уже не помню, как его звали, но
отлично помню, что он был глух как тетерев и оказался совершенно непригоден
к делу. "Когда Анна вошла в комнату, капитан говорил графине", - диктовал я.
"Как?" - орал этот малый, прерывая меня. Не дав мне рта раскрыть, он тут же
принимался вопить снова: "Как вы сказали?" "Капитан говорил графине", -
начинал я вновь, он усердно выводил эти слова и тотчас подымал глаза: ждал
продолжения, меня же захлестывала ярость от того, что меня снова перебили, и
я напрочь забывал, что, черт побери, хотел сказать и капитан, и все прочие.
В отличие от Анни, которая чутко следовала ритму фразы, шотландец не
способен был уловить его и не желал учиться, так что нам пришлось
расстаться. Некоторое время я сам корпел над рукописью, но когда мое перо
надолго замирало, вид пустой страницы приводил меня в отчаяние, он
действовал на меня гораздо хуже, чем тишина, воцарившаяся в комнате, когда я
замолкал на полуслове. Я ненавидел себя, ненавидел свою зависимость от
других и проклинал тот день и час, когда позволил себе выпустить перо из
рук.
Все эти речи, выступления и споры были мне очень по душе, но у
предвыборной кампании была и другая сторона, совсем не столь приятная, и
давалась она мне с трудом. Вы помните, как в Филадельфии я не последовал
совету доброхотов и не отправился к издателям газет, чтоб заручиться их
поддержкой. Но в Оксфорде мне пришлось склонить свою гордую седую голову и
обивать пороги избирателей, прося отдать за меня голос. Тут не было бы
ничего страшного, имей я дело с джентльменами: постучавшись в очередную
дверь, я попросил бы хозяина уделить мне пять минут, проследовал бы за ним в
кабинет и изложил бы ему свою программу, возможно, даже за рюмочкой вина, но
вместо этого мне досталась бездна унижений: то дверь захлопывалась перед
самым моим носом, то высовывался какой-нибудь наглый недоросль и орал, что
хозяина нет дома, но он ему передаст, чтоб тот голосовал за меня. Я играл в
эту игру честно, не давал взяток, ни перед кем не пресмыкался не призывал на
помощь влиятельных друзей. И убедился в том, о чем подозревал заранее: никто
здесь обо мне и слыхом не слыхал. Я даже подумывал попросить Диккенса
поагитировать за меня: там, где Титмарша знали один или двое, его, возможно,
знали трое, а может быть, и четверо, но я не поддался искушению. Если уж
побеждать, то собственными силами, - впрочем, не в буквальном смысле слова:
у меня были надежные помощники и посредники, люди бывалые и опытные, без
которых я потерял бы почву под ногами.
К великому сожалению, вскоре выбыл из игры лорд Монк, к которому я
проникся самыми дружескими чувствами. Когда мы встречались на улицах
Оксфорда, он приветствовал меня учтивым поклоном, минуту-другую говорил о
том о сем, но только не о выборах, и всякий раз завершал нашу беседу одними
и теми же словами: "Прощайте, мистер Теккерей, пусть победит достойный". Но
если я успевал произнести эту фразу первым - а мне порой хотелось
поддразнить его, - он неизменно отвечал с очаровательной серьезностью и
скромностью: "Надеюсь, что нет, сэр". Каково? По-моему, он был великолепен,
я улыбался в ответ, радуясь, что борьба, хотя бы между основными
участниками, ведется по-джентльменски. Манеры лорда Монка среди царившей
вокруг грубости действовали ободряюще, он приводил меня в восторг, я даже
сочинил стишок для Анни и Минни о нашем соперничестве:
Насколько мне известно, любимые мои,
Виконту не доверят свой голос бедняки,
Но люди познатнее, скажу не без стыда,
Увы, предпочитают не вашего пап_а_.
Что ж, драки не бывает без боли и обид.
Святой Георгий с нами, пусть лучший победит.
Увы, стишок нашел себе место в корзине, а Монка сменил Кардуэлл, птица
совсем другого полета. Тот самый Кардуэлл, который проиграл Ниту в
апрельских выборах, впоследствии признанных недействительными, но у меня
было мало надежды обойти его. Он отлично знал Оксфорд, имел большой опыт
предвыборной борьбы и, в отличие от Монка, державшегося как бы над схваткой,
не гнушался совершать вылазки в дома моих избирателей и отбивать их. И все
же меня не покидала душевная приподнятость, я с удовольствием отдавался
царившей вокруг кутерьме и кипению страстей и радовался плакатам,,
расклеенным по городу, на которых красовалось мое имя. Нет, это и в самом
деле приятно - быть в самой гуще событий и сознавать, что из-за вас весь
город вскоре празднично преобразится и жители оставят повседневные дела,
чтобы принять участие в выборах.
Читатель, я проиграл. Позор, не правда ли? Впрочем, то не было
постыдное поражение: я получил 1005 голосов против 1070, поданных за
Кардуэлла, - не так уж плохо для первой попытки. Все окружающие советовали
мне выставить свою кандидатуру вновь, как только откроется следующая
вакансия, но я наотрез отказался даже думать об этом. И не из-за уязвленного
самолюбия или чего-нибудь такого, а из-за денег. Вы знаете, во что мне стало
это маленькое развлечение, во что мне обошлось мое дурацкое тщеславие? В 850
фунтов! 850 фунтов - за удовольствие проиграть на выборах! Стоило мне
сосчитать, сколько лекций мне пришлось бы прочитать, сколько тряских миль
проехать, сколько написать страниц, чтоб заработать эти баснословные деньги,
как я схватился за голову. Пустить на ветер такой тяжкий труд! В
какие-нибудь несколько недель все эти денежки уплыли между пальцев, словно
песок. Разве это было разумно? Можно ли сравнить эту забаву с покупкой
недвижимости, хорошего винного погреба, железнодорожных акций? То было
обыкновенное потворство собственным мелким страстишкам, и хотя мне никто не
сделал выговора, я устыдился самого себя.
И все же в Лондон я вернулся без следа уныния, одушевленный недавней
борьбой; я, правда, не собирался выставлять свою кандидатуру вновь, но и не
исключал такой возможности. Как вы, должно быть, знаете, я этого не сделал,
насколько мне известно, в парламенте никогда не было великого трибуна или
реформатора по фамилии Теккерей, и, право же, никто от этого не пострадал.
Трудно поверить, что из Титмарша вышел бы порядочный законодатель. Вот он
сидит насупленный, побагровевший от смущения и от натуги, и, напрягая свой
мощный государственный ум, бьется над очередной задачей. Или дрожащей от
волнения рукой просит слова у спикера. И если он его получит, он
окончательно растеряется, начнет сбиваться и запинаться, и всем захочется,
чтоб он скорее сел на место. Нет, мне не верится, что без него парламент
многого лишился.
Мне предстояло возместить не только деньги - я должен был нагнать
упущенное время, а это было не так-то просто. Я знал заранее, что мне нельзя
разбрасываться: надо мной нависло столько лекций, столько ненаписанных
страниц - ведь впереди маячил обещанный роман. По условиям договора, первый
отрывок должен был появиться в печати осенью 1857 года, но приближался
август, а я не завершил и первых четырех глав. Правда, наконец-то я придумал
название - "Виргинцы", но этим все и ограничивалось. Я вскоре понял, что
муки, которые я испытал с "Ньюкомами", покажутся мне детскими игрушками по
сравнению с тем, что ждет меня на сей раз. Роман не клеился, я никакими
силами не мог добиться плавности рассказа. Мало того, что мне отказывало
воображение, в такое решающее для работы время у меня не оказалось хорошего
секретаря. Издавна, еще со времен "Эсмонда", я, большей частью, диктую свои
романы и даже помыслить не могу о том, чтобы своей рукой от начала до конца
написать большую книгу. Для вас, я знаю, это неожиданность: ведь автор вроде
бы не жаловался на артрит, не поминал про скрюченные пальцы - но я и себе не
мог бы объяснить, почему я предпочитаю диктовать. Все, кто за мной
записывали, делали это не быстрее, а порой и много медленнее, чем сделал бы
я сам, но лежа на кушетке и выговаривая вслух каждое слово, я меньше
напрягаюсь и, пожалуй, меньше устаю. Конечно, я не сразу приобрел
необходимую сноровку: диктуя, я иначе строю фразу, мне приходится
внимательно следить за тем, чтоб не растягивать вводные предложения, которые
сами собой просятся на язык, когда не видишь перед глазами текста, но я
всегда перечитываю написанное за день, вношу необходимые поправки, и, как
мне кажется, мой стиль от этого не страдает. Девочки, особенно Анни,
справляются с делом прекрасно и очень быстро, к тому же мне очень помогает
их усердие, горячая заинтересованность и читательское нетерпение: им хочется
узнать, что дальше случилось с героями, но если они не дома, а, скажем, в
Париже у захворавшей бабушки или где-нибудь еще, мне приходится прибегать к
посторонней помощи, и работа страдает. Летом 1857 года я взял в секретари
шотландца с прекрасными рекомендациями. Уже не помню, как его звали, но
отлично помню, что он был глух как тетерев и оказался совершенно непригоден
к делу. "Когда Анна вошла в комнату, капитан говорил графине", - диктовал я.
"Как?" - орал этот малый, прерывая меня. Не дав мне рта раскрыть, он тут же
принимался вопить снова: "Как вы сказали?" "Капитан говорил графине", -
начинал я вновь, он усердно выводил эти слова и тотчас подымал глаза: ждал
продолжения, меня же захлестывала ярость от того, что меня снова перебили, и
я напрочь забывал, что, черт побери, хотел сказать и капитан, и все прочие.
В отличие от Анни, которая чутко следовала ритму фразы, шотландец не
способен был уловить его и не желал учиться, так что нам пришлось
расстаться. Некоторое время я сам корпел над рукописью, но когда мое перо
надолго замирало, вид пустой страницы приводил меня в отчаяние, он
действовал на меня гораздо хуже, чем тишина, воцарившаяся в комнате, когда я
замолкал на полуслове. Я ненавидел себя, ненавидел свою зависимость от
других и проклинал тот день и час, когда позволил себе выпустить перо из
рук.
 В конечном счете, - ну вот, опять наш старый друг "в конечном счете", -
все устроилось, я погрузился с головой в "Виргинцев", и наступило минутное
затишье перед следующей бурей. Сколько я мог заметить, у всех людей одна
беда спешит сменить другую. Пока я писал "Виргинцев", у меня перебывали
толпы посетителей: они шли косяками, буквально осаждая дом. Являлись они
собственной персоной, и одного взгляда на эти несчастные, изнуренные,
смятенные лица было довольно, чтобы лишиться душевного равновесия; по
привычке, быстро опустошавшей мой кошелек, я торопился дать им денег, только
бы не слышать их горестные рассказы. Мудрено ли, что я слыл человеком
мягкосердечным, и деньги текли у меня между пальцев, как вода. Порою,
вглядываясь в лица одолевавших меня бедняков, которых привела ко мне нужда,
я спрашивал себя, как бы обошлись со мной они, окажись я на их месте. Стерев
с их лиц страдальческое, затравленное выражение, высеченное на них бедой, и
заменив его на благодушное сияние довольства, я открывал в чертах
жестокость, не заметную в их нынешнем обличье. Но деньги я выдавал
безропотно, со всей щедростью, какую вправе был себе позволить, и благодарил
бога за то, что мне это по средствам, и я могу стряхнуть с себя тот жуткий,
липкий страх, который овладевает мной при мысли, что я и сам мог бы ходить с
протянутой рукой по состоятельным друзьям, вспоминать лучшие дни и прежнюю
дружбу, прося пожертвовать два-три фунта, чтобы спасти описанную мебель.
Страшнее этой мысли только призрак, терзающий нас по ночам, когда нам
чудится, что наши жены и дети натягивают на себя жалкие отрепья и, забыв
достоинство и гордость, бросаются к ногам тех, кого еще вчера считали себе
ровней. Подобное видение способно каждого из нас заставить гнуть спину за
двоих, и экономить, и откладывать про черный день, но все мы знаем, что это
не спасет и несчастье может постигнуть каждого, даже самого
предусмотрительного: нет такого состояния, которое не разлетелось бы как
дым, если судьбе будет угодно.
Ну а сейчас, не прерывая очередного назидания и ничего не ведая о
притаившемся за углом несчастье, я поспешу в Брайтон, куда в то лето мы
отправились вчетвером: с девочками и матушкой, выздоравливавшей после
болезни. Я очень ясно помню эти дни, но не потому, что они чем-то
примечательны, как раз напротив - потому что то было очень тихое,
безмятежное и умиротворенное время. Пожалуй, никогда - ни до, ни после -
Брайтон не казался мне таким уютным уголком; девочки были очаровательны,
матушка - спокойнее обычного: болезнь ее смягчила, и она охотно предоставила
другим начальствовать. Мы расхаживали по дорожкам, дышали морским воздухом,
читали, разговаривали, вкусно ели. И наши щеки, не исключая дряблых и
увядших, украсились румянцем, мы крепко спали, весело вставали и радовались
каждому новому дню, не омраченному ничем, кроме известного многочастного
романа, но даже и он стал подавать признаки жизни. В тот год Анни
исполнилось двадцать, а Минни семнадцать лет, и началась прекрасная пора,
когда в семье все могут дружить и быть на равных и жить становится легко.
Семья, по-моему, всегда прекрасна, но нет ничего лучше, когда дети
вырастают, заботы и тревоги, которые нам причиняют малыши, прелестные, но
очень требовательные, уходят и остаются только радости: дети взрослеют, и с
каждым днем становится приятнее и вольготнее. Не понимаю, как можно
поддаться искушению, пусть самому сильному, и по своей охоте разрушить свой
семейный очаг, однако вокруг все только так и поступают, даже самые умные и
достойные. Посмотрите на Диккенса - в моих словах нет ничего нескромного: я
не скажу вам ничего такого, что и без меня не знали бы все на свете, - он
оставил свою жену и семейство, увлекшись свояченицей. Поверить в это
нелегко, но так оно и есть, и тем, кто знает обеих женщин и детей, это
особенно тяжко.
В конечном счете, - ну вот, опять наш старый друг "в конечном счете", -
все устроилось, я погрузился с головой в "Виргинцев", и наступило минутное
затишье перед следующей бурей. Сколько я мог заметить, у всех людей одна
беда спешит сменить другую. Пока я писал "Виргинцев", у меня перебывали
толпы посетителей: они шли косяками, буквально осаждая дом. Являлись они
собственной персоной, и одного взгляда на эти несчастные, изнуренные,
смятенные лица было довольно, чтобы лишиться душевного равновесия; по
привычке, быстро опустошавшей мой кошелек, я торопился дать им денег, только
бы не слышать их горестные рассказы. Мудрено ли, что я слыл человеком
мягкосердечным, и деньги текли у меня между пальцев, как вода. Порою,
вглядываясь в лица одолевавших меня бедняков, которых привела ко мне нужда,
я спрашивал себя, как бы обошлись со мной они, окажись я на их месте. Стерев
с их лиц страдальческое, затравленное выражение, высеченное на них бедой, и
заменив его на благодушное сияние довольства, я открывал в чертах
жестокость, не заметную в их нынешнем обличье. Но деньги я выдавал
безропотно, со всей щедростью, какую вправе был себе позволить, и благодарил
бога за то, что мне это по средствам, и я могу стряхнуть с себя тот жуткий,
липкий страх, который овладевает мной при мысли, что я и сам мог бы ходить с
протянутой рукой по состоятельным друзьям, вспоминать лучшие дни и прежнюю
дружбу, прося пожертвовать два-три фунта, чтобы спасти описанную мебель.
Страшнее этой мысли только призрак, терзающий нас по ночам, когда нам
чудится, что наши жены и дети натягивают на себя жалкие отрепья и, забыв
достоинство и гордость, бросаются к ногам тех, кого еще вчера считали себе
ровней. Подобное видение способно каждого из нас заставить гнуть спину за
двоих, и экономить, и откладывать про черный день, но все мы знаем, что это
не спасет и несчастье может постигнуть каждого, даже самого
предусмотрительного: нет такого состояния, которое не разлетелось бы как
дым, если судьбе будет угодно.
Ну а сейчас, не прерывая очередного назидания и ничего не ведая о
притаившемся за углом несчастье, я поспешу в Брайтон, куда в то лето мы
отправились вчетвером: с девочками и матушкой, выздоравливавшей после
болезни. Я очень ясно помню эти дни, но не потому, что они чем-то
примечательны, как раз напротив - потому что то было очень тихое,
безмятежное и умиротворенное время. Пожалуй, никогда - ни до, ни после -
Брайтон не казался мне таким уютным уголком; девочки были очаровательны,
матушка - спокойнее обычного: болезнь ее смягчила, и она охотно предоставила
другим начальствовать. Мы расхаживали по дорожкам, дышали морским воздухом,
читали, разговаривали, вкусно ели. И наши щеки, не исключая дряблых и
увядших, украсились румянцем, мы крепко спали, весело вставали и радовались
каждому новому дню, не омраченному ничем, кроме известного многочастного
романа, но даже и он стал подавать признаки жизни. В тот год Анни
исполнилось двадцать, а Минни семнадцать лет, и началась прекрасная пора,
когда в семье все могут дружить и быть на равных и жить становится легко.
Семья, по-моему, всегда прекрасна, но нет ничего лучше, когда дети
вырастают, заботы и тревоги, которые нам причиняют малыши, прелестные, но
очень требовательные, уходят и остаются только радости: дети взрослеют, и с
каждым днем становится приятнее и вольготнее. Не понимаю, как можно
поддаться искушению, пусть самому сильному, и по своей охоте разрушить свой
семейный очаг, однако вокруг все только так и поступают, даже самые умные и
достойные. Посмотрите на Диккенса - в моих словах нет ничего нескромного: я
не скажу вам ничего такого, что и без меня не знали бы все на свете, - он
оставил свою жену и семейство, увлекшись свояченицей. Поверить в это
нелегко, но так оно и есть, и тем, кто знает обеих женщин и детей, это
особенно тяжко.
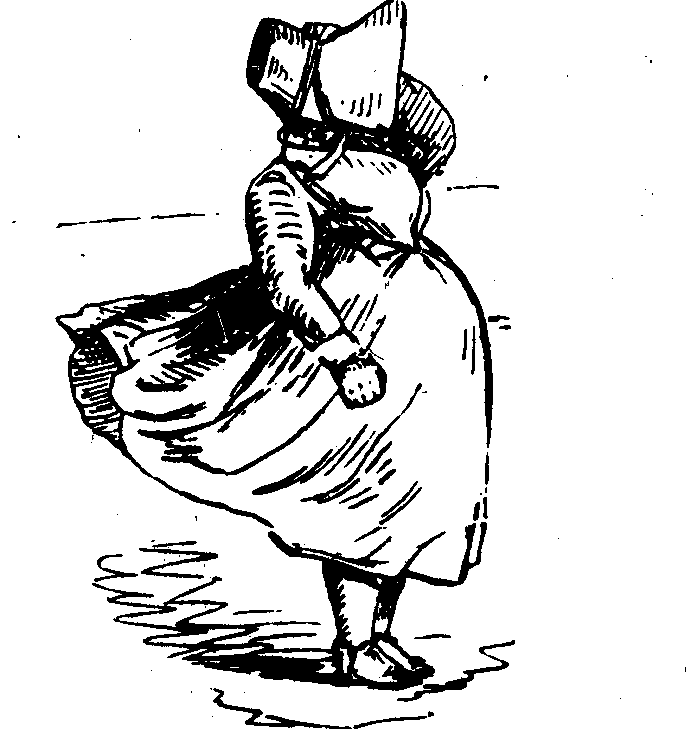 Остаток года был, посвящен "Виргинцам", больше в нем не было ничего
достойного упоминания. Ах, сколько сил вложил я в эту книгу! Возьмись я за
историю Англии, вряд ли мне пришлось бы труднее, и я не раз жалел, что
вместо романа о прошлом веке не написал исторический очерк того времени,
который послужил ему фоном. Потом я обнаружил, что не читал в ту пору ничего
- ни книг, ни газет, ни журналов, в которых не говорилось бы о 1756 годе.
Эта злосчастная книга превратилась в наваждение, и все же мое усердие не
слишком ее украсило: меня не удивил холодный прием, который оказала ей
публика, я и сам не питал к своему детищу горячих чувств. Кстати сказать, я
этого не скрывал и соглашался с самой нелицеприятной критикой. Однажды я
заметил Дугласу Джерролду, моему неизменному соседу на обедах "Панча": "Я
слышал, вы сказали, что "Виргинцы" - худший из моих романов". - "О нет, это
неверно, - отвечал мне наглец, - я сказал, что это худший роман в мире". Что
толку браниться с человеком, с которым вы каждую среду сидите за одним
столом? По ту сторону Атлантики, где книгу выпустили почти одновременно с
отечественным изданием, ей повезло немногим больше, хотя несколько добрых
друзей любезно мне сообщили, что картины виргинской жизни написаны очень
убедительно и роман им понравился. Но как я ни желал того, я им не верил и
ничуть не сомневался, что ни один издатель мне больше не закажет новой книги
и нужно срочно урезать расходы. Я бы и в самом деле их урезал и собирался
это сделать в следующем, 1858 году, но год выдался такой тяжелый, что никому
из нас не хватило духу ко всем его немалым заботам и неурядицам добавлять
еще и такие огорчения.
Остаток года был, посвящен "Виргинцам", больше в нем не было ничего
достойного упоминания. Ах, сколько сил вложил я в эту книгу! Возьмись я за
историю Англии, вряд ли мне пришлось бы труднее, и я не раз жалел, что
вместо романа о прошлом веке не написал исторический очерк того времени,
который послужил ему фоном. Потом я обнаружил, что не читал в ту пору ничего
- ни книг, ни газет, ни журналов, в которых не говорилось бы о 1756 годе.
Эта злосчастная книга превратилась в наваждение, и все же мое усердие не
слишком ее украсило: меня не удивил холодный прием, который оказала ей
публика, я и сам не питал к своему детищу горячих чувств. Кстати сказать, я
этого не скрывал и соглашался с самой нелицеприятной критикой. Однажды я
заметил Дугласу Джерролду, моему неизменному соседу на обедах "Панча": "Я
слышал, вы сказали, что "Виргинцы" - худший из моих романов". - "О нет, это
неверно, - отвечал мне наглец, - я сказал, что это худший роман в мире". Что
толку браниться с человеком, с которым вы каждую среду сидите за одним
столом? По ту сторону Атлантики, где книгу выпустили почти одновременно с
отечественным изданием, ей повезло немногим больше, хотя несколько добрых
друзей любезно мне сообщили, что картины виргинской жизни написаны очень
убедительно и роман им понравился. Но как я ни желал того, я им не верил и
ничуть не сомневался, что ни один издатель мне больше не закажет новой книги
и нужно срочно урезать расходы. Я бы и в самом деле их урезал и собирался
это сделать в следующем, 1858 году, но год выдался такой тяжелый, что никому
из нас не хватило духу ко всем его немалым заботам и неурядицам добавлять
еще и такие огорчения.
 ^T21^U
^TМерзкая ссора^U
Есть человек, который после моей смерти будет ругать меня во
всеуслышанье, возможно, он будет не один - таких найдется целый хор, но он в
нем, несомненно, будет запевалой, многие приклонят к нему слух, и мое имя
будет опорочено. Я, к счастью, не смогу оправдываться, - ведь это означало
бы признать свою вину, а я не знаю за собой вины. Ссора, которая вышла у
меня с этим человеком, лежит пятном бесчестья на открытой книге моей жизни,
и потому, как бы мне того ни хотелось, я не могу препоручить другим
разбираться в ней, - придется ворошить былое, чтобы объясниться.
На мой взгляд, всеобщее равнодушие к важнейшим нормам поведения - самый
вопиющий недостаток нашей современной жизни. Потомки будут вспоминать
викторианскую эпоху - я полагаю, под таким диковинным названием она войдет в
историю, - как время двоедушия, когда слова, всегда противоречили делам, и
мудрено ли, коль нас ославят самыми отъявленными лицемерами, - такими мы и
предстаем, если судить по нашим официальным лицам. Из страха выглядеть
смешным или привлечь к себе нескромное внимание никто сегодня не решается
возвысить голос против клеветы. Каждый божий день мы видим новые и новые
постыдные картины, когда газетные писаки выставляют на позор и осмеяние лиц,
облеченных общественным доверием, и что же, эти последние протестуют?
Ополчаются на ложь? Открыто выражают свои взгляды, не убоявшись суда толпы?
Ничего похожего! Они лишь вяло улыбаются: дескать, пусть начинающие
щелкоперы набивают себе руку, а нам негоже снисходить до разговора с
борзописцами. И получив carte blanche, такой вот мистер Строчкогон печатает
все, что ему заблагорассудится, а большинство читателей послушно впитывают
каждое написанное слово, и трудно их судить за это: ничто не побуждает их к
сомнению. Какой позор! И я решился встать и в полный голос заявить протест.
Не думайте, будто подобный шаг легко дается. Защититься от поклепа очень
трудно и мучительно: вы тотчас становитесь жертвой назойливого любопытства,
которого вам больше всего хотелось бы избежать.
^T21^U
^TМерзкая ссора^U
Есть человек, который после моей смерти будет ругать меня во
всеуслышанье, возможно, он будет не один - таких найдется целый хор, но он в
нем, несомненно, будет запевалой, многие приклонят к нему слух, и мое имя
будет опорочено. Я, к счастью, не смогу оправдываться, - ведь это означало
бы признать свою вину, а я не знаю за собой вины. Ссора, которая вышла у
меня с этим человеком, лежит пятном бесчестья на открытой книге моей жизни,
и потому, как бы мне того ни хотелось, я не могу препоручить другим
разбираться в ней, - придется ворошить былое, чтобы объясниться.
На мой взгляд, всеобщее равнодушие к важнейшим нормам поведения - самый
вопиющий недостаток нашей современной жизни. Потомки будут вспоминать
викторианскую эпоху - я полагаю, под таким диковинным названием она войдет в
историю, - как время двоедушия, когда слова, всегда противоречили делам, и
мудрено ли, коль нас ославят самыми отъявленными лицемерами, - такими мы и
предстаем, если судить по нашим официальным лицам. Из страха выглядеть
смешным или привлечь к себе нескромное внимание никто сегодня не решается
возвысить голос против клеветы. Каждый божий день мы видим новые и новые
постыдные картины, когда газетные писаки выставляют на позор и осмеяние лиц,
облеченных общественным доверием, и что же, эти последние протестуют?
Ополчаются на ложь? Открыто выражают свои взгляды, не убоявшись суда толпы?
Ничего похожего! Они лишь вяло улыбаются: дескать, пусть начинающие
щелкоперы набивают себе руку, а нам негоже снисходить до разговора с
борзописцами. И получив carte blanche, такой вот мистер Строчкогон печатает
все, что ему заблагорассудится, а большинство читателей послушно впитывают
каждое написанное слово, и трудно их судить за это: ничто не побуждает их к
сомнению. Какой позор! И я решился встать и в полный голос заявить протест.
Не думайте, будто подобный шаг легко дается. Защититься от поклепа очень
трудно и мучительно: вы тотчас становитесь жертвой назойливого любопытства,
которого вам больше всего хотелось бы избежать.
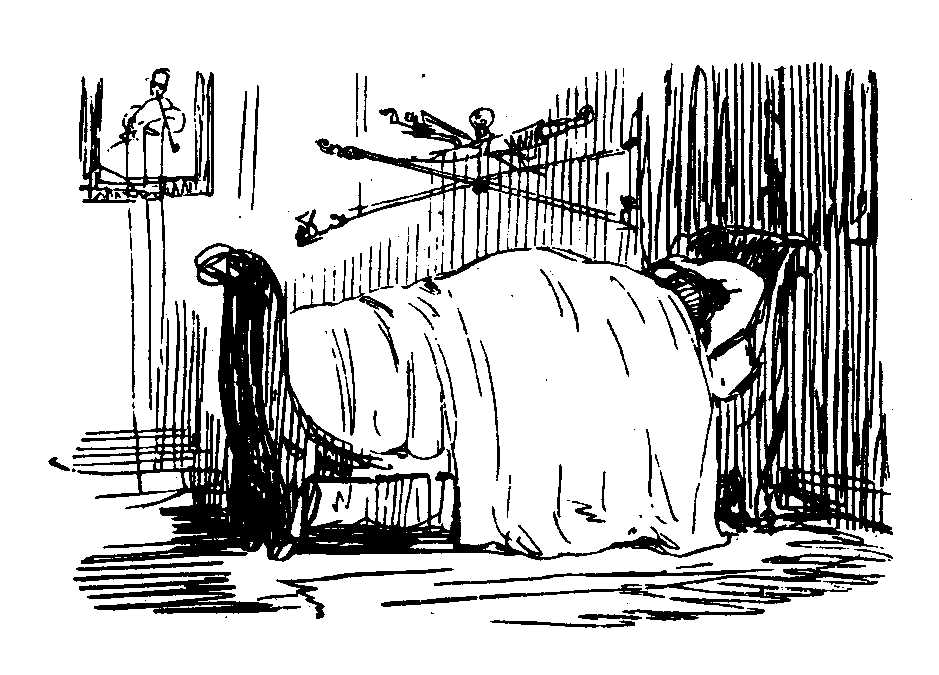 Я понимаю, что мне следует познакомить вас с той пресловутой газетной
статьей, которая причинила мне столько горя и породила ссору, не утихающую и
поныне, - наверное, даже моя смерть не угомонит противника, но я не в силах
переписывать все эти оскорбления слово в слово. Возможно, когда меня не
станет, кто-нибудь вставит сюда недостающий документ, но я на это не
способен. Даже сейчас мне неприятно вспоминать тот день, когда я прочел
вышеозначенную газетенку, - перед глазами встает целый рой мучительных
подробностей, которые мне лучше было бы забыть. Год начался из рук вон
плохо: здоровье мое опять расстроилось; несмотря на нашу обоюдную
привязанность, меня покинул мой камердинер Чарлз Пирмен - ушел на более
выгодное место; "Виргинцы" подвигались туго и мучительно. Будущее не сулило
ничего приятного. И вот в таком подавленном и безотрадном настроении я
как-то развернул небольшую газетку "Городские толки", чтобы отвлечься от
невеселых мыслей; рассеянно ее листая, я вдруг наткнулся на статью без
подписи, которая, к моему изумлению, начиналась похвалой моей особе, а
кончалась свирепой зуботычиной. Прием знакомый - сначала отвлекающая лесть,
а после жалких комплиментов - удар в лицо, внезапный и зубодробительный. Тут
крылся дьявольский расчет писавшего: открытого врага все видят сразу и ценят
его высказывания по достоинству, но если волк вначале предстает в овечьей
шкуре, каждое дурное, слово звучит потом гораздо убедительней. О "Ярмарке
тщеславия" он отозвался как о шедевре, который обнажает человеческую душу,
"Книгу снобов" назвал произведением на свой лад совершенным. И ожидал,
конечно, что я зардеюсь от счастливого смущения, прочитав его хвалы моему
"блестящему сарказму" и "редкому знанию человеческого сердца". Он думал, что
после этой глупой лести я расплывусь в улыбке и молча проглочу дальнейшее,
решив, что возражать невежливо. Вы спросите, отчего было не смять газетку и
не швырнуть ее в камин или в корзинку для бумаг, как она того заслуживала, и
тотчас позабыть о ней, пожалуй, я бы так и сделал, если бы не любопытство:
мне захотелось узнать фамилию писавшего. Судите сами: если бы оказалось, что
эту пышущую злобой чушь настрочил случайный борзописец, я бы решил, что на
моем пути попался еще один оболтус и наглец, и те, чьим мнением я дорожу,
оценят его соответственно, но когда выяснилось, что сочинитель - мой друг,
вернее, называет себя моим другом, дело приняло иной оборот. От пасквиля
несло предательством, я чуял его мерзкий запах. Я ощущал обман, и мне он был
не по нутру. Мне слышался глумливый смех, и я хотел быстрее заткнуть уши.
Здесь покушались на самое дорогое для меня, и я не мог бездействовать.
Статью эту состряпал (на самом деле, то было уже второе его сочинение,
но первое я оставил без внимания) некий молодец по имени Эдмунд Йейтс.
Известно ли вам это имя? Не думаю, Эдмунд Йейтс был и есть никто и ничто.
Журналист он был посредственный, правда, с большой претензией (в чем я, надо
сказать, не вижу ничего предосудительного); кто-то представил мне его
однажды в "Гаррике". Ума не приложу, как он туда пробрался, но это к делу не
относится. Как бы то ни было, мы там встречались и, оказавшись рядом,
обыкновенно разговаривали о том о сем; я был всегда с ним безупречно вежлив,
хоть между нами не было и тени близости. По правде говоря, я мало замечал
его и знал совсем поверхностно. Он не внушал мне ни любви, ни ненависти, но
то же самое я мог бы утверждать о половине моих клубных знакомых. Суть тут
была совсем в ином: я пожимал его протянутую руку, ему было позволено
вступать со мной в беседу, он часто бывал моим соседом на обедах в клубе. И
это видели десятки глаз: не связанные личной дружбой, мы составляли часть
некоего большего сообщества и в самом широком смысле слова могли считаться
друзьями. Теперь вы понимаете, что я не зря хотел узнать, кто автор этой
писанины? Презрев долг джентльмена и члена закрытого клуба, Эдмунд Йейтс
разгласил всему миру, причем в самом развязном тоне, сведения, почерпнутые
им в узком кругу. Все скажут: "Эммунд Йейтс? Да это же друг Теккерея, я
столько раз их видел вместе, уж он-то знает правду". Честь обязывала меня
вступиться за мой клуб, ведь пострадал не я один как частное лицо-урон был
нанесен всему привилегированному клубу. До чего дойдет Эдмунд Йейтс, если
ему не положить предела и если он и иже с ним, чтоб насмешить толпу, будут
вытаскивать на свет всякие лживые россказни?
Вы ждете, может быть, что я смягчу суровость своего тона легкой шуткой,
но этого не случится. Я в жизни не был так серьезен, будь Йейтс достаточно
порядочен, чтоб взять свои слова обратно, я и тогда остался бы не менее
серьезен, и даже после жалких покаяний не захотел бы с ним встречаться
впредь. Разумеется, я дал ему возможность извиниться, но он ею не
воспользовался, напротив, отвечая на мое письмо, лишь добавил новые
оскорбления. Не скрою, я отослал ему очень резкое послание.
Я понимаю, что мне следует познакомить вас с той пресловутой газетной
статьей, которая причинила мне столько горя и породила ссору, не утихающую и
поныне, - наверное, даже моя смерть не угомонит противника, но я не в силах
переписывать все эти оскорбления слово в слово. Возможно, когда меня не
станет, кто-нибудь вставит сюда недостающий документ, но я на это не
способен. Даже сейчас мне неприятно вспоминать тот день, когда я прочел
вышеозначенную газетенку, - перед глазами встает целый рой мучительных
подробностей, которые мне лучше было бы забыть. Год начался из рук вон
плохо: здоровье мое опять расстроилось; несмотря на нашу обоюдную
привязанность, меня покинул мой камердинер Чарлз Пирмен - ушел на более
выгодное место; "Виргинцы" подвигались туго и мучительно. Будущее не сулило
ничего приятного. И вот в таком подавленном и безотрадном настроении я
как-то развернул небольшую газетку "Городские толки", чтобы отвлечься от
невеселых мыслей; рассеянно ее листая, я вдруг наткнулся на статью без
подписи, которая, к моему изумлению, начиналась похвалой моей особе, а
кончалась свирепой зуботычиной. Прием знакомый - сначала отвлекающая лесть,
а после жалких комплиментов - удар в лицо, внезапный и зубодробительный. Тут
крылся дьявольский расчет писавшего: открытого врага все видят сразу и ценят
его высказывания по достоинству, но если волк вначале предстает в овечьей
шкуре, каждое дурное, слово звучит потом гораздо убедительней. О "Ярмарке
тщеславия" он отозвался как о шедевре, который обнажает человеческую душу,
"Книгу снобов" назвал произведением на свой лад совершенным. И ожидал,
конечно, что я зардеюсь от счастливого смущения, прочитав его хвалы моему
"блестящему сарказму" и "редкому знанию человеческого сердца". Он думал, что
после этой глупой лести я расплывусь в улыбке и молча проглочу дальнейшее,
решив, что возражать невежливо. Вы спросите, отчего было не смять газетку и
не швырнуть ее в камин или в корзинку для бумаг, как она того заслуживала, и
тотчас позабыть о ней, пожалуй, я бы так и сделал, если бы не любопытство:
мне захотелось узнать фамилию писавшего. Судите сами: если бы оказалось, что
эту пышущую злобой чушь настрочил случайный борзописец, я бы решил, что на
моем пути попался еще один оболтус и наглец, и те, чьим мнением я дорожу,
оценят его соответственно, но когда выяснилось, что сочинитель - мой друг,
вернее, называет себя моим другом, дело приняло иной оборот. От пасквиля
несло предательством, я чуял его мерзкий запах. Я ощущал обман, и мне он был
не по нутру. Мне слышался глумливый смех, и я хотел быстрее заткнуть уши.
Здесь покушались на самое дорогое для меня, и я не мог бездействовать.
Статью эту состряпал (на самом деле, то было уже второе его сочинение,
но первое я оставил без внимания) некий молодец по имени Эдмунд Йейтс.
Известно ли вам это имя? Не думаю, Эдмунд Йейтс был и есть никто и ничто.
Журналист он был посредственный, правда, с большой претензией (в чем я, надо
сказать, не вижу ничего предосудительного); кто-то представил мне его
однажды в "Гаррике". Ума не приложу, как он туда пробрался, но это к делу не
относится. Как бы то ни было, мы там встречались и, оказавшись рядом,
обыкновенно разговаривали о том о сем; я был всегда с ним безупречно вежлив,
хоть между нами не было и тени близости. По правде говоря, я мало замечал
его и знал совсем поверхностно. Он не внушал мне ни любви, ни ненависти, но
то же самое я мог бы утверждать о половине моих клубных знакомых. Суть тут
была совсем в ином: я пожимал его протянутую руку, ему было позволено
вступать со мной в беседу, он часто бывал моим соседом на обедах в клубе. И
это видели десятки глаз: не связанные личной дружбой, мы составляли часть
некоего большего сообщества и в самом широком смысле слова могли считаться
друзьями. Теперь вы понимаете, что я не зря хотел узнать, кто автор этой
писанины? Презрев долг джентльмена и члена закрытого клуба, Эдмунд Йейтс
разгласил всему миру, причем в самом развязном тоне, сведения, почерпнутые
им в узком кругу. Все скажут: "Эммунд Йейтс? Да это же друг Теккерея, я
столько раз их видел вместе, уж он-то знает правду". Честь обязывала меня
вступиться за мой клуб, ведь пострадал не я один как частное лицо-урон был
нанесен всему привилегированному клубу. До чего дойдет Эдмунд Йейтс, если
ему не положить предела и если он и иже с ним, чтоб насмешить толпу, будут
вытаскивать на свет всякие лживые россказни?
Вы ждете, может быть, что я смягчу суровость своего тона легкой шуткой,
но этого не случится. Я в жизни не был так серьезен, будь Йейтс достаточно
порядочен, чтоб взять свои слова обратно, я и тогда остался бы не менее
серьезен, и даже после жалких покаяний не захотел бы с ним встречаться
впредь. Разумеется, я дал ему возможность извиниться, но он ею не
воспользовался, напротив, отвечая на мое письмо, лишь добавил новые
оскорбления. Не скрою, я отослал ему очень резкое послание.
 Я написал ему, что, если правильно его понял, он обвиняет меня в
ханжестве и бесчестных побуждениях, и поскольку нас связывает личное
знакомство, я вынужден принять его слова к сведению. Я заявил ему, что он
опорочил свою принадлежность к клубу, членом которого я состоял еще до того,
как он родился; в последней фразе я посоветовал ему удерживаться впредь от
газетных пересказов моих частных разговоров, равно как и от всякого
обсуждения моих дел, ему нимало не известных, а что касается того, где
правда, а где ложь, то лучше ему в это вовсе не вдаваться, ибо эти вопросы -
выше его ума и совести. Пожалуй, тут я хватил через край, нельзя сказать,
чтоб я подставил по-христиански другую щеку. Йейтс пришел в бешенство и
заявил, что раз я обозвал его лжецом и негодяем, дальнейшие переговоры
невозможны, об извинениях не может быть и речи, и больше ему прибавить
нечего.
Итак, назад возврата не было. Злосчастная история не выходила у меня из
головы, и я ни о чем другом не мог думать. Больше всего меня занимала мысль,
как бы я сам повел себя в подобных обстоятельствах, вернее, как я вел себя,
когда со мной случалось прежде что-либо похожее. Конечно, ничего такого ей
мной не было - я никогда ни на кого не напускался лично и уж тем более не
касался такого щекотливого вопроса, как характер человека, и все же мне
случалось задевать чужие чувства, когда я изображал в сатирических романах
знакомых людей, но стоило мне узнать, что это их обидело, как я бросался
утешать их, уверял, что вовсе не имел в виду ни их, ни какое-либо
определенное лицо и меньше всего хотел их огорчить - в общем, рассыпался в
извинениях. В моем архиве сохранились бесчисленные доказательства тому -
черновики подобных покаянных писем, в которых я расшаркивался вплоть до
самоуничижения. Играть нужно по-честному: если пишешь и говоришь то, что
считаешь нужным, будь готов к тому, что и другие поступают так же, - Йейтс
все это начал, и ему следовало ожидать ответных залпов. Я никогда не
возражал против суровых приговоров, пусть самых, на мой взгляд, неверных и
несправедливых, хоть, видит бог, их на моем веку хватало: бывали и
разгромные рецензии, и беспощадные пародии. Йейтс мог себе позволить
высказываться самым нелицеприятным образом о любом моем романе, любом
произведении, но не о моей особе. Я добивался, чтоб он понял, в чем тут
разница, и больше не смешивал личные качества человека с его работой и
принес извинения, как подобает джентльмену. В ответ последовала очередная
оплеуха.
Я написал ему, что, если правильно его понял, он обвиняет меня в
ханжестве и бесчестных побуждениях, и поскольку нас связывает личное
знакомство, я вынужден принять его слова к сведению. Я заявил ему, что он
опорочил свою принадлежность к клубу, членом которого я состоял еще до того,
как он родился; в последней фразе я посоветовал ему удерживаться впредь от
газетных пересказов моих частных разговоров, равно как и от всякого
обсуждения моих дел, ему нимало не известных, а что касается того, где
правда, а где ложь, то лучше ему в это вовсе не вдаваться, ибо эти вопросы -
выше его ума и совести. Пожалуй, тут я хватил через край, нельзя сказать,
чтоб я подставил по-христиански другую щеку. Йейтс пришел в бешенство и
заявил, что раз я обозвал его лжецом и негодяем, дальнейшие переговоры
невозможны, об извинениях не может быть и речи, и больше ему прибавить
нечего.
Итак, назад возврата не было. Злосчастная история не выходила у меня из
головы, и я ни о чем другом не мог думать. Больше всего меня занимала мысль,
как бы я сам повел себя в подобных обстоятельствах, вернее, как я вел себя,
когда со мной случалось прежде что-либо похожее. Конечно, ничего такого ей
мной не было - я никогда ни на кого не напускался лично и уж тем более не
касался такого щекотливого вопроса, как характер человека, и все же мне
случалось задевать чужие чувства, когда я изображал в сатирических романах
знакомых людей, но стоило мне узнать, что это их обидело, как я бросался
утешать их, уверял, что вовсе не имел в виду ни их, ни какое-либо
определенное лицо и меньше всего хотел их огорчить - в общем, рассыпался в
извинениях. В моем архиве сохранились бесчисленные доказательства тому -
черновики подобных покаянных писем, в которых я расшаркивался вплоть до
самоуничижения. Играть нужно по-честному: если пишешь и говоришь то, что
считаешь нужным, будь готов к тому, что и другие поступают так же, - Йейтс
все это начал, и ему следовало ожидать ответных залпов. Я никогда не
возражал против суровых приговоров, пусть самых, на мой взгляд, неверных и
несправедливых, хоть, видит бог, их на моем веку хватало: бывали и
разгромные рецензии, и беспощадные пародии. Йейтс мог себе позволить
высказываться самым нелицеприятным образом о любом моем романе, любом
произведении, но не о моей особе. Я добивался, чтоб он понял, в чем тут
разница, и больше не смешивал личные качества человека с его работой и
принес извинения, как подобает джентльмену. В ответ последовала очередная
оплеуха.
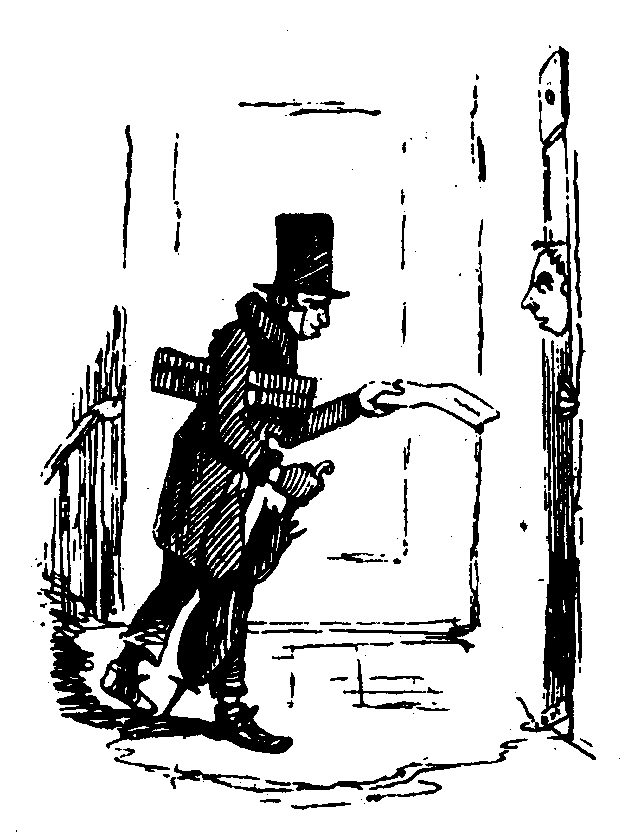 Что ж, поскольку Йейтс отказался удовлетворить мои требования, я
переслал свое письмо, его ответ и пресловутый газетный пасквиль совету
"Гаррик-клуба" с просьбой рассудить нас. Тем самым я задавал клубу вопрос,
не угрожают ли его спокойствию такие статьи в газетах. Что это было -
открытый ход или завуалированная хитрость с моей стороны? Не пробовал ли я
найти себе сподвижников, коль скоро в одиночку не справлялся? Не думайте,
что я себя не спрашивал об этом, не взвешивал все за и против, и если тем не
менее я привлек к этой истории совет клуба, то лишь потому, что, по моему
глубокому убеждению, она его касалась. Я знаю, как удивил своим поступком
окружающих, а Йейтса больше всех. Мне говорили, что он был возмущен и
ошарашен и счел, что я сошел с ума, так потрясло его то, что он называл моим
упрямством. Но у меня гора свалилась с плеч, как только я передал дело в
руки совета, теперь я знал, что все мои сомнения и все таившиеся в душе
страхи, не веду ли я себя как одержимый, будут подвергнуты проверке, и если
мне изменяет логика, собрание трезвых, здравомыслящих людей обязано будет
мне заявить об этом. Хотя мысль о последствиях меня не радовала, получив
ответ секретаря, что мою жалобу будут рассматривать на специальном заседании
совета, я, кажется, впервые спал спокойно с тех пор, как началось все это
дело.
Тяжелое то было время - лето 1858 года. Я продолжал единоборствовать с
"Виргинцами", пытался подавить все новые и новые приступы болезни, меня
непрестанно теребили посетители, просившие кто помощи, кто денег, а чаще и
того, и другого, и надо мной висело дело Йейтса. Больше всего на свете мне
хотелось изгнать его из памяти, но я и на миг не мог отвлечься: близкие
осторожно меня останавливали, но оно все равно не сходило, с языка. "Не
говорите мне ни слова, знать не желаю, что еще случилось!" - заявлял я.
Однако, на самом деле, я не хотел и слышать ни о чем другом. Но вот в конце
июня совет решил единогласно, что жалоба моя вполне законна, и предложил
Йейтсу либо извиниться передо мной и советом, либо выйти из клуба.
Признаюсь, у меня словно камень упал с души: целый совет, собрание
беспристрастных мужей, не может ошибиться, и, значит, я вел себя разумно.
Наконец-то все уладится и будет предано забвению: возможно, солнце взойдет и
надо мной. К несчастью, Йейтс проявил крайнее ожесточение и отказался
извиниться, равно как и выйти из клуба. Признаюсь, первое меня не слишком
удивило - то было в характере героя, но второе было неожиданно и
представляло дело в новом свете. Как можно отказаться выйти из клуба, если
тебе велит так поступить совет, этого я не понимал. Мне было невдомек, что
Йейтс хочет сказать своим отказом, оставалось верить, что сам он это знает.
В июле на общем собрании большинство в семьдесят человек против сорока шести
утвердило решение совета и, следовательно, дело снова возвращалось в совет.
Узнав об этом, я счел возможным уехать в Швейцарию - Йейтс, правда, не
собирался складывать оружия - и позабыть, что он существовал на свете. Что
бы он ни предпринял, меня это больше не касалось. Люди по-прежнему могут
встречаться в своих клубах и доверительно беседовать, их чувству
неприкосновенности ничто не угрожает, а это самое главное.
В Швейцарию я уехал опустошенный душевно и физически. Новое несчастье
не заставило себя долго ждать. На голову свалился очередной, булыжник:
матушка сломала бедро при падении, нужно было вновь принимать надлежащие
меры. В голову мне лезли одни и те же кощунственные мысли: какой смысл жить?
Все в жизни, даже мелочи, дается слишком дорого. Желаний у меня больше не
было. Чего я не испытал еще? Я все перевидал и перепробовал: отведал лучших
яств и вин, любил двух лучших женщин, имел двух лучших детей, написал одну
из лучших книг, побывал в лучших странах мира, наслаждался дружбой лучших
людей своего времени, - все это однажды было и второй раз не было мне нужно.
Что ж, поскольку Йейтс отказался удовлетворить мои требования, я
переслал свое письмо, его ответ и пресловутый газетный пасквиль совету
"Гаррик-клуба" с просьбой рассудить нас. Тем самым я задавал клубу вопрос,
не угрожают ли его спокойствию такие статьи в газетах. Что это было -
открытый ход или завуалированная хитрость с моей стороны? Не пробовал ли я
найти себе сподвижников, коль скоро в одиночку не справлялся? Не думайте,
что я себя не спрашивал об этом, не взвешивал все за и против, и если тем не
менее я привлек к этой истории совет клуба, то лишь потому, что, по моему
глубокому убеждению, она его касалась. Я знаю, как удивил своим поступком
окружающих, а Йейтса больше всех. Мне говорили, что он был возмущен и
ошарашен и счел, что я сошел с ума, так потрясло его то, что он называл моим
упрямством. Но у меня гора свалилась с плеч, как только я передал дело в
руки совета, теперь я знал, что все мои сомнения и все таившиеся в душе
страхи, не веду ли я себя как одержимый, будут подвергнуты проверке, и если
мне изменяет логика, собрание трезвых, здравомыслящих людей обязано будет
мне заявить об этом. Хотя мысль о последствиях меня не радовала, получив
ответ секретаря, что мою жалобу будут рассматривать на специальном заседании
совета, я, кажется, впервые спал спокойно с тех пор, как началось все это
дело.
Тяжелое то было время - лето 1858 года. Я продолжал единоборствовать с
"Виргинцами", пытался подавить все новые и новые приступы болезни, меня
непрестанно теребили посетители, просившие кто помощи, кто денег, а чаще и
того, и другого, и надо мной висело дело Йейтса. Больше всего на свете мне
хотелось изгнать его из памяти, но я и на миг не мог отвлечься: близкие
осторожно меня останавливали, но оно все равно не сходило, с языка. "Не
говорите мне ни слова, знать не желаю, что еще случилось!" - заявлял я.
Однако, на самом деле, я не хотел и слышать ни о чем другом. Но вот в конце
июня совет решил единогласно, что жалоба моя вполне законна, и предложил
Йейтсу либо извиниться передо мной и советом, либо выйти из клуба.
Признаюсь, у меня словно камень упал с души: целый совет, собрание
беспристрастных мужей, не может ошибиться, и, значит, я вел себя разумно.
Наконец-то все уладится и будет предано забвению: возможно, солнце взойдет и
надо мной. К несчастью, Йейтс проявил крайнее ожесточение и отказался
извиниться, равно как и выйти из клуба. Признаюсь, первое меня не слишком
удивило - то было в характере героя, но второе было неожиданно и
представляло дело в новом свете. Как можно отказаться выйти из клуба, если
тебе велит так поступить совет, этого я не понимал. Мне было невдомек, что
Йейтс хочет сказать своим отказом, оставалось верить, что сам он это знает.
В июле на общем собрании большинство в семьдесят человек против сорока шести
утвердило решение совета и, следовательно, дело снова возвращалось в совет.
Узнав об этом, я счел возможным уехать в Швейцарию - Йейтс, правда, не
собирался складывать оружия - и позабыть, что он существовал на свете. Что
бы он ни предпринял, меня это больше не касалось. Люди по-прежнему могут
встречаться в своих клубах и доверительно беседовать, их чувству
неприкосновенности ничто не угрожает, а это самое главное.
В Швейцарию я уехал опустошенный душевно и физически. Новое несчастье
не заставило себя долго ждать. На голову свалился очередной, булыжник:
матушка сломала бедро при падении, нужно было вновь принимать надлежащие
меры. В голову мне лезли одни и те же кощунственные мысли: какой смысл жить?
Все в жизни, даже мелочи, дается слишком дорого. Желаний у меня больше не
было. Чего я не испытал еще? Я все перевидал и перепробовал: отведал лучших
яств и вин, любил двух лучших женщин, имел двух лучших детей, написал одну
из лучших книг, побывал в лучших странах мира, наслаждался дружбой лучших
людей своего времени, - все это однажды было и второй раз не было мне нужно.
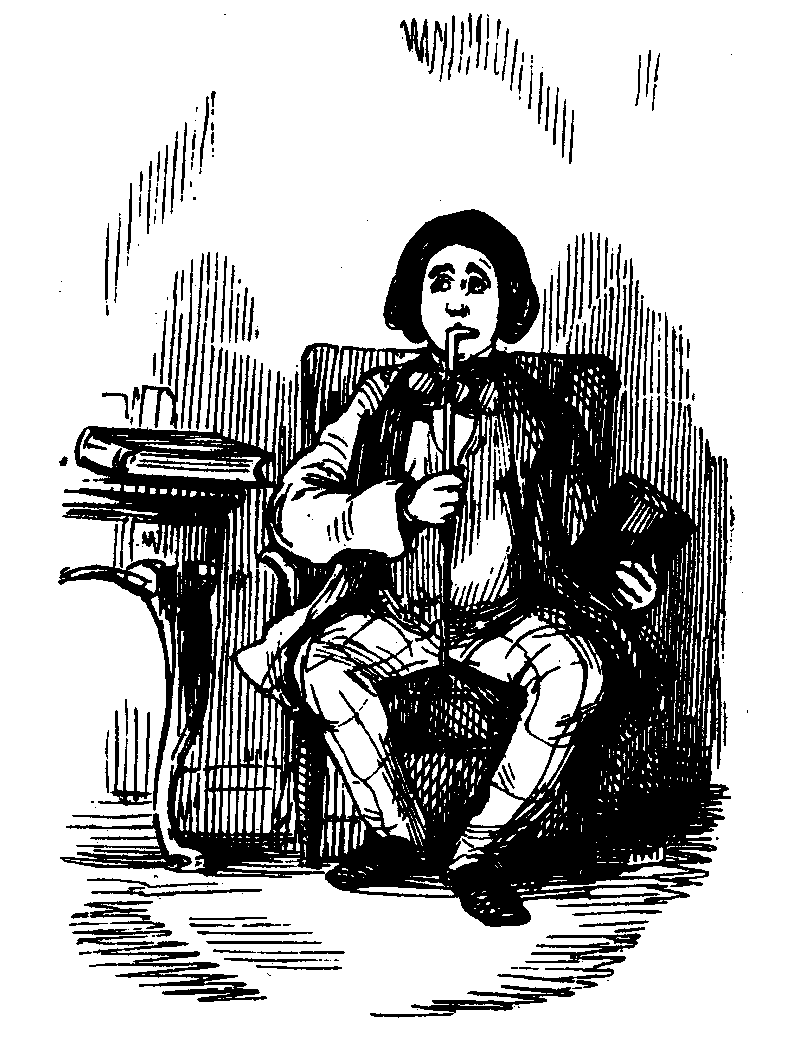 По возвращении домой я узнал, что Йейтс намерен судиться: он возбуждает
дело против меня и совета клуба. При этом известии у меня сжалось сердце, и
без того исполненное горечи. Неужто мне никогда не избавиться от этого
человека? Неужто меня ждет новая пытка, и я еще раз буду отстаивать свою
точку зрения? В середине июня я получил очень огорчившее меня, письмо от
Диккенса, в котором он выгораживал Йейтса и предлагал покончить миром эту
шумную историю. Вы спросите, что тут огорчительного? Казалось бы, вполне
разумное предложение. Ах, вам неведомо, какую роль сыграл Диккенс во всем
случившемся. И мне, и всем, кто хоть немного знал Йейтса, было совершенно
ясно, что у него никогда бы не хватило пороху занять такую непримиримую
позицию, если бы не нашлось могущественного покровителя. И этим покровителем
был не кто иной, как Чарлз Диккенс. Я, разумеется, не могу утверждать, что
он был замешан в дело с самого начала, но к тому времени, когда мы с Йейтсом
обменялись первыми письмами, его участие было для меня очевидно. Йейтс,
состоявший в его свите, советовался с ним о каждом своем шаге. Диккенс
помогал ему писать бумаги, поддерживал во всех его действиях, и для меня
несомненно, что он и был главным вдохновителем этой розни. Должно быть,
поначалу он считал, что я слишком бурно воспринял выпад Йейтса, затем - что
был недопустимо груб в своих требованиях извиниться и, наконец, - поставил
себя в смешное положение, передав дело в совет "Гаррика" и превратив
ничтожную размолвку в мировую драму. Однако чем бы он ни руководствовался, я
не могу одобрить его линию поведения.
По возвращении домой я узнал, что Йейтс намерен судиться: он возбуждает
дело против меня и совета клуба. При этом известии у меня сжалось сердце, и
без того исполненное горечи. Неужто мне никогда не избавиться от этого
человека? Неужто меня ждет новая пытка, и я еще раз буду отстаивать свою
точку зрения? В середине июня я получил очень огорчившее меня, письмо от
Диккенса, в котором он выгораживал Йейтса и предлагал покончить миром эту
шумную историю. Вы спросите, что тут огорчительного? Казалось бы, вполне
разумное предложение. Ах, вам неведомо, какую роль сыграл Диккенс во всем
случившемся. И мне, и всем, кто хоть немного знал Йейтса, было совершенно
ясно, что у него никогда бы не хватило пороху занять такую непримиримую
позицию, если бы не нашлось могущественного покровителя. И этим покровителем
был не кто иной, как Чарлз Диккенс. Я, разумеется, не могу утверждать, что
он был замешан в дело с самого начала, но к тому времени, когда мы с Йейтсом
обменялись первыми письмами, его участие было для меня очевидно. Йейтс,
состоявший в его свите, советовался с ним о каждом своем шаге. Диккенс
помогал ему писать бумаги, поддерживал во всех его действиях, и для меня
несомненно, что он и был главным вдохновителем этой розни. Должно быть,
поначалу он считал, что я слишком бурно воспринял выпад Йейтса, затем - что
был недопустимо груб в своих требованиях извиниться и, наконец, - поставил
себя в смешное положение, передав дело в совет "Гаррика" и превратив
ничтожную размолвку в мировую драму. Однако чем бы он ни руководствовался, я
не могу одобрить его линию поведения.
 Вообразите, что он мог сделать и что сделал; ничто не мешало ему прийти
ко мне, лишь только Иейтс впервые к нему обратился, и поговорить со мной как
мужчина с мужчиной. Я рад был бы его видеть, охотно бы его выслушал,
высказался сам, и очень может быть, что все тогда бы и кончилось за бутылкой
доброго вина. Но он повел себя как враг, и это было больно, к тому же он
разбил литературный Лондон на два лагеря, и очень многие последовали за ним,
тогда как я пекся, прежде всего, не о себе, а об общем благе. Его письмо
было ловушкой, да-да, ловушкой: что бы я ни ответил, я попадал впросак. Мог
ли я согласиться забыть обиду и принять его предложение, коль скоро
обратился в "Гаррик"; мог ли я отвернуться от тех, кто выступил в мою
защиту? Как бы я ни хотел покончить с этой распрей, такого я не мог себе
позволить. Но и отвергнуть мировую Диккенса означало заявить, будто я ищу
ссоры, что было неверно, а главное - еще больше ожесточало противника, лишь
прибавляя ему непримиримости. И все же я решил не отступать от постановления
совета. Я спрашивал себя, велика ли цена дружбе Диккенса? И велика ли цена
его предложению? По правде говоря, совсем невелика, если вспомнить, что я
выстрадал из-за его союза с Йейтсом. Поэтому я ответил, что дело вышло
из-под моего контроля и, передав его в совет, я больше не властен принимать
самостоятельные решения, но напишу туда, что был бы рад мирному повороту
событий.
Вообразите, что он мог сделать и что сделал; ничто не мешало ему прийти
ко мне, лишь только Иейтс впервые к нему обратился, и поговорить со мной как
мужчина с мужчиной. Я рад был бы его видеть, охотно бы его выслушал,
высказался сам, и очень может быть, что все тогда бы и кончилось за бутылкой
доброго вина. Но он повел себя как враг, и это было больно, к тому же он
разбил литературный Лондон на два лагеря, и очень многие последовали за ним,
тогда как я пекся, прежде всего, не о себе, а об общем благе. Его письмо
было ловушкой, да-да, ловушкой: что бы я ни ответил, я попадал впросак. Мог
ли я согласиться забыть обиду и принять его предложение, коль скоро
обратился в "Гаррик"; мог ли я отвернуться от тех, кто выступил в мою
защиту? Как бы я ни хотел покончить с этой распрей, такого я не мог себе
позволить. Но и отвергнуть мировую Диккенса означало заявить, будто я ищу
ссоры, что было неверно, а главное - еще больше ожесточало противника, лишь
прибавляя ему непримиримости. И все же я решил не отступать от постановления
совета. Я спрашивал себя, велика ли цена дружбе Диккенса? И велика ли цена
его предложению? По правде говоря, совсем невелика, если вспомнить, что я
выстрадал из-за его союза с Йейтсом. Поэтому я ответил, что дело вышло
из-под моего контроля и, передав его в совет, я больше не властен принимать
самостоятельные решения, но напишу туда, что был бы рад мирному повороту
событий.
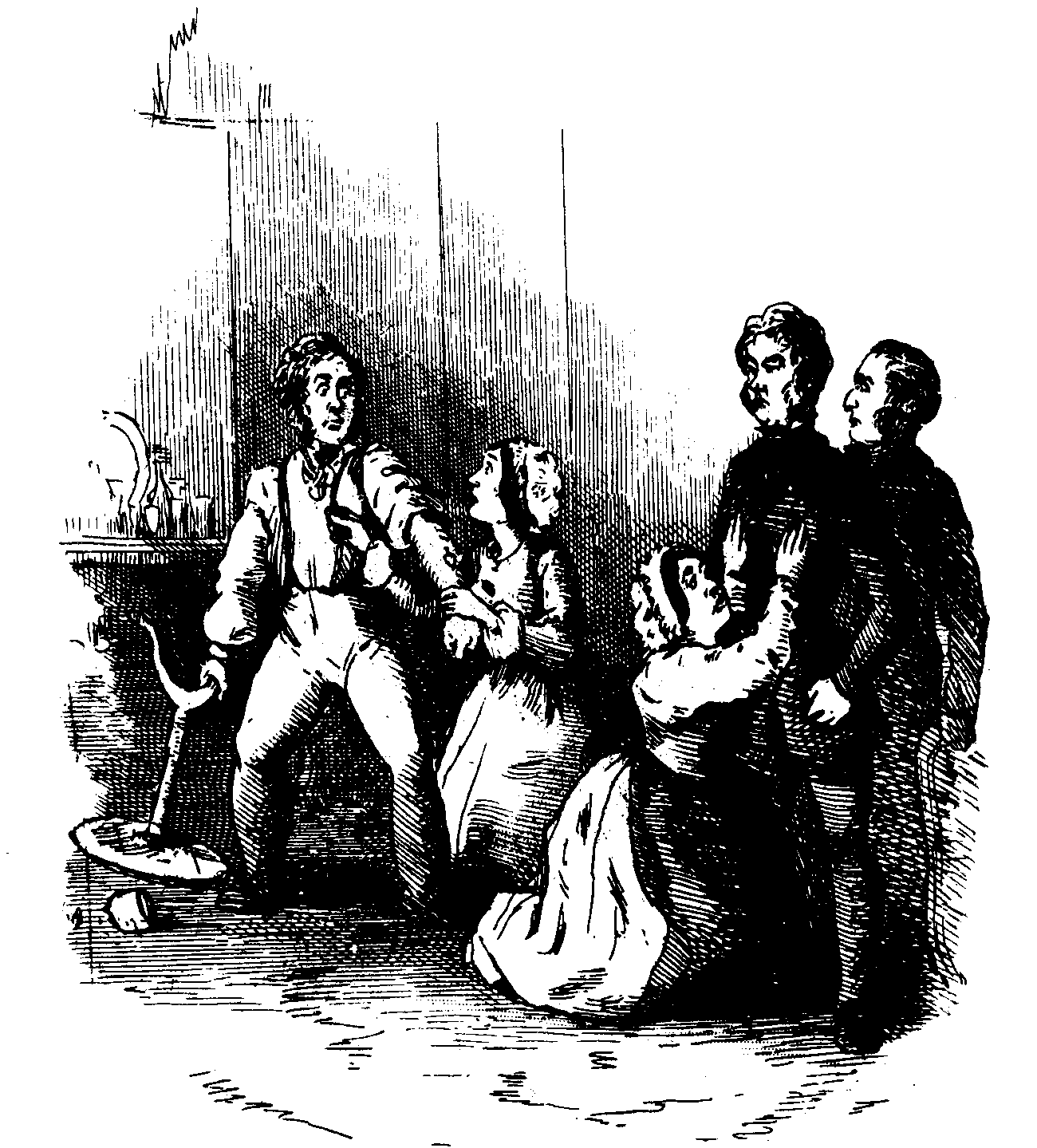 Скандал продолжал бушевать, и конца ему, казалось, не предвиделось.
Однако Йейтс в последнюю минуту забрал свой иск; оказывается, предъявив его
совету, он предъявлял его тем самым и попечителям клуба и, значит, дело
подлежало Канцлерскому суду, что, к счастью, было ему не по карману. Он,
видно, так и не простил клубу обиды за то, что ответчиками были выставлены
попечители и он лишился задуманного громкого процесса. Но я считаю - оставив
в стороне личные интересы, - что для него то был благой исход: никак иначе
не удалось бы пресечь его неутолимую жажду мщения. Ему только и оставалось,
что разразиться заключительным памфлетом, однако читателей, кажется, нашлось
немного, немногим больше, чем нашлось бы у меня, потеряй я голову и вздумай
написать что-либо похожее, ибо наша история всем страшно опротивела. После
чего Йейтс для всех, кроме друзей-приятелей, канул в забвение, из которого
лишь на секунду вынырнул; я проводил его тяжелым вздохом, сокрушаясь, что
мне довелось услышать это имя.
Скандал продолжал бушевать, и конца ему, казалось, не предвиделось.
Однако Йейтс в последнюю минуту забрал свой иск; оказывается, предъявив его
совету, он предъявлял его тем самым и попечителям клуба и, значит, дело
подлежало Канцлерскому суду, что, к счастью, было ему не по карману. Он,
видно, так и не простил клубу обиды за то, что ответчиками были выставлены
попечители и он лишился задуманного громкого процесса. Но я считаю - оставив
в стороне личные интересы, - что для него то был благой исход: никак иначе
не удалось бы пресечь его неутолимую жажду мщения. Ему только и оставалось,
что разразиться заключительным памфлетом, однако читателей, кажется, нашлось
немного, немногим больше, чем нашлось бы у меня, потеряй я голову и вздумай
написать что-либо похожее, ибо наша история всем страшно опротивела. После
чего Йейтс для всех, кроме друзей-приятелей, канул в забвение, из которого
лишь на секунду вынырнул; я проводил его тяжелым вздохом, сокрушаясь, что
мне довелось услышать это имя.
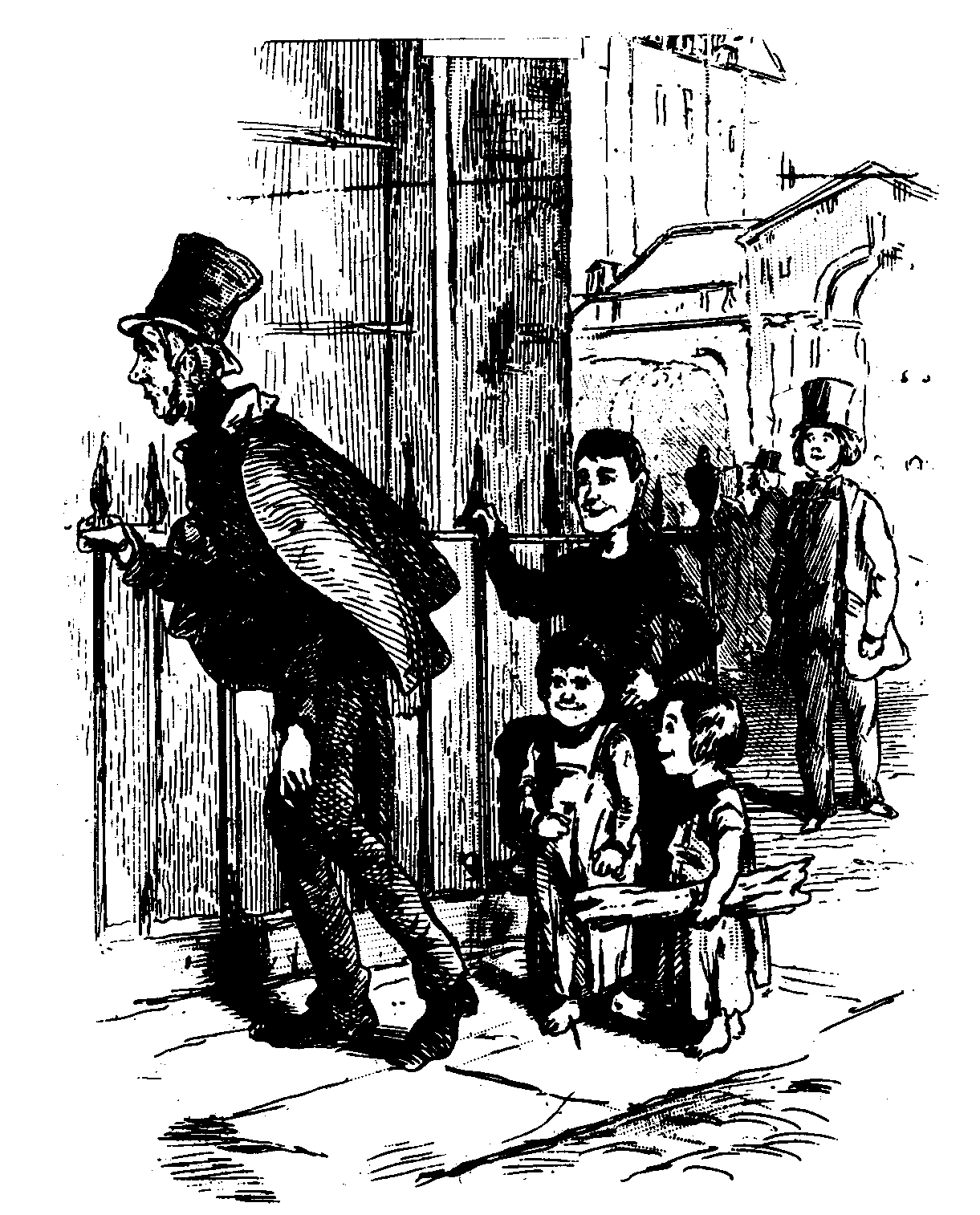 Сегодня мне бы следовало спокойно оценить случившееся, взглянуть на
дело Йейтса беспристрастно и трезво взвесить поведение основных участников,
но я не могу; даже писать эту главу мне было трудно - меня одолевали тоска и
раздражение: за прошедшие годы ничто не изменилось, я с прежней страстью
отношусь к этой ссоре. И самое в ней удручающее не все те неприятности,
которые она повлекла за собой, а чувство горечи из-за того, что Йейтс, как я
ясно понимаю, так и не уразумел, из-за чего я ломал копья и в чем он
провинился, и потому, что бы я ни говорил, что бы ни делал, в каком-то
смысле все было впустую. Но Диккенс понимал прекрасно, что меня ранило всего
больнее, и, на мой взгляд, сыграл неприглядную роль. Я часто спрашивал себя,
что его побудило приложить руку к этому скандалу. Собственные ли его
неприятности - уход от жены, то ли, что я принял ее сторону и даже навещал
порой, чтоб поддержать и выразить сочувствие? Возможно, раздосадованный, он
искал случая, чтоб уязвить меня? А может быть, я несправедлив к нему, и
Йейтс вовлек его в это дело против воли или же не последовал какому-то его
разумному совету, оставшемуся мне не известным? Йейтс - малый опрометчивый и
мог из-за поспешности неправильно понять Диккенса, а может быть, Диккенс
обронил вначале неосторожное словцо, которое хотел бы после взять обратно,
но было уже поздно. Все это нетрудно было бы узнать наверняка, обратившись
прямо к Диккенсу, но я не стал этого делать. Некоторых ран лучше не
касаться, и уж тем более не стоит их бередить. Одно мне ясно - нам с
Диккенсом не суждено было дружить. Все шло к тому, чтоб развести нас в
разные стороны, и очень многие нас потихоньку стравливали. Какая жалость!
Нам следовало быть друзьями.
В конце концов, скандал заглох, и я возблагодарил судьбу, хотя на душе
остался тяжелый осадок. Я даже внушил себе, что откровенная враждебность
Йейтса мне нравится - она мне больше по сердцу, чем... вы сами знаете, что.
Мысли мои несколько прояснились, отчасти вернулась работоспособность, и я,
наконец, снова взялся за злосчастных "Виргинцев". Видит бог, этот роман был
обречен с самого начала: пока я писал его, я столько раз лишался душевного
равновесия то по одной, то по другой причине, и столько раз менял весь ход
повествования, что часто ощущал полнейшую, прямо-таки неприличную
растерянность. Как вам известно, мне хотелось написать продолжение "Генри
Эсмонда", я думал рассказать о приключениях внуков Эсмонда -
братьев-близнецов Уоррингтонов, а заодно и дальнейшую историю дома
Каслвудов. Действие, по большей части, должно было происходить в Америке во
время тамошней революции, в которой братья сражаются на разных сторонах.
Сами видите, я выбрал широкий фон, как очень быстро выяснилось, чересчур,
непосильно широкий, и я стал тонуть, отчаянно барахтаясь и стараясь связать
и укрепить разваливающееся действие. Я очень намучился со своими близнецами,
которых задумал людьми совсем разными и по характеру, и по способностям, но
очень схожими внешне; ну а женские образы... - кто это выдумал, что я умею
описывать женщин? Короче говоря, не читайте "Виргинцев", это самый слабый из
моих романов. В один прекрасный день я дописал его, и это лучшее, что я могу
сказать. Не стану ссылаться на давно известные причины: на то, что я болел,
спешил, непрестанно отвлекался на неотложные дела, а лучше пообещаю, что
свое нынешнее детище - "Дени Дюваля" - не выпущу из рук, пока не доведу до
совершенства. Ах, как бы мне хотелось вернуть назад все мои книги, которыми
я остался недоволен, переписать их заново и либо превратить в шедевры, либо
предать огню, но, к сожалению, это невозможно. Я знаю, что меня ждет горькая
расплата - суровый суд потомков, которые будут вершить его строже, чем
современники, но, может быть, по милости небес, "Ярмарка тщеславия" и
"Эсмонд" переживут меня.
Сегодня мне бы следовало спокойно оценить случившееся, взглянуть на
дело Йейтса беспристрастно и трезво взвесить поведение основных участников,
но я не могу; даже писать эту главу мне было трудно - меня одолевали тоска и
раздражение: за прошедшие годы ничто не изменилось, я с прежней страстью
отношусь к этой ссоре. И самое в ней удручающее не все те неприятности,
которые она повлекла за собой, а чувство горечи из-за того, что Йейтс, как я
ясно понимаю, так и не уразумел, из-за чего я ломал копья и в чем он
провинился, и потому, что бы я ни говорил, что бы ни делал, в каком-то
смысле все было впустую. Но Диккенс понимал прекрасно, что меня ранило всего
больнее, и, на мой взгляд, сыграл неприглядную роль. Я часто спрашивал себя,
что его побудило приложить руку к этому скандалу. Собственные ли его
неприятности - уход от жены, то ли, что я принял ее сторону и даже навещал
порой, чтоб поддержать и выразить сочувствие? Возможно, раздосадованный, он
искал случая, чтоб уязвить меня? А может быть, я несправедлив к нему, и
Йейтс вовлек его в это дело против воли или же не последовал какому-то его
разумному совету, оставшемуся мне не известным? Йейтс - малый опрометчивый и
мог из-за поспешности неправильно понять Диккенса, а может быть, Диккенс
обронил вначале неосторожное словцо, которое хотел бы после взять обратно,
но было уже поздно. Все это нетрудно было бы узнать наверняка, обратившись
прямо к Диккенсу, но я не стал этого делать. Некоторых ран лучше не
касаться, и уж тем более не стоит их бередить. Одно мне ясно - нам с
Диккенсом не суждено было дружить. Все шло к тому, чтоб развести нас в
разные стороны, и очень многие нас потихоньку стравливали. Какая жалость!
Нам следовало быть друзьями.
В конце концов, скандал заглох, и я возблагодарил судьбу, хотя на душе
остался тяжелый осадок. Я даже внушил себе, что откровенная враждебность
Йейтса мне нравится - она мне больше по сердцу, чем... вы сами знаете, что.
Мысли мои несколько прояснились, отчасти вернулась работоспособность, и я,
наконец, снова взялся за злосчастных "Виргинцев". Видит бог, этот роман был
обречен с самого начала: пока я писал его, я столько раз лишался душевного
равновесия то по одной, то по другой причине, и столько раз менял весь ход
повествования, что часто ощущал полнейшую, прямо-таки неприличную
растерянность. Как вам известно, мне хотелось написать продолжение "Генри
Эсмонда", я думал рассказать о приключениях внуков Эсмонда -
братьев-близнецов Уоррингтонов, а заодно и дальнейшую историю дома
Каслвудов. Действие, по большей части, должно было происходить в Америке во
время тамошней революции, в которой братья сражаются на разных сторонах.
Сами видите, я выбрал широкий фон, как очень быстро выяснилось, чересчур,
непосильно широкий, и я стал тонуть, отчаянно барахтаясь и стараясь связать
и укрепить разваливающееся действие. Я очень намучился со своими близнецами,
которых задумал людьми совсем разными и по характеру, и по способностям, но
очень схожими внешне; ну а женские образы... - кто это выдумал, что я умею
описывать женщин? Короче говоря, не читайте "Виргинцев", это самый слабый из
моих романов. В один прекрасный день я дописал его, и это лучшее, что я могу
сказать. Не стану ссылаться на давно известные причины: на то, что я болел,
спешил, непрестанно отвлекался на неотложные дела, а лучше пообещаю, что
свое нынешнее детище - "Дени Дюваля" - не выпущу из рук, пока не доведу до
совершенства. Ах, как бы мне хотелось вернуть назад все мои книги, которыми
я остался недоволен, переписать их заново и либо превратить в шедевры, либо
предать огню, но, к сожалению, это невозможно. Я знаю, что меня ждет горькая
расплата - суровый суд потомков, которые будут вершить его строже, чем
современники, но, может быть, по милости небес, "Ярмарка тщеславия" и
"Эсмонд" переживут меня.
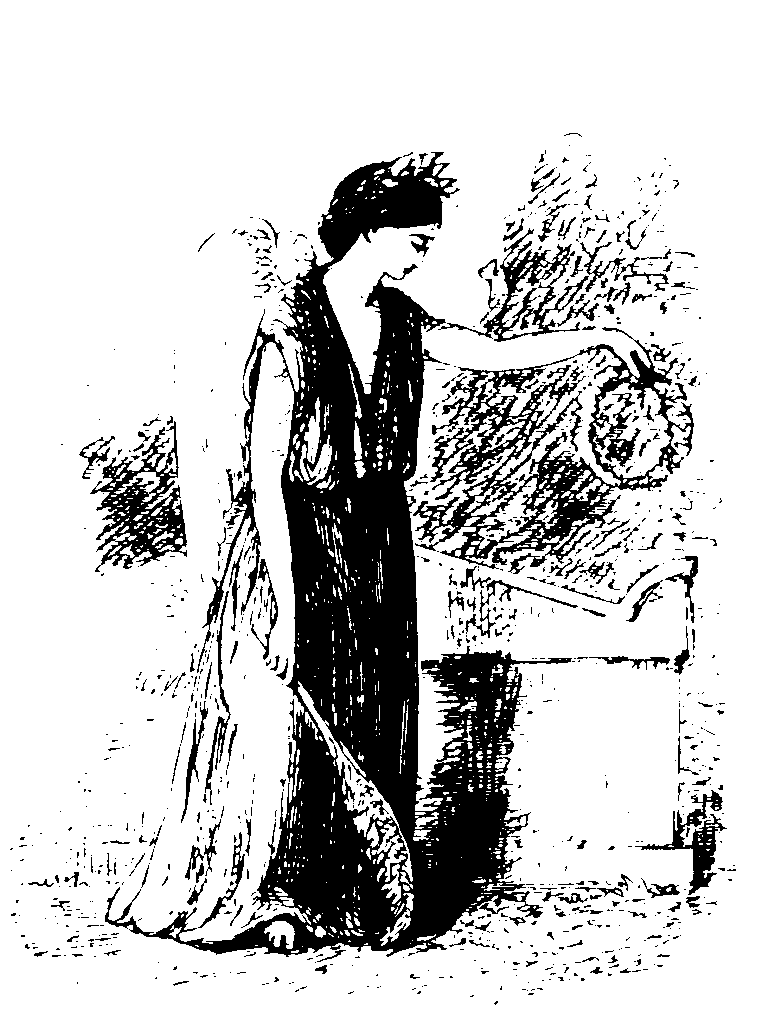 Поверите ли вы, что нас с вами ожидает впереди веселая глава? Чем не
сюрприз? В свое время то был сюрприз и для меня, я был бы рад тогда узнать,
заглянув в будущее, что жизнь - в порядке исключения - готовится сделать мне
подарок.
^T22^U
^TПозвольте представиться: редактор "Корнхилл Мэгэзин"^U
Я знаю с давних пор, что не умею быть спокойным и мне не суждено жить
тихо и размеренно, пожалуй, то горячечное существование, которое досталось
мне в удел, гораздо больше мне по нраву. В свое время Джейн Брукфилд часто
журила меня за то, что я слишком быстро мчусь по жизни, и предупреждала, что
я состарюсь раньше срока, если не перестану рваться на части, словно во мне
сидят даже не два, а три разных человека. В те дни, когда я был ей не
безразличен, она то и дело просила меня "немного спустить пар", что я честно
старался исполнить, но ничего не получалось. Когда-нибудь, наверное,
настанет тишь да гладь, я удалюсь от жизни, не захочу и пальцем шевельнуть
ни ради чего на свете, но, честно говоря, мне как-то не верится. Мы властны
над своими целями и притязаниями, мы можем обуздать свои порывы или подавить
свою несдержанность, чтоб лучше исполнять христианский долг, но мы не в
силах изменить свой нрав, не стоит и пытаться. Поэтому когда ко мне пришел
Джордж Смит из издательства "Смит, Элдер и Кo", которого я не раз упоминал
на этих страницах, надеюсь, в самых лестных выражениях, и предложил занять
кресло редактора нового литературного журнала, нетрудно догадаться, что я
ему ответил. Возможно, вы ожидали, будто я ответствовал ему с нахмуренным
челом, что очень занят, нельзя даже вообразить себе, до какой степени, или,
утомленно прикрыв глаза ладонью, прошептал, что изнемогаю от усталости и
нуждаюсь в отдыхе? А может быть, вы полагали, будто я стал отнекиваться,
отговариваться тем, что у меня нет опыта и я боюсь не справиться? О нет, как
вы отлично понимаете, ничего подобного я говорить не стал, однако вам,
должно быть, невдомек, до чего же я обрадовался. Вот это поворот судьбы! Вот
это перемена! Отныне - никаких романов! К черту лекции! Я так ухватился за
предоставленную мне возможность попробовать свои силы в новом деле, словно
был вдвое моложе своих лет, но я будто и в самом деле сбросил половину
прожитых годков, когда услышал это предложение. Как нас волшебно горячит
восторг: кровь начинает бежать быстрее, глаза глядят зорче, походка
становится легче, и человек весь светится. Наверное, медицина способна
объяснить, в чем тут загадка, но мне ни к чему ее объяснения, мне подавайте
результат, а не причины, которых я, кстати сказать, все равно бы не понял. Я
лишь соглашаюсь радостно, что средство это чудодейственное, и хорошо бы
встречать его почаще в жизни, чтобы омолодить нас всех.
Новым журналом жизнь бросила мне вызов, в котором я больше всего тогда
нуждался: пора было менять смычок, ибо мой прежний перетерся от того, что я
слишком долго водил им по струнам. Какая радость принимать и отвергать,
подписывать в печать и критиковать сочинения других людей вместо того, чтоб
каторжно трудиться над своими собственными и с замиранием сердца ждать
чужого приговора! Как редактор журнала для семейного чтения я смогу влиять
на литературу, чего мне давно хотелось, а не буду сам тянуть упряжку; на мой
взгляд, то была достойная задача, и я прекрасно понимал, как за нее следует
приняться. Читатели мечтают получить журнал, который годился бы для всех:
отцов, детей, жен, слуг и прочих, - был бы написан хорошим языком и не
вгонял людей в краску, когда они его читают вслух. Кому не надоели беззубые
историйки вместо рассказов, хромые вирши, выдаваемые за стихи, и бесконечное
пережевывание одних и тех же мыслей, призванное скрыть ту грустную правду,
что у авторов нет за душой ни свежести, ни новизны? Вдобавок каждой семье
приходилось вводить домашнюю цензуру, и это раздражало: один журнал не
подходил для дам, ибо в нем то и дело проскальзывали скабрезные, дешевые
остроты, другой не следовало читать детям из-за картин насилия и зверства,
третий нужно было прятать от слуг из-за подрывных политических идей, которые
он постоянно проповедовал. Мне часто доводилось слышать, как отцы семейства
сетовали, что в стране нет подходящего журнала, который предназначался бы
для всех возрастов и сословий, они бы покупали его нарасхват, уверяли они
меня, - лишь бы он не был слишком скучным или ханжески благочестивым. И я
загорелся мечтой создать такой журнал - живой, занимательный, хороший журнал
для чтения в домашнем кругу. Во мне заговорил несостоявшийся издатель, не
умиравший в моей душе с тех самых пор, как провалился "Нэшенел Стэндарт",
который мне когда-то мыслился именно таким изданием.
Но прежде чем садиться в редакторское кресло, мне следовало
окончательно разделаться с "Виргинцами". Признаюсь, дописывать их оказалось
всего легче - меня гнало вперед нетерпеливое желание поскорей приняться за
мой журнал. Заметили ли вы хозяйское словечко "мой" в конце предыдущей
фразы? Наверное, вам подумалось, что это странный способ выражаться о том,
что по самой своей природе может существовать лишь как общий труд многих, но
я воспринимал журнал как нечто очень личное и был преисполнен самых
серьезных намерений. Нет, это и впрямь будет мой журнал - я не намерен был
умножать собой ряды редакторов, которых никогда не бывает на месте и которые
руководят работой, не покидая собственного дома и перекладывая львиную ее
долю на других сотрудников. Меня занимала каждая связанная с ним мелочь: как
будет выглядеть обложка, какими шрифтами он будет набираться, какие
материалы мы будем отбирать для публикации, как организовать продажу, - меня
касалось все, даже то, что обычно решается без главного редактора. Иначе я
не ощущал бы себя вправе называть его "своим" - как мать, которая должна
утирать своим детям носы и слезы, а не только любоваться их улыбкой.
По-моему, о печатном органе нужно судить по самому слабому звену, и я считал
своим первейшим долгом нащупать такое звено и укрепить его. Я понимал, что
сам создаю себе работу, но работой меня не испугаешь, и не беда, если я
стану притчей во языцех и обо мне будут в сердцах говорить, что я сую нос
куда не положено: то было мое кровное детище. Я собирался стать редактором,
пальцы которого всегда испачканы чернилами, который принимает близко к
сердцу обязанности каждого из своих подопечных: от мальчишки-рассыльного до
литературных сотрудников.
Поверите ли вы, что нас с вами ожидает впереди веселая глава? Чем не
сюрприз? В свое время то был сюрприз и для меня, я был бы рад тогда узнать,
заглянув в будущее, что жизнь - в порядке исключения - готовится сделать мне
подарок.
^T22^U
^TПозвольте представиться: редактор "Корнхилл Мэгэзин"^U
Я знаю с давних пор, что не умею быть спокойным и мне не суждено жить
тихо и размеренно, пожалуй, то горячечное существование, которое досталось
мне в удел, гораздо больше мне по нраву. В свое время Джейн Брукфилд часто
журила меня за то, что я слишком быстро мчусь по жизни, и предупреждала, что
я состарюсь раньше срока, если не перестану рваться на части, словно во мне
сидят даже не два, а три разных человека. В те дни, когда я был ей не
безразличен, она то и дело просила меня "немного спустить пар", что я честно
старался исполнить, но ничего не получалось. Когда-нибудь, наверное,
настанет тишь да гладь, я удалюсь от жизни, не захочу и пальцем шевельнуть
ни ради чего на свете, но, честно говоря, мне как-то не верится. Мы властны
над своими целями и притязаниями, мы можем обуздать свои порывы или подавить
свою несдержанность, чтоб лучше исполнять христианский долг, но мы не в
силах изменить свой нрав, не стоит и пытаться. Поэтому когда ко мне пришел
Джордж Смит из издательства "Смит, Элдер и Кo", которого я не раз упоминал
на этих страницах, надеюсь, в самых лестных выражениях, и предложил занять
кресло редактора нового литературного журнала, нетрудно догадаться, что я
ему ответил. Возможно, вы ожидали, будто я ответствовал ему с нахмуренным
челом, что очень занят, нельзя даже вообразить себе, до какой степени, или,
утомленно прикрыв глаза ладонью, прошептал, что изнемогаю от усталости и
нуждаюсь в отдыхе? А может быть, вы полагали, будто я стал отнекиваться,
отговариваться тем, что у меня нет опыта и я боюсь не справиться? О нет, как
вы отлично понимаете, ничего подобного я говорить не стал, однако вам,
должно быть, невдомек, до чего же я обрадовался. Вот это поворот судьбы! Вот
это перемена! Отныне - никаких романов! К черту лекции! Я так ухватился за
предоставленную мне возможность попробовать свои силы в новом деле, словно
был вдвое моложе своих лет, но я будто и в самом деле сбросил половину
прожитых годков, когда услышал это предложение. Как нас волшебно горячит
восторг: кровь начинает бежать быстрее, глаза глядят зорче, походка
становится легче, и человек весь светится. Наверное, медицина способна
объяснить, в чем тут загадка, но мне ни к чему ее объяснения, мне подавайте
результат, а не причины, которых я, кстати сказать, все равно бы не понял. Я
лишь соглашаюсь радостно, что средство это чудодейственное, и хорошо бы
встречать его почаще в жизни, чтобы омолодить нас всех.
Новым журналом жизнь бросила мне вызов, в котором я больше всего тогда
нуждался: пора было менять смычок, ибо мой прежний перетерся от того, что я
слишком долго водил им по струнам. Какая радость принимать и отвергать,
подписывать в печать и критиковать сочинения других людей вместо того, чтоб
каторжно трудиться над своими собственными и с замиранием сердца ждать
чужого приговора! Как редактор журнала для семейного чтения я смогу влиять
на литературу, чего мне давно хотелось, а не буду сам тянуть упряжку; на мой
взгляд, то была достойная задача, и я прекрасно понимал, как за нее следует
приняться. Читатели мечтают получить журнал, который годился бы для всех:
отцов, детей, жен, слуг и прочих, - был бы написан хорошим языком и не
вгонял людей в краску, когда они его читают вслух. Кому не надоели беззубые
историйки вместо рассказов, хромые вирши, выдаваемые за стихи, и бесконечное
пережевывание одних и тех же мыслей, призванное скрыть ту грустную правду,
что у авторов нет за душой ни свежести, ни новизны? Вдобавок каждой семье
приходилось вводить домашнюю цензуру, и это раздражало: один журнал не
подходил для дам, ибо в нем то и дело проскальзывали скабрезные, дешевые
остроты, другой не следовало читать детям из-за картин насилия и зверства,
третий нужно было прятать от слуг из-за подрывных политических идей, которые
он постоянно проповедовал. Мне часто доводилось слышать, как отцы семейства
сетовали, что в стране нет подходящего журнала, который предназначался бы
для всех возрастов и сословий, они бы покупали его нарасхват, уверяли они
меня, - лишь бы он не был слишком скучным или ханжески благочестивым. И я
загорелся мечтой создать такой журнал - живой, занимательный, хороший журнал
для чтения в домашнем кругу. Во мне заговорил несостоявшийся издатель, не
умиравший в моей душе с тех самых пор, как провалился "Нэшенел Стэндарт",
который мне когда-то мыслился именно таким изданием.
Но прежде чем садиться в редакторское кресло, мне следовало
окончательно разделаться с "Виргинцами". Признаюсь, дописывать их оказалось
всего легче - меня гнало вперед нетерпеливое желание поскорей приняться за
мой журнал. Заметили ли вы хозяйское словечко "мой" в конце предыдущей
фразы? Наверное, вам подумалось, что это странный способ выражаться о том,
что по самой своей природе может существовать лишь как общий труд многих, но
я воспринимал журнал как нечто очень личное и был преисполнен самых
серьезных намерений. Нет, это и впрямь будет мой журнал - я не намерен был
умножать собой ряды редакторов, которых никогда не бывает на месте и которые
руководят работой, не покидая собственного дома и перекладывая львиную ее
долю на других сотрудников. Меня занимала каждая связанная с ним мелочь: как
будет выглядеть обложка, какими шрифтами он будет набираться, какие
материалы мы будем отбирать для публикации, как организовать продажу, - меня
касалось все, даже то, что обычно решается без главного редактора. Иначе я
не ощущал бы себя вправе называть его "своим" - как мать, которая должна
утирать своим детям носы и слезы, а не только любоваться их улыбкой.
По-моему, о печатном органе нужно судить по самому слабому звену, и я считал
своим первейшим долгом нащупать такое звено и укрепить его. Я понимал, что
сам создаю себе работу, но работой меня не испугаешь, и не беда, если я
стану притчей во языцех и обо мне будут в сердцах говорить, что я сую нос
куда не положено: то было мое кровное детище. Я собирался стать редактором,
пальцы которого всегда испачканы чернилами, который принимает близко к
сердцу обязанности каждого из своих подопечных: от мальчишки-рассыльного до
литературных сотрудников.
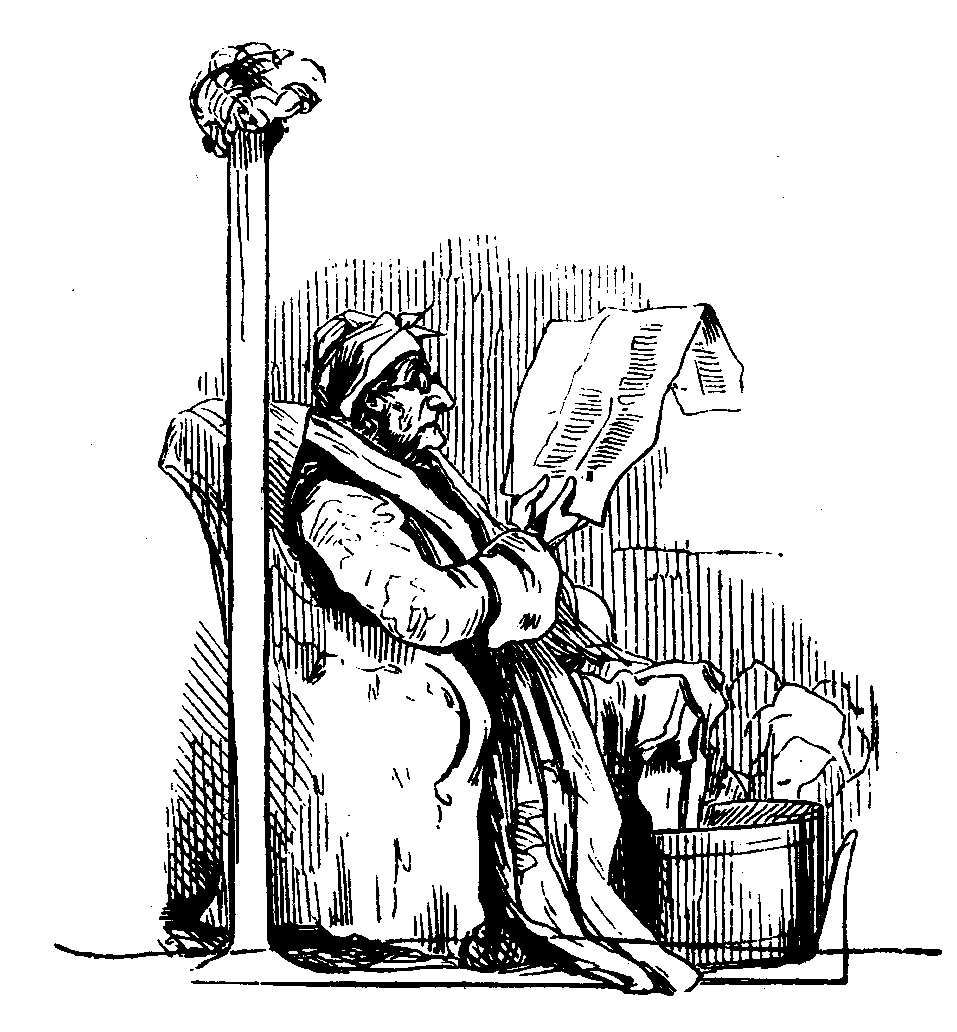 Прежде всего, необходимо было придумать хорошее название. Вы говорите,
что я поставил телегу перед лошадью, и у главного редактора имеются заботы и
поважнее. Но вы не правы, судьба нового журнала, который должен быть у всех
на устах, во многом зависит от имени. Часами я перебирал возможные названия
- искал такое слово, в котором отразился бы мой замысел. Оно должно было
быть простое, радостное, серьезное, приятное для слуха, но не вызывающее, а
заодно - не слишком узкое по значению, чтобы не сковывать последующее
развитие журнала. По долгом размышлении я остановился на словосочетании
"Корнхилл Мэгэзин", потому что редакция помещалась в доме номер шестьдесят
пять по улице Корнхилл, и слово "Корнхилл" постоянно ласкало мой слух - мне
слышалось в нем что-то основательное, "коренное", хотя смешно было и думать,
будто кто-нибудь поймет, что я имел в виду; то было легкое, веселое
название, точно такое, как мне грезилось. К тому же, невозможно бесконечно
выбирать название, его нужно скорее обнародовать, а чем дольше вы
раздумываете, тем труднее отыскать слово, которое бы звучало как откровение.
Безымянный журнал -вроде безымянного младенца, всегда опасно, что он умрет
раньше, чем его нарекут, так что торопитесь это сделать. Коль скоро мы
выбрали название, можно было приниматься за обложку. Не требуется особого
опыта журнальной работы, чтобы понять, как важен внешний вид для нового
печатного издания. Потом, когда оно станет на ноги, оно может выходить в
невзрачном буром переплете, и набирать его можно будет самым скромным
шрифтом, но вначале оно должно бросаться в глаза покупателям, и посему к
рисунку на обложке следовало отнестись со всей возможной тщательностью.
Головоломная задача, смею я вам доложить. Я порывался сам приложить руку к
обложке, но вскоре понял, что тут нужна пропасть времени и мастерства -
лучше мне и не соваться, и обратился к другу, работавшему в
Саут-Кенсингтонской школе изящных искусств, с просьбой порекомендовать
подходящего художника, и он прислал нам Годфри Сайкса, который тотчас сделал
отличный набросок в таком духе, как мне того хотелось. Рисунок должен был
прийтись по вкусу широкому читателю и послужить нам добрым почином - я был
доволен.
Прежде всего, необходимо было придумать хорошее название. Вы говорите,
что я поставил телегу перед лошадью, и у главного редактора имеются заботы и
поважнее. Но вы не правы, судьба нового журнала, который должен быть у всех
на устах, во многом зависит от имени. Часами я перебирал возможные названия
- искал такое слово, в котором отразился бы мой замысел. Оно должно было
быть простое, радостное, серьезное, приятное для слуха, но не вызывающее, а
заодно - не слишком узкое по значению, чтобы не сковывать последующее
развитие журнала. По долгом размышлении я остановился на словосочетании
"Корнхилл Мэгэзин", потому что редакция помещалась в доме номер шестьдесят
пять по улице Корнхилл, и слово "Корнхилл" постоянно ласкало мой слух - мне
слышалось в нем что-то основательное, "коренное", хотя смешно было и думать,
будто кто-нибудь поймет, что я имел в виду; то было легкое, веселое
название, точно такое, как мне грезилось. К тому же, невозможно бесконечно
выбирать название, его нужно скорее обнародовать, а чем дольше вы
раздумываете, тем труднее отыскать слово, которое бы звучало как откровение.
Безымянный журнал -вроде безымянного младенца, всегда опасно, что он умрет
раньше, чем его нарекут, так что торопитесь это сделать. Коль скоро мы
выбрали название, можно было приниматься за обложку. Не требуется особого
опыта журнальной работы, чтобы понять, как важен внешний вид для нового
печатного издания. Потом, когда оно станет на ноги, оно может выходить в
невзрачном буром переплете, и набирать его можно будет самым скромным
шрифтом, но вначале оно должно бросаться в глаза покупателям, и посему к
рисунку на обложке следовало отнестись со всей возможной тщательностью.
Головоломная задача, смею я вам доложить. Я порывался сам приложить руку к
обложке, но вскоре понял, что тут нужна пропасть времени и мастерства -
лучше мне и не соваться, и обратился к другу, работавшему в
Саут-Кенсингтонской школе изящных искусств, с просьбой порекомендовать
подходящего художника, и он прислал нам Годфри Сайкса, который тотчас сделал
отличный набросок в таком духе, как мне того хотелось. Рисунок должен был
прийтись по вкусу широкому читателю и послужить нам добрым почином - я был
доволен.
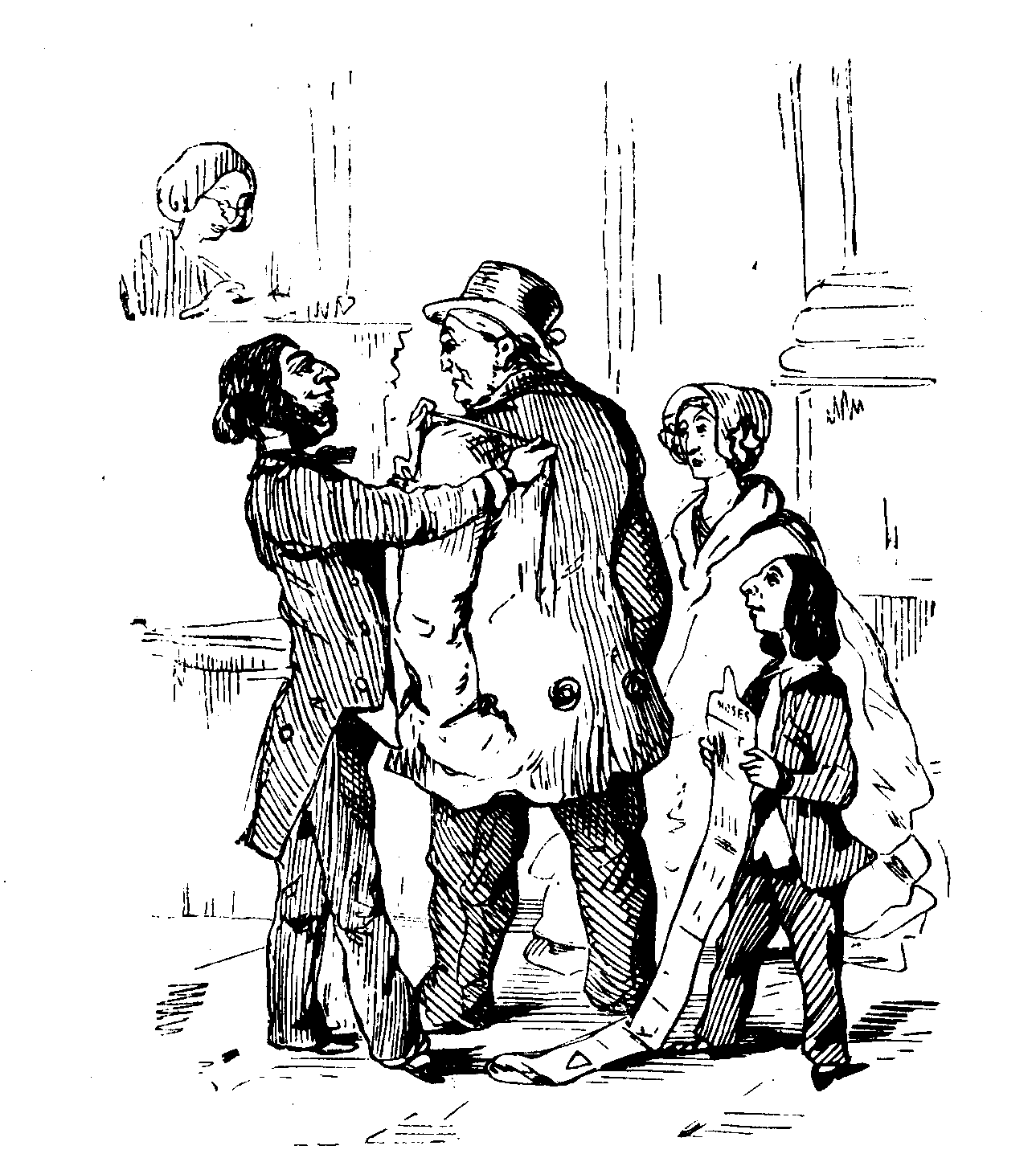 Название, обложка, бог ты мой, дойдет ли он когда-нибудь до дела? -
нетерпеливо спрашиваете вы. Не спорю, главное в журнале - содержание. Я
понимал, как важно, чтобы в плане выдерживалось равновесие всех
предполагаемых рубрик: от беллетристики до научных статей, от легкого - до
просвещающего чтения, от развлекательной литературы - до расширяющей
умственные горизонты. Случайное сотрудничество знакомых сочинителей не
обеспечивало бы того, что мне мыслилось. Прежде всего, нужно было довести до
будущих авторов задачу нашего журнала, который призван был обслуживать самый
широкий круг читателей всех поколений и званий и приобщать их к мудрости и
знаниям самых талантливых и просвещенных людей нашего времени. Конечно, без
художественной литературы такому изданию не обойтись, я был обеими руками за
нее, но я давно пришел к убеждению, что читателей следует приближать к
действительности, к тем подлинным жизненным фактам, которые обычно находятся
вне досягаемости. Среди сотрудничающих с журналом авторов мне виделись люди
интересных профессий, готовые поделиться своими познаниями с менее
удачливыми собратьями. Речь шла не о трактатах, цветистых и заумных,
посвященных непонятным материям, а о занимательных очерках на общие темы,
которых, однако, никто не пишет. Я собирался привлечь к журнальной
деятельности не только литераторов, но и инженеров, охотников на лис,
геологов и прочих, чтобы они открыли перед нами двери в новые миры, куда
посторонние не могут попасть сами. Я воображал себе статью, скажем, об
ампутации ноги, написанную опытным хирургом, по прочтении которой капитан в
открытом море мог бы в случае нужды, несмотря на отсутствие медицинской
подготовки, успешно повторить ее. Пожалуй, я привел малоудачный пример -
слишком кровожадный, но суть вам, думаю, понятна; мне хотелось, чтобы
подобные статьи из всех областей знания постоянно появлялись в нашем
журнале. В каждой книжке предполагалась хотя бы одна публикация такого рода,
а, кроме того, стихотворения, отрывок из романа с продолжением, рассказ или
очерк, а также литературно-критическая статья на злободневную тему. Все
напечатанное должно было звучать непринужденно, благожелательно и в то же
время сдержанно, и уж конечно без всяких головоломок и неряшливостей слога -
на правильном и чистом английском языке. Пусть у нас не получится все
остальное, но образцовый литературный язык мы были призваны хранить, я
намеревался придерживаться самых высоких образцов стиля.
Название, обложка, бог ты мой, дойдет ли он когда-нибудь до дела? -
нетерпеливо спрашиваете вы. Не спорю, главное в журнале - содержание. Я
понимал, как важно, чтобы в плане выдерживалось равновесие всех
предполагаемых рубрик: от беллетристики до научных статей, от легкого - до
просвещающего чтения, от развлекательной литературы - до расширяющей
умственные горизонты. Случайное сотрудничество знакомых сочинителей не
обеспечивало бы того, что мне мыслилось. Прежде всего, нужно было довести до
будущих авторов задачу нашего журнала, который призван был обслуживать самый
широкий круг читателей всех поколений и званий и приобщать их к мудрости и
знаниям самых талантливых и просвещенных людей нашего времени. Конечно, без
художественной литературы такому изданию не обойтись, я был обеими руками за
нее, но я давно пришел к убеждению, что читателей следует приближать к
действительности, к тем подлинным жизненным фактам, которые обычно находятся
вне досягаемости. Среди сотрудничающих с журналом авторов мне виделись люди
интересных профессий, готовые поделиться своими познаниями с менее
удачливыми собратьями. Речь шла не о трактатах, цветистых и заумных,
посвященных непонятным материям, а о занимательных очерках на общие темы,
которых, однако, никто не пишет. Я собирался привлечь к журнальной
деятельности не только литераторов, но и инженеров, охотников на лис,
геологов и прочих, чтобы они открыли перед нами двери в новые миры, куда
посторонние не могут попасть сами. Я воображал себе статью, скажем, об
ампутации ноги, написанную опытным хирургом, по прочтении которой капитан в
открытом море мог бы в случае нужды, несмотря на отсутствие медицинской
подготовки, успешно повторить ее. Пожалуй, я привел малоудачный пример -
слишком кровожадный, но суть вам, думаю, понятна; мне хотелось, чтобы
подобные статьи из всех областей знания постоянно появлялись в нашем
журнале. В каждой книжке предполагалась хотя бы одна публикация такого рода,
а, кроме того, стихотворения, отрывок из романа с продолжением, рассказ или
очерк, а также литературно-критическая статья на злободневную тему. Все
напечатанное должно было звучать непринужденно, благожелательно и в то же
время сдержанно, и уж конечно без всяких головоломок и неряшливостей слога -
на правильном и чистом английском языке. Пусть у нас не получится все
остальное, но образцовый литературный язык мы были призваны хранить, я
намеревался придерживаться самых высоких образцов стиля.
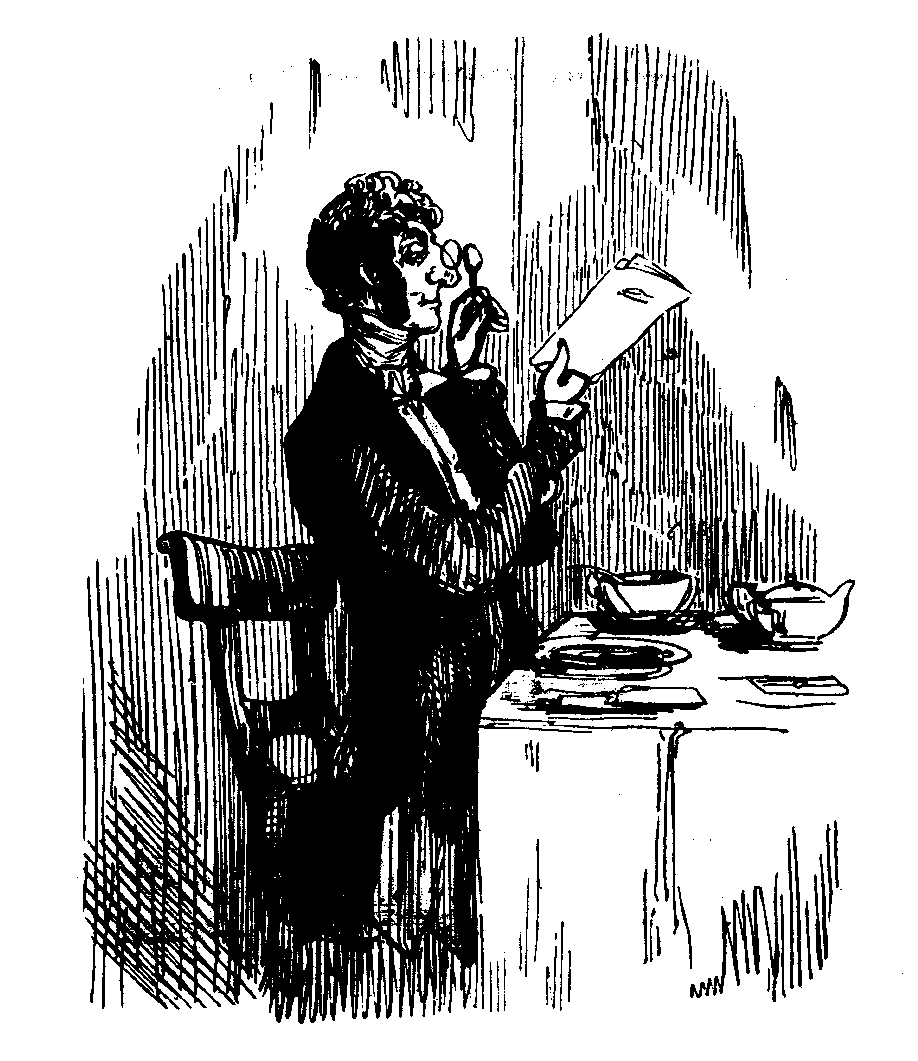 Как видите, мной владели благородные намерения, и я старался все
предусмотреть. Теперь у нас было название, обложка, план публикаций,
остановка была за малым - следовало воплотить все это в жизнь. Я понимал,
что получить те сочинения, которые необходимы для журнала, можно лишь одним
путем: обратиться к авторам, которые, как я знал, способны написать их.
Наверное, в разных уголках Англии скрывались десятки безвестных дарований,
которые, сумей я отыскать их, ничуть не хуже справились бы с задачей, но
сделать это было невозможно. Оставалось надеяться, что они придут к нам
сами, когда мы обретем имя. Как это будет увлекательно! Я, старый дурень,
мечтал о том времени, когда редакция окажется завалена рукописями безвестных
гениев, которых она откроет, поднимет из ничтожества и выведет в широкий
мир, а они, в свою очередь, употребят свои таланты к вящей славе нашего
журнала, но в ожидании этого прекрасного завтра следовало вооружиться пером
и чернилами и разослать просительные письма моим прославленным друзьям. То
было дело щекотливое, требовавшее величайшего такта. Поставьте себя на мое
место: я обращаюсь с просьбой к знаменитому писателю прислать в неведомый
ему журнал свое сочинение, но не желаю себя связывать обещанием напечатать
просимое. Я опасался страшного конфуза: положим, великий Т. пришлет в ответ
стихотворение, а оно мне не понравится или покажется не в духе нашего
журнала, что тогда делать? Отправить назад автору? Хорошенькая получится
история! После такого никто не станет со мной сотрудничать. Поэтому мне
следовало действовать предельно осторожно. Я отослал письма Браунингу,
Карлейлю, Гуду, Лендсиру, Лонгфелло, Теннисону и Троллопу, а также не столь
великим смертным, и просил прислать по доброте, что они смогут, для нашего
журнала, хоть, как я знал, дело тут было не столько в доброте, сколько в
свободном времени. Все они дружно выразили готовность довести "Корнхилл" до
самого недосягаемого уровня, умилили меня ответным рвением и подбодрили
обещанием помощи. Все, у кого нашлись под рукой готовые сочинения, отослали
мне их для публикации, остальные обещали незамедлительно взяться за перо. Я
знал, конечно, что журнал не может делать ставку на великих, однако начать
необходимо было с блистательных имен. Даже самое прекрасное стихотворение
безвестного гения не подняло бы так тираж журнала, как несколько строф
Теннисона, и было глупо закрывать на то глаза. Точно так же я не мог не
понимать, что читатели ждут от главного редактора новых произведений, и,
сколько бы я ни твердил в редакции, что в них нет никакой нужды, пора было
садиться за новый роман - того требовал престиж журнала. Трудно было
придумать менее привлекательный для меня род деятельности, но окружающие
считали, что именно роман с продолжением жизненно важен для судьбы журнала,
поэтому я покорился и написал, борясь с собою, как всегда, "Ловелла-вдовца".
Надо сказать, что время от времени, когда что-нибудь особо привлекало мое
внимание, я садился и набрасывал очерк-другой, в конце концов, получилась
пестрая подборка, не связанная общей мыслью, поэтому я назвал ее "Заметки о
разных разностях". Писать эти очерки было наслаждением, они мне удались, я
угадал в них верный тон, близкий всем читателям. День сдачи в печать первой
журнальной книжки приближался, и я все больше терял покой и сон, - честное
слово, легче дожидаться, пока появится в продаже твой собственный роман: от
этой первой публикации слишком многое зависело. Легко вообразить, сколько
раз я менял материалы, то заменял одно другим, то убавлял, то добавлял
статью или рассказ, так что в конце концов и вовсе перестал понимать, что
хорошо, что плохо, но даже в таком взвинченном состоянии я уповал на роман
Троллопа "Пасторский дом во Фремли", - он должен был нам принести удачу; в
каком бы веке вам ни попалась моя хроника, вам, несомненно, хорошо известно
это имя, которое не потускнеет, пока на свете останутся читатели и книги. Мы
предлагали вниманию читателей первый отрывок этого, по-моему, замечательного
романа, в котором прекрасный слог, тонкая наблюдательность автора и
увлекательная интрига сплетались в нечто целое и словно были предназначены
для семейного чтения. Дальше мы поместили статью "Китайцы и окружавшие их
варвары", из которой я, например, узнал много такого, о чем без нее и не
догадался бы полюбопытствовать, затем шел мой "Ловелл-вдовец", о котором не
стоит тут распространяться, за ним - зарисовка из жизни животных, первая,
как я надеялся, в серии познавательных очерков на эту тему, с таблицами и
рисунками, как полагается. Затем мы публиковали статью, посвященную памяти
недавно скончавшегося Ли Ханта, - журнал, вроде нашего, обязан был выступить
с чем-то более глубоким, чем краткий некролог, которых хватало и без
"Корнхилла", кроме того, мы поместили статью о поисках экспедиции сэра Джона
Франклина, написанную одним из спасателей, то был захватывающий
приключенческий рассказ, безупречный, с точки зрения самого требовательного
любителя этого жанра, и в то же время совершенно правдивый - отличная
репортерская работа. Пожалуй, этим материалом я гордился больше всего - он
воплощал мои самые смелые редакторские дерзания. К ней даже прилагался
рисунок: спасательная экспедиция в минуту отплытия из порта Кеннеди (он
должен был прийтись по вкусу ребятишкам - на нем видны были плавучие льдины,
собаки-лайки и отважный корабль с развевающимися флагами на заднем плане), а
также карта, по которой можно было проследить проделанный путь. Номер
завершался стихотворением, которое, как требовал того случай, называлось
"Первое утро 1860 года", и очерком из моих "Разных разностей", в котором я
предавался, как кажется, довольно забавным воспоминаниям. Все было собрано в
редакционную папку и с множеством дурных предчувствий отослано в типографию.
Как видите, мной владели благородные намерения, и я старался все
предусмотреть. Теперь у нас было название, обложка, план публикаций,
остановка была за малым - следовало воплотить все это в жизнь. Я понимал,
что получить те сочинения, которые необходимы для журнала, можно лишь одним
путем: обратиться к авторам, которые, как я знал, способны написать их.
Наверное, в разных уголках Англии скрывались десятки безвестных дарований,
которые, сумей я отыскать их, ничуть не хуже справились бы с задачей, но
сделать это было невозможно. Оставалось надеяться, что они придут к нам
сами, когда мы обретем имя. Как это будет увлекательно! Я, старый дурень,
мечтал о том времени, когда редакция окажется завалена рукописями безвестных
гениев, которых она откроет, поднимет из ничтожества и выведет в широкий
мир, а они, в свою очередь, употребят свои таланты к вящей славе нашего
журнала, но в ожидании этого прекрасного завтра следовало вооружиться пером
и чернилами и разослать просительные письма моим прославленным друзьям. То
было дело щекотливое, требовавшее величайшего такта. Поставьте себя на мое
место: я обращаюсь с просьбой к знаменитому писателю прислать в неведомый
ему журнал свое сочинение, но не желаю себя связывать обещанием напечатать
просимое. Я опасался страшного конфуза: положим, великий Т. пришлет в ответ
стихотворение, а оно мне не понравится или покажется не в духе нашего
журнала, что тогда делать? Отправить назад автору? Хорошенькая получится
история! После такого никто не станет со мной сотрудничать. Поэтому мне
следовало действовать предельно осторожно. Я отослал письма Браунингу,
Карлейлю, Гуду, Лендсиру, Лонгфелло, Теннисону и Троллопу, а также не столь
великим смертным, и просил прислать по доброте, что они смогут, для нашего
журнала, хоть, как я знал, дело тут было не столько в доброте, сколько в
свободном времени. Все они дружно выразили готовность довести "Корнхилл" до
самого недосягаемого уровня, умилили меня ответным рвением и подбодрили
обещанием помощи. Все, у кого нашлись под рукой готовые сочинения, отослали
мне их для публикации, остальные обещали незамедлительно взяться за перо. Я
знал, конечно, что журнал не может делать ставку на великих, однако начать
необходимо было с блистательных имен. Даже самое прекрасное стихотворение
безвестного гения не подняло бы так тираж журнала, как несколько строф
Теннисона, и было глупо закрывать на то глаза. Точно так же я не мог не
понимать, что читатели ждут от главного редактора новых произведений, и,
сколько бы я ни твердил в редакции, что в них нет никакой нужды, пора было
садиться за новый роман - того требовал престиж журнала. Трудно было
придумать менее привлекательный для меня род деятельности, но окружающие
считали, что именно роман с продолжением жизненно важен для судьбы журнала,
поэтому я покорился и написал, борясь с собою, как всегда, "Ловелла-вдовца".
Надо сказать, что время от времени, когда что-нибудь особо привлекало мое
внимание, я садился и набрасывал очерк-другой, в конце концов, получилась
пестрая подборка, не связанная общей мыслью, поэтому я назвал ее "Заметки о
разных разностях". Писать эти очерки было наслаждением, они мне удались, я
угадал в них верный тон, близкий всем читателям. День сдачи в печать первой
журнальной книжки приближался, и я все больше терял покой и сон, - честное
слово, легче дожидаться, пока появится в продаже твой собственный роман: от
этой первой публикации слишком многое зависело. Легко вообразить, сколько
раз я менял материалы, то заменял одно другим, то убавлял, то добавлял
статью или рассказ, так что в конце концов и вовсе перестал понимать, что
хорошо, что плохо, но даже в таком взвинченном состоянии я уповал на роман
Троллопа "Пасторский дом во Фремли", - он должен был нам принести удачу; в
каком бы веке вам ни попалась моя хроника, вам, несомненно, хорошо известно
это имя, которое не потускнеет, пока на свете останутся читатели и книги. Мы
предлагали вниманию читателей первый отрывок этого, по-моему, замечательного
романа, в котором прекрасный слог, тонкая наблюдательность автора и
увлекательная интрига сплетались в нечто целое и словно были предназначены
для семейного чтения. Дальше мы поместили статью "Китайцы и окружавшие их
варвары", из которой я, например, узнал много такого, о чем без нее и не
догадался бы полюбопытствовать, затем шел мой "Ловелл-вдовец", о котором не
стоит тут распространяться, за ним - зарисовка из жизни животных, первая,
как я надеялся, в серии познавательных очерков на эту тему, с таблицами и
рисунками, как полагается. Затем мы публиковали статью, посвященную памяти
недавно скончавшегося Ли Ханта, - журнал, вроде нашего, обязан был выступить
с чем-то более глубоким, чем краткий некролог, которых хватало и без
"Корнхилла", кроме того, мы поместили статью о поисках экспедиции сэра Джона
Франклина, написанную одним из спасателей, то был захватывающий
приключенческий рассказ, безупречный, с точки зрения самого требовательного
любителя этого жанра, и в то же время совершенно правдивый - отличная
репортерская работа. Пожалуй, этим материалом я гордился больше всего - он
воплощал мои самые смелые редакторские дерзания. К ней даже прилагался
рисунок: спасательная экспедиция в минуту отплытия из порта Кеннеди (он
должен был прийтись по вкусу ребятишкам - на нем видны были плавучие льдины,
собаки-лайки и отважный корабль с развевающимися флагами на заднем плане), а
также карта, по которой можно было проследить проделанный путь. Номер
завершался стихотворением, которое, как требовал того случай, называлось
"Первое утро 1860 года", и очерком из моих "Разных разностей", в котором я
предавался, как кажется, довольно забавным воспоминаниям. Все было собрано в
редакционную папку и с множеством дурных предчувствий отослано в типографию.
 Журнал пошел в набор пятнадцатого декабря, к этому дню я просто заболел
от беспокойства. В наше время - возможно, в ваше что-нибудь изменится -
журнал мог безвозвратно прогореть за одни сутки. Джордж Смит был готов
рискнуть один раз, но у него не было средств и далее выпускать убыточное
издание, чтоб дать ему время окрепнуть и набраться сил. Если первая книжка
не разойдется, нам потребуется поощрение и поддержка, чтоб выпустить вторую,
а если мы не получим ни того, ни другого, критики разнесут нас в пух и прах,
и журнал останется лежать на прилавках, мы понятия не имели, что будем
делать дальше. Я не мог выдержать гнетущего напряжения, с которым мы ожидали
решения своей судьбы, и удрал в Париж. Чувствовал я себя словно на скамье
подсудимых: сейчас судья наденет черную шапочку и вынесет обвинительный
приговор... но, может быть, он меня помилует? Пока я жил в гостинице на Рю
де ля Пэ, я взвинтил себя до такой степени, что когда мне подали телеграмму
- а может быть, то было письмо, я уже запамятовал - о том, как распродалась
первая партия журнала, у меня от дурного предчувствия упало сердце, и я
сначала от страха, потом от изумления никак не мог понять, что в ней
написано. Вы знаете, сколько экземпляров разошлось? Такого случая не было в
истории! Нельзя было и помыслить о таком огромном, невероятном,
сногсшибательном успехе - было распродано сто десять тысяч экземпляров! Не
удивительно, что при таком известии я издал крик радости и запрыгал от
восторга. Как раз в эту минуту мой друг Филдс зашел меня проведать, и я
бросился так горячо обнимать его, что он немного испугался, а я подхватил
его под руку и потащил на улицу, чтобы ходьбой несколько утишить
переполнявшее меня возбуждение Мы превосходно пообедали в прекрасном
ресторане и долго кружили по площади перед Пале-Роялем, любуясь
выставленными в витринах драгоценностями; я чувствовал себя, как принц,
вернувшийся домой, который глядит и не может наглядеться на приготовленные
ему богатства. Никогда, ни до, ни после, успех не приходил ко мне так
быстро, и я потерял голову от счастья. Наверное, не следовало выражать свои
чувства откровенно, но я не из тех людей, которые умеют спокойно относиться
к жизни и держать свои новости в секрете: бог ты мой, то было потрясающе, и
мне хотелось, чтоб об этом знал весь свет. Казалось, прохожие на улицах
только и делали, что говорили о новом замечательном журнале, недавно
прибывшем из Лондона: а вот и сам редактор - хотелось крикнуть мне - можете
его поздравить. Как же я проклинал себя за то, что уехал из Лондона, как
было бы хорошо немедля оказаться там, в самой гуще радостных событий вместо
того, чтобы мучиться бессонницей в Париже и, ворочаясь в постели с боку на
бок, пересчитывать вместо овечек подписчиков. Я и сегодня с улыбкой
вспоминаю это благословенное время и свое ничем не сдерживаемое упоение:
было бы несправедливо не радоваться самому большому, единственному и
совершенно неожиданному дару, которым облагодетельствовала меня судьба.
Журнал пошел в набор пятнадцатого декабря, к этому дню я просто заболел
от беспокойства. В наше время - возможно, в ваше что-нибудь изменится -
журнал мог безвозвратно прогореть за одни сутки. Джордж Смит был готов
рискнуть один раз, но у него не было средств и далее выпускать убыточное
издание, чтоб дать ему время окрепнуть и набраться сил. Если первая книжка
не разойдется, нам потребуется поощрение и поддержка, чтоб выпустить вторую,
а если мы не получим ни того, ни другого, критики разнесут нас в пух и прах,
и журнал останется лежать на прилавках, мы понятия не имели, что будем
делать дальше. Я не мог выдержать гнетущего напряжения, с которым мы ожидали
решения своей судьбы, и удрал в Париж. Чувствовал я себя словно на скамье
подсудимых: сейчас судья наденет черную шапочку и вынесет обвинительный
приговор... но, может быть, он меня помилует? Пока я жил в гостинице на Рю
де ля Пэ, я взвинтил себя до такой степени, что когда мне подали телеграмму
- а может быть, то было письмо, я уже запамятовал - о том, как распродалась
первая партия журнала, у меня от дурного предчувствия упало сердце, и я
сначала от страха, потом от изумления никак не мог понять, что в ней
написано. Вы знаете, сколько экземпляров разошлось? Такого случая не было в
истории! Нельзя было и помыслить о таком огромном, невероятном,
сногсшибательном успехе - было распродано сто десять тысяч экземпляров! Не
удивительно, что при таком известии я издал крик радости и запрыгал от
восторга. Как раз в эту минуту мой друг Филдс зашел меня проведать, и я
бросился так горячо обнимать его, что он немного испугался, а я подхватил
его под руку и потащил на улицу, чтобы ходьбой несколько утишить
переполнявшее меня возбуждение Мы превосходно пообедали в прекрасном
ресторане и долго кружили по площади перед Пале-Роялем, любуясь
выставленными в витринах драгоценностями; я чувствовал себя, как принц,
вернувшийся домой, который глядит и не может наглядеться на приготовленные
ему богатства. Никогда, ни до, ни после, успех не приходил ко мне так
быстро, и я потерял голову от счастья. Наверное, не следовало выражать свои
чувства откровенно, но я не из тех людей, которые умеют спокойно относиться
к жизни и держать свои новости в секрете: бог ты мой, то было потрясающе, и
мне хотелось, чтоб об этом знал весь свет. Казалось, прохожие на улицах
только и делали, что говорили о новом замечательном журнале, недавно
прибывшем из Лондона: а вот и сам редактор - хотелось крикнуть мне - можете
его поздравить. Как же я проклинал себя за то, что уехал из Лондона, как
было бы хорошо немедля оказаться там, в самой гуще радостных событий вместо
того, чтобы мучиться бессонницей в Париже и, ворочаясь в постели с боку на
бок, пересчитывать вместо овечек подписчиков. Я и сегодня с улыбкой
вспоминаю это благословенное время и свое ничем не сдерживаемое упоение:
было бы несправедливо не радоваться самому большому, единственному и
совершенно неожиданному дару, которым облагодетельствовала меня судьба.
 Я возвратился в Лондон с величайшей поспешностью, ожидая, что на
тротуарах меня встретят ликующие толпы, но, впрочем, вполне удовлетворился
дождем похвал, которым осыпали меня и друзья, и враги. Казалось, никто не
воздержался от одобрительного слова, со всех сторон только и слышалось, что
первый номер состоит из одних лишь прекрасных публикаций и чересчур хорош,
чтоб последующие номера удержались на том же уровне. Подумайте, брат Маколея
прислал мне письмо, в котором сообщал, что мой очерк в "Корнхилл Мэгэзин"
был тем последним, что великий человек прочел перед смертью и очень лестно
отозвался о нем. С благоговением воспринял я это известие и преисполнился
решимости не посрамить в дальнейшем славное начало своей редакторской
деятельности. Пора было поторапливаться со вторым номером и показать, что мы
способны удержаться на той же высоте, и мы с великой охотой тотчас принялись
за дело. Третья и четвертая книжки журнала последовали примеру первых двух,
и незаметно мы твердо стали на ноги: месячный тираж составил 80 000
экземпляров, что далеко превосходило наши смелые надежды. Надо сказать, что
в материалах для печати я никогда не испытывал нужды, скорей напротив:
поскольку читатели, казалось, любили нас все больше, авторы засыпали нас
рукописями, и тут-то начались мои мучения. Я дал себе слово, что как
редактор буду читать каждую присланную рукопись, но уже к пятому номеру это
превратилось в невыполнимый труд. Если бы мне нужно было бегло пролистать
поступивший опус, чтобы решить, берем мы его или отклоняем, то было бы
полбеды, и я бы справился, но зачастую приходилось отсылать назад вполне
удавшуюся вещь с просьбой кое-что в ней доработать, и, следовательно, мне
приходилось писать автору и объяснять суть поправок, на что уходило не
меньше часа. Таким образом, на меня навалилась обширнейшая переписка с
нашими корреспондентами, на которую у меня попросту не хватало времени. Но к
нам косяками прибывали и всякие другие письма, и я оказался погребен под
ними. Я просто тонул в бумажных сугробах. Мои потуги разобраться, кто что
прислал, и выудить из всего вороха статьи и рассказы превратились в пытку. А
мне ведь нужно было делать свое дело, писать свои собственные сочинения и,
как я ни старался выиграть эту битву - уж очень она была мне по душе, -
одному мне было не управиться.
Те славные денечки и вправду походили на битву. Боролся я с
противником, который мне не нравился, имя ему было Расхожий Вкус. У главного
редактора нет врага более страшного: в какой-то миг он вам является во всей
своей красе, чтоб тут же раствориться в воздухе и в следующий раз предстать
совсем в другом обличье, причем как раз в ту минуту, когда вам вовсе не до
него. Если вы им пренебрегаете, журнал ваш обречен, но если вы ему чрезмерно
потакаете, журнал тоже обречен, только вдобавок вы еще поступаетесь своими
убеждениями. Поскольку я хотел, чтоб "Корнхилл Мэгэзин" отвечал самым
высоким нравственным нормам, мне то и дело приходилось давать бой Расхожему
Вкусу, что зачастую приводило к нелегким объяснениям с самыми неожиданными
людьми.
Вообразите, Энтони Троллоп, тот самый Троллоп, которым я откровенно
восхищался, заставил меня пережить довольно неприятные минуты из-за
несходства наших взглядов. Вот как это случилось. Он представил в редакцию
рассказ "Жена генерала Толлбойса", который я вынужден был отвергнуть из-за
того, что в нем описывалась женщина не вполне безупречного поведения -
имевшая внебрачных детей. Я очень долго колебался, прежде чем заявить ему
свое решение, снова и снова читал и перечитывал рассказ, перебирал мысленно
разные сочинения, вышедшие в последние годы, советовался с знакомыми дамами,
слывшими твердынями добродетели, и, в конце концов, понял, что не могу его
напечатать, хотя во всех прочих отношениях то был образец отличной
беллетристики. Однако раз сама тема неприемлема, считал я, литературные
достоинства рассказа, тонкость и совершенство его разработки не имеют ни
малейшего значения, он все равно не годится для чтения в домашнем кругу, и
больше говорить не о чем. Я с беспокойством ждал, как отнесется Троллоп к
моему приговору; он встретил новость без гнева и обиды, зато стал горячо
отстаивать свою позицию, даже обвинил меня в непоследовательности и
подтасовке, ибо подобные коллизии, говорил он, можно найти и в моих
писаниях, правда, тщательно завуалированные. Он уверял, что нет ни одного
английского писателя, не исключая признанного всеми Диккенса, который
обходится без этих тем; Троллоп подстрекал меня обосновать мою точку зрения.
Я, правда, не принял его вызова, хотя подобный обмен мнениями, наверное,
очень бы украсил наш журнал, но про себя я еще долго думал над нашим спором.
Я вдруг со страхом осознал, что прикрываю нездоровое положение вещей и,
скорее всего, напрасно это делаю. Должны ли писатели касаться всех жизненных
тем, даже самых личных и непристойных? Должны ли читатели читать об этом в
книгах? А если не должны, то нет ли ханжества в таком запрете? Я как
писатель не мог ответить на все эти вопросы однозначно, но как редактор
чувствовал себя гораздо тверже: то, что я печатаю, влияет на умонастроение
очень многих женщин и детей, и пока мне не докажут обратного, я буду
придерживаться той точки зрения, что мой журнал не должен касаться тем,
которых избегают в порядочных домах.
Как видите, я весьма серьезно относился к своим обязанностям и с
чувством какого-то яростного достоинства оберегал свое детище от всех
возможных покушений. Однако в некоторых кругах мне это не снискало славы.
Сей мир - завистливое место, и с самого появления журнала в клеветниках у
меня не было недостатка, хотя все, чьим мнением я дорожил, не скупились на
похвалы. Вы полагали, как и я, что больше вам не придется встречаться с
Эдмундом Йейтсом, но, как ни неприятно, придется мне вернуться к этому
субъекту. В "Нью-Йорк тайме" от 26 мая появилась статейка, озаглавленная
"Эхо лондонских клубов", в которой Йейтс высмеивал "Корнхилл". Хоть он и не
мог, как бы ему того ни хотелось, отрицать огромного успеха журнала, он
утверждал, что с каждым номером он распродается все хуже и что доходы я
будто бы трачу на многолюдные приемы, где привожу в смущение своих далеких
от литературы гостей, издеваясь над их невежеством. Эту клевету подхватили и
другие газеты и журналы, а в "Сатердей Ревью" ее даже перепечатали якобы как
пример безнравственности американской журналистики. Я вновь был обречен на
бессонные ночи и мучительные размышления, как ответить Йейтсу. Оставить без
внимания? Нет, невозможно. Обрушиться с встречной атакой? Привлечь к суду?
Повод слишком мелок, да и все равно ничего не вышло бы. Потребовать
извинений? Напрасный труд. Однако нужно было что-то предпринять, какой-то
шаг, только какой? Раздувая из чувства мести подобную историю, можно лишь
усугубить ее, заткнуть рот сплетне много трудней, чем выпустить ее на свет,
здесь нужно было проявить особое искусство. В конце концов, после долгих
размышлений я выбрал, кажется, достойный ход и напечатал фельетон "О ширмах
в гостиных", где впечатляюще описывал приемы, с помощью которых Йейтс
добывал и потом коверкал сведения для своего пасквиля. Возможно, то было не
слишком удачное решение, но все же лучше, чем бесконечная распря в
"Гаррик-клубе".
По зрелом размышлении я рассудил, что выпад Йейтса лишь неизбежное
следствие моего редакторства, и это помогло мне спокойно перенести удар.
Другой поклеп задел меня куда больнее, то был настоящий удар ниже пояса, из
тех, что даже человеку, занимающему редакторское кресло, получать не
обязательно. Наветы Йейтса на сей раз были чистейшей белибердой; но когда
редактора "Корнхилла" упрекают в том, что он публикует сочинения своей
дочери из родственных соображений, это уже переходит всякие границы. В
майской книжке журнала за 1860 год был напечатан очерк Анни "Маленькие
грамотеи", который она в обычном порядке представила на рассмотрение
редакции. Если вы его прочтете, вы убедитесь, какая это прекрасная, свежо
написанная проза, вполне достойная страниц нашего журнала. И то, что Анни
моя дочь, никак не повлияло на мое решение печатать ее рассказ, неужели было
бы справедливее отвергнуть его лишь потому, что она дочь главного редактора?
По-моему, работу следует судить на основании присущих ей достоинств и
недостатков, и ничего иного. У Анни сильное и даровитое перо, не знаю,
почему я должен лишать ее возможности печататься в "Корнхилле" и
предоставить право пожинать плоды ее таланта какому-то другому изданию. Но
мои враги судили иначе. И когда два года спустя, иначе говоря, в минувшем
году она опубликовала свой первый роман "Историю Элизабет", они
воспользовались этим как предлогом, чтоб напуститься на меня: и ей, и мне,
конечно, было очень больно. Не знаю, достанет ли у меня сил живописать это
происшествие, когда я дойду до него в хронологическом порядке, поэтому
признаюсь вам сейчас, что сам я не читал романа дочери - мне было страшно
заглянуть в ее доверчиво распахнутую душу, но наши общие друзья сказали мне,
что он ей удался, а град упреков, которые обрушили на него критики,
предназначался, на самом деле, мне и продиктован был не чем иным, как
злобой. По-моему, такая тактика не имеет оправдания: ранить одного, чтоб
уязвить другого. Сам я готов перенести любой обстрел, любой разнос в печати,
но только не это. Никакие громы и молнии не заставят меня и бровью повести,
к тому же, как мне известно, из них всегда можно извлечь рациональное зерно,
но я не в силах вынести, когда критическое жало впивается в мою Анни. Разве
я возражал, когда однажды получил письмо, в котором анонимный автор громил
меня за то, что я сочиняю поделки (он имел в виду очередной многочастный
роман "Приключения Филиппа", который я писал для "Корнхилла")? Мой аноним
сообщал мне, что я в последнее время исписался, и, если не сумею справиться
с начавшимся распадом личности, лучше мне навсегда отложить перо и
похоронить себя как писателя. Не думаете ли вы, дражайший, что я не сознаю
правдивости ваших слов? Не полагаете ли вы, что автор может не заметить
своего, как вы изволили тактично выразиться, "распада", не сознает, что силы
его слабеют? Да он об этом знает самый первый, знает и мучается страхом, но
ничего не может изменить. Так что Йейтс и его присные могут высказываться,
как им заблагорассудится, я лишь безмолвно склоню голову, стисну зубы и с
кровоточащим сердцем перенесу удары их бича, но когда они на моих глазах
вонзают стрелы в мою дочь, это невыносимо и не пройдет им безнаказанно.
Я возвратился в Лондон с величайшей поспешностью, ожидая, что на
тротуарах меня встретят ликующие толпы, но, впрочем, вполне удовлетворился
дождем похвал, которым осыпали меня и друзья, и враги. Казалось, никто не
воздержался от одобрительного слова, со всех сторон только и слышалось, что
первый номер состоит из одних лишь прекрасных публикаций и чересчур хорош,
чтоб последующие номера удержались на том же уровне. Подумайте, брат Маколея
прислал мне письмо, в котором сообщал, что мой очерк в "Корнхилл Мэгэзин"
был тем последним, что великий человек прочел перед смертью и очень лестно
отозвался о нем. С благоговением воспринял я это известие и преисполнился
решимости не посрамить в дальнейшем славное начало своей редакторской
деятельности. Пора было поторапливаться со вторым номером и показать, что мы
способны удержаться на той же высоте, и мы с великой охотой тотчас принялись
за дело. Третья и четвертая книжки журнала последовали примеру первых двух,
и незаметно мы твердо стали на ноги: месячный тираж составил 80 000
экземпляров, что далеко превосходило наши смелые надежды. Надо сказать, что
в материалах для печати я никогда не испытывал нужды, скорей напротив:
поскольку читатели, казалось, любили нас все больше, авторы засыпали нас
рукописями, и тут-то начались мои мучения. Я дал себе слово, что как
редактор буду читать каждую присланную рукопись, но уже к пятому номеру это
превратилось в невыполнимый труд. Если бы мне нужно было бегло пролистать
поступивший опус, чтобы решить, берем мы его или отклоняем, то было бы
полбеды, и я бы справился, но зачастую приходилось отсылать назад вполне
удавшуюся вещь с просьбой кое-что в ней доработать, и, следовательно, мне
приходилось писать автору и объяснять суть поправок, на что уходило не
меньше часа. Таким образом, на меня навалилась обширнейшая переписка с
нашими корреспондентами, на которую у меня попросту не хватало времени. Но к
нам косяками прибывали и всякие другие письма, и я оказался погребен под
ними. Я просто тонул в бумажных сугробах. Мои потуги разобраться, кто что
прислал, и выудить из всего вороха статьи и рассказы превратились в пытку. А
мне ведь нужно было делать свое дело, писать свои собственные сочинения и,
как я ни старался выиграть эту битву - уж очень она была мне по душе, -
одному мне было не управиться.
Те славные денечки и вправду походили на битву. Боролся я с
противником, который мне не нравился, имя ему было Расхожий Вкус. У главного
редактора нет врага более страшного: в какой-то миг он вам является во всей
своей красе, чтоб тут же раствориться в воздухе и в следующий раз предстать
совсем в другом обличье, причем как раз в ту минуту, когда вам вовсе не до
него. Если вы им пренебрегаете, журнал ваш обречен, но если вы ему чрезмерно
потакаете, журнал тоже обречен, только вдобавок вы еще поступаетесь своими
убеждениями. Поскольку я хотел, чтоб "Корнхилл Мэгэзин" отвечал самым
высоким нравственным нормам, мне то и дело приходилось давать бой Расхожему
Вкусу, что зачастую приводило к нелегким объяснениям с самыми неожиданными
людьми.
Вообразите, Энтони Троллоп, тот самый Троллоп, которым я откровенно
восхищался, заставил меня пережить довольно неприятные минуты из-за
несходства наших взглядов. Вот как это случилось. Он представил в редакцию
рассказ "Жена генерала Толлбойса", который я вынужден был отвергнуть из-за
того, что в нем описывалась женщина не вполне безупречного поведения -
имевшая внебрачных детей. Я очень долго колебался, прежде чем заявить ему
свое решение, снова и снова читал и перечитывал рассказ, перебирал мысленно
разные сочинения, вышедшие в последние годы, советовался с знакомыми дамами,
слывшими твердынями добродетели, и, в конце концов, понял, что не могу его
напечатать, хотя во всех прочих отношениях то был образец отличной
беллетристики. Однако раз сама тема неприемлема, считал я, литературные
достоинства рассказа, тонкость и совершенство его разработки не имеют ни
малейшего значения, он все равно не годится для чтения в домашнем кругу, и
больше говорить не о чем. Я с беспокойством ждал, как отнесется Троллоп к
моему приговору; он встретил новость без гнева и обиды, зато стал горячо
отстаивать свою позицию, даже обвинил меня в непоследовательности и
подтасовке, ибо подобные коллизии, говорил он, можно найти и в моих
писаниях, правда, тщательно завуалированные. Он уверял, что нет ни одного
английского писателя, не исключая признанного всеми Диккенса, который
обходится без этих тем; Троллоп подстрекал меня обосновать мою точку зрения.
Я, правда, не принял его вызова, хотя подобный обмен мнениями, наверное,
очень бы украсил наш журнал, но про себя я еще долго думал над нашим спором.
Я вдруг со страхом осознал, что прикрываю нездоровое положение вещей и,
скорее всего, напрасно это делаю. Должны ли писатели касаться всех жизненных
тем, даже самых личных и непристойных? Должны ли читатели читать об этом в
книгах? А если не должны, то нет ли ханжества в таком запрете? Я как
писатель не мог ответить на все эти вопросы однозначно, но как редактор
чувствовал себя гораздо тверже: то, что я печатаю, влияет на умонастроение
очень многих женщин и детей, и пока мне не докажут обратного, я буду
придерживаться той точки зрения, что мой журнал не должен касаться тем,
которых избегают в порядочных домах.
Как видите, я весьма серьезно относился к своим обязанностям и с
чувством какого-то яростного достоинства оберегал свое детище от всех
возможных покушений. Однако в некоторых кругах мне это не снискало славы.
Сей мир - завистливое место, и с самого появления журнала в клеветниках у
меня не было недостатка, хотя все, чьим мнением я дорожил, не скупились на
похвалы. Вы полагали, как и я, что больше вам не придется встречаться с
Эдмундом Йейтсом, но, как ни неприятно, придется мне вернуться к этому
субъекту. В "Нью-Йорк тайме" от 26 мая появилась статейка, озаглавленная
"Эхо лондонских клубов", в которой Йейтс высмеивал "Корнхилл". Хоть он и не
мог, как бы ему того ни хотелось, отрицать огромного успеха журнала, он
утверждал, что с каждым номером он распродается все хуже и что доходы я
будто бы трачу на многолюдные приемы, где привожу в смущение своих далеких
от литературы гостей, издеваясь над их невежеством. Эту клевету подхватили и
другие газеты и журналы, а в "Сатердей Ревью" ее даже перепечатали якобы как
пример безнравственности американской журналистики. Я вновь был обречен на
бессонные ночи и мучительные размышления, как ответить Йейтсу. Оставить без
внимания? Нет, невозможно. Обрушиться с встречной атакой? Привлечь к суду?
Повод слишком мелок, да и все равно ничего не вышло бы. Потребовать
извинений? Напрасный труд. Однако нужно было что-то предпринять, какой-то
шаг, только какой? Раздувая из чувства мести подобную историю, можно лишь
усугубить ее, заткнуть рот сплетне много трудней, чем выпустить ее на свет,
здесь нужно было проявить особое искусство. В конце концов, после долгих
размышлений я выбрал, кажется, достойный ход и напечатал фельетон "О ширмах
в гостиных", где впечатляюще описывал приемы, с помощью которых Йейтс
добывал и потом коверкал сведения для своего пасквиля. Возможно, то было не
слишком удачное решение, но все же лучше, чем бесконечная распря в
"Гаррик-клубе".
По зрелом размышлении я рассудил, что выпад Йейтса лишь неизбежное
следствие моего редакторства, и это помогло мне спокойно перенести удар.
Другой поклеп задел меня куда больнее, то был настоящий удар ниже пояса, из
тех, что даже человеку, занимающему редакторское кресло, получать не
обязательно. Наветы Йейтса на сей раз были чистейшей белибердой; но когда
редактора "Корнхилла" упрекают в том, что он публикует сочинения своей
дочери из родственных соображений, это уже переходит всякие границы. В
майской книжке журнала за 1860 год был напечатан очерк Анни "Маленькие
грамотеи", который она в обычном порядке представила на рассмотрение
редакции. Если вы его прочтете, вы убедитесь, какая это прекрасная, свежо
написанная проза, вполне достойная страниц нашего журнала. И то, что Анни
моя дочь, никак не повлияло на мое решение печатать ее рассказ, неужели было
бы справедливее отвергнуть его лишь потому, что она дочь главного редактора?
По-моему, работу следует судить на основании присущих ей достоинств и
недостатков, и ничего иного. У Анни сильное и даровитое перо, не знаю,
почему я должен лишать ее возможности печататься в "Корнхилле" и
предоставить право пожинать плоды ее таланта какому-то другому изданию. Но
мои враги судили иначе. И когда два года спустя, иначе говоря, в минувшем
году она опубликовала свой первый роман "Историю Элизабет", они
воспользовались этим как предлогом, чтоб напуститься на меня: и ей, и мне,
конечно, было очень больно. Не знаю, достанет ли у меня сил живописать это
происшествие, когда я дойду до него в хронологическом порядке, поэтому
признаюсь вам сейчас, что сам я не читал романа дочери - мне было страшно
заглянуть в ее доверчиво распахнутую душу, но наши общие друзья сказали мне,
что он ей удался, а град упреков, которые обрушили на него критики,
предназначался, на самом деле, мне и продиктован был не чем иным, как
злобой. По-моему, такая тактика не имеет оправдания: ранить одного, чтоб
уязвить другого. Сам я готов перенести любой обстрел, любой разнос в печати,
но только не это. Никакие громы и молнии не заставят меня и бровью повести,
к тому же, как мне известно, из них всегда можно извлечь рациональное зерно,
но я не в силах вынести, когда критическое жало впивается в мою Анни. Разве
я возражал, когда однажды получил письмо, в котором анонимный автор громил
меня за то, что я сочиняю поделки (он имел в виду очередной многочастный
роман "Приключения Филиппа", который я писал для "Корнхилла")? Мой аноним
сообщал мне, что я в последнее время исписался, и, если не сумею справиться
с начавшимся распадом личности, лучше мне навсегда отложить перо и
похоронить себя как писателя. Не думаете ли вы, дражайший, что я не сознаю
правдивости ваших слов? Не полагаете ли вы, что автор может не заметить
своего, как вы изволили тактично выразиться, "распада", не сознает, что силы
его слабеют? Да он об этом знает самый первый, знает и мучается страхом, но
ничего не может изменить. Так что Йейтс и его присные могут высказываться,
как им заблагорассудится, я лишь безмолвно склоню голову, стисну зубы и с
кровоточащим сердцем перенесу удары их бича, но когда они на моих глазах
вонзают стрелы в мою дочь, это невыносимо и не пройдет им безнаказанно.
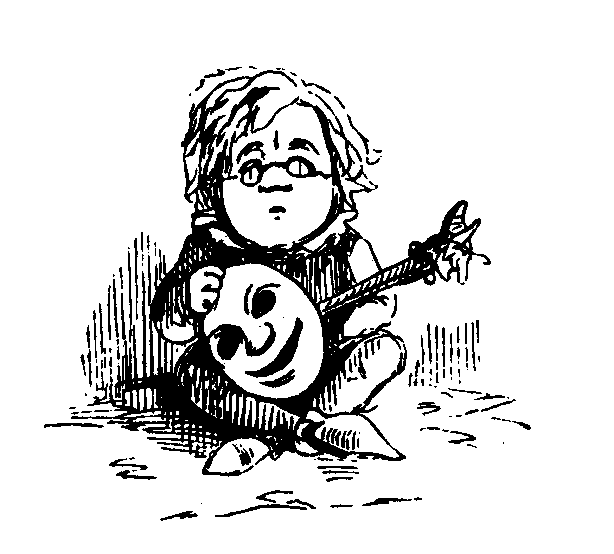 Простите, что я отвлекся на все эти мелкие бесчинства критики, но мне
так или иначе пора кончать эту главу. Оставьте меня в ней - по горло
заваленного работой и обезумевшего от спешки, но очень скоро, как вы
увидите, я наведу порядок в своей жизни и убавлю шаг.
^T23^U
^TПэлас-Грин э 2 - причуда героя^U
В марте 1862 года после долгих сомнений и колебаний я сложил с себя
обязанности главного редактора моего любимого "Корнхилла". На память мне
осталась желтая страничка, с которой вышел тогда номер, - уведомление
читателям о моем решении удалиться на покой, но перечитывая ее сегодня, год
спустя, я вижу, что отговорился тогда полуправдой. Правда же заключалась в
том, что все стало выскальзывать у меня из рук, все, не только журнал, но и
мои собственные писания, и более того - вся жизнь. Мной постоянно владело
мучительное чувство, будто я несусь вперед сквозь время на страшной скорости
и без малейшей надежды задержаться: от калейдоскопа дел все плыло перед
глазами, от кутерьмы мутилось в голове. Как быстро деятельное возбуждение
перешло в панику. Куда девалось чувство удовольствия? Случались дни, когда
гора скопившейся работы приводила меня в ужас, да-да, самый непритворный
ужас: не понимая, где я и что делаю, я брел, как одурманенный, сквозь мглу
решений и распоряжений, мечтая о привале. Для человека, перешагнувшего за
пятьдесят и растерявшего здоровье, то был неподходящий образ жизни. Пора
было его менять. Возможно, отказавшись от редакторства и бережно расходуя
силы, думалось мне, я буду лучше справляться с жизнью.
С журналом я расстался сравнительно легко. Честолюбие мое было
удовлетворено, корабль был спущен на воду, долго держался на плаву, шел на
хорошей скорости и, кажется, терять ее не собирался. На всем в журнале
чувствовалась моя рука, и, вспоминая двадцать с лишним номеров, которые я
успел выпустить, я не могу не поздравить себя с тем, что выдержал марку, а
главное - не допустил однообразия. Не стану выделять какую-нибудь одну
публикацию в ущерб всем прочим, скажу только, что мы печатали стихи Элизабет
Барретт Браунинг и Мэтью Арнолда, статьи выдающихся философов и ученых, чьи
имена вам ничего не скажут, ибо гремели лишь в своем кругу, но вы и без того
поймете, что мое обещание не только развлекать, но и просвещать не было
пустым бахвальством. Каждую журнальную книжку можно было читать и
перечитывать целый месяц, ибо она заслуживала вдумчивого отношения, и,
надеюсь, наши подписчики так и поступали. Завистники твердили, будто наши
статьи об электрическом телеграфе и о физиологии чересчур заумны, а в
таблицах вредных веществ, найденных в недоброкачественных продуктах питания,
никто не может разобраться, равно как и в критике оборонительных сооружений
Лондона, но я не верю их наветам, ибо тираж свидетельствует против них. Я
убежден, что никогда не следует подстраиваться под читателя, и если пишешь
ясно и понятно, содержание может быть сколь угодно сложным и касаться самых
редких и узко специальных тем: читатель стремится вникнуть в интересную
статью, а вникнув, с удивлением и радостью замечает, что сделал шаг вперед в
своем развитии. Дети же могут усвоить все, что угодно, их ум так гибок,
нужно только направлять его.
Простите, что я отвлекся на все эти мелкие бесчинства критики, но мне
так или иначе пора кончать эту главу. Оставьте меня в ней - по горло
заваленного работой и обезумевшего от спешки, но очень скоро, как вы
увидите, я наведу порядок в своей жизни и убавлю шаг.
^T23^U
^TПэлас-Грин э 2 - причуда героя^U
В марте 1862 года после долгих сомнений и колебаний я сложил с себя
обязанности главного редактора моего любимого "Корнхилла". На память мне
осталась желтая страничка, с которой вышел тогда номер, - уведомление
читателям о моем решении удалиться на покой, но перечитывая ее сегодня, год
спустя, я вижу, что отговорился тогда полуправдой. Правда же заключалась в
том, что все стало выскальзывать у меня из рук, все, не только журнал, но и
мои собственные писания, и более того - вся жизнь. Мной постоянно владело
мучительное чувство, будто я несусь вперед сквозь время на страшной скорости
и без малейшей надежды задержаться: от калейдоскопа дел все плыло перед
глазами, от кутерьмы мутилось в голове. Как быстро деятельное возбуждение
перешло в панику. Куда девалось чувство удовольствия? Случались дни, когда
гора скопившейся работы приводила меня в ужас, да-да, самый непритворный
ужас: не понимая, где я и что делаю, я брел, как одурманенный, сквозь мглу
решений и распоряжений, мечтая о привале. Для человека, перешагнувшего за
пятьдесят и растерявшего здоровье, то был неподходящий образ жизни. Пора
было его менять. Возможно, отказавшись от редакторства и бережно расходуя
силы, думалось мне, я буду лучше справляться с жизнью.
С журналом я расстался сравнительно легко. Честолюбие мое было
удовлетворено, корабль был спущен на воду, долго держался на плаву, шел на
хорошей скорости и, кажется, терять ее не собирался. На всем в журнале
чувствовалась моя рука, и, вспоминая двадцать с лишним номеров, которые я
успел выпустить, я не могу не поздравить себя с тем, что выдержал марку, а
главное - не допустил однообразия. Не стану выделять какую-нибудь одну
публикацию в ущерб всем прочим, скажу только, что мы печатали стихи Элизабет
Барретт Браунинг и Мэтью Арнолда, статьи выдающихся философов и ученых, чьи
имена вам ничего не скажут, ибо гремели лишь в своем кругу, но вы и без того
поймете, что мое обещание не только развлекать, но и просвещать не было
пустым бахвальством. Каждую журнальную книжку можно было читать и
перечитывать целый месяц, ибо она заслуживала вдумчивого отношения, и,
надеюсь, наши подписчики так и поступали. Завистники твердили, будто наши
статьи об электрическом телеграфе и о физиологии чересчур заумны, а в
таблицах вредных веществ, найденных в недоброкачественных продуктах питания,
никто не может разобраться, равно как и в критике оборонительных сооружений
Лондона, но я не верю их наветам, ибо тираж свидетельствует против них. Я
убежден, что никогда не следует подстраиваться под читателя, и если пишешь
ясно и понятно, содержание может быть сколь угодно сложным и касаться самых
редких и узко специальных тем: читатель стремится вникнуть в интересную
статью, а вникнув, с удивлением и радостью замечает, что сделал шаг вперед в
своем развитии. Дети же могут усвоить все, что угодно, их ум так гибок,
нужно только направлять его.
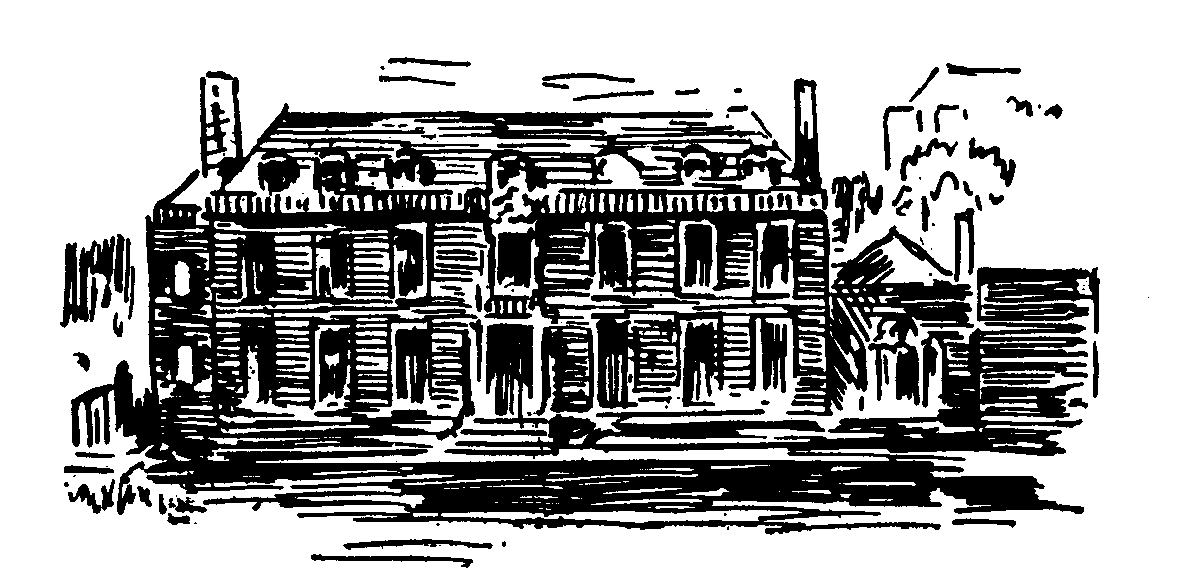 Из вышесказанного вы, наверное, видите, как я радовался успеху
"Корнхилла" и как мне было больно примириться с мыслью, что наши пути
расходятся, по крайней мере, на ближайшие годы, но скажу вам по секрету,
разлука далась мне без великих драм. Причина же была проста: я завел себе
новую забаву -купил дом и занялся его устройством. Отправитесь ли вы со мной
полюбоваться моим сокровищем и порадоваться за меня?
Впрочем, в одном я отклонился тут от истины: в моей покупке не было
ничего простого, и возвести хоромы, в которых я пишу сейчас повесть своей
жизни, было отнюдь не просто. Еще в мае 1860 года, когда я начал ощущать,
что вряд ли задержусь надолго в "Корнхилле", я купил в Кенсингтоне на
Пэлас-Грин э 2 старый дом, который мечтал восстановить во всем
первоначальном блеске, но когда выяснилось, что ремонтом ограничиться
нельзя, решил снести его и возвести на том же месте новое здание. Такой
поворот событий навлек на мою голову множество сложностей и трудностей:
последовали затяжные переговоры с архитектором, бесконечные споры со
строителями, потребовались сотни всяческих решений, которых с меня
спрашивали чуть не ежедневно. Как видите, затея была вовсе не простой, тем
более что никаких готовых смет, планов, чертежей под рукой не оказалось.
Поэтому пришлось мне самому вникать в каждую линию архитектурного проекта,
иначе, как я знал по опыту, ровно в том месте, где мне мыслилось открытое
пространство, в один прекрасный день мне выстроили бы высокую кирпичную
стену. Каждая мелочь требовала моего надзора и личного участия, и дело
поэтому продвигалось медленно, но я поставил на карту слишком многое (разве
я не мечтал, что мое новое жилище будет образцом изящества, достоинства и
красоты?), чтобы передоверить строительство другим. Я столько лет прозябал
на улице Янг и в Бромптоне и больше не желал отказывать себе в поблажке. По
правде говоря, мой новый дом и был такой поблажкой, огромной поблажкой
самому себе. Наверное, можно не упоминать, что расходы оказались
чудовищными.
На строительство ушло два года. Мы переехали лишь в марте 1862 года -
как раз в то время я распростился с "Корнхиллом", - но и тогда оставались
кое-какие недоделки. Если мой дом стоит еще на Пэлас-Грин - при мысли, что в
ваши дни его, быть может, уже нет, мне делается как-то не по себе - сходите
на него взглянуть, прошу вас. Уверяю вас, он того заслуживает. Мой старый
дядюшка, не отпустивший во всю жизнь ни единой остроты, приехал осмотреть
дом по окончании работ, хмыкнул и заявил, что ему бы следовало прозываться
"Домом ярмарки тщеславия" - такая картина расточительства являлась взору. Не
думайте, будто дядюшка Кармайкл имел в виду доходы от романа, нет, намекал
он на иное - хотя все деньги на постройку я и в самом деле заработал пером.
Впрочем, неважно, я их заработал, я их и потратил, но я и впрямь люблю
красивые дома, роскошное убранство, люблю и не стану притворяться, будто это
не так.
Надеюсь, вы не увидите в моих словах преувеличения, но на мой взгляд,
обставить дом в хорошем вкусе от начала до конца - примерно то же самое, что
написать роман или картину - большое многофигурное полотно, по крайней мере,
для меня это соизмеримые усилия. Наверное, вы бы стали потешаться, пустись я
обсуждать сейчас достоинства эксминстерских ковров, брюссельских кружев,
гобеленов с охотничьими сценами и тому подобного, но если вам случится
поглядеть на мой стол орехового дерева в стиле Людовика XV (возможно, он и
сейчас стоит в каком-нибудь известном доме, советую вам туда отправиться,
скажете, что пришли по моему поручению), тогда вы и сами ощутите, как от
одного его вида теплеет на душе. А заодно коснитесь клавишей моего
"Бродвуда", бросьте взгляд на шкафчики с фарфором, наверное, там все
выставлено: Споуд, Минтон, краун-дерби, дрезденские статуэтки - а после
посидите в мягком кресле и пусть вам подадут портвейн марки "Крофт" или
"Уайт". И я ничуть не удивлюсь, если вы заразитесь под конец моим
пристрастием к изящному.
Из вышесказанного вы, наверное, видите, как я радовался успеху
"Корнхилла" и как мне было больно примириться с мыслью, что наши пути
расходятся, по крайней мере, на ближайшие годы, но скажу вам по секрету,
разлука далась мне без великих драм. Причина же была проста: я завел себе
новую забаву -купил дом и занялся его устройством. Отправитесь ли вы со мной
полюбоваться моим сокровищем и порадоваться за меня?
Впрочем, в одном я отклонился тут от истины: в моей покупке не было
ничего простого, и возвести хоромы, в которых я пишу сейчас повесть своей
жизни, было отнюдь не просто. Еще в мае 1860 года, когда я начал ощущать,
что вряд ли задержусь надолго в "Корнхилле", я купил в Кенсингтоне на
Пэлас-Грин э 2 старый дом, который мечтал восстановить во всем
первоначальном блеске, но когда выяснилось, что ремонтом ограничиться
нельзя, решил снести его и возвести на том же месте новое здание. Такой
поворот событий навлек на мою голову множество сложностей и трудностей:
последовали затяжные переговоры с архитектором, бесконечные споры со
строителями, потребовались сотни всяческих решений, которых с меня
спрашивали чуть не ежедневно. Как видите, затея была вовсе не простой, тем
более что никаких готовых смет, планов, чертежей под рукой не оказалось.
Поэтому пришлось мне самому вникать в каждую линию архитектурного проекта,
иначе, как я знал по опыту, ровно в том месте, где мне мыслилось открытое
пространство, в один прекрасный день мне выстроили бы высокую кирпичную
стену. Каждая мелочь требовала моего надзора и личного участия, и дело
поэтому продвигалось медленно, но я поставил на карту слишком многое (разве
я не мечтал, что мое новое жилище будет образцом изящества, достоинства и
красоты?), чтобы передоверить строительство другим. Я столько лет прозябал
на улице Янг и в Бромптоне и больше не желал отказывать себе в поблажке. По
правде говоря, мой новый дом и был такой поблажкой, огромной поблажкой
самому себе. Наверное, можно не упоминать, что расходы оказались
чудовищными.
На строительство ушло два года. Мы переехали лишь в марте 1862 года -
как раз в то время я распростился с "Корнхиллом", - но и тогда оставались
кое-какие недоделки. Если мой дом стоит еще на Пэлас-Грин - при мысли, что в
ваши дни его, быть может, уже нет, мне делается как-то не по себе - сходите
на него взглянуть, прошу вас. Уверяю вас, он того заслуживает. Мой старый
дядюшка, не отпустивший во всю жизнь ни единой остроты, приехал осмотреть
дом по окончании работ, хмыкнул и заявил, что ему бы следовало прозываться
"Домом ярмарки тщеславия" - такая картина расточительства являлась взору. Не
думайте, будто дядюшка Кармайкл имел в виду доходы от романа, нет, намекал
он на иное - хотя все деньги на постройку я и в самом деле заработал пером.
Впрочем, неважно, я их заработал, я их и потратил, но я и впрямь люблю
красивые дома, роскошное убранство, люблю и не стану притворяться, будто это
не так.
Надеюсь, вы не увидите в моих словах преувеличения, но на мой взгляд,
обставить дом в хорошем вкусе от начала до конца - примерно то же самое, что
написать роман или картину - большое многофигурное полотно, по крайней мере,
для меня это соизмеримые усилия. Наверное, вы бы стали потешаться, пустись я
обсуждать сейчас достоинства эксминстерских ковров, брюссельских кружев,
гобеленов с охотничьими сценами и тому подобного, но если вам случится
поглядеть на мой стол орехового дерева в стиле Людовика XV (возможно, он и
сейчас стоит в каком-нибудь известном доме, советую вам туда отправиться,
скажете, что пришли по моему поручению), тогда вы и сами ощутите, как от
одного его вида теплеет на душе. А заодно коснитесь клавишей моего
"Бродвуда", бросьте взгляд на шкафчики с фарфором, наверное, там все
выставлено: Споуд, Минтон, краун-дерби, дрезденские статуэтки - а после
посидите в мягком кресле и пусть вам подадут портвейн марки "Крофт" или
"Уайт". И я ничуть не удивлюсь, если вы заразитесь под конец моим
пристрастием к изящному.
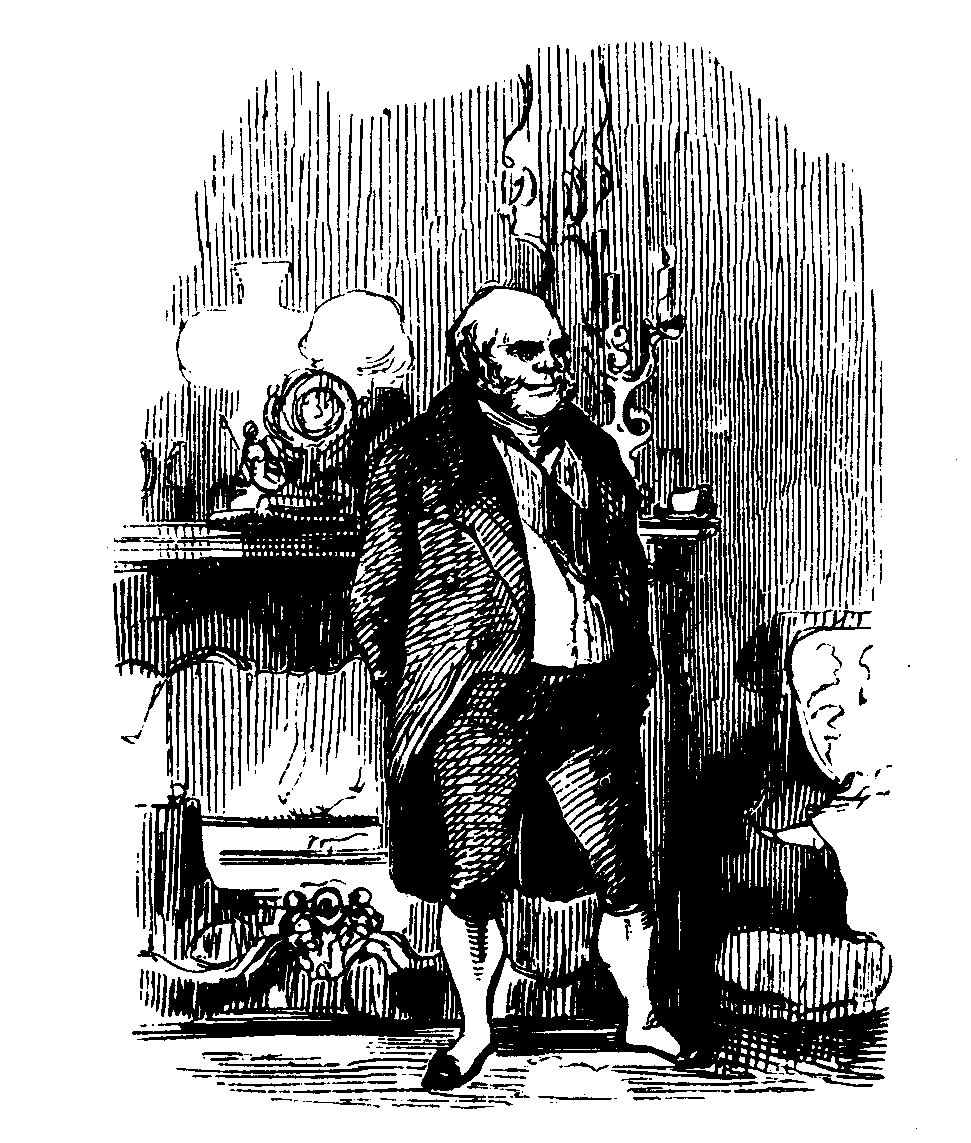 Радостей у меня осталось немного, и дом на Пэлас-Грин - самая большая
моя радость. Я не разбрасывался на дешевку, не покупал крикливую безвкусицу,
а отбирал предметы замечательные в своем роде, настоящие сокровища, и, что
бы вы обо мне ни подумали, горжусь делом своих рук. Всех новых посетителей я
вожу по дому, показываю каждый предмет обстановки, каждую вещицу,
рассказываю ее историю, и им, должно быть, кажется, что я стал заноситься,
но я в ответ помалкиваю, как ни далеки они от истины. Роскошные дома,
роскошное убранство - когда жизнь прожита, все это ничего не значит, не
думайте, что мне это неведомо, но пока я жив, мой дом мне доставляет
удовольствие, и я не вижу в том греха. Мне будет удобно здесь писать ту
самую историческую книгу о временах королевы Анны, которой, боюсь, я
прожужжал вам уши; в свое время хорошо было срываться из дому, удирать
куда-нибудь в Ричмонд или Гринвич и строчить там роман в очередной
гостинице, но, честно говоря, я давно так не работаю, да и в чужом месте
нельзя было бы сосредоточиться и написать ту основательную книгу, какую я
задумал. Обстановка моего кабинета, глядящего окнами на старинный дворец и
лужайку с могучими вязами, гораздо лучше поможет мне настроиться на нужный
лад и перенестись в минувшее столетие. Я, правда, не приступил еще к работе,
но неизменно о ней думаю, как только оказываюсь в кабинете.
Радостей у меня осталось немного, и дом на Пэлас-Грин - самая большая
моя радость. Я не разбрасывался на дешевку, не покупал крикливую безвкусицу,
а отбирал предметы замечательные в своем роде, настоящие сокровища, и, что
бы вы обо мне ни подумали, горжусь делом своих рук. Всех новых посетителей я
вожу по дому, показываю каждый предмет обстановки, каждую вещицу,
рассказываю ее историю, и им, должно быть, кажется, что я стал заноситься,
но я в ответ помалкиваю, как ни далеки они от истины. Роскошные дома,
роскошное убранство - когда жизнь прожита, все это ничего не значит, не
думайте, что мне это неведомо, но пока я жив, мой дом мне доставляет
удовольствие, и я не вижу в том греха. Мне будет удобно здесь писать ту
самую историческую книгу о временах королевы Анны, которой, боюсь, я
прожужжал вам уши; в свое время хорошо было срываться из дому, удирать
куда-нибудь в Ричмонд или Гринвич и строчить там роман в очередной
гостинице, но, честно говоря, я давно так не работаю, да и в чужом месте
нельзя было бы сосредоточиться и написать ту основательную книгу, какую я
задумал. Обстановка моего кабинета, глядящего окнами на старинный дворец и
лужайку с могучими вязами, гораздо лучше поможет мне настроиться на нужный
лад и перенестись в минувшее столетие. Я, правда, не приступил еще к работе,
но неизменно о ней думаю, как только оказываюсь в кабинете.
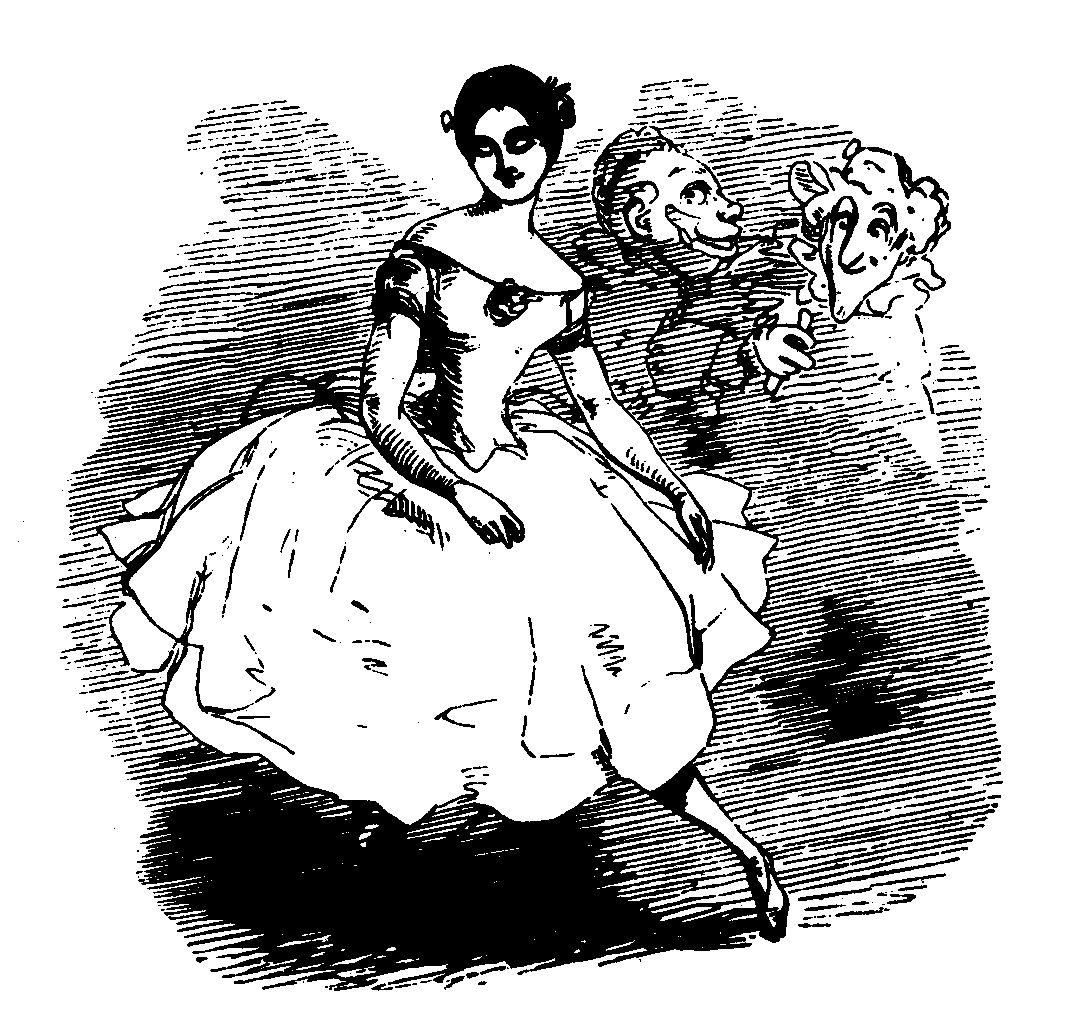 Хоть я и ушел из "Корнхилла", блаженные, бездеятельные дни, которые я
предвкушал тогда, так для меня и не настали, но весь последний год живется
мне гораздо легче. Мне больше не кажется, будто за мной гонятся, и к сердцу
подступила непреходящая, мягкая и сладкая тоска. В ней есть и облегчение, и
чувство приятия всего сущего, тогда как всего полгода назад я ощущал в себе
какое-то неистовство, сам не знаю, что это было со мной. Я часто слышал
утешительную фразу, будто больной пошел на мировую со своей болезнью, но
это, по-моему, слишком громко сказано и означает обычно только то, что
больной больше не жалуется, и не жалуется он, на мой взгляд, потому, что
начинает ощущать, как прекрасна жизнь даже в его положении. Когда вас денно
и нощно терзает боль и, как вы знаете, избавить от нее вас может только чудо
или смерть, вы научаетесь превозмогать ее и наслаждаться тем хорошим, что
вам еще доступно, Как яростно вы ни бунтуете в душе против всевластия
страдания, мало-помалу вы осознаете, что с помощью простых уловок вы все еще
можете урвать скромные радости у жизни. В прошлом году боли и колики не раз
укладывали меня в постель, но каждый из этих тяжких дней искупался
какой-нибудь нежданной радостью: прекрасным лицом, склонившимся над моей
кроватью, отрывком музыкальной фразы из комнаты внизу, лучами солнца,
заглянувшего в мое окно, пожатьем дружеской руки - всегда случалось
что-нибудь такое, и я думал с благодарностью: как хорошо, что я прожил и
этот, омраченный болью день! Но что я буду делать, если настанет день, когда
ничто, ни единое светлое пятнышко не сможет отвлечь меня от ужаса
физического страдания? Не знаю, хотя давно об этом думаю. Славу богу, он не
настал еще, и мои любящие дети и друзья, среди которых я живу, постараются
не допустить такого, если смогут.
Хоть я и ушел из "Корнхилла", блаженные, бездеятельные дни, которые я
предвкушал тогда, так для меня и не настали, но весь последний год живется
мне гораздо легче. Мне больше не кажется, будто за мной гонятся, и к сердцу
подступила непреходящая, мягкая и сладкая тоска. В ней есть и облегчение, и
чувство приятия всего сущего, тогда как всего полгода назад я ощущал в себе
какое-то неистовство, сам не знаю, что это было со мной. Я часто слышал
утешительную фразу, будто больной пошел на мировую со своей болезнью, но
это, по-моему, слишком громко сказано и означает обычно только то, что
больной больше не жалуется, и не жалуется он, на мой взгляд, потому, что
начинает ощущать, как прекрасна жизнь даже в его положении. Когда вас денно
и нощно терзает боль и, как вы знаете, избавить от нее вас может только чудо
или смерть, вы научаетесь превозмогать ее и наслаждаться тем хорошим, что
вам еще доступно, Как яростно вы ни бунтуете в душе против всевластия
страдания, мало-помалу вы осознаете, что с помощью простых уловок вы все еще
можете урвать скромные радости у жизни. В прошлом году боли и колики не раз
укладывали меня в постель, но каждый из этих тяжких дней искупался
какой-нибудь нежданной радостью: прекрасным лицом, склонившимся над моей
кроватью, отрывком музыкальной фразы из комнаты внизу, лучами солнца,
заглянувшего в мое окно, пожатьем дружеской руки - всегда случалось
что-нибудь такое, и я думал с благодарностью: как хорошо, что я прожил и
этот, омраченный болью день! Но что я буду делать, если настанет день, когда
ничто, ни единое светлое пятнышко не сможет отвлечь меня от ужаса
физического страдания? Не знаю, хотя давно об этом думаю. Славу богу, он не
настал еще, и мои любящие дети и друзья, среди которых я живу, постараются
не допустить такого, если смогут.
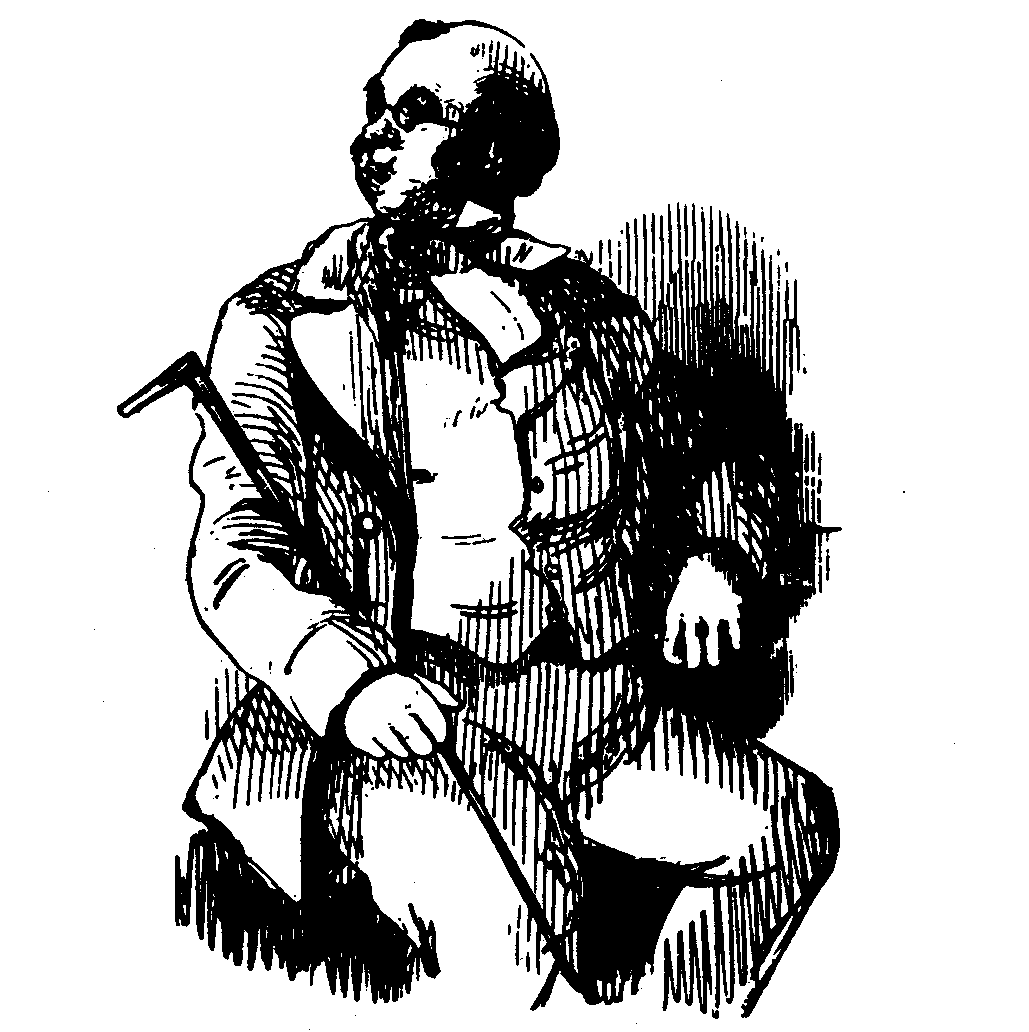 Мы все становимся серьезны, когда над нами нависает смерть, и, глядя ей
в лицо, мы понимаем собственную бренность. И все же я в ней не уверился,
сколь часто ни стояла она над моим изголовьем и как ни твердо я сознаю, что
однажды меня не станет. Мне не случалось видеть человека, который взирал бы
невозмутимо на неизбежность собственной кончины; становится ли с годами эта
мысль привычной или даже столетние старцы умирают с чувством удивления
оттого, что она их все-таки настигла? Во всех этих размышлениях нет никакого
толку, однако все мы размышляем, и ничего тут не поделаешь, но, может быть,
внезапная кончина приходит только к тем, кто о ней не думает? Раздумывал ли
над ней мой отчим? Не знаю, мы были очень откровенны и обсуждали все на
свете, только не смерть. Когда он умер в сентябре 1861 года, мы были
застигнуты врасплох, как ни нелепо говорить это о смерти человека на восьмом
десятке лет. Конец всегда приходит неожиданно, его не устережешь. Когда меня
не станет, многие мои знакомые, наверное, воскликнут: "Какая неожиданность!"
словно они прежде не слышали, что люди умирают, а между тем я много лет
болею и, как им хорошо известно, давненько числюсь в списке уходящих. Мой
отчим чувствовал себя прекрасно, был бодр, ложась в постель в ту ночь, когда
за ним пришел последний вестник, и с виду страдал не больше обычного от
того, что нам казалось его всегдашними недугами и немощами; для матушки,
сохранившей счастливые воспоминания о его предсмертных часах, то было
великое благо.
Пожалуй, я стал приводить свои дела в порядок гораздо раньше, чем
уяснил себе, зачем это делаю, хоть, правду сказать, последнее время я
чувствую себя так непривычно хорошо, что даже совестно. Я спешно перебрался
в дом (в котором и надеюсь когда-нибудь закончить свои дни), ибо торопился
выполнить свою давнишнюю мечту пожить, так сказать, по-царски, и, главное,
перевез поближе матушку. Не знаю, как мне хватило духу настоять, в конце
концов, чтобы они с отчимом отказались от своего независимого парижского
житья, от которого мы все страдали, и переехали в Лондон, но все-таки мне
удалось проявить твердость, и в 1860 году они перебрались на
Бромптон-Кресчент и поселились неподалеку от нас. Не говорите, что то была
жестокость по отношению к бедным старикам, судите сами, можно ли ухаживать
за дряхлеющими родителями на таком расстоянии? Сам не пойму, почему я не
выказал решительность гораздо раньше и не сберег тем самым кучу денег на
бесконечные снования туда-сюда и не избавил себя заодно от неисчислимых
огорчений. Надеюсь, в старости я буду сговорчивее моих родителей, - как
видите, никто из нас не верит по-настоящему в близость своего ухода, - и не
буду так мучить Анни и Минни.
Порой в ненастные ноябрьские дни, вроде сегодняшнего, я думаю, как
хорошо было бы вновь пуститься в путь и совершить паломничество в страну
моего детства. Я взял бы с собой девочек, мы бы неторопливо пересекли
Европу, перебрались через Средиземное море, заглянули в Египет, доплыли до
Индии и поднялись до верховьев Ганга, изведав по дороге множество
приключений. И пусть на такое странствие ушли бы годы, зато я услышал бы,
как отзывается мое сердце на все, что ему было близко полвека назад: как бы
я наслаждался, если бы тепло и краски другого континента разбудили самые
безмятежные детские воспоминания. Но вряд ли я отправлюсь в путь, о чем
нимало не жалею, - ведь путешествовать я могу и мысленно: что за удобный
способ! Состарившись, мы удивительно легко и едва ли не безболезненно
отказываемся от множества желаний, которые прежде почитали священными: от
ощущения, что жизненное бремя стало легче, в сердце воцаряется какое-то
странное умиротворение. Я думал прежде, что это очень страшно - сознавать,
как сужаются твои возможности и каждый день слабеют силы, но нет, это не
страшно, лишь бы не слабел разум, последнее, честно говоря, и в самом деле,
было бы непереносимо, - хотя, с другой стороны, тогда бы я не сознавал
происходящего. Правда, однако, такова: коль скоро вы не можете совершить
какое-либо действие, вы очень быстро замечаете, что больше к нему и не
стремитесь, и это очень утешительно.
Впрочем, не стоит понимать мои вывод слишком широко. Не думайте, что
если я за несколько последних лет не написал таких книг, как хотел бы,
значит, я с удовольствием передоверил бы свое перо кому-нибудь другому и
кричал бы "ура" от радости, что больше не должен утруждать себя, - о нет, я
не сдаюсь, и к писательству вышесказанное не относится. Теперь, когда я
наслаждаюсь давно желанной передышкой и не пишу романов ради денег, за что
благодарю судьбу, я осознал свое призвание и убедился, что труд писателя для
меня гораздо больше, чем просто способ зарабатывать на жизнь. Я больше не
могу отговариваться необходимостью работать и закрывать глаза на правду я
люблю писать и должен писать, нужно лишь как следует подумать и решить, о
чем писать и как.
Мы все становимся серьезны, когда над нами нависает смерть, и, глядя ей
в лицо, мы понимаем собственную бренность. И все же я в ней не уверился,
сколь часто ни стояла она над моим изголовьем и как ни твердо я сознаю, что
однажды меня не станет. Мне не случалось видеть человека, который взирал бы
невозмутимо на неизбежность собственной кончины; становится ли с годами эта
мысль привычной или даже столетние старцы умирают с чувством удивления
оттого, что она их все-таки настигла? Во всех этих размышлениях нет никакого
толку, однако все мы размышляем, и ничего тут не поделаешь, но, может быть,
внезапная кончина приходит только к тем, кто о ней не думает? Раздумывал ли
над ней мой отчим? Не знаю, мы были очень откровенны и обсуждали все на
свете, только не смерть. Когда он умер в сентябре 1861 года, мы были
застигнуты врасплох, как ни нелепо говорить это о смерти человека на восьмом
десятке лет. Конец всегда приходит неожиданно, его не устережешь. Когда меня
не станет, многие мои знакомые, наверное, воскликнут: "Какая неожиданность!"
словно они прежде не слышали, что люди умирают, а между тем я много лет
болею и, как им хорошо известно, давненько числюсь в списке уходящих. Мой
отчим чувствовал себя прекрасно, был бодр, ложась в постель в ту ночь, когда
за ним пришел последний вестник, и с виду страдал не больше обычного от
того, что нам казалось его всегдашними недугами и немощами; для матушки,
сохранившей счастливые воспоминания о его предсмертных часах, то было
великое благо.
Пожалуй, я стал приводить свои дела в порядок гораздо раньше, чем
уяснил себе, зачем это делаю, хоть, правду сказать, последнее время я
чувствую себя так непривычно хорошо, что даже совестно. Я спешно перебрался
в дом (в котором и надеюсь когда-нибудь закончить свои дни), ибо торопился
выполнить свою давнишнюю мечту пожить, так сказать, по-царски, и, главное,
перевез поближе матушку. Не знаю, как мне хватило духу настоять, в конце
концов, чтобы они с отчимом отказались от своего независимого парижского
житья, от которого мы все страдали, и переехали в Лондон, но все-таки мне
удалось проявить твердость, и в 1860 году они перебрались на
Бромптон-Кресчент и поселились неподалеку от нас. Не говорите, что то была
жестокость по отношению к бедным старикам, судите сами, можно ли ухаживать
за дряхлеющими родителями на таком расстоянии? Сам не пойму, почему я не
выказал решительность гораздо раньше и не сберег тем самым кучу денег на
бесконечные снования туда-сюда и не избавил себя заодно от неисчислимых
огорчений. Надеюсь, в старости я буду сговорчивее моих родителей, - как
видите, никто из нас не верит по-настоящему в близость своего ухода, - и не
буду так мучить Анни и Минни.
Порой в ненастные ноябрьские дни, вроде сегодняшнего, я думаю, как
хорошо было бы вновь пуститься в путь и совершить паломничество в страну
моего детства. Я взял бы с собой девочек, мы бы неторопливо пересекли
Европу, перебрались через Средиземное море, заглянули в Египет, доплыли до
Индии и поднялись до верховьев Ганга, изведав по дороге множество
приключений. И пусть на такое странствие ушли бы годы, зато я услышал бы,
как отзывается мое сердце на все, что ему было близко полвека назад: как бы
я наслаждался, если бы тепло и краски другого континента разбудили самые
безмятежные детские воспоминания. Но вряд ли я отправлюсь в путь, о чем
нимало не жалею, - ведь путешествовать я могу и мысленно: что за удобный
способ! Состарившись, мы удивительно легко и едва ли не безболезненно
отказываемся от множества желаний, которые прежде почитали священными: от
ощущения, что жизненное бремя стало легче, в сердце воцаряется какое-то
странное умиротворение. Я думал прежде, что это очень страшно - сознавать,
как сужаются твои возможности и каждый день слабеют силы, но нет, это не
страшно, лишь бы не слабел разум, последнее, честно говоря, и в самом деле,
было бы непереносимо, - хотя, с другой стороны, тогда бы я не сознавал
происходящего. Правда, однако, такова: коль скоро вы не можете совершить
какое-либо действие, вы очень быстро замечаете, что больше к нему и не
стремитесь, и это очень утешительно.
Впрочем, не стоит понимать мои вывод слишком широко. Не думайте, что
если я за несколько последних лет не написал таких книг, как хотел бы,
значит, я с удовольствием передоверил бы свое перо кому-нибудь другому и
кричал бы "ура" от радости, что больше не должен утруждать себя, - о нет, я
не сдаюсь, и к писательству вышесказанное не относится. Теперь, когда я
наслаждаюсь давно желанной передышкой и не пишу романов ради денег, за что
благодарю судьбу, я осознал свое призвание и убедился, что труд писателя для
меня гораздо больше, чем просто способ зарабатывать на жизнь. Я больше не
могу отговариваться необходимостью работать и закрывать глаза на правду я
люблю писать и должен писать, нужно лишь как следует подумать и решить, о
чем писать и как.
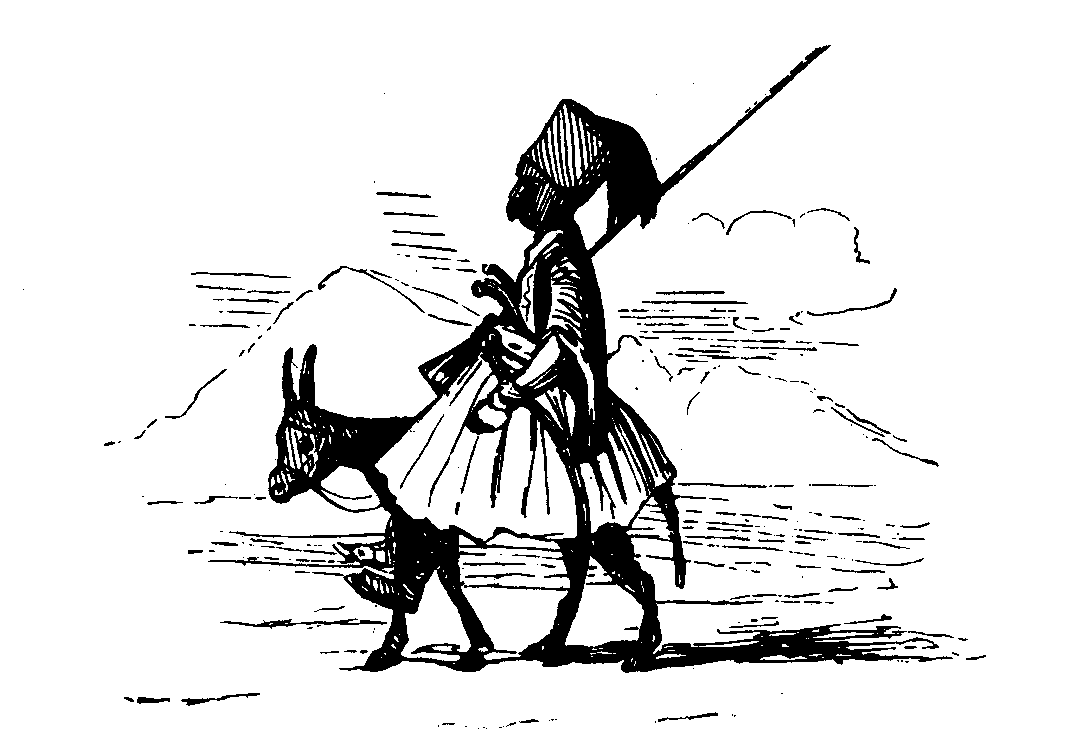 Мне очень бы хотелось понять самому и рассказать другим, чем
объясняется мое пристрастие к писательству: должно быть, его питает мое
великое любопытство к себе подобным. Я вкладываю в романы все те досужие
размышления, которым праздно предаюсь, наблюдая свое племя и утоляя свое
всепоглощающее желание знать все о каждом человеке. Даже случайный уличный
прохожий способен воспламенить мое воображение, но если искра вспыхнула,
голова не может работать вхолостую: каша заварена, и нужно ее расхлебывать.
Мне недостаточно смотреть, и слушать, и молча удивляться, мне нужно излить
свои мысли на бумаге, придать им законченную форму и выпустить их на
свободу. Прохожий, встретившийся мне на улице, был лишь проблеском идеи -
заставил встрепенуться мысль, только и всего, но стоит мне порой на светском
рауте остановить свой взгляд на чьем-нибудь лице, и я пугаюсь того, что в
нем читаю, и говорю случайному соседу: "Остерегайтесь вон того человека, он
дурно кончит и опорочит все, чего коснется". Мой собеседник, уверенный, что
я несу вздор, отводит взгляд в сторону, чтобы скрыть улыбку. Но завидев меня
спустя полгода в какой-нибудь гостиной, он хватает меня под руку, отводит в
сторону и говорит, что тот, кого я советовал ему остерегаться, сбежал,
похитив кассу банка, или в припадке ярости зарезал человека, или попался с
поличным на шулерских приемах, а дальше следует что-нибудь в таком роде:
"Как вы могли это предвидеть? Откуда вам было знать, что человек, известный
своей добропорядочностью, в один прекрасный день так неожиданно сорвется?"
Ответить я могу только одно: на нем это было написано, и дело не в чертах
лица и даже не в их соотношении, а в общем облике - душа сквозит и в
безобразии, и в красоте. Я чую зло, как кошка - запах рыбы, да и попахивает
от них похоже. К сожалению, добродетель менее осязаема: хорошие люди обычно
не уверены в себе, нервны, и это сбивает с толку прорицателя. Как ни
грустно, добро, в отличие от зла или хотя бы греховности, не вдохновляет
моего воображения. Добро немного пресновато - перо в нем вязнет, действие не
движется - сколько раз я ни пытался его изобразить, сам не знаю почему,
непременно сбивался под конец на проповедь, и всем делалось скучно; но
больше всего мне хочется, чтоб от моей книги было трудно оторваться, для
этого мне, прежде всего, необходимо придумать занимательный сюжет, а не
описывать людей, возбудивших мое любопытство. Это и есть вторая составная
часть писательского мастерства: нужно не просто избыть свое любопытство к
людям, но перевить между собой все странные нити человеческих судеб, бегущие
сквозь наши жизни, чтобы сплести из них такое кружево, которым залюбовался
бы читатель. Вот это сплетенье и продергиванье нитей всегда мне тяжело
давалось, поэтому я и решил когда-то, что не люблю писательства. На мой
взгляд, ремесло писателя не зависит ни от удачи, ни от вдохновения. Это
тяжелый труд, не стоит ему завидовать. Возьмем, к примеру, "Дени Дюваля",
над которым я сейчас работаю - сколько недель я переписывался со всеми
знакомыми моряками, сколько бессонных ночей твердил, лежа в постели, морской
жаргон, сколько раз ездил в Рай - записывал приметы, осматривал все
закоулки, чтобы проникнуться необходимым духом! А если после всего "Дени
Дюваль" провалится? Если окажется, что я метил слишком высоко и написал
скучищу? Что я скажу себе? Подвела удача? О нет, подвел талант.
Мне очень бы хотелось понять самому и рассказать другим, чем
объясняется мое пристрастие к писательству: должно быть, его питает мое
великое любопытство к себе подобным. Я вкладываю в романы все те досужие
размышления, которым праздно предаюсь, наблюдая свое племя и утоляя свое
всепоглощающее желание знать все о каждом человеке. Даже случайный уличный
прохожий способен воспламенить мое воображение, но если искра вспыхнула,
голова не может работать вхолостую: каша заварена, и нужно ее расхлебывать.
Мне недостаточно смотреть, и слушать, и молча удивляться, мне нужно излить
свои мысли на бумаге, придать им законченную форму и выпустить их на
свободу. Прохожий, встретившийся мне на улице, был лишь проблеском идеи -
заставил встрепенуться мысль, только и всего, но стоит мне порой на светском
рауте остановить свой взгляд на чьем-нибудь лице, и я пугаюсь того, что в
нем читаю, и говорю случайному соседу: "Остерегайтесь вон того человека, он
дурно кончит и опорочит все, чего коснется". Мой собеседник, уверенный, что
я несу вздор, отводит взгляд в сторону, чтобы скрыть улыбку. Но завидев меня
спустя полгода в какой-нибудь гостиной, он хватает меня под руку, отводит в
сторону и говорит, что тот, кого я советовал ему остерегаться, сбежал,
похитив кассу банка, или в припадке ярости зарезал человека, или попался с
поличным на шулерских приемах, а дальше следует что-нибудь в таком роде:
"Как вы могли это предвидеть? Откуда вам было знать, что человек, известный
своей добропорядочностью, в один прекрасный день так неожиданно сорвется?"
Ответить я могу только одно: на нем это было написано, и дело не в чертах
лица и даже не в их соотношении, а в общем облике - душа сквозит и в
безобразии, и в красоте. Я чую зло, как кошка - запах рыбы, да и попахивает
от них похоже. К сожалению, добродетель менее осязаема: хорошие люди обычно
не уверены в себе, нервны, и это сбивает с толку прорицателя. Как ни
грустно, добро, в отличие от зла или хотя бы греховности, не вдохновляет
моего воображения. Добро немного пресновато - перо в нем вязнет, действие не
движется - сколько раз я ни пытался его изобразить, сам не знаю почему,
непременно сбивался под конец на проповедь, и всем делалось скучно; но
больше всего мне хочется, чтоб от моей книги было трудно оторваться, для
этого мне, прежде всего, необходимо придумать занимательный сюжет, а не
описывать людей, возбудивших мое любопытство. Это и есть вторая составная
часть писательского мастерства: нужно не просто избыть свое любопытство к
людям, но перевить между собой все странные нити человеческих судеб, бегущие
сквозь наши жизни, чтобы сплести из них такое кружево, которым залюбовался
бы читатель. Вот это сплетенье и продергиванье нитей всегда мне тяжело
давалось, поэтому я и решил когда-то, что не люблю писательства. На мой
взгляд, ремесло писателя не зависит ни от удачи, ни от вдохновения. Это
тяжелый труд, не стоит ему завидовать. Возьмем, к примеру, "Дени Дюваля",
над которым я сейчас работаю - сколько недель я переписывался со всеми
знакомыми моряками, сколько бессонных ночей твердил, лежа в постели, морской
жаргон, сколько раз ездил в Рай - записывал приметы, осматривал все
закоулки, чтобы проникнуться необходимым духом! А если после всего "Дени
Дюваль" провалится? Если окажется, что я метил слишком высоко и написал
скучищу? Что я скажу себе? Подвела удача? О нет, подвел талант.
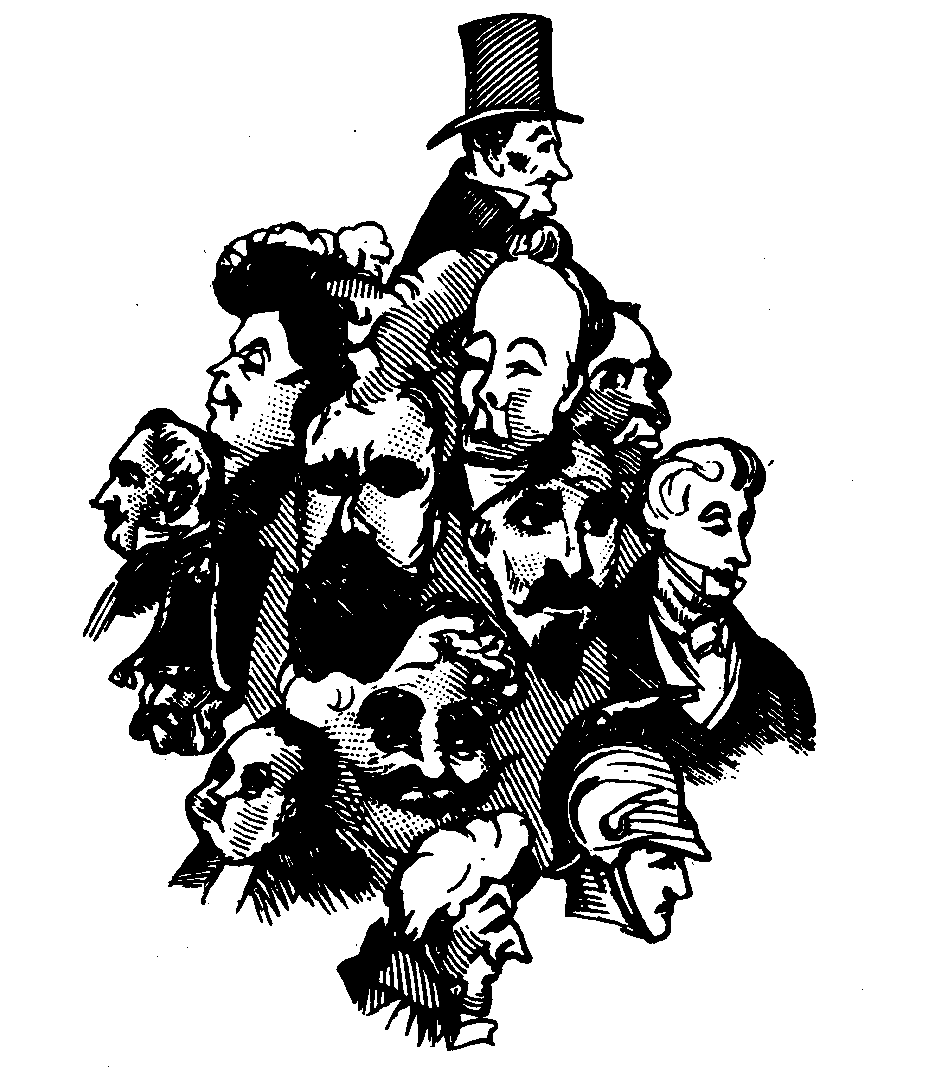 Надеюсь, я убедил вас, что книга, начавшаяся с праздных размышлений, не
оставляет вам и часа праздности, когда вы хотите облечь их в плоть и кровь.
Скажу по чести, я трудился в поте лица над всеми своими книгами. Не стану
притворяться, будто строчил их как попало, и, дескать, если бы старался,
написал гораздо лучше. Нет, я всегда старался. И это старание, это крайнее
напряжение всех сил, чтобы продвинуться в писательском искусстве, необходимо
для моего душевного спокойствия. Если бы я не ощущал, что это усилие вменено
мне в обязанность, я бы целыми днями лежал в постели, хандрил и изводил
близких. Как хорошо, что я успел себя понять! Срази меня болезнь несколько
лет тому назад, когда я лихорадочно работал и твердо верил, что для мира и
покоя мне только и нужно что отложить перо, я умер бы тогда, так и не узнав,
как дорожу своим призванием. Не знаю, согласны ли вы со мной, но это важное
открытие. Как горестно, когда кончина настигает человека среди бедствий, как
больно думать, что ушедшему не суждено увидеть конца бури, проплыть по тихим
водам, вдохнуть немного безмятежности. По мне, пусть лучше смерть приходит
среди счастья, чтобы душа взлетела прямо к месту вечного успокоения, а не
блуждала с муками и стонами, оплакивая свою земную маету.
В минувшее рождество за тем же столом, что и сейчас, мне пришлось
писать одно из самых грустных писем в жизни, и как раз по сходному поводу.
Салли Бакстер, та самая Салли Бакстер, которую я так давно потерял из виду,
скончалась от чахотки во время гражданской войны, и я писал в славный,
старый "Браун-хаус", чтоб выразить сочувствие. Я с болью узнал о ее кончине,
не знаю, страдал ли я когда-нибудь так прежде, даже смерть моей
малютки-дочки не причинила мне таких душевных мук. Но не из-за молодости
Салли - не так уж она была молода, и не потому, что умирала она в ужасных
условиях, хотя они и в самом деле были душераздирающи, а оттого, что перед
смертью она была несчастна и измучена тревогой - ее последние дни были
горьки. Лучше бы она умерла улыбчивой, прелестной, дерзкой девушкой, которую
я помнил, счастливой своим настоящим, уверенной в своем грядущем сиянии и
блеске, а не страдающей, до времени увядшей замужней женщиной, истерзанной
страхом за мужа и горем разлуки с близкими. Семья ее осталась на севере, а
Салли была на юге, общаться они не могли, и это подорвало ее силы. Подумать
только, когда она умирала, солдаты не пропустили к ней ее сестру Люси,
безобидную, славную Люси, приехавшую скрасить ее последние часы и
позаботиться о детях. Может ли быть справедливой война, которая ведет к
такому ожесточению? Какие идеалы может защищать такая армия? О смерти Салли
невозможно думать, но я все время думаю и не могу отвлечься, и часто, вновь
и вновь воображая, что она выстрадала перед своим уходом, проклинаю все на
свете. Поэтому я заговорил о ней. Поэтому я радуюсь, что избежал ее участи и
дожил до тех дней, когда могу взглянуть на прошлое спокойно и бесстрастно,
без тени сожаления. Кажется, никто не называл это умиротворение великим
достоянием старости, но мне оно таким и видится. С годами неизбежно
начинаешь понимать: чьи-то дочери все время умирают, и их родители горюют,
рождаются другие дочери, и их родители радуются; бесконечный круговорот
рождений и смертей, улыбок и рыданий, призванный служить нам утешением,
идет, как положено, своим чередом, и наша собственная смерть - всего лишь
крохотный штришок гигантского узора, и нечего нам поднимать из-за нее
великий шум.
Надеюсь, я убедил вас, что книга, начавшаяся с праздных размышлений, не
оставляет вам и часа праздности, когда вы хотите облечь их в плоть и кровь.
Скажу по чести, я трудился в поте лица над всеми своими книгами. Не стану
притворяться, будто строчил их как попало, и, дескать, если бы старался,
написал гораздо лучше. Нет, я всегда старался. И это старание, это крайнее
напряжение всех сил, чтобы продвинуться в писательском искусстве, необходимо
для моего душевного спокойствия. Если бы я не ощущал, что это усилие вменено
мне в обязанность, я бы целыми днями лежал в постели, хандрил и изводил
близких. Как хорошо, что я успел себя понять! Срази меня болезнь несколько
лет тому назад, когда я лихорадочно работал и твердо верил, что для мира и
покоя мне только и нужно что отложить перо, я умер бы тогда, так и не узнав,
как дорожу своим призванием. Не знаю, согласны ли вы со мной, но это важное
открытие. Как горестно, когда кончина настигает человека среди бедствий, как
больно думать, что ушедшему не суждено увидеть конца бури, проплыть по тихим
водам, вдохнуть немного безмятежности. По мне, пусть лучше смерть приходит
среди счастья, чтобы душа взлетела прямо к месту вечного успокоения, а не
блуждала с муками и стонами, оплакивая свою земную маету.
В минувшее рождество за тем же столом, что и сейчас, мне пришлось
писать одно из самых грустных писем в жизни, и как раз по сходному поводу.
Салли Бакстер, та самая Салли Бакстер, которую я так давно потерял из виду,
скончалась от чахотки во время гражданской войны, и я писал в славный,
старый "Браун-хаус", чтоб выразить сочувствие. Я с болью узнал о ее кончине,
не знаю, страдал ли я когда-нибудь так прежде, даже смерть моей
малютки-дочки не причинила мне таких душевных мук. Но не из-за молодости
Салли - не так уж она была молода, и не потому, что умирала она в ужасных
условиях, хотя они и в самом деле были душераздирающи, а оттого, что перед
смертью она была несчастна и измучена тревогой - ее последние дни были
горьки. Лучше бы она умерла улыбчивой, прелестной, дерзкой девушкой, которую
я помнил, счастливой своим настоящим, уверенной в своем грядущем сиянии и
блеске, а не страдающей, до времени увядшей замужней женщиной, истерзанной
страхом за мужа и горем разлуки с близкими. Семья ее осталась на севере, а
Салли была на юге, общаться они не могли, и это подорвало ее силы. Подумать
только, когда она умирала, солдаты не пропустили к ней ее сестру Люси,
безобидную, славную Люси, приехавшую скрасить ее последние часы и
позаботиться о детях. Может ли быть справедливой война, которая ведет к
такому ожесточению? Какие идеалы может защищать такая армия? О смерти Салли
невозможно думать, но я все время думаю и не могу отвлечься, и часто, вновь
и вновь воображая, что она выстрадала перед своим уходом, проклинаю все на
свете. Поэтому я заговорил о ней. Поэтому я радуюсь, что избежал ее участи и
дожил до тех дней, когда могу взглянуть на прошлое спокойно и бесстрастно,
без тени сожаления. Кажется, никто не называл это умиротворение великим
достоянием старости, но мне оно таким и видится. С годами неизбежно
начинаешь понимать: чьи-то дочери все время умирают, и их родители горюют,
рождаются другие дочери, и их родители радуются; бесконечный круговорот
рождений и смертей, улыбок и рыданий, призванный служить нам утешением,
идет, как положено, своим чередом, и наша собственная смерть - всего лишь
крохотный штришок гигантского узора, и нечего нам поднимать из-за нее
великий шум.
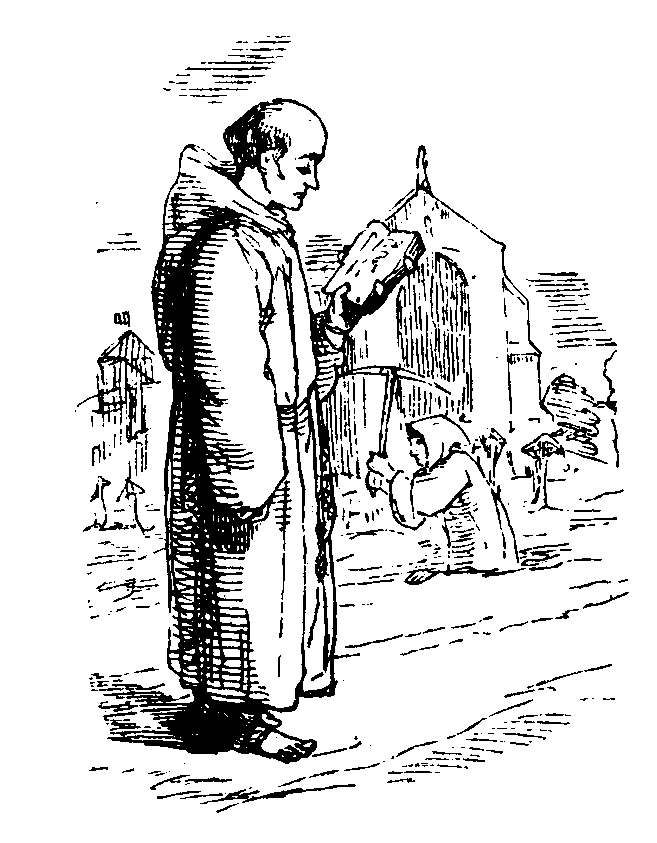 Не знаю, поняли ли девочки, зачем я повез их прошлой весной в Йоркшир,
откуда произошли все Теккереи. Наверное, решили, что это одна из наших
обычных увеселительных поездок, до которых они великие охотницы, - еще одна
отцовская причуда; впрочем, кто знает, возможно, они догадались, что тут
таится нечто большее. Не знаю, я их не спрашивал и спрашивать не собираюсь -
уж очень я при этом становлюсь серьезен. Предприняли мы нашу вылазку,
которую я задумал давным-давно, но все как-то откладывал, не столько ради
удовольствия (хотя поездка оказалась очень приятной), сколько ради того,
чтобы совершить небольшое паломничество на землю предков: мной овладело
ясное предчувствие конца, захотелось побывать (непременно с дочками) там,
где начинались наши корни, взглянуть на усадьбу наших праотцев, побродить
среди их могил, поразмыслить, не предначертано ли и мне найти здесь свой
приют. Теккереи - выходцы из Хемпствейта под Харрогитом. Туда мы и прибыли в
ожидании сам не знаю чего. Это крохотный, ничем не примечательный городок,
наверное, вы в нем не бывали, возможно, даже и не слыхивали о таком. Мы
отыскали кладбище, где похоронены все наши деды, и прадеды, и тетушки, и
дядюшки, и их дети, и долго сидели среди надгробий и размышляли о них всех.
Как раз напротив лежала большая серая могильная плита с высеченными на ней
черными буквами "Уильям Мейкпис Теккерей"; я указал на нее девочкам и
спросил, не странно ли им глядеть на надпись. Я обронил это как бы случайно,
ненароком и, судя по их ответу, ничуть их не встревожил. Но сам я был
взволнован и не мог отвести глаз от букв на сером камне, с такой силой они
меня притягивали, однако в том не было ничего ужасного, скорее что-то
утешительное, как я и уповал, выбираясь сюда, в Хемпствейт, я даже ощущал
какое-то необъяснимое удовольствие, хоть и не могу сказать, чем оно вызвано.
Некий Уильям Мейкпис Теккерей давным-давно покоится в земле, а мир живет
по-прежнему, и солнце светит на его могилу, и новый Уильям в окружении своих
детей сидит и смотрит на его надгробие, но скоро и он уйдет под землю, из-за
чего же плакать? Из праха ты вышел, в прах и возвратишься... - прекрасно
сказано, прекрасно, глубоко и верно. Я вовсе не был угнетен, скорей
утешился, почувствовав себя частичкой вечного круговорота. Мы еще долго
ходили по кладбищу, разглядывали имена на плитах, сравнивали, пытались
установить родство, и если девочки начинали прижиматься ко мне чуть крепче,
я брал их ручки в свои, улыбался и громко перечислял, что мы закажем к чаю.
Молодым не верится, что человек способен смириться со своей кончиной, они не
принимают идею смерти, даже если часто видят, как умирают другие, она их
ужасает; по-моему, не стоит лишать их фантастической надежды, будто они
станут первыми людьми, познавшими бессмертие. Конечно, поддакиваю я, так оно
и будет, ведь самое главное - щадить их чувства, очень скоро им придется
приуготовиться к неизбежному, я же сколько смогу, буду оттягивать
надвигающуюся суматоху.
^T24^U
^TНеожиданное заключение, которое могло бы иметь продолжение^U
Сегодня мы с Анни, Минни и нашим другом леди Колвилл были на службе в
Темпл-Черч. В храм я вошел подавленный, все думал про себя, не зря ли взялся
за "Дени Дюваля", справлюсь ли я, и не в том ли состоит мой подвиг, чтоб
крикнуть finis и почить на скромных лаврах, которые я успел стяжать. Тяжелые
думы гнетом лежали на душе, но когда раздался гимн, в груди стало расти
ликующее чувство, и незаметно для себя я начал подпевать, нимало не смущаясь
своего надтреснутого голоса. Мы пели "радуйся, и паки реку радуйся"; при
всей простоте звучавшего призыва нельзя было не внять ему. Хотелось
подчиниться, последовать ему всем сердцем; мне слышалось в нем то же
упование, что и в стихах Голдсмита:
Как заяц, коль за ним погоня мчится,
В родной предел, едва дыша, стремится,
В блужданиях надежду я таил
Здесь умереть, среди родных могил.
От гимна, как и от этих строк, на меня повеяло умиротворением и
радостью, и я вдруг понял, как глупо мучиться из-за "Дени Дюваля" вместо
того, чтобы довериться божественному провидению, путей которого мне не дано
узнать. Иди домой и делай свое дело, сказал я себе, пиши свою книгу и не.
думай о последствиях, пиши - ведь только этого тебе и хочется, ничто тебя не
останавливает.
Не знаю, поняли ли девочки, зачем я повез их прошлой весной в Йоркшир,
откуда произошли все Теккереи. Наверное, решили, что это одна из наших
обычных увеселительных поездок, до которых они великие охотницы, - еще одна
отцовская причуда; впрочем, кто знает, возможно, они догадались, что тут
таится нечто большее. Не знаю, я их не спрашивал и спрашивать не собираюсь -
уж очень я при этом становлюсь серьезен. Предприняли мы нашу вылазку,
которую я задумал давным-давно, но все как-то откладывал, не столько ради
удовольствия (хотя поездка оказалась очень приятной), сколько ради того,
чтобы совершить небольшое паломничество на землю предков: мной овладело
ясное предчувствие конца, захотелось побывать (непременно с дочками) там,
где начинались наши корни, взглянуть на усадьбу наших праотцев, побродить
среди их могил, поразмыслить, не предначертано ли и мне найти здесь свой
приют. Теккереи - выходцы из Хемпствейта под Харрогитом. Туда мы и прибыли в
ожидании сам не знаю чего. Это крохотный, ничем не примечательный городок,
наверное, вы в нем не бывали, возможно, даже и не слыхивали о таком. Мы
отыскали кладбище, где похоронены все наши деды, и прадеды, и тетушки, и
дядюшки, и их дети, и долго сидели среди надгробий и размышляли о них всех.
Как раз напротив лежала большая серая могильная плита с высеченными на ней
черными буквами "Уильям Мейкпис Теккерей"; я указал на нее девочкам и
спросил, не странно ли им глядеть на надпись. Я обронил это как бы случайно,
ненароком и, судя по их ответу, ничуть их не встревожил. Но сам я был
взволнован и не мог отвести глаз от букв на сером камне, с такой силой они
меня притягивали, однако в том не было ничего ужасного, скорее что-то
утешительное, как я и уповал, выбираясь сюда, в Хемпствейт, я даже ощущал
какое-то необъяснимое удовольствие, хоть и не могу сказать, чем оно вызвано.
Некий Уильям Мейкпис Теккерей давным-давно покоится в земле, а мир живет
по-прежнему, и солнце светит на его могилу, и новый Уильям в окружении своих
детей сидит и смотрит на его надгробие, но скоро и он уйдет под землю, из-за
чего же плакать? Из праха ты вышел, в прах и возвратишься... - прекрасно
сказано, прекрасно, глубоко и верно. Я вовсе не был угнетен, скорей
утешился, почувствовав себя частичкой вечного круговорота. Мы еще долго
ходили по кладбищу, разглядывали имена на плитах, сравнивали, пытались
установить родство, и если девочки начинали прижиматься ко мне чуть крепче,
я брал их ручки в свои, улыбался и громко перечислял, что мы закажем к чаю.
Молодым не верится, что человек способен смириться со своей кончиной, они не
принимают идею смерти, даже если часто видят, как умирают другие, она их
ужасает; по-моему, не стоит лишать их фантастической надежды, будто они
станут первыми людьми, познавшими бессмертие. Конечно, поддакиваю я, так оно
и будет, ведь самое главное - щадить их чувства, очень скоро им придется
приуготовиться к неизбежному, я же сколько смогу, буду оттягивать
надвигающуюся суматоху.
^T24^U
^TНеожиданное заключение, которое могло бы иметь продолжение^U
Сегодня мы с Анни, Минни и нашим другом леди Колвилл были на службе в
Темпл-Черч. В храм я вошел подавленный, все думал про себя, не зря ли взялся
за "Дени Дюваля", справлюсь ли я, и не в том ли состоит мой подвиг, чтоб
крикнуть finis и почить на скромных лаврах, которые я успел стяжать. Тяжелые
думы гнетом лежали на душе, но когда раздался гимн, в груди стало расти
ликующее чувство, и незаметно для себя я начал подпевать, нимало не смущаясь
своего надтреснутого голоса. Мы пели "радуйся, и паки реку радуйся"; при
всей простоте звучавшего призыва нельзя было не внять ему. Хотелось
подчиниться, последовать ему всем сердцем; мне слышалось в нем то же
упование, что и в стихах Голдсмита:
Как заяц, коль за ним погоня мчится,
В родной предел, едва дыша, стремится,
В блужданиях надежду я таил
Здесь умереть, среди родных могил.
От гимна, как и от этих строк, на меня повеяло умиротворением и
радостью, и я вдруг понял, как глупо мучиться из-за "Дени Дюваля" вместо
того, чтобы довериться божественному провидению, путей которого мне не дано
узнать. Иди домой и делай свое дело, сказал я себе, пиши свою книгу и не.
думай о последствиях, пиши - ведь только этого тебе и хочется, ничто тебя не
останавливает.
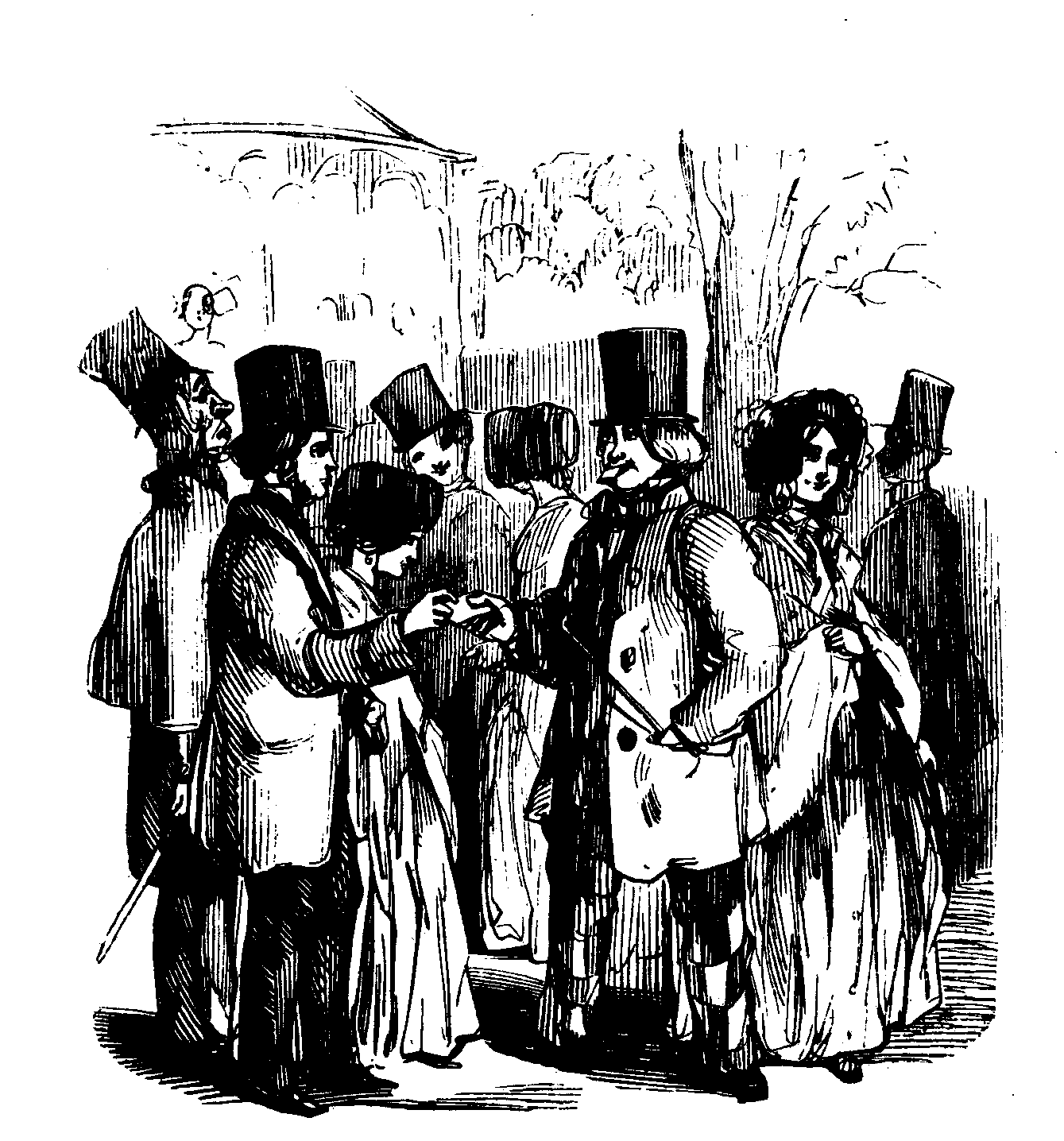 После богослужения мы поехали не домой, а к Меривейлям, пили там чай и
провели очень весело часок, а то и два. Анни сказала мне по дороге, что ей
теперь все время кажется, будто у нас не прекращаются каникулы, и хотя в
ответ я тотчас вынул несколько страниц "Дени Дюваля" и свирепо помахал ими
перед ее носом, желая показать, что не все тут отдыхают, а некоторые
трудятся, не покладая рук, в душе я возликовал от этих слов. Прекрасно,
жизнь и должна быть похожа на каникулы, я слишком часто был завален работой
выше головы, хватался то за одно, то за другое дело и слишком редко пел и
веселился. Мне следовало больше резвиться с моими девочками или, усевшись
между ними, греться на солнышке, а не добиваться нелепых, а порой и ложных
целей, которые я сам себе придумывал. Ведь у моих дочек никого нет, кроме
меня, порой мне даже хочется вопреки всякой логике - как это бывает с нами,
отцами, - чтобы они были мне меньше преданы: я не в силах вынести мысль о
том, как они будут горевать, когда меня не станет. Наверное, я должен был
держаться более отчужденно, наверное, мне не следовало поощрять ту близость,
которая образовалась между нами и за которую они вскоре так сурово
поплатятся. Тревожно, не правда ли? Но помочь нам может не искусственная
отстраненность, а совсем другое средство: нам нужно расширить свой семейный
круг - у девочек должны появиться мужья и дети, тогда мы не будем так
судорожно цепляться друг за друга. Я боюсь не того, что они не выйдут замуж,
а опасаюсь, что по собственному неразумию испортил их виды на брак, все
время держа их при себе и не предоставив им той свободы общения, о которой
предусмотрительно позаботилась бы каждая хорошая мать. Меня не столько
тревожит Анни, сколько моя маленькая Мин, но я себя успокаиваю тем, что у
нее есть твердая опора - старшая сестра.
После богослужения мы поехали не домой, а к Меривейлям, пили там чай и
провели очень весело часок, а то и два. Анни сказала мне по дороге, что ей
теперь все время кажется, будто у нас не прекращаются каникулы, и хотя в
ответ я тотчас вынул несколько страниц "Дени Дюваля" и свирепо помахал ими
перед ее носом, желая показать, что не все тут отдыхают, а некоторые
трудятся, не покладая рук, в душе я возликовал от этих слов. Прекрасно,
жизнь и должна быть похожа на каникулы, я слишком часто был завален работой
выше головы, хватался то за одно, то за другое дело и слишком редко пел и
веселился. Мне следовало больше резвиться с моими девочками или, усевшись
между ними, греться на солнышке, а не добиваться нелепых, а порой и ложных
целей, которые я сам себе придумывал. Ведь у моих дочек никого нет, кроме
меня, порой мне даже хочется вопреки всякой логике - как это бывает с нами,
отцами, - чтобы они были мне меньше преданы: я не в силах вынести мысль о
том, как они будут горевать, когда меня не станет. Наверное, я должен был
держаться более отчужденно, наверное, мне не следовало поощрять ту близость,
которая образовалась между нами и за которую они вскоре так сурово
поплатятся. Тревожно, не правда ли? Но помочь нам может не искусственная
отстраненность, а совсем другое средство: нам нужно расширить свой семейный
круг - у девочек должны появиться мужья и дети, тогда мы не будем так
судорожно цепляться друг за друга. Я боюсь не того, что они не выйдут замуж,
а опасаюсь, что по собственному неразумию испортил их виды на брак, все
время держа их при себе и не предоставив им той свободы общения, о которой
предусмотрительно позаботилась бы каждая хорошая мать. Меня не столько
тревожит Анни, сколько моя маленькая Мин, но я себя успокаиваю тем, что у
нее есть твердая опора - старшая сестра.
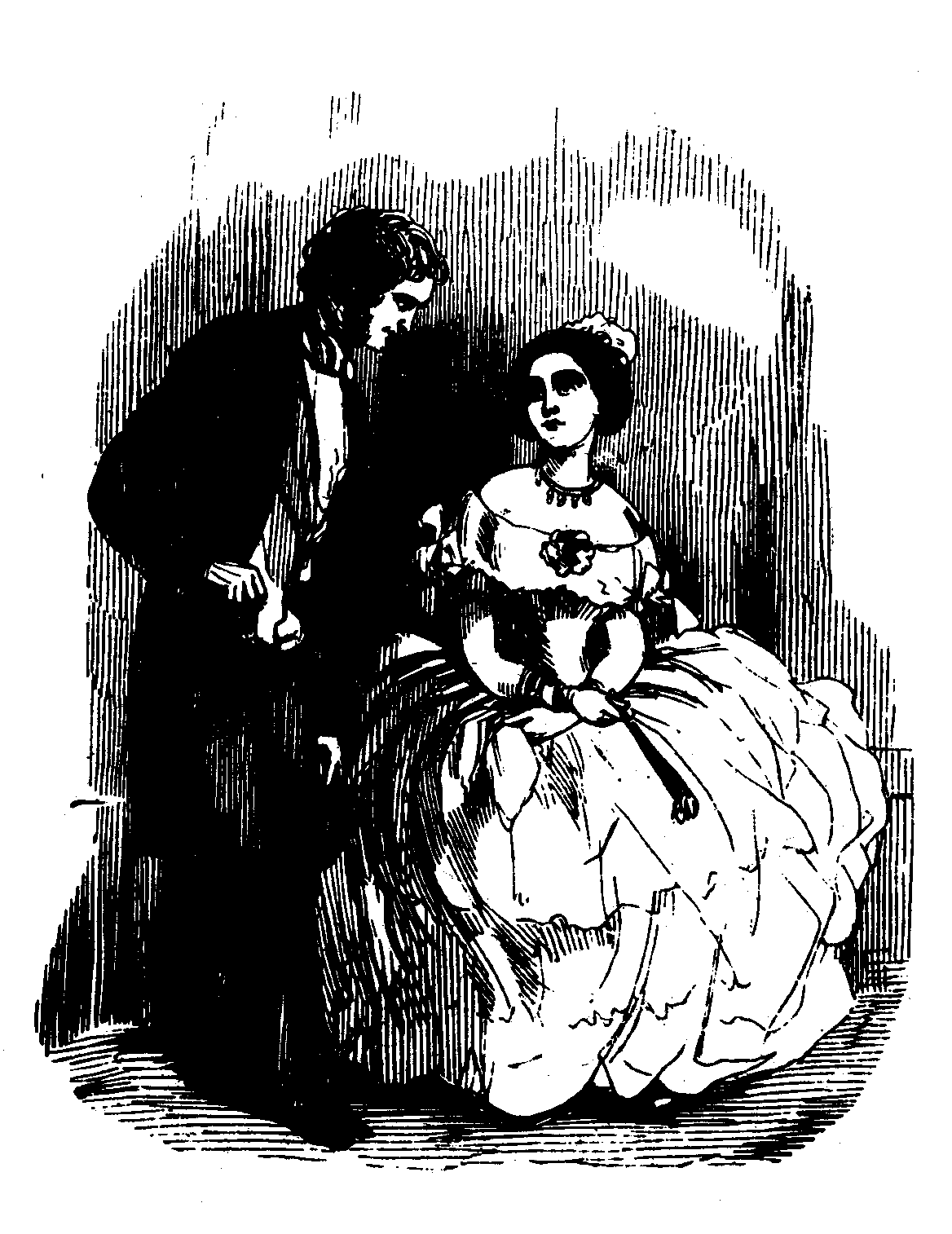 Меня терзают и другие страхи. Не кажется ли вам, что я опасно повредил
надеждам своих дочек на удачное замужество, выделив каждой из них по 10000
фунтов, тех самых пресловутых 10000, о которых вам, должно быть, надоело
слушать? Я боюсь искателей состояний, охотников за приданым моих маленьких
инфант. Вред может оказаться даже больше, чем от их уединенного образа
жизни: это очень страшно - слыть богатыми невестами, которых станут
домогаться не ради них самих, а ради их приданого. Какая несправедливость,
какая злосчастная судьба! Ведь я всю жизнь только и делал, что воевал с
торгашеством ярмарки невест. Неужто между людьми идут разговоры, что обе
мисс Теккерей купаются в брильянтах и денег у них куры не клюют, а значит,
хорошо бы попасть на обед к старику Теккерею и постараться подцепить одну из
них. Но тут ничего не поделаешь, мне остается лишь довериться уму моих
маленьких наследниц и надеяться, что они сумеют раскусить недостойных
претендентов.
Меня терзают и другие страхи. Не кажется ли вам, что я опасно повредил
надеждам своих дочек на удачное замужество, выделив каждой из них по 10000
фунтов, тех самых пресловутых 10000, о которых вам, должно быть, надоело
слушать? Я боюсь искателей состояний, охотников за приданым моих маленьких
инфант. Вред может оказаться даже больше, чем от их уединенного образа
жизни: это очень страшно - слыть богатыми невестами, которых станут
домогаться не ради них самих, а ради их приданого. Какая несправедливость,
какая злосчастная судьба! Ведь я всю жизнь только и делал, что воевал с
торгашеством ярмарки невест. Неужто между людьми идут разговоры, что обе
мисс Теккерей купаются в брильянтах и денег у них куры не клюют, а значит,
хорошо бы попасть на обед к старику Теккерею и постараться подцепить одну из
них. Но тут ничего не поделаешь, мне остается лишь довериться уму моих
маленьких наследниц и надеяться, что они сумеют раскусить недостойных
претендентов.
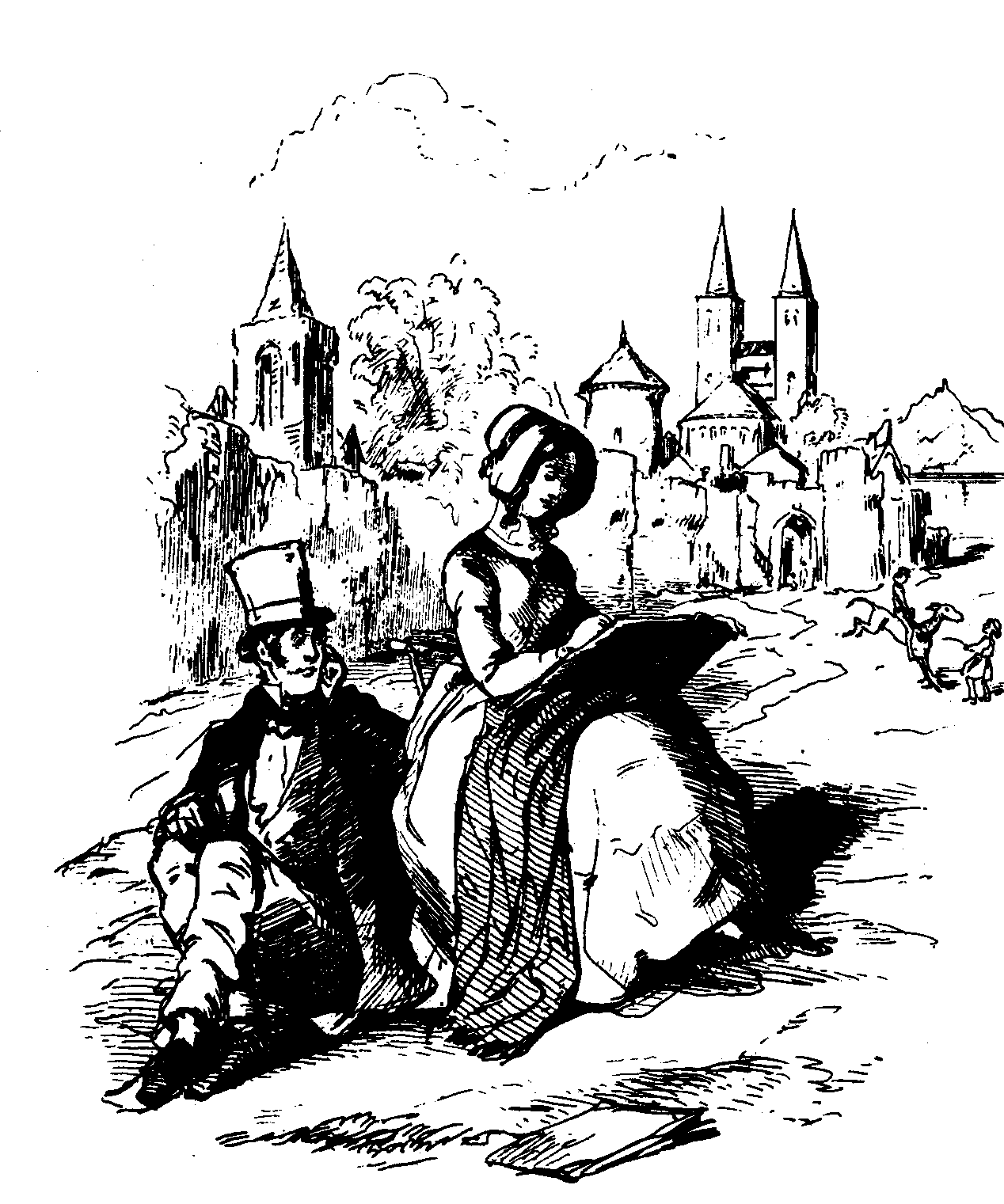 Сейчас, когда я пишу настоящую главу, в которой подвожу итоги, ибо
собираюсь на ближайшее время ею и ограничиться, все мои мысли заняты работой
и детьми, и тут я не отличаюсь от всех прочих, не правда ли? Многих людей до
самого конца не покидают мысли о работе, если, конечно, это любимое занятие,
а не постылая обязанность, которую им навязала жизнь. Нам всем известна
ходячая истина: люди умирают, думая о том, что будут делать завтра, но, на
мой взгляд, о лучшем и мечтать нельзя, и я хотел бы так же встретить
собственный конец. Достойней, чтоб человеком владела страсть к работе,
нежели алчность или похоть. Ну, а что касается детей, то каждый, кого судьба
благословила ими, тревожится о них до самого последнего вздоха. Мне,
разумеется, неведомо, что ожидает моих девочек, вам это проще узнать, чем
мне, но населяли страницы моей книги и другие люди, а потом исчезли из виду,
и я хочу вам рассказать, что с ними сталось. Досадно, правда, когда нам
негде прочитать, вышла ли замуж Люси и превратился ли Чарлз в транжиру, как
и обещал, а также прочие нехитрые подробности - их очень хочется узнать,
когда нам интересны люди, которых они касаются. Я не намерен прятать концы в
воду и оставлять вас в неизвестности, дорогой читатель, но так как мне
невдомек, чьи судьбы вас задели за живое, а чьи нет, я постараюсь рассказать
о возможно большем числе действующих лиц, а вы уж не сердитесь, если я
невзначай кого-нибудь забуду.
Сейчас, когда я пишу настоящую главу, в которой подвожу итоги, ибо
собираюсь на ближайшее время ею и ограничиться, все мои мысли заняты работой
и детьми, и тут я не отличаюсь от всех прочих, не правда ли? Многих людей до
самого конца не покидают мысли о работе, если, конечно, это любимое занятие,
а не постылая обязанность, которую им навязала жизнь. Нам всем известна
ходячая истина: люди умирают, думая о том, что будут делать завтра, но, на
мой взгляд, о лучшем и мечтать нельзя, и я хотел бы так же встретить
собственный конец. Достойней, чтоб человеком владела страсть к работе,
нежели алчность или похоть. Ну, а что касается детей, то каждый, кого судьба
благословила ими, тревожится о них до самого последнего вздоха. Мне,
разумеется, неведомо, что ожидает моих девочек, вам это проще узнать, чем
мне, но населяли страницы моей книги и другие люди, а потом исчезли из виду,
и я хочу вам рассказать, что с ними сталось. Досадно, правда, когда нам
негде прочитать, вышла ли замуж Люси и превратился ли Чарлз в транжиру, как
и обещал, а также прочие нехитрые подробности - их очень хочется узнать,
когда нам интересны люди, которых они касаются. Я не намерен прятать концы в
воду и оставлять вас в неизвестности, дорогой читатель, но так как мне
невдомек, чьи судьбы вас задели за живое, а чьи нет, я постараюсь рассказать
о возможно большем числе действующих лиц, а вы уж не сердитесь, если я
невзначай кого-нибудь забуду.
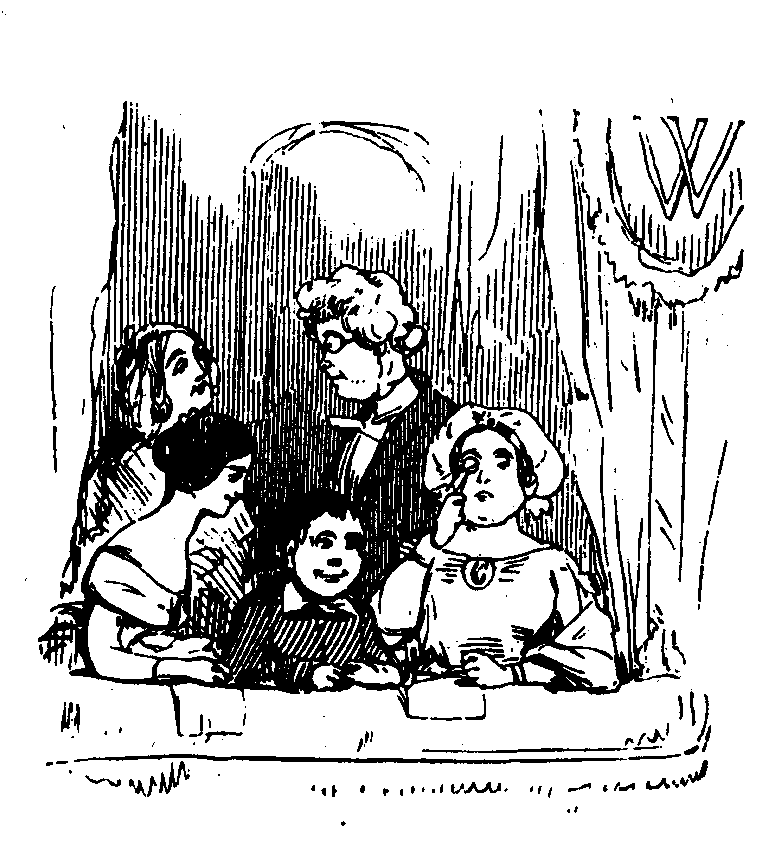 Матушка моя доныне здравствует, она так же бодра, так же грозится
переехать жить в Париж, и мы так же любим и балуем ее, как встарь. Мое
сыновнее почтение за эти годы заметно поубавилось, я больше не повинуюсь ей
во всем беспрекословно, но очень к ней привязан и почитаю себя счастливцем
оттого, что мне досталась такая деятельная и жизнелюбивая родительница.
Изабелла по-прежнему живет у Бейквиллов: она необычайно моложава,
по-прежнему играет на рояле, по-прежнему весело смеется, во всем напоминая
сущее дитя. Я редко навещал ее в последние годы, да и следовало ли? С годами
видеть ее становилось все грустнее, а мне и так жилось невыносимо грустно, и
просто не хватало сил. На свой лад, она, пожалуй, даже счастлива, но для
меня, как и для прочих, она потеряна, и лучше нам не сетовать на ее
затворничество. Мой отчим, как вы знаете, скончался. Кузина Мэри, как и
прежде, сеет всюду склоки и превратилась в грузную, самодовольную матрону,
которая всевластно правит своим небольшим мирком. Бабушки мои умерли, но
тети, дяди и их дети цветут и бурно размножаются. Я прилепился сердцем к
некоторым из своих племянников и время от времени беру их с собой в театр,
но не могу сказать, что близок с кем-нибудь из родственников (такие
отношения трудно поддерживать без жены). Они приходят ко мне в гости, когда
я вспоминаю, что пора их пригласить, я наношу ответные визиты, и все очень
довольны. Так что лучше перейдем к друзьям. Брукфилды пребывают в добром
здравии, у них прекрасная семья: двое сыновей и дочь. Мы иногда встречаемся,
но ощущаю я лишь легкую подавленность. Джейн не утратила ни красоты, ни
обаяния, но что-то в ее лице угасло, не знаю, как другим, но мне это
заметно. Уильям еще больше отощал и помрачнел, ничем не напоминает моего
прежнего бесшабашного кембриджского приятеля, но нам случается мирно
посидеть за бутылкой кларета и даже ласково похлопать друг друга по плечу.
Фицджерадца я не вижу, но думаю, ему неплохо в его Кемберленде. У меня много
верных друзей в Лондоне, которые поддержат девочек, когда пробьет мой час.
Кажется, я никого не забыл? Разве только мою кровожадную тещу миссис Шоу
(мне очень жаль, что вы заставили меня упомянуть ее), знаю лишь, что она
жива, по-прежнему обретается в Корке и так же донимает свою дочь. Я не
желаю, чтобы девочки поддерживали с ней отношения ни до, ни после моей
смерти.
Матушка моя доныне здравствует, она так же бодра, так же грозится
переехать жить в Париж, и мы так же любим и балуем ее, как встарь. Мое
сыновнее почтение за эти годы заметно поубавилось, я больше не повинуюсь ей
во всем беспрекословно, но очень к ней привязан и почитаю себя счастливцем
оттого, что мне досталась такая деятельная и жизнелюбивая родительница.
Изабелла по-прежнему живет у Бейквиллов: она необычайно моложава,
по-прежнему играет на рояле, по-прежнему весело смеется, во всем напоминая
сущее дитя. Я редко навещал ее в последние годы, да и следовало ли? С годами
видеть ее становилось все грустнее, а мне и так жилось невыносимо грустно, и
просто не хватало сил. На свой лад, она, пожалуй, даже счастлива, но для
меня, как и для прочих, она потеряна, и лучше нам не сетовать на ее
затворничество. Мой отчим, как вы знаете, скончался. Кузина Мэри, как и
прежде, сеет всюду склоки и превратилась в грузную, самодовольную матрону,
которая всевластно правит своим небольшим мирком. Бабушки мои умерли, но
тети, дяди и их дети цветут и бурно размножаются. Я прилепился сердцем к
некоторым из своих племянников и время от времени беру их с собой в театр,
но не могу сказать, что близок с кем-нибудь из родственников (такие
отношения трудно поддерживать без жены). Они приходят ко мне в гости, когда
я вспоминаю, что пора их пригласить, я наношу ответные визиты, и все очень
довольны. Так что лучше перейдем к друзьям. Брукфилды пребывают в добром
здравии, у них прекрасная семья: двое сыновей и дочь. Мы иногда встречаемся,
но ощущаю я лишь легкую подавленность. Джейн не утратила ни красоты, ни
обаяния, но что-то в ее лице угасло, не знаю, как другим, но мне это
заметно. Уильям еще больше отощал и помрачнел, ничем не напоминает моего
прежнего бесшабашного кембриджского приятеля, но нам случается мирно
посидеть за бутылкой кларета и даже ласково похлопать друг друга по плечу.
Фицджерадца я не вижу, но думаю, ему неплохо в его Кемберленде. У меня много
верных друзей в Лондоне, которые поддержат девочек, когда пробьет мой час.
Кажется, я никого не забыл? Разве только мою кровожадную тещу миссис Шоу
(мне очень жаль, что вы заставили меня упомянуть ее), знаю лишь, что она
жива, по-прежнему обретается в Корке и так же донимает свою дочь. Я не
желаю, чтобы девочки поддерживали с ней отношения ни до, ни после моей
смерти.
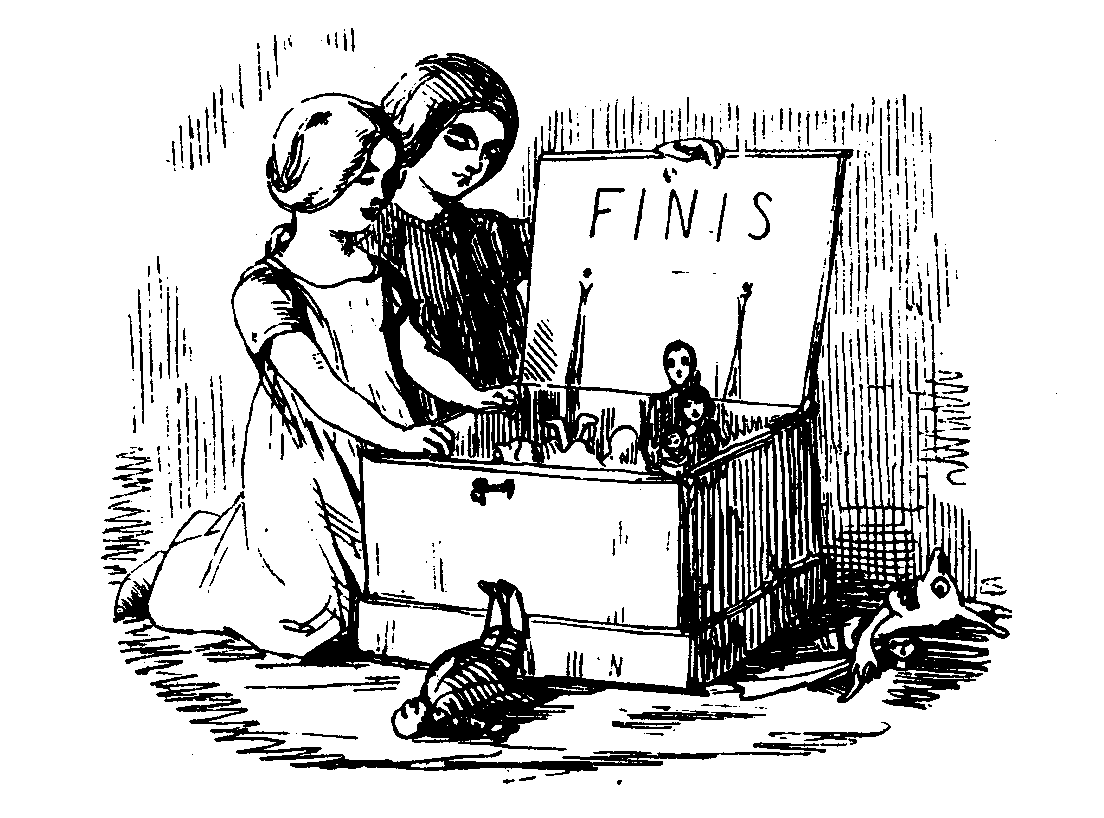 Вы говорите, что я до смертного порога намерен раздувать свою злобу? О
нет, это не так, и чтоб доказать обратное, я расскажу вам, как недавно
помирился с Диккенсом, что было не в пример труднее, чем лебезить перед
миссис Шоу или кузиной Мэри, чего я никогда не стал бы делать. Я как-то
стоял в холле "Атенеума" и разговаривал с Теодором Мартином, когда из
читальни показался Диккенс, и я вдруг ощутил, как мне претит и нарочитая
холодность, с которой мы всегда встречаемся, и сдержанный поклон, которым мы
обмениваемся; что бы между нами ни произошло, я понял, что не хочу так
продолжать: я бросился за ним вдогонку, остановил у лестницы, пожал руку и
произнес несколько слов, он ответил соответственно, и дело было сделано.
Возможно, люди скажут, что я сложил оружие. Что ж, пусть их говорят, а у
меня сразу полегчало на душе, я почувствовал, что сделал то, что следовало,
и пожалел, что не сделал этого раньше. Учитывая наше положение - Диккенса и
мое, - нам следовало быть друзьями, возможно, так бы оно и было, если бы нам
не мешали другие; о как бы я ценил такую дружбу! Что ж, по крайней мере, мы
помирились и не умрем врагами.
Довольно глупое занятие писать последнюю главу своей жизненной истории,
зная, что в ней нет ничего "последнего", мне следует остановиться, не думая
о том, что моя повесть останется незавершенной. Если каждый раз, когда мы
ожидаем смерти, мы станем писать "последнее прости", никто из нас, наверное,
так никогда и не умрет; к тому же понятно, что, если человеку хватает сил и
самонадеянности описывать свою жизнь, ему еще далеко до смертного одра. И
все же меня радует, что я обошел своих унылых биографов - создателей
трехтомных славословий, ибо надеюсь, что вы предпочтете мое собственное
свидетельство о себе самом. Если над чем-нибудь вы засмеетесь или заплачете,
если вас что-нибудь в этой книге душевно подбодрит, покажется поучительным
или достойным удивления, значит, я достиг своей цели, и труд мой не
напрасен. Чужие жизни лишь помогают понять свою собственную, и я хочу, чтоб
из моей вы извлекли все, что покажется вам ценным, а остальное отбросили без
сожалений. Не утруждайте себя и не старайтесь получше изучить мою особу,
поверьте, я того не стою, вы можете гораздо разумнее распорядиться своим
временем. Читайте эту книгу, как я сам теперь читаю: с годами я, словно
сорока, хватаю то, что мне понравится, - абзац здесь, абзац там, в одном
месте - какое-нибудь описание, в другом - образ, я редко оказываю честь
писателю, прочитав его опус по порядку, от доски до доски. Мне бы хотелось,
чтобы и вы читали мою книгу наугад, там, где она раскроется, - немного на
сон грядущий, немного за завтраком, прислонив ее к чайнику, засуньте ее в
карман пальто и почитайте по дороге на работу, чтобы развеяться, если вам
станет скучно. Я жил неровно и порывисто, и отчего вам не читать об этом так
же беспорядочно?
Пока я тут разглагольствовал и принуждал себя сказать побольше, мне
пришло в голову, что те пятьдесят лет, о которых я вам поведал, возможно,
составят лишь первую часть всего рассказа, и когда я стану
восьмидесятилетним старцем, пожавшим еще неведомые ныне лавры, я буду с
улыбкой вспоминать, как собирался выдать первый том за всю историю. Мне
будет весело читать (если "Дени Дювалем" начнется длинная череда шедевров),
как мне в свое время казалось, будто я исписался. И вы, возможно, станете
подтрунивать над моими страхами, что Анни и Минни останутся в девицах, ибо
от крика оравы внуков я не услышу звуков собственного голоса. Как знать, в
самом деле, как знать? Вот почему жизнь так заманчива, а смерть так
дьявольски хитра, вот почему с чувством душевной бодрости я откладываю в
сторону перо, словно бы на минутку, и, совершенно ублаготворенный, спускаюсь
вниз поговорить с дочками. Заметьте, без всякого зазрения совести я умолкаю
на полуслове, не дописав главы. Засим - мое почтение!
^TПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА^U
Теккерей завещал своим дочерям не допускать выхода в свет его
биографии. Ничто не внушало ему такой ненависти, как тяжеловесные
панегирики, столь модные в его время. Соприкоснувшись с ним так близко, я
ощутила, что не могу нарушить его волю, и поняла, что разделяю его точку
зрения. Но как быть дальше: если не писать биографию, то и вовсе ничего не
писать? На мой взгляд, это означало бы понять его запрет чересчур буквально.
Выясняя, что он думал об автобиографии, которая могла бы послужить выходом
из создавшегося положения, я натолкнулась в его лекции о Стиле, в которой он
отвергает и этот способ жизнеописания, на такую мысль: "Из беллетристики я
выношу впечатление о жизни того времени: о нравах, о поведении людей, об их
платье, о развлечениях, остротах, забавах общества, - былое оживает вновь, и
я путешествую по старой Англии. Может ли самый солидный историк дать мне
больше?"
Чем дольше я размышляла над этими словами, стараясь осознать их в свете
жизни Теккерея, тем больше проникалась убеждением, что он невольно указал
нам необычный способ, который позволяет воссоздать его историю. А что если,
рассуждала я, предоставить слово самому Теккерею, воспользовавшись всеми
изданными личными записками и многочисленными рукописными источниками? Мне
не придется ничего примысливать - в них есть все необходимое, неполными я
пользоваться не стану. Тем самым мне удастся сохранить ту свежесть и
легкость слога, которой Теккерей так дорожил, и избежать дотошности и
длинных рассуждений, которых он терпеть не мог.
Я понимала, какого возражения мне следовало ожидать. Книга, написанная
с точки зрения одного лишь Теккерея, не может быть беспристрастна. Но это
оказалось решающим соображением: я вовсе не желала оставаться
беспристрастной. Мне ясно помнится минута, когда я осознала, что нисколько
не стремлюсь узнать, говорит ли Теккерей о себе всю правду. Читая письма,
которыми обменивались супруги Брукфилд, я поняла, что вопреки тому, как
толковал их отношения Теккерей, Джейн и Уильям Брукфилд любили друг друга. И
более того, нельзя было не заметить, что они над ним немного потешались. Это
было непереносимо, и я тотчас решила, что больше не буду читать свидетельств
"противной стороны", касаются ли они отношений с Брукфилдами или любой
другой грани его жизни. Я хотела описать его историю так, как она виделась
ему самому, и воссоздать его характер и жизненный путь предельно полно, но
лишь с его позиции, чтобы мое влияние совсем не ощущалось.
Передо мною сразу встал вопрос о том, что делать со словами самого
Теккерея. Пересказывать их? Нет, это исключалось, но в то же время я
понимала, что не смогу не говорить его словами, когда они без спросу будут
соскальзывать с кончика моего пера. Как поступать: искоренять их или
признаваться в них, пометив кавычками? Я не стала делать ни того, ни
другого. Тому, кто знает Теккерея, строки, написанные его рукой, бросятся в
глаза, а тому, кто его не знает, они, как я горячо надеюсь, останутся
незаметны. Мне кажется, в таком подходе нет ничего крамольного, и если я
употребляю его подлинные фразы, то лишь потому, что они мне очень хорошо
запомнились и я не могу не написать их. Виною тому память - тут нет
сознательного заимствования.
Настоящая книга основана на личных записках Теккерея, а также на
публиковавшихся воспоминаниях его дочери Анни Теккерей. Я не читала никакого
другого жизнеописания Теккерея, кроме труда Гордона Рэя, который бегло
просмотрела и отложила в сторону, поняв, что узнаю из него, как и из
переписки Брукфилдов, много такого, чего знать не хочу. С моей стороны,
конечно, дерзость думать, что я способна подражать манере Теккерея, но тем
пуристам, которые отпрянут от этой книги в ужасе и раздражении, мне хочется
заметить, что слог дневников и писем Теккерея очень отличается от его
романов и эссе. Его произведения славятся прекрасным английским языком, но в
личных письмах и заметках он, как и все мы, был совсем другим человеком и
позволял себе писать разговорным стилем, свободным и шероховатым, почти в
обход грамматики.
Мне кажется, что Теккерея позабавила бы моя дерзость. Он ненавидел
чопорность (хотя и сам бывал порою чопорным) и очень любил непочтительность.
Наверное, рассмотрев жизнь Теккерея под разными углами зрения, можно было бы
написать гораздо лучшую книгу, зато писать ее было бы не в пример скучнее.
Тем же, кто скажет, что у меня получилось ни то, ни се - ни правда, ни
вымысел, я отвечу вместе с Теккереем, что только благодаря вымыслу мы
постигаем правду и при ближайшем рассмотрении очень немногие подлинные факты
таковыми и остаются.
Наконец, мне хочется подчеркнуть, что я ничего здесь не измыслила. И
если на какой-то странице Теккерей вспоминает о прогулке в Уотфорд, значит,
где-то в своих бумагах он ее упоминает. Возможно, вам это покажется
невероятным, но подобная книга требует гораздо более трудоемкой и не
оправдывающей себя исследовательской работы, чем обыкновенная биография, для
которой не приходится так изощряться, чтоб верно передать дух изображаемого.
Добавлю, что мне было бы гораздо легче, если я бы могла хоть в чем-то дать
немного воли своему воображению, особенно в том, что связано с Джейн
Брукфилд. Когда я в Филадельфии в библиотеке Розенбахов читала любовные
письма Теккерея, и ныне существующие лишь в виде тайнописи, мне показалось,
что между ними была физическая близость. Красноречивее всего об этом
свидетельствует письмо, в котором Теккерей вспоминает, как Джейн позвала его
ночью в Кливдене и как он вышел к ней на зов. Однако в словах его не было
определенности, и мне пришлось отказаться от моей трактовки, которая, как
мне подсказывало чувство, была верна, тогда как в полной биографии я могла
бы ее высказать.
Остается лишь добавить, что никогда и ничего я не писала с таким
удовольствием, как эту книгу. И если я заставила Теккерея жить, значит, мне
верится, я исполнила его волю и позволяю себе сказать: долой всех солидных
историков, которых мы с ним оба не приемлем.
Лондон, 1978.
^TНЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТЕККЕРЕЕ-ХУДОЖНИКЕ И ПОЭТЕ^U
Вот уже прочитан эпилог Маргарет Форстер, и в самом деле пора опускать
занавес: история нашего героя подошла к концу. Но прощаться с этим
"викторианским джентльменом" не хочется. Позволим себе добавить несколько
штрихов к портрету этого разносторонне одаренного человека - не только
прозаика, но и художника, и поэта.
В книге Маргарет Форстер около 150 иллюстраций. Мы могли убедиться,
каким превосходным рисовальщиком был Теккерей. Рисунки по большей части
свободно аккомпанируют тексту. К примеру, портрет Наполеона дается, когда
где-то рядом упоминается о поездке к острову Св. Елены, слегка шаржированный
портрет Гете возникает в главе, рассказывающей о встрече с Гете в Веймаре.
Говоря о любимом детище Теккерея - романе "Генри Эсмонд", который ему
удалось издать, как он мечтал, "в стиле времен королевы Анны", Маргарет
Форстер приводит рисунок из романа - кавалер и дама той эпохи. И уж конечно,
во многих автопародиях читатель узнает самого Теккерея. Вполне вероятно, что
у любознательного читателя возникнет вопрос: "А откуда все эти карикатуры,
шаржи, милые женские головки, забавные заставки, автопародии?" Тайна
раскрывается просто. Взяты рисунки самого Теккерея к "Книге снобов", его
сатирическим повестям, путевым заметкам, ранним рассказам в картинках,
которые он неоднократно печатал в "Панче", рисунки из писем, альбомов,
"Генри Эсмонда", "Виргинцев", чудесной сказки "Кольцо и роза" и, конечно же,
из "Ярмарки тщеславия". Не удивительно, что больше всего иллюстраций именно
из его главной книги: Теккерей не мыслил ее без своих подлинных иллюстраций.
И в самом деле, считать рисунки писателя лишь шалостями его карандаша или же
случайностью в его прозе нельзя. Иллюстрации Теккерея - необходимый и в
высшей степени важный автокомментарий к его прозе. Как признавался сам
писатель, ему иногда было проще "договорить" мысль линией, нежели словом.
Из книги Маргарет Форстер - правда, бегло, мимоходом - мы узнаем и о
том, что Теккерей "баловался" стихами. Помните его ранние "опыты" - "Звезды"
и "Тимбукту"? А в предисловии упоминалось о поэтическом даре Теккерея.
Хочется дать возможность читателю самому познакомиться с Теккереем-поэтом.
Поэтому мы и решили завершить книгу небольшой подборкой его стихотворений в
переводах А. Солянова. Эти стихи Теккерея по-русски печатаются впервые,
относятся к разным периодам его творчества и раскрывают разные грани его
поэтического мастерства. Здесь и раздумье - "Перо и альбом", и юмор -
"Трагическая история", и ирония - "Песенка монаха", и шутливые пародии на
характерные английские стихи "бессмыслицы", и сатира и пафос - "Тимбукту".
И, конечно, мы не могли удержаться и не сопроводить их рисунками Теккерея,
сохранив принцип "свободного монтажа", принятый во всей книге Маргарет
Форстер.
^TУИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ^U
^TПЕРО И АЛЬБОМ^U
- Я милой Кэт служу, - Альбом изрек, -
Меж книг чужих - меж их дешевых щек
И нудных фраков - я надолго слег.
Живей, Перо! Чтоб линия звучала,
Рисуй смешное личико сначала
И к Кэт отправь меня, чтоб не скучала.
Вы говорите, что я до смертного порога намерен раздувать свою злобу? О
нет, это не так, и чтоб доказать обратное, я расскажу вам, как недавно
помирился с Диккенсом, что было не в пример труднее, чем лебезить перед
миссис Шоу или кузиной Мэри, чего я никогда не стал бы делать. Я как-то
стоял в холле "Атенеума" и разговаривал с Теодором Мартином, когда из
читальни показался Диккенс, и я вдруг ощутил, как мне претит и нарочитая
холодность, с которой мы всегда встречаемся, и сдержанный поклон, которым мы
обмениваемся; что бы между нами ни произошло, я понял, что не хочу так
продолжать: я бросился за ним вдогонку, остановил у лестницы, пожал руку и
произнес несколько слов, он ответил соответственно, и дело было сделано.
Возможно, люди скажут, что я сложил оружие. Что ж, пусть их говорят, а у
меня сразу полегчало на душе, я почувствовал, что сделал то, что следовало,
и пожалел, что не сделал этого раньше. Учитывая наше положение - Диккенса и
мое, - нам следовало быть друзьями, возможно, так бы оно и было, если бы нам
не мешали другие; о как бы я ценил такую дружбу! Что ж, по крайней мере, мы
помирились и не умрем врагами.
Довольно глупое занятие писать последнюю главу своей жизненной истории,
зная, что в ней нет ничего "последнего", мне следует остановиться, не думая
о том, что моя повесть останется незавершенной. Если каждый раз, когда мы
ожидаем смерти, мы станем писать "последнее прости", никто из нас, наверное,
так никогда и не умрет; к тому же понятно, что, если человеку хватает сил и
самонадеянности описывать свою жизнь, ему еще далеко до смертного одра. И
все же меня радует, что я обошел своих унылых биографов - создателей
трехтомных славословий, ибо надеюсь, что вы предпочтете мое собственное
свидетельство о себе самом. Если над чем-нибудь вы засмеетесь или заплачете,
если вас что-нибудь в этой книге душевно подбодрит, покажется поучительным
или достойным удивления, значит, я достиг своей цели, и труд мой не
напрасен. Чужие жизни лишь помогают понять свою собственную, и я хочу, чтоб
из моей вы извлекли все, что покажется вам ценным, а остальное отбросили без
сожалений. Не утруждайте себя и не старайтесь получше изучить мою особу,
поверьте, я того не стою, вы можете гораздо разумнее распорядиться своим
временем. Читайте эту книгу, как я сам теперь читаю: с годами я, словно
сорока, хватаю то, что мне понравится, - абзац здесь, абзац там, в одном
месте - какое-нибудь описание, в другом - образ, я редко оказываю честь
писателю, прочитав его опус по порядку, от доски до доски. Мне бы хотелось,
чтобы и вы читали мою книгу наугад, там, где она раскроется, - немного на
сон грядущий, немного за завтраком, прислонив ее к чайнику, засуньте ее в
карман пальто и почитайте по дороге на работу, чтобы развеяться, если вам
станет скучно. Я жил неровно и порывисто, и отчего вам не читать об этом так
же беспорядочно?
Пока я тут разглагольствовал и принуждал себя сказать побольше, мне
пришло в голову, что те пятьдесят лет, о которых я вам поведал, возможно,
составят лишь первую часть всего рассказа, и когда я стану
восьмидесятилетним старцем, пожавшим еще неведомые ныне лавры, я буду с
улыбкой вспоминать, как собирался выдать первый том за всю историю. Мне
будет весело читать (если "Дени Дювалем" начнется длинная череда шедевров),
как мне в свое время казалось, будто я исписался. И вы, возможно, станете
подтрунивать над моими страхами, что Анни и Минни останутся в девицах, ибо
от крика оравы внуков я не услышу звуков собственного голоса. Как знать, в
самом деле, как знать? Вот почему жизнь так заманчива, а смерть так
дьявольски хитра, вот почему с чувством душевной бодрости я откладываю в
сторону перо, словно бы на минутку, и, совершенно ублаготворенный, спускаюсь
вниз поговорить с дочками. Заметьте, без всякого зазрения совести я умолкаю
на полуслове, не дописав главы. Засим - мое почтение!
^TПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА^U
Теккерей завещал своим дочерям не допускать выхода в свет его
биографии. Ничто не внушало ему такой ненависти, как тяжеловесные
панегирики, столь модные в его время. Соприкоснувшись с ним так близко, я
ощутила, что не могу нарушить его волю, и поняла, что разделяю его точку
зрения. Но как быть дальше: если не писать биографию, то и вовсе ничего не
писать? На мой взгляд, это означало бы понять его запрет чересчур буквально.
Выясняя, что он думал об автобиографии, которая могла бы послужить выходом
из создавшегося положения, я натолкнулась в его лекции о Стиле, в которой он
отвергает и этот способ жизнеописания, на такую мысль: "Из беллетристики я
выношу впечатление о жизни того времени: о нравах, о поведении людей, об их
платье, о развлечениях, остротах, забавах общества, - былое оживает вновь, и
я путешествую по старой Англии. Может ли самый солидный историк дать мне
больше?"
Чем дольше я размышляла над этими словами, стараясь осознать их в свете
жизни Теккерея, тем больше проникалась убеждением, что он невольно указал
нам необычный способ, который позволяет воссоздать его историю. А что если,
рассуждала я, предоставить слово самому Теккерею, воспользовавшись всеми
изданными личными записками и многочисленными рукописными источниками? Мне
не придется ничего примысливать - в них есть все необходимое, неполными я
пользоваться не стану. Тем самым мне удастся сохранить ту свежесть и
легкость слога, которой Теккерей так дорожил, и избежать дотошности и
длинных рассуждений, которых он терпеть не мог.
Я понимала, какого возражения мне следовало ожидать. Книга, написанная
с точки зрения одного лишь Теккерея, не может быть беспристрастна. Но это
оказалось решающим соображением: я вовсе не желала оставаться
беспристрастной. Мне ясно помнится минута, когда я осознала, что нисколько
не стремлюсь узнать, говорит ли Теккерей о себе всю правду. Читая письма,
которыми обменивались супруги Брукфилд, я поняла, что вопреки тому, как
толковал их отношения Теккерей, Джейн и Уильям Брукфилд любили друг друга. И
более того, нельзя было не заметить, что они над ним немного потешались. Это
было непереносимо, и я тотчас решила, что больше не буду читать свидетельств
"противной стороны", касаются ли они отношений с Брукфилдами или любой
другой грани его жизни. Я хотела описать его историю так, как она виделась
ему самому, и воссоздать его характер и жизненный путь предельно полно, но
лишь с его позиции, чтобы мое влияние совсем не ощущалось.
Передо мною сразу встал вопрос о том, что делать со словами самого
Теккерея. Пересказывать их? Нет, это исключалось, но в то же время я
понимала, что не смогу не говорить его словами, когда они без спросу будут
соскальзывать с кончика моего пера. Как поступать: искоренять их или
признаваться в них, пометив кавычками? Я не стала делать ни того, ни
другого. Тому, кто знает Теккерея, строки, написанные его рукой, бросятся в
глаза, а тому, кто его не знает, они, как я горячо надеюсь, останутся
незаметны. Мне кажется, в таком подходе нет ничего крамольного, и если я
употребляю его подлинные фразы, то лишь потому, что они мне очень хорошо
запомнились и я не могу не написать их. Виною тому память - тут нет
сознательного заимствования.
Настоящая книга основана на личных записках Теккерея, а также на
публиковавшихся воспоминаниях его дочери Анни Теккерей. Я не читала никакого
другого жизнеописания Теккерея, кроме труда Гордона Рэя, который бегло
просмотрела и отложила в сторону, поняв, что узнаю из него, как и из
переписки Брукфилдов, много такого, чего знать не хочу. С моей стороны,
конечно, дерзость думать, что я способна подражать манере Теккерея, но тем
пуристам, которые отпрянут от этой книги в ужасе и раздражении, мне хочется
заметить, что слог дневников и писем Теккерея очень отличается от его
романов и эссе. Его произведения славятся прекрасным английским языком, но в
личных письмах и заметках он, как и все мы, был совсем другим человеком и
позволял себе писать разговорным стилем, свободным и шероховатым, почти в
обход грамматики.
Мне кажется, что Теккерея позабавила бы моя дерзость. Он ненавидел
чопорность (хотя и сам бывал порою чопорным) и очень любил непочтительность.
Наверное, рассмотрев жизнь Теккерея под разными углами зрения, можно было бы
написать гораздо лучшую книгу, зато писать ее было бы не в пример скучнее.
Тем же, кто скажет, что у меня получилось ни то, ни се - ни правда, ни
вымысел, я отвечу вместе с Теккереем, что только благодаря вымыслу мы
постигаем правду и при ближайшем рассмотрении очень немногие подлинные факты
таковыми и остаются.
Наконец, мне хочется подчеркнуть, что я ничего здесь не измыслила. И
если на какой-то странице Теккерей вспоминает о прогулке в Уотфорд, значит,
где-то в своих бумагах он ее упоминает. Возможно, вам это покажется
невероятным, но подобная книга требует гораздо более трудоемкой и не
оправдывающей себя исследовательской работы, чем обыкновенная биография, для
которой не приходится так изощряться, чтоб верно передать дух изображаемого.
Добавлю, что мне было бы гораздо легче, если я бы могла хоть в чем-то дать
немного воли своему воображению, особенно в том, что связано с Джейн
Брукфилд. Когда я в Филадельфии в библиотеке Розенбахов читала любовные
письма Теккерея, и ныне существующие лишь в виде тайнописи, мне показалось,
что между ними была физическая близость. Красноречивее всего об этом
свидетельствует письмо, в котором Теккерей вспоминает, как Джейн позвала его
ночью в Кливдене и как он вышел к ней на зов. Однако в словах его не было
определенности, и мне пришлось отказаться от моей трактовки, которая, как
мне подсказывало чувство, была верна, тогда как в полной биографии я могла
бы ее высказать.
Остается лишь добавить, что никогда и ничего я не писала с таким
удовольствием, как эту книгу. И если я заставила Теккерея жить, значит, мне
верится, я исполнила его волю и позволяю себе сказать: долой всех солидных
историков, которых мы с ним оба не приемлем.
Лондон, 1978.
^TНЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТЕККЕРЕЕ-ХУДОЖНИКЕ И ПОЭТЕ^U
Вот уже прочитан эпилог Маргарет Форстер, и в самом деле пора опускать
занавес: история нашего героя подошла к концу. Но прощаться с этим
"викторианским джентльменом" не хочется. Позволим себе добавить несколько
штрихов к портрету этого разносторонне одаренного человека - не только
прозаика, но и художника, и поэта.
В книге Маргарет Форстер около 150 иллюстраций. Мы могли убедиться,
каким превосходным рисовальщиком был Теккерей. Рисунки по большей части
свободно аккомпанируют тексту. К примеру, портрет Наполеона дается, когда
где-то рядом упоминается о поездке к острову Св. Елены, слегка шаржированный
портрет Гете возникает в главе, рассказывающей о встрече с Гете в Веймаре.
Говоря о любимом детище Теккерея - романе "Генри Эсмонд", который ему
удалось издать, как он мечтал, "в стиле времен королевы Анны", Маргарет
Форстер приводит рисунок из романа - кавалер и дама той эпохи. И уж конечно,
во многих автопародиях читатель узнает самого Теккерея. Вполне вероятно, что
у любознательного читателя возникнет вопрос: "А откуда все эти карикатуры,
шаржи, милые женские головки, забавные заставки, автопародии?" Тайна
раскрывается просто. Взяты рисунки самого Теккерея к "Книге снобов", его
сатирическим повестям, путевым заметкам, ранним рассказам в картинках,
которые он неоднократно печатал в "Панче", рисунки из писем, альбомов,
"Генри Эсмонда", "Виргинцев", чудесной сказки "Кольцо и роза" и, конечно же,
из "Ярмарки тщеславия". Не удивительно, что больше всего иллюстраций именно
из его главной книги: Теккерей не мыслил ее без своих подлинных иллюстраций.
И в самом деле, считать рисунки писателя лишь шалостями его карандаша или же
случайностью в его прозе нельзя. Иллюстрации Теккерея - необходимый и в
высшей степени важный автокомментарий к его прозе. Как признавался сам
писатель, ему иногда было проще "договорить" мысль линией, нежели словом.
Из книги Маргарет Форстер - правда, бегло, мимоходом - мы узнаем и о
том, что Теккерей "баловался" стихами. Помните его ранние "опыты" - "Звезды"
и "Тимбукту"? А в предисловии упоминалось о поэтическом даре Теккерея.
Хочется дать возможность читателю самому познакомиться с Теккереем-поэтом.
Поэтому мы и решили завершить книгу небольшой подборкой его стихотворений в
переводах А. Солянова. Эти стихи Теккерея по-русски печатаются впервые,
относятся к разным периодам его творчества и раскрывают разные грани его
поэтического мастерства. Здесь и раздумье - "Перо и альбом", и юмор -
"Трагическая история", и ирония - "Песенка монаха", и шутливые пародии на
характерные английские стихи "бессмыслицы", и сатира и пафос - "Тимбукту".
И, конечно, мы не могли удержаться и не сопроводить их рисунками Теккерея,
сохранив принцип "свободного монтажа", принятый во всей книге Маргарет
Форстер.
^TУИЛЬЯМ МЕЙКПИС ТЕККЕРЕЙ^U
^TПЕРО И АЛЬБОМ^U
- Я милой Кэт служу, - Альбом изрек, -
Меж книг чужих - меж их дешевых щек
И нудных фраков - я надолго слег.
Живей, Перо! Чтоб линия звучала,
Рисуй смешное личико сначала
И к Кэт отправь меня, чтоб не скучала.
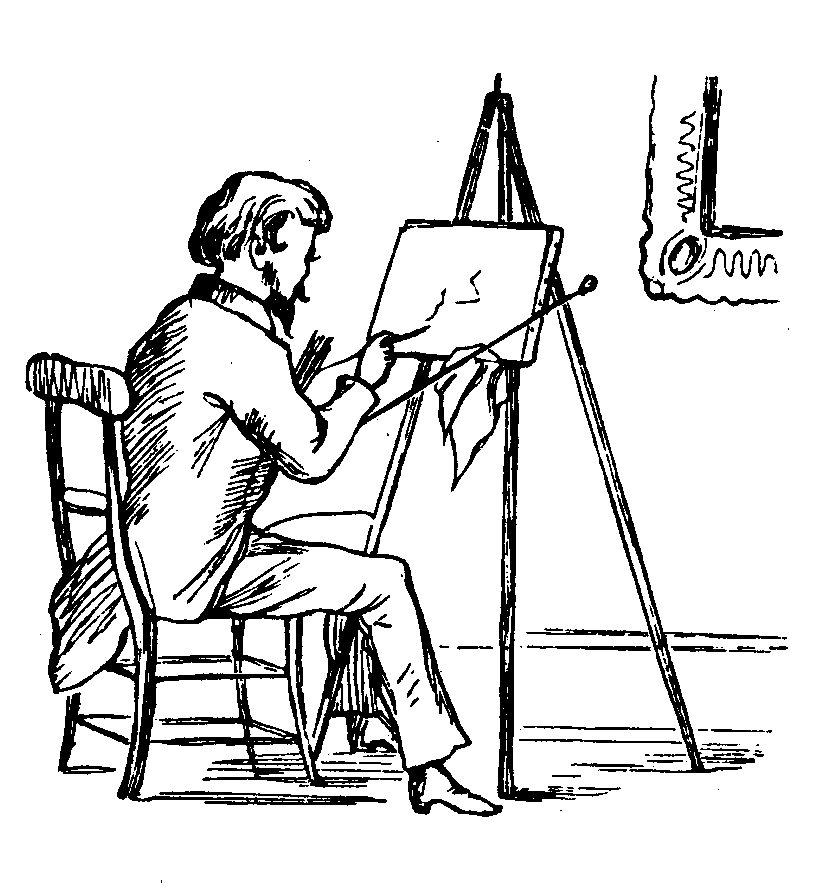 Перо:
- Три года господину своему
Служу я, написав картинок тьму,
Смешны их лица сердцу и уму.
Когда тебе, Альбом, смогу невинно
Раскрыть дела и думы господина,
Ты поразишься остроте картины!
Альбом:
- Дела и думы? Да любой пустяк,
Шепни хоть анекдот - я тут мастак -
И запиши, мой дорогой остряк!
Перо:
- Мне как слуге пришлось неутомимо
Идти во след чудному пилигриму,
Писать с нажимом или без нажима
Карикатуру, рифму и куплет,
Немой сюжет, билеты на обед,
Смешной рассказ для тех, кому пять лет,
Его ума глупейшие капризы,
В цель бьющие бесцельные регуризы
И речь, как у разгульного маркиза.
Писать, чтоб зарабатывать на хлеб,
Шутить, когда мой мэтр от боли слеп,
Чтоб в час его тоски ваш смех окреп.
С людьми всех званий говорить по суткам,
Быть с пэром равным, с леди - в меру чутким
И отдаваться бесконечным шуткам!..
Старинных яств истлевшее зерно,
В небытие утекшее вино,
Друзья, что спят в земле уже давно...
Перо:
- Три года господину своему
Служу я, написав картинок тьму,
Смешны их лица сердцу и уму.
Когда тебе, Альбом, смогу невинно
Раскрыть дела и думы господина,
Ты поразишься остроте картины!
Альбом:
- Дела и думы? Да любой пустяк,
Шепни хоть анекдот - я тут мастак -
И запиши, мой дорогой остряк!
Перо:
- Мне как слуге пришлось неутомимо
Идти во след чудному пилигриму,
Писать с нажимом или без нажима
Карикатуру, рифму и куплет,
Немой сюжет, билеты на обед,
Смешной рассказ для тех, кому пять лет,
Его ума глупейшие капризы,
В цель бьющие бесцельные регуризы
И речь, как у разгульного маркиза.
Писать, чтоб зарабатывать на хлеб,
Шутить, когда мой мэтр от боли слеп,
Чтоб в час его тоски ваш смех окреп.
С людьми всех званий говорить по суткам,
Быть с пэром равным, с леди - в меру чутким
И отдаваться бесконечным шуткам!..
Старинных яств истлевшее зерно,
В небытие утекшее вино,
Друзья, что спят в земле уже давно...
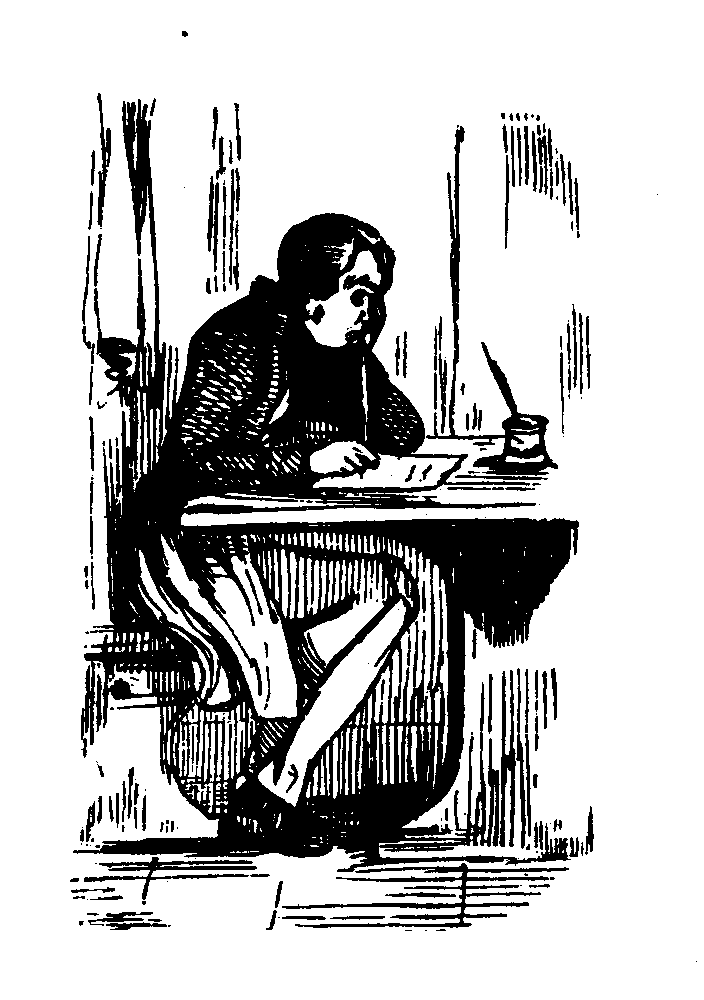 Банкет, помолвка, похороны, бал
И счет купца, кому он задолжал
На Рождество - я всем им отвечал.
Вот Дидлер угодил под меч дамоклов -
Ждет помощи, а мисс Беньон - автограф,
Я в "да" и "нет" - свой собственный биограф.
Мчит день за днем, как строчка за строкой,
Писать за здравье иль за упокой,
Хвалить, смеяться - долг извечный мой.
Так день за днем пишу, пока есть силы,
Как письмоносец ранний, ждет светило,
Чтоб высохли последние чернила.
-- " --
Вернись, мой славный маленький Альбом,
К прелестной Кэтрин, в свой уютный дом,
Всегда нам рады, только мы придем.
Глаза ее с искринкой золотою
(Пусть груб мой стих под шуткою пустою)
Приемлют все с привычной добротою.
Банкет, помолвка, похороны, бал
И счет купца, кому он задолжал
На Рождество - я всем им отвечал.
Вот Дидлер угодил под меч дамоклов -
Ждет помощи, а мисс Беньон - автограф,
Я в "да" и "нет" - свой собственный биограф.
Мчит день за днем, как строчка за строкой,
Писать за здравье иль за упокой,
Хвалить, смеяться - долг извечный мой.
Так день за днем пишу, пока есть силы,
Как письмоносец ранний, ждет светило,
Чтоб высохли последние чернила.
-- " --
Вернись, мой славный маленький Альбом,
К прелестной Кэтрин, в свой уютный дом,
Всегда нам рады, только мы придем.
Глаза ее с искринкой золотою
(Пусть груб мой стих под шуткою пустою)
Приемлют все с привычной добротою.
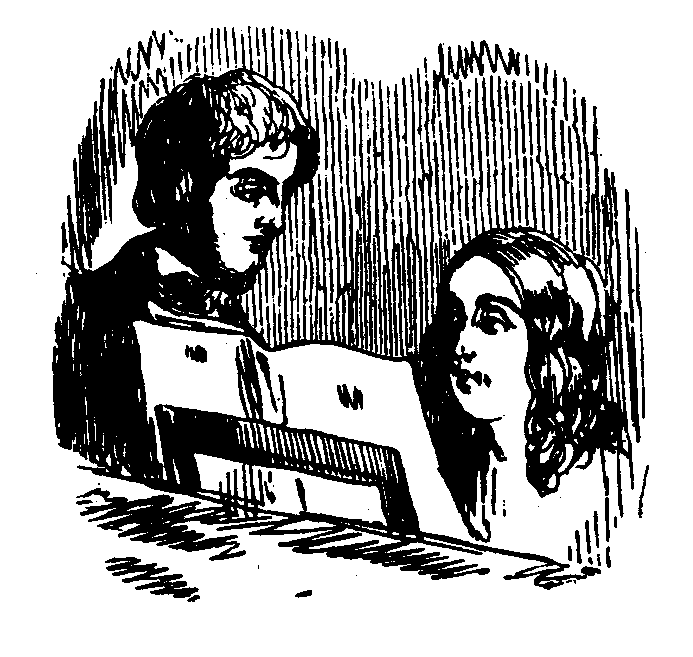 О милая хозяйка! Если вдруг
Мой мэтр начнет писать про боль разлук,
Позвольте мне назвать вас просто "друг"!
Планета изменяется с годами,
Заполнен мир чужими голосами,
Размыты имена друзей слезами.
Ты самого себя, Альбом, познай.
Хозяин мне велит сказать "прощай",
И ты вернешься к Кэт в уютный рай.
Он счастлив в благодарности безмерной,
Что найден друг в его заре вечерней
Столь нежный, столь душевный и столь верный.
Пустую фразу обойду всегда. Пришелец!
Мне любая лесть чужда,
И с ложью я справляюсь без груда.
О милая хозяйка! Если вдруг
Мой мэтр начнет писать про боль разлук,
Позвольте мне назвать вас просто "друг"!
Планета изменяется с годами,
Заполнен мир чужими голосами,
Размыты имена друзей слезами.
Ты самого себя, Альбом, познай.
Хозяин мне велит сказать "прощай",
И ты вернешься к Кэт в уютный рай.
Он счастлив в благодарности безмерной,
Что найден друг в его заре вечерней
Столь нежный, столь душевный и столь верный.
Пустую фразу обойду всегда. Пришелец!
Мне любая лесть чужда,
И с ложью я справляюсь без груда.
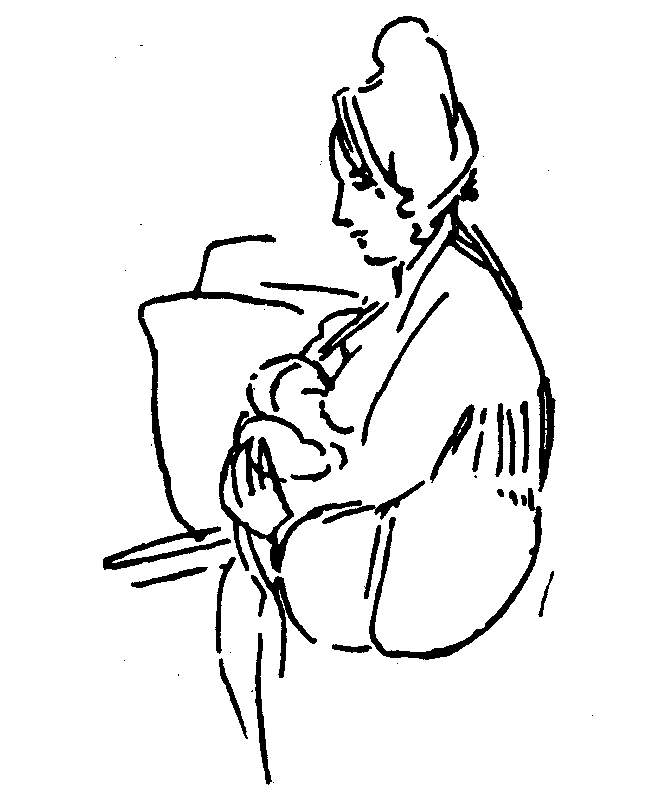 ^TДИК ТИХОНЯ И ТОМ ДРАЧУН^U
Добренький Дик
Влюблен в стопки книг,
А учитель - в него, что твой пастырь.
Том с давних времен
В синяк свой влюблен,
А нос его - в свеженький пластырь.
^TДИК ТИХОНЯ И ТОМ ДРАЧУН^U
Добренький Дик
Влюблен в стопки книг,
А учитель - в него, что твой пастырь.
Том с давних времен
В синяк свой влюблен,
А нос его - в свеженький пластырь.
 ^TНЕД-ВОИТЕЛЬ^U
Любит наш Нед
Гром военных побед,
Берет шлем и саблю с трубою.
Любая война
С барабаном дружна -
Глохнут все с барабанного бою.
^TТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ^U
Один мудрец когда-то жил,
Косичку славную носил.
"Зачем, - он раз себя спросил, -
Висит косичка сзади?"
Смутил его такой курьез,
И, отвечая на вопрос,
На нос косичку перенес,
Чтоб не болталась сзади.
Сказал он: "Знаю, в чем секрет!"
И тут же сделал пируэт,
Но, как и прежде, шлет привет
Ему косичка сзади.
Вертелся он туда-сюда
Вокруг себя, да вот беда:
Опять - ну что за ерунда! -
Висит косичка сзади.
Во лбу его седьмая пядь
Кружила вкось и вкривь и вспять,
Тугой косички не видать -
Висит упрямо сзади.
Мудрец - увы - лишился сна,
Но голова на то дана,
Чтобы косичка (вот те на!)
Всегда болталась сзади.
^TНЕД-ВОИТЕЛЬ^U
Любит наш Нед
Гром военных побед,
Берет шлем и саблю с трубою.
Любая война
С барабаном дружна -
Глохнут все с барабанного бою.
^TТРАГИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ^U
Один мудрец когда-то жил,
Косичку славную носил.
"Зачем, - он раз себя спросил, -
Висит косичка сзади?"
Смутил его такой курьез,
И, отвечая на вопрос,
На нос косичку перенес,
Чтоб не болталась сзади.
Сказал он: "Знаю, в чем секрет!"
И тут же сделал пируэт,
Но, как и прежде, шлет привет
Ему косичка сзади.
Вертелся он туда-сюда
Вокруг себя, да вот беда:
Опять - ну что за ерунда! -
Висит косичка сзади.
Во лбу его седьмая пядь
Кружила вкось и вкривь и вспять,
Тугой косички не видать -
Висит упрямо сзади.
Мудрец - увы - лишился сна,
Но голова на то дана,
Чтобы косичка (вот те на!)
Всегда болталась сзади.
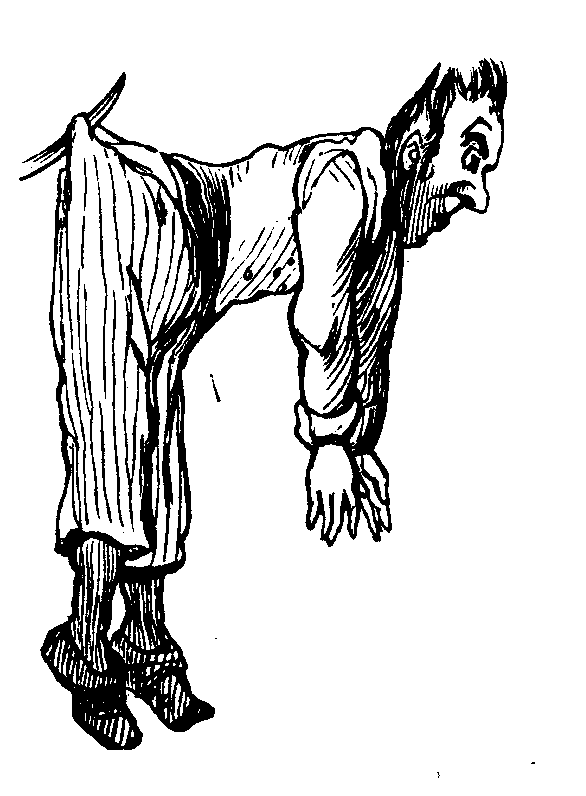 ^TПЕСЕНКА МОНАХА^U
Спешит к заутрене народ
В сей день, как и намедни,
Но слаще колокол поет
К концу любой обедни.
Чем чаще вижу я балык
И каплуна в приправе,
Тем веселее мой язык
Поет к обеду "Ave".
Вот мой амвон - скамья в пивной,
Где пью я восседая.
Девчонка сельская со мной -
Заступница святая.
Я, к спелой щечке приложась,
Погладить кудри вправе,
Она охоча всякий раз
Мое послушать "Ave".
Когда увижу две луны,
Господь простит монаха:
Я полон также и вины
И божеского страха.
Легка, как небо, наша плоть,
Кровь бьет потоком нежным.
Пусть жизнь меняется, Господь,
Ликер оставь нам прежним!
^TПЕСЕНКА МОНАХА^U
Спешит к заутрене народ
В сей день, как и намедни,
Но слаще колокол поет
К концу любой обедни.
Чем чаще вижу я балык
И каплуна в приправе,
Тем веселее мой язык
Поет к обеду "Ave".
Вот мой амвон - скамья в пивной,
Где пью я восседая.
Девчонка сельская со мной -
Заступница святая.
Я, к спелой щечке приложась,
Погладить кудри вправе,
Она охоча всякий раз
Мое послушать "Ave".
Когда увижу две луны,
Господь простит монаха:
Я полон также и вины
И божеского страха.
Легка, как небо, наша плоть,
Кровь бьет потоком нежным.
Пусть жизнь меняется, Господь,
Ликер оставь нам прежним!
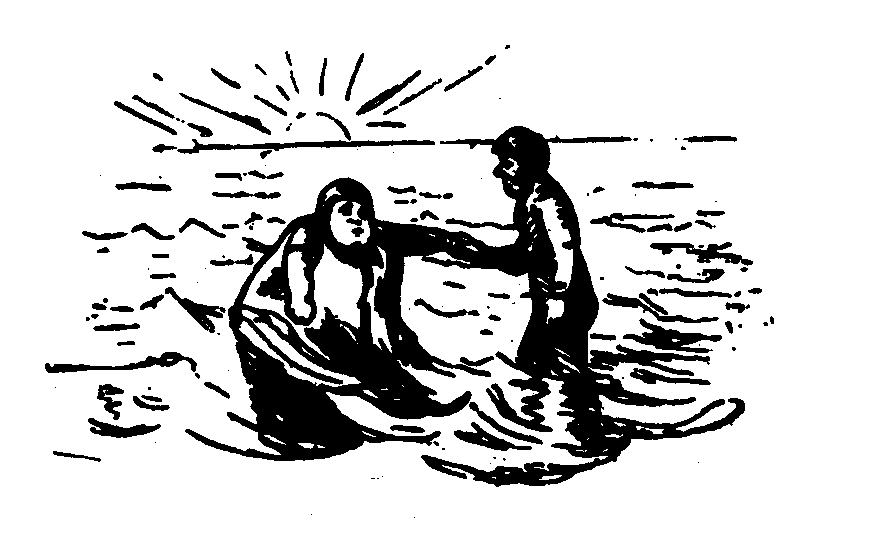 ^TТИМБУКТУ^U
Люд чернокожий в Африке курчавой
Живет, овеянный чудесной славой.
И где-то там, в таинственном свету,
Цветет град величавый Тимбукту.
Там прячет лев свой рык в ночные недра,
Порой сжирая бедолагу негра,
Объедки оставляя по лесам
На подлый пир стервятникам и псам.
Насытившись, чудовище лесное
Лежит меж пальм в прохладе и покое...
При свете факелов сверкнули вдруг мечи -
То негры пробираются в ночи.
Зверь окружен, и песня его спета -
Льва наповал бьет выстрел из мушкета.
Их дому жизнь и радости дарит
И то, к чему судьба приговорит:
Рабами их везут в чужие дали.
Так радость познает свои печали,
Покуда трутни за твоей спиной
Вкушают на Ямайке рай земной,
О бедный континент! Твое искусство
В груди рождает пламенное чувство!
Пусть девушки твои черны весь век,
Но не чисты ли души их, как снег?
О, тысячу раз "да" и бесконечно,
Так было, есть и так пребудет вечно.
День станет - испытает Альбион
Гнев Африки, кулак ее племен.
Она низринет в ореоле славы
Неписанные рабские уставы,
И бывшие монархи у нее
Выпрашивать начнут на прожитье.
^TТИМБУКТУ^U
Люд чернокожий в Африке курчавой
Живет, овеянный чудесной славой.
И где-то там, в таинственном свету,
Цветет град величавый Тимбукту.
Там прячет лев свой рык в ночные недра,
Порой сжирая бедолагу негра,
Объедки оставляя по лесам
На подлый пир стервятникам и псам.
Насытившись, чудовище лесное
Лежит меж пальм в прохладе и покое...
При свете факелов сверкнули вдруг мечи -
То негры пробираются в ночи.
Зверь окружен, и песня его спета -
Льва наповал бьет выстрел из мушкета.
Их дому жизнь и радости дарит
И то, к чему судьба приговорит:
Рабами их везут в чужие дали.
Так радость познает свои печали,
Покуда трутни за твоей спиной
Вкушают на Ямайке рай земной,
О бедный континент! Твое искусство
В груди рождает пламенное чувство!
Пусть девушки твои черны весь век,
Но не чисты ли души их, как снег?
О, тысячу раз "да" и бесконечно,
Так было, есть и так пребудет вечно.
День станет - испытает Альбион
Гнев Африки, кулак ее племен.
Она низринет в ореоле славы
Неписанные рабские уставы,
И бывшие монархи у нее
Выпрашивать начнут на прожитье.
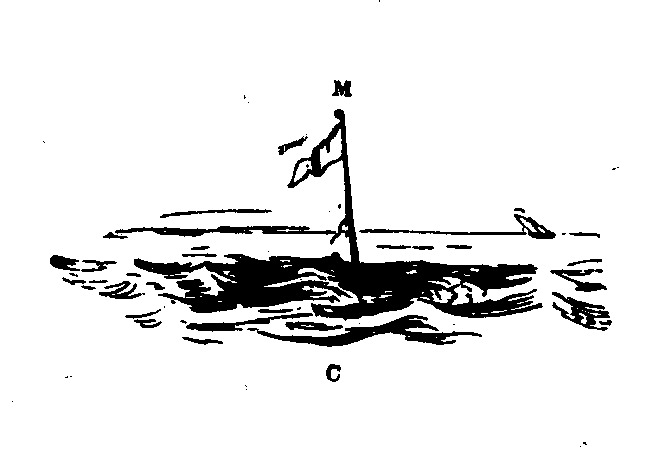 Аддисон Джозеф (1672-1719) -один из видных представителей английского
Просвещения, поэт, драматург, эссеист, государственный деятель. Вместе с
Ричардом Стилом сотрудничал в журналах "Болтун" и "Зритель". Его
сатирико-нравоучительные очерки положили начало просветительной журналистике
в Англии.
"Адельфи" - лондонский эстрадный театр.
Айсис - название участка реки Темзы в районе Оксфорда.
Анна Стюарт, Анна Английская (1665-1714) - королева Великобритании и
Ирландии с 1702 г., дочь Якова II, последняя королева династии Стюартов
(основной ветви).
Арнолд Мэтью (1822-1888) - английский поэт, видный критик, эссеист. В
своих произведениях выступил с резкой критикой мифа о "викторианском
процветании". Утверждал, что господство буржуазии привело к засилию
филистерства, падению культуры, деградации личности. Верил в воспитательную
роль искусства.
"Атенеум" - лондонский клуб преимущественно для ученых и писателей.
Основан в 1823 г. Буквальное значение названия - Храм Афины.
Бедлам - разговорное название Вифлеемской королевской психиатрической
больницы Девы Марии. Основана в 1247 г. в Лондоне; ныне переведена в
графство Кент. "Вифлеем" в разговорном английском произносится как "Бедлам",
откуда произошло и название, ставшее синонимом сумасшествия.
Беньян Джон (1628-1688) - медник по ремеслу, проповедник-баптист, много
лет проведший в тюрьме, где и написал свою аллегорическую поэму "Путь
паломника" (1678-1684) о странствии христианской души к небесному граду. В
поэме есть образ Города Суеты с его Ярмаркой. Поэма после Библии была самой
популярной книгой в XVIII и XIX вв.
Билль о реформе - имеется в виду билль о реформе парламентского
представительства 1832 г., предоставившей право голоса средней и мелкой
торгово-промышленной буржуазии, а также уничтожившей "гнилые местечки".
Бланшар Сэмюел Ломан (1803-1845) - видный английский журналист, друг
Теккерея. Его памяти Теккерей посвятил статью в журнале "Фрейзерз" в марте
1846 г. "Брат по перу об истории литератора Ламана Бланшара и превратностях
профессии литератора".
Блоггс - состоятельный лондонский виноторговец.
Брайтон - фешенебельный приморский курорт в графстве Суссекс. Был
особенно модным в XIX в.
Браун Джон (1810-1882)-шотландский врач, эссеист, друг Теккерея в
последние годы жизни.
Браунинг Элизабет Барретт (1806-1861)- английская поэтесса, мастер
любовной лирики, жена видного английского поэта и драматурга-романтика
Роберта Браунинга (1812-1889). К поэзии Браунингов Теккерей относился
сдержанно.
Брейем Джон (1774?-1856) - известный английский тенор,
певец-импровизатор, выступавший в театрах "Ковент-Гарден" и "Друри-Лейн".
Теккерей был поклонником его таланта, особенно дара импровизации. Посвятил
ему стихи.
Британский музей - один из крупнейших музеев мира, имеет коллекцию
памятников первобытной и античной культуры, культуры Древнего Востока,
богатейшее собрание гравюр, рисунков, керамики, монет. Основан в 1753 г.
Современное здание построено в 1823-1852 гг.
Брод - улица в Оксфорде, на которой находится знаменитая Бодлианская
библиотека (основана в 1598 г.); вторая по значению библиотека в
Великобритании после Британской библиотеки.
Брод-стрит - лондонский железнодорожный вокзал в Сити.
Бромптон-Кресчент - квартал полукругом стоящих богатых домов,
построенных преимущественно в 1820-1840 гг., на улице Бромптон в
фешенебельном квартале Лондона Кенсингтоне.
"Бродвуд" - фирма по изготовлению роялей и пианино. Основана в 1728 г.
Названа по имени основателя Джона Бродвуда.
Бронте Шарлотта (1816-1855) - английская писательница, современница
Теккерея. В ее творчестве своеобразно переплетаются романтические и
реалистические тенденции; сыграла значительную роль в развитии
психологического направления в английском классическом реализме. Писала под
псевдонимом Каррер Белл. Самое известное произведение - роман "Джейн Эйр"
(1847); также автор романов "Шерли" (1849), "Виллет" (1853) и др. В отзыве
на роман "Джейн Эйр", присланный ему на рецензию, Теккерей писал: "Кто ее
автор, я догадаться не могу. Если это женщина, она владеет языком лучше, чем
кто-либо из ныне живущих писательниц, или получила классическое образование.
Впрочем, это прекрасная книга. И мужчины, и женщины изображены превосходно;
стиль очень щедрый, так сказать, прямой. Передайте автору мою благодарность
и уважение. Этот роман - первая из современных книг, которую я смог прочесть
за последние годы". Теккерей встречался с Шарлоттой Бронте несколько раз.
Первая их встреча произошла в доме Смита (см. ниже). Ш. Бронте столь
волновалась, что была почти в полуобморочном состоянии. Но при этом ей не
изменила наблюдательность. В письме к отцу она рисует портрет Теккерея: "Это
очень высокий, шести футов с лишним человек. Его лицо показалось мне
необычным - он некрасив, даже очень некрасив, в его выражении есть нечто
суровое и насмешливое, но взгляд его иногда становится добрым". А вот
реакция Теккерея: "Помню маленькое, дрожащее создание, маленькую руку,
большие честные глаза. Именно непреклонная честность показалась мне
характерной для этой женщины. Я представил себе суровую маленькую Жанну
д'Арк, идущую на нас, чтобы упрекнуть за нашу легкую жизнь и легкую мораль.
Она произвела на меня впечатление человека очень чистого, благородного,
возвышенного".
Брукфилд Чарлз (1809-1874) - друг Теккерея по Кембриджу, английский
священник. В 1841 г. женился на Джейн Октавии Элтон (1821-1896), дочери
известного английского ученого, баронета Чарлза Элтона. В 1887 г. Джейн
Брукфилд, к удивлению и негодованию друзей Теккерея и его близких, продала
значительную часть писем писателя к ней. Свой поступок она объяснила
необходимостью погасить многочисленные долги своего сына-актера.
Булвер-Литтон Эдуард Джордж (1803-1873) - английский писатель,
драматург, автор остросюжетных исторических и так называемых "ньюгетских"
(по названию лондонской уголовной тюрьмы) романов, рисующих романтические
образы "благородных" преступников, - "Пэлем" (1828), "Поль Клиффорд" (1830),
"Юджин Эрам" (1832). Пользовался огромной популярностью у современников.
Теккерей не раз высмеивал в своих произведениях высокопарный стиль и
ходульные образы Булвера-Литтона.
Буллер Чарлз (1806-1848) - юрист, член парламента, друг Теккерея с
юношеских лет.
Веллингтон (наст, имя Артур Уэлсли, 1769-1852) - герцог (1814),
английский фельдмаршал (1813). В войне против наполеоновской Франции
командовал союзными войсками на Пиренейском полуострове (1808-1813) и
англо-голландской армией при Ватерлоо (1815). В 1827-1852 гг. -
главнокомандующий английской армией. В 1828-1830 гг. - премьер-министр
кабинета тори, в 1834-1835 гг. - министр иностранных дел, в 1841-1846 гг. -
министр без портфеля.
Война за независимость в Северной Америке (1775-1783) - носила характер
буржуазной революции. В ее результате в 1776 г. было образовано независимое
государство США.
Вопрос о воскресенье - имеется в виду строгое соблюдение в
викторианском обществе верующими воскресенья как церковного праздника;
запрещалось посещение театра, участие в спортивных играх, чтение светских
книг.
"Гаррик-клуб" - лондонский литературный и театральный клуб, знаменитый
своим собранием картин на театральные сюжеты. Основан в 1831 г. и существует
по сей день. Назван в честь знаменитого актера Дэвида Гаррика (1717-1779),
снискавшего славу исполнением заглавных ролей в пьесах Шекспира.
Георг IV (1762-1830) - король Великобритании (1820-1830). Будучи
принцем Уэльским, в 1811 г. стал регентом при своем отце, короле Георге III
(1738-1820), который был признан невменяемым и отстранен от власти.
Гете Иоганн Вольфганг (1749-1832) - вот как Теккерей вспоминает свою
встречу с Гете: "Я припоминаю очень ясно то тревожное, отчасти даже
тоскливое состояние духа, в которое приведен был я, молодой человек
девятнадцати лет, когда получил известие, что в такой-то день господин
тайный советник примет меня... Гете был в длинном сером сюртуке, белом
галстуке, с простой ленточкой в петлице. Мне показалось, что Гете в
старости, вероятнее, был красивее, нежели в молодости. Голос его был полон и
благозвучен. Никогда в жизни я не видел более ничего светлее, величественнее
и здоровее грандиозного старого Гете".
Голдсмит Оливер (1728-1774) - английский писатель-сентименталист.
Литературная деятельность Голдсмита была крайне разнообразной: эссеист,
поэт, драматург, романист. Одно из самых известных произведений писателя -
роман "Векфильдский священник" (1766). Цитируемые М. Форстер строки взяты из
поэмы Голдсмита "Покинутая деревня" (1770), с которой русскую публику
познакомил в 1902 г. В. А. Жуковский. К переводу этой поэмы обращались в
наши дни В. Хинкис и А. Ларин. В нашей книге положен в основу перевод В.
Хинкиса.
Гринвич - пригород южного Лондона. До 1948 г. там находилась
Гринвичская астрономическая обсерватория.
Гуд Томас (1835-1874) - известен больше как Том Гуд, сын видного
английского поэта и издателя Томаса Гуда (1799-1845). Продолжил издательское
дело отца. Выступал также как поэт и прозаик.
Дж. Дж. - Джон Джеймс Ридли, болезненный и горбатый мальчик, страстно
влюбленный в искусство, персонаж романа Теккерея "Ньюкомы". В 1856 г.
Теккерей решил развить историю Ридли и превратить ее в роман.
Предполагалось, что в романе Ридли женится, у него будут дети, внезапно он
влюбится в замужнюю женщину, но любовь к детям удержит его от ложных шагов.
Роман так и не был написан. В конце жизни, работая над "Приключениями
Филиппа", Теккерей вновь решил обратиться к истории Ридли, но и на этот раз
замысел остался неосуществленным. В истории Ридли легко угадываются
отношения писателя с Джейн Брукфилд.
Джерролд Дуглас Уильям (1803-1857) - английский литератор, драматург,
постоянный сотрудник "Панча", один из самых остроумных людей своего времени.
Джэксон Эндрью (1767-1845) - седьмой президент США, 1829-1837 гг.
Политическая группировка, которая объединила сторонников Джэксона, положила
начало Демократической партии США. В то же время Джэксон санкционировал
сохранение рабства негров, истребление индейцев, захват новых территорий.
Дизраэли Бенджамин, лорд Биконсфилд (1804-1881) - известный английский
писатель и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1868 г. и
1874-1880 гг., автор социальных романов "Конингсби" (1844), "Сибилла, или
Две нации" (1845). Глава "Молодой Англии", группировки молодых
консерваторов, выступивших с демагогическим лозунгом "обновления и
возвращения к феодальным формам общественных отношений" во имя "общего
блага". Пародию на Дизраэли Теккерей написал в серии "Романы прославленных
сочинителей".
Диссентер - член протестантской секты, не исповедующей государственной
англиканской религии.
Дотбойс-Холл - школа, принадлежавшая скряге Сквирзу в романе Чарлза
Диккенса "Николас Никльби" (1839).
Дэверней в роли Баядеры - видимо, имеется в виду исполнение
малоизвестной английской танцовщицей роли немой Баядеры в комической опере
Даниеля Франсуа Обера (1782-1871) "Бог и Баядера" (1830).
Залы Уиллиса, или залы Олмэка. Построены в 1764 г. шотландцем Уильямом
Маколлом (?-1781), владельцем игорного дома в Лондоне. Боясь, что репутация
владельца столь сомнительного учреждения помешает ему быть хозяином
великосветского салона, а именно таким ему виделось здание на Кинг-стрит,
Маколл изменил фамилию и стал Уильямом Олмэком. В залах давались балы для
самых сливок лондонского общества. Быть допущенным в залы Олмэка считалось
не меньшей привилегией, чем быть представленным ко двору. В конце века залы
Олмэка перешли новому владельцу Уиллису (отсюда и название). При Уиллисе
залы в основном использовались как место собраний, лекций, балов, званых
обедов. Закрылись в 1890 г., а в 1941 г. во время воздушного налета на
Лондон были разрушены. На лекциях Теккерея присутствовали Маколей, Генри
Льюис, X. Мартино, Карлейль. Вот что вспоминает Шарлотта Бронте, специально
приехавшая в Лондон весной 1851 г. на лекции Теккерея, о его выступлении в
залах Уиллиса. Бронте дала высокую оценку самим лекциям, их содержанию,
манере изложения, но была шокирована, с ее точки зрения, чрезмерной
светскостью Теккерея. Почему он читает в одном из самых фешенебельных залов
Лондона? Почему аудиторию составляют лишь верхи общества? Когда Теккерей
согласился перенести одну из лекций из-за того, что некоторые придворные
дамы не могли присутствовать на ней, Бронте была потрясена. Видимо,
английский писатель начала XX в. Уолтер де ла Мар отчасти прав, когда пишет,
что на лекциях Теккерея в залах Уиллиса слышалось "шуршание шелка,
аплодисменты, приглушенные перчатками, в которые затянуты руки, нестройный и
негромкий хор похвал".
"Заметка... речь в ней шла о казни через повешение". Имеется в виду
статья Теккерея "Как из казни устраивают зрелище", опубликованная в журнале
"Фрейзерз" в августе 1840 г.
Зал Независимости (Индепенденс-Холл) - дом собраний в Филадельфии.
Построен в 1732-1745 гг., башня сооружалась в 1750-1751 гг. Здесь в 1776 г.
была подписана Декларация Независимости (отсюда и название); здесь находится
и Колокол Свободы.
Йейтс Элизабет - английская актриса, жена видного английского актера и
директора театра "Адельфи" Фредерика Йейтса (1797-1842). Теккерей видел
миссис Йейтс, по-видимому, в пьесе "Париж и Лондон, или Путешествие через
Атлантический океан".
Камберленд - графство на северо-западе Англии, с апреля 1974 г. входит
в состав графства Камбрия.
Канцлерский суд - рассматривает гражданские дела. Организация
бюрократическая, требовала от истцов значительных материальных затрат.
Высмеяна Диккенсом в романе "Холодный дом" (1852-1853).
Карета, осыпанная монетами и рисом - обычай бросать рис вслед
молодоженам восходит к индийской традиции: рис - символ плодородия. Монета -
пожелание богатства.
Карлейль Джейн (1801-1866) - жена известного английского историка,
писателя и философа Томаса Карлейля (1795-1881), автора знаменитой "Истории
французской революции" (1837), женщина, обладавшая ярким, волевым характером
и незаурядным умом. Оставила богатое эпистолярное наследие, которое
принадлежит к лучшим образцам этого жанра в английской литературе. Теккерей
с большим уважением относился к творчеству Карлейля, посвятил ему статью,
находился под его влиянием.
Карн Джозеф - приятель Теккерея по школе, а затем по Кембриджу.
Кембл Фрэнсис Энн (Фанни, 1809-1893) - известная английская актриса,
дочь видного актера Чарлза Кембла (1775-1854). В историю вошла испол-,
нением шекспировских ролей. Ее портреты писали многие художники. В молодости
Теккерей был заворожен ее красотой, однако позже он был не слишком высокого
мнения о таланте Кембл.
"Китайцы и окружавшие их варвары" (1859) - статья английского
путешественника Джона Бауринга, основанная на впечатлениях от девятилетнего
пребывания на Востоке.
Кларендон Джордж: Уильям Фредерик Вилльерс, лорд (1800-1870) -
английский дипломат, политический деятель, либерал, министр иностранных дел
во время Крымской войны.
Клаф Артур Хью (1819-1861) - английский поэт, знакомый Теккерея. Кливден
- городок в Сомерсетшире, на юго-западе Англии, морской курорт.
Книга о картинах Бельгии - имеется в виду книга очерков Теккерея "Малые
странствия и дорожные зарисовки" (1840).
Колвилл, леди - жена Джеймса Колвилла, одного из знакомых Теккерея, по
"высшему свету". Леди Колвилл - автор записок о писателе.
Колридж Сэмюел Тейлор (1772-1834) - английский поэт-романтик, классик
литературы XIX в., автор фантастических поэм "Сказание о старом мореходе"
(1798), "Кубла Хан" (1798), "Кристабель" (1797-1802) и др. Известен также
как литературный критик.
Крайст-Черч - один из самых крупных аристократических колледжей
Оксфордского университета. Основан в 1525 г.
"Краун-дерби" - марка фарфора, производившегося в XVIII в. в г. Дерби.
Букв.: королевский дерби, его эмблема - корона над буквой Д.
Кроу Эйра, сэр Джозеф Арчер (1825-1896) - английский художник и историк
искусства, сын близкого друга Теккерея Эйры Эванса Кроу (1799-1868),
историка, романиста, журналиста. Был секретарем писателя в пору создания
"Генри Эсмонда" и во время первой поездки в США. Автор малосодержательных
воспоминаний о Теккерее.
Кроули - для Теккерея весьма характерно использование говорящих
фамилий: этот прием позволял без видимого вмешательства автора в текст
высказать отношение к персонажу. Кроули восходит к английскому глаголу "to
crawl" - ползти, пресмыкаться. Такую фамилию носят некоторые персонажи в
"Ярмарке тщеславия".
"Латинская грамматика для школ" - уже после смерти Теккерея на одном из
книжных аукционов за весьма солидную сумму была продана принадлежавшая ему в
школьные годы латинская грамматика Эйнсворта: все свободное пространство в
ней было испещрено карикатурами на "эту классическую муть", как говаривал
Теккерей, - античных богов и героев, неприязнь к которым он сохранил на всю
жизнь.
Лейб-гвардейская форма - Теккерей уговорил отчима, майора
КармайклаСмита, записать его в отряд лейб-гвардейцев, несущих личную охрану
королевского семейства. Их форма, сочетающая розовый и голубой цвета, была
очень красочной.
Лендсир Эдвин Генри (1802-1873) - английский художник-анималист. Автор
портрета Вальтера Скотта с его собакой. Был очень популярен в XIX в.
Придворный живописец королевы Виктории. Автор скульптурного изображения
львов у Колонны Нельсона на Трафальгарской площади.
Ловуд - школа в романе Шарлотты Бронте "Джейн Эйр"; там царили
жестокие, бесчеловечные порядки.
Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807-1882) - американский поэт-романтик, друг
Диккенса, переводчик, эссеист, драматург, классик литературы XIX в.
Лоуэлл Джеймс Рассел (1819-1891) - американский поэт, критик,
публицист. В 1857-1866 гг. был редактором журналов, в которых выступал как
страстный аболиционист, ведя борьбу против рабовладельческого Юга. В
1870-1880 гг. был послом США, в Испании и Англии.
Маколей Томас Бабингтон (1800-1859) - английский историк, литературный
критик, политический деятель. Автор статей о Мильтоне, Свифте, Аддисоне,
Байроне. Особую известность ему принесло трехтомное сочинение "Критические и
исторические очерки" (1843), с которым был хорошо знаком Теккерей. В одном
из первых номеров журнала "Корнхилл" была напечатана статья памяти только
что скончавшегося Маколея.
Макреди Уильям Чарлз (1793-1873) - знаменитый английский актер, снискал
славу исполнением шекспировских ролей.
Манифест против рабства - один из документов, выпущенных "Обществом
против рабства", организованным в Филадельфии в 1833 г. Свою цель общество
видело в том, чтобы всемерно способствовать уничтожению рабовладения в США.
"Манфронэ, или Однорукий монах" (1809) - роман Мэри Рэдклифф, часто
ошибочно приписываемый ее однофамилице Анне Рэдклифф (1764-1823), известной
представительнице школы "готического романа тайн и ужасов",
предромантического течения в английской литературе второй половины XVIII в.
Маргит - курорт в графстве Кент.
Марочетти Карло (1805-1867) - скульптор, итальянец по происхождению.
Бюст Теккерея его работы находится в Вестминстерском аббатстве.
Мартин Теодор (1816-1909) - английский юрист, общественный деятель,
литератор, друг Теккерея.
Меривейл Герман (1806-1874) - брат английского историка Чарлза
Меривейла (1808-1893). Сотрудник индийской колониальной службы, автор работ
об Индии.
"Мессия" (1742) - оратория Георга Фридриха Генделя (1685-1759),
немецкого композитора и органиста, с 1726 г. постоянно жившего в Англии.
"Минтон" - фирменное название фаянса, фарфора и другой керамики, в том
числе и майолики, и белого фарфора производства одноименной фирмы.
"Мистер Теккерей, мистер Йейтс и Гаррик-клуб" (1859) -
шестнадцатистраничный памфлет, автором которого был Чарлз Диккенс совместно
с Йейтсом. В нем изложены подробности ссоры.
Митфорд Уильям (1744-1827) - английский историк, автор капитального
труда "История Греции" (1785-1810).
"Молли из Воппинга" - видимо, пародия на "ньюгетский" роман, прежде
всего на Э. Булвера-Литтона, в основу которой была положена старинная
баллада "Истертые ступени Воппинга". В ней рассказывается история девушки
Молли, поклявшейся в верности своему возлюбленному, которого вели на казнь.
Воппинг - место виселиц вблизи лондонского Тауэра. В пору зрелости Теккерей,
продолжая свою борьбу с Булвером-Литтоном и всей школой "ньюгетского"
романа, написал пародию на народную балладу.
Мост Магдалины - мост через реку Черусел, протекающую вблизи колледжа
св. Магдалины (основан в 1458 г.) в Оксфорде.
Мэгинн Уильям (1793-1842) - английский издатель, эссеист, поэт, один из
самых образованных и блестящих людей своего времени. Главный редактор
журнала "Фрейзерз" в 30-е гг. XIX в.; оказал существенное влияние на
Теккерея в начале его творческого пути. Выведен в образе капитана Шендона в
"Пенденнисе".
Национальная галерея - крупнейшее в Великобритании собрание картин.
Находится на Трафальгар-сквер в Лондоне. Галерея открылась в 1824 г.
Ньюгет - центральная уголовная тюрьма в Лондоне. В эпоху Диккенса и
Теккерея у ее ворот совершались публичные казни.
Нью-йоркская библиотека для служащих - тип публичной библиотеки,
получившей широкое распространение в Америке в 20-е годы XIX в. Целью
библиотек для служащих было "распространение знаний среди низших слоев
общества". Плата за пользование была вполне умеренной. Одной из самых
крупных среди библиотек для служащих была Нью-йоркская библиотека: к 1850 г.
ее фонд состоял из 31674 книг. Директора этой библиотеки пригласили Теккерея
выступить с лекциями в Америке. Вот что писал по этому поводу Генри Джеймс -
старший, отец известного американского романиста: "Руководители Нью-йоркской
библиотеки тянутся к культуре и благородству и потому пригласили к себе на
родину не бухгалтера-доку, но одного из самых вдумчивых критиков нравов и
общества, тонкого юмориста, безжалостного сатирика-обличителя, с которым
вряд ли сможет сравниться кто-нибудь из современников".
Общество административных реформ - основано в мае 1852 г. Лауердом и
Сэмюелем Морли. Ставило своей задачей обнародование фактов,
свидетельствующих о бедственном положении английского народа, а также
посильное облегчение его судьбы. Разоблачало антинародную политику
английского правительства во время Крымской войны. Активным членом Общества
был Чарлз Диккенс.
"Ода к бредню" - видимо, пародия на романтический стиль в поэзии,
прежде всего на Перси Биши Шелли и Уильяма Вордсворта.
"Опыт о Большом Пальце, а также о свойствах и природе всякого Большого
Пальца" - видимо, пародия на сочинение Александра Попа (см. ниже) "Опыт о
человеке" (1733-1734) и в целом на просветительную этику и эстетику.
Остин Джейн (1775-1817) - известная английская писательница,
предшественница английских писателей-реалистов XIX в., мастер
психологического рисунка. Автор романов "Нортенгерское аббатство"
(1797-1798), "Здравый смысл и чувствительность" (1811), "Гордость и
предубеждение" (1813), "Эмма" (1816). Классик литературы конца XVIII -начала
XIX в.
Пальмерстон Генри Джон Темпл, виконт (1784-1865) - английский
государственный деятель. Лидер партии вигов, премьер-министр во время
Крымской войны. Его реакционную политику резко критиковал Карл Маркс.
Паркер Теодор (1810-1860) - американский общественный деятель, лидер
аболиционистов.
"Первое утро 1860 года" - видимо, стихотворение английской поэтессы
Кэролайн Арчер Клайв (1801-1873).
Перри Кент - дочь Джеймса Перри (?-1821), главного редактора "Морнинг
кроникл", весьма влиятельная фигура в лондонском обществе, друг и
корреспондент Теккерея с 1846 г. до самой смерти. Ей посвящено стихотворение
писателя "Перо и альбом" (1852).
"...пилюля была горькой, но то был комар в сравнении с этой новой
величиной с верблюда" - библейская аллюзия: см.: Матфей, 23, 24: "Вожди
слепые оцеживающие комара, а верблюда поглощающие".
Пирс Фрэнклин (1804-1869) - четырнадцатый президент США (1853-1857) от
Демократической партии. Один из президентов, с которым обедал Теккерей во
время своего пребывания в Америке.
Поп Александр (1688-1744) - выдающийся английский поэт, видный
литературный критик, переводчик. В своем "Опыте о критике" (1711)
сформулировал эстетические критерии просветительского классицизма, став
законодателем и главой этого литературного направления. Осуществил
(совместно с У. Брумом и Э. Фентоном) перевод на английский язык "Илиады"
(1715-1720) и "Одиссеи" (1725-1726) Гомера.
"Приключения Тома-Щеголя, Джереми Хоторна, эсквайра и их друга Боба
Умника" - роман второстепенного английского писателя Пирса Эгана
(1772-1849), который выходил ежемесячными выпусками в 1820-1821 гг., а
впоследствии неоднократно переиздавался. В нем содержатся красочные описания
столичной жизни и нравов. Иллюстрации к нему были сделаны братьями Робертом
и Джорджем Крукшенками.
Проктер Энн (1799-?) - видная фигура в викторианском обществе, держала
салон, одна из самых остроумных женщин своего времени, жена английского
поэта и драматурга, представителя позднего английского романтизма Брайена
Уоллера Проктера (1787-1874), писавшего под псевдонимом Барри Корнуолла.
Проктера переводил Пушкин ("Пью за здравие Мери"). Семья Проктеров была
дружна с Ли Хантом, Чарлзом Лэмом, Уильямом Хэзлиттом, Чарлзом Диккенсом,
Уильямом Теккереем, Брайену Проктеру Теккерей посвятил "Ярмарку тщеславия".
Пэлас-Грин - дом Теккерея находился в фешенебельном районе Лондона,
Кенсингтоне, известном своими особняками. Окна дома выходили на
Кенсингтонский дворец, в котором родилась королева Виктория.
Рай - один из пяти крупных портов Англии, находился в Восточном
Суссексе. Место действия незаконченного романа Теккерея "Дени Дюваль".
Розенбахи: братья Эйбрахам, Саймон Вулф (1876-1952) и Филип (18631953),
видные американские библиофилы и коллекционеры. В их собрании множество
редких книг, рукописей, писем.
Рочестер - романтический герой романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр".
Из-за весьма цветистого посвящения второго издания книги Теккерею
современники склонны были узнавать автора "Ярмарки тщеславия" в Рочестере.
Посвящая "Джейн Эйр" Теккерею, Ш. Бронте не скупилась на сравнения, похвалы
и метафоры. Она назвала его Титаном, говорила об его уникальности,
возвышенности ума и тонкости чувств "Если бы истина стала богиней, Теккерей
был бы ее верховным жрецом". Посвящение привело к скандалу, который с
радостью раздували газетчики. Они беззастенчиво намекали на то, что Бекки
Шарп - Каррер Белл. Все эти слухи и домыслы чрезвычайно досаждали Теккерею.
Однако, как показывает его переписка, он был весьма польщен отзывом Ш.
Бронте.
Рэй Гордон (р. 1915) - известный американский литературовед, признанный
авторитет в вопросах английской литературы XIX в. Автор многих работ о
Теккерее.
"Садлерз-Уэллз" - так в середине XVIII в. назывался английский
"МюзикХаус", принадлежавший Томасу Садлеру; был построен вблизи источника,
открытого в 1683 г. В 1755 г. "Мюзик-Хаус" с открытой сценой был перестроен
в театр.
Сайке Годфри (1825-1866)- английский художник, декоратор, принимал
участие в оформлении Саут-Кенсингтонского музея (см. ниже).
Саут-Кенсингтонская школа изящных искусств - школа живописи при
Саут-Кенсингтонском музее (с 1857 г. называется музей Виктории и Альберта) -
национальном музее изящных и прикладных искусств всех стран и эпох; хранит
собрание скульптуры, акварелей, миниатюр, а также коллекцию картин Дж.
Констебла и картоны Рафаэля.
Святой Георгий - считается покровителем Англии. День св. Георгия, 23
апреля, - национальный праздник.
Серл - актриса труппы театра "Садлерз-Уэллз", видимо, выступала в
феерии "Осада Гибралтара", весьма популярной в начале XIX в.
Скеллетт - имеется в виду Джон Генри Скелтон, коммерсант из Лондонского
Уэст-Энда, современники считали его не совсем нормальным. В 1837 г. выпустил
свод светских правил под названием "Моя книга, или Анатомия поведения". В
ноябре того же года Теккерей поместил в журнале "Фрейзерз" рецензию на книгу
Скелтона "Изящные оникдоты из жизни ористократии", которая была стилизована
под письмо в редакцию малограмотного лакея из "благородного дома",
безжалостно коверкающего английские слова. Немало поиздевавшись над нелепой
книгой, Теккерей увидел, что форма записок от лица кокни - удачный прием,
позволяющий высмеять не только автора, но и мещан, подобострастно взирающих
на высший свет. Так родились "Записки Желтоплюша" (1837-1838).
Смит Джордж (1824-1901) - один из самых известных издателей
викторианской эпохи, глава фирмы "Смит, Элдер и Кo" (1843), человек в высшей
степени одаренный, прекрасный собеседник, душа общества. Поклонник таланта
Теккерея, вместе с ним издавал журнал "Корнхилл". Открыл английской публике
талант Шарлотты Бронте - "Джейн Эйр" в 1847 г. вышла в его издательстве.
Выведен Ш. Бронте в образе доктора Джона в романе "Виллет" (1853).
Смоллетт Тобиас Джордж (1721-1771) - английский писатель-реалист,
продолжатель традиций Филдинга, обогативший английский роман элементами
социальной сатиры, автор романов "Приключения Родерика Рэндома" (1748),
"Приключения Перегрина Пикля" (1751), "Путешествие Хамфри Клинкера" (1771).
"Сноуд" - марка тонкого фарфора. Назван по имени основателя фирмы Дж.
Сноуда (1754-1827).
Стенли Генриетта Мария (?-1895) - жена лорда Эдуарда Джона Стенли
(1802-1863), видного политического деятеля партии вигов. Леди Стенли -
влиятельная фигура в политической и культурной жизни эпохи. Ратовала за
образование женщин, по ее инициативе была организована Либеральная женская
ассоциация.
Стил Ричард (1672-1729) - видный английский журналист, драматург,
политический деятель (виг). Издавал журналы "Болтун" (1709-1711) и,
совместно с Аддисоном, "Зритель" (1711-1714). Один из создателей жанра
"серьезной комедии".
Таттерсоллз - лондонские конюшни, названы по имени первого владельца.
Здесь можно было нанять или купить лошадь. Сейчас - лондонский аукцион
чистокровных лошадей.
Тейлор Том (1817-1880) - английский драматург, журналист, сотрудничал с
"Панчем", в 1874 г. стал его главным редактором.
Теккерей Анна Изабелла (Анни, позд. леди Ричмонд Ритчи, 1837-1919) -
старшая дочь Теккерея, английская писательница, автор романов "История
Элизабет" (1863), "Старый Кенсингтон" (1881); ей принадлежат воспоминания об
отце.
Теккерей Изабелла (урожд. Шоу, 1816-1894) - жена Теккерея, пережила его
на тридцать лет.
Теккерей Хэрриет Мэрией (Минни, 1840-1875) - младшая дочь Теккерея, в
1867 г. вышла замуж за Лесли Стивена (1832-1904), видного философа, ученого,
историка литературы, отца известной английской писательницы Вирджинии Вулф
(от второго брака, 1882-1941).
Теккерей Эдуард - любимый племянник писателя, служил в Индии.
Темпл - название двух из четырех лондонских "Судебных корпораций" -
"Внутреннего Темпла" и "Среднего Темпла". Построены на месте, где в XII-XIV
вв. жили рыцари-тамплиеры и где был их храм. С XV в. средоточие английской
юриспруденции: здесь находились главные юридические корпорации, квартиры
юристов, там также проживали молодые люди, изучающие право и готовящиеся к
сдаче адвокатского экзамена. Теккерей жил в Среднем Темпле в 1831-1832 гг.
Темпл-Черч - старинная лондонская церковь, один из пяти оставшихся в
Англии средневековых храмов круглой формы. Сооружена в 1185 г. Сильно
пострадала от бомбежек во время второй мировой войны, ныне восстановлена.
Теннисон Альфред (1809-1892) - английский поэт, с 1850 г. поэт-лауреат.
Крупнейшее произведение Теннисона - цикл поэм "Королевские идиллии" (опубл.
в 1859 г.), основанный на легендах о короле Артуре и его рыцарях. Теннисон
пользовался огромной популярностью в XIX в.
"Тимбукту" - история создания этого стихотворения Теккерея такова:
студентам было предложено написать стихотворение на конкурс о городе в
Африке - Тимбукту. Победителем был признан Теннисон. Теккерей же послал свое
стихотворение редактору студенческого журнала "Сноб", где оно и было
напечатано. В нем он пародировал высокопарный стиль поэзии XVIII в. Особый
интерес представляют комментарии автора к стихотворению - заумные, и
наукообразные. Они, в свою очередь, пародировали манеру объяснений главы
колледжа, в котором учился Теккерей, Кристофера Вордсворта, младшего брата
известного английского поэта-романтика Уильяма Вордсворта (1770-1850).
Титмарш Микел Анджело - многие свои сочинения вплоть до "Ярмарки
тщеславия" (1847) Теккерей издавал под именем Микел Анджело Титмарша. От
лица этого скромного литератора" и художника писались предисловия, обращения
к читателю, большинство статей об искусстве, а порой он появлялся и как
персонаж. В имени Титмарша легко угадывается аналогия с Микеланджело. Тем
самым Теккерей намекал на собственные художнические склонности, а также на
физическое сходство с великим скульптором: у него, как и у Теккерея, был
сломан нос. Происхождение фамилии связано с трактатом XVII в., "напечатанным
для Сэмюела Тидмарша", который был в библиотеке Теккерея. Изменив "д" на
"т", Теккерей получил "говорящую" фамилию (Титмарш в переводе означает
"небольшое болото"), что вполне соответствовало ироническому темпераменту
писателя. Титмарш - не единственный псевдоним Теккерея. Их множество: Джон
Фиц-Будл, Желтоплюш, майор Гагаган, эдакий вариант ирландского Мюнхгаузена,
Айки Соломонз, Толстый Обозреватель и др. Именно поэтому Теккерея называли
"летучим голландцем английской литературы", за превращениями которого не
успевала следить английская публика.
Тринити - Тринити-Холл, колледж (Святой Троицы) Кембриджского
университета, основан в 1350 г.
Троллоп Энтони (1815-1882)- английский писатель-реалист, мастер
психологического рисунка, отличался огромной плодовитостью. Его произведения
делятся на многочастные циклы: из жизни провинциального духовенства (к этой
группе примыкает и упоминаемый в тексте роман "Пасторский дом во Фремли"
(1861); из парламентской жизни. Троллоп также автор путевых заметок. Друг
Теккерея, автор одного из первых критико-биографических исследований о
писателе ("Теккерей", 1879).
"Тайны Удольфского замка" (1794) - самый известный роман Анны Рэдклифф
(см. выше).
Уолпол Хорас (1717-1797) - английский писатель, сын премьер-министра
Роберта Уолпола (1676-1745). Член парламента, автор справочников о писателях
и художниках, драматург. Особую известность получил как создатель жанра
"готического романа тайн и ужасов" - роман "Замок Отранто" (1765). Известен
также своим обширным эпистолярным наследием (около 2700 писем),
представляющим ценный материал для истории английской культуры XVIII в.
Уотфорд - приморский город в графстве Манстер в Ирландии; известен
производством стекла.
Филдинг Генри (1704-1754) - английский писатель-реалист эпохи
Просвещения, автор романов "История приключений Джозефа Эндруса и его друга
мистера Абраама Адамса" (1742), "История Тома Джонса, найденыша" (1749),
семейно-бытовых и социально-политических комедий. В начале своего
творческого пути Теккерей провозгласил Филдинга своим учителем. К концу
жизни отношение к Филдингу стало более сдержанным.
Филдз Джеймс (1817-1881) - американский издатель, автор воспоминаний
"Мои дни с авторами" (1872). Один из американских друзей Теккерея.
Филлимор Миллард (1800-1874) - тринадцатый президент США (18501853) от
партии вигов. Один из двух президентов, с которыми обедал Теккерей во время
своего пребывания в США.
Фицджералд Эдуард (1809-1883) - английский поэт и переводчик. Основной
труд - перевод "Рубайат" Омара Хайяма (1859), один из шедевров английской
поэзии. Переводил также Софокла, Эсхила, Кальдерона, Мольера. Самый близкий
друг Теккерея, один из первых его биографов, прототип Доббина в "Ярмарке
тщеславия". Семитомная переписка Фицджералда - ценный источник сведений о
XIX столетии.
Форстер Джон (1812-1876) - близкий друг и биограф Диккенса, влиятельная
фигура в издательском мире викторианской эпохи. Отношения Теккерея с
Форстером были сложными. Однако, говоря о пародии Теккерея на Форстера в
серии "Лауреаты "Панча"", Маргарет Форстер допускает неточность. Такой
пародии не существует. Есть многочисленные карикатуры Теккерея на Форстера,
которые, как он сам говорил, подали ему идею написать серию пародий на
литераторов-современников.
Франклин Джон (1786-1847) - английский полярный исследователь. Погиб
вместе с членами своей экспедиции, достигнув острова Кинг-Уильям. В журнале
"Корнхилл" были напечатаны выдержки из дневника Аллена Янга, руководившего
поисками пропавших.
Хаммерсмит - район в западной части Лондона.
Хампстед - фешенебельный район на севере Лондона; частично сохраняет
характер живописной деревни.
Хант Ли Джеймс Генри (1784-1859) - английский поэт-романтик, драматург,
эссеист, издатель, видный литературный критик. Автор воспоминаний о Байроне.
Статья его памяти в журнале "Корнхилл" была написана его сыном Торнтоном Ли
Хантом. Выведен Диккенсом в романе "Холодный дом" в образе Скимпола.
Хеллем Генри Фииморис (1826-1850) - сын известного английского историка
и литературоведа Генри Хеллема (1777-1859), близкого друга Брукфилдов.
Молодой человек получил блестящее образование в Итоне, а затем в Кембридже.
Был влюблен в Джейн Брукфилд.
Хемпствейн под Харрогитом - Харрогит - фешенебельный курорт с
минеральными водами в графстве Йоркшир. Теккерей подумывал приобрести тут
дом, но из этого ничего не получилось.
Хогарт Джорджина - свояченица Диккенса, сестра его жены Кэтрин. Сразу
после замужества сестры переехала в дом к Диккенсам и взяла на себя все
заботы по хозяйству. Боготворила Диккенса, посвятила ему всю жизнь. Диккенс
относился к Джорджине очень тепло: был благодарен ей за порядок в доме, к
тому же она напоминала ему Мэри Хогарт, сестру Кэтрин и Джоржины, в которую
он был влюблен. Она умерла очень юной. Джорджина послужила прототипом "фей
домашнего очага" в романах Диккенса. Слова, что Диккенс увлекся свояченицей,
принадлежат не Теккерею, но одному из членов клуба Гаррика. Теккерей,
напротив, опроверг этот домысел, сказав: "Ничего подобного. Он увлечен
актрисой". Он имел в виду знаменитую английскую актрису Эллен Тернан. Фраза
в сильно искаженном виде была передана Диккенсу, что и послужило формальной
причиной ссоры.
Хрустальный дворец - огромный выставочный павильон из стекла и чугуна.
Построен в 1851 г. в Лондоне для "Великой выставки". Сгорел в 1936 г.
Чартерхаус - одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных
средних школ в Англии плата за обучение высокая. Основана в 1611 г.,
находилась в здании бывшего картезианского монастыря в Лондоне, в 1872 г.
переведена в г. Годалминг, графство Суррей, ок. 650 учащихся.
Чампен Джон (1821-1897) - видный английский издатель, глава фирмы
"Чапмен и Холл", журналист, главный редактор "Вестминстерского обозрения" в
1852-1854 гг.
Эллиот Джейн Фредерик (?-1861) - сестра Кейт Перри, занималась
благотворительностью - обучением бедных детей. Этель - персонаж романа
"Ньюкомы".
Эшбертон Хэрриет Мэри Монтагю - жена лорда Уильяма Бингхема Эшбертона
(1799-1864), члена парламента в 1826-1846 гг. Теккерей поддерживал с ним и
его женой дружеские отношения, часто бывал в их доме, где собирались
известные политические деятели и видные литераторы. Лорду Эшбертону Теккерей
посвятил "Генри Эсмонда".
Юм Дэвид (1711-1776) - английский философ, историк, автор
многочисленных эссе на общественно-политические, морально-эстетические и
экономические темы. Его "История Англии" (1754-1762) грешит многочисленными
фактическими неточностями.
Е. Ю. Гениева
^TОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕККЕРЕЯ И ЛИТЕРАТУРА О НЕМ^U
Теккерей У. М. Собрание сочинений. В 12-ти т./Под общ. ред. А. А.
Аникста, М. Ф. Лорие, М. В. Урнова. М.: Худож. лит. 1974-1980. Содержание
томов: т. 1. Из "Записок Желтоплюша". - Роковые сапоги. - Дневник Кокса. -
Кэтрин. - В благородном семействе. - История Сэмюела Титмарша и знаменитого
брилланта Хоггарти; т. 2. "Вороново крыло". - Жена Денниса Хаггарти. -
Рейнская легенда. - Парижские письма. - Размышления по поводу истории
разбойников. - О наших ежегодниках. - Как из казни устраивают зрелище. -
Модная сочинительница. - Сочинения Фильдинга. - Диккенс во Франции. - Лекции
мисс Тиклтоби по истории Англии. - История очередной французской революции.
- Новые романы. - Сибилла, сочинение Дизраэли. - Сверчок за очагом,
сочинение Чарльза Диккенса. - Георги. - Романы прославленных сочинителей. -
Лондонские зрелища. - Польский бал. - Митинг на Кеннингтон-Коммон. -
Чартистский митинг; т. 3. Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им
самим. - Книга снобов, написанная одним из них; т. 4. Ярмарка тщеславия; т.
5-6. История Пенденниса, его удач и злоключений, его друзей и его злейшего
врага; т. 7. История Генри Эсмонда, эсквайра, полковника службы ее
величества королевы Анны, написанная им самим. - Английские юмористы XVIII
века; т. 8-9. Ньюкомы: Жизнеописания одной весьма почтенной семьи,
составленные Артуром Пенденнисом, эсквайром; т. 10. Виргинцы; 11. Виргинцы.
- Четыре Георга; т. 12. Доктор Роззги и его юные друзья. - Ревекка и Ровена.
- Кольцо и роза. - О собственном достоинстве литературы. - Картинки жизни и
нравов: Художник Джон Лич. - Из "Заметок о разных разностях". - Дени Дюваль.
Примечания к "Дени Дювалю". - Стихотворения.
Александров Н. Н. В. Теккерей. Его жизнь и литературная деятельность.
Спб., 1891. 78 с.
Алексеев А. А. Теккерей-рисовалыцик. - В кн.: Алексеев А. А. Из истории
английской литературы. М.-Л.: ГИХЛ, 1960, с. 419-452.
Вахрушев В. С. Творчество Теккерея. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1984.
149 с.
Елистратова А. А. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М.:
Наука, 1972. 322 с.
Ивашева В. В. Теккерей-сатирик. М.: Изд-во МГУ, 1958. 304 с.
Ивашева В. В. За щитом скептицизма: У. М. Теккерей, 1811-1863. - В кн.:
Ивашева В. В. Английский реалистический роман в его современном звучании.
М., 1974, с. 193-263.
Карельский А. В. От героя к человеку. - Вопр. лит., 1983, э 9, с.
81-122.
Аддисон Джозеф (1672-1719) -один из видных представителей английского
Просвещения, поэт, драматург, эссеист, государственный деятель. Вместе с
Ричардом Стилом сотрудничал в журналах "Болтун" и "Зритель". Его
сатирико-нравоучительные очерки положили начало просветительной журналистике
в Англии.
"Адельфи" - лондонский эстрадный театр.
Айсис - название участка реки Темзы в районе Оксфорда.
Анна Стюарт, Анна Английская (1665-1714) - королева Великобритании и
Ирландии с 1702 г., дочь Якова II, последняя королева династии Стюартов
(основной ветви).
Арнолд Мэтью (1822-1888) - английский поэт, видный критик, эссеист. В
своих произведениях выступил с резкой критикой мифа о "викторианском
процветании". Утверждал, что господство буржуазии привело к засилию
филистерства, падению культуры, деградации личности. Верил в воспитательную
роль искусства.
"Атенеум" - лондонский клуб преимущественно для ученых и писателей.
Основан в 1823 г. Буквальное значение названия - Храм Афины.
Бедлам - разговорное название Вифлеемской королевской психиатрической
больницы Девы Марии. Основана в 1247 г. в Лондоне; ныне переведена в
графство Кент. "Вифлеем" в разговорном английском произносится как "Бедлам",
откуда произошло и название, ставшее синонимом сумасшествия.
Беньян Джон (1628-1688) - медник по ремеслу, проповедник-баптист, много
лет проведший в тюрьме, где и написал свою аллегорическую поэму "Путь
паломника" (1678-1684) о странствии христианской души к небесному граду. В
поэме есть образ Города Суеты с его Ярмаркой. Поэма после Библии была самой
популярной книгой в XVIII и XIX вв.
Билль о реформе - имеется в виду билль о реформе парламентского
представительства 1832 г., предоставившей право голоса средней и мелкой
торгово-промышленной буржуазии, а также уничтожившей "гнилые местечки".
Бланшар Сэмюел Ломан (1803-1845) - видный английский журналист, друг
Теккерея. Его памяти Теккерей посвятил статью в журнале "Фрейзерз" в марте
1846 г. "Брат по перу об истории литератора Ламана Бланшара и превратностях
профессии литератора".
Блоггс - состоятельный лондонский виноторговец.
Брайтон - фешенебельный приморский курорт в графстве Суссекс. Был
особенно модным в XIX в.
Браун Джон (1810-1882)-шотландский врач, эссеист, друг Теккерея в
последние годы жизни.
Браунинг Элизабет Барретт (1806-1861)- английская поэтесса, мастер
любовной лирики, жена видного английского поэта и драматурга-романтика
Роберта Браунинга (1812-1889). К поэзии Браунингов Теккерей относился
сдержанно.
Брейем Джон (1774?-1856) - известный английский тенор,
певец-импровизатор, выступавший в театрах "Ковент-Гарден" и "Друри-Лейн".
Теккерей был поклонником его таланта, особенно дара импровизации. Посвятил
ему стихи.
Британский музей - один из крупнейших музеев мира, имеет коллекцию
памятников первобытной и античной культуры, культуры Древнего Востока,
богатейшее собрание гравюр, рисунков, керамики, монет. Основан в 1753 г.
Современное здание построено в 1823-1852 гг.
Брод - улица в Оксфорде, на которой находится знаменитая Бодлианская
библиотека (основана в 1598 г.); вторая по значению библиотека в
Великобритании после Британской библиотеки.
Брод-стрит - лондонский железнодорожный вокзал в Сити.
Бромптон-Кресчент - квартал полукругом стоящих богатых домов,
построенных преимущественно в 1820-1840 гг., на улице Бромптон в
фешенебельном квартале Лондона Кенсингтоне.
"Бродвуд" - фирма по изготовлению роялей и пианино. Основана в 1728 г.
Названа по имени основателя Джона Бродвуда.
Бронте Шарлотта (1816-1855) - английская писательница, современница
Теккерея. В ее творчестве своеобразно переплетаются романтические и
реалистические тенденции; сыграла значительную роль в развитии
психологического направления в английском классическом реализме. Писала под
псевдонимом Каррер Белл. Самое известное произведение - роман "Джейн Эйр"
(1847); также автор романов "Шерли" (1849), "Виллет" (1853) и др. В отзыве
на роман "Джейн Эйр", присланный ему на рецензию, Теккерей писал: "Кто ее
автор, я догадаться не могу. Если это женщина, она владеет языком лучше, чем
кто-либо из ныне живущих писательниц, или получила классическое образование.
Впрочем, это прекрасная книга. И мужчины, и женщины изображены превосходно;
стиль очень щедрый, так сказать, прямой. Передайте автору мою благодарность
и уважение. Этот роман - первая из современных книг, которую я смог прочесть
за последние годы". Теккерей встречался с Шарлоттой Бронте несколько раз.
Первая их встреча произошла в доме Смита (см. ниже). Ш. Бронте столь
волновалась, что была почти в полуобморочном состоянии. Но при этом ей не
изменила наблюдательность. В письме к отцу она рисует портрет Теккерея: "Это
очень высокий, шести футов с лишним человек. Его лицо показалось мне
необычным - он некрасив, даже очень некрасив, в его выражении есть нечто
суровое и насмешливое, но взгляд его иногда становится добрым". А вот
реакция Теккерея: "Помню маленькое, дрожащее создание, маленькую руку,
большие честные глаза. Именно непреклонная честность показалась мне
характерной для этой женщины. Я представил себе суровую маленькую Жанну
д'Арк, идущую на нас, чтобы упрекнуть за нашу легкую жизнь и легкую мораль.
Она произвела на меня впечатление человека очень чистого, благородного,
возвышенного".
Брукфилд Чарлз (1809-1874) - друг Теккерея по Кембриджу, английский
священник. В 1841 г. женился на Джейн Октавии Элтон (1821-1896), дочери
известного английского ученого, баронета Чарлза Элтона. В 1887 г. Джейн
Брукфилд, к удивлению и негодованию друзей Теккерея и его близких, продала
значительную часть писем писателя к ней. Свой поступок она объяснила
необходимостью погасить многочисленные долги своего сына-актера.
Булвер-Литтон Эдуард Джордж (1803-1873) - английский писатель,
драматург, автор остросюжетных исторических и так называемых "ньюгетских"
(по названию лондонской уголовной тюрьмы) романов, рисующих романтические
образы "благородных" преступников, - "Пэлем" (1828), "Поль Клиффорд" (1830),
"Юджин Эрам" (1832). Пользовался огромной популярностью у современников.
Теккерей не раз высмеивал в своих произведениях высокопарный стиль и
ходульные образы Булвера-Литтона.
Буллер Чарлз (1806-1848) - юрист, член парламента, друг Теккерея с
юношеских лет.
Веллингтон (наст, имя Артур Уэлсли, 1769-1852) - герцог (1814),
английский фельдмаршал (1813). В войне против наполеоновской Франции
командовал союзными войсками на Пиренейском полуострове (1808-1813) и
англо-голландской армией при Ватерлоо (1815). В 1827-1852 гг. -
главнокомандующий английской армией. В 1828-1830 гг. - премьер-министр
кабинета тори, в 1834-1835 гг. - министр иностранных дел, в 1841-1846 гг. -
министр без портфеля.
Война за независимость в Северной Америке (1775-1783) - носила характер
буржуазной революции. В ее результате в 1776 г. было образовано независимое
государство США.
Вопрос о воскресенье - имеется в виду строгое соблюдение в
викторианском обществе верующими воскресенья как церковного праздника;
запрещалось посещение театра, участие в спортивных играх, чтение светских
книг.
"Гаррик-клуб" - лондонский литературный и театральный клуб, знаменитый
своим собранием картин на театральные сюжеты. Основан в 1831 г. и существует
по сей день. Назван в честь знаменитого актера Дэвида Гаррика (1717-1779),
снискавшего славу исполнением заглавных ролей в пьесах Шекспира.
Георг IV (1762-1830) - король Великобритании (1820-1830). Будучи
принцем Уэльским, в 1811 г. стал регентом при своем отце, короле Георге III
(1738-1820), который был признан невменяемым и отстранен от власти.
Гете Иоганн Вольфганг (1749-1832) - вот как Теккерей вспоминает свою
встречу с Гете: "Я припоминаю очень ясно то тревожное, отчасти даже
тоскливое состояние духа, в которое приведен был я, молодой человек
девятнадцати лет, когда получил известие, что в такой-то день господин
тайный советник примет меня... Гете был в длинном сером сюртуке, белом
галстуке, с простой ленточкой в петлице. Мне показалось, что Гете в
старости, вероятнее, был красивее, нежели в молодости. Голос его был полон и
благозвучен. Никогда в жизни я не видел более ничего светлее, величественнее
и здоровее грандиозного старого Гете".
Голдсмит Оливер (1728-1774) - английский писатель-сентименталист.
Литературная деятельность Голдсмита была крайне разнообразной: эссеист,
поэт, драматург, романист. Одно из самых известных произведений писателя -
роман "Векфильдский священник" (1766). Цитируемые М. Форстер строки взяты из
поэмы Голдсмита "Покинутая деревня" (1770), с которой русскую публику
познакомил в 1902 г. В. А. Жуковский. К переводу этой поэмы обращались в
наши дни В. Хинкис и А. Ларин. В нашей книге положен в основу перевод В.
Хинкиса.
Гринвич - пригород южного Лондона. До 1948 г. там находилась
Гринвичская астрономическая обсерватория.
Гуд Томас (1835-1874) - известен больше как Том Гуд, сын видного
английского поэта и издателя Томаса Гуда (1799-1845). Продолжил издательское
дело отца. Выступал также как поэт и прозаик.
Дж. Дж. - Джон Джеймс Ридли, болезненный и горбатый мальчик, страстно
влюбленный в искусство, персонаж романа Теккерея "Ньюкомы". В 1856 г.
Теккерей решил развить историю Ридли и превратить ее в роман.
Предполагалось, что в романе Ридли женится, у него будут дети, внезапно он
влюбится в замужнюю женщину, но любовь к детям удержит его от ложных шагов.
Роман так и не был написан. В конце жизни, работая над "Приключениями
Филиппа", Теккерей вновь решил обратиться к истории Ридли, но и на этот раз
замысел остался неосуществленным. В истории Ридли легко угадываются
отношения писателя с Джейн Брукфилд.
Джерролд Дуглас Уильям (1803-1857) - английский литератор, драматург,
постоянный сотрудник "Панча", один из самых остроумных людей своего времени.
Джэксон Эндрью (1767-1845) - седьмой президент США, 1829-1837 гг.
Политическая группировка, которая объединила сторонников Джэксона, положила
начало Демократической партии США. В то же время Джэксон санкционировал
сохранение рабства негров, истребление индейцев, захват новых территорий.
Дизраэли Бенджамин, лорд Биконсфилд (1804-1881) - известный английский
писатель и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1868 г. и
1874-1880 гг., автор социальных романов "Конингсби" (1844), "Сибилла, или
Две нации" (1845). Глава "Молодой Англии", группировки молодых
консерваторов, выступивших с демагогическим лозунгом "обновления и
возвращения к феодальным формам общественных отношений" во имя "общего
блага". Пародию на Дизраэли Теккерей написал в серии "Романы прославленных
сочинителей".
Диссентер - член протестантской секты, не исповедующей государственной
англиканской религии.
Дотбойс-Холл - школа, принадлежавшая скряге Сквирзу в романе Чарлза
Диккенса "Николас Никльби" (1839).
Дэверней в роли Баядеры - видимо, имеется в виду исполнение
малоизвестной английской танцовщицей роли немой Баядеры в комической опере
Даниеля Франсуа Обера (1782-1871) "Бог и Баядера" (1830).
Залы Уиллиса, или залы Олмэка. Построены в 1764 г. шотландцем Уильямом
Маколлом (?-1781), владельцем игорного дома в Лондоне. Боясь, что репутация
владельца столь сомнительного учреждения помешает ему быть хозяином
великосветского салона, а именно таким ему виделось здание на Кинг-стрит,
Маколл изменил фамилию и стал Уильямом Олмэком. В залах давались балы для
самых сливок лондонского общества. Быть допущенным в залы Олмэка считалось
не меньшей привилегией, чем быть представленным ко двору. В конце века залы
Олмэка перешли новому владельцу Уиллису (отсюда и название). При Уиллисе
залы в основном использовались как место собраний, лекций, балов, званых
обедов. Закрылись в 1890 г., а в 1941 г. во время воздушного налета на
Лондон были разрушены. На лекциях Теккерея присутствовали Маколей, Генри
Льюис, X. Мартино, Карлейль. Вот что вспоминает Шарлотта Бронте, специально
приехавшая в Лондон весной 1851 г. на лекции Теккерея, о его выступлении в
залах Уиллиса. Бронте дала высокую оценку самим лекциям, их содержанию,
манере изложения, но была шокирована, с ее точки зрения, чрезмерной
светскостью Теккерея. Почему он читает в одном из самых фешенебельных залов
Лондона? Почему аудиторию составляют лишь верхи общества? Когда Теккерей
согласился перенести одну из лекций из-за того, что некоторые придворные
дамы не могли присутствовать на ней, Бронте была потрясена. Видимо,
английский писатель начала XX в. Уолтер де ла Мар отчасти прав, когда пишет,
что на лекциях Теккерея в залах Уиллиса слышалось "шуршание шелка,
аплодисменты, приглушенные перчатками, в которые затянуты руки, нестройный и
негромкий хор похвал".
"Заметка... речь в ней шла о казни через повешение". Имеется в виду
статья Теккерея "Как из казни устраивают зрелище", опубликованная в журнале
"Фрейзерз" в августе 1840 г.
Зал Независимости (Индепенденс-Холл) - дом собраний в Филадельфии.
Построен в 1732-1745 гг., башня сооружалась в 1750-1751 гг. Здесь в 1776 г.
была подписана Декларация Независимости (отсюда и название); здесь находится
и Колокол Свободы.
Йейтс Элизабет - английская актриса, жена видного английского актера и
директора театра "Адельфи" Фредерика Йейтса (1797-1842). Теккерей видел
миссис Йейтс, по-видимому, в пьесе "Париж и Лондон, или Путешествие через
Атлантический океан".
Камберленд - графство на северо-западе Англии, с апреля 1974 г. входит
в состав графства Камбрия.
Канцлерский суд - рассматривает гражданские дела. Организация
бюрократическая, требовала от истцов значительных материальных затрат.
Высмеяна Диккенсом в романе "Холодный дом" (1852-1853).
Карета, осыпанная монетами и рисом - обычай бросать рис вслед
молодоженам восходит к индийской традиции: рис - символ плодородия. Монета -
пожелание богатства.
Карлейль Джейн (1801-1866) - жена известного английского историка,
писателя и философа Томаса Карлейля (1795-1881), автора знаменитой "Истории
французской революции" (1837), женщина, обладавшая ярким, волевым характером
и незаурядным умом. Оставила богатое эпистолярное наследие, которое
принадлежит к лучшим образцам этого жанра в английской литературе. Теккерей
с большим уважением относился к творчеству Карлейля, посвятил ему статью,
находился под его влиянием.
Карн Джозеф - приятель Теккерея по школе, а затем по Кембриджу.
Кембл Фрэнсис Энн (Фанни, 1809-1893) - известная английская актриса,
дочь видного актера Чарлза Кембла (1775-1854). В историю вошла испол-,
нением шекспировских ролей. Ее портреты писали многие художники. В молодости
Теккерей был заворожен ее красотой, однако позже он был не слишком высокого
мнения о таланте Кембл.
"Китайцы и окружавшие их варвары" (1859) - статья английского
путешественника Джона Бауринга, основанная на впечатлениях от девятилетнего
пребывания на Востоке.
Кларендон Джордж: Уильям Фредерик Вилльерс, лорд (1800-1870) -
английский дипломат, политический деятель, либерал, министр иностранных дел
во время Крымской войны.
Клаф Артур Хью (1819-1861) - английский поэт, знакомый Теккерея. Кливден
- городок в Сомерсетшире, на юго-западе Англии, морской курорт.
Книга о картинах Бельгии - имеется в виду книга очерков Теккерея "Малые
странствия и дорожные зарисовки" (1840).
Колвилл, леди - жена Джеймса Колвилла, одного из знакомых Теккерея, по
"высшему свету". Леди Колвилл - автор записок о писателе.
Колридж Сэмюел Тейлор (1772-1834) - английский поэт-романтик, классик
литературы XIX в., автор фантастических поэм "Сказание о старом мореходе"
(1798), "Кубла Хан" (1798), "Кристабель" (1797-1802) и др. Известен также
как литературный критик.
Крайст-Черч - один из самых крупных аристократических колледжей
Оксфордского университета. Основан в 1525 г.
"Краун-дерби" - марка фарфора, производившегося в XVIII в. в г. Дерби.
Букв.: королевский дерби, его эмблема - корона над буквой Д.
Кроу Эйра, сэр Джозеф Арчер (1825-1896) - английский художник и историк
искусства, сын близкого друга Теккерея Эйры Эванса Кроу (1799-1868),
историка, романиста, журналиста. Был секретарем писателя в пору создания
"Генри Эсмонда" и во время первой поездки в США. Автор малосодержательных
воспоминаний о Теккерее.
Кроули - для Теккерея весьма характерно использование говорящих
фамилий: этот прием позволял без видимого вмешательства автора в текст
высказать отношение к персонажу. Кроули восходит к английскому глаголу "to
crawl" - ползти, пресмыкаться. Такую фамилию носят некоторые персонажи в
"Ярмарке тщеславия".
"Латинская грамматика для школ" - уже после смерти Теккерея на одном из
книжных аукционов за весьма солидную сумму была продана принадлежавшая ему в
школьные годы латинская грамматика Эйнсворта: все свободное пространство в
ней было испещрено карикатурами на "эту классическую муть", как говаривал
Теккерей, - античных богов и героев, неприязнь к которым он сохранил на всю
жизнь.
Лейб-гвардейская форма - Теккерей уговорил отчима, майора
КармайклаСмита, записать его в отряд лейб-гвардейцев, несущих личную охрану
королевского семейства. Их форма, сочетающая розовый и голубой цвета, была
очень красочной.
Лендсир Эдвин Генри (1802-1873) - английский художник-анималист. Автор
портрета Вальтера Скотта с его собакой. Был очень популярен в XIX в.
Придворный живописец королевы Виктории. Автор скульптурного изображения
львов у Колонны Нельсона на Трафальгарской площади.
Ловуд - школа в романе Шарлотты Бронте "Джейн Эйр"; там царили
жестокие, бесчеловечные порядки.
Лонгфелло Генри Уодсуорт (1807-1882) - американский поэт-романтик, друг
Диккенса, переводчик, эссеист, драматург, классик литературы XIX в.
Лоуэлл Джеймс Рассел (1819-1891) - американский поэт, критик,
публицист. В 1857-1866 гг. был редактором журналов, в которых выступал как
страстный аболиционист, ведя борьбу против рабовладельческого Юга. В
1870-1880 гг. был послом США, в Испании и Англии.
Маколей Томас Бабингтон (1800-1859) - английский историк, литературный
критик, политический деятель. Автор статей о Мильтоне, Свифте, Аддисоне,
Байроне. Особую известность ему принесло трехтомное сочинение "Критические и
исторические очерки" (1843), с которым был хорошо знаком Теккерей. В одном
из первых номеров журнала "Корнхилл" была напечатана статья памяти только
что скончавшегося Маколея.
Макреди Уильям Чарлз (1793-1873) - знаменитый английский актер, снискал
славу исполнением шекспировских ролей.
Манифест против рабства - один из документов, выпущенных "Обществом
против рабства", организованным в Филадельфии в 1833 г. Свою цель общество
видело в том, чтобы всемерно способствовать уничтожению рабовладения в США.
"Манфронэ, или Однорукий монах" (1809) - роман Мэри Рэдклифф, часто
ошибочно приписываемый ее однофамилице Анне Рэдклифф (1764-1823), известной
представительнице школы "готического романа тайн и ужасов",
предромантического течения в английской литературе второй половины XVIII в.
Маргит - курорт в графстве Кент.
Марочетти Карло (1805-1867) - скульптор, итальянец по происхождению.
Бюст Теккерея его работы находится в Вестминстерском аббатстве.
Мартин Теодор (1816-1909) - английский юрист, общественный деятель,
литератор, друг Теккерея.
Меривейл Герман (1806-1874) - брат английского историка Чарлза
Меривейла (1808-1893). Сотрудник индийской колониальной службы, автор работ
об Индии.
"Мессия" (1742) - оратория Георга Фридриха Генделя (1685-1759),
немецкого композитора и органиста, с 1726 г. постоянно жившего в Англии.
"Минтон" - фирменное название фаянса, фарфора и другой керамики, в том
числе и майолики, и белого фарфора производства одноименной фирмы.
"Мистер Теккерей, мистер Йейтс и Гаррик-клуб" (1859) -
шестнадцатистраничный памфлет, автором которого был Чарлз Диккенс совместно
с Йейтсом. В нем изложены подробности ссоры.
Митфорд Уильям (1744-1827) - английский историк, автор капитального
труда "История Греции" (1785-1810).
"Молли из Воппинга" - видимо, пародия на "ньюгетский" роман, прежде
всего на Э. Булвера-Литтона, в основу которой была положена старинная
баллада "Истертые ступени Воппинга". В ней рассказывается история девушки
Молли, поклявшейся в верности своему возлюбленному, которого вели на казнь.
Воппинг - место виселиц вблизи лондонского Тауэра. В пору зрелости Теккерей,
продолжая свою борьбу с Булвером-Литтоном и всей школой "ньюгетского"
романа, написал пародию на народную балладу.
Мост Магдалины - мост через реку Черусел, протекающую вблизи колледжа
св. Магдалины (основан в 1458 г.) в Оксфорде.
Мэгинн Уильям (1793-1842) - английский издатель, эссеист, поэт, один из
самых образованных и блестящих людей своего времени. Главный редактор
журнала "Фрейзерз" в 30-е гг. XIX в.; оказал существенное влияние на
Теккерея в начале его творческого пути. Выведен в образе капитана Шендона в
"Пенденнисе".
Национальная галерея - крупнейшее в Великобритании собрание картин.
Находится на Трафальгар-сквер в Лондоне. Галерея открылась в 1824 г.
Ньюгет - центральная уголовная тюрьма в Лондоне. В эпоху Диккенса и
Теккерея у ее ворот совершались публичные казни.
Нью-йоркская библиотека для служащих - тип публичной библиотеки,
получившей широкое распространение в Америке в 20-е годы XIX в. Целью
библиотек для служащих было "распространение знаний среди низших слоев
общества". Плата за пользование была вполне умеренной. Одной из самых
крупных среди библиотек для служащих была Нью-йоркская библиотека: к 1850 г.
ее фонд состоял из 31674 книг. Директора этой библиотеки пригласили Теккерея
выступить с лекциями в Америке. Вот что писал по этому поводу Генри Джеймс -
старший, отец известного американского романиста: "Руководители Нью-йоркской
библиотеки тянутся к культуре и благородству и потому пригласили к себе на
родину не бухгалтера-доку, но одного из самых вдумчивых критиков нравов и
общества, тонкого юмориста, безжалостного сатирика-обличителя, с которым
вряд ли сможет сравниться кто-нибудь из современников".
Общество административных реформ - основано в мае 1852 г. Лауердом и
Сэмюелем Морли. Ставило своей задачей обнародование фактов,
свидетельствующих о бедственном положении английского народа, а также
посильное облегчение его судьбы. Разоблачало антинародную политику
английского правительства во время Крымской войны. Активным членом Общества
был Чарлз Диккенс.
"Ода к бредню" - видимо, пародия на романтический стиль в поэзии,
прежде всего на Перси Биши Шелли и Уильяма Вордсворта.
"Опыт о Большом Пальце, а также о свойствах и природе всякого Большого
Пальца" - видимо, пародия на сочинение Александра Попа (см. ниже) "Опыт о
человеке" (1733-1734) и в целом на просветительную этику и эстетику.
Остин Джейн (1775-1817) - известная английская писательница,
предшественница английских писателей-реалистов XIX в., мастер
психологического рисунка. Автор романов "Нортенгерское аббатство"
(1797-1798), "Здравый смысл и чувствительность" (1811), "Гордость и
предубеждение" (1813), "Эмма" (1816). Классик литературы конца XVIII -начала
XIX в.
Пальмерстон Генри Джон Темпл, виконт (1784-1865) - английский
государственный деятель. Лидер партии вигов, премьер-министр во время
Крымской войны. Его реакционную политику резко критиковал Карл Маркс.
Паркер Теодор (1810-1860) - американский общественный деятель, лидер
аболиционистов.
"Первое утро 1860 года" - видимо, стихотворение английской поэтессы
Кэролайн Арчер Клайв (1801-1873).
Перри Кент - дочь Джеймса Перри (?-1821), главного редактора "Морнинг
кроникл", весьма влиятельная фигура в лондонском обществе, друг и
корреспондент Теккерея с 1846 г. до самой смерти. Ей посвящено стихотворение
писателя "Перо и альбом" (1852).
"...пилюля была горькой, но то был комар в сравнении с этой новой
величиной с верблюда" - библейская аллюзия: см.: Матфей, 23, 24: "Вожди
слепые оцеживающие комара, а верблюда поглощающие".
Пирс Фрэнклин (1804-1869) - четырнадцатый президент США (1853-1857) от
Демократической партии. Один из президентов, с которым обедал Теккерей во
время своего пребывания в Америке.
Поп Александр (1688-1744) - выдающийся английский поэт, видный
литературный критик, переводчик. В своем "Опыте о критике" (1711)
сформулировал эстетические критерии просветительского классицизма, став
законодателем и главой этого литературного направления. Осуществил
(совместно с У. Брумом и Э. Фентоном) перевод на английский язык "Илиады"
(1715-1720) и "Одиссеи" (1725-1726) Гомера.
"Приключения Тома-Щеголя, Джереми Хоторна, эсквайра и их друга Боба
Умника" - роман второстепенного английского писателя Пирса Эгана
(1772-1849), который выходил ежемесячными выпусками в 1820-1821 гг., а
впоследствии неоднократно переиздавался. В нем содержатся красочные описания
столичной жизни и нравов. Иллюстрации к нему были сделаны братьями Робертом
и Джорджем Крукшенками.
Проктер Энн (1799-?) - видная фигура в викторианском обществе, держала
салон, одна из самых остроумных женщин своего времени, жена английского
поэта и драматурга, представителя позднего английского романтизма Брайена
Уоллера Проктера (1787-1874), писавшего под псевдонимом Барри Корнуолла.
Проктера переводил Пушкин ("Пью за здравие Мери"). Семья Проктеров была
дружна с Ли Хантом, Чарлзом Лэмом, Уильямом Хэзлиттом, Чарлзом Диккенсом,
Уильямом Теккереем, Брайену Проктеру Теккерей посвятил "Ярмарку тщеславия".
Пэлас-Грин - дом Теккерея находился в фешенебельном районе Лондона,
Кенсингтоне, известном своими особняками. Окна дома выходили на
Кенсингтонский дворец, в котором родилась королева Виктория.
Рай - один из пяти крупных портов Англии, находился в Восточном
Суссексе. Место действия незаконченного романа Теккерея "Дени Дюваль".
Розенбахи: братья Эйбрахам, Саймон Вулф (1876-1952) и Филип (18631953),
видные американские библиофилы и коллекционеры. В их собрании множество
редких книг, рукописей, писем.
Рочестер - романтический герой романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр".
Из-за весьма цветистого посвящения второго издания книги Теккерею
современники склонны были узнавать автора "Ярмарки тщеславия" в Рочестере.
Посвящая "Джейн Эйр" Теккерею, Ш. Бронте не скупилась на сравнения, похвалы
и метафоры. Она назвала его Титаном, говорила об его уникальности,
возвышенности ума и тонкости чувств "Если бы истина стала богиней, Теккерей
был бы ее верховным жрецом". Посвящение привело к скандалу, который с
радостью раздували газетчики. Они беззастенчиво намекали на то, что Бекки
Шарп - Каррер Белл. Все эти слухи и домыслы чрезвычайно досаждали Теккерею.
Однако, как показывает его переписка, он был весьма польщен отзывом Ш.
Бронте.
Рэй Гордон (р. 1915) - известный американский литературовед, признанный
авторитет в вопросах английской литературы XIX в. Автор многих работ о
Теккерее.
"Садлерз-Уэллз" - так в середине XVIII в. назывался английский
"МюзикХаус", принадлежавший Томасу Садлеру; был построен вблизи источника,
открытого в 1683 г. В 1755 г. "Мюзик-Хаус" с открытой сценой был перестроен
в театр.
Сайке Годфри (1825-1866)- английский художник, декоратор, принимал
участие в оформлении Саут-Кенсингтонского музея (см. ниже).
Саут-Кенсингтонская школа изящных искусств - школа живописи при
Саут-Кенсингтонском музее (с 1857 г. называется музей Виктории и Альберта) -
национальном музее изящных и прикладных искусств всех стран и эпох; хранит
собрание скульптуры, акварелей, миниатюр, а также коллекцию картин Дж.
Констебла и картоны Рафаэля.
Святой Георгий - считается покровителем Англии. День св. Георгия, 23
апреля, - национальный праздник.
Серл - актриса труппы театра "Садлерз-Уэллз", видимо, выступала в
феерии "Осада Гибралтара", весьма популярной в начале XIX в.
Скеллетт - имеется в виду Джон Генри Скелтон, коммерсант из Лондонского
Уэст-Энда, современники считали его не совсем нормальным. В 1837 г. выпустил
свод светских правил под названием "Моя книга, или Анатомия поведения". В
ноябре того же года Теккерей поместил в журнале "Фрейзерз" рецензию на книгу
Скелтона "Изящные оникдоты из жизни ористократии", которая была стилизована
под письмо в редакцию малограмотного лакея из "благородного дома",
безжалостно коверкающего английские слова. Немало поиздевавшись над нелепой
книгой, Теккерей увидел, что форма записок от лица кокни - удачный прием,
позволяющий высмеять не только автора, но и мещан, подобострастно взирающих
на высший свет. Так родились "Записки Желтоплюша" (1837-1838).
Смит Джордж (1824-1901) - один из самых известных издателей
викторианской эпохи, глава фирмы "Смит, Элдер и Кo" (1843), человек в высшей
степени одаренный, прекрасный собеседник, душа общества. Поклонник таланта
Теккерея, вместе с ним издавал журнал "Корнхилл". Открыл английской публике
талант Шарлотты Бронте - "Джейн Эйр" в 1847 г. вышла в его издательстве.
Выведен Ш. Бронте в образе доктора Джона в романе "Виллет" (1853).
Смоллетт Тобиас Джордж (1721-1771) - английский писатель-реалист,
продолжатель традиций Филдинга, обогативший английский роман элементами
социальной сатиры, автор романов "Приключения Родерика Рэндома" (1748),
"Приключения Перегрина Пикля" (1751), "Путешествие Хамфри Клинкера" (1771).
"Сноуд" - марка тонкого фарфора. Назван по имени основателя фирмы Дж.
Сноуда (1754-1827).
Стенли Генриетта Мария (?-1895) - жена лорда Эдуарда Джона Стенли
(1802-1863), видного политического деятеля партии вигов. Леди Стенли -
влиятельная фигура в политической и культурной жизни эпохи. Ратовала за
образование женщин, по ее инициативе была организована Либеральная женская
ассоциация.
Стил Ричард (1672-1729) - видный английский журналист, драматург,
политический деятель (виг). Издавал журналы "Болтун" (1709-1711) и,
совместно с Аддисоном, "Зритель" (1711-1714). Один из создателей жанра
"серьезной комедии".
Таттерсоллз - лондонские конюшни, названы по имени первого владельца.
Здесь можно было нанять или купить лошадь. Сейчас - лондонский аукцион
чистокровных лошадей.
Тейлор Том (1817-1880) - английский драматург, журналист, сотрудничал с
"Панчем", в 1874 г. стал его главным редактором.
Теккерей Анна Изабелла (Анни, позд. леди Ричмонд Ритчи, 1837-1919) -
старшая дочь Теккерея, английская писательница, автор романов "История
Элизабет" (1863), "Старый Кенсингтон" (1881); ей принадлежат воспоминания об
отце.
Теккерей Изабелла (урожд. Шоу, 1816-1894) - жена Теккерея, пережила его
на тридцать лет.
Теккерей Хэрриет Мэрией (Минни, 1840-1875) - младшая дочь Теккерея, в
1867 г. вышла замуж за Лесли Стивена (1832-1904), видного философа, ученого,
историка литературы, отца известной английской писательницы Вирджинии Вулф
(от второго брака, 1882-1941).
Теккерей Эдуард - любимый племянник писателя, служил в Индии.
Темпл - название двух из четырех лондонских "Судебных корпораций" -
"Внутреннего Темпла" и "Среднего Темпла". Построены на месте, где в XII-XIV
вв. жили рыцари-тамплиеры и где был их храм. С XV в. средоточие английской
юриспруденции: здесь находились главные юридические корпорации, квартиры
юристов, там также проживали молодые люди, изучающие право и готовящиеся к
сдаче адвокатского экзамена. Теккерей жил в Среднем Темпле в 1831-1832 гг.
Темпл-Черч - старинная лондонская церковь, один из пяти оставшихся в
Англии средневековых храмов круглой формы. Сооружена в 1185 г. Сильно
пострадала от бомбежек во время второй мировой войны, ныне восстановлена.
Теннисон Альфред (1809-1892) - английский поэт, с 1850 г. поэт-лауреат.
Крупнейшее произведение Теннисона - цикл поэм "Королевские идиллии" (опубл.
в 1859 г.), основанный на легендах о короле Артуре и его рыцарях. Теннисон
пользовался огромной популярностью в XIX в.
"Тимбукту" - история создания этого стихотворения Теккерея такова:
студентам было предложено написать стихотворение на конкурс о городе в
Африке - Тимбукту. Победителем был признан Теннисон. Теккерей же послал свое
стихотворение редактору студенческого журнала "Сноб", где оно и было
напечатано. В нем он пародировал высокопарный стиль поэзии XVIII в. Особый
интерес представляют комментарии автора к стихотворению - заумные, и
наукообразные. Они, в свою очередь, пародировали манеру объяснений главы
колледжа, в котором учился Теккерей, Кристофера Вордсворта, младшего брата
известного английского поэта-романтика Уильяма Вордсворта (1770-1850).
Титмарш Микел Анджело - многие свои сочинения вплоть до "Ярмарки
тщеславия" (1847) Теккерей издавал под именем Микел Анджело Титмарша. От
лица этого скромного литератора" и художника писались предисловия, обращения
к читателю, большинство статей об искусстве, а порой он появлялся и как
персонаж. В имени Титмарша легко угадывается аналогия с Микеланджело. Тем
самым Теккерей намекал на собственные художнические склонности, а также на
физическое сходство с великим скульптором: у него, как и у Теккерея, был
сломан нос. Происхождение фамилии связано с трактатом XVII в., "напечатанным
для Сэмюела Тидмарша", который был в библиотеке Теккерея. Изменив "д" на
"т", Теккерей получил "говорящую" фамилию (Титмарш в переводе означает
"небольшое болото"), что вполне соответствовало ироническому темпераменту
писателя. Титмарш - не единственный псевдоним Теккерея. Их множество: Джон
Фиц-Будл, Желтоплюш, майор Гагаган, эдакий вариант ирландского Мюнхгаузена,
Айки Соломонз, Толстый Обозреватель и др. Именно поэтому Теккерея называли
"летучим голландцем английской литературы", за превращениями которого не
успевала следить английская публика.
Тринити - Тринити-Холл, колледж (Святой Троицы) Кембриджского
университета, основан в 1350 г.
Троллоп Энтони (1815-1882)- английский писатель-реалист, мастер
психологического рисунка, отличался огромной плодовитостью. Его произведения
делятся на многочастные циклы: из жизни провинциального духовенства (к этой
группе примыкает и упоминаемый в тексте роман "Пасторский дом во Фремли"
(1861); из парламентской жизни. Троллоп также автор путевых заметок. Друг
Теккерея, автор одного из первых критико-биографических исследований о
писателе ("Теккерей", 1879).
"Тайны Удольфского замка" (1794) - самый известный роман Анны Рэдклифф
(см. выше).
Уолпол Хорас (1717-1797) - английский писатель, сын премьер-министра
Роберта Уолпола (1676-1745). Член парламента, автор справочников о писателях
и художниках, драматург. Особую известность получил как создатель жанра
"готического романа тайн и ужасов" - роман "Замок Отранто" (1765). Известен
также своим обширным эпистолярным наследием (около 2700 писем),
представляющим ценный материал для истории английской культуры XVIII в.
Уотфорд - приморский город в графстве Манстер в Ирландии; известен
производством стекла.
Филдинг Генри (1704-1754) - английский писатель-реалист эпохи
Просвещения, автор романов "История приключений Джозефа Эндруса и его друга
мистера Абраама Адамса" (1742), "История Тома Джонса, найденыша" (1749),
семейно-бытовых и социально-политических комедий. В начале своего
творческого пути Теккерей провозгласил Филдинга своим учителем. К концу
жизни отношение к Филдингу стало более сдержанным.
Филдз Джеймс (1817-1881) - американский издатель, автор воспоминаний
"Мои дни с авторами" (1872). Один из американских друзей Теккерея.
Филлимор Миллард (1800-1874) - тринадцатый президент США (18501853) от
партии вигов. Один из двух президентов, с которыми обедал Теккерей во время
своего пребывания в США.
Фицджералд Эдуард (1809-1883) - английский поэт и переводчик. Основной
труд - перевод "Рубайат" Омара Хайяма (1859), один из шедевров английской
поэзии. Переводил также Софокла, Эсхила, Кальдерона, Мольера. Самый близкий
друг Теккерея, один из первых его биографов, прототип Доббина в "Ярмарке
тщеславия". Семитомная переписка Фицджералда - ценный источник сведений о
XIX столетии.
Форстер Джон (1812-1876) - близкий друг и биограф Диккенса, влиятельная
фигура в издательском мире викторианской эпохи. Отношения Теккерея с
Форстером были сложными. Однако, говоря о пародии Теккерея на Форстера в
серии "Лауреаты "Панча"", Маргарет Форстер допускает неточность. Такой
пародии не существует. Есть многочисленные карикатуры Теккерея на Форстера,
которые, как он сам говорил, подали ему идею написать серию пародий на
литераторов-современников.
Франклин Джон (1786-1847) - английский полярный исследователь. Погиб
вместе с членами своей экспедиции, достигнув острова Кинг-Уильям. В журнале
"Корнхилл" были напечатаны выдержки из дневника Аллена Янга, руководившего
поисками пропавших.
Хаммерсмит - район в западной части Лондона.
Хампстед - фешенебельный район на севере Лондона; частично сохраняет
характер живописной деревни.
Хант Ли Джеймс Генри (1784-1859) - английский поэт-романтик, драматург,
эссеист, издатель, видный литературный критик. Автор воспоминаний о Байроне.
Статья его памяти в журнале "Корнхилл" была написана его сыном Торнтоном Ли
Хантом. Выведен Диккенсом в романе "Холодный дом" в образе Скимпола.
Хеллем Генри Фииморис (1826-1850) - сын известного английского историка
и литературоведа Генри Хеллема (1777-1859), близкого друга Брукфилдов.
Молодой человек получил блестящее образование в Итоне, а затем в Кембридже.
Был влюблен в Джейн Брукфилд.
Хемпствейн под Харрогитом - Харрогит - фешенебельный курорт с
минеральными водами в графстве Йоркшир. Теккерей подумывал приобрести тут
дом, но из этого ничего не получилось.
Хогарт Джорджина - свояченица Диккенса, сестра его жены Кэтрин. Сразу
после замужества сестры переехала в дом к Диккенсам и взяла на себя все
заботы по хозяйству. Боготворила Диккенса, посвятила ему всю жизнь. Диккенс
относился к Джорджине очень тепло: был благодарен ей за порядок в доме, к
тому же она напоминала ему Мэри Хогарт, сестру Кэтрин и Джоржины, в которую
он был влюблен. Она умерла очень юной. Джорджина послужила прототипом "фей
домашнего очага" в романах Диккенса. Слова, что Диккенс увлекся свояченицей,
принадлежат не Теккерею, но одному из членов клуба Гаррика. Теккерей,
напротив, опроверг этот домысел, сказав: "Ничего подобного. Он увлечен
актрисой". Он имел в виду знаменитую английскую актрису Эллен Тернан. Фраза
в сильно искаженном виде была передана Диккенсу, что и послужило формальной
причиной ссоры.
Хрустальный дворец - огромный выставочный павильон из стекла и чугуна.
Построен в 1851 г. в Лондоне для "Великой выставки". Сгорел в 1936 г.
Чартерхаус - одна из девяти старейших престижных мужских привилегированных
средних школ в Англии плата за обучение высокая. Основана в 1611 г.,
находилась в здании бывшего картезианского монастыря в Лондоне, в 1872 г.
переведена в г. Годалминг, графство Суррей, ок. 650 учащихся.
Чампен Джон (1821-1897) - видный английский издатель, глава фирмы
"Чапмен и Холл", журналист, главный редактор "Вестминстерского обозрения" в
1852-1854 гг.
Эллиот Джейн Фредерик (?-1861) - сестра Кейт Перри, занималась
благотворительностью - обучением бедных детей. Этель - персонаж романа
"Ньюкомы".
Эшбертон Хэрриет Мэри Монтагю - жена лорда Уильяма Бингхема Эшбертона
(1799-1864), члена парламента в 1826-1846 гг. Теккерей поддерживал с ним и
его женой дружеские отношения, часто бывал в их доме, где собирались
известные политические деятели и видные литераторы. Лорду Эшбертону Теккерей
посвятил "Генри Эсмонда".
Юм Дэвид (1711-1776) - английский философ, историк, автор
многочисленных эссе на общественно-политические, морально-эстетические и
экономические темы. Его "История Англии" (1754-1762) грешит многочисленными
фактическими неточностями.
Е. Ю. Гениева
^TОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ТЕККЕРЕЯ И ЛИТЕРАТУРА О НЕМ^U
Теккерей У. М. Собрание сочинений. В 12-ти т./Под общ. ред. А. А.
Аникста, М. Ф. Лорие, М. В. Урнова. М.: Худож. лит. 1974-1980. Содержание
томов: т. 1. Из "Записок Желтоплюша". - Роковые сапоги. - Дневник Кокса. -
Кэтрин. - В благородном семействе. - История Сэмюела Титмарша и знаменитого
брилланта Хоггарти; т. 2. "Вороново крыло". - Жена Денниса Хаггарти. -
Рейнская легенда. - Парижские письма. - Размышления по поводу истории
разбойников. - О наших ежегодниках. - Как из казни устраивают зрелище. -
Модная сочинительница. - Сочинения Фильдинга. - Диккенс во Франции. - Лекции
мисс Тиклтоби по истории Англии. - История очередной французской революции.
- Новые романы. - Сибилла, сочинение Дизраэли. - Сверчок за очагом,
сочинение Чарльза Диккенса. - Георги. - Романы прославленных сочинителей. -
Лондонские зрелища. - Польский бал. - Митинг на Кеннингтон-Коммон. -
Чартистский митинг; т. 3. Записки Барри Линдона, эсквайра, писанные им
самим. - Книга снобов, написанная одним из них; т. 4. Ярмарка тщеславия; т.
5-6. История Пенденниса, его удач и злоключений, его друзей и его злейшего
врага; т. 7. История Генри Эсмонда, эсквайра, полковника службы ее
величества королевы Анны, написанная им самим. - Английские юмористы XVIII
века; т. 8-9. Ньюкомы: Жизнеописания одной весьма почтенной семьи,
составленные Артуром Пенденнисом, эсквайром; т. 10. Виргинцы; 11. Виргинцы.
- Четыре Георга; т. 12. Доктор Роззги и его юные друзья. - Ревекка и Ровена.
- Кольцо и роза. - О собственном достоинстве литературы. - Картинки жизни и
нравов: Художник Джон Лич. - Из "Заметок о разных разностях". - Дени Дюваль.
Примечания к "Дени Дювалю". - Стихотворения.
Александров Н. Н. В. Теккерей. Его жизнь и литературная деятельность.
Спб., 1891. 78 с.
Алексеев А. А. Теккерей-рисовалыцик. - В кн.: Алексеев А. А. Из истории
английской литературы. М.-Л.: ГИХЛ, 1960, с. 419-452.
Вахрушев В. С. Творчество Теккерея. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1984.
149 с.
Елистратова А. А. Гоголь и проблемы западноевропейского романа. М.:
Наука, 1972. 322 с.
Ивашева В. В. Теккерей-сатирик. М.: Изд-во МГУ, 1958. 304 с.
Ивашева В. В. За щитом скептицизма: У. М. Теккерей, 1811-1863. - В кн.:
Ивашева В. В. Английский реалистический роман в его современном звучании.
М., 1974, с. 193-263.
Карельский А. В. От героя к человеку. - Вопр. лит., 1983, э 9, с.
81-122.
Популярность: 93, Last-modified: Sun, 06 Jan 2002 09:32:42 GmT