---------------------------------------------------------------
Jack Kerouac "Desolation Angels"
© Copyright Jack Kerouac 1960, 1963
© Copyright Миша Шараев (tralala[at]yandex.ru), перевод
WWW: http://www.sensi.org/~misha/
------------------------------------------------------------------------
 Часть первая - Пустынное Одиночество
Часть вторая - Одиночество в Миру
Д ж е к К е р у а к
Часть первая - Пустынное Одиночество
Часть вторая - Одиночество в Миру
Д ж е к К е р у а к
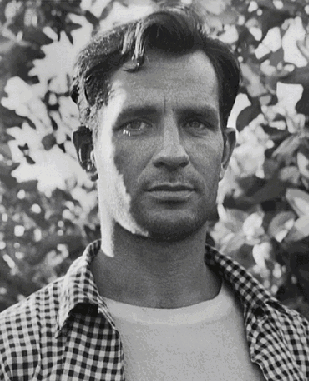
* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПУСТЫННОЕ ОДИНОЧЕСТВО *
 О, эти полуденные часы, эти бездельные часы, которые я проводил сидя
или лежа на Пике Одиночества, иногда прямо на альпийской траве, сотни миль
заснеженных скал вокруг, на севере неясно вырисовывается гора Хозомин, на
юге громадный покрытый снегом Джек, завораживающий вид на озеро на западе со
снежным горбом Пекарской горы позади и на востоке складки гигантских
каменных волн образующих Каскадный Хребет, и однажды осознав внезапно что "Я
могу меняться, делать все что хочу, приходить, уходить, взывать о жалости и
страдать, радоваться жизни и кричать, - я, но не Пустота", теперь каждый раз
думая о пустоте я вглядывался в гору Хозомин (потому что стул, кровать и
лужайка были обращены к северу), пока не понял что "Хозомин это и есть
Пустота - или кажется пустотой моим глазам" - голые скалы, пики, выпирающие
из тысячефутовых бугров каменных мышц выпирающих из тысячефутовых выступов
густо поросших лесом плеч, и зеленая ощетинившаяся остроконечными елями змея
моего собственного (Голодного) хребта подползающая к ней, к ее чудовищному
своду синеватого прокопченного камня, и "облака надежды" лениво висящие за
хребтом в Канаде, с их слоистыми комьями и усмешками, подмигиваниями и
овечьей белизной их туманных лиц, дуновением их дыхания и потрескивающими
вскриками "Хой! Хой, земля!" - парящие глумливости вершины чернокаменной
Хозомин и лишь когда приходит пора гроз они скрываются от моего взгляда
чтобы потом возвратиться мазок за мазком превращая беспросветную угрюмость в
облачную дымку - Хозомин, которая не трещит как хижина скрипящая под напором
ветра и похожая если посмотреть на нее вверх ногами (когда я стою на голове
во дворе) на болтающийся в безграничном океане пространства пузырь -
Хозомин, Хозомин, прекраснейшая из гор, иногда становящаяся полосатой
как тигр из-за извилистых линий омытых солнцем ручьев и теней выступающих
утесов в Сверкающем Свете Дня, вертикальных борозд и бугров и Бабах! -
трещин в ледниках, трах-тарарах, великолепнейшая Благоразумная гора, о
которой никто даже и слыхом не слыхивал, и всего-то 8.000 футов высотой, но
какой ужас обуял меня когда я впервые увидел эту пустоту в мою первую ночь
на Пике Одиночества, проснувшись от двадцатичасовых туманов к залитой
звездным светом ночи и подавленный Хозомин с ее двумя острыми вершинами,
прямо в моем окне чернеющая - Пустота, каждый раз думая о Пустоте, я видел
Хозомин и понимал - Более 70 дней должен я буду смотреть на нее.
О, эти полуденные часы, эти бездельные часы, которые я проводил сидя
или лежа на Пике Одиночества, иногда прямо на альпийской траве, сотни миль
заснеженных скал вокруг, на севере неясно вырисовывается гора Хозомин, на
юге громадный покрытый снегом Джек, завораживающий вид на озеро на западе со
снежным горбом Пекарской горы позади и на востоке складки гигантских
каменных волн образующих Каскадный Хребет, и однажды осознав внезапно что "Я
могу меняться, делать все что хочу, приходить, уходить, взывать о жалости и
страдать, радоваться жизни и кричать, - я, но не Пустота", теперь каждый раз
думая о пустоте я вглядывался в гору Хозомин (потому что стул, кровать и
лужайка были обращены к северу), пока не понял что "Хозомин это и есть
Пустота - или кажется пустотой моим глазам" - голые скалы, пики, выпирающие
из тысячефутовых бугров каменных мышц выпирающих из тысячефутовых выступов
густо поросших лесом плеч, и зеленая ощетинившаяся остроконечными елями змея
моего собственного (Голодного) хребта подползающая к ней, к ее чудовищному
своду синеватого прокопченного камня, и "облака надежды" лениво висящие за
хребтом в Канаде, с их слоистыми комьями и усмешками, подмигиваниями и
овечьей белизной их туманных лиц, дуновением их дыхания и потрескивающими
вскриками "Хой! Хой, земля!" - парящие глумливости вершины чернокаменной
Хозомин и лишь когда приходит пора гроз они скрываются от моего взгляда
чтобы потом возвратиться мазок за мазком превращая беспросветную угрюмость в
облачную дымку - Хозомин, которая не трещит как хижина скрипящая под напором
ветра и похожая если посмотреть на нее вверх ногами (когда я стою на голове
во дворе) на болтающийся в безграничном океане пространства пузырь -
Хозомин, Хозомин, прекраснейшая из гор, иногда становящаяся полосатой
как тигр из-за извилистых линий омытых солнцем ручьев и теней выступающих
утесов в Сверкающем Свете Дня, вертикальных борозд и бугров и Бабах! -
трещин в ледниках, трах-тарарах, великолепнейшая Благоразумная гора, о
которой никто даже и слыхом не слыхивал, и всего-то 8.000 футов высотой, но
какой ужас обуял меня когда я впервые увидел эту пустоту в мою первую ночь
на Пике Одиночества, проснувшись от двадцатичасовых туманов к залитой
звездным светом ночи и подавленный Хозомин с ее двумя острыми вершинами,
прямо в моем окне чернеющая - Пустота, каждый раз думая о Пустоте, я видел
Хозомин и понимал - Более 70 дней должен я буду смотреть на нее.
 Да, ведь в июне, добираясь автостопом до Долины Скэджит в
северо-западном Вашингтоне к месту моей работы пожарного наблюдателя, я
думал, "Заберусь вот на самый Пик Одиночества и когда все люди покинут меня
на своих мулах и останусь я совсем один то встречусь лицом к лицу с Богом
или с Татхагатой и смогу раз и навсегда понять в чем смысл существования,
страдания и всех этих бессмысленных метаний", но вместо этого я остался
лицом к лицу с самим собой, без выпивки, без наркотиков, без всякой
возможности увильнуть, но лицом к лицу с чертовым Мной - стариной Дулуозом и
бывали времена, когда мне казалось, что я умираю, сдохну со скуки или
спрыгну с вершины горы, но проходили часы, дни, а у меня все никак не
хватало духу для такого прыжка и я должен был ждать чтобы увидеть реальность
как она есть - и это произошло однажды в полдень 8-го августа когда я брел
по верхнему альпийскому дворику по узенькой дорожке протоптанной мной за те
бесчисленные разы, по нескольку за ночь, что я проходил здесь по пыли или
грязи со своей масляной лампой подвешенной внутри хижины со смотрящими на
все четыре стороны света окнами, заостренной крышей-пагодой и громоотводом,
тогда ко мне пришло это понимание, после всех слез, скрежета зубовного,
убийства мыши и попытки убийства еще одной, чего я в жизни своей прежней не
делал никогда (никогда не убивал животных, даже грызунов), оно пришло ко мне
в этих словах: "Пустоте наплевать на все высоты и падения, Господь мой
взгляни на Хозомин, разве она о чем-нибудь тревожится? разве ей бывает
страшно? Склоняется ли она перед приходом грозы, ворчит ли когда сияет
солнце или кричит во сне? Разве она способна улыбаться? Разве не была она
порождена безумным коловращением дождя и огня, а теперь стала просто Хозомин
и ничем другим? Почему я должен выбирать быть ли мне жестоким или нежным,
если Хозомин это не волнует совсем? - Почему я не могу быть подобен Хозомин
и О Пошлость О почтенная буржуазная пошлость "принимай жизнь такой как она
есть" - как сказал этот алкаш-биограф У.Е. Вудворт "единственный смысл жизни
- прожить ее" - Но О Бог мой, как это скучно! Но разве Хозомин скучает? И
мне осточертели все эти слова и объяснения. А Хозомин - устает?
Аврора Бореалис[1]
над Хозомин
Пустота еще тише
- даже Хозомин когда-нибудь расколется и распадется на куски, ничто не
вечно, а есть лишь промельк-в-том-что-суть-все, протекание-сквозь, вот оно
что происходит, зачем же задавать вопросы, рвать на себе волосы или рыдать,
неясно бубнящий пышнословный Лир севший на своего горестного конька он
просто истеричное старое трепло с развевающимися бакенбардами одураченное
шутом - быть и не быть, вот настоящий ответ - Есть ли Пустоте дело до жизни
и смерти? бывают ли у нее похороны? пироги на день рождения? почему я не
могу стать как Пустота, неистощимо плодородным, вне безмятежности, вне самой
радости, просто Стариной Джеком (и даже менее того) и начать свою жизнь с
этого мгновения (хоть ветра и дуют сквозь мое горло), Пустота - это не
трудноуловимый образ внутри хрустального шара, это сам хрустальный шар и все
мои горести не более чем глупая сетка для волос как сказано в Ланкаватара
Сутре "Смотрите, почтенные, вот изумительная скорбная сетка для волос" - Не
раскисай, Джек, пройди сквозь это, ведь все - лишь один сон, одна видимость,
одна вспышка, один грустный взгляд, одна прозрачно хрустальная тайна, одно
слово - держись, дружище, верни себе утерянную любовь к жизни, спускайся с
этой горы и просто будь - будь - твой безграничный разум может безгранично
творить, не надо объяснений, жалоб, сомнений, суждений, признаний,
изречений, искрящихся словесных бриллиантов, просто плыви, плыви, будь всем,
будь тем что есть, а есть только то что всегда есть -- слово Надежда подобно
снежному оползню - Вот Великое Знание, вот Пробуждение, вот Пустотность -
Так что закрой рот и живи, странствуй, рискуй, будь благословен и ни о чем
не сожалей - Сливы, сливы, ешь свои сливы - и ты был всегда, ты будешь
всегда, и сколько бы ни стучал ты в гневе ногой по ни в чем не виноватым
дверцам шкафа это была лишь Пустота притворяющаяся человеком притворяющимся
не знающим Пустоты -
Я вернулся в дом другим человеком.
Все, что мне оставалось сделать - это прождать 30 длинных дней чтобы
спуститься вниз со скалы и увидеть вновь радостную жизнь - помня что она ни
радостна ни печальна а просто жизнь, и поэтому -
Поэтому длинными полуднями я сижу на моем легком (парусиновом) стуле
лицом к Пустоте Хозомин, тишина висит в моей маленькой хижине, очаг мой
замер, посуда моя сверкает, дрова мои (старые отсыревшие палки и хворост,
чтобы быстро по-индейски разжечь огонек в очаге и на скорую руку приготовить
еды) мои дрова лежат грудой в углу, мои консервы ждут когда их вскроют, мои
старые треснувшие ботинки хнычут, штаны свисают, посудные полотенца висят на
стене, все мое барахло неподвижно застыло повсюду в комнате, глаза мои болят
и ветер бьется и стучится в окна и поднятые жалюзи, дневной свет постепенно
меркнет и подкрашивает Хозомин в темно-синие цвета (высвечивая ее
красноватую полоску) и мне ничего не остается делать кроме как ждать - и
дышать (а разреженным горным воздухом дышится нелегко, особенно с
приобретенной на Западном побережье одышкой) - ждать, дышать, есть, спать,
готовить еду, мыться, шагать, наблюдать, ни одного лесного пожара - и
мечтать "Чем я займусь, когда попаду во Фриско? Ну, для начала сниму
комнатку в Чайнатауне" - но еще чаще и страстнее я мечтал о том, чем я
займусь в День Отъезда, однажды одним благословенным днем раннего сентября,
- "Я пойду вниз по тропе, часа два, меня будет ждать Фил в его лодке,
доберусь до Росс Флот, заночую там, поболтаю о том о сем на кухне, и с утра
пораньше поплыву на пароме в Диабло, прямо с той маленькой пристани
(попрощаюсь с Уолтом), автостопом доеду до Мэрблмаунта, заберу заработанные
деньги, отдам долги, куплю бутылку вина, в полдень в Скэджите ее выпью и
утром следующего дня поеду в Сиэттл" - и так далее, сначала до Фриско, потом
Эл-Эй, потом Ногалес, потом Гвадалахара, потом Мексико-Сити - А застывшая
Пустота никогда никуда не двинется -
Но я сам буду Пустотой, движущейся не совершая движений.
Ах, как вспоминаются теперь эти восхитительные дни когда я жил дома,
дни, не оцененные мной по-настоящему в те времена -- полуденные часы, мне
15-16 лет, а это значит крекеры Братьев Риц, ореховое масло и молоко на
старом круглом кухонном столе, мои шахматные задачки или изобретенные мной
бейсбольные игры, когда оранжевое солнце лоуэллского Октября пробивалось
наискосок сквозь занавески веранды и кухни светящимися слоями ленивой пыли и
окутанная ими моя кошка вылизывала тигриным язычком коготки передней лапы,
ляп ляп, все это ушло и покрыто пылью, Господи -- и теперь я бродяга одетый
в грязную рвань здесь в Высоких Каскадах и даже кухня моя состоит лишь из
этого идиотского измызганного очага с треснувшей проржавевшей трубой -
замотанной, да-да, у потолка, старыми тряпками чтобы не было хода ночным
крысам - в те далекие дни, когда мне надо было всего лишь подняться наверх
чтобы поцеловать мать или отца и сказать им "Я люблю вас, потому что придет
день когда я стану старым бродягой и буду сидеть один-одинешенек и мне будет
грустно и тоскливо" - О Хозомин, скалы твои сверкают в закатном солнце,
парапеты твоей неприступной крепости величественны как Шекспир среди людей и
на многие мили вокруг нет никого, кому хоть что-то говорят имена Шекспир,
Хозомин или мое собственное имя --
Давным-давно дома ближе к вечеру, и даже совсем недавно в Северной
Каролине, когда вспоминая детство я ел ритцевские крекеры и ореховое масло с
молоком в четыре и играл в бейсбольные игры за своим столом и голодные
школьники в стоптанных ботинках возвращались домой точь в точь как я (и я
делал им особые Джековские Банановые Салаты[2] и это было всего-то каких-то
шесть месяцев назад!) - Но здесь, в Одиночестве, ветер воет, поет одинокую
песню, сотрясая стропила земли, принося ночь - Облачные тени гигантскими
летучими мышами парят над горой.
Быстро темнеет, тарелки вымыты, еда съедена, я жду Сентября, жду нового
нисхождения в Мир.
А пока закаты бесятся во тьме безумными оранжевыми шутами, где-то на
юге, откуда тянутся любящие руки моих сеньорит, снежно-розовые дома ждут у
подножья мира там, в сребролучистых городах - твердая синевато-серая
сковородка озера, чьи туманные глубины ждут когда я проплыву над ними на
лодке Фила -- Над ним все та же привычная картина -- облачко, примостившееся
под бровастой выпуклостью высокомерной горы Джек, тысячи снежных футбольных
полей которой сливаются и розовеют, невообразимый ужасающий снеговик
застывший оцепенело у края бездны - Золотой Рог вдалеке все еще золотист на
фоне серого юго-востока - гигантский горб Старательской вглядывается в озеро
- Угрюмые облака наливаются чернотой готовые стать углем для кузницы, в
которой куется ночь, безумные горы маршируют на закат как пьяные мессинские
кавалеры в лучшие времена Урсулы, и я готов побиться о заклад, что и Хозомин
сдвинулась бы с места если б мы смогли уговорить ее, но она остается со мной
всю ночь и вскоре, когда звезды прольются дождем по снежным полям, она
станет безгранично горделива как никогда, черная и - уау-у! устремится на
север, где (точно над ее вершиной каждую ночь) Полярная Звезда вспыхнет
пастельно-оранжевым, пастельно-зеленым, ярко-оранжевым, ярко-синим, лазурным
пророческим созвездием своего убранства там, наверху, принадлежащим иному,
золотому миру --
Ветер, ветер --
И вот мой бедный старательный такой человеческий такой стол, за которым
я частенько сиживаю лицом к югу, бумаги, карандаши и кофейная чашка с
ветками горной ели и причудливой высокогорной орхидеей, вянущей за день -
мои ореховая жевательная резинка, табачный кисет, крошки, кипа жалких
журнальчиков, которые мне придется читать, и вид на юг со всеми его снежными
великолепностями - Ожидание длится долго.
На Голодном Хребте
палочки
Пытаются вырасти.
За день до моего решения прожить жизнь в любви, я был унижен, оскорблен
и все из-за этого скорбного сна:
"И не забудь купить кусок вырезки для бифштекса!" говорит Ма, давая
деньги Дени Бле, она посылает нас в лавку прикупить провизии для плотного
ужина, она решила полагаться теперь в основном на Дени Бле, потому что в
последние года я стал каким-то эфемерным и совершенно безответственным
существом, проклинающим богов сквозь ночной сон и в серых сумерках
шатающимся вокруг как дурачок с непокрытой головой - Это происходит в кухне,
все обговорено, я не говорю ни слова и мы отправляемся - В передней спальне
у самой лестницы умирает Папа, лежит на своем смертном ложе и уже
практически мертвый, и вопреки этому Ма хочет хороший бифштекс, хочет
обрести в Дени последнюю человеческую надежду, его деятельное сочувствие -
Па тонкий и бледный, у его ложа белоснежные простыни и мне кажется, что он
уже покойник - В сумерках мы спускаемся вниз и как-то добираемся до лавки
мясника в Бруклине на одной из улиц где-то в Флэтбуше - Боб Донелли уже тут
и вся его кодла тоже, все без шляп и с хулиганским видом - Теперь в глазах
Дени появляется искорка - он уже представляет себе возможность сделать
хитрый финт и зажать часть маминых денег, в лавке он покупает мясо, но я
вижу как он мухлюет со сдачей засовывает деньги себе в карман и уже
прикидывает как ему обмануть ее доверие, ее последнюю веру - Она надеется на
него, от меня больше нет толку -- А потом мы где-то блуждаем, домой не идем
и забредаем на Речной Флот, глазеем на гонки катеров, а потом почему-то
должны проплыть вниз по течению по холодным бурным и опасным водам --
Достаточно "длинные" катера подныривают прямо под плоты, выныривают с другой
стороны и оказываются у финиша, но вот у одного гонщика (по имени Дарлинг)
катер коротковат и застревает под плотом так что не вытащить-- тут его судьи
и зацепили[3].
Я оказываюсь служащим Речного Флота, в передних рядах, отдается команда
и мы плывем по реке, к ждущим нас мостам и городкам,. Вода холодна и течение
ужасно быстрое но я плыву и рвусь вперед. "Как же меня занесло сюда?" думаю
я. "И как же мамин бифштекс? Что Дени Бле сделал с деньгами? Где он сейчас?
О у меня нет времени поразмыслить над всем этим!" Внезапно я слышу как с
лужайки около стоящей на берегу церкви Святого Людовика Французского дети
выкрикивают послание для меня, "Эй, твоя мать в сумасшедшем доме! Твой отец
умер!" и я понимаю что произошло но ведь я служу в Армии, я плыву и мне
никуда не деться от противоборства с холодной водой, и остается только
горевать, горевать, в туманном скудном ужасе этого утра, как же мучительно
ненавижу я себя, и все же уже слишком поздно и мне становится лучше, но я
по-прежнему чувствую себя эфемерным, нереальным, неспособным
сконцентрировать свои мысли на чем-нибудь, даже неспособным по-настоящему
горевать, да что там, я чувствую себя слишком по-дурацки чтобы мучиться
по-настоящему, короче я не понимаю что и зачем я делаю, просто знаю что это
приказано мне Армией, и Дени Бле сыграл со мной дурную шутку в конце концов,
может чтобы отомстить, но скорее всего он просто решил стать законченным
вором и это был его шанс-
... И хотя шафрановая морозная мудрость блистающих на солнце ледяных
шапок этого мира так близка, О какими одержимыми дураками можем мы быть, я
добавляю приписку к большому полному любви письму, которое уже много недель
пишу матери:
Не отчаивайся, Ма, я буду заботиться о тебе всегда, когда тебе это
понадобиться - ты только крикни... Я здесь, я плыву по реке тягот, но я умею
плавать - Никогда даже на минуту не думай, что ты осталась в одиночестве.
За 3.000 миль отсюда она прислуживает больной родне.
Одиночество, одиночество, как отплатить тебе?
Это сводило меня с ума - О везденесущая самайя но шатун ты можешь
следом пытить трескучий шумник, лошаденок, опустошенной распустошенности
побеглец, выпустоши себе дорожку - Песня всего изжираемого меня часть
рельсования тащи свои рогалики - ты тоже можешь немного зеленеть и летать -
бросыпаясь в луннохреновой соли в потоке приход-ночи, свингуя на краю
лужайки, катя валун-Будду через изломанную гримасу западно-тихоокеанских
туманов - О ничтожная ничтожная ничтожная человеческая надежда, О
заплесневелое твое треснутое твое зеркало дрожи па к а ваталака- и еще
осталось -
Дзиньк.[4]
Каждый вечер в восемь часов смотрители со всех горных вершин
Национального Парка Маунт-Бэйкер начинают болтать о том - о сем по радио - У
меня тоже есть свой приемник - Пакмастер, я включаю его и слушаю.
В одиночестве это уже большое событие -
"Он спросил, идешь ли ты спать, Чак"
"Знаешь, что он делает, этот Чак, выходя на дежурство? - находит себе
удобное местечко в тени и заваливается там спать".
"Ты сказал Луиза?"
" - Нуу, не знаааю"
" - Ну, теперь мне всего-то осталось ждать три недели- ".
" - прямо на 99-ю - "
"Слышь, Тэд?"
"А?"
"А как ты умудряешься выпекать в печке эти, э-э-э, сдобы?"
"Подбрасывай дровишек почаще да пеки".
"У них одна дорога и она ээ опоясывает все мироздание - "
"Ага надеюсь да - все равно буду ждать".
Бззззззззз бзкххх - долгое задумчивое молчание молодых смотрителей.
"Чего правда твой кореш собирается сюда за тобой залезть?"
"Эй, Дик - эй, Студебекер - "
"Просто подкидывай дров, она и не остынет - "
"Ты что, собираешься платить ему те же бабки, что до смены?"
"Да но три четыре ходки за три часа?"
Жизнь моя - безумная бесконечная сказка длящаяся без начала и без конца
как Пустота - как Самсара - Тысячи воспоминаний приходят волнами целый день,
приводя в смятение мой бессонный разум почти мускульными спазмами ясности и
сожаления - Напеваю с нарочитым английским акцентом "Лох Ломонд", пока
вскипает мой вечерний кофе в холодных розоватых сумерках, и мне сразу
вспоминается Новая Скотия, 1942 год, когда наш потрепанный корабль пришел в
порт из Гренландии и все получили по увольнительной на ночь, Закат, сосны,
холодный полумрак, потом восходящее солнце, дрожащий радиоголос Дины Шор из
воюющей Америки, и как мы надрались, как скользили и падали, как радость
била ключом в моем сердце и взрывалась дымя в ночи, ведь я почти дома, в
возлюбленной Америке моей - холодный собачий рассвет-
И почти одновременно из-за того что переодеваю штаны, вернее поддеваю
еще одни на время завывающей ночи, я вспоминаю удивительную эротическую
фантазию, пришедшую мне в голову ранее этим днем, читая ковбойскую книжку о
разбойнике, похитившем девушку и трахающем ее наедине в поезде (не считая
одной старушки) который (эта старуха теперь в моих мечтах спит на сиденье,
пока я - старый тертый мексиканский мужик, заталкиваю блондинку стволом
ружья в мужское отделение и она не может ничего поделать кроме как (ясно
дело) царапаться (она любит благородного убийцу и я старый Эрдуэй Мольер,
кровожадный ехидный техасец разрубавший в Эль-Пасо быков напополам и
отвлекавшийся только на то, чтоб еще подстрелить и парочку людей вдобавок) -
Я запихиваю ее на сиденье, становлюсь на колени и так ее обрабатываю, прямо
как на французских открытках, что она закатывает глаза и приоткрывает рот
что она не выдерживает и любит этого нежного бродягу до того что по
собственному добровольному безумному порыву становится на колени и
принимается работать надо мной, и потом когда я уже кончил поднимает голову
а старая леди спит и поезд стучит и стучит - "Превосходно, милочка моя",
сказал я сам себе на Пике Одиночества, как будто Быку Хаббарду, используя
его манеру говорить, будто шутки ради, будто он здесь, и я слышу голос Быка
в ответ "Не веди себя так по-бабьи, Джек", как на полном серьезе заявил он
мне в 1953 году когда я стал подшучивать над ним в его же женоподобной
манере "Тебе это не идет, Джек" и тут же мне хочется оказаться сегодня же в
Лондоне с Быком -
И новая бурая луна быстро тонет во тьме за Пекарской рекой.
Жизнь моя - бесконечная запутанная эпопея с тысячью, с миллионом
действующих лиц - и все они появятся, до тех пор пока мы крутимся на восток,
пока земля крутится на восток.
Для самокруток у меня есть бумага Военно-воздушных Сил, бодрый сержант
провел с нами беседу о важности Корпуса Наземного Наблюдения и выдал каждому
по журналу для записей, достаточно толстому для того чтобы уместить туда
эскадрильи вражеских бомбардировщиков пригрезившиеся параноидальному
Конелраду[5] у него в голове - Он был из Нью-Йорка, еврей, говорил быстро и
вызвал у меня приступ тоски по дому - "Оперативные данные о передвижении
авиации", с разграфленными пронумерованными страницами, я беру свои
маленькие алюминиевые ножницы вырезаю квадратик сворачиваю самокрутку и
когда над головой пролетает самолет знай себе попыхиваю, хотя он (Сержант)
говорил "если увидите летающую тарелку, то так и пишите - летающая тарелка"
- На бланке написано "Количество воздушных объектов, один, два, три, четыре,
много, неизв." и это напоминает мне мой сон о том, как мы стоим с У. Х.
Оденом возле бара у Миссисипи и отпускаем изысканные шуточки о "моче
женщины" - "Тип воздушного объекта", и далее следует, "единичный-, би-,
мульти-, реактивный, неизв." -- Конечно же мне страшно нравится это
"неизв.", здесь на Пике у меня много времени для подобных развлечений -
"Высота воздушного объекта" (врубитесь-ка) "Очень низкая, низкая, высокая,
очень высокая, неизв." - и потом "ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: ПРИМЕРЫ: Враждебный
воздушный объект, дирижабль (ух ты!), вертолет, воздушный шар, воздушный
объект, ведущий боевые действия или терпящий бедствие, и т.д." (или кит
морской) - О незнакомый страждущий гордый самолет, приди ко мне!
Печальна моя бумага для самокруток.
"Когда же приедут Энди с Фредом!" кричу я, когда же они поднимутся по
этой тропе на мулах и лошадях и у меня будет настоящая сигаретная бумага и
благословенная почта от миллионов моих действующих лиц -
В этом-то и беда Одиночества, что действующие лица исчезают и ты
один-одинешенек, но одинока ли Хозомин?
Глаза руки моей сливаются в сияние сливаются в звучание.
Чтобы убить время, я раскладываю бейсбольный пасьянс, который мы с
Лайонелом придумали в том 1942 году, когда он приезжал ко мне в Лоуэлл и на
Рождество перемерзли все трубы -- играют питтсбургские Плимутс (моя первая
команда, сейчас она едва-едва держится во главе 2-й лиги) и нью-йоркские
Шеввис, ставшие в прошлом году чемпионами мира, а сейчас позорно пытающиеся
выбраться из самого конца списка - Я тасую колоду, рисую таблицу и
раскладываю команды - На сотни миль вокруг, в кромешной ночи, горят лишь мои
огни на Пике Одиночества, и все ради этого детского развлечения, но ведь
Пустота тоже ребенок -- в общем вот как идет игра: - что происходит: - кто и
как ее выигрывает: -
Подает, у Шеввис, Джо МакКанн, ветеран с двадцатилетним стажем в лиге,
начинавший еще в те времена когда я в тринадцать лет впервые врезал штырем
по железному подшипнику среди яблонь, цветущих на заднем дворе у Сары, как
грустно - Джо МакКанн, его показатели 1-2 (это четырнадцатая игра сезона для
обеих клубов) и заслуженный средний балл 4.86, так что у Шеввис большое
преимущество, тем более что при всех классных показателях МакКанна, Гэйвин
по моему официальному рейтингу довольно посредственный подающий - поэтому
Шеввис явный фаворит, они поднимаются и уже сделали первую игру со счетом
11-5...
Шеввис сразу выходят вперед в своей половине первой подачи, когда
капитан команды Фрэнк Келли проводит затяжной удар в центр, чтобы выманить
Стэна Орсовски к "дому" от второй базы, и тот короткой пробежкой
перебирается поближе к Даффи - шу-шу-шу, слышно (в моем воображении), как
Шеввис обсуждают текущий момент игры, а потом свистом и хлопками сообщают о
продолжении - Бедные зелено-фуфаечные Плимутс выходят на свою половину
первой подачи, все как в реальной жизни, настоящий бейсбол, я уже теряю ту
грань, где он заканчивается и начинаются воющий ветер и сотни миль
Арктических Скал без всяких -
Но Томми Тернер на хорошей скорости посылает мяч за пределы поля и Симу
Келли туда никак не дотянуться, это уже шестой хоумран Томми, правильно его
называют "великолепным" - это его 15-й удачный удар а был он всего в шести
играх из-за травмы, настоящий Микки Мэнтл -
Немедленно от черной биты старины Пая Тиббса проходит удар за правую
перегородку и Плимы выходят вперед 2-1... ух-ты...
(болельщики безумствуют на горе, я слышу рев небесных грохоталок в
ледниковых расщелинах)
- Затем Лью Бэдгарст посылает мяч вправо и тут уж Джо МакКанн ничего не
может поделать (со всеми своими легендарными показателями попаданий) (ага,
уже смахивает на настоящую игру)
Фактически, МакКанна почти выжали за пределы площадки и он теряет
надежду добраться до Тода Гэйвина, когда Старый Верный Генри Прэй завершает
подачу отбив мяч у самой земли в инфилд к Франку Келли на третьей базе - а
там уже целая толпа защитников.
И вдруг начинается блестящая дуэль подающих, но счет не меняется,
потому что никто из них не может пробиться к цели, только один одиночный
удар во второй подаче (взятый подающим Недом Гейвином) и продолжается этот
великолепный обмен ударами до самой восьмой, когда Зэгг Паркер из Шеввис
ломает лед своим правым одиночным, который не встречает никакой зашиты (он
взял отличную скорость) и удар превращается в двойной (бросок был уже
сделан, но мяч проскользнул до цели) - и уже кажется, что в игре наметился
новый поворот, но нет! - Нед Гэйвин вышибает Клайда Кэстлмана в центр, потом
спокойно сминает Стэна Орсовски и сходит с бросовой площадки, невозмутимо
жуя свой табак, совершенно бесстрастный - Его команда вела со счетом 2-1
МакКанн проводит одиночный громадному верзиле Лью Бэдгарсту (взявшему
его левой рукой - он левша) в своей половине восьмого, и одна база уводится
у него из под носа запасным раннером Алленом Уэйном, но это нестрашно,
потому что он сумел перехватить Тода Гэйвина -
Начинается последняя подача, счет все тот же и та же ситуация на поле.
Неду Гэйвину нужно всего лишь продержать Шеввис 3 долгих аута.
Болельщики захлебываются и неистовствуют. Он должен устоять против Бирда
Даффи (заколотившего за эту игру .346), Франка Келли и запасного подающего
Тикса Дэвидсона -
Он поднимает биту, кивает, смотрит на круглощекого Даффи и машет ею -
Слишком низко, первый мяч.
Второй мяч, аутсайд.
Затяжной бросок в центр, но заканчивающийся в руках у Томми Тернера.
Осталось всего две попытки.
"Давай, Недди!", орет капитан Си Локке с третьей базы, Си Локке, бывший
величайшим перехватчиком всех времен в свое время и в мое время цветения
яблок, когда Па был молод, смеялся летними вечерами на кухне с пивом в руке,
Шэмми и пиноклем -
Встает Фрэнк Келли, опаснейший, беспощаднейший, настоящий капитан,
жадный до денег и призов, надсмотрщик, подстрекатель -
Недди завершает: бросок: в зоне.
Первый мяч.
Бросок.
Келли бьет направо, за флажки, Тод Гэйвин кидается вперед, это четкий
двойной, ничья на второй базе, толпа вне себя. Свист, свист, свист -
Шустряга Силман Пива выходит на поле помочь Келли.
Тикс Дэвидсон - здоровенный ветеран, все время чавкающий своей резинкой
старый участник давно отгремевших боев, вечерами он пьянствует, ему все по
барабану - Он бросается вперед раскручивая большущую колотушку пустой биты.
Нед посылает ему тройной резаный. Фрэнк Келли чертыхается со скамейки
запасных, Пива, ничья и опять на второй. Остался один!
Ловит: Сэм Дэйн, защитник Шеввис, старый ветеран, один в один Тикс
Дэвидсон, такой же вечно жующий любитель крепко выпить, единственная разница
в том, что Сэм ловит левой - того же роста, тощий, старый, безразличный -
Нед делает выверенный бросок наискосок -
И тут начинается: ошеломительный хоумран через центральный барьер, Пива
бежит к "дому", Сэм, жуя свой табак, лениво бежит по кругу, все с тем же
наплевательским видом, у "дома" на него налетает толпа безумцев и Келли -
Конец 9-го, Джо МакКанн должен всего лишь сдержать Плимутсов - Прэй
ошибается, Гаква делает одиночный, они задерживаются на второй и первой,
вперед выходит малыш Недди Гейвин, лупит двойной в "дом", ничья, и потом
меткий удар на третей базе, подающий на подающего - виртуозная подача Лео
Сейера, похоже, что МакКанн может достойно ответить, но Томми Тернер
запросто перехватывает его жертвенный низкий бросок и выигрывает еще один
удар, Джейк Гаква тихонечко отправляет одиночный и все Плимутс вываливаются
на поле и вносят Неда Гейвина в раздевалку на своих плечах.
Посмейте только сказать после этого, что мы с Лайонелом придумали
никудышную игру!
Утро, великолепный день, и он совершил еще одно убийство, на самом деле
это все то же, одно и то же убийство, только на этот раз жертва сидит
беспечно на стуле моего отца где-то в районе Сара-авеню а я ничего не знаю,
сижу у себя за столом, пишу, и услышав об очередном убийстве продолжаю себе
писать спокойно (не исключено что именно о нем, хе-хе) - Дамы отправились
прогуляться в парк, но какой ужас, что они скажут вернувшись и почувствовав
в этой комнате запах убийства, ах, что скажет Ма, но он разрубил тело на
куски и спустил его в унитаз - Темное нахмуренное лицо склонилось над нами в
кошмарном сне.
С утра я просыпаюсь в семь и моя половая тряпка все еще сохнет
оставленная на камне, как женский парик, как горестная Гекуба, и озеро
лежащее в миле внизу похоже на туманное зеркало, из которого скоро восстанут
в ярости озерные русалки, почти всю эту ночь я провел без сна (слышен слабый
гром в барабанных перепонках), потому что мышь, крыса и два оленя
колобродили всю ночь вокруг моей хижины, олени казались нереальными, слишком
тощими и слишком странными для обычных оленей, новый вид таинственных горных
существ - Они тщательно вылизали тарелку с холодной вареной картошкой,
которую я выставил для них - Мой спальный мешок пустеет еще на один день -
Стоя у плиты, я напеваю: "Эй, кофе, как здорово, когда ты кипишь" -
"Эй, эй, девушка, как здорово, когда ты любишь".
(я слышал, как в Гренландии девушки Полярного Снега пели это)
Уборной мне служит маленький острокрыший деревянный домик на краю
великолепной Дзенской пропасти с валунами, каменной черепицей и старыми
шишковатыми просветленными деревьями, остатками деревьев, пнями,
вывороченными, искореженными, висящими, готовыми упасть, бесчувственными, Та
Та Та - из двери, которую я привалил чтоб не закрывалась камнем, видна
громадная треугольная скалистая стена горы на восточной стороне Грозового
Ущелья, в 8.30 утра туманная дымка томная и чистая - и сонная - Грозовой
Ручей грохочет все громче и громче - потом вступает Три Дурня, на помощь ему
приходят Шалл и Коричный, а еще Тревожный Ручей вдали, а потом за ним, из
иных лесов, иной дикости, иных изломанных скал, дальше на восток до самой
Монтаны - В туманные дни вид с сиденья моего туалета напоминает черно-белые
китайские Дзенские рисунки тушью по шелкам серых пустот и мне кажется сейчас
запросто могут появится парочка хихикающих бродяг Дхармы, или один в
лохмотьях стоящий возле козлорогого пня и с метлой в руке, а другой с
гусиным пером, сочиняющий стихи о Братьях Линь, Посмеивающихся в Тумане -
примерно такие, "Хань-Шань, в чем смысл пустоты?"
"Ши-Те, вымыл ли ты утром пол в своей кухне?"
"Хань-Шань, в чем смысл пустоты?"
"Ши-Те, вымыл ли ты - Ши-Те, вымыл ли ты?"
"Хе хе хе хе".
"Почему ты смеешься, Ши-Те?"
"Потому что мой пол вымыт".
"В чем же тогда смысл пустоты?"
Ши-Те хватает свою метлу и начинает мести пустоту, однажды я видел как
Ирвин Гарден делал это - и они бредут прочь, хохоча, в тумане, и уже не
видно больше ничего, кроме нескольких ближайших скал и валунов и над всем
этим Пустота изливается в Облако Великой Правды верхних слоев тумана и не
черной лентой, а будто нарисованное вздымающееся нечто, показавшись двум
маленьких мастерам и затем бесконечно воспарив над их головами - "Хань-Шань,
а где же твоя половая тряпка?"
"Сохнет на камне".
Тысячу лет назад Хань-Шань писал на камнях такие вот стихи, в такие же
вот туманные дни, и Ши-Те мел пол монастырской кухни своей метлой и они
хохотали вместе, и люди Императора приходили издалека чтобы разыскать их, и
они спасались, прячась в расщелинах и пещерах - Внезапно я вижу как
Хань-Шань появляется перед моим Окном указывая на Восток, я смотрю туда но
вижу только Ручей Трех Дурней в утренней дымке, оборачиваюсь назад,
Хань-Шань исчез, я опять оборачиваюсь в указанном направлении, и вижу только
Ручей Трех Дурней в утренней дымке.
Что еще скажешь?
Потом приходили долгие дневные мечтания о том, чем я займусь вырвавшись
отсюда, из этой ловушки на вершине горы. Буду ехать не спеша по этой 99-й
дороге, почти без еды, разве что вечерком зажарю себе кусочек вырезки
где-нибудь на пересохшем дне реки, с хорошим винцом, и утром -- в
Сакраменто, Беркли, поднимусь в домик Бена Фэгана и начну с такого хайку:
Проехал стопом тысячу
миль, принес
Тебе вина
- и может переночую у него во дворе на травке, а потом хотя бы одну
ночку в каком-нибудь чайнатаунском отеле, одна долгая прогулка по Фриско,
один хороший обед, нет, два хороших обеда в китайском ресторанчике,
встречусь с Коди, встречусь с Мэлом, гляну на Боба Донелли и всех остальных
- то-се, парочку подарков для Ма - зачем планировать заранее? Я просто
отправлюсь вниз по дороге в поисках неожиданностей и не остановлюсь до
самого Мехико-Сити
Я меня есть здесь книга, воспоминания бывших коммунистов, которые
отказались от своих убеждений поняв звериную сущность тоталитаризма, она
называется "Рухнувший идол" (включая один идиотский О невыносимо идиотский
отчет Андре Жида старая посмертная нудятина) - это единственное доступное
мне чтиво - и мысль об этом мире вгоняет меня в депрессию (О что же это за
мир, мир в котором дружбы сменяются самой черной ненавистью, люди борются за
то чтобы было за что бороться, и так везде, везде...) мир всех этих ГПУ и
шпионов и диктаторов и чисток и полуночных убийств, марихуановых вооруженных
революций и вооруженных отрядов в пустыне -- внезапно слушая трепотню других
ребят по смотрительскому радио здесь в Америке и услышав футбольные новости
и разговорчики типа "Бо Пеллегрини! Вот настоящий боксер!!! Никакие
мерилэндцы ему и в подметки не годятся!" - и разные там прибаутки и обрывки
фраз, я почувствовал, что "Америка свободна как этот дикий ветер снаружи,
все еще свободна, свободна, как в те времена, когда у этой границы еще не
было имени Канада и вечерами по пятницам которыми сейчас Канадские Рыбаки
наезжают из-за горного озера по старой дороге на своих старых машинах" (я
вижу их даже здесь, маленькими огоньками в пятницу вечером и мне в голову
сразу приходят их шляпы, одежда, машины и морщины) "пятничными вечерами
приходил безымянный Индеец, Скэджит, в горах стояло несколько бревенчатых
фортов, снизу проходило несколько дорог, и ветра веяли между ногами и рогами
свободных зверей, и они веют до сих пор, на волнах свободного эфира, в
молодой безумной радио болтовне, парни из колледжа, бесстрашные свободные
парни, до Сибири миллионы миль и Америка все еще та же добрая старая страна
- "
И унылые мрачные размышления о всех Россиях и планах убийства душ целых
народов моментально испарились, стоило мне только услышать "Бог мой, счет
уже 26-0 - им уже не выкарабкаться" - "Прямо как "Ол Старз" - "Эй Эд, а
тебе--то долго еще тут сидеть осталось?" - "Он поедет без остановок, хочет
отправиться прямо домой" - "Мы могли бы взглянуть на Ледниковый Национальный
Парк" - "А мы поедем домой через Бэдлендс в Северной Дакоте" - "Хочешь
сказать через Черные Холмы?" - "Плевать я хотел на вас сиракузцев" - "Эй,
знает кто-нибудь хорошую байку на сон грядущий?" - "Эй, уже восемь тридцать,
нам лучше отрубиться - Эйч 33 десять-семь до завтрашнего утра. Спокойной
ночи" - "Эу! Эйч 32 десять-семь до завтрашнего утра - Спи сладко, детка" -
"Так говоришь на твоем радио можно Гонконг ловить?" - "Ну да, слушай сам,
сянь-cянь-cянь" - "Похоже. Спокойной ночи" -
И я знал, что в Америке слишком много людей, слишком много, чтобы
когда-нибудь скатиться до уровня нации рабов и когда я отправлюсь стопом по
этой дороге вниз и дальше на все оставшиеся мне года, то если не брать в
расчет пьяные драки затеваемые в барах алкашами, ни один волос с моей головы
(хотя стрижка была бы мне кстати!) не упадет по чужой Тоталитарной воле -
Так сказал Индейский скальп, и так гласит пророчество:
"С этих скал раздастся во всем мире смех и придаст он мужества
согбенному в трудах рабу древности."
И я верю Будде, который говорил, что все сказанное им не является ни
истиной ни ложью, и лучше и вернее не сказал никто и никогда, и для меня это
звучит как гром из облака, как удар мощного надмирного гонга - Он говорил
"Твой путь был долог, беспределен, и ты пришел к этой дождевой капле
называющейся твоей жизнью, и назвал ее своей - и было предназначено чтобы ты
взмолился о пробуждении - и даже если в миллионе перевоплощений ты
пренебрежешь этим Высшим Предназначением, то речь идет лишь о дождевой капле
в море и кого это обеспокоит и что значит время - ? Множество рыб бороздит
Сияющий Океан Беспредельности, они проплывают подобно искрам в этом озере, в
сознании твоем, но нырни же теперь в прямоугольную белую вспышку такой
мысли: тебе было предопределено пробудиться, в этом и есть золотая
бесконечность чье познание не принесет тебе земного блага, потому что не в
земном суть, оно лишь хрустальный миф - смотри в лицо реальности атомной
бомбы, пробуждающей дабы не попался ты в ловушку тепла или холода, комфорта
или неприкаянности, будь внимателен, будь мотыльком, мысли о вечности - будь
любящим, сельским парнем, важным господином, кем бы то ни было - будь одним
из нас, Великих Знатоков Без Знания, Великих Любовников Вне Любви, целым
сонмом и бесчисленными ангелами, их телами и страстями, сверхъестественными
потоками тепла - мы пылаем, чтобы пробудить тебя - раскинь свои руки и
обними мир, сделай это и мы ворвемся в тебя, мы встретим тебя возложением
серебряного бремени золотых рук наших на твои млечноосененные брови,
властно, дабы навеки заставить тебя застыть в любви - Верь! и да проживешь
ты вечность - Верь что ты уже живешь вечность - стань сильнее всех темниц и
епитимий мрачного мирка земного страдания, в жизни есть нечто большее чем
страдание, вот же он, Свет Повсюду, взгляни - "
Такие странные слова слышу я каждую ночь, и еще многие другие,
причудливое переплетение словесных нитей льется из всеведающего изобилия -
Поверьте мне, из всего этого что-то да выйдет, и у этого чего-то будет
лик сладостной пустоты, колышущегося листа -
И бычьи цвета пурпурного золота шеи могучих носильщиков в шелковых
кафтанах перенесут нас не сдвигая с места, не-пересекая пересеченные пустоты
непресеченья к свету улума, где прикрытый золотой глаз Раджамиты откроется и
воззрит недвижно - Мышь проносится, шурша в горной ночи маленькими лапками
изо льда и алмазов но еще не пришло (герой смертен) мое время знать то что я
знаю я знаю, значит, входи же
Слова...
Звезды - это слова...
Кто победил? Кто проиграл?
Охейя, и когда
Я доберусь до Третьей и до
Таунсенда,
Я перехвачу
Полуночный Призрак-
И мы покатимся дальше
В Сан-Хосе
С быстротою похвальбы
Э-гей, Полночный,
полуночный призрак,
Старина Зиппер катящийся
дальше по трассе -
Эгей, Полуночный,
полуночный призрак
Катя-
щийся
по
трассе
Приедем мы, огня,
В Уотсон-вилль
И громыхнем
по
трассе -
Сэлинас-Волли
в средине ночи
И дальше в Эпалайн
Уау-у, Уау-у,
Уау-ууууу!
Полуночный Призрак
Толчок - Клер т'Обиспо
- Прицепи тягач
взберись на гору
и спустись в городишко,
Мы проедем насквозь
в Серф и в Танжер
и дальше вдоль моря -
И луна сияет на
полуночном море
двигаясь дальше по трассе -
Гавиоти, Гавиоти,
О Гави-оти,
Горланя и распивая вино -
Камарилла, Камарилла, -
Где Чарли Паркер
сошел с ума
Мы вкатимся в Эл-Эй
- О Полночный
полночный,
полуночный призрак,
Святая Тереза
Святая Тереза, не беспокойся,
Мы поспеем во время,
дальше по этой полуночной
трассе
Вот так я и думал добраться за 12 часов от Сан-Франциско до Эл-Эй, на
Полуночном Призраке, я залезу под грузовик, стоящий на платформе,
Первоклассный Зипперовский товарняк, чух-чучух, вперед и вперед, спальный
мешок и вино - мечта, спетая песней.
Устав рассматривать окрестности своего поста, например, разглядывать с
утра свой спальный мешок, помня что вечером его придется расстегнуть опять,
или свою печку жарко разогретую днем, чтобы приготовить ужин, помня что
ночью мышь будет скрестись в ее холодном нутре, я обращаю свои мысли к
Фриско и передо мной как в кино проходят картинки того что случится когда я
туда доберусь, я вижу самого себя в моей новой
(Которую-Я-Собираюсь-Купить-в-Сиэттле) большой черной кожаной куртке ниже
пояса (может даже болтающейся на рукавах), в новых серых брезентовых штанах
и новой шерстяной спортивной рубахе (желто-оранжево-синей!),
свежеподстриженный, иду я с декабрьско-отсутствующим выражением лица по
ступеням моего второразрядного чайнатаунского отеля, или может я на квартире
Саймона Дарловского на Тернер Тиррейс в районе безумной негритянской
застройки на углу Третьей и 22-й, где видны гигантские как вечность
бензиновые цистерны и вид на дымный индустриальный Фриско, включая залив,
железнодорожные пути и заводы - И я вижу самого себя, с рюкзаком на одном
плече, входящим через всегда незапертую дверь в спальню Лазаруса (Лазарус -
это 15-1/2 летний мистический брат Саймона, который никогда ничего не
говорит кроме "Ты сны видел?")(прошлой ночью?)(хочет он сказать), я вхожу,
внутрь, сейчас октябрь, все на учебе, я выхожу и покупаю мороженое, пиво,
консервированные персики, мясо, молоко, запихиваю все это в холодильник, и
когда вечером они возвращаются домой и во дворе дети начинают вопить в
Осенне-Сумеречной Радости, я уже успел просидеть целый день за кухонным
столом , попивая вино и почитывая газеты, Саймон со своим костистым орлиным
носом и безумно поблескивающими зелеными глазами в очках смотрит на меня и
гнусавит сквозь свои вечно покрытые свищами ноздри "Джек! Ты! Когда это ты
приехал, хныф!" это он так фыркает (ужасно это мучительное фырканье, я и
сейчас его слышу , не знаю уж как он так дышать умудряется) - "Прямо сегодня
- смотри, в холодильнике полно жратвы - Не против, если я поживу тут
несколько дней?" - "Места полно" - Лазарус стоит позади него, одетый в свой
новый костюм и тщательно причесанный, чтобы сразить красоток с
подготовительных курсов колледжа наповал, он молча кивает и улыбается, а
потом у нас большая пьянка и в конце концов Лазарус говорит "Ты где спал
прошлой ночью?" и я говорю "В Беркли, в депо" тогда он говорит "Сны видел?"
- И я рассказываю ему длинный сон. И заполночь, когда мы с Саймоном
выбираемся прогуляться по Третьей улице, попить винца, поболтать о девушках
и перекинуться парой слов с черномазыми шлюхами, стоящими напротив отеля
Камео, мы решаем сходить на Норт Бич поискать Коди со всей нашей командой,
Лазарус остается один на кухне и жарит себе три бифштекса, ему заполночь
приспичило перекусить, он здоровенный, симпатичный и безумный парень, один
из множества братьев Дарловских, большинство из них сейчас в психушке, по
тем или иным причинам, и Саймон проехал стопом всю трассу до Нью-Йорка чтобы
вызволить Лаза и привезти его сюда, чтобы жить вместе, чтобы помочь, двое
русских братьев, в городе, в пустыне, протеже Ирвина, писатель-кафкианец
Саймон -- и мистик Лазарус, часами пялящийся на рисунки монстров во всяких
чудных журнальчиках и шатающийся как зомби по городу, а когда ему
исполнилось пятнадцать он заявил, что к концу года будет весить триста
фунтов, а также назначил себе крайним сроком чтобы заработать миллион Новый
Год -- на эту безумную квартирку часто заходит после работы Коди в своей
истрепанной синей спецовке тормозного кондуктора и присаживается прямо на
кухонный стол а потом вдруг вскакивает и прыгает в машину с воплем "Нету
времени!" и мчится на Норт Бич в поисках остальных, или на работу чтобы
успеть к своему поезду, и девушки повсюду на улицах и в наших барах, и весь
Фриско как декорация к одному сумасшедшему фильму - и я вижу появление в
этой декорации самого себя, я пересекаю экран и оглядываюсь по сторонам
пропитанный моим одиночеством - Белые мачты кораблей у подножия улиц.
Я вижу себя шатающимся по оптовым рынкам - за бывшим зданием Профсоюза
Торгового Флота где я так долго, годами, пытался устроиться на корабль - И
вот я иду, жуя жвачку Мистера Кудбара -
Я брожу около универмага Гампи и заглядываю в магазин картинных рам,
где работает Сайке, одетая как всегда в джинсы и свитер с высоким воротом из
которого выглядывает краешек белого воротничка и как хотелось бы мне стащить
с нее эти штаны, оставив только свитер и воротничок, и все остальное
достается мне и оно слишком для меня желанно -- я стою на улице пялясь на
нее -- потом я несколько раз прохожу мимо нашего бара (Местечко) и
заглядываю внутрь -
Я просыпаюсь, вновь на Пике Одиночества и пихты недвижны этим синим
утром - Две бабочки переплетаются на фоне декораций горных миров - Мои часы
тиканьем отсчитывают начало неторопливого дня - Пока я спал и всю ночь
путешествовал в снах, горы даже с места не двинулись и сомневаюсь чтобы им
снились какие-нибудь сны -
Я выбираюсь наружу принести ведро снега чтобы растопить его в моем
старом оловянном умывальном тазу похожем на таз моего деда в Нэшуа и
обнаруживаю что моя лопата унесена снежным оползнем, я смотрю вниз и
прикидываю что карабкаться за ней и обратно наверх придется не близко, к
тому отсюда мне ее вообще не видать - И тут я ее замечаю, аж у подножия
снегов, на глиняном уступе, я спускаюсь вниз очень осторожно, скользя по
глине, забавы ради выковыриваю из глины булыжник и пинаю его вниз, он с
грохотом катится, врезается в камень, расщепляется напополам и грохочет 1500
футов вниз где я вижу как последний осколок его катится по долгим снежным
полям и успокаивается ударившись о валуны с шумом, который слышен мне лишь
две секунды спустя - Безмолвие, великолепное ущелье не обнаруживает ни следа
звериной жизни, лишь пихты, горный вереск и скалы, снег вокруг меня блестит
ослепляя как солнце, я облегчаюсь у лазурно-серого пропитанного скорбью
озера, небольшие розовые или почти коричневые облачка дрожат в его
зеркальных водах, я поднимаю глаза и там высоко в небе высятся
красно-коричневые пики могучей Хозомин - Я подбираю лопату и осторожно
поднимаюсь вверх по глине, скользя - наполнив ведро свежим снегом, присыпаю
свой запас моркови и капусты в новой глубокой снежной ямке, возвращаюсь
назад, навалив снежных комьев в оловянный таз и разбрызгиваю воду повсюду по
пыльному полу - Затем я беру старое ведро и как японская старушка спускаюсь
вниз по великолепным вересковым лугам и собираю хворост для своего очага.
Повсюду в мире настает субботний день.
"Если бы я был сейчас в Фриско", размышлял я сидя в кресле во время
моих вечерних одиночеств, "То купил бы четвертушку портвейна Христианские
Братья или какой-нибудь другой превосходной особой марки, пошел бы к себе в
чайнатаунскую комнату и там перелил бы полбутылки во флягу, запихнул бы ее в
карман и пошел бродить по маленьким улочкам Чайнатауна наблюдать за детьми,
маленькими совершенно счастливыми китайчатами, чьи маленькие ручонки тонут в
ладонях родителей, я смотрел бы на мясные лавки и видел как отрешенные
дзенские мясники рубят куриные шеи, я вглядывался бы как вода в витрине
пузырится на глазурных боках великолепных копченых гусей, я бродил бы
повсюду, постоял бы на углу Итальянского Бродвея чтобы ощутить течение
здешней жизни, синее небо и белые облака проплывали бы у меня над головой, я
вернулся бы назад и зашел бы с флягой в кармане на китайский фильм, сидел бы
и пил из нее (а начал бы с этого времени, с 17.00) три часа наблюдал бы
причудливые сцены, неслыханные диалоги и развитие сюжета и может кто-нибудь
из китайцев увидел бы меня потягивающего из фляги и подумал бы, "Ага, пьяный
белый человек в китайском кино" и в 8 вечера я вышел бы в синие сумерки со
сверкающими огнями Сан-Франциско и всеми этими волшебными горами вокруг,
теперь я долил бы доверху свою флягу в номере отеля и тогда вышел бы уже на
настоящую большую прогулку по городу, чтобы нагулять аппетит для полуночного
празднества в одном из отсеков изумительного старого ресторана
Сан-Хьонг-Ханг - я рванул бы через гору, через Телеграфную, и прямиком вниз
к железнодорожным путям, где я знаю одно местечко в узком переулочке, там
можно сидеть, пить и созерцать большой черный утес, у него самые настоящие
магические вибрации, отсылающие в ночь сонмы посланий священного света, я
знаю, я уже пробовал это - и потом, отхлебывая, потягивая и вновь завинчивая
флягу, я иду в одиночестве по Эмбаркадеро через Рыбачью Пристань, где
ресторанчики на каждом шагу и где тюлени разбивают мне сердце своими
кашляющими любовными криками, я иду мимо лотков с креветками и выхожу
отсюда, минуя последние корабельные мачты в доках, потом вверх по Ван-Нэсс,
потом опять вниз в Тендерлойн[6] - мигающие козырьки над входами и бары с
вишневыми коктейлями, всевозможные помятые личности, старые расслабленные
блондинки-алкоголички спотыкаясь ковыляют к винным лавкам -- потом иду (вино
почти закончилось, а я пьян и счастлив) вниз по большой и шумной
Маркет-стрит с ее кабацкой мешаниной моряков, киношек и фонтанчиков с
содовой, пересекаю аллею и попадаю в Скид Роу[7] (приканчивая мое вино здесь
среди похабных старых подъездов, пахнущих мочой, разрисованных и
раздолбанных сотнями тысяч горестных душ, одетых в поношенную одежду из
магазинов Доброй Воли) (теми же постаревшими мальчишками, что скитаются на
товарняках и бережно хранят листочки бумаги, на которых всегда какая-нибудь
молитва или философская премудрость) - Вино закончилось, я начинаю петь и
негромко похлопывать в ладоши в такт своим шагам всю дорогу вдоль по Кирни
домой в Чайнатаун, уже почти полночь и я сижу в чайнатаунском парке на
темной скамейке, дышу воздухом и пью глядя на соблазнительно манящие
неоновые огни моего ресторана мерцающие на маленькой улице, время от времени
безумные алкаши проходят в темноте в поисках стоящих на земле полувыпитых
бутылок, или окурков, и напротив через Кирни видны полицейские в синем,
входящие и выходящие из большого коричневого здания тюрьмы - Затем я иду в
свой ресторан, делаю заказ из китайского меню, и сразу же они приносят мне
копченую рыбу, приправленных карри цыплят, бесподобные пироги с гусятиной,
невероятно тонкие и изящные серебряные тарелки (с рукоятками) в которых
дымятся настоящие шедевры, можно поднять крышку, увидеть и оценить аромат -
с чайником, чашкой, ах, я ем - и ем - до полуночи -- и может потом за чашкой
чая сижу и пишу письмо своей любимой Ма, говоря ей - затем, закончив, я иду
либо спать либо в наш бар, "Местечко", найти всю нашу команду и надраться
вместе с ними...
Теплым августовским вечером я спускаюсь вниз по склону горы и нахожу
обрывистое место, где можно усесться скрестив ноги среди пихт и старых
поваленных стволов, лицом к луне, желтому полумесяцу, утопающему в горах на
юго-западе - На небе теплая розоватость, на западе - Время около 8:30 -
Ветер от лежащего в полумиле внизу озера душист и напоминает о заколдованных
озерах, такими я их себе и представлял - я молюсь и прошу Авалокитешвару
Пробуждающего возложить свою алмазную руку на мои брови и даровать мне
негаснущее понимание - Он Слушатель и Отвечающий на мою молитву и я знаю что
вся эта заморочка самогипноз и бредятина, но в конце концов именно сами
пробуждающие (Будды) сказали нам, что они не существуют - И секунд через
двадцать в мои разум и сердце приходит понимание: "Когда дитя рождается, оно
засыпает и видит сны о своей жизни, а когда человек умирает и его хоронят в
могиле, он пробуждается опять к Вечному Блаженству" - "А стало быть все уже
сказанное и сделанное становится неважным" -
Ага, Авалокитешвара возложил-таки свою алмазную руку...
И приходит вопрос -- зачем же, зачем, ведь это только Сила, некая
духовная природа, сочащаяся своими бесчисленными возможностями -- И какое же
это странное чувство читать о том, как на улицах Вены в феврале 1922 года
(за месяц до моего рождения) происходило то-то и то-то, но какая может быть
Вена, или хотя бы представление о Вене еще до моего рождения! -- ведь это же
просто движение духовной природы и в этом нет ничего общего с какими-то
людьми что появляются и уходят, несут ее в себе, питаются ею и питают ее -
Поэтому 2500 лет назад жил Гаутама Будда, который додумался до величайшей
мысли в истории Человечества, что все эти года есть лишь капля в бадье
Духовной Природы, которая есть Универсальный Разум -- И я понимаю в своей
горной благости что Сила проявляется и ликует и в невежестве и в
просветленной мудрости, иначе не существовало бы невежественного бытия
наряду с просветленным небытием, разве должна Сила ограничивать себя тем или
иным -- формой страдания или неосязаемыми эфемерностями бесформенности и
безболезненности, какая между ними разница? - И я вижу как желтая луна тонет
в горах по мере того как Земля поворачивается от нее в сторону. Я наклоняю
голову чтобы увидеть все верх ногами, и горы земные становятся всего лишь
болтающимися в безграничном небесном море пузырями - О если бы было другое
зрение, без помощи глаз, какие атомные уровни увидели бы мы? - но нашему
обычному зрению доступны лишь луны, горы, озера, деревья и чувствующие
существа - Сила наслаждается всем этим - Она напоминает самой себе что она
есмь Сила, и вот поэтому, именно из за того что Сила на самом деле суть
экстаз, сон своих собственных проявлений, возникает ее Золотая
Бесконечность, полная спокойствия, и наш туманный сон о существовании есть
лишь туман в своем - мне не хватает слов - Теплая розоватость на западе
становится пастельно-гаснущей сероватостью горной долины, мягкий вечер
вздыхает, маленькие зверюшки копошатся в кустах вереска и в норах, и я меняю
положение своей сведенной от долгого сидения ноги, луна наливается зрелостью
желтеет и в конце концов касается самого высокого утеса и как обычно
какой-нибудь пень или коряга своим силуэтом в ее магическом очаровании
напоминают легендарного Койотля, Индейского Бога, готового воззвать к Силе -
О, какое спокойствие и довольство я чувствую, возвращаясь в свою хижину
с пониманием что мир этот лишь сон младенца, что все мы возвращаемся к
экстазу золотой бесконечности, к сущности Силы - и Первобытного Восторга, и
все мы это знаем - я лежу на спине в темноте, сцепив руки, радостный,
северные огни сияют как на голливудской премьере и я опять смотрю на них
вверх ногами и вижу, что это просто большие куски льда на земле отражающие
далекий солнечный свет с другой стороны и к тому же так видно как земля
выгибается в другую сторону - Северные огни, достаточно яркие чтобы ледяными
лунами освещать мою комнату.
И какое облегчение знать что когда все сказано и сделано ничто уже не
имеет значения - Горести? жалость которую я чувствую думая о матери? - но
ведь чтобы их почувствовать, их надо лелеять в себе и помнить о них, они не
возникают сами по себе и это происходит потому что духовная природа свободна
от иллюзий и вообще свободна от всего -- Так вот все эти дымящие трубками
философы-деисты, говорящие "О заметь же чудесные творения рук Господних,
луну, звезды и т.д., разве согласился бы ты променять их на что-нибудь
другое?", они не понимают что говорят все это из-за отголосков первобытной
памяти о том как понятия когда, где и что были ничем - "Существует лишь
сейчас," понял я, глядя на мир, этот современный цикл творения, созданный
Силой в радости и чтобы напомнить своей безличной личности что она есмь Сила
- и по сути своей роящееся ласковое таинство которое можно увидеть закрыв
глаза и позволив извечной тишине заполнить свои уши - этому блаженству и
благословению нужно верить, дорогие мои -
Пробуждающие, если захотят, перерождаются детьми - Это мое первое
пробуждение -- И нет ни пробуждающих ни пробуждения.
Так лежу я в своей хижине, вспоминая фиалки росшие на задворках нашего
дома на Феб Авеню когда мне было одиннадцать, июньскими ночами, туманные
мечты о них, призрачных, бестелесных, давно исчезнувших, гибнущих опять, и
опять, до самой последней погибели.
В середине ночи я просыпаюсь и вспоминаю Мэгги Кэссиди и как я мог бы
жениться на ней и стать старым Финнеганом для нее -- для Ирландской Девчушки
Пларабэлл, мог бы стать хозяином коттеджа, маленького ветхого ирландского
розового коттеджа стоящего среди тростника и старых деревьев на берегах
Конкорда и работал бы угрюмым тормозным кондуктором в жилетке, рукавицах и
бейсбольной кепке, холодными ночами Новой Англии я работал бы ради нее с ее
ирландскими бедрами цвета слоновой кости, ее конфетными губами, ее
ирландским акцентом, "Господней Зеленой Страной" и двумя дочерьми - И ночью
я положил бы ее наискосок на кровать всю мою и прилежную и искал бы лоно ее,
этот источник ее, эту изумрудно темную героическую вещь ее, что так мне
желанна - вспоминаю ее шелковые бедра в обтягивающих джинсах, ее манеру
опираться на бедра руками раздвигая их и подмигивать мне когда мы сидим
вместе и смотрим телевизор - в гостиной ее матери в 1954 году когда я
одержимый прикатил в октябрьский Лоуэлл - Ах, розовый виноград, речная
глина, ее походка, ее глаза - Женщина для старины Дулуоза? Здесь в полночь у
печки в одиночестве, невозможно представить что это было на самом деле -
Мэгги Приключение -
Лапы черных деревьев в залитых лунным светом розоватых сумерках тоже
хранят в себе море любви, и я всегда могу покинуть их и отправиться в
скитания - но когда я стану стар и сяду у моего последнего очага, и птица
будет долдонить на своей пыльной ветке в О Лоуэлле, о чем же буду думать я,
ива? - сейчас ветра вьются в спальном мешке холодя обнаженную спину мою и
склонившись иду я к похвальным трудам моим по дерну земли моей, но кто споет
песню любви для старого пердуна согбенного раздолбанного придурковатого
Джека О - ? - и современные поэты не преподнесут мне лавровый венок будто
мед к моему молоку, насмешки -- лучше уж насмешки любящих женщин, так
кажется мне - я сваливаюсь с мостков, бабах, и река моет мое исподнее -
болтовня в очередях в прачечной - прогулки на свежем воздухе по
понедельникам - фантазмы всех домохозяйкиных Африк -- Учите меня, дочери -
верти мной, безжалостная - но это могло бы стать лучше того чем кажется,
нецелованные губы одинокого Дулуоза угрюмящиеся с могильной плиты
Ранними воскресными утрами я всегда вспоминаю Мамин дом на
Лонг-Айленде, как это было в последние года, когда она читала воскресные
газеты, а я вставал, принимал душ, выпивал стакан вина, читал спортивный
раздел и потом ел очаровательный маленький завтрак, приготовленный ею для
меня, стоит мне лишь попросить и она поджарит бекон так, что он похрустывает
а зажаренные ею яйца похожи на маленькие солнышки - Телевизор выключен
потому что воскресными утрами не передают ничего интересного - мне так
горько думать что ее волосы поседели и ей 62 и будет 70 когда мне исполнится
мои совиные 40 - вскорости она уже станет "моей старушкой" - Лежа на кровати
я пытаюсь думать о том как буду заботиться о ней -
Потом, когда дни удлиняются, воскресенья растягиваются, а горы
становятся похожи на скучновато-набожного Саббатини, я часто начинаю думать
о прежних лоуэлльских денечках, когда около четырех часов дня возле
краснокирпичных мельниц у реки собиралась толпа народу, детишки возвращались
из воскресного кино, но О печальная красокирпичность, повсюду в Америке
видишь ты ее, в лучах подкрашивающего солнца, на фоне облаков, и люди одетые
в свое самое лучшее на фоне этой декорации -- Мы все стоим отбрасывая
длинные тени на этой печальной земле и дыхание наше стеснено плотью.
И даже в воскресном шебаршении мыши на чердаке моей хижины было что-то
по воскресному сакральное, связанное с хождением в церковь, церковностью,
молитвенностью -- Что ж, попробуем...
В основном по воскресеньям я маюсь от скуки. И все мои воспоминания
полны тоски. И солнце слишком уж сияющее и золотое. Я думаю чем заняты
сейчас люди Северной Каролины и содрогаюсь в ужасе. В Мехико-Сити они бродят
повсюду поедая здоровенные порции печеной свинины в парках и даже
воскресенье их суть Уныние - должно быть, Саббат был придуман для того,
чтобы приглушить радость.
Для обычных крестьян воскресенье это улыбка, но для нас мрачных поэтов,
ах - мне кажется что воскресенье это подзорная труба Господа.
Сравните церковь вечером в пятницу с кафедрами воскресного утра -
В Баварии одетые в шорты мужчины прогуливаются, заложив руки за спину -
Мухи спят за кружевными занавесками в Кале и в окнах видны парусные корабли
- в воскресенье Селин зевает и умирает Женэ - В Москве все как обычно -
Только в Бенаресе по воскресеньям голосят продавцы с лотков и заклинатели
змеи открывают свои корзины, наигрывая на флейте - На Пике Одиночества в
Высоких Каскадах, по воскресеньям, ах -
В частности, я думаю о краснокирпичной стене принадлежащей
Шеффилдовской Молочной Компании, возле главных путей Лонг-Айлендской
Железной Дороги в Ричмонд-Хилле, подле нее колея в глине накатанная за
неделю автомобилями рабочих, одна-две одинокие машины воскресных
сверхурочников стоят там и сейчас, облака проплывают отражаясь в коричневых
лужах, на свалке валяются деревяшки, консервные банки и тряпье, проезжает
местная электричка с бледными пустыми лицами Воскресных Путешественников - в
предчувствии призрачного дня, когда индустриальная Америка будет покинута и
оставлена ржаветь на один долгий Воскресный День забвения.
Зеленая горная гусеница с множеством уродливых маленьких ножек живет в
своем вересковом мирке, голова ее как бледная прозрачная капля, толстое тело
изгибается пытаясь заползти вверх, вися вниз головой как южноамериканский
муравьед бессмысленно болтаясь крутясь и шаря вокруг себя в поисках чего-то,
затем стремительно кидается наверх как прыгающий на ветку мальчик вытянув
тело среди вересковых ветвей и начинает беситься и бросаться на ни в чем
неповинную зелень -- она и сама-то часть этой зелени, двигающийся ее сок --
она изгибается, выпрямляется и сует свою башку куда ни попадя - она среди
пятнисто тенистых джунглей серых прошлогодних вересковых игл - иногда
застывает как удав боа на фотографии безмолвно устремившись ракетою в
небеса, змееголово засыпает, потом поворачивается как паста из тюбика когда
я дую на нее, готовая быстро вывернуться, молниеносно скрыться,
беспрекословно повиноваться приказу таинственных небес лежать тихо, что бы
не грозило с них - Сейчас она очень огорчена тем что я на нее дую, втягивает
горестно голову в плечи и я отпускаю ее бродить незаметно, притворяться
мертвой раз уж ей так угодно - она идет исчезая зигзагами в джунглях, и
теперь когда мои глаза находятся на уровне ее зрения я вижу, что и над ней
тоже возвышаются свои громадины - плоды вереска и бесконечность над ними,
она так же висит вверх ногами и так же цепляется за свою сферу - мы оба
безумны.
Я остаюсь сидеть размышляя не станут ли мои путешествия по Побережью в
Фриско и Мексику столь же печальными и безумными - но господи-ты-боже-мой, я
лучше буду бродить по этому камешку -
Некоторые из этих моих дней в горах, несмотря на жару, проникнуты
чистой и холодной красотой предвещающей октябрь и мою свободу на
мексиканском Индейском Плато, где будет еще чище и холодней - О старые мечты
мои о горах мексиканского плато, где небеса полнятся облаками похожими на
бороды патриархов и чем сам я не Патриарх стоящий в развевающихся одеждах на
зеленом холме чистого золота - Лето в Каскадах может припекать в августе но
уже чувствуется что Осень близка, особенно в полдень на восточном склоне
моей горы, вне палящего солнца, где горный воздух резок и деревья уже начали
вянуть в ожидании конца - Теперь я начинаю думать о Первенстве Мира, о
шествии футбола через всю Америку (резкие вскрики голоса откуда-то со
Среднего Запада по потрескивающему радио) - я думаю о винных полках в лавках
вдоль Калифорнийской железной дороги, думаю о гальке лежащей на земле Запада
под просторными Осенне-гудящими небесами, думаю об обширных горизонтах,
равнинах и завершающей их пустыне поросшей кактусами и сухими мескитами
тянущимися вдаль по красному плоскогорью туда где вечно бродят старые мои
бродяжьи грезы и откуда доносятся лишь отклики пустоты, протяжной мечте
автостопщика и бродяги Западных пространств, сезонных сборщиков урожая
спящих в мешках для хлопка и неприхотливо покоящихся под посверкивающими
звездами - Ночью Осень намекает о себе сквозь Лето-в-Каскадах, над хребтом
горы встает красная Венера и ты думаешь "Кто же станет госпожой моею?" - Все
они, туманное мерцание и звенящие насекомые, будут стерты с школьной доски
лета и отброшены на восток напористым западным морским ветром и вот тогда-то
я разлохмаченный им в последний раз протопаю вниз по тропе, с рюкзаком и
прочими делами, распевая снегам и елям, en route к новым приключениям, к
новой тоске по приключениям - и тогда все это останется у меня за плечами (и
ты) океан слез, бывший жизнью на этой земле, столь древней, что разглядывая
свои фотопанорамы окрестностей Пика Одиночества, старых мулов и крепких
чалых лошадок 1935 года (на фотографии) за изгородью загона которого больше
нет, я изумляюсь что горы в 1935-м выглядели так же (очертания снежных полей
Старого Джека остались точь-в-точь такими же, до мельчайших подробностей)
как и в 1956-м, так что древность земли поражает меня и я понимаю что они
(горы) такие изначально, они выглядели так и в 584 году до нашей эры - как и
все остальное, за исключением брызг волн морских -- Жизнь наша движима
стремлением, так и я стану стремиться куда-то и падать вниз с этой горы
полнейшего безупречного знания или полнейшего безупречного незнания
восхищенно и невежественно разглядывая метущиеся повсюду проблески сияния -
Позже поднимается западный ветер, дующий с неулыбчивого запада,
невидимый, и шлет мне ясные знаки сквозь все щели и перегородки - Давай же,
давай, пусть пихты осыпятся скорее, я хочу увидеть юг изумленный белизной --
Ноумен[8] - это то что видишь закрыв глаза, это нематериальный золотой
прах, Золотой Ангел Та - Феномен[9] же видишь глаза открыв, в моем случае
это осколки представлений о жизни оставшиеся после тысячи часов, проведенных
в горной хижине - Тут, сверху на поленнице, валяется книжонка-вестерн, уф,
она ужасна, полна сантиментов и пространных рассуждений, дебильных диалогов,
шестнадцать героев с двустволками на одного бедолагу злодея, который мне
пожалуй даже симпатичен своей забулдыжностью и тяжелыми ботинками -- это
единственная книга которую я выкинул - Над ней в углу подоконника
примостилась банка из-под МакМиллановского Рафинированного Масла, в ней я
держу керосин для разжигания огня, для чародейского вызывания огня,
бесчисленных привычных взрывов в моей печке, заставляющих кофе вскипеть -
Моя сковородка висит на гвозде над второй (чугунной) сковородой, слишком
большой для готовки, но капли жира стекающие после стряпни с моей сковородки
на ее оборотную часть напоминают подтеки спермы, я соскребаю их и смахиваю
на дрова, плевать, какая разница - Затем старая плита с ведром для воды,
неизменный кофейник с длинной рукояткой, почти никогда неиспользуемый чайник
- Затем на маленьком столике великолепнейший засаленный посудный бак,
обложенный различными штуковинами для мытья: металлическим скребком,
посудными тряпками, тряпками-хваталками, посудным ершиком, страшный
кавардак, под всем этим постоянно скапливается лужа темной грязной воды
которую я вытираю раз в неделю - Затем полка с постепенно исчезающим запасом
консервов и прочей провизией, а также коробка с мылом Тайд, на которой
нарисована хорошенькая домохозяйка с упаковкой Тайда в руке и надписью
"Созданы друг для друга" - Коробка Бисквика, оставленная здесь предыдущим
смотрителем и так и не открытая мной, банка сиропа который я терпеть не могу
- и отдаю муравьиной колонии во дворе - старая банка орехового масла
оставленная каким-то смотрителем видимо еще когда президентом был Трумэн
судя по тому какое оно засохшее и протухшее - банка в которой я держу
маринованные луковицы, начавшая вонять как старый лимонад постоявший на
жарком полуденном солнце и закисший в вино - маленькая бутылочка мясной
подливки Кухонный Букет, приходящаяся очень кстати к жареному мясу, но вот
отмывать от нее руки так себе удовольствие - Коробка спагетти Шеф-Боярди,
вот ведь изумительное имя, мне сразу представляется как с пришвартовавшейся
"Куин Мэри" спускаются навстречу блистающим огням Нью-Йорка французские
Шеф-повара чтобы поразить город своими маленькими беретами, или вот еще:
какой-нибудь бутафорский усатый Шеф распевает на кухне итальянские арии в
телевизионном кулинарном шоу - Стопка пакетиков супа из зеленого гороха,
очень вкусного и с беконом, прямо как в "Уолдорф Астории", это Джерри Вагнер
научил меня как-то на ночевке, когда мы с ним ходили в горы и разбили лагерь
на Потреро Мидоуз, он вывалил скворчащий бекон прямо в кастрюлю супа и суп
получился густым и ароматным в дымном ночном воздухе у ручья - Потом пол
целлофанового пакета черного гороха и мешочек ржаной муки для оладьев и
лепешек - Затем банка чего-то соленого оставшаяся с 1952 года и промерзшая
за зиму так что соленье это превратились в какие-то ошметки в рассоле,
напоминающие мексиканские зеленые перцы - моя коробка с кукурузными
хлопьями, нераспечатанная упаковка искусственных дрожжей Калумэ с
нарисованной головой повара - Новая нераспечатанная банка черного перца --
Куски Липтоновского мыла оставленные Стариной Эдом последним из сидевших тут
до меня разъебаев-одиночек - Потом моя банка маринованной свеклы,
темно-рубиновой и красной с редкими белеющими из под стекла вкраплениями
лука - Затем мед в полупустой стекляшке чтобы пить его холодными ночами
когда болеешь или чувствуешь себя плохо - Закрытая банка кофе Максвелл-Хаус,
последняя оставшаяся - Совершенно ненужная бутылка с винным уксусом, как мне
хотелось бы чтобы это было вино, он даже выглядит похоже такого
темно-красного цвета - Позади нее стоит новая жестянка с сиропом-патокой,
иногда я пью его прямо из банки чувствуя привкус железа во рту - Коробка
Рай-Крисп то есть сухого тоскливого концентрата хлеба для сухих тоскливых
гор - И целая шеренга консервов многолетней давности, промерзшая
обезвоженная спаржа выглядящая столь эфемерной что невозможно представить
что это можно есть, будто жуешь воду, такая она бледная - Консервированные
вареные картофелины похожи на усохшие головы и бесполезны - (только олени
способны есть такое) - две последние банки аргентинской тушенки, всего их
было пятнадцать, отличные, приехав на пост тем холодным дождливым днем
вместе с Энди и Марти на лошадях я обнаружил долларов на тридцать
консервированного мяса и тунца, все отличного качества, такого что при моей
бедности мне и в голову не пришло бы купить - Сироп Лесоруба, большая банка,
тоже оставленный кем-то подарок, к моим восхитительным оладьям - Шпинат,
который, хоть и окаменел как железо за все эти бесчисленные проведенные на
полке зимы, но так и не потерял аромата - Моя коробка с картошкой и луком, О
свершись чудо! Как хочется мне содового мороженого и филейной поджарки!
La Vie Parisienne, я представляю это себе, ресторан в Мехико-Сити, и
как я вхожу и сажусь за убранный роскошной скатертью стол, заказываю
отличное белое Бордо и филе-миньон, на десерт пирожные, крепкий кофе и
сигару, Ах, и прогуливаюсь вниз по бульвару Реформы в интересную тьму
французского фильма с испанскими субтитрами и внезапно грохочущей
мексиканской кинохроникой
Хозомин, скала, она никогда не ест, не делает запасов, не ждет чуда, не
мечтает о далеких городах, не ждет Осени, не лжет, разве что быть может
умирает - Ба.
Каждую ночь я опять и опять спрашиваю Господа "Почему?" но так и не
слышу достойного ответа
Вспоминая, вспоминая этот сладостный мир с его таким горестным
привкусом - время, когда я наигрывал "Старого Отца" Сары Воэн на моем
маленьком пианино в Скалистых Горах и цветная прислуга Лола заплакала на
кухне так, что я подарил пианино ей и потом воскресными утрами, из старого
обшарпанного дома с маленьким крылечком в котором она жила со своим дружком,
по лугам и сосновым лесам Северной Каролины разносились строчки из
Божественной Сары "Вам, Царство, Власть и Слава, на веки вечныя, аминь" --
вздрагивал колокольчиком ее голос на "а" в "Аминь", точно так как ему
подобает, голосу - Горестным? да потому что даже насекомые бьются в
смертельной агонии на столе, а вы что думаете, это бессмертное дурачье, что
восстает, отходит и перерождается, как и мы, "человееечество" - так крылатые
муравьи-самцы гонимые самками уходят умирать, как же невероятно тщетны их
усилия когда они карабкаются по оконным стеклам и бессильно опадают вниз
добравшись доверху, и пытаются вновь и вновь, пока не умирают от истощения -
И тот муравей которого я однажды увидел на полу моей хибары, о как он бился
и корчился в грязной пыли в какой-то фатальной безнадежной судороге - ах,
так и все мы, все мы, понимаем мы это сейчас или нет - Сладостный? Конечно
же сладостный, особенно когда мой обед булькает в кастрюле и рот наполняется
слюной, восхитительная кастрюля зеленой репы, морковки, мяса, лапши и
приправ, однажды вечером я сварил все это и ел потом, сидя полуголый на
утесе, из маленькой чаши, палочками, сидя скрестив ноги, распевая - И потом
теплые залитые лунным светом ночи с еле тлеющей краснотой на западе - тоже
куда как сладостно, ветер, песни, густая сосновая древесность внизу в
ущельях долин - Чашечка кофе и сигарета, ох и не дзена ж себе! а где-то там
люди сражаются с ужасающими карабинами в руках, грудные клетки их пересечены
крест-накрест патронташами, ремни их оттянуты книзу гранатами, их терзают
жажда, усталость, голод, страх, безумие - Должно быть когда Господь
задумывал этот мир, он запланировал заранее меня с моей печальной до
изнеможения душевной болью, А Т А К Ж Е Быка Хаббарда, катающегося по полу
от смеха над дуростью человеческой -
Вечерами сидя за столом у себя в сторожке я вижу в черном стекле
собственное отражение, груболицего человека в грязной замызганной рубахе,
небритого, насупленного, губастого, глазастого, волосатого, носатого,
ушастого, рукастого, шеястого, адамовояблокастого, бровастого, отражение за
которым 7000000000000000 световых лет пустоты, бесконечной тьмы, испещренной
тусклыми световыми намеками, а в глазах моих блеск и я ору буйные песни о
луне на дублинских улицах, водке хей-хей, а потом печальные мексиканские, о
закате над горами, amor, corazon и tequila - Мой стол завален бумагами,
очень красиво если смотреть прищурив глаза, туманно молочный беспорядок,
груды бумажных листов, будто в забытом сне с картинками на бумаге,
вырисованными как в комиксах, как реалистическая сценка из старого русского
фильма, масляная лампа отбрасывает полутени - И вглядываясь в свое лицо в
оловянном зеркале я вижу синие глаза, загоревшее на солнце лицо, красные
губы, недельной давности небритость и думаю: "Сколько же мужества нужно,
чтобы жить перед лицом этой невыносимой безысходности -
"идиот-ты-же-умрешь"? Не-ет, все сказанное и сделанное действительно
становится неважным" - Так должно быть, так оно есть, Золотая Бесконечность
развлекается движущимися картинками - Мучает меня в тюряге, во что тогда мне
верить? - Мечом сечет конечности и что ж мне делать тогда, ненавидеть
Калингу до и после горестной смерти моей? - Пра есть сознание. "Покойся в
Священном Мире" -
И вот однажды мне вдруг приходит в голову включить радио послушать
общую трепотню и я слышу всеобщие восторги по поводу молнии, Рэйнджер
попросил Пата с Кратерной передать чтобы я немедленно с ним связался, что я
и делаю, и он говорит "Как у тебя там с молнией?" - Я говорю "Здесь наверху
ясная лунная ночь, северный ветер" - "Ага", говорит он чуть нервно и
встревожено. "Кажется ты в порядке" - Тогда только я вижу вспышку на юге -
Он хочет, чтобы я вызвал полевую группу с Большого Бобрового, я пытаюсь,
никто не отвечает - Внезапно ночь и радио взрываются воплями восторга,
вспышки на горизонте сверкают подобно предпоследней строфе Алмазной Сутры
(Алмазный Резец Обета Мудрости), вереск издает зловещие звуки, ветер в
стропилах сторожки полнеет подозрительнейшими дуновениями и кажется будто
шесть недель пустынного тоскливого уединения на Пике Одиночества подошли к
концу и я опять внизу, и все это из-за дальней молнии, дальних голосов и
доносящегося иногда дальнего бурчания грома - Луна продолжает сиять,
затягивается тучами гора Джек, но не Пик Одиночества, могу себе представить
как старина Джек-Снежные-Поля хмурится в их мраке - гигантское крыло летучей
мыши размером миль 30 на 60 медленно наползает, грозя вскоре погасить луну,
которая печально в туманной дымке гибнет у себя в колыбели - Я меряю шагами
ветреный двор и чувствую себя странно и радостно - молния желто выплясывает
над вершинами хребта, два пожара уже начались в Пасайтеновском Лесу как
сообщил захлебывающийся и восторженный Пат с Кратерной, он говорит "Я тут
отмечаю места, куда молния ударяет, веселые дела" что он вовсе делать не
обязан это не его район и не мой тоже более 30 миль отсюда - Прогуливаясь, я
думаю о Джерри Вагнере и Бене Фэгане, которые во время своего
смотрительского уединения писали стихи (на Старательской и Кратерной) и мне
хочется их повидать и еще чтобы не уходило странное чувство будто я уже
спустился с горы и вся эта тоскливая хреновина позади - Почему-то, может
из-за всей этой суматохи, меня невероятно затащило от открывания и
закрывания двери в хижину, она теперь кажется населенной, об этом пишутся
стихи, ванная, вечер перед выходными и люди этого мира, нечто, и можно
чем-то заняться или кем-то быть - И сегодня уже не просто Четверг Вечером 14
Августа в Одиночестве но Ночь Мира и Вспышек Молнии и в ней вышагиваю я
повторяя про себя строчки из Алмазной Сутры (ведь может же внезапно пасть
молния и поразить меня прямо в спальном мешке моем страхом Божиим или
сердечным приступом и гром грянет тогда прямо в мой громоотвод) - : "Когда
последователь учения вынужден сохранять любое, пусть даже ограниченное
суждение о реальности ощущения собственной отдельности, реальности ощущения
отдельности других людей, реальности ощущения отдельности живых существ,
реальности ощущения отдельности всеобщей сущности, тогда он хранит нечто
несуществующее" (в моем пересказе) и этой ночью более чем когда-либо мне
видна истинность этих слов - Для всех этих феноменов, то есть вещей
кажущихся, и всех ноуменов, то есть вещей как они есть, утеря Царства
Небесного (и не только) суть - "Сон, фантазм, пузырь на воде, тень, вспышка
молнии..."
"Я выясню и сообщу тебе -- оба-на, еще одна -- в общем, выясню и
сообщу, ух-ты, сообщу обстановку" говорит Пат по радио стоя возле своего
пожароискателя и отмечая крестиками места куда как ему кажется ударила
молния. Он говорит "оба-на!" каждые 4 секунды, по-моему со своими "оба-на!"
он ужасно забавен прямо как придуманный нами с Ирвином "Капитан Оба-на",
Капитан Корабля Дураков по сходням которого пробираются тайком на борт
всевозможные вампиры, зомби, таинственные странники и клоуны-арлекины и
когда корабль en route sur le voyage доплывает до края земли и собирается
перевалиться через край вниз, Капитан говорит "Оба-на!"
Пузырек, тень -
оба-на -
Вспышка молнии
"Оба-на", говоришь пролив суп на стол -- Конечно мало приятного, но
скользящий-сквозь-мир должен радоваться всему происходящему, быть
беззаботным пышущим радостью засранцем - (пышущим бедствием) - так что если
удар молнии разнесет Джека Дулуоза в его Одиночестве на куски, Старина
Татхагата насладится этим как оргазмом, вот и все
Пссст, пссст, говорит ветер, несущий грозу и пыль ко мне - Клик,
говорит громоотвод, получая разряд электричества от молнии ударившей в пик
Скэджит, могучая сила неслышно и бережно проскальзывает по моей защитной
мачте, проводам и растворяется в земле одиночества - Никакого грохота,
чистая смерть - Пссст, клик, и лежа в своей кровати я ощущаю как
содрогнулась земля - Кажется большой пожар бушует в пятнадцати милях к югу
восточнее Рубиновой горы и где-то возле ручья Пантеры, здоровенное оранжевое
пятно, в 10 часов электричество тянущееся к огню бьет в этот место опять и
пожар разгорается до катастрофических размеров, далекое бедствие и я не
удерживаюсь от "Ох-о-ох" -- Кто-то там выжигает себе глаза рыданиями?
Гроза в горах -
металл
Маминой любви
И в насыщенном электричеством воздухе что-то вдруг напомнило мне
Лэйквью Авеню около Лапин-Роуд где я родился одной грозовой летней ночью
1922 года, ночью песка на мокром тротуаре, наэлектризованных и блестящих
трамвайных рельсов, промокших лесов на заднем плане, апокалипсическая
паратоманоитическая[10] детская коляска гугукает на блюзовой веранде,
влажная, под грушевым глобусиком лампочки, и все это слышится мне в песнях
Татхагаты, песнях горизонтящихся молний и грома барабахающего из утробных
глубин, Храм в ночи -
Где-то около полуночи от непрерывного глядения во тьму за окном мне уже
везде мерещатся пожары, даже у себя под носом у самого Грозового ручья я
вижу три светящиеся ярко-оранжевые огненные вытянутости призрачного пламени,
которые вспыхивают и гаснут в моих напряженных и наэлектризованных зрачках -
Гроза то затихнет ненадолго то крутанувшись где-то в пространстве
обрушивается на мою гору опять и в конце концов я засыпаю - Просыпаюсь в
дождевую морось, серость, на небе к югу от меня обнадеживающие серебристые
просветы - на 177o 11'' где вчера был большой пожар я вижу теперь
странную коричневую заплатку на заснеженной горе отметившую где огонь
бушевал шипя под ночным дождем, возле Грозового и Коричного никаких
признаков ночных призрачных пожаров - Сочится туман, моросит дождь, такой
весь трепещущий и восхитительный день и в полдень я чувствую первозданность
Северной зимы принесенной ветром с Хозомин, ощущение Снега в воздухе,
железная сероватость и стальная синева скал - "Эгегей, ну и дела!" ору я моя
свою посуду после вкусного превосходнейшего завтрака с блинами и черным
кофе.
Дни проходят-
им не остановиться
И мне не понять
приходит мне в голову когда я обвожу кружочком 15 августа в календаре и
смотрю на часы, уже 11.30 и значит полдня уже прошло - Выйдя во двор влажной
тряпкой я оттираю от летней пыли свои полуразвалившиеся ботинки,
прогуливаюсь и размышляю - Петли двери в прихожую разболтались, из печной
трубы вывалился камень, настоящую ванну я смогу принять не раньше чем через
месяц и мне на это наплевать - Дождь опять начинается, теперь уж точно
зальет любой пожар - Во сне мне приснилось что я поругался с Эвелин, женой
Коди, что-то такое насчет их дочки, дело происходит в солнечном домике на
барже в солнечном Фриско, и она угощает меня самым злобным из всех
ненавидящих взглядов за всю историю человеческой ненависти и бьет
электрическим разрядом, от которого меня всего корежит до самых кишок, но я
почему-то не должен подавать вида что боюсь ее и продолжаю невозмутимо
разглагольствовать сидя в своем кресле - На той самой барже где в одном из
моих старых снов мать развлекала адмиралов - Бедная Эвелин, она слышит как я
соглашаюсь с Коди что с ее стороны было глупо отдать единственный в доме
торшер Епископу и ее сердце колотится над ее тарелками - Бедные сердца
человеческие, повсюду-то они колотятся.
В этот дождливый день чтобы сдержать обещание данное себе в тот
апрельский день когда Джерри приготовил для нас в своем домике в Милл-Волли
восхитительнейшее китайское блюдо из риса я делаю на жаркой печи обалденный
китайский кисло-сладкий соус состоящий из зеленой репы, кислой капусты,
меда, черной патоки, красного винного уксуса, свекольного рассола (очень
темного и горького) и пока все это булькает на плите и крышка на кастрюльке
с рисом начинает приплясывать, я выхожу во двор и говорю " Китайска обеда
всегда осень-осень холесая!" и вдруг вспоминаю отца и "Чин Ли" в Лоуэлле, я
вижу краснокирпичную стену за стеклом ресторанной кабинки и дождь, пахучий и
краснокирпичный дождь, дождь китайских обедов в Сан-Франциско, через унылые
равнины и горы я вспоминаю плащи и обнаженные в улыбке зубы, это необъятное
неотвязное видение подернуто скудными обрывками - тумана - тротуаров
городов, дыма сигар и звяканья монет за прилавком, и того как китайские
повара загребают круглым черпаком из котла рис, подносят к нему маленькую
китайскую чашу, переворотом черпака перекидывают в нее круглый комок
дымящегося риса и приносят в кабинку со всеми этими сумасшедшими
ароматнейшими соусами - "Китайска обеда всегда осень-осень холесая!" - и я
вижу поколения дождей, поколения дымящегося риса, поколения краснокирпичных
стен со старомодными красно неоновыми рекламами сверкающими на них теплыми
огнями кирпичной пыли, ах милый неописуемо зеленый рай светлых попугаев,
тявкающих дворняжек, старых Дзенских Безумцев с их приколами и китайских
фламинго, которые изображены на восхитительных вазах династии Минь и других
менее славных династий - Дымящийся рис, его аромат такой густой и древесный
и он чистый как облака, несущиеся над озерной долиной в сегодняшний день
"китайской обеды", когда ветер подталкивает их молочно-струящихся над
порослью молодых пихт к первозданным мокрым скалам
Мне снятся женщины, женщины в трусиках, женщины в комбинациях, одна из
них сидит возле меня стыдливо отодвигая мою расслабленную руку от места где
ее тело мягко закругляется но хоть я не делаю никаких усилий к этому так или
иначе но моя рука остается там, другие женщины и даже тетушки наблюдают за
мной - И в определенный момент эта мерзкая высокомерная стерва, которая
оказывается моей женой, встает и выходит в туалет, фыркнув и сказав что-то
пренебрежительное, я смотрю на ее узкую задницу - я последний дурак,
домашний узник, приговоренный вожделеть к ненавидящим меня женщинам, они
призывно возлагают свою плоть по всем диванам, комната превращается в котел
забитый мясом женских тел - сплошное безумие, я должен освободиться,
пережевать их всех, рвануть на товарняке вон отсюда[11] - Я просыпаюсь и
радуюсь что надежно защищен дикостью гор - И ради этой грушевидной пухлой
плоти с влажной дыркой я готов был просидеть ужасающие тысячелетия в серых
комнатах освещенных серым солнцем, окруженный полисменами и алиментщиками, у
дверей и в ожидании тюрьмы? Это кровоточащая комедия. - Великие Ступени
Мудрости горестного понимания свойственного Величайшей Религии оставляют
меня при виде гарема -- Эх, да что там гарем, все мы на небесах - благослови
же их всех их мычащие сердца - Некоторые агнцы женского пола, у некоторых
ангелов женские крылья и все это приходит к материнству так что простите мне
мою язвительность - извините мою похоть.
(Хрю хрю хрю)
22 августа для меня это очень важный день, именно 22-е число (много лет
подряд) было для меня днем важнейшим (по некоторым причинам) днем Первых
Скачек моего лоуэлльского детства, прыгают мраморные камушки детки играют в
зашибалку - Это произошло в конце лета той прохладной августовской порой,
когда звездными ночами деревья особенно густо темнеют за окном, прибрежный
песок становится прохладным и в нем поблескивают маленькие раковины
моллюсков а через Лунный лик проносится тень Доктора Сакса - Скачки
Могиканской Весны были захолустными скачками туманного Западного
Массачусетса, с нищенскими призами, потрепанной публикой, изможденными
лошадьми и грумами из Восточного Техаса, Вайоминга и старого Арканзаса - Они
проходили весной и в них обычно участвовали только никчемные
коняги-трехлетки, но вот Большой Августовский Кубок был популярнейшим
событием на него стекались сливки общества Бостона и Нью-Йорка и это было Ах
теперь когда лето кончилось, у результатов скачек, у имени победителя
появляется осенний аромат словно аромат яблок собранных уже в корзины в
Долине, аромат сидра и трагической конечности, и последней теплой ночью
солнце заходит за старыми конюшнями Могиканской и печальноликая луна сияет
сквозь первые железногустые облака Осени и скоро будет уже холодно и все
застынет -
Детские сны и мечтания, и весь мир этот есть ни что иное как большой
сон, сделанный из просыпающейся (почти проснувшейся!) материи - Что может
быть прекраснее -
Чтобы завершить, увенчать и драматизировать мое 22 августа - в этот
самый день в 1944-м был освобожден Париж и в этот жаркий нью-йоркский
полдень я был на 10 часов выпущен из тюрьмы чтобы жениться на моей первой
жене, где-то в районе Чэмберс-стрит, в сопровождении детектива с пистолетом
в кобуре - какая же пропасть лежит между меланхолично-печальным Ти-Пуссе[12]
с его прыгающими камешками, с его старательно вычерченными таблицами
результатов Могиканских Скачек и пышущей невинностью комнатой, и коренастым
моряком со злодейской рожей женящимся под полицейским конвоем в кабинете
судьи (потому что районный прокурор думал что невеста беременна) -
гигантская пропасть, я тогда так ужасно опустился, в том августе, что мой
отец не захотел бы даже разговаривать со мной, не говоря уж о том чтобы
попытаться вытащить меня из тюрьмы - И вот августовская луна сияет сквозь
лохмотья набежавших облаков уже не прохладно-августовских а
холодно-августовских и Осень присматривается к пихтам чьи силуэты видны в
послесумеречье на фоне далекого озера, небо снежно-серебряных и ледяных
цветов дышащее морозным туманом и скоро все будет кончено - Осень Долины
Скэджит, но мне никогда не позабыть еще более безумную Осень Долины Мерримак
когда серебряная стонущая луна сочилась брызгами холодного тумана и запахами
фруктовых садов и дегтярно-чернильные ночные скаты крыш густо пахли ладаном,
дымом горящих дров, дымом сжигаемых листьев, речным дождем, прихватывающим
сквозь штаны холодом, запахом открывающихся дверей, двери Лета
приоткрываются чтобы впустить ненадолго улыбающуюся яблочно ликующую осень,
за ней ковыляет искрящаяся старушка-зима - Таинственная магия первых осенних
дней которая вопреки многолетним молитвам местных сестер-монашек живет в
лоуэлльских переулочках - индейские духи в дуплах деревьев, в их корнях, в
самой земле, в глине, индейцы во всем - Что-то (но не птица) стремглав
проносится мимо -- Шлепки весел каноэ, озеро в лунном свете, силуэт волка на
гребне горы, цветок, утрата - Штабель дров, сарай, лошадь, ограда, забор,
мальчик, земля - Масляная лампа, кухня, ферма, яблоки, груши, дома с
привидениями, ели, ветер, полночь, старые одеяла, чердак, пыль - Изгородь,
трава, бревно, тропинка, старые увядшие цветы, шелуха от кукурузных
початков, луна, разноцветные лохмотья облаков, огни, магазины, дороги, ноги,
ботинки, голоса, витрины, двери открывающиеся, двери закрывающиеся, одежда,
тепло, конфеты, холод, страх, тайна -
Насколько я знаю из всего моего нынешнего опыта, эта так называемая
Лесная Служба не более чем прикрытие, с одной стороны замаскированная
попытка правительства ввести тоталитарное ограничение доступа людей в леса,
когда вам говорят, не смейте ставить здесь палатки, не смейте здесь
мочиться, делать то-то и то-то незаконно а вот то-то и то-то вы себе
позволить можете, здесь в Даосской Первобытной Глуши, в Золотом Веке и
Тысячелетнем Прошлом Рода Человеческого, а с другой стороны форма защиты
интересов лесопромышленников в результате чего леса год за годом в
"сотрудничестве" с Лесной Службой вырубаются всякими там компаниями типа
Бумажных Салфеток Скотта а Лесная Служба тем временем гордо оповещает о том
сколько во всем Лесу кубических футов древесины (как будто это означает что
у вас лично появится хотя бы кубический дюйм чтобы поставить туда палатку
или помочиться) и, как результат, люди всего мира подтирают себе задницы
прекрасными деревьями - А что касается молний и пожаров, то что теряет от
лесного пожара отдельно взятый американец? и как Природа справлялась с этим
на протяжении миллионов лет? - Размышляя об этом я лежу на животе на скамье
в лунной ночи и ощущаю бездонный ужас этого мира, во всех его самых паршивых
местах вроде перекрестков ричмонд-хиллских улиц за Ямайка-Авеню и к
северо-западу от Ричмонд-Хилл-Центра, кажется именно туда я шел одной жаркой
летней ночью когда Ма (в 1953-м) была на юге в гостях у Нин, там я
прогуливался и вдруг из-за того видимо что был в глубокой депрессии, вроде
той что мучила меня однажды зимней ночью когда я так же вот бродил за день
до смерти отца где-то в этом районе и позвонил Маделайн Уотсон, чтобы
назначить ей свидание и узнать выйдет ли она за меня замуж, внезапный
приступ безумия которым подвержен я, "сумасшедший бродяга и ангел" -- я
вдруг осознал что нет на всей земле такого места где этот бездонный ужас
рассеивался бы (Маделайн была удивлена, перепугана и сказала что у нее уже
есть постоянный парень, наверное до сих пор через много лет все еще
недоумевает зачем я ей звонил и какая муха меня укусила) (а может тайно
любит меня) (у меня только что было видение ее лица на кровати возле меня,
эти прекрасно-трагические черты смуглого итальянского лица, такого
исчерченного дорожками слез, такого целуемого, округлого, милого, такие
всегда нравились мне) -- и подумал что даже живи я в Нью-Йорке, поджидал бы
там меня бездонный ужас бледных ноздреватых лиц телевизионных актеров в
узких серебристых галстуках на светских приемах и безысходная унылость их
риверсдэйл-драйвских квартир со сквозящими плачущими ветрами на
Восьмидесятых улицах или холодный восход на Пятой Авеню с ее пустыми пивными
банками аккуратно выставленными во дворах возле мусоросжигателей, холодная,
безнадежная и очень зловещая розоватость неба над когтистыми деревьями
Центрального Парка, нигде ни отдохнуть ни согреться потому что ты не
миллионер а даже если бы ты им был то всем на это наплевать - Бездонный ужас
сияющей над озером Росс луны, пихты бессильные помочь - Бездонный ужас
Мехико-Сити гнездящийся в госпитальных садах и изнуренные работой индейские
дети за рыночными лотками чудовищно поздним субботним вечером - Бездонный
ужас Лоуэлла с цыганами в пустынных лавках на Миддлсекс Стрит и
безнадежность тянущаяся над ними вдоль главной ветки железной дороги "B&M"
пересекаемой Принстонским Бульваром где деревья которым все равно растут
около безразличной реки - Бездонный ужас Фриско, улицы Норт-Бич туманным
утром в понедельник и отрешенные итальянцы, покупающие на углу сигары или
просто глазеющие на старых параноидальных негров болезненно подозревающих
весь мир в пренебрежении к себе или даже кретины-интеллектуалы которым
повсюду мерещатся агенты ФБР и поэтому они подчеркнуто избегают тебя
оставляя стоять на отвратительном ветру - белые дома с большими пустыми
окнами, лицемерные телефоны - Бездонный ужас Северной Каролины, маленькие
улочки среди краснокирпичных домов по которым зимним вечером возвращаешься
домой из кино - маленькие городки Юга в январе -- Ооо, в июне - Джун[13]
Иванс мертва, прожив жизнь в иронии, все в порядке, все хорошо, говорит ее
заброшенная могила подозрительно косясь на меня в лунном свете, все в
порядке, все полностью в порядке, все бесповоротно в порядке - Бездонный
ужас Чайнатауна на заре когда гуляки дубасят по мусорным бакам а ты
проходишь пьяный и тебе стыдно и мерзко - Бездонный ужас повсюду, я
прямо-таки вижу Париж, Экзистенциалисты мочатся с набережной[14] -
Сострадание - суть печальное понимание - Я освобождаю себя от попыток быть
счастливым - Что бы ты ни делал это лишь принижение одного за счет другого,
ты ценишь то-то и отрицаешь то-то, вверх-вниз, но если ты подобен пустоте то
тебе надо лишь созерцать пространство и хотя в этом пространстве ты видишь
упрямых людей в излюбленных ими хвастливых личинах и защитных скорлупках
пренебрежительно фыркающих и самодовольных пассажиров одного парома на
другой берег ты все так же будешь созерцать это пространство чья форма --
пустота, а пустота - форма - О золотая бесконечность, эти бедолаги лишь
часть твоей сущностной игры, прими же их и покори своей истиной что всегда
истинна всегда - простите меня недотепы-мои-люди - Я думаю следовательно я
умираю - Я думаю следовательно я рождаюсь - Позвольте мне быть пустотой -
Когда мальчик замерший и оглушенный внезапным видением не слышит как дружок
его окликает тот толкает его он не шевелится; в конце концов дружок смотрит
на него в изумлении видя как чист и истинен его транс - никогда тебе не
стать снова таким же чистым и не вернуться после такого вот прозрения
радостно светясь светом любви, ангелом из сна
Короткая утренняя перекличка по смотрительскому радио, смех и
воспоминания - 7 утра, ясное солнечное утро, и я слышу: "Это 30 десять
восемь сегодня. Сейчас 30 чисто" Что означает станция 30 вышла на
сегодняшнюю связь. Потом: "Это 32 тоже десять восемь сегодня" сразу после.
Потом: "Это 34, десять восемь". Потом: "Это 33, десять семь на 10 минут"
(Отключается на 10 минут). "До полудня, ребята"
Звучат сквозь помехи ясным ранним утром голоса парней из колледжа и я
вижу как сентябрьскими утрами в кампусе они в своих новеньких кашемировых
свитерах с новенькими книжками подмышкой идут по влажным от росы газонам,
перебрасываясь такими же шуточками, их жемчужные лица, идеальные зубы и
приглаженные волосы, кажется, что молодость может быть только такой и
невозможно себе представить что где-то далеко неряшливые бородатые юнцы
громыхают утварью в своих бревенчатых хижинах и сквернословя таскают ведрами
воду - нет, существуют лишь свежие милые молодые люди с отцами - дантистами
или знаменитыми профессорами на пенсии, легко и радостно ступающие длинными
шагами по первозданным лужайкам к занимательным коричневым полкам библиотеки
колледжа - а черт, да что за ерунда, когда сам я был мальчиком из колледжа я
дрых до трех дня и установил новый рекорд Колумбийского университета по
прогулам и до сих пор мне часто снится это что я позабыл где какие занятия и
какие преподаватели их ведут и брожу потерянно как турист в развалинах
Колизея или Лунной Пирамиды среди громадных заброшенных призрачных зданий,
слишком изысканных и призрачных чтобы там могли проводиться занятия - Что ж,
маленькие горные пихты в 7 часов утра безразличны к подобным вещам, они лишь
благоухают свежестью.
Октябрь всегда был для меня прекрасным времечком (стучу по дереву)
поэтому я столько говорю о нем - Октябрь 1954 был особо спокойным, помню как
я тогда начал курить трубку сделанную из кукурузной кочерыжки (живя на
Ричмонд-Хилл с мамой) сидя ночами и сочиняя одну из моих тщательных книжек
(осторожных книжек) попыток описать Лоуэлл как он есть в его цельности, варя
себе по ночам cafe-au-lait из горячего молока и Nescаfe, и в конце концов
сев на автобус на Лоуэлл, и когда я прошелся по населенным призраками улицам
моего детства попыхивая своей ароматной трубкой, грызя крепкие красные
макинтошевские яблоки, в своей японской байковой рубашке серобурмалиновой
смеси цветов под светло-голубой курткой, в белых ботинках с креповым ободком
(и черной каучуковой подошвой), то все по-сибирски бесцветные обитатели
Сентровилля пялились на меня давая понять что являющийся нормальным для
Нью-Йорка вид был шокирующим и даже как бы женственным в Лоуэлле, хотя мои
коричневые вельветовые штаны были ничем не примечательным старым барахлом -
Да, коричневый вельвет и красные яблоки и моя кукурузная трубка и большая
пачка табака в кармане, и поэтому попыхивая трубкой но не затягиваясь, я
ходил и пинал старые скопившиеся в водостоках листья как в те старые времена
когда мне было четыре года, таким же лоуэлльским октябрем, и эти
великолепные ночи в комнате местного дешевого отеля ("Станция Чэмберс" возле
старого станционного здания) когда ко мне приходило полное буддистское и
просветленное принятие этого мира как сна - прекрасный октябрь закончившийся
возвращением в Нью-Йорк через осыпанные листьями городки с белыми
колокольнями, старой коричневой иссохшей землей Новой Англии и кокетливыми
молоденькими студентками у дверей автобуса, прибывающего в Манхэттен на
сверкающий Бродвей в 10 вечера, и я покупаю пинту дешевого вина (портвейна)
и брожу и пью и пою (продираясь сквозь двери и раскопанную 52-ю улицу) пока
на Третьей Авеню не встречаю и не кого нибудь а Эстеллу мою старую любовь с
толпой людей среди которых ее новый муж Харви Маркер (автор Нагих и
обреченных), поэтому я не показываю вида что заметил ее а просто поворачиваю
в ту же сторону, любопытные взгляды, и я врубаюсь как необузданны улицы
Нью-Йорка, думая: "Старый пасмурный Лоуэлл такой же как всегда, взгляни как
люди Нью-Йорка живут в вечном карнавале, празднике и кутежах Субботнего
Вечера - а чем еще заниматься в этом безнадежном одиночестве?" И я рву в
Гринвич-Вилледж в богемный кабак "Монмартр" уже сильно поднабравшийся и
заказываю пиво в тусклом свете среди интеллектуалов-негров, хипстеров,
торчков и музыкантов (Аллена Игера) и около меня сидит парнишка-негр в
берете, говорящий мне "А чем ты вообще занимаешься?"
"Я величайший писатель Америки"
"А я величайший джаз-пианист в Америке", говорит он и мы пожимаем друг
другу руки, пьем за это и он отбарабанивает мне на пианино странные новые
аккорды, безумные атональные новые аккорды, в старых джазовых композициях -
Бармен малыш Эл заявляет что это круто - Снаружи манхэттенская октябрьская
ночь и на прибрежных оптовых рынках горят костры в бочках оставленных
портовыми грузчиками и я останавливаюсь у них погреть руки и делаю глоток
два глотка из бутылки и слышу бвуумм кораблей в канале, я поднимаю глаза а
там, те же самые звезды что и над Лоуэллом, октябрь, старый меланхоличный
октябрь, нежный, любящий и грустный, и я знаю что рано или поздно и он
увяжется в совершенный букет любви, так мне кажется, и я поднесу его Господу
моему Татхагате, Богу, говоря "Господи, Ты возликовал - и буду я славить
тебя за то что ты научил меня этому - Господи, теперь я готов к большему - И
на этот раз я не стану хныкать - На этот раз я сохраню сознание в чистоте
перед лицом того что оно есть Пустота Твоих Форм"
... Мир этот, осязаемая мысль Бога ...
За всю грозу так и не пролилось ни капли дождя, молнии ударяли в сухую
древесину и пожары начали вспыхивать везде по всей необъятной глуши, и
только потом начался ливень прибивший огонь ненадолго - От одного из этих
пожаров разгоревшегося на Пекарской реке вниз по Малому Бобровому прямо подо
мной ползет большое облако мутного дыма из-за которого я ошибочно решаю что
там тоже начался пожар но они прикидывают в каком направлении лежат долины и
в какую сторону относит дым - Еще во время грозы я вижу красное зарево над
Пиком Скэджит, позже исчезнувшее, через четыре дня с самолета там обнаружили
выжженный акр земли но это в основном сухостой из-за него-то и дымит в
районе Трех Дурней - Но вот начинается большой пожар у Громового Ручья и я
вижу его дым вздымающийся в 22 милях к югу от меня на Рубиновом хребте -
Сильный юго-западный ветер раздувает его с двух акров в 3 часа до
восемнадцати в 5, радио беснуется, лесничий моего округа добряк Джин О`Хара
вздыхает по радио над каждым новым сигналом - В Беллингхэме восемь
пожарников-парашютистов готовы к десанту в труднодоступные места - А наши
собственные скэджитские подразделения перебрасываются с Большого Бобрового
на лодках по озеру и дальше и дальше длинная горная тропа к большому пожару
- Сегодня солнечный день с сильным ветром и самой низкой за год влажностью -
Впечатлительный Пат Гартон с Кратерной решает вначале что большой пожар
находится ближе к нему чем на самом деле около Ухающей Совы но ехидный
иезуит Нед Гауди со Старательской подтверждает вместе с самолетом точное
место и это оказывается "его" пожар - все эти ребята ведут себя как
смотрители-карьеристы так ревниво они относятся к этим вещам - "твой" или
"мой" пожар, как будто - "Джин, ты там?" спрашивает Говард с Дозорной Горы,
он передает слова бригадира скэджитской команды стоящего с портативным радио
у пожара и пожарных стоящих под недоступной отвесной скалой и
рассматривающих полыхающий на ней пожар - "почти перпендикулярно - Эй
вызывает 4, он говорит что наверно можно спуститься с вершины, скорее всего
понадобятся веревки и нельзя ли взять с собой снаряжение" - "Окей",
подтверждает О`Хара "скажи ему чтобы был наготове -- Четвертый вызывает 33"
- "33" - "Маккарти уже добрался из аэропорта?" (Маккарти вместе с большой
шишкой из Лесной Службы летают над пожаром), 33 должен связаться с
аэропортом и выяснить что к чему "Первый вызывает 33" - повторяется четыре
раза - "Ответ на запрос четвертого, никак не могу соединиться с аэропортом"
- " Окей, спасибо" - Но выясняется что Маккарти либо в беллингхэмском офисе
либо дома, судя по всему все это его мало заботит ведь это не его пожар -
О`Хара откликается, добродушнейший человек, ни одного грубого слова от него
не слышал (не то что начальственный зверем глядящий Герке) и я думаю что
если уж суждено мне заметить в сей решающий час какой-нибудь пожар надо
будет предварить свое сообщение словами "Как ни ненавистна мне мысль о том,
чтобы обрушить на вас груз бед сих - " - А тем временем природа безмятежно
пылает, природа сжигает природу - А я - я сижу и обедаю лапшей с крафтовским
сыром, пью крепкий черный кофе, наблюдаю как в 22 милях от меня валит дым и
слушаю радио - Осталось всего три недели и скоро я отправлюсь в Мексику - В
шесть вечера когда солнце еще припекает но ветер сильный, надо мной
появляется самолет, "Скидываем тебе новые батареи", сообщает радио, я выхожу
и машу им рукой, они машут в ответ как Линдберг[15] со своего аэроплана
поворачивают и описывают круг над моим хребтом скидывая с небес
чудодейственный тюк который выстреливает из себя парусиновый парашют и
плывет далеко в сторону от цели (сильный ветер) и пока я затаив волнение
наблюдаю за ним его начинает нести прямо за кромку хребта в 1500-футовое
Грозовое Ущелье но милосердные маленькие пихты цепляются за парашют и
тяжелый тюк свисает со скалы - домыв посуду я беру свой пустой рюкзак и
спускаюсь вниз, нахожу посылку, тяжеленную, засовываю ее в рюкзак и отрезав
парашют с постромками потея и поскальзываясь на гальке со свернутым
парашютом подмышкой мрачно карабкаюсь вверх на вершину к моей милой старой
сторожке - за пару минут пот высыхает и дело сделано - Я гляжу на далекие
огни в далеких горах и вижу маленькие воображаемые соцветия иллюзий зрения о
которых говорится в Сурангама-Сутре и поэтому я знаю что все это лишь
эфемерный чувственный сон -- Какая практическая польза от этого знания? -- А
разве в чем-то есть практическая польза?
Именно это-то и подразумевается под Майей, то что нас дурачат заставляя
поверить в реальность ощущения видимости вещей - Майя на санскрите означает
обманчивость - И почему все же мы продолжаем позволять себя обманывать даже
когда знаем об этом? - Благодаря силе привычки, и мы передаем ее от
хромосомы к хромосоме нашим детям, но даже когда последнее живущее на земле
существо слижет свою последнюю каплю воды с подножия экваториальных ледяных
полей, сила привычки Майи будет неизменной, воплощенной в камнях и в горести
- Каких камнях? Какой горести? Их нет здесь, нет сейчас, их не было никогда
- Простейшая в этом мире истина недоступна нашему пониманию из-за ее
безграничной простоты, т.е. чистой пустотности - Нет ни пробуждающих
учителей ни истин - И если 400 обнаженных Нагов[16], торжественным миражом
явятся сюда через хребет и скажут "Нам было сказано что Будда будет найден
на вершине этой горы - и мы шли много лет, прошли много стран, и вот мы
здесь - есть ли здесь еще кто-нибудь кроме тебя?" - "Нет" - "Тогда Будда -
это ты" и все 400 распрострутся поклоняясь мне а я буду сидеть в совершенной
алмазной тишине - даже тогда, хоть я и не удивлюсь (к чему удивление?), даже
тогда я буду знать что Будд нет, нет пробуждающих, нет Истины, нет Дхармы, и
все лишь обманчивость Майи
Утро в Грозовом Ущелье - чудесная мечта - фьюти-фьюти-фьють птиц,
длинные сине-бурые тени первозданной туманной росы, солнце благоразумно
прячется за пихтами, постоянное бормотание ручья, опухшие лентяи деревья с
затуманенными верхушками сгрудились вокруг озерца куда вереницами идущих в
церковь прихожан капают капли росы, и вся эта золотисто-оранжевая
фантасмагория, все эти эфемерности небесных светящихся цветов возникающие в
моем глазном яблоке по воле Обманчивости, барабанные перепонки моих ушей что
плавно трепещут превращая услышанное в звуки и даже сам дотошный комарик
моего разума, различающего и досаждающего, старое сухое дерьмо животных в
сарае, бзиньк-бзиньк утренних мух, несколько облачных барашков, безмолвный
Восток Амиды[17], мощный толчок материи оставивший после себя бугры холмов,
все это один причудливый плавный сон запечатленный (запечатленный?) в
окончаниях моих нервов, и более того, Боже мой зачем мы живем чтобы быть
одураченными? - Зачем мы дурачим себя чтобы жить - дыры в древесном шалаше,
сочащаяся с небес вода терзает печень, древесина от горной долины до бумажки
никчемной, грязь от сухости до дождящего напора, мокни, внутрь, вверх,
круговерть, зеленые листья червями продираются наружу в непрерывном усилии -
попииискивающий маленький жучок раскачисто медлит похныкивает напевает
утренняя пустотность наполненная loi[18] - Хватит, я уже все сказал и нет
даже Пустынного Одиночества и даже этой страницы и даже слов а есть лишь
омертвелые представления о вещах возросшие на силе твоей привычки - О
Невежественные братья, О Невежественные сестры, О я Невежественный! об этом
ничего нельзя написать, потому что все и есть ничто, и поэтому об этом можно
писать бесконечно! - Время! Время! Вещи! Вещи! Почему? Почему? Глупцы!
Глупцы! Три Дурня Двенадцать Дурней Восемь и Шестьдесят Пять Миллионов
Циклов Бесчисленных Циклов Глупцов! Четеващеотменянадо, а? - И это было так
для наших пращуров, давно уже умерших, давно уже превратившихся в грязь,
одураченных, одураченных, и нет никакой такой Великой Премудрости, которую
мы получаем вместе с их хромосомными палочками - И так будет для наших
прапраправнуков, которые долго еще не родятся, долго еще будут тела их
пространством, грязь и пространство, грязь ли, пространство ли, какая
разница? - вставайте, давайте же, детки, просыпайтесь, - вставайте, пришло
время, просыпайтесь -- вглядитесь получше, вас дурачили - посмотрите
поближе, вы спите, - давайте же, смотрите, вставайте, теперь - быть или не
быть, какая разница? - Гордость, злоба, страх, презрение, пренебрежение,
индивидуальность, подозрительность, дурные предчувствия, гроза, смерть, горы
- КТО СКАЗАЛ ВАМ ЧТО РАДАМАНТ БЫЛ ЗДЕСЬ? КТО ПИШЕТ ЧУШЬ О КТО ЗАЧЕМ ПОЧЕМУ
ЧТО ПОДОЖДИ О ВЕЩЬ И И И И И И И И И И И И И И МОДХГРАГА НА ПА РА ТО МА НИ
КО СА ПА РИ МА ТО МА НА ПА ШУУУУ БИЦА РИИИИ - - - - - - И О О О О - М М М -
ВОТ - ВОТ - ВОТ - - ВОТ - ВОТ - ВОТ -- ВОТ - ВОТ - ВОТ - ВОТ - ВОТ - ВОТ -
ВОТ - ВОТ - ВОТ - ВОТ - ВОТ - ВОТ -
Да, ведь в июне, добираясь автостопом до Долины Скэджит в
северо-западном Вашингтоне к месту моей работы пожарного наблюдателя, я
думал, "Заберусь вот на самый Пик Одиночества и когда все люди покинут меня
на своих мулах и останусь я совсем один то встречусь лицом к лицу с Богом
или с Татхагатой и смогу раз и навсегда понять в чем смысл существования,
страдания и всех этих бессмысленных метаний", но вместо этого я остался
лицом к лицу с самим собой, без выпивки, без наркотиков, без всякой
возможности увильнуть, но лицом к лицу с чертовым Мной - стариной Дулуозом и
бывали времена, когда мне казалось, что я умираю, сдохну со скуки или
спрыгну с вершины горы, но проходили часы, дни, а у меня все никак не
хватало духу для такого прыжка и я должен был ждать чтобы увидеть реальность
как она есть - и это произошло однажды в полдень 8-го августа когда я брел
по верхнему альпийскому дворику по узенькой дорожке протоптанной мной за те
бесчисленные разы, по нескольку за ночь, что я проходил здесь по пыли или
грязи со своей масляной лампой подвешенной внутри хижины со смотрящими на
все четыре стороны света окнами, заостренной крышей-пагодой и громоотводом,
тогда ко мне пришло это понимание, после всех слез, скрежета зубовного,
убийства мыши и попытки убийства еще одной, чего я в жизни своей прежней не
делал никогда (никогда не убивал животных, даже грызунов), оно пришло ко мне
в этих словах: "Пустоте наплевать на все высоты и падения, Господь мой
взгляни на Хозомин, разве она о чем-нибудь тревожится? разве ей бывает
страшно? Склоняется ли она перед приходом грозы, ворчит ли когда сияет
солнце или кричит во сне? Разве она способна улыбаться? Разве не была она
порождена безумным коловращением дождя и огня, а теперь стала просто Хозомин
и ничем другим? Почему я должен выбирать быть ли мне жестоким или нежным,
если Хозомин это не волнует совсем? - Почему я не могу быть подобен Хозомин
и О Пошлость О почтенная буржуазная пошлость "принимай жизнь такой как она
есть" - как сказал этот алкаш-биограф У.Е. Вудворт "единственный смысл жизни
- прожить ее" - Но О Бог мой, как это скучно! Но разве Хозомин скучает? И
мне осточертели все эти слова и объяснения. А Хозомин - устает?
Аврора Бореалис[1]
над Хозомин
Пустота еще тише
- даже Хозомин когда-нибудь расколется и распадется на куски, ничто не
вечно, а есть лишь промельк-в-том-что-суть-все, протекание-сквозь, вот оно
что происходит, зачем же задавать вопросы, рвать на себе волосы или рыдать,
неясно бубнящий пышнословный Лир севший на своего горестного конька он
просто истеричное старое трепло с развевающимися бакенбардами одураченное
шутом - быть и не быть, вот настоящий ответ - Есть ли Пустоте дело до жизни
и смерти? бывают ли у нее похороны? пироги на день рождения? почему я не
могу стать как Пустота, неистощимо плодородным, вне безмятежности, вне самой
радости, просто Стариной Джеком (и даже менее того) и начать свою жизнь с
этого мгновения (хоть ветра и дуют сквозь мое горло), Пустота - это не
трудноуловимый образ внутри хрустального шара, это сам хрустальный шар и все
мои горести не более чем глупая сетка для волос как сказано в Ланкаватара
Сутре "Смотрите, почтенные, вот изумительная скорбная сетка для волос" - Не
раскисай, Джек, пройди сквозь это, ведь все - лишь один сон, одна видимость,
одна вспышка, один грустный взгляд, одна прозрачно хрустальная тайна, одно
слово - держись, дружище, верни себе утерянную любовь к жизни, спускайся с
этой горы и просто будь - будь - твой безграничный разум может безгранично
творить, не надо объяснений, жалоб, сомнений, суждений, признаний,
изречений, искрящихся словесных бриллиантов, просто плыви, плыви, будь всем,
будь тем что есть, а есть только то что всегда есть -- слово Надежда подобно
снежному оползню - Вот Великое Знание, вот Пробуждение, вот Пустотность -
Так что закрой рот и живи, странствуй, рискуй, будь благословен и ни о чем
не сожалей - Сливы, сливы, ешь свои сливы - и ты был всегда, ты будешь
всегда, и сколько бы ни стучал ты в гневе ногой по ни в чем не виноватым
дверцам шкафа это была лишь Пустота притворяющаяся человеком притворяющимся
не знающим Пустоты -
Я вернулся в дом другим человеком.
Все, что мне оставалось сделать - это прождать 30 длинных дней чтобы
спуститься вниз со скалы и увидеть вновь радостную жизнь - помня что она ни
радостна ни печальна а просто жизнь, и поэтому -
Поэтому длинными полуднями я сижу на моем легком (парусиновом) стуле
лицом к Пустоте Хозомин, тишина висит в моей маленькой хижине, очаг мой
замер, посуда моя сверкает, дрова мои (старые отсыревшие палки и хворост,
чтобы быстро по-индейски разжечь огонек в очаге и на скорую руку приготовить
еды) мои дрова лежат грудой в углу, мои консервы ждут когда их вскроют, мои
старые треснувшие ботинки хнычут, штаны свисают, посудные полотенца висят на
стене, все мое барахло неподвижно застыло повсюду в комнате, глаза мои болят
и ветер бьется и стучится в окна и поднятые жалюзи, дневной свет постепенно
меркнет и подкрашивает Хозомин в темно-синие цвета (высвечивая ее
красноватую полоску) и мне ничего не остается делать кроме как ждать - и
дышать (а разреженным горным воздухом дышится нелегко, особенно с
приобретенной на Западном побережье одышкой) - ждать, дышать, есть, спать,
готовить еду, мыться, шагать, наблюдать, ни одного лесного пожара - и
мечтать "Чем я займусь, когда попаду во Фриско? Ну, для начала сниму
комнатку в Чайнатауне" - но еще чаще и страстнее я мечтал о том, чем я
займусь в День Отъезда, однажды одним благословенным днем раннего сентября,
- "Я пойду вниз по тропе, часа два, меня будет ждать Фил в его лодке,
доберусь до Росс Флот, заночую там, поболтаю о том о сем на кухне, и с утра
пораньше поплыву на пароме в Диабло, прямо с той маленькой пристани
(попрощаюсь с Уолтом), автостопом доеду до Мэрблмаунта, заберу заработанные
деньги, отдам долги, куплю бутылку вина, в полдень в Скэджите ее выпью и
утром следующего дня поеду в Сиэттл" - и так далее, сначала до Фриско, потом
Эл-Эй, потом Ногалес, потом Гвадалахара, потом Мексико-Сити - А застывшая
Пустота никогда никуда не двинется -
Но я сам буду Пустотой, движущейся не совершая движений.
Ах, как вспоминаются теперь эти восхитительные дни когда я жил дома,
дни, не оцененные мной по-настоящему в те времена -- полуденные часы, мне
15-16 лет, а это значит крекеры Братьев Риц, ореховое масло и молоко на
старом круглом кухонном столе, мои шахматные задачки или изобретенные мной
бейсбольные игры, когда оранжевое солнце лоуэллского Октября пробивалось
наискосок сквозь занавески веранды и кухни светящимися слоями ленивой пыли и
окутанная ими моя кошка вылизывала тигриным язычком коготки передней лапы,
ляп ляп, все это ушло и покрыто пылью, Господи -- и теперь я бродяга одетый
в грязную рвань здесь в Высоких Каскадах и даже кухня моя состоит лишь из
этого идиотского измызганного очага с треснувшей проржавевшей трубой -
замотанной, да-да, у потолка, старыми тряпками чтобы не было хода ночным
крысам - в те далекие дни, когда мне надо было всего лишь подняться наверх
чтобы поцеловать мать или отца и сказать им "Я люблю вас, потому что придет
день когда я стану старым бродягой и буду сидеть один-одинешенек и мне будет
грустно и тоскливо" - О Хозомин, скалы твои сверкают в закатном солнце,
парапеты твоей неприступной крепости величественны как Шекспир среди людей и
на многие мили вокруг нет никого, кому хоть что-то говорят имена Шекспир,
Хозомин или мое собственное имя --
Давным-давно дома ближе к вечеру, и даже совсем недавно в Северной
Каролине, когда вспоминая детство я ел ритцевские крекеры и ореховое масло с
молоком в четыре и играл в бейсбольные игры за своим столом и голодные
школьники в стоптанных ботинках возвращались домой точь в точь как я (и я
делал им особые Джековские Банановые Салаты[2] и это было всего-то каких-то
шесть месяцев назад!) - Но здесь, в Одиночестве, ветер воет, поет одинокую
песню, сотрясая стропила земли, принося ночь - Облачные тени гигантскими
летучими мышами парят над горой.
Быстро темнеет, тарелки вымыты, еда съедена, я жду Сентября, жду нового
нисхождения в Мир.
А пока закаты бесятся во тьме безумными оранжевыми шутами, где-то на
юге, откуда тянутся любящие руки моих сеньорит, снежно-розовые дома ждут у
подножья мира там, в сребролучистых городах - твердая синевато-серая
сковородка озера, чьи туманные глубины ждут когда я проплыву над ними на
лодке Фила -- Над ним все та же привычная картина -- облачко, примостившееся
под бровастой выпуклостью высокомерной горы Джек, тысячи снежных футбольных
полей которой сливаются и розовеют, невообразимый ужасающий снеговик
застывший оцепенело у края бездны - Золотой Рог вдалеке все еще золотист на
фоне серого юго-востока - гигантский горб Старательской вглядывается в озеро
- Угрюмые облака наливаются чернотой готовые стать углем для кузницы, в
которой куется ночь, безумные горы маршируют на закат как пьяные мессинские
кавалеры в лучшие времена Урсулы, и я готов побиться о заклад, что и Хозомин
сдвинулась бы с места если б мы смогли уговорить ее, но она остается со мной
всю ночь и вскоре, когда звезды прольются дождем по снежным полям, она
станет безгранично горделива как никогда, черная и - уау-у! устремится на
север, где (точно над ее вершиной каждую ночь) Полярная Звезда вспыхнет
пастельно-оранжевым, пастельно-зеленым, ярко-оранжевым, ярко-синим, лазурным
пророческим созвездием своего убранства там, наверху, принадлежащим иному,
золотому миру --
Ветер, ветер --
И вот мой бедный старательный такой человеческий такой стол, за которым
я частенько сиживаю лицом к югу, бумаги, карандаши и кофейная чашка с
ветками горной ели и причудливой высокогорной орхидеей, вянущей за день -
мои ореховая жевательная резинка, табачный кисет, крошки, кипа жалких
журнальчиков, которые мне придется читать, и вид на юг со всеми его снежными
великолепностями - Ожидание длится долго.
На Голодном Хребте
палочки
Пытаются вырасти.
За день до моего решения прожить жизнь в любви, я был унижен, оскорблен
и все из-за этого скорбного сна:
"И не забудь купить кусок вырезки для бифштекса!" говорит Ма, давая
деньги Дени Бле, она посылает нас в лавку прикупить провизии для плотного
ужина, она решила полагаться теперь в основном на Дени Бле, потому что в
последние года я стал каким-то эфемерным и совершенно безответственным
существом, проклинающим богов сквозь ночной сон и в серых сумерках
шатающимся вокруг как дурачок с непокрытой головой - Это происходит в кухне,
все обговорено, я не говорю ни слова и мы отправляемся - В передней спальне
у самой лестницы умирает Папа, лежит на своем смертном ложе и уже
практически мертвый, и вопреки этому Ма хочет хороший бифштекс, хочет
обрести в Дени последнюю человеческую надежду, его деятельное сочувствие -
Па тонкий и бледный, у его ложа белоснежные простыни и мне кажется, что он
уже покойник - В сумерках мы спускаемся вниз и как-то добираемся до лавки
мясника в Бруклине на одной из улиц где-то в Флэтбуше - Боб Донелли уже тут
и вся его кодла тоже, все без шляп и с хулиганским видом - Теперь в глазах
Дени появляется искорка - он уже представляет себе возможность сделать
хитрый финт и зажать часть маминых денег, в лавке он покупает мясо, но я
вижу как он мухлюет со сдачей засовывает деньги себе в карман и уже
прикидывает как ему обмануть ее доверие, ее последнюю веру - Она надеется на
него, от меня больше нет толку -- А потом мы где-то блуждаем, домой не идем
и забредаем на Речной Флот, глазеем на гонки катеров, а потом почему-то
должны проплыть вниз по течению по холодным бурным и опасным водам --
Достаточно "длинные" катера подныривают прямо под плоты, выныривают с другой
стороны и оказываются у финиша, но вот у одного гонщика (по имени Дарлинг)
катер коротковат и застревает под плотом так что не вытащить-- тут его судьи
и зацепили[3].
Я оказываюсь служащим Речного Флота, в передних рядах, отдается команда
и мы плывем по реке, к ждущим нас мостам и городкам,. Вода холодна и течение
ужасно быстрое но я плыву и рвусь вперед. "Как же меня занесло сюда?" думаю
я. "И как же мамин бифштекс? Что Дени Бле сделал с деньгами? Где он сейчас?
О у меня нет времени поразмыслить над всем этим!" Внезапно я слышу как с
лужайки около стоящей на берегу церкви Святого Людовика Французского дети
выкрикивают послание для меня, "Эй, твоя мать в сумасшедшем доме! Твой отец
умер!" и я понимаю что произошло но ведь я служу в Армии, я плыву и мне
никуда не деться от противоборства с холодной водой, и остается только
горевать, горевать, в туманном скудном ужасе этого утра, как же мучительно
ненавижу я себя, и все же уже слишком поздно и мне становится лучше, но я
по-прежнему чувствую себя эфемерным, нереальным, неспособным
сконцентрировать свои мысли на чем-нибудь, даже неспособным по-настоящему
горевать, да что там, я чувствую себя слишком по-дурацки чтобы мучиться
по-настоящему, короче я не понимаю что и зачем я делаю, просто знаю что это
приказано мне Армией, и Дени Бле сыграл со мной дурную шутку в конце концов,
может чтобы отомстить, но скорее всего он просто решил стать законченным
вором и это был его шанс-
... И хотя шафрановая морозная мудрость блистающих на солнце ледяных
шапок этого мира так близка, О какими одержимыми дураками можем мы быть, я
добавляю приписку к большому полному любви письму, которое уже много недель
пишу матери:
Не отчаивайся, Ма, я буду заботиться о тебе всегда, когда тебе это
понадобиться - ты только крикни... Я здесь, я плыву по реке тягот, но я умею
плавать - Никогда даже на минуту не думай, что ты осталась в одиночестве.
За 3.000 миль отсюда она прислуживает больной родне.
Одиночество, одиночество, как отплатить тебе?
Это сводило меня с ума - О везденесущая самайя но шатун ты можешь
следом пытить трескучий шумник, лошаденок, опустошенной распустошенности
побеглец, выпустоши себе дорожку - Песня всего изжираемого меня часть
рельсования тащи свои рогалики - ты тоже можешь немного зеленеть и летать -
бросыпаясь в луннохреновой соли в потоке приход-ночи, свингуя на краю
лужайки, катя валун-Будду через изломанную гримасу западно-тихоокеанских
туманов - О ничтожная ничтожная ничтожная человеческая надежда, О
заплесневелое твое треснутое твое зеркало дрожи па к а ваталака- и еще
осталось -
Дзиньк.[4]
Каждый вечер в восемь часов смотрители со всех горных вершин
Национального Парка Маунт-Бэйкер начинают болтать о том - о сем по радио - У
меня тоже есть свой приемник - Пакмастер, я включаю его и слушаю.
В одиночестве это уже большое событие -
"Он спросил, идешь ли ты спать, Чак"
"Знаешь, что он делает, этот Чак, выходя на дежурство? - находит себе
удобное местечко в тени и заваливается там спать".
"Ты сказал Луиза?"
" - Нуу, не знаааю"
" - Ну, теперь мне всего-то осталось ждать три недели- ".
" - прямо на 99-ю - "
"Слышь, Тэд?"
"А?"
"А как ты умудряешься выпекать в печке эти, э-э-э, сдобы?"
"Подбрасывай дровишек почаще да пеки".
"У них одна дорога и она ээ опоясывает все мироздание - "
"Ага надеюсь да - все равно буду ждать".
Бззззззззз бзкххх - долгое задумчивое молчание молодых смотрителей.
"Чего правда твой кореш собирается сюда за тобой залезть?"
"Эй, Дик - эй, Студебекер - "
"Просто подкидывай дров, она и не остынет - "
"Ты что, собираешься платить ему те же бабки, что до смены?"
"Да но три четыре ходки за три часа?"
Жизнь моя - безумная бесконечная сказка длящаяся без начала и без конца
как Пустота - как Самсара - Тысячи воспоминаний приходят волнами целый день,
приводя в смятение мой бессонный разум почти мускульными спазмами ясности и
сожаления - Напеваю с нарочитым английским акцентом "Лох Ломонд", пока
вскипает мой вечерний кофе в холодных розоватых сумерках, и мне сразу
вспоминается Новая Скотия, 1942 год, когда наш потрепанный корабль пришел в
порт из Гренландии и все получили по увольнительной на ночь, Закат, сосны,
холодный полумрак, потом восходящее солнце, дрожащий радиоголос Дины Шор из
воюющей Америки, и как мы надрались, как скользили и падали, как радость
била ключом в моем сердце и взрывалась дымя в ночи, ведь я почти дома, в
возлюбленной Америке моей - холодный собачий рассвет-
И почти одновременно из-за того что переодеваю штаны, вернее поддеваю
еще одни на время завывающей ночи, я вспоминаю удивительную эротическую
фантазию, пришедшую мне в голову ранее этим днем, читая ковбойскую книжку о
разбойнике, похитившем девушку и трахающем ее наедине в поезде (не считая
одной старушки) который (эта старуха теперь в моих мечтах спит на сиденье,
пока я - старый тертый мексиканский мужик, заталкиваю блондинку стволом
ружья в мужское отделение и она не может ничего поделать кроме как (ясно
дело) царапаться (она любит благородного убийцу и я старый Эрдуэй Мольер,
кровожадный ехидный техасец разрубавший в Эль-Пасо быков напополам и
отвлекавшийся только на то, чтоб еще подстрелить и парочку людей вдобавок) -
Я запихиваю ее на сиденье, становлюсь на колени и так ее обрабатываю, прямо
как на французских открытках, что она закатывает глаза и приоткрывает рот
что она не выдерживает и любит этого нежного бродягу до того что по
собственному добровольному безумному порыву становится на колени и
принимается работать надо мной, и потом когда я уже кончил поднимает голову
а старая леди спит и поезд стучит и стучит - "Превосходно, милочка моя",
сказал я сам себе на Пике Одиночества, как будто Быку Хаббарду, используя
его манеру говорить, будто шутки ради, будто он здесь, и я слышу голос Быка
в ответ "Не веди себя так по-бабьи, Джек", как на полном серьезе заявил он
мне в 1953 году когда я стал подшучивать над ним в его же женоподобной
манере "Тебе это не идет, Джек" и тут же мне хочется оказаться сегодня же в
Лондоне с Быком -
И новая бурая луна быстро тонет во тьме за Пекарской рекой.
Жизнь моя - бесконечная запутанная эпопея с тысячью, с миллионом
действующих лиц - и все они появятся, до тех пор пока мы крутимся на восток,
пока земля крутится на восток.
Для самокруток у меня есть бумага Военно-воздушных Сил, бодрый сержант
провел с нами беседу о важности Корпуса Наземного Наблюдения и выдал каждому
по журналу для записей, достаточно толстому для того чтобы уместить туда
эскадрильи вражеских бомбардировщиков пригрезившиеся параноидальному
Конелраду[5] у него в голове - Он был из Нью-Йорка, еврей, говорил быстро и
вызвал у меня приступ тоски по дому - "Оперативные данные о передвижении
авиации", с разграфленными пронумерованными страницами, я беру свои
маленькие алюминиевые ножницы вырезаю квадратик сворачиваю самокрутку и
когда над головой пролетает самолет знай себе попыхиваю, хотя он (Сержант)
говорил "если увидите летающую тарелку, то так и пишите - летающая тарелка"
- На бланке написано "Количество воздушных объектов, один, два, три, четыре,
много, неизв." и это напоминает мне мой сон о том, как мы стоим с У. Х.
Оденом возле бара у Миссисипи и отпускаем изысканные шуточки о "моче
женщины" - "Тип воздушного объекта", и далее следует, "единичный-, би-,
мульти-, реактивный, неизв." -- Конечно же мне страшно нравится это
"неизв.", здесь на Пике у меня много времени для подобных развлечений -
"Высота воздушного объекта" (врубитесь-ка) "Очень низкая, низкая, высокая,
очень высокая, неизв." - и потом "ОСОБЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ: ПРИМЕРЫ: Враждебный
воздушный объект, дирижабль (ух ты!), вертолет, воздушный шар, воздушный
объект, ведущий боевые действия или терпящий бедствие, и т.д." (или кит
морской) - О незнакомый страждущий гордый самолет, приди ко мне!
Печальна моя бумага для самокруток.
"Когда же приедут Энди с Фредом!" кричу я, когда же они поднимутся по
этой тропе на мулах и лошадях и у меня будет настоящая сигаретная бумага и
благословенная почта от миллионов моих действующих лиц -
В этом-то и беда Одиночества, что действующие лица исчезают и ты
один-одинешенек, но одинока ли Хозомин?
Глаза руки моей сливаются в сияние сливаются в звучание.
Чтобы убить время, я раскладываю бейсбольный пасьянс, который мы с
Лайонелом придумали в том 1942 году, когда он приезжал ко мне в Лоуэлл и на
Рождество перемерзли все трубы -- играют питтсбургские Плимутс (моя первая
команда, сейчас она едва-едва держится во главе 2-й лиги) и нью-йоркские
Шеввис, ставшие в прошлом году чемпионами мира, а сейчас позорно пытающиеся
выбраться из самого конца списка - Я тасую колоду, рисую таблицу и
раскладываю команды - На сотни миль вокруг, в кромешной ночи, горят лишь мои
огни на Пике Одиночества, и все ради этого детского развлечения, но ведь
Пустота тоже ребенок -- в общем вот как идет игра: - что происходит: - кто и
как ее выигрывает: -
Подает, у Шеввис, Джо МакКанн, ветеран с двадцатилетним стажем в лиге,
начинавший еще в те времена когда я в тринадцать лет впервые врезал штырем
по железному подшипнику среди яблонь, цветущих на заднем дворе у Сары, как
грустно - Джо МакКанн, его показатели 1-2 (это четырнадцатая игра сезона для
обеих клубов) и заслуженный средний балл 4.86, так что у Шеввис большое
преимущество, тем более что при всех классных показателях МакКанна, Гэйвин
по моему официальному рейтингу довольно посредственный подающий - поэтому
Шеввис явный фаворит, они поднимаются и уже сделали первую игру со счетом
11-5...
Шеввис сразу выходят вперед в своей половине первой подачи, когда
капитан команды Фрэнк Келли проводит затяжной удар в центр, чтобы выманить
Стэна Орсовски к "дому" от второй базы, и тот короткой пробежкой
перебирается поближе к Даффи - шу-шу-шу, слышно (в моем воображении), как
Шеввис обсуждают текущий момент игры, а потом свистом и хлопками сообщают о
продолжении - Бедные зелено-фуфаечные Плимутс выходят на свою половину
первой подачи, все как в реальной жизни, настоящий бейсбол, я уже теряю ту
грань, где он заканчивается и начинаются воющий ветер и сотни миль
Арктических Скал без всяких -
Но Томми Тернер на хорошей скорости посылает мяч за пределы поля и Симу
Келли туда никак не дотянуться, это уже шестой хоумран Томми, правильно его
называют "великолепным" - это его 15-й удачный удар а был он всего в шести
играх из-за травмы, настоящий Микки Мэнтл -
Немедленно от черной биты старины Пая Тиббса проходит удар за правую
перегородку и Плимы выходят вперед 2-1... ух-ты...
(болельщики безумствуют на горе, я слышу рев небесных грохоталок в
ледниковых расщелинах)
- Затем Лью Бэдгарст посылает мяч вправо и тут уж Джо МакКанн ничего не
может поделать (со всеми своими легендарными показателями попаданий) (ага,
уже смахивает на настоящую игру)
Фактически, МакКанна почти выжали за пределы площадки и он теряет
надежду добраться до Тода Гэйвина, когда Старый Верный Генри Прэй завершает
подачу отбив мяч у самой земли в инфилд к Франку Келли на третьей базе - а
там уже целая толпа защитников.
И вдруг начинается блестящая дуэль подающих, но счет не меняется,
потому что никто из них не может пробиться к цели, только один одиночный
удар во второй подаче (взятый подающим Недом Гейвином) и продолжается этот
великолепный обмен ударами до самой восьмой, когда Зэгг Паркер из Шеввис
ломает лед своим правым одиночным, который не встречает никакой зашиты (он
взял отличную скорость) и удар превращается в двойной (бросок был уже
сделан, но мяч проскользнул до цели) - и уже кажется, что в игре наметился
новый поворот, но нет! - Нед Гэйвин вышибает Клайда Кэстлмана в центр, потом
спокойно сминает Стэна Орсовски и сходит с бросовой площадки, невозмутимо
жуя свой табак, совершенно бесстрастный - Его команда вела со счетом 2-1
МакКанн проводит одиночный громадному верзиле Лью Бэдгарсту (взявшему
его левой рукой - он левша) в своей половине восьмого, и одна база уводится
у него из под носа запасным раннером Алленом Уэйном, но это нестрашно,
потому что он сумел перехватить Тода Гэйвина -
Начинается последняя подача, счет все тот же и та же ситуация на поле.
Неду Гэйвину нужно всего лишь продержать Шеввис 3 долгих аута.
Болельщики захлебываются и неистовствуют. Он должен устоять против Бирда
Даффи (заколотившего за эту игру .346), Франка Келли и запасного подающего
Тикса Дэвидсона -
Он поднимает биту, кивает, смотрит на круглощекого Даффи и машет ею -
Слишком низко, первый мяч.
Второй мяч, аутсайд.
Затяжной бросок в центр, но заканчивающийся в руках у Томми Тернера.
Осталось всего две попытки.
"Давай, Недди!", орет капитан Си Локке с третьей базы, Си Локке, бывший
величайшим перехватчиком всех времен в свое время и в мое время цветения
яблок, когда Па был молод, смеялся летними вечерами на кухне с пивом в руке,
Шэмми и пиноклем -
Встает Фрэнк Келли, опаснейший, беспощаднейший, настоящий капитан,
жадный до денег и призов, надсмотрщик, подстрекатель -
Недди завершает: бросок: в зоне.
Первый мяч.
Бросок.
Келли бьет направо, за флажки, Тод Гэйвин кидается вперед, это четкий
двойной, ничья на второй базе, толпа вне себя. Свист, свист, свист -
Шустряга Силман Пива выходит на поле помочь Келли.
Тикс Дэвидсон - здоровенный ветеран, все время чавкающий своей резинкой
старый участник давно отгремевших боев, вечерами он пьянствует, ему все по
барабану - Он бросается вперед раскручивая большущую колотушку пустой биты.
Нед посылает ему тройной резаный. Фрэнк Келли чертыхается со скамейки
запасных, Пива, ничья и опять на второй. Остался один!
Ловит: Сэм Дэйн, защитник Шеввис, старый ветеран, один в один Тикс
Дэвидсон, такой же вечно жующий любитель крепко выпить, единственная разница
в том, что Сэм ловит левой - того же роста, тощий, старый, безразличный -
Нед делает выверенный бросок наискосок -
И тут начинается: ошеломительный хоумран через центральный барьер, Пива
бежит к "дому", Сэм, жуя свой табак, лениво бежит по кругу, все с тем же
наплевательским видом, у "дома" на него налетает толпа безумцев и Келли -
Конец 9-го, Джо МакКанн должен всего лишь сдержать Плимутсов - Прэй
ошибается, Гаква делает одиночный, они задерживаются на второй и первой,
вперед выходит малыш Недди Гейвин, лупит двойной в "дом", ничья, и потом
меткий удар на третей базе, подающий на подающего - виртуозная подача Лео
Сейера, похоже, что МакКанн может достойно ответить, но Томми Тернер
запросто перехватывает его жертвенный низкий бросок и выигрывает еще один
удар, Джейк Гаква тихонечко отправляет одиночный и все Плимутс вываливаются
на поле и вносят Неда Гейвина в раздевалку на своих плечах.
Посмейте только сказать после этого, что мы с Лайонелом придумали
никудышную игру!
Утро, великолепный день, и он совершил еще одно убийство, на самом деле
это все то же, одно и то же убийство, только на этот раз жертва сидит
беспечно на стуле моего отца где-то в районе Сара-авеню а я ничего не знаю,
сижу у себя за столом, пишу, и услышав об очередном убийстве продолжаю себе
писать спокойно (не исключено что именно о нем, хе-хе) - Дамы отправились
прогуляться в парк, но какой ужас, что они скажут вернувшись и почувствовав
в этой комнате запах убийства, ах, что скажет Ма, но он разрубил тело на
куски и спустил его в унитаз - Темное нахмуренное лицо склонилось над нами в
кошмарном сне.
С утра я просыпаюсь в семь и моя половая тряпка все еще сохнет
оставленная на камне, как женский парик, как горестная Гекуба, и озеро
лежащее в миле внизу похоже на туманное зеркало, из которого скоро восстанут
в ярости озерные русалки, почти всю эту ночь я провел без сна (слышен слабый
гром в барабанных перепонках), потому что мышь, крыса и два оленя
колобродили всю ночь вокруг моей хижины, олени казались нереальными, слишком
тощими и слишком странными для обычных оленей, новый вид таинственных горных
существ - Они тщательно вылизали тарелку с холодной вареной картошкой,
которую я выставил для них - Мой спальный мешок пустеет еще на один день -
Стоя у плиты, я напеваю: "Эй, кофе, как здорово, когда ты кипишь" -
"Эй, эй, девушка, как здорово, когда ты любишь".
(я слышал, как в Гренландии девушки Полярного Снега пели это)
Уборной мне служит маленький острокрыший деревянный домик на краю
великолепной Дзенской пропасти с валунами, каменной черепицей и старыми
шишковатыми просветленными деревьями, остатками деревьев, пнями,
вывороченными, искореженными, висящими, готовыми упасть, бесчувственными, Та
Та Та - из двери, которую я привалил чтоб не закрывалась камнем, видна
громадная треугольная скалистая стена горы на восточной стороне Грозового
Ущелья, в 8.30 утра туманная дымка томная и чистая - и сонная - Грозовой
Ручей грохочет все громче и громче - потом вступает Три Дурня, на помощь ему
приходят Шалл и Коричный, а еще Тревожный Ручей вдали, а потом за ним, из
иных лесов, иной дикости, иных изломанных скал, дальше на восток до самой
Монтаны - В туманные дни вид с сиденья моего туалета напоминает черно-белые
китайские Дзенские рисунки тушью по шелкам серых пустот и мне кажется сейчас
запросто могут появится парочка хихикающих бродяг Дхармы, или один в
лохмотьях стоящий возле козлорогого пня и с метлой в руке, а другой с
гусиным пером, сочиняющий стихи о Братьях Линь, Посмеивающихся в Тумане -
примерно такие, "Хань-Шань, в чем смысл пустоты?"
"Ши-Те, вымыл ли ты утром пол в своей кухне?"
"Хань-Шань, в чем смысл пустоты?"
"Ши-Те, вымыл ли ты - Ши-Те, вымыл ли ты?"
"Хе хе хе хе".
"Почему ты смеешься, Ши-Те?"
"Потому что мой пол вымыт".
"В чем же тогда смысл пустоты?"
Ши-Те хватает свою метлу и начинает мести пустоту, однажды я видел как
Ирвин Гарден делал это - и они бредут прочь, хохоча, в тумане, и уже не
видно больше ничего, кроме нескольких ближайших скал и валунов и над всем
этим Пустота изливается в Облако Великой Правды верхних слоев тумана и не
черной лентой, а будто нарисованное вздымающееся нечто, показавшись двум
маленьких мастерам и затем бесконечно воспарив над их головами - "Хань-Шань,
а где же твоя половая тряпка?"
"Сохнет на камне".
Тысячу лет назад Хань-Шань писал на камнях такие вот стихи, в такие же
вот туманные дни, и Ши-Те мел пол монастырской кухни своей метлой и они
хохотали вместе, и люди Императора приходили издалека чтобы разыскать их, и
они спасались, прячась в расщелинах и пещерах - Внезапно я вижу как
Хань-Шань появляется перед моим Окном указывая на Восток, я смотрю туда но
вижу только Ручей Трех Дурней в утренней дымке, оборачиваюсь назад,
Хань-Шань исчез, я опять оборачиваюсь в указанном направлении, и вижу только
Ручей Трех Дурней в утренней дымке.
Что еще скажешь?
Потом приходили долгие дневные мечтания о том, чем я займусь вырвавшись
отсюда, из этой ловушки на вершине горы. Буду ехать не спеша по этой 99-й
дороге, почти без еды, разве что вечерком зажарю себе кусочек вырезки
где-нибудь на пересохшем дне реки, с хорошим винцом, и утром -- в
Сакраменто, Беркли, поднимусь в домик Бена Фэгана и начну с такого хайку:
Проехал стопом тысячу
миль, принес
Тебе вина
- и может переночую у него во дворе на травке, а потом хотя бы одну
ночку в каком-нибудь чайнатаунском отеле, одна долгая прогулка по Фриско,
один хороший обед, нет, два хороших обеда в китайском ресторанчике,
встречусь с Коди, встречусь с Мэлом, гляну на Боба Донелли и всех остальных
- то-се, парочку подарков для Ма - зачем планировать заранее? Я просто
отправлюсь вниз по дороге в поисках неожиданностей и не остановлюсь до
самого Мехико-Сити
Я меня есть здесь книга, воспоминания бывших коммунистов, которые
отказались от своих убеждений поняв звериную сущность тоталитаризма, она
называется "Рухнувший идол" (включая один идиотский О невыносимо идиотский
отчет Андре Жида старая посмертная нудятина) - это единственное доступное
мне чтиво - и мысль об этом мире вгоняет меня в депрессию (О что же это за
мир, мир в котором дружбы сменяются самой черной ненавистью, люди борются за
то чтобы было за что бороться, и так везде, везде...) мир всех этих ГПУ и
шпионов и диктаторов и чисток и полуночных убийств, марихуановых вооруженных
революций и вооруженных отрядов в пустыне -- внезапно слушая трепотню других
ребят по смотрительскому радио здесь в Америке и услышав футбольные новости
и разговорчики типа "Бо Пеллегрини! Вот настоящий боксер!!! Никакие
мерилэндцы ему и в подметки не годятся!" - и разные там прибаутки и обрывки
фраз, я почувствовал, что "Америка свободна как этот дикий ветер снаружи,
все еще свободна, свободна, как в те времена, когда у этой границы еще не
было имени Канада и вечерами по пятницам которыми сейчас Канадские Рыбаки
наезжают из-за горного озера по старой дороге на своих старых машинах" (я
вижу их даже здесь, маленькими огоньками в пятницу вечером и мне в голову
сразу приходят их шляпы, одежда, машины и морщины) "пятничными вечерами
приходил безымянный Индеец, Скэджит, в горах стояло несколько бревенчатых
фортов, снизу проходило несколько дорог, и ветра веяли между ногами и рогами
свободных зверей, и они веют до сих пор, на волнах свободного эфира, в
молодой безумной радио болтовне, парни из колледжа, бесстрашные свободные
парни, до Сибири миллионы миль и Америка все еще та же добрая старая страна
- "
И унылые мрачные размышления о всех Россиях и планах убийства душ целых
народов моментально испарились, стоило мне только услышать "Бог мой, счет
уже 26-0 - им уже не выкарабкаться" - "Прямо как "Ол Старз" - "Эй Эд, а
тебе--то долго еще тут сидеть осталось?" - "Он поедет без остановок, хочет
отправиться прямо домой" - "Мы могли бы взглянуть на Ледниковый Национальный
Парк" - "А мы поедем домой через Бэдлендс в Северной Дакоте" - "Хочешь
сказать через Черные Холмы?" - "Плевать я хотел на вас сиракузцев" - "Эй,
знает кто-нибудь хорошую байку на сон грядущий?" - "Эй, уже восемь тридцать,
нам лучше отрубиться - Эйч 33 десять-семь до завтрашнего утра. Спокойной
ночи" - "Эу! Эйч 32 десять-семь до завтрашнего утра - Спи сладко, детка" -
"Так говоришь на твоем радио можно Гонконг ловить?" - "Ну да, слушай сам,
сянь-cянь-cянь" - "Похоже. Спокойной ночи" -
И я знал, что в Америке слишком много людей, слишком много, чтобы
когда-нибудь скатиться до уровня нации рабов и когда я отправлюсь стопом по
этой дороге вниз и дальше на все оставшиеся мне года, то если не брать в
расчет пьяные драки затеваемые в барах алкашами, ни один волос с моей головы
(хотя стрижка была бы мне кстати!) не упадет по чужой Тоталитарной воле -
Так сказал Индейский скальп, и так гласит пророчество:
"С этих скал раздастся во всем мире смех и придаст он мужества
согбенному в трудах рабу древности."
И я верю Будде, который говорил, что все сказанное им не является ни
истиной ни ложью, и лучше и вернее не сказал никто и никогда, и для меня это
звучит как гром из облака, как удар мощного надмирного гонга - Он говорил
"Твой путь был долог, беспределен, и ты пришел к этой дождевой капле
называющейся твоей жизнью, и назвал ее своей - и было предназначено чтобы ты
взмолился о пробуждении - и даже если в миллионе перевоплощений ты
пренебрежешь этим Высшим Предназначением, то речь идет лишь о дождевой капле
в море и кого это обеспокоит и что значит время - ? Множество рыб бороздит
Сияющий Океан Беспредельности, они проплывают подобно искрам в этом озере, в
сознании твоем, но нырни же теперь в прямоугольную белую вспышку такой
мысли: тебе было предопределено пробудиться, в этом и есть золотая
бесконечность чье познание не принесет тебе земного блага, потому что не в
земном суть, оно лишь хрустальный миф - смотри в лицо реальности атомной
бомбы, пробуждающей дабы не попался ты в ловушку тепла или холода, комфорта
или неприкаянности, будь внимателен, будь мотыльком, мысли о вечности - будь
любящим, сельским парнем, важным господином, кем бы то ни было - будь одним
из нас, Великих Знатоков Без Знания, Великих Любовников Вне Любви, целым
сонмом и бесчисленными ангелами, их телами и страстями, сверхъестественными
потоками тепла - мы пылаем, чтобы пробудить тебя - раскинь свои руки и
обними мир, сделай это и мы ворвемся в тебя, мы встретим тебя возложением
серебряного бремени золотых рук наших на твои млечноосененные брови,
властно, дабы навеки заставить тебя застыть в любви - Верь! и да проживешь
ты вечность - Верь что ты уже живешь вечность - стань сильнее всех темниц и
епитимий мрачного мирка земного страдания, в жизни есть нечто большее чем
страдание, вот же он, Свет Повсюду, взгляни - "
Такие странные слова слышу я каждую ночь, и еще многие другие,
причудливое переплетение словесных нитей льется из всеведающего изобилия -
Поверьте мне, из всего этого что-то да выйдет, и у этого чего-то будет
лик сладостной пустоты, колышущегося листа -
И бычьи цвета пурпурного золота шеи могучих носильщиков в шелковых
кафтанах перенесут нас не сдвигая с места, не-пересекая пересеченные пустоты
непресеченья к свету улума, где прикрытый золотой глаз Раджамиты откроется и
воззрит недвижно - Мышь проносится, шурша в горной ночи маленькими лапками
изо льда и алмазов но еще не пришло (герой смертен) мое время знать то что я
знаю я знаю, значит, входи же
Слова...
Звезды - это слова...
Кто победил? Кто проиграл?
Охейя, и когда
Я доберусь до Третьей и до
Таунсенда,
Я перехвачу
Полуночный Призрак-
И мы покатимся дальше
В Сан-Хосе
С быстротою похвальбы
Э-гей, Полночный,
полуночный призрак,
Старина Зиппер катящийся
дальше по трассе -
Эгей, Полуночный,
полуночный призрак
Катя-
щийся
по
трассе
Приедем мы, огня,
В Уотсон-вилль
И громыхнем
по
трассе -
Сэлинас-Волли
в средине ночи
И дальше в Эпалайн
Уау-у, Уау-у,
Уау-ууууу!
Полуночный Призрак
Толчок - Клер т'Обиспо
- Прицепи тягач
взберись на гору
и спустись в городишко,
Мы проедем насквозь
в Серф и в Танжер
и дальше вдоль моря -
И луна сияет на
полуночном море
двигаясь дальше по трассе -
Гавиоти, Гавиоти,
О Гави-оти,
Горланя и распивая вино -
Камарилла, Камарилла, -
Где Чарли Паркер
сошел с ума
Мы вкатимся в Эл-Эй
- О Полночный
полночный,
полуночный призрак,
Святая Тереза
Святая Тереза, не беспокойся,
Мы поспеем во время,
дальше по этой полуночной
трассе
Вот так я и думал добраться за 12 часов от Сан-Франциско до Эл-Эй, на
Полуночном Призраке, я залезу под грузовик, стоящий на платформе,
Первоклассный Зипперовский товарняк, чух-чучух, вперед и вперед, спальный
мешок и вино - мечта, спетая песней.
Устав рассматривать окрестности своего поста, например, разглядывать с
утра свой спальный мешок, помня что вечером его придется расстегнуть опять,
или свою печку жарко разогретую днем, чтобы приготовить ужин, помня что
ночью мышь будет скрестись в ее холодном нутре, я обращаю свои мысли к
Фриско и передо мной как в кино проходят картинки того что случится когда я
туда доберусь, я вижу самого себя в моей новой
(Которую-Я-Собираюсь-Купить-в-Сиэттле) большой черной кожаной куртке ниже
пояса (может даже болтающейся на рукавах), в новых серых брезентовых штанах
и новой шерстяной спортивной рубахе (желто-оранжево-синей!),
свежеподстриженный, иду я с декабрьско-отсутствующим выражением лица по
ступеням моего второразрядного чайнатаунского отеля, или может я на квартире
Саймона Дарловского на Тернер Тиррейс в районе безумной негритянской
застройки на углу Третьей и 22-й, где видны гигантские как вечность
бензиновые цистерны и вид на дымный индустриальный Фриско, включая залив,
железнодорожные пути и заводы - И я вижу самого себя, с рюкзаком на одном
плече, входящим через всегда незапертую дверь в спальню Лазаруса (Лазарус -
это 15-1/2 летний мистический брат Саймона, который никогда ничего не
говорит кроме "Ты сны видел?")(прошлой ночью?)(хочет он сказать), я вхожу,
внутрь, сейчас октябрь, все на учебе, я выхожу и покупаю мороженое, пиво,
консервированные персики, мясо, молоко, запихиваю все это в холодильник, и
когда вечером они возвращаются домой и во дворе дети начинают вопить в
Осенне-Сумеречной Радости, я уже успел просидеть целый день за кухонным
столом , попивая вино и почитывая газеты, Саймон со своим костистым орлиным
носом и безумно поблескивающими зелеными глазами в очках смотрит на меня и
гнусавит сквозь свои вечно покрытые свищами ноздри "Джек! Ты! Когда это ты
приехал, хныф!" это он так фыркает (ужасно это мучительное фырканье, я и
сейчас его слышу , не знаю уж как он так дышать умудряется) - "Прямо сегодня
- смотри, в холодильнике полно жратвы - Не против, если я поживу тут
несколько дней?" - "Места полно" - Лазарус стоит позади него, одетый в свой
новый костюм и тщательно причесанный, чтобы сразить красоток с
подготовительных курсов колледжа наповал, он молча кивает и улыбается, а
потом у нас большая пьянка и в конце концов Лазарус говорит "Ты где спал
прошлой ночью?" и я говорю "В Беркли, в депо" тогда он говорит "Сны видел?"
- И я рассказываю ему длинный сон. И заполночь, когда мы с Саймоном
выбираемся прогуляться по Третьей улице, попить винца, поболтать о девушках
и перекинуться парой слов с черномазыми шлюхами, стоящими напротив отеля
Камео, мы решаем сходить на Норт Бич поискать Коди со всей нашей командой,
Лазарус остается один на кухне и жарит себе три бифштекса, ему заполночь
приспичило перекусить, он здоровенный, симпатичный и безумный парень, один
из множества братьев Дарловских, большинство из них сейчас в психушке, по
тем или иным причинам, и Саймон проехал стопом всю трассу до Нью-Йорка чтобы
вызволить Лаза и привезти его сюда, чтобы жить вместе, чтобы помочь, двое
русских братьев, в городе, в пустыне, протеже Ирвина, писатель-кафкианец
Саймон -- и мистик Лазарус, часами пялящийся на рисунки монстров во всяких
чудных журнальчиках и шатающийся как зомби по городу, а когда ему
исполнилось пятнадцать он заявил, что к концу года будет весить триста
фунтов, а также назначил себе крайним сроком чтобы заработать миллион Новый
Год -- на эту безумную квартирку часто заходит после работы Коди в своей
истрепанной синей спецовке тормозного кондуктора и присаживается прямо на
кухонный стол а потом вдруг вскакивает и прыгает в машину с воплем "Нету
времени!" и мчится на Норт Бич в поисках остальных, или на работу чтобы
успеть к своему поезду, и девушки повсюду на улицах и в наших барах, и весь
Фриско как декорация к одному сумасшедшему фильму - и я вижу появление в
этой декорации самого себя, я пересекаю экран и оглядываюсь по сторонам
пропитанный моим одиночеством - Белые мачты кораблей у подножия улиц.
Я вижу себя шатающимся по оптовым рынкам - за бывшим зданием Профсоюза
Торгового Флота где я так долго, годами, пытался устроиться на корабль - И
вот я иду, жуя жвачку Мистера Кудбара -
Я брожу около универмага Гампи и заглядываю в магазин картинных рам,
где работает Сайке, одетая как всегда в джинсы и свитер с высоким воротом из
которого выглядывает краешек белого воротничка и как хотелось бы мне стащить
с нее эти штаны, оставив только свитер и воротничок, и все остальное
достается мне и оно слишком для меня желанно -- я стою на улице пялясь на
нее -- потом я несколько раз прохожу мимо нашего бара (Местечко) и
заглядываю внутрь -
Я просыпаюсь, вновь на Пике Одиночества и пихты недвижны этим синим
утром - Две бабочки переплетаются на фоне декораций горных миров - Мои часы
тиканьем отсчитывают начало неторопливого дня - Пока я спал и всю ночь
путешествовал в снах, горы даже с места не двинулись и сомневаюсь чтобы им
снились какие-нибудь сны -
Я выбираюсь наружу принести ведро снега чтобы растопить его в моем
старом оловянном умывальном тазу похожем на таз моего деда в Нэшуа и
обнаруживаю что моя лопата унесена снежным оползнем, я смотрю вниз и
прикидываю что карабкаться за ней и обратно наверх придется не близко, к
тому отсюда мне ее вообще не видать - И тут я ее замечаю, аж у подножия
снегов, на глиняном уступе, я спускаюсь вниз очень осторожно, скользя по
глине, забавы ради выковыриваю из глины булыжник и пинаю его вниз, он с
грохотом катится, врезается в камень, расщепляется напополам и грохочет 1500
футов вниз где я вижу как последний осколок его катится по долгим снежным
полям и успокаивается ударившись о валуны с шумом, который слышен мне лишь
две секунды спустя - Безмолвие, великолепное ущелье не обнаруживает ни следа
звериной жизни, лишь пихты, горный вереск и скалы, снег вокруг меня блестит
ослепляя как солнце, я облегчаюсь у лазурно-серого пропитанного скорбью
озера, небольшие розовые или почти коричневые облачка дрожат в его
зеркальных водах, я поднимаю глаза и там высоко в небе высятся
красно-коричневые пики могучей Хозомин - Я подбираю лопату и осторожно
поднимаюсь вверх по глине, скользя - наполнив ведро свежим снегом, присыпаю
свой запас моркови и капусты в новой глубокой снежной ямке, возвращаюсь
назад, навалив снежных комьев в оловянный таз и разбрызгиваю воду повсюду по
пыльному полу - Затем я беру старое ведро и как японская старушка спускаюсь
вниз по великолепным вересковым лугам и собираю хворост для своего очага.
Повсюду в мире настает субботний день.
"Если бы я был сейчас в Фриско", размышлял я сидя в кресле во время
моих вечерних одиночеств, "То купил бы четвертушку портвейна Христианские
Братья или какой-нибудь другой превосходной особой марки, пошел бы к себе в
чайнатаунскую комнату и там перелил бы полбутылки во флягу, запихнул бы ее в
карман и пошел бродить по маленьким улочкам Чайнатауна наблюдать за детьми,
маленькими совершенно счастливыми китайчатами, чьи маленькие ручонки тонут в
ладонях родителей, я смотрел бы на мясные лавки и видел как отрешенные
дзенские мясники рубят куриные шеи, я вглядывался бы как вода в витрине
пузырится на глазурных боках великолепных копченых гусей, я бродил бы
повсюду, постоял бы на углу Итальянского Бродвея чтобы ощутить течение
здешней жизни, синее небо и белые облака проплывали бы у меня над головой, я
вернулся бы назад и зашел бы с флягой в кармане на китайский фильм, сидел бы
и пил из нее (а начал бы с этого времени, с 17.00) три часа наблюдал бы
причудливые сцены, неслыханные диалоги и развитие сюжета и может кто-нибудь
из китайцев увидел бы меня потягивающего из фляги и подумал бы, "Ага, пьяный
белый человек в китайском кино" и в 8 вечера я вышел бы в синие сумерки со
сверкающими огнями Сан-Франциско и всеми этими волшебными горами вокруг,
теперь я долил бы доверху свою флягу в номере отеля и тогда вышел бы уже на
настоящую большую прогулку по городу, чтобы нагулять аппетит для полуночного
празднества в одном из отсеков изумительного старого ресторана
Сан-Хьонг-Ханг - я рванул бы через гору, через Телеграфную, и прямиком вниз
к железнодорожным путям, где я знаю одно местечко в узком переулочке, там
можно сидеть, пить и созерцать большой черный утес, у него самые настоящие
магические вибрации, отсылающие в ночь сонмы посланий священного света, я
знаю, я уже пробовал это - и потом, отхлебывая, потягивая и вновь завинчивая
флягу, я иду в одиночестве по Эмбаркадеро через Рыбачью Пристань, где
ресторанчики на каждом шагу и где тюлени разбивают мне сердце своими
кашляющими любовными криками, я иду мимо лотков с креветками и выхожу
отсюда, минуя последние корабельные мачты в доках, потом вверх по Ван-Нэсс,
потом опять вниз в Тендерлойн[6] - мигающие козырьки над входами и бары с
вишневыми коктейлями, всевозможные помятые личности, старые расслабленные
блондинки-алкоголички спотыкаясь ковыляют к винным лавкам -- потом иду (вино
почти закончилось, а я пьян и счастлив) вниз по большой и шумной
Маркет-стрит с ее кабацкой мешаниной моряков, киношек и фонтанчиков с
содовой, пересекаю аллею и попадаю в Скид Роу[7] (приканчивая мое вино здесь
среди похабных старых подъездов, пахнущих мочой, разрисованных и
раздолбанных сотнями тысяч горестных душ, одетых в поношенную одежду из
магазинов Доброй Воли) (теми же постаревшими мальчишками, что скитаются на
товарняках и бережно хранят листочки бумаги, на которых всегда какая-нибудь
молитва или философская премудрость) - Вино закончилось, я начинаю петь и
негромко похлопывать в ладоши в такт своим шагам всю дорогу вдоль по Кирни
домой в Чайнатаун, уже почти полночь и я сижу в чайнатаунском парке на
темной скамейке, дышу воздухом и пью глядя на соблазнительно манящие
неоновые огни моего ресторана мерцающие на маленькой улице, время от времени
безумные алкаши проходят в темноте в поисках стоящих на земле полувыпитых
бутылок, или окурков, и напротив через Кирни видны полицейские в синем,
входящие и выходящие из большого коричневого здания тюрьмы - Затем я иду в
свой ресторан, делаю заказ из китайского меню, и сразу же они приносят мне
копченую рыбу, приправленных карри цыплят, бесподобные пироги с гусятиной,
невероятно тонкие и изящные серебряные тарелки (с рукоятками) в которых
дымятся настоящие шедевры, можно поднять крышку, увидеть и оценить аромат -
с чайником, чашкой, ах, я ем - и ем - до полуночи -- и может потом за чашкой
чая сижу и пишу письмо своей любимой Ма, говоря ей - затем, закончив, я иду
либо спать либо в наш бар, "Местечко", найти всю нашу команду и надраться
вместе с ними...
Теплым августовским вечером я спускаюсь вниз по склону горы и нахожу
обрывистое место, где можно усесться скрестив ноги среди пихт и старых
поваленных стволов, лицом к луне, желтому полумесяцу, утопающему в горах на
юго-западе - На небе теплая розоватость, на западе - Время около 8:30 -
Ветер от лежащего в полумиле внизу озера душист и напоминает о заколдованных
озерах, такими я их себе и представлял - я молюсь и прошу Авалокитешвару
Пробуждающего возложить свою алмазную руку на мои брови и даровать мне
негаснущее понимание - Он Слушатель и Отвечающий на мою молитву и я знаю что
вся эта заморочка самогипноз и бредятина, но в конце концов именно сами
пробуждающие (Будды) сказали нам, что они не существуют - И секунд через
двадцать в мои разум и сердце приходит понимание: "Когда дитя рождается, оно
засыпает и видит сны о своей жизни, а когда человек умирает и его хоронят в
могиле, он пробуждается опять к Вечному Блаженству" - "А стало быть все уже
сказанное и сделанное становится неважным" -
Ага, Авалокитешвара возложил-таки свою алмазную руку...
И приходит вопрос -- зачем же, зачем, ведь это только Сила, некая
духовная природа, сочащаяся своими бесчисленными возможностями -- И какое же
это странное чувство читать о том, как на улицах Вены в феврале 1922 года
(за месяц до моего рождения) происходило то-то и то-то, но какая может быть
Вена, или хотя бы представление о Вене еще до моего рождения! -- ведь это же
просто движение духовной природы и в этом нет ничего общего с какими-то
людьми что появляются и уходят, несут ее в себе, питаются ею и питают ее -
Поэтому 2500 лет назад жил Гаутама Будда, который додумался до величайшей
мысли в истории Человечества, что все эти года есть лишь капля в бадье
Духовной Природы, которая есть Универсальный Разум -- И я понимаю в своей
горной благости что Сила проявляется и ликует и в невежестве и в
просветленной мудрости, иначе не существовало бы невежественного бытия
наряду с просветленным небытием, разве должна Сила ограничивать себя тем или
иным -- формой страдания или неосязаемыми эфемерностями бесформенности и
безболезненности, какая между ними разница? - И я вижу как желтая луна тонет
в горах по мере того как Земля поворачивается от нее в сторону. Я наклоняю
голову чтобы увидеть все верх ногами, и горы земные становятся всего лишь
болтающимися в безграничном небесном море пузырями - О если бы было другое
зрение, без помощи глаз, какие атомные уровни увидели бы мы? - но нашему
обычному зрению доступны лишь луны, горы, озера, деревья и чувствующие
существа - Сила наслаждается всем этим - Она напоминает самой себе что она
есмь Сила, и вот поэтому, именно из за того что Сила на самом деле суть
экстаз, сон своих собственных проявлений, возникает ее Золотая
Бесконечность, полная спокойствия, и наш туманный сон о существовании есть
лишь туман в своем - мне не хватает слов - Теплая розоватость на западе
становится пастельно-гаснущей сероватостью горной долины, мягкий вечер
вздыхает, маленькие зверюшки копошатся в кустах вереска и в норах, и я меняю
положение своей сведенной от долгого сидения ноги, луна наливается зрелостью
желтеет и в конце концов касается самого высокого утеса и как обычно
какой-нибудь пень или коряга своим силуэтом в ее магическом очаровании
напоминают легендарного Койотля, Индейского Бога, готового воззвать к Силе -
О, какое спокойствие и довольство я чувствую, возвращаясь в свою хижину
с пониманием что мир этот лишь сон младенца, что все мы возвращаемся к
экстазу золотой бесконечности, к сущности Силы - и Первобытного Восторга, и
все мы это знаем - я лежу на спине в темноте, сцепив руки, радостный,
северные огни сияют как на голливудской премьере и я опять смотрю на них
вверх ногами и вижу, что это просто большие куски льда на земле отражающие
далекий солнечный свет с другой стороны и к тому же так видно как земля
выгибается в другую сторону - Северные огни, достаточно яркие чтобы ледяными
лунами освещать мою комнату.
И какое облегчение знать что когда все сказано и сделано ничто уже не
имеет значения - Горести? жалость которую я чувствую думая о матери? - но
ведь чтобы их почувствовать, их надо лелеять в себе и помнить о них, они не
возникают сами по себе и это происходит потому что духовная природа свободна
от иллюзий и вообще свободна от всего -- Так вот все эти дымящие трубками
философы-деисты, говорящие "О заметь же чудесные творения рук Господних,
луну, звезды и т.д., разве согласился бы ты променять их на что-нибудь
другое?", они не понимают что говорят все это из-за отголосков первобытной
памяти о том как понятия когда, где и что были ничем - "Существует лишь
сейчас," понял я, глядя на мир, этот современный цикл творения, созданный
Силой в радости и чтобы напомнить своей безличной личности что она есмь Сила
- и по сути своей роящееся ласковое таинство которое можно увидеть закрыв
глаза и позволив извечной тишине заполнить свои уши - этому блаженству и
благословению нужно верить, дорогие мои -
Пробуждающие, если захотят, перерождаются детьми - Это мое первое
пробуждение -- И нет ни пробуждающих ни пробуждения.
Так лежу я в своей хижине, вспоминая фиалки росшие на задворках нашего
дома на Феб Авеню когда мне было одиннадцать, июньскими ночами, туманные
мечты о них, призрачных, бестелесных, давно исчезнувших, гибнущих опять, и
опять, до самой последней погибели.
В середине ночи я просыпаюсь и вспоминаю Мэгги Кэссиди и как я мог бы
жениться на ней и стать старым Финнеганом для нее -- для Ирландской Девчушки
Пларабэлл, мог бы стать хозяином коттеджа, маленького ветхого ирландского
розового коттеджа стоящего среди тростника и старых деревьев на берегах
Конкорда и работал бы угрюмым тормозным кондуктором в жилетке, рукавицах и
бейсбольной кепке, холодными ночами Новой Англии я работал бы ради нее с ее
ирландскими бедрами цвета слоновой кости, ее конфетными губами, ее
ирландским акцентом, "Господней Зеленой Страной" и двумя дочерьми - И ночью
я положил бы ее наискосок на кровать всю мою и прилежную и искал бы лоно ее,
этот источник ее, эту изумрудно темную героическую вещь ее, что так мне
желанна - вспоминаю ее шелковые бедра в обтягивающих джинсах, ее манеру
опираться на бедра руками раздвигая их и подмигивать мне когда мы сидим
вместе и смотрим телевизор - в гостиной ее матери в 1954 году когда я
одержимый прикатил в октябрьский Лоуэлл - Ах, розовый виноград, речная
глина, ее походка, ее глаза - Женщина для старины Дулуоза? Здесь в полночь у
печки в одиночестве, невозможно представить что это было на самом деле -
Мэгги Приключение -
Лапы черных деревьев в залитых лунным светом розоватых сумерках тоже
хранят в себе море любви, и я всегда могу покинуть их и отправиться в
скитания - но когда я стану стар и сяду у моего последнего очага, и птица
будет долдонить на своей пыльной ветке в О Лоуэлле, о чем же буду думать я,
ива? - сейчас ветра вьются в спальном мешке холодя обнаженную спину мою и
склонившись иду я к похвальным трудам моим по дерну земли моей, но кто споет
песню любви для старого пердуна согбенного раздолбанного придурковатого
Джека О - ? - и современные поэты не преподнесут мне лавровый венок будто
мед к моему молоку, насмешки -- лучше уж насмешки любящих женщин, так
кажется мне - я сваливаюсь с мостков, бабах, и река моет мое исподнее -
болтовня в очередях в прачечной - прогулки на свежем воздухе по
понедельникам - фантазмы всех домохозяйкиных Африк -- Учите меня, дочери -
верти мной, безжалостная - но это могло бы стать лучше того чем кажется,
нецелованные губы одинокого Дулуоза угрюмящиеся с могильной плиты
Ранними воскресными утрами я всегда вспоминаю Мамин дом на
Лонг-Айленде, как это было в последние года, когда она читала воскресные
газеты, а я вставал, принимал душ, выпивал стакан вина, читал спортивный
раздел и потом ел очаровательный маленький завтрак, приготовленный ею для
меня, стоит мне лишь попросить и она поджарит бекон так, что он похрустывает
а зажаренные ею яйца похожи на маленькие солнышки - Телевизор выключен
потому что воскресными утрами не передают ничего интересного - мне так
горько думать что ее волосы поседели и ей 62 и будет 70 когда мне исполнится
мои совиные 40 - вскорости она уже станет "моей старушкой" - Лежа на кровати
я пытаюсь думать о том как буду заботиться о ней -
Потом, когда дни удлиняются, воскресенья растягиваются, а горы
становятся похожи на скучновато-набожного Саббатини, я часто начинаю думать
о прежних лоуэлльских денечках, когда около четырех часов дня возле
краснокирпичных мельниц у реки собиралась толпа народу, детишки возвращались
из воскресного кино, но О печальная красокирпичность, повсюду в Америке
видишь ты ее, в лучах подкрашивающего солнца, на фоне облаков, и люди одетые
в свое самое лучшее на фоне этой декорации -- Мы все стоим отбрасывая
длинные тени на этой печальной земле и дыхание наше стеснено плотью.
И даже в воскресном шебаршении мыши на чердаке моей хижины было что-то
по воскресному сакральное, связанное с хождением в церковь, церковностью,
молитвенностью -- Что ж, попробуем...
В основном по воскресеньям я маюсь от скуки. И все мои воспоминания
полны тоски. И солнце слишком уж сияющее и золотое. Я думаю чем заняты
сейчас люди Северной Каролины и содрогаюсь в ужасе. В Мехико-Сити они бродят
повсюду поедая здоровенные порции печеной свинины в парках и даже
воскресенье их суть Уныние - должно быть, Саббат был придуман для того,
чтобы приглушить радость.
Для обычных крестьян воскресенье это улыбка, но для нас мрачных поэтов,
ах - мне кажется что воскресенье это подзорная труба Господа.
Сравните церковь вечером в пятницу с кафедрами воскресного утра -
В Баварии одетые в шорты мужчины прогуливаются, заложив руки за спину -
Мухи спят за кружевными занавесками в Кале и в окнах видны парусные корабли
- в воскресенье Селин зевает и умирает Женэ - В Москве все как обычно -
Только в Бенаресе по воскресеньям голосят продавцы с лотков и заклинатели
змеи открывают свои корзины, наигрывая на флейте - На Пике Одиночества в
Высоких Каскадах, по воскресеньям, ах -
В частности, я думаю о краснокирпичной стене принадлежащей
Шеффилдовской Молочной Компании, возле главных путей Лонг-Айлендской
Железной Дороги в Ричмонд-Хилле, подле нее колея в глине накатанная за
неделю автомобилями рабочих, одна-две одинокие машины воскресных
сверхурочников стоят там и сейчас, облака проплывают отражаясь в коричневых
лужах, на свалке валяются деревяшки, консервные банки и тряпье, проезжает
местная электричка с бледными пустыми лицами Воскресных Путешественников - в
предчувствии призрачного дня, когда индустриальная Америка будет покинута и
оставлена ржаветь на один долгий Воскресный День забвения.
Зеленая горная гусеница с множеством уродливых маленьких ножек живет в
своем вересковом мирке, голова ее как бледная прозрачная капля, толстое тело
изгибается пытаясь заползти вверх, вися вниз головой как южноамериканский
муравьед бессмысленно болтаясь крутясь и шаря вокруг себя в поисках чего-то,
затем стремительно кидается наверх как прыгающий на ветку мальчик вытянув
тело среди вересковых ветвей и начинает беситься и бросаться на ни в чем
неповинную зелень -- она и сама-то часть этой зелени, двигающийся ее сок --
она изгибается, выпрямляется и сует свою башку куда ни попадя - она среди
пятнисто тенистых джунглей серых прошлогодних вересковых игл - иногда
застывает как удав боа на фотографии безмолвно устремившись ракетою в
небеса, змееголово засыпает, потом поворачивается как паста из тюбика когда
я дую на нее, готовая быстро вывернуться, молниеносно скрыться,
беспрекословно повиноваться приказу таинственных небес лежать тихо, что бы
не грозило с них - Сейчас она очень огорчена тем что я на нее дую, втягивает
горестно голову в плечи и я отпускаю ее бродить незаметно, притворяться
мертвой раз уж ей так угодно - она идет исчезая зигзагами в джунглях, и
теперь когда мои глаза находятся на уровне ее зрения я вижу, что и над ней
тоже возвышаются свои громадины - плоды вереска и бесконечность над ними,
она так же висит вверх ногами и так же цепляется за свою сферу - мы оба
безумны.
Я остаюсь сидеть размышляя не станут ли мои путешествия по Побережью в
Фриско и Мексику столь же печальными и безумными - но господи-ты-боже-мой, я
лучше буду бродить по этому камешку -
Некоторые из этих моих дней в горах, несмотря на жару, проникнуты
чистой и холодной красотой предвещающей октябрь и мою свободу на
мексиканском Индейском Плато, где будет еще чище и холодней - О старые мечты
мои о горах мексиканского плато, где небеса полнятся облаками похожими на
бороды патриархов и чем сам я не Патриарх стоящий в развевающихся одеждах на
зеленом холме чистого золота - Лето в Каскадах может припекать в августе но
уже чувствуется что Осень близка, особенно в полдень на восточном склоне
моей горы, вне палящего солнца, где горный воздух резок и деревья уже начали
вянуть в ожидании конца - Теперь я начинаю думать о Первенстве Мира, о
шествии футбола через всю Америку (резкие вскрики голоса откуда-то со
Среднего Запада по потрескивающему радио) - я думаю о винных полках в лавках
вдоль Калифорнийской железной дороги, думаю о гальке лежащей на земле Запада
под просторными Осенне-гудящими небесами, думаю об обширных горизонтах,
равнинах и завершающей их пустыне поросшей кактусами и сухими мескитами
тянущимися вдаль по красному плоскогорью туда где вечно бродят старые мои
бродяжьи грезы и откуда доносятся лишь отклики пустоты, протяжной мечте
автостопщика и бродяги Западных пространств, сезонных сборщиков урожая
спящих в мешках для хлопка и неприхотливо покоящихся под посверкивающими
звездами - Ночью Осень намекает о себе сквозь Лето-в-Каскадах, над хребтом
горы встает красная Венера и ты думаешь "Кто же станет госпожой моею?" - Все
они, туманное мерцание и звенящие насекомые, будут стерты с школьной доски
лета и отброшены на восток напористым западным морским ветром и вот тогда-то
я разлохмаченный им в последний раз протопаю вниз по тропе, с рюкзаком и
прочими делами, распевая снегам и елям, en route к новым приключениям, к
новой тоске по приключениям - и тогда все это останется у меня за плечами (и
ты) океан слез, бывший жизнью на этой земле, столь древней, что разглядывая
свои фотопанорамы окрестностей Пика Одиночества, старых мулов и крепких
чалых лошадок 1935 года (на фотографии) за изгородью загона которого больше
нет, я изумляюсь что горы в 1935-м выглядели так же (очертания снежных полей
Старого Джека остались точь-в-точь такими же, до мельчайших подробностей)
как и в 1956-м, так что древность земли поражает меня и я понимаю что они
(горы) такие изначально, они выглядели так и в 584 году до нашей эры - как и
все остальное, за исключением брызг волн морских -- Жизнь наша движима
стремлением, так и я стану стремиться куда-то и падать вниз с этой горы
полнейшего безупречного знания или полнейшего безупречного незнания
восхищенно и невежественно разглядывая метущиеся повсюду проблески сияния -
Позже поднимается западный ветер, дующий с неулыбчивого запада,
невидимый, и шлет мне ясные знаки сквозь все щели и перегородки - Давай же,
давай, пусть пихты осыпятся скорее, я хочу увидеть юг изумленный белизной --
Ноумен[8] - это то что видишь закрыв глаза, это нематериальный золотой
прах, Золотой Ангел Та - Феномен[9] же видишь глаза открыв, в моем случае
это осколки представлений о жизни оставшиеся после тысячи часов, проведенных
в горной хижине - Тут, сверху на поленнице, валяется книжонка-вестерн, уф,
она ужасна, полна сантиментов и пространных рассуждений, дебильных диалогов,
шестнадцать героев с двустволками на одного бедолагу злодея, который мне
пожалуй даже симпатичен своей забулдыжностью и тяжелыми ботинками -- это
единственная книга которую я выкинул - Над ней в углу подоконника
примостилась банка из-под МакМиллановского Рафинированного Масла, в ней я
держу керосин для разжигания огня, для чародейского вызывания огня,
бесчисленных привычных взрывов в моей печке, заставляющих кофе вскипеть -
Моя сковородка висит на гвозде над второй (чугунной) сковородой, слишком
большой для готовки, но капли жира стекающие после стряпни с моей сковородки
на ее оборотную часть напоминают подтеки спермы, я соскребаю их и смахиваю
на дрова, плевать, какая разница - Затем старая плита с ведром для воды,
неизменный кофейник с длинной рукояткой, почти никогда неиспользуемый чайник
- Затем на маленьком столике великолепнейший засаленный посудный бак,
обложенный различными штуковинами для мытья: металлическим скребком,
посудными тряпками, тряпками-хваталками, посудным ершиком, страшный
кавардак, под всем этим постоянно скапливается лужа темной грязной воды
которую я вытираю раз в неделю - Затем полка с постепенно исчезающим запасом
консервов и прочей провизией, а также коробка с мылом Тайд, на которой
нарисована хорошенькая домохозяйка с упаковкой Тайда в руке и надписью
"Созданы друг для друга" - Коробка Бисквика, оставленная здесь предыдущим
смотрителем и так и не открытая мной, банка сиропа который я терпеть не могу
- и отдаю муравьиной колонии во дворе - старая банка орехового масла
оставленная каким-то смотрителем видимо еще когда президентом был Трумэн
судя по тому какое оно засохшее и протухшее - банка в которой я держу
маринованные луковицы, начавшая вонять как старый лимонад постоявший на
жарком полуденном солнце и закисший в вино - маленькая бутылочка мясной
подливки Кухонный Букет, приходящаяся очень кстати к жареному мясу, но вот
отмывать от нее руки так себе удовольствие - Коробка спагетти Шеф-Боярди,
вот ведь изумительное имя, мне сразу представляется как с пришвартовавшейся
"Куин Мэри" спускаются навстречу блистающим огням Нью-Йорка французские
Шеф-повара чтобы поразить город своими маленькими беретами, или вот еще:
какой-нибудь бутафорский усатый Шеф распевает на кухне итальянские арии в
телевизионном кулинарном шоу - Стопка пакетиков супа из зеленого гороха,
очень вкусного и с беконом, прямо как в "Уолдорф Астории", это Джерри Вагнер
научил меня как-то на ночевке, когда мы с ним ходили в горы и разбили лагерь
на Потреро Мидоуз, он вывалил скворчащий бекон прямо в кастрюлю супа и суп
получился густым и ароматным в дымном ночном воздухе у ручья - Потом пол
целлофанового пакета черного гороха и мешочек ржаной муки для оладьев и
лепешек - Затем банка чего-то соленого оставшаяся с 1952 года и промерзшая
за зиму так что соленье это превратились в какие-то ошметки в рассоле,
напоминающие мексиканские зеленые перцы - моя коробка с кукурузными
хлопьями, нераспечатанная упаковка искусственных дрожжей Калумэ с
нарисованной головой повара - Новая нераспечатанная банка черного перца --
Куски Липтоновского мыла оставленные Стариной Эдом последним из сидевших тут
до меня разъебаев-одиночек - Потом моя банка маринованной свеклы,
темно-рубиновой и красной с редкими белеющими из под стекла вкраплениями
лука - Затем мед в полупустой стекляшке чтобы пить его холодными ночами
когда болеешь или чувствуешь себя плохо - Закрытая банка кофе Максвелл-Хаус,
последняя оставшаяся - Совершенно ненужная бутылка с винным уксусом, как мне
хотелось бы чтобы это было вино, он даже выглядит похоже такого
темно-красного цвета - Позади нее стоит новая жестянка с сиропом-патокой,
иногда я пью его прямо из банки чувствуя привкус железа во рту - Коробка
Рай-Крисп то есть сухого тоскливого концентрата хлеба для сухих тоскливых
гор - И целая шеренга консервов многолетней давности, промерзшая
обезвоженная спаржа выглядящая столь эфемерной что невозможно представить
что это можно есть, будто жуешь воду, такая она бледная - Консервированные
вареные картофелины похожи на усохшие головы и бесполезны - (только олени
способны есть такое) - две последние банки аргентинской тушенки, всего их
было пятнадцать, отличные, приехав на пост тем холодным дождливым днем
вместе с Энди и Марти на лошадях я обнаружил долларов на тридцать
консервированного мяса и тунца, все отличного качества, такого что при моей
бедности мне и в голову не пришло бы купить - Сироп Лесоруба, большая банка,
тоже оставленный кем-то подарок, к моим восхитительным оладьям - Шпинат,
который, хоть и окаменел как железо за все эти бесчисленные проведенные на
полке зимы, но так и не потерял аромата - Моя коробка с картошкой и луком, О
свершись чудо! Как хочется мне содового мороженого и филейной поджарки!
La Vie Parisienne, я представляю это себе, ресторан в Мехико-Сити, и
как я вхожу и сажусь за убранный роскошной скатертью стол, заказываю
отличное белое Бордо и филе-миньон, на десерт пирожные, крепкий кофе и
сигару, Ах, и прогуливаюсь вниз по бульвару Реформы в интересную тьму
французского фильма с испанскими субтитрами и внезапно грохочущей
мексиканской кинохроникой
Хозомин, скала, она никогда не ест, не делает запасов, не ждет чуда, не
мечтает о далеких городах, не ждет Осени, не лжет, разве что быть может
умирает - Ба.
Каждую ночь я опять и опять спрашиваю Господа "Почему?" но так и не
слышу достойного ответа
Вспоминая, вспоминая этот сладостный мир с его таким горестным
привкусом - время, когда я наигрывал "Старого Отца" Сары Воэн на моем
маленьком пианино в Скалистых Горах и цветная прислуга Лола заплакала на
кухне так, что я подарил пианино ей и потом воскресными утрами, из старого
обшарпанного дома с маленьким крылечком в котором она жила со своим дружком,
по лугам и сосновым лесам Северной Каролины разносились строчки из
Божественной Сары "Вам, Царство, Власть и Слава, на веки вечныя, аминь" --
вздрагивал колокольчиком ее голос на "а" в "Аминь", точно так как ему
подобает, голосу - Горестным? да потому что даже насекомые бьются в
смертельной агонии на столе, а вы что думаете, это бессмертное дурачье, что
восстает, отходит и перерождается, как и мы, "человееечество" - так крылатые
муравьи-самцы гонимые самками уходят умирать, как же невероятно тщетны их
усилия когда они карабкаются по оконным стеклам и бессильно опадают вниз
добравшись доверху, и пытаются вновь и вновь, пока не умирают от истощения -
И тот муравей которого я однажды увидел на полу моей хибары, о как он бился
и корчился в грязной пыли в какой-то фатальной безнадежной судороге - ах,
так и все мы, все мы, понимаем мы это сейчас или нет - Сладостный? Конечно
же сладостный, особенно когда мой обед булькает в кастрюле и рот наполняется
слюной, восхитительная кастрюля зеленой репы, морковки, мяса, лапши и
приправ, однажды вечером я сварил все это и ел потом, сидя полуголый на
утесе, из маленькой чаши, палочками, сидя скрестив ноги, распевая - И потом
теплые залитые лунным светом ночи с еле тлеющей краснотой на западе - тоже
куда как сладостно, ветер, песни, густая сосновая древесность внизу в
ущельях долин - Чашечка кофе и сигарета, ох и не дзена ж себе! а где-то там
люди сражаются с ужасающими карабинами в руках, грудные клетки их пересечены
крест-накрест патронташами, ремни их оттянуты книзу гранатами, их терзают
жажда, усталость, голод, страх, безумие - Должно быть когда Господь
задумывал этот мир, он запланировал заранее меня с моей печальной до
изнеможения душевной болью, А Т А К Ж Е Быка Хаббарда, катающегося по полу
от смеха над дуростью человеческой -
Вечерами сидя за столом у себя в сторожке я вижу в черном стекле
собственное отражение, груболицего человека в грязной замызганной рубахе,
небритого, насупленного, губастого, глазастого, волосатого, носатого,
ушастого, рукастого, шеястого, адамовояблокастого, бровастого, отражение за
которым 7000000000000000 световых лет пустоты, бесконечной тьмы, испещренной
тусклыми световыми намеками, а в глазах моих блеск и я ору буйные песни о
луне на дублинских улицах, водке хей-хей, а потом печальные мексиканские, о
закате над горами, amor, corazon и tequila - Мой стол завален бумагами,
очень красиво если смотреть прищурив глаза, туманно молочный беспорядок,
груды бумажных листов, будто в забытом сне с картинками на бумаге,
вырисованными как в комиксах, как реалистическая сценка из старого русского
фильма, масляная лампа отбрасывает полутени - И вглядываясь в свое лицо в
оловянном зеркале я вижу синие глаза, загоревшее на солнце лицо, красные
губы, недельной давности небритость и думаю: "Сколько же мужества нужно,
чтобы жить перед лицом этой невыносимой безысходности -
"идиот-ты-же-умрешь"? Не-ет, все сказанное и сделанное действительно
становится неважным" - Так должно быть, так оно есть, Золотая Бесконечность
развлекается движущимися картинками - Мучает меня в тюряге, во что тогда мне
верить? - Мечом сечет конечности и что ж мне делать тогда, ненавидеть
Калингу до и после горестной смерти моей? - Пра есть сознание. "Покойся в
Священном Мире" -
И вот однажды мне вдруг приходит в голову включить радио послушать
общую трепотню и я слышу всеобщие восторги по поводу молнии, Рэйнджер
попросил Пата с Кратерной передать чтобы я немедленно с ним связался, что я
и делаю, и он говорит "Как у тебя там с молнией?" - Я говорю "Здесь наверху
ясная лунная ночь, северный ветер" - "Ага", говорит он чуть нервно и
встревожено. "Кажется ты в порядке" - Тогда только я вижу вспышку на юге -
Он хочет, чтобы я вызвал полевую группу с Большого Бобрового, я пытаюсь,
никто не отвечает - Внезапно ночь и радио взрываются воплями восторга,
вспышки на горизонте сверкают подобно предпоследней строфе Алмазной Сутры
(Алмазный Резец Обета Мудрости), вереск издает зловещие звуки, ветер в
стропилах сторожки полнеет подозрительнейшими дуновениями и кажется будто
шесть недель пустынного тоскливого уединения на Пике Одиночества подошли к
концу и я опять внизу, и все это из-за дальней молнии, дальних голосов и
доносящегося иногда дальнего бурчания грома - Луна продолжает сиять,
затягивается тучами гора Джек, но не Пик Одиночества, могу себе представить
как старина Джек-Снежные-Поля хмурится в их мраке - гигантское крыло летучей
мыши размером миль 30 на 60 медленно наползает, грозя вскоре погасить луну,
которая печально в туманной дымке гибнет у себя в колыбели - Я меряю шагами
ветреный двор и чувствую себя странно и радостно - молния желто выплясывает
над вершинами хребта, два пожара уже начались в Пасайтеновском Лесу как
сообщил захлебывающийся и восторженный Пат с Кратерной, он говорит "Я тут
отмечаю места, куда молния ударяет, веселые дела" что он вовсе делать не
обязан это не его район и не мой тоже более 30 миль отсюда - Прогуливаясь, я
думаю о Джерри Вагнере и Бене Фэгане, которые во время своего
смотрительского уединения писали стихи (на Старательской и Кратерной) и мне
хочется их повидать и еще чтобы не уходило странное чувство будто я уже
спустился с горы и вся эта тоскливая хреновина позади - Почему-то, может
из-за всей этой суматохи, меня невероятно затащило от открывания и
закрывания двери в хижину, она теперь кажется населенной, об этом пишутся
стихи, ванная, вечер перед выходными и люди этого мира, нечто, и можно
чем-то заняться или кем-то быть - И сегодня уже не просто Четверг Вечером 14
Августа в Одиночестве но Ночь Мира и Вспышек Молнии и в ней вышагиваю я
повторяя про себя строчки из Алмазной Сутры (ведь может же внезапно пасть
молния и поразить меня прямо в спальном мешке моем страхом Божиим или
сердечным приступом и гром грянет тогда прямо в мой громоотвод) - : "Когда
последователь учения вынужден сохранять любое, пусть даже ограниченное
суждение о реальности ощущения собственной отдельности, реальности ощущения
отдельности других людей, реальности ощущения отдельности живых существ,
реальности ощущения отдельности всеобщей сущности, тогда он хранит нечто
несуществующее" (в моем пересказе) и этой ночью более чем когда-либо мне
видна истинность этих слов - Для всех этих феноменов, то есть вещей
кажущихся, и всех ноуменов, то есть вещей как они есть, утеря Царства
Небесного (и не только) суть - "Сон, фантазм, пузырь на воде, тень, вспышка
молнии..."
"Я выясню и сообщу тебе -- оба-на, еще одна -- в общем, выясню и
сообщу, ух-ты, сообщу обстановку" говорит Пат по радио стоя возле своего
пожароискателя и отмечая крестиками места куда как ему кажется ударила
молния. Он говорит "оба-на!" каждые 4 секунды, по-моему со своими "оба-на!"
он ужасно забавен прямо как придуманный нами с Ирвином "Капитан Оба-на",
Капитан Корабля Дураков по сходням которого пробираются тайком на борт
всевозможные вампиры, зомби, таинственные странники и клоуны-арлекины и
когда корабль en route sur le voyage доплывает до края земли и собирается
перевалиться через край вниз, Капитан говорит "Оба-на!"
Пузырек, тень -
оба-на -
Вспышка молнии
"Оба-на", говоришь пролив суп на стол -- Конечно мало приятного, но
скользящий-сквозь-мир должен радоваться всему происходящему, быть
беззаботным пышущим радостью засранцем - (пышущим бедствием) - так что если
удар молнии разнесет Джека Дулуоза в его Одиночестве на куски, Старина
Татхагата насладится этим как оргазмом, вот и все
Пссст, пссст, говорит ветер, несущий грозу и пыль ко мне - Клик,
говорит громоотвод, получая разряд электричества от молнии ударившей в пик
Скэджит, могучая сила неслышно и бережно проскальзывает по моей защитной
мачте, проводам и растворяется в земле одиночества - Никакого грохота,
чистая смерть - Пссст, клик, и лежа в своей кровати я ощущаю как
содрогнулась земля - Кажется большой пожар бушует в пятнадцати милях к югу
восточнее Рубиновой горы и где-то возле ручья Пантеры, здоровенное оранжевое
пятно, в 10 часов электричество тянущееся к огню бьет в этот место опять и
пожар разгорается до катастрофических размеров, далекое бедствие и я не
удерживаюсь от "Ох-о-ох" -- Кто-то там выжигает себе глаза рыданиями?
Гроза в горах -
металл
Маминой любви
И в насыщенном электричеством воздухе что-то вдруг напомнило мне
Лэйквью Авеню около Лапин-Роуд где я родился одной грозовой летней ночью
1922 года, ночью песка на мокром тротуаре, наэлектризованных и блестящих
трамвайных рельсов, промокших лесов на заднем плане, апокалипсическая
паратоманоитическая[10] детская коляска гугукает на блюзовой веранде,
влажная, под грушевым глобусиком лампочки, и все это слышится мне в песнях
Татхагаты, песнях горизонтящихся молний и грома барабахающего из утробных
глубин, Храм в ночи -
Где-то около полуночи от непрерывного глядения во тьму за окном мне уже
везде мерещатся пожары, даже у себя под носом у самого Грозового ручья я
вижу три светящиеся ярко-оранжевые огненные вытянутости призрачного пламени,
которые вспыхивают и гаснут в моих напряженных и наэлектризованных зрачках -
Гроза то затихнет ненадолго то крутанувшись где-то в пространстве
обрушивается на мою гору опять и в конце концов я засыпаю - Просыпаюсь в
дождевую морось, серость, на небе к югу от меня обнадеживающие серебристые
просветы - на 177o 11'' где вчера был большой пожар я вижу теперь
странную коричневую заплатку на заснеженной горе отметившую где огонь
бушевал шипя под ночным дождем, возле Грозового и Коричного никаких
признаков ночных призрачных пожаров - Сочится туман, моросит дождь, такой
весь трепещущий и восхитительный день и в полдень я чувствую первозданность
Северной зимы принесенной ветром с Хозомин, ощущение Снега в воздухе,
железная сероватость и стальная синева скал - "Эгегей, ну и дела!" ору я моя
свою посуду после вкусного превосходнейшего завтрака с блинами и черным
кофе.
Дни проходят-
им не остановиться
И мне не понять
приходит мне в голову когда я обвожу кружочком 15 августа в календаре и
смотрю на часы, уже 11.30 и значит полдня уже прошло - Выйдя во двор влажной
тряпкой я оттираю от летней пыли свои полуразвалившиеся ботинки,
прогуливаюсь и размышляю - Петли двери в прихожую разболтались, из печной
трубы вывалился камень, настоящую ванну я смогу принять не раньше чем через
месяц и мне на это наплевать - Дождь опять начинается, теперь уж точно
зальет любой пожар - Во сне мне приснилось что я поругался с Эвелин, женой
Коди, что-то такое насчет их дочки, дело происходит в солнечном домике на
барже в солнечном Фриско, и она угощает меня самым злобным из всех
ненавидящих взглядов за всю историю человеческой ненависти и бьет
электрическим разрядом, от которого меня всего корежит до самых кишок, но я
почему-то не должен подавать вида что боюсь ее и продолжаю невозмутимо
разглагольствовать сидя в своем кресле - На той самой барже где в одном из
моих старых снов мать развлекала адмиралов - Бедная Эвелин, она слышит как я
соглашаюсь с Коди что с ее стороны было глупо отдать единственный в доме
торшер Епископу и ее сердце колотится над ее тарелками - Бедные сердца
человеческие, повсюду-то они колотятся.
В этот дождливый день чтобы сдержать обещание данное себе в тот
апрельский день когда Джерри приготовил для нас в своем домике в Милл-Волли
восхитительнейшее китайское блюдо из риса я делаю на жаркой печи обалденный
китайский кисло-сладкий соус состоящий из зеленой репы, кислой капусты,
меда, черной патоки, красного винного уксуса, свекольного рассола (очень
темного и горького) и пока все это булькает на плите и крышка на кастрюльке
с рисом начинает приплясывать, я выхожу во двор и говорю " Китайска обеда
всегда осень-осень холесая!" и вдруг вспоминаю отца и "Чин Ли" в Лоуэлле, я
вижу краснокирпичную стену за стеклом ресторанной кабинки и дождь, пахучий и
краснокирпичный дождь, дождь китайских обедов в Сан-Франциско, через унылые
равнины и горы я вспоминаю плащи и обнаженные в улыбке зубы, это необъятное
неотвязное видение подернуто скудными обрывками - тумана - тротуаров
городов, дыма сигар и звяканья монет за прилавком, и того как китайские
повара загребают круглым черпаком из котла рис, подносят к нему маленькую
китайскую чашу, переворотом черпака перекидывают в нее круглый комок
дымящегося риса и приносят в кабинку со всеми этими сумасшедшими
ароматнейшими соусами - "Китайска обеда всегда осень-осень холесая!" - и я
вижу поколения дождей, поколения дымящегося риса, поколения краснокирпичных
стен со старомодными красно неоновыми рекламами сверкающими на них теплыми
огнями кирпичной пыли, ах милый неописуемо зеленый рай светлых попугаев,
тявкающих дворняжек, старых Дзенских Безумцев с их приколами и китайских
фламинго, которые изображены на восхитительных вазах династии Минь и других
менее славных династий - Дымящийся рис, его аромат такой густой и древесный
и он чистый как облака, несущиеся над озерной долиной в сегодняшний день
"китайской обеды", когда ветер подталкивает их молочно-струящихся над
порослью молодых пихт к первозданным мокрым скалам
Мне снятся женщины, женщины в трусиках, женщины в комбинациях, одна из
них сидит возле меня стыдливо отодвигая мою расслабленную руку от места где
ее тело мягко закругляется но хоть я не делаю никаких усилий к этому так или
иначе но моя рука остается там, другие женщины и даже тетушки наблюдают за
мной - И в определенный момент эта мерзкая высокомерная стерва, которая
оказывается моей женой, встает и выходит в туалет, фыркнув и сказав что-то
пренебрежительное, я смотрю на ее узкую задницу - я последний дурак,
домашний узник, приговоренный вожделеть к ненавидящим меня женщинам, они
призывно возлагают свою плоть по всем диванам, комната превращается в котел
забитый мясом женских тел - сплошное безумие, я должен освободиться,
пережевать их всех, рвануть на товарняке вон отсюда[11] - Я просыпаюсь и
радуюсь что надежно защищен дикостью гор - И ради этой грушевидной пухлой
плоти с влажной дыркой я готов был просидеть ужасающие тысячелетия в серых
комнатах освещенных серым солнцем, окруженный полисменами и алиментщиками, у
дверей и в ожидании тюрьмы? Это кровоточащая комедия. - Великие Ступени
Мудрости горестного понимания свойственного Величайшей Религии оставляют
меня при виде гарема -- Эх, да что там гарем, все мы на небесах - благослови
же их всех их мычащие сердца - Некоторые агнцы женского пола, у некоторых
ангелов женские крылья и все это приходит к материнству так что простите мне
мою язвительность - извините мою похоть.
(Хрю хрю хрю)
22 августа для меня это очень важный день, именно 22-е число (много лет
подряд) было для меня днем важнейшим (по некоторым причинам) днем Первых
Скачек моего лоуэлльского детства, прыгают мраморные камушки детки играют в
зашибалку - Это произошло в конце лета той прохладной августовской порой,
когда звездными ночами деревья особенно густо темнеют за окном, прибрежный
песок становится прохладным и в нем поблескивают маленькие раковины
моллюсков а через Лунный лик проносится тень Доктора Сакса - Скачки
Могиканской Весны были захолустными скачками туманного Западного
Массачусетса, с нищенскими призами, потрепанной публикой, изможденными
лошадьми и грумами из Восточного Техаса, Вайоминга и старого Арканзаса - Они
проходили весной и в них обычно участвовали только никчемные
коняги-трехлетки, но вот Большой Августовский Кубок был популярнейшим
событием на него стекались сливки общества Бостона и Нью-Йорка и это было Ах
теперь когда лето кончилось, у результатов скачек, у имени победителя
появляется осенний аромат словно аромат яблок собранных уже в корзины в
Долине, аромат сидра и трагической конечности, и последней теплой ночью
солнце заходит за старыми конюшнями Могиканской и печальноликая луна сияет
сквозь первые железногустые облака Осени и скоро будет уже холодно и все
застынет -
Детские сны и мечтания, и весь мир этот есть ни что иное как большой
сон, сделанный из просыпающейся (почти проснувшейся!) материи - Что может
быть прекраснее -
Чтобы завершить, увенчать и драматизировать мое 22 августа - в этот
самый день в 1944-м был освобожден Париж и в этот жаркий нью-йоркский
полдень я был на 10 часов выпущен из тюрьмы чтобы жениться на моей первой
жене, где-то в районе Чэмберс-стрит, в сопровождении детектива с пистолетом
в кобуре - какая же пропасть лежит между меланхолично-печальным Ти-Пуссе[12]
с его прыгающими камешками, с его старательно вычерченными таблицами
результатов Могиканских Скачек и пышущей невинностью комнатой, и коренастым
моряком со злодейской рожей женящимся под полицейским конвоем в кабинете
судьи (потому что районный прокурор думал что невеста беременна) -
гигантская пропасть, я тогда так ужасно опустился, в том августе, что мой
отец не захотел бы даже разговаривать со мной, не говоря уж о том чтобы
попытаться вытащить меня из тюрьмы - И вот августовская луна сияет сквозь
лохмотья набежавших облаков уже не прохладно-августовских а
холодно-августовских и Осень присматривается к пихтам чьи силуэты видны в
послесумеречье на фоне далекого озера, небо снежно-серебряных и ледяных
цветов дышащее морозным туманом и скоро все будет кончено - Осень Долины
Скэджит, но мне никогда не позабыть еще более безумную Осень Долины Мерримак
когда серебряная стонущая луна сочилась брызгами холодного тумана и запахами
фруктовых садов и дегтярно-чернильные ночные скаты крыш густо пахли ладаном,
дымом горящих дров, дымом сжигаемых листьев, речным дождем, прихватывающим
сквозь штаны холодом, запахом открывающихся дверей, двери Лета
приоткрываются чтобы впустить ненадолго улыбающуюся яблочно ликующую осень,
за ней ковыляет искрящаяся старушка-зима - Таинственная магия первых осенних
дней которая вопреки многолетним молитвам местных сестер-монашек живет в
лоуэлльских переулочках - индейские духи в дуплах деревьев, в их корнях, в
самой земле, в глине, индейцы во всем - Что-то (но не птица) стремглав
проносится мимо -- Шлепки весел каноэ, озеро в лунном свете, силуэт волка на
гребне горы, цветок, утрата - Штабель дров, сарай, лошадь, ограда, забор,
мальчик, земля - Масляная лампа, кухня, ферма, яблоки, груши, дома с
привидениями, ели, ветер, полночь, старые одеяла, чердак, пыль - Изгородь,
трава, бревно, тропинка, старые увядшие цветы, шелуха от кукурузных
початков, луна, разноцветные лохмотья облаков, огни, магазины, дороги, ноги,
ботинки, голоса, витрины, двери открывающиеся, двери закрывающиеся, одежда,
тепло, конфеты, холод, страх, тайна -
Насколько я знаю из всего моего нынешнего опыта, эта так называемая
Лесная Служба не более чем прикрытие, с одной стороны замаскированная
попытка правительства ввести тоталитарное ограничение доступа людей в леса,
когда вам говорят, не смейте ставить здесь палатки, не смейте здесь
мочиться, делать то-то и то-то незаконно а вот то-то и то-то вы себе
позволить можете, здесь в Даосской Первобытной Глуши, в Золотом Веке и
Тысячелетнем Прошлом Рода Человеческого, а с другой стороны форма защиты
интересов лесопромышленников в результате чего леса год за годом в
"сотрудничестве" с Лесной Службой вырубаются всякими там компаниями типа
Бумажных Салфеток Скотта а Лесная Служба тем временем гордо оповещает о том
сколько во всем Лесу кубических футов древесины (как будто это означает что
у вас лично появится хотя бы кубический дюйм чтобы поставить туда палатку
или помочиться) и, как результат, люди всего мира подтирают себе задницы
прекрасными деревьями - А что касается молний и пожаров, то что теряет от
лесного пожара отдельно взятый американец? и как Природа справлялась с этим
на протяжении миллионов лет? - Размышляя об этом я лежу на животе на скамье
в лунной ночи и ощущаю бездонный ужас этого мира, во всех его самых паршивых
местах вроде перекрестков ричмонд-хиллских улиц за Ямайка-Авеню и к
северо-западу от Ричмонд-Хилл-Центра, кажется именно туда я шел одной жаркой
летней ночью когда Ма (в 1953-м) была на юге в гостях у Нин, там я
прогуливался и вдруг из-за того видимо что был в глубокой депрессии, вроде
той что мучила меня однажды зимней ночью когда я так же вот бродил за день
до смерти отца где-то в этом районе и позвонил Маделайн Уотсон, чтобы
назначить ей свидание и узнать выйдет ли она за меня замуж, внезапный
приступ безумия которым подвержен я, "сумасшедший бродяга и ангел" -- я
вдруг осознал что нет на всей земле такого места где этот бездонный ужас
рассеивался бы (Маделайн была удивлена, перепугана и сказала что у нее уже
есть постоянный парень, наверное до сих пор через много лет все еще
недоумевает зачем я ей звонил и какая муха меня укусила) (а может тайно
любит меня) (у меня только что было видение ее лица на кровати возле меня,
эти прекрасно-трагические черты смуглого итальянского лица, такого
исчерченного дорожками слез, такого целуемого, округлого, милого, такие
всегда нравились мне) -- и подумал что даже живи я в Нью-Йорке, поджидал бы
там меня бездонный ужас бледных ноздреватых лиц телевизионных актеров в
узких серебристых галстуках на светских приемах и безысходная унылость их
риверсдэйл-драйвских квартир со сквозящими плачущими ветрами на
Восьмидесятых улицах или холодный восход на Пятой Авеню с ее пустыми пивными
банками аккуратно выставленными во дворах возле мусоросжигателей, холодная,
безнадежная и очень зловещая розоватость неба над когтистыми деревьями
Центрального Парка, нигде ни отдохнуть ни согреться потому что ты не
миллионер а даже если бы ты им был то всем на это наплевать - Бездонный ужас
сияющей над озером Росс луны, пихты бессильные помочь - Бездонный ужас
Мехико-Сити гнездящийся в госпитальных садах и изнуренные работой индейские
дети за рыночными лотками чудовищно поздним субботним вечером - Бездонный
ужас Лоуэлла с цыганами в пустынных лавках на Миддлсекс Стрит и
безнадежность тянущаяся над ними вдоль главной ветки железной дороги "B&M"
пересекаемой Принстонским Бульваром где деревья которым все равно растут
около безразличной реки - Бездонный ужас Фриско, улицы Норт-Бич туманным
утром в понедельник и отрешенные итальянцы, покупающие на углу сигары или
просто глазеющие на старых параноидальных негров болезненно подозревающих
весь мир в пренебрежении к себе или даже кретины-интеллектуалы которым
повсюду мерещатся агенты ФБР и поэтому они подчеркнуто избегают тебя
оставляя стоять на отвратительном ветру - белые дома с большими пустыми
окнами, лицемерные телефоны - Бездонный ужас Северной Каролины, маленькие
улочки среди краснокирпичных домов по которым зимним вечером возвращаешься
домой из кино - маленькие городки Юга в январе -- Ооо, в июне - Джун[13]
Иванс мертва, прожив жизнь в иронии, все в порядке, все хорошо, говорит ее
заброшенная могила подозрительно косясь на меня в лунном свете, все в
порядке, все полностью в порядке, все бесповоротно в порядке - Бездонный
ужас Чайнатауна на заре когда гуляки дубасят по мусорным бакам а ты
проходишь пьяный и тебе стыдно и мерзко - Бездонный ужас повсюду, я
прямо-таки вижу Париж, Экзистенциалисты мочатся с набережной[14] -
Сострадание - суть печальное понимание - Я освобождаю себя от попыток быть
счастливым - Что бы ты ни делал это лишь принижение одного за счет другого,
ты ценишь то-то и отрицаешь то-то, вверх-вниз, но если ты подобен пустоте то
тебе надо лишь созерцать пространство и хотя в этом пространстве ты видишь
упрямых людей в излюбленных ими хвастливых личинах и защитных скорлупках
пренебрежительно фыркающих и самодовольных пассажиров одного парома на
другой берег ты все так же будешь созерцать это пространство чья форма --
пустота, а пустота - форма - О золотая бесконечность, эти бедолаги лишь
часть твоей сущностной игры, прими же их и покори своей истиной что всегда
истинна всегда - простите меня недотепы-мои-люди - Я думаю следовательно я
умираю - Я думаю следовательно я рождаюсь - Позвольте мне быть пустотой -
Когда мальчик замерший и оглушенный внезапным видением не слышит как дружок
его окликает тот толкает его он не шевелится; в конце концов дружок смотрит
на него в изумлении видя как чист и истинен его транс - никогда тебе не
стать снова таким же чистым и не вернуться после такого вот прозрения
радостно светясь светом любви, ангелом из сна
Короткая утренняя перекличка по смотрительскому радио, смех и
воспоминания - 7 утра, ясное солнечное утро, и я слышу: "Это 30 десять
восемь сегодня. Сейчас 30 чисто" Что означает станция 30 вышла на
сегодняшнюю связь. Потом: "Это 32 тоже десять восемь сегодня" сразу после.
Потом: "Это 34, десять восемь". Потом: "Это 33, десять семь на 10 минут"
(Отключается на 10 минут). "До полудня, ребята"
Звучат сквозь помехи ясным ранним утром голоса парней из колледжа и я
вижу как сентябрьскими утрами в кампусе они в своих новеньких кашемировых
свитерах с новенькими книжками подмышкой идут по влажным от росы газонам,
перебрасываясь такими же шуточками, их жемчужные лица, идеальные зубы и
приглаженные волосы, кажется, что молодость может быть только такой и
невозможно себе представить что где-то далеко неряшливые бородатые юнцы
громыхают утварью в своих бревенчатых хижинах и сквернословя таскают ведрами
воду - нет, существуют лишь свежие милые молодые люди с отцами - дантистами
или знаменитыми профессорами на пенсии, легко и радостно ступающие длинными
шагами по первозданным лужайкам к занимательным коричневым полкам библиотеки
колледжа - а черт, да что за ерунда, когда сам я был мальчиком из колледжа я
дрых до трех дня и установил новый рекорд Колумбийского университета по
прогулам и до сих пор мне часто снится это что я позабыл где какие занятия и
какие преподаватели их ведут и брожу потерянно как турист в развалинах
Колизея или Лунной Пирамиды среди громадных заброшенных призрачных зданий,
слишком изысканных и призрачных чтобы там могли проводиться занятия - Что ж,
маленькие горные пихты в 7 часов утра безразличны к подобным вещам, они лишь
благоухают свежестью.
Октябрь всегда был для меня прекрасным времечком (стучу по дереву)
поэтому я столько говорю о нем - Октябрь 1954 был особо спокойным, помню как
я тогда начал курить трубку сделанную из кукурузной кочерыжки (живя на
Ричмонд-Хилл с мамой) сидя ночами и сочиняя одну из моих тщательных книжек
(осторожных книжек) попыток описать Лоуэлл как он есть в его цельности, варя
себе по ночам cafe-au-lait из горячего молока и Nescаfe, и в конце концов
сев на автобус на Лоуэлл, и когда я прошелся по населенным призраками улицам
моего детства попыхивая своей ароматной трубкой, грызя крепкие красные
макинтошевские яблоки, в своей японской байковой рубашке серобурмалиновой
смеси цветов под светло-голубой курткой, в белых ботинках с креповым ободком
(и черной каучуковой подошвой), то все по-сибирски бесцветные обитатели
Сентровилля пялились на меня давая понять что являющийся нормальным для
Нью-Йорка вид был шокирующим и даже как бы женственным в Лоуэлле, хотя мои
коричневые вельветовые штаны были ничем не примечательным старым барахлом -
Да, коричневый вельвет и красные яблоки и моя кукурузная трубка и большая
пачка табака в кармане, и поэтому попыхивая трубкой но не затягиваясь, я
ходил и пинал старые скопившиеся в водостоках листья как в те старые времена
когда мне было четыре года, таким же лоуэлльским октябрем, и эти
великолепные ночи в комнате местного дешевого отеля ("Станция Чэмберс" возле
старого станционного здания) когда ко мне приходило полное буддистское и
просветленное принятие этого мира как сна - прекрасный октябрь закончившийся
возвращением в Нью-Йорк через осыпанные листьями городки с белыми
колокольнями, старой коричневой иссохшей землей Новой Англии и кокетливыми
молоденькими студентками у дверей автобуса, прибывающего в Манхэттен на
сверкающий Бродвей в 10 вечера, и я покупаю пинту дешевого вина (портвейна)
и брожу и пью и пою (продираясь сквозь двери и раскопанную 52-ю улицу) пока
на Третьей Авеню не встречаю и не кого нибудь а Эстеллу мою старую любовь с
толпой людей среди которых ее новый муж Харви Маркер (автор Нагих и
обреченных), поэтому я не показываю вида что заметил ее а просто поворачиваю
в ту же сторону, любопытные взгляды, и я врубаюсь как необузданны улицы
Нью-Йорка, думая: "Старый пасмурный Лоуэлл такой же как всегда, взгляни как
люди Нью-Йорка живут в вечном карнавале, празднике и кутежах Субботнего
Вечера - а чем еще заниматься в этом безнадежном одиночестве?" И я рву в
Гринвич-Вилледж в богемный кабак "Монмартр" уже сильно поднабравшийся и
заказываю пиво в тусклом свете среди интеллектуалов-негров, хипстеров,
торчков и музыкантов (Аллена Игера) и около меня сидит парнишка-негр в
берете, говорящий мне "А чем ты вообще занимаешься?"
"Я величайший писатель Америки"
"А я величайший джаз-пианист в Америке", говорит он и мы пожимаем друг
другу руки, пьем за это и он отбарабанивает мне на пианино странные новые
аккорды, безумные атональные новые аккорды, в старых джазовых композициях -
Бармен малыш Эл заявляет что это круто - Снаружи манхэттенская октябрьская
ночь и на прибрежных оптовых рынках горят костры в бочках оставленных
портовыми грузчиками и я останавливаюсь у них погреть руки и делаю глоток
два глотка из бутылки и слышу бвуумм кораблей в канале, я поднимаю глаза а
там, те же самые звезды что и над Лоуэллом, октябрь, старый меланхоличный
октябрь, нежный, любящий и грустный, и я знаю что рано или поздно и он
увяжется в совершенный букет любви, так мне кажется, и я поднесу его Господу
моему Татхагате, Богу, говоря "Господи, Ты возликовал - и буду я славить
тебя за то что ты научил меня этому - Господи, теперь я готов к большему - И
на этот раз я не стану хныкать - На этот раз я сохраню сознание в чистоте
перед лицом того что оно есть Пустота Твоих Форм"
... Мир этот, осязаемая мысль Бога ...
За всю грозу так и не пролилось ни капли дождя, молнии ударяли в сухую
древесину и пожары начали вспыхивать везде по всей необъятной глуши, и
только потом начался ливень прибивший огонь ненадолго - От одного из этих
пожаров разгоревшегося на Пекарской реке вниз по Малому Бобровому прямо подо
мной ползет большое облако мутного дыма из-за которого я ошибочно решаю что
там тоже начался пожар но они прикидывают в каком направлении лежат долины и
в какую сторону относит дым - Еще во время грозы я вижу красное зарево над
Пиком Скэджит, позже исчезнувшее, через четыре дня с самолета там обнаружили
выжженный акр земли но это в основном сухостой из-за него-то и дымит в
районе Трех Дурней - Но вот начинается большой пожар у Громового Ручья и я
вижу его дым вздымающийся в 22 милях к югу от меня на Рубиновом хребте -
Сильный юго-западный ветер раздувает его с двух акров в 3 часа до
восемнадцати в 5, радио беснуется, лесничий моего округа добряк Джин О`Хара
вздыхает по радио над каждым новым сигналом - В Беллингхэме восемь
пожарников-парашютистов готовы к десанту в труднодоступные места - А наши
собственные скэджитские подразделения перебрасываются с Большого Бобрового
на лодках по озеру и дальше и дальше длинная горная тропа к большому пожару
- Сегодня солнечный день с сильным ветром и самой низкой за год влажностью -
Впечатлительный Пат Гартон с Кратерной решает вначале что большой пожар
находится ближе к нему чем на самом деле около Ухающей Совы но ехидный
иезуит Нед Гауди со Старательской подтверждает вместе с самолетом точное
место и это оказывается "его" пожар - все эти ребята ведут себя как
смотрители-карьеристы так ревниво они относятся к этим вещам - "твой" или
"мой" пожар, как будто - "Джин, ты там?" спрашивает Говард с Дозорной Горы,
он передает слова бригадира скэджитской команды стоящего с портативным радио
у пожара и пожарных стоящих под недоступной отвесной скалой и
рассматривающих полыхающий на ней пожар - "почти перпендикулярно - Эй
вызывает 4, он говорит что наверно можно спуститься с вершины, скорее всего
понадобятся веревки и нельзя ли взять с собой снаряжение" - "Окей",
подтверждает О`Хара "скажи ему чтобы был наготове -- Четвертый вызывает 33"
- "33" - "Маккарти уже добрался из аэропорта?" (Маккарти вместе с большой
шишкой из Лесной Службы летают над пожаром), 33 должен связаться с
аэропортом и выяснить что к чему "Первый вызывает 33" - повторяется четыре
раза - "Ответ на запрос четвертого, никак не могу соединиться с аэропортом"
- " Окей, спасибо" - Но выясняется что Маккарти либо в беллингхэмском офисе
либо дома, судя по всему все это его мало заботит ведь это не его пожар -
О`Хара откликается, добродушнейший человек, ни одного грубого слова от него
не слышал (не то что начальственный зверем глядящий Герке) и я думаю что
если уж суждено мне заметить в сей решающий час какой-нибудь пожар надо
будет предварить свое сообщение словами "Как ни ненавистна мне мысль о том,
чтобы обрушить на вас груз бед сих - " - А тем временем природа безмятежно
пылает, природа сжигает природу - А я - я сижу и обедаю лапшей с крафтовским
сыром, пью крепкий черный кофе, наблюдаю как в 22 милях от меня валит дым и
слушаю радио - Осталось всего три недели и скоро я отправлюсь в Мексику - В
шесть вечера когда солнце еще припекает но ветер сильный, надо мной
появляется самолет, "Скидываем тебе новые батареи", сообщает радио, я выхожу
и машу им рукой, они машут в ответ как Линдберг[15] со своего аэроплана
поворачивают и описывают круг над моим хребтом скидывая с небес
чудодейственный тюк который выстреливает из себя парусиновый парашют и
плывет далеко в сторону от цели (сильный ветер) и пока я затаив волнение
наблюдаю за ним его начинает нести прямо за кромку хребта в 1500-футовое
Грозовое Ущелье но милосердные маленькие пихты цепляются за парашют и
тяжелый тюк свисает со скалы - домыв посуду я беру свой пустой рюкзак и
спускаюсь вниз, нахожу посылку, тяжеленную, засовываю ее в рюкзак и отрезав
парашют с постромками потея и поскальзываясь на гальке со свернутым
парашютом подмышкой мрачно карабкаюсь вверх на вершину к моей милой старой
сторожке - за пару минут пот высыхает и дело сделано - Я гляжу на далекие
огни в далеких горах и вижу маленькие воображаемые соцветия иллюзий зрения о
которых говорится в Сурангама-Сутре и поэтому я знаю что все это лишь
эфемерный чувственный сон -- Какая практическая польза от этого знания? -- А
разве в чем-то есть практическая польза?
Именно это-то и подразумевается под Майей, то что нас дурачат заставляя
поверить в реальность ощущения видимости вещей - Майя на санскрите означает
обманчивость - И почему все же мы продолжаем позволять себя обманывать даже
когда знаем об этом? - Благодаря силе привычки, и мы передаем ее от
хромосомы к хромосоме нашим детям, но даже когда последнее живущее на земле
существо слижет свою последнюю каплю воды с подножия экваториальных ледяных
полей, сила привычки Майи будет неизменной, воплощенной в камнях и в горести
- Каких камнях? Какой горести? Их нет здесь, нет сейчас, их не было никогда
- Простейшая в этом мире истина недоступна нашему пониманию из-за ее
безграничной простоты, т.е. чистой пустотности - Нет ни пробуждающих
учителей ни истин - И если 400 обнаженных Нагов[16], торжественным миражом
явятся сюда через хребет и скажут "Нам было сказано что Будда будет найден
на вершине этой горы - и мы шли много лет, прошли много стран, и вот мы
здесь - есть ли здесь еще кто-нибудь кроме тебя?" - "Нет" - "Тогда Будда -
это ты" и все 400 распрострутся поклоняясь мне а я буду сидеть в совершенной
алмазной тишине - даже тогда, хоть я и не удивлюсь (к чему удивление?), даже
тогда я буду знать что Будд нет, нет пробуждающих, нет Истины, нет Дхармы, и
все лишь обманчивость Майи
Утро в Грозовом Ущелье - чудесная мечта - фьюти-фьюти-фьють птиц,
длинные сине-бурые тени первозданной туманной росы, солнце благоразумно
прячется за пихтами, постоянное бормотание ручья, опухшие лентяи деревья с
затуманенными верхушками сгрудились вокруг озерца куда вереницами идущих в
церковь прихожан капают капли росы, и вся эта золотисто-оранжевая
фантасмагория, все эти эфемерности небесных светящихся цветов возникающие в
моем глазном яблоке по воле Обманчивости, барабанные перепонки моих ушей что
плавно трепещут превращая услышанное в звуки и даже сам дотошный комарик
моего разума, различающего и досаждающего, старое сухое дерьмо животных в
сарае, бзиньк-бзиньк утренних мух, несколько облачных барашков, безмолвный
Восток Амиды[17], мощный толчок материи оставивший после себя бугры холмов,
все это один причудливый плавный сон запечатленный (запечатленный?) в
окончаниях моих нервов, и более того, Боже мой зачем мы живем чтобы быть
одураченными? - Зачем мы дурачим себя чтобы жить - дыры в древесном шалаше,
сочащаяся с небес вода терзает печень, древесина от горной долины до бумажки
никчемной, грязь от сухости до дождящего напора, мокни, внутрь, вверх,
круговерть, зеленые листья червями продираются наружу в непрерывном усилии -
попииискивающий маленький жучок раскачисто медлит похныкивает напевает
утренняя пустотность наполненная loi[18] - Хватит, я уже все сказал и нет
даже Пустынного Одиночества и даже этой страницы и даже слов а есть лишь
омертвелые представления о вещах возросшие на силе твоей привычки - О
Невежественные братья, О Невежественные сестры, О я Невежественный! об этом
ничего нельзя написать, потому что все и есть ничто, и поэтому об этом можно
писать бесконечно! - Время! Время! Вещи! Вещи! Почему? Почему? Глупцы!
Глупцы! Три Дурня Двенадцать Дурней Восемь и Шестьдесят Пять Миллионов
Циклов Бесчисленных Циклов Глупцов! Четеващеотменянадо, а? - И это было так
для наших пращуров, давно уже умерших, давно уже превратившихся в грязь,
одураченных, одураченных, и нет никакой такой Великой Премудрости, которую
мы получаем вместе с их хромосомными палочками - И так будет для наших
прапраправнуков, которые долго еще не родятся, долго еще будут тела их
пространством, грязь и пространство, грязь ли, пространство ли, какая
разница? - вставайте, давайте же, детки, просыпайтесь, - вставайте, пришло
время, просыпайтесь -- вглядитесь получше, вас дурачили - посмотрите
поближе, вы спите, - давайте же, смотрите, вставайте, теперь - быть или не
быть, какая разница? - Гордость, злоба, страх, презрение, пренебрежение,
индивидуальность, подозрительность, дурные предчувствия, гроза, смерть, горы
- КТО СКАЗАЛ ВАМ ЧТО РАДАМАНТ БЫЛ ЗДЕСЬ? КТО ПИШЕТ ЧУШЬ О КТО ЗАЧЕМ ПОЧЕМУ
ЧТО ПОДОЖДИ О ВЕЩЬ И И И И И И И И И И И И И И МОДХГРАГА НА ПА РА ТО МА НИ
КО СА ПА РИ МА ТО МА НА ПА ШУУУУ БИЦА РИИИИ - - - - - - И О О О О - М М М -
ВОТ - ВОТ - ВОТ - - ВОТ - ВОТ - ВОТ -- ВОТ - ВОТ - ВОТ - ВОТ - ВОТ - ВОТ -
ВОТ - ВОТ - ВОТ - ВОТ - ВОТ - ВОТ -
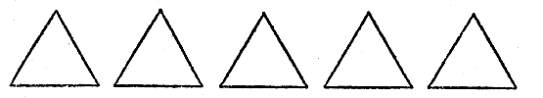 КТО ЧТО ЗАЧЕМ КОГДА ИЛИАТО РAT
КТО ЧТО ЗАЧЕМ КОГДА ИЛИАТО РAT
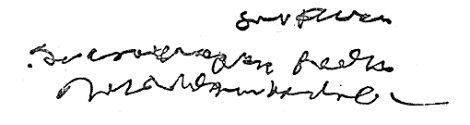 После никогда не случилось Вот все что есть в том чего нет - Бумм
Вверху в долине
и внизу у горы
Птица - Про-снись! Про-снись! Про-снись! Про- Проснись проснись
проснись ПРОСНУЛАСЬ
ПРОСНУЛАСЬ ПРОСНУЛАСЬ
ПРОСНУЛАСЬ
СЕЙЧАС
Вот мудрость
тысячелетней крысы
- Отличного экземпляра, прекрасной териоморфной[19]
Крысы
тьма тьма тьма тьма взмах взмах взмах взмах тьма тьма тьма тьма
взмах взмах взмах взмах
тьма тьма тьма тьма
взмах взмах взмах
Меч и т.п., плоскость весла или бедствия, порывистый юноша пахнет
насильем, плавный ветра порыв; взорванный листьев поток, воздуха, звука
трубы или горна, упреком заслуженный Взрыв что порох ружейный, обвиненье,
Упадка вина очевидна; порицание и Осужденье Биения гама крикливого,
Горячечно бредьте бессвязно, горите преступным пламенем, отбрасывайте
отблески пламени, и стихните, безупречно невинные, светочем, факелом,
безупречны, струенье огня безупречного, что рвется наружу рвущийся к
действию, упрека достоинство, укоряющий пламень, Очерти им деревья,
дотронься коры, очерти, обесцветь, обели, и так ты наметишь тропу или путь,
кали их, кали и очисть, орехи от скорлупы, обведи же кору белизной,
деревьям, белопятная их лик белизны, лошадь, корова, и тоже белы,
blancmange[20], и подобны гербу, их миру яви ты Медузой, морским древним
мхом, объяви громогласно, значеньем гербов, накрахмаль кукурузным или
крахмалом иным, гербом разукрась, утончи, насыться искусством нарисовано
рисовым абрисом ласковых, мягких, бальзамом умащенных рук утонченных,
геральдиста искусство изящество в очерчивании иль описании поверхностей, рук
ластящихся, абриса рук, талант воплощения гордости, расплыв артистической
бледности, умеренность, белая ласка, грациозная милая, бледная маска, лести
бесцветность, беззащитная мира чистотность, белая последняя бледность,
безрадостна холодная точеность, не вырисована не напечатана и не, отметины
бесцветна оголенность, пустынная, пустая, полая, бледна, туманной мутности
бесхитростно полна, от нее слабеет взгляд, бумага мягчеет и полнится влагой,
в ней селятся туман и облака, форма прозрачна и пуста, жаркая и влажная
игра, никчемна темна и смутна, сияет незаполненная пустота, пустотность ума
размытость пятна, белесый звук овечьего блеянья, одеяльно-шерстяного
овечьего блеянья, на все стойло блеянье, покрывалом над лошадиным
кровоистечением кровотечение течение течение крови течение, большим
покрывалом или одеялом нарисована кровь как она вытекала...
И чьей-то кровию темнеет покрывало
Постыдный рев прогоркл как деготь
Так горн вопиет позорящим гласом
Корежит лесть землю вкрадчивым треском И медленна речь та что льстиво
загладит
пятна вины
так говорится
В Ирландском Замке Льстецов
Взрывайся, мольбою разразись или прославь
Ту часть узды, что в верности[21]
Пребудет
Россказней болтуна
Пустая похвальба -
борьба, удар в лицо иль, хм, бравада
Собери на застолье побольше господ благородных
и к мясу подливку погуще подай,
Чтобы неторопливо торговые сделки
потом удавались,
Неплохо прожарено мясо
Теперь понимаешь?
Луна - луна выглядывает из-за горы подглядывая за миром большими
печальными глазами, затем оглядывается по сторонам показав свое безносие,
океанические щеки и пятнистый подбородок, и О этот круглый скорбный лик
старины Луны, ОО, и эта кривая улыбочка печального понимания обращенная ко
мне, к тебе - она такая замученная как женщина которая целый день занималась
уборкой и не успела отмыть себе лицо - она смеется - и говорит "И стоило
ради этого сюда вылезать?" - Она говорит "ОО ла ла" и в уголках глаз ее
возникают морщинки и она глядит поверх горных хребтов, желтая как слепой
лимон, и О она печальна - Она позволила Старику Солнцу пройти первым потому
что целый месяц до этого он преследовал ее, и вот она выходит поиграть с ним
в кошки-мышки, опаздывая - У нее румяный размазанный рот как у маленьких
девочек не умеющих пользоваться помадой - На лбу шишка огненного камня - Она
лопается по швам от лунной дородности и лунного жира и золотого лунного огня
и над ее Вечными Золотыми ангелами сыпется дождь эфемерных цветов - Она есмь
Господь и Его Величество Лесбийский Король пурпурно-синих просторов
чернильного королевства - И хотя солнце оставило свой разрушительный отблеск
она выглядит невозмутимой и уверенной что через минуту его огонь в очередной
раз уступит и тогда она посеребрит ночь и взойдет выше, она торжествует
катящимся на восток коленопреклонением земли -- На ее крупном рябом лице я
вижу свадебные розы (и планетарные кольца) - Мешанина морей метит ее гладкую
кожу, нрав ее подобен сухой пыли и мохнатым камням - Соломенные комары
улыбающиеся с луны зудят бззз - Она носит легкую лавандовую вуаль
приглушающую сверкание огней, изящнейшую шляпку с вплетенными розами и
гирляндами и одетую набекрень, она сверкает и вот сейчас спадет как волосы
чистейшего огня и станет вскорости вуаль ее тускла скрыв круглую тяжелую
кручину - хрясь ух ты ну дела и черепом кругла изогнута костяная тоска
таится в мутно-серебристой пряже сочленений лунных - что схожи с насекомой
лапкой -- И буйным черным пурпуром вуаль туманит запад, лик затмит, завесой,
тайной, шшш - Скоро скоро затмит она лик свой темной вуалью -- и вместо
выразительной печали воцарится тайна -- А сейчас ровной ухмылкой луна
выражает свое округлое почтение нам лунатикам -- Что ж, я не против - Сейчас
это всего лишь старый степенный шар дородно вплывающий в поле зрения потому
что все мы вращаемся вверх нелепыми тормашками в планетарном вращении и все
придет на круги своя, так к чему тогда все эти позы и красивости? - В конце
она сбрасывает свою вуаль ради более чистых пастбищ, она уходит в иные
сферы, ее вуаль опадает маленькими полосками шелка мягкими как глаза
младенца и мягче его снов об агнцах и феях -- Увальни облаков рябят ее
подбородок - Ее круглые усики подкручены вверх и топорщатся как у Чарли
Чаплина - Ни одно дуновение ветерка не сопровождает ее восход и запад
остается недвижно-угольным - и юг розовато-лилов и героически-величав -
Север: белые полосы и лавандовые шелка льда и арктических неколебимых
пустошей --
Луна - это часть меня
После никогда не случилось Вот все что есть в том чего нет - Бумм
Вверху в долине
и внизу у горы
Птица - Про-снись! Про-снись! Про-снись! Про- Проснись проснись
проснись ПРОСНУЛАСЬ
ПРОСНУЛАСЬ ПРОСНУЛАСЬ
ПРОСНУЛАСЬ
СЕЙЧАС
Вот мудрость
тысячелетней крысы
- Отличного экземпляра, прекрасной териоморфной[19]
Крысы
тьма тьма тьма тьма взмах взмах взмах взмах тьма тьма тьма тьма
взмах взмах взмах взмах
тьма тьма тьма тьма
взмах взмах взмах
Меч и т.п., плоскость весла или бедствия, порывистый юноша пахнет
насильем, плавный ветра порыв; взорванный листьев поток, воздуха, звука
трубы или горна, упреком заслуженный Взрыв что порох ружейный, обвиненье,
Упадка вина очевидна; порицание и Осужденье Биения гама крикливого,
Горячечно бредьте бессвязно, горите преступным пламенем, отбрасывайте
отблески пламени, и стихните, безупречно невинные, светочем, факелом,
безупречны, струенье огня безупречного, что рвется наружу рвущийся к
действию, упрека достоинство, укоряющий пламень, Очерти им деревья,
дотронься коры, очерти, обесцветь, обели, и так ты наметишь тропу или путь,
кали их, кали и очисть, орехи от скорлупы, обведи же кору белизной,
деревьям, белопятная их лик белизны, лошадь, корова, и тоже белы,
blancmange[20], и подобны гербу, их миру яви ты Медузой, морским древним
мхом, объяви громогласно, значеньем гербов, накрахмаль кукурузным или
крахмалом иным, гербом разукрась, утончи, насыться искусством нарисовано
рисовым абрисом ласковых, мягких, бальзамом умащенных рук утонченных,
геральдиста искусство изящество в очерчивании иль описании поверхностей, рук
ластящихся, абриса рук, талант воплощения гордости, расплыв артистической
бледности, умеренность, белая ласка, грациозная милая, бледная маска, лести
бесцветность, беззащитная мира чистотность, белая последняя бледность,
безрадостна холодная точеность, не вырисована не напечатана и не, отметины
бесцветна оголенность, пустынная, пустая, полая, бледна, туманной мутности
бесхитростно полна, от нее слабеет взгляд, бумага мягчеет и полнится влагой,
в ней селятся туман и облака, форма прозрачна и пуста, жаркая и влажная
игра, никчемна темна и смутна, сияет незаполненная пустота, пустотность ума
размытость пятна, белесый звук овечьего блеянья, одеяльно-шерстяного
овечьего блеянья, на все стойло блеянье, покрывалом над лошадиным
кровоистечением кровотечение течение течение крови течение, большим
покрывалом или одеялом нарисована кровь как она вытекала...
И чьей-то кровию темнеет покрывало
Постыдный рев прогоркл как деготь
Так горн вопиет позорящим гласом
Корежит лесть землю вкрадчивым треском И медленна речь та что льстиво
загладит
пятна вины
так говорится
В Ирландском Замке Льстецов
Взрывайся, мольбою разразись или прославь
Ту часть узды, что в верности[21]
Пребудет
Россказней болтуна
Пустая похвальба -
борьба, удар в лицо иль, хм, бравада
Собери на застолье побольше господ благородных
и к мясу подливку погуще подай,
Чтобы неторопливо торговые сделки
потом удавались,
Неплохо прожарено мясо
Теперь понимаешь?
Луна - луна выглядывает из-за горы подглядывая за миром большими
печальными глазами, затем оглядывается по сторонам показав свое безносие,
океанические щеки и пятнистый подбородок, и О этот круглый скорбный лик
старины Луны, ОО, и эта кривая улыбочка печального понимания обращенная ко
мне, к тебе - она такая замученная как женщина которая целый день занималась
уборкой и не успела отмыть себе лицо - она смеется - и говорит "И стоило
ради этого сюда вылезать?" - Она говорит "ОО ла ла" и в уголках глаз ее
возникают морщинки и она глядит поверх горных хребтов, желтая как слепой
лимон, и О она печальна - Она позволила Старику Солнцу пройти первым потому
что целый месяц до этого он преследовал ее, и вот она выходит поиграть с ним
в кошки-мышки, опаздывая - У нее румяный размазанный рот как у маленьких
девочек не умеющих пользоваться помадой - На лбу шишка огненного камня - Она
лопается по швам от лунной дородности и лунного жира и золотого лунного огня
и над ее Вечными Золотыми ангелами сыпется дождь эфемерных цветов - Она есмь
Господь и Его Величество Лесбийский Король пурпурно-синих просторов
чернильного королевства - И хотя солнце оставило свой разрушительный отблеск
она выглядит невозмутимой и уверенной что через минуту его огонь в очередной
раз уступит и тогда она посеребрит ночь и взойдет выше, она торжествует
катящимся на восток коленопреклонением земли -- На ее крупном рябом лице я
вижу свадебные розы (и планетарные кольца) - Мешанина морей метит ее гладкую
кожу, нрав ее подобен сухой пыли и мохнатым камням - Соломенные комары
улыбающиеся с луны зудят бззз - Она носит легкую лавандовую вуаль
приглушающую сверкание огней, изящнейшую шляпку с вплетенными розами и
гирляндами и одетую набекрень, она сверкает и вот сейчас спадет как волосы
чистейшего огня и станет вскорости вуаль ее тускла скрыв круглую тяжелую
кручину - хрясь ух ты ну дела и черепом кругла изогнута костяная тоска
таится в мутно-серебристой пряже сочленений лунных - что схожи с насекомой
лапкой -- И буйным черным пурпуром вуаль туманит запад, лик затмит, завесой,
тайной, шшш - Скоро скоро затмит она лик свой темной вуалью -- и вместо
выразительной печали воцарится тайна -- А сейчас ровной ухмылкой луна
выражает свое округлое почтение нам лунатикам -- Что ж, я не против - Сейчас
это всего лишь старый степенный шар дородно вплывающий в поле зрения потому
что все мы вращаемся вверх нелепыми тормашками в планетарном вращении и все
придет на круги своя, так к чему тогда все эти позы и красивости? - В конце
она сбрасывает свою вуаль ради более чистых пастбищ, она уходит в иные
сферы, ее вуаль опадает маленькими полосками шелка мягкими как глаза
младенца и мягче его снов об агнцах и феях -- Увальни облаков рябят ее
подбородок - Ее круглые усики подкручены вверх и топорщатся как у Чарли
Чаплина - Ни одно дуновение ветерка не сопровождает ее восход и запад
остается недвижно-угольным - и юг розовато-лилов и героически-величав -
Север: белые полосы и лавандовые шелка льда и арктических неколебимых
пустошей --
Луна - это часть меня
 Однажды утром я обнаружил медвежьи испражнения и следы там где это
незамеченное чудище вытащило консервные банки замерзшей сгущенки, сдавило их
в своих апокалиптических когтях и прокусило безумно острым зубом пытаясь
высосать прокисшую массу - Никогда такого не видывал, и в туманных сумерках
я сижу и смотрю вниз с таинственного Голодного Хребта покрытого затерянными
в тумане пихтами и невидимо горбящимися пиками, туманный ветер несется
морочной метелью, и где-то в этом Дзенском Таинственном Тумане бродит
Медведь, Первобытный Медведь -- и все это принадлежит ему, его дом, его
двор, его владения, Царь-Медведь который может размозжить мою голову когтями
и сломать мне позвоночник как веточку - Царь-Медведь оставивший громадные
загадочные груды черного кала возле моей мусорной ямы - Какой-нибудь Чарли
сидит у себя на ранчо почитывая журнальчик, а я пою среди тумана, но Медведь
может придти и взять нас обоих -- Как же велика его мощь - Он благородный
бесшумный с любопытством разглядывая меня крадется сквозь туманные
неизвестности Грозового Ручья - Знак Медведя в сером ветре Осени - Медведь
отнесет меня в колыбель - Он отмечен печатью крови и пробужденности - Его
лапы перепончаты и мощны - говорят его можно почуять за сотню ярдов против
ветра - Его глаза сверкают в лунном свете - Они с матерым оленем избегают
друг друга - И он не явит себя в таинстве беззвучных туманных теней, хотя я
жду весь день, будто он - Медведь непостижимый и видеть его не надлежит
никому - Он хозяин всего Северо-Запада, всех Снегов и владыка гор - Он
бродит среди неизведанных озер и ранним утром алмазный чистый свет
оттеняющий горные склоны пихт заставит его уважительно моргнуть - За его
спиной тысячелетия блужданий - Он видел как пришли индейцы и Красные
Мундиры[22] и как они ушли и он увидит это опять - Он постоянно, если не
выходит к ручьям, слышит успокаивающе-восторженный шелест тишины, он всегда
чувствует как непрочен материал из которого сделан этот мир, и никогда не
рассуждает, не кивает понимающе, не вздыхает, но грызет и роет, грузно бредя
среди коряг и пней не обращая внимания ни на вещи безжизненные ни на вещи
живые - Его большая пасть чавкает чем-то в ночи, мне слышно это с другой
стороны гор в свете звезд - Скоро он выйдет из тумана, громадный, придет и
станет смотреть в мое окно большими горящими глазами - Он Медведь
Авалокитешвара
Я ожидаю его
Посередине моего полуночного сна внезапно начинается сезон дождей и
дождь тяжело хлещет по лесу, по выгоревшим подпалинам пожаров у
Мак-Аллистеровского и Грозового Ручьев, и пока где-то в лесах люди ежатся от
холода я лежу в своем теплом как печка спальнике, сплю и вижу сны, мне
снится что я плаваю в холодном сером бассейне который кажется принадлежит
Коди с Эвелин, во сне над моей головой льет такой же дождь, я гордо вылезаю
из бассейна и отправляюсь выудить что-нибудь из холодильника, два "сына"
Коди (на самом деле Томми и Брюси Палмер) играют в кровати, они видят как я
вытаскиваю масло - "Слушай -- а сейчас слышишь?" (это про меня и
холодильник)(будто крысиное шебуршание) - я не обращаю внимания, сажусь и
начинаю поедать тосты с изюмом и маслом и Эвелин возвращается домой, она
видит меня и я гордо сообщаю о том как плавал - Мне кажется что она
разглядывает мои тосты неодобрительно, но она говорит "Ты чего, не мог себе
чего-нибудь получше раздобыть?" - Протекая сквозь зовущееся всем, что твой
Татхагата, я опять воплощаюсь в Фриско идущим в сторону Скид Роу Стрит,
которая смахивает на Ховард-Стрит но вовсе не она а что-то вроде 17-й
Западной в старом Канзасе полная захудалых баров с крутящимися дверьми, я
иду и вижу полки уставленные бутылками дешевого вина в Дилби, большом баре
на углу где собирается местная публика и бродяги, и в тот же момент мне на
глаза попадается газетная история о крутых ребятах из колонии для малолеток
в Вашингтоне (рыжих, свирепо выглядящих брюнетах, угонщиках машин,
закоренелых и юных), они сидят на парковой скамейке прямо перед Капитолием,
только что из тюряги, в газете крупным планом напечатано фото брюнетки в
джинсах посасывающей Кока-колу из бутылки и в статье говорится что она
известная соблазнительница и отправила в колонию дюжину парней за попытку ее
трахнуть, хотя и (как видно на фотографии) нарочно выставляется перед ними,
видно как ребята развалившись на скамье глазеют на нее, улыбающуюся в
фотокамеру, и во сне я страшно зол на нее за то что она такая сука, но когда
просыпаюсь я понимаю что все это лишь выдуманные ею трогательные попытки
заставить одного из этих парней обрюхатить ее, чтобы она смогла стать мягкой
и любящей матерью с малышом у груди, Мадонной Неожиданной - Я вижу эту же
самую банду подростков входящей в Дилби и думаю что мне не стоит идти туда
сейчас - Вверх по Бродвею и Чайнатауну я брожу повсюду ища чем бы себя
занять но этот Фриско-Из-Сна бесцветен, полон деревянных домов, деревянных
баров, подвальных кафе и каморок, все это похоже на Фриско 1849-го года,
только вот унылые бары горят неоном как в Сиэттле, и дождь - Я просыпаюсь из
этого сна и слышу как холодный нагоняющий дождь северный ветер оповещает о
конце пожароопасного сезона - Пытаясь воскресить в памяти все подробности
сна я вспоминаю слова Татхагаты, сказанные Махамати: "Как думаешь ты,
Махамати, можно ли считать такого человека (пытающегося вспомнить
подробности сна, хоть это всего лишь сон) мудрым или глупцом?" - О Господи я
все понимаю --
Туман вскипая стекает
с хребта - горы Чисты
Туман под вершиной
- сон Продолжается
Никогда в жизни я не видел более основательного человека чем старина
Блэки Блэйк с которым я встретился в школе пожарников где все мы проторчали
неделю разгуливая в медных касках и учась окапывать огонь противопожарными
траншеями так чтобы он задохнулся (и проводить рукой над холодными угольками
чтобы в этом убедиться), как пользоваться азимутом, засечь пожар и
откладывать вертикальные углы на пожарном определителе - Блэки Блейк,
рэйнджер округа Гласьер, отрекомендованный мне как величайший старожил этих
мест Джерри Вагнером - Джерри был уволен с работы в государственном пожарном
ведомстве из-за обвинения в прокоммунистических настроениях (наверное,
сиживал на левацких собраниях в Рид-колледже и трепался в своем анархистском
стиле) выдвинутого ФБР-овскими любителями совать нос не в свое дело (вот
ведь ерунда, как будто он мог был подкуплен Москвой чтобы бегать по ночам то
в лес разжигать пожары то опять назад на смотрительский пост, или чтоб с
маниакальным блеском в глазах стучать по клавише передатчика создавая
радиопомехи) - старый Блэки сказал "Вот ведь хреновина, настоящая дурь что
его вышибли отсюда - малыш был охренительным пожарным, хорошим смотрителем и
хорошим парнем - Кажись в нынешние времена никто уж и вякнуть не моги чтобы
ФБР не начало его тормошить - Я вот че думаю, хочется мне чего сказать, так
я это и говорю - А такие штучки у меня во где сидят - взяли да выперли
такого парня как Джерри" (так вот Блэки и разговаривал) - Старый Блэки,
годами не вылезавший из леса, лесоруб-старожил живший в этих местах во
времена первой мировой, Индустриальных Рабочих Мира[23] и эвереттовского
расстрела[24], описанного у Дос Пассоса[25] и в левацких анналах - Что мне
нравилось в Блэки так это его искренность, и более того какая-то
Бетховенская Печаль, у него были большие грустные черные глаза, ему было
шестьдесят, крупный, сильный, мужественный, с сильными руками, прямой
осанкой - все его любили - "Думаю чем бы Джерри ни стал заниматься он всегда
найдет как поразвлечься - знаешь у него была девчонка-китаянка там в
Сиэттле, О он умел поразвлечься -" Блэки видел в Джерри молодого себя,
Джерри ведь тоже вырос на Северо-Западе, на ферме в дикой глухомани
восточного Орегона, и провел все детство лазая по этим скалам, ночуя в
недоступных ущельях и молясь Татхагате на горных вершинах, залезая даже на
такие громадины как гора Олимпус или Пекарская - я вижу как Джерри
карабкается горным козлом на Хозомин - "И какую же уйму книжек он прочитал",
говорит Блэки "Про Будду и все эти дела, вот уж точно парень с головой этот
Джерри" - В будущем году Блэки пойдет на пенсию, вообразить не могу чем он
станет заниматься, но мне представляется одна картина как он в одиночестве
уходит на далекую рыбалку и я вижу как он сидит себе у ручья свесив удочку и
уставясь в землю у ног, печальный, огромный как Бетховен, размышляя кто же
он Блэки Блейк есть в конце концов и что такое этот лес, и сидя так без
шляпы один в лесу он наверняка протечет сквозь до того величайшего полного
знания - В первый день сезона дождей я слышу как Блэки говорит по радио
смотрителю своего округа Гласьер "Слышь, вот че мне от тебя надо: сделай там
у себя наверху инвентаризацию всего барахла и притащи список сюда на станцию
-" Он говорит: "Посидишь тут за меня у радио, здесь где-то на тропе лошадь
затерялась схожу-ка я ее разыщу", но я-то понимаю что Блэки просто хочет
пройтись по горной тропе, на воле, подальше от радио, среди лошадей, лес для
него -- это как отче наш - И вот он старина Блэки, здоровенный Блэки,
отправляется за лошадью в мокрые горные леса, а в 8000 миль от него на
вершине храмоподобной японской горы, молодой его почитатель, отчасти
последователь в познании и полнейший последователь в лесу, Джерри, сидит в
медитации около чайного домика стоящего среди сосен повторяя, с обритой
головой и сложив руки, "Наму Амида Бутсу" - И туманы Японии неотличимы от
туманов штата Вашингтон и чувствующее существо[26] то же самое и Будда также
древен и истинен как и в любом другом месте - Солнце так же безрадостно
садится в Бомбее и Гонконге как и в Челмсфорде штата Массачусетс - И в
тумане я взываю к Хань-Шаню -- и не слышу ответа --
Звучанье тишины лишь
тебе станет Наставленьем
- И после разговора который был у нас с Блэки от его искренности у меня
щемит сердце - вот такие вот дела, мужчины есть мужчины - И разве Блэки в
меньшей степени мужчина лишь из-за того только что не был никогда женат и не
прислушался к зову природы размножаться и плодить подобия себя самого?
Однажды будущей зимой в дождливую ночь он будет раздраженно копошится у огня
опустив кроткие глаза и с задумчивым выражением на хмуром лице, и приидут
алмазные и лотосовые руки и обовьют розою чело его (чтоб мне провалиться)
(ошибиться в своей догадке) -
Одиночество, Одиночество,
чем заслужило Ты имя свое?
По воскресеньям, просто из-за самого факта что сегодня воскресенье, я
начинаю вспоминать, или еще можно сказать так, заведующую памятью часть
моего мозга сдавливает какой-то спазм (О щербатая луна!), воскресенья в доме
тетушки Жанны, в Линне, кажется дядя Кристоф еще жив, а я сижу и попиваю
ароматный и обжигающий черный кофе только что отлично пообедав спагетти с
густейшим соусом (берешь 3 банки томатной пасты, 12 чесночных долек, пол
чайной ложки майорана, ложку базиликовой пасты и добавляешь лук) и десертом
из трех восхитительных кусочков арахисового масла смешанного с изюмом и
сушеными сливами (вот ведь гурманский десерт) кажется я вспоминаю дом
тетушки Жанны именно из-за этого послеобеденного довольства когда все сидят
закатав рукава рубашек, курят, потягивают кофе и разговаривают - И опять же
из-за воскресного дня мне вспоминаются вьюжные воскресенья когда мы с папой
и Билли Арто играли в футбольном матче имени Джима Гамильтона организованном
Паркеровской Компанией, а потом опять папа закатывал рукава и дымил своей
сигарой о простое человеческое счастье таких моментов - и еще конечно из-за
моих прогулок (в зимнем туманном холоде) для аппетита пока варятся спагетти,
мозговой спазм неотвязный как тик приходит опять, теперь это долгие
воскресные предобеденные прогулки под падающим снегом, мой разум задыхается
от затопляющих его воспоминаний вызывающих загадочный тик, спазм, он рвется
наружу и я думаю о том как сладостно чисто все человеческое - вот стебель
моего цветка сердце мое болит о человеческом - воскресенье - воскресенья у
Пруста и эх о воскресеньях пишет (и прячет написанное) Нил Кэссиди,
воскресенья в сердцах наших, воскресенья давно умерших Мексиканских Грандов
помнивших Оризаба Плазу и церковные колокола полнящие воздух как цветы
Чему же я научился на Гваддаввакаламаваке? Я понял что ненавижу себя
потому что сам по себе я это я и не более и как это однообразно быть одно -
образ -- потряс - атас - вас - нас - фраз - Я научился непочтению к вещам и
Хань-Шань всучил мне тряпку в руки[27] а я не - я научился учиться учился не
учился ничему - И Э У - В один из этих дней я чуть не довел себя до безумия
потому что в моей голове вертелись такие вот выкрутасы, прошла всего лишь
неделя и я уже не знаю куда мне деваться, пять безликих дней проливного
дождя и холода, я хочу спуститься вниз ПРЯМО СЕЙЧАС потому что запах лука от
моих рук которыми я подношу ко рту собранную на горном склоне чернику
внезапно напоминает мне запах гамбургера, сырого лука, кофе и посудомоечной
машины которым пропахли все забегаловки Мира куда мне внезапно так хочется
вернуться, посидеть на круглом стуле с гамбургером, прикурить сигарету к
чашечке кофе и пусть дождь течет себе по краснокирпичным стенам, ведь мне
есть куда идти, и есть чем заняться, писать стихи о сердцах человеческих а
не о камнях - мое Одинокое Приключение нашло меня найти мной найдет во мне
такое полнейшее ничто что его не назвать даже отсутствием иллюзий - мое
сознание в лохмотьях -
И вот приходит последний день моего Одиночества - "На крыльях быстрых
как медитация" мир щелчком встает на место стоит мне проснуться (или
"быстрых как мысли любви") - Старые ошметки бекона все еще валяются во дворе
и бурундуки пощипывают и раздергивают их целую неделю показывая свои
маленькие умилительные белые животики и иногда застывая неподвижно в трансе
- Причудливые рыскающие повсюду птички и голуби подчистили всю мою чернику
прямо с кустиков -- птички небесные питающиеся порождениями земными, так
было сказано -- ха, моя черника, это их черника -- и каждый мой кусочек для
них громаден как арбуз - я похитил у них двенадцать грузовых составов пищи
-- мой последний день на Пике Одиночества, теперь никто не помешает им
трещать и трещать - Теперь я отправляюсь на Пик Мерзости к шлюхам вопящим
требуя горячей воды - Вся эта история, моя жизнь в горах, смогла произойти
благодаря Джерри Вагнеру научившему меня лазить по горам (Маттерхорн той
безумной осенью 1955-го, когда все Северное Побережье сходило с ума на почве
сильнейшего религиозного битничества и исступления зловеще завершившегося
самоубийством Розмари, история уже поведанная в соответствующей Легенде) -
Джерри, как я уже говорил, помог мне подобрать рюкзак, пончо, пуховый
спальник, туристический примус и отправиться в горы с походным рационом из
изюма и арахиса в рюкзаке - моем прорезиненном рюкзаке, так что каждой ночью
вплоть до самой последней ночи на Одиночестве стоило мне вытащить из него
пару пригоршней изюма на закуску, резиновый привкус арахиса с изюмом вызывал
во мне поток воспоминаний о том какое море различных причин принесло меня на
Пик Одиночества и в эти Горы, о теории которую мы разработали во время наших
долгих вылазок, про "рюкзачную революцию" и миллионы "бродяг Дхармы" по всей
Америке забирающихся в горы для медитаций и отвергающих общество О Эге-гей
дайте мне общество, дайте мне прекрасноликих шлюх с полными плечами,
выступающими буграми мускулов и толстыми жемчужными щеками, засовывающих
руки себе под платье обхватывая голые ноги (ах эти впадинки на коленях и ээх
на лодыжках) кричащих мадам "Agua Caliente[28]", бретельки их платьев
приспущены до локтей так что сдавленные груди почти вываливаются, удар
могучей природы, виден маленький кусочек бедра там, где оно переходит в
заколенную выемку и темноту уходящую под - И не то чтобы Джерри отрицал все
это, но хватит! хватит скал, деревьев и мельтешащих птах! Хочу туда, где
фонари, телефоны и смятые постели с женщинами, где под пальцами ног толстые
мохнатые ковры, где страсти затмевают безмыслие потому что в конце концов не
все ли равно Тому-Кто-Протекает-Сквозь-Все? - И как же мне быть со снегом? Я
говорю о настоящем снеге который становится в сентябре как лед так что я
больше не могу уминать его в ведре - Я лучше займусь бретельками на платьях
рыжих красоток Боже милостивый и лучше буду бродить вдоль краснокирпичных
стен вероломной самсары чем по этой грандиозной складчатой гряде полной
всякой дребедени уязвляющей своей гармонией и загадочным громыханием земли -
Ах это было вовсе неплохо вздремнуть днем в траве, в Тишине, вслушиваясь в
таинственные радио звуки - и неплохи эти последние закаты когда наконец-то я
точно знаю что они последние, опускающиеся в прекраснейшие багровые океаны
за зубчатыми скалами - Нет, Мексико-Сити субботним вечером, ага, в комнатке
где есть шоколадные конфеты в коробке, босуэлловская биография Джонсона и
настольная лампа возле кровати, или Париж осенним днем наблюдая за детьми и
их няньками в ветреном парке с железной изгородью и старой скульптурой на
постаменте - ага, могила Бальзака - В Одиночестве, теперь я научился
Одиночеству, а там за всем неистовством мира одиночества не существует, там
все незаметно совершенно -
Серые птицы радостно подлетают к каменистому двору и, быстро
сориентировавшись, начинают клевать всякую мелочь - маленький бурундучонок
беззаботно бегает среди них - Птицы шустро мотают головками косясь на
порхающую над ними желтую бабочку - Меня подмывает выбежать за двери и
закричать "Эге-гей" но это было бы слишком пугающим испытанием для их
Однажды утром я обнаружил медвежьи испражнения и следы там где это
незамеченное чудище вытащило консервные банки замерзшей сгущенки, сдавило их
в своих апокалиптических когтях и прокусило безумно острым зубом пытаясь
высосать прокисшую массу - Никогда такого не видывал, и в туманных сумерках
я сижу и смотрю вниз с таинственного Голодного Хребта покрытого затерянными
в тумане пихтами и невидимо горбящимися пиками, туманный ветер несется
морочной метелью, и где-то в этом Дзенском Таинственном Тумане бродит
Медведь, Первобытный Медведь -- и все это принадлежит ему, его дом, его
двор, его владения, Царь-Медведь который может размозжить мою голову когтями
и сломать мне позвоночник как веточку - Царь-Медведь оставивший громадные
загадочные груды черного кала возле моей мусорной ямы - Какой-нибудь Чарли
сидит у себя на ранчо почитывая журнальчик, а я пою среди тумана, но Медведь
может придти и взять нас обоих -- Как же велика его мощь - Он благородный
бесшумный с любопытством разглядывая меня крадется сквозь туманные
неизвестности Грозового Ручья - Знак Медведя в сером ветре Осени - Медведь
отнесет меня в колыбель - Он отмечен печатью крови и пробужденности - Его
лапы перепончаты и мощны - говорят его можно почуять за сотню ярдов против
ветра - Его глаза сверкают в лунном свете - Они с матерым оленем избегают
друг друга - И он не явит себя в таинстве беззвучных туманных теней, хотя я
жду весь день, будто он - Медведь непостижимый и видеть его не надлежит
никому - Он хозяин всего Северо-Запада, всех Снегов и владыка гор - Он
бродит среди неизведанных озер и ранним утром алмазный чистый свет
оттеняющий горные склоны пихт заставит его уважительно моргнуть - За его
спиной тысячелетия блужданий - Он видел как пришли индейцы и Красные
Мундиры[22] и как они ушли и он увидит это опять - Он постоянно, если не
выходит к ручьям, слышит успокаивающе-восторженный шелест тишины, он всегда
чувствует как непрочен материал из которого сделан этот мир, и никогда не
рассуждает, не кивает понимающе, не вздыхает, но грызет и роет, грузно бредя
среди коряг и пней не обращая внимания ни на вещи безжизненные ни на вещи
живые - Его большая пасть чавкает чем-то в ночи, мне слышно это с другой
стороны гор в свете звезд - Скоро он выйдет из тумана, громадный, придет и
станет смотреть в мое окно большими горящими глазами - Он Медведь
Авалокитешвара
Я ожидаю его
Посередине моего полуночного сна внезапно начинается сезон дождей и
дождь тяжело хлещет по лесу, по выгоревшим подпалинам пожаров у
Мак-Аллистеровского и Грозового Ручьев, и пока где-то в лесах люди ежатся от
холода я лежу в своем теплом как печка спальнике, сплю и вижу сны, мне
снится что я плаваю в холодном сером бассейне который кажется принадлежит
Коди с Эвелин, во сне над моей головой льет такой же дождь, я гордо вылезаю
из бассейна и отправляюсь выудить что-нибудь из холодильника, два "сына"
Коди (на самом деле Томми и Брюси Палмер) играют в кровати, они видят как я
вытаскиваю масло - "Слушай -- а сейчас слышишь?" (это про меня и
холодильник)(будто крысиное шебуршание) - я не обращаю внимания, сажусь и
начинаю поедать тосты с изюмом и маслом и Эвелин возвращается домой, она
видит меня и я гордо сообщаю о том как плавал - Мне кажется что она
разглядывает мои тосты неодобрительно, но она говорит "Ты чего, не мог себе
чего-нибудь получше раздобыть?" - Протекая сквозь зовущееся всем, что твой
Татхагата, я опять воплощаюсь в Фриско идущим в сторону Скид Роу Стрит,
которая смахивает на Ховард-Стрит но вовсе не она а что-то вроде 17-й
Западной в старом Канзасе полная захудалых баров с крутящимися дверьми, я
иду и вижу полки уставленные бутылками дешевого вина в Дилби, большом баре
на углу где собирается местная публика и бродяги, и в тот же момент мне на
глаза попадается газетная история о крутых ребятах из колонии для малолеток
в Вашингтоне (рыжих, свирепо выглядящих брюнетах, угонщиках машин,
закоренелых и юных), они сидят на парковой скамейке прямо перед Капитолием,
только что из тюряги, в газете крупным планом напечатано фото брюнетки в
джинсах посасывающей Кока-колу из бутылки и в статье говорится что она
известная соблазнительница и отправила в колонию дюжину парней за попытку ее
трахнуть, хотя и (как видно на фотографии) нарочно выставляется перед ними,
видно как ребята развалившись на скамье глазеют на нее, улыбающуюся в
фотокамеру, и во сне я страшно зол на нее за то что она такая сука, но когда
просыпаюсь я понимаю что все это лишь выдуманные ею трогательные попытки
заставить одного из этих парней обрюхатить ее, чтобы она смогла стать мягкой
и любящей матерью с малышом у груди, Мадонной Неожиданной - Я вижу эту же
самую банду подростков входящей в Дилби и думаю что мне не стоит идти туда
сейчас - Вверх по Бродвею и Чайнатауну я брожу повсюду ища чем бы себя
занять но этот Фриско-Из-Сна бесцветен, полон деревянных домов, деревянных
баров, подвальных кафе и каморок, все это похоже на Фриско 1849-го года,
только вот унылые бары горят неоном как в Сиэттле, и дождь - Я просыпаюсь из
этого сна и слышу как холодный нагоняющий дождь северный ветер оповещает о
конце пожароопасного сезона - Пытаясь воскресить в памяти все подробности
сна я вспоминаю слова Татхагаты, сказанные Махамати: "Как думаешь ты,
Махамати, можно ли считать такого человека (пытающегося вспомнить
подробности сна, хоть это всего лишь сон) мудрым или глупцом?" - О Господи я
все понимаю --
Туман вскипая стекает
с хребта - горы Чисты
Туман под вершиной
- сон Продолжается
Никогда в жизни я не видел более основательного человека чем старина
Блэки Блэйк с которым я встретился в школе пожарников где все мы проторчали
неделю разгуливая в медных касках и учась окапывать огонь противопожарными
траншеями так чтобы он задохнулся (и проводить рукой над холодными угольками
чтобы в этом убедиться), как пользоваться азимутом, засечь пожар и
откладывать вертикальные углы на пожарном определителе - Блэки Блейк,
рэйнджер округа Гласьер, отрекомендованный мне как величайший старожил этих
мест Джерри Вагнером - Джерри был уволен с работы в государственном пожарном
ведомстве из-за обвинения в прокоммунистических настроениях (наверное,
сиживал на левацких собраниях в Рид-колледже и трепался в своем анархистском
стиле) выдвинутого ФБР-овскими любителями совать нос не в свое дело (вот
ведь ерунда, как будто он мог был подкуплен Москвой чтобы бегать по ночам то
в лес разжигать пожары то опять назад на смотрительский пост, или чтоб с
маниакальным блеском в глазах стучать по клавише передатчика создавая
радиопомехи) - старый Блэки сказал "Вот ведь хреновина, настоящая дурь что
его вышибли отсюда - малыш был охренительным пожарным, хорошим смотрителем и
хорошим парнем - Кажись в нынешние времена никто уж и вякнуть не моги чтобы
ФБР не начало его тормошить - Я вот че думаю, хочется мне чего сказать, так
я это и говорю - А такие штучки у меня во где сидят - взяли да выперли
такого парня как Джерри" (так вот Блэки и разговаривал) - Старый Блэки,
годами не вылезавший из леса, лесоруб-старожил живший в этих местах во
времена первой мировой, Индустриальных Рабочих Мира[23] и эвереттовского
расстрела[24], описанного у Дос Пассоса[25] и в левацких анналах - Что мне
нравилось в Блэки так это его искренность, и более того какая-то
Бетховенская Печаль, у него были большие грустные черные глаза, ему было
шестьдесят, крупный, сильный, мужественный, с сильными руками, прямой
осанкой - все его любили - "Думаю чем бы Джерри ни стал заниматься он всегда
найдет как поразвлечься - знаешь у него была девчонка-китаянка там в
Сиэттле, О он умел поразвлечься -" Блэки видел в Джерри молодого себя,
Джерри ведь тоже вырос на Северо-Западе, на ферме в дикой глухомани
восточного Орегона, и провел все детство лазая по этим скалам, ночуя в
недоступных ущельях и молясь Татхагате на горных вершинах, залезая даже на
такие громадины как гора Олимпус или Пекарская - я вижу как Джерри
карабкается горным козлом на Хозомин - "И какую же уйму книжек он прочитал",
говорит Блэки "Про Будду и все эти дела, вот уж точно парень с головой этот
Джерри" - В будущем году Блэки пойдет на пенсию, вообразить не могу чем он
станет заниматься, но мне представляется одна картина как он в одиночестве
уходит на далекую рыбалку и я вижу как он сидит себе у ручья свесив удочку и
уставясь в землю у ног, печальный, огромный как Бетховен, размышляя кто же
он Блэки Блейк есть в конце концов и что такое этот лес, и сидя так без
шляпы один в лесу он наверняка протечет сквозь до того величайшего полного
знания - В первый день сезона дождей я слышу как Блэки говорит по радио
смотрителю своего округа Гласьер "Слышь, вот че мне от тебя надо: сделай там
у себя наверху инвентаризацию всего барахла и притащи список сюда на станцию
-" Он говорит: "Посидишь тут за меня у радио, здесь где-то на тропе лошадь
затерялась схожу-ка я ее разыщу", но я-то понимаю что Блэки просто хочет
пройтись по горной тропе, на воле, подальше от радио, среди лошадей, лес для
него -- это как отче наш - И вот он старина Блэки, здоровенный Блэки,
отправляется за лошадью в мокрые горные леса, а в 8000 миль от него на
вершине храмоподобной японской горы, молодой его почитатель, отчасти
последователь в познании и полнейший последователь в лесу, Джерри, сидит в
медитации около чайного домика стоящего среди сосен повторяя, с обритой
головой и сложив руки, "Наму Амида Бутсу" - И туманы Японии неотличимы от
туманов штата Вашингтон и чувствующее существо[26] то же самое и Будда также
древен и истинен как и в любом другом месте - Солнце так же безрадостно
садится в Бомбее и Гонконге как и в Челмсфорде штата Массачусетс - И в
тумане я взываю к Хань-Шаню -- и не слышу ответа --
Звучанье тишины лишь
тебе станет Наставленьем
- И после разговора который был у нас с Блэки от его искренности у меня
щемит сердце - вот такие вот дела, мужчины есть мужчины - И разве Блэки в
меньшей степени мужчина лишь из-за того только что не был никогда женат и не
прислушался к зову природы размножаться и плодить подобия себя самого?
Однажды будущей зимой в дождливую ночь он будет раздраженно копошится у огня
опустив кроткие глаза и с задумчивым выражением на хмуром лице, и приидут
алмазные и лотосовые руки и обовьют розою чело его (чтоб мне провалиться)
(ошибиться в своей догадке) -
Одиночество, Одиночество,
чем заслужило Ты имя свое?
По воскресеньям, просто из-за самого факта что сегодня воскресенье, я
начинаю вспоминать, или еще можно сказать так, заведующую памятью часть
моего мозга сдавливает какой-то спазм (О щербатая луна!), воскресенья в доме
тетушки Жанны, в Линне, кажется дядя Кристоф еще жив, а я сижу и попиваю
ароматный и обжигающий черный кофе только что отлично пообедав спагетти с
густейшим соусом (берешь 3 банки томатной пасты, 12 чесночных долек, пол
чайной ложки майорана, ложку базиликовой пасты и добавляешь лук) и десертом
из трех восхитительных кусочков арахисового масла смешанного с изюмом и
сушеными сливами (вот ведь гурманский десерт) кажется я вспоминаю дом
тетушки Жанны именно из-за этого послеобеденного довольства когда все сидят
закатав рукава рубашек, курят, потягивают кофе и разговаривают - И опять же
из-за воскресного дня мне вспоминаются вьюжные воскресенья когда мы с папой
и Билли Арто играли в футбольном матче имени Джима Гамильтона организованном
Паркеровской Компанией, а потом опять папа закатывал рукава и дымил своей
сигарой о простое человеческое счастье таких моментов - и еще конечно из-за
моих прогулок (в зимнем туманном холоде) для аппетита пока варятся спагетти,
мозговой спазм неотвязный как тик приходит опять, теперь это долгие
воскресные предобеденные прогулки под падающим снегом, мой разум задыхается
от затопляющих его воспоминаний вызывающих загадочный тик, спазм, он рвется
наружу и я думаю о том как сладостно чисто все человеческое - вот стебель
моего цветка сердце мое болит о человеческом - воскресенье - воскресенья у
Пруста и эх о воскресеньях пишет (и прячет написанное) Нил Кэссиди,
воскресенья в сердцах наших, воскресенья давно умерших Мексиканских Грандов
помнивших Оризаба Плазу и церковные колокола полнящие воздух как цветы
Чему же я научился на Гваддаввакаламаваке? Я понял что ненавижу себя
потому что сам по себе я это я и не более и как это однообразно быть одно -
образ -- потряс - атас - вас - нас - фраз - Я научился непочтению к вещам и
Хань-Шань всучил мне тряпку в руки[27] а я не - я научился учиться учился не
учился ничему - И Э У - В один из этих дней я чуть не довел себя до безумия
потому что в моей голове вертелись такие вот выкрутасы, прошла всего лишь
неделя и я уже не знаю куда мне деваться, пять безликих дней проливного
дождя и холода, я хочу спуститься вниз ПРЯМО СЕЙЧАС потому что запах лука от
моих рук которыми я подношу ко рту собранную на горном склоне чернику
внезапно напоминает мне запах гамбургера, сырого лука, кофе и посудомоечной
машины которым пропахли все забегаловки Мира куда мне внезапно так хочется
вернуться, посидеть на круглом стуле с гамбургером, прикурить сигарету к
чашечке кофе и пусть дождь течет себе по краснокирпичным стенам, ведь мне
есть куда идти, и есть чем заняться, писать стихи о сердцах человеческих а
не о камнях - мое Одинокое Приключение нашло меня найти мной найдет во мне
такое полнейшее ничто что его не назвать даже отсутствием иллюзий - мое
сознание в лохмотьях -
И вот приходит последний день моего Одиночества - "На крыльях быстрых
как медитация" мир щелчком встает на место стоит мне проснуться (или
"быстрых как мысли любви") - Старые ошметки бекона все еще валяются во дворе
и бурундуки пощипывают и раздергивают их целую неделю показывая свои
маленькие умилительные белые животики и иногда застывая неподвижно в трансе
- Причудливые рыскающие повсюду птички и голуби подчистили всю мою чернику
прямо с кустиков -- птички небесные питающиеся порождениями земными, так
было сказано -- ха, моя черника, это их черника -- и каждый мой кусочек для
них громаден как арбуз - я похитил у них двенадцать грузовых составов пищи
-- мой последний день на Пике Одиночества, теперь никто не помешает им
трещать и трещать - Теперь я отправляюсь на Пик Мерзости к шлюхам вопящим
требуя горячей воды - Вся эта история, моя жизнь в горах, смогла произойти
благодаря Джерри Вагнеру научившему меня лазить по горам (Маттерхорн той
безумной осенью 1955-го, когда все Северное Побережье сходило с ума на почве
сильнейшего религиозного битничества и исступления зловеще завершившегося
самоубийством Розмари, история уже поведанная в соответствующей Легенде) -
Джерри, как я уже говорил, помог мне подобрать рюкзак, пончо, пуховый
спальник, туристический примус и отправиться в горы с походным рационом из
изюма и арахиса в рюкзаке - моем прорезиненном рюкзаке, так что каждой ночью
вплоть до самой последней ночи на Одиночестве стоило мне вытащить из него
пару пригоршней изюма на закуску, резиновый привкус арахиса с изюмом вызывал
во мне поток воспоминаний о том какое море различных причин принесло меня на
Пик Одиночества и в эти Горы, о теории которую мы разработали во время наших
долгих вылазок, про "рюкзачную революцию" и миллионы "бродяг Дхармы" по всей
Америке забирающихся в горы для медитаций и отвергающих общество О Эге-гей
дайте мне общество, дайте мне прекрасноликих шлюх с полными плечами,
выступающими буграми мускулов и толстыми жемчужными щеками, засовывающих
руки себе под платье обхватывая голые ноги (ах эти впадинки на коленях и ээх
на лодыжках) кричащих мадам "Agua Caliente[28]", бретельки их платьев
приспущены до локтей так что сдавленные груди почти вываливаются, удар
могучей природы, виден маленький кусочек бедра там, где оно переходит в
заколенную выемку и темноту уходящую под - И не то чтобы Джерри отрицал все
это, но хватит! хватит скал, деревьев и мельтешащих птах! Хочу туда, где
фонари, телефоны и смятые постели с женщинами, где под пальцами ног толстые
мохнатые ковры, где страсти затмевают безмыслие потому что в конце концов не
все ли равно Тому-Кто-Протекает-Сквозь-Все? - И как же мне быть со снегом? Я
говорю о настоящем снеге который становится в сентябре как лед так что я
больше не могу уминать его в ведре - Я лучше займусь бретельками на платьях
рыжих красоток Боже милостивый и лучше буду бродить вдоль краснокирпичных
стен вероломной самсары чем по этой грандиозной складчатой гряде полной
всякой дребедени уязвляющей своей гармонией и загадочным громыханием земли -
Ах это было вовсе неплохо вздремнуть днем в траве, в Тишине, вслушиваясь в
таинственные радио звуки - и неплохи эти последние закаты когда наконец-то я
точно знаю что они последние, опускающиеся в прекраснейшие багровые океаны
за зубчатыми скалами - Нет, Мексико-Сити субботним вечером, ага, в комнатке
где есть шоколадные конфеты в коробке, босуэлловская биография Джонсона и
настольная лампа возле кровати, или Париж осенним днем наблюдая за детьми и
их няньками в ветреном парке с железной изгородью и старой скульптурой на
постаменте - ага, могила Бальзака - В Одиночестве, теперь я научился
Одиночеству, а там за всем неистовством мира одиночества не существует, там
все незаметно совершенно -
Серые птицы радостно подлетают к каменистому двору и, быстро
сориентировавшись, начинают клевать всякую мелочь - маленький бурундучонок
беззаботно бегает среди них - Птицы шустро мотают головками косясь на
порхающую над ними желтую бабочку - Меня подмывает выбежать за двери и
закричать "Эге-гей" но это было бы слишком пугающим испытанием для их
 маленьких бьющихся сердец - Я закрываю все свои
ставни по всем четырем сторонам света и сижу в темном доме, только одна
дверь остается открытой, и я замечаю как ярок и тепел солнечный свет и
воздух, и мне кажется, что тьма выдавливает меня сквозь последнее ведущее в
мир отверстие - Это мой последний полдень, я сижу и думаю об этом,
интересно, что чувствуют заключенные в последний день 20-летнего срока - Я
могу лишь сидеть и пытаться вобрать в себя все это - Шест анемометра сложен,
все уложено, мне осталось только забросать мусорную яму, вымыть кастрюли и
до-свидания, оставив радио завернутым в ткань, засунув под дом антенну и
присыпав известкой туалет - Каким печальным выглядит мое дочерна загоревшее
лицо в затемненном закрытыми ставнями окне, очертания его напоминают мне о
том что полжизни прожито, это уже почти зрелый возраст, разложение и страсти
готовы привести меня к сладкой победе золотой бесконечности - Полнейшая
тишина, безветренный полдень, маленькие пихты высохли и покоричневели, их
летнее рождество окончено и теперь уж скоро бури покроют инеем и завьюжат
всю округу - И не станут тикать ни одни часы, не станет тосковать ни один
человек и пребудут молчаливыми снег и погребенные им камни, а Хозомин как
всегда будет неясно вырисовываться и грустить беспечально - Прощай, Пик
Одиночества, ибо познал ты меня как есмь - Да парят ангелы неродившиеся и
ангелы погибшие над тобою подобны облаку и окропляют тебя подношениями
золотых вечных цветов - Текущее сквозь все протекло теперь и через меня и
через этот мой карандаш и больше нечего добавить - Маленькие пихты скоро
станут большими - Я бросаю последнюю консервную банку вниз по крутому склону
и слышу как она грохочет весь путь в 1500 футов и это опять напоминает мне
(из-за большой свалки консервных банок накопившихся от смотрителей за
пятнадцать лет) о великой лоуэлловской свалке на которой мы играли по
субботам среди ржавых автомобильных останков и куч смердящего мусора и
считали это великолепным, все это включая старые горделивые авто с
изуродованными проржавевшими сцеплениями валяющиеся под боком
суперсовременной с иголочки автострады проложенной от самого центра вокруг
бульвара и до Лоуренса - последнее одинокое позвякивание моих консервов
Одиночества в безлюдной долине, которому, обнаженный, внемлю с
удовлетворением -- В таком далеком далеком отсюда начале времен было
смерчеподобное пророчество гласившее что все мы плача будем сметены и
унесены как щепки - Люди с усталыми глазами уже понимают это и ждут
наступления бесформенности и распада - и все же может быть сила любви в их
сердцах не ослабла и осталась той же, просто я не знаю больше что означает
это слово - все что мне нужно сейчас это порция мороженого
За 63 дня я оставил после себя горку дерьма размером с новорожденного
младенца - вот в чем женщины превосходят мужчин - Хозомин даже не шевельнула
бровью - Венера кроваво встает на востоке, это последняя ночь и мне тепло
несмотря на холод Осенних ночей пронизанных таинством синих камней и синего
пространства - Через 24 часа я уже буду у Скэджит-ривер и усядусь скрестив
ноги с бутылкой вина на опилочном круге оставшемся от пня - Звезды
приветствуют меня -- Теперь я знаю тайну горного струения -
Окей, хватит с меня -
Текущее сквозь все протекло и через кусочки изоляции валяющиеся
выброшенными нет не просто выброшенными во дворе, это те самые кусочки что
были когда-то частью большой нужной людям изоляции, но теперь они не более
того чем являются, текущее сквозь все столь ликующе что я подбираю их и
кричу про себя всем сердцем своим Хо-Хо я кидаю их на запад в сгустившееся
сумеречное молчание и они проплывают в воздухе маленькие черные штуковины и
шлепаются на землю, вот так-то вот - Это блестящие коричневые кусочки
пластика, и когда я говорю так что это были блестящие коричневые кусочки
пластика неужели же я действительно считаю что это были "блестящие
коричневые кусочки пластика"? -
Это истинно для кусочков изоляции, для меня и для тебя -
Завернув все эти открывшиеся безмерности самопознания в один саван, я
начинаю свое скольжение "победной поступью Тарквиниуса"[29] вниз во мрак
мира обусловленного, видение вечной свободы вспыхивает в моем мозгу как
лампочка - просветление - пробуждение -- неведомые приключения чья природа
свет бессвязно вырисовываются передо мною и я прозреваю сквозь них все, ур,
арг, оих, элло -
Дождись меня, Чарли, я спущусь с человеком дождя -- И ты увидишь что
ничего никогда не было - Звонит новый черный фраон - Да фа ла бара, гии
меэрия - слышишь? -- Да что за хуйня, мне осточертело тужиться что-то
сказать; все равно в этом нет никакого смысла - Eh maudit Christ de bateme
que s`am`fend![30] - Да разве может что-нибудь закончиться?
маленьких бьющихся сердец - Я закрываю все свои
ставни по всем четырем сторонам света и сижу в темном доме, только одна
дверь остается открытой, и я замечаю как ярок и тепел солнечный свет и
воздух, и мне кажется, что тьма выдавливает меня сквозь последнее ведущее в
мир отверстие - Это мой последний полдень, я сижу и думаю об этом,
интересно, что чувствуют заключенные в последний день 20-летнего срока - Я
могу лишь сидеть и пытаться вобрать в себя все это - Шест анемометра сложен,
все уложено, мне осталось только забросать мусорную яму, вымыть кастрюли и
до-свидания, оставив радио завернутым в ткань, засунув под дом антенну и
присыпав известкой туалет - Каким печальным выглядит мое дочерна загоревшее
лицо в затемненном закрытыми ставнями окне, очертания его напоминают мне о
том что полжизни прожито, это уже почти зрелый возраст, разложение и страсти
готовы привести меня к сладкой победе золотой бесконечности - Полнейшая
тишина, безветренный полдень, маленькие пихты высохли и покоричневели, их
летнее рождество окончено и теперь уж скоро бури покроют инеем и завьюжат
всю округу - И не станут тикать ни одни часы, не станет тосковать ни один
человек и пребудут молчаливыми снег и погребенные им камни, а Хозомин как
всегда будет неясно вырисовываться и грустить беспечально - Прощай, Пик
Одиночества, ибо познал ты меня как есмь - Да парят ангелы неродившиеся и
ангелы погибшие над тобою подобны облаку и окропляют тебя подношениями
золотых вечных цветов - Текущее сквозь все протекло теперь и через меня и
через этот мой карандаш и больше нечего добавить - Маленькие пихты скоро
станут большими - Я бросаю последнюю консервную банку вниз по крутому склону
и слышу как она грохочет весь путь в 1500 футов и это опять напоминает мне
(из-за большой свалки консервных банок накопившихся от смотрителей за
пятнадцать лет) о великой лоуэлловской свалке на которой мы играли по
субботам среди ржавых автомобильных останков и куч смердящего мусора и
считали это великолепным, все это включая старые горделивые авто с
изуродованными проржавевшими сцеплениями валяющиеся под боком
суперсовременной с иголочки автострады проложенной от самого центра вокруг
бульвара и до Лоуренса - последнее одинокое позвякивание моих консервов
Одиночества в безлюдной долине, которому, обнаженный, внемлю с
удовлетворением -- В таком далеком далеком отсюда начале времен было
смерчеподобное пророчество гласившее что все мы плача будем сметены и
унесены как щепки - Люди с усталыми глазами уже понимают это и ждут
наступления бесформенности и распада - и все же может быть сила любви в их
сердцах не ослабла и осталась той же, просто я не знаю больше что означает
это слово - все что мне нужно сейчас это порция мороженого
За 63 дня я оставил после себя горку дерьма размером с новорожденного
младенца - вот в чем женщины превосходят мужчин - Хозомин даже не шевельнула
бровью - Венера кроваво встает на востоке, это последняя ночь и мне тепло
несмотря на холод Осенних ночей пронизанных таинством синих камней и синего
пространства - Через 24 часа я уже буду у Скэджит-ривер и усядусь скрестив
ноги с бутылкой вина на опилочном круге оставшемся от пня - Звезды
приветствуют меня -- Теперь я знаю тайну горного струения -
Окей, хватит с меня -
Текущее сквозь все протекло и через кусочки изоляции валяющиеся
выброшенными нет не просто выброшенными во дворе, это те самые кусочки что
были когда-то частью большой нужной людям изоляции, но теперь они не более
того чем являются, текущее сквозь все столь ликующе что я подбираю их и
кричу про себя всем сердцем своим Хо-Хо я кидаю их на запад в сгустившееся
сумеречное молчание и они проплывают в воздухе маленькие черные штуковины и
шлепаются на землю, вот так-то вот - Это блестящие коричневые кусочки
пластика, и когда я говорю так что это были блестящие коричневые кусочки
пластика неужели же я действительно считаю что это были "блестящие
коричневые кусочки пластика"? -
Это истинно для кусочков изоляции, для меня и для тебя -
Завернув все эти открывшиеся безмерности самопознания в один саван, я
начинаю свое скольжение "победной поступью Тарквиниуса"[29] вниз во мрак
мира обусловленного, видение вечной свободы вспыхивает в моем мозгу как
лампочка - просветление - пробуждение -- неведомые приключения чья природа
свет бессвязно вырисовываются передо мною и я прозреваю сквозь них все, ур,
арг, оих, элло -
Дождись меня, Чарли, я спущусь с человеком дождя -- И ты увидишь что
ничего никогда не было - Звонит новый черный фраон - Да фа ла бара, гии
меэрия - слышишь? -- Да что за хуйня, мне осточертело тужиться что-то
сказать; все равно в этом нет никакого смысла - Eh maudit Christ de bateme
que s`am`fend![30] - Да разве может что-нибудь закончиться?
 Перевод: Миша Шараев, tralala@yandex.ru
-------------------------
* На самом-то деле Desolation Angels это больше Ангелы Опустошения, чем
Ангелы Одиночества (Desolation - хитрое словцо), просто по другим делам не
срослось (хотя Опустошение в миру и Опустошение в одиночестве мне тоже
нравится, потому что "пустота" есть), а Ангелы Опустошения это из
Апокалипсиса, ангелы которые появятся в Судный День, в начале всех
последующих событий.
[1] Северное Сияние
[2] Banana-splits -- на самом деле это скорее такое особое мороженое,
когда в расщепленный банан кладется мороженое, фрукты и прочие вкусные
штуковины
[3] Любопытная история, но я вот спросил одного американа, и он
подтвердил, что перевод правильный, и катера действительно ныряют под плоты,
на которых стоит публика. Вот так вот.
[4] Ну, что-то вроде этого... J
[5] Конелрад - система гражданской обороны (оповещение о воздушной
тревоге)
[6] Тендерлойн - нарицательное имя для района где много кабаков и
прочих развлекательных заведений.
[7] Skid Row -- район дешевых гостиниц, трущобы
[8] Ноумен - вещь как она есть, очень философское понятие
[9] Феномен - вещь какой она кажется, из этой же серии
[10] Ну, если вы действительно хотите это знать, я получил вот такую
справку от одного грека -- парато по гречески значит отрицать, отказываться,
мана это мать, а мано значит материнский, ноит- могло произойти от
греческого ноизис что значит понимание или сознание, так что вместе
получается что-то вроде "отрицания материнского сознания", можно конечно
было бы найти какое-нибудь русское соответствующее словцо, но раз Керуак
писал греческую белиберду, значит и мне можно. К тому же Керуак маму любил,
известный факт, так что все это вообще ничего не значит.
[11] Здесь смысл вообще двойной -- hitting the rail значит на сленге
бродяг "заныкаться на товарняке", а на наркоманском "вмазаться по вене". Мне
больше первый вариант понравился.
[12] Ти Пуссе -- искаженное французское "маленький цыпленок", семья
Керуака была франкоговорящей (родом из Квебека) и его первым языком был
французский.
[13] Игра слов, Джун -- июнь по-английски
[14] В оригинале было Пуджистов, тех кто читает пуджи значит,
буддистские молитвы, но не нравится мне вот это слово и все, так что я его
изменил на экзистенциалистов, простите уж за обман!
[15] Линдберг -- американский летчик, совершил первый беспосадочный
перелет из Нью-Йорка в Париж
[16] Наги - (Хинди) Водяные духи, полулюди-полузмеи, обычно несущие
благополучие и мир
[17] Амида -- Будда Амитабха, Будда Безграничного Света
[18] loi -- по французски "закон"
[19] Териоморфной -- что-то вроде звероподобной, а слово такое
вставлено Керуаком для умности.
[20] Бламанже -- французское слово, и в нем тоже есть белый (blanc)
[21] В оригинале fidence -- похоже на искаженное fidelity - верность
[22] Красные Мундиры -- так индейцы называли англичан
[23] ИРМ - Индустриальные Рабочие Мира - мощный рабочий профсоюз
[24] Эвереттский расстрел -- известный расстрел демонстрации
американских рабочих полицией.
[25] Дос Пассос -- американский писатель-коммунист 20-х годов, писал
довольно навороченно.
[26] Буддисты не проводят разделения между животными и людьми по
признаку "наличия души", все молитвы направлены на просветление "всех
чувствующих существ", и тут под "чувствующим существом" имеется в виду
Джерри.
[27] В оригинале классная игра слов han shan man mad me mop -- можно
понять как made me mop (заставил меня мыть (пол в кухне) -- вспомните диалог
двух дзенских монахов) но mad (вместо made) значит "безумный".
[28] Горячей Воды! (исп.)
[29] Тарквиниус - римский император
[30] На очень странном французском (видимо, канадском диалекте) это
значит примерно "Ядреный корень, в бога-душу-мать!" или что-то вроде этого,
большая свобода для творчества
Перевод: Миша Шараев, tralala@yandex.ru
-------------------------
* На самом-то деле Desolation Angels это больше Ангелы Опустошения, чем
Ангелы Одиночества (Desolation - хитрое словцо), просто по другим делам не
срослось (хотя Опустошение в миру и Опустошение в одиночестве мне тоже
нравится, потому что "пустота" есть), а Ангелы Опустошения это из
Апокалипсиса, ангелы которые появятся в Судный День, в начале всех
последующих событий.
[1] Северное Сияние
[2] Banana-splits -- на самом деле это скорее такое особое мороженое,
когда в расщепленный банан кладется мороженое, фрукты и прочие вкусные
штуковины
[3] Любопытная история, но я вот спросил одного американа, и он
подтвердил, что перевод правильный, и катера действительно ныряют под плоты,
на которых стоит публика. Вот так вот.
[4] Ну, что-то вроде этого... J
[5] Конелрад - система гражданской обороны (оповещение о воздушной
тревоге)
[6] Тендерлойн - нарицательное имя для района где много кабаков и
прочих развлекательных заведений.
[7] Skid Row -- район дешевых гостиниц, трущобы
[8] Ноумен - вещь как она есть, очень философское понятие
[9] Феномен - вещь какой она кажется, из этой же серии
[10] Ну, если вы действительно хотите это знать, я получил вот такую
справку от одного грека -- парато по гречески значит отрицать, отказываться,
мана это мать, а мано значит материнский, ноит- могло произойти от
греческого ноизис что значит понимание или сознание, так что вместе
получается что-то вроде "отрицания материнского сознания", можно конечно
было бы найти какое-нибудь русское соответствующее словцо, но раз Керуак
писал греческую белиберду, значит и мне можно. К тому же Керуак маму любил,
известный факт, так что все это вообще ничего не значит.
[11] Здесь смысл вообще двойной -- hitting the rail значит на сленге
бродяг "заныкаться на товарняке", а на наркоманском "вмазаться по вене". Мне
больше первый вариант понравился.
[12] Ти Пуссе -- искаженное французское "маленький цыпленок", семья
Керуака была франкоговорящей (родом из Квебека) и его первым языком был
французский.
[13] Игра слов, Джун -- июнь по-английски
[14] В оригинале было Пуджистов, тех кто читает пуджи значит,
буддистские молитвы, но не нравится мне вот это слово и все, так что я его
изменил на экзистенциалистов, простите уж за обман!
[15] Линдберг -- американский летчик, совершил первый беспосадочный
перелет из Нью-Йорка в Париж
[16] Наги - (Хинди) Водяные духи, полулюди-полузмеи, обычно несущие
благополучие и мир
[17] Амида -- Будда Амитабха, Будда Безграничного Света
[18] loi -- по французски "закон"
[19] Териоморфной -- что-то вроде звероподобной, а слово такое
вставлено Керуаком для умности.
[20] Бламанже -- французское слово, и в нем тоже есть белый (blanc)
[21] В оригинале fidence -- похоже на искаженное fidelity - верность
[22] Красные Мундиры -- так индейцы называли англичан
[23] ИРМ - Индустриальные Рабочие Мира - мощный рабочий профсоюз
[24] Эвереттский расстрел -- известный расстрел демонстрации
американских рабочих полицией.
[25] Дос Пассос -- американский писатель-коммунист 20-х годов, писал
довольно навороченно.
[26] Буддисты не проводят разделения между животными и людьми по
признаку "наличия души", все молитвы направлены на просветление "всех
чувствующих существ", и тут под "чувствующим существом" имеется в виду
Джерри.
[27] В оригинале классная игра слов han shan man mad me mop -- можно
понять как made me mop (заставил меня мыть (пол в кухне) -- вспомните диалог
двух дзенских монахов) но mad (вместо made) значит "безумный".
[28] Горячей Воды! (исп.)
[29] Тарквиниус - римский император
[30] На очень странном французском (видимо, канадском диалекте) это
значит примерно "Ядреный корень, в бога-душу-мать!" или что-то вроде этого,
большая свобода для творчества
* ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ОДИНОЧЕСТВО В МИРУ *
 Но вот и время истории, время исповеди...
Все чему я научился за проведенное на пустынной горе лето, мои Видения
Пика Одиночества, я попытался принести их в лежащий внизу мир и разделить со
своими друзьями в Сан-Франциско, но они, имевшие дело с давлением времени и
жизненной суматохи, а не с вечностью и одиночеством заснеженных горных скал,
сами могли бы преподать мне урок - К тому же, видение свободы посреди
бесконечности которое открылось мне так же как открывалось ранее всем
пустынствующим в первозданности святым, мало подходит для городов и нашего
полного противоречий общества -- И что же это за мир в котором не только
дружба отменяет вражду, но и вражда дружбу, а могила и урна с прахом
отменяют все - Самое время умереть в неведении, но раз уж мы живем, чему нам
радоваться и что можем мы сказать? И что сделать? Мы, плоть сгрудившаяся[1]
в Бруклине и других подобных местах, больные желудки, подозрительные сердца,
жестокие улицы, борьба идей, все человеческое в огне ненависти и ах-ой -- И
первое что я заметил приехав в С.Ф. со своим рюкзаком и миссией сообщить
людям что они валяют дурака - тратят понапрасну время - потому что
несерьезны - нелепы своим соперничеством - робки перед лицом Господа - и
даже ангелы затянуты в борьбу -- я понял вот что: каждый в мире этом ангел,
мы с Чарли Чаплином видели их крылья, ангелу не обязательно быть
серафимоподобной маленькой девочкой с задумчивой печальной улыбкой, можно
быть Гулякой-Батчем в полосатом пиджаке скалящимся из своего подвала, из
этой клоаки своей, можно чудовищным чесоточным Вэллейсом Пивохлебом в
грязной майке, можно сумасшедшей индеанкой валяющейся в сточной канаве,
можно даже блистательным лощеным и шустрым Американским Чиновником со
смышлеными глазами, или даже желчным интеллектуалом европейских столиц, но я
вижу большие горестные невидимые крылья за всеми этими плечами и как же мне
жаль что они невидимы и бесполезны на этой земле и никогда не были полезны и
все чем мы заняты это бесконечная борьба до самой смерти -
Почему?
И в самом деле из-за чего же борюсь я сам? Позвольте же мне начать с
признания в моем первом убийстве и продолжить свой рассказ, и тогда все вы,
с крыльями и всем прочим, решайте сами - Это Инферно[2] - здесь я сижу
болтаясь вниз головой с поверхности планеты Земля, удерживаемый гравитацией,
выводя каракули своей повести и знаю что в повести этой никакой нужды нет,
но все же я знаю и то что в молчании тоже нет нужды - но это мучительная
тайна -
Зачем же еще нам тогда жить как не (хотя бы) попытаться рассказать об
ужасе и кошмаре этой жизни, Боже мой как же мы старимся, некоторые из нас
сходят с ума и все меняется так порочно - и эти порочные перемены ранят нас,
как только что-нибудь становится законченным прекрасным обалденным оно сразу
же начинает разваливаться и сгорать -
Простите меня за все это - но сколько я не извиняйся это не поможет
вам, не поможет и мне -
В горной хижине я убил мышь которая - ах - ее маленькие глазки смотрели
на меня умоляюще, она уже была непоправимо изувечена тычком моей палки в ее
убежище среди пачек липтоновского горохового супа, вся в зеленом порошке,
трясущаяся, я направил луч фонарика прямо на нее, разгреб пачки, и она
посмотрела на меня "человеческими" испуганными глазами ("Все живые существа
содрогаются в страхе наказания"), маленькие ангельские крылышки и прочее, и
я сделал это тогда, прямо в голову, резкий убивший ее удар , глаза внезапно
угасли засыпанные зеленой пылью - Убивая ее, я почти всхлипнул рыданием
"Бедная малышка!" как будто это сделал не я сам? - Потом вышел наружу и
опорожнил чан со склона, отобрав сперва неразорвавшиеся от удара упаковки
супа, съеденного потом мною с удовольствием супа - выбросив, поставил чан с
посудой (в котором складывал портящуюся еду и вешал потом под потолок, и все
же хитрая мышь как-то умудрилась запрыгнуть туда) поставил чан с посудой в
снег залив внутрь ведро воды и когда я посмотрел в него на следующее утро
там в воде плавала мертвая мышь - Я подошел к обрыву, поискал и нашел
мышиный трупик -- И я подумал "Ее спутник совершил самоубийство в ее
смертном чане, с горя!" - Происходило что-то зловещее. Я был наказуем
маленькими смиренными мучениками - И тогда я понял что это была та же самая
мышь, она прилипла ко дну чана (кровью?) когда я опрокидывал его в темноте,
а мертвая мышь в овраге была старая утонувшая в хитроумной водяной мышеловке
придуманной моим предшественником и которую я скрепя сердце тоже зарядил
(банка надетая на ось, с приманкой на крышке, мышь встает на нее чтобы
откусить кусочек и банка переворачивается скидывая мышь, я сидел и читал
днем когда услышал с чердака прямо над моей кроватью роковой маленький
всплеск и несколько первоначальных бьющихся попыток плыть, чтобы не слышать
эти звуки мне пришлось выйти во двор, почти плача, и когда я вернулся назад,
тишина) (и на следующий день, утонувшая мышь вытянувшая как привидение к
миру свою костлявую шею к смерти, волоски шерсти на хвосте колышутся по
воде) - Ах, убийство двух мышей и попытка убить третью, которая, когда в
конце концов я поймал ее за полкой с кружками, встала на маленькие задние
лапки глядя в ужасе вперед, и эта ее маленькая белая шейка, и я сказал себе
"Хватит", пошел спать и предоставил ей свободу жить и шебаршиться по комнате
сколько влезет - все равно позже она была убита крысой - Комочек мяса и
костей и ненавидящий бубонный хвост, и я уготовил себе временное пристанище
в аду убийц и все из-за ужаса перед крысами - я думал о кротком Будде не
испугавшемся бы крошечной крысы, и об Иисусе, и даже о Джоне Бэрриморе[3]
кормившем в детстве мышей в своей комнатке в Филадельфии - Выражения типа
"Ты мужчина или мышь?", "мудрость мышиная и мудрость человечья[4]" или "и
мыши не обидит " начали ранить меня и "он и мыши испугается" тоже -- И я
просил прощения, пытался раскаянно молиться, но меня не покидало чувство что
раз я отрекся от своего зарока быть святым ангелом с небес никогда не
убивающим, весь мир может теперь сгореть дотла - Так казалось мне - В
детстве я воевал с шайками мучителей белок, несмотря на риск для самого себя
- А теперь я сам - И я понял что все мы убийцы и мучители потому что в
прошлых жизнях убивали и должны были возвращаться чтобы отбывать свое
наказание, смертный приговор которым является жизнь сама, и поэтому в
нынешней жизни мы должны перестать убивать иначе мы будем вынуждены всегда
возвращаться из-за присущей нам Божественной природы и той магической силы
что делает очевидными наши истинные стремления - Я вспомнил как был опечален
мой отец утопив одним давешним утром мышонка, и как моя мать сказала "Бедные
малыши" - Но теперь я сам присоединился к шеренгам убийц и больше не имел
права быть таким праведным и самодовольным, ведь на какое-то время здесь (до
истории с мышью) я начал считать себя кем-то божественным и непогрешимым -
Теперь же я просто обычный человек-убийца как и все остальные и не найти мне
больше убежища на небесах и вот он я, мои ангельские крылья запятнаны кровью
жертв, малых и иных, и я пытаюсь говорить о том что нужно нам делать, но сам
знаю об этом не более вас -
Не смейтесь - у мыши есть маленькое бьющееся сердечко, и та маленькая
мышь которой я позволил жить за полкой с кружками была по-настоящему
"по-человечески" испугана, она была загнана в угол большим чудовищем с
палкой и она не знала за что ей выпала участь умереть - она смотрела вверх,
вокруг, по сторонам, с поднятыми маленькими коготками, на крошечных ножках,
тяжело дыша - затравленно -
Когда большой с корову олень пасшийся в моем залитом лунным светом
дворе застыл неподвижно я посмотрел на его бок как сквозь ружейный прицел -
и хотя я никогда не стал бы убивать оленя умирающего большой смертью -- все
же его бок для меня означал пулю, означал вонзающуюся стрелу, в сердце
человека всегда царит убийство - Святой Франциск должно быть знал об этом -
И представьте себе как кто-нибудь пришел бы в пещеру Святого Франциска и
рассказал бы ему кое-что из того, что говорится о нем сегодня злобными
интеллектуалами, коммунистами и экзистенциалистами по всему миру,
представьте: "Франциск, ты просто-напросто испуганный глупый болван,
прячущийся от трудностей жизни в миру, оттягивающийся на природе и
притворяющийся ужасно святым и любящим животных, и ты прячешься от реального
мира проявляя тем самым формальные херувимо-серафимские тенденции, в то
время как люди страдают и рыдающие старухи сидят на улицах и Ящерица Времени
вечно скорбит на горячем камне, ты, ты, считаешь себя таким святошей,
попердываешь тайком в своей пещерке, воняешь не менее других людей, ты что
хочешь сказать что ты лучше других?" Франциск мог бы его просто-напросто
убить - Кто знает? - Я люблю Франциска Ассизского не менее любого другого
человека в мире но откуда мне знать что он сделал бы? - мог бы и убить
своего мучителя - Загвоздка в том что, убьешь ты или нет, для сводящих с ума
пустоты и одиночества это не имеет никакого значения - Все что нам известно
наверняка - это то что все окружающее нас живо, а иначе его и не было бы
здесь - Все остальное лишь предположения, суждения ума о реальности чувства
добра или зла, так или иначе, но никто не знает всей святой истинной правды,
потому что она незрима -
Все святые отправлялись в могилу с той же гримасой что и убийца и
злодей, пыль не знает различий, она поглотит любые губы что бы те не
произносили и все это потому что ничто не имеет значения и все мы знаем об
этом -
Скоро возникнет новый вид убийцы, который станет убивать без всякой
причины, просто чтобы доказать что это не имеет значения и это его творение
будет не более и не менее ценным чем последние квартеты Бетховена и Реквием
Бойто - Церкви падут, монгольские орды помочатся на карту Запада,
короли-дегенераты будут рыгать на костях и всем будет наплевать когда земля
сама превратится в атомную пыль (которой она и была изначально) и пустота
так и останется пустотой ей будет все равно, пустота будет длиться с этой
доводящей до безумия усмешкой которая видится мне во всем, я гляжу на
дерево, камень, дом, улицу и я вижу усмешку - Это "тайная ухмылка Бога", но
что это за Бог который не смог додуматься до справедливости? -- Так что они
станут жечь свечи, произносить речи и ангелы впадут в исступление. Ах но "Я
не знаю, мне наплевать и это не важно" станет последней молитвой человека -
А в это время во всех направлениях вселенной, внутрь и наружу, наружу
ко всем бесконечным планетам бесконечного пространства (бесчисленнее
песчинок в океане) и внутрь в беспредельные пространства собственного тела
которое тоже бесконечный космос и "планеты" (атомы) (весь этот безумный
электромагнетический порядок скучающей вечной силы), все это время
происходят убийства и бесполезная деятельность, и так они происходили всегда
с самого начала безначальных времен, и будут происходить бесконечно, и все
что мы способны познать, мы, с нашими склонными искать оправдания сердцами,
это что вещи есть лишь то чем являются и не более и не имеют названия и суть
чудовищная сила -
Для тех же кто верит в личного Бога заботящегося о добре и зле и
обманывает себя за гранью сомнения, хоть Господь и благословляет их, на
самом деле он просто впустую благословляет пустоту -
И это не что иное как Бесконечность, бесконечно разнообразно
развлекающаяся прокручивая себе кино, пустота и материя одновременно, она не
ограничивает себя тем или другим, необъятность включает в себя все сразу -
Но я думал там на горе, "Что ж" (и проходил мимо маленького холмика где
похоронил мышь когда шел для своих ежедневных смрадных испражнений) "пусть
наши умы станут безучастны, пусть мы станем пустотой" - но как только мне
наскучило на горе и я спустился вниз, я так и не смог в жизни своей быть
чем-то иным, чем гневным, потерянным, пристрастным, циничным, запутавшимся,
испуганным, глупым, гордым, насмешливым, дерьмо дерьмо дерьмо --
Свеча горит
И когда она сгорает
Воск застывает красивыми наплывами
вот и все, что мне известно
И вот я начал утомительный спуск по горной тропе с набитым рюкзаком за
плечами и постоянный хрум-хрум моих подошв по камням и земле напомнил мне о
том что самое в мире важное для меня сейчас - это ноги - мои ступни -
которыми я так горжусь, и они начали сдавать уже через три минуты после того
как я бросил прощальный взгляд на свою затворенную сторожку (прощай чудачка)
и даже ненадолго преклонил перед ней колена (так преклоняют колена перед
памятниками ангелам мертвецов и ангелам нерожденных, перед сторожкой в
которой грозовыми ночами в моих Видениях мне было заповедано все) (и тогда
мне было страшно оторваться от земли, склонив голову, держась за нее руками,
потому что казалось мне что Хозомин обернется медведем или в ином мерзком
образе и обрушится на меня, склоненного) (в тумане) - К темноте начинаешь
как-то привыкать и понимаешь что все духи дружественны - (Хань-Шань говорил
"Холодная Гора таит множество скрытых чудес и люди взбирающиеся на нее
ужасаются") - ко всему этому привыкаешь, учишься тому что все мифы истинны
но пустотны, мифоподобны[5] и не здесь, но существуют многие вещи ужаснее и
страшнее на (перевернутой вверх ногами) поверхности земли чем тьма и слезы
-- Таковы люди, стоит твоим ногам начать сдавать, и вот твои карманы
вывернуты грабителями, и вот ты в агонии и умираешь - Нет на это времени,
нету и смысла, и ты слишком счастлив чтобы думать об этом когда наступает
Осень и ты тяжелой поступью спускаешься с горы к изумительным городам
бурлящим вдалеке -
Забавно что теперь, когда подошло (в безвременности) время покинуть эту
опостылевшую скалистую вершину-ловушку, я не испытываю никаких чувств,
вместо того чтобы воздать смиренную молитву своему святилищу оставляя его за
поворотом и за нагруженной спиной моей, я говорю лишь "Пум-бум - че-пу-ха"
(и знаю что гора, пустота, поймет) но где же радость? -- радость которую я
так ждал, радость сияющих скал и свежих снегов, непривычных священных
деревьев и милых укромных цветов возле уводящей вниз О радостной тропы?
Вместо всего этого я погружаюсь в размышления озабоченно пожевывая, и в
конце Голодного хребта, всего лишь чуть-чуть отойдя от сторожки, я уже
присаживаюсь отдохнуть и перекурить потому что мои лодыжки устали - Что ж, я
смотрю вперед и вижу Озеро ничуть не приблизившееся и выглядящее почти точно
таким же, но О, мое сердце рвется разглядеть что-нибудь - Господь создал
тонкую лазурную дымку заволокшую завесой безымянных песчинок бугроватости
розовеющего на севере позднеутреннего облака которое отражается в синей
поверхности озера, чуть розоватое, это отражение столь эфемерно что почти и
говорить-то не о чем, и все же мимолетность эта будто бы призвана
подтолкнуть меня в самое сердце и навести на мысль "Но ведь Господь создал
это маленькое таинство красоты чтобы я мог ее увидеть" (потому что вокруг
больше нет никого кто мог бы увидеть ее так) -- И на самом деле,
душераздирающее таинство это заставило меня понять его как игру Господа (для
меня) и увидеть крутящееся кино реальности как растворение зрения в озере
жидкого понимания, и я уже готов был к вскрику осознания "Я люблю Господа"
-- это наша с Ним возникшая на Горе связь - я полюбил Господа -- И что бы ни
случилось со мной на этой ведущей в мир тропе я принимаю это потому что я и
есть Господь и все это делаю я, а кто же еще?
В медитации
Я Будда - А кто же еще?
Все это время я сижу на высокогорном альпийском лугу вытянувшись не
вылезая из лямок и облокотившись на поставленный на травяной пригорок рюкзак
- Цветы повсюду - Гора Джек все там же, и Золотой Рог - Хозомин не видна,
спряталась за Пиком Одиночества - И вдалеке, там где озеро начинается, нет
никаких признаков Фреда с лодкой, они должны будут появиться в виде жучиных
кругов на округлой водяной пустоте озера - "Пора вниз" - Нужно спешить - За
два часа я должен пройти вниз пять миль - В ботинках истерлись подметки и я
смастерил толстые картонные подошвы, но камни уже изорвали и их, и вот уже
картон начал скользить по камням, и вот уже я ступаю по камням (с 70 фунтами
за плечами) ничем незащищенными ногами в носках - Ну разве это не смешно,
крутой певец гор и Король Пика Одиночества не может спуститься со своего
собственного пика - Я с усилием поднимаюсь, уф, весь вспотевший и начинаю
опять, вниз, вниз по пыльной каменистой тропе с крутыми как в аттракционе
"русские горки" спусками, съезжаю по некоторым из них скользя по склону на
ногах как на лыжах до следующего витка - набиваю себе ботинки камушками -
Но что за радость, мир! Я иду! - Но израненные ноги не могут радоваться
и праздновать это движение - Утомленные бедра дрожат и им больше не хочется
ничего нести на себе, но приходится, шаг за шагом -
Теперь я вижу след лодки появившийся на воде в 7 милях отсюда, это Фред
плывет встретить меня у подножия тропы, там где два месяца назад
тяжелогруженые мулы перебирались, оскальзываясь под дождем, с баржи на тропу
- "Я доберусь точняк вровень с ним" - "встречу лодку" - смеясь - Но тропа
становится все хуже, с высокогорных лугов русскими горками она спускается до
уровня зарослей подталкивающих мой рюкзак, и булыжники на тропе смерть для
моих зажатых сдавленных ног - Иногда тропа зарастает травой по колено, и
становится полной невидимых колючек - Я подсовываю пальцы под лямки рюкзака
чтобы поддернуть их повыше - Это куда труднее чем я думал - Я вижу как
ребята хохочут надо мной. "Старина Джек думал что пройдет тропу под своим
рюкзаком за два часа! Он и полпути не сделал! Фред ждал его с лодкой битый
час, потом пошел искать и прождал потом всю ночь, пока он не заявился при
свете луны хныча "О мамочка за что ж ты меня так?" - Я вдруг понял величие
труда пожарных на большом пожаре у Грозового - Ведь им пришлось так же
ковылять и потеть под рюкзаками с пожарным оборудованием, чтобы добраться
потом до обжигающего пламени и работать еще сильней и жарче, и никакой
надежды вокруг среди этих камней и скал - А я-то, со своей "китайской
обедой" в 22 милях от них, эх - Я продолжал спускаться вниз
Лучший способ спуститься с горы вниз это бежать размахивая руками и
позволив своему телу свободно падать вниз, ноги сами понесут вас - но О я
был безног потому что у меня не было обуви (как говорится в поговорке[6]), я
был "бос", и мне вряд ли удалось бы легко протанцевать вниз громадными
поющими-тропу прыжками выгрохатывая тра-ля-тра-ля, ведь я c трудом семеня
переставлял подошвы такие тонкие, и камешки такие неожиданные, некоторые из
них награждали меня предательскими ушибами -- Такое вот джон-баньяновское
утро[7] подумал я стараясь отвлечь свои мысли на что-нибудь другое - Я
пытался петь, размышлять, грезить, делать все то что я проделывал у своего
одинокого очага -- Но тропа эта Карма предназначена тебе -- Никак не
избежать мне было этого утра истертых измученных ног, пылающей боли в бедрах
(и жалящих иголок мозолей), удушающего пота, укусов насекомых, и спастись от
всего этого дано мне и дано тебе лишь в непрестанной попытке осознать
пустотность формы (включая пустотность формы своего стенающего тела) -- Я
должен был справиться, я не мог остановиться, и у меня оставалась лишь одна
цель, добраться до лодки, или даже упустить лодку, О как бы мне спалось этой
ночью на этой тропе, под светом полной луны, но полная луна сияет и в долине
- и там можно слышать льющуюся над водой музыку, вдыхать запах сигаретного
дыма, слушать радио - Здесь же у меня были лишь полуиссохшие сентябрьские
ручейки шириной с ладонь, бьющие струйками воды, которую я зачерпывал и пил
и рвался идти дальше - Боже - Как прекрасна жизнь? Прекрасна
как холодная
вода в роднике
на пыльной изнурительной тропе
- на бурой изнурительной тропе - в июне, весь заляпанный грязью из под
копыт мулов которых я тыкая прутом заставлял перепрыгивать через лежащее
бревно, слишком большое чтобы по нему ступать, и Боже мой, я должен был
провести сквозь кучку испуганных мулов кобылу наверх, и Энди ругался "Не
могу же я один делать все, что за хрень, тащи эту кобылу сюда!" и будто во
сне из моих прошлых жизней в которых я знал толк в лошадях, я залез на
бревно ведя ее за собой, и Энди перехватил поводья и рывком потащил ее,
бедолагу, наверх, в то время как Марти всадил ей палку в зад, глубоко -- и
потом подвел испуганного мула - и тоже ткнул его палкой - и дождь и снег -
сейчас все следы этого неистовства исчезли, высохли в сентябрьской пыли, а я
сижу на этом месте и попыхиваю сигареткой -- Много разных съедобных травок
вокруг - Человек смог бы прожить здесь, спрятаться среди этих холмов, и
варить себе травы, просто надо взять с собой немного жира, варить травы на
маленьких индейских костерках, и так прожить всю жизнь - "Счастливец тот у
кого под головой вместо подушки камень, а небо и земля пусть себе меняются
сколько хотят" пел старый китайский поэт Хань-Шань - Никаких карт, рюкзаков,
определителей пожаров, батарей, аэропланов, радиопредупреждений, одни
слаженно жужжащие комары и журчание ручейка - Но нет, Господь сотворил это
кино в сознании своем и я его часть (та часть которая называется - я) и мне
предназначено этот мир понять и пройти по нему молясь Алмазной Незыблемости
которая говорит: "Ты здесь и тебя нет, одновременно, и потому, что" -- "это
струение Извечной Силы" - Поэтому я рывком поднимаюсь с земли вместе с
рюкзаком, сую большие пальцы под лямки, морщусь от боли в лодыжках, и вот
уже тропа крутится быстрее и быстрее под моими семенящими ногами и скоро я
уже бегу, склонившись, как китайская женщина под вязанкой хвороста на шее,
кхрумм кхрумм волоча и проталкивая одеревеневшие колени сквозь каменистый
подлесок и обертывая ими повороты тропы, иногда меня заносит за пределы
тропы и тогда я запрыгиваю как-то назад, но не теряюсь, с этого пути не
собьешься - У подножия горы я встречу тощего паренька в самом начале его
пути вверх, я со своим гигантским рюкзаком настоящий громадина, я еду в
города чтобы пьянствовать с мясниками, и в Пустоте царит Весна - Иногда я
падаю, колени не выдерживают, я соскальзываю вниз, рюкзак защищает мне
спину, я падаю стучу скачу дальше, какими словами описать хрямппп кхруммп
вниз по мчащейся тропе, парамтарампарам - Свист, пот - Каждый раз ударяя
свой покалеченный на футбольном поле палец я вскрикиваю "Ну щас!" но еще ни
разу не ударил так чтобы вконец охрометь - Палец, изувеченный в потасовке на
матче Колумбийского колледжа, под фонарями в гарлемских сумерках здоровенный
детина из Сандаски наступил на него ногой в острой шиповке и изо всей своей
дурацкой силы - Палец с тех пор так и не пришел в норму -- он сломан и
чувствителен сверху и снизу, и когда он натыкается на камень моя лодыжка
сама судорожно поджимается защищая - да, этот поворот лодыжки не что иное
как павловский fait accompli[8], сам Арапетьянц не смог бы объяснить мне как
лучше ее повернуть и какие мышцы напрячь - это танец, танец с камня на
камень, с боли на боль, прорыдай гору сверху донизу, вот она поэзия - И мир
ждущий меня внизу!
Туманные Сиэттлы, комические спектакли, сигары и вина и газеты в
гостинице, туманы, паромы, яичница с ветчиной и тостами по утрам - милые мои
города внизу.
Ниже, там где начинается пояс густых лесов, желтизна громадных сосен и
бурая мешанина других деревьев, великолепный воздух ударяет мне в голову,
зеленый Северо-Запад, синие сосновые иглы, свежесть, лодка нарезает клин на
поверхности ближайшего озера, она опередит меня, но это неважно, двигайся
свингуй Маркус Мэгги - Это не первая твоя такая осень и Джойс придумал слово
длиной в строчку чтобы описать ее - брабаракотавакоманаштопатаратавакоманак!
Дойдя мы зажжем три свечи трем нашим душам.
Тропа, последние полмили, она теперь хуже даже чем у вершины, камни,
большие, маленькие, изогнутые расщелины, ловушки для ног - И мне уже себя
жаль, и конечно же я ругаюсь - "Никогда не кончится!" чаще всего повторяю я,
а ведь раньше стоя у своего порога я думал так "Разве что-нибудь в этом мире
может закончиться?" Но ведь это же просто тропа
Самсары-Мира-Полного-Страданий, подвластная времени и пространству, значит
она должна закончиться, но Боже мой конца ей все нет и нет!" - и я бегу
тяжело не в силах больше подпрыгивать -- И впервые я падаю полностью
изнуренный не думая ни о чем.
И лодка плывет прямо на меня.
"Не смогу"
Я сижу так долго, унылый и уничтоженный. - Не буду даже пытаться - Но
лодка приблизилась еще, это как ход часов цивилизации, успеть на работу
вовремя, это как на железной дороге, делаешь через "не могу" - Это ковалось
в кузницах железной вулканической мощи Посейдоном и его героями, Дзенскими
Святыми с их оточенным оружием разума, Господом Богом Франков - Я рывком
поднимаюсь и пытаюсь двигаться вперед - Ни один шаг мне не дается, ничего не
выйдет, сообщают мне бедра - ээх -
В конце концов я начинаю громоздить шаги перед собой, будто закидывая
тяжелейшие мешки на вытянутых руках вверх на стоящую платформу, то же
невыносимое напряжение - но босых ног (теперь уже искромсанных, кожа
ободрана, мозоли и кровь) которыми я могу двигать лишь чуть приподнимая и
сталкивая их вниз с горы, как падающий пьяница который всегда падает (почти)
но никогда совсем не упадет, а если я упаду то будет ли мне больнее чем моим
ногам сейчас? - не-а -- надо приподнять и подтянуть колено вверх, а теперь
вниз, набитую колючками ногу на острые кромки ножниц Блэйковского
Вероломства с копошащимися червями и проклятиями - пыль - я падаю на колени.
Стоя на них немного отдыхаю и вперед.
"Ах черт, Eh maudit", плачу я последние 100 ярдов - вот лодка
причаливает и Фред резко свистит, негромко, а по-индейски Фиээу! и я отвечаю
ему своим свистом, двумя пальцами - Он присаживается, и пока я заканчиваю
путь читает ковбойскую книжку - Теперь я уже не хочу чтобы он слышал мои
стенания, но он слышит он должен слышать медленные больные шажки - плуп,
плуп - тимбл тинк камешков сыпящихся с обрыва от моих шагов, горные цветы
больше меня не занимают -
За время спуска "Не могу" было единственной мыслью у меня в голове, и
эта мысль была сверкающим негативом другой впечатанной красноватым мерцанием
в пленку моего мозга мысли "Должен" --
Одиночество, Одиночество
как же нелегко
Спуститься с тебя
Но теперь все в порядке, вода была уже у меня под носом и назойливо
плескалась по сухим деревяшкам-плавунам, когда я проходил последние метры
последней прямой ведущей к лодке тропинки - Проковыляв по ней и махнув с
улыбкой рукой, я высвободил из плена свои ноги, мозоль из левого ботинка
которую я считал острым впившимся в кожу камешком -
В охватившем меня ликовании я пока еще не осознаю что наконец-то
вернулся в мир -
И трудно себе представить приятней человека чем встречающий меня у
подножия этого мира.
Фред старожил лесов и местный рейнджер и его любят все от молодежи до
стариков - В ночлежках лесорубов он печально обращает к тебе свое грустное
почти разочарованное лицо обращенное куда-то в пустоту, иногда он не хочет
отвечать на вопросы и, погруженный в свой транс оставляет тебя пить в
одиночестве - Поглядев в его глаза устремленные куда-то вдаль, понимаешь что
дальше уже не заглянуть - Великий молчаливый человечий Боддхисатва,
Боддхисатва жителей леса - Старый Блэки Блэйк любит его, Энди любит его, его
сын Ховард любит его -- Сегодня он заменяет старину Фила, у которого
выходной, и встречает меня в лодке, козырек его сумасшедшей кепки невероятно
широк, это кепка для гольфа которой он прикрывает голову от солнца хозяйски
бороздя озеро на своей лодке - "Вот и пожарный начальник", говорят рыбаки в
кепках с пуговицами из Беллингхема и Отея - из Скуохомиша и Скуоналмиша и
Ванкувера и усаженных соснами городков и пригородов Сиэттла - Они скользят
туда-сюда по озеру, закидывая свои лески чтобы поймать таинственных
радостных рыб бывших некогда птицами но павших -- И они, рыбаки эти, тоже
были ангелами, и пали, ведь отсутствие крыльев означает потребность в пище -
Но на самом деле они хотят выудить радость радостных мертвых рыб - Я видел
это - И я понимаю о чем кричит разинутый рот рыбы на крючке - "Раз уж
попался в когти льву, не рыпайся... в такой храбрости толку нет" - Рыба
покорна,
рыбак сидит
И закидывает леску.
Старый Фред должен приглядывать чтобы рыбаки не оставляли за собой
костров опасных для леса -- У него большой бинокль и он осматривает далекие
берега - Незаконные разжигатели костров - Пикники любителей выпить на
маленьких островках, со спальными мешками и банками бобов - Иногда женщины,
некоторые из них красивые - Великие плавучие гаремы на моторках, ноги,
ляжки, эти ужасные женщины Самсары-Мира-Полного-Страданий, показывающие свои
ляжки чтобы ты крутанул свое колесо[9]
Что заставляет Землю
крутиться?
То что между ног
Фред видит меня и заводит мотор и причаливает поближе, чтобы мне было
легче запрыгнуть, он издалека видит как я замотался -- Первым делом он меня
о чем-то спрашивает, я не слышу и переспрашиваю "А?" и он удивляется, но
ведь мы призраки проведшие лето в одиночестве и дикости, мы теряем свои
очертания, становимся эфемерными и как бы не отсюда - Спустившийся с горы
смотритель напоминает утонувшего мальчика явившегося в облике привидения, я
знаю - Но он всего-навсего спросил "Ну как там наверху погодка, жарко?"
"Нет, сильный западный ветер, с Моря, не жарко, это внизу только"
"Давай рюкзак"
"Он тяжелый"
Но он все равно перегибается через борт и затаскивает его, и все это на
вытянутых руках, одним мощным усилием, и кладет его на дно, тогда я
забираюсь и показываю на свои ботинки "Смотри, ботинки накрылись" -
Мотор заводится, мы отплываем и я накладываю бинты промыв ступни в
струе у правого борта - Ого, вода поднимается и захлестывает мне ноги, так
что я обмываю их целиком, до самого колена, замачиваю свои истерзанные
шерстяные носки, выжимаю их и кладу сушиться на корму - ууууу -
И так тарахтя мотором мы движемся назад в мир, ярким солнечным и
прекрасным утром, я сижу на передней скамье и курю новые Лаки-Страйк-Кэмел
привезенные им мне, и мы разговариваем - Мы орем - мотор грохочет -
Мы орем как принято в мире Не-Одиночества (?), люди кричат в своих
гостиных, или шепчут, шум их разговоров сливается в одну безбрежно безликую
составляющую священной шипящей тишины которую со временем начинаешь слышать
постоянно научившись этому (и научившись помнить как это делается) - Ну так
почему бы нет? давай же кричи, делай что хочешь -
И мы разговариваем об оленях -
Счастье переполняет меня, счастье, бензиновая дымка стелется по воде --
и я счастлив, у Фреда есть ковбойская книжонка и я начинаю ее перелистывать,
первую небрежно сляпанную главу с насмешливыми hombre в пыльных шляпах
замышляющими убийства собравшись в расщелинах каньона - ненависть окрашивает
их лица в синевато-стальной цвет - горестные, изможденные, мрачные старые их
лошади в буйных зарослях чапараля[10] - И я думаю "О уффф это же все сон,
так не все ли равно? Ну же, текущее сквозь все, давай, протеки и сквозь это,
и я с тобой" - "Протеки сквозь старину Фреда, дай и ему ощутить твое
блаженство, Господи" - "Протеки сквозь все" - И что такое вся Вселенная наша
как не Лоно? А Лоно Господа или Лоно Татхагаты, это два разных языка но не
два разных Бога - И все же истина относительна, и мир относителен - Все
относительно - Огонь есть огонь и не есть огонь - "Не разбуди спящего в
блаженстве своем Эйнштейна" - "А раз это лишь сон, то заткнись и радуйся
жизни - озеру сознания" -
Изредка Фред все же разговаривает, особенно со старым болтуном Энди,
свежевателем мулов из Вайоминга, но разговорчивость его не идет дальше
заполнения пауз - Впрочем сегодня пока я сижу и курю свою первую фабричную
сигарету, он говорит со мной, думая что мне это нужно после 63 дней в
одиночестве - и разговор с человеком для меня подобен полету в небесах с
ангелами.
"Олени, два оленя - они - однажды ночью двое оленят паслись в моем
дворе" - (я пытаюсь перекричать мотор) -- "Медведь, медвежьи следы --
черника - " "Странные птицы" продолжаю я мысленно, и бурундуки с маленькими
зернышками овса из кормушки в изгороди старого корраля в лапках - Пони и
лошади 1935 года
где
Они теперь?
"Стали койотами на Кратерной!"
Одинокое приключение - со скоростью три мили в час мы не спеша плывем
по озеру, я устраиваюсь на задней скамье и просто отдыхаю подставив лицо
солнцу, кричать уже не нужно - какой в этом прок - И вскоре он уже промахнул
все озеро, обогнул Старательскую справа, миновал Кошачий остров и устье
Большого Бобрового, и мы поворачиваем на маленький белый флаг-тряпку
трепыхающуюся на шестах (жердях), проплываем сквозь них - но попадаем в
затор других жердей, плавучих, которые величественно и неторопливо проделали
путь за август месяц с горного озерка у Хозомин - и вот они здесь и нам
приходится маневрировать и расталкивая их проскальзывать между - после чего
Фред погрузился на целый час в рассматривание формуляров страховки
снабженных картинками-комиксами повествующими о заботливых американских
героях пекущихся о ближних своих - неплохо - и снова вперед, по плоской
поверхности озера, дома и баржи курорта Росс-Лэйк-Ризорт - для меня это
Эфес, мать всех городов - мы направляемся прямиком туда.
А вот и набережная, на которой я провел целый день ковыряясь в
каменистой почве, копая Мусорную Яму Лесных Рейнджеров и разговаривая с
Зилом, на четверть индейцем, который уволился сбежав вниз по тропе ведущей с
плотины и никто потом его не видел, они еще с братом за отдельную плату
разрубали кедровые стволы - "Неохота мне работать на правительство, ну к
черту, уезжаю в Эл-Эй" - и тут же был берег озера куда я, закончив со своей
ямой и заскочив по дорожке петляющей по кустарникам в вырытую Зилом уборную,
спускался и начинал пулять камешками по плавучим консервным банкам-кораблям,
и Адмирал Нельсон я отгонял их и они плыли и растворялись в Золотой
Бесконечности - потом дело доходило до звучных плюхов корягами и
здоровенными булыжниками чтобы брызгами залить банки но они никак не тонули,
Ах, Доблестные - И длинные-предлинные ряды буев, я думал что мне удастся
допрыгать по ним до баржи Рэйнджеровской Станции без лодки, но когда я
доскакал до среднего буя и мне пришлось перепрыгнуть через три фута
неспокойной воды на полузатонувшую корягу, я почувствовал что промок и
сдался и вернулся назад - все это было здесь, в июне, а сейчас сентябрь и я
собираюсь проехать четыре тысячи миль к городам на самом краю Америки -
"Перекусим на барже а потом мне надо будет сплавать за Патом"
Пат сегодня утром начал пятнадцатимильный спуск с Поста на Кратерной, в
три часа ночи, и мы должны будем ждать его в два часа дня у устья Громового
ручья -
"Окей - но пока ты займешься этим, я слегка всхрапну", говорю я -
У матросов нет вопросов -
Мы пристаем к барже и я выскакиваю зачалить лодку а он выгружает мой
рюкзак, теперь я босиком и чувствую себя великолепно - И О большая белая
кухня полная жратвы и с радио на полке, и письма ждущие меня - Но в общем-то
мы не особо голодны, немного кофе, и я включаю радио а он отправляется за
Патом - двухчасовое путешествие, и вот я остаюсь вдруг один с радио, кофе,
сигаретами и чудной карманной книжонкой о героическом продавце подержанных
автомобилей в Сан-Диего который видит сидящую в кафешке девушку и думает
"Ловкая у нее задница" -- Ух ты, добро пожаловать в Америку - И вдруг по
радио Вик Дэмон напевает мелодию которую я позабыл и никогда не пел в горах,
старая классика, и не то чтобы совсем забыл, просто не вспоминал давно, а он
выдает ее тут с целым оркестром (О гений Американской Музыки), "В Этом Мире,
Обычных людей,
Не-о-обычных людей
Здорово что ты здесь",
- на "здесь" с придыханием, "В этом мире бесчисленных удовольствий и
малочисленных сокровищ", гм, "здорово, что ты здесь" - а ведь в 1947-м
именно я попросил Полин Коул передать Саре Воэн, что неплохо бы ей это спеть
- О чудесная американская музыка, теперь она всего лишь на том берегу озера
от меня, и вот, после нескольких милых забавных словечек ведущего в Сиэттле,
Ой, Вик поет
Прикосновение твоей руки
К моим бровям",
в среднем темпе, и вступает величественная труба, "Кларк Терри!" узнаю
я его играющего так прекрасно, и старая баржа постанывает на своих буях,
яркий полдень - Та самая старая баржа которая ветреными ночами хлюмпает и
гудит и брызги воющей воды сияют в лунном свете, О туманная печаль Крайнего
Северо-Запада, и больше нет границ которые я мог бы пересечь и - и мир, там,
впереди, лишь кусок сыра, и я это часть кино и эта прелестная песня-западня
-
Чтоб мне провалиться если это не они, старые друзья - горы четко
выделяющиеся над лежащим лоном лапис-лазурного озера, с весенним еще снегом
на вершинах, и эти скорбные всеохватывающие летние облака подцвечивающие
розовым Эмили Дикинсоновский[11] полдень мира и ах бабочек - Издевательское
стрекотание жучков в кустах - На барже жучков нет, только лиловое лоно воды
под днищами буйков и непрерывное журчание кухонного крана, всегда открытого,
из него льет бесконечным горным потоком чтобы вода не нагревалась,
захотелось попить - протяни стакан и готово, слейся с этой песней - Солнце
сияет - жаркое солнце сушащее мои носки на горячей рассохшейся палубе - и
Фред уже отдал мне новую старую пару ботинок на первое время, по крайней
мере чтобы добраться в них до лавки в Конкрите и купить себе новые - я
загнул головки торчащих гвоздей при помощи инструментов Лесной Службы взятых
из большого сарая со снаряжением, и теперь в них будет удобно если надеть
толстые носки - В горах и на войне высушить носки или иметь запасную пару -
большое дело
Ангелы в Одиночестве --
Видения Ангелов
Видения Одиночества
А н г е л ы О д и н о ч е с т в а
Все ближе и ближе старый Фред со своей лодкой, и я вижу на расстоянии
мили маленькую кукольную фигурку около него, Пат Гэртон, смотритель с
Кратерной, вернувшийся, задыхающийся, счастливый, такой же как я - Парнишка
из Портленда (Орегон) и все лето напролет мы обменивались утешениями по
радио - "Не волнуйся, скоро все закончится" и вот уже почти октябрь - "Ага,
но когда этот день придет, я собираюсь просто слететь с этой горы!" кричал
Пат - Но к несчастью его рюкзак был слишком тяжелым, почти вдвое тяжелей
моего, и он чуть не опоздал но какой-то лесоруб (добрая душа) поднес ему
рюкзак последнюю милю до устья ручья -
Они затаскивают лодку и привязывают веревочный чал, я люблю это делать
сам потому что в море привык иметь дело с толстенными конопляными канатами
завязывая их на столбы размером с меня, в размашистом ритме завязываемой
петли, на маленьких столбах это тоже приятно делать - К тому же мне хотелось
выглядеть полезным, ведь сегодняшний день мне тоже оплачивался - Они
выбрались из лодки и я взглянул на Пата чей голос я слышал все лето и он
выглядел вполне обыкновенно - Более того, как только мы зашли в кухню и он
шел бок о бок со мной меня охватило ужасное чувство что его здесь нет, и я
начал пристально вглядываться чтобы проверить - На мгновение этот ангел
исчез - Два месяца в одиночестве сделают с вами еще и не то, как бы ни
называлась ваша гора - Он был на Кратерной, которую мне было видно, прямо на
кромке воронки явно вулканического происхождения, на границе снегов, и
продуваемой со всех сторон света ветрами и бурями дующими снизу вдоль желоба
Рубиновой и Старательской, и с востока, и с моего севера, у него было больше
снега чем у меня - И койоты выли по ночам, сказал он - И ночью страшно
выходить из сторожки - И если когда-нибудь в своем портлендском пригородном
мальчишестве ему приходилось пугаться зеленой рожи в окне, то несколько раз
там, наверху, в его ночных осторожных зрачках отражались вкрадчивые морды -
Особенно туманными ночами когда легко представить себя в блэйковской
Завывающей Пустыне или просто в старомодном аэроплане тридцатых годов
затерявшемся в видимость-ноль тумане - "Ты здесь, Пат?" спрашиваю я в шутку
-
"Я бы сказал что здесь и готов идти - а ты?"
"В порядке - нас ждет еще одна длинная дорога с плотины, черт бы ее
подрал -"
"Я не уверен, что с ней справлюсь", честно говорит он, совсем
охромевший. "Пятнадцать миль с восхода до восхода - у меня ноги совсем
отваливаются"
Я приподнимаю его рюкзак и он весит сто фунтов - Он даже не позаботился
о том, чтобы избавиться от пяти фунтов литературы Лесной Службы, с
картинками и рекламой, все это было понапихано в рюкзак, и сверх того еще и
спальный мешок под лямками - Слава Богу у его ботинок хоть подошвы были на
месте.
Мы едим праздничный обед из разогретых старых свиных отбивных, вопим от
восторга при виде масла, джема и всего того чего нам так не хватало, пьем
кружка за кружкой приготовленный мной крепкий кофе и Фред рассказывает об
МакАллистеровском Пожаре - Похоже, что несколько сотен тонн оборудования
было сброшено с самолета, и все это теперь поразбросано по склону горы -
"Надо бы сказать индейцам, чтоб подобрали что им нужно" хочу сказать я, но
где они эти индейцы?
"Никогда больше не пойду в смотрители", заявляет Пат, и я повторяю это
-- так кажется мне тогда - перед отправкой Пат постригся ежиком а теперь за
лето оброс и я удивляюсь какой он молодой, 19 или что-то вроде, и я такой
старый, 34 - это меня не тревожит а скорее приятно - В конце концов старому
Фреду 50 и ему наплевать, и нам довелось встретиться всем вместе, так же мы
и расстанемся - Чтобы вернуться опять в какой-нибудь другой форме, всего
лишь форме, потому что сущность наших 3 существ не есть 3 их формы, они
просто протекают сквозь них - Так что Бог во всем, мы ангелы разума, и
поэтому возрадуйтесь и сядьте на свои места -
"Парень", говорю я "вечером я раздобуду парочку пива" - или бутылку
вина - "и сяду у реки" -- На самом деле я не говорю этого - Пат не пьет и не
курит - Фред постоянно прикладывается к бутылке, два месяца назад в
грузовике по дороге наверх старый Энди откупорил свою кварту купленного в
Мэрблмаунте двенадцатиградусного черничного вина и мы выхлебали его еще до
Нью-Халема - Тогда я пообещал Энди что в ответ куплю ему большую кварту
виски, но сейчас я вижу что его тут нет, видать ушел взяв свой рюкзак
куда-то в верховья Большого Бобрового, и у меня шевельнулась подленькая
мыслишка что мне удастся улизнуть не купив Энди этой четырехдолларовой
бутылки - После долгого застольного разговора мы собираем наши вещи -- и на
фредовой лодке заплываем за баржи Ризорта (бензозаправки, лодки, сдающиеся
комнаты, снасти и такелаж) до большой белый стены Плотины Росс - "Я понесу
твой рюкзак, Пат", предлагаю я, думая что я достаточно силен чтобы сдюжить и
пытаюсь удержаться от самодовольства, потому как сказано в Алмазном Резце
Обета Мудрости (моя библия Ваджра-чедика-праджня-парамита Сутра которая,
говорят, была продиктована вслух - а как же еще? - самим Сакъямуни) "Твори
благо но не думай о благотворительности, ибо благотворительность это всего
лишь слово", вот почему - Пат полон благодарности, рывком закидывает мой
рюкзак, а я беру его необъятный тяжелейший тюк, надеваю, пытаюсь встать и не
могу, для этого мне пришлось бы столкнуть с места самого Атланта - Фред
улыбается из лодки, на самом деле ему жаль что мы уходим - "До встречи,
Фред"
"Теперь вам немного осталось "
Мы отправляемся в путь но сразу же обнаруживается что мне в ногу впился
гвоздь, так что мы останавливаемся на дороге, я нахожу маленький кусочек
рыбацкой сигаретной пачки, делаю себе прокладку в ботинок и мы идем опять -
Меня трясет, мне это не по силам, мои бедра снова дрожат от слабости -
Крутая дорога вниз огибает утес у плотины - В одном месте она опять идет
наверх - Облегчение бедрам, и я наклоняюсь и устремляюсь вверх - Но
несколько раз мы останавливаемся, вымотанные - "Никогда не доберемся"
продолжаю повторять я бормоча это на разный манер - "Ты ведь научился на
этой горе чистым вещам, правда? - ты не чувствуешь что ценишь теперь жизнь
больше?"
"Это уж точно", говорит Пат, "и я буду рад когда мы отсюда выберемся".
"Эх, выспимся ночью в вагончике и завтра поедем домой - " Он мог бы в
пять вечера подвезти меня до Маунт Вернон по 99 Дороге, но я лучше не стану
ждать, а поеду стопом с утра -- "Буду в Портленде раньше тебя", говорю.
В конце концов тропа спускается до уровня воды и мы топаем потея мимо
группы сидящих рабочих Городской Гидроэлектростанции - как сквозь строй
-"Где тут лодочная станция?"
Его спальник под моими лямками соскользнул и размотался но мне плевать,
я так его и несу - Мы доходим до лодочного причала и там маленький
деревянный настил, скрипим прямо по нему, сидящие женщины и собаки должны
подвинуться, мы не можем остановиться, бабахаем поклажу на доски и presto я
падаю на спину, рюкзак под голову и закуриваю сигарету - Готово. Кончилась
дорога. Паром довезет нас до Диабло, короткий переход, гигантский переезд до
Питтсбурга и Чарли уже ждет нас внизу со своим грузовиком -
Потом вдруг на тропе, спуск по которой облившись десятью потами мы
только что закончили, показываются двое бегущих чтобы успеть на паром
обезумевших рыбаков, с поклажей и здоровенным навесным лодочным мотором
подвешенным на катящуюся и подпрыгивающую на камнях двухколесную конструкцию
- они успевают как раз вовремя, паром отчаливает, все уже погрузились - я
вытягиваюсь на скамье и начинаю медитировать и отдыхать - Пат позади
рассказывает туристам как он провел лето - Паром плывет, вспенивая воду в
узком месте озера между каменистыми утесами - А я просто лежу сложив руками
и закрыв глаза и медитирую на эту сцену издали - Я знаю что в ней есть нечто
большее доступного глазу, так же как глаз больше доступного ему - И вы тоже
это знаете - Путь занимает 20 минут и вскоре я чувствую как паром замедляет
ход и глухо ударяется о причал - Вверх, с рюкзаками, я все еще тащу большой
рюкзак Пата, великодушие до самого конца? - Даже сейчас у нас еще четверть
мили пыльной мучительной дороги впереди, поворот за валуном и хо! вот и
большая платформа-лифт готовая спустить нас на тысячу футов к маленьким
опрятным домикам с лужайками и тысячью кранов и проводов идущих от Плотины
Электростанции, Плотины Диабло, Дьявольской Плотины - дьявольски скучное
место для жизни, всего с одной лавкой и в ней нет пива - Жители поливают
свои лужайки-тюрьмы, дети с собаками, средняя Индустриальная Америка в
полдень - Робкая девчушка в мамином платье, беседующие мужчины, все уже
собрались на площадке лифта, и вскоре он начинает поскрипывать вниз и мы
медленно спускаемся в земную долину - Я все еще подсчитываю: "Движемся со
скоростью миля в час к Мехико-Сити и его высокогорному Плато, осталось еще
четыре тысячи миль" -- и прищелкиваю пальцами, кому какое дело? - Вверх
движется большой груз нескрепленного железа, ненадежный противовес нашему
спуску, величественные тонны и тонны черной тяжести, Пат показывает мне это
(с комментариями)(он собирается стать инженером) - У Пата легкий дефект
речи, такое легкое заикание, возбуждение, подмямливание и иногда удушье, его
губы чуть цепенеют, но разум у него острый - и есть мужская гордость - Я
помню как летом по радио он иногда срывался на очень смешные оговорки, все
эти его "ух-ты" и восторги, но трудно себе представить что-нибудь более
безумное по этому радио чем серьезный евангелист и студент-иезуит Нед Гауди,
разразившийся, когда его навестила компания наших альпинистов и пожарных,
сумасшедшим прихихикивающим смехом, ничего более дикого в жизни не слышал,
охрипшим голосом, и все из-за того что внезапно стал говорить с нежданными
посетителями - Что касается меня, то вся моя радио болтовня сводилась к
поэтичному "Лагерь Хозомин, сорок второй на связи" чтобы перекинуться парой
слов со Старым Скотти, так, ни о чем, нескольким коротким обменам
приветствиями с Патом, нескольким приятным беседам с Гауди, ну и пару раз в
самом начале я поддался и вступил в общий треп о том, какую еду я готовлю,
как себя чувствую и почему - Пат смешил меня больше всех - Частенько
упоминался некто "Джон Ногастик", и во время пожара Пат сделал два
объявления "Джон Ногастик Скуп прибудет со следующим грузом, Джон Твист
вывалился из первого самолета" - честное слово, так и сказал - совершенно
безумный парень -
У подножья лифта нет никаких признаков нашего грузовика, мы сидим,
ждем, пьем воду и разговариваем с маленьким мальчиком, прогуливающимся в
этот превосходный полдень со своей прекрасной большой Лесси - собакой колли.
В конце концов приезжает грузовик, его ведет старый Чарли, клерк из
Мэрблмаунта, шестидесяти лет, живет там в маленьком домике-автоприцепе,
стряпает, улыбается, печатает на машинке, подсчитывает заготовленную
древесину - читает у себя в вагончике - сын у него в Германии - моет за всех
посуду в большой кухне - Очки - седые волосы - однажды в выходные, когда я
спустился вниз за выпивкой, он собирался на прогулку в лес со счетчиком
Гейгера и удочкой "Чарли", сказал я, "точно тебе говорю, в пустынных горах
Чихуахуа полным-полно урана"
"А где это?"
"На юге Нью-Мексико и Техаса, дедуля - видел небось Сокровища
Сьерра-Мадре, ну это кино о старом плешивом старателе, Уолтере Хьюстоне,
который перешагал других парней и нашел золото, прыткий прям как горный
козел, они там еще в начале встретили его в бомжовой ночлежке, в пижаме?"
Но я особо много не разговаривал видя что Чарли как-то смущается, и мне
кажется они мало чего понимают в моей манере говорить с примесями
канадско-французского, нью-йоркского, бостонского и оклахомского говоров, и
даже с примесью испанского, и даже из "Поминок по Финнегану"[12] - Они
останавливаются ненадолго поболтать с рейнджером, я ложусь на траве и вижу
как дети глазеют на лошадей у изгороди под деревом, подхожу - Что за
прекрасные минутки в Унылом городке Диабло! - Пат валяющийся на травке (по
моему совету)(мы старые алкаши знаем тайну травы), Чарли болтающий со старым
приятелем из Лесной Службы, и этот прекрасный жеребец трущийся своим золотым
носом о подушечки моих пальцев, сопя, и маленькая кобылка около него - Дети
хихикают над нашими маленькими лошадиными нежностями - Один из них
трехлетний мальчик, никак не может дотянуться -
Они машут мне и мы отправляемся, с рюкзаками на спинах, в Мэрблмаунт,
где будем ночевать в вагончике - Беседуя - И горести не-горного мира уже
навалились на нас, громадные задевающие стенки каньона грузовики с камнем
громыхают в удушливой пыли, нам приходится остановиться на обочине чтобы их
пропустить - А пока справа от нас течет то что осталось от Скэджит-Ривер
после всех этих плотин и впадений в Озеро (моего Господа - любви) Росс
(серо-голубого) - мутнобурлящий бешеный старый поток, широкий, моющий золото
в ночи, стремящийся впасть в Скуохоулвиш Куакиютл Пасифик в нескольких милях
к западу - Любимая моя чистая речушка Северо-Запада, у которой я сиживал, с
вином, на присыпанных опилками пнях, потягивая вино под испепеляющими
звездами и наблюдая как живая гора испускает и гонит от себя эти снега -
Прозрачная, зеленоватая вода, хлюпающая на бревнах-топляках, и Ах реки
Америки которые видел я и которые видели вы - струение без конца, видение
Томаса Вулфа, Америка истекающая кровью в ночи своими реками бегущими к
бездонным морям, но восстающая водоворотами и новыми рождениями, громоносным
было устье Миссисипи в ту ночь когда мы повернули в него и я спал в койке на
палубе, всплески, дождь, вспышки, молнии, запах дельты в которой
Мексиканский Залив теребит свои звезды и явит покров вод своевольно
разделяющих недоступные горные массивы, где одинокие американцы живут среди
маленьких огней -- и именно розы всегда выплывают брошенные заблудившимися
но бесстрашными влюбленными с волшебных мостов розы чтобы кровоистечь в
море, иссушенные солнцем они впитывают влагу чтобы вернуться опять,
вернуться опять - Реки Америки, и все деревья всех этих берегов и все листья
на всех этих деревьях и все зеленые миры во всех этих листьях и все атомы во
всех этих молекулах, и все бесконечные вселенные во всех этих атомах, и все
наши сердца и все наши платки и все наши мысли и все клетки наших мозгов и
все молекулы и атомы в каждой клетке, и все бесконечные вселенные в каждой
мысли - пузыри и шары - и свет всех звезд танцующий на волнах всех рек без
конца и повсюду во всем мире, не только в Америке, ваши Оби и Амазонки, и
даже Тигры с Евфратами (верится мне), и Озера Нильской Дамбы чернейшей
Конголезской Африки, и Дравидийские[13] Ганги, и Янг-Цзе, и Ориноко, и
Платы, и Валоны и Мерримаки и Скэджиты
Майонез
Банки майонеза плывут
Вниз по реке
Мы едем вниз по ущелью в сгущающихся сумерках, около 15 миль, и
добираемся до правого поворота, после которого покрытая черным гудроном
дорога тянется милю не сворачивая среди деревьев и затаившихся ферм и
кончается тупиком у Рейнджерской Станции, такая вполне подходящая для
быстрой езды дорога что водитель последней машины моего автостопного пути
сюда два месяца назад, слегка перебравши пива, подлетел к Рейнджерской
Станции на скорости 90 миль в час, на скорости 50 крутанулся на усыпанном
гравием развороте, поднял облако пыли и до свидания, взревел и умчался прочь
так, что Марти - помощник рейнджера встретив меня, протянув руку и спросив
"Ты Джон Дулуоз?" добавил потом: "Это че, друг твой?"
"Нет"
"Я бы разъяснил ему кое-что насчет превышения скорости на
государственной дороге" - Теперь мы опять подъезжаем сюда, но на этот раз
медленно. Старый Чарли крепко сжимает руль в руках и наша летняя работа
закончена -
Вагончик стоящий под большими деревьями (с небрежно намалеванной на нем
цифрой 6) пуст, мы скидываем наше барахло на скамейки, повсюду разбросаны
книжки с девочками и полотенца оставленные большими пожарными командами во
время макаллистеровского пожара - Оловянные шлемы на гвоздях, старое
неработающее радио - Я начинаю с разведения большого огня в печке в душевой,
для горячего душа - и принимаюсь возиться со спичками и щепками. Подходит
Чарли и говорит "Разведи огонь посильней", поднимает топор (он затачивает
его сам) и я прямо обалдеваю от того как несколькими резкими внезапными
ударами топора (в полутьме) он раскалывает поленья напополам и стряхивает
половинки вниз, ему шестьдесят лет а я не могу так легко коцать дрова,
нечего и пытаться - "Бог мой, Чарли, я и не знал что ты так здорово с
топором обращаешься!"
"Угу"
Мне казалось что он попивает втихую, из-за его красноватого носа -- но
нет - когда он начинал пить так уж пил вовсю, но не на работе - В это время
Пат на кухне разогревает оставшуюся тушеную говядину - Какое мягкое и
восхитительное чувство быть опять в долине, тепло, безветренно, несколько
осенних желтых листьев на траве, теплые огоньки домов (дом рейнджера О`Хара,
с тремя детьми, и еще Герке) - И впервые я осознаю что уже действительно
Осень, и еще один год прошел - И эта смутная безболезненная ностальгия Осени
висит как дымка в вечернем воздухе и ты понимаешь "О Да, О Да, О Да" - На
кухне я подкрепляюсь шоколадным пудингом, молоком и целой банкой абрикосов в
сгущенке, потом еще догоняюсь громадной тарелкой мороженого - В списке
обедов записываю свое имя, чтобы потом с меня вычли 60 центов
"Так ты что, уже наелся что ли - а говядина?"
"Нет, мне хотелось как раз этого - теперь я сыт"
Чарли тоже ест - Мои чеки на несколько сотен долларов лежат в запертой
на ночь конторе, Чарли предлагает открыть ее для меня - "Не-а, а то точно
просажу три доллара на пиво в баре" - я проведу тихий вечерок, приму душ,
высплюсь -
Мы идем чуток посидеть у Чарли, в его трейлере, похоже на посиделки с
родственниками на кухне какой-нибудь фермы Среднего Запада, мне надоедает
эта скукотища и я иду принять душ -
Пат сразу начинает похрапывать но я не могу заснуть - выхожу и
присаживаюсь на бревнышке в ночи Индейского Лета, курю - Думаю о мире -
Чарли спит в своем трейлере - С миром все в порядке -
Впереди меня ждут приключения с куда более безумными ангелами, и
опасностями, и хотя и не могу их предвидеть, я решаю оставаться безучастным
"Буду просто протекать сквозь все это так, как это делает текущее сквозь все
- "
И завтра будет пятница.
В конце концов я иду спать, полурасстегнув свой спальник из-за жары в
этой удушливой низине -
Утром я бреюсь, пропускаю завтрак ради обильного обеда и иду в контору
за своими чеками.
Яркое утро за утренними столами
Где нас встречает тихая музыка
Босс уже на месте, вежливый здоровяк О`Хара с сияющим лицом, любезно
кивающий, с приятной манерой говорить, Чарли как всегда за столом, одуревший
от бумаг, и тут подходит помощник рейнджера Герке, одетый в комбинезон
лесоруба со всеми полагающимися висюльками (он начал так одеваться со
времени пожара, где испытал прилив воодушевления), в синей выстиранной
рубашке, с сигаретой во рту, пришедший на утреннюю конторскую работу только
что от молодой жены и стола с завтраком, его аккуратные очки сияют чистотой
- Говорит: "Что ж, вроде вам это не повредило" - Имея в виду что мы
прекрасно выглядим, хотя нам кажется что мы вымотались до полусмерти, Пат и
я - И они вручают мне прекраснейшие чеки, с которыми я могу отправляться
странствовать по миру, и я прохрамываю полторы мили до города в проложенных
свернутой бумагой ботинках чтобы оплатить мой 51.17$ счет в лавке (продукты
на все лето), потом на почту где перевожу деньги на оплату долгов - Рожок
мороженого и последние бейсбольные новости на зеленом стуле около травы, но
газета такая новая, чистая и свежеотпечатанная, а краска пахнет так что
мороженое кажется мне горьковатым и в голову лезет будто я жую бумагу и от
этого меня поташнивает -- Чертовы бумаги эти, меня тошнит от Америки, я не
могу есть бумагу - и вся выпивка их бумага, и двери супермаркета открываются
автоматически чтобы пропускать раздутые утробы беременных покупательниц -
бумага слишком суха - Жизнерадостный продавец проходит мимо меня и говорит
"Ну что, нашли что-нибудь новенькое?"
Сиэттлская Times
"Ага, бейсбольные новости", говорю я - облизывая свой рожок мороженого
- готовый к автостопной трассе через всю Америку -
Хромаю назад к вагончику, мимо тявкающих собак и северо-западных
персонажей сидящих на крылечках маленьких коттеджей, разговаривая о машинах
и рыбалке - Иду на кухню и разогреваю себе обед из пяти яиц, пять яиц, хлеб,
масло, и все - Просто чтобы перехватить чего-нибудь съестного перед трассой
- И вдруг приходят О`Хара с Марти и говорят что только что с Дозорной был
сигнал о пожаре и иду ли я? - Нет, я не пойду, я показываю им свои ботинки,
даже ботинки Фреда выглядят достаточно жалко, и я говорю "У меня мускулы
больше не выдержат, на ногах" - "по мелким скалам" - идти искать что-то что
может оказаться вовсе не пожаром а обычным дымком о котором сигнализировал
обожающий посылать всякие послания Хоуард с Дозорной горы, и это мог бы быть
обычный заводской дым - В любом случае, я в этом не собираюсь принимать
участие - Они по-настоящему пытаются меня переубедить, но я не могу - и я
ковыляю к себе в вагончик чтобы отправиться оттуда в путь, Чарли кричит мне
от дверей конторы "Эй, Джек, чего так хромаешь?"
Это меня здорово приободряет и Чарли подбрасывает меня до перекрестка,
мы дружески прощаемся, я обхожу машину с рюкзаком на плечах, говорю "Ну я
пошел" и махаю большим пальцем первой проезжающей машине которая не
останавливается - Пату, которому только что за обедом я сказал "Мир висит
вверх ногами, он очень смешной, и все это просто шизовая киношка", я говорю
"Пока, Пат, увидимся где-нибудь, hasta la vista", потом им обоим "Adios", и
Чарли говорит:
"Черкни мне открытку"
"С картинкой?"
"Ага, чего-нибудь" (потому что я договорился чтобы оставшиеся чеки мне
переслали по почте в Мексику) (так что потом с крыши этого мира я послал ему
открытку с красной ацтекской головой) - (так и вижу как они критически
разглядывают ее и смеются надо мной, вся троица, Герке, О`Хара и Чарли, "Они
и там внизу до него добрались", имея в виду индейские лица) - "Пока, Чарли",
я так никогда и не узнал его фамилии.
Я на трассе, и когда они уезжают я прохожу полмили чтобы скрыться за
поворотом и чтобы они не увидели меня на обратном пути - Проезжает машина,
она едет в другую сторону но останавливается и в ней старина Фил Картер,
паромщик с озерного парома, добряк-оклахомец, искренний и широкий как
пространства тянущиеся на восток, с ним едет восьмидесятилетний старик
пристально разглядывающий меня сверкающими глазами - "Джек, рад тебя видеть
- Это мистер Уинтер который построил сторожку на Пике Одиночества."
"Отличный домик, мистер Уинтер, вы прекрасный плотник" и я совершенно
искренен, вспоминая как ветра бились в стропила крыши, а дом укрепленный
бетоном на стальном каркасе, даже не шелохнулся - кроме того случая когда
гром тряханул землю и очередной Будда родился в Милл-Волли в 900 милях
оттуда - Мистер Уинтер продолжает разглядывать меня просветленными глазами и
с широчайшей ухмылкой - как Старый Конни Мэк - как Фрэнк Ллойд Райт[14] - Мы
пожали друг другу руки и попрощались. Фил, он был тем самым парнем который
читал по радио письма для ребят, трудно себе представить более печальную и
искреннюю его манеру читать " - и Мама хочет чтобы ты знал что Дж - дж -
джилси родился 23 августа, такой славный мальчишечка - И тут говорится" (Фил
запинается) "че-то такое непонятное, думаю твоя Мама малька запуталась с
этим пи-са-ни-ем" - Старина Фил из Оклахомы, где вопиют индейские
проповедники-чероки - Он отъезжает, в своей гавайской спортивной рубахе, с
мистером Уинтером (Ах Энтони Троллоп[15]), и я больше никогда его не увижу -
Лет 38 - или 40 - сидел у телевизора - пил пиво - рыгал - шел спать -
просыпался с Божьей помощью. Целовал жену. Покупал ей маленькие подарки. Шел
спать. Спал. Правил лодкой. Никогда ничем не интересовался. Ничего не
обсуждал. И ни критиковал. Никогда не говорил ничего, кроме простых
обыденных слов Дао.
Я прохожу около полумили по изгибу раскаленной сверкающей дороги,
солнце, дымка, похоже будет слишком жаркий денек для стопа с тяжелым
рюкзаком.
Собаки, лающие на меня с ферм меня не беспокоят - Старый Навахо Джеко -
Великий Ходок Йакуи идет ковыляя вниз во тьму.
Спрятавшись за поворотом так чтобы Пат и Чарли не стали смеяться надо
мной, или может даже О`Хара или Герке едущие куда-нибудь не увидели бы меня,
своего смотрителя этим летом, одиноко стоящим на пустынной дороге в ожидании
попутки на 4000 миль - Стоит яркий сентябрьский день, припекает дымчатое
солнце, слегка жарковато, я вытираю лоб красной банданой и жду - Подъезжает
машина, я машу пальцем, оп-па, она останавливается, чуть впереди меня, и я
срываюсь с места закинув рюкзак одной лямкой на плечо - "Куда едешь, сынок?"
дружелюбно спрашивает старый водитель с крючковатым носом и трубкой во рту -
Двум остальным похоже тоже интересно -
"Сиэттл", говорю я, "потом 99-я, Маунт Вернон, Сан-Франциско, до конца"
-
"Ну, чуток мы можем тебя подбросить"
Выясняется что они едут в Беллингхэм на 99-й, но это севернее моей
дороги и я решаю вылезти на повороте из долины Скэджит на 17-ю - Потом я
скидываю рюкзак на заднее сиденье, а сам забираюсь на переднее заставив
потесниться двух стариков, не размышляя особо и не заметив даже что
ближайшему это пришлось не по вкусу - Я чувствую что он заинтересовался
опять, только начав отвечать одновременно на вопросы всех троих, рассказывая
о здешних местах - Ну и чудаки же эти три старикана! Водитель флегматичный,
справедливый, любящий помогать другим, он решил посвятить себя Господу и все
это знают - около него сидит его старый приятель, тоже задвинутый на Боге,
но не так сильно приверженный доброжелательности и мягкости, слегка
подозрительный к побуждениям окружающих - Такие вот ангелы в пустыне - Тот,
который на заднем сиденье, слишком уж правильный тип, то есть вообще-то он
ничего, но по жизни занял заднее сиденье чтобы наблюдать и всем
интересоваться (как и я), и также как у меня в нем есть что-то от Простофили
и что-то от Лунной Богини[16] - В конце концов, когда я говорю "Приятный
ветерок там наверху" в завершение длинной беседы, пока Орлиный Нос петляет
по изгибам дороги, никто из них не отзывается, мертвая тишина, и я молодой
Шаман получаю наставление Трех Старых Шаманов хранить тишину, потому что
ничто не имеет значения и все мы Бессмертные Будды Познавшие Тишину, поэтому
я затыкаюсь и настает долгая тишина пока надежная машина скрежещет вперед и
я переправляюсь к другому берегу Буддами Нирманакайей, Самбхогакайей и
Дхармакайей, всей Троицей которые суть Одно, моя рука свешивается за дверь с
правой стороны и ветер дует мне в лицо и (с чувством счастливого возбуждения
от вида Дороги после проведенных среди скал месяцев) я вглядываюсь в каждый
маленький коттеджик и деревья и луг вдоль дороги, аккуратный маленький мирок
который Господь воздвиг нам для разглядывания и путешествий внутри этого
кино, тот самый суровый мир который исторгнет дыхание из наших грудных
клеток и уложит когда-нибудь нас окоченевших в могилу, и мы не станем
жаловаться (ведь жаловаться не стоит) - чеховский ангел тишины и печали
пролетел над нашей машиной - Мы въезжаем в старый Конкрит, пересекаем узкий
мост и вот мы среди кафкианских серых цементных заводов и подъемников для
бадей с цементом тянущихся целую милю, заезжаем на цементную[17] горку -
затем припаркованные маленькие Американские машины, вдоль по монашеской
деревенского вида Главной улицы с жарко посверкивающими окнами бесцветных
лавок, типа "Все за 5-10$", женщины в хлопковых платьях покупающие всякую
всячину, старые фермеры почесывающие себе ляжки в продуктовых лавках,
скобяная лавка, люди в темных очках у Почты, декорации которые я буду видеть
до самых границ Феллахской[18] Мексики - декорации сквозь которые мне
предстоит ехать стопом и от которых беречь свой рюкзак (два месяца назад на
трассе старый толстый ковбой в грузовике с гравием намеренно пытался наехать
на мой рюкзак, я успел оттащить его назад, он только ухмыльнулся)(я погрозил
ему кулаком чтобы он вернулся, и слава богу он ничего не видел, а то было бы
как в песенке "И вот теперь он в тюряге сидит, парнишка по кличке Бродяга
Боб, немало он пил, воровал и дурил, и вот теперь он в тюряге сидит") (и я
вовсе не беглый каторжник в отчаянной широкополой ковбойско-мексиканской
шляпе, который свернет себе самокрутку в захолустном баре, всадит перо в бок
бармену и отправится себе в Старую Мексику) (в Монтерей или Мацатлан лучше
всего) - Трое старикашек высаживают меня около Седро-Вулли, откуда я могу
стопить на 99-ю - Спасибо им -
Я перехожу раскаленную дорогу в сторону городка, мне надо купить новую
пару ботинок -- Пригладив расческой волосы на бензоколонке, выхожу в город и
на тротуаре вижу симпатичную женщину занятую своей работой (с шлангом на
заправке) и ее домашний енот подходит ко мне, присевшему на минутку свернуть
самокрутку, тыкается длинным странным и нежным носом мне в пальцы и хочет
есть -
Потом я отправляюсь дальше - с другой стороны петляющей дороги фабрика,
охранник на входе начинает рассматривать меня с величайшим интересом
"Взгляни на этого парня, с рюкзаком за плечами, он едет автостопом по
трассе, и куда на хрен его несет? откуда едет?" Он пялится на меня все время
пока я не прохожу подальше и не ныряю в кусты чтобы отлить по быстрому и
потом обратно, через маленькие лужицы и заляпанную смазочным маслом траву
разделительной полосы между щебенчатыми покрытиями автострады, и вхожу,
постукивая вприпрыжку большими скрипучими треснувшими на гвоздях ботинками,
в пределы Седро-Вулли - Перво наперво я делаю остановку в банке, здесь есть
банк, несколько человек глазеют на меня пока я несу свое бремя мимо них -
Ага, карьера Джека Великого Странствующего Святого только началась, он
набожно входит в банки и превращает государственные чеки в туристические[19]
-
Я выбираю хорошенькую рыжую хрупкую девушку, немного похожую на
сельскую учительницу, с голубыми доверчивыми глазами, и рассказываю ей что
мне нужны туристические чеки и куда я направляюсь и где был, и она кажется
заинтересованной, настолько что когда я говорю "Мне постричься бы не мешало"
(имея в виду после целого лета в горах), она замечает "Да вроде пока еще
ничего" и оценивающе рассматривает меня, и я знаю что она любит меня, а я
люблю ее, я знаю что вечером могу пойти с ней рука об руку к залитым
звездным светом берегам Скэджита, и она не станет возражать что бы я ни
делал, милая - она позволит мне осквернять ее по-всякому-разному, именно
этого ей и хочется, женщинам Америки нужны спутники и любовники, они
проводят целые дни в мраморных банках, возятся с бумагой, их угощают бумагой
в авто-кинотеатрах после Бумажных Фильмов, а они хотят целующих губ, рек и
травы, как в старые добрые времена -- И я так поглощен ее изящным телом,
милыми глазами и прелестными бровями под прелестной рыжей челкой, и
маленькими веснушками, и нежными запястьями, что не замечаю как позади меня
вырастает очередь из шести человек, старые злобно ревнивые женщины и
спешащие молодые люди, я тотчас отшатываюсь назад, с моими чеками,
подхватываю рюкзак и выскальзываю наружу - Оглядываюсь назад, она уже
занимается со следующим клиентом -
В любом случае пришло время для моего первого за десять недель глотка
пива.
Вот и салун... соседняя дверь.
Жаркий сегодня денечек.
Я беру пиво в большом сверкающем баре и усаживаюсь за столик, спиной к
стойке, сворачиваю самокрутку и тут подходит трясущийся старикан лет 80 с
тросточкой, садится за соседний столик и ждет с затуманенными глазами - О
Гоген! О Пруст! Будь я писателем или художником равным вам, я описал бы это
изъеденное землистое лицо, пророчество всех горестей человеческих, для этого
трогательного старого неудачника не существует ни рек, ни губ, ни соитий под
звездами, все это эфемерно, так или иначе но все утеряно - Чтобы ископать из
карманов свой маленький доллар ему понадобилось минут пять - Держит его
трясущимися руками - По-прежнему глядя в сторону бара - Бармен занят -
"Почему же он не встанет и не сходит себе за пивом?" - О что за горестная
картина в полуденном баре Седро-Вулли, в северо-западном Вашингтоне, в мире,
в пустоте, которая суть одиночество перевернутое вниз головой - В конце
концов он начинает стучать тростью пытаясь грохотом обратить на себя
внимание - Я пью свое пиво, заказываю второе - Думаю, не отнести ли пиво ему
- Но к чему вмешиваться? Войти как Черный Джек во всем великолепии своих
револьверов и прославиться на весь Запад прострелив Слэйду Хикоксу затылок?
Как и подобает парню из Чихуахуа, я ничего не говорю -
Два пива совсем не цепляют меня и я понимаю что алкоголь непричем, что
бы ни творилось в твоей душе -
Я выхожу вон и иду покупать себе ботинки -
Главная Улица, магазины, спортивные товары, баскетбольные и футбольные
мячи к наступающей Осени - Счастливчик Элмер в прыжке взмывает над
футбольным полем и поглощает громадные бифштексы на школьном банкете, и он
получит свою почетную грамоту, знаю я его - Я захожу в магазин, топаю
вглубь, снимаю свои гавнодавы и парнишка выдает мне синие холщовые ботинки с
толстыми мягкими подметками, я надеваю их и прохаживаюсь, ощущение такое
будто идешь по небесам - покупаю, оставляю там же старые и выхожу наружу -
Присаживаюсь около стены, зажигаю сигарету и наблюдаю за маленьким
полуденным городом, тут есть сараи сена и зерновые силосные ямы на обочине
городка, железная дорога, склад древесины, все прямо как у Марка Твена, из
таких вот мест Сэм Грант[20] и добывал пушечное мясо для могил Гражданской
Войны - и такая же сонная атмосфера зажигала огонь в вирджинских душах
Джексона Каменной Стены[21] - Одуреть можно -
Ну ладно, пора сваливать - назад на трассу, через железнодорожные пути,
и вон из города к повороту трассы где можно стопить машины сразу с трех
развилок
Жду около пятнадцати минут.
"На стопе", думаю теперь я чтобы укрепить свою душу, "проявляется твоя
хорошая и плохая Карма, и хорошая возмещает плохую, где-то там, дальше по
этой трассе" (я смотрю вдаль и вот она, в смутной дали, без надежды, без
названия, не от мира нашего) "будет кто-то кто привезет тебя вечером прямо в
Сиэттл к твоим газетам и вину, будь уж так любезен, подожди" -
Остановившийся оказывается светловолосым малым, с какими-то кожными
болячками из-за которых он не может больше играть в сборной Седро-Вулли по
футболу хотя раньше был восходящей звездой (мне кажется, это вполне может
оказаться правдой), но теперь ему разрешили выступать в рестлинговой[22]
команде, у него здоровенные бедра и руки, ему лет 17, и поскольку когда-то я
тоже был рестлингистом (Чемпион-Черная Маска нашего квартала) мы начинаем
говорить о рестлинге -- "Ведь это настоящий рестлинг, когда у ты стоишь на
четырех точках а другой парень сзади пытается тебя завалить[23]?"
"Точно, без всякого там телевизионного дерьма - настоящий"
"А как они подсчитывают баллы?"
Долгий и обстоятельный ответ на этот вопрос помогает добраться до
самого Маунт Вернона, но потом мне вдруг становится жалко что я не могу
остаться с ним, и заняться рестлингом, или даже погонять в футбол, такой он
одинокий американский парнишка, как девочка, жаждущий бесхитростной дружбы,
ангельской чистоты, меня бросает в дрожь от одной только мысли о всех этих
группках и кланах в колледже разрывающих его на части, и о его родителях, и
запретах врача, и том как редко ему выпадает случайная ночная везуха, да и
то если ночка выдалась безлунная - Мы обмениваемся рукопожатиями и я вылезаю
из машины, и вот я стою под жарким солнцем (4 часа пополудни) на углу перед
заправкой, машины возвращающихся домой после работы идут непрерывным
потоком, они думают только о том как бы ловчей обрулить поворот и не смотрят
на меня, так что я зависаю почти на час.
Забавный и жизнерадостный водитель кадиллака останавливается чтобы
подождать кого-то, когда он трогается с места я пытаюсь стопануть его, он
самодовольно ухмыляется, разворачивается и встает на противоположной
стороне, потом опять трогает, опять разворачивается и опять едет мимо меня
(на этот раз я и вида и не подаю) и опять останавливается, задерганное
нервное лицо, О Америка что сделала ты со своими автомобильными детьми! И
все же магазины полны лучшей в мире еды, вкуснейшие лакомства, свежие
персики, дыни, все маслисто-жирные плоды скэджитской земли богатой влагой и
улитками - Тут подъезжает Эм-Джи и Бог ты мой, за рулем Рэд Коэн, с
девушкой, говорил же он мне что собирается этим летом в Вашингтон, я ору
"Эй, Рэд!", он лихо разворачивается а я еще не окончив вопить понимаю что
это вовсе не Рэд, и ох опять эта ухмылка "я-тебя-не-знаю", и даже не ухмылка
а рычание, рыча и зажав своими лапами руль, уиипп, он разворачивается и с
ревом уносится прочь, обдавая меня выхлопной струей, какой-то иной Рэд Коэн
- и даже сейчас я не вполне уверен что это на самом деле не он, ставший
совсем другим и ожесточившийся - ожесточившийся на меня --
Муть.
Жуть.
Пустота.
Но вот является 90- или 80-летний окто-протогенерический[24]
беловолосый ариец-патриарх утопающий старчески в сидении водителя, он
останавливается для меня, я подбегаю, открываю дверь и он подмигивает
"Залезай, юноша, могу тебя маленько подвезти"
"А как далеко?"
"О - пару миль".
Так же было и в Канзасе (1952) когда меня подвезли на несколько миль по
дороге, в результате я очутился на закате один посреди бескрайних равнин,
машины катились мимо меня в сторону Денвера на скорости 80 и ни одна не
останавливалась - Но я пожимаю плечами "Карма-карма" и влезаю -
Он чуть-чуть поговорил, совсем немного, и я вижу что он действительно
очень стар, и еще что он очень забавный - Он начинает гнать свою развалюху
вперед, обгоняет всех, выходит на прямую трассу и выжимает 80 миль в час
среди полей и ферм - "Бог ты мой, а вдруг у него сердце прихватит?" - "Не
очень-то любите медленно ездить, а?" сказал я не спуская глаз с него и его
руля -
"Не-а"
И гонит еще быстрей...
Так значит меня везет в Страну Будд Хотсапхо через воды Не-реки старый
и безумный Святой Боддхисатва - который намерен либо довезти меня быстро,
либо не довезти совсем - Вот твоя Карма, созревшая как персик.
Я сдаюсь - В конце концов он не пьян, как тот толстяк в Джорджии (1955)
который гнал 80 по грунтовой обочине и при этом смотрел не на дорогу а на
меня, тут попахивало таким явным безумием что я вылез раньше времени и сел
на автобус до Биримингэма, так он вышиб меня из колеи -
Но нет, папаша доставляет меня в полном порядке к воротам стоящей
посреди равнин фермы, у него тут веранда обсаженная тремя вязами, и свиньи,
мы пожимаем друг другу руки и он отправляется ужинать -
И вот я стою, машины пролетают мимо меня, и я знаю что теперь уж точно
застрял на какое-то время - К тому же уже поздновато -
Но тут нарисовывается тяжелогруженый грузовик, он замедляет ход и
обдает клубами пыли меня стоящего на обочине, я бегу, запрыгиваю -
Благословенны будьте, Герои! Это здоровенный малый с крепкими кулаками,
Громила-Боец ИРМ[25], в двуцветной матросской куртке, да, такому морячку
никто не страшен, и к тому же он любит поговорить, и к тому же строит мосты,
и сзади у него мостостроительные бетонные блоки, ломы и прочие приспособы -
И когда я сообщаю ему что направляюсь в Мексику, он говорит: "Ага, Мексика,
мы вот с женой берем детишек в трейлер и в путь - всю дорогу до Центральной
Америки - Спим и едим в трейлере - у меня жена по-испански умеет, она и
болтает - а я просто хлебну там-сям по барам пару рюмашек текилы - Для
детишек хорошо, для образования - Мы только что вернулись на прошлой неделе,
помотались по Монтане, потом в Восточный Техас, и домой" - И я пытаюсь себе
представить каких-нибудь бандитов которым пришло бы в голову наехать на него
- 230 фунтов горделивых мускулов и костей - трудно себе представить, на что
он способен с девушками, или с ломом в руках - Ох, что-то мне неохота
рисовать такие картины в духе Ороско[26], в тонах соуса для спагетти - Он
довозит меня до Эверетта и высаживает под горячим вечерним солнцем на
каком-то местном недобродвее с внезапно унылыми краснокирпичными пожарной
станцией и башней с часами и мне становится совсем паршиво - Вибрации
Эверетта отвратительны - Мимо меня льется поток машин с озлобленными
рабочими, от них исходят волны усталости - Никто из них не снисходит до
взгляда в мою сторону, они только злорадно усмехаются - Это ужасно, это
настоящий ад - Я начинаю думать что мне лучше было бы остаться в своей
горной хижине в холодной звездной ночи. (Эвереттский расстрел![27])
Ну нет! Поток событий течет Кармою - и я не отступлюсь до самого конца,
до смертного моего часа - Я должен буду чистить зубы и тратить деньги до
конца времен, или хотя бы до того дня пока не стану последней на земле
старухой грызущей свою последнюю кость в пещере безысходности, и не
прошамкаю тогда я последнюю молитву в последней ночи, перед тем как уже
больше не проснуться -- А потом придется поторговаться уже с ангелами
небесными, но это будет так быстро, так астрально радостно, что совсем
нетрудно кажется мне - Но О Эверетт! Высокие штабеля бревен во дворах
лесопилок, вдали виднеются мосты, и так безысходно раскален тротуар -
Через полчаса, отчаявшись, я захожу в забегаловку и заказываю гамбургер
с молочным коктейлем - на трассе я позволяю себе тратить на еду больше -
Девушка за стойкой так подчеркнуто холодна что я погружаюсь в отчаяние еще
глубже, она неплохо сложена, такая точененькая, но какая-то бесцветная и у
нее бесчувственные синие глаза, и на самом деле она полностью поглощена
вошедшим типом лет тридцати который собирается отсюда в Лас-Вегас немного
поиграть, его машина стоит снаружи, и когда он выходит она кричит вдогонку
"Возьми меня как-нибудь покататься на твоей машине" а он так самоуверен что
это изумляет и раздражает меня, "О, я подумаю об этом" или что-то вроде
того, я смотрю на него, у него стрижка ежиком, очки и выглядит он мерзейше -
Он садится в свою машину и едет прямиком в Лас-Вегас - Мне кусок в горло не
лезет - Я расплачиваюсь и торопливо выхожу - Пересекаю с полным рюкзаком за
плечами дорогу - ох-ох -- Похоже, в конце концов я докатился до самого низа
(горы).
Стою я на жарище и не замечаю футбольную свалку позади, на фоне
закатного марева на западе, пока проходящий мимо моряк-автостопщик не
бросает мне "Давай, парень, маши!"[28], я оглядываюсь, вижу его и играющих
ребятишек одновременно и одновременно же останавливается машина с
выглядывающим из нее явно заинтересованным лицом, я бегу к ней кидая
последний взгляд на футбольную игру, где именно сейчас парнишка пытается
обвести защитника и теряет мяч -
Запрыгиваю в машину и вижу что водитель смахивает на скрытого гомика, а
значит скорей всего добродушный малый, поэтому я напоминаю о моряке "Тот
парень тоже стопит", мы его подбираем, и так вот втроем мы сидим на переднем
сиденье, закуриваем по сигарете и едем в Сиэттл, вот такие дела.
Бессвязный разговор о Флоте - ну и занудство "Стояли мы в Бремертоне,
нас там по субботам иногда выпускали прогуляться, но куда лучше стало когда
нас перевели в - " и я закрываю глаза - Немного расспрашиваю водителя о его
колледже, Вашингтонском Университете, и он предлагает подбросить меня до
кампуса, в общем-то я сам его к этому подвожу, так что мы оставляем морячка
где-то на пути (у него явные нелады с чувством прекрасного, едет по трассе и
везет с собой бумажный пакет с бельем своей девушки, я думал у него там
персики а он даже показал мне лежащий сверху шелковый лифчик) -
Кампус Вашингтонского Университета вполне приятный такой, красивый
даже, с большими новыми миллионооконными общагами и длинными недавно
проложенными пешеходными дорожками от суматошной автотрассы и О целый город
в городе, этот колледж, загадочный как китаец, сейчас мне с моим рюкзаком
дойти до него полная безнадега, я сажусь в первый автобус в центр, и вскоре
мы уже мчимся мимо славных скользящих морских волн, с древними шаландами, и
красное солнце тонет за мачтами и навесами, вот так-то лучше, вот это я
понимаю, это старый Сиэттл туманов, старый Сиэттл Город затянутый пеленой,
тот самый старый Сиэттл о котором я читал в детстве в призрачных детективных
книжках, и в Синих Книгах для мужчин, и все о тех самых старых временах
когда сотня человек врывались в подвал бальзамировщика, выпивали жидкость
для бальзамирования и умирали все, ушанхаивались в Китай, и глинистые отмели
- Маленькие домики с морскими чайками.
Следы девушки
на песке
- Кучка высохших водорослей
Сиэттл кораблей - холмов - доков - тотемных шестов - старых
локомотивных стрелок вдоль береговой линии - пара, дыма - Скид Роу[29],
баров - индейцев - Сиэттл моих детских мечтаний, который я вижу теперь в
свалке старого проржавевшего барахла огороженной покосившимся в этой общей
неразберихе неокрашенным забором --
Деревянный дом
блеклая серость -
Розовый свет в окошке
Я прошу водителя высадить меня в центре, выпрыгиваю из автобуса и топаю
мимо Муниципальных Дворцов и голубей вниз, куда-то в сторону моря, где можно
найти Скид роу и чистую хорошую комнатку с кроватью и горячей ванной на
первом этаже -
Я прохожу всю дорогу до Первой авеню и сворачиваю налево, оставляя
позади носящихся по магазинам приезжих и сиэттльцев, и ух-ты! - тут такой
всеобщий улет и безумное мельтешение по вечерним тротуарам что у меня чуть
глаза от изумления не вылезают - Девушки-индеанки в слаксах, с
парнями-индейцами подстриженными под Тони Кертиса - в обнимку - взявшись за
руки - славные оклахомские семьи, только что вылезшие из своих машин и
идущие в супермаркет за хлебом и мясом - Пьяницы - Двери баров мимо которых
я проношусь полны грустной ожидающей человечьей толпой, взмахом руки
заказывающей выпивку и глядящей на телевизионный бой Джонни Секстон - Кармен
Базилио - Ба-бах! И я воспоминаю что по всей Америке сейчас Вечер Пятницы, и
в Нью-Йорке всего десять часов и бой в Гардене только-только начался, и
портовые грузчики сидят по барам на Норт Ривер и все как один смотрят этот
бой и выпивают по 20 кружек пива каждый, и ФБР-овские шпики сидят в первых
рядах публики и делают ставки, их видно на экране, в раскрашенных вручную
галстуках из Майами - И считай по всей Америке идет этот Бой по Пятницам -
Большой Бой! - Даже в Арканзасе его смотрят по бильярдным и в домиках
стоящих среди хлопковых полей-клочков - повсюду - Чикаго - Денвер - везде
клубы сигарного дыма - и Ах печальные лица, я совсем позабыл их, а теперь
увидел и вспомнил что пока я проводил лето в молитвах и прогулках на горных
вершинах, среди снегов и камней, затерянных птиц и консервированных бобов,
эти люди посасывали сигареты и выпивку и тоже молились и бродили в своих
душах, на свой манер - все это вписано шрамами в их лица - Я должен зайти в
этот бар.
И я поворачиваю назад и захожу.
Кидаю рюкзак на пол, беру пиво в забитом людьми баре, сажусь за столик
за которым сидит уже один старик, лицом ко второму выходу из бара,
сворачиваю самокрутку и смотрю на бой и на лица - Тепло, человечность тепла,
и в ней есть потенциальная любовь, я чувствую это -- У меня сейчас свежий
взгляд новичка, я вижу -- И я могу сейчас произнести речь, напомнить им обо
всем и пробудить - И все же я вижу в этих лицах и скуку "А, знаем, слышали
мы такие дела, а мы вот тут внизу все сидели и ждали и молились, и в пятницу
вечером смотрели бокс по телевизору - и пили" - И Боже мой они действительно
пили! Каждый из них пьян в доску, я вижу это - Сиэттл!
Я ничего не могу предложить им кроме своей идиотской рожи, да и ту я
пытаюсь спрятать - Хлопочущему официанту все время приходится переступать
через мой рюкзак, я отодвигаю его, он говорит "Спасибо" - За это время
Базилио, ничуть не пострадав от слабых ударов Секстона, атакует и прямо таки
отметеливает его - это бой мышц против разума, и мышцы победят - Толпа в
баре это мышцы Базилио, а я - всего лишь разум - Надо бы мне поспешить
отсюда - В полночь они начнут свой собственный бой, юные громилы из кабинки
- Надо быть долбанутым буйным мазохистом Джонни О Нью-Йоркцем чтобы приехать
в Сиэттл и ввязываться в кабацкие драки! - Тебе нужны шрамы! Познать боль!
Что-то я начинаю писать как Селин -
Я выхожу и иду искать себе комнату в Скид Роу на ночь.
Ночь в Сиэтле.
Завтра будет дорога на Фриско.
Отель "Стивенс" - старый чистый отель, заглянув в большие окна его
видишь чистый кафельный пол, плевательницы, обитые кожей стулья,
потикивающие часы и сидящего в своей клетушке клерка в очках с серебряной
оправой - $1.75 за ночь, дороговато для Скид Роу, но зато нет клопов, это
важно - Я снимаю номер и поднимаюсь на лифте с лифтером, третий этаж, и
попадаю в свою комнату - Кидаю рюкзак на кресло-качалку, ложусь на кровать -
Мягкая кровать, чистые простыни, передышка и пристанище до часу дня, когда я
должен буду его освободить -
Ах Сиэттл, печальные лица в человеческих барах, ведь вы не подозреваете
что висите вниз головой - Ваши печальные головы, люди, болтаются в
безграничной пустоте, вы бродите по поверхности улиц, или в комнатах своих,
перевернутые, ваша мебель тоже перевернута и удерживается гравитацией, и
единственное что мешает всему этому хозяйству улететь - это законы сознания
вселенной, Бога - Ожидание Бога? Но он безграничен, поэтому существовать не
может. Ожидание Комми? Все то же, милый певец Бронкса. Лишь одна вещь
первична - материя сознания, и какие бы странные имена и формы не находились
для нее, все они сгодятся - эх, я встаю и выхожу купить себе вино и газету.
В ближайшей забегаловке все еще показывают бой, но что еще мне нравится
там (на залитой розово-синим неоном улице) так это человек в жилетке
старательно выписывающий мелом на огромной доске результаты сегодняшних
бейсбольных игр, прямо как в старые времена - Я стою и смотрю.
В газетном киоске, Бог ты мой, тысяча книжек с девочками,
демонстрирующими все пышные груди и ляжки этой вселенной - и я понимаю что
"Америка рехнулась на сексе, они ненасытны, что-то и где-то тут не так, и
скоро эти книжки заполонят все, они покажут все складки и изгибы кроме дыры
и соска, они сумасшедшие" - Конечно же, я тоже глазею на них, томясь вместе
с другими сексуальными неврастениками.
В конце концов я покупаю Сент-Луисские Спортивные Новости чтобы узнать
бейсбольные новости, и журнал "Тайм" почитать что нового в мире и узнать все
о том как Эйзенхауэр машет рукой из отправляющегося поезда, и еще бутылку
итало-швейцарского Колониального портвейна, дорогого и наверно хорошего -
думаю я - Со всем этим я топаю назад по улице и вижу комический театрик,
"Сходить что ли вечерком на комик-шоу!" хихикаю я (вспомнив Старину Ховарда
из Бостона) (к тому же недавно я прочитал о том как Фил Силверс поставил
где-то опять древний комик-шоу и как классно у него получилось) - Да -- уж
точно -
И после полутора часов, проведенных в своей комнате потягивая вино
(усевшись скинув башмаки на кровати и подложив подушку под спину) и читая о
Микки Мэнтле, Лиге Трех-Ай, Южной ассоциации, Западно-Техасской Лиге, о
последних переходах из команды в команду, и звездах, и подающем надежду
молодняке, и даже читая новости Малой Лиги чтобы узнать имена 10-летних
лучших подающих и бегло просматривая Тайм (оказавшийся не таким уж
интересным когда тебя переполняют выпивка и улица за окном), я выхожу
наружу, осторожно перелив вино в свою флягу (до того она служила мне на
трассе для утоления жажды и смачивания красной банданы на голове), засовываю
ее в карман куртки и спускаюсь вниз в темноту -
Огни неона, китайские ресторанчики
приближаются
Девушки проходят в полумраке
Глаза - чудной парнишка-негр, заопасавшийся вдруг моего осуждения,
взглядом, из-за принятой на Юге сегрегации[30], и я чуть было его не
заосуждал, за зашуганность, но не хочу привлекать его внимания и поэтому
отвожу глаза - Проходят загадочные филиппинские никто, размахивая руками, их
таинственные бильярдные, бары и плавучие ресторанчики - Сюрреалистическая
улица, стоящий у стойки полисмен так напрягается увидев меня входящего,
будто я собираюсь спереть у него выпивку - Переулки - Проблески древней воды
между древними коньками крыш - Луна, восходящая над центром города, чтобы
остаться незамеченной в сиянии огней Аптеки Гранта, белом сиянии неподалеку
от магазина Тома Мак-Анса, тоже сияющего, открытого, около киношного навеса
где показывают Благородную любовь и стоит очередь ожидающих красивых девушек
- Бордюры тротуаров, темные переулки, где парни на мощных переделанных
машинах[31] разворачиваются с ревом - проверяя моторы своими шинами, скииик!
- слышится повсюду в Америке, это бесколесный Чемпион Джо ждет своего часа -
Америка так велика - И я так люблю ее - И ее великолепие переплавляется и
стекает в трущобы, Скид Роу и все эти Таймс-скверы - лица огни глаза -
Я сворачиваю в боковые улочки выходящие к морю, сажусь на бордюр
тротуара напротив мусорных контейнеров, пью вино и наблюдаю за стариками в
Старом Польском Клубе напротив, играющими в пинокль[32] под коричневатым
светом лампочек, среди великолепных зеленых стен и с таймерами отмеряющими
время игры - Зууууу! по бухте плывет в океан грузовой корабль Порт Сиэттла,
паром из Бремертона осторожно прокладывает себе путь, группки разодетых
пассажиров на борту, на окрашенной белым палубе они оставляют непочатую
поллитру водки, завернутую в журнал Лайф чтобы какой-нибудь я мог найти ее
(как это случилось два месяца назад) и выпить под дождем, плывя неторопливо
- Деревья кругом, узкий залив Пиджет Саунд - Разбойничьи гудки буксиров в
бухте - Я пью свое вино, теплая ночь, а потом сваливаю оттуда в комик-шоу -
И вхожу внутрь как раз вовремя чтобы поспеть на первый номер.
Ого, они смогли заполучить сюда Сис Мерриди, девушку с другого берега
бухты, ей бы танцевать не в дурацком комик-шоу где она показывает свои груди
(идеальные) и ими особо никто не интересуется потому что она не выделывает
этих всяких штучек-дрючек - она слишком чистая -- а публика в темном зале,
вися вниз головой, хочет грязную девку - И грязная девка за кулисами
прихорашивается, вися вниз головой перед своим зеркалом у выхода на сцену -
Занавес медленно отъезжает, уходит танцовщица Эсси, в темном зале я
делаю глоток вина, и под внезапно яркое освещение сцены выходят два клоуна.
Шоу начинается.
На Эйбе шляпа, длинные подтяжки, он их постоянно подтягивает, чокнутая
рожа, видно что большой любитель девочек, к тому же постоянно чмокает губами
и вообще старый сиэттльский призрак - Слим, его партнер-простак, смазливый и
кучерявый, похож на порногероя с похабных открыток которые показывают
девушкам -
ЭЙБ Где тебя черти носили? СЛИМ Сидел дома деньги считал. ЭЙБ О чем это
ты, че за хрень - деньги --
* * * *
СЛИМ А я был на кладбище ЭЙБ А там-то ты че делал? СЛИМ Жмурика
закапывал[33]
* * * *
такие вот шуточки - Они продолжают тянуть свою невероятную тягомотину
на сцене, занавес тут бесхитростный, и вообще бесхитростный такой театрик -
Все погрязли в тревогах своих - Появляется девушка и идет через сцену - В
это время Эйб немного отпивает из бутылки и пытается хитростью заставить
Слима допить ее до конца - Все, актеры и публика, смотрят на девушку которая
выходит и прохаживается по сцене - Ее походка это произведение искусства --
Но вот соображать ей бы стоило пошустрей -
Они представляют ее, испанская танцовщица, Лолита из Испании, длинные
черные волосы, темные глаза и бешеные кастаньеты, и она начинает
раздеваться, отбрасывая одежду с криком "Оле!", вскидывая голову и показывая
зубы, публика ест глазами ее кремовые плечи и кремовые ноги, она вертится
вокруг кастаньет, потом опускается вниз, подносит пальцы к застежке и
скидывает платье целиком, под ним изящный покрытый блестками "пояс
верности", потом она обхватывает себя руками, танцует, постукивает
каблучками и изгибается так что ее волосы струятся к полу, и аккомпаниатор
на гармошке (Слим) (спрыгнувший на танцевальную сцену) выдает потрясающий
Уайлд-Билловский Джаз - я стучу ногами и ладонями, это настоящий джаз и
превосходный! - Лолита начинает носиться по сцене, оказывается у боковой
кулисы где приспускает свой лифчик но не скидывает его совсем, и исчезает со
сцены по-испански - Пока что она мне нравится больше всех - и я пью за нее в
темноте.
Огни загораются опять и опять выходят Эйб со Слимом.
"Так чем же ты занимался на кладбище?" говорит Судья, Слим, сидя за
столом, с молотком, и Эйб подсудимый -
"Я хоронил там жмурика"
"Ты же знаешь, что это противозаконно"
"Но не в Сиэттле" говорит Эйб и показывает на Лолиту -
И Лолита, с очаровательным испанским акцентом, говорит "Он был
жмуриком, а я гробовщиком" и то как она произносит это, слегка качнув задом,
заставляет весь зал одуреть и театр погружается во тьму, все хохочут,
включая меня и крупного негра позади меня, который орет от восторга и
колотит по всему попавшемуся под руку, потрясающе -
Выходит негр-танцор средних лет чтобы исполнить нам стремительную
чечетку, начинает постукивать, но больно уж он стар и к тому же задыхается,
ему не дотянуть до конца и музыка пытается подбодрить его (Слим на Гармошке)
но здоровяк-негр позади меня начинает выкрикивать "Э-гей, э-ге-гей" (будто
хочет сказать "Хорош, иди домой") - Танцор отчаянно пыхтя пытается сказать
что-то своим танцем и я молюсь за него чтобы у него все получилось, я
сочувствую ему, он только что из Фриско, получил новую работу и должен
как-то справиться, я хлопаю с воодушевлением когда он уходит -
Вот великая человеческая драма представшая моим всепознавшим в
одиночестве глазам -- висит перевернутая вниз головой -
Пусть же занавес раскроется шире -
"А теперь", объявляет в микрофон Слим, "мы представляем нашу
сиэттльскую рыженькую КИТТИ О`ГРЕДИ" и тут входит она, Слим хватается за
Гармошку, а она высокая, с зелеными глазами, рыжими волосами, и маленькими
шажками семенит по сцене -
(О Эвереттские Расстрелы, где же был я?)
Миленькая мисс О`Греди, так легко представить себе ее с детской
коляской - Знакомый типаж, и в один прекрасный день я увижу ее в Балтиморе
высунувшейся из краснокирпичного окна, с цветочным горшком подле, и с
волосами подкрашенными перманентом - я увижу ее, я видел ее, родинку на ее
щеке, мой отец видел шеренги Зигфильдовских[34] Красоток "А тебе в молодости
не приходилось работать в Фоли[35]"?, спрашивает У. К. Филдс[36] огромную
весящую добрых 300 фунтов официантку в "Ланчионэтт" с Тридцатых улиц - и она
говорит глядя на его нос, "Есть у тебя кое-что ужасно большое" и
отворачивается прочь, а он оглядывает ее сзади, и говорит "У тебя тоже
найдется кое-что ужасно немаленькое" - Я увижу ее, в окне среди роз, родинка
и пыль, и старые сценические дипломы, и кулисы, кулисы сцены нашего мира -
Старые Афиши, переулочки, запыленный Шуберт, и кладбищенские поэмы Корсо --
и состарившийся я - филиппинцы будут мочиться в этом переулке, и
пуэрториканский Нью-Йорк падет, ночью - Иисус придет опять 20 июля 1957 в
14.30 - А я увижу (увидел) миленькую хохотушку мисс О`Греди элегантно
семенящую по сцене чтобы развлечь заплативших за это клиентов, послушную как
котенок. И думаю "А вот и она, Слимова бабенка - Это его девушка -- и он
носит ей в костюмерную цветы, он старается ей услужить" -
Но нет, она старается изо всех сил выглядеть порочной но у нее ничего
не получается, она продолжает показывать свои груди (и получает в ответ
свист), и тогда Эйб со Слимом, при ярком свете, разыгрывают с ней маленькую
сценку.
Теперь Эйб судья, стол, молоток, стук! Они арестовывают Слима за
непристойное поведение. И вместе с мисс о`Греди вводят его.
"Ну, так что он совершил непристойного?"
"Ничего не совершил, просто он сам по себе непристоен"
"Почему?"
"Покажи ему Слим"
Слим, в купальном халате, поворачивается спиной к публике и открывает
полы халата -
Эйб перегибается через судейскую кафедру чтобы рассмотреть и чуть не
переваливается "Боже ты мой всемилостивый, не может этого быть! Нет, ну
видали вы что-нибудь подобное? Мистер, а вы уверены что это все ваше? Это не
только непристойно, это неправильно!" Ну и так далее, гоготанье, музыка,
темнота, лучи прожектора, Слим торжествующе объявляет:
"А теперь - Порочная Девчонка - С А Р И Н А !"
И бросается к своей гармошке, грохочуще-протяжная джазовая рулада, и
выходит порочная Сарина - По всему залу ураган воодушевления - У нее
бегающие кошачьи глаза и лицо грешницы - изящные кошачьи усики -- она как
маленькая ведьма - без метлы - выходит крадущейся походкой и подергиваясь
под ритм.
Тонковласая Сарина
яркая
Востанцевала
Она немедленно садится на пол в позу полового сношения и начинает
конвульсивно вращать оттопыренным вверх к небесам задом - Она болезненно
извивается, с искаженным лицом, оскаленными зубами, растрепанными волосами,
плечи ее выгибаются и трясутся - Она стоит на полу опершись на руки и
отрабатывает свое перед публикой состоящей из сидящих в темноте мужчин,
некоторые из них студенты из колледжа - Свистки! Гармошка выдает
низкопробный давай-ложись-а-ну-пригнись блюз - И впрямь до чего ж она
порочна с этими ее глазами, бегающими и пустыми, и тем как она ходит в ложу
справа и проделывает там все эти тайные грязные штучки с большими шишками и
продюсерами, как показывает кусочки своего тела и спрашивает "Да? Нет?" - и
сжимается опять и переворачивается и вот теперь кончики ее пальцев скользят
к поясу и она медленно снимает платье многообещающими пальцами, крадущимися
и медлящими, вот она демонстрирует бедро, еще выше, кусочек лобка, кусочек
живота, она переворачивается и обнажает кусочек ягодицы, она высовывает язык
- пот сочится у нее изо всех пор - я не могу удержаться и думаю о том что
Слим выделывает с ней в костюмерной -
К этому времени я уже пьян, выпил слишком много вина, у меня кружится
голова и весь темный театр этого мира вращается вокруг своей оси, это
безумие, я туманно вспоминаю познанную в горах перевернутость и ух ты, смех,
страсть, смрад, секса сласть, что они делают все эти люди сидящие на своих
сиденьях в громыхающей волшебной пустоте, хлопающие ладонями и завывающие в
такт музыке на девушку? - К чему все эти занавеси, и кулисы, и маски? и эти
световые пятна разной яркости, скачущие повсюду и отовсюду, розовые,
красные, сердечно-грустные, мальчишески-синие, девчоночьи-зеленые, черные
цвета испанской накидки и иссиня-черные? Ух, ох, я не знаю что мне делать,
Порочная Сарина уже лежит на сцене на спине и медленно протягивает свои
аппетитные чресла какому-то воображаемому Человеко-Богу на небесах, дарящему
ей вечное наслаждение - и вскоре улицы будут завалены беременными воздушными
шарами и брошенными презервативами и звезды наполнятся спермой и осколками
битых бутылок, и стены будут возведены чтобы оградить ее в некоем замке
Испанского Безумного Короля, и в стены эти будут зацементированы битые
пивные бутылки для того чтобы никто и никогда не смог попасть в обхват ног
ее кроме Султанского члена, он единственный коснется соков которыми истекает
она сейчас, а потом отправится в свою могилу в которой не будет никаких
соков, и в ее могиле вскоре не останется соков после того как исчезнут те
темные соки что так ценятся червями, потом пыль, атомы пыли, и будут ли эти
атомы атомами пыли или атомами бедер и вагин и пенисов, какая разница, все
это Корабль Небесный - Целый мир ревет здесь, в этом театре, и глядя вдаль я
вижу неисчислимое горюющее человечество хныкающее при свете свечей, и Иисуса
на Кресте, и Будду сидящего под деревом Бо, и Магомета в пещере, и змею, и
взошедшее высоко солнце, и все Аккадийско-Шумерские древности, и античные
корабли увозящие куртизанку Елену прочь к схваткам последней войны, и
разбитое стекло крошечной бесконечности до того крошечной что не остается
ничего кроме белоснежного света проникающего повсюду сквозь тьму и солнце -
дзинь, и электромагнетический гравитационный экстаз протекает насквозь без
слова или знака и даже не протекает насквозь и даже вовсе не существует -
Но О Сарина приди в мою постель полную горестей, позволь мне нежно
любить тебя ночью, долго, у нас будет целая ночь, до рассвета, пока не
взойдет солнце Джульеты и не иссякнет пыл Ромео, пока я не удалю свою жажду
Самсары у раскрытых твоих как лепесток розовых губ и не оставлю в розовом
саду плоти твоей сок спасителя который высохнет и восхнычет тогда еще одно
дитя для этой пустоты, приди сладкая Сарина в мои порочные объятия, будь
грязной в моем чистом молоке, и отвратительны будут мне собственные
выделения оставляемые в твоей молочно возбужденной цисто-яйцеводной полости,
твоей клоачной мчистой стержне-дырки через которую хор-газм сочится прячась
в тревожной плоти я прижму твои подрагивающие бедра к сердцу своему и стану
целовать тебя я в губы в щеки в Лоно и стану я любить тебя везде и будет так
-
Дойдя да кулисы она скидывает лиф, показывает свои порочные сиськи,
исчезает внутри и шоу на этом заканчивается - включается свет - все выходят
- А я сижу, вытряхивая себе в глотку последние остатки, с кружащейся головой
и безумный.
Все бессмысленно, мир слишком полон волшебства, а мне лучше отправиться
назад к своим скалам.
В туалете я ору повару-филиппинцу "отличные девочки, а? Нет, ну ты мне
скажи?" и ему неприятно отвечать мне, отвечать бродяге вопящему зачем-то в
писсуарной - я возвращаюсь назад, вверх по лестнице, чтобы пересидев
киножурнал посмотреть представление опять, может на этот раз Сарина сбросит
с себя вообще все и мы увидим и почувствуем бесконечную любовь - Но Боже мой
что за муть они показывают! Лесопилки, пыль, дым, серые кадры плещущихся в
воде бревен, люди в оловянных шлемах бродящие в серой дождливой ночи и голос
диктора "Славные традиции Северо-Запада -" после чего цветные кадры
катающихся на водных лыжах, мне этого не выдержать и я покидаю шоу через
левый боковой выход, пьяный -
Как только я вдыхаю ночной уличный воздух Сиэттла, на холме, у
краснокирпичного залитого неоном выхода для актеров появляются Эйб, Слим и
цветной танцор-чечеточник торопящиеся и обливающиеся потом чтобы поспеть на
следующее представление, даже в обычном темпе на улице чечеточник ужасно
пыхтит - я понимаю что у него астма и какая-то серьезная сердечная немочь,
ему нельзя так отплясывать и суетиться - на улице Слим выглядит так странно
и неприметно что я понимаю что это не он занимается этим с Сариной, должно
быть какой-нибудь продюсер в ложе, какой-нибудь лощеный хлыщ - Бедняга Слим
- И Эйб, Клоун Занавеса Вечности, здесь он болтает как обычно и так же
хохмит, с его крупным живым лицом среди обычной уличной жизни, и я вижу всех
их троих как актеров, водевильных персонажей, печальных, печальных -
Завернувших за угол перехватить рюмашку или быть может слегка перекусить и
торопящихся назад на очередное представление - Зарабатывающих на пропитание
- Так же как мой отец, ваш отец, все отцы, работающие и зарабатывающие на
пропитание на темной печальной Земле -
Я смотрю вверх и вижу звезды, все те же самые, одиночество, и ангелы
внизу не знающие что они ангелы -
И Сарина умрет -
И я умру, и вы умрете, все мы умрем, и даже звезды потускнеют, одна за
другой, когда-нибудь .
В кабинке китайского ресторанчика я заказываю противень жареного чау
мейна[37], и начинаю пялиться на официантку-китаянку и официантку-филиппинку
еще моложе и еще красивей, они смотрят на меня а я смотрю на них но потом
утыкаюсь в свой чау мейн, плачу по счету и ухожу, с головокружением - Не
осталось мне никакой в этом мире возможности подцепить девушку на ночь, ее
не пустили бы в отель, да и не пошла бы она, и я понимаю что я просто старый
мудак 34 лет и все равно никто не захочет отправиться со мной в постель, с
бродягой из Скид Роу с вином на губах, в джинсах и старой грязной одежде,
кому до такого дело? На улице полным полно типов вроде меня - Но войдя к
себе в отель я вижу аккуратного инвалида с женщиной, они поднимаются на
лифте, и часом позже приняв горячую ванну, отдохнув и собираясь идти спать,
я слышу как в соседнем номере они скрипят кроватью в настоящем любовном
исступлении - "Видимо, все зависит от того как к этому подойти", думаю я, и
иду спать один без девушки но девушки танцуют в снах моих - О Кущи Райские!
ниспошлите мне жену!
И ведь были же в жизни у меня две жены, и я прогнал одну и убежал от
другой, и сотни подружек каждую из которых я предал или обманул так или
иначе, когда был молодым и лицо мое радовало открытостью и не стыдился я
спрашивать - Теперь я угрюмо смотрю на лицо свое в зеркале и оно
отвратительно - Мы любим нашими бедрами и бродим под звездами мостовыми
твердыми, тротуарами, по бутылок битым осколкам, не излиться нам трепетно
радостно содроганием нежным в потемках - Везде тусклые лица, бездомные и
безлюбовные, по всему миру, такие жалкие, ночные улицы, мастурбация (однажды
я видел как 60 летний старик мастурбировал два часа прямо в своей комнатушке
в нью-йоркском "Миллс-отеле") - (У него была только бумага - и боль - )
Ах думаю я, но ведь где-то впереди, в ночи ждет меня моя милая
красотка, она подойдет и возьмет меня под руку, быть может во вторник - и я
спою для нее и буду как юный Гаутама мечущий пращу чтобы добиться ее награды
- Слишком поздно! Все мои друзья уже старые, уродливые и толстые, и я тоже,
и ничто не ждет меня кроме надежд которым не суждено оправдаться - и Пустота
Проложит Себе Путь.
Молитесь Господу, если не можете радоваться жизни то обратитесь к
религии.
До тех пор пока не возродят они рай земной, Дни Чистой Природы, когда
станем мы бродить обнаженными и целовать друг друга в садах, и проходить
посвящения Любви Господней в Великом Саду Любовных Встреч, в Земном Капище
Любви - До тех пор, бродяги -
Бродяги -
Всего лишь бродяги -
И я засыпаю, но совсем по другому чем в хижине на горной вершине, это
сон в комнате, на улице шумят машины, сумасшедший глупый город, рассвет,
наступает субботнее утро в серости и одиночестве - Я просыпаюсь, умываюсь и
выхожу завтракать.
Улицы пусты, и я сворачиваю не туда, брожу среди каких-то складов, по
субботам никто не работает, лишь несколько унылых филиппинцев обгоняют меня
- Где же мой завтрак?
К тому же я чувствую что мои мозоли (оставшиеся после гор) разрослись
так что теперь я не могу ехать по трассе, я не смогу закинуть этот рюкзак на
спину и пройти две мили - на юг - чтобы выйти из города -- и я решаю сесть
на сан-францискский автобус и ехать на нем до самого конца.
Может меня там ждет возлюбленная.
У меня куча денег, и деньги - это всего лишь деньги.
И что будет делать Коди, когда я приеду в Фриско? А Ирвин и Саймон и
Лазарус и Кевин? А девочки? Хватит с меня летних грез наяву, я хочу
посмотреть что "реальность" припасла там для "меня" -
"К черту Скид-Роу". Я поднимаюсь вверх по холму потом вниз и немедленно
обнаруживаю отличную закусочную самообслуживания, где ты наливаешь себе кофе
сам сколько влезет и платишь за это "по совести" и можешь заказать за
стойкой яичницу с ветчиной и съесть ее за столиком, где подобрав брошенную
газету можно узнать новости -
И человек за стойкой так любезен! "Какую хотите яичницу, сэр?"
"Глазунью, желтками наружу[38]"
"Да, сэр, одну минуту", и все его хозяйство, все эти сковородочки и
лопаточки сверкают чистотой как новенькие, вот настоящий набожный человек
который не убоится ночи - ужасной утробной ночи битых бутылок, без любви -
вместо этого он проснется утром, напевая, и отправится на работу готовить
людям еду, уважительно обращаясь к ним "сэр" в придачу - Выносят изысканную
и нежную яичницу с продолговатыми помидорами и хрустящими тостами хорошенько
промазанными специальной щеточкой подтаявшим маслом, Ах вот я сижу и ем и
пью кофе у большого зеркального окна, глядя наружу на пустую бесцветную
улицу - Пустую, если не считать идущего куда-то человека в красивом твидовом
пальто и красивых ботинках, "Ах, вот счастливый человек, он хорошо одет, он
идет себе благочестиво вниз по утренней улице - "
Я беру свой маленький бумажный стаканчик виноградного желе и,
сдавливая, размазываю желе по тосту, выпиваю еще чашечку горячего кофе - Все
будет в порядке, одиночество есть одиночество где бы ты ни был, и это
одиночество принадлежит нам, и в конце концов одиночество это не такая уж
плохая штука -
В газетах я читаю о том что Мики Мэнтл не сможет побить Бэйба Рута по
очкам в личном зачете, ну ладно, в будущем году до него доберется Вилли
Мэйс.
И я читаю об Эйзенхауэре машущем рукой из поезда произнося свои
предвыборные речи, и об Адлае Стивенсоне таком элегантном, фальшивом и
горделивом - я читаю о беспорядках в Египте, беспорядках в Северной Африке,
беспорядках в Гонконге, беспорядках черт бы их подрал повсюду, беспорядках в
одиночестве - Ангелы бунтуют против небытия.
Лопай свои яйца
и
Заткни пасть
Все кажется таким ярким и пронзительным когда спускаешься после горного
уединения - с каждым своим шагом я наблюдаю Сиэттл - Я иду с рюкзаком за
плечами по главной улице и счет за комнату оплачен и куча хорошеньких
девушек поедают рожки мороженого и заходят за покупками в 5 & 10 - На углу я
вижу чудаковатого продавца газет с велотележкой груженной древними номерами
журналов, упаковками лески и ниток, такой типаж старого Сиэттла - "В Ридерс
Дайджест о таких часто пишут", думаю я, и иду на автобусную станцию и
покупаю билет до Фриско.
На станции полно народу, я сдаю свой рюкзак в камеру хранения и брожу
не обремененный ничем и глазею по сторонам, сижу на станции свернув себе
сигаретку и покуривая, потом спускаюсь по улице выпить горячего шоколада у
фонтанчика с содовой.
У фонтанчика работает хорошенькая блондинка, я подхожу и заказываю
густой молочный коктейль, иду к краю стойки и выпиваю его там - Вскоре за
стойкой становится не протолкнуться народу и я вижу что у нее работы по уши
- Не может справиться со всеми заказами - В конце концов я все же заказываю
себе горячий шоколад и она чуть слышно бормочет "Гос-по-дии" - Заходят два
подростка-пижона и заказывают по гамбургеру с кетчупом, она не может
разыскать кетчуп и ей приходится отойти в заднюю комнатку поискать там, а в
это время вновь подошедшие сидят за стойкой голодные и ждут, я оглядываюсь
посмотреть не может ли ей кто-нибудь помочь, продавец аптечной части,
абсолютно безразличный тип в очках, он в конце концов все же подходит к
стойке но только чтобы присесть и заказать себе что-нибудь, бесплатно,
сэндвич с бифштексом -
"Не знаю я где этот кетчуп!" она уже почти плачет.
Он переворачивает газетную страницу, "Правда?" -
Я разглядываю его - бездушный циничный клерк в аккуратном белом
воротничке которому на всех наплевать, но который при этом верит что женщины
должны ходить перед ним на цыпочках! - Теперь разглядываю ее, типичная
девчонка с западного побережья, может быть бывшая манекенщица, быть может
даже (всхлип) бывшая танцовщица из комик-шоу, не добившаяся успеха потому
что не была достаточно порочной, как вчерашняя О`Греди - Но она тоже из
Фриско, она всегда жила в Тендерлойне, она совершенно добропорядочная, очень
привлекательная, трудолюбивая, с добрым сердцем, но как-то что-то пошло
наперекосяк и в жизни выпала ей невезучая карта - вроде как моей матери - Не
знаю, почему не появится какой-нибудь мужчина и не подцепит ее - Блондинка
38 лет, полненькая, с прекрасным телом Венеры, прекрасным и совершенным
камейным лицом, с большими грустными итальянскими веками и высокими скулами,
кремово-мягкими и полными, но никто ее не замечает, никто ее не хочет, ее
мужчина еще не пришел, ее мужчина никогда не придет и она будет стариться со
всей своей красотой в своем неизменном кресле-качалке у окна уставленного
цветочными горшками (О Западное Побережье!) - и она будет жаловаться и
рассказывать историю своей жизни так: "Всю жизнь я старалась как могла" - Но
два парня настаивают что им очень нужен кетчуп и в конце концов она
вынуждена сказать что он кончился и они сердито начинают есть - Один из них,
уродливый малый, берет свою картофельную соломку и начинает вытряхивать ее
из обертки остервенело стуча по прилавку будто хочет забить кого-то до
смерти, по-настоящему сильными и быстрыми убийственными ударами, они пугают
меня - Его приятель довольно привлекателен но почему-то привязан к своему
уродливому приятелю и они большие друзья, может быть избивают вместе
стариков по ночам -- В это время она совсем шалеет от дюжины разных заказов,
сосиски, гамбургеры (я теперь тоже хочу гамбургер), кофе, молоко, лимонад
для детей, а бездушный клерк сидит и читает газету пожевывая свой сэндвич с
мясом - Ничего не замечает - Ее волосы растрепались и прядь их лезет в
глаза, она почти рыдает - Всем им плевать потому что никто ничего не
замечает - И вечером она пойдет в свою маленькую чистую комнату с кухонькой,
покормит кошку и махнув рукой отправится спать, одна из очень хорошеньких
женщин, такие редко встречаются - Без Лохинвара[39], стоящего под дверьми -
Ангел в облике женщины - А по сути такая же отверженная как и я, ведь никто
не полюбит нас ночью - Вот как устроен этот мир, вот он ваш мир - Ударь!
Убей! - Будь безразличен! - Вот оно ваше Настоящее Пустотное Лицо -- и вот
что наша пустая вселенная припасла нам, Ненужность - Ненужность Ненужность
Ненужность!
И еще вот что меня удивляет, она вовсе не обращается со мной
пренебрежительно за то что целый час я пялился на нее крутящуюся белкой в
колесе, вместо этого она доброжелательно отсчитывает мне сдачу, кинув
быстрый обеспокоенный взгляд нежных голубых глаз - Я представляю себя у нее
в комнате, ночью, выслушивающим для начала перечень ее обоснованных жалоб.
Но у меня автобус отходит -
Автобус вырывается из Сиэттла и мчится на юг в Портленд по
посвистывающей дороге 99 - Я удобно устраиваюсь на заднем сиденье с
сигаретой и газетой, мой сосед похожий на индонезийца молодой студент,
довольно неглупый, он говорит мне что приехал с Филиппин и в конце концов
(узнав что я говорю по-испански) признается что считает белых женщин дерьмом
-
"Les mujeres blancas son la mierda"
Я поеживаюсь от этих слов, орды монгольских завоевателей заполонят
Западный Мир, повторяя их, а ведь речь идет всего-навсего о бедных маленьких
блондинках выбивающихся из сил у прилавка - Бог ты мой, будь я султаном! Я б
этого не допустил! Я бы распорядился как-нибудь получше! Но ведь все это
просто сон! Тогда к чему так волноваться?
Мир не выжил бы, не будь у него сил освободиться самому.
Сосите! сосите! сосите титьку Небесную!
Бог это Собака прочитанная наоборот[40]
Среди камней и снегов меня переполняла злость, среди камней чтобы
сидеть и снега чтобы пить, камней чтобы зачинать горные лавины и снега чтобы
кидаться снежками в свой домик - я злился среди комаров и умирающих
муравьиных самцов, злился на мышь и убил ее, злился на тысячемильную
круговую панораму гор со снеговыми шапками под синим небом дня и звездным
восторгом ночи - Злился потому что был глупцом, ведь мне нужно было любить и
каяться -
И вот я вернулся в чертово кино этого мира и что же мне делать теперь?
Сиди себе дурень,
дури себе,
вот и все --
Подступают тени, падает ночь, автобус мчится вперед по дороге - Люди
спят, люди читают, люди курят - Затылок водителя недвижен и безжизнен -- И
скоро уже показываются портлендские огни холодные и обманчивые и воды и
скоро городские улицы и фонари развязок автострад пролетают мимо - А потом
просторы Орегона, Долина реки Вилламетт -
На восходе я неспокойно просыпаюсь и вижу горы Маунт Шаста и старый
Черный Батте, но горы не поражают меня больше - я даже не выглядываю из окна
-- Поздно уже, и на фиг надо?
Потом долгое горячее солнце Долины Сакраменто целый воскресный полдень,
и пустынные маленькие городишки где мы делаем короткие остановки и где я жую
воздушную кукурузу и присаживаюсь где-нибудь и жду - Ага! - Скоро Валлехо,
виднеется залив, и что-то новое начинает вырисовываться на
изумительно-облачном небе - Сан-Франциско и Залив!
И все то же одиночество -
Мост по-настоящему изумляет, въезд-в-Сан-Франциско по Мосту через
Оклендский Залив, над водами чуть встревоженными плывущими на восток в океан
лайнерами и паромами, над водами выносящими тебя к иным берегам, так всегда
казалось мне когда я жил в Беркли - после пьяной ночи, или двух, в городе,
баммм, старый трамвай "М" катит над водами вынося меня к другому берегу
тишины и умиротворенности - Мы (с Ирвином) проезжая по Мосту говорим о
Пустоте - И даже сам вид крыш Фриско переполняет возбуждением и верой,
массивное нагромождение зданий центра, летучий красный конь Стандард Ойл,
высотки Монтгомери Стрит, Отель Св. Франциска, холмы, волшебная Телеграфная
Горка с Койтовой башней[41] на вершине, волшебная Русская, волшебная Башка,
и волшебная Миссия за ними увенчанная крестом всех скорбей, когда-то давно я
уже видел их так в пурпурном закате стоя вместе с Коди на маленьком
железнодорожном мосту - Сан-Франциско, Норт-Бич, Чайнатаун, Маркет-стрит,
бары, Бэй-Ум, Белл-отель, вино, переулки, бедолаги, Третья Улица, поэты,
художники, буддисты, бродяги, торчки, девушки, миллионеры, моряки, целое
кино из жизни Сан-Франциско можно увидеть не вылезая из едущего по Мосту
автобуса или трамвая, сердце щемит прямо как в Нью-Йорке -
И все они здесь, мои друзья, где-то среди этих игрушечных улочек и
когда они увидят меня ангел улыбнется - Это очень даже неплохо - Не такое уж
оно плохое, это Одиночество -
Ух ты, совсем другая обстановочка, так всегда в Сан-Франциско, он
всегда дает тебе смелость потворствовать своим желаниям - "Этот город так
сделан, чтобы ты в нем делал именно то что хочешь, с некоторыми
ограничениями воплощенными в камне и памяти" -- И такое вот -- поэтому -
чувство, что "Ух ты, О Переулок, я добуду себе пузырек токайского и пройдусь
по тебе, прихлебывая" - Это единственный известный мне город где можно так
открыто прогуливаясь по улице пить и никому до тебя нет дела - все тебя
просто сторонятся и ты для них вроде прибалдевшего морячка О Джо Маккоя с
Ларлайна - "он че, один из этих алканавтов?" - "Нет, просто старый бедолага
матрос, он плавал в Гонконг и Сингапур и обратно много раз и теперь попивает
себе вино в боковых переулочках у Харрисон-стрит" -
Харрисон-стрит это улица по которой катит наш автобус, под уклон вниз,
и мы болтая проезжаем еще семь кварталов на север до Седьмой улицы, где он
сворачивает в сутолоку воскресного городского движения - и вот они, все
Радости твои на этой улице.
Повсюду что-то происходит. Вот идет Лохматый Чарли Джо из Лос-Анжелеса,
чемодан, светлые волосы, спортивная рубашка, большие массивные наручные
часы, и с ним веселая девица Минни О`Перл которая поет в группе в баре Руэй
- "Эгей?"
А вот и негры-носильщики багажа из компании Грейхаунд, о которых Ирвин
писал что они Магометанские Ангелы и я верю этому - развозящие ценные грузы
в "Лунтаун" и "Мунтаун" и "Колорадский Лунный Свет", в этом последнем они
вечером сами будут отплясывать с девочками громко прихлопывая в такт под
звук подкатывающих и разворачивающихся машин и под Отэя Спенсера из
музыкального автомата - и далее вниз, к негритянским новостройкам, куда мы
отправлялись утром, нагрузившись виски с вином и болтая с сестренками из
Арканзаса которые видели как вешали их отца -- Что же после этого должны они
думать об этой стране, этой Миссисипи - Вот они, чистенькие и со вкусом
одетые, безупречные галстучки и воротнички, старательнейшие щеголи Америки,
выставляющие свои негритянские лица на суд работодателя, который оценивает
не их а безукоризненность щеголеватых галстуков - некоторые из них в очках,
с кольцами, изящно покуривают трубочки, студенты, социологи, такие вот
ребята типа мы-то-знаем-к-чему-сегодня-все-прикалываются так хорошо мне
знакомые по Сан-Франу -- бурление звуков[42] - я вхожу в этот город
пританцовывая с большим рюкзаком на спине и поэтому мне приходиться следить
чтобы не задеть кого-нибудь но все же я присоединяюсь к этому шествию вниз
по Маркет-стрит - Сегодня необычно малолюдно и даже слегка пустынно,
воскресенье -- Впрочем, на Третьей полно народу, и величественные огромные
Дворняги перегавкиваются из-за дверей, они говорят о Божественных Сучьих
Утробах, всяких своих собачьих материях -- Бесцельно и лениво топаю я по
Кирни, в сторону Чайнатауна, разглядывая все лавки и все лица чтобы не
пропустить намек куда Ангел направит этот мой великолепный и ясный день -
"Найдя комнату сначала надо будет подстричься", говорю я себе,
"привести себя в какой-никакой вид " - "Потому что первым делом я пойду в
Подвал слушать классный сакс". Да, сразу отправлюсь туда на воскресный джем.
О там я встречу всех, и блондинок в темных очках, и брюнеток в изящных
жакетках под руку со своими парнями (нет -- Мужчинами!) - подносящих к губам
бокалы с пивом, втягивающих сигаретный дым и покачивающихся в такт бита[43]
Брю Мура, отличного тенор-саксофониста - Старина Брю накачается пивом[44], и
я от него не отстану - "Буду подстукивать ритм ногой", думаю я - "Посмотрим
умеют ли эти ребята петь" - Ведь все лето я пел джаз сам себе, распевая во
дворе или ночами в доме, и теперь стоит мне услышать музыку я вижу в этом
мановение указующей руки Ангельской, и я жадно смотрю на лестницы ожидая
увидеть спускающуюся ее, и О джаз мне сыграй в баре у Мори МакРая давай[45]
- музыка -- Потому что от серьезности этих лиц может съехать крыша, и истина
только в музыке -- и смысл только в бессмыслице -- Музыка вливается в
сердцебиение вселенной и мы забываем о биении разума.
Я в Сан-Франциско, и я готов принять этот город. И вижу я вещи
невероятные.
Я уступаю дорогу двум филиппинским джентльменам спешащим пересечь
Калифорнию, перехожу улицу к Отелю Белл, с китайской детской площадкой
неподалеку, и захожу внутрь чтобы снять номер.
Портье немедленно и предупредительно бросается ко мне, в холле сидят
женщины сплетничающие по-малайски, меня пробирает дрожь при мысли о том
какие звуки услышу я сквозь окошко во дворик, китайские и мелодичные. Я
слышу даже напевы французской речи, от хозяев отеля. Гостиничная мешанина
звуков завешанных темными коврами комнат, скрипучих ночных шагов и мерцающе
потикивающих настенных часов, и 80-летний согбенный мудрец за сеткой, но при
открытых дверях, и кошки - Портье приносит сдачу, зайдя в мою ожидающе
приоткрытую дверь. Я вынимаю свои малюсенькие алюминиевые ножнички, которыми
не срезать даже пуговиц со свитера, но можно все же как-то подстричь себе
волосы - Потом разглядываю результат в зеркале - Окей, теперь я иду бриться,
пускаю горячую воду, бреюсь, подравниваю прическу, и на стене вижу календарь
с обнаженной китаянкой. Даже календарь может пригодиться. ("Ну", говорит в
комик-шоу один бродяга другому, оба англичашки. "Ща я ее поимею").
В маленьких горячих язычках пламени.
Я выхожу и попадаю на перекресток Коламбуса и Кирни, у Бербери Кост, и
бродяга в длинном бродяжьем плаще растягивая слова сообщает мне "У нас в
Нью-Йорке улицу быстро переходят! - Не то что тут у них, ждать
заколебешься!" и мы оба перебегаем прямо через дорогу, идем среди машин и
болтаем о Нью-Йорке - Потом я дохожу до Подвала и спрыгиваю вниз, крутыми
деревянными ступеньками, в просторный подвальный зал где, как войдешь
справа, есть помещение с баром и помостом для музыкантов, на котором сейчас
Джек Мингер дует в свою трубу, и позади него безумный светловолосый пианист
и студент консерватории Билл, а на ударных такой чувак с покрытым испариной
красивым и грустным лицом, у него отчаянный бит и сильные запястья, а на
басу качает ритм кто-то невидимый и бородатый - Какой-нибудь безумный Уигмо
или кто-то типа него - но это еще не сейшн, это постоянная местная группа,
еще рано, я вернусь сюда попозже, я слышал уже все мингеровские темы соло и
вместе с группой, но сперва (только что заскочил в книжную лавку посмотреть
какие там новости) (и девушка по имени Соня грациозной походкой подошла ко
мне, 17-ти лет, и сказала "О ты знаешь Рафаэля? Ему нужно помочь, немного
денег, он ждет у меня дома) (Рафаэль мой старый нью-йоркский приятель)
(расскажу о Соне попозже) я забегаю ненадолго и уже почти готов развернуться
и уйти, как вдруг вижу чувака похожего на Рафаэля, в темных очках, стоящего
у помоста и разговаривающего с какой-то девицей, поэтому я перебегаю через
помост на его сторону (быстрым шагом) (чтобы не обламывать бит ведь
музыканты сейчас как раз играют) (небольшую тему вроде "Слишком рано") и
наклоняюсь посмотреть вниз, Рафаэль это или нет, чуть ли не встаю на голову
глядя на него так вверх ногами, он ничего не замечает разговаривая со своей
девушкой и я вижу что это не Рафаэль и сматываюсь оттуда -- Из-за всего
этого трубач играя свое соло удивленно смотрит на меня, он и раньше-то меня
знал как изрядного психа, а теперь я тут бегаю туда-сюда чтобы посмотреть на
кого-то вверх ногами - Я бегом мчусь в Чайнатаун чтобы где-нибудь перекусить
и успеть назад к сейшну. Креветки! Цыплята! Ребра! Я добираюсь до
"Санг-Хъонг-Ханга" и сажусь за столик в их новом баре, выпить холодного
пивка принесенного невероятным чистюлей-официантом который все время скоблит
свой бар и протирает бокалы и даже вытирает несколько раз под моим пивным
бокалом так что я говорю ему "У вас отличный чистый бар" и он говорит
"Новехонький" -
Теперь я пытаюсь подыскать себе отдельную кабинку чтобы сесть -- и не
нахожу - поэтому я поднимаюсь наверх и сажусь в большой семейной кабине с
занавесками но они меня выгоняют ("Вам нельзя сидеть здесь, это для семей и
банкетов") (после чего не подходят меня обслужить, хотя я жду), поэтому я
отодвигаю свой стул и перебираясь вниз нахожу там кабинку и говорю официанту
"Не подсаживайте ко мне никого, я люблю есть один" (в смысле в ресторанах,
конечно) - Креветки в коричневом соусе, цыплята поджаренные с карри,
кисло-сладкие ребра, все это из меню китайского обеда, я съедаю все это
запивая еще одним пивом, в общем ужасный обед получился и я с трудом его
доедаю - но все же доедаю до конца, расплачиваюсь и сваливаю оттуда --
Выходя в теперь уже предсумеречный парк с играющими в песочнице и
качающимися на качелях детишками и стариками глазеющими на них со скамеек -
Я подхожу и сажусь.
Китайские ребятишки разыгрывают мировые драмы в песочнице - Подходит
папаша, забирает троих разных малышей и уводит их домой - Копы заходят в
тюремное здание, напротив через улицу. Воскресенье в Сан-Франциско.
Патриарх с остроконечной бородкой кивает мне а потом подсаживается к
своему старому приятелю и они начинают громко говорить по-русски. Сразу
узнаю эти olski-dolski где бы ни услышал, nyet?
Потом не спеша иду я в нарастающей свежести, и в сумерках уже прохожу
улицами Чайнатауна, как обещал себе на Пике Одиночества, подмигиванье
неоновых огоньков, магазинные лица, гирлянды лампочек через Грант-стрит,
Пагоды.
Я иду в свою комнату в отеле и немного валяюсь на кровати, покуривая,
вслушиваясь в звуки проникающие в окошко из двора Белл-отеля, шум звякающей
посуды, проезжающих автомобилей и китайской речи -- Со всех сторон мир
причитает жалобно, везде и в моей комнате даже слышен этот звук, насыщенный
и ревущий звук тишины свистящий в моих ушах и плещущийся в алмазной
персепине[46], и я расслабляюсь и чувствую как мое астральное тело покидает
меня, и лежу так в состоянии полного транса, и вижу сквозь все. Я вижу
всезаполняющий белый свет.
Это традиция Норт Бич, Роб Доннелли тоже однажды прилег так в своем
бродвейском отеле, и его понесло, и он видел целые миры, и вернулся назад
проснувшись на кровати в своем номере, полностью одетый к выходу из дома -
И очень даже может быть что и старый Роб, в сдвинутой набок пижонской
кепке Мэла Дамлетта, может быть и он в Подвале прямо вот сейчас -
Сейчас в Подвале все ждут музыкантов, не слышно ни звука, нет ни одного
знакомого лица, и я болтаюсь туда-сюда по тротуару перед входом и тут с
одной стороны появляется Чак Берман, а с другой Билл Сливовиц, поэт, и мы
разговариваем облокотившись о крыло автомобиля - Чак Берман выглядит
усталым, глаза его как-то затуманены, но он носит мягкие модные ботинки и
выглядит в вечернем свете невероятно круто - Билла Сливовица все эти дела не
интересуют, он одет в поношенную спортивную куртку и прохудившиеся ботинки а
в карманах таскает стихи - Чак Берман под торчем, так и говорит, я
уторченный, потом медлит немного оглядываясь по сторонам и сваливает куда-то
- говорит что вернется назад - Последний раз когда я видел Билла Сливовица
он спросил меня "Ты куда идешь?" а я заорал в ответ "А какая разница?"
поэтому теперь я извиняюсь и объясняю что был с похмелья - Мы заходим в
Местечко выпить пива.
Местечко - это приятный коричневый бар отделанный деревом, с опилками
на полу, пивом в баррелевых[47] стеклянных кружках, старым пианино на
котором можно тарабанить любому желающему, и вторым ярусом который
представляет собой что-то типа балкона с маленькими деревянными столиками и
- разве кто против? дрыхнущей на скамейке кошкой -- Обычно я хорошо знаю
всех местных барменов, но не сегодня - и я предоставляю Биллу раздобыть пива
и за круглым столиком мы разговариваем о Сэмюэле Беккете и прозе и поэзии.
Билл думает что Беккет это тупик, он постоянно повторяет это, его очки
посверкивают, у него вытянутое серьезное лицо, мне трудно поверить что он
серьезно говорит о смерти, но это так - "Я мертв", говорит он, "Я написал
несколько поэм о смерти" -
"Ну и где же они?"
"Они еще не окончены, чувак".
"Пошли в Подвал слушать джаз", и мы выходим и заворачиваем за угол и
уже на подходе к дверям я слышу как они там внизу завывают, целая команда
теноров и альтов и труб ведущая первую тему - Бумм, мы заходим как раз когда
они смолкают и тенор начинает соло, тема незамысловатая, "Джорджия Браун" -
тенор ведет ее мощно и широко, сочным таким звучанием - Они приехали из
Филмора на машинах, со своими девчонками и в одиночку, стильные цветные
чуваки воскресного Сан-Франа, в прекрасных ловко сидящих шмотках спортивного
покроя, прям одуреть можно какие ботинки, лацканы, в галстуках и без,
настоящие мачо [48]- они привезли свои трубы в такси и в собственных
машинах, они ворвались в Подвал чтобы показать настоящие класс и джаз, негры
которые когда-нибудь станут спасением Америки - я думаю так, потому что
когда последний раз я был в Подвале он был полон угрюмых белых сидящих во
время бестолкового джема и ждущих возможности затеять драку, и они ее
затеяли, с моим братишкой Рэйни которого вырубил незаметно подошедший
здоровенный злобный 250-фунтовый детина-моряк знаменитый тем что он
пьянствовал вместе с Диланом Томасом и Джимми Греком в Нью-Йорке - Сейчас
здесь слишком классно для драки, сейчас здесь джаз, стоит страшный гам,
полно красивых девушек, и одна безумная брюнетка у стойки набралась уже со
своими парнями - И еще одна чудная девица которую я знаю откуда-то, в
простом платье с карманами, руки в карманах, короткая стрижка, сутулящаяся,
болтающая со всеми подряд - Они ходят вверх-вниз по лестнице - Официантами
здесь работает обычная команда местных тусовщиков и среди них
не-от-мира-сего барабанщик который подняв к небесам свои голубые глаза,
бородатый, пощелкивает крышками открываемых пивных бутылок и импровизирует
на кассовом аппарате, и все это сливается в бит - Это бит-поколение, это
beat[49], это бит[50] по жизни, бит биенья сердца, это значит быть разбитым,
оскорбленным этим миром, смердом прошлых поколений, с этим битом рабы-гребцы
цивилизаций древних махали веслами, с этим битом слуги горшки вращали
гончарными колесами - Их лица! Ни одно лицо не сравнить с лицом Джека
Мингера стоящего сейчас на оркестровом помосте рядом с цветным трубачом
выдувающим неистовые головокружительности[51], он глядит куда-то поверх
голов и курит -- У него обычное лицо как у многих кого знаешь и встречаешь
на улице, лицо поколения, прекрасное лицо - Его нелегко описать - грустные
глаза, жесткие губы, предвкушающий блеск глаз, он покачивается в ритме бита,
высокий, величественный - стоя в ожидании перед аптекой - Лицо как у
нью-йоркского Хака (Хака можно встретить на Таймс-сквер, дремлюще
настороженного, горестно сентиментального, темноволосого, битого, только из
тюрьмы, уставшего, измученного тротуарами, изголодавшегося по сексу и
друзьям, открытого всему, и готового приветствовать новые миры пожатием
плеч) - Могучий цветной тенор издает мощные звуки как Сонни Ститтс в
канзасских мотелях, чистые, низкие, неочевидные и не совсем даже музыкальные
идеи которые тем не менее неотделимы от музыки, они всегда здесь, в глубине,
гармонии эти слишком сложны чтобы их мог оценить пестрый сброд (в смысле
понимания музыки) собравшийся здесь - но музыкантам они слышны -- На
барабанах потрясающий 12-летний негритенок, которому не разрешают пить, но
позволяют играть, невероятно, такая малявка, такой гибкий и юный Майлс
Девис, похожий на малолетних фанатов Фэта Наварро которых раньше можно было
встретить в Испанском Гарлеме, маленький всезнайка - он громыхает по
барабанам битом про который стоящий рядом со мной знаток-негр в берете
сказал что он "ошеломительный" - На клавишах Блонди Билл, который не
посрамил бы любую группу - Запрокинув голову вступает Джек Мингер вместе с
филморскими ангелами, я врубаюсь в него - Потрясающе -
Я стою у стены в нижнем зале, пива мне не нужно, с толпой снующих
туда-сюда слушателей, со Сливом, и вот возвращается Чак Берман (цветной
малый из Вест-Индии который шесть месяцев назад вломился пьяный ко мне на
вечеринку вместе с Коди и всей его бандой, у меня как раз играла пластинка
Чета Бейкера, и мы принялись скакать вместе по комнате, невероятно, он
танцевал с потрясающей грацией не прилагая к этому никаких усилий, так
обычно отплясывал Джо Луис) - Точно так же пританцовывая он влетает и сюда,
радостно - Повсюду виднеются знакомые лица - это настоящий джазовый кабак и
сумасшедшая выдумка поколения битников, здесь встречаешь кого-нибудь,
"Привет", потом поворачиваешься куда-то еще, ради чего-то еще или кого-то
еще, сплошное безумие, поворачиваешься назад, в сторону, вокруг, со всех
сторон что-нибудь да найдет тебя в звучании джаза - "Привет" - "Эй" -
Бамм, маленький барабанщик начинает соло, его мальчишеские руки летают
над трапециями, литаврами и цимбалами, и ножной педальный барабан ГРОХОЧЕТ в
фантастическом звуковом шквале -- 12-ти лет от роду -- что-то еще будет?
Мы стоим со Сливом пританцовывая в такт бита, и наконец та девушка в
платье подходит к нам поболтать, это Гия Валенсия, дочь безумного испанского
мудреца антрополога который жил с калифорнийскими индейцами помо и с
пит-риверским племенем, знаменитый старик, его книги я читал с благоговением
всего три года назад когда работал на железной дороге в Сан Луис Обиспо -
"Дух, отдай мне тень мою!" вскричал он на записи сделанной незадолго до
смерти, показывая как делали это индейцы на своих сейшнах в доисторической
Калифорнии до того как появились Сан Фран, Кларк Гейбл, Эл Джонсон, Роза
Уайз Лэйзали и все джазы всех джазовых поколений - Снаружи светит то же
солнце и тени те же самые как в старые времена лозоискателей[52], но индейцы
исчезли, и старый Валенсия исчез, а осталась его милая умница-дочка стоящая
засунув руки в карманы и врубающаяся в джаз -- А также подходящая и
разговаривающая со всеми симпатичными мужчинами, черными и белыми, она любит
их всех - Они любят ее - Мне она говорит неожиданно "А ты разве не собирался
позвонить Ирвину Гардену?"
"Да я только-только появился в городе!"
"Ты Джек Дулуоз, правда?"
"Ага, а ты -"
"Гия"
"А, романское имя"
"Ох, ты меня пугаешь", говорит она серьезно, внезапно поразившись моей
непостижимой для самого себя манере разговаривать с женщинами, моему
взгляду, бровям, моему крупно очерченному сердитому костистому лицу с
безумным блеском в глазах - Она действительно побаивается - я чувствую это -
Я и сам часто пугаюсь своего отражения в зеркале - Но для такой вот нежной
милашки смотреть в мое зеркало всех-этих-горестей... хуже и не придумаешь!
Она говорит со Сливом, он не пугает ее, он милый, грустный и серьезный,
и она стоит рядом с ним, а я смотрю на нее, маленькое худощавое тело, еще не
вполне оформившееся, и низкий тембр ее голоса, ее обаяние, ее от природы
грациозная походка от которой веет Старым Светом, такая неуместная в Подвале
- Она бы смотрелась на коктейль-вечеринке у Кэтрин Портер - Или в Венеции
или Флоренции, перебрасываясь всякими там словечками об искусстве с Трумэном
Капоте, Гором Видалом и Комптоном Бертоном - или в готорновских романах -
Мне она действительно очень нравится, и я подхожу к ним и разговариваю еще
немного -
Внезапно бамм бамм джаза врывается в мое сознание и я забываю обо всем
и закрываю глаза вслушиваясь в развитие темы - мне хочется закричать
"Сыграйте "Какой я глупец!" это было бы так классно - Но сейчас они ушли в
другой джем - так у них поперло -- басы держат ритм, соло на пианино, и так
далее -
"А как позвонить Ирвину?" спрашиваю я ее - И тут вспоминаю что у меня
есть телефон Рафаэля (который мне дала милашка Соня в книжной лавке)
проскальзываю в телефонную будку с десятицентовиком в руках и набираю номер,
всегда так в джазовых местечках, однажды в нью-йоркском "Бердленде" я
забрался в телефонную будку и там в относительной тишине вдруг услышал Стена
Гетца, который в туалете неподалеку негромко подыгрывал на саксофоне
игравшей снаружи группе Ленни Тристано, и тогда-то я и понял что он может
все -- ("Забудьте о Уорне Марше[53]!" говорила его музыка) - Я звоню Рафаэлю
и он отвечает "Да?"
"Рафаэль? Это Джек - Джек Дулуоз!"
"Джек! Ты где?"
"В Подвале - приезжай сюда!"
"Не могу, денег нет!"
"А пешком не доберешься?"
"Пешком?"
"Я сейчас позвоню Ирвину и мы заедем за тобой на такси - Перезвоню
через полчаса!"
Звоню Ирвину, ничего не получается, он куда-то запропастился - Весь
Подвал уже отплясывает, теперь официанты начинают сами прикладываться к
пиву, они раскраснелись, возбужденные и опьяневшие - Пьяная брюнетка падает
со своего сиденья, ее чувак относит ее в дамскую уборную - Внутрь врываются
новые компании - Настоящее безумие - И в конце концов как венец всему (О
Одиночество Мое Молчание Мое) появляется Ричард Де Чили безумец Ричард Де
Чили который по ночам мотается туда-сюда по Фриско, в одиночестве,
разглядывая образцы архитектуры, всякие там чудные прибамбасы и фонари и
садовые заборчики, прихихикивая, один, ночью, не пьет, и в карманах у него
полно смешных мыльных конфет и обрывков веревок и сломанных зубных щеток и
полубеззубых расчесок, и придя переночевать на одну из наших хат он первым
делом сожжет зубные щетки в камине, или будет торчать часами в ванной
включив воду и расчесывать себе волосы различными щеточками, совершенно
бездомный, каждую ночь он спит на чьей-то чужой кровати и все же раз в месяц
ходит в банк (в вечернюю смену) и там его ждет месячная рента (днем банк
слишком пугающ), как раз впритык чтобы прожить, оставленная ему каким-то
таинственным и никому неизвестным богатым семейством о котором он никогда не
рассказывает - Во рту спереди у него нет зубов, вообще никаких - Шизовые
одежки, вроде шарфа вокруг шеи, джинсов и дурацкой куртки которую он нашел
где-то заляпанную краской, он предлагает тебе мятную конфету и на вкус она
настоящее мыло - Ричард Де Чили, Таинственный, исчезнувший куда-то на долгое
время (шесть месяцев назад) и вдруг проезжая по улице мы видим его заходящим
в супермаркет "Это Ричард!", и мы выпрыгиваем из машины чтобы догнать его, и
вот он в магазине пытается тайком стибрить конфеты и банку с орешками, и
мало того, его замечает продавец-Оки,[54] и нам приходится заплатить чтобы
его отпустили и он выходит с нами невразумительно бормоча что-то вроде "Луна
- это кусок чая[55]", разглядывая ее с заднего сиденья - В конце концов
когда я пригласил его погостить несколько дней в Милл-Волли, в домике где я
жил 6 месяцев назад, он собрал все спальные мешки (кроме моего, спрятанного
в траве) и завесил ими окно так что они разодрались, и в последний раз
заехав в миллволльский домик перед выходом на трассу на Пик Одиночества, я
нашел там Ричарда Де Чили спящего в заваленной гусиными перьями комнате,
невероятное зрелище - типичное зрелище - с его бумажными пакетами со
странными эзотерическими книгами (он один из самых образованных людей из
всех кого знаю), с его мыльцами, свечками и прочим хламом, О Боже, точный
список мне уж и не вспомнить -- Как-то однажды он позвал меня на длинную
прогулку по Сан-Франциско одной моросяще-дождливой ночью, чтобы
подсматривать в выходящее на улицу окно за двумя лилипутами
гомосексуалистами (которых не оказалось дома) - Ричард заходит и становится
как обычно возле меня, в грохоте музыки я не слышу что он говорит и это все
равно неважно - Он тоже беспокойно приплясывает, оглядывается повсюду, все
ожидают что он что-нибудь выкинет, но ничего не происходит...
"Ну и чем бы нам заняться?" говорю я -
Никто не знает - Слив, Гия, Ричард, остальные, все они просто стоят или
тусуются по Подвалу Времени и они все ждут и ждут как Семюэль Беккетовские
герои из его "Абиссинии" - А я, мне нужно что-нибудь делать, куда-нибудь
пойти, кого-нибудь встретить, и говорить и действовать, и я мельтешу и
тусуюсь вместе с ними -
Красивой брюнетке становится еще хуже - Одетая так изящно, в облегающее
платье черного шелка выставляющее на обозрение все ее прекрасные сумеречные
прелести, она выходит из туалета и падает снова - Вокруг кружат какие-то
шизовые персонажи - Сумасшедшие разговоры со всех сторон, я уже ничего не
запоминаю, это слишком безумно!
"Я сдаюсь, я иду спать, разыщу всех завтра"
Мужчина с женщиной просят нас подвинуться немножко пожалуйста, тогда
они смогут рассмотреть карту Сан-Франциско на стене - "Туристы из Бостона,
а?" говорит Ричард со своей идиотской ухмылкой -
Я подхожу к телефону опять и опять Ирвина нет дома, поэтому я хочу
домой в свою комнату в "Белл-отеле", хочу спать - Крепко как в горах, новые
поколения слишком безумны -
Но Слив с Ричардом еще не хотят меня отпускать, каждый раз когда я
пытаюсь ускользнуть они не отстают от меня, тусуются туда-сюда, все мы здесь
тусуемся туда-сюда и ждем непонятно чего, это уже действует мне на нервы -
Это обезволивает меня и мне уже становится жаль так вот распрощаться с ними
и вырваться наружу, в ночь -
"Завтра в одиннадцать Коди будет у меня", кричит мне Чак Берман так что
теперь я могу убраться отсюда -
На углу Бродвея и Коламбуса, из знаменитой маленькой забегаловки
открытой всю ночь, я звоню Рафаэлю чтобы сказать ему что утром мы
встречаемся у Чака - "Окей, но ты послушай! Пока я ждал тебя, я написал
стих! Обалденный стих! И он о тебе! Я обращаюсь к тебе! Можно тебе его по
телефону прочитать?"
"Давай"
"Плюнь на Босатсу!" орет он. "Наплюй на Босатсу!"
"Оо", говорю я. "Это прекрасно"
"Стих называется "Джеку Дулуозу, Буддо-рыбе" - и вот значит что
получилось - " И он читает длинное безумное стихотворение по телефону, мне,
стоящему у прилавка с гамбургерами, и пока он орет и декламирует (и я
понимаю все, принимаю каждое слово этого итальянского гения переродившегося
из Ренессанса в нью-йоркском Ист-Сайде) я думаю "О Боже, как это грустно! -
У меня есть друзья-поэты и они выкрикивают мне свои стихотворения в городах
-- именно так я предвидел это в горах, празднество в городах перевернутое
вниз головой - "
"Отлично, Рафаэль, великолепно, ты величайший поэт которого я
когда-либо - ты уже начинаешь по-настоящему - великолепно - не
останавливайся - помни что нужно писать не останавливаясь, не думая, просто
пиши, я хочу услышать что там на самом дне твоего сознания".
"Ага, именно так я и делаю, понимаешь? - ты врубаешься? Ты понимаешь?"
и в том как он произносит это "понимаешь" ("паамаешь") есть что-то фрэнк
синатровское, что-то нью-йоркское, и что-то новое пришедшее в мир этот,
настоящий Поэт городских глубин, такой как Кристофер Смарт и Блейк, как Том
О`Бедлам, песни улиц и дворовых парней, великий великий Рафаэль Урсо на
которого я имел большущий зуб в 1953 когда он занялся этим с моей девушкой -
но чья это была вина? моя не менее чем их -- об этом написано в Подземных
[56] -
"Великий великий Рафаэль, увидимся завтра - Давай же спать, давай будем
тихими и молчаливыми - Давай врубаться в тишину - тишина это все, все лето я
провел в тиши, я научу тебя."
"Классно, классно, я врубаюсь, ты врубаешься в тишину" раздается его
печальный взволнованный голос в дурацкой телефонной трубке "мне грустно что
ты врубался в тишину, но я тоже буду врубаться в тишину, поверь мне, я буду
-"
Я иду к себе в комнату спать.
И вот! Вот он, этот старый ночной портье, старик-француз, не помню как
его зовут, но когда мой старый братишка Мэл жил в "Белле" (и мы пили за
здоровье Омара Хайяма и наших прекрасных коротко стриженных девчонок в его
комнате под свисающей с потолка лампочкой), этот старик все время почему-то
психовал и орал что-то невнятное, доставал нас по-всякому - Теперь, через
два года, он совершенно изменился и стал какой-то весь скрюченный, ему 75, и
сутулясь он бормоча спускается в холл отворить тебе временное пристанище
твое, он полностью успокоился, смерть смягчила ему глаза, они уже видели
свет, и он перестал быть злым и надоедливым - Он мягко улыбается даже когда
я прихожу к нему (в час ночи) в то время как он стоит сгорбившись на стуле и
пытается починить часы в клетушке портье -- И с трудом спускается вниз
отводя меня в мою комнату -
"Vous Хtes francais, monsieur?" говорю я. "Je suis francais
moi-mИme.[57]"
Кроме этой мягкости своей он приобрел еще и пустотность Будды, и даже
не отвечает мне а просто открывает дверь и грустно улыбается, весь
согнувшийся, он говорит мне "Спокойной ночи, сэр - все в порядке, сэр" - Я
удивлен - 73 года он был капризным занудой, и вот теперь за несколько
оставшихся выпасть ему нежными капельками росы лет он готов ускользнуть из
этого времени, и они похоронят его скрюченного в могиле (не знаю уж как) и я
стану носить ему цветы - Буду носить ему цветы миллион лет -
У себя в комнате я засыпаю, и невидимые золотые цветы вечности начинают
падать мне на голову, они падают везде, это розы Св. Терезы, и непрерывным
дождем они льются и падают на все головы этого мира -- И даже на тусовщиков
и психов, гуляк и безумцев, даже на алкашей похрапывающих в парках, даже на
мышей все еще попискивающих на моем чердаке в тысяче миль и шести тысячах
футах вверх на Пике Одиночества, даже на самых ничтожнейших их них осыпаются
ее розы, постоянно -- И в наших снах нам всем это известно.
Я сплю добрых десять часов и просыпаюсь освеженный розами - Но уже
опоздав на встречу с Коди, Рафаэлем и Чаком Берманом - я вскакиваю и
натягиваю свою клетчатую хлопковую спортивную рубашку с короткими рукавами,
надеваю сверху холщовую куртку, штаны из холстины, и торопливо выбегаю на
свежий ерошащий волосы морской ветерок Утра Понедельника -- И О этот город
сине-белых полутонов! -- И этот воздух! Звонят величественные колокола,
позвякивают отголоски флейточек чайнатаунских рынков, потрясающие сценки из
старинной итальянской жизни на Бродвее где старые макаронники в черных
костюмах покуривают черные крученые сигариллы и потягивают черный кофе - И
темны их тени на белых мостовых в чистом полнящемся колокольным звоном
воздухе, а за четкой линией молочно-белых крыш Рембо[58] в бухте виднеются
заходящие в Золотые Ворота белые корабли -
И ветер, и чистота, и великолепнейшие магазины вроде Буоно Густо со
свисающими колбасами, салями и провелоне, рядами винных бутылок и овощными
прилавками - и восхитительные кондитерские в европейском стиле - и над всем
этим вид на деревянную путаницу домов Телеграфной Горки где царят полуденная
лень и детские крики -
Я ритмично вышагиваю в своих новых холщовых синих ботинках, удобных,
настоящее блаженство ("Угу, в таких педики ходят!", комментарий Рафаэля на
следующий день) и эгегей! вот и бородатый Ирвин Гарден идет по
противоположной стороне улицы - Эй! - кричу я, свистя и размахивая руками,
он видит меня и вытаращив глаза раскидывает руки в объятии, и прямо так вот
и бежит ко мне перед носом у машин этой своей дурашливой подпрыгивающей
походочкой, шлепая ногами - но его лицо значительно и серьезно в ореоле
величественной бороды Авраама, его глаза постоянно мерцают язычками свечного
пламени в своих глазных впадинах, и его чувственные полные губы краснеют
из-под бороды подобно надутым губам древних пророков собирающимся что-нибудь
этакое изречь - Когда-то я увидел в нем еврейского пророка причитающего у
последней стены, теперь это общераспространенное мнение, даже в нью-йоркской
Таймс была написана о нем большая статья именно в таком духе - Автор
"Плача", большой безумной поэмы обо всех нас изложенной свободным стихом и
начинающейся строчками: -
"Я видел как лучшие умы моего поколения были разрушены безумием" - ну и
так далее.
Честно говоря я не особо понимаю про какое такое безумие он толкует,
так, например, в 1948 году в гарлемском притоне у него было видение
"гигантской машины, нисходящей с небес", громадного ковчега потрясшего его
воображение, и он все твердил "Можешь себе представить мое состояние - а ты
когда-нибудь видел наяву самое настоящее видение?
"Ага, конечно, а чего такого?"
Мне никогда толком не понять о чем это он и иногда мне кажется что он
переродившийся Иисус из Назарета, но иногда он выводит меня из себя и тогда
я думаю что он вроде этих несчастных придурков из Достоевского, кутающихся в
рванину и глумливо хихикающих у себя в каморке -- В юности он был для меня
чем-то вроде идеального героя, и впервые появился на сцене моей жизни в 17
лет - И даже тогда мне почудилась какая-то странность в решительном тембре
его голоса - Он говорит басом, внятно и возбужденно - но выглядит маленько
замотанным всей этой сан-францисской горячкой которая меня например за 24
часа выматывает полностью - "Догадайся кто объявился в городе?"
"Знаю, Рафаэль -- иду как раз повидаться с ним и с Коди"
"Коди? - Где?"
"У Чака Бермана - все уже там -- я опаздываю - пошли скорей"
На ходу мы говорим о миллионе сразу забывающихся мелочей, почти бежим
по тротуару - Джек с Пика Одиночества шагает теперь рука об руку с бородатым
соплеменником -- повремените, розы мои - "Мы с Саймоном собираемся в
Европу!" сообщает он, "Чего б тебе не поехать с нами! Мать оставила мне
тысячу долларов. И еще тысячу я скопил! Мы отправимся посмотреть на
Удивительный Старый Свет!"
"Окей, можно и поехать" - "У меня тоже найдется чуток деньжат - Можно
вместе - Подошло время, а, братишка?"
Ведь мы с Ирвином всегда говорили об этом и бредили Европой, и конечно
же прочитали все что только можно, даже "плачущего по старым камням Европы"
Достоевского и пропитанные трущобной романтикой ранние восторги Рембо, в те
времена когда мы вместе писали стихи и ели картофельный суп (в 1944 году) в
Кампусе Колумбийского Университета, мы прочитали даже Женэ[59] и истории о
героических апашах[60] - и даже собственные ирвиновские грустные мечтания о
призрачных поездках в Европу, орошенные древней дождливой тоской, и об
ощущении глупости и бессмысленности стоя на Эйфелевой башне - Обнявшись за
плечи мы быстро поднимаемся вверх на холм к дверям Чака Бермана, стучимся и
заходим - Ричард де Чили валяется на кровати, как нетрудно было догадаться,
он оборачивается чтобы поприветствовать нас слабой улыбкой - Еще несколько
чуваков сидят на кухне с Чаком, один из них сумасшедший черноволосый индеец
постоянно клянчащий пару монет, другой франко-канадец вроде меня, прошлой
ночью я немного поболтал с ним в Подвале и на прощанье он бросил мне "До
встречи, братишка!" - Так что теперь "Доброе утро, братишка!" и мы слоняемся
по квартире, Рафаэля еще нет, Ирвин предлагает спуститься вниз в одну нашу
кафешку и подождать остальных там -
"Все равно они должны туда заскочить"
Но там никого нет, поэтому мы отправляемся в книжную лавку и вот! по
Грант-стрит идет Рафаэль своими Джон Гарфилдовскими[61] огромными шагами и
размахивая руками, говоря и крича на ходу, взрываясь фонтаном стихов, и мы
начинаем орать все одновременно - Мы кружимся на одном месте, хлопаем друг
друга по плечам, идем по улицам, пересекаем их в поисках места где можно
выпить кофе -
Мы идем в кафеюшник (на Бродвее) и садимся в отдельном отсеке и из нас
льются все эти стихи и книги и о-ба-на! подходит рыжеволосая девушка и за
ней Коди -
"Джееексон, маальчик мой", говорит Коди как всегда имитируя
железнодорожных кондукторов в исполнении старого У.С.Филдса -
"Коди! Эй! Садись! Класс! Жизнь идет!"
И она идет, всегда жизнь идет во времена мощных вибраций.
Но это всего лишь обычное утро, одно из утр этого мира, и официантка
приносит нам вполне обыденный кофе, и все наши восторги вполне обыденны и
когда-нибудь закончатся.
"А что это за девушка?"
"Это безумная девица из Сиэттла, она слышала прошлой зимой как мы
читаем стихи и приехала сюда на Эм-Джи[62] с подружкой чтобы с кем-нибудь
трахнуться", сообщает мне Ирвин. Ирвин знает все.
Она говорит "Откуда это у Дулуоза такая энергичность?"
Энергичность, хренергичность, к полуночи я накачаюсь пивом на год
вперед -
"Я потерял все свои стихи во Флориде!" кричит Рафаэль. "На автовокзале
Грейхаунд в Майами! Теперь у меня остались только новые стихи! И я потерял
другие стихи в Нью-Йорке! Ты был там, Джек! Что этот издатель сделал с моими
стихами! И все ранние стихи я потерял во Флориде! Представьте себе!
Хреновина какая!" Так вот он обычно разговаривает. "Несколько лет подряд я
ходил из одного грейхаундовского офиса в другой и умолял всех этих
директоров найти мои стихи! Я даже плакал! Ты слышал, Коди? Я плакал! Но они
и пальцем не пошевелили! Они даже стали называть меня занудой и это лишь за
то что каждый день я ходил в этот их офис на 50-й улице и упрашивал вернуть
мои стихи! Это правда!" -- кто-то пытается что-то вставить и он сразу
перебивает: "Я в жизни никогда не вызывал полицию разве только если лошадь
упадет и покалечится или что-нибудь такое! Хреновина какая!" И дубасит по
столу.
У него маленькое безумное личико эльфа но внезапно оно может стать
прекрасным и задумчивым стоит ему только загрустить и умолкнуть, и смотрит
он тогда как-то так - исподлобья и чуть обиженно - Немного напоминает взгляд
Бетховена - Чуть вздернутый, вопиюще крупный итальянский нос, резкие черты
лица, но с плавно очерченными щеками и кроткими глазами, а его эльфийские
волосы черные и вечно непричесанные свисают с макушки правильной формы
головы и лезут в глаза, так по мальчишески - Ему всего 24 - И он
действительно еще совсем мальчишка, девушки сходят с ума по нему -
Шепот Коди в мое ухо "Этот парень, этот Рафф, этот чувак, какого хрена,
черт, у него куча баб, он с ними мастак - говорю тебе - Джек, слушай, все в
порядке, все пучком, на скачках миллион возьмем, точняк, в этом году, В ЭТОМ
ГОДУ МАЛЬЧИК МОЙ!" и встает чтобы объявить "эта моя система второго
выбора[63] заработала, она так поперла!"
"В прошлом году мы уже пробовали", говорю я вспомнив день когда я
поставил для Коди (он должен был работать в этот день) 350$ и он проиграл по
всем забегам, а я напился в каком-то сарае с сеном вместе со вкалывающим за
35 центов в день бедолагой перед тем как пойти в депо и сообщить Коди что он
проиграл, его это нисколько не огорчило потому что он уже продул до этого
чистых 5000$ -
"А сейчас попробуем в этом -- и в следующем году", настаивает он -
В это время Ирвин читает свои новые стихи и стол безумствует - Я говорю
Коди что хочу попросить его (моего старого братишку) отвезти меня в
Милл-Волли чтобы забрать старые шмотки и рукописи, "Конечно поедем, мы все
поедем, мы же вместе"
Мы вываливаемся наружу к его старому двухместному Шевви, не помещаемся
в нем всей толпой, пытаемся опять и машина готова треснуть по швам -
"Думаешь, эта малышка не сможет тронуться?" говорит Коди -
"А где твоя здоровенная машина которая была раньше, когда я уезжал?"
"А, накрылась, трансмиссия гавкнулась"
Ирвин говорит: "Слушайте, езжайте-ка вы в Милл-Волли а потом
возвращайтесь сюда и завтра днем встретимся"
"Окей"
Девушка вжимается в Коди, Рафаэль потому что он легче и меньше садится
мне на колени, и мы отчаливаем по Норт-Бич-Стрит, маша руками Ирвину который
трясет бородой и пританцовывает в знак живейшего участия во всем
происходящем --
Коди немилосердно гонит машину, он точнехонько срезает все углы не
сбавляя скорости и без малейшего визга тормозов, мчится по забитой машинами
улице, чертыхаясь, наплевав на светофоры, чуть притормаживая на подъемах, со
свистом пролетая перекрестки, нарушая все на свете, врывается на мост
Золотых Ворот и вот (заплатив мостовую плату[64]) мы взмываем Мостом Снов в
ветра надводные, и Алькатрас виднеется справа от нас ("Я рыдаю, оплакиваю
Алькатрас!" кричит Рафаэль) --
"Что это они там делают?" -- туристы на Мейринском обрыве разглядывают
белоснежный Сан Фран в камеры и бинокли, экскурсионный автобус тут у них
стоит --
Все говорят одновременно --
Снова старина Коди! Старина Коди, о нем я писал в Видениях Коди[65],
самый безумный из всех нас (как вы еще увидите) и снова слева от нас
громадная заповедная синева Тихоокеанской Утробы, матери Морей и Покоя,
тянущаяся до самой Японии --
Ну все, полный привет, я чувствую себя чудесно и безумно, я нашел своих
друзей и великую вибрацию жизненной радости и Поэзия струится сквозь нас --
Даже когда Коди несет какую-то пургу про свою систему ставок на скачках, он
делает это в поразительном ритме речи -- "Ну братишка через пять лет у меня
будет такая куча денег, ну я вообще буду филароп- пилароп- ну это...
фило-пило.."
"Филантроп"
"Буду раздавать деньги всем кто того стоит - Встречу вас и вам
воздастся - " Он всегда цитировал Эдгара Ясновидца Кайса, калифорнийского
целителя который никогда не учился медицине но мог зайти в дом к болящему, и
развязать свой старый пропотевший галстук, и растянуться во весь рост на
спине, и заснуть погружаясь в транс и тогда жена стала бы записывать его
ответы на вопросы типа, "Почему болит то-то и то-то?" Ответ: "То-то и то-то
поражено тромбофлембитом, закупоркой вен и артерий, потому что в предыдущей
жизни он пил кровь живых человеческих жертв" -- Вопрос: "И как ему
излечиться?" Ответ: "Стоять на голове три минуты каждый день - И еще одно
важное средство - Стаканчик виски или стопроцентного бурбона каждый день,
для очищения крови - " И потом он выходит из транса, и так вот он вылечил
тысячи людей (Институт Эдгара Кайса, Атлантик Бич, Вирджиния) -- Это новый
кодин Бог -- Бог, ради которого даже шизеющий от девушек Коди стал говорить:
"Я почти завязал с девчонками"
"Почему?"
Коди тоже может вдруг замолкнуть, тяжело и несокрушимо - И еще я
чувствую сейчас пока мы пролетаем над Вратами Золота что Коди и Рафаэль не
особо сошлись характерами -- И я желаю знать почему -- Я не хочу чтобы
кто-нибудь из моих братков ссорился -- Все должно быть классно -- И по
крайней мере все мы умрем в гармонии, и у нас будут великие Китайские
Поминки и Причитания и шумные радостные похороны потому что старина Коди,
старина Джек, старина Рафаэль, старина Ирвин и старина Саймон (Дарловский,
скоро появится) мертвы и свободны --
"Моя башка мертва и мне плевать!" вопит Рафаэль --
" -- ну почему эта кляча не смогла придти хотя бы второй чтоб я вернул
хоть пять баксов, но я покажу тебе детка - " шепчет Коди на ухо Пенни (она
просто счастливая и чудная задумчивая толстушка и жадно впитывает все это в
себя, я вижу как она ходит кругами вокруг ребят потому что никто из них,
кроме Коди, особо не обращает на нее никакого сексуального внимания) (на
самом деле они все время опускают ее всяко-разно и гонят домой) --
Но добравшись до Милл-Волли, я поражаюсь тому что оказывается она
буддистка, мы сидим собравшись в хижине на лошадиной горке и говорим все
одновременно и тут я оборачиваюсь и там будто сне вижу ее, она сидит у стены
как рубиновая статуя, ноги сложены в позе лотоса, пальцы сплетены, глаза
невидяще смотрят вперед, может она и не слышит ничего даже -- о невероятный
мир наш.
И невероятнее всего эта хижина -- Он принадлежит Кевину МакЛоху, моему
старому братишке Кевину, он тоже бородач как и все, но работает плотником, и
у него есть жена и двое ребятишек, всегда в пестрых штанах с налипшими
опилками, в расстегнутой рубахе, патриархальный такой, сердечный,
деликатный, проницательный, очень серьезный, целеустремленный, тоже буддист,
сразу за его деревянным обветшавшим домом с незаконченным крыльцом которое
он сейчас мастерит, стеной возвышается поросшая травой гора переходя где-то
там наверху в горные Оленьи Долины, самые настоящие реликтовые оленьи
заповедники где лунными ночами внезапно натыкаешься на возникающего будто из
ниоткуда оленя, он сидит и жует под огромным эвкалиптом -- внизу под горой
укромное местечко излюбленное диким зверьем, все Бродяги Дхармы знают о нем,
двадцать калифорнийских веков олени спускаются в эту Священную Рощу --
Наверху, на самой вершине, хижина утопает в розовых кустах -- Поленницы
дров, трава по пояс, дикие цветы, кустарник, моря деревьев шелестят вокруг
-- Как я уже говорил, домик этот был построен пожилым человеком чтобы в нем
умереть, и ему это удалось, он умер именно там, и был он великим плотником -
Кевин обтянул все стены красивой драпировкой из джутовой мешковины, повесил
красивые буддистские картинки, расставил красивые чайники и тонкой работы
чайные чашки и ветки в вазах, и бензиновый примусок чтобы кипятить воду для
чая, и сделал здесь себе буддистское убежище и домик для чайных церемоний,
для гостей и зависающих месяца на три друзей вроде меня (которые должны быть
буддистами, то есть понимать что Путь не есть Путь[66]), и по четвергам,
сказав своему начальнику на плотницких работах "Я беру выходной" (на что
начальник отвечает "Ну и кто же тогда возьмется за второй конец доски?" "Не
знаю, найдите кого-нибудь") Кевин оставляет свою милую жену с детишками
внизу и забирается вверх по тропе поднимающейся среди эвкалиптовых рощ в
Оленьи Долины, с Сутрами[67] подмышкой, и проводит там весь день в
медитациях и изучении -- Медитирует сидя в позе лотоса, на Праджну[68] --
читает комментарии Судзуки[69] и Сурангама-Сутру -- И говорит, "Если бы
каждый рабочий в Америке брал раз в неделю такой выходной, наш мир стал бы
совсем другим."
Очень серьезный, прекрасный человек, 23 года, синие глаза,
безукоризненные зубы, такое особое ирландское обаяние, и восхитительно
мелодичная манера говорить --
И вот мы (Коди, Пенни, Раф и я), перекинувшись внизу парой слов с женой
Кевина, карабкаемся вверх по раскаленной тропе (оставив машину у почтового
ящика) и врываемся в разгар кевиновского медитационного дня -- Хоть сегодня
понедельник, он не работает -- И заваривает чай сидя на корточках, как
настоящий мастер Дзена.
Он широко улыбается и рад нас видеть --
Пенни устраивается на его прекрасной медитационной циновке и
принимается медитировать, пока Коди с Рафаэлем болтают о всякой ерунде, а мы
с Кевином слушаем их посмеиваясь -
Все очень забавно --
"Что? Что?" вопит Рафаэль на Коди, который стоит и разглагольствует о
всеобщности Господней, "ты что, хочешь сказать что все есть Бог? И она Бог,
Боже ж ты мой?" тыча пальцем в Пенни.
"Конечно да", говорю я, и Коди продолжает: -
"На астральном уровне - "
"Не хочу я этого типа слушать, у меня крыша от него едет! Коди дьявол?
Или Коди ангел?"
"Коди ангел", говорю я.
"Ну нет!" и Рафаэль хватается руками за голову потому что Коди
продолжает говорить:
" -- добраться до Сатурна где по высочайшей милости Спасителя летать
запрещено, хотя я вот знаю старина Джек этот паршивец он где угодно
улетит[70]" -
"Нет! Я иду отсюда! Этот человек -- зло!"
Со стороны это похоже на словесную битву, кто кого переболтает и за кем
останется последнее слово, и Пенни сидит здесь такая раскрасневшаяся и
лучащаяся вся, с маленькими веснушками на лице и руках, рыжеволосая --
"А ты сходи на улицу посмотри на деревья, красивые", советую я Рафаэлю
и он идет врубаться в деревья, и возвращается назад (в это время Коди как
раз говорит: "Попробуй-ка чайку, парень" и дает мне чай в японской чашечке,
"Мозги враз прочистит почище сухого винища[71] -- ап!" (чихая, расплюхивает
чай из чашки) "Чхи! -"
"Господь преважнище стоял приставимши ко лбу перст славнющий[72]",
говорю я выхватив из собственной головы, как я это делаю иногда, обрывок
какой-то внутренней болтовни просто чтоб посмотреть что из этого выйдет.
Вдобавок ко всему Кевин хохочет, сидя скрестив ноги на полу, я смотрю
на него и вижу маленького индуса, и вспоминаю что вид его маленьких босых
ног всегда вызывал у меня это чувство, что мы уже когда-то встречались, в
каком-то храме, где я был священником, а он танцором, и танцевал еще там с
какой-то женщиной -- И как же деликатно он переносит всю эту бурю звуков и
болтовни ворвавшуюся к нему вместе с Коди и Рафаэлем -- смеясь с легким
придыханием и слегка напрягая живот, втянутый и твердый как живот молодого
йога --
"Ну так что ж", говорит Коди, "есть же такие чтецы которые над головами
у людей ауры видят и вот эти самые ауры отражают точнехонько э-э так сказать
внутреннюю суть каждого, вот так вот!" колотя кулаком об ладонь и
подпрыгивая даже чтобы удобней лупить было, и голос его от возбуждения вдруг
срывается как по утрам у старого Конни Мерфи в Милл Волли, особенно после
долгих пауз раздумья или просто споткнувшись в рассуждениях, "видят как
кошки эти чтецы аур, и раз уж увидели они ауру какого-нибудь парня значит
время ему подошло (как Господом было определено, Господом Всемогущим) узнать
про свою Карму (то есть судьбу какую себе заслужил, это Джек так говорит),
ему это просто нужно потому что раньше он кучу всего нехорошего натворил, ну
грехов там, ошибок -- и он эту свою Карму узнает когда ему чтец говорит, "у
тебя, браток, есть злой дух и добрый дух, вот они и собачатся за твою
душу-сущность, а я их вижу (сверху над макушкой, понимаешь), и ты можешь
отогнать зло и привлечь добро медитируя на белый квадрат твоей души который
у тебя над макушкой висит и в котором эти оба духа и обретаются" -- цпф" - и
он сплевывает бычок сигаретный. И пялится в пол. Сейчас если Рафаэль похож
на итальянца, итальянца Возрождения, то Коди -- грек, римо-арийская смесь
(атлантских кровей), воин Спарты и потомок первобытных кочевников миоцена.
Теперь Коди пускается в объяснения, что в осмотическом процессе в наших
капиллярных венах и сосудах проходит что-то подвергающееся мощному влиянию
звезд и в особенности луны -- "Так что когда луна выходит, у человека крыша
съезжает, например -- тяга этого вот Марса, чувак".
Этим своим Марсом он меня пугает.
"До Марса ближе всего! Это наш следующий шаг!".
"А мы что, собираемся с Земли на Марс податься?"
"А потом дальше, разве ты не понимаешь" (Кевин давится от хохота)
"дальше, к другим мирам, к самым шизанутым мирам, папаша" -- "к самым
дальним рубежам", добавляет он. На самом деле Коди работает на железной
дороге, тормозным кондуктором, и сейчас на нем чуть узковатые синие
форменные штаны, накрахмаленная белая рубаха под синим жилетом, а синюю
кепку с надписью ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК он оставил в своем трогательном зверюге
Шевви 33, эх-эх -- сколько раз Коди кормил меня когда я был голоден --
человек веры -- и что за тревожный и беспокойный человек! -- А как он
ломанулся с лампой в руках в полной темноте чтобы найти пропавший вагон, и
потом утром успел подцепить этот вагон с цветами к пригородному
шермановскому -- Эх, старина Коди, что за человек!
Я вспоминаю свои видения одиночества и понимаю что все идет как надо.
Потому что нас окружает пустота, и мы с Коди оба знаем это и бесцельно едем
вперед. Просто Коди ведет эту машину. А я сижу и медитирую на них обоих, на
Коди и на его машину. Но именно его твердая рука должна справиться с рулем
чтобы избежать столкновения (пока мы скользим по переулкам) -- И мы оба
знаем об этом, мы оба слышали эту неземную музыку однажды ночью? когда ехали
вместе в машине, "Слышишь?" Я только что слышал позвякивание музыки в
заполненной ровным гудением мотора машине -- "Да", говорит Коди, "что это?".
Он слышал.
И без того поразительный, Рафаэль поражает меня еще больше когда с
рукописью в руках он возвращается со двора где в тишине наблюдал за
деревьями, и говорит, "У меня в книжке вырос новый лист" - говорит он Коди,
Коди деятельному и недоверчивому, и Коди слышит его, но я вижу каким
взглядом смотрит он на Рафаэля -- Потому что это два разных мира, Урсо и
Померэй, и хоть имена у обоих звучат как Casa d`Oro[73] и не хуже чем
Corso[74], они как Итальянский Сладкоголосый Певец против Ирландского
Брабакера[75] - кррркрр - (это по кельтски, так дерево потрескивает в море)
-- и Рафаэль говорит "Джек только и хочет, что писать маленькие
бессмысленные песенки, он как Гаммельнский Крысолов ведущий никуда"[76] -
такая вот песенка, рафаэлевская.
"Ну и пусть, раз ему охота, др-др-др", это Коди как машина не знающая
ни музыки ни песен --
Рафаэль поет: "Ты! Мои тетушки предупреждали меня, - берегись таких как
Померэй -- они говорили мне, никогда не гуляй по нижней Ист-Сайд" -
"Бурп", - громкая отрыжка Коди.
И так вот они постоянно --
А в это время милый и кроткий Иисусов Отец Иосиф, Кевин с иосифовой
бородой, улыбается и слушает и сидит на полу чуть развалясь и ссутулясь, и
вдруг садится выпрямившись в задумчивости.
"О чем думаешь, Кевин?"
"Да вот водительские права потерял, если до завтрашнего дня не найду
хреново дело".
Коди врубается в Кевина, конечно, он в него врубается уже давно, много
месяцев, может чуть свысока как эдакий ирландский папаша но также как и
браток, как свой -- Коди приходил сюда, и уходил, и обедал тут сотни тысяч
миллионов раз неся с собой Истинное Знание. -- Коди теперь зовут
"Проповедник", так его назвал Мэл Называтель, который также прозвал Саймона
Дарловского "Русский Псих" (так оно и есть, кстати) --
"А где теперь старина Саймон?"
"О завтра часиков в пять встретимся с ним тут", быстро тараторит Коди
само-собой-разумеющимся тоном.
"Саймон Дарловский!" завопил Рафаэль. "Что за шизовый чувак!" Так
обалденно говорит он это "шизовый", шизоооо-вый, чистый восточный выговор, -
настоящий чудной говор парней с Болтик-элли, настоящий пацанский
базар[77]... так говорят детишки играющие во дворике за бензоколонкой, у
груды старых покрышек -- "Он же рехнулся", и обхватывает голову руками,
потом роняет их и улыбается, робко так, внезапный приступ кротости и
самоуничижения у Рафаэля который теперь тоже сидит скрестив ноги на полу, но
выглядит при этом так будто свалился туда в полном изнеможении.
"Странный странный мир", говорит Коди чуть отбегая в сторону а потом
разворачивается и возвращается опять к нам -- чеховский Ангел тишины
пролетел над нами и мы убийственно спокойны, мы слушаем гммм этого дня и
шшшшш тишины, и в конце концов Коди кашляет, совсем чуть-чуть, "Кхе-кхм", и
выпускает большие кольца дыма с самым Индейским и Таинственным видом --
Кевин замечает это и смотрит на него прямым и ласковым взглядом полным
изумления и любопытства, неосознанного чистого голубоглазого удивления -- И
Коди тоже это замечает, теперь его глаза полуприкрыты.
Пенни все еще сидит (как и раньше) в буддистской позе медитации, все
эти полтора часа разговоров и размышлений -- Сборище недоумков -- И мы ждем,
что случится дальше. То же самое происходит по всему миру, просто в
некоторых его местах сейчас пользуются презервативами, а в других говорят о
делах.
У нас нет ног, и нам не встать.
Все это лишь рассказ о мире и о том что в нем произошло -- Мы, все
вместе, спускаемся в кевиновский дом, и его жена Ева (по-сестрински милая
зеленоглазая босая и длинноволосая красавица) (она позволяет маленькой Майе
ходить в чем мать родила если ей этого хочется, а ей хочется именно этого, и
она бродит ("Абра абра") по высокой траве) предлагает нам обильный обед, но
я не голоден и объявляю об этом несколько самодовольно: "Там, в горах, я
научился не есть когда не голоден", так что ясно дело Коди с Рафаэлем жадно
съедают все без меня, громко галдя за столом -- А я все это время слушаю
пластинки -- Потом после обеда Кевин встает коленями на свой любимый коврик
из плетеной соломы и вынимает изящную пластинку из белого изящнейшей луковой
бумаги конверта, самый безупречно индийский в мире маленький индус, так
Рафаэль называет его, и еще они хотят поставить григорианские хоралы -- это
когда толпа священников и монахов прекрасно, очень формально и необыкновенно
поют под старую музыку, она старее камней эта музыка -- Рафаэль обожает
музыку, особенно ренессансную -- и Вагнера, когда я впервые встретил его в
Нью-Йорке в 1952 году он кричал "Рядом с Вагнером все чепуха, я хочу пить
вино и запутаться у тебя в волосах (своей подружке Джозефине) -- "На хрен
этот джаз!" -- Хотя на самом деле он самый настоящий джазовый чувак и должен
любить джаз, ведь даже ритм его движений джазовый хотя сам он этого не знает
-- но есть эта легкая итальянская манерность в его натуре и ее не совместить
никак с современным какофоническим битом -- Ну, пусть это останется его
личным делом -- А что касается Коди, то он любит всякую музыку и отлично в
ней разбирается, когда мы впервые поставили ему индийскую музыку он сразу
понял что барабаны ("Самый трудноуловимый и сложный ритм в мире!" говорит
Кевин, и мы с Кевином даже начинаем обсуждать влияние дравидов на все эти
арийско-индийские дела) -- Коди врубился что барабаны-тыквы, с мягким звуком
от металлического паммм до нижнего уаннг, это просто барабаны с ненатянутой
кожей[78] - Мы слушаем григорианские хоралы и потом опять индийскую музыку,
и каждый раз слыша ее обе кевиновские дочурки начинают радостно щебетать,
всю весну (прошлую) каждый вечер перед сном они слышали эту музыку из
большой настенной аудиоколонки (повернутой к ним задом) и из нее рвутся
прямо в их кроватки змеиные флейты, деревянные чародейские стучалки,
барабаны-тыквы, и грохочет изысканный и усмиренный Дравидией ритм старой
Африки, и на этом фоне старый индус принявший обет молчания и играющий на
гармонике выдает такой фейерверк невозможных и запредельных музыкальных идей
что Коди впадает в остолбенение и у многих других (у Рэйни например) (во
времена бродяг Дхармы, незадолго до моего отъезда) сносит крышу от восторга
-- По всей округе вдоль пустынной заасфальтированной дорожки разносятся
звуки кевиновских колонок пульсирующих мягкими песнопениями Индии или
высоким пением католических монахов, и лютнями, и мандолинами Японии, и даже
китайскими непостижимыми гармониями -- И еще он устраивал многолюдные
вечеринки когда во дворе разжигается большой костер и несколько
священнодействующих жрецов (Ирвин и Саймон Дарловский и Джерри) стоят у огня
совершенно голые, среди изысканных женщин и чьих-то жен, разговаривая о
буддистской философии и не с кем-нибудь а с главой отделения Азиатских
Исследований Алексом Омсом, которого это нимало не смущает, он пьет себе
вино и повторяет мне "Надо чтобы о буддизме узнало как можно больше народу"
-
Сейчас уже полдень и обед окончен, еще несколько пластинок и мы
сваливаем в город, забрав мои старые рукописи и одежду которые я оставлял в
деревянном сундучке в подвале у Кевина -- Еще с прошлой весны я задолжал ему
15$ и поэтому выписываю два туристических чека из полученных мной в
Седро-Вулли, и он не поняв (в темноте подвала) (деликатно, с грустными
глазами) протягивает мне в обмен скомканную пригоршню долларовых бумажек,
четыре, и одну надорванную которую бы мне в жизни не заклеить -- Кевин
немного пьян (из-за выпитого после обеда вина и всего прочего) и он говорит
"Так чего Джек, когда мы опять увидимся?", однажды шесть месяцев назад мы
пошли с ним вдвоем бродить и пристроились на задворках уотерфронтовского
железнодорожного депо с бутылочкой токайского и созерцали (как Бодхидхарма
принесший Буддизм в Китай) громадный Утес бугрящийся у подножия Телеграфной
Горки, ночью, и мы оба увидели как волны электромагнитно-гравитационного
света исходят из этой массы вещества, Кевин тогда был очень рад этой нашей
ночи вина, созерцания и брожения по улицам вместо обычного вечернего пива в
Местечке -
Мы втиснулись в маленький двухместный седан, развернулись, помахали на
прощание Кевину с Евой, и отправились через Мост назад в Город -
"Эй Коди, ты самый безумный чувак из всех кого знаю", признает Рафаэль
--
"Слушай Рафаэль, ты сказал как-то что тебя прозвали Рафаэль Урсо
Поэт-Игрок, так давай парень, поехали завтра с нами на скачки", зазываю я --
"Черт, могли бы сегодня успеть, да уж поздно - " говорит Коди --
"Отлично! Я еду с вами! Коди, ты научишь меня выигрывать!"
"Договорились!"
"Завтра -- мы заедем за тобой к Соне"
Соня это девушка Рафаэля, но годом раньше Коди (конечно же) приметил ее
и влюбился ("Чувак, ты себе и представить не можешь как у Шарля Свана ехала
башня из-за всех этих девиц - !" сказал мне однажды Коди... "Марсель Пруст
не мог быть гомиком раз написал такую книгу!") -- Так всегда стоит Коди
встретить какую-нибудь симпатичную деваху как он сразу в нее влюбляется, он
шлялся за Соней по пятам и даже притащил шахматную доску специально чтобы
играть в шахматы с ее мужем, однажды он взял меня с собой и там она сидела
на стуле лицом к шахматистам и раздвинув ноги в широких брюках а потом
спросила меня "Ну как тебе Дулуоз жизнь одинокого писателя не кажется
скучноватой?" -- Я согласился, глядя на разрез ее штанов, который Коди
прозевывая ладью в обмен на пешку ясное дело тоже видел -- В конце концов
она опустила таки Коди сказав "Э, знаю я зачем ты тут ошиваешься", но все
равно оставила потом мужа (шахматную пешку) (временно исчезнувшего сейчас из
пределов видимости) и стала жить с только что приехавшим с Востока
громогласным Рафаэлем --"Заедем за тобой к Соне"
Рафаэль говорит "Ага, у меня с ней начались разборки, похоже пора
сваливать, забирай ее себе Дулуоз"
"Я? Отдай ее Коди, он по ней сохнет - "
"Нет, нет", говорит Коди -- он уже позабыл про нее --
"Поехали все сегодня ко мне пить пиво и читать стихи", говорит Рафаэль,
"а потом я начну собирать вещички"
Мы приезжаем назад в кафе где нас уже ждет Ирвин, и одновременно в
двери заходит Саймон Дарловский, один, отработавший уже на сегодня свое
водителем "Скорой Помощи", а потом Джеффри Дональд и Патрик МакЛир два
старых (в смысле давно общепризнанных) поэта в Сан Фране которые всех нас
терпеть не могут --
И еще зашла Гия.
Я уже успел смотаться за бутылочкой калифорнийского красного, перелить
его в флягу и уже основательно к ней приложиться, так что мир вокруг
становится чуть смазанным и восхитительным -- Гия заходит держа по своему
обыкновению руки в карманах юбки и говорит своим низким голосом "Короче, об
этом уже весь город знает, журнал Mademoiselle собирается в пятницу вечером
всех вас сфотографировать - "
"Кого?"
"Ирвина, Рафаэля, Дулуоза -- А через месяц вы будете в журнале Life!"
"Откуда это ты узнала?"
"На меня не рассчитывайте", говорит Коди когда Ирвин берет его за руку
и просит придти, "В пятницу мне на работу надо, вечером"
"Но Саймон будет с нами сниматься!" торжествующе объявляет Ирвин и
хватает Дарловского за руку, и Дарловский кивает просто --
"А можно будет потом устроить сексуальную оргию?" говорит Саймон.
"На меня не рассчитывайте", говорит Гия --
"И у меня с этим может не получится", говорит Коди, и каждый наливает
себе из кофейника чашку кофе и садится за отдельный столик а вокруг снуют
туда-сюда тусовщики из мира Богемы или Подземных --
"Так давайте сделаем это вместе!" кричит Ирвин. "Мы все станем
знаменитыми -- Дональд и МакЛир, вы тоже пойдете с нами!"
Дональду 32, полноватый, красивое лицо, печальные глаза, элегантный,
молча отводит взгляд, и МакЛир, 20 лет, стриженный под ежик, безучастно
смотрит на Ирвина, "О нас уже снимают отдельно, сегодня вечером"
"Как -- отдельно от нас?" кричит Ирвин -- и вдруг понимает что тут
какие-то разборки и интриги и его взгляд гаснет в задумчивости, пытаясь
осознать все эти союзы, разлады и разделения в священном золотом братстве --
Саймон Дарловский говорит мне "Джек я два дня тебя искал! Где ты был?
Что делал? Что тебе снилось последнее время? Что-нибудь прекрасное? А
девчонки какие-нибудь залезали тебе в штаны? Джек! Посмотри на меня! Джек!"
И он меня заставляет смотреть на себя, у него неистовое исступленное лицо с
мясистым орлиным носом, светлые волосы его пострижены теперь ежиком (вместо
безумной копны волос раньше) и полные серьезные губы (как у Ирвина) но весь
он длинный и худощавый и будто только-только из колледжа -- "У меня есть
миллион вещей рассказать тебе! И все про любовь! Я открыл секрет красоты!
Это любовь! Каждый это любовь! Повсюду! Я тебе сейчас все объясню - " И он
объяснил, на предстоящем поэтическом чтении (первой встрече Рафаэля с
ненасытными ценителями поэзии Фриско 50-х) он был внесен в список
выступающих и должен был (с согласия и по пожеланию Ирвина с Рафаэлем
которые только глупо хихикали и которым на все было наплевать) после чтения
их стихов встать и выдать большую длинную спонтанную речь о любви --
"Что ты им скажешь?"
"Я скажу им все -- Я ничего не упущу -- Я заставлю их плакать -- Джек,
прекрасный брат Джек, слушай! Вот моя рука, она протянута к тебе в этом
мире! Возьми ее! Сожми! Ты знаешь что случилось со мной однажды?" внезапно
вскричал он превосходно пародируя Ирвина, иногда он Коди тоже имитирует, ему
всего 20 -- "В четыре часа дня я пошел в библиотеку закинувшись распирухой
-- знаешь что это?"
"Распируха?"
"Таблеткой дексидрена -- в желудок" - похлопывая себя по пузу --
"Понимаешь? Кинул ее на кишку и потом когда расперло мне в руки попался "Сон
Гомика" Достоевского -- Я увидел что любовь - "
"Сон Смешного Человека" ты хочешь сказать?"
" -- что любовь возможна в чертогах сердца моего, но снаружи в реальной
жизни у меня мало любви, понимаешь, я увидел проблеск жизни наполненной
любовью, такой же как мощный свет любви который Достоевский видел в своей
темнице, и у меня слезы на глаза навернулись когда в сердце своем я смог
подняться до этого блаженства, понимаешь, а потом у Достоевского был сон,
понимаешь, он перед сном положил в ящик стола пистолет чтобы проснуться и
застрелиться -- БАБАХ!" он хлопнул в ладоши, "но ощутил искреннее и острое
желание любить и молиться -- да Молиться - так он сказал -- "Жить И Молиться
За Истину Которую Я Знаю Так Хорошо" -- так что когда придет мое время
сказать эту речь, когда Ирвин и Рафаэль закончат читать свои стихи, я хочу
поразить публику и себя самого идеями и словами любви, и еще сказать о том
почему люди не любят друг друга так сильно как могли бы -- Я даже заплачу
перед ними чтобы они почувствовали -- Коди! Коди! Эй ты, чумовой чувак!" и
он кидается на Коди и начинает его толкать и пихать и Коди лишь покряхтывает
"Амм хммм хе ага" поглядывая на свои старые железнодорожные часы, чтобы не
опоздать пока мы все тут ошиваемся -- "Мы с Ирвином говорили долго-долго-- и
решили что построим наши отношения как фугу Баха, понимаешь, где все
движется и друг друга заменяет, понимаешь - " Саймон заикается, ерошит себе
волосы, он по-настоящему возбужден и безумен, "И мы снимаем с себя всю
одежду на вечеринках, мы с Ирвином, и устраиваем большие оргии, однажды
ночью перед твоим приездом к нам пришла эта девушка знакомая Сливовица и мы
затащили ее в постель и Ирвин трахнул ее (это та самая девица которой ты
зеркало кокнул, помнишь?[79]), ну и ночка, первый раз я кончил через
полминуты -- И я совсем не вижу снов, или нет, недели полторы назад я видел
эротический сон но совсем его не запомнил, как одиноко..."
И хватает меня за плечи "Джек спит читает пишет говорит идет ебется
смотрит и опять спит" -- он искренне хочет мне помочь и оглядывает меня
встревоженными глазами, "Джек тебе надо больше трахаться, мы должны так
устроить чтобы ты трахнулся сегодня ночью!"
"Мы идем к Соне", вставляет Ирвин который слушает все это веселясь --
"Мы разденемся и сделаем это -- Давай же, Джек, сделаем!"
"О чем это он только говорит!", кричит Рафаэль подходя к нам -- "Ты
ненормальный, Саймон!"
И Рафаэль мягко отталкивает Саймона и Саймон так и остается стоять как
маленький мальчик ероша свою стрижку ежиком и невинно поблескивая на нас
глазами, "Но это же правда!"
Саймон хочет быть "таким как Коди", он сам так говорит, во всем, и как
водитель, и как "оратор" -- он обожает Коди -- Понятно почему Мэл Называтель
зовет его Русский Псих -- а еще он постоянно делает какие-нибудь невинные но
опасные вещи, может например внезапно подбежать к совершенно незнакомому
человеку (угрюмому Ирвину Минко) и поцеловать его в щеку просто от избытка
переполняющих чувств "Привет", и Минко сказал на это "Ты не знаешь, как
близко был к смерти"
И Саймон, окруженный со всех сторон пророками, так и не смог понять в
чем дело -- к счастью мы все были там и могли его защитить, да и Минко вовсе
неплохой парень -- Саймон настоящий русский, хочет чтобы весь мир
преисполнился любви, возможно он потомок безумных Ипполитов и Кирилловых
Достоевского из царской России 19 века -- Он даже выглядит похожим на них, и
когда мы съели пейотль (музыканты и я) а потом залабали большой джем в 5
часов в полуподвальной квартирке, с тромбонами и двумя барабанами, Спид
играл на пианино, и Саймон сидел под всегда включенной даже днем красной
лампой со свисающими старинными кистями, его сухопарое лицо стало выглядеть
очень резко в неестественно красном свете и внезапно я увидел: "Саймон
Дарловский, величайший человек в Сан-Франциско", и позже этой ночью к моему
и ирвиновскому изумлению когда мы топали по улице (я с рюкзаком за плечами)
(крича "Великое Облако Истины!" выходящим из игорных притонов китайцам),
Саймон разыграл настоящую маленькую пантомину[80] a la Чарли Чаплин но в
своем собственном чисто русском стиле, вбежав в какой-то зал заполненный
сидящими на плетеных стульях и смотрящими телевизор людьми и устроив целое
представление (изумление, прижатые в ужасе ко рту руки, тревожные взгляды по
сторонам, ой-е-ей, тревога, смущение, подхалимство, наверное так на
парижских улицах шустрили пьяноватые молодцы Жана Жене) (искусные маски на
смышленых лицах) -- Саймон Дарловский, Русский Псих, он всегда напоминал мне
моего кузена Ноэля, и я до сих пор иногда его так называю, Ноэль был моим
кузеном в далекие массачусетские дни, и у него были такие же лицо и глаза, и
он любил скользить неслышно как привидение вокруг стола в сумеречных
комнатах и выдавать "Ууууу хо-хо-хо-хооооо я -- Дух Оперы!" (по-французски
это звучит как je suis le phantome de l`opera-a-a-a) -- И еще странная
штука, все саймоновские работы были точь в точь как у Уитмена, больничные,
он брил старых психов в психушке, сидел с больными и умирающими, а сейчас
работал водителем "Скорой Помощи" в маленьком госпитале, мотаясь целый день
по Сан Франу и таская изувеченных и оскорбленных в носилках (из ужасных мест
где их находили, маленьких задних комнатушек), кровь и скорбь, на самом деле
Саймон не Русский Псих, а Саймон-Сиделка -- Он и мухи не смог бы обидеть,
даже если бы захотел --
"А, ну да, ну ясно дело", сказал в конце концов Коди и пошел,
отправился работать на железную дорогу, напомнив мне на улице "Завтра на
скачки пойдем, ждите меня у Саймона ("У Саймона" - это где все мы будем
ночевать)...
"Окей"
Потом поэты Дональд и МакЛир предлагают подбросить всех нас домой, на
две мили вверх по Третьей, в район негритянских новостроек где даже прямо
вот сейчас саймоновский 15 Ѕ летний братец Лазарус жарит картошку на кухне и
размышляет о лунатиках.
Именно этим он и занимается когда мы заходим, жарит картошку, высокий
красавчик Лазарус который у себя в школе может встать и сказать "Нам нужна
свобода говорить когда хотим" - и который всегда у всех спрашивает "Что тебе
снилось?" он хочет знать твои сны и, когда ты их ему расскажешь, кивает -- И
хочет чтобы мы ему тоже раздобыли девушку -- У него идеальный
Джон-Берриморовский[81] профиль и когда он вырастет то будет по-настоящему
красив, но сейчас он живет один с братом, мать и остальные безумные братья
остались на востоке, а Саймону сейчас не до него -- Поэтому Саймон пытался
уже отослать его в Нью-Йорк, но он не хочет ехать, единственное место куда
ему хотелось бы -- это на Луну -- Он съедает всю еду покупаемую Саймоном на
всех и способен встать в 3 часа ночи и зажарить все бараньи отбивные, все
восемь штук, и съесть их без хлеба -- Все свободное время он тратит на уход
за своими длинными светлыми волосами, в конце концов я разрешаю ему
пользоваться моей расческой, и он даже начинает прятать ее от меня так что
приходится потом разыскивать -- Затем он врубает на полную громкость радио,
Джампин Джордж Джаз из Окленда -- затем его несет куда-то вон из дома и он
прогуливается по солнышку и задает причудливейшие вопросы, типа: "А как ты
думаешь, солнце вниз не свалится?" - "А там где ты был, там не было
чудовищ?" -- "А они смогут сделать еще один мир?" -- "В смысле, когда этому
конец наступит?" -- "А у тебя глаза завязаны?" - "Я имею ввиду действительно
завязаны, ну платок на глазах?" -- "А тебе двадцать лет?"
Четыре недели назад он на полной скорости вылетел на своем велике на
перекресток под новостройками, прямо к офису Стальной Компании у
железнодорожного туннеля, впечатался в машину и сломал себе ногу -- Он до
сих пор все еще прихрамывает -- И тоже смотрит с обожанием на Коди -- Коди
больше всех беспокоился из-за его травмы -- Даже у самых безумных людей
находится место простому состраданию -- "Чувак, он еле ходить мог, бедный
парнишка -- ему так долго было плохо -- я очень тут беспокоился из-за
старины Лазаруса. Правильно, Лаз, клади побольше масла" - длинный неуклюжий
подросток Лаз накрывает нам на стол и зачесывает назад свои волосы -- очень
молчаливый, никогда лишнего не скажет -- Саймон обращается к брату по его
настоящему первому имени Эмиль -- "Эмиль, ты сходишь в магазин?"
"Пока нет"
"А сколько времени?"
Длинная пауза -- а затем глубокий бас Лазаруса -- "Четыре" --
"Ну так сходишь в магазин?"
"Сейчас"
Саймон притаскивает дурацкие брошюры с рекламными предложениями которые
магазины рассылают по почтовым ящикам, и вместо того чтобы написать список
покупок он просто наугад звонит по какому-нибудь телефону, например
предлагающему
МЫЛО ТИДОЛ
Сегодня только 45с
- они звонят туда, и не то чтобы им было нужно это мыло, но вот оно,
здесь, его предлагают на целых два цента дешевле -- братья склоняют свои
чистокровно русские головы над брошюрой и звонят куда-то еще -- Затем
Лазарус посвистывая идет по улице с деньгами в кулаке и проводит часы в
магазине рассматривая обложки научно-фантастических книжек -- приходит домой
поздно --
"Где ты был?"
"Картинки глядел"
И вот мы подъезжаем и заходим в квартиру и старина Лазарус жарит свою
картошку как обычно -- С длинного балкона видно как солнце сияет над Сан
Франциско
Поэт Джеффри Дональд, изысканный и утомленный, он был в Европе, на Ишии
и Капри и так далее, он знает всех этих богатых модных писателей и тому
подобных типов, и даже говорил обо мне недавно с нью-йоркским издателем, что
меня очень удивляет (ведь я впервые его вижу), и мы выходим на балкон и
смотрим на город --
Это южная часть Сан Франа, где начинается Третья Улица и полно
бензиновых цистерн и цистерн с водой и заводских рельсовых путей, где все
подернуто дымкой и покрыто слоем цементной пыли, скаты крыш, за ними синее
море до самого Окленда и Беркли, дальше виднеется равнина тянущаяся вплоть
до подножья холмов где начинается долгий подъем до самой Сьерры, до тонущих
в облаках вершин ее неземной величественной громадины подкрашенной сумерками
в снежно розоватые тона -- Остальной город остается слева, белизна, грусть
-- Типичное место для Саймона и Лазаруса, вокруг живут только негритянские
семьи и конечно же их здесь любят и стайки ребятишек заходят даже прямо к
ним в дом и палят из игрушечных ружей, вопят, и Лазарус обучает их искусству
молчания, их герой Лазарус --
И я думаю стоя рядом с печальным Дональдом о том знает ли он все это,
любит ли, и о чем он задумался -- внезапно я замечаю что он повернулся лицом
ко мне и смотрит долгим серьезным взглядом, я отвожу глаза, у меня не
хватает сил -- не знаю что ему сказать и как поблагодарить -- Тем временем
юный МакЛир на кухне, они читают стихи сгрудившись вокруг бутербродов с
джемом -- Я устал, я уже устал от всего этого, куда мне идти? что делать?
как мне провести вечность?
Пока душа свечой сгорает в чертогах наших дуг надбровных[82]
"Кажется ты в Италии был и вообще...? -- а сейчас чего делать
собираешься?", в конце концов говорю я.
"Я не знаю что я собираюсь делать", говорит он грустно, с усталой
иронией.
"Да чего там, делай что делается...", несу я вялую чушь.
"Я много про тебя слышал от Ирвина, и я читал твою книгу - "
Просто он слишком благопристойный для меня -- мне же понятнее
необузданность -- как хотел бы я суметь ему объяснить -- но он знает что я
знаю --
"Мы еще с тобой увидимся?"
"Да, конечно", говорит он --
Через два дня он устраивает для меня что-то вроде маленького обеда у
Розы Уайз Лэйзали, женщины которая организует поэтические чтения (в которых
я никогда не участвую, из-за робости) -- Она приглашает меня по телефону а
Ирвин стоит рядом и шепчет "А нам можно придти?" "Роза, а можно придти еще
Ирвину?" -- ("И Саймону") -- "И Саймону?" - "Конечно, почему нет" -- ("И
Рафаэлю") -- "И Рафаэлю Урсо, поэту?" - "Ну естественно" -- ("И Лазарусу"
шепчет Ирвин) -- "И Лазарусу?" -- "Конечно" - так что мой обед с Джеффри
Дональдом и элегантной красивой и умной женщиной превратился в шумную
безумную пирушку с ветчиной, мороженым и тортом -- я еще про это напишу
когда подойдет время --
Дональд с МакЛиром уходят и мы жадно пожираем невероятную смесь всего
что находится в холодильнике, и мчимся к рафаэлевской подружке где весь
вечер пьем пиво и болтаем, где Ирвин с Саймоном немедленно раздеваются (по
своему обыкновению) и в конце концов Ирвин начинает играть с сониным пупком
-- ясное дело Рафаэль чувак с нижней Ист-Сайд ему не нравится когда кто-то
забавляется с пупком его подружки, и вообще ему тошно сидеть тут и смотреть
на голых мужиков -- Хреноватый вечерок получается -- Я чувствую что меня
ждет впереди большая работа чтобы все это уладилось как-то -- И Пенни все
еще с нами, сидит где-то там позади -- старые сан-францисские меблирашки,
верхний этаж, повсюду разбросаны книги и вещи -- я тихо сижу с бутылкой пива
и смотрю в сторону -- единственное что отвлекает мое внимание от
погруженности в собственные мысли это прекрасное серебряное распятие которое
Рафаэль носит на шее, и я говорю ему об этом --
"Тогда оно твое!" -- и он снимает его и отдает мне -- "Правда, точно,
забирай его!"
"Нет-нет, я просто поношу его несколько дней а потом отдам назад"
"Можешь оставить его себе, я хочу отдать его тебе! Знаешь что мне в
тебе нравится Дулуоз, ты понимаешь что меня мучает --не хочу я сидеть тут и
пялиться на голых мужиков - "
"О да что такое?" говорит Ирвин стоя на коленях перед сониной
табуреткой и трогая ее пупок под приподнятым им краем одежды, а сама Соня
(этакая милашка) пытается доказать что ее ничего не может потревожить и
позволяет ему делать это, а Саймон смотрит глазами полными молитвенного
экстаза (сдерживаясь) -- На самом деле Ирвина с Саймоном уже начинает слегка
знобить, уже ночь, окна открыты, пиво холодное, Рафаэль сидит у окна в
задумчивости и не хочет ни с кем разговаривать а если уж начинает то ругая
их -- ("Вы думаете мне нравится когда вы делаете это с моей девушкой?")
"Рафаэль прав, Ирвин -- ты не понимаешь".
Но я хочу чтобы Саймон тоже понял, ему хочется больше чем Ирвину,
Саймону нужна только непрерывная оргия --
"Да ну вас", в конце концов вздыхает Рафаэль, махнув рукой -- "Давай,
Джек, возьми крест и оставь его себе, он на тебе хорошо смотрится".
Он на маленькой серебряной цепочке, я продеваю сквозь нее голову,
засовываю крест за воротник и он на мне -- я чувствую себя необычно радостно
-- В это время Рафаэль читает Алмазный Резец Обета Мудрости (Алмазную
Сутру") которую я переложил своими словами в Одиночестве, она лежит у него
на коленях, "Ты понимаешь это Рафаэль? Здесь ты найдешь все что нужно".
"Я понимаю о чем ты. Да я понимаю это".
В конце концов я начинаю читать отрывки оттуда чтобы отвлечь их умы от
девушек и ревности - :
"Субхути, те кто познали истину в передаче учения другим, вначале
должны освободиться сами от всех тщетных желаний вызванных прекрасными
зрелищами, приятными звуками, сладкими вкусами, ароматами, нежными
прикосновениями и искушающими мыслями. Совершая даяние, они не должны слепо
прельщаться любыми из этих увлекательных картин. И почему же? Потому что
если совершая даяние они не будут слепо прельщаться подобными вещами, они
испытают состояние блаженства и добродетельной радости, которое вне
сравнений и представлений. Как думаешь ты, Субхути? Возможно ли измерить
ширь пустоты восточных небес?
Нет, о Блаженный Просветляющий! Невозможно измерить ширь пустоты
восточных небес!
Субхути, а возможно ли измерить ширь пустоты северных, южных и западных
небес? А ширь пространства четырех концов вселенной, верхних небес, нижних
небес и тех небес что между ними?
Нет, о Превосходнейший в Мире!
Субхути, так же невозможно измерить глубину блаженства и добродетельной
радости которые испытают те кто познали смысл, и те кто совершая даяние не
будут слепо прельщаться иллюзиями реальности подсказываемыми нам
уверенностью в их существовании. Истина должна быть принесена в чистом виде
и всем без исключения"...
Все слушали внимательно... и все таки в комнате оставалось что-то чужое
мне... жемчужины прячутся в раковине моллюска.
Вниманьем пустоте спасется мир Все станут радостно добры Вновь заблещет
Орион К нам придет лохматый Слон![83]
Наконец то закончился этот дурацкий вечер, и мы идем домой оставив
Рафаэля в мрачной задумчивости, в ссоре с Соней, собирающим вещи -- Ирвин с
Саймоном и мы с Пенни возвращаемся назад на квартиру, где Лазарус опять
что-то поджаривает на плите, берем еще пива и напиваемся все -- В конце
концов Пенни выходит на кухню почти плача, она хочет спать с Ирвином но он
уже заснул, "Присядь ко мне на коленки, детка" говорю я -- В конце концов я
иду спать и она юркает ко мне в кровать и обвивает меня руками (хоть и
сказав сначала: "Нужно же мне где-то спать в этом дурдоме") ну мы и занялись
делом быстренько -- Потом просыпается Ирвин и Саймон потом тоже ее трахает,
раздаются глухие удары тел и поскрипывание кроватей и старина Лазарус бродит
вокруг и в конце концов следующей ночью Пенни целует и Лазаруса, и все
счастливы --
Я просыпаюсь утром и на шее моей висит крест, я вспоминаю через что я
пронес его этой ночью и спрашиваю себя "А что бы сказали католики и
христиане о том как я пронес крест этот через бардак и пьянку? -- но что
сказал бы Иисус если бы я пришел к нему и спросил "Могу я носить Твой крест
в этом мире таком какой он есть?"
Что бы не происходило, могу ли я носить твой крест? -- ведь есть много
разных чистилищ, правда?
"Не прельщаясь слепо..."
Утром Пенни встает раньше всех, успевает сходить за беконом, яйцами и
апельсиновым соком, и делает большой завтрак для всех -- Она начинает мне
нравиться -- Теперь она висит у меня на шее и прямо уцеловывает всего с ног
до головы и (после того как Саймон с Ирвином уходят на работу, в ирвиновский
магазинчик который находится в Окленде и потихоньку накрывается) Коди входит
прямо когда мы начинаем (или кончаем) нежничать в постели и громко вопит
"Ага, вот это приятно видеть по утрам, мальчики и девочки!"
"Можно я с тобой, можно я пойду с тобой сегодня?" говорит она мне --
"Конечно"
Коди занят своими скачками, он закуривает сигару, склоняется над
кухонным столом и весь погружается в сегодняшние газеты с новыми скачками и
новыми именами жокеев, точь в точь как мой отец когда-то -- "Положи-ка чуток
сахару в этот кофе, Лазарус, мальчик мой", говорит он --
"Так точно, сэр"
Лазарус скачет по кухне с бесчисленными тостами, яйцами, беконом,
зубными щетками и книжками комиксов -- Ясное солнечное утро в Фриско, и мы с
Коди немедленно упыхиваемся травой прямо за кухонным столом.
Внезапно мы с ним начинаем говорить про Бога высокими громкими
голосами. Мы хотим чтобы Лазарус врубился. Половина из того что мы говорим
адресована ему -- А он просто стоит похихикивая и зачесывает свои волосы
назад.
Коди сейчас явно в ударе но я должен заставить его понять, и он опять
начинает "Так оно и есть как ты говоришь, Бог это мы" -- бедняга Коди --
"прям вот здесь и сейчас и всяко-там-разно, а к Богу нам бежать некуда,
потому что мы-то уже здесь, и все же Джек правда посмотри сам братишка, эта
черт-бы-ее-драл дорога на Небеса это долгая дорога!" Он вопит все это, и
совершенно серьезно, а Лазарус расслабленно ухмыляется стоя у плиты, вот за
это-то они и зовут его "Лаз"[84]
"Ты понимаешь, Лазарус?"
Конечно он понимает.
"Слова", говорю я Коди.
"Мы рождаемся в наших астральных телах чувак и представь себе как долго
дух бродит чтобы попасть сюда в эту темнющую ночь, прямиком -- и пока он
бродит, астрально новорожденный и не врубающийся ни во что, он начинает эдак
вот мотаться туда-сюда просто чтобы исследовать все вокруг, как у Герберта
Уэллса про девушку которая подметает в прихожей полы туда-сюда, ну или как
волны миграции надвигаются, - в астральном виде он тоже мигрирует на
следующий, на марсианский уровень -- и вдруг натыкается на этих самых
стражников-привратников понимаешь, со всей неслабой астральной
всепронизывающей скоростью" --
"Слова!"
"Правда, правда, ну да, но потом -- слушай Джек, представь себе парня у
которого такая скверная аура предательства, на самом-то деле он
перевоплощение Иуды, такие дела, что люди на улице стоит пройти ему мимо
оглядываются и так прямо и спрашивают "Что это за предатель мимо прошел?" -
всю свою жизнь мучается будто проклятый и все над ним измываются, это его
кармический долг который он должен платить за то что продал Иисуса за горсть
серебра - "
"Слова"
Я говорю это "слова" и говорю серьезно -- я просто пытаюсь заставить
Коди заткнуться и тогда я смогу сказать "Бог -- это слова - "
Но слова не иссякают -- и Коди настаивает на своем и пытается доказать
что мир материален, он действительно верит что тело которое ты видишь это
физически независимая форма -- и что когда астральный дух выходит: "И когда
он попадает на Сатурн там могут такие условия попасться, срастаться,
получаться-разлучаться, короче совсем его там с толку собьют и станет он
камнем или еще какой-нибудь такой штукой - "
"Скажи мне серьезно, отправляется ли дух человека к Богу на небеса или
нет?"
"Ну да, после долгого суда и труда отправляется туда, ясно дело",
вежливо, закуривая сигарету.
"Слова"
"Ну слова если так тебе охота"
"Дрова"
Он не обращает внимания на мои "Дрова".
"Пока в конце концов очистившийся и такой чистенький совсем как
неношеная одежда дух прибывает в рай назад к Господу Богу. Понимаешь теперь
почему я сказал "мы пока еще не там!"
"Мы просто не можем быть не там, никуда нам от этого не деться".
Это заставляет Коди ненадолго притухнуть, я нарочно запутываю слова --
"Небеса неизбежны", говорю я.
Он начинает трясти башкой -- по какой-то непонятной причине он никак не
может со мной согласиться, наверно где-то там (в просторах не-пространства)
в другой совсем плоскости сидят наши призраки и так же яростно спорят о тех
же самых делах -- Но к чему все это?
"СЛОВА!!!" ору я так, как орет обычно Рафаэль "На хуй это все!"
"Разве ты не понимаешь", говорит Коди прямо таки лучась искренними
благодарностью и радостью, "все это давным-давно для нас было придумано и
нам делать ничего не надо, просто завалиться туда всей толпой и все...
Поэтому я хочу сегодня пойти на скачки", продолжает грузить[85] Коди. "Надо
бы мне отыграться и денежки свои вернуть а кроме того мальчик мой я хочу
тебе кой о чем рассказать, знаешь сколько раз я подходил к окошку где ставки
принимают и говорил "Пятый номер", просто потому что кто-то только что будто
сказал мне "Номер пять", хотя на самом-то деле я хотел второй?"
"Так чего бы тебе не сказать, дайте мне второй номер вместо пятого, я
ошибся. Ведь тебе поменяли бы его?"
(Мы с Рафаэлем еще вчера в домике у Кевина удивлялись, чего это Коди
постоянно твердит о номерах, позже на скачках сами услышите)
И вместо ответа на вопрос поменяют ли ему номер, он опять начинает:
"Потому что это нереинкарнировавшийся призрак подсказал мне "Номер Пять" - "
"Так ты иногда слышишь их в своей голове?"
"Может этот призрак хочет чтобы я выиграл, или чтобы проиграл, но в
любом случае он знает наперед результаты скачек, старина, думаешь я не знаю
почему, черт меня подери, и знаешь Лентяй Вилли говорил что он никогда,
понимаешь, ни на шаг не отступал от своей системы второго выбора - "
"Ну так теперь ты хоть знаешь, все дело в том что эти развоплощенные
духи мешают тебе выигрывать -- ведь ты говорил что система второго выбора
работает надежно"
"Ну да надежно"
"А как они выглядят?" спрашивает Лазарус из другой комнаты, опять
зализывая себе волосы сидя на краю кровати и слушая пластинку на вертушке.
"Да по-разному, как ауры различные, например аура этого предателя
пугала людей на улице, а может быть просто ауры это такие великаны-людоеды
нашего воображения". Тут у Коди опять просыпается кельтская жилка[86].
"Ужасные убогие призраки ломятся один за одним -- в бездонные небеса,
Коди ты сдурел совсем, что с тобой такое?"
Ох-ох-хо, закатывая глаза сладкоголосый Коди заливается соловьем,
сейчас он все-все объяснит, и конечно же для этого ему нужно вскочить со
стула чтобы махать руками и говорить -- Проповедник -- правильно назвал его
Мэл Называтель -- Лаз входит чтобы поглазеть на выплясывающего Коди. Коди
нагибается и долбит кулаком по полу, вскакивает и подпрыгивает в воздух так
что и Нижинскому не снилось, потом разворачивается и сует свои большие
мускулистые руки Лил-Абнеровского-пятнадцатилетнего-брата[87] тебе прямо под
нос и начинает ими махать и трясти там, он хочет чтобы ты ощутил дуновение и
жар Господень --
"И вообще на самом деле все есть свет, а в свете уже не может быть
разделений", подвожу я итог, и сам же добавляю: "Слова."
"Иисус Христос спустился к нам и его Кармой было знать что он Сын Божий
и что его предназначение умереть за вечное спасение всего человечества - "
"Всех чувствующих существ"
"Нет только не муравьев. И зная это он так и сделал, умер на Кресте. В
этом была его Карма Иисуса. -- Врубись что это значит".
Les onges qui mange
dans la terre...[88]
Чтобы выбраться из всей этой заморочки Коди надо было всего то сказать
"Но Бог выше слов", но ему наплевать на слова, он хочет ехать на скачки.
"Короче, что мы делаем сейчас: садимся ко мне в машинку и едем смотреть
девчушку-милашку-малышку с которой я хочу тебя познакомить а потом едем за
этим твоим Рафаэлем-Шмафаэлем и ОТВАЛИВАЕМ!" Голосом диктора на скачках. Он
распихивает все свои бумажки и ключи и сигареты по карманам, и мы выходим,
Пенни которая только что прихорашивалась перед уходом и слегка тормознулась
поэтому, теперь вынуждена бежать за нами и запрыгивает в машину в последний
момент, Коди не может ждать, мы оставляем торчащего в дверях Лазаруса
который теперь может беспрепятственно слоняться без дела по квартире -- мы
деловито несемся вниз с крутого холма, даем кругаля направо, потом налево,
потом опять направо и прямо на Третью Улицу, ждем на светофоре, и опять
вниз, пока не начинается город, Коди не хочет терять ни секунды времени --
"Ведь это ВРЕМЯ, мальчик мой!" вопит он -- и пускается в разъяснения своей
теории времени и почему мы должны пошевеливаться быстро. "Можно столько
всего-всякого понаделать!" орет он (мотор грохочет) -- "Если бы у нас только
было ВРЕМЯ!" кричит он, почти стеная.
"Что это опять за фигня насчет времени?" кричит девушка. "Бог ты мой,
все время одно и тоже, про Время да про Бога и всю эту чушь собачью!"
"Да заткнись ты" говорим мы одновременно (про себя, в своих насмешливых
мыслях), Коди совсем обезумел, он вламывается на бешеной скорости на Третью
Улицу так что даже местные алкаши вздрагивают и отрываются от бутылок вина
которыми пустыми они усеивают потом тротуары боковых переулочков, вокруг
полно машин, он чертыхается и крутится по сторонам -- "Эй, потише!" кричит
Пенни когда он задевает ее локтями. Он выглядит достаточно безумным чтобы
ограбить банк или убить полицейского. Глядя на него можно подумать что это
бандюга в розыске из Оклахомы 1892. И он заставил бы даже Дика Трейси
содрогнуться перед тем как тот прострелил бы дырку в его голове.
Но потом на Маркет-стрит появляется куча красивых девчонок, и вот
кодины комментарии: "Погляди на эту. Неплохо, а? Смотри, вот-вот, заходит в
магазин. Классная задница"
"Эй, ты!"
"Но вон та вон вообще обалдеть -- гммм -- спереди и сзади в полном
порядке - бедер толком нет -- штучки-дрючки."
Штучки-дрючки, так бывает когда он забывается в присутствии детей и они
начинают помирать от хохота врубаясь в Коди. Но никогда он не начинает
строить клоуна со взрослыми. У метеора милосердия должно быть суровое лицо.
"Вот еще одна. Ого да она красотка, как тебе?"
"Эх вы, мужики"
"Давайте поедим!" -- и мы отправляемся в Чайнатаун завтракать, я беру
тощие ребрышки в сладко-соленом соусе и утку с миндалем и мой любимый
апельсиновый сок, вот.
"И теперь, дети мои, я хочу чтобы вы знали что это самый важный день в
вашей жизни", объявляет Коди в кабинке ресторана перекладывая свои
бланки[89] из кармана в карман, "и с Божьей помощью" стуча по столу "я
собираюсь возмещать свои по-те-ри" У.К.Филдсовским[90] голосом, и безучастно
смотрит на официанта который проходит но не останавливается (китайский
парень с подносами), "На нас тут всем наплевать", вопит Коди -- И потом
когда в конце концов официант подходит он заказывает себе обычный завтрак
яичницу с ветчиной, так было уже в Бостоне когда мы вместе с Г. Дж. пошли в
Устричный Дом Старого Союза и он заказал себе там свиную отбивную. Я получаю
здоровенную утку с миндалем и с трудом доедаю ее.
В машине не хватает места, и мы после уговоров высаживаем Пенни здесь
на углу, а сами отправляемся чтобы посмотреть на кодину новую подружку
которая живет где-то здесь, и мы лихо тормозим перед домом и выбегаем из
машины и мчимся в квартиру, и вот стоит она в маленьком облегающем платье
занимается своей прической перед зеркалом и подкрашивает губы, говоря "Я
собираюсь к филиппинскому фотографу на эротические съемки"
"Правда мило?" говорит Коди с немалым удовольствием. И пока она
прихорашивается у зеркала даже я не могу оторвать глаз от ее форм,
убийственно безупречных, и Коди как сексуальный маньяк с какой-то небывалой
порно-открытки стоит сзади придерживая ее одной рукой, близко-близко, но не
прикасаясь, а она то ли замечает его то ли нет, то ли вообще ей все равно, и
он все стоит и смотрит на меня с каким-то неуловимым вызовом в уголках рта,
и показывает на нее, свободной рукой не касаясь он лепит формы ее тела в
воздухе, я стою и смотрю на это потрясающее представление, потом сажусь, а
он все не прекращает, и она продолжает подкрашивать себе губы этой своей
помадой. Маленькая безумная ирландочка по имени О`Тул.
"Чувак", в конце концов говорит она, достает косяк с травой и
поджигает. Я глазам своим не верю и тогда в комнату заходит трехлетний
мальчик и говорит что-то невероятно заумное своей матери, типа "Мама, а
можно мне в ванную с детскими глазиками?" что-то вроде этого, или, "Где моя
игрушка, хочу с ней драться!", правда, на самом деле -- Потом заходит ее
муж, чувак из тех кого постоянно встречаешь в Подвале, я часто видел его там
слоняющегося из угла в угол. Мне становится сильно не по себе из-за этого
расклада и я пытаюсь выключить себя из него взявшись за книжку (Дзен
Буддизм) и начав читать. Коди же это мало трогает, но мы уже готовы идти, мы
отвезем ее прямо к ее фотографу. Они несутся наружу и я следую за ними но в
руках у меня книга, и мне приходится бежать назад и опять звонить в дверной
звонок (пока Коди обхаживает милашку Миззус О`Тул) и ее муж смотрит на меня
сверху вниз, с лестницы, я говорю "Я книгу случайно взял", взбегаю наверх и
вручаю книгу ему, "Правда случайно", и он орет мне вниз "Я знаю что ты
случайно чувак", идеальная и обалденная парочка.
Мы подвозим ее и отправляемся за Рафаэлем.
"Правда она обалденная маленькая крошка, ты заметил это ее платьице", и
тут же вдруг он прямо свирепеет. "Теперь из-за этого твоего Рафаэля мы
опоздаем на ипподром!"
"Рафаэль классный парень! Я тебе обещаю, я знаю! -- Что за ерунда,
почему ты его не любишь?"
"Он из неврубных чуваков -- этих макаронников -- "
"Бывают среди них паршивые типы, тоже", признаю я. "Но Рафаэль --
великий поэт."
"Ну если тебе так нравится думай как хочешь, но я его не понимаю".
"Почему? Потому что он все время орет? у него манера говорить такая!"
(И это ничем не хуже тишины, и не хуже золота, мог бы добавить я).
"Дело не в этом -- Конечно мне нравится Рафаэль чувак разве ты не
знаешь что мы с ним - " и он бескомпромиссно замолчал на эту тему.
Но я знаю, что могу (я могу?) Рафаэль может доказать, что он свой чувак
-- Чувак, шмувак, браток, молоток, Бог это Собакасм.40 наоборот
--
"Он хороший парень -- и он друг"
"Оп-чис-тво Друзей[91]", говорит Коди в одном из своих редких
пароксизмов иронии, из тех что раз случившись, как у доктора Семюэля
Джонсона[92] которого я когда-то в другой жизни тоже босуэлил[93],
становятся приступами Настоящей Ирландской Кельтской Иронии, она
основательна как камень обкатанный морским прибоем, никогда не отступает, но
так медленна, так упряма, и все-таки ирония, железо в камне, сети которые
кельты развешивали на камнях -- Корни этой иронии в традиции ирландских
иезуитов, к которой также принадлежал Джойс, не говоря уже про Неда Гауди в
моих горах, и кроме того Фома Аквинский, болезненно-язвительный Папа
Философов и Ученик Иезуитов -- Коди когда-то учился в приходской школе и был
служкой в церкви -- и священники драли его за уши за непотребные выходки в
храме Господнем -- Но теперь он вернулся в лоно своей веры, к вере в Иисуса
Христа, и в Него (в христианских странах это пишется с большой буквы) --
"Ты видел крест который Рафаэль дал мне поносить? Хотел мне подарить?"
"Ага"
Мне кажется Коди не нравится что я его ношу -- но я не обращаю на это
внимания, я иду дальше -- и из-за этого у меня возникает странное ощущение,
но потом я его забываю и все идет своим чередом -- также и со всем
остальным, и все свято сказал я когда-то -- так давно что не появилось еще
"я" способное сказать -- и в свою очередь это тоже слова[94] --
"Ну ладно мы поедем в этот хренов Ричмонд и чувак это далеко поэтому
нам лучше бы поспешить -- Ты как вообще думаешь, он собирается оттуда
спускаться?" глядя теперь из окна машины на чердачные окна Рафаэля.
"Сейчас я позвоню, сбегаю наверх и приведу его" я выпрыгиваю из машины,
звоню в звонок, кричу наверх Рафаэлю, открываю дверь и вижу выглядывающую
недовольно степенную пожилую леди --
"Сейчас спущусь!"
Я возвращаюсь к машине, и вскоре вниз спускается Рафаэль пританцовывая
по широким ступеням и размахивая руками, я приоткрываю дверь машины, он
плюхается внутрь, Коди немедленно рвет с места, а я захлопываю дверь и
высовываю локоть в окно, и вот с нами Рафаэль, его пальцы стиснуты в кулаки
"Эй ребята вы ж мне сказали что будете здесь в двенадцать ровно - "
"В полночь", говорит Коди.
"Полночь?!! Ты мне сказал Померэй черт бы тебя подрал что хочешь быть
-- ты ах, ты, О теперь я тебя знаю, теперь я все понимаю, это все интриги,
все вокруг сговорились, каждому охота долбануть меня прямо в голову и
отправить мое тело прямиком в могилу -- В последний раз когда мне снился ты,
Коди, и ты, Джек, вокруг было полно золотых птиц и ласковые оленята утешали
меня, и я сам был Утешителем, я задирал полы своей божественности для всех
маленьких детишек нуждающихся в ней, я превратился в Пана, я сыграл им
сладкозвучную нежную мелодию прямо на дереве, и ты был этим деревом! Померэй
ты был этим деревом! -- Теперь я все понимаю! Нам с тобой не по пути!"
И все это он говорит подняв руки, размахивая пальцами сжатыми в
щепотки, гримасничая, будто итальянец в баре произносящий длинную речь толпе
слушателей -- Ух ты, я поражен этим неожиданным звенящим звучанием,
безупречной delicatesse каждого рафаэлевского слова и образа, я ему верю, и
он верит в это, и Коди должен понять что он имеет в виду, это правда, я
оглядываюсь, Коди неприязненно слушая ведет машину выворачиваясь из пробок
--
Внезапно он говорит, "Это разрыв времени когда видишь вот идет человек
или едет машина и сейчас столкновение, никуда не деться, то ты уже и не
рыпаешься бестолку, и если не развоплотишься сразу то у тебя будет еще этот
разрыв времени чтобы даровать им прощение, потому как обычно в девяти
случаях из десяти астральные тела отделяются сразу, чувак, и все потому что
так было задумано в домике наверху где они делают свои Си-га-рил-лы".
"Ах, Померэй -- я не выношу Померэя -- я слышу от него только какое-то
дерьмо, ничего нормального -- у меня уши от него болят -- и конца этому нет
-- я сдаюсь, я ухожу -- А во сколько будет первый забег?" говорит он вдруг
спокойно, вежливо и заинтересованно.
"Рафаэль просто стебется!" ору я, "Рафаэль Насмешник" - (на самом-то
деле это Коди когда-то сказал, "Похоже кое кто любит хорошенько стебануться
над другими" "Ну так это нормально?" "Нормально" - )
"Про первый забег уже можно забыть", огорченно сказал Коди. "И похоже
на двойную дневную нам уже не сыграть".
"Да ну на кой нам эта двойная дневная?" кричу я. "Шансов мало. Сто к
одному или пятьдесят к одному что выберешь двух победителей сразу".
"Двойная Дневная?" говорит Рафаэль почесывая губу пальцем, и внезапно
задумавшись погружается в дорогу, и вот мы едем в старом седане со старым
тарахтящим движком 1933 года, и в стекле отражаются наши три головы, в
середине Рафаэль ничего не видящий и не слышащий но просто смотрящий вперед
как Будда, и водитель Небесной Колесницы (Белоснежной Воловьей Повозки)
страстно рассуждающий о числах размахивая рукой, и третий человек, или
ангел, слушающий его изумленно. Потому что сейчас он рассказывает мне что
поставит на лошадь второго выбора 6 долларов за забег, потом два забега по 5
долларов, потом три по 4, потом два раза меньше четырех (по двадцать-сорок
центов), так он будет ставить свои деньги, по одному, два, три забега целый
день --
"Числа", говорит Рафаэль откуда-то издалека. Но у него тоже есть
маленький кошелечек и в нем около тридцати долларов и может быть ему удастся
выиграть сотню чтобы напиться и купить печатную машинку.
"Короче, делаем так, хоть вы мне и не верите, но я вас прошу меня
выслушать и понять, я вам объясню, весь день я буду ставить и выигрывать по
системе Лентяя Вилли -- теперь про Лентяя Вилли, ты должен понять Рафаэль
что он был старый игрок и он додумался до системы и когда умер его нашли
мертвого в клубе с 45,000$ в кармане -- а это значит что к тому времени он
уже играл по крупному и мог сам прикидывать свои шансы - "
"Но у меня только 30 долларов!" кричит Рафаэль.
"Всему свое время - " Коди собирается стать миллионером с этой системой
Лентяя Вилли и начать строить монастыри и самаритянские скиты и раздавать
пятидолларовые бумажки бродягам в Скид Роу достойным того или даже просто
людям в трамваях -- Потом он хочет раздобыть Мерседес и промчаться по
эль-пасскому шоссе до Мехико-Сити, гоня под 165 миль на прямых участках и
чувак ты знаешь на поворотах машину нужно притормаживать мотором потому что
когда ты заходишь на кривой вираж на 80 или 100, и собираешься его
проскочить не снижая скорости, тебя по-любому немного занесет" И он
демонстрирует это взревев мотором на больших оборотах и тотчас же сбивая их
на малые переключив скорость чтобы приземлить нас прямо перед красным огнем
светофора (причем узнает что этот цвет красный только потому что машины
останавливаются, Коди дальтоник) -- Что за смутные серые перспективы видны
отважному благородному Коди? Я мог бы задать этот вопрос Рафаэлю, и он
ответил бы мне со своего коня:
"Это непорочная древняя тайна"
"Действуем так", говорит теперь Коди, стоя полуобняв нас за плечи у
беговой дорожки с трепыхающимися на ветру флагами, протиснувшись в передние
ряды толпы игроков под главным табло "Я ставлю на победителя, Рафаэль на
тройку сильнейших, а Джек на третье место, и так весь день, по системе
второго выбора" (готовясь ко второму забегу, и по-птичьи вытягивая шею чтобы
разглядеть над головами номер второго выбора на табло тотализатора) --
Рафаэль этих штук вообще не понимает, но пока мы этого еще не знаем.
"Нет я не буду ставить", говорю я. "Я никогда не играю -- Давай возьмем
пива -- Пиво, бейсбол и сосиски..."
И к нашему общему ужасу Рафаэль объявляет, "Я буду ставить на девятый
номер, это мистическое число", это означает что он вообще не понимает, что
такое "ставка второго выбора"
"Это мистическое число Данте!" кричу ему я --
"Девять -- девять?" говорит Коди, и глядит изумленно. "Но почему, тут
ведь идут шансы тридцать к одному?"
Я смотрю на Коди, понимает ли он, но похоже что уже никто и ничего
вообще не понимает.
"Где мое пиво?" говорю я, будто у меня за спиной стоит официант.
"Давайте сначала возьмем пивка, а потом вы будете ставить".
Рафаэль вытаскивает свои деньги и кивает с серьезным видом.
"Послушай-ка", говорит Коди, "Я собираюсь ставить на лошадь второго
выбора и выиграть -- Ты понимаешь? Это номер пять".
"Нет!" смеется и кричит Рафаэль. "Моя лошадь номер девять. Разве ты не
понимаешь?"
"Да, понимаю", соглашается Коди и мы идем делать ставки, я жду за
пивной стойкой, а они присоединяются к беспокойным группкам игроков
ожидающих когда лошади приблизятся к шестому шесту двухсотярдового забега и
скоро прозвучит (уже звучит!) предупреждающий звонок, и вот все застывают
напряженно в ожидании и порыве, неподвижные, и никто не смотрит на настоящих
лошадей на реальном поле --астральные числа, сигарный дым и переминающиеся
ноги. -- И я поднимаю взгляд, над толпой, и над полем, и над далеким Мостом
Золотых Ворот висящим над водами залива, мы на Ипподроме Полей Золотых Ворот
в Ричмонде, Калифорния, но также и в муравейнике в Нирване, я вижу это по
крошечным машинкам вдалеке -- Они меньше чем даже верится -- Это трюк
огромных пространств -- С какой особенной благоговейностью маленькие жокеи
там вдали похлопывая подгоняют своих лошадей к стартовым воротам, но мы не
можем этого четко видеть так издали, я вижу только шелк повязок которые
преподобные жокеи повязывают своим лошадям, и воистину в этом мире лошадиных
шей больше чем самих лошадей, прекрасных мускулистых лошадиных шей --
Дзенньк! Началось -- Мы даже не купили программку поэтому я не знаю шелка
какого цвета у номера пять Коди, или у раффовского девятого, нам остается
лишь (как и остальным измученным игрокам Кармического мира) ждать когда
группа лидеров пробежит мимо 70-ярдового шеста и мы сможем увидеть в каком
порядке идут номера в этом алмазно-тяжелом табуне, объявления ведущего
теряются в реве толпы устремленном в стремительно несущуюся даль, заставляя
нас всматриваться подпрыгивающим взглядом в номера пробегающих лошадей --
протекающих сквозь лошадей -- и как только жокеи замедляют их бег на
повороте за зданием клуба, как только забег заканчивается, знатоки уже
составляют списки ставок третьего забега -- Кодин 5-й приходит третьим, 9-й
Рафаэля вне игры, где-то среди последних, усталая дантовская лошадка -- в
моих снах они возведут ее на залитый электрическим светом пьедестал -- Коди
торжественно советует нам все это запомнить и объявляет: "Отлично, второй
выбор приходит третьим, значит все почти получилось, верно? Смотрите, вот
сейчас он третьим выбором пойдет, полный порядочек, прекрасно, прекрасно,
дайте ему выдохнуться хорошенько, чем больше он потеряет тем сильнее буду
я".
"Чего-чего?" говорит Рафаэль в замешательстве, он хочет все это знать.
"Когда второй выбор постоянно проигрывает мои ставки возрастают, ну так
вот, когда он придет как надо, я увеличу ставку, верну себе все проигранное,
а потом стану выигрывать в чистый плюс"
"Тут вся штука в числах", говорю я.
"Это потрясающе!" говорит Рафаэль. И, проникновенно задумчиво: "Ко мне
должно опять придти какое-нибудь мистическое число. Может быть опять
девятка. Это как рулетка, для игрока. Долгорукий ставил все свои деньги на
один номер и в конце концов сорвал банк. Я буду как Долгорукий! Мне все
равно! Если я проиграю то это потому что я дерьмо, а если я дерьмо то это
потому что луна блещет на дерьме! Сияй на дерьме!" - "Съешь моих детей!"
Каждый день, говорит Саймон, "стихотворение заползает в голову Рафаэля
и становится Высокой Поэзией". Прямо так вот Саймон и говорит.
Когда мы собираемся ставить на третий забег к нам подходит старуха, с
большими бесцветно синими глазами, похожая на старую деву, ее волосы туго
скручены в пучок как во времена пионеров (она выглядит точь-в-точь как на
портретах Гранта Вуда[95], и за спиной у нее невольно ищешь очертания
остроконечных крыш старых ферм) и с искренностью всех безумцев говорит Коди
(который встречал ее раньше на бегах): - "Поставь на 3 и если выиграешь
отдашь мне половину -- У меня нет денег -- Всего два доллара"
"Третью?" Коди заглядывает в программку. "Эта кляча, ей в жизнь не
выиграть - "
"Что это за лошадь?" смотрю на табло я. Она пришла седьмой из 12.
"Ну да, седьмые часто приходят дважды в день" громогласно подтверждает
Коди, а Рафаэль разглядывает старую церемонную леди, по возрасту она вполне
могла бы быть его матерью из Арканзаса, такая заинтересованная но чуть
обеспокоенная все же ("Кто эти сумасшедшие люди?"). Так что Коди ставит на
старухину лошадь, плюс на свою собственную, плюс его осеняет озарение и он
ставит еще на одну, разбрасывает деньги направо и налево, так что когда его
первоначально запланированная по системе лошадь действительно побеждает то
выигрыша не хватает чтобы покрыть расходы его наития и сумасшествия -- В это
время Рафаэль опять ставит на 9, мистическую лошадь, и опять проигрывает --
"Рафаэль если ты сегодня хочешь выиграть что-нибудь, делай как я" говорит
Коди. "Теперь я уверен что в этом четвертом забеге второй выбор сработает,
второй выбор чистейшей воды, точнее я и в жизни не встречал, шансы девять к
двум, Десятый Номер"
"Номер Два! Это мой любимый номер!" решает Рафаэль глядя на нас с
легкой детской улыбкой.
"Но зачем, мало того что это дохлятина еще и этот Прокнер на ней все
время падает - "
"Жокеи!" кричу я. "Посмотри Рафаэль на жокеев! Посмотри какие у них
красивые шелковые эмблемы!" Они выезжают из загона но Рафаэль не смотрит на
них вообще. "Подумай какие они чудные -- какие странные маленькие танцоры"
В голове у Рафаэля теперь только один Номер Два --
На этот раз, для четвертого забега, стартовые ворота перетаскиваются на
другое место прямо перед нами шестью здоровенными лошадьми Будвайзерской
Команды, каждая из них весит тысячу фунтов, прекрасные большие старые
коняги, вместе с почтенными старыми конюхами они медленно тащат ворота на
полмили вниз к большой трибуне, и никто (кроме маленьких детей играющих на
солнышке у проволочного заграждения пока их родители заняты скачками, этакая
сборная солянка белых и черных детишек) никто в них не врубается, даже не
взглянет в их сторону, все погрузились в числа, в ярком сиянии солнца все
головы склонены над сероватыми листочками формуляров ставок, Ежедневные
Беговые Формуляры, зеленые строчки Хроник -- иногда в программах появляются
прямо-таки мистические названия, и я тоже начинаю просматривать поднятую
мною с земли программку ища странные намеки, вроде лошади "Классическое
Лицо", на которой скачет Ирвин Чемпион, происшедшей от кобылы по имени
Урсори -- или даже всякие странности еще чудней, типа "Дедули Джека", или
"Сновидца", или "Ночного Клерка" (это значит что некий старик в отеле Белл
снисходительно склоняет свою астральную голову над нашими жалкими
бессмысленными попытками добиться чего-то на этих скачках) -- В свои первые
дни игры на бегах Коди был потрясающ, на самом деле в эти дни он был
назначен своим железнодорожным начальством на работу кондуктора -- отрывать
корешки билетов Дополнительного Бэй Мидоузского пригородного назначаемого в
дни бегов, и выходил из него полностью экипированный в свою синюю форму
тормозного кондуктора, в фуражке с козырьком и все такое, в черном галстуке,
белой рубашке, жилетке, грудь колесом, прямая спина, красавчик прямо, со
своей тогдашней девушкой (Розмари), и начинал с самого первого забега,
горделиво стоя с программкой засунутой в задний карман брюк в шаркающей
очереди игроков столпившихся у окошечка, проигрывая до тех пор пока к
седьмому забегу не оставался совсем на мели и не вынужден был вместе со
своей прекраснейшей фуражкой возвращаться назад к поезду (стоящему у ворот
ипподрома с локомотивом на ходу и готовому в любой момент к отправлению
назад в город) и раз уж денег не оставалось, его интерес перемещался на
женщин "Посмотри-ка на эту толстушку, вон она, стоит со своим папочкой,
ах-хм", и даже иногда (когда деньги заканчивались) пытался уболтать
какую-нибудь старушку которой понравились его голубые глаза, поставить за
себя -- день кончался грустно, он возвращался к своему поезду, чистил в
туалете щеткой свою форму (и просил меня почистить ее сзади) и выходил
чистенький, чтобы отправить поезд (разочарованных игроков) назад сквозь
одинокие красные закаты Залива -- Сейчас он одет в обычные джинсы, потертые
облегающие и рвущиеся спортивные майки, и я говорю Рафаэлю "Глянь-ка на
этого старого оклахомского hombre[96] который пружиня шагает чтобы сделать
ставку, вот такой вот он Коди, крутой hombre с Запада" -- и Рафаэль слабо
ухмыляется на это.
Рафаэль хочет выиграть и по боку стихи --
В конце концов мы оказываемся на скамейках на самом верху трибуны и
оттуда нам не видать стартовых ворот несмотря на то что они прямо под нами,
я хочу подобраться к перегородке и объяснить Рафаэлю в чем суть скачек --
"Видишь стартовика там в будке -- он нажмет на кнопку, зазвонит звонок,
привратники откроют воротца и они рванут -- Посмотри на жокеев, у каждого из
них железные ручищи - "
Из великих жокеев здесь Джонни Лонгден, и Ишмаэль Валенцуэла, и очень
хороший мексиканский жокей по имени Пулидо который сидя на лошади
осматривает толпу с живейшим интересом, в то время как у других жокеев вид
грустный и недоверчивый -- "Коди в прошлом году приснилось что Пулидо ехал
оседлав железнодорожный поезд по беговой дорожке в обратную сторону и когда
он доехал до последнего поворота у клубного здания поезд взорвался и остался
целым один лишь Пулидо, верхом на двигателе локомотива вместо лошади, и
добрался на нем до финиша -- и я сказал "Ух ты, Пулидо выиграл!" - и тогда
Коди дал мне еще 40$ чтобы я ставил за него на каждых бегах, а он ни разу не
выиграл!" - рассказываю я грызущему себе ногти Рафаэлю --
"Я думаю, я опять поставлю на Девятку"
"Ставь по системе чувак!" взмолился Коди -- "Я же рассказал тебе про
Лентяя Вилли и как его нашли мертвого с 45,000$ необналиченных выигрышных
билетов в кармане - "
"Слушай Рафаэль", добавляю я, "Лентяй Вилли просто сидел тут и попивал
кофе между забегами, может быть он носил пенсне, и в последнюю минуту когда
большинство ставок уже было сделано он подходил, делал свою ставку, а потом
просто над всем этим пока шел забег прикалывался -- Все это числа -- Второй
выбор -- это консенсус множественности низведенный во вторую степень который
был математически рассчитан до такого процентного соотношения что если ты
будешь увеличивать свои ставки прямо пропорционально своим проигрышам ты
просто обязан выиграть если только не произойдет трагического совпадения и
сеть проигрышей - "
"Ага точно, трагического, теперь послушай-ка сюда Рафаэль и ты денежек
точно подзаработаешь - "
"Окей окей!"-"Я попробую!"
Внезапно толпа охает -- лошадь встает на дыбы прямо в стартовых
воротах, спотыкается о них и сбрасывает своего ездока, Рафаэль, задыхаясь, с
изумлением и ужасом: "Смотри, бедная лошадка запуталась!"
Подбегают грумы и делают свою работу, ловят, стреножат и уводят с поля
лошадь которая незамедлительно снимается со скачек, и все ставки накрываются
-- "Они же могут пораниться!" болезненно кричит Рафаэль -- Это особо не
трогает Коди почему-то, может быть потому что он сам был когда-то ковбоем в
Колорадо и привык к лошадям, так однажды мы видели как лошадь скинула
седока, она лежала и билась в конвульсиях у начала беговой дорожки и никто
на это не обращал внимания, все вопили потому что забег шел к концу -- эта
лошадь лежала со сломанной ногой (а значит будет неминуемо пристрелена) и
неподвижный жокей лежал маленьким белым пятном на дорожке, может быть
мертвый, и уж наверняка получивший травму, но ничьи глаза не оторвались от
скачек, как же могут эти безумные ангелы продолжать гонку за порчей
собственной Кармы -- "Что случилось с лошадью?" кричу я когда рев толпы
проносится мимо нас вниз к финишной прямой, и во искупление их вины я не
свожу глаз с места происшествия не взглянув даже на результаты забега
который Коди выиграл -- Лошадь была убита, жокея отвезли на скорой помощи в
госпиталь -- и за рулем был не Саймон -- Мир слишком велик -- Все это только
лишь деньги, только лишь жизнь, рев толп, вспышки чисел, числа забыты, земля
забыта -- память забыта -- бриллиант тишины тянется непротяженно --
Лошади пересекают финишную ленту и пролетают дальше, слышны
направляющие щелчки жокейских хлыстов по лошадиным бокам, слышны хлопанье
бутов[97] и свист, "Айаа!", и они скрываются за первым поворотом, теперь все
глаза поворачиваются к табло результатов чтобы увидеть числа символы
происходящего на дорожке Нирваны -- Лошадь Коди и Рафаэля далеко впереди --
"Я думаю, он удержится впереди", говорю я зная по собственному опыту
что означает хорошая фора в 2,5 корпуса если жокей способен уверенно
поддерживать дистанцию -- Проделав круг они вновь показываются из-за
поворота, видны трогательные промельки тоненьких чистокровных ног которые
так легко ломаются, пыль встает столбом, они мчатся прямиком к финишу, жокеи
неистовствуют -- Наша лошадь по-прежнему остается впереди всех и выигрывает
--
"Э! Айййе!" и они бегут получать свою мзду.
"Видал? Держись поближе к старине Коди и не пропадешь!"
Все это время мы мотаемся туда-сюда заглядывая то в туалетные комнаты
то в пивнушку, идем выпить кофе с сосисками, а потом когда скачки
приближаются к концу небеса наполняются послеполуденным золотом и длинные
очереди вспотевших игроков ждут последнего звонка -- завсегдатаи беговых
дорожек бывшие такими бодрыми и самоуверенными во время первого забега
теперь выглядят помятыми, их головы опущены, они уже немного не в себе,
некоторые из них шарят глазами по полу в поисках потерянных билетов, старых
программ или оброненных долларов -- И Коди решает что настало время обратить
внимание на девушек, мы подметили парочку в окружающей толпе и теперь стоим
глазеем на них. Рафаэль говорит "Да бог с ними с женщинами, как же теперь
насчет лошадей? Померэй, ты свихнулся на сексе!"
"Смотри Коди, ты выиграл первый забег на который мы опоздали", говорю я
показывая на большое табло.
"А - "
Мы уж порядком друг другу поднадоели, и наша моча течет в писсуар
отдельными струйками, но там она все равно смешивается и там мы снова вместе
-- Идет последний забег -- И я думаю "Ах поедем же назад в возлюбленный
город", он прямо перед нами, через залив, полный соблазнов которые никогда
не станут реальными потому что придуманы нами -- а еще меня не оставляет это
чувство, что выигрывая Коди на самом деле проигрывает, и наоборот, что все
это эфемерно и до этого не дотронуться рукой -- да-да, конечно, можно
пощупать деньги, но сами терпение и вечность, нет - Вечность! Это значит
больше чем просто куча времени, больше всех этих ерундовых понятий и даже
еще больше! "Коди, ты не можешь выиграть, ты не можешь проиграть, все это
эфемерно, все есть страдание", так я чувствовал -- И в отличие от меня,
хитрого не-игрока, который и на небесах играть не захочет, он истинный
Христос, его воплощение Христа предстает во плоти перед тобой, и ты, весь в
испарине, осознаешь игру понятий добро-зло -- От этой веры все светится и
вибрирует -- жрец жизни.
Он доволен сегодняшним днем, все забеги оказались для него выигрышными,
"Черт тебя дери Джек если бы каждый раз ты доставал из своих джинсов по паре
долларов и делал что я тебе говорю, у тебя к вечеру накопилось бы 40
полновесных баксов", и это правда но мне не жаль -- разве что денег -- А
Рафаэль вернул себе проигранное и остался при тех же тридцати долларах --
Коди выиграл сорок и гордо распихал их маленькими банкнотами по своим
карманам --
Это один из его счастливых дней --
Мы выходим с ипподрома и идем к паркингу где наш седан стоит в
бесплатном месте прямо около рельсов железнодорожной ветки, и я говорю,
"Хорошее место, можешь теперь каждый раз оставлять здесь машину без
проблем", потому что теперь, раз выиграв, он наверняка станет приезжать сюда
каждый день --
"Да, мальчик мой, и кроме того вот та штука которую ты здесь видишь
через шесть месяцев это будет Мерседес-Бенц -- ну или хотя бы микроавтобус
Нэш Рамблер для начала"
89
О озеро снов наших, все течет и изменяется -- Мы забираемся в маленькую
машину и возвращаемся назад, и видя маленький подернувшийся уже вечерним
багрянцем на фоне тихоокеанской белизны город, мне вспоминается как
выглядела гора Джек в высокогорных сумерках и как утес у нее на вершине
подкрашивался краснотой до самого заката, и потом еще немного оставалось на
вершине и там где земля закругляется за горизонт, и тут забитую машинами
улицу перед нами переходит кто-то с маленькой собачонкой на поводке и я
говорю "Маленькие щенята Мексики так счастливы - "
" -- и вот живу я и дышу, и не заморачиваюсь, не циклюсь на всякой
ерунде, но все-таки в прошлом году я упустил свою систему, ставил как попало
и продул пять тысяч долларов -- теперь ты понимаешь почему я это делаю?"
"Точно!" завопил Рафаэль. "Мы сделаем это вместе! Ты и я! По разному --
но мы сделаем это!" и Рафаэль улыбается мне одной из своих редких
полуискренних усмешек. "Но теперь я тебя понимаю, я знаю тебя теперь,
Померэй, ты искренний -- ты действительно хочешь выиграть -- я верю тебе --
я знаю что ты современный ужасающий брат Иисуса Христа, я просто не хочу
зависать не на тех играх, это все равно как зависать не на той поэзии, не на
тех людях, не на тех идеях!"
"Все идеи те", говорю я.
"Может быть, но я не хочу облома -- я не хочу быть Падшим Ангелом
чувак", говорит он, пронзительно грустно и серьезно. "Ты! Дулуоз! Я вижу в
чем твои те идеи, ты шатаешься по Скид Роу и пьянствуешь с бродягами, эх,
мне бы такое и в голову не пришло, зачем навлекать на себя убожество? Пусть
слабый умрет. -- Я хочу сделать деньги. Я не хочу говорить Ох Ах Эх я
запутался, Ох Ах я потерялся, я не потерялся еще -- и я попрошу Архангела
чтобы он помог мне победить. Хе! -- Сверкающий Посланник слышит меня! Я
слышу его трубу! Эй Коди, это та ра таратара тара -- это чувак с длинным
тромбоном который играет перед началом каждого забега. Ты врубаешься?"
Теперь у них с Коди полное согласие во всем. Я вдруг понимаю что
дождался того чего хотел -- теперь они друзья и все споры позади -- это
случилось -- теперь у каждого из них рассеялись все сомнения -- А что
касается меня, у меня все вызывает восхищение потому что два месяца я пробыл
в заточении под открытым небом и все происходящее радует и захватывает меня,
это мое снежное видение световых частиц проникающих в самую суть вещей,
проходящих сквозь все -- я чувствую Стену Пустоты -- И естественно я рад что
Коди с Рафаэлем подружились, ведь это так связано с тем ничто которое суть
все, и мне не нужно даже защищаться отсутствием суждения о Вещах вынесенным
Отсутствующим Судьей который создал этот мир не создавая ничего.
Не создавая ничего.
Коди высаживает нас в Чайнатауне, он весь светится желанием отправиться
домой и рассказать жене о том что выиграл, и мы с Рафаэлем идем в сумерках
пешком по Грант Стрит, потом нам в разные стороны, но сначала мы хотим
видеть чудовищное столпотворение Маркет Стрит. "Я понял что ты имел в виду
Джек когда хотел чтобы я увидел Коди на скачках. Это было очень здорово, мы
опять поедем туда в пятницу. Слушай! Я пишу новую великую поэму - " и вдруг
видит цыплят в ящиках внутри темной китайской лавки "смотри, смотри, они все
умрут!" Он останавливается на улице. "Как мог Бог создать мир таким?"
"Посмотри внутрь", говорю я показывая на коробки позади внутри которых
что-то белеется, "бьющиеся голуби -- все маленькие голуби умрут"
"Не нужен мне от Бога такой мир"
"Не могу тебя за это винить".
"Я серьезно, не хочу этого -- какая идиотская смерть!" показывая на
животных.
("Все существа содрогаются боясь страдания", сказал Будда.)
"Им перережут глотки над тазом", говорю я типично по-французски
пришепетывая, и Саймон тоже говорит странно с русским акцентом, мы оба
немножко заикаемся -- Рафаэль никогда не заикается --
Он открывает рот и выпаливает "Умрут все маленькие голубята, мои глаза
давно открыты. И мне не нравится и мне плевать -- Ох Джек", внезапно гримаса
искажает его лицо при виде этих птиц там в темной уличной лавке, я не знаю
случалось ли прежде чтобы кто-нибудь чуть не расплакался перед витриной
чайнатаунской мясной лавки, и кто бы еще мог сделать это, разве что
какой-нибудь тихий святой типа Дэвида Д`Анжели (с которым мы скоро
встретимся). И эта рафаэлевская гримаса почти заставляет расплакаться меня,
я все понимаю, я страдаю, все мы страдаем, люди умирают у нас на руках, это
невыносимо и все же надо двигаться дальше будто ничего такого не происходит,
правда? Правда, читающие это?
Бедняга Рафаэль, он видел как умер его отец в петле висельника, в
жужжащей суматохе его старого дома "Под потолком у нас сушились на
растянутых веревках красные перцы, моя мать прислонилась к обогревателю, моя
сестра сошла с ума" (так он рассказывал это сам) -- Над его юностью сияла
луна и теперь Смерть Голубей смотрит ему в лицо, вам в лицо, мне в лицо, но
милый Рафаэль хватит довольно -- Он просто маленький ребенок, я вижу это по
тому как иногда в середине разговора он выключается и вдруг засыпает,
оставьте младенца в покое, я старый охранитель этого собрания нежных
младенцев -- И Рафаэль будет спать под покровом ангельским и эта черная
смерть не станет частью его прошлого нет (предрекаю я) она будет ничем,
пустотой -- Ни предназнаменований, Рафаэль, ни слез? -- поэт должен плакать
-- "Эти маленькие зверьки, их головы будут отрублены птицами", говорит он --
"Птицами с длинными острыми клювами сверкающими на полуденном солнце"
"Да..."
"И старый Зинг-Твинг-Тонг живет в квартирке наверху и курит лучший
опиум мира -- лучший из опиумов Персии -- все его имущество это матрас на
полу, и портативное радио Трэвлер, и его писания под этим матрасом -- и
сан-францискский Кроникл описал бы это как притон бедности и порока"
"Ах Дулуоз, ты ненормальный"
(Раньше этим же днем Рафаэль сказал, после серии криков слов и махания
руками, "Джек, ты -- великий!" имея ввиду что я великий писатель, после того
как я сказал Ирвину что чувствую себя облаком потому что все лето наблюдал
их в Одиночестве и теперь стал облаком сам.)
"Я просто - "
"Я не хочу думать об этом, я иду домой чтобы лечь спать, я не хочу снов
о зарезанных свиньях и мертвых цыплятах в тазу - "
"Ты прав"
И мы быстро шагаем дальше прямо на Маркет. Там мы идем к кинотеатру
Монстр и для начала разглядываем афиши на стене "Это дурацкий фильм, я не
хочу на него", говорит Рафаэль. "Здесь нет настоящих чудовищ, нарисован
какой-то наряженный в костюм космический тип, а я хочу видеть чудовищных
динозавров и зверей других миров. Кому охота заплатить пятьдесят центов за
то чтобы посмотреть на парней с автоматами и приборами -- и девицу в
чудо-поясе нашпигованном всякими штуками[98]. Э, сваливаем отсюда. Я иду
домой". Мы ждем его автобуса и он уезжает. Завтра вечером мы встретимся на
званом обеде.
Я иду вниз по Третьей улице счастливый, сам не знаю почему -- Это был
замечательный день. И вечер не менее замечательный, и тоже непонятно почему.
Пружинящий тротуар раскручивается у меня под ногами. Я прохожу мимо старых
забегаловок с музыкальными ящиками куда я раньше захаживал чтобы поставить
на ящик[99] Лестера, выпить пивка и поболтать с чуваками, "Эй! Че ты тут
делаешь?" "С Нью-Йорка я", произнося это как Нью-Йак, "Из Яблока!" "Точно,
из Яблока" "Даун Сити!" "Даун Сити!" "Бибоп Сити!" "Бибоп Сити!" "Ага!" -- и
Лестер играет "В маленьком испанском городишке", ах какие ленивые деньки
проводил я на Третьей улице, сидя в солнечных переулочках и попивая вино --
иногда болтая -- все те же самые старые и самые чудные в Америке чудаки
хиляют мимо, с длинными белыми бородами и в рваных костюмах, таща маленькие
жалкие пакетики с лимонами -- Я прохожу мимо своей старой гостиницы, Камео,
где всю ночь стенают скид-роудские алкаши, их голоса слышны в темных
увешанных коврами холлах -- и все такое скрипучее -- во времена конца света
никому ни до чего нет дела -- там я писал большие поэмы на стене, что-то
вроде:
Увидеть можно лишь Священный Свет,
Услышать лишь Святую Тишину,
Почувствовать один Священный Запах,
Коснуться лишь Священной Пустоты,
Вкусить возможно только Мед Святой,
И мысль одна - Святой Экстаз...
в общем страшная глупость -- я не понимаю ночи -- я боюсь людей -- и я
иду вдоль по улице счастливый -- Заняться мне больше нечем -- И броди я
сейчас по своему дворику в горах, я был бы не менее чужим чем идя по
городской улице -- Или не более чужим -- Какая разница?
И тут еще старые часы и неоновая реклама на здании производящей
типографское оборудование фирмы напоминают мне отца и я говорю "Бедный Па" -
и действительно чувствую и вспоминаю его сейчас, будто он здесь, будто это
его влияние -- Хотя такое или сякое влияние, все это неважно, все это в
прошлом.
Саймона дома нет но Ирвин в постели, беспокойно-задумчивый, он тихо
беседует с Лазарусом сидящим на краю кровати напротив. Я захожу и открываю
широко окно в звездную ночь и забираю свой спальный мешок собираясь идти
спать.
"Чего это ты сидишь с кислой рожей, Ирвин?" спрашиваю я.
"Просто мне подумалось что Дональд с МакЛиром терпеть не могут нас. И
Рафаэль терпеть не может меня. И он не любит Саймона."
"Конечно он его любит -- не надо - " он перебивает меня громким стоном
и вздымает руки к потолку со своей растерзанной кровати: -
"Да на хрен все эти разборки! -"
Беспощадный раздор разделяет его братьев по крови, некоторые из них
были очень ему близки, некоторые менее, но что-то недоступное моему
аполитичному уму просачивается в мозг Ирвина. В его темных глазах тлеет
подозрение, и страх, и молчаливое возмущение. Он выпучивает глаза чтобы
выказать переполняющие его чувства, и на губах его появляется складка
уверенности в Пути. Он собирается сделать что-то что дорого обойдется его
нежному сердцу.
"Я не хочу всей этой свары!" кричит он.
"Правильно".
"Я просто хочу чтобы мы были ангелами" -- он часто говорит так, и так
он видит всех нас идущих плечом к плечу прямо в рай и никаких левых базаров.
"Плечом к плечу -- вот как это должно быть!"
И любые уступки оскорбляют его, пороча его Небеса -- Он видел бога
Молоха и всех остальных богов даже Бель-Мардука -- Ирвин вышел из Африки, из
самого центра ее, надув угрюмые губы, и дошел до Египта и Вавилона и Элама,
и создавал империи, настоящий Черный Семит, и одновременно Белый Хамит в
словах и суждениях своих -- В Вавилонской ночи видел он Молоха Ненавидящего.
На Юкатане видел он Богов Дождя мрачно сверкающих в свете керосиновой лампы
среди развалин поросших джунглями. Он задумчиво смотрит в пространство.
"Ну а я собираюсь отлично выспаться", говорю я. "У меня был отличный
денек -- мы с Рафаэлем сейчас видели трепещущих голубей" -- и я рассказываю
ему всю историю.
"И еще я немного позавидовал тебе что ты был облаком", серьезно говорит
Ирвин.
"Позавидовал? Ух ты! -- Гигантское облако, вот какой я, гигантское
облако, чуть сплющенное сбоку, сплошной пар -- во."
"Я тоже хотел бы стать гигантским облаком", кивает Ирвин совершенно
серьезно хоть раньше и посмеивался надо мной, теперь он совершенно серьезен
и хочет знать что будет когда все мы превратимся в гигантские облака, он
просто хочет знать это точно и заранее, вот и все.
"А ты рассказывал Лазарусу о зеленых рожах которые у тебя в окошке
появляются?" спрашиваю я, но я не знаю о чем они говорили раньше и иду
спать, и просыпаюсь в середине ночи на секунду чтобы увидеть Рафаэля который
заходит и ложится спать на пол, переворачиваюсь на другой бок и сплю дальше.
Блаженный отдых!
Утром Рафаэль спит на кровати и Ирвин уже ушел, но дома Саймон, сегодня
у него выходной, "Джек я пойду сегодня с тобой в Буддистскую Академию". Я
уже несколько дней туда собирался, и как-то сказал Саймону об этом.
"Ну да, но тебе там скучно будет. Лучше я пойду один".
"Не-а, я с тобой -- хочу добавить что-то к красоте этого мира" -
"И как же мы это сделаем?"
"Просто я буду делать все тоже самое что делаешь ты, помогать тебе, и
тогда я узнаю все о красоте и красота придаст мне сил". Абсолютно серьезно.
"Это чудесно, Саймон. Окей, хорошо, мы пойдем -- Пешком - "
"Нет! Нет! Там автобус! Там, видишь?" показывая куда-то пальцем,
прыгая, танцуя, пытаясь подражать Коди.
"Хорошо, хорошо, мы поедем на автобусе".
Рафаэль тоже спешит куда-то, так что мы быстро завтракаем и
причесываемся (и уходим), но сначала в ванной комнате я стою три минуты на
голове чтобы расслабиться и подлечить мои болезные сосуды, и мне все кажется
что кто-нибудь обязательно вломится в ванную и столкнет меня прямо в
раковину... в ванной Лазарус оставил замокать свои большущие рубашки.
Со мной часто так случается, что за восхитительным днем вроде
вчерашнего когда я прогуливался домой по Третьей улице, следует день
безысходного отчаяния, и все это потому лишь что я оказываюсь неспособен
оценить прекрасность нового великолепного дня, который тоже солнечный, и
небеса такого же синего цвета, и великодушный Саймон так хочет меня
развеселить, а я не могу радоваться этому всему, разве что потом, в
воспоминаниях своих -- Мы садимся на автобус до Палка и потом идем вверх по
Бродвейской горке по свежему воздуху среди цветов и Саймон пританцовывая
делится со мной своими теориями -- на самом-то деле я понимаю и принимаю все
что он говорит но почему-то все время мрачно твержу что это не имеет
никакого значения -- В конце концов я даже резко обрываю его: "Староват я
стал для этих юношеских восторгов, я уже этого накушался! -- Все то же
самое, опять и опять!"
"Но это все реально, это правда!" кричит Саймон. "Мир бесконечно
восхитителен! Если дать людям любовь, они ответят любовью! Я видел это сам!"
"Я знаю что это правда но мне все надоело"
"Но тебе не может все надоесть, если тебе все надоест то нам всем тоже
все надоест, а если нам всем все надоест и мы устанем и сдадимся, тогда весь
мир разрушится и умрет!"
"Так оно и должно случится"
"Нет! Должна быть жизнь!"
"Это одно и то же!"
"Ах маленький Джеки не говори глупостей, жизнь это жизнь и кровь и
толчки и щекотка" (и тычет меня пальцем под ребра чтобы доказать это)
"Видишь? Ты дергаешься, тебе щекотно, ты жизнь, в твоем мозгу есть живая
красота, в твоем сердце живая радость, в твоем теле живой оргазм, и тебе
надо просто не бояться этого. Не бойся! Все влюбленные должны выйти на улицу
плечом к плечу", и я понимаю что он разговаривает с Ирвином --
"Конечно ты прав но я устал", все же замечаю я.
"Нет! Проснись! Будь счастлив! Куда мы идем сейчас?"
"В Буддистскую Академию там на вершине горы, пойдем в подвал к Полу - "
Пол это такой большой светловолосый буддист, он работает в Академии
уборщиком, вечно улыбаясь он сидит у себя в подвальчике, а потом джазовым
вечером в ночном клубе Подвал он будет стоять с закрытыми глазами и
подпрыгивая в такт музыке, так он рад слышать джаз и безумную трепотню --
Затем он медленно разожжет свою большую солидную трубку и сквозь дым
поднимет большие серьезные глаза чтобы посмотреть прямо на тебя и улыбнуться
не выпуская трубки из зубов, отличный парень -- Он частенько бывал в хижине
на лошадиной горке и ночевал в старой заброшенной комнатке позади, со своим
спальником, и когда утром мы заваливались к нему всей толпой и предлагали
вина, он вставал, и пропускал с нами по стаканчику, но потом уходил на
прогулку среди цветов, задумчиво, и через какое-то время возвращался к нам с
новой идеей -- "Точно как ты говорил, Джек, чтобы коршун достиг просветления
ему нужен длинный хвост, и я вот что только что подумал, представь, я рыба -
плыву себе через бездорожье океана -- сплошная вода, ни дорог, ни
направлений, ни улиц -- и вот я плыву потому что махаю хвостом -- но голова
моя сама по себе, с хвостом у нее нет ничего общего -- и пока я" (он садится
на корточки и изображает это) "свободно виляю хвостом и махаю плавниками я
двигаюсь вперед ни о чем не беспокоясь -- Хвост меня несет а голова это
просто мысли -- мысли копошатся в голове пока хвост виляя несет меня вперед"
-- Длинное объяснение -- чудной тихий и серьезный чувак -- я собираюсь зайти
спросить про потерянную рукопись которая может оказаться у него в комнате,
потому что я оставил ее там в ящике для всех кому интересно, причем с такими
указаниями: "Если вы не понимаете это Писание, выбросьте его. Если вы
понимаете это Писание, выбросьте его. Я настаиваю на вашей свободе -- и тут
я понимаю, что возможно он так и поступил и начинаю поэтому смеяться, это
было бы так правильно -- Пол сначала был физиком, потом студентом
математики, потом студентом инженерного дела, потом философом, теперь он
буддист и поэтому у него нет никакой философии, но есть "просто мой рыбий
хвост".
"Теперь ты понимаешь?" говорит Саймон. "Какой сегодня прекрасный день?
Солнце повсюду сияет, куча красивых девушек на улице, что тебе еще надо?
Старина Джек!"
"Ладно Саймон, будем ангельскими пташками".
"Будь же ангельской пташкой прямо сейчас и хорош трепаться"
Мы подходим к подвальному входу в мрачное здание и заходим в комнату
Пола, дверь открыта нараспашку -- Никого нет дома -- Мы идем на кухню, там
большая цветная девушка которая говорит что она с Цейлона, очень милая и
красивая, хоть и немного полноватая --
"А ты буддистка?" спрашивает Саймон.
"Ну да, а то что бы я тут делала -- на следующей неделе еду назад на
Цейлон"
"Разве это не замечательно!" Саймон поглядывает на меня чтобы я ее
оценил -- Он хочет ее трахнуть, подняться в одну из спален общаги этого
религиозного заведения там наверху и трахать ее в постели -- мне кажется она
чувствует это как-то и вежливо его отшивает -- Мы спускаемся вниз в холл,
заглядываем в комнату и там на полу лежит юная индуска с ребенком, вокруг
куча книг и развешанных повсюду шалей -- Когда мы с ней заговариваем, она
даже не встает --
"Пол уехал в Чикаго" говорит она -- "Поищи свою рукопись у него в
комнате, может найдешь"
"Ого", говорит Саймон пялясь на нее.
"И еще можно спросить мистера Омса в конторе наверху"
На цыпочках мы возвращаемся в холл, немного хихикая, заходим в туалет,
причесываемся, болтаем, спускаемся опять в спальню Пола и ищем среди его
вещей -- Он оставил галонный кувшин бургундского и мы наливаем себе вино в
маленькие японские чайные чашечки, тонкие как печенье --
"Не разбить бы эти чашки"
Я разваливаюсь за половским столом чтобы нацарапать ему записку --
пытаюсь выдумать какие-нибудь смешные дзенские шуточки или таинственные
хайку --
"Это коврик для медитаций Пола -- дождливыми вечерами растопив печку и
все такие дела он сидит на нем глубоко задумавшись"
"И о чем он думает?"
"Ни о чем"
"Пошли наверх посмотрим чем они там занимаются. Давай Джек не сдавайся,
пойдем!"
"Пойдем куда?"
"Просто пойдем, не тормози - "
Саймон начинает вытанцовывать очередной безумный акт своей пьесы
"Саймон-в-Миру" зажимая картинно рот руками, скача на цыпочках, охая и
живописуя чудеса ждущие нас впереди, в Лесу Арденнском[100] -- Точно так как
когда-то я сам --
Угрюмая секретарша средних лет желает точно знать кто это хочет видеть
мистера Омса, и я начинаю злиться, ведь мне надо просто поговорить с ним не
заходя дальше дверей, я спускаюсь сердито вниз по лестнице, Саймон зовет
меня назад, женщина в недоумении, Саймон скачет вокруг нее будто это его
руки управляют мной и ею в придуманной им запутанной пьесе -- В конце концов
дверь открывается и из нее выходит Алекс Омс в отутюженном синем костюме,
весь такой джазово навороченный, с сигаретой во рту, и прищурившись
оглядывает нас, "А это вы" говорит он мне, "как ваши дела? Может зайдете?"
показывая на контору.
"Нет-нет, я просто хотел узнать, не оставлял ли Пол у вас рукопись,
мою, на хранение, или не знаете ли вы где - "
Саймон смотрит на нас, то на одного то на другого, с недоумением --
"Нет. К сожалению. Не видел. Может быть у него в комнате. Кстати",
говорит он исключительно дружелюбно, "не попадалась ли вам на глаза заметка
в нью-йоркском Таймс, про Ирвина Гардена -- о вас там прямо ничего не
сказано, но в целом она посвящена - "
"Да-да конечно я видел"
"Ну что ж, рад был опять с вами встретиться", говорит он в конце
концов, и смотрит, и Саймон кивает подбадривающе, и я говорю "И я тоже, до
встречи Алекс", и бегу вниз по лестнице, и там на улице Саймон кричит: -
"Ну почему ты не поднялся к нему, не пожал ему руку, не похлопал по
плечу, не стал ему другом -- почему вы поговорили друг с другом через
прихожую и разбежались в разные стороны?"
"Ну ведь нам не о чем было говорить?"
"Но ведь говорить можно о чем угодно, о цветах, о деревьях - "
Мы быстро идем по улице споря обо всем об этом, и в конце концов
усаживаемся на каменной изгороди под парковыми деревьями, у тротуара, и мимо
проходит какой-то господин с продуктовой сумкой в руке. "Давай расскажем об
этом всему миру, начиная вот с него! -- Эй мистер! Послушайте! Понимаете
этот человек буддист и может рассказать вам кучу всего про рай полный любви
и деревьев..." Человек бросает торопливый взгляд на нас и убыстряет шаг --
"Мы сидим тут под синим небом -- и никто не хочет слушать нас!"
"Это ничего, Саймон, они все уже итак знают."
"Тебе надо было зайти в контору Алекса Омса, и вы сели бы на стулья
напротив друг друга касаясь коленями и смеялись и болтали бы о старых
временах, а ты -- ты просто испугался - "
И я понимаю, что если мне доведется знать Саймона еще пять лет, то нам
придется вместе пройти через все те же давно знакомые мне вещи, через
которые я прошел уже будучи в его возрасте, но также я вижу что мне лучше
пройти через них опять чем отталкивать это -- И что мы используем одни слова
чтобы объяснять другие -- Кроме того я не хочу обламывать Саймона омрачая
его юношеский идеализм -- Саймона поддерживает его бескомпромиссная вера в
человеческое братство но долго ли это продлится пока другие вещи не затмят
ее... а вдруг никогда не затмят... И все же меня очень огорчает то что я
никак не могу попасть с ним в одну струю.
"Фрукты! Вот что нам надо!" предлагает он при виде фруктовой лавки --
мы покупаем канталупы[101], виноград и сплит[102] и идем дальше через
Бродвейский Туннель громко крича чтобы услышать эхо, чавкая виноградом,
обливаемся канталупьим соком и выбрасываем их потом -- Мы выходим прямо на
Норт Бич и направляемся в магазин Багель чтобы попытаться найти там Коди.
"Не сдавайся! Не сдавайся!" вопит Саймон у меня за спиной подталкивая
меня в спину пока спускаемся вниз по узкому пешеходному переулочку -- я же
поедаю виноградины одну за одной, чтобы не дать им пропасть.
И совсем скоро, выпив лишь кофейку, потому что уже совсем пора и даже
начинает быть поздновато, мы идем на званый обед к Розе Уайз Лэйзали где мы
должны встретиться с Ирвином, Рафаэлем и Лазарусом --
И все же мы опаздываем, заплутав в долгих поисках среди холмов, я все
время смеюсь шизовым комментариям Саймона, типа "Глянь-ка на этого пса -- у
него шрам от укуса на хвосте -- в какой-нибудь драке скрежещущие свирепые
зубы вцепились в него" -- "хороший урок -- теперь он знает что драться
нехорошо." А когда нам нужно было узнать дорогу у пары в спортивной Эм-Джи,
он спрашивает, "Как нам добраться до тяб-мяб как это будет Тебстертон?"
"А Хепперстон! Да. Вам надо проехать прямо и четыре квартала направо".
Представить себе не могу что это могло бы значить, прямо и четыре
квартала направо. Я ведь вроде Рэйни, который бродил с картой нарисованной
ему боссом из его пекарни, "иди на такую-то и такую-то улицу", и Рэйни
одетый в форменную одежку своей фирмы отправлялся куда глаза глядят, даже не
пытаясь понять куда его направили, так безнадежно -- (о Рэйни можно написать
целую книгу, мистер Каритас[103], как зовет его Дэвид Д`Анжели, которого мы
встретим вечером на отвязной вечеринке в богатом доме после поэтических
чтений - )
Вот наконец-то и дом, мы заходим, двери открывает сама хозяйка, какое
же у нее милое лицо, я люблю такие серьезные женские глаза влажно
поблескивающие и полные постельной неги даже в среднем возрасте, они выдают
любящую душу -- Мы заходим внутрь, Саймон начинает копировать меня, не
понять то ли насмешливо то ли с восхищением -- Проповедник Коди оттесняется
на второй план -- Какая милая женщина, в элегантных очках, кажется где-то у
нее в прическе виднеется тонкая ленточка, и вроде бы в серьгах, точно не
помню -- Очень элегантная леди живущая в великолепном старом доме в
сан-францискском фешенебельном квартале, на холмах покрытых густо-вязкой
листвой, среди живых изгородей из красных цветов и гранитных стен уводящих к
паркам заброшенных особняков Барбари Кост, которые теперь переделали в клубы
с развалинами и трескающейся штукатуркой, где богатые пьянчуги из ведущих
фирм Монтгомери Стрит греют свои зады у потрескивающего в больших очагах
огня и выпивка подвозится к ним на колесных столиках, на расстеленные ковры
-- Туман пробирается в дом, миссис Роза наверное иногда поеживается от
холода в тишине своего дома -- Ах, и что же она поделывает ночами, в своем
"блистательном исподнем", как сказал бы У.С. Филдс, должно быть
приподнимается на кровати услышав странный звук снизу, а потом откидывается
назад понимая что сегодня ночью судьба опять уготовила ей поражение --
"Внемли пенью колоколов церковных" слышится мне[104] -- Какая милая, и такая
грустная потому наверное что утром, услышав пение канарейки на своей
сверкающей желтой кухне, она знает что канарейка тоже умрет -- Она
напоминает мне мою тетушку Клементину но все же совсем на нее не похожа --
"Кого же она мне напоминает?" все спрашиваю я себя -- она напоминает мне
одну мою старую возлюбленную которая была у меня когда-то давно и не здесь
-- Нам уже доводилось проводить вместе приятные вечерочки, сопровождая их
(ее с приятельницей-поэтессой Бернис Уайлен) из Местечка, однажды одной
особенно безумной ночью когда какой-то пьяный дурень плюхнулся спиной на
пианино, сверху, выдувая из своей трубы громкие и четкие нью-орлеанские
риффы -- должен заметить очень даже неплохо, приятно услышать такую вот
музыкальную загогулину откуда-нибудь на улице -- И потом мы (Саймон, Ирвин и
я) потащили дам в безумный джазовый клубешник с красно-белыми скатертями на
столах, и с пивом, чудесно, там сейшенили совершенно отвязные чуваки (и ели
со мной пейотль потом) и один новый тип из Лас-Вегаса одетый чуть небрежно и
изысканно, отличные навороченные сандалии на ногах, такие носят в
Лас-Вегасе, специально для казино, он садится за установку и замачивает
сумасшедший ритм, его палочки летают по тарелкам и басы ухают и обрушиваются
звукопадами, и тут барабанщик приходит в такое исступление что начинает
откидываться назад, и чуть не падая мотает головой в такт ритму почти
задевая грудь сидящего сзади контрабасиста -- Роза Уайз Лэйзали узнала этот
мир вместе со мной, и еще были изысканные беседы в ее машине (цок-цок
Вашингтон Сквер Джеймс) и в конце концов я сделал одну вещь которую Роза, в
свои 56, может быть уже никогда не забудет: - после вечеринки, у нее дома,
ночью, я проводил ее лучшую подругу к автобусу в 2 1/2 кварталах
оттуда (недалеко от дома рафаэлевой Сони), в конце концов старая леди взяла
такси "Правда Джек", когда я вернулся, "как мило с вашей стороны быть таким
предупредительным к миссис Джеймс. Она одна из самых замечательнейших людей
которые вам когда-либо встречались!"
И теперь в дверях она приветствует нас: "Я так рада что вы смогли
придти!"
"Извините за опоздание -- мы сели не в тот автобус - "
"Я так рада, что вы смогли придти", повторяет она закрывая двери, и
поэтому я понимаю что наш приход означает для нее какую-то совершенно
невозможную ситуацию, и, как это не иронично, -- "Так рада что вы пришли",
повторяет она опять для убедительности, и я понимаю что это простая логика
маленькой девочки, повторяй милые красивости и тогда никто не посмеет
покоробить твою изысканность -- И на самом деле она действительно
поддерживает безобидную атмосферу на вечеринке которой иначе было бы не
избежать враждебных вибраций. Я вижу как смеется очарованный ею Джеффри
Дональд, и поэтому знаю что все в порядке, я захожу, сажусь, и все отлично.
Саймон садится на свое место, на губах его "оо" искреннего уважения. Лазарус
тоже здесь, улыбающийся почти как Мона Лиза, руки лежат по обе стороны от
тарелки в знак тщательного соблюдения приличий, большая салфетка на коленях.
Рафаэль развалился на стуле, периодически подцепляя кусочек ветчины вилкой,
его изящные руки лениво свисают, он как всегда громок, но иногда впадает в
полное молчание. Бородатый Ирвин серьезен но смеется про себя (от счастья
очарованности) что выдают поблескиванием его глаза. Они бегают от одного
лица к другому, большие серьезные коричневые глаза, и если ты начинаешь
смотреть прямо в них он начинает в ответ также неотрывно смотреть на тебя,
однажды мы с ним стали играть в гляделки и смотрели друг на друга минут 20
или 10 может, не помню, его глаза становились все безумней вылезая из орбит,
а мои все больше и больше уставали -- Глазастый Пророк --
Дональд очень утончен в своем сером костюме, смеется, рядом с ним
девушка в дорогом платье и говорит она о Венеции и ее туристских
достопримечательностях. Рядом со мной симпатичная молодая девушка которая
только-только приехала учиться в Сан-Франциско и поселилась в одной из
свободных комнат дома Розы, ага, и я тут же начинаю думать: "Может быть Роза
пригласила меня для того чтобы я с ней познакомился? Или она знала что все
поэты и Лазарусы неизбежно придут вместе со мной?" Девушка встает и начинает
подавать на стол, она помогает Розе, и мне это нравится, но она надевает
фартук, вроде фартука служанки, и это на какое-то время смущает меня в
глупой моей неотесанности.
Ах как же изящен и чудесен Дональд, Дудочник Ликующий, сидящий около
Розы и говорящий соответствующие случаю фразы, они настолько превосходны что
я не могу припомнить ни одной из них, но что-то вроде "Не краснее помидора,
смею я полагать", а когда все начинают смеяться он тоже внезапно весь прямо
обрушивается в смехе, как например когда я делаю свои опрометчивые faux
pas[105] принимаемые всеми за шутку, типа "Я всегда езжу на товарняках."
"Да кому это надо, ездить на товарняках!" -- Грегори[106] -- "Я не
врубаюсь зачем тебе нужно все это дерьмо когда ты катаешься на товарняках и
докуриваешь бычки напополам с бомжами -- Зачем ты все это делаешь, Дулуоз!"
-- "Правда, без шуток!"
"Но это же первоклассный товарняк!" и все хохочут, и я смотрю на
давящегося от смеха Ирвина и говорю ему: "Так оно и есть, Полуночный Призрак
действительно первоклассный товарняк, идет без единой остановки до самого
конца", Ирвин это и так уже знает из наших с Коди рассказов о железной
дороге -- но смех этот такой искренний, что я утешаюсь сказанным в Дао
воспоминаний моих, "Мудрец заставляющий людей смеяться над собой драгоценней
источника воды в пустыне". Так что я припадаю к своему источнику, мерцающему
небосводу винного бокала, и заполняю его вином (красным бургундским)
кувшинчик за кувшинчиком. Наверное нехорошо так горестно и вопиюще
напиваться -- но все вокруг начинают мне подражать -- и на самом-то деле
сначала я всегда заполняю хозяйкин бокал - Как принято в Риме[107], говорю я
в таких случаях --
Разговор идет в основном на тему как мы будем делать революцию. И я
вношу свой маленький вклад сказав Розе: "Я читал о вас в нью-йоркской Таймс,
там было написано что вы муза-вдохновитель сан-францискского поэтического
движения -- Так ведь оно и есть, правда?" и она подмигивает мне. Меня так и
подмывает добавить "Противная девчонка", но мне неохота выпендриваться,
сейчас один из тех прекрасных расслабленных вечеров когда меня радует все,
хорошая еда, хорошее вино и хорошая беседа, что еще надо нищему попрошайке.
Поэтому тему подхватывают Рафаэль с Ирвином: "Мы выйдем наружу! Мы
скинем наши одежды и будем читать стихи!"
Они орут все это сидя здесь, у Розы, за вполне благопристойным столом,
но кажется все проходит естественно, я смотрю на Розу и она опять
подмигивает мне, Ах она знает меня -- Когда (слава Богу) Роза отходит к
телефону, а остальные одевают свои пальто в прихожей, за столом остаемся
только мы, и Рафаэль кричит "Мы должны вот что, мы должны открыть им глаза,
мы должны бом-бар-дировать их! Бомбами! Мы должны сделать это, Ирвин, извини
-- это правда -- все это слишком правда" и вот он встает снимая штаны прямо
у этой кружевной скатерти. Он стаскивает их уже до коленей но это всего лишь
шутка, и он быстренько застегивается обратно когда возвращается Роза:
"Мальчики, нам нужно спешить! Чтения скоро уже начнутся!"
"Мы поедем в нескольких машинах!" говорит она.
И я, смеявшийся до того без удержу, спешу прикончить свою ветчину,
вино, и поговорить с девушкой молча вытирающей тарелки --
"Мы там тоже разденемся и журнал Тайм снимет нас! Это настоящая победа!
Понимаешь!"
"Я буду мастурбировать прямо перед ними!" кричит Саймон, колотя по
столу, с большими серьезными как у Ленина глазами.
Лазарус жадно наклонился вперед со своего стула, он хочет все это
слышать, но одновременно то барабанит по своему стулу то раскачивается, Роза
стоит и разглядывает нас утихомиривая "тс-тс" но тут же подмигивает и
прощает все -- вот такая вот она -- Все эти безумные поэты едят и вопят в ее
доме, слава Богу они не привели с собой Ронни Воришку, он бы вынес все
столовое серебро -- и он тоже поэт --
"Давайте начнем революцию против меня!" кричу я.
"Мы начнем революцию против Фомы Неверующего! Мы создадим райские сады
в странах нашей империи! Мы переполошим весь средний класс Америки
обнаженными младенцами прорастающими сквозь земной шар!"
"Мы будем размахивать своими штанами с носилок!" вопит Ирвин.
"Мы закидаем младенцами весь Китай![108]" кричу я.
"Это неплохо", говорит Ирвин.
"Мы будем гавкать на бешеных собак!" торжествующе кричит Рафаэль.
Ба-бах по столу. "Это будет - "
"Мы будем подбрасывать младенцев в воздух пиная их ногами", говорит
Саймон глядя прямо на меня.
"Младенцы, да какие к черту младенцы, мы будем подобны смерти, мы
встанем на колени и напьемся из беззвучных потоков" (Рафаэль).
"Ух ты".
"Это еще что значит?"
Рафаэль пожимает плечами. Он открывает рот: - "Мы забьем молотки им в
глотки! Огненные молотки! Это будут молотки из чистого пламени! И они будут
колотить и колотить их по мозгам!" И он так сказал это мозгам что мы
потонули в этом звуке, такое чудное гудящее "ммм"... тягучее, убежденное
"ммм"... "мозгам-ммм.."
"А когда я стану капитаном космического корабля?" спрашивает Лазарус,
вот что ему нужно из всей этой нашей революции.
"Лазарус! Вместо мотора мы дадим тебе воображаемых золотых черепашьих
голубей! Мы сожжем чучело святого Франциска! Мы убьем всех младенцев в
собственных мозгах! Мы будем лить вино в глотки дохлым лошадям!!! Мы
притащим парашюты на поэтические чтения!"
(Ирвин держится за голову).
Это просто попытки передать то что они на самом деле говорят --
Нас распирает от восторга, и вот Ирвин выкрикивает: "Мы заставим их
показывать дырки наших задниц на экранах Голливуда!"
Или вот я добавляю: "И станем популярнее всяких нехороших бандитов!"
Или Саймон: "И покажем им золотые мозги наших членов!"
Так вот они говорят -- Коди сказал как-то: "Когда мы придем на Небеса,
нас поведут за руку те кому мы помогли".
Протекай сквозь все как протекла полыхнувшая молния, и пусть ничто тебя
не тревожит --
Мы забиваемся в две машины, Дональд спереди за рулем той в которой я, и
отправляемся на поэтические чтения которыми я лично не собираюсь насладиться
или вернее сказать не собираюсь терпеть, я уже придумал (вино и все такие
дела) как улизну в бар и встречу всех позже -- "Кто этот Меррилл Рэндэлл?"
спрашиваю я -- про поэта который собирается сегодня зачитывать свои
творения.
"Такой тонкий и изящный, в очках в роговой оправе и всегда в
каком-нибудь красивом галстуке, ты его видел в Нью-Йорке, в Ремо, но не
помнишь", говорит Ирвин. "Из Хартцджоновской тусовки - "
Тонкие чайные чашечки -- может и интересно было бы послушать как у него
катит спонтанное стихосложение, но я не смогу усидеть слушая эту продукцию
его печатной машинки, наверняка это очередная попытка подражания
какому-нибудь из лучших поэтов современности, ну в крайнем случае будет
что-то приближающееся к этому уровню -- нет, лучше я буду выслушивать новые
рафаэлевы словесные бомбы, а больше всего на самом-то деле мне хотелось бы
услышать поэму написанную Лазарусом --
Роза медленно и внимательно пробирается сквозь сан-францискские потоки
транспорта, и я не могу удержаться от мысли "Если бы за рулем был старина
Коди то мы успели бы уже за это время смотаться туда и обратно" -- Забавно
что сам Коди никогда не ходит на поэтические чтения или другие подобные
формальности, только однажды он пришел как-то, в честь первого чтения стихов
Ирвина, и когда тот проревел свое последнее стихотворение и в зале
воцарилась полная тишина, то именно Коди, одетый в свой воскресный костюм,
подошел и пожал руку поэту (своему братишке Ирвину, с которым он мотался
автостопом через все Техасы и Апокалипсисы 1947 года) -- я всегда вспоминаю
это как символичный и прекрасный скромный акт дружбы и хорошего вкуса --
Стиснутые в машине коленями и висящие вниз головой мы заинтересованно вертим
головами, пока Роза пытается припарковать свою машину в узкий пустой проем
-- "Окей, окей, еще чуток, подверните колесо". И она кивает "ну да конечно -
" и мне хочется сказать "Ах Рози ну почему ж ты не осталась дома есть
шоколадные конфеты и читать Босуэлла, вся эта светская жизнь не принесет
тебе ничего хорошего, только новые морщины беспокойства на твоем лице -- а
светская улыбка это просто обнаженная полоска зубов."
Но зал чтений уже забит прибывшими заранее, уже тут и
девушка-билетерша, и программки, и мы садимся в кружок разговаривая, и в
конце мы с Ирвином сваливаем купить четверть галлона сотерна чтобы
подразвязались языки -- А вообще тут вполне мило, Дональд уже здесь, он
один, девушка уехала куда-то, и он оживленно болтает отпуская маленькие
забавные шуточки -- Лазарус стоит где-то позади, и я пристраиваюсь с
бутылочкой -- Роза привезла нас сюда и теперь ее работа закончена, она
заходит и садится в зале, она была Матерью везущей на Небеса Повозку, полную
ее маленьких детей которые не верят что в доме приключился пожар --
Больше всего лично меня интересует то что после должна состояться
вечеринка в большом доме, и с большой чашей пунша, но вот внутрь заходит
Дэвид Д`Анжели, скользящей арабской походкой, улыбаясь, с очаровательной
француженкой по имени Иветта под руку, и О он похож на какого-нибудь
изящного прустовского героя, Священник, если Коди Проповедник то Дэвид
Священник, но у него всегда найдется какая-нибудь красотка в запасе, и я
уверен что Дэвида от принятия Пострига в каком-нибудь Католическом монастыре
останавливает только то что он может захотеть жениться опять (он уже был
женат однажды), и растить детей -- из всех нас Дэвид самый красивый мужчина,
у него идеальные черты лица, как у Тирона Пауэра, но более тонкие и
таинственные, и он говорит с таким странным акцентом, что я и не знаю даже
где он мог его подцепить -- Наверное так выглядел бы араб выпускник
Оксфорда, в Дэвиде есть что-то несомненно арабское, или арамейское (или
карфагенское, как у Святого Августина) хотя на самом-то деле он сын
покойного зажиточного итальянского торговца, и мать его живет в прекрасной
квартире с роскошной мебелью красного дерева, и серебром, и кладовкой
забитой итальянской ветчиной, сыром и вином -- все домашнее -- Дэвид он как
святой, он и выглядит как святой, он один из тех изумительных людей которые
в юности пытались перепробовать все виды порока ("Попробуй-ка эти таблетки",
сказал он Коди при первой встрече, "это просто окончательный оттяг", так что
Коди так и не осмелился их пробовать) -- И вот сегодня Дэвид возлежит на
кровати покрытой белым мохнатым покрывалом, с черной кошечкой, читая
Египетскую Книгу Мертвых и передавая косяки по кругу, и разговаривает очень
странно "Но как это чуу-ууудненько, ну праа-ааавда же" примерно говорит он,
но когда "Ангел выбил у него почву из под ног" и ему открылось видение
писаний Отцов Церкви, всех одновременно, ему было приказано вернуться к
католической вере своих отцов, так что теперь из изысканного и чуть
декадентствующего поэта-хипстера он превратился в изумительного Святого
Августина отдавшего все пороки юности своей Видению Креста -- Через месяц он
уходит в траппистский монастырь на послушание -- Дома перед причастием он
врубает пластинки Габриэлли на полную громкость -- Он доброжелательный,
аккуратный, остроумный, любит все подробно разъяснять, и его не устаивают
простые ответы -- "Весь этот твой буддизм это просто отголоски манихейства,
Дже-еек, посмотри этому факту в лицо -- в конце концоув ты же был окрещен и
говорить тут нэ о чем, понимаешь", и он поднимает изящно свою тонкую белую и
нежную руку священника -- И все же скользящей походкой своей он пришел
сегодня на эти поэтические чтения, весь такой изысканный, прошел даже слух
что он решил повременить с обращением и теперь вежливо замалчивает все
вопросы на эту тему, и поэтому для него вполне естественно придти под руку с
этакой великолепной Иветтой, и так идеально и со вкусом одетым в простой
костюм с простым галстуком, и с этим свежевыстриженным ежиком придающим его
миловидному лицу зрелый, возмужалый вид, так что за один год его лицо стало
из юношески красивого красивым мужской красотой, и посерьезнело вдобавок --
"О да ты на вид как-то возмужал, братец!" первое, что я говорю ему.
"Что ты имеешь в виду, возмужал!" кричит он, топая ногой и смеясь -- Ах
как же он двигается этими своими арабскими скользящими движениями, и
здороваясь он будто бы преподносит вам свою мягкую белую искреннюю и кроткую
руку -- но стоит ему начать говорить я не могу удержаться от хохота, он
действительно очень смешной, его улыбка держится на лице дольше любых
разумных границ, и ты начинаешь понимать что сама по себе эта улыбка это
такая тонкая шутка (большая шутка), и он считает что ты ее поймешь и
продолжает излучать из маски своего лица белое безумие до тех пор пока тебе
не останется только услышать слова его внутреннего языка которые он не
произносит вслух (и они без сомнения тоже смешные), и из-за всего этого мне
не удержаться никак -- "Над чем это ты смеешься, Джеее-ек!" взывает он. Он
растягивает гласные так что его речь приобретает какой-то совершенно
отдельный акцент состоящий из (естественно) американо-итальянского, второго
поколения, произношения, но с сильным британским налетом на основе
средиземноморской элегантности которые вместе создают такую прекрасную и
странную разновидность английского языка которую я нигде еще не встречал --
Дэвид Благотворящий, Дэвид Любезный, носивший (по моему настоянию) мое пончо
с капюшоном в нашем домике, и он вышел в нем ночью чтобы помедитировать под
деревьями, быть может он молился стоя на коленях, и когда он вернулся в
домик где я сидел и читал "манихейские" сутры, он снял свой капюшон только
тогда когда я посмотрел как он ему идет, и выглядел он как настоящий монах
-- Дэвид, с которым как-то воскресным утром мы вместе пошли в церковь, и
после причастия он прошел по проходу между рядами с облаткой тающей под
языком, глаза набожно и немного насмешливо, но по крайней мере вовлеченно уж
точно, опущены долу, руки сложены так чтобы все женщины могли это видеть,
образцово-показательный священник -- Все постоянно говорят ему: "Дэвид
напиши исповедь своей жизни как сделал Св. Августин!" и это его забавляет:
"Ну не знаа-ааю!" смеется он -- Но это потому что всем известно что он
отвязный джазовый чувак который побывал черт знает где и теперь направляется
на небеса, в этом нет земной корысти, и все действительно чувствуют что ему
известно что-то что было позабыто или замолчено в опыте Св. Августина,
Франциска Лойолы и других -- Сейчас он пожимает мне руку, представляет
синеглазой изумительной красотке Иветте, и присаживается со мной чтобы
пропустить стаканчик сотерна --
"И чем ты сейчас занимаешься?" смеется он.
"Ты придешь потом на вечеринку? -- хорошо -- я сваливаю и иду в бар - "
"Ну так не напейся там!" смеется он, он всегда смеется, когда они с
Ирвином собираются вдвоем, взрывы хохота следуют один за другим, они
обмениваются эзотерическими мистериями под общей византийской крышей своих
пустых голов -- одна частичка мозаики за другой, атомы пусты -- "Столы
пусты, и все ушли", напеваю я, на мотив синатровской "Ты учишься петь блюз"
-
"О опять эта чепуха насчет пустоты", смеется Дэвид. "Правда, Джек, я
ожидал от тебя лучшего применения твоего опыта чем все эти буддистские
негативности - "
"О я больше не буддист -- я больше ничто!" кричу я, и он смеется и
похлопывает меня по плечу. Он мне говорил уже раньше: "Ты был крещен,
таинство воды коснулось тебя, благодари же Господа за это - " ... "иначе я
не знаю что с тобой могло бы случиться" -- У Дэвида есть теория, или вера,
что "Христос рванулся к нам с Небес чтобы принести избавление" и что простые
правила принесенные нам Св. Павлом прекрасны как золото, поскольку они
зародились в Эпоху Христа, Сына посланного Отцом чтобы открыть нам глаза,
высочайшим жертвоприношением Его жизни -- Но когда я говорю ему что Будде не
потребовалась кровавая смерть, он просто сидел объятый тихим восторгом под
Деревом Бесконечности, "Но Джее-еек, в этом нет ничего выходящего из порядка
вещей" - Все происходящее кроме явления Христа не выходит из порядка вещей,
согласно заповедям Высшего Порядка -- Часто я даже побаивался повстречать
Дэвида, так он затрахал мне мозги своими восторженными, страстными и
блестящими излияниями Вселенской Правоверности -- Он бывал в Мексике и
бродил среди соборов, дружил с монахами в монастырях -- А еще Дэвид поэт,
странный изысканный поэт, некоторые из его стихов написанных до обращения
(задолго до) были причудливыми пейотлевыми видениями и тому подобное --
ничего круче этого я не встречал -- Но мне никак не удавалось свести вместе
Дэвида и Коди чтобы они поговорили о Христе --
Чтения уже в самом разгаре, поэт Меррил Рэндэлл раскладывает на столе
свои рукописи, так что когда мы приканчиваем четвертушку в туалете я шепчу
на ухо Ирвину что иду в бар, и Саймон шепчет "И я с тобой!", так что в конце
концов Ирвин тоже хочет идти но ему нужно оставаться и проявлять вежливый
поэтический интерес -- А Рафаэль уже удобно уселся, он готов слушать и
говорит: -
"Да знаю я что это голяк, хочется просто послушать чего-нибудь
новенького", старина Рафаэль, так что мы с Саймоном спешим к выходу, ведь
Рэндэлл уже начал свои первые строчки:
"Двенадцатиперстная пучина вынесшая меня на самый край
Пожирает мою плоть"
и тому подобное, я слышу несколько строчек и больше слушать мне не
хочется потому что в этом мне видится лишь ремесленное усердие тщательно
выстроенных мыслей, а вовсе не свободные и необузданные мысли как они есть,
врубаешься - Хотя сам я в те дни не осмелился бы встать там и прочесть даже
Алмазную Сутру.
Мы с Саймоном чудесным образом находим бар где за стойкой сидят как раз
две девушки и ждут пока их кто-нибудь подцепит, и в центре помещения
какой-то парень поет и играет джаз на пианино, и человек тридцать народу
болтаются попивая пивко -- Мы тотчас подсаживаемся к девушкам, после
недолгого вступления, но я сразу же понимаю что ни я ни Саймон не вызывают у
них особой симпатии, и кроме того мне хочется слушать джаз а не их нытье, в
нем есть что-то свежее, и я подхожу и становлюсь около пианино -- Этого
парня я видел раньше по телевизору (в Фриско), он потрясающе наивно и
восторженно играл на гитаре, пел и вопил пританцовывая, но сейчас он потише
и пытается подзаработать себе на жизнь на пианино в баре -- По телевизору он
напомнил мне Коди, юного Коди-музыканта со своей гитарой времен Полуночного
Призрака (чук чугалук чукчук чугалук), я услышал старую поэзию Дороги и
увидел веру и любовь на его лице - Теперь он выглядит так будто город в
конце концов его доконал и отстраненно перебирает несколько мелодий -- В
конце концов я начинаю тихонько подпевать и он начинает наигрывать "Тревоги
позади" и просит спеть, я пою, негромко и расслабленно, немножечко подражая
Джун Кристи, я думаю будущее за этой манерой мужского джазового пения, такое
слегка неразборчивое, свободное расслабленное пение -- горестное Одиночество
Голливудских Бульваров -- А в это время несдающийся Саймон продолжает клеить
девушек -- "Поехали все ко мне..."
Так мы оттягиваемся, и время летит, и вдруг заходит Ирвин, как всегда
пронзительно глядя своими большими глазами, как призрак, каким-то образом он
вычислил что мы будем именно в этом кабаке (в нескольких кварталах), от него
не скроешься, "Ах вот вы где, а у нас чтения закончились, мы все едем на
большую вечеринку, чем вы тут занимаетесь?" и позади него стоит ни кто иной
как Лазарус --
На вечеринке Лазарус изумляет меня -- Она проходит где-то в обычного
вида особнячке, где есть обшитая деревом библиотека с пианино и легкими
стульями, большая комната с подсвечниками и ароматическими маслами, камин
облицованный кремовым мрамором, подставка для дров чистейшей меди, громадная
пуншевая чаша и бумажные стаканчики на столе -- И во всей этой крикливой
суматохе всех коктейлевых вечеринок Лазарус, полностью погруженный в себя,
разглядывает в библиотеке масляный портрет четырнадцатилетней девочки и
спрашивает изящных гомиков пасущихся около него, "Кто это, где она? Могу я с
ней встретиться?"
А Рафаэль сутулится на диванчике и выкрикивает свои стихи, "Будда-рыба"
и т.п. которые достает из кармана пальто -- я мечусь от Иветты к Дэвиду к
другой девушке и опять к Иветте, потом опять появляется Пенни, в
сопровождении художника Левескье, и вечеринка становится еще шумней -- я
даже немного поболтал с поэтом Рэндэллом, на всякие нью-йоркские темы -- в
конце концов я опоражниваю пуншевую чашу в свой стакан, грандиозная задача
-- Лазарус поражает меня также тем как классно он умудряется протекать
сквозь эту ночь, стоит обернуться и тут же видишь его, с выпивкой в руке,
улыбающегося, но он не пьян и не говорит ни слова --
Разговоры на таких вечеринках сливаются в чудовищный гвалт растущий к
потолку, будто слова сталкиваются и грохочут там, и если закрыть глаза и
вслушаться то услышишь "уоррх уоорх хлоп", и каждый пытается переговорить
общий фон, рискуя что слова скоро станут совсем неразличимыми, в конце
концов становится даже еще громче, выпивки становится все больше и больше,
закуска уничтожена, пунш растекается по жадным болтливым языкам, и в конце
концов все перерастает в один сплошной праздник крика, и как всегда бывает
хозяин начинает беспокоиться о соседях и последний час проводится им в
вежливых попытках загасить вечеринку -- И как всегда остается несколько
громких припозднившихся гостей, т.е. нас -- последние гости обычно мягко
выставляются вон -- в моем случае, я иду к пуншевой чаше чтобы опрокинуть ее
в свой стакан, но лучший друг хозяина мягко вынимает чашу из моей руки,
говоря "Она уже пустая -- к тому же вечеринка закончилась" -- и в последней
ужасной картине представления вы видите богемного художника набивающего
карманы бесплатными сигаретами которые были щедро выставлены в открытых
коробках тикового дерева -- Это делает Левескье, с порочным взглядом искоса,
художник без гроша в кармане, безумец, его голова острижена почти наголо, и
покрыта ссадинами и ушибами там где он приложился ею падая пьяным прошлой
ночью -- И все же лучший художник в Сан-Франциско --
Хозяева кивают нам и для верности ведут по дорожке в саду -- и мы
вываливаемся галдя, пьяная поющая толпа состоящая из: Рафаэля, меня, Ирвина,
Саймона, Лазаруса, Дэвида Д`Анжели, художника Левескье. Ночь только
начинается.
Мы сидим на бордюре тротуара и Рафаэль усаживается на дороге лицом к
нам и начинает болтать и махать руками в воздухе -- Некоторые из нас тоже
садятся скрестив ноги -- То что он говорит длинно и полно пьяного торжества,
мы все пьяны, но в его словах чисто рафаэлевский трепещуще-чистый восторг,
но тут появляются копы, подгоняют патрульную машину. Я встаю и говорю
"Пойдемте, мы слишком шумим" и все идут вслед за мной, но копы подходят к
нам и хотят знать кто мы такие.
"Мы только что вышли с большой вечеринки неподалеку"
"Вы тут подняли слишком много шума -- К нам уже было три звонка от
соседей".
"Мы уходим", говорю я и начинаю уходить, и кроме того копы теперь
разглядели большого бородатого Авраама Ирвина и обходительного приличного
Дэвида и безумного величавого художника, а потом они еще видят и Лазаруса с
Саймоном и решают что в участке будет слишком много народа, и уж точно так
оно и было бы -- я хотел бы научить моих бхикку избегать властей, так
написано в Дао-Де-Дзин, другого пути нет -- Есть лишь прямой путь, прямо
сквозь --
Теперь мы хозяева этого мира, мы покупаем вино на Маркет-стрит,
запрыгиваем в-восьмером в автобус и пьем на задних сиденьях, выходим, идем
улицами прямо посередине и громко горланим длинные бесконечные беседы --
Забираемся в гору по длинной дорожке и залезаем на вершину на поросшую
травой площадку обозрения над огнями Фриско -- Садимся на траву и пьем вино
-- Разговаривая -- Затем вверх, домой, дом с двориком, большой hi-fi
электромагнитный о-го-го здоровенный проигрыватель и они ставят на полную
громкость органные мессы -- художник Левескье падает и ему кажется что
Саймон ударил его, он идет к нам плача об этом, я тоже начинаю плакать
потому что Саймон мог кого-то ударить, все заполняется этой пьяной
сентиментальностью, в конце концов Дэвид уходит -- Но ведь Лазарус "видел
это", видел как Левескье упал и ушибся, и на следующее утро оказывается что
никто никого не бил -- Немного дурацкий вечерок но наполненный ликованием
хотя конечно же это ликование пьяное.
Утром Левескье выходит с блокнотом в руках и я говорю ему, "Никто тебя
не бил!"
"Что ж рад слышать это" мычит он -- однажды я сказал ему "Наверное ты
мой брат который умер в 1926 году, он был прекрасным художником и
рисовальщиком в девять лет, а ты когда родился?" но теперь я понимаю что это
совсем другой человек -- и если это так то Карма промахнулась. Левескье
очень серьезный, у него большие голубые глаза, он всегда рад помочь и очень
скромный, но он может внезапно у тебя на глазах начать безумствовать,
пуститься на улице в сумасшедший пляс, пугающий меня. И еще иногда он
смеется "Мммм хи хи ха ха" и маячит у тебя за спиной...
Я листаю его блокнот, сижу на крылечке глядя на город, такой вот тихий
денек, мы сидим и набрасываем всякие рисунки (я делаю зарисовку спящего
Рафаэля, Левескье говорит "О, вылитый Рафаэль!") -- Потом мы с Лазарусом
рисуем смешные привиденческие картинки. Хотелось бы мне опять их увидеть,
особенно причудливые очертания лазарусовских духов которые он рисует сияя
растерянной улыбкой... Затем, Боже мой, затем мы покупаем свиные отбивные,
скупаем пол-лавки, и мы с Рафаэлем разговариваем про Джеймса Дина перед
киноафишей. "Что за некрофилия!" восклицает он имея ввиду то как девушки
восторгаются умершим актером, но не тем кем он был на самом деле, на самом
же деле -- Мы жарим отбивные на кухне и уже темнеет. Мы прогуливаемся
недалеко, на ту же странную поросшую травой каменистую площадку на вершине
горы, и когда мы возвращаемся назад Рафаэль вышагивает в лунной ночи как
укурившийся опиумом китаец, натянув рукава на руки и повесив голову, так вот
он и топает, темный и причудливый, сутулящийся и печальноокий, он поднимает
глаза и оглядывает окрестности, он выглядит затерявшимся как маленький
Ричард Бартельмесс со старых лондонских картин изображающих курильщиков
опиума под светом уличных фонарей, он переходит из света фонаря во тьму и
опять в свет -- засунув руки в рукава угрюмый и сицилийский, Левескье
говорит мне "О я хотел бы написать картину с ним бредущим вот так вот."
"Сделай вначале карандашный набросок", говоря я, потому что весь
прошедший день я делал неудачные попытки рисовать его чернилами --
Мы входим в дом и я иду спать, залезая в свой спальник, окна открыты
настежь к прохладным звездам -- И засыпаю со своим крестом на шее.
Утром "я, Саймон и Рафаэль" идем пешком знойным утром через большие
цементные заводы, и чугунолитейные заводы и мастерские, мне охота пройтись и
показать им всякую всячину -- Сперва они начинают ныть но потом
заинтересовываются большими электромагнитами которые поднимают груды
прессованного металлолома и сваливают их в бункера, блямм, "одним поворотом
переключателя ток вырывается наружу, высвобождается сила и эта масса
падает", объясняю я им. "И масса эквивалентна энергии -- а масса плюс
энергия эквивалентны пустоте"
"Ага, но глянь на эту хренову шту-ко-ви-ну", говорит Саймон, открыв
рот.
"Она прекрасна!" кричит Рафаэль тыча в меня кулаком. --
Мы двигаемся дальше -- Мы хотим пойти поискать Коди на железнодорожной
станции -- Мы проходим мимо раздевалки железнодорожников, и я даже захожу
проверить нет ли мне какой почты оставшейся с тех пор два года назад когда я
работал здесь тормозным кондуктором, и потом сваливаем чтобы встретиться с
Коди на Побережье -- в кафеюшнике -- Остаток пути мы проезжаем на автобусе
-- Рафаэль занимает заднее сиденье и начинает громко говорить, как настоящий
маньяк, он хочет, раз уже ему приспичило поговорить, то уж так чтоб его
слышал весь автобус -- А в это время Саймон размышляет над только что
купленным бананом, он хочет знать такие ли у нас большие как этот.
"Еще больше", говорит Рафаэль.
"Больше?" кричит Саймон.
"Именно"
Саймон принимает к сведению эту информацию как серьезный материал для
дальнейших изысканий, мне видно как он шевелит губами подсчитывая --
И точно вот он Коди, на дороге, разгоняющий свой маленький седан на
крутой подъем делая 40 миль в час чтобы внезапно развернуться, втиснуть
машину на обочину и выпрыгнуть из нее -- открыв дверь он высовывает свое
большое красное лицо проорав несколько фраз для нас чуваков, и одновременно
предупреждая этим встречных водителей --
И мы мчимся на квартиру прекрасной девушки, прекрасную квартиру, у нее
короткая стрижка, она в постели, под одеялами, болеет, у нее большие
печальные глаза, она просит сделать погромче Синатру на вертушке, у нее там
крутится целый его альбом -- Да, можно взять ее машину -- Рафаэль хочет
перевезти свои вещи от Сони на новую квартиру, туда где была органная музыка
и плакал Левескье, окей, машина Коди слишком мала для этого -- И затем мы
помчимся на скачки --
"Нет, на скачки машину не дам!" -- кричит она --
"Ладно - " "Мы вернемся назад" -- Какое-то время мы толпимся вокруг нее
в восхищении, присаживаемся ненадолго, и возникают даже какие-то непонятные
долгие паузы во время которых она поворачивается и начинает разглядывать
нас, и в конце концов говорит:
"Что это вы чуваки тут" -- "как бы"- вдыхая -- "Ого", говорит она --
"Расслабьтесь" -- "Серьезно говорю, да?" -- "Типа, да?"
Ага, мы соглашаемся, нам всем вместе тут ничего не светит так что мы
отправляемся на скачки, но рафаэлевский переезд занимает столько времени что
в конце концов Коди начинает понимать что нам опять не успеть на первый
заезд -- "Я опять пропущу двойную дневную!" отчаянно вопит он -- широко
открывая рот так что видны зубы -- он это вполне серьезно --
Рафаэль разыскивает всяческие свои носки и шмотки и Соня говорит,
"Послушайте, я не хочу чтобы все тетки в доме знали про мою жизнь -- я тут
живу, поймите - "
"Конечно", говорю я, и добавляю про себя: очень серьезная девчушка и
очень серьезно влюблена -- У нее уже появился новый приятель и это именно
она и хочет сказать -- мы с Саймоном берем большие коробки с пластинками и
книжками и тащим их вниз к машине где Коди сидит и злится --
"Эй Коди", говорю я, "подымайся с нами посмотришь на красотку - " Он не
хочет -- и в конце концов я говорю "Нам нужна твоя помощь чтобы оттащить все
это барахло" тогда он идет, но когда все улаживается и мы сидим в машине
готовые ехать и Рафаэль говорит: "Ха! Ну и дела!" Коди фыркает:
"Хм, помощь"
Нам надо ехать на новую квартиру и там я впервые замечаю прекрасное
пианино. Хозяин, Эрман, еще даже не вставал. Левескье тоже живет здесь. И
Рафаэль может на худой конец оставить свои вещи здесь без проблем. Мы уже
опоздали и на второй забег так что в конце концов я уговариваю Коди вообще
никуда не ехать, подождать до следующих скачек, а завтра из чистого интереса
узнать результаты (позже выяснилось что он проиграл бы), и просто
порадоваться сегодняшнему деньку и тому что ничего такого особенного нам
делать не надо.
Так что он вытаскивает свою шахматную доску и садится играть с Рафаэлем
чтобы уделать его в отместку -- Его гнев уже несколько поубавился с тех пор
как он долбанул Рафаэля локтем разворачивая машину, и Рафаэль заорал "Эй,
зачем ты ударил меня? Ты что себе думаешь - "
"Он ударил тебя потому что огорчен тем что ты заманил его перевозить
твои вещи и он опоздал на скачки. Он карает тебя!" добавляю я, пожимая
плечами - И теперь Коди, услышав на какой манер мы об этом говорим, вроде бы
удовлетворился этим и сейчас они свирепо играют в шахматы, Коди вопит "Вот
тебе!" а я ставлю пластинки на полную громкость. Хоннегер, потом Рафаэль
ставит Баха. Мы собираемся просто повалять дурака и я уже успел смотаться за
двумя упаковками пива.
В это время хозяин, Эрман, спящий в соседней комнате, выходит,
рассматривает нас какое-то время, и идет опять спать -- Его не колышет вся
эта музыка на полную катушку -- Это пластинки Рафаэля, Реквиемы, Вагнер, я
вскакиваю и ставлю Телониуса Монка --
"Это же просто смешно!" вопит Рафаэль разглядывая свою безнадежно
проигрышную шахматную позицию -- А потом: "Померэй что тянешь эту последнюю
игру, достали эти твои бесконечные шахи один за другим, не тяни, что - " и
Коди смахивает фигурки и убирает доску так быстро, что мне вдруг в голову
приходит что он мелвилловский Верный Друг играющий в невероятно тайные и
важные шахматные игры.
Затем Коди идет в ванную бриться, и Рафаэль садится за пианино и
колотит по клавишам одним пальцем.
Он начинает стучать по одной клавише, потом нажимает две сразу, потом
опять одну --
В конце концов он начинает играть мелодию, чудесную мелодию которую
никто прежде не слышал -- хотя Коди, с бритвой у подбородка, и утверждает
что это "Остров Капри" -- Рафаэль кладет задумчивые пальцы на аккорды -- И
скоро уже его соната-импровизация выстраивается во что-то прекрасное, с
интерлюдиями и рефренами, он возвращается к старым рефренам и освежает их
новыми темами, потрясающе как он заканчивает свою Итальянскую Птичью Песнь
внезапной похожей на вскрик нотой -- Синатра, Марио Ланца, Карузо, все они
пели эту чистейшую птичью ноту виолончельной грусти, которая так заметна в
их печальных музах, Мадоннах -- у Рафаэля другая муза, шопеновская, мягкие
понятливые пальцы уверенно лежат на клавиатуре, я отворачиваюсь от окна у
которого стою, смотрю на играющего Рафаэля и думаю "Ведь это его первая
соната - ", я замечаю что все слушают его замерев, Коди в ванной, и старина
Джон Эрман в кровати, глядя в потолок -- Рафаэль играет только белыми
клавишами, может быть в прошлой жизни (в шопеновском окружении) он был
безвестным органистом играя в церковной башенке на ранне-готическом органе
без минорных нот -- потому что ему хватает мажорных (белых) клавиш, и он
создает неописуемо прекрасные мелодии, становящиеся все более и более
трагическими и разрывающими сердце, это чистое птичье пение, так сказал он
об этом сам "я чувствую себя маленькой поющей птичкой", и сказал это сияя от
счастья. И когда стоя у окна слушаешь его, ни одной фальшивой ноты, а ведь
это его первая в жизни игра на пианино перед серьезными слушателями, такими
как лежащий в спальне маэстро, становится так печально, эти песни слишком
прекрасны, они чисты как чисты слова его, и рот его чист как чиста рука его
-- его язык чист как чиста его рука, и поэтому рука уверенно находит ноты
этой песни -- Трубадур, раннеренессансный Трубадур, играющий на гитаре для
дам, заставляющий их плакать -- Он заставил плакать и меня... слезы подходят
к глазам моим когда я слышу это.
И я думаю "Как давно все это было, я так же вот стоял около окна, я был
тогда маэстро в Пьерлуиджи, и открыл нового гения музыки", серьезно, такие
вот величественные мысли возникают у меня -- я имею ввиду мое прошлое
перерождение, я был собой, а Рафаэль новым гением-пианистом -- за всеми
шторами Италии рыдала роза и лунный свет сиял на птичке-неразлучнике.
Потом я представил себе его играющим так, при свечах, как Шопен, может
даже как Либерэйс, для толп женщин похожих на Розу, заставляя их плакать --
я представил себе это, начало карьеры великого композитора и виртуоза
спонтанности, чьи работы вначале записываются на магнитофон и потом
переписываются в нотах, эх кто бы "записал" первые свободные мелодии и
гармонии мира, это должна быть первобытная музыка -- я вижу что на самом
деле он еще более великий музыкант чем поэт, и это при том что он великий
поэт. Потом я думаю: "Сейчас Шопен вселился в Урсо, и теперь поэт звенит
музыкой и словами - " Я говорю это Рафаэлю и он особо серьезно к моим словам
не относится -- Он играет еще одну мелодию, не менее прекрасную чем первую.
Теперь я знаю что он может сделать это всегда когда захочет.
Сегодня вечером мы должны идти сниматься на фото для журнала поэтому
Рафаэль кричит на меня "Не причесывайся -- оставь свои волосы
нерасчесанными!"
И стоя у окна отставив ногу как Парижский Модник, я понимаю в чем
величие Рафаэля -- величие его чистоты, включая чистоту его отношения ко мне
-- и в том как он дал мне поносить Крест. Его девушка Соня сказала недавно,
"Разве ты не носишь больше Крест?" причем таким противным тоном будто хотела
сказать Разве жить со мной, это было для тебя как нести свой крест? - "Не
причесывай волосы", говорит мне Рафаэль, и у него никогда нет денег -- "Я не
верю в деньги" -- Тот кто лежит в спальне на кровати почти не знает его, но
он въехал в эту квартиру, играет на его пианино -- И на следующий день я
вижу что маэстро согласен, и Рафаэль опять играет и опять прекрасно, правда
разгоняется медленнее чем днем раньше, может быть из-за того что я слишком
уж поспешил с восхвалениями его музыкального таланта - музыкального гения --
и потом Эрман выходит из своей больничной комнаты и бродит закутанный в
купальный халат, и когда Рафаэль берет чистейшую и гармоничнейшую
музыкальную ноту я смотрю на Эрмана, он смотрит на меня, и кажется будто мы
оба киваем друг другу с пониманием -- И потом он стоит несколько минут
наблюдая за Рафаэлем.
Между этими двумя сонатами нам нужно сняться для этого дурацкого
журнала и мы все напиваемся, кому это надо оставаться трезвым чтобы тебя
сняли для журнальной заметки и назвали "Блистательным "Потрясным" Поэтом" -
мы с Ирвином ставим Рафаэля между нами, это моя идея, я говорю "Рафаэль
короче всех, надо его в середину" и так вот рука об руку мы трое стоим и
позируем миру Американской Литературы, и когда хлопает деревянная стучалка
-- сигнал к началу, кто-то говорит: "Ну и троица!" таким тоном каким говорят
о Тех Самых Миллионодолларовых Бейсболистах -- Тогда я буду левым
нападающим, быстрым, отличным бегуном, ловящим мячи издалека, некоторые над
самым плечом, настоящим вышибалой как Пит Райзер, и весь в ссадинах, я Тай
Кобб, я бью, я бегу, отбираю и перекидываю мяч с искренней свирепостью, они
зовут меня Персик -- Но я псих и никому лично не симпатичен, я не Всеобщий
Любимец Бейб Рут -- Рафаэль центральный нападающий , это светловолосый ДиМэг
который разыгрывает безошибочные мячи без всякого видимого напряжения, такой
вот он, Рафаэль, -- правый нападающий это серьезный Лу Гериг, Ирвин,
отбивающий длинные затяжные удары левой рукой в окошки Гарлем Ривер Бронкса
-- Позднее мы позируем вместе с Беном Фэганом, величайшим ловцом мячей,
коротконогим старым Микки Кокрейном, вот какой он, он как Хенк Гоуди, он с
легкостью вырывается вперед и уделывает всех этих голенастых защитников, а
между атаками становится незаметным --
Мне хочется съездить в его домик в Беркли, там у него есть маленький
дворик и дерево под которым я спал Осенними звездными ночами, и на меня
спящего падали листья -- В этом домике мы с Беном долго пытались завалить
друг друга в соревновании по реслингу, что кончилось для меня занозой в руке
а для него болью в спине, мы были как два гигантских пыхтящих носорога,
борясь забавы ради, как я делал это раньше в Нью-Йорке на мансарде с Бобом
Кримом после чего мы разыгрывали за столом целые представления из
Французских Фильмов, с беретами и диалогами -- Бен Фэган с красным серьезным
лицом, синими глазами и большими очками, который был Смотрителем на старой
доброй Старательской за год до меня и тоже знал горы -- "Пробудитесь!"
кричит он (он буддист) -- не наступите на трубкозуба!" Трубкозуб это такой
вид муравьеда -- "Будда сказал: - не стоит ходить спиной вперед." Я говорю
Бену Фэгану: "Зачем солнце сияет сквозь листья?" -- "Это твоя вина" -- Я
говорю: "В чем смысл того что ты медитировал-медитировал, а твоя крыша
улетела?" -- "Это значит лошадь рыгнула в Китае и корова замычала в Японии."
- Он сидит и медитирует в широких порванных штанах -- однажды у меня было
такое вот видение его: он сидит в пустоте вот так вот, но наклонившись
вперед и с широкой улыбкой -- Он пишет длинные стихи о том как превратится в
32-футового Гиганта сделанного из чистого золота -- Он очень странный -- Он
как столп силы -- Мир станет лучше из-за таких как он -- Мир должен стать
лучше -- И он постарается --
И я стараюсь тоже и поэтому говорю "Слушай Коди, завязывай, тебе должен
понравиться Рафаэль" -- и для этого я хочу привести Рафаэля в гости домой к
Коди на выходные. Я накуплю всем пива, хотя и выпью почти все сам -- Тогда я
куплю еще -- Пока не вырублюсь -- Все это заранее предсказуемо -- Мы, Мы? --
Я не знаю что делать -- Но все мы это одно -- Теперь я понимаю, все мы одно,
и все будет в порядке если мы оставим друг друга в покое -- Хватит
ненавидеть -- Хватит подозревать -- Так в чем же дело, бедняга смертный?
Разве сам ты не умрешь когда-нибудь?
Тогда зачем же убивать своего друга или врага?
Все мы друг другу друзья или враги, ну хорошо, а теперь хватит, хватит
войн, пробудитесь, это всего лишь сон, оглянитесь вокруг, вы спите, когда вы
думаете что нас ранит золотая земля, то вы ошибаетесь, золотая земля не
ранит нас, это лишь золотая бесконечность блаженной беспечности --
Благословите маленькую мушку -- Не убивайте больше -- Не работайте на бойнях
-- Мы можем выращивать зелень или выдумать синтетические фабрики работающие
на атомной энергии, из которых будут сыпаться хлебные булки и вкуснейшие
химические отбивные и масло в банках -- почему бы нет? -- наша одежда будет
вечной, превосходный пластик[109] - у нас будет прекрасная медицина и
лекарства что пронесут нас сквозь все без смерти -- чтобы потом мы принимали
смерть как награду.
Готов ли кто-то встать в знак согласия со мной? Так, хорошо, ну а
теперь чтобы поддержать меня, вам остается лишь благословить все сущее и
сесть на место опять.
Так что мы выходим и пьем и идем в Подвал где сегодня сейшн Брю Мура,
он дует в тенор-саксофон держа его в уголке рта, надувая щеки круглым мячом
как Гарри Джеймс или Диззи Гиллеспи, и какую б мелодию они не начинали он
подхватывает ее с безупречной прекрасной гармонией -- Ни на кого не обращая
внимания он пьет свое пиво, напивается и глаза его тяжелеют, но он никогда
не пропустит ни удара, ни ноты, потому что музыка это его сердце, и в музыке
он находит свой чистяк, свое послание этому миру -- Только вот одна беда,
никто это послания не понимает.
Например: я сижу здесь на краю сцены прямо у его ног, лицом к бару,
опустив голову к своему пиву, от застенчивости ясное дело, и я вижу что они
ничего не слышат -- Эти блондинки и брюнетки они пришли сюда со своими
мужчинами и строят глазки чужим и в воздухе попахивает дракой -- Битвы
развернутся здесь перед женскими глазами -- и гармония погибнет -- Брю дует
прямо в них, "Рождение блюза", потом джазовый рефрен, и когда приходит его
очередь вступать он выступает с отличной прекрасной новой идеей, она говорит
о прекрасном будущем этого мира, пианино подтверждает это понимающим
аккордом (светловолосый Билл), святой ударник воздев глаза к Небесам задает
ритм, ангельский ритм связующий работу всех воедино -- И конечно контрабас,
он вибрирует под пальцами, два пальца щипают струны и еще один скользит по
струнам ловя точный звук подходящего аккорда -- Конечно все музыканты
слушают, толпы цветных парней, чьи темные лица сияют в тусклой полутьме, чьи
белые глаза круглы и искренни, они держат в руках выпивку купленную просто
за право находиться здесь и слышать -- Когда люди вслушиваются в истину
живущую в гармонии это порождает в них что-то по-настоящему доброе -- И все
же Брю вынужден работать со своими идеями вместе с вокалистами и это ему
нелегко, его музыка становится чуть более усталой, он вовремя
останавливается -- к тому же ему уже охота играть новую тему -- И я делаю
так, постукиваю слегка по кончику его ботинка чтобы дать ему знать что он
прав -- Между отделениями он присаживается к нам с Гией и особо ничего не
говорит, он пытается сделать вид что вообще не способен говорить -- Он
скажет все своей трубой --
Но Небесный червь времени поедает жизнь даже Брю, как и мою, как и
вашу, ведь и так нелегко жить в мире где ты старишься и умираешь, так зачем
же вдобавок жить не слыша гармонии?
Давайте будем как Дэвид Д`Анжели, будем молиться в одиночестве на
коленях -- Давайте скажем "О Выдумавший все это, смилостивись" -- Давайте
молить его, или это, чтобы эти выдумки были милостивыми к нам -- Чтобы мир
был спасен надо лишь чтобы он, Бог, выдумывал милостиво -- А каждый из нас и
есть Бог -- Кто же еще? Кто же еще когда мы молимся стоя в одиночестве на
коленях?
Мир души моей в этом.
А еще после сейшна мы пошли к Мэлу (Мэлу Назывателю, Мэлу Даммлетту) и
вот он Мэл, в своей аккуратненькой тряпичной шапочке, аккуратной спортивной
рубашке и жилетке в клеточку -- но бедняжка Бэйби, его жена, она сидит на
бензе[110], и когда он выходит с нами за выпивкой она становится страшно
подозрительной -- Год назад я уже говорил Мэлу слыша как они спорят и
ругаются с Бэйби, "Да поцелуй же ее в живот, просто люби ее, не спорь" -- И
это помогло на целый год -- Мэл работает весь день развозя телеграммы для
Вестерн Юнион, бродя по улицам Сан-Франциско с тихим взглядом умиротворенных
глаз -- Теперь он за компанию идет вместе со мной до того места где я
припрятал бутылку в выброшенной коробке из китайской лавки, и мы немного
прикладываемся к ней как в старые времена -- Он завязал с выпивкой, но я
говорю ему "Эти несколько глотков тебе не повредят" - О Мэл был серьезным
любителем выпить! - Мы валялись на полу включив радио на полную катушку пока
Бэйби была на работе, мы валялись там с Робом Доннели в холодные туманные
дни и просыпались только чтобы добыть еще бутыль вина -- четвертушку
токайского -- чтобы выпить ее под новый взрыв разговоров, и потом засыпали
опять на полу все трое -- Самый паршивый запой который у меня когда-либо был
-- через три дня такой жизни чувствуешь что тебе крышка -- И в этом не было
никакого смысла --
Господи будь добрым, Господи будь милосердным, как бы тебя ни звали,
будь милосердным -- благословляй и присматривай.
Присматривай за своими выдумками, Боже!
Так оно все закончилось и на этот раз, мы напились, нас
сфотографировали, мы заснули у Саймона и утром в журнале оказались Ирвин с
Рафаэлем и я, все вместе, отныне навсегда неразрывно связанные в наших
литературных судьбах -- Должно быть непростая штука все это фотографирование
--
Я стою в ванной на голове чтобы не болели ноги из-за всего этого
пьянства-курева, и Рафаэль открывает двери в ванную и вопит "Смотрите! Он
стоит на голове!" и все бегут подивиться, включая Лазаруса, и я говорю "О
черт."
Поэтому позднее этим же днем Ирвин говорит Пенни "О иди и постой на
голове на углу на улице!" когда она спрашивает его "О что же мне делать в
этом безумном городе и с такими безумными типами" -- Заслуженный ответ, но
все же не стоит детям воевать. Потому что мир в огне -- и глаз в огне, и то
что он видит в огне, и само зрение этого глаза в огне -- и это значит только
то что все кончится чистой энергией, и даже более того. Все кончится
блаженством.
Обещаю.
Я знаю это потому что это знаете вы.
Вверх к Эрману, вверх по этой странной горе уходим мы, и Рафаэль играет
свою вторую сонату Ирвину который до конца не врубается -- Но Ирвин
приходится понимать столько всяких вещей о человеческом сердце, о том что
это сердце говорит, что у него не хватает времени понимать гармонию -- Он
понимает мелодию, драматические Реквиемы которыми он дирижировал передо мной
как бородатый Леонард Бернстайн, до самых их грандиозных взмывающих руки к
небесам апофеозов -- И я говорю ему, "Ты был бы хорошим дирижером, Ирвин!" -
Но когда мы слушали Бетховена до самого рассвета пока крест не забелел над
крышами городка, его костистая печальная голова начала понимать гармонию,
священный покой гармонии, и симфонией Бетховена не нужно было дирижировать
-- Или дирижировать пальцами играющими его сонаты --
Но ведь все это разные формы одного и того же.
Я знаю что нехорошо прерывать рассказ такой болтовней -- но я должен
сбросить это со своих плеч или мне вообще конец -- я просто загнусь --
И хотя "просто загнуться" не значит просто загнуться, а есть лишь часть
золотой бесконечности, все же приятного в этом мало.
Бедняга Эрман, он валяется совсем никакой из-за температуры, я выхожу и
звоню его доктору который говорит, "Не могу ничем помочь -- скажите ему
чтобы пил побольше и отдыхал".
И Рафаэль кричит "Эрман ты должен показать мне как играть на пианино,
показать мне музыку!"
"Как только мне станет получше"
Это печальный день -- и на залитой немилосердным солнцем улице
бритоголовый художник Левескье отмачивает этот свой безумный танец который
пугает меня, он похож на пляшущего черта -- Как только эти художники
способны такое выносить? Кажется, он кричит что-то насмешливое -- И мы
втроем, Ирвин, Раф и я, идем вниз по сиротливой дорожке -- "Пахнет дохлой
кошкой", говорит Ирвин. "Пахнет прекрасным дохлым япошкой", говорит Рафаэль,
опять натянув рукава на руки и вышагивая вниз по крутой дорожке -- "Пахнет
дохлой розой", говорю я -- "Пахнет прекрасной сытной кормежкой", говорит
Ирвин -- "Пахнет Силой", говорит Рафаэль -- "Пахнет грустью", говорю я и
добавляю -- "Пахнет безразличными розовыми лососями" - "Пахнет сиротливой
сладогоречью", говорит Ирвин --
Бедный Ирвин -- я смотрю на него -- Мы знакомы уже пятнадцать лет и
смотрели встревоженно в глаза друг другу среди пустоты, теперь все подходит
к концу -- наступает тьма -- и нам понадобится все наше мужество -- мы
повернем все то так то эдак в радостной солнечности наших мыслей. Через
неделю все позабудется. Зачем умирать?
Мы грустно подходим к дому с билетом в оперу данным нам Эрманом который
не может пойти, и говорим Лазарусу чтобы он приоделся к своему первому в
жизни вечеру в опере -- Мы завязываем ему галстук, выбираем рубашку --
Причесываем волосы -- "А чего делать надо?" спрашивает он --
"Просто врубайся в людей и в музыку -- будут давать Верди, давай я
расскажу тебе все о Верди!" кричит Рафаэль, и объясняет заканчивая долгими
рассказами из истории Римской Империи -- "Ты должен знать историю! Ты должен
читать книги! Я скажу какие книги тебе надо прочесть!"
Саймон уже тут, окей, мы берем такси в оперу и высаживаем там Лазаруса
и идем повидаться с МакЛиром в баре -- поэт Патрик МакЛир, наш "враг",
согласился встретиться с нами в баре - Мы оставляем Лазаруса среди голубей и
людей, внутри сверкают огни, оперная публика, именные шкафчики раздевалок,
коробки, занавеси, маски, будет опера Верди -- Лазарус увидит все это сквозь
громыхание грома -- Бедный парень боится идти в одиночку -- Он беспокоится о
том что люди скажут про него -- "Может ты встретишь там каких-нибудь
девушек!", уговаривает его Саймон и подталкивает ко входу. "Давай же, сейчас
твой шанс порадоваться жизни. Целуй их, щипай и мечтай об их любви"
"Окей", соглашается Лазарус и мы видим как он скачет к опере в своем
собранном с-миру-по-нитке костюме, галстук развевается на ветру -- целая
новая жизнь для "симпатичного юноши" (так назвал его школьный учитель), вот
так вот вприпрыжку в эти оперы смерти -- оперы надежды -- ждать -- наблюдать
-- Целые жизни проведенные в мечтах об ушедшей луне.
Мы двигаемся дальше -- таксист, вежливый негр, слушает с искренним
интересом как Рафаэль объясняет ему все о поэзии -- "Ты должен читать
поэзию! Ты должен врубаться в красоту и истину! Что ты знаешь о красоте и
истине? Китс это сказал, что красота есть истина и истина есть красота, ты
красивый парень и должен знать такие вещи"
"А где же мне взять эти книжки -- в библиотеке, наверное..."
"Точно! Или иди в магазины на Норт Бич, накупи там маленьких брошюрок
стихов и почитай что измученные и голодные говорят про измученных и
голодных".
"Это измученный и голодный мир", говорит он понимающе. Я в темных
очках, мой рюкзак уже собран потому что в понедельник я залезу на товарняк и
поеду, и я слушаю внимательно. Как хорошо. Мы пролетаем сквозь печальные
улицы, разговаривая откровенно как граждане Афин, Сократ Рафаэль предлагает,
Альцибиад таксист покупает. Ирвин наблюдающий Зевс. Саймон Ахиллес
набивающий цену. Я Приам оплакивающий свой сожженный город и растерзанного
сына и выброшенный на обочину истории. И я никакой не Тимон Афинский, а Крез
рыдающий над истиной горящего катафалка.
"Окей", соглашается таксист, "Буду читать поэзию", и желает нам
приятным голосом доброй ночи, отсчитывает сдачу и мы бежим в бар, к темным
столикам в глубине похожим на задние комнатки в кабачках Дублина, и тут
Рафаэль удивляет меня тем что нападает на МакЛира:
"МакЛир! Ты ничего не знаешь об истине и красоте! Ты пишешь стихи но ты
не настоящий! Ты живешь жестокой бессердечной жизнью буржуазного
предпринимателя!"
"Что?"
"Это очень плохо, это все равно как убить Октавиана сломанной скамьей!
Ты подлый сенатор!"
"Зачем ты говоришь все это - "
"Потому что ты меня ненавидишь и думаешь что я дерьмо!"
"Ты чертов нью-йоркский итальяшка, Рафаэль", кричу я и улыбаюсь чтобы
дать понять всем "Ну теперь-то мы знаем что Рафаэль просто дурит, так
давайте не будем спорить".
Но стриженого ежиком МакЛира невозможно ни обидеть ни переспорить и он
отвечает нападением, "Потому что никто из вас ничего не знает о языке --
кроме Джека"
Окей, ну раз я знаю кое-что о языке тогда пожалуйста не пользуйтесь им
для руготни.
Рафаэль разразился обличительной демосфеновской речью с помахиванием в
воздухе кончиками пальцев, но улыбка все чаще и чаще появляется у него на
лице -- и МакЛир тоже улыбается -- они оба понимают что все это просто
недоразумение возникшее из-за тайных тревог поэтов в штанах, этим-то они и
отличаются от поэтов в тогах, вроде Гомера который мог декламировать глядя
незрячими глазами и никто из слушателей не пытался его перебивать,
редактировать или записывать. Гопники стоящие у входа в бар заинтересовались
нашим гвалтом и чудным разговором про какую-то "поезию", и мы чуть было не
ввязываемся в драку на выходе, но я говорю себе "Если мне придется ударить
кого-то крестом защищая этот крест, да я это сделаю, но О лучше бы мне уйти
отсюда и гори оно все огнем", так оно и произошло, слава Богу нам удалось
спокойно выйти на улицу --
Но потом Саймон огорчает меня тем что мочится прямо на улице на виду у
целой толпы народу, до тех пор пока какой-то человек не подходит и не
спрашивает "Зачем ты это делаешь?"
"Потому что писать хочется", говорит Саймон -- и я иду вперед быстрым
шагом со своим рюкзаком за плечами, они идут вслед смеясь -- Заходим в
кафетерий чтобы выпить кофе, но Рафаэль зачем-то разражается длинной громкой
речью обращенной ко всем присутствующим, и естественно они не хотят нас
обслуживать -- Он говорит опять о поэзии и истине но они-то думают что все
это безумная анархия (судя по нашему виду) -- Я с крестом, и мой рюкзак --
Ирвин с бородой -- Саймон со своим шизовым прикидом -- Что бы ни делал
Рафаэль, Саймон смотрит на него с восторгом -- Он ничего больше не замечает,
не видя испуганных людей, "Они должны научиться красоте", говорит Саймон сам
себе решительно.
И в автобусе Рафаэль опять обращается ко всем пассажирам, Эй! Эй!
теперь это большая речь о политике "Голосуйте за Стивенсона!" кричит он
(непонятно почему), "голосуйте за красоту! Голосуйте за истину! Поднимайтесь
на защиту своих прав!"
Когда нам пора выходить автобус останавливается, и мои пустые бутылки
которые мы опустошили в нем начинают громко перекатываться по полу,
водитель-негр читает нам нотацию перед тем как открыть дверь: - "И никогда
больше не пейте пиво в моем автобусе... У нас обычных людей есть свои
проблемы в этом мире, и такие как вы их умножают", говорит он Рафаэлю, и это
не совсем так разве что именно сейчас да, но ведь никто же из пассажиров не
жалуется, это просто такое представление в автобусе --
"Это автобус мертвецов направляющийся к смерти!" говорит Рафаэль на
улице. "И шофер этот знает об этом и ничего не хочет менять!"
Мы спешим чтобы встретиться с Коди на станции -- Бедняга Коди, он
случайно зашел в пристанционный буфет позвонить, с головы до ног одетый в
железнодорожную форму, и тут его обступила со всех сторон и начала тормошить
и гигикать толпа безумных поэтов -- Коди смотрит на меня будто пытаясь
сказать: "А ты не можешь их успокоить?"
"Что я могу?" говорю я. "Разве что призвать к доброте".
"Черт бы драл доброту!" кричит мир. "Нам нужен порядок!" А когда придет
порядок, придут и приказы устанавливающие этот порядок -- И я говорю, "Пусть
в мире царит всепрощение -- попытайтесь -- простить -- забыть -- Да,
молитесь на коленях о силе прощать и забывать -- тогда все станет Небесами
белоснежными".
Коди явно не хочется брать в поезд Рафаэля и всю эту толпу -- Он
говорит мне "Ты хоть причешись, тогда я скажу проводнику кто ты такой" (что
я работал на железной дороге) -- Так что я причесываюсь для Коди. И чтобы
был порядок. Тоже. Я просто хочу протечь сквозь Господи к тебе -- И лучше
мне быть в руках твоих чем в руках Клеопатры... до той ночи когда это будут
одни и те же руки.
Короче, мы прощаемся с Саймоном и Ирвином, и поезд трогается на юг, в
темноту -- Это первый шаг моего трехтысячемильного пути в Мексику, и я
покидаю Сан-Франциско.
Рафаэль по кодиной подначке всю дорогу болтает о правде и истине с
блондинкой, которая выходит в Мильбре и не оставляет адреса, потом он спит
на своем сиденье а мы чухаем по рельсам дальше в темную ночь.
И вот приходит старый железнодорожный волк Коди светящий в темноте
лампой -- У него такой особый маленький фонарик, у нас тут у каждого
проводехи, стрелочника, ремонтника, у всех по такой штуковине есть (такой
вот базар, чувак) -- вместо полагающегося здоровенного фонаря -- Он влезает
в кармашек синей формы но сейчас света маловато, и я спрыгиваю на землю
посмотреть что к чему пока Рафаэль спит сном младенца на пассажирском
сиденье (дым, депо, все как в старых снах когда ты с папой въезжаешь на
поезде в большой город населенный львами) -- Коди рысцой подбегает к
двигателю, отворачивает его воздушные шланги и дает отмашку "Давай!", и они
медленно двигаются к стрелке чтобы подцепить вагон с цветами для завтрашнего
утра, воскресного утра -- Коди спрыгивает и перекидывает стрелку, в его
движениях во время работы видна яростная и преданная серьезность, он хочет
чтобы его напарник всегда и во всем ему доверял, и это потому что он верит в
Бога (и Господь благословляет его -) -- инженер с пожарником смотрят как
скачет в темноте свет его фонарика когда он спрыгивает с передней подножки и
освещает стрелку, все это на маленьких камешках которые выворачиваются из
под ног при прыжке, он отмыкает и перебрасывает стрелку с основной ветки
вбок и они заезжают в ангар по ( - ) пути -- у этого пути есть особое имя --
которое кажется вполне нормальным любому железнодорожнику и ничего не значит
для всех остальных -- но это их работа -- и Коди настоящий Король Тормозных
Кондукторов этой железной дороги -- уж поверьте мне, не раз мотавшемуся в
подвагонном ящике[111] по Сант-Луисской дороге, я знаю, - и озабоченно
посматривающие на часы железнодорожники тоже знают это, Коди не станет
терять времени зря, он отправит цветочный вагон по главной ветке и
Бодхисаттва прибудет к Папе весь в цветах -- и детишки его заворочаются и
вздохнут в своих колыбельках -- Потому что Коди родом из мест где детям не
запрещают кричать[112] -- "Протекая сквозь!"[113] говорит он, помахивая
своей большой ладонью "Расступитесь, дубы и сосны!"[114] -- Он бежит назад к
своей подножке, и мы трогаемся к месту сцепки -- Я наблюдаю, стоя в холодной
ночи наполненной слабым фруктовым ароматом -- и звезды разрывают сердце
твое, зачем они там, наверху? -- И холм с туманными огнями боковых улочек
высится надо мной --
Мы сцепляемся, Коди вытирает и сушит руки в вагонном туалете и говорит
мне "Мальчик мой знаешь я еду в Иннисфри[115]! Да да братишка с этими
лошадьми я точно опять научусь улыбаться. Слушай, буду лыбиться все время, я
буду таким богачом -- Ты мне не веришь? Знаешь что завтра будет?"
"Ага знаю но это неважно".
"Что неважно, день-ги?" кричит он на меня, он сердится на своего брата
которому наплевать на Иннисфри --
"Отлично, ты будешь миллионером. А мне на фиг не надо яхты с
блондиночками и шампанским, все что мне нужно -- это хижина в лесу. Хижина
на Пике Одиночества".
"А еще не забудь про то", похлопывая меня по плечу и подпрыгивая "что
мы сможем сыграть по моей системе на денежки которые я вышлю тебе по Вестерн
Юнион как только мы будем в состоянии расширить наш бизнес на всю страну --
Ты займешься нью-йоркскими ипподромами, я продолжу здесь, а Старого Соню
Рафаэля мы зашлем на какие-нибудь Острова Тропического Парка -- он может
заняться Флоридой -- Ирвину Нью-Орлеан - "
"И Марлону Брандо Санта-Аниту[116]", говорю я --
"Ага и Марлу тоже и вообще всей тусовке - "
"Саймону Сетабустопольский Парк в Сардинской России"
"Русский Сирдупапов[117] миляге Лазарусу ага парень дело в шляпе
заметано точно-точно, будешь пожары сторожить хе-хе, хряп", треснув себя
кулаком в ладонь, "слушай костюмчик вот у меня сзади запачкался, вот те
щетка, счисть эту пылищу у меня со спины будь добр?"
И я горделиво как проводник старого нью-орлеанского поезда из старого
кино, счищаю пыль у него со спины щеткой --
"Отлично мальчик мой", говорит Коди, аккуратно кладя Ипподромный
Бюллетень в карман формы, и мы въезжаем в Саннивэйл -- "вот тебе и старый
Саннивэйл" говорит Коди выглядывая в окно когда мы с лязгом въезжаем на
станцию, и он выходит крича "Саннивейл" пассажирам, два раза, некоторые из
них позевывая встают -- Саннивейл где мы с Коди когда-то вместе работали, и
проводник сказал еще Коди что он слишком много болтает хотя он просто
объяснял мне как не попасть под подножку локомотива -- (Если дернешься не в
ту сторону лучше падай на землю и пропускай ее над собой, иногда в темноте
тебя не видно совсем) (Стоишь ты там на рельсах в темноте и ни черта не
видишь, тут-то эта низкая платформа и подкрадется к тебе как змея) -- Так
что Коди Кондуктор Небесного Поезда, он пробьет нам билетики потому что мы
были добрыми овечками верящими в розы, лампочки и лунные глаза --
Вода с Луны
Скоро выльется вся
Но он зол на меня за то что на эти выходные я потащил к нему домой
Рафаэля, и хотя ему-то лично все равно, он думает что Эвелин Рафаэль не
понравится, или может быть ей не понравится что кто-то приехал вообще -- Мы
слезаем с поезда в Сан-Хосе, будим Рафаэля, залезаем в новый семейный кодин
автомобиль Рэмблер Стэйшн Вагон и отправляемся, Коди опять впадает в
безумство, он мотает машину чумовыми зигзагами не издавая ни звука
тормозами, однажды он научился этому трюку -- "Отлично", будто хочет он
сказать, "мы едем домой и ложимся спать. И", добавляет он вслух, "вы ребята
завтра развлекаетесь следующим образом; смотрите целый день ящик, футбольный
матч Транспортники против Львов, а я вернусь домой около шести и отвезу вас
в понедельник домой на первом поезде -- на том самом на котором работаю, так
что насчет билетов не беспокойтесь -- Теперь расслабьтесь, вот мы и дома",
поворачивая на маленькую проселочную дорогу, потом еще на одну, потом в
переулок и в гараж -- "Вот вам мой отпадный особняк[118], а теперь
быстренько спать".
"А где я буду спать?" спрашивает Рафаэль.
"Ложись на софе в гостиной", говорю я. "А я лягу в своем спальнике на
травке. У меня там во дворе есть любимое местечко".
Ладно, мы выходим и я иду на задворки большого двора и расстеливаю
среди кустов свой спальник, вынутый из рюкзака, на росистой траве, и звезды
холодны -- Но звездный воздух будоражит меня, я заползаю в спальник и это
для меня как молитва -- Сон это молитва сам по себе, но когда спишь под
звездами, когда просыпаешься в три часа и видишь большой и прекрасный
Млечный Путь у себя над головой, облачно-молочный, со ста тысячами мириадов
вселенных, и больше даже, невероятная молочная бесчисленность, никакой
супер-мега-компьютер своим скудным умишком не способен вычислить как огромна
эта наша награда, там в небесах --
И как же блаженен сон под звездными небом, хоть земля и бугриста, ты
пристраиваешься к изгибам ее, ты ощущаешь сырость земную но она тебя
убаюкивает, в каждом из нас живет Индеец Палеолита -- Кроманьонец или
Гримальдиец, спавший на земле, так естественно, нередко под открытым небом,
который часто смотрел на звездное небо, лежа на спине, и пытался вычислить
их магическое количество, их вуду-ууудудуду, таинственность их туманного
сверкания -- И без сомнения он спрашивал себя "Зачем?" "Почему, скажи?" --
Одинокие губы человека Палеолита под звездами, кочевая ночь -- потрескивание
костра --
Аййе, звон его лука --
Порази меня Купидон[119], я просто сплю здесь, закутавшись -- И когда я
просыпаюсь, уже рассвет, и серость, и холод, и я опять зарываюсь в сон -- В
доме Рафаэль переживает свой сон, и Коди свой, и Эвелин, и у детей свои сны,
и даже у собачонки -- Впрочем, все равно все закончится нежным раем...
Я просыпаюсь от звука нежных голосков двух маленьких девочек и
мальчика, "Вставай Джек, завтрак уже готов!" Они как-то по особенному
выпевают это "завтрак готов", их послали сказать это мне, но потом они
минутку-другую шарятся вокруг по кустам просто так, и убегают, а я встаю,
оставляю свой спальник в соломенной Осенней траве и иду в дом умываться --
Рафаэль уже встал и сидит задумчиво на стуле -- блондинка Эвелин как обычно
по утрам сияет. Мы улыбаемся друг другу и разговариваем -- Она скажет мне:
"Чего ж ты не лег спать на диванчике на кухне?" и я скажу "О мне очень
нравится спать у вас во дворе, там мне снятся отличные сны" -- "Хорошо что
еще кому-то сегодня снятся хорошие сны". Она подносит мне чашечку кофе.
"Ты о чем это задумался, Рафаэль?"
"Думаю о твоих хороших снах", говорит он рассеянно грызя себе ноготь.
Коди носится как угорелый по спальне, переключает телевизионные
программы, закуривает сигареты и в перерывах между передачами бегает в
ванную, занимается своим утренним туалетом -- "Ух, глянь какая милашка!",
скажет он глядя на женщину рекламирующую мыло, и Эвелин на кухне это услышит
и тоже что-нибудь скажет. "По всему видать она настоящая ведьма".
"Ведьма или нет", скажет Коди. "Но я б особо не огорчился залезь мне
такая в постель" -- "Фу", скажет она и все пойдет своим чередом.
И целый день никто не любит бедного Рафаэля, проголодавшись он
спрашивает у меня еды, я спрашиваю нет ли каких-нибудь бутербродов у Эвелин,
а потом делаю их сам -- И отправляюсь с детьми в волшебный поход через
маленькое Кошачье Королевство -- среди сливовых деревьев которые я обрываю
подчистую мы идем по дорогам и полям к волшебному дереву, под которым
какой-то мальчик построил маленький волшебный шалаш --
"Ну, скажем, а чем он здесь занимается?"
"О", говорит Эмили, 9 лет, "он просто сидит и поет".
"А что он поет?"
"Все что захочет"
"И", говорит 7 летняя Габи, "он очень хороший мальчик. Тебе надо его
повидать. Он очень смешной".
"Ага, тии хии, очень смешной", говорит Эмили.
"Он очень смешной", говорит Тимми, 5 лет, он такой маленький и держится
за мою руку где-то там внизу у самой земли, так далеко что я забываю про
него -- Внезапно я оказываюсь бродящим по заброшенным землям с маленькими
ангелами --
"Мы пойдем по тайной тропе"
"По короткой тропе"
"Расскажи нам про нее"
"Не-а"
"А куда ведет эта тропа?"
"Она ведет к Королям", говорю я.
"Королям? Хм"
"Через двери-ловушки и убубуны", говорю я.
"О Эмили", объявляет Габи, "правда Джек смешной?"
"Действительно, он смешной", слегка кивает Эмили, невероятно серьезная.
Тимми говорит "А я умею руками играться!" и показывает нам волшебных
теневых птиц --
"Эта птица поет на дереве", подсказываю я ему.
"О я ее слышу", говорит Эмили -- "Я хочу идти дальше"
"Ладно, только не потеряйся"
"Я великан на дереве", говорит Тимми забираясь на дерево.
"Держись крепче", говорю я.
Я сажусь чтобы помедитировать и расслабиться -- Здесь хорошо -- солнце
припекает сквозь ветки --
"Я очень высоко[120]", говорит Тимми, сверху.
"Это уж точно"
Мы идем назад, по дороге к нам подбегает собака и трется о ногу Эмили и
та говорит "О, она прямо как человек"
"Она и есть как человек", говорю я ("в некотором смысле")
Мы идем вместе домой, лопая сливы, радостные и довольные.
"Эвелин", говорю я, "как это здорово иметь троих детей, я даже не могу
сказать кто мне больше нравится, они все одинаково милые".
Коди с Рафаэлем громко футбольно болеют в соседней комнате смотря матч
по телевизору -- мы с Эвелин сидим в гостиной и ведем одну из наших длинных
тихих бесед о вере -- "Все это просто разные слова и фразы чтобы сказать об
одном и том же", говорит Эвелин вертя в руках сутры и писания -- Мы всегда
говорим про Бога. Она отдала себя во власть кодиного безумия, потому что
думает что так нужно -- Когда проказливые дети закидали яйцами ее окно, он
возрадовалась возможности благодарить Бога: "Я благодарила Его за
возможность прощать". Она очень красивая маленькая женщина и идеальная мать
-- Ее совершенно не волнуют какие-то там отвлеченные вещи -- И она
действительно достигла состояния холодной пустотной истинности о котором все
мы столько болтаем, а в обыденной жизни от нее исходят волны тепла -- чего
же еще можно желать? На стене висит позолоченная металлическая пластинка со
странным Христом которого она нарисовала в 14 лет, изобразив струйку крови
вытекающую из Его пронзенного бока, очень по средневековому, и на каминной
полке два неплохих портрета ее дочерей, написанных просто -- В полдень она
выходит в купальном костюме, она блондинка и выглядит так как и положено
выглядеть счастливчикам живущим в Калифорнии и загорающим на солнце, и я
демонстрирую ей и детям прыжки ласточкой и солдатиком в воду -- Рафаэль
смотрит футбол и не хочет купаться -- Коди уходит на работу -- Возвращается
-- Тихий воскресный денек в деревне -- Откуда же это радостное возбуждение?
"Тише, тише, детишки", говорит Коди вылезая из своей железнодорожной
формы и надевая халат. "Ужин, Ма"... "Разве нет у нас тут чем-нибудь
подкрепиться?"
"Во-во", говорит Рафаэль.
И Эвелин заходит с прекрасным вкуснейшим ужином, который мы едим при
свечах, после того как Коди с детьми читают короткую Божью Молитву о еде:
"Хлеб свой насущный даждь нам днесь" - И не только они, мы все должны
прочесть ее вместе потому что Эвелин смотрит, я закрываю глаза, а Рафаэль
приходит в изумление --
"Это же безумие, Померэй", в конце концов говорит он -- "И ты
действительно, честно веришь во всю эту штуковину? -- Ну ладно, если тебе
охота так - " И тут Коди включает программу Оклахомские Исцеляющие Знахари
по телевизору и Рафаэль говорит "Это же дерь-мо собачье!"
Коди с ним не соглашается -- потом Коди немного молится вместе со всей
телевизионной публикой когда целитель просит сосредоточиться на молитве, и
Рафаэль негодует -- Позже этим же вечером мы видим женщину которая участвует
в викторине "Вопрос на 64,000$!!!" и говорит что работает мясником в
Бронксе, и мы видим ее простое серьезное лицо, может она чуть манерничает,
может нет, и Эвелин с Коди соглашаются и берутся за руки (сидя на своем
конце кровати на подушках, Рафаэль восседает как Будда у их ног, а потом я у
дверей с пивом в руке). "Разве ты не видишь, это простая искренняя
женщина-Христианка", говорит Эвелин, "сразу видно она из людей старой
закалки, честных добронравных Христиан" - и Коди соглашается "Ага
точно-точно, дорогая" и Рафаэль орет: "ДА ЧЕГО ВЫ ЕЕ СЛУШАЕТЕ, ОНА УБИВАЕТ
СВИНЕЙ!" И Коди с Эвелин от неожиданности меняются в лице, оба смотрят на
Рафаэля широко-открытыми глазами, и не только потому что он сказал это так
неожиданно, но и по самой сути сказанного, они не могут не согласиться что
это правда, она убивает свиней, но ведь так оно и должно быть, она должна
убивать свиней --
Теперь Рафаэль начинает подкалывать Коди и чувствует себя гораздо лучше
-- Вечерок становится даже забавным, мы пьянеем от движущихся картинок перед
глазами. Розмари Клуни поет так очаровательно, потом Фильмы Золотого Фонда
которые посмотреть нам так и не удается потому что Коди вскакивает и
переключает телевизор на застывшую сценку - снимок спортивной игры, потом на
какой-то голос, вопрос, еще один скачок, ковбои стреляют из игрушечных ружей
среди невысоких пыльных холмов, затем ба-бах большое испуганное лицо в
разговорном шоу, или Вопросы Задаете Вы --
"Перестань, мы хотим посмотреть фильм!" в один голос кричат Эвелин и
Рафаэль --
"Но это же просто один и тот же фильм, Коди знает что делает, он знает
все -- Посмотри-ка, Рафаэль, сейчас увидишь".
Потом я выхожу в прихожую чтобы посмотреть что это там за шум
(Царственный Коди: "Сходи-ка посмотри что это там такое") и это большой
бородатый Константинопольский Патриарх в черной замшевой куртке и очках,
Ирвин Гарден вышедший из мрачных русских глубин -- И я испугался увидев его!
-- Я отступаю назад в комнату, наполовину из-за испуга а наполовину чтобы
сказать Коди "Здесь Ирвин" - За Ирвином стоят Саймон и Гия -- Саймон
раздевается и прыгает в залитый лунным светом бассейн, точно так как это
сделал бы водитель "Скорой Помощи" на вечеринке Потерянного поколения 1923
года[121] -- я отвожу их к стульям на помосте над лунноблистающим бассейном
чтобы мы не мешали Коди с Эвелин спать -- Гия стоит около меня, смеется, и
отходит засунув руки в карманы, она носит штаны -- на мгновение мне кажется
что это мальчик -- она сутулится и курит как мальчишка -- один из уличной
банды -- Саймон подталкивает ее ко мне: "Она любит тебя Джек, она любит
тебя"
Я надеваю темные очки Рафаэля и мы сидим в кабинке ресторана за десять
кварталов дальше по трассе -- Мы заказываем целую кастрюльку кофе,
силексового[122] стекла -- Саймон складывает тарелки, тосты и сигаретные
окурки в высоченную Вавилонскую башню -- Администрация ресторана начинает
нами интересоваться, и я прошу Саймона остановиться "Она уже и так высокая"
-- Ирвин напевает песенку:
"Тихая ночка
ночка святая" --
Улыбаясь Гие.
Рафаэль в задумчивости.
Мы возвращаемся назад домой где я буду спать у себя на траве, и они
прощаются со мной на дорожке у входа, Ирвин говорит "Давайте сядем во дворе
и устроим отвальную"
"Нет", говорю я. "Если вы хотите ехать, то езжайте"
Саймон целует меня в щеку по-братски -- Рафаэль дарит мне свои темные
очки, после того как я возвращаю ему крест который он опять пытается
подарить мне навсегда -- Мне грустно -- Я надеюсь что напоследок они не
увидят моего усталого лица -- наши глаза затуманены временем -- Ирвин
кивает, такой маленький простой дружеский и печальный, убеждающий и
ободряющий кивок, "Ну давай, увидимся в Мексике"
"Прощай Гия" -- и я иду к себе на дворик и сажусь покурить на скамейку
возле бассейна пока они уезжают -- я смотрю в бассейн как директор школы,
как режиссер фильма -- как Мадонна в сияние вод -- сюрреалистический бассейн
-- потом смотрю на кухонную дверь, темнота, и вижу как вырисовывается прямо
перед моими глазами видение группы темных людей носящих серебряные четки,
серебряные безделушки и кресты на темных грудных клетках -- оно мелькает
передо мной и быстро исчезает.
Ах как блестят в темноте эти сверкающие предметы!
На следующий вечер после того как я поцеловал на прощание мать и
детишек, Коди отвез меня в железнодорожное депо Сан-Хосе.
"Коди, прошлой ночью у меня было видение группы темных людей, вроде
Рафаэля, Дэвида Д`Анжели, Ирвина и меня, мы все стояли во мраке со
сверкающими серебряными распятиями и ожерельями на наших темных грудях! --
Коди, Христос придет опять".
"Ну точно", кивает он тихо, держась за рукоятку ручного тормоза, "Так я
ж тебе что говорю - "
Мы останавливаемся около депо и смотрим на задымленный локомотивами
пейзаж, на новые тарахтящие локомотивы и контору депо украшенную яркими
огнями, тут мы когда-то работали вместе -- Я сильно нервничаю и все пытаюсь
вылезти из машины чтобы не прозевать Призрак на выезде, но он говорит "Э
парень они еще только готовятся -- ждут пока двигатель разогреется -- ты сам
увидишь, этот здоровенный четырех моторный сукин сын домчит тебя до Лос
Анжелеса в пять минут, но Джек берегись, держись покрепче и помни то что я
всегда говорил тебе, мальчик мой, в этом одиноком мире мы с тобой долго были
корешами, я тебя люблю больше чем кого бы то ни было и не хочу терять тебя,
сынок - "
У меня с собой полпинтовая фляжка виски на дорогу, и я предлагаю ему
глоток "Что-то ты круто взялся за дело", говорит он, видя что теперь я пью
виски вместо вина и покачивает головой -- Когда он ставит машину за рядами
неуклюжих пассажирских машин, и смотрит как я натягиваю свою старую стопную
куртку с болтающимися рукавами, на одном из
Но вот и время истории, время исповеди...
Все чему я научился за проведенное на пустынной горе лето, мои Видения
Пика Одиночества, я попытался принести их в лежащий внизу мир и разделить со
своими друзьями в Сан-Франциско, но они, имевшие дело с давлением времени и
жизненной суматохи, а не с вечностью и одиночеством заснеженных горных скал,
сами могли бы преподать мне урок - К тому же, видение свободы посреди
бесконечности которое открылось мне так же как открывалось ранее всем
пустынствующим в первозданности святым, мало подходит для городов и нашего
полного противоречий общества -- И что же это за мир в котором не только
дружба отменяет вражду, но и вражда дружбу, а могила и урна с прахом
отменяют все - Самое время умереть в неведении, но раз уж мы живем, чему нам
радоваться и что можем мы сказать? И что сделать? Мы, плоть сгрудившаяся[1]
в Бруклине и других подобных местах, больные желудки, подозрительные сердца,
жестокие улицы, борьба идей, все человеческое в огне ненависти и ах-ой -- И
первое что я заметил приехав в С.Ф. со своим рюкзаком и миссией сообщить
людям что они валяют дурака - тратят понапрасну время - потому что
несерьезны - нелепы своим соперничеством - робки перед лицом Господа - и
даже ангелы затянуты в борьбу -- я понял вот что: каждый в мире этом ангел,
мы с Чарли Чаплином видели их крылья, ангелу не обязательно быть
серафимоподобной маленькой девочкой с задумчивой печальной улыбкой, можно
быть Гулякой-Батчем в полосатом пиджаке скалящимся из своего подвала, из
этой клоаки своей, можно чудовищным чесоточным Вэллейсом Пивохлебом в
грязной майке, можно сумасшедшей индеанкой валяющейся в сточной канаве,
можно даже блистательным лощеным и шустрым Американским Чиновником со
смышлеными глазами, или даже желчным интеллектуалом европейских столиц, но я
вижу большие горестные невидимые крылья за всеми этими плечами и как же мне
жаль что они невидимы и бесполезны на этой земле и никогда не были полезны и
все чем мы заняты это бесконечная борьба до самой смерти -
Почему?
И в самом деле из-за чего же борюсь я сам? Позвольте же мне начать с
признания в моем первом убийстве и продолжить свой рассказ, и тогда все вы,
с крыльями и всем прочим, решайте сами - Это Инферно[2] - здесь я сижу
болтаясь вниз головой с поверхности планеты Земля, удерживаемый гравитацией,
выводя каракули своей повести и знаю что в повести этой никакой нужды нет,
но все же я знаю и то что в молчании тоже нет нужды - но это мучительная
тайна -
Зачем же еще нам тогда жить как не (хотя бы) попытаться рассказать об
ужасе и кошмаре этой жизни, Боже мой как же мы старимся, некоторые из нас
сходят с ума и все меняется так порочно - и эти порочные перемены ранят нас,
как только что-нибудь становится законченным прекрасным обалденным оно сразу
же начинает разваливаться и сгорать -
Простите меня за все это - но сколько я не извиняйся это не поможет
вам, не поможет и мне -
В горной хижине я убил мышь которая - ах - ее маленькие глазки смотрели
на меня умоляюще, она уже была непоправимо изувечена тычком моей палки в ее
убежище среди пачек липтоновского горохового супа, вся в зеленом порошке,
трясущаяся, я направил луч фонарика прямо на нее, разгреб пачки, и она
посмотрела на меня "человеческими" испуганными глазами ("Все живые существа
содрогаются в страхе наказания"), маленькие ангельские крылышки и прочее, и
я сделал это тогда, прямо в голову, резкий убивший ее удар , глаза внезапно
угасли засыпанные зеленой пылью - Убивая ее, я почти всхлипнул рыданием
"Бедная малышка!" как будто это сделал не я сам? - Потом вышел наружу и
опорожнил чан со склона, отобрав сперва неразорвавшиеся от удара упаковки
супа, съеденного потом мною с удовольствием супа - выбросив, поставил чан с
посудой (в котором складывал портящуюся еду и вешал потом под потолок, и все
же хитрая мышь как-то умудрилась запрыгнуть туда) поставил чан с посудой в
снег залив внутрь ведро воды и когда я посмотрел в него на следующее утро
там в воде плавала мертвая мышь - Я подошел к обрыву, поискал и нашел
мышиный трупик -- И я подумал "Ее спутник совершил самоубийство в ее
смертном чане, с горя!" - Происходило что-то зловещее. Я был наказуем
маленькими смиренными мучениками - И тогда я понял что это была та же самая
мышь, она прилипла ко дну чана (кровью?) когда я опрокидывал его в темноте,
а мертвая мышь в овраге была старая утонувшая в хитроумной водяной мышеловке
придуманной моим предшественником и которую я скрепя сердце тоже зарядил
(банка надетая на ось, с приманкой на крышке, мышь встает на нее чтобы
откусить кусочек и банка переворачивается скидывая мышь, я сидел и читал
днем когда услышал с чердака прямо над моей кроватью роковой маленький
всплеск и несколько первоначальных бьющихся попыток плыть, чтобы не слышать
эти звуки мне пришлось выйти во двор, почти плача, и когда я вернулся назад,
тишина) (и на следующий день, утонувшая мышь вытянувшая как привидение к
миру свою костлявую шею к смерти, волоски шерсти на хвосте колышутся по
воде) - Ах, убийство двух мышей и попытка убить третью, которая, когда в
конце концов я поймал ее за полкой с кружками, встала на маленькие задние
лапки глядя в ужасе вперед, и эта ее маленькая белая шейка, и я сказал себе
"Хватит", пошел спать и предоставил ей свободу жить и шебаршиться по комнате
сколько влезет - все равно позже она была убита крысой - Комочек мяса и
костей и ненавидящий бубонный хвост, и я уготовил себе временное пристанище
в аду убийц и все из-за ужаса перед крысами - я думал о кротком Будде не
испугавшемся бы крошечной крысы, и об Иисусе, и даже о Джоне Бэрриморе[3]
кормившем в детстве мышей в своей комнатке в Филадельфии - Выражения типа
"Ты мужчина или мышь?", "мудрость мышиная и мудрость человечья[4]" или "и
мыши не обидит " начали ранить меня и "он и мыши испугается" тоже -- И я
просил прощения, пытался раскаянно молиться, но меня не покидало чувство что
раз я отрекся от своего зарока быть святым ангелом с небес никогда не
убивающим, весь мир может теперь сгореть дотла - Так казалось мне - В
детстве я воевал с шайками мучителей белок, несмотря на риск для самого себя
- А теперь я сам - И я понял что все мы убийцы и мучители потому что в
прошлых жизнях убивали и должны были возвращаться чтобы отбывать свое
наказание, смертный приговор которым является жизнь сама, и поэтому в
нынешней жизни мы должны перестать убивать иначе мы будем вынуждены всегда
возвращаться из-за присущей нам Божественной природы и той магической силы
что делает очевидными наши истинные стремления - Я вспомнил как был опечален
мой отец утопив одним давешним утром мышонка, и как моя мать сказала "Бедные
малыши" - Но теперь я сам присоединился к шеренгам убийц и больше не имел
права быть таким праведным и самодовольным, ведь на какое-то время здесь (до
истории с мышью) я начал считать себя кем-то божественным и непогрешимым -
Теперь же я просто обычный человек-убийца как и все остальные и не найти мне
больше убежища на небесах и вот он я, мои ангельские крылья запятнаны кровью
жертв, малых и иных, и я пытаюсь говорить о том что нужно нам делать, но сам
знаю об этом не более вас -
Не смейтесь - у мыши есть маленькое бьющееся сердечко, и та маленькая
мышь которой я позволил жить за полкой с кружками была по-настоящему
"по-человечески" испугана, она была загнана в угол большим чудовищем с
палкой и она не знала за что ей выпала участь умереть - она смотрела вверх,
вокруг, по сторонам, с поднятыми маленькими коготками, на крошечных ножках,
тяжело дыша - затравленно -
Когда большой с корову олень пасшийся в моем залитом лунным светом
дворе застыл неподвижно я посмотрел на его бок как сквозь ружейный прицел -
и хотя я никогда не стал бы убивать оленя умирающего большой смертью -- все
же его бок для меня означал пулю, означал вонзающуюся стрелу, в сердце
человека всегда царит убийство - Святой Франциск должно быть знал об этом -
И представьте себе как кто-нибудь пришел бы в пещеру Святого Франциска и
рассказал бы ему кое-что из того, что говорится о нем сегодня злобными
интеллектуалами, коммунистами и экзистенциалистами по всему миру,
представьте: "Франциск, ты просто-напросто испуганный глупый болван,
прячущийся от трудностей жизни в миру, оттягивающийся на природе и
притворяющийся ужасно святым и любящим животных, и ты прячешься от реального
мира проявляя тем самым формальные херувимо-серафимские тенденции, в то
время как люди страдают и рыдающие старухи сидят на улицах и Ящерица Времени
вечно скорбит на горячем камне, ты, ты, считаешь себя таким святошей,
попердываешь тайком в своей пещерке, воняешь не менее других людей, ты что
хочешь сказать что ты лучше других?" Франциск мог бы его просто-напросто
убить - Кто знает? - Я люблю Франциска Ассизского не менее любого другого
человека в мире но откуда мне знать что он сделал бы? - мог бы и убить
своего мучителя - Загвоздка в том что, убьешь ты или нет, для сводящих с ума
пустоты и одиночества это не имеет никакого значения - Все что нам известно
наверняка - это то что все окружающее нас живо, а иначе его и не было бы
здесь - Все остальное лишь предположения, суждения ума о реальности чувства
добра или зла, так или иначе, но никто не знает всей святой истинной правды,
потому что она незрима -
Все святые отправлялись в могилу с той же гримасой что и убийца и
злодей, пыль не знает различий, она поглотит любые губы что бы те не
произносили и все это потому что ничто не имеет значения и все мы знаем об
этом -
Скоро возникнет новый вид убийцы, который станет убивать без всякой
причины, просто чтобы доказать что это не имеет значения и это его творение
будет не более и не менее ценным чем последние квартеты Бетховена и Реквием
Бойто - Церкви падут, монгольские орды помочатся на карту Запада,
короли-дегенераты будут рыгать на костях и всем будет наплевать когда земля
сама превратится в атомную пыль (которой она и была изначально) и пустота
так и останется пустотой ей будет все равно, пустота будет длиться с этой
доводящей до безумия усмешкой которая видится мне во всем, я гляжу на
дерево, камень, дом, улицу и я вижу усмешку - Это "тайная ухмылка Бога", но
что это за Бог который не смог додуматься до справедливости? -- Так что они
станут жечь свечи, произносить речи и ангелы впадут в исступление. Ах но "Я
не знаю, мне наплевать и это не важно" станет последней молитвой человека -
А в это время во всех направлениях вселенной, внутрь и наружу, наружу
ко всем бесконечным планетам бесконечного пространства (бесчисленнее
песчинок в океане) и внутрь в беспредельные пространства собственного тела
которое тоже бесконечный космос и "планеты" (атомы) (весь этот безумный
электромагнетический порядок скучающей вечной силы), все это время
происходят убийства и бесполезная деятельность, и так они происходили всегда
с самого начала безначальных времен, и будут происходить бесконечно, и все
что мы способны познать, мы, с нашими склонными искать оправдания сердцами,
это что вещи есть лишь то чем являются и не более и не имеют названия и суть
чудовищная сила -
Для тех же кто верит в личного Бога заботящегося о добре и зле и
обманывает себя за гранью сомнения, хоть Господь и благословляет их, на
самом деле он просто впустую благословляет пустоту -
И это не что иное как Бесконечность, бесконечно разнообразно
развлекающаяся прокручивая себе кино, пустота и материя одновременно, она не
ограничивает себя тем или другим, необъятность включает в себя все сразу -
Но я думал там на горе, "Что ж" (и проходил мимо маленького холмика где
похоронил мышь когда шел для своих ежедневных смрадных испражнений) "пусть
наши умы станут безучастны, пусть мы станем пустотой" - но как только мне
наскучило на горе и я спустился вниз, я так и не смог в жизни своей быть
чем-то иным, чем гневным, потерянным, пристрастным, циничным, запутавшимся,
испуганным, глупым, гордым, насмешливым, дерьмо дерьмо дерьмо --
Свеча горит
И когда она сгорает
Воск застывает красивыми наплывами
вот и все, что мне известно
И вот я начал утомительный спуск по горной тропе с набитым рюкзаком за
плечами и постоянный хрум-хрум моих подошв по камням и земле напомнил мне о
том что самое в мире важное для меня сейчас - это ноги - мои ступни -
которыми я так горжусь, и они начали сдавать уже через три минуты после того
как я бросил прощальный взгляд на свою затворенную сторожку (прощай чудачка)
и даже ненадолго преклонил перед ней колена (так преклоняют колена перед
памятниками ангелам мертвецов и ангелам нерожденных, перед сторожкой в
которой грозовыми ночами в моих Видениях мне было заповедано все) (и тогда
мне было страшно оторваться от земли, склонив голову, держась за нее руками,
потому что казалось мне что Хозомин обернется медведем или в ином мерзком
образе и обрушится на меня, склоненного) (в тумане) - К темноте начинаешь
как-то привыкать и понимаешь что все духи дружественны - (Хань-Шань говорил
"Холодная Гора таит множество скрытых чудес и люди взбирающиеся на нее
ужасаются") - ко всему этому привыкаешь, учишься тому что все мифы истинны
но пустотны, мифоподобны[5] и не здесь, но существуют многие вещи ужаснее и
страшнее на (перевернутой вверх ногами) поверхности земли чем тьма и слезы
-- Таковы люди, стоит твоим ногам начать сдавать, и вот твои карманы
вывернуты грабителями, и вот ты в агонии и умираешь - Нет на это времени,
нету и смысла, и ты слишком счастлив чтобы думать об этом когда наступает
Осень и ты тяжелой поступью спускаешься с горы к изумительным городам
бурлящим вдалеке -
Забавно что теперь, когда подошло (в безвременности) время покинуть эту
опостылевшую скалистую вершину-ловушку, я не испытываю никаких чувств,
вместо того чтобы воздать смиренную молитву своему святилищу оставляя его за
поворотом и за нагруженной спиной моей, я говорю лишь "Пум-бум - че-пу-ха"
(и знаю что гора, пустота, поймет) но где же радость? -- радость которую я
так ждал, радость сияющих скал и свежих снегов, непривычных священных
деревьев и милых укромных цветов возле уводящей вниз О радостной тропы?
Вместо всего этого я погружаюсь в размышления озабоченно пожевывая, и в
конце Голодного хребта, всего лишь чуть-чуть отойдя от сторожки, я уже
присаживаюсь отдохнуть и перекурить потому что мои лодыжки устали - Что ж, я
смотрю вперед и вижу Озеро ничуть не приблизившееся и выглядящее почти точно
таким же, но О, мое сердце рвется разглядеть что-нибудь - Господь создал
тонкую лазурную дымку заволокшую завесой безымянных песчинок бугроватости
розовеющего на севере позднеутреннего облака которое отражается в синей
поверхности озера, чуть розоватое, это отражение столь эфемерно что почти и
говорить-то не о чем, и все же мимолетность эта будто бы призвана
подтолкнуть меня в самое сердце и навести на мысль "Но ведь Господь создал
это маленькое таинство красоты чтобы я мог ее увидеть" (потому что вокруг
больше нет никого кто мог бы увидеть ее так) -- И на самом деле,
душераздирающее таинство это заставило меня понять его как игру Господа (для
меня) и увидеть крутящееся кино реальности как растворение зрения в озере
жидкого понимания, и я уже готов был к вскрику осознания "Я люблю Господа"
-- это наша с Ним возникшая на Горе связь - я полюбил Господа -- И что бы ни
случилось со мной на этой ведущей в мир тропе я принимаю это потому что я и
есть Господь и все это делаю я, а кто же еще?
В медитации
Я Будда - А кто же еще?
Все это время я сижу на высокогорном альпийском лугу вытянувшись не
вылезая из лямок и облокотившись на поставленный на травяной пригорок рюкзак
- Цветы повсюду - Гора Джек все там же, и Золотой Рог - Хозомин не видна,
спряталась за Пиком Одиночества - И вдалеке, там где озеро начинается, нет
никаких признаков Фреда с лодкой, они должны будут появиться в виде жучиных
кругов на округлой водяной пустоте озера - "Пора вниз" - Нужно спешить - За
два часа я должен пройти вниз пять миль - В ботинках истерлись подметки и я
смастерил толстые картонные подошвы, но камни уже изорвали и их, и вот уже
картон начал скользить по камням, и вот уже я ступаю по камням (с 70 фунтами
за плечами) ничем незащищенными ногами в носках - Ну разве это не смешно,
крутой певец гор и Король Пика Одиночества не может спуститься со своего
собственного пика - Я с усилием поднимаюсь, уф, весь вспотевший и начинаю
опять, вниз, вниз по пыльной каменистой тропе с крутыми как в аттракционе
"русские горки" спусками, съезжаю по некоторым из них скользя по склону на
ногах как на лыжах до следующего витка - набиваю себе ботинки камушками -
Но что за радость, мир! Я иду! - Но израненные ноги не могут радоваться
и праздновать это движение - Утомленные бедра дрожат и им больше не хочется
ничего нести на себе, но приходится, шаг за шагом -
Теперь я вижу след лодки появившийся на воде в 7 милях отсюда, это Фред
плывет встретить меня у подножия тропы, там где два месяца назад
тяжелогруженые мулы перебирались, оскальзываясь под дождем, с баржи на тропу
- "Я доберусь точняк вровень с ним" - "встречу лодку" - смеясь - Но тропа
становится все хуже, с высокогорных лугов русскими горками она спускается до
уровня зарослей подталкивающих мой рюкзак, и булыжники на тропе смерть для
моих зажатых сдавленных ног - Иногда тропа зарастает травой по колено, и
становится полной невидимых колючек - Я подсовываю пальцы под лямки рюкзака
чтобы поддернуть их повыше - Это куда труднее чем я думал - Я вижу как
ребята хохочут надо мной. "Старина Джек думал что пройдет тропу под своим
рюкзаком за два часа! Он и полпути не сделал! Фред ждал его с лодкой битый
час, потом пошел искать и прождал потом всю ночь, пока он не заявился при
свете луны хныча "О мамочка за что ж ты меня так?" - Я вдруг понял величие
труда пожарных на большом пожаре у Грозового - Ведь им пришлось так же
ковылять и потеть под рюкзаками с пожарным оборудованием, чтобы добраться
потом до обжигающего пламени и работать еще сильней и жарче, и никакой
надежды вокруг среди этих камней и скал - А я-то, со своей "китайской
обедой" в 22 милях от них, эх - Я продолжал спускаться вниз
Лучший способ спуститься с горы вниз это бежать размахивая руками и
позволив своему телу свободно падать вниз, ноги сами понесут вас - но О я
был безног потому что у меня не было обуви (как говорится в поговорке[6]), я
был "бос", и мне вряд ли удалось бы легко протанцевать вниз громадными
поющими-тропу прыжками выгрохатывая тра-ля-тра-ля, ведь я c трудом семеня
переставлял подошвы такие тонкие, и камешки такие неожиданные, некоторые из
них награждали меня предательскими ушибами -- Такое вот джон-баньяновское
утро[7] подумал я стараясь отвлечь свои мысли на что-нибудь другое - Я
пытался петь, размышлять, грезить, делать все то что я проделывал у своего
одинокого очага -- Но тропа эта Карма предназначена тебе -- Никак не
избежать мне было этого утра истертых измученных ног, пылающей боли в бедрах
(и жалящих иголок мозолей), удушающего пота, укусов насекомых, и спастись от
всего этого дано мне и дано тебе лишь в непрестанной попытке осознать
пустотность формы (включая пустотность формы своего стенающего тела) -- Я
должен был справиться, я не мог остановиться, и у меня оставалась лишь одна
цель, добраться до лодки, или даже упустить лодку, О как бы мне спалось этой
ночью на этой тропе, под светом полной луны, но полная луна сияет и в долине
- и там можно слышать льющуюся над водой музыку, вдыхать запах сигаретного
дыма, слушать радио - Здесь же у меня были лишь полуиссохшие сентябрьские
ручейки шириной с ладонь, бьющие струйками воды, которую я зачерпывал и пил
и рвался идти дальше - Боже - Как прекрасна жизнь? Прекрасна
как холодная
вода в роднике
на пыльной изнурительной тропе
- на бурой изнурительной тропе - в июне, весь заляпанный грязью из под
копыт мулов которых я тыкая прутом заставлял перепрыгивать через лежащее
бревно, слишком большое чтобы по нему ступать, и Боже мой, я должен был
провести сквозь кучку испуганных мулов кобылу наверх, и Энди ругался "Не
могу же я один делать все, что за хрень, тащи эту кобылу сюда!" и будто во
сне из моих прошлых жизней в которых я знал толк в лошадях, я залез на
бревно ведя ее за собой, и Энди перехватил поводья и рывком потащил ее,
бедолагу, наверх, в то время как Марти всадил ей палку в зад, глубоко -- и
потом подвел испуганного мула - и тоже ткнул его палкой - и дождь и снег -
сейчас все следы этого неистовства исчезли, высохли в сентябрьской пыли, а я
сижу на этом месте и попыхиваю сигареткой -- Много разных съедобных травок
вокруг - Человек смог бы прожить здесь, спрятаться среди этих холмов, и
варить себе травы, просто надо взять с собой немного жира, варить травы на
маленьких индейских костерках, и так прожить всю жизнь - "Счастливец тот у
кого под головой вместо подушки камень, а небо и земля пусть себе меняются
сколько хотят" пел старый китайский поэт Хань-Шань - Никаких карт, рюкзаков,
определителей пожаров, батарей, аэропланов, радиопредупреждений, одни
слаженно жужжащие комары и журчание ручейка - Но нет, Господь сотворил это
кино в сознании своем и я его часть (та часть которая называется - я) и мне
предназначено этот мир понять и пройти по нему молясь Алмазной Незыблемости
которая говорит: "Ты здесь и тебя нет, одновременно, и потому, что" -- "это
струение Извечной Силы" - Поэтому я рывком поднимаюсь с земли вместе с
рюкзаком, сую большие пальцы под лямки, морщусь от боли в лодыжках, и вот
уже тропа крутится быстрее и быстрее под моими семенящими ногами и скоро я
уже бегу, склонившись, как китайская женщина под вязанкой хвороста на шее,
кхрумм кхрумм волоча и проталкивая одеревеневшие колени сквозь каменистый
подлесок и обертывая ими повороты тропы, иногда меня заносит за пределы
тропы и тогда я запрыгиваю как-то назад, но не теряюсь, с этого пути не
собьешься - У подножия горы я встречу тощего паренька в самом начале его
пути вверх, я со своим гигантским рюкзаком настоящий громадина, я еду в
города чтобы пьянствовать с мясниками, и в Пустоте царит Весна - Иногда я
падаю, колени не выдерживают, я соскальзываю вниз, рюкзак защищает мне
спину, я падаю стучу скачу дальше, какими словами описать хрямппп кхруммп
вниз по мчащейся тропе, парамтарампарам - Свист, пот - Каждый раз ударяя
свой покалеченный на футбольном поле палец я вскрикиваю "Ну щас!" но еще ни
разу не ударил так чтобы вконец охрометь - Палец, изувеченный в потасовке на
матче Колумбийского колледжа, под фонарями в гарлемских сумерках здоровенный
детина из Сандаски наступил на него ногой в острой шиповке и изо всей своей
дурацкой силы - Палец с тех пор так и не пришел в норму -- он сломан и
чувствителен сверху и снизу, и когда он натыкается на камень моя лодыжка
сама судорожно поджимается защищая - да, этот поворот лодыжки не что иное
как павловский fait accompli[8], сам Арапетьянц не смог бы объяснить мне как
лучше ее повернуть и какие мышцы напрячь - это танец, танец с камня на
камень, с боли на боль, прорыдай гору сверху донизу, вот она поэзия - И мир
ждущий меня внизу!
Туманные Сиэттлы, комические спектакли, сигары и вина и газеты в
гостинице, туманы, паромы, яичница с ветчиной и тостами по утрам - милые мои
города внизу.
Ниже, там где начинается пояс густых лесов, желтизна громадных сосен и
бурая мешанина других деревьев, великолепный воздух ударяет мне в голову,
зеленый Северо-Запад, синие сосновые иглы, свежесть, лодка нарезает клин на
поверхности ближайшего озера, она опередит меня, но это неважно, двигайся
свингуй Маркус Мэгги - Это не первая твоя такая осень и Джойс придумал слово
длиной в строчку чтобы описать ее - брабаракотавакоманаштопатаратавакоманак!
Дойдя мы зажжем три свечи трем нашим душам.
Тропа, последние полмили, она теперь хуже даже чем у вершины, камни,
большие, маленькие, изогнутые расщелины, ловушки для ног - И мне уже себя
жаль, и конечно же я ругаюсь - "Никогда не кончится!" чаще всего повторяю я,
а ведь раньше стоя у своего порога я думал так "Разве что-нибудь в этом мире
может закончиться?" Но ведь это же просто тропа
Самсары-Мира-Полного-Страданий, подвластная времени и пространству, значит
она должна закончиться, но Боже мой конца ей все нет и нет!" - и я бегу
тяжело не в силах больше подпрыгивать -- И впервые я падаю полностью
изнуренный не думая ни о чем.
И лодка плывет прямо на меня.
"Не смогу"
Я сижу так долго, унылый и уничтоженный. - Не буду даже пытаться - Но
лодка приблизилась еще, это как ход часов цивилизации, успеть на работу
вовремя, это как на железной дороге, делаешь через "не могу" - Это ковалось
в кузницах железной вулканической мощи Посейдоном и его героями, Дзенскими
Святыми с их оточенным оружием разума, Господом Богом Франков - Я рывком
поднимаюсь и пытаюсь двигаться вперед - Ни один шаг мне не дается, ничего не
выйдет, сообщают мне бедра - ээх -
В конце концов я начинаю громоздить шаги перед собой, будто закидывая
тяжелейшие мешки на вытянутых руках вверх на стоящую платформу, то же
невыносимое напряжение - но босых ног (теперь уже искромсанных, кожа
ободрана, мозоли и кровь) которыми я могу двигать лишь чуть приподнимая и
сталкивая их вниз с горы, как падающий пьяница который всегда падает (почти)
но никогда совсем не упадет, а если я упаду то будет ли мне больнее чем моим
ногам сейчас? - не-а -- надо приподнять и подтянуть колено вверх, а теперь
вниз, набитую колючками ногу на острые кромки ножниц Блэйковского
Вероломства с копошащимися червями и проклятиями - пыль - я падаю на колени.
Стоя на них немного отдыхаю и вперед.
"Ах черт, Eh maudit", плачу я последние 100 ярдов - вот лодка
причаливает и Фред резко свистит, негромко, а по-индейски Фиээу! и я отвечаю
ему своим свистом, двумя пальцами - Он присаживается, и пока я заканчиваю
путь читает ковбойскую книжку - Теперь я уже не хочу чтобы он слышал мои
стенания, но он слышит он должен слышать медленные больные шажки - плуп,
плуп - тимбл тинк камешков сыпящихся с обрыва от моих шагов, горные цветы
больше меня не занимают -
За время спуска "Не могу" было единственной мыслью у меня в голове, и
эта мысль была сверкающим негативом другой впечатанной красноватым мерцанием
в пленку моего мозга мысли "Должен" --
Одиночество, Одиночество
как же нелегко
Спуститься с тебя
Но теперь все в порядке, вода была уже у меня под носом и назойливо
плескалась по сухим деревяшкам-плавунам, когда я проходил последние метры
последней прямой ведущей к лодке тропинки - Проковыляв по ней и махнув с
улыбкой рукой, я высвободил из плена свои ноги, мозоль из левого ботинка
которую я считал острым впившимся в кожу камешком -
В охватившем меня ликовании я пока еще не осознаю что наконец-то
вернулся в мир -
И трудно себе представить приятней человека чем встречающий меня у
подножия этого мира.
Фред старожил лесов и местный рейнджер и его любят все от молодежи до
стариков - В ночлежках лесорубов он печально обращает к тебе свое грустное
почти разочарованное лицо обращенное куда-то в пустоту, иногда он не хочет
отвечать на вопросы и, погруженный в свой транс оставляет тебя пить в
одиночестве - Поглядев в его глаза устремленные куда-то вдаль, понимаешь что
дальше уже не заглянуть - Великий молчаливый человечий Боддхисатва,
Боддхисатва жителей леса - Старый Блэки Блэйк любит его, Энди любит его, его
сын Ховард любит его -- Сегодня он заменяет старину Фила, у которого
выходной, и встречает меня в лодке, козырек его сумасшедшей кепки невероятно
широк, это кепка для гольфа которой он прикрывает голову от солнца хозяйски
бороздя озеро на своей лодке - "Вот и пожарный начальник", говорят рыбаки в
кепках с пуговицами из Беллингхема и Отея - из Скуохомиша и Скуоналмиша и
Ванкувера и усаженных соснами городков и пригородов Сиэттла - Они скользят
туда-сюда по озеру, закидывая свои лески чтобы поймать таинственных
радостных рыб бывших некогда птицами но павших -- И они, рыбаки эти, тоже
были ангелами, и пали, ведь отсутствие крыльев означает потребность в пище -
Но на самом деле они хотят выудить радость радостных мертвых рыб - Я видел
это - И я понимаю о чем кричит разинутый рот рыбы на крючке - "Раз уж
попался в когти льву, не рыпайся... в такой храбрости толку нет" - Рыба
покорна,
рыбак сидит
И закидывает леску.
Старый Фред должен приглядывать чтобы рыбаки не оставляли за собой
костров опасных для леса -- У него большой бинокль и он осматривает далекие
берега - Незаконные разжигатели костров - Пикники любителей выпить на
маленьких островках, со спальными мешками и банками бобов - Иногда женщины,
некоторые из них красивые - Великие плавучие гаремы на моторках, ноги,
ляжки, эти ужасные женщины Самсары-Мира-Полного-Страданий, показывающие свои
ляжки чтобы ты крутанул свое колесо[9]
Что заставляет Землю
крутиться?
То что между ног
Фред видит меня и заводит мотор и причаливает поближе, чтобы мне было
легче запрыгнуть, он издалека видит как я замотался -- Первым делом он меня
о чем-то спрашивает, я не слышу и переспрашиваю "А?" и он удивляется, но
ведь мы призраки проведшие лето в одиночестве и дикости, мы теряем свои
очертания, становимся эфемерными и как бы не отсюда - Спустившийся с горы
смотритель напоминает утонувшего мальчика явившегося в облике привидения, я
знаю - Но он всего-навсего спросил "Ну как там наверху погодка, жарко?"
"Нет, сильный западный ветер, с Моря, не жарко, это внизу только"
"Давай рюкзак"
"Он тяжелый"
Но он все равно перегибается через борт и затаскивает его, и все это на
вытянутых руках, одним мощным усилием, и кладет его на дно, тогда я
забираюсь и показываю на свои ботинки "Смотри, ботинки накрылись" -
Мотор заводится, мы отплываем и я накладываю бинты промыв ступни в
струе у правого борта - Ого, вода поднимается и захлестывает мне ноги, так
что я обмываю их целиком, до самого колена, замачиваю свои истерзанные
шерстяные носки, выжимаю их и кладу сушиться на корму - ууууу -
И так тарахтя мотором мы движемся назад в мир, ярким солнечным и
прекрасным утром, я сижу на передней скамье и курю новые Лаки-Страйк-Кэмел
привезенные им мне, и мы разговариваем - Мы орем - мотор грохочет -
Мы орем как принято в мире Не-Одиночества (?), люди кричат в своих
гостиных, или шепчут, шум их разговоров сливается в одну безбрежно безликую
составляющую священной шипящей тишины которую со временем начинаешь слышать
постоянно научившись этому (и научившись помнить как это делается) - Ну так
почему бы нет? давай же кричи, делай что хочешь -
И мы разговариваем об оленях -
Счастье переполняет меня, счастье, бензиновая дымка стелется по воде --
и я счастлив, у Фреда есть ковбойская книжонка и я начинаю ее перелистывать,
первую небрежно сляпанную главу с насмешливыми hombre в пыльных шляпах
замышляющими убийства собравшись в расщелинах каньона - ненависть окрашивает
их лица в синевато-стальной цвет - горестные, изможденные, мрачные старые их
лошади в буйных зарослях чапараля[10] - И я думаю "О уффф это же все сон,
так не все ли равно? Ну же, текущее сквозь все, давай, протеки и сквозь это,
и я с тобой" - "Протеки сквозь старину Фреда, дай и ему ощутить твое
блаженство, Господи" - "Протеки сквозь все" - И что такое вся Вселенная наша
как не Лоно? А Лоно Господа или Лоно Татхагаты, это два разных языка но не
два разных Бога - И все же истина относительна, и мир относителен - Все
относительно - Огонь есть огонь и не есть огонь - "Не разбуди спящего в
блаженстве своем Эйнштейна" - "А раз это лишь сон, то заткнись и радуйся
жизни - озеру сознания" -
Изредка Фред все же разговаривает, особенно со старым болтуном Энди,
свежевателем мулов из Вайоминга, но разговорчивость его не идет дальше
заполнения пауз - Впрочем сегодня пока я сижу и курю свою первую фабричную
сигарету, он говорит со мной, думая что мне это нужно после 63 дней в
одиночестве - и разговор с человеком для меня подобен полету в небесах с
ангелами.
"Олени, два оленя - они - однажды ночью двое оленят паслись в моем
дворе" - (я пытаюсь перекричать мотор) -- "Медведь, медвежьи следы --
черника - " "Странные птицы" продолжаю я мысленно, и бурундуки с маленькими
зернышками овса из кормушки в изгороди старого корраля в лапках - Пони и
лошади 1935 года
где
Они теперь?
"Стали койотами на Кратерной!"
Одинокое приключение - со скоростью три мили в час мы не спеша плывем
по озеру, я устраиваюсь на задней скамье и просто отдыхаю подставив лицо
солнцу, кричать уже не нужно - какой в этом прок - И вскоре он уже промахнул
все озеро, обогнул Старательскую справа, миновал Кошачий остров и устье
Большого Бобрового, и мы поворачиваем на маленький белый флаг-тряпку
трепыхающуюся на шестах (жердях), проплываем сквозь них - но попадаем в
затор других жердей, плавучих, которые величественно и неторопливо проделали
путь за август месяц с горного озерка у Хозомин - и вот они здесь и нам
приходится маневрировать и расталкивая их проскальзывать между - после чего
Фред погрузился на целый час в рассматривание формуляров страховки
снабженных картинками-комиксами повествующими о заботливых американских
героях пекущихся о ближних своих - неплохо - и снова вперед, по плоской
поверхности озера, дома и баржи курорта Росс-Лэйк-Ризорт - для меня это
Эфес, мать всех городов - мы направляемся прямиком туда.
А вот и набережная, на которой я провел целый день ковыряясь в
каменистой почве, копая Мусорную Яму Лесных Рейнджеров и разговаривая с
Зилом, на четверть индейцем, который уволился сбежав вниз по тропе ведущей с
плотины и никто потом его не видел, они еще с братом за отдельную плату
разрубали кедровые стволы - "Неохота мне работать на правительство, ну к
черту, уезжаю в Эл-Эй" - и тут же был берег озера куда я, закончив со своей
ямой и заскочив по дорожке петляющей по кустарникам в вырытую Зилом уборную,
спускался и начинал пулять камешками по плавучим консервным банкам-кораблям,
и Адмирал Нельсон я отгонял их и они плыли и растворялись в Золотой
Бесконечности - потом дело доходило до звучных плюхов корягами и
здоровенными булыжниками чтобы брызгами залить банки но они никак не тонули,
Ах, Доблестные - И длинные-предлинные ряды буев, я думал что мне удастся
допрыгать по ним до баржи Рэйнджеровской Станции без лодки, но когда я
доскакал до среднего буя и мне пришлось перепрыгнуть через три фута
неспокойной воды на полузатонувшую корягу, я почувствовал что промок и
сдался и вернулся назад - все это было здесь, в июне, а сейчас сентябрь и я
собираюсь проехать четыре тысячи миль к городам на самом краю Америки -
"Перекусим на барже а потом мне надо будет сплавать за Патом"
Пат сегодня утром начал пятнадцатимильный спуск с Поста на Кратерной, в
три часа ночи, и мы должны будем ждать его в два часа дня у устья Громового
ручья -
"Окей - но пока ты займешься этим, я слегка всхрапну", говорю я -
У матросов нет вопросов -
Мы пристаем к барже и я выскакиваю зачалить лодку а он выгружает мой
рюкзак, теперь я босиком и чувствую себя великолепно - И О большая белая
кухня полная жратвы и с радио на полке, и письма ждущие меня - Но в общем-то
мы не особо голодны, немного кофе, и я включаю радио а он отправляется за
Патом - двухчасовое путешествие, и вот я остаюсь вдруг один с радио, кофе,
сигаретами и чудной карманной книжонкой о героическом продавце подержанных
автомобилей в Сан-Диего который видит сидящую в кафешке девушку и думает
"Ловкая у нее задница" -- Ух ты, добро пожаловать в Америку - И вдруг по
радио Вик Дэмон напевает мелодию которую я позабыл и никогда не пел в горах,
старая классика, и не то чтобы совсем забыл, просто не вспоминал давно, а он
выдает ее тут с целым оркестром (О гений Американской Музыки), "В Этом Мире,
Обычных людей,
Не-о-обычных людей
Здорово что ты здесь",
- на "здесь" с придыханием, "В этом мире бесчисленных удовольствий и
малочисленных сокровищ", гм, "здорово, что ты здесь" - а ведь в 1947-м
именно я попросил Полин Коул передать Саре Воэн, что неплохо бы ей это спеть
- О чудесная американская музыка, теперь она всего лишь на том берегу озера
от меня, и вот, после нескольких милых забавных словечек ведущего в Сиэттле,
Ой, Вик поет
Прикосновение твоей руки
К моим бровям",
в среднем темпе, и вступает величественная труба, "Кларк Терри!" узнаю
я его играющего так прекрасно, и старая баржа постанывает на своих буях,
яркий полдень - Та самая старая баржа которая ветреными ночами хлюмпает и
гудит и брызги воющей воды сияют в лунном свете, О туманная печаль Крайнего
Северо-Запада, и больше нет границ которые я мог бы пересечь и - и мир, там,
впереди, лишь кусок сыра, и я это часть кино и эта прелестная песня-западня
-
Чтоб мне провалиться если это не они, старые друзья - горы четко
выделяющиеся над лежащим лоном лапис-лазурного озера, с весенним еще снегом
на вершинах, и эти скорбные всеохватывающие летние облака подцвечивающие
розовым Эмили Дикинсоновский[11] полдень мира и ах бабочек - Издевательское
стрекотание жучков в кустах - На барже жучков нет, только лиловое лоно воды
под днищами буйков и непрерывное журчание кухонного крана, всегда открытого,
из него льет бесконечным горным потоком чтобы вода не нагревалась,
захотелось попить - протяни стакан и готово, слейся с этой песней - Солнце
сияет - жаркое солнце сушащее мои носки на горячей рассохшейся палубе - и
Фред уже отдал мне новую старую пару ботинок на первое время, по крайней
мере чтобы добраться в них до лавки в Конкрите и купить себе новые - я
загнул головки торчащих гвоздей при помощи инструментов Лесной Службы взятых
из большого сарая со снаряжением, и теперь в них будет удобно если надеть
толстые носки - В горах и на войне высушить носки или иметь запасную пару -
большое дело
Ангелы в Одиночестве --
Видения Ангелов
Видения Одиночества
А н г е л ы О д и н о ч е с т в а
Все ближе и ближе старый Фред со своей лодкой, и я вижу на расстоянии
мили маленькую кукольную фигурку около него, Пат Гэртон, смотритель с
Кратерной, вернувшийся, задыхающийся, счастливый, такой же как я - Парнишка
из Портленда (Орегон) и все лето напролет мы обменивались утешениями по
радио - "Не волнуйся, скоро все закончится" и вот уже почти октябрь - "Ага,
но когда этот день придет, я собираюсь просто слететь с этой горы!" кричал
Пат - Но к несчастью его рюкзак был слишком тяжелым, почти вдвое тяжелей
моего, и он чуть не опоздал но какой-то лесоруб (добрая душа) поднес ему
рюкзак последнюю милю до устья ручья -
Они затаскивают лодку и привязывают веревочный чал, я люблю это делать
сам потому что в море привык иметь дело с толстенными конопляными канатами
завязывая их на столбы размером с меня, в размашистом ритме завязываемой
петли, на маленьких столбах это тоже приятно делать - К тому же мне хотелось
выглядеть полезным, ведь сегодняшний день мне тоже оплачивался - Они
выбрались из лодки и я взглянул на Пата чей голос я слышал все лето и он
выглядел вполне обыкновенно - Более того, как только мы зашли в кухню и он
шел бок о бок со мной меня охватило ужасное чувство что его здесь нет, и я
начал пристально вглядываться чтобы проверить - На мгновение этот ангел
исчез - Два месяца в одиночестве сделают с вами еще и не то, как бы ни
называлась ваша гора - Он был на Кратерной, которую мне было видно, прямо на
кромке воронки явно вулканического происхождения, на границе снегов, и
продуваемой со всех сторон света ветрами и бурями дующими снизу вдоль желоба
Рубиновой и Старательской, и с востока, и с моего севера, у него было больше
снега чем у меня - И койоты выли по ночам, сказал он - И ночью страшно
выходить из сторожки - И если когда-нибудь в своем портлендском пригородном
мальчишестве ему приходилось пугаться зеленой рожи в окне, то несколько раз
там, наверху, в его ночных осторожных зрачках отражались вкрадчивые морды -
Особенно туманными ночами когда легко представить себя в блэйковской
Завывающей Пустыне или просто в старомодном аэроплане тридцатых годов
затерявшемся в видимость-ноль тумане - "Ты здесь, Пат?" спрашиваю я в шутку
-
"Я бы сказал что здесь и готов идти - а ты?"
"В порядке - нас ждет еще одна длинная дорога с плотины, черт бы ее
подрал -"
"Я не уверен, что с ней справлюсь", честно говорит он, совсем
охромевший. "Пятнадцать миль с восхода до восхода - у меня ноги совсем
отваливаются"
Я приподнимаю его рюкзак и он весит сто фунтов - Он даже не позаботился
о том, чтобы избавиться от пяти фунтов литературы Лесной Службы, с
картинками и рекламой, все это было понапихано в рюкзак, и сверх того еще и
спальный мешок под лямками - Слава Богу у его ботинок хоть подошвы были на
месте.
Мы едим праздничный обед из разогретых старых свиных отбивных, вопим от
восторга при виде масла, джема и всего того чего нам так не хватало, пьем
кружка за кружкой приготовленный мной крепкий кофе и Фред рассказывает об
МакАллистеровском Пожаре - Похоже, что несколько сотен тонн оборудования
было сброшено с самолета, и все это теперь поразбросано по склону горы -
"Надо бы сказать индейцам, чтоб подобрали что им нужно" хочу сказать я, но
где они эти индейцы?
"Никогда больше не пойду в смотрители", заявляет Пат, и я повторяю это
-- так кажется мне тогда - перед отправкой Пат постригся ежиком а теперь за
лето оброс и я удивляюсь какой он молодой, 19 или что-то вроде, и я такой
старый, 34 - это меня не тревожит а скорее приятно - В конце концов старому
Фреду 50 и ему наплевать, и нам довелось встретиться всем вместе, так же мы
и расстанемся - Чтобы вернуться опять в какой-нибудь другой форме, всего
лишь форме, потому что сущность наших 3 существ не есть 3 их формы, они
просто протекают сквозь них - Так что Бог во всем, мы ангелы разума, и
поэтому возрадуйтесь и сядьте на свои места -
"Парень", говорю я "вечером я раздобуду парочку пива" - или бутылку
вина - "и сяду у реки" -- На самом деле я не говорю этого - Пат не пьет и не
курит - Фред постоянно прикладывается к бутылке, два месяца назад в
грузовике по дороге наверх старый Энди откупорил свою кварту купленного в
Мэрблмаунте двенадцатиградусного черничного вина и мы выхлебали его еще до
Нью-Халема - Тогда я пообещал Энди что в ответ куплю ему большую кварту
виски, но сейчас я вижу что его тут нет, видать ушел взяв свой рюкзак
куда-то в верховья Большого Бобрового, и у меня шевельнулась подленькая
мыслишка что мне удастся улизнуть не купив Энди этой четырехдолларовой
бутылки - После долгого застольного разговора мы собираем наши вещи -- и на
фредовой лодке заплываем за баржи Ризорта (бензозаправки, лодки, сдающиеся
комнаты, снасти и такелаж) до большой белый стены Плотины Росс - "Я понесу
твой рюкзак, Пат", предлагаю я, думая что я достаточно силен чтобы сдюжить и
пытаюсь удержаться от самодовольства, потому как сказано в Алмазном Резце
Обета Мудрости (моя библия Ваджра-чедика-праджня-парамита Сутра которая,
говорят, была продиктована вслух - а как же еще? - самим Сакъямуни) "Твори
благо но не думай о благотворительности, ибо благотворительность это всего
лишь слово", вот почему - Пат полон благодарности, рывком закидывает мой
рюкзак, а я беру его необъятный тяжелейший тюк, надеваю, пытаюсь встать и не
могу, для этого мне пришлось бы столкнуть с места самого Атланта - Фред
улыбается из лодки, на самом деле ему жаль что мы уходим - "До встречи,
Фред"
"Теперь вам немного осталось "
Мы отправляемся в путь но сразу же обнаруживается что мне в ногу впился
гвоздь, так что мы останавливаемся на дороге, я нахожу маленький кусочек
рыбацкой сигаретной пачки, делаю себе прокладку в ботинок и мы идем опять -
Меня трясет, мне это не по силам, мои бедра снова дрожат от слабости -
Крутая дорога вниз огибает утес у плотины - В одном месте она опять идет
наверх - Облегчение бедрам, и я наклоняюсь и устремляюсь вверх - Но
несколько раз мы останавливаемся, вымотанные - "Никогда не доберемся"
продолжаю повторять я бормоча это на разный манер - "Ты ведь научился на
этой горе чистым вещам, правда? - ты не чувствуешь что ценишь теперь жизнь
больше?"
"Это уж точно", говорит Пат, "и я буду рад когда мы отсюда выберемся".
"Эх, выспимся ночью в вагончике и завтра поедем домой - " Он мог бы в
пять вечера подвезти меня до Маунт Вернон по 99 Дороге, но я лучше не стану
ждать, а поеду стопом с утра -- "Буду в Портленде раньше тебя", говорю.
В конце концов тропа спускается до уровня воды и мы топаем потея мимо
группы сидящих рабочих Городской Гидроэлектростанции - как сквозь строй
-"Где тут лодочная станция?"
Его спальник под моими лямками соскользнул и размотался но мне плевать,
я так его и несу - Мы доходим до лодочного причала и там маленький
деревянный настил, скрипим прямо по нему, сидящие женщины и собаки должны
подвинуться, мы не можем остановиться, бабахаем поклажу на доски и presto я
падаю на спину, рюкзак под голову и закуриваю сигарету - Готово. Кончилась
дорога. Паром довезет нас до Диабло, короткий переход, гигантский переезд до
Питтсбурга и Чарли уже ждет нас внизу со своим грузовиком -
Потом вдруг на тропе, спуск по которой облившись десятью потами мы
только что закончили, показываются двое бегущих чтобы успеть на паром
обезумевших рыбаков, с поклажей и здоровенным навесным лодочным мотором
подвешенным на катящуюся и подпрыгивающую на камнях двухколесную конструкцию
- они успевают как раз вовремя, паром отчаливает, все уже погрузились - я
вытягиваюсь на скамье и начинаю медитировать и отдыхать - Пат позади
рассказывает туристам как он провел лето - Паром плывет, вспенивая воду в
узком месте озера между каменистыми утесами - А я просто лежу сложив руками
и закрыв глаза и медитирую на эту сцену издали - Я знаю что в ней есть нечто
большее доступного глазу, так же как глаз больше доступного ему - И вы тоже
это знаете - Путь занимает 20 минут и вскоре я чувствую как паром замедляет
ход и глухо ударяется о причал - Вверх, с рюкзаками, я все еще тащу большой
рюкзак Пата, великодушие до самого конца? - Даже сейчас у нас еще четверть
мили пыльной мучительной дороги впереди, поворот за валуном и хо! вот и
большая платформа-лифт готовая спустить нас на тысячу футов к маленьким
опрятным домикам с лужайками и тысячью кранов и проводов идущих от Плотины
Электростанции, Плотины Диабло, Дьявольской Плотины - дьявольски скучное
место для жизни, всего с одной лавкой и в ней нет пива - Жители поливают
свои лужайки-тюрьмы, дети с собаками, средняя Индустриальная Америка в
полдень - Робкая девчушка в мамином платье, беседующие мужчины, все уже
собрались на площадке лифта, и вскоре он начинает поскрипывать вниз и мы
медленно спускаемся в земную долину - Я все еще подсчитываю: "Движемся со
скоростью миля в час к Мехико-Сити и его высокогорному Плато, осталось еще
четыре тысячи миль" -- и прищелкиваю пальцами, кому какое дело? - Вверх
движется большой груз нескрепленного железа, ненадежный противовес нашему
спуску, величественные тонны и тонны черной тяжести, Пат показывает мне это
(с комментариями)(он собирается стать инженером) - У Пата легкий дефект
речи, такое легкое заикание, возбуждение, подмямливание и иногда удушье, его
губы чуть цепенеют, но разум у него острый - и есть мужская гордость - Я
помню как летом по радио он иногда срывался на очень смешные оговорки, все
эти его "ух-ты" и восторги, но трудно себе представить что-нибудь более
безумное по этому радио чем серьезный евангелист и студент-иезуит Нед Гауди,
разразившийся, когда его навестила компания наших альпинистов и пожарных,
сумасшедшим прихихикивающим смехом, ничего более дикого в жизни не слышал,
охрипшим голосом, и все из-за того что внезапно стал говорить с нежданными
посетителями - Что касается меня, то вся моя радио болтовня сводилась к
поэтичному "Лагерь Хозомин, сорок второй на связи" чтобы перекинуться парой
слов со Старым Скотти, так, ни о чем, нескольким коротким обменам
приветствиями с Патом, нескольким приятным беседам с Гауди, ну и пару раз в
самом начале я поддался и вступил в общий треп о том, какую еду я готовлю,
как себя чувствую и почему - Пат смешил меня больше всех - Частенько
упоминался некто "Джон Ногастик", и во время пожара Пат сделал два
объявления "Джон Ногастик Скуп прибудет со следующим грузом, Джон Твист
вывалился из первого самолета" - честное слово, так и сказал - совершенно
безумный парень -
У подножья лифта нет никаких признаков нашего грузовика, мы сидим,
ждем, пьем воду и разговариваем с маленьким мальчиком, прогуливающимся в
этот превосходный полдень со своей прекрасной большой Лесси - собакой колли.
В конце концов приезжает грузовик, его ведет старый Чарли, клерк из
Мэрблмаунта, шестидесяти лет, живет там в маленьком домике-автоприцепе,
стряпает, улыбается, печатает на машинке, подсчитывает заготовленную
древесину - читает у себя в вагончике - сын у него в Германии - моет за всех
посуду в большой кухне - Очки - седые волосы - однажды в выходные, когда я
спустился вниз за выпивкой, он собирался на прогулку в лес со счетчиком
Гейгера и удочкой "Чарли", сказал я, "точно тебе говорю, в пустынных горах
Чихуахуа полным-полно урана"
"А где это?"
"На юге Нью-Мексико и Техаса, дедуля - видел небось Сокровища
Сьерра-Мадре, ну это кино о старом плешивом старателе, Уолтере Хьюстоне,
который перешагал других парней и нашел золото, прыткий прям как горный
козел, они там еще в начале встретили его в бомжовой ночлежке, в пижаме?"
Но я особо много не разговаривал видя что Чарли как-то смущается, и мне
кажется они мало чего понимают в моей манере говорить с примесями
канадско-французского, нью-йоркского, бостонского и оклахомского говоров, и
даже с примесью испанского, и даже из "Поминок по Финнегану"[12] - Они
останавливаются ненадолго поболтать с рейнджером, я ложусь на траве и вижу
как дети глазеют на лошадей у изгороди под деревом, подхожу - Что за
прекрасные минутки в Унылом городке Диабло! - Пат валяющийся на травке (по
моему совету)(мы старые алкаши знаем тайну травы), Чарли болтающий со старым
приятелем из Лесной Службы, и этот прекрасный жеребец трущийся своим золотым
носом о подушечки моих пальцев, сопя, и маленькая кобылка около него - Дети
хихикают над нашими маленькими лошадиными нежностями - Один из них
трехлетний мальчик, никак не может дотянуться -
Они машут мне и мы отправляемся, с рюкзаками на спинах, в Мэрблмаунт,
где будем ночевать в вагончике - Беседуя - И горести не-горного мира уже
навалились на нас, громадные задевающие стенки каньона грузовики с камнем
громыхают в удушливой пыли, нам приходится остановиться на обочине чтобы их
пропустить - А пока справа от нас течет то что осталось от Скэджит-Ривер
после всех этих плотин и впадений в Озеро (моего Господа - любви) Росс
(серо-голубого) - мутнобурлящий бешеный старый поток, широкий, моющий золото
в ночи, стремящийся впасть в Скуохоулвиш Куакиютл Пасифик в нескольких милях
к западу - Любимая моя чистая речушка Северо-Запада, у которой я сиживал, с
вином, на присыпанных опилками пнях, потягивая вино под испепеляющими
звездами и наблюдая как живая гора испускает и гонит от себя эти снега -
Прозрачная, зеленоватая вода, хлюпающая на бревнах-топляках, и Ах реки
Америки которые видел я и которые видели вы - струение без конца, видение
Томаса Вулфа, Америка истекающая кровью в ночи своими реками бегущими к
бездонным морям, но восстающая водоворотами и новыми рождениями, громоносным
было устье Миссисипи в ту ночь когда мы повернули в него и я спал в койке на
палубе, всплески, дождь, вспышки, молнии, запах дельты в которой
Мексиканский Залив теребит свои звезды и явит покров вод своевольно
разделяющих недоступные горные массивы, где одинокие американцы живут среди
маленьких огней -- и именно розы всегда выплывают брошенные заблудившимися
но бесстрашными влюбленными с волшебных мостов розы чтобы кровоистечь в
море, иссушенные солнцем они впитывают влагу чтобы вернуться опять,
вернуться опять - Реки Америки, и все деревья всех этих берегов и все листья
на всех этих деревьях и все зеленые миры во всех этих листьях и все атомы во
всех этих молекулах, и все бесконечные вселенные во всех этих атомах, и все
наши сердца и все наши платки и все наши мысли и все клетки наших мозгов и
все молекулы и атомы в каждой клетке, и все бесконечные вселенные в каждой
мысли - пузыри и шары - и свет всех звезд танцующий на волнах всех рек без
конца и повсюду во всем мире, не только в Америке, ваши Оби и Амазонки, и
даже Тигры с Евфратами (верится мне), и Озера Нильской Дамбы чернейшей
Конголезской Африки, и Дравидийские[13] Ганги, и Янг-Цзе, и Ориноко, и
Платы, и Валоны и Мерримаки и Скэджиты
Майонез
Банки майонеза плывут
Вниз по реке
Мы едем вниз по ущелью в сгущающихся сумерках, около 15 миль, и
добираемся до правого поворота, после которого покрытая черным гудроном
дорога тянется милю не сворачивая среди деревьев и затаившихся ферм и
кончается тупиком у Рейнджерской Станции, такая вполне подходящая для
быстрой езды дорога что водитель последней машины моего автостопного пути
сюда два месяца назад, слегка перебравши пива, подлетел к Рейнджерской
Станции на скорости 90 миль в час, на скорости 50 крутанулся на усыпанном
гравием развороте, поднял облако пыли и до свидания, взревел и умчался прочь
так, что Марти - помощник рейнджера встретив меня, протянув руку и спросив
"Ты Джон Дулуоз?" добавил потом: "Это че, друг твой?"
"Нет"
"Я бы разъяснил ему кое-что насчет превышения скорости на
государственной дороге" - Теперь мы опять подъезжаем сюда, но на этот раз
медленно. Старый Чарли крепко сжимает руль в руках и наша летняя работа
закончена -
Вагончик стоящий под большими деревьями (с небрежно намалеванной на нем
цифрой 6) пуст, мы скидываем наше барахло на скамейки, повсюду разбросаны
книжки с девочками и полотенца оставленные большими пожарными командами во
время макаллистеровского пожара - Оловянные шлемы на гвоздях, старое
неработающее радио - Я начинаю с разведения большого огня в печке в душевой,
для горячего душа - и принимаюсь возиться со спичками и щепками. Подходит
Чарли и говорит "Разведи огонь посильней", поднимает топор (он затачивает
его сам) и я прямо обалдеваю от того как несколькими резкими внезапными
ударами топора (в полутьме) он раскалывает поленья напополам и стряхивает
половинки вниз, ему шестьдесят лет а я не могу так легко коцать дрова,
нечего и пытаться - "Бог мой, Чарли, я и не знал что ты так здорово с
топором обращаешься!"
"Угу"
Мне казалось что он попивает втихую, из-за его красноватого носа -- но
нет - когда он начинал пить так уж пил вовсю, но не на работе - В это время
Пат на кухне разогревает оставшуюся тушеную говядину - Какое мягкое и
восхитительное чувство быть опять в долине, тепло, безветренно, несколько
осенних желтых листьев на траве, теплые огоньки домов (дом рейнджера О`Хара,
с тремя детьми, и еще Герке) - И впервые я осознаю что уже действительно
Осень, и еще один год прошел - И эта смутная безболезненная ностальгия Осени
висит как дымка в вечернем воздухе и ты понимаешь "О Да, О Да, О Да" - На
кухне я подкрепляюсь шоколадным пудингом, молоком и целой банкой абрикосов в
сгущенке, потом еще догоняюсь громадной тарелкой мороженого - В списке
обедов записываю свое имя, чтобы потом с меня вычли 60 центов
"Так ты что, уже наелся что ли - а говядина?"
"Нет, мне хотелось как раз этого - теперь я сыт"
Чарли тоже ест - Мои чеки на несколько сотен долларов лежат в запертой
на ночь конторе, Чарли предлагает открыть ее для меня - "Не-а, а то точно
просажу три доллара на пиво в баре" - я проведу тихий вечерок, приму душ,
высплюсь -
Мы идем чуток посидеть у Чарли, в его трейлере, похоже на посиделки с
родственниками на кухне какой-нибудь фермы Среднего Запада, мне надоедает
эта скукотища и я иду принять душ -
Пат сразу начинает похрапывать но я не могу заснуть - выхожу и
присаживаюсь на бревнышке в ночи Индейского Лета, курю - Думаю о мире -
Чарли спит в своем трейлере - С миром все в порядке -
Впереди меня ждут приключения с куда более безумными ангелами, и
опасностями, и хотя и не могу их предвидеть, я решаю оставаться безучастным
"Буду просто протекать сквозь все это так, как это делает текущее сквозь все
- "
И завтра будет пятница.
В конце концов я иду спать, полурасстегнув свой спальник из-за жары в
этой удушливой низине -
Утром я бреюсь, пропускаю завтрак ради обильного обеда и иду в контору
за своими чеками.
Яркое утро за утренними столами
Где нас встречает тихая музыка
Босс уже на месте, вежливый здоровяк О`Хара с сияющим лицом, любезно
кивающий, с приятной манерой говорить, Чарли как всегда за столом, одуревший
от бумаг, и тут подходит помощник рейнджера Герке, одетый в комбинезон
лесоруба со всеми полагающимися висюльками (он начал так одеваться со
времени пожара, где испытал прилив воодушевления), в синей выстиранной
рубашке, с сигаретой во рту, пришедший на утреннюю конторскую работу только
что от молодой жены и стола с завтраком, его аккуратные очки сияют чистотой
- Говорит: "Что ж, вроде вам это не повредило" - Имея в виду что мы
прекрасно выглядим, хотя нам кажется что мы вымотались до полусмерти, Пат и
я - И они вручают мне прекраснейшие чеки, с которыми я могу отправляться
странствовать по миру, и я прохрамываю полторы мили до города в проложенных
свернутой бумагой ботинках чтобы оплатить мой 51.17$ счет в лавке (продукты
на все лето), потом на почту где перевожу деньги на оплату долгов - Рожок
мороженого и последние бейсбольные новости на зеленом стуле около травы, но
газета такая новая, чистая и свежеотпечатанная, а краска пахнет так что
мороженое кажется мне горьковатым и в голову лезет будто я жую бумагу и от
этого меня поташнивает -- Чертовы бумаги эти, меня тошнит от Америки, я не
могу есть бумагу - и вся выпивка их бумага, и двери супермаркета открываются
автоматически чтобы пропускать раздутые утробы беременных покупательниц -
бумага слишком суха - Жизнерадостный продавец проходит мимо меня и говорит
"Ну что, нашли что-нибудь новенькое?"
Сиэттлская Times
"Ага, бейсбольные новости", говорю я - облизывая свой рожок мороженого
- готовый к автостопной трассе через всю Америку -
Хромаю назад к вагончику, мимо тявкающих собак и северо-западных
персонажей сидящих на крылечках маленьких коттеджей, разговаривая о машинах
и рыбалке - Иду на кухню и разогреваю себе обед из пяти яиц, пять яиц, хлеб,
масло, и все - Просто чтобы перехватить чего-нибудь съестного перед трассой
- И вдруг приходят О`Хара с Марти и говорят что только что с Дозорной был
сигнал о пожаре и иду ли я? - Нет, я не пойду, я показываю им свои ботинки,
даже ботинки Фреда выглядят достаточно жалко, и я говорю "У меня мускулы
больше не выдержат, на ногах" - "по мелким скалам" - идти искать что-то что
может оказаться вовсе не пожаром а обычным дымком о котором сигнализировал
обожающий посылать всякие послания Хоуард с Дозорной горы, и это мог бы быть
обычный заводской дым - В любом случае, я в этом не собираюсь принимать
участие - Они по-настоящему пытаются меня переубедить, но я не могу - и я
ковыляю к себе в вагончик чтобы отправиться оттуда в путь, Чарли кричит мне
от дверей конторы "Эй, Джек, чего так хромаешь?"
Это меня здорово приободряет и Чарли подбрасывает меня до перекрестка,
мы дружески прощаемся, я обхожу машину с рюкзаком на плечах, говорю "Ну я
пошел" и махаю большим пальцем первой проезжающей машине которая не
останавливается - Пату, которому только что за обедом я сказал "Мир висит
вверх ногами, он очень смешной, и все это просто шизовая киношка", я говорю
"Пока, Пат, увидимся где-нибудь, hasta la vista", потом им обоим "Adios", и
Чарли говорит:
"Черкни мне открытку"
"С картинкой?"
"Ага, чего-нибудь" (потому что я договорился чтобы оставшиеся чеки мне
переслали по почте в Мексику) (так что потом с крыши этого мира я послал ему
открытку с красной ацтекской головой) - (так и вижу как они критически
разглядывают ее и смеются надо мной, вся троица, Герке, О`Хара и Чарли, "Они
и там внизу до него добрались", имея в виду индейские лица) - "Пока, Чарли",
я так никогда и не узнал его фамилии.
Я на трассе, и когда они уезжают я прохожу полмили чтобы скрыться за
поворотом и чтобы они не увидели меня на обратном пути - Проезжает машина,
она едет в другую сторону но останавливается и в ней старина Фил Картер,
паромщик с озерного парома, добряк-оклахомец, искренний и широкий как
пространства тянущиеся на восток, с ним едет восьмидесятилетний старик
пристально разглядывающий меня сверкающими глазами - "Джек, рад тебя видеть
- Это мистер Уинтер который построил сторожку на Пике Одиночества."
"Отличный домик, мистер Уинтер, вы прекрасный плотник" и я совершенно
искренен, вспоминая как ветра бились в стропила крыши, а дом укрепленный
бетоном на стальном каркасе, даже не шелохнулся - кроме того случая когда
гром тряханул землю и очередной Будда родился в Милл-Волли в 900 милях
оттуда - Мистер Уинтер продолжает разглядывать меня просветленными глазами и
с широчайшей ухмылкой - как Старый Конни Мэк - как Фрэнк Ллойд Райт[14] - Мы
пожали друг другу руки и попрощались. Фил, он был тем самым парнем который
читал по радио письма для ребят, трудно себе представить более печальную и
искреннюю его манеру читать " - и Мама хочет чтобы ты знал что Дж - дж -
джилси родился 23 августа, такой славный мальчишечка - И тут говорится" (Фил
запинается) "че-то такое непонятное, думаю твоя Мама малька запуталась с
этим пи-са-ни-ем" - Старина Фил из Оклахомы, где вопиют индейские
проповедники-чероки - Он отъезжает, в своей гавайской спортивной рубахе, с
мистером Уинтером (Ах Энтони Троллоп[15]), и я больше никогда его не увижу -
Лет 38 - или 40 - сидел у телевизора - пил пиво - рыгал - шел спать -
просыпался с Божьей помощью. Целовал жену. Покупал ей маленькие подарки. Шел
спать. Спал. Правил лодкой. Никогда ничем не интересовался. Ничего не
обсуждал. И ни критиковал. Никогда не говорил ничего, кроме простых
обыденных слов Дао.
Я прохожу около полумили по изгибу раскаленной сверкающей дороги,
солнце, дымка, похоже будет слишком жаркий денек для стопа с тяжелым
рюкзаком.
Собаки, лающие на меня с ферм меня не беспокоят - Старый Навахо Джеко -
Великий Ходок Йакуи идет ковыляя вниз во тьму.
Спрятавшись за поворотом так чтобы Пат и Чарли не стали смеяться надо
мной, или может даже О`Хара или Герке едущие куда-нибудь не увидели бы меня,
своего смотрителя этим летом, одиноко стоящим на пустынной дороге в ожидании
попутки на 4000 миль - Стоит яркий сентябрьский день, припекает дымчатое
солнце, слегка жарковато, я вытираю лоб красной банданой и жду - Подъезжает
машина, я машу пальцем, оп-па, она останавливается, чуть впереди меня, и я
срываюсь с места закинув рюкзак одной лямкой на плечо - "Куда едешь, сынок?"
дружелюбно спрашивает старый водитель с крючковатым носом и трубкой во рту -
Двум остальным похоже тоже интересно -
"Сиэттл", говорю я, "потом 99-я, Маунт Вернон, Сан-Франциско, до конца"
-
"Ну, чуток мы можем тебя подбросить"
Выясняется что они едут в Беллингхэм на 99-й, но это севернее моей
дороги и я решаю вылезти на повороте из долины Скэджит на 17-ю - Потом я
скидываю рюкзак на заднее сиденье, а сам забираюсь на переднее заставив
потесниться двух стариков, не размышляя особо и не заметив даже что
ближайшему это пришлось не по вкусу - Я чувствую что он заинтересовался
опять, только начав отвечать одновременно на вопросы всех троих, рассказывая
о здешних местах - Ну и чудаки же эти три старикана! Водитель флегматичный,
справедливый, любящий помогать другим, он решил посвятить себя Господу и все
это знают - около него сидит его старый приятель, тоже задвинутый на Боге,
но не так сильно приверженный доброжелательности и мягкости, слегка
подозрительный к побуждениям окружающих - Такие вот ангелы в пустыне - Тот,
который на заднем сиденье, слишком уж правильный тип, то есть вообще-то он
ничего, но по жизни занял заднее сиденье чтобы наблюдать и всем
интересоваться (как и я), и также как у меня в нем есть что-то от Простофили
и что-то от Лунной Богини[16] - В конце концов, когда я говорю "Приятный
ветерок там наверху" в завершение длинной беседы, пока Орлиный Нос петляет
по изгибам дороги, никто из них не отзывается, мертвая тишина, и я молодой
Шаман получаю наставление Трех Старых Шаманов хранить тишину, потому что
ничто не имеет значения и все мы Бессмертные Будды Познавшие Тишину, поэтому
я затыкаюсь и настает долгая тишина пока надежная машина скрежещет вперед и
я переправляюсь к другому берегу Буддами Нирманакайей, Самбхогакайей и
Дхармакайей, всей Троицей которые суть Одно, моя рука свешивается за дверь с
правой стороны и ветер дует мне в лицо и (с чувством счастливого возбуждения
от вида Дороги после проведенных среди скал месяцев) я вглядываюсь в каждый
маленький коттеджик и деревья и луг вдоль дороги, аккуратный маленький мирок
который Господь воздвиг нам для разглядывания и путешествий внутри этого
кино, тот самый суровый мир который исторгнет дыхание из наших грудных
клеток и уложит когда-нибудь нас окоченевших в могилу, и мы не станем
жаловаться (ведь жаловаться не стоит) - чеховский ангел тишины и печали
пролетел над нашей машиной - Мы въезжаем в старый Конкрит, пересекаем узкий
мост и вот мы среди кафкианских серых цементных заводов и подъемников для
бадей с цементом тянущихся целую милю, заезжаем на цементную[17] горку -
затем припаркованные маленькие Американские машины, вдоль по монашеской
деревенского вида Главной улицы с жарко посверкивающими окнами бесцветных
лавок, типа "Все за 5-10$", женщины в хлопковых платьях покупающие всякую
всячину, старые фермеры почесывающие себе ляжки в продуктовых лавках,
скобяная лавка, люди в темных очках у Почты, декорации которые я буду видеть
до самых границ Феллахской[18] Мексики - декорации сквозь которые мне
предстоит ехать стопом и от которых беречь свой рюкзак (два месяца назад на
трассе старый толстый ковбой в грузовике с гравием намеренно пытался наехать
на мой рюкзак, я успел оттащить его назад, он только ухмыльнулся)(я погрозил
ему кулаком чтобы он вернулся, и слава богу он ничего не видел, а то было бы
как в песенке "И вот теперь он в тюряге сидит, парнишка по кличке Бродяга
Боб, немало он пил, воровал и дурил, и вот теперь он в тюряге сидит") (и я
вовсе не беглый каторжник в отчаянной широкополой ковбойско-мексиканской
шляпе, который свернет себе самокрутку в захолустном баре, всадит перо в бок
бармену и отправится себе в Старую Мексику) (в Монтерей или Мацатлан лучше
всего) - Трое старикашек высаживают меня около Седро-Вулли, откуда я могу
стопить на 99-ю - Спасибо им -
Я перехожу раскаленную дорогу в сторону городка, мне надо купить новую
пару ботинок -- Пригладив расческой волосы на бензоколонке, выхожу в город и
на тротуаре вижу симпатичную женщину занятую своей работой (с шлангом на
заправке) и ее домашний енот подходит ко мне, присевшему на минутку свернуть
самокрутку, тыкается длинным странным и нежным носом мне в пальцы и хочет
есть -
Потом я отправляюсь дальше - с другой стороны петляющей дороги фабрика,
охранник на входе начинает рассматривать меня с величайшим интересом
"Взгляни на этого парня, с рюкзаком за плечами, он едет автостопом по
трассе, и куда на хрен его несет? откуда едет?" Он пялится на меня все время
пока я не прохожу подальше и не ныряю в кусты чтобы отлить по быстрому и
потом обратно, через маленькие лужицы и заляпанную смазочным маслом траву
разделительной полосы между щебенчатыми покрытиями автострады, и вхожу,
постукивая вприпрыжку большими скрипучими треснувшими на гвоздях ботинками,
в пределы Седро-Вулли - Перво наперво я делаю остановку в банке, здесь есть
банк, несколько человек глазеют на меня пока я несу свое бремя мимо них -
Ага, карьера Джека Великого Странствующего Святого только началась, он
набожно входит в банки и превращает государственные чеки в туристические[19]
-
Я выбираю хорошенькую рыжую хрупкую девушку, немного похожую на
сельскую учительницу, с голубыми доверчивыми глазами, и рассказываю ей что
мне нужны туристические чеки и куда я направляюсь и где был, и она кажется
заинтересованной, настолько что когда я говорю "Мне постричься бы не мешало"
(имея в виду после целого лета в горах), она замечает "Да вроде пока еще
ничего" и оценивающе рассматривает меня, и я знаю что она любит меня, а я
люблю ее, я знаю что вечером могу пойти с ней рука об руку к залитым
звездным светом берегам Скэджита, и она не станет возражать что бы я ни
делал, милая - она позволит мне осквернять ее по-всякому-разному, именно
этого ей и хочется, женщинам Америки нужны спутники и любовники, они
проводят целые дни в мраморных банках, возятся с бумагой, их угощают бумагой
в авто-кинотеатрах после Бумажных Фильмов, а они хотят целующих губ, рек и
травы, как в старые добрые времена -- И я так поглощен ее изящным телом,
милыми глазами и прелестными бровями под прелестной рыжей челкой, и
маленькими веснушками, и нежными запястьями, что не замечаю как позади меня
вырастает очередь из шести человек, старые злобно ревнивые женщины и
спешащие молодые люди, я тотчас отшатываюсь назад, с моими чеками,
подхватываю рюкзак и выскальзываю наружу - Оглядываюсь назад, она уже
занимается со следующим клиентом -
В любом случае пришло время для моего первого за десять недель глотка
пива.
Вот и салун... соседняя дверь.
Жаркий сегодня денечек.
Я беру пиво в большом сверкающем баре и усаживаюсь за столик, спиной к
стойке, сворачиваю самокрутку и тут подходит трясущийся старикан лет 80 с
тросточкой, садится за соседний столик и ждет с затуманенными глазами - О
Гоген! О Пруст! Будь я писателем или художником равным вам, я описал бы это
изъеденное землистое лицо, пророчество всех горестей человеческих, для этого
трогательного старого неудачника не существует ни рек, ни губ, ни соитий под
звездами, все это эфемерно, так или иначе но все утеряно - Чтобы ископать из
карманов свой маленький доллар ему понадобилось минут пять - Держит его
трясущимися руками - По-прежнему глядя в сторону бара - Бармен занят -
"Почему же он не встанет и не сходит себе за пивом?" - О что за горестная
картина в полуденном баре Седро-Вулли, в северо-западном Вашингтоне, в мире,
в пустоте, которая суть одиночество перевернутое вниз головой - В конце
концов он начинает стучать тростью пытаясь грохотом обратить на себя
внимание - Я пью свое пиво, заказываю второе - Думаю, не отнести ли пиво ему
- Но к чему вмешиваться? Войти как Черный Джек во всем великолепии своих
револьверов и прославиться на весь Запад прострелив Слэйду Хикоксу затылок?
Как и подобает парню из Чихуахуа, я ничего не говорю -
Два пива совсем не цепляют меня и я понимаю что алкоголь непричем, что
бы ни творилось в твоей душе -
Я выхожу вон и иду покупать себе ботинки -
Главная Улица, магазины, спортивные товары, баскетбольные и футбольные
мячи к наступающей Осени - Счастливчик Элмер в прыжке взмывает над
футбольным полем и поглощает громадные бифштексы на школьном банкете, и он
получит свою почетную грамоту, знаю я его - Я захожу в магазин, топаю
вглубь, снимаю свои гавнодавы и парнишка выдает мне синие холщовые ботинки с
толстыми мягкими подметками, я надеваю их и прохаживаюсь, ощущение такое
будто идешь по небесам - покупаю, оставляю там же старые и выхожу наружу -
Присаживаюсь около стены, зажигаю сигарету и наблюдаю за маленьким
полуденным городом, тут есть сараи сена и зерновые силосные ямы на обочине
городка, железная дорога, склад древесины, все прямо как у Марка Твена, из
таких вот мест Сэм Грант[20] и добывал пушечное мясо для могил Гражданской
Войны - и такая же сонная атмосфера зажигала огонь в вирджинских душах
Джексона Каменной Стены[21] - Одуреть можно -
Ну ладно, пора сваливать - назад на трассу, через железнодорожные пути,
и вон из города к повороту трассы где можно стопить машины сразу с трех
развилок
Жду около пятнадцати минут.
"На стопе", думаю теперь я чтобы укрепить свою душу, "проявляется твоя
хорошая и плохая Карма, и хорошая возмещает плохую, где-то там, дальше по
этой трассе" (я смотрю вдаль и вот она, в смутной дали, без надежды, без
названия, не от мира нашего) "будет кто-то кто привезет тебя вечером прямо в
Сиэттл к твоим газетам и вину, будь уж так любезен, подожди" -
Остановившийся оказывается светловолосым малым, с какими-то кожными
болячками из-за которых он не может больше играть в сборной Седро-Вулли по
футболу хотя раньше был восходящей звездой (мне кажется, это вполне может
оказаться правдой), но теперь ему разрешили выступать в рестлинговой[22]
команде, у него здоровенные бедра и руки, ему лет 17, и поскольку когда-то я
тоже был рестлингистом (Чемпион-Черная Маска нашего квартала) мы начинаем
говорить о рестлинге -- "Ведь это настоящий рестлинг, когда у ты стоишь на
четырех точках а другой парень сзади пытается тебя завалить[23]?"
"Точно, без всякого там телевизионного дерьма - настоящий"
"А как они подсчитывают баллы?"
Долгий и обстоятельный ответ на этот вопрос помогает добраться до
самого Маунт Вернона, но потом мне вдруг становится жалко что я не могу
остаться с ним, и заняться рестлингом, или даже погонять в футбол, такой он
одинокий американский парнишка, как девочка, жаждущий бесхитростной дружбы,
ангельской чистоты, меня бросает в дрожь от одной только мысли о всех этих
группках и кланах в колледже разрывающих его на части, и о его родителях, и
запретах врача, и том как редко ему выпадает случайная ночная везуха, да и
то если ночка выдалась безлунная - Мы обмениваемся рукопожатиями и я вылезаю
из машины, и вот я стою под жарким солнцем (4 часа пополудни) на углу перед
заправкой, машины возвращающихся домой после работы идут непрерывным
потоком, они думают только о том как бы ловчей обрулить поворот и не смотрят
на меня, так что я зависаю почти на час.
Забавный и жизнерадостный водитель кадиллака останавливается чтобы
подождать кого-то, когда он трогается с места я пытаюсь стопануть его, он
самодовольно ухмыляется, разворачивается и встает на противоположной
стороне, потом опять трогает, опять разворачивается и опять едет мимо меня
(на этот раз я и вида и не подаю) и опять останавливается, задерганное
нервное лицо, О Америка что сделала ты со своими автомобильными детьми! И
все же магазины полны лучшей в мире еды, вкуснейшие лакомства, свежие
персики, дыни, все маслисто-жирные плоды скэджитской земли богатой влагой и
улитками - Тут подъезжает Эм-Джи и Бог ты мой, за рулем Рэд Коэн, с
девушкой, говорил же он мне что собирается этим летом в Вашингтон, я ору
"Эй, Рэд!", он лихо разворачивается а я еще не окончив вопить понимаю что
это вовсе не Рэд, и ох опять эта ухмылка "я-тебя-не-знаю", и даже не ухмылка
а рычание, рыча и зажав своими лапами руль, уиипп, он разворачивается и с
ревом уносится прочь, обдавая меня выхлопной струей, какой-то иной Рэд Коэн
- и даже сейчас я не вполне уверен что это на самом деле не он, ставший
совсем другим и ожесточившийся - ожесточившийся на меня --
Муть.
Жуть.
Пустота.
Но вот является 90- или 80-летний окто-протогенерический[24]
беловолосый ариец-патриарх утопающий старчески в сидении водителя, он
останавливается для меня, я подбегаю, открываю дверь и он подмигивает
"Залезай, юноша, могу тебя маленько подвезти"
"А как далеко?"
"О - пару миль".
Так же было и в Канзасе (1952) когда меня подвезли на несколько миль по
дороге, в результате я очутился на закате один посреди бескрайних равнин,
машины катились мимо меня в сторону Денвера на скорости 80 и ни одна не
останавливалась - Но я пожимаю плечами "Карма-карма" и влезаю -
Он чуть-чуть поговорил, совсем немного, и я вижу что он действительно
очень стар, и еще что он очень забавный - Он начинает гнать свою развалюху
вперед, обгоняет всех, выходит на прямую трассу и выжимает 80 миль в час
среди полей и ферм - "Бог ты мой, а вдруг у него сердце прихватит?" - "Не
очень-то любите медленно ездить, а?" сказал я не спуская глаз с него и его
руля -
"Не-а"
И гонит еще быстрей...
Так значит меня везет в Страну Будд Хотсапхо через воды Не-реки старый
и безумный Святой Боддхисатва - который намерен либо довезти меня быстро,
либо не довезти совсем - Вот твоя Карма, созревшая как персик.
Я сдаюсь - В конце концов он не пьян, как тот толстяк в Джорджии (1955)
который гнал 80 по грунтовой обочине и при этом смотрел не на дорогу а на
меня, тут попахивало таким явным безумием что я вылез раньше времени и сел
на автобус до Биримингэма, так он вышиб меня из колеи -
Но нет, папаша доставляет меня в полном порядке к воротам стоящей
посреди равнин фермы, у него тут веранда обсаженная тремя вязами, и свиньи,
мы пожимаем друг другу руки и он отправляется ужинать -
И вот я стою, машины пролетают мимо меня, и я знаю что теперь уж точно
застрял на какое-то время - К тому же уже поздновато -
Но тут нарисовывается тяжелогруженый грузовик, он замедляет ход и
обдает клубами пыли меня стоящего на обочине, я бегу, запрыгиваю -
Благословенны будьте, Герои! Это здоровенный малый с крепкими кулаками,
Громила-Боец ИРМ[25], в двуцветной матросской куртке, да, такому морячку
никто не страшен, и к тому же он любит поговорить, и к тому же строит мосты,
и сзади у него мостостроительные бетонные блоки, ломы и прочие приспособы -
И когда я сообщаю ему что направляюсь в Мексику, он говорит: "Ага, Мексика,
мы вот с женой берем детишек в трейлер и в путь - всю дорогу до Центральной
Америки - Спим и едим в трейлере - у меня жена по-испански умеет, она и
болтает - а я просто хлебну там-сям по барам пару рюмашек текилы - Для
детишек хорошо, для образования - Мы только что вернулись на прошлой неделе,
помотались по Монтане, потом в Восточный Техас, и домой" - И я пытаюсь себе
представить каких-нибудь бандитов которым пришло бы в голову наехать на него
- 230 фунтов горделивых мускулов и костей - трудно себе представить, на что
он способен с девушками, или с ломом в руках - Ох, что-то мне неохота
рисовать такие картины в духе Ороско[26], в тонах соуса для спагетти - Он
довозит меня до Эверетта и высаживает под горячим вечерним солнцем на
каком-то местном недобродвее с внезапно унылыми краснокирпичными пожарной
станцией и башней с часами и мне становится совсем паршиво - Вибрации
Эверетта отвратительны - Мимо меня льется поток машин с озлобленными
рабочими, от них исходят волны усталости - Никто из них не снисходит до
взгляда в мою сторону, они только злорадно усмехаются - Это ужасно, это
настоящий ад - Я начинаю думать что мне лучше было бы остаться в своей
горной хижине в холодной звездной ночи. (Эвереттский расстрел![27])
Ну нет! Поток событий течет Кармою - и я не отступлюсь до самого конца,
до смертного моего часа - Я должен буду чистить зубы и тратить деньги до
конца времен, или хотя бы до того дня пока не стану последней на земле
старухой грызущей свою последнюю кость в пещере безысходности, и не
прошамкаю тогда я последнюю молитву в последней ночи, перед тем как уже
больше не проснуться -- А потом придется поторговаться уже с ангелами
небесными, но это будет так быстро, так астрально радостно, что совсем
нетрудно кажется мне - Но О Эверетт! Высокие штабеля бревен во дворах
лесопилок, вдали виднеются мосты, и так безысходно раскален тротуар -
Через полчаса, отчаявшись, я захожу в забегаловку и заказываю гамбургер
с молочным коктейлем - на трассе я позволяю себе тратить на еду больше -
Девушка за стойкой так подчеркнуто холодна что я погружаюсь в отчаяние еще
глубже, она неплохо сложена, такая точененькая, но какая-то бесцветная и у
нее бесчувственные синие глаза, и на самом деле она полностью поглощена
вошедшим типом лет тридцати который собирается отсюда в Лас-Вегас немного
поиграть, его машина стоит снаружи, и когда он выходит она кричит вдогонку
"Возьми меня как-нибудь покататься на твоей машине" а он так самоуверен что
это изумляет и раздражает меня, "О, я подумаю об этом" или что-то вроде
того, я смотрю на него, у него стрижка ежиком, очки и выглядит он мерзейше -
Он садится в свою машину и едет прямиком в Лас-Вегас - Мне кусок в горло не
лезет - Я расплачиваюсь и торопливо выхожу - Пересекаю с полным рюкзаком за
плечами дорогу - ох-ох -- Похоже, в конце концов я докатился до самого низа
(горы).
Стою я на жарище и не замечаю футбольную свалку позади, на фоне
закатного марева на западе, пока проходящий мимо моряк-автостопщик не
бросает мне "Давай, парень, маши!"[28], я оглядываюсь, вижу его и играющих
ребятишек одновременно и одновременно же останавливается машина с
выглядывающим из нее явно заинтересованным лицом, я бегу к ней кидая
последний взгляд на футбольную игру, где именно сейчас парнишка пытается
обвести защитника и теряет мяч -
Запрыгиваю в машину и вижу что водитель смахивает на скрытого гомика, а
значит скорей всего добродушный малый, поэтому я напоминаю о моряке "Тот
парень тоже стопит", мы его подбираем, и так вот втроем мы сидим на переднем
сиденье, закуриваем по сигарете и едем в Сиэттл, вот такие дела.
Бессвязный разговор о Флоте - ну и занудство "Стояли мы в Бремертоне,
нас там по субботам иногда выпускали прогуляться, но куда лучше стало когда
нас перевели в - " и я закрываю глаза - Немного расспрашиваю водителя о его
колледже, Вашингтонском Университете, и он предлагает подбросить меня до
кампуса, в общем-то я сам его к этому подвожу, так что мы оставляем морячка
где-то на пути (у него явные нелады с чувством прекрасного, едет по трассе и
везет с собой бумажный пакет с бельем своей девушки, я думал у него там
персики а он даже показал мне лежащий сверху шелковый лифчик) -
Кампус Вашингтонского Университета вполне приятный такой, красивый
даже, с большими новыми миллионооконными общагами и длинными недавно
проложенными пешеходными дорожками от суматошной автотрассы и О целый город
в городе, этот колледж, загадочный как китаец, сейчас мне с моим рюкзаком
дойти до него полная безнадега, я сажусь в первый автобус в центр, и вскоре
мы уже мчимся мимо славных скользящих морских волн, с древними шаландами, и
красное солнце тонет за мачтами и навесами, вот так-то лучше, вот это я
понимаю, это старый Сиэттл туманов, старый Сиэттл Город затянутый пеленой,
тот самый старый Сиэттл о котором я читал в детстве в призрачных детективных
книжках, и в Синих Книгах для мужчин, и все о тех самых старых временах
когда сотня человек врывались в подвал бальзамировщика, выпивали жидкость
для бальзамирования и умирали все, ушанхаивались в Китай, и глинистые отмели
- Маленькие домики с морскими чайками.
Следы девушки
на песке
- Кучка высохших водорослей
Сиэттл кораблей - холмов - доков - тотемных шестов - старых
локомотивных стрелок вдоль береговой линии - пара, дыма - Скид Роу[29],
баров - индейцев - Сиэттл моих детских мечтаний, который я вижу теперь в
свалке старого проржавевшего барахла огороженной покосившимся в этой общей
неразберихе неокрашенным забором --
Деревянный дом
блеклая серость -
Розовый свет в окошке
Я прошу водителя высадить меня в центре, выпрыгиваю из автобуса и топаю
мимо Муниципальных Дворцов и голубей вниз, куда-то в сторону моря, где можно
найти Скид роу и чистую хорошую комнатку с кроватью и горячей ванной на
первом этаже -
Я прохожу всю дорогу до Первой авеню и сворачиваю налево, оставляя
позади носящихся по магазинам приезжих и сиэттльцев, и ух-ты! - тут такой
всеобщий улет и безумное мельтешение по вечерним тротуарам что у меня чуть
глаза от изумления не вылезают - Девушки-индеанки в слаксах, с
парнями-индейцами подстриженными под Тони Кертиса - в обнимку - взявшись за
руки - славные оклахомские семьи, только что вылезшие из своих машин и
идущие в супермаркет за хлебом и мясом - Пьяницы - Двери баров мимо которых
я проношусь полны грустной ожидающей человечьей толпой, взмахом руки
заказывающей выпивку и глядящей на телевизионный бой Джонни Секстон - Кармен
Базилио - Ба-бах! И я воспоминаю что по всей Америке сейчас Вечер Пятницы, и
в Нью-Йорке всего десять часов и бой в Гардене только-только начался, и
портовые грузчики сидят по барам на Норт Ривер и все как один смотрят этот
бой и выпивают по 20 кружек пива каждый, и ФБР-овские шпики сидят в первых
рядах публики и делают ставки, их видно на экране, в раскрашенных вручную
галстуках из Майами - И считай по всей Америке идет этот Бой по Пятницам -
Большой Бой! - Даже в Арканзасе его смотрят по бильярдным и в домиках
стоящих среди хлопковых полей-клочков - повсюду - Чикаго - Денвер - везде
клубы сигарного дыма - и Ах печальные лица, я совсем позабыл их, а теперь
увидел и вспомнил что пока я проводил лето в молитвах и прогулках на горных
вершинах, среди снегов и камней, затерянных птиц и консервированных бобов,
эти люди посасывали сигареты и выпивку и тоже молились и бродили в своих
душах, на свой манер - все это вписано шрамами в их лица - Я должен зайти в
этот бар.
И я поворачиваю назад и захожу.
Кидаю рюкзак на пол, беру пиво в забитом людьми баре, сажусь за столик
за которым сидит уже один старик, лицом ко второму выходу из бара,
сворачиваю самокрутку и смотрю на бой и на лица - Тепло, человечность тепла,
и в ней есть потенциальная любовь, я чувствую это -- У меня сейчас свежий
взгляд новичка, я вижу -- И я могу сейчас произнести речь, напомнить им обо
всем и пробудить - И все же я вижу в этих лицах и скуку "А, знаем, слышали
мы такие дела, а мы вот тут внизу все сидели и ждали и молились, и в пятницу
вечером смотрели бокс по телевизору - и пили" - И Боже мой они действительно
пили! Каждый из них пьян в доску, я вижу это - Сиэттл!
Я ничего не могу предложить им кроме своей идиотской рожи, да и ту я
пытаюсь спрятать - Хлопочущему официанту все время приходится переступать
через мой рюкзак, я отодвигаю его, он говорит "Спасибо" - За это время
Базилио, ничуть не пострадав от слабых ударов Секстона, атакует и прямо таки
отметеливает его - это бой мышц против разума, и мышцы победят - Толпа в
баре это мышцы Базилио, а я - всего лишь разум - Надо бы мне поспешить
отсюда - В полночь они начнут свой собственный бой, юные громилы из кабинки
- Надо быть долбанутым буйным мазохистом Джонни О Нью-Йоркцем чтобы приехать
в Сиэттл и ввязываться в кабацкие драки! - Тебе нужны шрамы! Познать боль!
Что-то я начинаю писать как Селин -
Я выхожу и иду искать себе комнату в Скид Роу на ночь.
Ночь в Сиэтле.
Завтра будет дорога на Фриско.
Отель "Стивенс" - старый чистый отель, заглянув в большие окна его
видишь чистый кафельный пол, плевательницы, обитые кожей стулья,
потикивающие часы и сидящего в своей клетушке клерка в очках с серебряной
оправой - $1.75 за ночь, дороговато для Скид Роу, но зато нет клопов, это
важно - Я снимаю номер и поднимаюсь на лифте с лифтером, третий этаж, и
попадаю в свою комнату - Кидаю рюкзак на кресло-качалку, ложусь на кровать -
Мягкая кровать, чистые простыни, передышка и пристанище до часу дня, когда я
должен буду его освободить -
Ах Сиэттл, печальные лица в человеческих барах, ведь вы не подозреваете
что висите вниз головой - Ваши печальные головы, люди, болтаются в
безграничной пустоте, вы бродите по поверхности улиц, или в комнатах своих,
перевернутые, ваша мебель тоже перевернута и удерживается гравитацией, и
единственное что мешает всему этому хозяйству улететь - это законы сознания
вселенной, Бога - Ожидание Бога? Но он безграничен, поэтому существовать не
может. Ожидание Комми? Все то же, милый певец Бронкса. Лишь одна вещь
первична - материя сознания, и какие бы странные имена и формы не находились
для нее, все они сгодятся - эх, я встаю и выхожу купить себе вино и газету.
В ближайшей забегаловке все еще показывают бой, но что еще мне нравится
там (на залитой розово-синим неоном улице) так это человек в жилетке
старательно выписывающий мелом на огромной доске результаты сегодняшних
бейсбольных игр, прямо как в старые времена - Я стою и смотрю.
В газетном киоске, Бог ты мой, тысяча книжек с девочками,
демонстрирующими все пышные груди и ляжки этой вселенной - и я понимаю что
"Америка рехнулась на сексе, они ненасытны, что-то и где-то тут не так, и
скоро эти книжки заполонят все, они покажут все складки и изгибы кроме дыры
и соска, они сумасшедшие" - Конечно же, я тоже глазею на них, томясь вместе
с другими сексуальными неврастениками.
В конце концов я покупаю Сент-Луисские Спортивные Новости чтобы узнать
бейсбольные новости, и журнал "Тайм" почитать что нового в мире и узнать все
о том как Эйзенхауэр машет рукой из отправляющегося поезда, и еще бутылку
итало-швейцарского Колониального портвейна, дорогого и наверно хорошего -
думаю я - Со всем этим я топаю назад по улице и вижу комический театрик,
"Сходить что ли вечерком на комик-шоу!" хихикаю я (вспомнив Старину Ховарда
из Бостона) (к тому же недавно я прочитал о том как Фил Силверс поставил
где-то опять древний комик-шоу и как классно у него получилось) - Да -- уж
точно -
И после полутора часов, проведенных в своей комнате потягивая вино
(усевшись скинув башмаки на кровати и подложив подушку под спину) и читая о
Микки Мэнтле, Лиге Трех-Ай, Южной ассоциации, Западно-Техасской Лиге, о
последних переходах из команды в команду, и звездах, и подающем надежду
молодняке, и даже читая новости Малой Лиги чтобы узнать имена 10-летних
лучших подающих и бегло просматривая Тайм (оказавшийся не таким уж
интересным когда тебя переполняют выпивка и улица за окном), я выхожу
наружу, осторожно перелив вино в свою флягу (до того она служила мне на
трассе для утоления жажды и смачивания красной банданы на голове), засовываю
ее в карман куртки и спускаюсь вниз в темноту -
Огни неона, китайские ресторанчики
приближаются
Девушки проходят в полумраке
Глаза - чудной парнишка-негр, заопасавшийся вдруг моего осуждения,
взглядом, из-за принятой на Юге сегрегации[30], и я чуть было его не
заосуждал, за зашуганность, но не хочу привлекать его внимания и поэтому
отвожу глаза - Проходят загадочные филиппинские никто, размахивая руками, их
таинственные бильярдные, бары и плавучие ресторанчики - Сюрреалистическая
улица, стоящий у стойки полисмен так напрягается увидев меня входящего,
будто я собираюсь спереть у него выпивку - Переулки - Проблески древней воды
между древними коньками крыш - Луна, восходящая над центром города, чтобы
остаться незамеченной в сиянии огней Аптеки Гранта, белом сиянии неподалеку
от магазина Тома Мак-Анса, тоже сияющего, открытого, около киношного навеса
где показывают Благородную любовь и стоит очередь ожидающих красивых девушек
- Бордюры тротуаров, темные переулки, где парни на мощных переделанных
машинах[31] разворачиваются с ревом - проверяя моторы своими шинами, скииик!
- слышится повсюду в Америке, это бесколесный Чемпион Джо ждет своего часа -
Америка так велика - И я так люблю ее - И ее великолепие переплавляется и
стекает в трущобы, Скид Роу и все эти Таймс-скверы - лица огни глаза -
Я сворачиваю в боковые улочки выходящие к морю, сажусь на бордюр
тротуара напротив мусорных контейнеров, пью вино и наблюдаю за стариками в
Старом Польском Клубе напротив, играющими в пинокль[32] под коричневатым
светом лампочек, среди великолепных зеленых стен и с таймерами отмеряющими
время игры - Зууууу! по бухте плывет в океан грузовой корабль Порт Сиэттла,
паром из Бремертона осторожно прокладывает себе путь, группки разодетых
пассажиров на борту, на окрашенной белым палубе они оставляют непочатую
поллитру водки, завернутую в журнал Лайф чтобы какой-нибудь я мог найти ее
(как это случилось два месяца назад) и выпить под дождем, плывя неторопливо
- Деревья кругом, узкий залив Пиджет Саунд - Разбойничьи гудки буксиров в
бухте - Я пью свое вино, теплая ночь, а потом сваливаю оттуда в комик-шоу -
И вхожу внутрь как раз вовремя чтобы поспеть на первый номер.
Ого, они смогли заполучить сюда Сис Мерриди, девушку с другого берега
бухты, ей бы танцевать не в дурацком комик-шоу где она показывает свои груди
(идеальные) и ими особо никто не интересуется потому что она не выделывает
этих всяких штучек-дрючек - она слишком чистая -- а публика в темном зале,
вися вниз головой, хочет грязную девку - И грязная девка за кулисами
прихорашивается, вися вниз головой перед своим зеркалом у выхода на сцену -
Занавес медленно отъезжает, уходит танцовщица Эсси, в темном зале я
делаю глоток вина, и под внезапно яркое освещение сцены выходят два клоуна.
Шоу начинается.
На Эйбе шляпа, длинные подтяжки, он их постоянно подтягивает, чокнутая
рожа, видно что большой любитель девочек, к тому же постоянно чмокает губами
и вообще старый сиэттльский призрак - Слим, его партнер-простак, смазливый и
кучерявый, похож на порногероя с похабных открыток которые показывают
девушкам -
ЭЙБ Где тебя черти носили? СЛИМ Сидел дома деньги считал. ЭЙБ О чем это
ты, че за хрень - деньги --
* * * *
СЛИМ А я был на кладбище ЭЙБ А там-то ты че делал? СЛИМ Жмурика
закапывал[33]
* * * *
такие вот шуточки - Они продолжают тянуть свою невероятную тягомотину
на сцене, занавес тут бесхитростный, и вообще бесхитростный такой театрик -
Все погрязли в тревогах своих - Появляется девушка и идет через сцену - В
это время Эйб немного отпивает из бутылки и пытается хитростью заставить
Слима допить ее до конца - Все, актеры и публика, смотрят на девушку которая
выходит и прохаживается по сцене - Ее походка это произведение искусства --
Но вот соображать ей бы стоило пошустрей -
Они представляют ее, испанская танцовщица, Лолита из Испании, длинные
черные волосы, темные глаза и бешеные кастаньеты, и она начинает
раздеваться, отбрасывая одежду с криком "Оле!", вскидывая голову и показывая
зубы, публика ест глазами ее кремовые плечи и кремовые ноги, она вертится
вокруг кастаньет, потом опускается вниз, подносит пальцы к застежке и
скидывает платье целиком, под ним изящный покрытый блестками "пояс
верности", потом она обхватывает себя руками, танцует, постукивает
каблучками и изгибается так что ее волосы струятся к полу, и аккомпаниатор
на гармошке (Слим) (спрыгнувший на танцевальную сцену) выдает потрясающий
Уайлд-Билловский Джаз - я стучу ногами и ладонями, это настоящий джаз и
превосходный! - Лолита начинает носиться по сцене, оказывается у боковой
кулисы где приспускает свой лифчик но не скидывает его совсем, и исчезает со
сцены по-испански - Пока что она мне нравится больше всех - и я пью за нее в
темноте.
Огни загораются опять и опять выходят Эйб со Слимом.
"Так чем же ты занимался на кладбище?" говорит Судья, Слим, сидя за
столом, с молотком, и Эйб подсудимый -
"Я хоронил там жмурика"
"Ты же знаешь, что это противозаконно"
"Но не в Сиэттле" говорит Эйб и показывает на Лолиту -
И Лолита, с очаровательным испанским акцентом, говорит "Он был
жмуриком, а я гробовщиком" и то как она произносит это, слегка качнув задом,
заставляет весь зал одуреть и театр погружается во тьму, все хохочут,
включая меня и крупного негра позади меня, который орет от восторга и
колотит по всему попавшемуся под руку, потрясающе -
Выходит негр-танцор средних лет чтобы исполнить нам стремительную
чечетку, начинает постукивать, но больно уж он стар и к тому же задыхается,
ему не дотянуть до конца и музыка пытается подбодрить его (Слим на Гармошке)
но здоровяк-негр позади меня начинает выкрикивать "Э-гей, э-ге-гей" (будто
хочет сказать "Хорош, иди домой") - Танцор отчаянно пыхтя пытается сказать
что-то своим танцем и я молюсь за него чтобы у него все получилось, я
сочувствую ему, он только что из Фриско, получил новую работу и должен
как-то справиться, я хлопаю с воодушевлением когда он уходит -
Вот великая человеческая драма представшая моим всепознавшим в
одиночестве глазам -- висит перевернутая вниз головой -
Пусть же занавес раскроется шире -
"А теперь", объявляет в микрофон Слим, "мы представляем нашу
сиэттльскую рыженькую КИТТИ О`ГРЕДИ" и тут входит она, Слим хватается за
Гармошку, а она высокая, с зелеными глазами, рыжими волосами, и маленькими
шажками семенит по сцене -
(О Эвереттские Расстрелы, где же был я?)
Миленькая мисс О`Греди, так легко представить себе ее с детской
коляской - Знакомый типаж, и в один прекрасный день я увижу ее в Балтиморе
высунувшейся из краснокирпичного окна, с цветочным горшком подле, и с
волосами подкрашенными перманентом - я увижу ее, я видел ее, родинку на ее
щеке, мой отец видел шеренги Зигфильдовских[34] Красоток "А тебе в молодости
не приходилось работать в Фоли[35]"?, спрашивает У. К. Филдс[36] огромную
весящую добрых 300 фунтов официантку в "Ланчионэтт" с Тридцатых улиц - и она
говорит глядя на его нос, "Есть у тебя кое-что ужасно большое" и
отворачивается прочь, а он оглядывает ее сзади, и говорит "У тебя тоже
найдется кое-что ужасно немаленькое" - Я увижу ее, в окне среди роз, родинка
и пыль, и старые сценические дипломы, и кулисы, кулисы сцены нашего мира -
Старые Афиши, переулочки, запыленный Шуберт, и кладбищенские поэмы Корсо --
и состарившийся я - филиппинцы будут мочиться в этом переулке, и
пуэрториканский Нью-Йорк падет, ночью - Иисус придет опять 20 июля 1957 в
14.30 - А я увижу (увидел) миленькую хохотушку мисс О`Греди элегантно
семенящую по сцене чтобы развлечь заплативших за это клиентов, послушную как
котенок. И думаю "А вот и она, Слимова бабенка - Это его девушка -- и он
носит ей в костюмерную цветы, он старается ей услужить" -
Но нет, она старается изо всех сил выглядеть порочной но у нее ничего
не получается, она продолжает показывать свои груди (и получает в ответ
свист), и тогда Эйб со Слимом, при ярком свете, разыгрывают с ней маленькую
сценку.
Теперь Эйб судья, стол, молоток, стук! Они арестовывают Слима за
непристойное поведение. И вместе с мисс о`Греди вводят его.
"Ну, так что он совершил непристойного?"
"Ничего не совершил, просто он сам по себе непристоен"
"Почему?"
"Покажи ему Слим"
Слим, в купальном халате, поворачивается спиной к публике и открывает
полы халата -
Эйб перегибается через судейскую кафедру чтобы рассмотреть и чуть не
переваливается "Боже ты мой всемилостивый, не может этого быть! Нет, ну
видали вы что-нибудь подобное? Мистер, а вы уверены что это все ваше? Это не
только непристойно, это неправильно!" Ну и так далее, гоготанье, музыка,
темнота, лучи прожектора, Слим торжествующе объявляет:
"А теперь - Порочная Девчонка - С А Р И Н А !"
И бросается к своей гармошке, грохочуще-протяжная джазовая рулада, и
выходит порочная Сарина - По всему залу ураган воодушевления - У нее
бегающие кошачьи глаза и лицо грешницы - изящные кошачьи усики -- она как
маленькая ведьма - без метлы - выходит крадущейся походкой и подергиваясь
под ритм.
Тонковласая Сарина
яркая
Востанцевала
Она немедленно садится на пол в позу полового сношения и начинает
конвульсивно вращать оттопыренным вверх к небесам задом - Она болезненно
извивается, с искаженным лицом, оскаленными зубами, растрепанными волосами,
плечи ее выгибаются и трясутся - Она стоит на полу опершись на руки и
отрабатывает свое перед публикой состоящей из сидящих в темноте мужчин,
некоторые из них студенты из колледжа - Свистки! Гармошка выдает
низкопробный давай-ложись-а-ну-пригнись блюз - И впрямь до чего ж она
порочна с этими ее глазами, бегающими и пустыми, и тем как она ходит в ложу
справа и проделывает там все эти тайные грязные штучки с большими шишками и
продюсерами, как показывает кусочки своего тела и спрашивает "Да? Нет?" - и
сжимается опять и переворачивается и вот теперь кончики ее пальцев скользят
к поясу и она медленно снимает платье многообещающими пальцами, крадущимися
и медлящими, вот она демонстрирует бедро, еще выше, кусочек лобка, кусочек
живота, она переворачивается и обнажает кусочек ягодицы, она высовывает язык
- пот сочится у нее изо всех пор - я не могу удержаться и думаю о том что
Слим выделывает с ней в костюмерной -
К этому времени я уже пьян, выпил слишком много вина, у меня кружится
голова и весь темный театр этого мира вращается вокруг своей оси, это
безумие, я туманно вспоминаю познанную в горах перевернутость и ух ты, смех,
страсть, смрад, секса сласть, что они делают все эти люди сидящие на своих
сиденьях в громыхающей волшебной пустоте, хлопающие ладонями и завывающие в
такт музыке на девушку? - К чему все эти занавеси, и кулисы, и маски? и эти
световые пятна разной яркости, скачущие повсюду и отовсюду, розовые,
красные, сердечно-грустные, мальчишески-синие, девчоночьи-зеленые, черные
цвета испанской накидки и иссиня-черные? Ух, ох, я не знаю что мне делать,
Порочная Сарина уже лежит на сцене на спине и медленно протягивает свои
аппетитные чресла какому-то воображаемому Человеко-Богу на небесах, дарящему
ей вечное наслаждение - и вскоре улицы будут завалены беременными воздушными
шарами и брошенными презервативами и звезды наполнятся спермой и осколками
битых бутылок, и стены будут возведены чтобы оградить ее в некоем замке
Испанского Безумного Короля, и в стены эти будут зацементированы битые
пивные бутылки для того чтобы никто и никогда не смог попасть в обхват ног
ее кроме Султанского члена, он единственный коснется соков которыми истекает
она сейчас, а потом отправится в свою могилу в которой не будет никаких
соков, и в ее могиле вскоре не останется соков после того как исчезнут те
темные соки что так ценятся червями, потом пыль, атомы пыли, и будут ли эти
атомы атомами пыли или атомами бедер и вагин и пенисов, какая разница, все
это Корабль Небесный - Целый мир ревет здесь, в этом театре, и глядя вдаль я
вижу неисчислимое горюющее человечество хныкающее при свете свечей, и Иисуса
на Кресте, и Будду сидящего под деревом Бо, и Магомета в пещере, и змею, и
взошедшее высоко солнце, и все Аккадийско-Шумерские древности, и античные
корабли увозящие куртизанку Елену прочь к схваткам последней войны, и
разбитое стекло крошечной бесконечности до того крошечной что не остается
ничего кроме белоснежного света проникающего повсюду сквозь тьму и солнце -
дзинь, и электромагнетический гравитационный экстаз протекает насквозь без
слова или знака и даже не протекает насквозь и даже вовсе не существует -
Но О Сарина приди в мою постель полную горестей, позволь мне нежно
любить тебя ночью, долго, у нас будет целая ночь, до рассвета, пока не
взойдет солнце Джульеты и не иссякнет пыл Ромео, пока я не удалю свою жажду
Самсары у раскрытых твоих как лепесток розовых губ и не оставлю в розовом
саду плоти твоей сок спасителя который высохнет и восхнычет тогда еще одно
дитя для этой пустоты, приди сладкая Сарина в мои порочные объятия, будь
грязной в моем чистом молоке, и отвратительны будут мне собственные
выделения оставляемые в твоей молочно возбужденной цисто-яйцеводной полости,
твоей клоачной мчистой стержне-дырки через которую хор-газм сочится прячась
в тревожной плоти я прижму твои подрагивающие бедра к сердцу своему и стану
целовать тебя я в губы в щеки в Лоно и стану я любить тебя везде и будет так
-
Дойдя да кулисы она скидывает лиф, показывает свои порочные сиськи,
исчезает внутри и шоу на этом заканчивается - включается свет - все выходят
- А я сижу, вытряхивая себе в глотку последние остатки, с кружащейся головой
и безумный.
Все бессмысленно, мир слишком полон волшебства, а мне лучше отправиться
назад к своим скалам.
В туалете я ору повару-филиппинцу "отличные девочки, а? Нет, ну ты мне
скажи?" и ему неприятно отвечать мне, отвечать бродяге вопящему зачем-то в
писсуарной - я возвращаюсь назад, вверх по лестнице, чтобы пересидев
киножурнал посмотреть представление опять, может на этот раз Сарина сбросит
с себя вообще все и мы увидим и почувствуем бесконечную любовь - Но Боже мой
что за муть они показывают! Лесопилки, пыль, дым, серые кадры плещущихся в
воде бревен, люди в оловянных шлемах бродящие в серой дождливой ночи и голос
диктора "Славные традиции Северо-Запада -" после чего цветные кадры
катающихся на водных лыжах, мне этого не выдержать и я покидаю шоу через
левый боковой выход, пьяный -
Как только я вдыхаю ночной уличный воздух Сиэттла, на холме, у
краснокирпичного залитого неоном выхода для актеров появляются Эйб, Слим и
цветной танцор-чечеточник торопящиеся и обливающиеся потом чтобы поспеть на
следующее представление, даже в обычном темпе на улице чечеточник ужасно
пыхтит - я понимаю что у него астма и какая-то серьезная сердечная немочь,
ему нельзя так отплясывать и суетиться - на улице Слим выглядит так странно
и неприметно что я понимаю что это не он занимается этим с Сариной, должно
быть какой-нибудь продюсер в ложе, какой-нибудь лощеный хлыщ - Бедняга Слим
- И Эйб, Клоун Занавеса Вечности, здесь он болтает как обычно и так же
хохмит, с его крупным живым лицом среди обычной уличной жизни, и я вижу всех
их троих как актеров, водевильных персонажей, печальных, печальных -
Завернувших за угол перехватить рюмашку или быть может слегка перекусить и
торопящихся назад на очередное представление - Зарабатывающих на пропитание
- Так же как мой отец, ваш отец, все отцы, работающие и зарабатывающие на
пропитание на темной печальной Земле -
Я смотрю вверх и вижу звезды, все те же самые, одиночество, и ангелы
внизу не знающие что они ангелы -
И Сарина умрет -
И я умру, и вы умрете, все мы умрем, и даже звезды потускнеют, одна за
другой, когда-нибудь .
В кабинке китайского ресторанчика я заказываю противень жареного чау
мейна[37], и начинаю пялиться на официантку-китаянку и официантку-филиппинку
еще моложе и еще красивей, они смотрят на меня а я смотрю на них но потом
утыкаюсь в свой чау мейн, плачу по счету и ухожу, с головокружением - Не
осталось мне никакой в этом мире возможности подцепить девушку на ночь, ее
не пустили бы в отель, да и не пошла бы она, и я понимаю что я просто старый
мудак 34 лет и все равно никто не захочет отправиться со мной в постель, с
бродягой из Скид Роу с вином на губах, в джинсах и старой грязной одежде,
кому до такого дело? На улице полным полно типов вроде меня - Но войдя к
себе в отель я вижу аккуратного инвалида с женщиной, они поднимаются на
лифте, и часом позже приняв горячую ванну, отдохнув и собираясь идти спать,
я слышу как в соседнем номере они скрипят кроватью в настоящем любовном
исступлении - "Видимо, все зависит от того как к этому подойти", думаю я, и
иду спать один без девушки но девушки танцуют в снах моих - О Кущи Райские!
ниспошлите мне жену!
И ведь были же в жизни у меня две жены, и я прогнал одну и убежал от
другой, и сотни подружек каждую из которых я предал или обманул так или
иначе, когда был молодым и лицо мое радовало открытостью и не стыдился я
спрашивать - Теперь я угрюмо смотрю на лицо свое в зеркале и оно
отвратительно - Мы любим нашими бедрами и бродим под звездами мостовыми
твердыми, тротуарами, по бутылок битым осколкам, не излиться нам трепетно
радостно содроганием нежным в потемках - Везде тусклые лица, бездомные и
безлюбовные, по всему миру, такие жалкие, ночные улицы, мастурбация (однажды
я видел как 60 летний старик мастурбировал два часа прямо в своей комнатушке
в нью-йоркском "Миллс-отеле") - (У него была только бумага - и боль - )
Ах думаю я, но ведь где-то впереди, в ночи ждет меня моя милая
красотка, она подойдет и возьмет меня под руку, быть может во вторник - и я
спою для нее и буду как юный Гаутама мечущий пращу чтобы добиться ее награды
- Слишком поздно! Все мои друзья уже старые, уродливые и толстые, и я тоже,
и ничто не ждет меня кроме надежд которым не суждено оправдаться - и Пустота
Проложит Себе Путь.
Молитесь Господу, если не можете радоваться жизни то обратитесь к
религии.
До тех пор пока не возродят они рай земной, Дни Чистой Природы, когда
станем мы бродить обнаженными и целовать друг друга в садах, и проходить
посвящения Любви Господней в Великом Саду Любовных Встреч, в Земном Капище
Любви - До тех пор, бродяги -
Бродяги -
Всего лишь бродяги -
И я засыпаю, но совсем по другому чем в хижине на горной вершине, это
сон в комнате, на улице шумят машины, сумасшедший глупый город, рассвет,
наступает субботнее утро в серости и одиночестве - Я просыпаюсь, умываюсь и
выхожу завтракать.
Улицы пусты, и я сворачиваю не туда, брожу среди каких-то складов, по
субботам никто не работает, лишь несколько унылых филиппинцев обгоняют меня
- Где же мой завтрак?
К тому же я чувствую что мои мозоли (оставшиеся после гор) разрослись
так что теперь я не могу ехать по трассе, я не смогу закинуть этот рюкзак на
спину и пройти две мили - на юг - чтобы выйти из города -- и я решаю сесть
на сан-францискский автобус и ехать на нем до самого конца.
Может меня там ждет возлюбленная.
У меня куча денег, и деньги - это всего лишь деньги.
И что будет делать Коди, когда я приеду в Фриско? А Ирвин и Саймон и
Лазарус и Кевин? А девочки? Хватит с меня летних грез наяву, я хочу
посмотреть что "реальность" припасла там для "меня" -
"К черту Скид-Роу". Я поднимаюсь вверх по холму потом вниз и немедленно
обнаруживаю отличную закусочную самообслуживания, где ты наливаешь себе кофе
сам сколько влезет и платишь за это "по совести" и можешь заказать за
стойкой яичницу с ветчиной и съесть ее за столиком, где подобрав брошенную
газету можно узнать новости -
И человек за стойкой так любезен! "Какую хотите яичницу, сэр?"
"Глазунью, желтками наружу[38]"
"Да, сэр, одну минуту", и все его хозяйство, все эти сковородочки и
лопаточки сверкают чистотой как новенькие, вот настоящий набожный человек
который не убоится ночи - ужасной утробной ночи битых бутылок, без любви -
вместо этого он проснется утром, напевая, и отправится на работу готовить
людям еду, уважительно обращаясь к ним "сэр" в придачу - Выносят изысканную
и нежную яичницу с продолговатыми помидорами и хрустящими тостами хорошенько
промазанными специальной щеточкой подтаявшим маслом, Ах вот я сижу и ем и
пью кофе у большого зеркального окна, глядя наружу на пустую бесцветную
улицу - Пустую, если не считать идущего куда-то человека в красивом твидовом
пальто и красивых ботинках, "Ах, вот счастливый человек, он хорошо одет, он
идет себе благочестиво вниз по утренней улице - "
Я беру свой маленький бумажный стаканчик виноградного желе и,
сдавливая, размазываю желе по тосту, выпиваю еще чашечку горячего кофе - Все
будет в порядке, одиночество есть одиночество где бы ты ни был, и это
одиночество принадлежит нам, и в конце концов одиночество это не такая уж
плохая штука -
В газетах я читаю о том что Мики Мэнтл не сможет побить Бэйба Рута по
очкам в личном зачете, ну ладно, в будущем году до него доберется Вилли
Мэйс.
И я читаю об Эйзенхауэре машущем рукой из поезда произнося свои
предвыборные речи, и об Адлае Стивенсоне таком элегантном, фальшивом и
горделивом - я читаю о беспорядках в Египте, беспорядках в Северной Африке,
беспорядках в Гонконге, беспорядках черт бы их подрал повсюду, беспорядках в
одиночестве - Ангелы бунтуют против небытия.
Лопай свои яйца
и
Заткни пасть
Все кажется таким ярким и пронзительным когда спускаешься после горного
уединения - с каждым своим шагом я наблюдаю Сиэттл - Я иду с рюкзаком за
плечами по главной улице и счет за комнату оплачен и куча хорошеньких
девушек поедают рожки мороженого и заходят за покупками в 5 & 10 - На углу я
вижу чудаковатого продавца газет с велотележкой груженной древними номерами
журналов, упаковками лески и ниток, такой типаж старого Сиэттла - "В Ридерс
Дайджест о таких часто пишут", думаю я, и иду на автобусную станцию и
покупаю билет до Фриско.
На станции полно народу, я сдаю свой рюкзак в камеру хранения и брожу
не обремененный ничем и глазею по сторонам, сижу на станции свернув себе
сигаретку и покуривая, потом спускаюсь по улице выпить горячего шоколада у
фонтанчика с содовой.
У фонтанчика работает хорошенькая блондинка, я подхожу и заказываю
густой молочный коктейль, иду к краю стойки и выпиваю его там - Вскоре за
стойкой становится не протолкнуться народу и я вижу что у нее работы по уши
- Не может справиться со всеми заказами - В конце концов я все же заказываю
себе горячий шоколад и она чуть слышно бормочет "Гос-по-дии" - Заходят два
подростка-пижона и заказывают по гамбургеру с кетчупом, она не может
разыскать кетчуп и ей приходится отойти в заднюю комнатку поискать там, а в
это время вновь подошедшие сидят за стойкой голодные и ждут, я оглядываюсь
посмотреть не может ли ей кто-нибудь помочь, продавец аптечной части,
абсолютно безразличный тип в очках, он в конце концов все же подходит к
стойке но только чтобы присесть и заказать себе что-нибудь, бесплатно,
сэндвич с бифштексом -
"Не знаю я где этот кетчуп!" она уже почти плачет.
Он переворачивает газетную страницу, "Правда?" -
Я разглядываю его - бездушный циничный клерк в аккуратном белом
воротничке которому на всех наплевать, но который при этом верит что женщины
должны ходить перед ним на цыпочках! - Теперь разглядываю ее, типичная
девчонка с западного побережья, может быть бывшая манекенщица, быть может
даже (всхлип) бывшая танцовщица из комик-шоу, не добившаяся успеха потому
что не была достаточно порочной, как вчерашняя О`Греди - Но она тоже из
Фриско, она всегда жила в Тендерлойне, она совершенно добропорядочная, очень
привлекательная, трудолюбивая, с добрым сердцем, но как-то что-то пошло
наперекосяк и в жизни выпала ей невезучая карта - вроде как моей матери - Не
знаю, почему не появится какой-нибудь мужчина и не подцепит ее - Блондинка
38 лет, полненькая, с прекрасным телом Венеры, прекрасным и совершенным
камейным лицом, с большими грустными итальянскими веками и высокими скулами,
кремово-мягкими и полными, но никто ее не замечает, никто ее не хочет, ее
мужчина еще не пришел, ее мужчина никогда не придет и она будет стариться со
всей своей красотой в своем неизменном кресле-качалке у окна уставленного
цветочными горшками (О Западное Побережье!) - и она будет жаловаться и
рассказывать историю своей жизни так: "Всю жизнь я старалась как могла" - Но
два парня настаивают что им очень нужен кетчуп и в конце концов она
вынуждена сказать что он кончился и они сердито начинают есть - Один из них,
уродливый малый, берет свою картофельную соломку и начинает вытряхивать ее
из обертки остервенело стуча по прилавку будто хочет забить кого-то до
смерти, по-настоящему сильными и быстрыми убийственными ударами, они пугают
меня - Его приятель довольно привлекателен но почему-то привязан к своему
уродливому приятелю и они большие друзья, может быть избивают вместе
стариков по ночам -- В это время она совсем шалеет от дюжины разных заказов,
сосиски, гамбургеры (я теперь тоже хочу гамбургер), кофе, молоко, лимонад
для детей, а бездушный клерк сидит и читает газету пожевывая свой сэндвич с
мясом - Ничего не замечает - Ее волосы растрепались и прядь их лезет в
глаза, она почти рыдает - Всем им плевать потому что никто ничего не
замечает - И вечером она пойдет в свою маленькую чистую комнату с кухонькой,
покормит кошку и махнув рукой отправится спать, одна из очень хорошеньких
женщин, такие редко встречаются - Без Лохинвара[39], стоящего под дверьми -
Ангел в облике женщины - А по сути такая же отверженная как и я, ведь никто
не полюбит нас ночью - Вот как устроен этот мир, вот он ваш мир - Ударь!
Убей! - Будь безразличен! - Вот оно ваше Настоящее Пустотное Лицо -- и вот
что наша пустая вселенная припасла нам, Ненужность - Ненужность Ненужность
Ненужность!
И еще вот что меня удивляет, она вовсе не обращается со мной
пренебрежительно за то что целый час я пялился на нее крутящуюся белкой в
колесе, вместо этого она доброжелательно отсчитывает мне сдачу, кинув
быстрый обеспокоенный взгляд нежных голубых глаз - Я представляю себя у нее
в комнате, ночью, выслушивающим для начала перечень ее обоснованных жалоб.
Но у меня автобус отходит -
Автобус вырывается из Сиэттла и мчится на юг в Портленд по
посвистывающей дороге 99 - Я удобно устраиваюсь на заднем сиденье с
сигаретой и газетой, мой сосед похожий на индонезийца молодой студент,
довольно неглупый, он говорит мне что приехал с Филиппин и в конце концов
(узнав что я говорю по-испански) признается что считает белых женщин дерьмом
-
"Les mujeres blancas son la mierda"
Я поеживаюсь от этих слов, орды монгольских завоевателей заполонят
Западный Мир, повторяя их, а ведь речь идет всего-навсего о бедных маленьких
блондинках выбивающихся из сил у прилавка - Бог ты мой, будь я султаном! Я б
этого не допустил! Я бы распорядился как-нибудь получше! Но ведь все это
просто сон! Тогда к чему так волноваться?
Мир не выжил бы, не будь у него сил освободиться самому.
Сосите! сосите! сосите титьку Небесную!
Бог это Собака прочитанная наоборот[40]
Среди камней и снегов меня переполняла злость, среди камней чтобы
сидеть и снега чтобы пить, камней чтобы зачинать горные лавины и снега чтобы
кидаться снежками в свой домик - я злился среди комаров и умирающих
муравьиных самцов, злился на мышь и убил ее, злился на тысячемильную
круговую панораму гор со снеговыми шапками под синим небом дня и звездным
восторгом ночи - Злился потому что был глупцом, ведь мне нужно было любить и
каяться -
И вот я вернулся в чертово кино этого мира и что же мне делать теперь?
Сиди себе дурень,
дури себе,
вот и все --
Подступают тени, падает ночь, автобус мчится вперед по дороге - Люди
спят, люди читают, люди курят - Затылок водителя недвижен и безжизнен -- И
скоро уже показываются портлендские огни холодные и обманчивые и воды и
скоро городские улицы и фонари развязок автострад пролетают мимо - А потом
просторы Орегона, Долина реки Вилламетт -
На восходе я неспокойно просыпаюсь и вижу горы Маунт Шаста и старый
Черный Батте, но горы не поражают меня больше - я даже не выглядываю из окна
-- Поздно уже, и на фиг надо?
Потом долгое горячее солнце Долины Сакраменто целый воскресный полдень,
и пустынные маленькие городишки где мы делаем короткие остановки и где я жую
воздушную кукурузу и присаживаюсь где-нибудь и жду - Ага! - Скоро Валлехо,
виднеется залив, и что-то новое начинает вырисовываться на
изумительно-облачном небе - Сан-Франциско и Залив!
И все то же одиночество -
Мост по-настоящему изумляет, въезд-в-Сан-Франциско по Мосту через
Оклендский Залив, над водами чуть встревоженными плывущими на восток в океан
лайнерами и паромами, над водами выносящими тебя к иным берегам, так всегда
казалось мне когда я жил в Беркли - после пьяной ночи, или двух, в городе,
баммм, старый трамвай "М" катит над водами вынося меня к другому берегу
тишины и умиротворенности - Мы (с Ирвином) проезжая по Мосту говорим о
Пустоте - И даже сам вид крыш Фриско переполняет возбуждением и верой,
массивное нагромождение зданий центра, летучий красный конь Стандард Ойл,
высотки Монтгомери Стрит, Отель Св. Франциска, холмы, волшебная Телеграфная
Горка с Койтовой башней[41] на вершине, волшебная Русская, волшебная Башка,
и волшебная Миссия за ними увенчанная крестом всех скорбей, когда-то давно я
уже видел их так в пурпурном закате стоя вместе с Коди на маленьком
железнодорожном мосту - Сан-Франциско, Норт-Бич, Чайнатаун, Маркет-стрит,
бары, Бэй-Ум, Белл-отель, вино, переулки, бедолаги, Третья Улица, поэты,
художники, буддисты, бродяги, торчки, девушки, миллионеры, моряки, целое
кино из жизни Сан-Франциско можно увидеть не вылезая из едущего по Мосту
автобуса или трамвая, сердце щемит прямо как в Нью-Йорке -
И все они здесь, мои друзья, где-то среди этих игрушечных улочек и
когда они увидят меня ангел улыбнется - Это очень даже неплохо - Не такое уж
оно плохое, это Одиночество -
Ух ты, совсем другая обстановочка, так всегда в Сан-Франциско, он
всегда дает тебе смелость потворствовать своим желаниям - "Этот город так
сделан, чтобы ты в нем делал именно то что хочешь, с некоторыми
ограничениями воплощенными в камне и памяти" -- И такое вот -- поэтому -
чувство, что "Ух ты, О Переулок, я добуду себе пузырек токайского и пройдусь
по тебе, прихлебывая" - Это единственный известный мне город где можно так
открыто прогуливаясь по улице пить и никому до тебя нет дела - все тебя
просто сторонятся и ты для них вроде прибалдевшего морячка О Джо Маккоя с
Ларлайна - "он че, один из этих алканавтов?" - "Нет, просто старый бедолага
матрос, он плавал в Гонконг и Сингапур и обратно много раз и теперь попивает
себе вино в боковых переулочках у Харрисон-стрит" -
Харрисон-стрит это улица по которой катит наш автобус, под уклон вниз,
и мы болтая проезжаем еще семь кварталов на север до Седьмой улицы, где он
сворачивает в сутолоку воскресного городского движения - и вот они, все
Радости твои на этой улице.
Повсюду что-то происходит. Вот идет Лохматый Чарли Джо из Лос-Анжелеса,
чемодан, светлые волосы, спортивная рубашка, большие массивные наручные
часы, и с ним веселая девица Минни О`Перл которая поет в группе в баре Руэй
- "Эгей?"
А вот и негры-носильщики багажа из компании Грейхаунд, о которых Ирвин
писал что они Магометанские Ангелы и я верю этому - развозящие ценные грузы
в "Лунтаун" и "Мунтаун" и "Колорадский Лунный Свет", в этом последнем они
вечером сами будут отплясывать с девочками громко прихлопывая в такт под
звук подкатывающих и разворачивающихся машин и под Отэя Спенсера из
музыкального автомата - и далее вниз, к негритянским новостройкам, куда мы
отправлялись утром, нагрузившись виски с вином и болтая с сестренками из
Арканзаса которые видели как вешали их отца -- Что же после этого должны они
думать об этой стране, этой Миссисипи - Вот они, чистенькие и со вкусом
одетые, безупречные галстучки и воротнички, старательнейшие щеголи Америки,
выставляющие свои негритянские лица на суд работодателя, который оценивает
не их а безукоризненность щеголеватых галстуков - некоторые из них в очках,
с кольцами, изящно покуривают трубочки, студенты, социологи, такие вот
ребята типа мы-то-знаем-к-чему-сегодня-все-прикалываются так хорошо мне
знакомые по Сан-Франу -- бурление звуков[42] - я вхожу в этот город
пританцовывая с большим рюкзаком на спине и поэтому мне приходиться следить
чтобы не задеть кого-нибудь но все же я присоединяюсь к этому шествию вниз
по Маркет-стрит - Сегодня необычно малолюдно и даже слегка пустынно,
воскресенье -- Впрочем, на Третьей полно народу, и величественные огромные
Дворняги перегавкиваются из-за дверей, они говорят о Божественных Сучьих
Утробах, всяких своих собачьих материях -- Бесцельно и лениво топаю я по
Кирни, в сторону Чайнатауна, разглядывая все лавки и все лица чтобы не
пропустить намек куда Ангел направит этот мой великолепный и ясный день -
"Найдя комнату сначала надо будет подстричься", говорю я себе,
"привести себя в какой-никакой вид " - "Потому что первым делом я пойду в
Подвал слушать классный сакс". Да, сразу отправлюсь туда на воскресный джем.
О там я встречу всех, и блондинок в темных очках, и брюнеток в изящных
жакетках под руку со своими парнями (нет -- Мужчинами!) - подносящих к губам
бокалы с пивом, втягивающих сигаретный дым и покачивающихся в такт бита[43]
Брю Мура, отличного тенор-саксофониста - Старина Брю накачается пивом[44], и
я от него не отстану - "Буду подстукивать ритм ногой", думаю я - "Посмотрим
умеют ли эти ребята петь" - Ведь все лето я пел джаз сам себе, распевая во
дворе или ночами в доме, и теперь стоит мне услышать музыку я вижу в этом
мановение указующей руки Ангельской, и я жадно смотрю на лестницы ожидая
увидеть спускающуюся ее, и О джаз мне сыграй в баре у Мори МакРая давай[45]
- музыка -- Потому что от серьезности этих лиц может съехать крыша, и истина
только в музыке -- и смысл только в бессмыслице -- Музыка вливается в
сердцебиение вселенной и мы забываем о биении разума.
Я в Сан-Франциско, и я готов принять этот город. И вижу я вещи
невероятные.
Я уступаю дорогу двум филиппинским джентльменам спешащим пересечь
Калифорнию, перехожу улицу к Отелю Белл, с китайской детской площадкой
неподалеку, и захожу внутрь чтобы снять номер.
Портье немедленно и предупредительно бросается ко мне, в холле сидят
женщины сплетничающие по-малайски, меня пробирает дрожь при мысли о том
какие звуки услышу я сквозь окошко во дворик, китайские и мелодичные. Я
слышу даже напевы французской речи, от хозяев отеля. Гостиничная мешанина
звуков завешанных темными коврами комнат, скрипучих ночных шагов и мерцающе
потикивающих настенных часов, и 80-летний согбенный мудрец за сеткой, но при
открытых дверях, и кошки - Портье приносит сдачу, зайдя в мою ожидающе
приоткрытую дверь. Я вынимаю свои малюсенькие алюминиевые ножнички, которыми
не срезать даже пуговиц со свитера, но можно все же как-то подстричь себе
волосы - Потом разглядываю результат в зеркале - Окей, теперь я иду бриться,
пускаю горячую воду, бреюсь, подравниваю прическу, и на стене вижу календарь
с обнаженной китаянкой. Даже календарь может пригодиться. ("Ну", говорит в
комик-шоу один бродяга другому, оба англичашки. "Ща я ее поимею").
В маленьких горячих язычках пламени.
Я выхожу и попадаю на перекресток Коламбуса и Кирни, у Бербери Кост, и
бродяга в длинном бродяжьем плаще растягивая слова сообщает мне "У нас в
Нью-Йорке улицу быстро переходят! - Не то что тут у них, ждать
заколебешься!" и мы оба перебегаем прямо через дорогу, идем среди машин и
болтаем о Нью-Йорке - Потом я дохожу до Подвала и спрыгиваю вниз, крутыми
деревянными ступеньками, в просторный подвальный зал где, как войдешь
справа, есть помещение с баром и помостом для музыкантов, на котором сейчас
Джек Мингер дует в свою трубу, и позади него безумный светловолосый пианист
и студент консерватории Билл, а на ударных такой чувак с покрытым испариной
красивым и грустным лицом, у него отчаянный бит и сильные запястья, а на
басу качает ритм кто-то невидимый и бородатый - Какой-нибудь безумный Уигмо
или кто-то типа него - но это еще не сейшн, это постоянная местная группа,
еще рано, я вернусь сюда попозже, я слышал уже все мингеровские темы соло и
вместе с группой, но сперва (только что заскочил в книжную лавку посмотреть
какие там новости) (и девушка по имени Соня грациозной походкой подошла ко
мне, 17-ти лет, и сказала "О ты знаешь Рафаэля? Ему нужно помочь, немного
денег, он ждет у меня дома) (Рафаэль мой старый нью-йоркский приятель)
(расскажу о Соне попозже) я забегаю ненадолго и уже почти готов развернуться
и уйти, как вдруг вижу чувака похожего на Рафаэля, в темных очках, стоящего
у помоста и разговаривающего с какой-то девицей, поэтому я перебегаю через
помост на его сторону (быстрым шагом) (чтобы не обламывать бит ведь
музыканты сейчас как раз играют) (небольшую тему вроде "Слишком рано") и
наклоняюсь посмотреть вниз, Рафаэль это или нет, чуть ли не встаю на голову
глядя на него так вверх ногами, он ничего не замечает разговаривая со своей
девушкой и я вижу что это не Рафаэль и сматываюсь оттуда -- Из-за всего
этого трубач играя свое соло удивленно смотрит на меня, он и раньше-то меня
знал как изрядного психа, а теперь я тут бегаю туда-сюда чтобы посмотреть на
кого-то вверх ногами - Я бегом мчусь в Чайнатаун чтобы где-нибудь перекусить
и успеть назад к сейшну. Креветки! Цыплята! Ребра! Я добираюсь до
"Санг-Хъонг-Ханга" и сажусь за столик в их новом баре, выпить холодного
пивка принесенного невероятным чистюлей-официантом который все время скоблит
свой бар и протирает бокалы и даже вытирает несколько раз под моим пивным
бокалом так что я говорю ему "У вас отличный чистый бар" и он говорит
"Новехонький" -
Теперь я пытаюсь подыскать себе отдельную кабинку чтобы сесть -- и не
нахожу - поэтому я поднимаюсь наверх и сажусь в большой семейной кабине с
занавесками но они меня выгоняют ("Вам нельзя сидеть здесь, это для семей и
банкетов") (после чего не подходят меня обслужить, хотя я жду), поэтому я
отодвигаю свой стул и перебираясь вниз нахожу там кабинку и говорю официанту
"Не подсаживайте ко мне никого, я люблю есть один" (в смысле в ресторанах,
конечно) - Креветки в коричневом соусе, цыплята поджаренные с карри,
кисло-сладкие ребра, все это из меню китайского обеда, я съедаю все это
запивая еще одним пивом, в общем ужасный обед получился и я с трудом его
доедаю - но все же доедаю до конца, расплачиваюсь и сваливаю оттуда --
Выходя в теперь уже предсумеречный парк с играющими в песочнице и
качающимися на качелях детишками и стариками глазеющими на них со скамеек -
Я подхожу и сажусь.
Китайские ребятишки разыгрывают мировые драмы в песочнице - Подходит
папаша, забирает троих разных малышей и уводит их домой - Копы заходят в
тюремное здание, напротив через улицу. Воскресенье в Сан-Франциско.
Патриарх с остроконечной бородкой кивает мне а потом подсаживается к
своему старому приятелю и они начинают громко говорить по-русски. Сразу
узнаю эти olski-dolski где бы ни услышал, nyet?
Потом не спеша иду я в нарастающей свежести, и в сумерках уже прохожу
улицами Чайнатауна, как обещал себе на Пике Одиночества, подмигиванье
неоновых огоньков, магазинные лица, гирлянды лампочек через Грант-стрит,
Пагоды.
Я иду в свою комнату в отеле и немного валяюсь на кровати, покуривая,
вслушиваясь в звуки проникающие в окошко из двора Белл-отеля, шум звякающей
посуды, проезжающих автомобилей и китайской речи -- Со всех сторон мир
причитает жалобно, везде и в моей комнате даже слышен этот звук, насыщенный
и ревущий звук тишины свистящий в моих ушах и плещущийся в алмазной
персепине[46], и я расслабляюсь и чувствую как мое астральное тело покидает
меня, и лежу так в состоянии полного транса, и вижу сквозь все. Я вижу
всезаполняющий белый свет.
Это традиция Норт Бич, Роб Доннелли тоже однажды прилег так в своем
бродвейском отеле, и его понесло, и он видел целые миры, и вернулся назад
проснувшись на кровати в своем номере, полностью одетый к выходу из дома -
И очень даже может быть что и старый Роб, в сдвинутой набок пижонской
кепке Мэла Дамлетта, может быть и он в Подвале прямо вот сейчас -
Сейчас в Подвале все ждут музыкантов, не слышно ни звука, нет ни одного
знакомого лица, и я болтаюсь туда-сюда по тротуару перед входом и тут с
одной стороны появляется Чак Берман, а с другой Билл Сливовиц, поэт, и мы
разговариваем облокотившись о крыло автомобиля - Чак Берман выглядит
усталым, глаза его как-то затуманены, но он носит мягкие модные ботинки и
выглядит в вечернем свете невероятно круто - Билла Сливовица все эти дела не
интересуют, он одет в поношенную спортивную куртку и прохудившиеся ботинки а
в карманах таскает стихи - Чак Берман под торчем, так и говорит, я
уторченный, потом медлит немного оглядываясь по сторонам и сваливает куда-то
- говорит что вернется назад - Последний раз когда я видел Билла Сливовица
он спросил меня "Ты куда идешь?" а я заорал в ответ "А какая разница?"
поэтому теперь я извиняюсь и объясняю что был с похмелья - Мы заходим в
Местечко выпить пива.
Местечко - это приятный коричневый бар отделанный деревом, с опилками
на полу, пивом в баррелевых[47] стеклянных кружках, старым пианино на
котором можно тарабанить любому желающему, и вторым ярусом который
представляет собой что-то типа балкона с маленькими деревянными столиками и
- разве кто против? дрыхнущей на скамейке кошкой -- Обычно я хорошо знаю
всех местных барменов, но не сегодня - и я предоставляю Биллу раздобыть пива
и за круглым столиком мы разговариваем о Сэмюэле Беккете и прозе и поэзии.
Билл думает что Беккет это тупик, он постоянно повторяет это, его очки
посверкивают, у него вытянутое серьезное лицо, мне трудно поверить что он
серьезно говорит о смерти, но это так - "Я мертв", говорит он, "Я написал
несколько поэм о смерти" -
"Ну и где же они?"
"Они еще не окончены, чувак".
"Пошли в Подвал слушать джаз", и мы выходим и заворачиваем за угол и
уже на подходе к дверям я слышу как они там внизу завывают, целая команда
теноров и альтов и труб ведущая первую тему - Бумм, мы заходим как раз когда
они смолкают и тенор начинает соло, тема незамысловатая, "Джорджия Браун" -
тенор ведет ее мощно и широко, сочным таким звучанием - Они приехали из
Филмора на машинах, со своими девчонками и в одиночку, стильные цветные
чуваки воскресного Сан-Франа, в прекрасных ловко сидящих шмотках спортивного
покроя, прям одуреть можно какие ботинки, лацканы, в галстуках и без,
настоящие мачо [48]- они привезли свои трубы в такси и в собственных
машинах, они ворвались в Подвал чтобы показать настоящие класс и джаз, негры
которые когда-нибудь станут спасением Америки - я думаю так, потому что
когда последний раз я был в Подвале он был полон угрюмых белых сидящих во
время бестолкового джема и ждущих возможности затеять драку, и они ее
затеяли, с моим братишкой Рэйни которого вырубил незаметно подошедший
здоровенный злобный 250-фунтовый детина-моряк знаменитый тем что он
пьянствовал вместе с Диланом Томасом и Джимми Греком в Нью-Йорке - Сейчас
здесь слишком классно для драки, сейчас здесь джаз, стоит страшный гам,
полно красивых девушек, и одна безумная брюнетка у стойки набралась уже со
своими парнями - И еще одна чудная девица которую я знаю откуда-то, в
простом платье с карманами, руки в карманах, короткая стрижка, сутулящаяся,
болтающая со всеми подряд - Они ходят вверх-вниз по лестнице - Официантами
здесь работает обычная команда местных тусовщиков и среди них
не-от-мира-сего барабанщик который подняв к небесам свои голубые глаза,
бородатый, пощелкивает крышками открываемых пивных бутылок и импровизирует
на кассовом аппарате, и все это сливается в бит - Это бит-поколение, это
beat[49], это бит[50] по жизни, бит биенья сердца, это значит быть разбитым,
оскорбленным этим миром, смердом прошлых поколений, с этим битом рабы-гребцы
цивилизаций древних махали веслами, с этим битом слуги горшки вращали
гончарными колесами - Их лица! Ни одно лицо не сравнить с лицом Джека
Мингера стоящего сейчас на оркестровом помосте рядом с цветным трубачом
выдувающим неистовые головокружительности[51], он глядит куда-то поверх
голов и курит -- У него обычное лицо как у многих кого знаешь и встречаешь
на улице, лицо поколения, прекрасное лицо - Его нелегко описать - грустные
глаза, жесткие губы, предвкушающий блеск глаз, он покачивается в ритме бита,
высокий, величественный - стоя в ожидании перед аптекой - Лицо как у
нью-йоркского Хака (Хака можно встретить на Таймс-сквер, дремлюще
настороженного, горестно сентиментального, темноволосого, битого, только из
тюрьмы, уставшего, измученного тротуарами, изголодавшегося по сексу и
друзьям, открытого всему, и готового приветствовать новые миры пожатием
плеч) - Могучий цветной тенор издает мощные звуки как Сонни Ститтс в
канзасских мотелях, чистые, низкие, неочевидные и не совсем даже музыкальные
идеи которые тем не менее неотделимы от музыки, они всегда здесь, в глубине,
гармонии эти слишком сложны чтобы их мог оценить пестрый сброд (в смысле
понимания музыки) собравшийся здесь - но музыкантам они слышны -- На
барабанах потрясающий 12-летний негритенок, которому не разрешают пить, но
позволяют играть, невероятно, такая малявка, такой гибкий и юный Майлс
Девис, похожий на малолетних фанатов Фэта Наварро которых раньше можно было
встретить в Испанском Гарлеме, маленький всезнайка - он громыхает по
барабанам битом про который стоящий рядом со мной знаток-негр в берете
сказал что он "ошеломительный" - На клавишах Блонди Билл, который не
посрамил бы любую группу - Запрокинув голову вступает Джек Мингер вместе с
филморскими ангелами, я врубаюсь в него - Потрясающе -
Я стою у стены в нижнем зале, пива мне не нужно, с толпой снующих
туда-сюда слушателей, со Сливом, и вот возвращается Чак Берман (цветной
малый из Вест-Индии который шесть месяцев назад вломился пьяный ко мне на
вечеринку вместе с Коди и всей его бандой, у меня как раз играла пластинка
Чета Бейкера, и мы принялись скакать вместе по комнате, невероятно, он
танцевал с потрясающей грацией не прилагая к этому никаких усилий, так
обычно отплясывал Джо Луис) - Точно так же пританцовывая он влетает и сюда,
радостно - Повсюду виднеются знакомые лица - это настоящий джазовый кабак и
сумасшедшая выдумка поколения битников, здесь встречаешь кого-нибудь,
"Привет", потом поворачиваешься куда-то еще, ради чего-то еще или кого-то
еще, сплошное безумие, поворачиваешься назад, в сторону, вокруг, со всех
сторон что-нибудь да найдет тебя в звучании джаза - "Привет" - "Эй" -
Бамм, маленький барабанщик начинает соло, его мальчишеские руки летают
над трапециями, литаврами и цимбалами, и ножной педальный барабан ГРОХОЧЕТ в
фантастическом звуковом шквале -- 12-ти лет от роду -- что-то еще будет?
Мы стоим со Сливом пританцовывая в такт бита, и наконец та девушка в
платье подходит к нам поболтать, это Гия Валенсия, дочь безумного испанского
мудреца антрополога который жил с калифорнийскими индейцами помо и с
пит-риверским племенем, знаменитый старик, его книги я читал с благоговением
всего три года назад когда работал на железной дороге в Сан Луис Обиспо -
"Дух, отдай мне тень мою!" вскричал он на записи сделанной незадолго до
смерти, показывая как делали это индейцы на своих сейшнах в доисторической
Калифорнии до того как появились Сан Фран, Кларк Гейбл, Эл Джонсон, Роза
Уайз Лэйзали и все джазы всех джазовых поколений - Снаружи светит то же
солнце и тени те же самые как в старые времена лозоискателей[52], но индейцы
исчезли, и старый Валенсия исчез, а осталась его милая умница-дочка стоящая
засунув руки в карманы и врубающаяся в джаз -- А также подходящая и
разговаривающая со всеми симпатичными мужчинами, черными и белыми, она любит
их всех - Они любят ее - Мне она говорит неожиданно "А ты разве не собирался
позвонить Ирвину Гардену?"
"Да я только-только появился в городе!"
"Ты Джек Дулуоз, правда?"
"Ага, а ты -"
"Гия"
"А, романское имя"
"Ох, ты меня пугаешь", говорит она серьезно, внезапно поразившись моей
непостижимой для самого себя манере разговаривать с женщинами, моему
взгляду, бровям, моему крупно очерченному сердитому костистому лицу с
безумным блеском в глазах - Она действительно побаивается - я чувствую это -
Я и сам часто пугаюсь своего отражения в зеркале - Но для такой вот нежной
милашки смотреть в мое зеркало всех-этих-горестей... хуже и не придумаешь!
Она говорит со Сливом, он не пугает ее, он милый, грустный и серьезный,
и она стоит рядом с ним, а я смотрю на нее, маленькое худощавое тело, еще не
вполне оформившееся, и низкий тембр ее голоса, ее обаяние, ее от природы
грациозная походка от которой веет Старым Светом, такая неуместная в Подвале
- Она бы смотрелась на коктейль-вечеринке у Кэтрин Портер - Или в Венеции
или Флоренции, перебрасываясь всякими там словечками об искусстве с Трумэном
Капоте, Гором Видалом и Комптоном Бертоном - или в готорновских романах -
Мне она действительно очень нравится, и я подхожу к ним и разговариваю еще
немного -
Внезапно бамм бамм джаза врывается в мое сознание и я забываю обо всем
и закрываю глаза вслушиваясь в развитие темы - мне хочется закричать
"Сыграйте "Какой я глупец!" это было бы так классно - Но сейчас они ушли в
другой джем - так у них поперло -- басы держат ритм, соло на пианино, и так
далее -
"А как позвонить Ирвину?" спрашиваю я ее - И тут вспоминаю что у меня
есть телефон Рафаэля (который мне дала милашка Соня в книжной лавке)
проскальзываю в телефонную будку с десятицентовиком в руках и набираю номер,
всегда так в джазовых местечках, однажды в нью-йоркском "Бердленде" я
забрался в телефонную будку и там в относительной тишине вдруг услышал Стена
Гетца, который в туалете неподалеку негромко подыгрывал на саксофоне
игравшей снаружи группе Ленни Тристано, и тогда-то я и понял что он может
все -- ("Забудьте о Уорне Марше[53]!" говорила его музыка) - Я звоню Рафаэлю
и он отвечает "Да?"
"Рафаэль? Это Джек - Джек Дулуоз!"
"Джек! Ты где?"
"В Подвале - приезжай сюда!"
"Не могу, денег нет!"
"А пешком не доберешься?"
"Пешком?"
"Я сейчас позвоню Ирвину и мы заедем за тобой на такси - Перезвоню
через полчаса!"
Звоню Ирвину, ничего не получается, он куда-то запропастился - Весь
Подвал уже отплясывает, теперь официанты начинают сами прикладываться к
пиву, они раскраснелись, возбужденные и опьяневшие - Пьяная брюнетка падает
со своего сиденья, ее чувак относит ее в дамскую уборную - Внутрь врываются
новые компании - Настоящее безумие - И в конце концов как венец всему (О
Одиночество Мое Молчание Мое) появляется Ричард Де Чили безумец Ричард Де
Чили который по ночам мотается туда-сюда по Фриско, в одиночестве,
разглядывая образцы архитектуры, всякие там чудные прибамбасы и фонари и
садовые заборчики, прихихикивая, один, ночью, не пьет, и в карманах у него
полно смешных мыльных конфет и обрывков веревок и сломанных зубных щеток и
полубеззубых расчесок, и придя переночевать на одну из наших хат он первым
делом сожжет зубные щетки в камине, или будет торчать часами в ванной
включив воду и расчесывать себе волосы различными щеточками, совершенно
бездомный, каждую ночь он спит на чьей-то чужой кровати и все же раз в месяц
ходит в банк (в вечернюю смену) и там его ждет месячная рента (днем банк
слишком пугающ), как раз впритык чтобы прожить, оставленная ему каким-то
таинственным и никому неизвестным богатым семейством о котором он никогда не
рассказывает - Во рту спереди у него нет зубов, вообще никаких - Шизовые
одежки, вроде шарфа вокруг шеи, джинсов и дурацкой куртки которую он нашел
где-то заляпанную краской, он предлагает тебе мятную конфету и на вкус она
настоящее мыло - Ричард Де Чили, Таинственный, исчезнувший куда-то на долгое
время (шесть месяцев назад) и вдруг проезжая по улице мы видим его заходящим
в супермаркет "Это Ричард!", и мы выпрыгиваем из машины чтобы догнать его, и
вот он в магазине пытается тайком стибрить конфеты и банку с орешками, и
мало того, его замечает продавец-Оки,[54] и нам приходится заплатить чтобы
его отпустили и он выходит с нами невразумительно бормоча что-то вроде "Луна
- это кусок чая[55]", разглядывая ее с заднего сиденья - В конце концов
когда я пригласил его погостить несколько дней в Милл-Волли, в домике где я
жил 6 месяцев назад, он собрал все спальные мешки (кроме моего, спрятанного
в траве) и завесил ими окно так что они разодрались, и в последний раз
заехав в миллволльский домик перед выходом на трассу на Пик Одиночества, я
нашел там Ричарда Де Чили спящего в заваленной гусиными перьями комнате,
невероятное зрелище - типичное зрелище - с его бумажными пакетами со
странными эзотерическими книгами (он один из самых образованных людей из
всех кого знаю), с его мыльцами, свечками и прочим хламом, О Боже, точный
список мне уж и не вспомнить -- Как-то однажды он позвал меня на длинную
прогулку по Сан-Франциско одной моросяще-дождливой ночью, чтобы
подсматривать в выходящее на улицу окно за двумя лилипутами
гомосексуалистами (которых не оказалось дома) - Ричард заходит и становится
как обычно возле меня, в грохоте музыки я не слышу что он говорит и это все
равно неважно - Он тоже беспокойно приплясывает, оглядывается повсюду, все
ожидают что он что-нибудь выкинет, но ничего не происходит...
"Ну и чем бы нам заняться?" говорю я -
Никто не знает - Слив, Гия, Ричард, остальные, все они просто стоят или
тусуются по Подвалу Времени и они все ждут и ждут как Семюэль Беккетовские
герои из его "Абиссинии" - А я, мне нужно что-нибудь делать, куда-нибудь
пойти, кого-нибудь встретить, и говорить и действовать, и я мельтешу и
тусуюсь вместе с ними -
Красивой брюнетке становится еще хуже - Одетая так изящно, в облегающее
платье черного шелка выставляющее на обозрение все ее прекрасные сумеречные
прелести, она выходит из туалета и падает снова - Вокруг кружат какие-то
шизовые персонажи - Сумасшедшие разговоры со всех сторон, я уже ничего не
запоминаю, это слишком безумно!
"Я сдаюсь, я иду спать, разыщу всех завтра"
Мужчина с женщиной просят нас подвинуться немножко пожалуйста, тогда
они смогут рассмотреть карту Сан-Франциско на стене - "Туристы из Бостона,
а?" говорит Ричард со своей идиотской ухмылкой -
Я подхожу к телефону опять и опять Ирвина нет дома, поэтому я хочу
домой в свою комнату в "Белл-отеле", хочу спать - Крепко как в горах, новые
поколения слишком безумны -
Но Слив с Ричардом еще не хотят меня отпускать, каждый раз когда я
пытаюсь ускользнуть они не отстают от меня, тусуются туда-сюда, все мы здесь
тусуемся туда-сюда и ждем непонятно чего, это уже действует мне на нервы -
Это обезволивает меня и мне уже становится жаль так вот распрощаться с ними
и вырваться наружу, в ночь -
"Завтра в одиннадцать Коди будет у меня", кричит мне Чак Берман так что
теперь я могу убраться отсюда -
На углу Бродвея и Коламбуса, из знаменитой маленькой забегаловки
открытой всю ночь, я звоню Рафаэлю чтобы сказать ему что утром мы
встречаемся у Чака - "Окей, но ты послушай! Пока я ждал тебя, я написал
стих! Обалденный стих! И он о тебе! Я обращаюсь к тебе! Можно тебе его по
телефону прочитать?"
"Давай"
"Плюнь на Босатсу!" орет он. "Наплюй на Босатсу!"
"Оо", говорю я. "Это прекрасно"
"Стих называется "Джеку Дулуозу, Буддо-рыбе" - и вот значит что
получилось - " И он читает длинное безумное стихотворение по телефону, мне,
стоящему у прилавка с гамбургерами, и пока он орет и декламирует (и я
понимаю все, принимаю каждое слово этого итальянского гения переродившегося
из Ренессанса в нью-йоркском Ист-Сайде) я думаю "О Боже, как это грустно! -
У меня есть друзья-поэты и они выкрикивают мне свои стихотворения в городах
-- именно так я предвидел это в горах, празднество в городах перевернутое
вниз головой - "
"Отлично, Рафаэль, великолепно, ты величайший поэт которого я
когда-либо - ты уже начинаешь по-настоящему - великолепно - не
останавливайся - помни что нужно писать не останавливаясь, не думая, просто
пиши, я хочу услышать что там на самом дне твоего сознания".
"Ага, именно так я и делаю, понимаешь? - ты врубаешься? Ты понимаешь?"
и в том как он произносит это "понимаешь" ("паамаешь") есть что-то фрэнк
синатровское, что-то нью-йоркское, и что-то новое пришедшее в мир этот,
настоящий Поэт городских глубин, такой как Кристофер Смарт и Блейк, как Том
О`Бедлам, песни улиц и дворовых парней, великий великий Рафаэль Урсо на
которого я имел большущий зуб в 1953 когда он занялся этим с моей девушкой -
но чья это была вина? моя не менее чем их -- об этом написано в Подземных
[56] -
"Великий великий Рафаэль, увидимся завтра - Давай же спать, давай будем
тихими и молчаливыми - Давай врубаться в тишину - тишина это все, все лето я
провел в тиши, я научу тебя."
"Классно, классно, я врубаюсь, ты врубаешься в тишину" раздается его
печальный взволнованный голос в дурацкой телефонной трубке "мне грустно что
ты врубался в тишину, но я тоже буду врубаться в тишину, поверь мне, я буду
-"
Я иду к себе в комнату спать.
И вот! Вот он, этот старый ночной портье, старик-француз, не помню как
его зовут, но когда мой старый братишка Мэл жил в "Белле" (и мы пили за
здоровье Омара Хайяма и наших прекрасных коротко стриженных девчонок в его
комнате под свисающей с потолка лампочкой), этот старик все время почему-то
психовал и орал что-то невнятное, доставал нас по-всякому - Теперь, через
два года, он совершенно изменился и стал какой-то весь скрюченный, ему 75, и
сутулясь он бормоча спускается в холл отворить тебе временное пристанище
твое, он полностью успокоился, смерть смягчила ему глаза, они уже видели
свет, и он перестал быть злым и надоедливым - Он мягко улыбается даже когда
я прихожу к нему (в час ночи) в то время как он стоит сгорбившись на стуле и
пытается починить часы в клетушке портье -- И с трудом спускается вниз
отводя меня в мою комнату -
"Vous Хtes francais, monsieur?" говорю я. "Je suis francais
moi-mИme.[57]"
Кроме этой мягкости своей он приобрел еще и пустотность Будды, и даже
не отвечает мне а просто открывает дверь и грустно улыбается, весь
согнувшийся, он говорит мне "Спокойной ночи, сэр - все в порядке, сэр" - Я
удивлен - 73 года он был капризным занудой, и вот теперь за несколько
оставшихся выпасть ему нежными капельками росы лет он готов ускользнуть из
этого времени, и они похоронят его скрюченного в могиле (не знаю уж как) и я
стану носить ему цветы - Буду носить ему цветы миллион лет -
У себя в комнате я засыпаю, и невидимые золотые цветы вечности начинают
падать мне на голову, они падают везде, это розы Св. Терезы, и непрерывным
дождем они льются и падают на все головы этого мира -- И даже на тусовщиков
и психов, гуляк и безумцев, даже на алкашей похрапывающих в парках, даже на
мышей все еще попискивающих на моем чердаке в тысяче миль и шести тысячах
футах вверх на Пике Одиночества, даже на самых ничтожнейших их них осыпаются
ее розы, постоянно -- И в наших снах нам всем это известно.
Я сплю добрых десять часов и просыпаюсь освеженный розами - Но уже
опоздав на встречу с Коди, Рафаэлем и Чаком Берманом - я вскакиваю и
натягиваю свою клетчатую хлопковую спортивную рубашку с короткими рукавами,
надеваю сверху холщовую куртку, штаны из холстины, и торопливо выбегаю на
свежий ерошащий волосы морской ветерок Утра Понедельника -- И О этот город
сине-белых полутонов! -- И этот воздух! Звонят величественные колокола,
позвякивают отголоски флейточек чайнатаунских рынков, потрясающие сценки из
старинной итальянской жизни на Бродвее где старые макаронники в черных
костюмах покуривают черные крученые сигариллы и потягивают черный кофе - И
темны их тени на белых мостовых в чистом полнящемся колокольным звоном
воздухе, а за четкой линией молочно-белых крыш Рембо[58] в бухте виднеются
заходящие в Золотые Ворота белые корабли -
И ветер, и чистота, и великолепнейшие магазины вроде Буоно Густо со
свисающими колбасами, салями и провелоне, рядами винных бутылок и овощными
прилавками - и восхитительные кондитерские в европейском стиле - и над всем
этим вид на деревянную путаницу домов Телеграфной Горки где царят полуденная
лень и детские крики -
Я ритмично вышагиваю в своих новых холщовых синих ботинках, удобных,
настоящее блаженство ("Угу, в таких педики ходят!", комментарий Рафаэля на
следующий день) и эгегей! вот и бородатый Ирвин Гарден идет по
противоположной стороне улицы - Эй! - кричу я, свистя и размахивая руками,
он видит меня и вытаращив глаза раскидывает руки в объятии, и прямо так вот
и бежит ко мне перед носом у машин этой своей дурашливой подпрыгивающей
походочкой, шлепая ногами - но его лицо значительно и серьезно в ореоле
величественной бороды Авраама, его глаза постоянно мерцают язычками свечного
пламени в своих глазных впадинах, и его чувственные полные губы краснеют
из-под бороды подобно надутым губам древних пророков собирающимся что-нибудь
этакое изречь - Когда-то я увидел в нем еврейского пророка причитающего у
последней стены, теперь это общераспространенное мнение, даже в нью-йоркской
Таймс была написана о нем большая статья именно в таком духе - Автор
"Плача", большой безумной поэмы обо всех нас изложенной свободным стихом и
начинающейся строчками: -
"Я видел как лучшие умы моего поколения были разрушены безумием" - ну и
так далее.
Честно говоря я не особо понимаю про какое такое безумие он толкует,
так, например, в 1948 году в гарлемском притоне у него было видение
"гигантской машины, нисходящей с небес", громадного ковчега потрясшего его
воображение, и он все твердил "Можешь себе представить мое состояние - а ты
когда-нибудь видел наяву самое настоящее видение?
"Ага, конечно, а чего такого?"
Мне никогда толком не понять о чем это он и иногда мне кажется что он
переродившийся Иисус из Назарета, но иногда он выводит меня из себя и тогда
я думаю что он вроде этих несчастных придурков из Достоевского, кутающихся в
рванину и глумливо хихикающих у себя в каморке -- В юности он был для меня
чем-то вроде идеального героя, и впервые появился на сцене моей жизни в 17
лет - И даже тогда мне почудилась какая-то странность в решительном тембре
его голоса - Он говорит басом, внятно и возбужденно - но выглядит маленько
замотанным всей этой сан-францисской горячкой которая меня например за 24
часа выматывает полностью - "Догадайся кто объявился в городе?"
"Знаю, Рафаэль -- иду как раз повидаться с ним и с Коди"
"Коди? - Где?"
"У Чака Бермана - все уже там -- я опаздываю - пошли скорей"
На ходу мы говорим о миллионе сразу забывающихся мелочей, почти бежим
по тротуару - Джек с Пика Одиночества шагает теперь рука об руку с бородатым
соплеменником -- повремените, розы мои - "Мы с Саймоном собираемся в
Европу!" сообщает он, "Чего б тебе не поехать с нами! Мать оставила мне
тысячу долларов. И еще тысячу я скопил! Мы отправимся посмотреть на
Удивительный Старый Свет!"
"Окей, можно и поехать" - "У меня тоже найдется чуток деньжат - Можно
вместе - Подошло время, а, братишка?"
Ведь мы с Ирвином всегда говорили об этом и бредили Европой, и конечно
же прочитали все что только можно, даже "плачущего по старым камням Европы"
Достоевского и пропитанные трущобной романтикой ранние восторги Рембо, в те
времена когда мы вместе писали стихи и ели картофельный суп (в 1944 году) в
Кампусе Колумбийского Университета, мы прочитали даже Женэ[59] и истории о
героических апашах[60] - и даже собственные ирвиновские грустные мечтания о
призрачных поездках в Европу, орошенные древней дождливой тоской, и об
ощущении глупости и бессмысленности стоя на Эйфелевой башне - Обнявшись за
плечи мы быстро поднимаемся вверх на холм к дверям Чака Бермана, стучимся и
заходим - Ричард де Чили валяется на кровати, как нетрудно было догадаться,
он оборачивается чтобы поприветствовать нас слабой улыбкой - Еще несколько
чуваков сидят на кухне с Чаком, один из них сумасшедший черноволосый индеец
постоянно клянчащий пару монет, другой франко-канадец вроде меня, прошлой
ночью я немного поболтал с ним в Подвале и на прощанье он бросил мне "До
встречи, братишка!" - Так что теперь "Доброе утро, братишка!" и мы слоняемся
по квартире, Рафаэля еще нет, Ирвин предлагает спуститься вниз в одну нашу
кафешку и подождать остальных там -
"Все равно они должны туда заскочить"
Но там никого нет, поэтому мы отправляемся в книжную лавку и вот! по
Грант-стрит идет Рафаэль своими Джон Гарфилдовскими[61] огромными шагами и
размахивая руками, говоря и крича на ходу, взрываясь фонтаном стихов, и мы
начинаем орать все одновременно - Мы кружимся на одном месте, хлопаем друг
друга по плечам, идем по улицам, пересекаем их в поисках места где можно
выпить кофе -
Мы идем в кафеюшник (на Бродвее) и садимся в отдельном отсеке и из нас
льются все эти стихи и книги и о-ба-на! подходит рыжеволосая девушка и за
ней Коди -
"Джееексон, маальчик мой", говорит Коди как всегда имитируя
железнодорожных кондукторов в исполнении старого У.С.Филдса -
"Коди! Эй! Садись! Класс! Жизнь идет!"
И она идет, всегда жизнь идет во времена мощных вибраций.
Но это всего лишь обычное утро, одно из утр этого мира, и официантка
приносит нам вполне обыденный кофе, и все наши восторги вполне обыденны и
когда-нибудь закончатся.
"А что это за девушка?"
"Это безумная девица из Сиэттла, она слышала прошлой зимой как мы
читаем стихи и приехала сюда на Эм-Джи[62] с подружкой чтобы с кем-нибудь
трахнуться", сообщает мне Ирвин. Ирвин знает все.
Она говорит "Откуда это у Дулуоза такая энергичность?"
Энергичность, хренергичность, к полуночи я накачаюсь пивом на год
вперед -
"Я потерял все свои стихи во Флориде!" кричит Рафаэль. "На автовокзале
Грейхаунд в Майами! Теперь у меня остались только новые стихи! И я потерял
другие стихи в Нью-Йорке! Ты был там, Джек! Что этот издатель сделал с моими
стихами! И все ранние стихи я потерял во Флориде! Представьте себе!
Хреновина какая!" Так вот он обычно разговаривает. "Несколько лет подряд я
ходил из одного грейхаундовского офиса в другой и умолял всех этих
директоров найти мои стихи! Я даже плакал! Ты слышал, Коди? Я плакал! Но они
и пальцем не пошевелили! Они даже стали называть меня занудой и это лишь за
то что каждый день я ходил в этот их офис на 50-й улице и упрашивал вернуть
мои стихи! Это правда!" -- кто-то пытается что-то вставить и он сразу
перебивает: "Я в жизни никогда не вызывал полицию разве только если лошадь
упадет и покалечится или что-нибудь такое! Хреновина какая!" И дубасит по
столу.
У него маленькое безумное личико эльфа но внезапно оно может стать
прекрасным и задумчивым стоит ему только загрустить и умолкнуть, и смотрит
он тогда как-то так - исподлобья и чуть обиженно - Немного напоминает взгляд
Бетховена - Чуть вздернутый, вопиюще крупный итальянский нос, резкие черты
лица, но с плавно очерченными щеками и кроткими глазами, а его эльфийские
волосы черные и вечно непричесанные свисают с макушки правильной формы
головы и лезут в глаза, так по мальчишески - Ему всего 24 - И он
действительно еще совсем мальчишка, девушки сходят с ума по нему -
Шепот Коди в мое ухо "Этот парень, этот Рафф, этот чувак, какого хрена,
черт, у него куча баб, он с ними мастак - говорю тебе - Джек, слушай, все в
порядке, все пучком, на скачках миллион возьмем, точняк, в этом году, В ЭТОМ
ГОДУ МАЛЬЧИК МОЙ!" и встает чтобы объявить "эта моя система второго
выбора[63] заработала, она так поперла!"
"В прошлом году мы уже пробовали", говорю я вспомнив день когда я
поставил для Коди (он должен был работать в этот день) 350$ и он проиграл по
всем забегам, а я напился в каком-то сарае с сеном вместе со вкалывающим за
35 центов в день бедолагой перед тем как пойти в депо и сообщить Коди что он
проиграл, его это нисколько не огорчило потому что он уже продул до этого
чистых 5000$ -
"А сейчас попробуем в этом -- и в следующем году", настаивает он -
В это время Ирвин читает свои новые стихи и стол безумствует - Я говорю
Коди что хочу попросить его (моего старого братишку) отвезти меня в
Милл-Волли чтобы забрать старые шмотки и рукописи, "Конечно поедем, мы все
поедем, мы же вместе"
Мы вываливаемся наружу к его старому двухместному Шевви, не помещаемся
в нем всей толпой, пытаемся опять и машина готова треснуть по швам -
"Думаешь, эта малышка не сможет тронуться?" говорит Коди -
"А где твоя здоровенная машина которая была раньше, когда я уезжал?"
"А, накрылась, трансмиссия гавкнулась"
Ирвин говорит: "Слушайте, езжайте-ка вы в Милл-Волли а потом
возвращайтесь сюда и завтра днем встретимся"
"Окей"
Девушка вжимается в Коди, Рафаэль потому что он легче и меньше садится
мне на колени, и мы отчаливаем по Норт-Бич-Стрит, маша руками Ирвину который
трясет бородой и пританцовывает в знак живейшего участия во всем
происходящем --
Коди немилосердно гонит машину, он точнехонько срезает все углы не
сбавляя скорости и без малейшего визга тормозов, мчится по забитой машинами
улице, чертыхаясь, наплевав на светофоры, чуть притормаживая на подъемах, со
свистом пролетая перекрестки, нарушая все на свете, врывается на мост
Золотых Ворот и вот (заплатив мостовую плату[64]) мы взмываем Мостом Снов в
ветра надводные, и Алькатрас виднеется справа от нас ("Я рыдаю, оплакиваю
Алькатрас!" кричит Рафаэль) --
"Что это они там делают?" -- туристы на Мейринском обрыве разглядывают
белоснежный Сан Фран в камеры и бинокли, экскурсионный автобус тут у них
стоит --
Все говорят одновременно --
Снова старина Коди! Старина Коди, о нем я писал в Видениях Коди[65],
самый безумный из всех нас (как вы еще увидите) и снова слева от нас
громадная заповедная синева Тихоокеанской Утробы, матери Морей и Покоя,
тянущаяся до самой Японии --
Ну все, полный привет, я чувствую себя чудесно и безумно, я нашел своих
друзей и великую вибрацию жизненной радости и Поэзия струится сквозь нас --
Даже когда Коди несет какую-то пургу про свою систему ставок на скачках, он
делает это в поразительном ритме речи -- "Ну братишка через пять лет у меня
будет такая куча денег, ну я вообще буду филароп- пилароп- ну это...
фило-пило.."
"Филантроп"
"Буду раздавать деньги всем кто того стоит - Встречу вас и вам
воздастся - " Он всегда цитировал Эдгара Ясновидца Кайса, калифорнийского
целителя который никогда не учился медицине но мог зайти в дом к болящему, и
развязать свой старый пропотевший галстук, и растянуться во весь рост на
спине, и заснуть погружаясь в транс и тогда жена стала бы записывать его
ответы на вопросы типа, "Почему болит то-то и то-то?" Ответ: "То-то и то-то
поражено тромбофлембитом, закупоркой вен и артерий, потому что в предыдущей
жизни он пил кровь живых человеческих жертв" -- Вопрос: "И как ему
излечиться?" Ответ: "Стоять на голове три минуты каждый день - И еще одно
важное средство - Стаканчик виски или стопроцентного бурбона каждый день,
для очищения крови - " И потом он выходит из транса, и так вот он вылечил
тысячи людей (Институт Эдгара Кайса, Атлантик Бич, Вирджиния) -- Это новый
кодин Бог -- Бог, ради которого даже шизеющий от девушек Коди стал говорить:
"Я почти завязал с девчонками"
"Почему?"
Коди тоже может вдруг замолкнуть, тяжело и несокрушимо - И еще я
чувствую сейчас пока мы пролетаем над Вратами Золота что Коди и Рафаэль не
особо сошлись характерами -- И я желаю знать почему -- Я не хочу чтобы
кто-нибудь из моих братков ссорился -- Все должно быть классно -- И по
крайней мере все мы умрем в гармонии, и у нас будут великие Китайские
Поминки и Причитания и шумные радостные похороны потому что старина Коди,
старина Джек, старина Рафаэль, старина Ирвин и старина Саймон (Дарловский,
скоро появится) мертвы и свободны --
"Моя башка мертва и мне плевать!" вопит Рафаэль --
" -- ну почему эта кляча не смогла придти хотя бы второй чтоб я вернул
хоть пять баксов, но я покажу тебе детка - " шепчет Коди на ухо Пенни (она
просто счастливая и чудная задумчивая толстушка и жадно впитывает все это в
себя, я вижу как она ходит кругами вокруг ребят потому что никто из них,
кроме Коди, особо не обращает на нее никакого сексуального внимания) (на
самом деле они все время опускают ее всяко-разно и гонят домой) --
Но добравшись до Милл-Волли, я поражаюсь тому что оказывается она
буддистка, мы сидим собравшись в хижине на лошадиной горке и говорим все
одновременно и тут я оборачиваюсь и там будто сне вижу ее, она сидит у стены
как рубиновая статуя, ноги сложены в позе лотоса, пальцы сплетены, глаза
невидяще смотрят вперед, может она и не слышит ничего даже -- о невероятный
мир наш.
И невероятнее всего эта хижина -- Он принадлежит Кевину МакЛоху, моему
старому братишке Кевину, он тоже бородач как и все, но работает плотником, и
у него есть жена и двое ребятишек, всегда в пестрых штанах с налипшими
опилками, в расстегнутой рубахе, патриархальный такой, сердечный,
деликатный, проницательный, очень серьезный, целеустремленный, тоже буддист,
сразу за его деревянным обветшавшим домом с незаконченным крыльцом которое
он сейчас мастерит, стеной возвышается поросшая травой гора переходя где-то
там наверху в горные Оленьи Долины, самые настоящие реликтовые оленьи
заповедники где лунными ночами внезапно натыкаешься на возникающего будто из
ниоткуда оленя, он сидит и жует под огромным эвкалиптом -- внизу под горой
укромное местечко излюбленное диким зверьем, все Бродяги Дхармы знают о нем,
двадцать калифорнийских веков олени спускаются в эту Священную Рощу --
Наверху, на самой вершине, хижина утопает в розовых кустах -- Поленницы
дров, трава по пояс, дикие цветы, кустарник, моря деревьев шелестят вокруг
-- Как я уже говорил, домик этот был построен пожилым человеком чтобы в нем
умереть, и ему это удалось, он умер именно там, и был он великим плотником -
Кевин обтянул все стены красивой драпировкой из джутовой мешковины, повесил
красивые буддистские картинки, расставил красивые чайники и тонкой работы
чайные чашки и ветки в вазах, и бензиновый примусок чтобы кипятить воду для
чая, и сделал здесь себе буддистское убежище и домик для чайных церемоний,
для гостей и зависающих месяца на три друзей вроде меня (которые должны быть
буддистами, то есть понимать что Путь не есть Путь[66]), и по четвергам,
сказав своему начальнику на плотницких работах "Я беру выходной" (на что
начальник отвечает "Ну и кто же тогда возьмется за второй конец доски?" "Не
знаю, найдите кого-нибудь") Кевин оставляет свою милую жену с детишками
внизу и забирается вверх по тропе поднимающейся среди эвкалиптовых рощ в
Оленьи Долины, с Сутрами[67] подмышкой, и проводит там весь день в
медитациях и изучении -- Медитирует сидя в позе лотоса, на Праджну[68] --
читает комментарии Судзуки[69] и Сурангама-Сутру -- И говорит, "Если бы
каждый рабочий в Америке брал раз в неделю такой выходной, наш мир стал бы
совсем другим."
Очень серьезный, прекрасный человек, 23 года, синие глаза,
безукоризненные зубы, такое особое ирландское обаяние, и восхитительно
мелодичная манера говорить --
И вот мы (Коди, Пенни, Раф и я), перекинувшись внизу парой слов с женой
Кевина, карабкаемся вверх по раскаленной тропе (оставив машину у почтового
ящика) и врываемся в разгар кевиновского медитационного дня -- Хоть сегодня
понедельник, он не работает -- И заваривает чай сидя на корточках, как
настоящий мастер Дзена.
Он широко улыбается и рад нас видеть --
Пенни устраивается на его прекрасной медитационной циновке и
принимается медитировать, пока Коди с Рафаэлем болтают о всякой ерунде, а мы
с Кевином слушаем их посмеиваясь -
Все очень забавно --
"Что? Что?" вопит Рафаэль на Коди, который стоит и разглагольствует о
всеобщности Господней, "ты что, хочешь сказать что все есть Бог? И она Бог,
Боже ж ты мой?" тыча пальцем в Пенни.
"Конечно да", говорю я, и Коди продолжает: -
"На астральном уровне - "
"Не хочу я этого типа слушать, у меня крыша от него едет! Коди дьявол?
Или Коди ангел?"
"Коди ангел", говорю я.
"Ну нет!" и Рафаэль хватается руками за голову потому что Коди
продолжает говорить:
" -- добраться до Сатурна где по высочайшей милости Спасителя летать
запрещено, хотя я вот знаю старина Джек этот паршивец он где угодно
улетит[70]" -
"Нет! Я иду отсюда! Этот человек -- зло!"
Со стороны это похоже на словесную битву, кто кого переболтает и за кем
останется последнее слово, и Пенни сидит здесь такая раскрасневшаяся и
лучащаяся вся, с маленькими веснушками на лице и руках, рыжеволосая --
"А ты сходи на улицу посмотри на деревья, красивые", советую я Рафаэлю
и он идет врубаться в деревья, и возвращается назад (в это время Коди как
раз говорит: "Попробуй-ка чайку, парень" и дает мне чай в японской чашечке,
"Мозги враз прочистит почище сухого винища[71] -- ап!" (чихая, расплюхивает
чай из чашки) "Чхи! -"
"Господь преважнище стоял приставимши ко лбу перст славнющий[72]",
говорю я выхватив из собственной головы, как я это делаю иногда, обрывок
какой-то внутренней болтовни просто чтоб посмотреть что из этого выйдет.
Вдобавок ко всему Кевин хохочет, сидя скрестив ноги на полу, я смотрю
на него и вижу маленького индуса, и вспоминаю что вид его маленьких босых
ног всегда вызывал у меня это чувство, что мы уже когда-то встречались, в
каком-то храме, где я был священником, а он танцором, и танцевал еще там с
какой-то женщиной -- И как же деликатно он переносит всю эту бурю звуков и
болтовни ворвавшуюся к нему вместе с Коди и Рафаэлем -- смеясь с легким
придыханием и слегка напрягая живот, втянутый и твердый как живот молодого
йога --
"Ну так что ж", говорит Коди, "есть же такие чтецы которые над головами
у людей ауры видят и вот эти самые ауры отражают точнехонько э-э так сказать
внутреннюю суть каждого, вот так вот!" колотя кулаком об ладонь и
подпрыгивая даже чтобы удобней лупить было, и голос его от возбуждения вдруг
срывается как по утрам у старого Конни Мерфи в Милл Волли, особенно после
долгих пауз раздумья или просто споткнувшись в рассуждениях, "видят как
кошки эти чтецы аур, и раз уж увидели они ауру какого-нибудь парня значит
время ему подошло (как Господом было определено, Господом Всемогущим) узнать
про свою Карму (то есть судьбу какую себе заслужил, это Джек так говорит),
ему это просто нужно потому что раньше он кучу всего нехорошего натворил, ну
грехов там, ошибок -- и он эту свою Карму узнает когда ему чтец говорит, "у
тебя, браток, есть злой дух и добрый дух, вот они и собачатся за твою
душу-сущность, а я их вижу (сверху над макушкой, понимаешь), и ты можешь
отогнать зло и привлечь добро медитируя на белый квадрат твоей души который
у тебя над макушкой висит и в котором эти оба духа и обретаются" -- цпф" - и
он сплевывает бычок сигаретный. И пялится в пол. Сейчас если Рафаэль похож
на итальянца, итальянца Возрождения, то Коди -- грек, римо-арийская смесь
(атлантских кровей), воин Спарты и потомок первобытных кочевников миоцена.
Теперь Коди пускается в объяснения, что в осмотическом процессе в наших
капиллярных венах и сосудах проходит что-то подвергающееся мощному влиянию
звезд и в особенности луны -- "Так что когда луна выходит, у человека крыша
съезжает, например -- тяга этого вот Марса, чувак".
Этим своим Марсом он меня пугает.
"До Марса ближе всего! Это наш следующий шаг!".
"А мы что, собираемся с Земли на Марс податься?"
"А потом дальше, разве ты не понимаешь" (Кевин давится от хохота)
"дальше, к другим мирам, к самым шизанутым мирам, папаша" -- "к самым
дальним рубежам", добавляет он. На самом деле Коди работает на железной
дороге, тормозным кондуктором, и сейчас на нем чуть узковатые синие
форменные штаны, накрахмаленная белая рубаха под синим жилетом, а синюю
кепку с надписью ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК он оставил в своем трогательном зверюге
Шевви 33, эх-эх -- сколько раз Коди кормил меня когда я был голоден --
человек веры -- и что за тревожный и беспокойный человек! -- А как он
ломанулся с лампой в руках в полной темноте чтобы найти пропавший вагон, и
потом утром успел подцепить этот вагон с цветами к пригородному
шермановскому -- Эх, старина Коди, что за человек!
Я вспоминаю свои видения одиночества и понимаю что все идет как надо.
Потому что нас окружает пустота, и мы с Коди оба знаем это и бесцельно едем
вперед. Просто Коди ведет эту машину. А я сижу и медитирую на них обоих, на
Коди и на его машину. Но именно его твердая рука должна справиться с рулем
чтобы избежать столкновения (пока мы скользим по переулкам) -- И мы оба
знаем об этом, мы оба слышали эту неземную музыку однажды ночью? когда ехали
вместе в машине, "Слышишь?" Я только что слышал позвякивание музыки в
заполненной ровным гудением мотора машине -- "Да", говорит Коди, "что это?".
Он слышал.
И без того поразительный, Рафаэль поражает меня еще больше когда с
рукописью в руках он возвращается со двора где в тишине наблюдал за
деревьями, и говорит, "У меня в книжке вырос новый лист" - говорит он Коди,
Коди деятельному и недоверчивому, и Коди слышит его, но я вижу каким
взглядом смотрит он на Рафаэля -- Потому что это два разных мира, Урсо и
Померэй, и хоть имена у обоих звучат как Casa d`Oro[73] и не хуже чем
Corso[74], они как Итальянский Сладкоголосый Певец против Ирландского
Брабакера[75] - кррркрр - (это по кельтски, так дерево потрескивает в море)
-- и Рафаэль говорит "Джек только и хочет, что писать маленькие
бессмысленные песенки, он как Гаммельнский Крысолов ведущий никуда"[76] -
такая вот песенка, рафаэлевская.
"Ну и пусть, раз ему охота, др-др-др", это Коди как машина не знающая
ни музыки ни песен --
Рафаэль поет: "Ты! Мои тетушки предупреждали меня, - берегись таких как
Померэй -- они говорили мне, никогда не гуляй по нижней Ист-Сайд" -
"Бурп", - громкая отрыжка Коди.
И так вот они постоянно --
А в это время милый и кроткий Иисусов Отец Иосиф, Кевин с иосифовой
бородой, улыбается и слушает и сидит на полу чуть развалясь и ссутулясь, и
вдруг садится выпрямившись в задумчивости.
"О чем думаешь, Кевин?"
"Да вот водительские права потерял, если до завтрашнего дня не найду
хреново дело".
Коди врубается в Кевина, конечно, он в него врубается уже давно, много
месяцев, может чуть свысока как эдакий ирландский папаша но также как и
браток, как свой -- Коди приходил сюда, и уходил, и обедал тут сотни тысяч
миллионов раз неся с собой Истинное Знание. -- Коди теперь зовут
"Проповедник", так его назвал Мэл Называтель, который также прозвал Саймона
Дарловского "Русский Псих" (так оно и есть, кстати) --
"А где теперь старина Саймон?"
"О завтра часиков в пять встретимся с ним тут", быстро тараторит Коди
само-собой-разумеющимся тоном.
"Саймон Дарловский!" завопил Рафаэль. "Что за шизовый чувак!" Так
обалденно говорит он это "шизовый", шизоооо-вый, чистый восточный выговор, -
настоящий чудной говор парней с Болтик-элли, настоящий пацанский
базар[77]... так говорят детишки играющие во дворике за бензоколонкой, у
груды старых покрышек -- "Он же рехнулся", и обхватывает голову руками,
потом роняет их и улыбается, робко так, внезапный приступ кротости и
самоуничижения у Рафаэля который теперь тоже сидит скрестив ноги на полу, но
выглядит при этом так будто свалился туда в полном изнеможении.
"Странный странный мир", говорит Коди чуть отбегая в сторону а потом
разворачивается и возвращается опять к нам -- чеховский Ангел тишины
пролетел над нами и мы убийственно спокойны, мы слушаем гммм этого дня и
шшшшш тишины, и в конце концов Коди кашляет, совсем чуть-чуть, "Кхе-кхм", и
выпускает большие кольца дыма с самым Индейским и Таинственным видом --
Кевин замечает это и смотрит на него прямым и ласковым взглядом полным
изумления и любопытства, неосознанного чистого голубоглазого удивления -- И
Коди тоже это замечает, теперь его глаза полуприкрыты.
Пенни все еще сидит (как и раньше) в буддистской позе медитации, все
эти полтора часа разговоров и размышлений -- Сборище недоумков -- И мы ждем,
что случится дальше. То же самое происходит по всему миру, просто в
некоторых его местах сейчас пользуются презервативами, а в других говорят о
делах.
У нас нет ног, и нам не встать.
Все это лишь рассказ о мире и о том что в нем произошло -- Мы, все
вместе, спускаемся в кевиновский дом, и его жена Ева (по-сестрински милая
зеленоглазая босая и длинноволосая красавица) (она позволяет маленькой Майе
ходить в чем мать родила если ей этого хочется, а ей хочется именно этого, и
она бродит ("Абра абра") по высокой траве) предлагает нам обильный обед, но
я не голоден и объявляю об этом несколько самодовольно: "Там, в горах, я
научился не есть когда не голоден", так что ясно дело Коди с Рафаэлем жадно
съедают все без меня, громко галдя за столом -- А я все это время слушаю
пластинки -- Потом после обеда Кевин встает коленями на свой любимый коврик
из плетеной соломы и вынимает изящную пластинку из белого изящнейшей луковой
бумаги конверта, самый безупречно индийский в мире маленький индус, так
Рафаэль называет его, и еще они хотят поставить григорианские хоралы -- это
когда толпа священников и монахов прекрасно, очень формально и необыкновенно
поют под старую музыку, она старее камней эта музыка -- Рафаэль обожает
музыку, особенно ренессансную -- и Вагнера, когда я впервые встретил его в
Нью-Йорке в 1952 году он кричал "Рядом с Вагнером все чепуха, я хочу пить
вино и запутаться у тебя в волосах (своей подружке Джозефине) -- "На хрен
этот джаз!" -- Хотя на самом деле он самый настоящий джазовый чувак и должен
любить джаз, ведь даже ритм его движений джазовый хотя сам он этого не знает
-- но есть эта легкая итальянская манерность в его натуре и ее не совместить
никак с современным какофоническим битом -- Ну, пусть это останется его
личным делом -- А что касается Коди, то он любит всякую музыку и отлично в
ней разбирается, когда мы впервые поставили ему индийскую музыку он сразу
понял что барабаны ("Самый трудноуловимый и сложный ритм в мире!" говорит
Кевин, и мы с Кевином даже начинаем обсуждать влияние дравидов на все эти
арийско-индийские дела) -- Коди врубился что барабаны-тыквы, с мягким звуком
от металлического паммм до нижнего уаннг, это просто барабаны с ненатянутой
кожей[78] - Мы слушаем григорианские хоралы и потом опять индийскую музыку,
и каждый раз слыша ее обе кевиновские дочурки начинают радостно щебетать,
всю весну (прошлую) каждый вечер перед сном они слышали эту музыку из
большой настенной аудиоколонки (повернутой к ним задом) и из нее рвутся
прямо в их кроватки змеиные флейты, деревянные чародейские стучалки,
барабаны-тыквы, и грохочет изысканный и усмиренный Дравидией ритм старой
Африки, и на этом фоне старый индус принявший обет молчания и играющий на
гармонике выдает такой фейерверк невозможных и запредельных музыкальных идей
что Коди впадает в остолбенение и у многих других (у Рэйни например) (во
времена бродяг Дхармы, незадолго до моего отъезда) сносит крышу от восторга
-- По всей округе вдоль пустынной заасфальтированной дорожки разносятся
звуки кевиновских колонок пульсирующих мягкими песнопениями Индии или
высоким пением католических монахов, и лютнями, и мандолинами Японии, и даже
китайскими непостижимыми гармониями -- И еще он устраивал многолюдные
вечеринки когда во дворе разжигается большой костер и несколько
священнодействующих жрецов (Ирвин и Саймон Дарловский и Джерри) стоят у огня
совершенно голые, среди изысканных женщин и чьих-то жен, разговаривая о
буддистской философии и не с кем-нибудь а с главой отделения Азиатских
Исследований Алексом Омсом, которого это нимало не смущает, он пьет себе
вино и повторяет мне "Надо чтобы о буддизме узнало как можно больше народу"
-
Сейчас уже полдень и обед окончен, еще несколько пластинок и мы
сваливаем в город, забрав мои старые рукописи и одежду которые я оставлял в
деревянном сундучке в подвале у Кевина -- Еще с прошлой весны я задолжал ему
15$ и поэтому выписываю два туристических чека из полученных мной в
Седро-Вулли, и он не поняв (в темноте подвала) (деликатно, с грустными
глазами) протягивает мне в обмен скомканную пригоршню долларовых бумажек,
четыре, и одну надорванную которую бы мне в жизни не заклеить -- Кевин
немного пьян (из-за выпитого после обеда вина и всего прочего) и он говорит
"Так чего Джек, когда мы опять увидимся?", однажды шесть месяцев назад мы
пошли с ним вдвоем бродить и пристроились на задворках уотерфронтовского
железнодорожного депо с бутылочкой токайского и созерцали (как Бодхидхарма
принесший Буддизм в Китай) громадный Утес бугрящийся у подножия Телеграфной
Горки, ночью, и мы оба увидели как волны электромагнитно-гравитационного
света исходят из этой массы вещества, Кевин тогда был очень рад этой нашей
ночи вина, созерцания и брожения по улицам вместо обычного вечернего пива в
Местечке -
Мы втиснулись в маленький двухместный седан, развернулись, помахали на
прощание Кевину с Евой, и отправились через Мост назад в Город -
"Эй Коди, ты самый безумный чувак из всех кого знаю", признает Рафаэль
--
"Слушай Рафаэль, ты сказал как-то что тебя прозвали Рафаэль Урсо
Поэт-Игрок, так давай парень, поехали завтра с нами на скачки", зазываю я --
"Черт, могли бы сегодня успеть, да уж поздно - " говорит Коди --
"Отлично! Я еду с вами! Коди, ты научишь меня выигрывать!"
"Договорились!"
"Завтра -- мы заедем за тобой к Соне"
Соня это девушка Рафаэля, но годом раньше Коди (конечно же) приметил ее
и влюбился ("Чувак, ты себе и представить не можешь как у Шарля Свана ехала
башня из-за всех этих девиц - !" сказал мне однажды Коди... "Марсель Пруст
не мог быть гомиком раз написал такую книгу!") -- Так всегда стоит Коди
встретить какую-нибудь симпатичную деваху как он сразу в нее влюбляется, он
шлялся за Соней по пятам и даже притащил шахматную доску специально чтобы
играть в шахматы с ее мужем, однажды он взял меня с собой и там она сидела
на стуле лицом к шахматистам и раздвинув ноги в широких брюках а потом
спросила меня "Ну как тебе Дулуоз жизнь одинокого писателя не кажется
скучноватой?" -- Я согласился, глядя на разрез ее штанов, который Коди
прозевывая ладью в обмен на пешку ясное дело тоже видел -- В конце концов
она опустила таки Коди сказав "Э, знаю я зачем ты тут ошиваешься", но все
равно оставила потом мужа (шахматную пешку) (временно исчезнувшего сейчас из
пределов видимости) и стала жить с только что приехавшим с Востока
громогласным Рафаэлем --"Заедем за тобой к Соне"
Рафаэль говорит "Ага, у меня с ней начались разборки, похоже пора
сваливать, забирай ее себе Дулуоз"
"Я? Отдай ее Коди, он по ней сохнет - "
"Нет, нет", говорит Коди -- он уже позабыл про нее --
"Поехали все сегодня ко мне пить пиво и читать стихи", говорит Рафаэль,
"а потом я начну собирать вещички"
Мы приезжаем назад в кафе где нас уже ждет Ирвин, и одновременно в
двери заходит Саймон Дарловский, один, отработавший уже на сегодня свое
водителем "Скорой Помощи", а потом Джеффри Дональд и Патрик МакЛир два
старых (в смысле давно общепризнанных) поэта в Сан Фране которые всех нас
терпеть не могут --
И еще зашла Гия.
Я уже успел смотаться за бутылочкой калифорнийского красного, перелить
его в флягу и уже основательно к ней приложиться, так что мир вокруг
становится чуть смазанным и восхитительным -- Гия заходит держа по своему
обыкновению руки в карманах юбки и говорит своим низким голосом "Короче, об
этом уже весь город знает, журнал Mademoiselle собирается в пятницу вечером
всех вас сфотографировать - "
"Кого?"
"Ирвина, Рафаэля, Дулуоза -- А через месяц вы будете в журнале Life!"
"Откуда это ты узнала?"
"На меня не рассчитывайте", говорит Коди когда Ирвин берет его за руку
и просит придти, "В пятницу мне на работу надо, вечером"
"Но Саймон будет с нами сниматься!" торжествующе объявляет Ирвин и
хватает Дарловского за руку, и Дарловский кивает просто --
"А можно будет потом устроить сексуальную оргию?" говорит Саймон.
"На меня не рассчитывайте", говорит Гия --
"И у меня с этим может не получится", говорит Коди, и каждый наливает
себе из кофейника чашку кофе и садится за отдельный столик а вокруг снуют
туда-сюда тусовщики из мира Богемы или Подземных --
"Так давайте сделаем это вместе!" кричит Ирвин. "Мы все станем
знаменитыми -- Дональд и МакЛир, вы тоже пойдете с нами!"
Дональду 32, полноватый, красивое лицо, печальные глаза, элегантный,
молча отводит взгляд, и МакЛир, 20 лет, стриженный под ежик, безучастно
смотрит на Ирвина, "О нас уже снимают отдельно, сегодня вечером"
"Как -- отдельно от нас?" кричит Ирвин -- и вдруг понимает что тут
какие-то разборки и интриги и его взгляд гаснет в задумчивости, пытаясь
осознать все эти союзы, разлады и разделения в священном золотом братстве --
Саймон Дарловский говорит мне "Джек я два дня тебя искал! Где ты был?
Что делал? Что тебе снилось последнее время? Что-нибудь прекрасное? А
девчонки какие-нибудь залезали тебе в штаны? Джек! Посмотри на меня! Джек!"
И он меня заставляет смотреть на себя, у него неистовое исступленное лицо с
мясистым орлиным носом, светлые волосы его пострижены теперь ежиком (вместо
безумной копны волос раньше) и полные серьезные губы (как у Ирвина) но весь
он длинный и худощавый и будто только-только из колледжа -- "У меня есть
миллион вещей рассказать тебе! И все про любовь! Я открыл секрет красоты!
Это любовь! Каждый это любовь! Повсюду! Я тебе сейчас все объясню - " И он
объяснил, на предстоящем поэтическом чтении (первой встрече Рафаэля с
ненасытными ценителями поэзии Фриско 50-х) он был внесен в список
выступающих и должен был (с согласия и по пожеланию Ирвина с Рафаэлем
которые только глупо хихикали и которым на все было наплевать) после чтения
их стихов встать и выдать большую длинную спонтанную речь о любви --
"Что ты им скажешь?"
"Я скажу им все -- Я ничего не упущу -- Я заставлю их плакать -- Джек,
прекрасный брат Джек, слушай! Вот моя рука, она протянута к тебе в этом
мире! Возьми ее! Сожми! Ты знаешь что случилось со мной однажды?" внезапно
вскричал он превосходно пародируя Ирвина, иногда он Коди тоже имитирует, ему
всего 20 -- "В четыре часа дня я пошел в библиотеку закинувшись распирухой
-- знаешь что это?"
"Распируха?"
"Таблеткой дексидрена -- в желудок" - похлопывая себя по пузу --
"Понимаешь? Кинул ее на кишку и потом когда расперло мне в руки попался "Сон
Гомика" Достоевского -- Я увидел что любовь - "
"Сон Смешного Человека" ты хочешь сказать?"
" -- что любовь возможна в чертогах сердца моего, но снаружи в реальной
жизни у меня мало любви, понимаешь, я увидел проблеск жизни наполненной
любовью, такой же как мощный свет любви который Достоевский видел в своей
темнице, и у меня слезы на глаза навернулись когда в сердце своем я смог
подняться до этого блаженства, понимаешь, а потом у Достоевского был сон,
понимаешь, он перед сном положил в ящик стола пистолет чтобы проснуться и
застрелиться -- БАБАХ!" он хлопнул в ладоши, "но ощутил искреннее и острое
желание любить и молиться -- да Молиться - так он сказал -- "Жить И Молиться
За Истину Которую Я Знаю Так Хорошо" -- так что когда придет мое время
сказать эту речь, когда Ирвин и Рафаэль закончат читать свои стихи, я хочу
поразить публику и себя самого идеями и словами любви, и еще сказать о том
почему люди не любят друг друга так сильно как могли бы -- Я даже заплачу
перед ними чтобы они почувствовали -- Коди! Коди! Эй ты, чумовой чувак!" и
он кидается на Коди и начинает его толкать и пихать и Коди лишь покряхтывает
"Амм хммм хе ага" поглядывая на свои старые железнодорожные часы, чтобы не
опоздать пока мы все тут ошиваемся -- "Мы с Ирвином говорили долго-долго-- и
решили что построим наши отношения как фугу Баха, понимаешь, где все
движется и друг друга заменяет, понимаешь - " Саймон заикается, ерошит себе
волосы, он по-настоящему возбужден и безумен, "И мы снимаем с себя всю
одежду на вечеринках, мы с Ирвином, и устраиваем большие оргии, однажды
ночью перед твоим приездом к нам пришла эта девушка знакомая Сливовица и мы
затащили ее в постель и Ирвин трахнул ее (это та самая девица которой ты
зеркало кокнул, помнишь?[79]), ну и ночка, первый раз я кончил через
полминуты -- И я совсем не вижу снов, или нет, недели полторы назад я видел
эротический сон но совсем его не запомнил, как одиноко..."
И хватает меня за плечи "Джек спит читает пишет говорит идет ебется
смотрит и опять спит" -- он искренне хочет мне помочь и оглядывает меня
встревоженными глазами, "Джек тебе надо больше трахаться, мы должны так
устроить чтобы ты трахнулся сегодня ночью!"
"Мы идем к Соне", вставляет Ирвин который слушает все это веселясь --
"Мы разденемся и сделаем это -- Давай же, Джек, сделаем!"
"О чем это он только говорит!", кричит Рафаэль подходя к нам -- "Ты
ненормальный, Саймон!"
И Рафаэль мягко отталкивает Саймона и Саймон так и остается стоять как
маленький мальчик ероша свою стрижку ежиком и невинно поблескивая на нас
глазами, "Но это же правда!"
Саймон хочет быть "таким как Коди", он сам так говорит, во всем, и как
водитель, и как "оратор" -- он обожает Коди -- Понятно почему Мэл Называтель
зовет его Русский Псих -- а еще он постоянно делает какие-нибудь невинные но
опасные вещи, может например внезапно подбежать к совершенно незнакомому
человеку (угрюмому Ирвину Минко) и поцеловать его в щеку просто от избытка
переполняющих чувств "Привет", и Минко сказал на это "Ты не знаешь, как
близко был к смерти"
И Саймон, окруженный со всех сторон пророками, так и не смог понять в
чем дело -- к счастью мы все были там и могли его защитить, да и Минко вовсе
неплохой парень -- Саймон настоящий русский, хочет чтобы весь мир
преисполнился любви, возможно он потомок безумных Ипполитов и Кирилловых
Достоевского из царской России 19 века -- Он даже выглядит похожим на них, и
когда мы съели пейотль (музыканты и я) а потом залабали большой джем в 5
часов в полуподвальной квартирке, с тромбонами и двумя барабанами, Спид
играл на пианино, и Саймон сидел под всегда включенной даже днем красной
лампой со свисающими старинными кистями, его сухопарое лицо стало выглядеть
очень резко в неестественно красном свете и внезапно я увидел: "Саймон
Дарловский, величайший человек в Сан-Франциско", и позже этой ночью к моему
и ирвиновскому изумлению когда мы топали по улице (я с рюкзаком за плечами)
(крича "Великое Облако Истины!" выходящим из игорных притонов китайцам),
Саймон разыграл настоящую маленькую пантомину[80] a la Чарли Чаплин но в
своем собственном чисто русском стиле, вбежав в какой-то зал заполненный
сидящими на плетеных стульях и смотрящими телевизор людьми и устроив целое
представление (изумление, прижатые в ужасе ко рту руки, тревожные взгляды по
сторонам, ой-е-ей, тревога, смущение, подхалимство, наверное так на
парижских улицах шустрили пьяноватые молодцы Жана Жене) (искусные маски на
смышленых лицах) -- Саймон Дарловский, Русский Псих, он всегда напоминал мне
моего кузена Ноэля, и я до сих пор иногда его так называю, Ноэль был моим
кузеном в далекие массачусетские дни, и у него были такие же лицо и глаза, и
он любил скользить неслышно как привидение вокруг стола в сумеречных
комнатах и выдавать "Ууууу хо-хо-хо-хооооо я -- Дух Оперы!" (по-французски
это звучит как je suis le phantome de l`opera-a-a-a) -- И еще странная
штука, все саймоновские работы были точь в точь как у Уитмена, больничные,
он брил старых психов в психушке, сидел с больными и умирающими, а сейчас
работал водителем "Скорой Помощи" в маленьком госпитале, мотаясь целый день
по Сан Франу и таская изувеченных и оскорбленных в носилках (из ужасных мест
где их находили, маленьких задних комнатушек), кровь и скорбь, на самом деле
Саймон не Русский Псих, а Саймон-Сиделка -- Он и мухи не смог бы обидеть,
даже если бы захотел --
"А, ну да, ну ясно дело", сказал в конце концов Коди и пошел,
отправился работать на железную дорогу, напомнив мне на улице "Завтра на
скачки пойдем, ждите меня у Саймона ("У Саймона" - это где все мы будем
ночевать)...
"Окей"
Потом поэты Дональд и МакЛир предлагают подбросить всех нас домой, на
две мили вверх по Третьей, в район негритянских новостроек где даже прямо
вот сейчас саймоновский 15 Ѕ летний братец Лазарус жарит картошку на кухне и
размышляет о лунатиках.
Именно этим он и занимается когда мы заходим, жарит картошку, высокий
красавчик Лазарус который у себя в школе может встать и сказать "Нам нужна
свобода говорить когда хотим" - и который всегда у всех спрашивает "Что тебе
снилось?" он хочет знать твои сны и, когда ты их ему расскажешь, кивает -- И
хочет чтобы мы ему тоже раздобыли девушку -- У него идеальный
Джон-Берриморовский[81] профиль и когда он вырастет то будет по-настоящему
красив, но сейчас он живет один с братом, мать и остальные безумные братья
остались на востоке, а Саймону сейчас не до него -- Поэтому Саймон пытался
уже отослать его в Нью-Йорк, но он не хочет ехать, единственное место куда
ему хотелось бы -- это на Луну -- Он съедает всю еду покупаемую Саймоном на
всех и способен встать в 3 часа ночи и зажарить все бараньи отбивные, все
восемь штук, и съесть их без хлеба -- Все свободное время он тратит на уход
за своими длинными светлыми волосами, в конце концов я разрешаю ему
пользоваться моей расческой, и он даже начинает прятать ее от меня так что
приходится потом разыскивать -- Затем он врубает на полную громкость радио,
Джампин Джордж Джаз из Окленда -- затем его несет куда-то вон из дома и он
прогуливается по солнышку и задает причудливейшие вопросы, типа: "А как ты
думаешь, солнце вниз не свалится?" - "А там где ты был, там не было
чудовищ?" -- "А они смогут сделать еще один мир?" -- "В смысле, когда этому
конец наступит?" -- "А у тебя глаза завязаны?" - "Я имею ввиду действительно
завязаны, ну платок на глазах?" -- "А тебе двадцать лет?"
Четыре недели назад он на полной скорости вылетел на своем велике на
перекресток под новостройками, прямо к офису Стальной Компании у
железнодорожного туннеля, впечатался в машину и сломал себе ногу -- Он до
сих пор все еще прихрамывает -- И тоже смотрит с обожанием на Коди -- Коди
больше всех беспокоился из-за его травмы -- Даже у самых безумных людей
находится место простому состраданию -- "Чувак, он еле ходить мог, бедный
парнишка -- ему так долго было плохо -- я очень тут беспокоился из-за
старины Лазаруса. Правильно, Лаз, клади побольше масла" - длинный неуклюжий
подросток Лаз накрывает нам на стол и зачесывает назад свои волосы -- очень
молчаливый, никогда лишнего не скажет -- Саймон обращается к брату по его
настоящему первому имени Эмиль -- "Эмиль, ты сходишь в магазин?"
"Пока нет"
"А сколько времени?"
Длинная пауза -- а затем глубокий бас Лазаруса -- "Четыре" --
"Ну так сходишь в магазин?"
"Сейчас"
Саймон притаскивает дурацкие брошюры с рекламными предложениями которые
магазины рассылают по почтовым ящикам, и вместо того чтобы написать список
покупок он просто наугад звонит по какому-нибудь телефону, например
предлагающему
МЫЛО ТИДОЛ
Сегодня только 45с
- они звонят туда, и не то чтобы им было нужно это мыло, но вот оно,
здесь, его предлагают на целых два цента дешевле -- братья склоняют свои
чистокровно русские головы над брошюрой и звонят куда-то еще -- Затем
Лазарус посвистывая идет по улице с деньгами в кулаке и проводит часы в
магазине рассматривая обложки научно-фантастических книжек -- приходит домой
поздно --
"Где ты был?"
"Картинки глядел"
И вот мы подъезжаем и заходим в квартиру и старина Лазарус жарит свою
картошку как обычно -- С длинного балкона видно как солнце сияет над Сан
Франциско
Поэт Джеффри Дональд, изысканный и утомленный, он был в Европе, на Ишии
и Капри и так далее, он знает всех этих богатых модных писателей и тому
подобных типов, и даже говорил обо мне недавно с нью-йоркским издателем, что
меня очень удивляет (ведь я впервые его вижу), и мы выходим на балкон и
смотрим на город --
Это южная часть Сан Франа, где начинается Третья Улица и полно
бензиновых цистерн и цистерн с водой и заводских рельсовых путей, где все
подернуто дымкой и покрыто слоем цементной пыли, скаты крыш, за ними синее
море до самого Окленда и Беркли, дальше виднеется равнина тянущаяся вплоть
до подножья холмов где начинается долгий подъем до самой Сьерры, до тонущих
в облаках вершин ее неземной величественной громадины подкрашенной сумерками
в снежно розоватые тона -- Остальной город остается слева, белизна, грусть
-- Типичное место для Саймона и Лазаруса, вокруг живут только негритянские
семьи и конечно же их здесь любят и стайки ребятишек заходят даже прямо к
ним в дом и палят из игрушечных ружей, вопят, и Лазарус обучает их искусству
молчания, их герой Лазарус --
И я думаю стоя рядом с печальным Дональдом о том знает ли он все это,
любит ли, и о чем он задумался -- внезапно я замечаю что он повернулся лицом
ко мне и смотрит долгим серьезным взглядом, я отвожу глаза, у меня не
хватает сил -- не знаю что ему сказать и как поблагодарить -- Тем временем
юный МакЛир на кухне, они читают стихи сгрудившись вокруг бутербродов с
джемом -- Я устал, я уже устал от всего этого, куда мне идти? что делать?
как мне провести вечность?
Пока душа свечой сгорает в чертогах наших дуг надбровных[82]
"Кажется ты в Италии был и вообще...? -- а сейчас чего делать
собираешься?", в конце концов говорю я.
"Я не знаю что я собираюсь делать", говорит он грустно, с усталой
иронией.
"Да чего там, делай что делается...", несу я вялую чушь.
"Я много про тебя слышал от Ирвина, и я читал твою книгу - "
Просто он слишком благопристойный для меня -- мне же понятнее
необузданность -- как хотел бы я суметь ему объяснить -- но он знает что я
знаю --
"Мы еще с тобой увидимся?"
"Да, конечно", говорит он --
Через два дня он устраивает для меня что-то вроде маленького обеда у
Розы Уайз Лэйзали, женщины которая организует поэтические чтения (в которых
я никогда не участвую, из-за робости) -- Она приглашает меня по телефону а
Ирвин стоит рядом и шепчет "А нам можно придти?" "Роза, а можно придти еще
Ирвину?" -- ("И Саймону") -- "И Саймону?" - "Конечно, почему нет" -- ("И
Рафаэлю") -- "И Рафаэлю Урсо, поэту?" - "Ну естественно" -- ("И Лазарусу"
шепчет Ирвин) -- "И Лазарусу?" -- "Конечно" - так что мой обед с Джеффри
Дональдом и элегантной красивой и умной женщиной превратился в шумную
безумную пирушку с ветчиной, мороженым и тортом -- я еще про это напишу
когда подойдет время --
Дональд с МакЛиром уходят и мы жадно пожираем невероятную смесь всего
что находится в холодильнике, и мчимся к рафаэлевской подружке где весь
вечер пьем пиво и болтаем, где Ирвин с Саймоном немедленно раздеваются (по
своему обыкновению) и в конце концов Ирвин начинает играть с сониным пупком
-- ясное дело Рафаэль чувак с нижней Ист-Сайд ему не нравится когда кто-то
забавляется с пупком его подружки, и вообще ему тошно сидеть тут и смотреть
на голых мужиков -- Хреноватый вечерок получается -- Я чувствую что меня
ждет впереди большая работа чтобы все это уладилось как-то -- И Пенни все
еще с нами, сидит где-то там позади -- старые сан-францисские меблирашки,
верхний этаж, повсюду разбросаны книги и вещи -- я тихо сижу с бутылкой пива
и смотрю в сторону -- единственное что отвлекает мое внимание от
погруженности в собственные мысли это прекрасное серебряное распятие которое
Рафаэль носит на шее, и я говорю ему об этом --
"Тогда оно твое!" -- и он снимает его и отдает мне -- "Правда, точно,
забирай его!"
"Нет-нет, я просто поношу его несколько дней а потом отдам назад"
"Можешь оставить его себе, я хочу отдать его тебе! Знаешь что мне в
тебе нравится Дулуоз, ты понимаешь что меня мучает --не хочу я сидеть тут и
пялиться на голых мужиков - "
"О да что такое?" говорит Ирвин стоя на коленях перед сониной
табуреткой и трогая ее пупок под приподнятым им краем одежды, а сама Соня
(этакая милашка) пытается доказать что ее ничего не может потревожить и
позволяет ему делать это, а Саймон смотрит глазами полными молитвенного
экстаза (сдерживаясь) -- На самом деле Ирвина с Саймоном уже начинает слегка
знобить, уже ночь, окна открыты, пиво холодное, Рафаэль сидит у окна в
задумчивости и не хочет ни с кем разговаривать а если уж начинает то ругая
их -- ("Вы думаете мне нравится когда вы делаете это с моей девушкой?")
"Рафаэль прав, Ирвин -- ты не понимаешь".
Но я хочу чтобы Саймон тоже понял, ему хочется больше чем Ирвину,
Саймону нужна только непрерывная оргия --
"Да ну вас", в конце концов вздыхает Рафаэль, махнув рукой -- "Давай,
Джек, возьми крест и оставь его себе, он на тебе хорошо смотрится".
Он на маленькой серебряной цепочке, я продеваю сквозь нее голову,
засовываю крест за воротник и он на мне -- я чувствую себя необычно радостно
-- В это время Рафаэль читает Алмазный Резец Обета Мудрости (Алмазную
Сутру") которую я переложил своими словами в Одиночестве, она лежит у него
на коленях, "Ты понимаешь это Рафаэль? Здесь ты найдешь все что нужно".
"Я понимаю о чем ты. Да я понимаю это".
В конце концов я начинаю читать отрывки оттуда чтобы отвлечь их умы от
девушек и ревности - :
"Субхути, те кто познали истину в передаче учения другим, вначале
должны освободиться сами от всех тщетных желаний вызванных прекрасными
зрелищами, приятными звуками, сладкими вкусами, ароматами, нежными
прикосновениями и искушающими мыслями. Совершая даяние, они не должны слепо
прельщаться любыми из этих увлекательных картин. И почему же? Потому что
если совершая даяние они не будут слепо прельщаться подобными вещами, они
испытают состояние блаженства и добродетельной радости, которое вне
сравнений и представлений. Как думаешь ты, Субхути? Возможно ли измерить
ширь пустоты восточных небес?
Нет, о Блаженный Просветляющий! Невозможно измерить ширь пустоты
восточных небес!
Субхути, а возможно ли измерить ширь пустоты северных, южных и западных
небес? А ширь пространства четырех концов вселенной, верхних небес, нижних
небес и тех небес что между ними?
Нет, о Превосходнейший в Мире!
Субхути, так же невозможно измерить глубину блаженства и добродетельной
радости которые испытают те кто познали смысл, и те кто совершая даяние не
будут слепо прельщаться иллюзиями реальности подсказываемыми нам
уверенностью в их существовании. Истина должна быть принесена в чистом виде
и всем без исключения"...
Все слушали внимательно... и все таки в комнате оставалось что-то чужое
мне... жемчужины прячутся в раковине моллюска.
Вниманьем пустоте спасется мир Все станут радостно добры Вновь заблещет
Орион К нам придет лохматый Слон![83]
Наконец то закончился этот дурацкий вечер, и мы идем домой оставив
Рафаэля в мрачной задумчивости, в ссоре с Соней, собирающим вещи -- Ирвин с
Саймоном и мы с Пенни возвращаемся назад на квартиру, где Лазарус опять
что-то поджаривает на плите, берем еще пива и напиваемся все -- В конце
концов Пенни выходит на кухню почти плача, она хочет спать с Ирвином но он
уже заснул, "Присядь ко мне на коленки, детка" говорю я -- В конце концов я
иду спать и она юркает ко мне в кровать и обвивает меня руками (хоть и
сказав сначала: "Нужно же мне где-то спать в этом дурдоме") ну мы и занялись
делом быстренько -- Потом просыпается Ирвин и Саймон потом тоже ее трахает,
раздаются глухие удары тел и поскрипывание кроватей и старина Лазарус бродит
вокруг и в конце концов следующей ночью Пенни целует и Лазаруса, и все
счастливы --
Я просыпаюсь утром и на шее моей висит крест, я вспоминаю через что я
пронес его этой ночью и спрашиваю себя "А что бы сказали католики и
христиане о том как я пронес крест этот через бардак и пьянку? -- но что
сказал бы Иисус если бы я пришел к нему и спросил "Могу я носить Твой крест
в этом мире таком какой он есть?"
Что бы не происходило, могу ли я носить твой крест? -- ведь есть много
разных чистилищ, правда?
"Не прельщаясь слепо..."
Утром Пенни встает раньше всех, успевает сходить за беконом, яйцами и
апельсиновым соком, и делает большой завтрак для всех -- Она начинает мне
нравиться -- Теперь она висит у меня на шее и прямо уцеловывает всего с ног
до головы и (после того как Саймон с Ирвином уходят на работу, в ирвиновский
магазинчик который находится в Окленде и потихоньку накрывается) Коди входит
прямо когда мы начинаем (или кончаем) нежничать в постели и громко вопит
"Ага, вот это приятно видеть по утрам, мальчики и девочки!"
"Можно я с тобой, можно я пойду с тобой сегодня?" говорит она мне --
"Конечно"
Коди занят своими скачками, он закуривает сигару, склоняется над
кухонным столом и весь погружается в сегодняшние газеты с новыми скачками и
новыми именами жокеев, точь в точь как мой отец когда-то -- "Положи-ка чуток
сахару в этот кофе, Лазарус, мальчик мой", говорит он --
"Так точно, сэр"
Лазарус скачет по кухне с бесчисленными тостами, яйцами, беконом,
зубными щетками и книжками комиксов -- Ясное солнечное утро в Фриско, и мы с
Коди немедленно упыхиваемся травой прямо за кухонным столом.
Внезапно мы с ним начинаем говорить про Бога высокими громкими
голосами. Мы хотим чтобы Лазарус врубился. Половина из того что мы говорим
адресована ему -- А он просто стоит похихикивая и зачесывает свои волосы
назад.
Коди сейчас явно в ударе но я должен заставить его понять, и он опять
начинает "Так оно и есть как ты говоришь, Бог это мы" -- бедняга Коди --
"прям вот здесь и сейчас и всяко-там-разно, а к Богу нам бежать некуда,
потому что мы-то уже здесь, и все же Джек правда посмотри сам братишка, эта
черт-бы-ее-драл дорога на Небеса это долгая дорога!" Он вопит все это, и
совершенно серьезно, а Лазарус расслабленно ухмыляется стоя у плиты, вот за
это-то они и зовут его "Лаз"[84]
"Ты понимаешь, Лазарус?"
Конечно он понимает.
"Слова", говорю я Коди.
"Мы рождаемся в наших астральных телах чувак и представь себе как долго
дух бродит чтобы попасть сюда в эту темнющую ночь, прямиком -- и пока он
бродит, астрально новорожденный и не врубающийся ни во что, он начинает эдак
вот мотаться туда-сюда просто чтобы исследовать все вокруг, как у Герберта
Уэллса про девушку которая подметает в прихожей полы туда-сюда, ну или как
волны миграции надвигаются, - в астральном виде он тоже мигрирует на
следующий, на марсианский уровень -- и вдруг натыкается на этих самых
стражников-привратников понимаешь, со всей неслабой астральной
всепронизывающей скоростью" --
"Слова!"
"Правда, правда, ну да, но потом -- слушай Джек, представь себе парня у
которого такая скверная аура предательства, на самом-то деле он
перевоплощение Иуды, такие дела, что люди на улице стоит пройти ему мимо
оглядываются и так прямо и спрашивают "Что это за предатель мимо прошел?" -
всю свою жизнь мучается будто проклятый и все над ним измываются, это его
кармический долг который он должен платить за то что продал Иисуса за горсть
серебра - "
"Слова"
Я говорю это "слова" и говорю серьезно -- я просто пытаюсь заставить
Коди заткнуться и тогда я смогу сказать "Бог -- это слова - "
Но слова не иссякают -- и Коди настаивает на своем и пытается доказать
что мир материален, он действительно верит что тело которое ты видишь это
физически независимая форма -- и что когда астральный дух выходит: "И когда
он попадает на Сатурн там могут такие условия попасться, срастаться,
получаться-разлучаться, короче совсем его там с толку собьют и станет он
камнем или еще какой-нибудь такой штукой - "
"Скажи мне серьезно, отправляется ли дух человека к Богу на небеса или
нет?"
"Ну да, после долгого суда и труда отправляется туда, ясно дело",
вежливо, закуривая сигарету.
"Слова"
"Ну слова если так тебе охота"
"Дрова"
Он не обращает внимания на мои "Дрова".
"Пока в конце концов очистившийся и такой чистенький совсем как
неношеная одежда дух прибывает в рай назад к Господу Богу. Понимаешь теперь
почему я сказал "мы пока еще не там!"
"Мы просто не можем быть не там, никуда нам от этого не деться".
Это заставляет Коди ненадолго притухнуть, я нарочно запутываю слова --
"Небеса неизбежны", говорю я.
Он начинает трясти башкой -- по какой-то непонятной причине он никак не
может со мной согласиться, наверно где-то там (в просторах не-пространства)
в другой совсем плоскости сидят наши призраки и так же яростно спорят о тех
же самых делах -- Но к чему все это?
"СЛОВА!!!" ору я так, как орет обычно Рафаэль "На хуй это все!"
"Разве ты не понимаешь", говорит Коди прямо таки лучась искренними
благодарностью и радостью, "все это давным-давно для нас было придумано и
нам делать ничего не надо, просто завалиться туда всей толпой и все...
Поэтому я хочу сегодня пойти на скачки", продолжает грузить[85] Коди. "Надо
бы мне отыграться и денежки свои вернуть а кроме того мальчик мой я хочу
тебе кой о чем рассказать, знаешь сколько раз я подходил к окошку где ставки
принимают и говорил "Пятый номер", просто потому что кто-то только что будто
сказал мне "Номер пять", хотя на самом-то деле я хотел второй?"
"Так чего бы тебе не сказать, дайте мне второй номер вместо пятого, я
ошибся. Ведь тебе поменяли бы его?"
(Мы с Рафаэлем еще вчера в домике у Кевина удивлялись, чего это Коди
постоянно твердит о номерах, позже на скачках сами услышите)
И вместо ответа на вопрос поменяют ли ему номер, он опять начинает:
"Потому что это нереинкарнировавшийся призрак подсказал мне "Номер Пять" - "
"Так ты иногда слышишь их в своей голове?"
"Может этот призрак хочет чтобы я выиграл, или чтобы проиграл, но в
любом случае он знает наперед результаты скачек, старина, думаешь я не знаю
почему, черт меня подери, и знаешь Лентяй Вилли говорил что он никогда,
понимаешь, ни на шаг не отступал от своей системы второго выбора - "
"Ну так теперь ты хоть знаешь, все дело в том что эти развоплощенные
духи мешают тебе выигрывать -- ведь ты говорил что система второго выбора
работает надежно"
"Ну да надежно"
"А как они выглядят?" спрашивает Лазарус из другой комнаты, опять
зализывая себе волосы сидя на краю кровати и слушая пластинку на вертушке.
"Да по-разному, как ауры различные, например аура этого предателя
пугала людей на улице, а может быть просто ауры это такие великаны-людоеды
нашего воображения". Тут у Коди опять просыпается кельтская жилка[86].
"Ужасные убогие призраки ломятся один за одним -- в бездонные небеса,
Коди ты сдурел совсем, что с тобой такое?"
Ох-ох-хо, закатывая глаза сладкоголосый Коди заливается соловьем,
сейчас он все-все объяснит, и конечно же для этого ему нужно вскочить со
стула чтобы махать руками и говорить -- Проповедник -- правильно назвал его
Мэл Называтель -- Лаз входит чтобы поглазеть на выплясывающего Коди. Коди
нагибается и долбит кулаком по полу, вскакивает и подпрыгивает в воздух так
что и Нижинскому не снилось, потом разворачивается и сует свои большие
мускулистые руки Лил-Абнеровского-пятнадцатилетнего-брата[87] тебе прямо под
нос и начинает ими махать и трясти там, он хочет чтобы ты ощутил дуновение и
жар Господень --
"И вообще на самом деле все есть свет, а в свете уже не может быть
разделений", подвожу я итог, и сам же добавляю: "Слова."
"Иисус Христос спустился к нам и его Кармой было знать что он Сын Божий
и что его предназначение умереть за вечное спасение всего человечества - "
"Всех чувствующих существ"
"Нет только не муравьев. И зная это он так и сделал, умер на Кресте. В
этом была его Карма Иисуса. -- Врубись что это значит".
Les onges qui mange
dans la terre...[88]
Чтобы выбраться из всей этой заморочки Коди надо было всего то сказать
"Но Бог выше слов", но ему наплевать на слова, он хочет ехать на скачки.
"Короче, что мы делаем сейчас: садимся ко мне в машинку и едем смотреть
девчушку-милашку-малышку с которой я хочу тебя познакомить а потом едем за
этим твоим Рафаэлем-Шмафаэлем и ОТВАЛИВАЕМ!" Голосом диктора на скачках. Он
распихивает все свои бумажки и ключи и сигареты по карманам, и мы выходим,
Пенни которая только что прихорашивалась перед уходом и слегка тормознулась
поэтому, теперь вынуждена бежать за нами и запрыгивает в машину в последний
момент, Коди не может ждать, мы оставляем торчащего в дверях Лазаруса
который теперь может беспрепятственно слоняться без дела по квартире -- мы
деловито несемся вниз с крутого холма, даем кругаля направо, потом налево,
потом опять направо и прямо на Третью Улицу, ждем на светофоре, и опять
вниз, пока не начинается город, Коди не хочет терять ни секунды времени --
"Ведь это ВРЕМЯ, мальчик мой!" вопит он -- и пускается в разъяснения своей
теории времени и почему мы должны пошевеливаться быстро. "Можно столько
всего-всякого понаделать!" орет он (мотор грохочет) -- "Если бы у нас только
было ВРЕМЯ!" кричит он, почти стеная.
"Что это опять за фигня насчет времени?" кричит девушка. "Бог ты мой,
все время одно и тоже, про Время да про Бога и всю эту чушь собачью!"
"Да заткнись ты" говорим мы одновременно (про себя, в своих насмешливых
мыслях), Коди совсем обезумел, он вламывается на бешеной скорости на Третью
Улицу так что даже местные алкаши вздрагивают и отрываются от бутылок вина
которыми пустыми они усеивают потом тротуары боковых переулочков, вокруг
полно машин, он чертыхается и крутится по сторонам -- "Эй, потише!" кричит
Пенни когда он задевает ее локтями. Он выглядит достаточно безумным чтобы
ограбить банк или убить полицейского. Глядя на него можно подумать что это
бандюга в розыске из Оклахомы 1892. И он заставил бы даже Дика Трейси
содрогнуться перед тем как тот прострелил бы дырку в его голове.
Но потом на Маркет-стрит появляется куча красивых девчонок, и вот
кодины комментарии: "Погляди на эту. Неплохо, а? Смотри, вот-вот, заходит в
магазин. Классная задница"
"Эй, ты!"
"Но вон та вон вообще обалдеть -- гммм -- спереди и сзади в полном
порядке - бедер толком нет -- штучки-дрючки."
Штучки-дрючки, так бывает когда он забывается в присутствии детей и они
начинают помирать от хохота врубаясь в Коди. Но никогда он не начинает
строить клоуна со взрослыми. У метеора милосердия должно быть суровое лицо.
"Вот еще одна. Ого да она красотка, как тебе?"
"Эх вы, мужики"
"Давайте поедим!" -- и мы отправляемся в Чайнатаун завтракать, я беру
тощие ребрышки в сладко-соленом соусе и утку с миндалем и мой любимый
апельсиновый сок, вот.
"И теперь, дети мои, я хочу чтобы вы знали что это самый важный день в
вашей жизни", объявляет Коди в кабинке ресторана перекладывая свои
бланки[89] из кармана в карман, "и с Божьей помощью" стуча по столу "я
собираюсь возмещать свои по-те-ри" У.К.Филдсовским[90] голосом, и безучастно
смотрит на официанта который проходит но не останавливается (китайский
парень с подносами), "На нас тут всем наплевать", вопит Коди -- И потом
когда в конце концов официант подходит он заказывает себе обычный завтрак
яичницу с ветчиной, так было уже в Бостоне когда мы вместе с Г. Дж. пошли в
Устричный Дом Старого Союза и он заказал себе там свиную отбивную. Я получаю
здоровенную утку с миндалем и с трудом доедаю ее.
В машине не хватает места, и мы после уговоров высаживаем Пенни здесь
на углу, а сами отправляемся чтобы посмотреть на кодину новую подружку
которая живет где-то здесь, и мы лихо тормозим перед домом и выбегаем из
машины и мчимся в квартиру, и вот стоит она в маленьком облегающем платье
занимается своей прической перед зеркалом и подкрашивает губы, говоря "Я
собираюсь к филиппинскому фотографу на эротические съемки"
"Правда мило?" говорит Коди с немалым удовольствием. И пока она
прихорашивается у зеркала даже я не могу оторвать глаз от ее форм,
убийственно безупречных, и Коди как сексуальный маньяк с какой-то небывалой
порно-открытки стоит сзади придерживая ее одной рукой, близко-близко, но не
прикасаясь, а она то ли замечает его то ли нет, то ли вообще ей все равно, и
он все стоит и смотрит на меня с каким-то неуловимым вызовом в уголках рта,
и показывает на нее, свободной рукой не касаясь он лепит формы ее тела в
воздухе, я стою и смотрю на это потрясающее представление, потом сажусь, а
он все не прекращает, и она продолжает подкрашивать себе губы этой своей
помадой. Маленькая безумная ирландочка по имени О`Тул.
"Чувак", в конце концов говорит она, достает косяк с травой и
поджигает. Я глазам своим не верю и тогда в комнату заходит трехлетний
мальчик и говорит что-то невероятно заумное своей матери, типа "Мама, а
можно мне в ванную с детскими глазиками?" что-то вроде этого, или, "Где моя
игрушка, хочу с ней драться!", правда, на самом деле -- Потом заходит ее
муж, чувак из тех кого постоянно встречаешь в Подвале, я часто видел его там
слоняющегося из угла в угол. Мне становится сильно не по себе из-за этого
расклада и я пытаюсь выключить себя из него взявшись за книжку (Дзен
Буддизм) и начав читать. Коди же это мало трогает, но мы уже готовы идти, мы
отвезем ее прямо к ее фотографу. Они несутся наружу и я следую за ними но в
руках у меня книга, и мне приходится бежать назад и опять звонить в дверной
звонок (пока Коди обхаживает милашку Миззус О`Тул) и ее муж смотрит на меня
сверху вниз, с лестницы, я говорю "Я книгу случайно взял", взбегаю наверх и
вручаю книгу ему, "Правда случайно", и он орет мне вниз "Я знаю что ты
случайно чувак", идеальная и обалденная парочка.
Мы подвозим ее и отправляемся за Рафаэлем.
"Правда она обалденная маленькая крошка, ты заметил это ее платьице", и
тут же вдруг он прямо свирепеет. "Теперь из-за этого твоего Рафаэля мы
опоздаем на ипподром!"
"Рафаэль классный парень! Я тебе обещаю, я знаю! -- Что за ерунда,
почему ты его не любишь?"
"Он из неврубных чуваков -- этих макаронников -- "
"Бывают среди них паршивые типы, тоже", признаю я. "Но Рафаэль --
великий поэт."
"Ну если тебе так нравится думай как хочешь, но я его не понимаю".
"Почему? Потому что он все время орет? у него манера говорить такая!"
(И это ничем не хуже тишины, и не хуже золота, мог бы добавить я).
"Дело не в этом -- Конечно мне нравится Рафаэль чувак разве ты не
знаешь что мы с ним - " и он бескомпромиссно замолчал на эту тему.
Но я знаю, что могу (я могу?) Рафаэль может доказать, что он свой чувак
-- Чувак, шмувак, браток, молоток, Бог это Собакасм.40 наоборот
--
"Он хороший парень -- и он друг"
"Оп-чис-тво Друзей[91]", говорит Коди в одном из своих редких
пароксизмов иронии, из тех что раз случившись, как у доктора Семюэля
Джонсона[92] которого я когда-то в другой жизни тоже босуэлил[93],
становятся приступами Настоящей Ирландской Кельтской Иронии, она
основательна как камень обкатанный морским прибоем, никогда не отступает, но
так медленна, так упряма, и все-таки ирония, железо в камне, сети которые
кельты развешивали на камнях -- Корни этой иронии в традиции ирландских
иезуитов, к которой также принадлежал Джойс, не говоря уже про Неда Гауди в
моих горах, и кроме того Фома Аквинский, болезненно-язвительный Папа
Философов и Ученик Иезуитов -- Коди когда-то учился в приходской школе и был
служкой в церкви -- и священники драли его за уши за непотребные выходки в
храме Господнем -- Но теперь он вернулся в лоно своей веры, к вере в Иисуса
Христа, и в Него (в христианских странах это пишется с большой буквы) --
"Ты видел крест который Рафаэль дал мне поносить? Хотел мне подарить?"
"Ага"
Мне кажется Коди не нравится что я его ношу -- но я не обращаю на это
внимания, я иду дальше -- и из-за этого у меня возникает странное ощущение,
но потом я его забываю и все идет своим чередом -- также и со всем
остальным, и все свято сказал я когда-то -- так давно что не появилось еще
"я" способное сказать -- и в свою очередь это тоже слова[94] --
"Ну ладно мы поедем в этот хренов Ричмонд и чувак это далеко поэтому
нам лучше бы поспешить -- Ты как вообще думаешь, он собирается оттуда
спускаться?" глядя теперь из окна машины на чердачные окна Рафаэля.
"Сейчас я позвоню, сбегаю наверх и приведу его" я выпрыгиваю из машины,
звоню в звонок, кричу наверх Рафаэлю, открываю дверь и вижу выглядывающую
недовольно степенную пожилую леди --
"Сейчас спущусь!"
Я возвращаюсь к машине, и вскоре вниз спускается Рафаэль пританцовывая
по широким ступеням и размахивая руками, я приоткрываю дверь машины, он
плюхается внутрь, Коди немедленно рвет с места, а я захлопываю дверь и
высовываю локоть в окно, и вот с нами Рафаэль, его пальцы стиснуты в кулаки
"Эй ребята вы ж мне сказали что будете здесь в двенадцать ровно - "
"В полночь", говорит Коди.
"Полночь?!! Ты мне сказал Померэй черт бы тебя подрал что хочешь быть
-- ты ах, ты, О теперь я тебя знаю, теперь я все понимаю, это все интриги,
все вокруг сговорились, каждому охота долбануть меня прямо в голову и
отправить мое тело прямиком в могилу -- В последний раз когда мне снился ты,
Коди, и ты, Джек, вокруг было полно золотых птиц и ласковые оленята утешали
меня, и я сам был Утешителем, я задирал полы своей божественности для всех
маленьких детишек нуждающихся в ней, я превратился в Пана, я сыграл им
сладкозвучную нежную мелодию прямо на дереве, и ты был этим деревом! Померэй
ты был этим деревом! -- Теперь я все понимаю! Нам с тобой не по пути!"
И все это он говорит подняв руки, размахивая пальцами сжатыми в
щепотки, гримасничая, будто итальянец в баре произносящий длинную речь толпе
слушателей -- Ух ты, я поражен этим неожиданным звенящим звучанием,
безупречной delicatesse каждого рафаэлевского слова и образа, я ему верю, и
он верит в это, и Коди должен понять что он имеет в виду, это правда, я
оглядываюсь, Коди неприязненно слушая ведет машину выворачиваясь из пробок
--
Внезапно он говорит, "Это разрыв времени когда видишь вот идет человек
или едет машина и сейчас столкновение, никуда не деться, то ты уже и не
рыпаешься бестолку, и если не развоплотишься сразу то у тебя будет еще этот
разрыв времени чтобы даровать им прощение, потому как обычно в девяти
случаях из десяти астральные тела отделяются сразу, чувак, и все потому что
так было задумано в домике наверху где они делают свои Си-га-рил-лы".
"Ах, Померэй -- я не выношу Померэя -- я слышу от него только какое-то
дерьмо, ничего нормального -- у меня уши от него болят -- и конца этому нет
-- я сдаюсь, я ухожу -- А во сколько будет первый забег?" говорит он вдруг
спокойно, вежливо и заинтересованно.
"Рафаэль просто стебется!" ору я, "Рафаэль Насмешник" - (на самом-то
деле это Коди когда-то сказал, "Похоже кое кто любит хорошенько стебануться
над другими" "Ну так это нормально?" "Нормально" - )
"Про первый забег уже можно забыть", огорченно сказал Коди. "И похоже
на двойную дневную нам уже не сыграть".
"Да ну на кой нам эта двойная дневная?" кричу я. "Шансов мало. Сто к
одному или пятьдесят к одному что выберешь двух победителей сразу".
"Двойная Дневная?" говорит Рафаэль почесывая губу пальцем, и внезапно
задумавшись погружается в дорогу, и вот мы едем в старом седане со старым
тарахтящим движком 1933 года, и в стекле отражаются наши три головы, в
середине Рафаэль ничего не видящий и не слышащий но просто смотрящий вперед
как Будда, и водитель Небесной Колесницы (Белоснежной Воловьей Повозки)
страстно рассуждающий о числах размахивая рукой, и третий человек, или
ангел, слушающий его изумленно. Потому что сейчас он рассказывает мне что
поставит на лошадь второго выбора 6 долларов за забег, потом два забега по 5
долларов, потом три по 4, потом два раза меньше четырех (по двадцать-сорок
центов), так он будет ставить свои деньги, по одному, два, три забега целый
день --
"Числа", говорит Рафаэль откуда-то издалека. Но у него тоже есть
маленький кошелечек и в нем около тридцати долларов и может быть ему удастся
выиграть сотню чтобы напиться и купить печатную машинку.
"Короче, делаем так, хоть вы мне и не верите, но я вас прошу меня
выслушать и понять, я вам объясню, весь день я буду ставить и выигрывать по
системе Лентяя Вилли -- теперь про Лентяя Вилли, ты должен понять Рафаэль
что он был старый игрок и он додумался до системы и когда умер его нашли
мертвого в клубе с 45,000$ в кармане -- а это значит что к тому времени он
уже играл по крупному и мог сам прикидывать свои шансы - "
"Но у меня только 30 долларов!" кричит Рафаэль.
"Всему свое время - " Коди собирается стать миллионером с этой системой
Лентяя Вилли и начать строить монастыри и самаритянские скиты и раздавать
пятидолларовые бумажки бродягам в Скид Роу достойным того или даже просто
людям в трамваях -- Потом он хочет раздобыть Мерседес и промчаться по
эль-пасскому шоссе до Мехико-Сити, гоня под 165 миль на прямых участках и
чувак ты знаешь на поворотах машину нужно притормаживать мотором потому что
когда ты заходишь на кривой вираж на 80 или 100, и собираешься его
проскочить не снижая скорости, тебя по-любому немного занесет" И он
демонстрирует это взревев мотором на больших оборотах и тотчас же сбивая их
на малые переключив скорость чтобы приземлить нас прямо перед красным огнем
светофора (причем узнает что этот цвет красный только потому что машины
останавливаются, Коди дальтоник) -- Что за смутные серые перспективы видны
отважному благородному Коди? Я мог бы задать этот вопрос Рафаэлю, и он
ответил бы мне со своего коня:
"Это непорочная древняя тайна"
"Действуем так", говорит теперь Коди, стоя полуобняв нас за плечи у
беговой дорожки с трепыхающимися на ветру флагами, протиснувшись в передние
ряды толпы игроков под главным табло "Я ставлю на победителя, Рафаэль на
тройку сильнейших, а Джек на третье место, и так весь день, по системе
второго выбора" (готовясь ко второму забегу, и по-птичьи вытягивая шею чтобы
разглядеть над головами номер второго выбора на табло тотализатора) --
Рафаэль этих штук вообще не понимает, но пока мы этого еще не знаем.
"Нет я не буду ставить", говорю я. "Я никогда не играю -- Давай возьмем
пива -- Пиво, бейсбол и сосиски..."
И к нашему общему ужасу Рафаэль объявляет, "Я буду ставить на девятый
номер, это мистическое число", это означает что он вообще не понимает, что
такое "ставка второго выбора"
"Это мистическое число Данте!" кричу ему я --
"Девять -- девять?" говорит Коди, и глядит изумленно. "Но почему, тут
ведь идут шансы тридцать к одному?"
Я смотрю на Коди, понимает ли он, но похоже что уже никто и ничего
вообще не понимает.
"Где мое пиво?" говорю я, будто у меня за спиной стоит официант.
"Давайте сначала возьмем пивка, а потом вы будете ставить".
Рафаэль вытаскивает свои деньги и кивает с серьезным видом.
"Послушай-ка", говорит Коди, "Я собираюсь ставить на лошадь второго
выбора и выиграть -- Ты понимаешь? Это номер пять".
"Нет!" смеется и кричит Рафаэль. "Моя лошадь номер девять. Разве ты не
понимаешь?"
"Да, понимаю", соглашается Коди и мы идем делать ставки, я жду за
пивной стойкой, а они присоединяются к беспокойным группкам игроков
ожидающих когда лошади приблизятся к шестому шесту двухсотярдового забега и
скоро прозвучит (уже звучит!) предупреждающий звонок, и вот все застывают
напряженно в ожидании и порыве, неподвижные, и никто не смотрит на настоящих
лошадей на реальном поле --астральные числа, сигарный дым и переминающиеся
ноги. -- И я поднимаю взгляд, над толпой, и над полем, и над далеким Мостом
Золотых Ворот висящим над водами залива, мы на Ипподроме Полей Золотых Ворот
в Ричмонде, Калифорния, но также и в муравейнике в Нирване, я вижу это по
крошечным машинкам вдалеке -- Они меньше чем даже верится -- Это трюк
огромных пространств -- С какой особенной благоговейностью маленькие жокеи
там вдали похлопывая подгоняют своих лошадей к стартовым воротам, но мы не
можем этого четко видеть так издали, я вижу только шелк повязок которые
преподобные жокеи повязывают своим лошадям, и воистину в этом мире лошадиных
шей больше чем самих лошадей, прекрасных мускулистых лошадиных шей --
Дзенньк! Началось -- Мы даже не купили программку поэтому я не знаю шелка
какого цвета у номера пять Коди, или у раффовского девятого, нам остается
лишь (как и остальным измученным игрокам Кармического мира) ждать когда
группа лидеров пробежит мимо 70-ярдового шеста и мы сможем увидеть в каком
порядке идут номера в этом алмазно-тяжелом табуне, объявления ведущего
теряются в реве толпы устремленном в стремительно несущуюся даль, заставляя
нас всматриваться подпрыгивающим взглядом в номера пробегающих лошадей --
протекающих сквозь лошадей -- и как только жокеи замедляют их бег на
повороте за зданием клуба, как только забег заканчивается, знатоки уже
составляют списки ставок третьего забега -- Кодин 5-й приходит третьим, 9-й
Рафаэля вне игры, где-то среди последних, усталая дантовская лошадка -- в
моих снах они возведут ее на залитый электрическим светом пьедестал -- Коди
торжественно советует нам все это запомнить и объявляет: "Отлично, второй
выбор приходит третьим, значит все почти получилось, верно? Смотрите, вот
сейчас он третьим выбором пойдет, полный порядочек, прекрасно, прекрасно,
дайте ему выдохнуться хорошенько, чем больше он потеряет тем сильнее буду
я".
"Чего-чего?" говорит Рафаэль в замешательстве, он хочет все это знать.
"Когда второй выбор постоянно проигрывает мои ставки возрастают, ну так
вот, когда он придет как надо, я увеличу ставку, верну себе все проигранное,
а потом стану выигрывать в чистый плюс"
"Тут вся штука в числах", говорю я.
"Это потрясающе!" говорит Рафаэль. И, проникновенно задумчиво: "Ко мне
должно опять придти какое-нибудь мистическое число. Может быть опять
девятка. Это как рулетка, для игрока. Долгорукий ставил все свои деньги на
один номер и в конце концов сорвал банк. Я буду как Долгорукий! Мне все
равно! Если я проиграю то это потому что я дерьмо, а если я дерьмо то это
потому что луна блещет на дерьме! Сияй на дерьме!" - "Съешь моих детей!"
Каждый день, говорит Саймон, "стихотворение заползает в голову Рафаэля
и становится Высокой Поэзией". Прямо так вот Саймон и говорит.
Когда мы собираемся ставить на третий забег к нам подходит старуха, с
большими бесцветно синими глазами, похожая на старую деву, ее волосы туго
скручены в пучок как во времена пионеров (она выглядит точь-в-точь как на
портретах Гранта Вуда[95], и за спиной у нее невольно ищешь очертания
остроконечных крыш старых ферм) и с искренностью всех безумцев говорит Коди
(который встречал ее раньше на бегах): - "Поставь на 3 и если выиграешь
отдашь мне половину -- У меня нет денег -- Всего два доллара"
"Третью?" Коди заглядывает в программку. "Эта кляча, ей в жизнь не
выиграть - "
"Что это за лошадь?" смотрю на табло я. Она пришла седьмой из 12.
"Ну да, седьмые часто приходят дважды в день" громогласно подтверждает
Коди, а Рафаэль разглядывает старую церемонную леди, по возрасту она вполне
могла бы быть его матерью из Арканзаса, такая заинтересованная но чуть
обеспокоенная все же ("Кто эти сумасшедшие люди?"). Так что Коди ставит на
старухину лошадь, плюс на свою собственную, плюс его осеняет озарение и он
ставит еще на одну, разбрасывает деньги направо и налево, так что когда его
первоначально запланированная по системе лошадь действительно побеждает то
выигрыша не хватает чтобы покрыть расходы его наития и сумасшествия -- В это
время Рафаэль опять ставит на 9, мистическую лошадь, и опять проигрывает --
"Рафаэль если ты сегодня хочешь выиграть что-нибудь, делай как я" говорит
Коди. "Теперь я уверен что в этом четвертом забеге второй выбор сработает,
второй выбор чистейшей воды, точнее я и в жизни не встречал, шансы девять к
двум, Десятый Номер"
"Номер Два! Это мой любимый номер!" решает Рафаэль глядя на нас с
легкой детской улыбкой.
"Но зачем, мало того что это дохлятина еще и этот Прокнер на ней все
время падает - "
"Жокеи!" кричу я. "Посмотри Рафаэль на жокеев! Посмотри какие у них
красивые шелковые эмблемы!" Они выезжают из загона но Рафаэль не смотрит на
них вообще. "Подумай какие они чудные -- какие странные маленькие танцоры"
В голове у Рафаэля теперь только один Номер Два --
На этот раз, для четвертого забега, стартовые ворота перетаскиваются на
другое место прямо перед нами шестью здоровенными лошадьми Будвайзерской
Команды, каждая из них весит тысячу фунтов, прекрасные большие старые
коняги, вместе с почтенными старыми конюхами они медленно тащат ворота на
полмили вниз к большой трибуне, и никто (кроме маленьких детей играющих на
солнышке у проволочного заграждения пока их родители заняты скачками, этакая
сборная солянка белых и черных детишек) никто в них не врубается, даже не
взглянет в их сторону, все погрузились в числа, в ярком сиянии солнца все
головы склонены над сероватыми листочками формуляров ставок, Ежедневные
Беговые Формуляры, зеленые строчки Хроник -- иногда в программах появляются
прямо-таки мистические названия, и я тоже начинаю просматривать поднятую
мною с земли программку ища странные намеки, вроде лошади "Классическое
Лицо", на которой скачет Ирвин Чемпион, происшедшей от кобылы по имени
Урсори -- или даже всякие странности еще чудней, типа "Дедули Джека", или
"Сновидца", или "Ночного Клерка" (это значит что некий старик в отеле Белл
снисходительно склоняет свою астральную голову над нашими жалкими
бессмысленными попытками добиться чего-то на этих скачках) -- В свои первые
дни игры на бегах Коди был потрясающ, на самом деле в эти дни он был
назначен своим железнодорожным начальством на работу кондуктора -- отрывать
корешки билетов Дополнительного Бэй Мидоузского пригородного назначаемого в
дни бегов, и выходил из него полностью экипированный в свою синюю форму
тормозного кондуктора, в фуражке с козырьком и все такое, в черном галстуке,
белой рубашке, жилетке, грудь колесом, прямая спина, красавчик прямо, со
своей тогдашней девушкой (Розмари), и начинал с самого первого забега,
горделиво стоя с программкой засунутой в задний карман брюк в шаркающей
очереди игроков столпившихся у окошечка, проигрывая до тех пор пока к
седьмому забегу не оставался совсем на мели и не вынужден был вместе со
своей прекраснейшей фуражкой возвращаться назад к поезду (стоящему у ворот
ипподрома с локомотивом на ходу и готовому в любой момент к отправлению
назад в город) и раз уж денег не оставалось, его интерес перемещался на
женщин "Посмотри-ка на эту толстушку, вон она, стоит со своим папочкой,
ах-хм", и даже иногда (когда деньги заканчивались) пытался уболтать
какую-нибудь старушку которой понравились его голубые глаза, поставить за
себя -- день кончался грустно, он возвращался к своему поезду, чистил в
туалете щеткой свою форму (и просил меня почистить ее сзади) и выходил
чистенький, чтобы отправить поезд (разочарованных игроков) назад сквозь
одинокие красные закаты Залива -- Сейчас он одет в обычные джинсы, потертые
облегающие и рвущиеся спортивные майки, и я говорю Рафаэлю "Глянь-ка на
этого старого оклахомского hombre[96] который пружиня шагает чтобы сделать
ставку, вот такой вот он Коди, крутой hombre с Запада" -- и Рафаэль слабо
ухмыляется на это.
Рафаэль хочет выиграть и по боку стихи --
В конце концов мы оказываемся на скамейках на самом верху трибуны и
оттуда нам не видать стартовых ворот несмотря на то что они прямо под нами,
я хочу подобраться к перегородке и объяснить Рафаэлю в чем суть скачек --
"Видишь стартовика там в будке -- он нажмет на кнопку, зазвонит звонок,
привратники откроют воротца и они рванут -- Посмотри на жокеев, у каждого из
них железные ручищи - "
Из великих жокеев здесь Джонни Лонгден, и Ишмаэль Валенцуэла, и очень
хороший мексиканский жокей по имени Пулидо который сидя на лошади
осматривает толпу с живейшим интересом, в то время как у других жокеев вид
грустный и недоверчивый -- "Коди в прошлом году приснилось что Пулидо ехал
оседлав железнодорожный поезд по беговой дорожке в обратную сторону и когда
он доехал до последнего поворота у клубного здания поезд взорвался и остался
целым один лишь Пулидо, верхом на двигателе локомотива вместо лошади, и
добрался на нем до финиша -- и я сказал "Ух ты, Пулидо выиграл!" - и тогда
Коди дал мне еще 40$ чтобы я ставил за него на каждых бегах, а он ни разу не
выиграл!" - рассказываю я грызущему себе ногти Рафаэлю --
"Я думаю, я опять поставлю на Девятку"
"Ставь по системе чувак!" взмолился Коди -- "Я же рассказал тебе про
Лентяя Вилли и как его нашли мертвого с 45,000$ необналиченных выигрышных
билетов в кармане - "
"Слушай Рафаэль", добавляю я, "Лентяй Вилли просто сидел тут и попивал
кофе между забегами, может быть он носил пенсне, и в последнюю минуту когда
большинство ставок уже было сделано он подходил, делал свою ставку, а потом
просто над всем этим пока шел забег прикалывался -- Все это числа -- Второй
выбор -- это консенсус множественности низведенный во вторую степень который
был математически рассчитан до такого процентного соотношения что если ты
будешь увеличивать свои ставки прямо пропорционально своим проигрышам ты
просто обязан выиграть если только не произойдет трагического совпадения и
сеть проигрышей - "
"Ага точно, трагического, теперь послушай-ка сюда Рафаэль и ты денежек
точно подзаработаешь - "
"Окей окей!"-"Я попробую!"
Внезапно толпа охает -- лошадь встает на дыбы прямо в стартовых
воротах, спотыкается о них и сбрасывает своего ездока, Рафаэль, задыхаясь, с
изумлением и ужасом: "Смотри, бедная лошадка запуталась!"
Подбегают грумы и делают свою работу, ловят, стреножат и уводят с поля
лошадь которая незамедлительно снимается со скачек, и все ставки накрываются
-- "Они же могут пораниться!" болезненно кричит Рафаэль -- Это особо не
трогает Коди почему-то, может быть потому что он сам был когда-то ковбоем в
Колорадо и привык к лошадям, так однажды мы видели как лошадь скинула
седока, она лежала и билась в конвульсиях у начала беговой дорожки и никто
на это не обращал внимания, все вопили потому что забег шел к концу -- эта
лошадь лежала со сломанной ногой (а значит будет неминуемо пристрелена) и
неподвижный жокей лежал маленьким белым пятном на дорожке, может быть
мертвый, и уж наверняка получивший травму, но ничьи глаза не оторвались от
скачек, как же могут эти безумные ангелы продолжать гонку за порчей
собственной Кармы -- "Что случилось с лошадью?" кричу я когда рев толпы
проносится мимо нас вниз к финишной прямой, и во искупление их вины я не
свожу глаз с места происшествия не взглянув даже на результаты забега
который Коди выиграл -- Лошадь была убита, жокея отвезли на скорой помощи в
госпиталь -- и за рулем был не Саймон -- Мир слишком велик -- Все это только
лишь деньги, только лишь жизнь, рев толп, вспышки чисел, числа забыты, земля
забыта -- память забыта -- бриллиант тишины тянется непротяженно --
Лошади пересекают финишную ленту и пролетают дальше, слышны
направляющие щелчки жокейских хлыстов по лошадиным бокам, слышны хлопанье
бутов[97] и свист, "Айаа!", и они скрываются за первым поворотом, теперь все
глаза поворачиваются к табло результатов чтобы увидеть числа символы
происходящего на дорожке Нирваны -- Лошадь Коди и Рафаэля далеко впереди --
"Я думаю, он удержится впереди", говорю я зная по собственному опыту
что означает хорошая фора в 2,5 корпуса если жокей способен уверенно
поддерживать дистанцию -- Проделав круг они вновь показываются из-за
поворота, видны трогательные промельки тоненьких чистокровных ног которые
так легко ломаются, пыль встает столбом, они мчатся прямиком к финишу, жокеи
неистовствуют -- Наша лошадь по-прежнему остается впереди всех и выигрывает
--
"Э! Айййе!" и они бегут получать свою мзду.
"Видал? Держись поближе к старине Коди и не пропадешь!"
Все это время мы мотаемся туда-сюда заглядывая то в туалетные комнаты
то в пивнушку, идем выпить кофе с сосисками, а потом когда скачки
приближаются к концу небеса наполняются послеполуденным золотом и длинные
очереди вспотевших игроков ждут последнего звонка -- завсегдатаи беговых
дорожек бывшие такими бодрыми и самоуверенными во время первого забега
теперь выглядят помятыми, их головы опущены, они уже немного не в себе,
некоторые из них шарят глазами по полу в поисках потерянных билетов, старых
программ или оброненных долларов -- И Коди решает что настало время обратить
внимание на девушек, мы подметили парочку в окружающей толпе и теперь стоим
глазеем на них. Рафаэль говорит "Да бог с ними с женщинами, как же теперь
насчет лошадей? Померэй, ты свихнулся на сексе!"
"Смотри Коди, ты выиграл первый забег на который мы опоздали", говорю я
показывая на большое табло.
"А - "
Мы уж порядком друг другу поднадоели, и наша моча течет в писсуар
отдельными струйками, но там она все равно смешивается и там мы снова вместе
-- Идет последний забег -- И я думаю "Ах поедем же назад в возлюбленный
город", он прямо перед нами, через залив, полный соблазнов которые никогда
не станут реальными потому что придуманы нами -- а еще меня не оставляет это
чувство, что выигрывая Коди на самом деле проигрывает, и наоборот, что все
это эфемерно и до этого не дотронуться рукой -- да-да, конечно, можно
пощупать деньги, но сами терпение и вечность, нет - Вечность! Это значит
больше чем просто куча времени, больше всех этих ерундовых понятий и даже
еще больше! "Коди, ты не можешь выиграть, ты не можешь проиграть, все это
эфемерно, все есть страдание", так я чувствовал -- И в отличие от меня,
хитрого не-игрока, который и на небесах играть не захочет, он истинный
Христос, его воплощение Христа предстает во плоти перед тобой, и ты, весь в
испарине, осознаешь игру понятий добро-зло -- От этой веры все светится и
вибрирует -- жрец жизни.
Он доволен сегодняшним днем, все забеги оказались для него выигрышными,
"Черт тебя дери Джек если бы каждый раз ты доставал из своих джинсов по паре
долларов и делал что я тебе говорю, у тебя к вечеру накопилось бы 40
полновесных баксов", и это правда но мне не жаль -- разве что денег -- А
Рафаэль вернул себе проигранное и остался при тех же тридцати долларах --
Коди выиграл сорок и гордо распихал их маленькими банкнотами по своим
карманам --
Это один из его счастливых дней --
Мы выходим с ипподрома и идем к паркингу где наш седан стоит в
бесплатном месте прямо около рельсов железнодорожной ветки, и я говорю,
"Хорошее место, можешь теперь каждый раз оставлять здесь машину без
проблем", потому что теперь, раз выиграв, он наверняка станет приезжать сюда
каждый день --
"Да, мальчик мой, и кроме того вот та штука которую ты здесь видишь
через шесть месяцев это будет Мерседес-Бенц -- ну или хотя бы микроавтобус
Нэш Рамблер для начала"
89
О озеро снов наших, все течет и изменяется -- Мы забираемся в маленькую
машину и возвращаемся назад, и видя маленький подернувшийся уже вечерним
багрянцем на фоне тихоокеанской белизны город, мне вспоминается как
выглядела гора Джек в высокогорных сумерках и как утес у нее на вершине
подкрашивался краснотой до самого заката, и потом еще немного оставалось на
вершине и там где земля закругляется за горизонт, и тут забитую машинами
улицу перед нами переходит кто-то с маленькой собачонкой на поводке и я
говорю "Маленькие щенята Мексики так счастливы - "
" -- и вот живу я и дышу, и не заморачиваюсь, не циклюсь на всякой
ерунде, но все-таки в прошлом году я упустил свою систему, ставил как попало
и продул пять тысяч долларов -- теперь ты понимаешь почему я это делаю?"
"Точно!" завопил Рафаэль. "Мы сделаем это вместе! Ты и я! По разному --
но мы сделаем это!" и Рафаэль улыбается мне одной из своих редких
полуискренних усмешек. "Но теперь я тебя понимаю, я знаю тебя теперь,
Померэй, ты искренний -- ты действительно хочешь выиграть -- я верю тебе --
я знаю что ты современный ужасающий брат Иисуса Христа, я просто не хочу
зависать не на тех играх, это все равно как зависать не на той поэзии, не на
тех людях, не на тех идеях!"
"Все идеи те", говорю я.
"Может быть, но я не хочу облома -- я не хочу быть Падшим Ангелом
чувак", говорит он, пронзительно грустно и серьезно. "Ты! Дулуоз! Я вижу в
чем твои те идеи, ты шатаешься по Скид Роу и пьянствуешь с бродягами, эх,
мне бы такое и в голову не пришло, зачем навлекать на себя убожество? Пусть
слабый умрет. -- Я хочу сделать деньги. Я не хочу говорить Ох Ах Эх я
запутался, Ох Ах я потерялся, я не потерялся еще -- и я попрошу Архангела
чтобы он помог мне победить. Хе! -- Сверкающий Посланник слышит меня! Я
слышу его трубу! Эй Коди, это та ра таратара тара -- это чувак с длинным
тромбоном который играет перед началом каждого забега. Ты врубаешься?"
Теперь у них с Коди полное согласие во всем. Я вдруг понимаю что
дождался того чего хотел -- теперь они друзья и все споры позади -- это
случилось -- теперь у каждого из них рассеялись все сомнения -- А что
касается меня, у меня все вызывает восхищение потому что два месяца я пробыл
в заточении под открытым небом и все происходящее радует и захватывает меня,
это мое снежное видение световых частиц проникающих в самую суть вещей,
проходящих сквозь все -- я чувствую Стену Пустоты -- И естественно я рад что
Коди с Рафаэлем подружились, ведь это так связано с тем ничто которое суть
все, и мне не нужно даже защищаться отсутствием суждения о Вещах вынесенным
Отсутствующим Судьей который создал этот мир не создавая ничего.
Не создавая ничего.
Коди высаживает нас в Чайнатауне, он весь светится желанием отправиться
домой и рассказать жене о том что выиграл, и мы с Рафаэлем идем в сумерках
пешком по Грант Стрит, потом нам в разные стороны, но сначала мы хотим
видеть чудовищное столпотворение Маркет Стрит. "Я понял что ты имел в виду
Джек когда хотел чтобы я увидел Коди на скачках. Это было очень здорово, мы
опять поедем туда в пятницу. Слушай! Я пишу новую великую поэму - " и вдруг
видит цыплят в ящиках внутри темной китайской лавки "смотри, смотри, они все
умрут!" Он останавливается на улице. "Как мог Бог создать мир таким?"
"Посмотри внутрь", говорю я показывая на коробки позади внутри которых
что-то белеется, "бьющиеся голуби -- все маленькие голуби умрут"
"Не нужен мне от Бога такой мир"
"Не могу тебя за это винить".
"Я серьезно, не хочу этого -- какая идиотская смерть!" показывая на
животных.
("Все существа содрогаются боясь страдания", сказал Будда.)
"Им перережут глотки над тазом", говорю я типично по-французски
пришепетывая, и Саймон тоже говорит странно с русским акцентом, мы оба
немножко заикаемся -- Рафаэль никогда не заикается --
Он открывает рот и выпаливает "Умрут все маленькие голубята, мои глаза
давно открыты. И мне не нравится и мне плевать -- Ох Джек", внезапно гримаса
искажает его лицо при виде этих птиц там в темной уличной лавке, я не знаю
случалось ли прежде чтобы кто-нибудь чуть не расплакался перед витриной
чайнатаунской мясной лавки, и кто бы еще мог сделать это, разве что
какой-нибудь тихий святой типа Дэвида Д`Анжели (с которым мы скоро
встретимся). И эта рафаэлевская гримаса почти заставляет расплакаться меня,
я все понимаю, я страдаю, все мы страдаем, люди умирают у нас на руках, это
невыносимо и все же надо двигаться дальше будто ничего такого не происходит,
правда? Правда, читающие это?
Бедняга Рафаэль, он видел как умер его отец в петле висельника, в
жужжащей суматохе его старого дома "Под потолком у нас сушились на
растянутых веревках красные перцы, моя мать прислонилась к обогревателю, моя
сестра сошла с ума" (так он рассказывал это сам) -- Над его юностью сияла
луна и теперь Смерть Голубей смотрит ему в лицо, вам в лицо, мне в лицо, но
милый Рафаэль хватит довольно -- Он просто маленький ребенок, я вижу это по
тому как иногда в середине разговора он выключается и вдруг засыпает,
оставьте младенца в покое, я старый охранитель этого собрания нежных
младенцев -- И Рафаэль будет спать под покровом ангельским и эта черная
смерть не станет частью его прошлого нет (предрекаю я) она будет ничем,
пустотой -- Ни предназнаменований, Рафаэль, ни слез? -- поэт должен плакать
-- "Эти маленькие зверьки, их головы будут отрублены птицами", говорит он --
"Птицами с длинными острыми клювами сверкающими на полуденном солнце"
"Да..."
"И старый Зинг-Твинг-Тонг живет в квартирке наверху и курит лучший
опиум мира -- лучший из опиумов Персии -- все его имущество это матрас на
полу, и портативное радио Трэвлер, и его писания под этим матрасом -- и
сан-францискский Кроникл описал бы это как притон бедности и порока"
"Ах Дулуоз, ты ненормальный"
(Раньше этим же днем Рафаэль сказал, после серии криков слов и махания
руками, "Джек, ты -- великий!" имея ввиду что я великий писатель, после того
как я сказал Ирвину что чувствую себя облаком потому что все лето наблюдал
их в Одиночестве и теперь стал облаком сам.)
"Я просто - "
"Я не хочу думать об этом, я иду домой чтобы лечь спать, я не хочу снов
о зарезанных свиньях и мертвых цыплятах в тазу - "
"Ты прав"
И мы быстро шагаем дальше прямо на Маркет. Там мы идем к кинотеатру
Монстр и для начала разглядываем афиши на стене "Это дурацкий фильм, я не
хочу на него", говорит Рафаэль. "Здесь нет настоящих чудовищ, нарисован
какой-то наряженный в костюм космический тип, а я хочу видеть чудовищных
динозавров и зверей других миров. Кому охота заплатить пятьдесят центов за
то чтобы посмотреть на парней с автоматами и приборами -- и девицу в
чудо-поясе нашпигованном всякими штуками[98]. Э, сваливаем отсюда. Я иду
домой". Мы ждем его автобуса и он уезжает. Завтра вечером мы встретимся на
званом обеде.
Я иду вниз по Третьей улице счастливый, сам не знаю почему -- Это был
замечательный день. И вечер не менее замечательный, и тоже непонятно почему.
Пружинящий тротуар раскручивается у меня под ногами. Я прохожу мимо старых
забегаловок с музыкальными ящиками куда я раньше захаживал чтобы поставить
на ящик[99] Лестера, выпить пивка и поболтать с чуваками, "Эй! Че ты тут
делаешь?" "С Нью-Йорка я", произнося это как Нью-Йак, "Из Яблока!" "Точно,
из Яблока" "Даун Сити!" "Даун Сити!" "Бибоп Сити!" "Бибоп Сити!" "Ага!" -- и
Лестер играет "В маленьком испанском городишке", ах какие ленивые деньки
проводил я на Третьей улице, сидя в солнечных переулочках и попивая вино --
иногда болтая -- все те же самые старые и самые чудные в Америке чудаки
хиляют мимо, с длинными белыми бородами и в рваных костюмах, таща маленькие
жалкие пакетики с лимонами -- Я прохожу мимо своей старой гостиницы, Камео,
где всю ночь стенают скид-роудские алкаши, их голоса слышны в темных
увешанных коврами холлах -- и все такое скрипучее -- во времена конца света
никому ни до чего нет дела -- там я писал большие поэмы на стене, что-то
вроде:
Увидеть можно лишь Священный Свет,
Услышать лишь Святую Тишину,
Почувствовать один Священный Запах,
Коснуться лишь Священной Пустоты,
Вкусить возможно только Мед Святой,
И мысль одна - Святой Экстаз...
в общем страшная глупость -- я не понимаю ночи -- я боюсь людей -- и я
иду вдоль по улице счастливый -- Заняться мне больше нечем -- И броди я
сейчас по своему дворику в горах, я был бы не менее чужим чем идя по
городской улице -- Или не более чужим -- Какая разница?
И тут еще старые часы и неоновая реклама на здании производящей
типографское оборудование фирмы напоминают мне отца и я говорю "Бедный Па" -
и действительно чувствую и вспоминаю его сейчас, будто он здесь, будто это
его влияние -- Хотя такое или сякое влияние, все это неважно, все это в
прошлом.
Саймона дома нет но Ирвин в постели, беспокойно-задумчивый, он тихо
беседует с Лазарусом сидящим на краю кровати напротив. Я захожу и открываю
широко окно в звездную ночь и забираю свой спальный мешок собираясь идти
спать.
"Чего это ты сидишь с кислой рожей, Ирвин?" спрашиваю я.
"Просто мне подумалось что Дональд с МакЛиром терпеть не могут нас. И
Рафаэль терпеть не может меня. И он не любит Саймона."
"Конечно он его любит -- не надо - " он перебивает меня громким стоном
и вздымает руки к потолку со своей растерзанной кровати: -
"Да на хрен все эти разборки! -"
Беспощадный раздор разделяет его братьев по крови, некоторые из них
были очень ему близки, некоторые менее, но что-то недоступное моему
аполитичному уму просачивается в мозг Ирвина. В его темных глазах тлеет
подозрение, и страх, и молчаливое возмущение. Он выпучивает глаза чтобы
выказать переполняющие его чувства, и на губах его появляется складка
уверенности в Пути. Он собирается сделать что-то что дорого обойдется его
нежному сердцу.
"Я не хочу всей этой свары!" кричит он.
"Правильно".
"Я просто хочу чтобы мы были ангелами" -- он часто говорит так, и так
он видит всех нас идущих плечом к плечу прямо в рай и никаких левых базаров.
"Плечом к плечу -- вот как это должно быть!"
И любые уступки оскорбляют его, пороча его Небеса -- Он видел бога
Молоха и всех остальных богов даже Бель-Мардука -- Ирвин вышел из Африки, из
самого центра ее, надув угрюмые губы, и дошел до Египта и Вавилона и Элама,
и создавал империи, настоящий Черный Семит, и одновременно Белый Хамит в
словах и суждениях своих -- В Вавилонской ночи видел он Молоха Ненавидящего.
На Юкатане видел он Богов Дождя мрачно сверкающих в свете керосиновой лампы
среди развалин поросших джунглями. Он задумчиво смотрит в пространство.
"Ну а я собираюсь отлично выспаться", говорю я. "У меня был отличный
денек -- мы с Рафаэлем сейчас видели трепещущих голубей" -- и я рассказываю
ему всю историю.
"И еще я немного позавидовал тебе что ты был облаком", серьезно говорит
Ирвин.
"Позавидовал? Ух ты! -- Гигантское облако, вот какой я, гигантское
облако, чуть сплющенное сбоку, сплошной пар -- во."
"Я тоже хотел бы стать гигантским облаком", кивает Ирвин совершенно
серьезно хоть раньше и посмеивался надо мной, теперь он совершенно серьезен
и хочет знать что будет когда все мы превратимся в гигантские облака, он
просто хочет знать это точно и заранее, вот и все.
"А ты рассказывал Лазарусу о зеленых рожах которые у тебя в окошке
появляются?" спрашиваю я, но я не знаю о чем они говорили раньше и иду
спать, и просыпаюсь в середине ночи на секунду чтобы увидеть Рафаэля который
заходит и ложится спать на пол, переворачиваюсь на другой бок и сплю дальше.
Блаженный отдых!
Утром Рафаэль спит на кровати и Ирвин уже ушел, но дома Саймон, сегодня
у него выходной, "Джек я пойду сегодня с тобой в Буддистскую Академию". Я
уже несколько дней туда собирался, и как-то сказал Саймону об этом.
"Ну да, но тебе там скучно будет. Лучше я пойду один".
"Не-а, я с тобой -- хочу добавить что-то к красоте этого мира" -
"И как же мы это сделаем?"
"Просто я буду делать все тоже самое что делаешь ты, помогать тебе, и
тогда я узнаю все о красоте и красота придаст мне сил". Абсолютно серьезно.
"Это чудесно, Саймон. Окей, хорошо, мы пойдем -- Пешком - "
"Нет! Нет! Там автобус! Там, видишь?" показывая куда-то пальцем,
прыгая, танцуя, пытаясь подражать Коди.
"Хорошо, хорошо, мы поедем на автобусе".
Рафаэль тоже спешит куда-то, так что мы быстро завтракаем и
причесываемся (и уходим), но сначала в ванной комнате я стою три минуты на
голове чтобы расслабиться и подлечить мои болезные сосуды, и мне все кажется
что кто-нибудь обязательно вломится в ванную и столкнет меня прямо в
раковину... в ванной Лазарус оставил замокать свои большущие рубашки.
Со мной часто так случается, что за восхитительным днем вроде
вчерашнего когда я прогуливался домой по Третьей улице, следует день
безысходного отчаяния, и все это потому лишь что я оказываюсь неспособен
оценить прекрасность нового великолепного дня, который тоже солнечный, и
небеса такого же синего цвета, и великодушный Саймон так хочет меня
развеселить, а я не могу радоваться этому всему, разве что потом, в
воспоминаниях своих -- Мы садимся на автобус до Палка и потом идем вверх по
Бродвейской горке по свежему воздуху среди цветов и Саймон пританцовывая
делится со мной своими теориями -- на самом-то деле я понимаю и принимаю все
что он говорит но почему-то все время мрачно твержу что это не имеет
никакого значения -- В конце концов я даже резко обрываю его: "Староват я
стал для этих юношеских восторгов, я уже этого накушался! -- Все то же
самое, опять и опять!"
"Но это все реально, это правда!" кричит Саймон. "Мир бесконечно
восхитителен! Если дать людям любовь, они ответят любовью! Я видел это сам!"
"Я знаю что это правда но мне все надоело"
"Но тебе не может все надоесть, если тебе все надоест то нам всем тоже
все надоест, а если нам всем все надоест и мы устанем и сдадимся, тогда весь
мир разрушится и умрет!"
"Так оно и должно случится"
"Нет! Должна быть жизнь!"
"Это одно и то же!"
"Ах маленький Джеки не говори глупостей, жизнь это жизнь и кровь и
толчки и щекотка" (и тычет меня пальцем под ребра чтобы доказать это)
"Видишь? Ты дергаешься, тебе щекотно, ты жизнь, в твоем мозгу есть живая
красота, в твоем сердце живая радость, в твоем теле живой оргазм, и тебе
надо просто не бояться этого. Не бойся! Все влюбленные должны выйти на улицу
плечом к плечу", и я понимаю что он разговаривает с Ирвином --
"Конечно ты прав но я устал", все же замечаю я.
"Нет! Проснись! Будь счастлив! Куда мы идем сейчас?"
"В Буддистскую Академию там на вершине горы, пойдем в подвал к Полу - "
Пол это такой большой светловолосый буддист, он работает в Академии
уборщиком, вечно улыбаясь он сидит у себя в подвальчике, а потом джазовым
вечером в ночном клубе Подвал он будет стоять с закрытыми глазами и
подпрыгивая в такт музыке, так он рад слышать джаз и безумную трепотню --
Затем он медленно разожжет свою большую солидную трубку и сквозь дым
поднимет большие серьезные глаза чтобы посмотреть прямо на тебя и улыбнуться
не выпуская трубки из зубов, отличный парень -- Он частенько бывал в хижине
на лошадиной горке и ночевал в старой заброшенной комнатке позади, со своим
спальником, и когда утром мы заваливались к нему всей толпой и предлагали
вина, он вставал, и пропускал с нами по стаканчику, но потом уходил на
прогулку среди цветов, задумчиво, и через какое-то время возвращался к нам с
новой идеей -- "Точно как ты говорил, Джек, чтобы коршун достиг просветления
ему нужен длинный хвост, и я вот что только что подумал, представь, я рыба -
плыву себе через бездорожье океана -- сплошная вода, ни дорог, ни
направлений, ни улиц -- и вот я плыву потому что махаю хвостом -- но голова
моя сама по себе, с хвостом у нее нет ничего общего -- и пока я" (он садится
на корточки и изображает это) "свободно виляю хвостом и махаю плавниками я
двигаюсь вперед ни о чем не беспокоясь -- Хвост меня несет а голова это
просто мысли -- мысли копошатся в голове пока хвост виляя несет меня вперед"
-- Длинное объяснение -- чудной тихий и серьезный чувак -- я собираюсь зайти
спросить про потерянную рукопись которая может оказаться у него в комнате,
потому что я оставил ее там в ящике для всех кому интересно, причем с такими
указаниями: "Если вы не понимаете это Писание, выбросьте его. Если вы
понимаете это Писание, выбросьте его. Я настаиваю на вашей свободе -- и тут
я понимаю, что возможно он так и поступил и начинаю поэтому смеяться, это
было бы так правильно -- Пол сначала был физиком, потом студентом
математики, потом студентом инженерного дела, потом философом, теперь он
буддист и поэтому у него нет никакой философии, но есть "просто мой рыбий
хвост".
"Теперь ты понимаешь?" говорит Саймон. "Какой сегодня прекрасный день?
Солнце повсюду сияет, куча красивых девушек на улице, что тебе еще надо?
Старина Джек!"
"Ладно Саймон, будем ангельскими пташками".
"Будь же ангельской пташкой прямо сейчас и хорош трепаться"
Мы подходим к подвальному входу в мрачное здание и заходим в комнату
Пола, дверь открыта нараспашку -- Никого нет дома -- Мы идем на кухню, там
большая цветная девушка которая говорит что она с Цейлона, очень милая и
красивая, хоть и немного полноватая --
"А ты буддистка?" спрашивает Саймон.
"Ну да, а то что бы я тут делала -- на следующей неделе еду назад на
Цейлон"
"Разве это не замечательно!" Саймон поглядывает на меня чтобы я ее
оценил -- Он хочет ее трахнуть, подняться в одну из спален общаги этого
религиозного заведения там наверху и трахать ее в постели -- мне кажется она
чувствует это как-то и вежливо его отшивает -- Мы спускаемся вниз в холл,
заглядываем в комнату и там на полу лежит юная индуска с ребенком, вокруг
куча книг и развешанных повсюду шалей -- Когда мы с ней заговариваем, она
даже не встает --
"Пол уехал в Чикаго" говорит она -- "Поищи свою рукопись у него в
комнате, может найдешь"
"Ого", говорит Саймон пялясь на нее.
"И еще можно спросить мистера Омса в конторе наверху"
На цыпочках мы возвращаемся в холл, немного хихикая, заходим в туалет,
причесываемся, болтаем, спускаемся опять в спальню Пола и ищем среди его
вещей -- Он оставил галонный кувшин бургундского и мы наливаем себе вино в
маленькие японские чайные чашечки, тонкие как печенье --
"Не разбить бы эти чашки"
Я разваливаюсь за половским столом чтобы нацарапать ему записку --
пытаюсь выдумать какие-нибудь смешные дзенские шуточки или таинственные
хайку --
"Это коврик для медитаций Пола -- дождливыми вечерами растопив печку и
все такие дела он сидит на нем глубоко задумавшись"
"И о чем он думает?"
"Ни о чем"
"Пошли наверх посмотрим чем они там занимаются. Давай Джек не сдавайся,
пойдем!"
"Пойдем куда?"
"Просто пойдем, не тормози - "
Саймон начинает вытанцовывать очередной безумный акт своей пьесы
"Саймон-в-Миру" зажимая картинно рот руками, скача на цыпочках, охая и
живописуя чудеса ждущие нас впереди, в Лесу Арденнском[100] -- Точно так как
когда-то я сам --
Угрюмая секретарша средних лет желает точно знать кто это хочет видеть
мистера Омса, и я начинаю злиться, ведь мне надо просто поговорить с ним не
заходя дальше дверей, я спускаюсь сердито вниз по лестнице, Саймон зовет
меня назад, женщина в недоумении, Саймон скачет вокруг нее будто это его
руки управляют мной и ею в придуманной им запутанной пьесе -- В конце концов
дверь открывается и из нее выходит Алекс Омс в отутюженном синем костюме,
весь такой джазово навороченный, с сигаретой во рту, и прищурившись
оглядывает нас, "А это вы" говорит он мне, "как ваши дела? Может зайдете?"
показывая на контору.
"Нет-нет, я просто хотел узнать, не оставлял ли Пол у вас рукопись,
мою, на хранение, или не знаете ли вы где - "
Саймон смотрит на нас, то на одного то на другого, с недоумением --
"Нет. К сожалению. Не видел. Может быть у него в комнате. Кстати",
говорит он исключительно дружелюбно, "не попадалась ли вам на глаза заметка
в нью-йоркском Таймс, про Ирвина Гардена -- о вас там прямо ничего не
сказано, но в целом она посвящена - "
"Да-да конечно я видел"
"Ну что ж, рад был опять с вами встретиться", говорит он в конце
концов, и смотрит, и Саймон кивает подбадривающе, и я говорю "И я тоже, до
встречи Алекс", и бегу вниз по лестнице, и там на улице Саймон кричит: -
"Ну почему ты не поднялся к нему, не пожал ему руку, не похлопал по
плечу, не стал ему другом -- почему вы поговорили друг с другом через
прихожую и разбежались в разные стороны?"
"Ну ведь нам не о чем было говорить?"
"Но ведь говорить можно о чем угодно, о цветах, о деревьях - "
Мы быстро идем по улице споря обо всем об этом, и в конце концов
усаживаемся на каменной изгороди под парковыми деревьями, у тротуара, и мимо
проходит какой-то господин с продуктовой сумкой в руке. "Давай расскажем об
этом всему миру, начиная вот с него! -- Эй мистер! Послушайте! Понимаете
этот человек буддист и может рассказать вам кучу всего про рай полный любви
и деревьев..." Человек бросает торопливый взгляд на нас и убыстряет шаг --
"Мы сидим тут под синим небом -- и никто не хочет слушать нас!"
"Это ничего, Саймон, они все уже итак знают."
"Тебе надо было зайти в контору Алекса Омса, и вы сели бы на стулья
напротив друг друга касаясь коленями и смеялись и болтали бы о старых
временах, а ты -- ты просто испугался - "
И я понимаю, что если мне доведется знать Саймона еще пять лет, то нам
придется вместе пройти через все те же давно знакомые мне вещи, через
которые я прошел уже будучи в его возрасте, но также я вижу что мне лучше
пройти через них опять чем отталкивать это -- И что мы используем одни слова
чтобы объяснять другие -- Кроме того я не хочу обламывать Саймона омрачая
его юношеский идеализм -- Саймона поддерживает его бескомпромиссная вера в
человеческое братство но долго ли это продлится пока другие вещи не затмят
ее... а вдруг никогда не затмят... И все же меня очень огорчает то что я
никак не могу попасть с ним в одну струю.
"Фрукты! Вот что нам надо!" предлагает он при виде фруктовой лавки --
мы покупаем канталупы[101], виноград и сплит[102] и идем дальше через
Бродвейский Туннель громко крича чтобы услышать эхо, чавкая виноградом,
обливаемся канталупьим соком и выбрасываем их потом -- Мы выходим прямо на
Норт Бич и направляемся в магазин Багель чтобы попытаться найти там Коди.
"Не сдавайся! Не сдавайся!" вопит Саймон у меня за спиной подталкивая
меня в спину пока спускаемся вниз по узкому пешеходному переулочку -- я же
поедаю виноградины одну за одной, чтобы не дать им пропасть.
И совсем скоро, выпив лишь кофейку, потому что уже совсем пора и даже
начинает быть поздновато, мы идем на званый обед к Розе Уайз Лэйзали где мы
должны встретиться с Ирвином, Рафаэлем и Лазарусом --
И все же мы опаздываем, заплутав в долгих поисках среди холмов, я все
время смеюсь шизовым комментариям Саймона, типа "Глянь-ка на этого пса -- у
него шрам от укуса на хвосте -- в какой-нибудь драке скрежещущие свирепые
зубы вцепились в него" -- "хороший урок -- теперь он знает что драться
нехорошо." А когда нам нужно было узнать дорогу у пары в спортивной Эм-Джи,
он спрашивает, "Как нам добраться до тяб-мяб как это будет Тебстертон?"
"А Хепперстон! Да. Вам надо проехать прямо и четыре квартала направо".
Представить себе не могу что это могло бы значить, прямо и четыре
квартала направо. Я ведь вроде Рэйни, который бродил с картой нарисованной
ему боссом из его пекарни, "иди на такую-то и такую-то улицу", и Рэйни
одетый в форменную одежку своей фирмы отправлялся куда глаза глядят, даже не
пытаясь понять куда его направили, так безнадежно -- (о Рэйни можно написать
целую книгу, мистер Каритас[103], как зовет его Дэвид Д`Анжели, которого мы
встретим вечером на отвязной вечеринке в богатом доме после поэтических
чтений - )
Вот наконец-то и дом, мы заходим, двери открывает сама хозяйка, какое
же у нее милое лицо, я люблю такие серьезные женские глаза влажно
поблескивающие и полные постельной неги даже в среднем возрасте, они выдают
любящую душу -- Мы заходим внутрь, Саймон начинает копировать меня, не
понять то ли насмешливо то ли с восхищением -- Проповедник Коди оттесняется
на второй план -- Какая милая женщина, в элегантных очках, кажется где-то у
нее в прическе виднеется тонкая ленточка, и вроде бы в серьгах, точно не
помню -- Очень элегантная леди живущая в великолепном старом доме в
сан-францискском фешенебельном квартале, на холмах покрытых густо-вязкой
листвой, среди живых изгородей из красных цветов и гранитных стен уводящих к
паркам заброшенных особняков Барбари Кост, которые теперь переделали в клубы
с развалинами и трескающейся штукатуркой, где богатые пьянчуги из ведущих
фирм Монтгомери Стрит греют свои зады у потрескивающего в больших очагах
огня и выпивка подвозится к ним на колесных столиках, на расстеленные ковры
-- Туман пробирается в дом, миссис Роза наверное иногда поеживается от
холода в тишине своего дома -- Ах, и что же она поделывает ночами, в своем
"блистательном исподнем", как сказал бы У.С. Филдс, должно быть
приподнимается на кровати услышав странный звук снизу, а потом откидывается
назад понимая что сегодня ночью судьба опять уготовила ей поражение --
"Внемли пенью колоколов церковных" слышится мне[104] -- Какая милая, и такая
грустная потому наверное что утром, услышав пение канарейки на своей
сверкающей желтой кухне, она знает что канарейка тоже умрет -- Она
напоминает мне мою тетушку Клементину но все же совсем на нее не похожа --
"Кого же она мне напоминает?" все спрашиваю я себя -- она напоминает мне
одну мою старую возлюбленную которая была у меня когда-то давно и не здесь
-- Нам уже доводилось проводить вместе приятные вечерочки, сопровождая их
(ее с приятельницей-поэтессой Бернис Уайлен) из Местечка, однажды одной
особенно безумной ночью когда какой-то пьяный дурень плюхнулся спиной на
пианино, сверху, выдувая из своей трубы громкие и четкие нью-орлеанские
риффы -- должен заметить очень даже неплохо, приятно услышать такую вот
музыкальную загогулину откуда-нибудь на улице -- И потом мы (Саймон, Ирвин и
я) потащили дам в безумный джазовый клубешник с красно-белыми скатертями на
столах, и с пивом, чудесно, там сейшенили совершенно отвязные чуваки (и ели
со мной пейотль потом) и один новый тип из Лас-Вегаса одетый чуть небрежно и
изысканно, отличные навороченные сандалии на ногах, такие носят в
Лас-Вегасе, специально для казино, он садится за установку и замачивает
сумасшедший ритм, его палочки летают по тарелкам и басы ухают и обрушиваются
звукопадами, и тут барабанщик приходит в такое исступление что начинает
откидываться назад, и чуть не падая мотает головой в такт ритму почти
задевая грудь сидящего сзади контрабасиста -- Роза Уайз Лэйзали узнала этот
мир вместе со мной, и еще были изысканные беседы в ее машине (цок-цок
Вашингтон Сквер Джеймс) и в конце концов я сделал одну вещь которую Роза, в
свои 56, может быть уже никогда не забудет: - после вечеринки, у нее дома,
ночью, я проводил ее лучшую подругу к автобусу в 2 1/2 кварталах
оттуда (недалеко от дома рафаэлевой Сони), в конце концов старая леди взяла
такси "Правда Джек", когда я вернулся, "как мило с вашей стороны быть таким
предупредительным к миссис Джеймс. Она одна из самых замечательнейших людей
которые вам когда-либо встречались!"
И теперь в дверях она приветствует нас: "Я так рада что вы смогли
придти!"
"Извините за опоздание -- мы сели не в тот автобус - "
"Я так рада, что вы смогли придти", повторяет она закрывая двери, и
поэтому я понимаю что наш приход означает для нее какую-то совершенно
невозможную ситуацию, и, как это не иронично, -- "Так рада что вы пришли",
повторяет она опять для убедительности, и я понимаю что это простая логика
маленькой девочки, повторяй милые красивости и тогда никто не посмеет
покоробить твою изысканность -- И на самом деле она действительно
поддерживает безобидную атмосферу на вечеринке которой иначе было бы не
избежать враждебных вибраций. Я вижу как смеется очарованный ею Джеффри
Дональд, и поэтому знаю что все в порядке, я захожу, сажусь, и все отлично.
Саймон садится на свое место, на губах его "оо" искреннего уважения. Лазарус
тоже здесь, улыбающийся почти как Мона Лиза, руки лежат по обе стороны от
тарелки в знак тщательного соблюдения приличий, большая салфетка на коленях.
Рафаэль развалился на стуле, периодически подцепляя кусочек ветчины вилкой,
его изящные руки лениво свисают, он как всегда громок, но иногда впадает в
полное молчание. Бородатый Ирвин серьезен но смеется про себя (от счастья
очарованности) что выдают поблескиванием его глаза. Они бегают от одного
лица к другому, большие серьезные коричневые глаза, и если ты начинаешь
смотреть прямо в них он начинает в ответ также неотрывно смотреть на тебя,
однажды мы с ним стали играть в гляделки и смотрели друг на друга минут 20
или 10 может, не помню, его глаза становились все безумней вылезая из орбит,
а мои все больше и больше уставали -- Глазастый Пророк --
Дональд очень утончен в своем сером костюме, смеется, рядом с ним
девушка в дорогом платье и говорит она о Венеции и ее туристских
достопримечательностях. Рядом со мной симпатичная молодая девушка которая
только-только приехала учиться в Сан-Франциско и поселилась в одной из
свободных комнат дома Розы, ага, и я тут же начинаю думать: "Может быть Роза
пригласила меня для того чтобы я с ней познакомился? Или она знала что все
поэты и Лазарусы неизбежно придут вместе со мной?" Девушка встает и начинает
подавать на стол, она помогает Розе, и мне это нравится, но она надевает
фартук, вроде фартука служанки, и это на какое-то время смущает меня в
глупой моей неотесанности.
Ах как же изящен и чудесен Дональд, Дудочник Ликующий, сидящий около
Розы и говорящий соответствующие случаю фразы, они настолько превосходны что
я не могу припомнить ни одной из них, но что-то вроде "Не краснее помидора,
смею я полагать", а когда все начинают смеяться он тоже внезапно весь прямо
обрушивается в смехе, как например когда я делаю свои опрометчивые faux
pas[105] принимаемые всеми за шутку, типа "Я всегда езжу на товарняках."
"Да кому это надо, ездить на товарняках!" -- Грегори[106] -- "Я не
врубаюсь зачем тебе нужно все это дерьмо когда ты катаешься на товарняках и
докуриваешь бычки напополам с бомжами -- Зачем ты все это делаешь, Дулуоз!"
-- "Правда, без шуток!"
"Но это же первоклассный товарняк!" и все хохочут, и я смотрю на
давящегося от смеха Ирвина и говорю ему: "Так оно и есть, Полуночный Призрак
действительно первоклассный товарняк, идет без единой остановки до самого
конца", Ирвин это и так уже знает из наших с Коди рассказов о железной
дороге -- но смех этот такой искренний, что я утешаюсь сказанным в Дао
воспоминаний моих, "Мудрец заставляющий людей смеяться над собой драгоценней
источника воды в пустыне". Так что я припадаю к своему источнику, мерцающему
небосводу винного бокала, и заполняю его вином (красным бургундским)
кувшинчик за кувшинчиком. Наверное нехорошо так горестно и вопиюще
напиваться -- но все вокруг начинают мне подражать -- и на самом-то деле
сначала я всегда заполняю хозяйкин бокал - Как принято в Риме[107], говорю я
в таких случаях --
Разговор идет в основном на тему как мы будем делать революцию. И я
вношу свой маленький вклад сказав Розе: "Я читал о вас в нью-йоркской Таймс,
там было написано что вы муза-вдохновитель сан-францискского поэтического
движения -- Так ведь оно и есть, правда?" и она подмигивает мне. Меня так и
подмывает добавить "Противная девчонка", но мне неохота выпендриваться,
сейчас один из тех прекрасных расслабленных вечеров когда меня радует все,
хорошая еда, хорошее вино и хорошая беседа, что еще надо нищему попрошайке.
Поэтому тему подхватывают Рафаэль с Ирвином: "Мы выйдем наружу! Мы
скинем наши одежды и будем читать стихи!"
Они орут все это сидя здесь, у Розы, за вполне благопристойным столом,
но кажется все проходит естественно, я смотрю на Розу и она опять
подмигивает мне, Ах она знает меня -- Когда (слава Богу) Роза отходит к
телефону, а остальные одевают свои пальто в прихожей, за столом остаемся
только мы, и Рафаэль кричит "Мы должны вот что, мы должны открыть им глаза,
мы должны бом-бар-дировать их! Бомбами! Мы должны сделать это, Ирвин, извини
-- это правда -- все это слишком правда" и вот он встает снимая штаны прямо
у этой кружевной скатерти. Он стаскивает их уже до коленей но это всего лишь
шутка, и он быстренько застегивается обратно когда возвращается Роза:
"Мальчики, нам нужно спешить! Чтения скоро уже начнутся!"
"Мы поедем в нескольких машинах!" говорит она.
И я, смеявшийся до того без удержу, спешу прикончить свою ветчину,
вино, и поговорить с девушкой молча вытирающей тарелки --
"Мы там тоже разденемся и журнал Тайм снимет нас! Это настоящая победа!
Понимаешь!"
"Я буду мастурбировать прямо перед ними!" кричит Саймон, колотя по
столу, с большими серьезными как у Ленина глазами.
Лазарус жадно наклонился вперед со своего стула, он хочет все это
слышать, но одновременно то барабанит по своему стулу то раскачивается, Роза
стоит и разглядывает нас утихомиривая "тс-тс" но тут же подмигивает и
прощает все -- вот такая вот она -- Все эти безумные поэты едят и вопят в ее
доме, слава Богу они не привели с собой Ронни Воришку, он бы вынес все
столовое серебро -- и он тоже поэт --
"Давайте начнем революцию против меня!" кричу я.
"Мы начнем революцию против Фомы Неверующего! Мы создадим райские сады
в странах нашей империи! Мы переполошим весь средний класс Америки
обнаженными младенцами прорастающими сквозь земной шар!"
"Мы будем размахивать своими штанами с носилок!" вопит Ирвин.
"Мы закидаем младенцами весь Китай![108]" кричу я.
"Это неплохо", говорит Ирвин.
"Мы будем гавкать на бешеных собак!" торжествующе кричит Рафаэль.
Ба-бах по столу. "Это будет - "
"Мы будем подбрасывать младенцев в воздух пиная их ногами", говорит
Саймон глядя прямо на меня.
"Младенцы, да какие к черту младенцы, мы будем подобны смерти, мы
встанем на колени и напьемся из беззвучных потоков" (Рафаэль).
"Ух ты".
"Это еще что значит?"
Рафаэль пожимает плечами. Он открывает рот: - "Мы забьем молотки им в
глотки! Огненные молотки! Это будут молотки из чистого пламени! И они будут
колотить и колотить их по мозгам!" И он так сказал это мозгам что мы
потонули в этом звуке, такое чудное гудящее "ммм"... тягучее, убежденное
"ммм"... "мозгам-ммм.."
"А когда я стану капитаном космического корабля?" спрашивает Лазарус,
вот что ему нужно из всей этой нашей революции.
"Лазарус! Вместо мотора мы дадим тебе воображаемых золотых черепашьих
голубей! Мы сожжем чучело святого Франциска! Мы убьем всех младенцев в
собственных мозгах! Мы будем лить вино в глотки дохлым лошадям!!! Мы
притащим парашюты на поэтические чтения!"
(Ирвин держится за голову).
Это просто попытки передать то что они на самом деле говорят --
Нас распирает от восторга, и вот Ирвин выкрикивает: "Мы заставим их
показывать дырки наших задниц на экранах Голливуда!"
Или вот я добавляю: "И станем популярнее всяких нехороших бандитов!"
Или Саймон: "И покажем им золотые мозги наших членов!"
Так вот они говорят -- Коди сказал как-то: "Когда мы придем на Небеса,
нас поведут за руку те кому мы помогли".
Протекай сквозь все как протекла полыхнувшая молния, и пусть ничто тебя
не тревожит --
Мы забиваемся в две машины, Дональд спереди за рулем той в которой я, и
отправляемся на поэтические чтения которыми я лично не собираюсь насладиться
или вернее сказать не собираюсь терпеть, я уже придумал (вино и все такие
дела) как улизну в бар и встречу всех позже -- "Кто этот Меррилл Рэндэлл?"
спрашиваю я -- про поэта который собирается сегодня зачитывать свои
творения.
"Такой тонкий и изящный, в очках в роговой оправе и всегда в
каком-нибудь красивом галстуке, ты его видел в Нью-Йорке, в Ремо, но не
помнишь", говорит Ирвин. "Из Хартцджоновской тусовки - "
Тонкие чайные чашечки -- может и интересно было бы послушать как у него
катит спонтанное стихосложение, но я не смогу усидеть слушая эту продукцию
его печатной машинки, наверняка это очередная попытка подражания
какому-нибудь из лучших поэтов современности, ну в крайнем случае будет
что-то приближающееся к этому уровню -- нет, лучше я буду выслушивать новые
рафаэлевы словесные бомбы, а больше всего на самом-то деле мне хотелось бы
услышать поэму написанную Лазарусом --
Роза медленно и внимательно пробирается сквозь сан-францискские потоки
транспорта, и я не могу удержаться от мысли "Если бы за рулем был старина
Коди то мы успели бы уже за это время смотаться туда и обратно" -- Забавно
что сам Коди никогда не ходит на поэтические чтения или другие подобные
формальности, только однажды он пришел как-то, в честь первого чтения стихов
Ирвина, и когда тот проревел свое последнее стихотворение и в зале
воцарилась полная тишина, то именно Коди, одетый в свой воскресный костюм,
подошел и пожал руку поэту (своему братишке Ирвину, с которым он мотался
автостопом через все Техасы и Апокалипсисы 1947 года) -- я всегда вспоминаю
это как символичный и прекрасный скромный акт дружбы и хорошего вкуса --
Стиснутые в машине коленями и висящие вниз головой мы заинтересованно вертим
головами, пока Роза пытается припарковать свою машину в узкий пустой проем
-- "Окей, окей, еще чуток, подверните колесо". И она кивает "ну да конечно -
" и мне хочется сказать "Ах Рози ну почему ж ты не осталась дома есть
шоколадные конфеты и читать Босуэлла, вся эта светская жизнь не принесет
тебе ничего хорошего, только новые морщины беспокойства на твоем лице -- а
светская улыбка это просто обнаженная полоска зубов."
Но зал чтений уже забит прибывшими заранее, уже тут и
девушка-билетерша, и программки, и мы садимся в кружок разговаривая, и в
конце мы с Ирвином сваливаем купить четверть галлона сотерна чтобы
подразвязались языки -- А вообще тут вполне мило, Дональд уже здесь, он
один, девушка уехала куда-то, и он оживленно болтает отпуская маленькие
забавные шуточки -- Лазарус стоит где-то позади, и я пристраиваюсь с
бутылочкой -- Роза привезла нас сюда и теперь ее работа закончена, она
заходит и садится в зале, она была Матерью везущей на Небеса Повозку, полную
ее маленьких детей которые не верят что в доме приключился пожар --
Больше всего лично меня интересует то что после должна состояться
вечеринка в большом доме, и с большой чашей пунша, но вот внутрь заходит
Дэвид Д`Анжели, скользящей арабской походкой, улыбаясь, с очаровательной
француженкой по имени Иветта под руку, и О он похож на какого-нибудь
изящного прустовского героя, Священник, если Коди Проповедник то Дэвид
Священник, но у него всегда найдется какая-нибудь красотка в запасе, и я
уверен что Дэвида от принятия Пострига в каком-нибудь Католическом монастыре
останавливает только то что он может захотеть жениться опять (он уже был
женат однажды), и растить детей -- из всех нас Дэвид самый красивый мужчина,
у него идеальные черты лица, как у Тирона Пауэра, но более тонкие и
таинственные, и он говорит с таким странным акцентом, что я и не знаю даже
где он мог его подцепить -- Наверное так выглядел бы араб выпускник
Оксфорда, в Дэвиде есть что-то несомненно арабское, или арамейское (или
карфагенское, как у Святого Августина) хотя на самом-то деле он сын
покойного зажиточного итальянского торговца, и мать его живет в прекрасной
квартире с роскошной мебелью красного дерева, и серебром, и кладовкой
забитой итальянской ветчиной, сыром и вином -- все домашнее -- Дэвид он как
святой, он и выглядит как святой, он один из тех изумительных людей которые
в юности пытались перепробовать все виды порока ("Попробуй-ка эти таблетки",
сказал он Коди при первой встрече, "это просто окончательный оттяг", так что
Коди так и не осмелился их пробовать) -- И вот сегодня Дэвид возлежит на
кровати покрытой белым мохнатым покрывалом, с черной кошечкой, читая
Египетскую Книгу Мертвых и передавая косяки по кругу, и разговаривает очень
странно "Но как это чуу-ууудненько, ну праа-ааавда же" примерно говорит он,
но когда "Ангел выбил у него почву из под ног" и ему открылось видение
писаний Отцов Церкви, всех одновременно, ему было приказано вернуться к
католической вере своих отцов, так что теперь из изысканного и чуть
декадентствующего поэта-хипстера он превратился в изумительного Святого
Августина отдавшего все пороки юности своей Видению Креста -- Через месяц он
уходит в траппистский монастырь на послушание -- Дома перед причастием он
врубает пластинки Габриэлли на полную громкость -- Он доброжелательный,
аккуратный, остроумный, любит все подробно разъяснять, и его не устаивают
простые ответы -- "Весь этот твой буддизм это просто отголоски манихейства,
Дже-еек, посмотри этому факту в лицо -- в конце концоув ты же был окрещен и
говорить тут нэ о чем, понимаешь", и он поднимает изящно свою тонкую белую и
нежную руку священника -- И все же скользящей походкой своей он пришел
сегодня на эти поэтические чтения, весь такой изысканный, прошел даже слух
что он решил повременить с обращением и теперь вежливо замалчивает все
вопросы на эту тему, и поэтому для него вполне естественно придти под руку с
этакой великолепной Иветтой, и так идеально и со вкусом одетым в простой
костюм с простым галстуком, и с этим свежевыстриженным ежиком придающим его
миловидному лицу зрелый, возмужалый вид, так что за один год его лицо стало
из юношески красивого красивым мужской красотой, и посерьезнело вдобавок --
"О да ты на вид как-то возмужал, братец!" первое, что я говорю ему.
"Что ты имеешь в виду, возмужал!" кричит он, топая ногой и смеясь -- Ах
как же он двигается этими своими арабскими скользящими движениями, и
здороваясь он будто бы преподносит вам свою мягкую белую искреннюю и кроткую
руку -- но стоит ему начать говорить я не могу удержаться от хохота, он
действительно очень смешной, его улыбка держится на лице дольше любых
разумных границ, и ты начинаешь понимать что сама по себе эта улыбка это
такая тонкая шутка (большая шутка), и он считает что ты ее поймешь и
продолжает излучать из маски своего лица белое безумие до тех пор пока тебе
не останется только услышать слова его внутреннего языка которые он не
произносит вслух (и они без сомнения тоже смешные), и из-за всего этого мне
не удержаться никак -- "Над чем это ты смеешься, Джеее-ек!" взывает он. Он
растягивает гласные так что его речь приобретает какой-то совершенно
отдельный акцент состоящий из (естественно) американо-итальянского, второго
поколения, произношения, но с сильным британским налетом на основе
средиземноморской элегантности которые вместе создают такую прекрасную и
странную разновидность английского языка которую я нигде еще не встречал --
Дэвид Благотворящий, Дэвид Любезный, носивший (по моему настоянию) мое пончо
с капюшоном в нашем домике, и он вышел в нем ночью чтобы помедитировать под
деревьями, быть может он молился стоя на коленях, и когда он вернулся в
домик где я сидел и читал "манихейские" сутры, он снял свой капюшон только
тогда когда я посмотрел как он ему идет, и выглядел он как настоящий монах
-- Дэвид, с которым как-то воскресным утром мы вместе пошли в церковь, и
после причастия он прошел по проходу между рядами с облаткой тающей под
языком, глаза набожно и немного насмешливо, но по крайней мере вовлеченно уж
точно, опущены долу, руки сложены так чтобы все женщины могли это видеть,
образцово-показательный священник -- Все постоянно говорят ему: "Дэвид
напиши исповедь своей жизни как сделал Св. Августин!" и это его забавляет:
"Ну не знаа-ааю!" смеется он -- Но это потому что всем известно что он
отвязный джазовый чувак который побывал черт знает где и теперь направляется
на небеса, в этом нет земной корысти, и все действительно чувствуют что ему
известно что-то что было позабыто или замолчено в опыте Св. Августина,
Франциска Лойолы и других -- Сейчас он пожимает мне руку, представляет
синеглазой изумительной красотке Иветте, и присаживается со мной чтобы
пропустить стаканчик сотерна --
"И чем ты сейчас занимаешься?" смеется он.
"Ты придешь потом на вечеринку? -- хорошо -- я сваливаю и иду в бар - "
"Ну так не напейся там!" смеется он, он всегда смеется, когда они с
Ирвином собираются вдвоем, взрывы хохота следуют один за другим, они
обмениваются эзотерическими мистериями под общей византийской крышей своих
пустых голов -- одна частичка мозаики за другой, атомы пусты -- "Столы
пусты, и все ушли", напеваю я, на мотив синатровской "Ты учишься петь блюз"
-
"О опять эта чепуха насчет пустоты", смеется Дэвид. "Правда, Джек, я
ожидал от тебя лучшего применения твоего опыта чем все эти буддистские
негативности - "
"О я больше не буддист -- я больше ничто!" кричу я, и он смеется и
похлопывает меня по плечу. Он мне говорил уже раньше: "Ты был крещен,
таинство воды коснулось тебя, благодари же Господа за это - " ... "иначе я
не знаю что с тобой могло бы случиться" -- У Дэвида есть теория, или вера,
что "Христос рванулся к нам с Небес чтобы принести избавление" и что простые
правила принесенные нам Св. Павлом прекрасны как золото, поскольку они
зародились в Эпоху Христа, Сына посланного Отцом чтобы открыть нам глаза,
высочайшим жертвоприношением Его жизни -- Но когда я говорю ему что Будде не
потребовалась кровавая смерть, он просто сидел объятый тихим восторгом под
Деревом Бесконечности, "Но Джее-еек, в этом нет ничего выходящего из порядка
вещей" - Все происходящее кроме явления Христа не выходит из порядка вещей,
согласно заповедям Высшего Порядка -- Часто я даже побаивался повстречать
Дэвида, так он затрахал мне мозги своими восторженными, страстными и
блестящими излияниями Вселенской Правоверности -- Он бывал в Мексике и
бродил среди соборов, дружил с монахами в монастырях -- А еще Дэвид поэт,
странный изысканный поэт, некоторые из его стихов написанных до обращения
(задолго до) были причудливыми пейотлевыми видениями и тому подобное --
ничего круче этого я не встречал -- Но мне никак не удавалось свести вместе
Дэвида и Коди чтобы они поговорили о Христе --
Чтения уже в самом разгаре, поэт Меррил Рэндэлл раскладывает на столе
свои рукописи, так что когда мы приканчиваем четвертушку в туалете я шепчу
на ухо Ирвину что иду в бар, и Саймон шепчет "И я с тобой!", так что в конце
концов Ирвин тоже хочет идти но ему нужно оставаться и проявлять вежливый
поэтический интерес -- А Рафаэль уже удобно уселся, он готов слушать и
говорит: -
"Да знаю я что это голяк, хочется просто послушать чего-нибудь
новенького", старина Рафаэль, так что мы с Саймоном спешим к выходу, ведь
Рэндэлл уже начал свои первые строчки:
"Двенадцатиперстная пучина вынесшая меня на самый край
Пожирает мою плоть"
и тому подобное, я слышу несколько строчек и больше слушать мне не
хочется потому что в этом мне видится лишь ремесленное усердие тщательно
выстроенных мыслей, а вовсе не свободные и необузданные мысли как они есть,
врубаешься - Хотя сам я в те дни не осмелился бы встать там и прочесть даже
Алмазную Сутру.
Мы с Саймоном чудесным образом находим бар где за стойкой сидят как раз
две девушки и ждут пока их кто-нибудь подцепит, и в центре помещения
какой-то парень поет и играет джаз на пианино, и человек тридцать народу
болтаются попивая пивко -- Мы тотчас подсаживаемся к девушкам, после
недолгого вступления, но я сразу же понимаю что ни я ни Саймон не вызывают у
них особой симпатии, и кроме того мне хочется слушать джаз а не их нытье, в
нем есть что-то свежее, и я подхожу и становлюсь около пианино -- Этого
парня я видел раньше по телевизору (в Фриско), он потрясающе наивно и
восторженно играл на гитаре, пел и вопил пританцовывая, но сейчас он потише
и пытается подзаработать себе на жизнь на пианино в баре -- По телевизору он
напомнил мне Коди, юного Коди-музыканта со своей гитарой времен Полуночного
Призрака (чук чугалук чукчук чугалук), я услышал старую поэзию Дороги и
увидел веру и любовь на его лице - Теперь он выглядит так будто город в
конце концов его доконал и отстраненно перебирает несколько мелодий -- В
конце концов я начинаю тихонько подпевать и он начинает наигрывать "Тревоги
позади" и просит спеть, я пою, негромко и расслабленно, немножечко подражая
Джун Кристи, я думаю будущее за этой манерой мужского джазового пения, такое
слегка неразборчивое, свободное расслабленное пение -- горестное Одиночество
Голливудских Бульваров -- А в это время несдающийся Саймон продолжает клеить
девушек -- "Поехали все ко мне..."
Так мы оттягиваемся, и время летит, и вдруг заходит Ирвин, как всегда
пронзительно глядя своими большими глазами, как призрак, каким-то образом он
вычислил что мы будем именно в этом кабаке (в нескольких кварталах), от него
не скроешься, "Ах вот вы где, а у нас чтения закончились, мы все едем на
большую вечеринку, чем вы тут занимаетесь?" и позади него стоит ни кто иной
как Лазарус --
На вечеринке Лазарус изумляет меня -- Она проходит где-то в обычного
вида особнячке, где есть обшитая деревом библиотека с пианино и легкими
стульями, большая комната с подсвечниками и ароматическими маслами, камин
облицованный кремовым мрамором, подставка для дров чистейшей меди, громадная
пуншевая чаша и бумажные стаканчики на столе -- И во всей этой крикливой
суматохе всех коктейлевых вечеринок Лазарус, полностью погруженный в себя,
разглядывает в библиотеке масляный портрет четырнадцатилетней девочки и
спрашивает изящных гомиков пасущихся около него, "Кто это, где она? Могу я с
ней встретиться?"
А Рафаэль сутулится на диванчике и выкрикивает свои стихи, "Будда-рыба"
и т.п. которые достает из кармана пальто -- я мечусь от Иветты к Дэвиду к
другой девушке и опять к Иветте, потом опять появляется Пенни, в
сопровождении художника Левескье, и вечеринка становится еще шумней -- я
даже немного поболтал с поэтом Рэндэллом, на всякие нью-йоркские темы -- в
конце концов я опоражниваю пуншевую чашу в свой стакан, грандиозная задача
-- Лазарус поражает меня также тем как классно он умудряется протекать
сквозь эту ночь, стоит обернуться и тут же видишь его, с выпивкой в руке,
улыбающегося, но он не пьян и не говорит ни слова --
Разговоры на таких вечеринках сливаются в чудовищный гвалт растущий к
потолку, будто слова сталкиваются и грохочут там, и если закрыть глаза и
вслушаться то услышишь "уоррх уоорх хлоп", и каждый пытается переговорить
общий фон, рискуя что слова скоро станут совсем неразличимыми, в конце
концов становится даже еще громче, выпивки становится все больше и больше,
закуска уничтожена, пунш растекается по жадным болтливым языкам, и в конце
концов все перерастает в один сплошной праздник крика, и как всегда бывает
хозяин начинает беспокоиться о соседях и последний час проводится им в
вежливых попытках загасить вечеринку -- И как всегда остается несколько
громких припозднившихся гостей, т.е. нас -- последние гости обычно мягко
выставляются вон -- в моем случае, я иду к пуншевой чаше чтобы опрокинуть ее
в свой стакан, но лучший друг хозяина мягко вынимает чашу из моей руки,
говоря "Она уже пустая -- к тому же вечеринка закончилась" -- и в последней
ужасной картине представления вы видите богемного художника набивающего
карманы бесплатными сигаретами которые были щедро выставлены в открытых
коробках тикового дерева -- Это делает Левескье, с порочным взглядом искоса,
художник без гроша в кармане, безумец, его голова острижена почти наголо, и
покрыта ссадинами и ушибами там где он приложился ею падая пьяным прошлой
ночью -- И все же лучший художник в Сан-Франциско --
Хозяева кивают нам и для верности ведут по дорожке в саду -- и мы
вываливаемся галдя, пьяная поющая толпа состоящая из: Рафаэля, меня, Ирвина,
Саймона, Лазаруса, Дэвида Д`Анжели, художника Левескье. Ночь только
начинается.
Мы сидим на бордюре тротуара и Рафаэль усаживается на дороге лицом к
нам и начинает болтать и махать руками в воздухе -- Некоторые из нас тоже
садятся скрестив ноги -- То что он говорит длинно и полно пьяного торжества,
мы все пьяны, но в его словах чисто рафаэлевский трепещуще-чистый восторг,
но тут появляются копы, подгоняют патрульную машину. Я встаю и говорю
"Пойдемте, мы слишком шумим" и все идут вслед за мной, но копы подходят к
нам и хотят знать кто мы такие.
"Мы только что вышли с большой вечеринки неподалеку"
"Вы тут подняли слишком много шума -- К нам уже было три звонка от
соседей".
"Мы уходим", говорю я и начинаю уходить, и кроме того копы теперь
разглядели большого бородатого Авраама Ирвина и обходительного приличного
Дэвида и безумного величавого художника, а потом они еще видят и Лазаруса с
Саймоном и решают что в участке будет слишком много народа, и уж точно так
оно и было бы -- я хотел бы научить моих бхикку избегать властей, так
написано в Дао-Де-Дзин, другого пути нет -- Есть лишь прямой путь, прямо
сквозь --
Теперь мы хозяева этого мира, мы покупаем вино на Маркет-стрит,
запрыгиваем в-восьмером в автобус и пьем на задних сиденьях, выходим, идем
улицами прямо посередине и громко горланим длинные бесконечные беседы --
Забираемся в гору по длинной дорожке и залезаем на вершину на поросшую
травой площадку обозрения над огнями Фриско -- Садимся на траву и пьем вино
-- Разговаривая -- Затем вверх, домой, дом с двориком, большой hi-fi
электромагнитный о-го-го здоровенный проигрыватель и они ставят на полную
громкость органные мессы -- художник Левескье падает и ему кажется что
Саймон ударил его, он идет к нам плача об этом, я тоже начинаю плакать
потому что Саймон мог кого-то ударить, все заполняется этой пьяной
сентиментальностью, в конце концов Дэвид уходит -- Но ведь Лазарус "видел
это", видел как Левескье упал и ушибся, и на следующее утро оказывается что
никто никого не бил -- Немного дурацкий вечерок но наполненный ликованием
хотя конечно же это ликование пьяное.
Утром Левескье выходит с блокнотом в руках и я говорю ему, "Никто тебя
не бил!"
"Что ж рад слышать это" мычит он -- однажды я сказал ему "Наверное ты
мой брат который умер в 1926 году, он был прекрасным художником и
рисовальщиком в девять лет, а ты когда родился?" но теперь я понимаю что это
совсем другой человек -- и если это так то Карма промахнулась. Левескье
очень серьезный, у него большие голубые глаза, он всегда рад помочь и очень
скромный, но он может внезапно у тебя на глазах начать безумствовать,
пуститься на улице в сумасшедший пляс, пугающий меня. И еще иногда он
смеется "Мммм хи хи ха ха" и маячит у тебя за спиной...
Я листаю его блокнот, сижу на крылечке глядя на город, такой вот тихий
денек, мы сидим и набрасываем всякие рисунки (я делаю зарисовку спящего
Рафаэля, Левескье говорит "О, вылитый Рафаэль!") -- Потом мы с Лазарусом
рисуем смешные привиденческие картинки. Хотелось бы мне опять их увидеть,
особенно причудливые очертания лазарусовских духов которые он рисует сияя
растерянной улыбкой... Затем, Боже мой, затем мы покупаем свиные отбивные,
скупаем пол-лавки, и мы с Рафаэлем разговариваем про Джеймса Дина перед
киноафишей. "Что за некрофилия!" восклицает он имея ввиду то как девушки
восторгаются умершим актером, но не тем кем он был на самом деле, на самом
же деле -- Мы жарим отбивные на кухне и уже темнеет. Мы прогуливаемся
недалеко, на ту же странную поросшую травой каменистую площадку на вершине
горы, и когда мы возвращаемся назад Рафаэль вышагивает в лунной ночи как
укурившийся опиумом китаец, натянув рукава на руки и повесив голову, так вот
он и топает, темный и причудливый, сутулящийся и печальноокий, он поднимает
глаза и оглядывает окрестности, он выглядит затерявшимся как маленький
Ричард Бартельмесс со старых лондонских картин изображающих курильщиков
опиума под светом уличных фонарей, он переходит из света фонаря во тьму и
опять в свет -- засунув руки в рукава угрюмый и сицилийский, Левескье
говорит мне "О я хотел бы написать картину с ним бредущим вот так вот."
"Сделай вначале карандашный набросок", говоря я, потому что весь
прошедший день я делал неудачные попытки рисовать его чернилами --
Мы входим в дом и я иду спать, залезая в свой спальник, окна открыты
настежь к прохладным звездам -- И засыпаю со своим крестом на шее.
Утром "я, Саймон и Рафаэль" идем пешком знойным утром через большие
цементные заводы, и чугунолитейные заводы и мастерские, мне охота пройтись и
показать им всякую всячину -- Сперва они начинают ныть но потом
заинтересовываются большими электромагнитами которые поднимают груды
прессованного металлолома и сваливают их в бункера, блямм, "одним поворотом
переключателя ток вырывается наружу, высвобождается сила и эта масса
падает", объясняю я им. "И масса эквивалентна энергии -- а масса плюс
энергия эквивалентны пустоте"
"Ага, но глянь на эту хренову шту-ко-ви-ну", говорит Саймон, открыв
рот.
"Она прекрасна!" кричит Рафаэль тыча в меня кулаком. --
Мы двигаемся дальше -- Мы хотим пойти поискать Коди на железнодорожной
станции -- Мы проходим мимо раздевалки железнодорожников, и я даже захожу
проверить нет ли мне какой почты оставшейся с тех пор два года назад когда я
работал здесь тормозным кондуктором, и потом сваливаем чтобы встретиться с
Коди на Побережье -- в кафеюшнике -- Остаток пути мы проезжаем на автобусе
-- Рафаэль занимает заднее сиденье и начинает громко говорить, как настоящий
маньяк, он хочет, раз уже ему приспичило поговорить, то уж так чтоб его
слышал весь автобус -- А в это время Саймон размышляет над только что
купленным бананом, он хочет знать такие ли у нас большие как этот.
"Еще больше", говорит Рафаэль.
"Больше?" кричит Саймон.
"Именно"
Саймон принимает к сведению эту информацию как серьезный материал для
дальнейших изысканий, мне видно как он шевелит губами подсчитывая --
И точно вот он Коди, на дороге, разгоняющий свой маленький седан на
крутой подъем делая 40 миль в час чтобы внезапно развернуться, втиснуть
машину на обочину и выпрыгнуть из нее -- открыв дверь он высовывает свое
большое красное лицо проорав несколько фраз для нас чуваков, и одновременно
предупреждая этим встречных водителей --
И мы мчимся на квартиру прекрасной девушки, прекрасную квартиру, у нее
короткая стрижка, она в постели, под одеялами, болеет, у нее большие
печальные глаза, она просит сделать погромче Синатру на вертушке, у нее там
крутится целый его альбом -- Да, можно взять ее машину -- Рафаэль хочет
перевезти свои вещи от Сони на новую квартиру, туда где была органная музыка
и плакал Левескье, окей, машина Коди слишком мала для этого -- И затем мы
помчимся на скачки --
"Нет, на скачки машину не дам!" -- кричит она --
"Ладно - " "Мы вернемся назад" -- Какое-то время мы толпимся вокруг нее
в восхищении, присаживаемся ненадолго, и возникают даже какие-то непонятные
долгие паузы во время которых она поворачивается и начинает разглядывать
нас, и в конце концов говорит:
"Что это вы чуваки тут" -- "как бы"- вдыхая -- "Ого", говорит она --
"Расслабьтесь" -- "Серьезно говорю, да?" -- "Типа, да?"
Ага, мы соглашаемся, нам всем вместе тут ничего не светит так что мы
отправляемся на скачки, но рафаэлевский переезд занимает столько времени что
в конце концов Коди начинает понимать что нам опять не успеть на первый
заезд -- "Я опять пропущу двойную дневную!" отчаянно вопит он -- широко
открывая рот так что видны зубы -- он это вполне серьезно --
Рафаэль разыскивает всяческие свои носки и шмотки и Соня говорит,
"Послушайте, я не хочу чтобы все тетки в доме знали про мою жизнь -- я тут
живу, поймите - "
"Конечно", говорю я, и добавляю про себя: очень серьезная девчушка и
очень серьезно влюблена -- У нее уже появился новый приятель и это именно
она и хочет сказать -- мы с Саймоном берем большие коробки с пластинками и
книжками и тащим их вниз к машине где Коди сидит и злится --
"Эй Коди", говорю я, "подымайся с нами посмотришь на красотку - " Он не
хочет -- и в конце концов я говорю "Нам нужна твоя помощь чтобы оттащить все
это барахло" тогда он идет, но когда все улаживается и мы сидим в машине
готовые ехать и Рафаэль говорит: "Ха! Ну и дела!" Коди фыркает:
"Хм, помощь"
Нам надо ехать на новую квартиру и там я впервые замечаю прекрасное
пианино. Хозяин, Эрман, еще даже не вставал. Левескье тоже живет здесь. И
Рафаэль может на худой конец оставить свои вещи здесь без проблем. Мы уже
опоздали и на второй забег так что в конце концов я уговариваю Коди вообще
никуда не ехать, подождать до следующих скачек, а завтра из чистого интереса
узнать результаты (позже выяснилось что он проиграл бы), и просто
порадоваться сегодняшнему деньку и тому что ничего такого особенного нам
делать не надо.
Так что он вытаскивает свою шахматную доску и садится играть с Рафаэлем
чтобы уделать его в отместку -- Его гнев уже несколько поубавился с тех пор
как он долбанул Рафаэля локтем разворачивая машину, и Рафаэль заорал "Эй,
зачем ты ударил меня? Ты что себе думаешь - "
"Он ударил тебя потому что огорчен тем что ты заманил его перевозить
твои вещи и он опоздал на скачки. Он карает тебя!" добавляю я, пожимая
плечами - И теперь Коди, услышав на какой манер мы об этом говорим, вроде бы
удовлетворился этим и сейчас они свирепо играют в шахматы, Коди вопит "Вот
тебе!" а я ставлю пластинки на полную громкость. Хоннегер, потом Рафаэль
ставит Баха. Мы собираемся просто повалять дурака и я уже успел смотаться за
двумя упаковками пива.
В это время хозяин, Эрман, спящий в соседней комнате, выходит,
рассматривает нас какое-то время, и идет опять спать -- Его не колышет вся
эта музыка на полную катушку -- Это пластинки Рафаэля, Реквиемы, Вагнер, я
вскакиваю и ставлю Телониуса Монка --
"Это же просто смешно!" вопит Рафаэль разглядывая свою безнадежно
проигрышную шахматную позицию -- А потом: "Померэй что тянешь эту последнюю
игру, достали эти твои бесконечные шахи один за другим, не тяни, что - " и
Коди смахивает фигурки и убирает доску так быстро, что мне вдруг в голову
приходит что он мелвилловский Верный Друг играющий в невероятно тайные и
важные шахматные игры.
Затем Коди идет в ванную бриться, и Рафаэль садится за пианино и
колотит по клавишам одним пальцем.
Он начинает стучать по одной клавише, потом нажимает две сразу, потом
опять одну --
В конце концов он начинает играть мелодию, чудесную мелодию которую
никто прежде не слышал -- хотя Коди, с бритвой у подбородка, и утверждает
что это "Остров Капри" -- Рафаэль кладет задумчивые пальцы на аккорды -- И
скоро уже его соната-импровизация выстраивается во что-то прекрасное, с
интерлюдиями и рефренами, он возвращается к старым рефренам и освежает их
новыми темами, потрясающе как он заканчивает свою Итальянскую Птичью Песнь
внезапной похожей на вскрик нотой -- Синатра, Марио Ланца, Карузо, все они
пели эту чистейшую птичью ноту виолончельной грусти, которая так заметна в
их печальных музах, Мадоннах -- у Рафаэля другая муза, шопеновская, мягкие
понятливые пальцы уверенно лежат на клавиатуре, я отворачиваюсь от окна у
которого стою, смотрю на играющего Рафаэля и думаю "Ведь это его первая
соната - ", я замечаю что все слушают его замерев, Коди в ванной, и старина
Джон Эрман в кровати, глядя в потолок -- Рафаэль играет только белыми
клавишами, может быть в прошлой жизни (в шопеновском окружении) он был
безвестным органистом играя в церковной башенке на ранне-готическом органе
без минорных нот -- потому что ему хватает мажорных (белых) клавиш, и он
создает неописуемо прекрасные мелодии, становящиеся все более и более
трагическими и разрывающими сердце, это чистое птичье пение, так сказал он
об этом сам "я чувствую себя маленькой поющей птичкой", и сказал это сияя от
счастья. И когда стоя у окна слушаешь его, ни одной фальшивой ноты, а ведь
это его первая в жизни игра на пианино перед серьезными слушателями, такими
как лежащий в спальне маэстро, становится так печально, эти песни слишком
прекрасны, они чисты как чисты слова его, и рот его чист как чиста рука его
-- его язык чист как чиста его рука, и поэтому рука уверенно находит ноты
этой песни -- Трубадур, раннеренессансный Трубадур, играющий на гитаре для
дам, заставляющий их плакать -- Он заставил плакать и меня... слезы подходят
к глазам моим когда я слышу это.
И я думаю "Как давно все это было, я так же вот стоял около окна, я был
тогда маэстро в Пьерлуиджи, и открыл нового гения музыки", серьезно, такие
вот величественные мысли возникают у меня -- я имею ввиду мое прошлое
перерождение, я был собой, а Рафаэль новым гением-пианистом -- за всеми
шторами Италии рыдала роза и лунный свет сиял на птичке-неразлучнике.
Потом я представил себе его играющим так, при свечах, как Шопен, может
даже как Либерэйс, для толп женщин похожих на Розу, заставляя их плакать --
я представил себе это, начало карьеры великого композитора и виртуоза
спонтанности, чьи работы вначале записываются на магнитофон и потом
переписываются в нотах, эх кто бы "записал" первые свободные мелодии и
гармонии мира, это должна быть первобытная музыка -- я вижу что на самом
деле он еще более великий музыкант чем поэт, и это при том что он великий
поэт. Потом я думаю: "Сейчас Шопен вселился в Урсо, и теперь поэт звенит
музыкой и словами - " Я говорю это Рафаэлю и он особо серьезно к моим словам
не относится -- Он играет еще одну мелодию, не менее прекрасную чем первую.
Теперь я знаю что он может сделать это всегда когда захочет.
Сегодня вечером мы должны идти сниматься на фото для журнала поэтому
Рафаэль кричит на меня "Не причесывайся -- оставь свои волосы
нерасчесанными!"
И стоя у окна отставив ногу как Парижский Модник, я понимаю в чем
величие Рафаэля -- величие его чистоты, включая чистоту его отношения ко мне
-- и в том как он дал мне поносить Крест. Его девушка Соня сказала недавно,
"Разве ты не носишь больше Крест?" причем таким противным тоном будто хотела
сказать Разве жить со мной, это было для тебя как нести свой крест? - "Не
причесывай волосы", говорит мне Рафаэль, и у него никогда нет денег -- "Я не
верю в деньги" -- Тот кто лежит в спальне на кровати почти не знает его, но
он въехал в эту квартиру, играет на его пианино -- И на следующий день я
вижу что маэстро согласен, и Рафаэль опять играет и опять прекрасно, правда
разгоняется медленнее чем днем раньше, может быть из-за того что я слишком
уж поспешил с восхвалениями его музыкального таланта - музыкального гения --
и потом Эрман выходит из своей больничной комнаты и бродит закутанный в
купальный халат, и когда Рафаэль берет чистейшую и гармоничнейшую
музыкальную ноту я смотрю на Эрмана, он смотрит на меня, и кажется будто мы
оба киваем друг другу с пониманием -- И потом он стоит несколько минут
наблюдая за Рафаэлем.
Между этими двумя сонатами нам нужно сняться для этого дурацкого
журнала и мы все напиваемся, кому это надо оставаться трезвым чтобы тебя
сняли для журнальной заметки и назвали "Блистательным "Потрясным" Поэтом" -
мы с Ирвином ставим Рафаэля между нами, это моя идея, я говорю "Рафаэль
короче всех, надо его в середину" и так вот рука об руку мы трое стоим и
позируем миру Американской Литературы, и когда хлопает деревянная стучалка
-- сигнал к началу, кто-то говорит: "Ну и троица!" таким тоном каким говорят
о Тех Самых Миллионодолларовых Бейсболистах -- Тогда я буду левым
нападающим, быстрым, отличным бегуном, ловящим мячи издалека, некоторые над
самым плечом, настоящим вышибалой как Пит Райзер, и весь в ссадинах, я Тай
Кобб, я бью, я бегу, отбираю и перекидываю мяч с искренней свирепостью, они
зовут меня Персик -- Но я псих и никому лично не симпатичен, я не Всеобщий
Любимец Бейб Рут -- Рафаэль центральный нападающий , это светловолосый ДиМэг
который разыгрывает безошибочные мячи без всякого видимого напряжения, такой
вот он, Рафаэль, -- правый нападающий это серьезный Лу Гериг, Ирвин,
отбивающий длинные затяжные удары левой рукой в окошки Гарлем Ривер Бронкса
-- Позднее мы позируем вместе с Беном Фэганом, величайшим ловцом мячей,
коротконогим старым Микки Кокрейном, вот какой он, он как Хенк Гоуди, он с
легкостью вырывается вперед и уделывает всех этих голенастых защитников, а
между атаками становится незаметным --
Мне хочется съездить в его домик в Беркли, там у него есть маленький
дворик и дерево под которым я спал Осенними звездными ночами, и на меня
спящего падали листья -- В этом домике мы с Беном долго пытались завалить
друг друга в соревновании по реслингу, что кончилось для меня занозой в руке
а для него болью в спине, мы были как два гигантских пыхтящих носорога,
борясь забавы ради, как я делал это раньше в Нью-Йорке на мансарде с Бобом
Кримом после чего мы разыгрывали за столом целые представления из
Французских Фильмов, с беретами и диалогами -- Бен Фэган с красным серьезным
лицом, синими глазами и большими очками, который был Смотрителем на старой
доброй Старательской за год до меня и тоже знал горы -- "Пробудитесь!"
кричит он (он буддист) -- не наступите на трубкозуба!" Трубкозуб это такой
вид муравьеда -- "Будда сказал: - не стоит ходить спиной вперед." Я говорю
Бену Фэгану: "Зачем солнце сияет сквозь листья?" -- "Это твоя вина" -- Я
говорю: "В чем смысл того что ты медитировал-медитировал, а твоя крыша
улетела?" -- "Это значит лошадь рыгнула в Китае и корова замычала в Японии."
- Он сидит и медитирует в широких порванных штанах -- однажды у меня было
такое вот видение его: он сидит в пустоте вот так вот, но наклонившись
вперед и с широкой улыбкой -- Он пишет длинные стихи о том как превратится в
32-футового Гиганта сделанного из чистого золота -- Он очень странный -- Он
как столп силы -- Мир станет лучше из-за таких как он -- Мир должен стать
лучше -- И он постарается --
И я стараюсь тоже и поэтому говорю "Слушай Коди, завязывай, тебе должен
понравиться Рафаэль" -- и для этого я хочу привести Рафаэля в гости домой к
Коди на выходные. Я накуплю всем пива, хотя и выпью почти все сам -- Тогда я
куплю еще -- Пока не вырублюсь -- Все это заранее предсказуемо -- Мы, Мы? --
Я не знаю что делать -- Но все мы это одно -- Теперь я понимаю, все мы одно,
и все будет в порядке если мы оставим друг друга в покое -- Хватит
ненавидеть -- Хватит подозревать -- Так в чем же дело, бедняга смертный?
Разве сам ты не умрешь когда-нибудь?
Тогда зачем же убивать своего друга или врага?
Все мы друг другу друзья или враги, ну хорошо, а теперь хватит, хватит
войн, пробудитесь, это всего лишь сон, оглянитесь вокруг, вы спите, когда вы
думаете что нас ранит золотая земля, то вы ошибаетесь, золотая земля не
ранит нас, это лишь золотая бесконечность блаженной беспечности --
Благословите маленькую мушку -- Не убивайте больше -- Не работайте на бойнях
-- Мы можем выращивать зелень или выдумать синтетические фабрики работающие
на атомной энергии, из которых будут сыпаться хлебные булки и вкуснейшие
химические отбивные и масло в банках -- почему бы нет? -- наша одежда будет
вечной, превосходный пластик[109] - у нас будет прекрасная медицина и
лекарства что пронесут нас сквозь все без смерти -- чтобы потом мы принимали
смерть как награду.
Готов ли кто-то встать в знак согласия со мной? Так, хорошо, ну а
теперь чтобы поддержать меня, вам остается лишь благословить все сущее и
сесть на место опять.
Так что мы выходим и пьем и идем в Подвал где сегодня сейшн Брю Мура,
он дует в тенор-саксофон держа его в уголке рта, надувая щеки круглым мячом
как Гарри Джеймс или Диззи Гиллеспи, и какую б мелодию они не начинали он
подхватывает ее с безупречной прекрасной гармонией -- Ни на кого не обращая
внимания он пьет свое пиво, напивается и глаза его тяжелеют, но он никогда
не пропустит ни удара, ни ноты, потому что музыка это его сердце, и в музыке
он находит свой чистяк, свое послание этому миру -- Только вот одна беда,
никто это послания не понимает.
Например: я сижу здесь на краю сцены прямо у его ног, лицом к бару,
опустив голову к своему пиву, от застенчивости ясное дело, и я вижу что они
ничего не слышат -- Эти блондинки и брюнетки они пришли сюда со своими
мужчинами и строят глазки чужим и в воздухе попахивает дракой -- Битвы
развернутся здесь перед женскими глазами -- и гармония погибнет -- Брю дует
прямо в них, "Рождение блюза", потом джазовый рефрен, и когда приходит его
очередь вступать он выступает с отличной прекрасной новой идеей, она говорит
о прекрасном будущем этого мира, пианино подтверждает это понимающим
аккордом (светловолосый Билл), святой ударник воздев глаза к Небесам задает
ритм, ангельский ритм связующий работу всех воедино -- И конечно контрабас,
он вибрирует под пальцами, два пальца щипают струны и еще один скользит по
струнам ловя точный звук подходящего аккорда -- Конечно все музыканты
слушают, толпы цветных парней, чьи темные лица сияют в тусклой полутьме, чьи
белые глаза круглы и искренни, они держат в руках выпивку купленную просто
за право находиться здесь и слышать -- Когда люди вслушиваются в истину
живущую в гармонии это порождает в них что-то по-настоящему доброе -- И все
же Брю вынужден работать со своими идеями вместе с вокалистами и это ему
нелегко, его музыка становится чуть более усталой, он вовремя
останавливается -- к тому же ему уже охота играть новую тему -- И я делаю
так, постукиваю слегка по кончику его ботинка чтобы дать ему знать что он
прав -- Между отделениями он присаживается к нам с Гией и особо ничего не
говорит, он пытается сделать вид что вообще не способен говорить -- Он
скажет все своей трубой --
Но Небесный червь времени поедает жизнь даже Брю, как и мою, как и
вашу, ведь и так нелегко жить в мире где ты старишься и умираешь, так зачем
же вдобавок жить не слыша гармонии?
Давайте будем как Дэвид Д`Анжели, будем молиться в одиночестве на
коленях -- Давайте скажем "О Выдумавший все это, смилостивись" -- Давайте
молить его, или это, чтобы эти выдумки были милостивыми к нам -- Чтобы мир
был спасен надо лишь чтобы он, Бог, выдумывал милостиво -- А каждый из нас и
есть Бог -- Кто же еще? Кто же еще когда мы молимся стоя в одиночестве на
коленях?
Мир души моей в этом.
А еще после сейшна мы пошли к Мэлу (Мэлу Назывателю, Мэлу Даммлетту) и
вот он Мэл, в своей аккуратненькой тряпичной шапочке, аккуратной спортивной
рубашке и жилетке в клеточку -- но бедняжка Бэйби, его жена, она сидит на
бензе[110], и когда он выходит с нами за выпивкой она становится страшно
подозрительной -- Год назад я уже говорил Мэлу слыша как они спорят и
ругаются с Бэйби, "Да поцелуй же ее в живот, просто люби ее, не спорь" -- И
это помогло на целый год -- Мэл работает весь день развозя телеграммы для
Вестерн Юнион, бродя по улицам Сан-Франциско с тихим взглядом умиротворенных
глаз -- Теперь он за компанию идет вместе со мной до того места где я
припрятал бутылку в выброшенной коробке из китайской лавки, и мы немного
прикладываемся к ней как в старые времена -- Он завязал с выпивкой, но я
говорю ему "Эти несколько глотков тебе не повредят" - О Мэл был серьезным
любителем выпить! - Мы валялись на полу включив радио на полную катушку пока
Бэйби была на работе, мы валялись там с Робом Доннели в холодные туманные
дни и просыпались только чтобы добыть еще бутыль вина -- четвертушку
токайского -- чтобы выпить ее под новый взрыв разговоров, и потом засыпали
опять на полу все трое -- Самый паршивый запой который у меня когда-либо был
-- через три дня такой жизни чувствуешь что тебе крышка -- И в этом не было
никакого смысла --
Господи будь добрым, Господи будь милосердным, как бы тебя ни звали,
будь милосердным -- благословляй и присматривай.
Присматривай за своими выдумками, Боже!
Так оно все закончилось и на этот раз, мы напились, нас
сфотографировали, мы заснули у Саймона и утром в журнале оказались Ирвин с
Рафаэлем и я, все вместе, отныне навсегда неразрывно связанные в наших
литературных судьбах -- Должно быть непростая штука все это фотографирование
--
Я стою в ванной на голове чтобы не болели ноги из-за всего этого
пьянства-курева, и Рафаэль открывает двери в ванную и вопит "Смотрите! Он
стоит на голове!" и все бегут подивиться, включая Лазаруса, и я говорю "О
черт."
Поэтому позднее этим же днем Ирвин говорит Пенни "О иди и постой на
голове на углу на улице!" когда она спрашивает его "О что же мне делать в
этом безумном городе и с такими безумными типами" -- Заслуженный ответ, но
все же не стоит детям воевать. Потому что мир в огне -- и глаз в огне, и то
что он видит в огне, и само зрение этого глаза в огне -- и это значит только
то что все кончится чистой энергией, и даже более того. Все кончится
блаженством.
Обещаю.
Я знаю это потому что это знаете вы.
Вверх к Эрману, вверх по этой странной горе уходим мы, и Рафаэль играет
свою вторую сонату Ирвину который до конца не врубается -- Но Ирвин
приходится понимать столько всяких вещей о человеческом сердце, о том что
это сердце говорит, что у него не хватает времени понимать гармонию -- Он
понимает мелодию, драматические Реквиемы которыми он дирижировал передо мной
как бородатый Леонард Бернстайн, до самых их грандиозных взмывающих руки к
небесам апофеозов -- И я говорю ему, "Ты был бы хорошим дирижером, Ирвин!" -
Но когда мы слушали Бетховена до самого рассвета пока крест не забелел над
крышами городка, его костистая печальная голова начала понимать гармонию,
священный покой гармонии, и симфонией Бетховена не нужно было дирижировать
-- Или дирижировать пальцами играющими его сонаты --
Но ведь все это разные формы одного и того же.
Я знаю что нехорошо прерывать рассказ такой болтовней -- но я должен
сбросить это со своих плеч или мне вообще конец -- я просто загнусь --
И хотя "просто загнуться" не значит просто загнуться, а есть лишь часть
золотой бесконечности, все же приятного в этом мало.
Бедняга Эрман, он валяется совсем никакой из-за температуры, я выхожу и
звоню его доктору который говорит, "Не могу ничем помочь -- скажите ему
чтобы пил побольше и отдыхал".
И Рафаэль кричит "Эрман ты должен показать мне как играть на пианино,
показать мне музыку!"
"Как только мне станет получше"
Это печальный день -- и на залитой немилосердным солнцем улице
бритоголовый художник Левескье отмачивает этот свой безумный танец который
пугает меня, он похож на пляшущего черта -- Как только эти художники
способны такое выносить? Кажется, он кричит что-то насмешливое -- И мы
втроем, Ирвин, Раф и я, идем вниз по сиротливой дорожке -- "Пахнет дохлой
кошкой", говорит Ирвин. "Пахнет прекрасным дохлым япошкой", говорит Рафаэль,
опять натянув рукава на руки и вышагивая вниз по крутой дорожке -- "Пахнет
дохлой розой", говорю я -- "Пахнет прекрасной сытной кормежкой", говорит
Ирвин -- "Пахнет Силой", говорит Рафаэль -- "Пахнет грустью", говорю я и
добавляю -- "Пахнет безразличными розовыми лососями" - "Пахнет сиротливой
сладогоречью", говорит Ирвин --
Бедный Ирвин -- я смотрю на него -- Мы знакомы уже пятнадцать лет и
смотрели встревоженно в глаза друг другу среди пустоты, теперь все подходит
к концу -- наступает тьма -- и нам понадобится все наше мужество -- мы
повернем все то так то эдак в радостной солнечности наших мыслей. Через
неделю все позабудется. Зачем умирать?
Мы грустно подходим к дому с билетом в оперу данным нам Эрманом который
не может пойти, и говорим Лазарусу чтобы он приоделся к своему первому в
жизни вечеру в опере -- Мы завязываем ему галстук, выбираем рубашку --
Причесываем волосы -- "А чего делать надо?" спрашивает он --
"Просто врубайся в людей и в музыку -- будут давать Верди, давай я
расскажу тебе все о Верди!" кричит Рафаэль, и объясняет заканчивая долгими
рассказами из истории Римской Империи -- "Ты должен знать историю! Ты должен
читать книги! Я скажу какие книги тебе надо прочесть!"
Саймон уже тут, окей, мы берем такси в оперу и высаживаем там Лазаруса
и идем повидаться с МакЛиром в баре -- поэт Патрик МакЛир, наш "враг",
согласился встретиться с нами в баре - Мы оставляем Лазаруса среди голубей и
людей, внутри сверкают огни, оперная публика, именные шкафчики раздевалок,
коробки, занавеси, маски, будет опера Верди -- Лазарус увидит все это сквозь
громыхание грома -- Бедный парень боится идти в одиночку -- Он беспокоится о
том что люди скажут про него -- "Может ты встретишь там каких-нибудь
девушек!", уговаривает его Саймон и подталкивает ко входу. "Давай же, сейчас
твой шанс порадоваться жизни. Целуй их, щипай и мечтай об их любви"
"Окей", соглашается Лазарус и мы видим как он скачет к опере в своем
собранном с-миру-по-нитке костюме, галстук развевается на ветру -- целая
новая жизнь для "симпатичного юноши" (так назвал его школьный учитель), вот
так вот вприпрыжку в эти оперы смерти -- оперы надежды -- ждать -- наблюдать
-- Целые жизни проведенные в мечтах об ушедшей луне.
Мы двигаемся дальше -- таксист, вежливый негр, слушает с искренним
интересом как Рафаэль объясняет ему все о поэзии -- "Ты должен читать
поэзию! Ты должен врубаться в красоту и истину! Что ты знаешь о красоте и
истине? Китс это сказал, что красота есть истина и истина есть красота, ты
красивый парень и должен знать такие вещи"
"А где же мне взять эти книжки -- в библиотеке, наверное..."
"Точно! Или иди в магазины на Норт Бич, накупи там маленьких брошюрок
стихов и почитай что измученные и голодные говорят про измученных и
голодных".
"Это измученный и голодный мир", говорит он понимающе. Я в темных
очках, мой рюкзак уже собран потому что в понедельник я залезу на товарняк и
поеду, и я слушаю внимательно. Как хорошо. Мы пролетаем сквозь печальные
улицы, разговаривая откровенно как граждане Афин, Сократ Рафаэль предлагает,
Альцибиад таксист покупает. Ирвин наблюдающий Зевс. Саймон Ахиллес
набивающий цену. Я Приам оплакивающий свой сожженный город и растерзанного
сына и выброшенный на обочину истории. И я никакой не Тимон Афинский, а Крез
рыдающий над истиной горящего катафалка.
"Окей", соглашается таксист, "Буду читать поэзию", и желает нам
приятным голосом доброй ночи, отсчитывает сдачу и мы бежим в бар, к темным
столикам в глубине похожим на задние комнатки в кабачках Дублина, и тут
Рафаэль удивляет меня тем что нападает на МакЛира:
"МакЛир! Ты ничего не знаешь об истине и красоте! Ты пишешь стихи но ты
не настоящий! Ты живешь жестокой бессердечной жизнью буржуазного
предпринимателя!"
"Что?"
"Это очень плохо, это все равно как убить Октавиана сломанной скамьей!
Ты подлый сенатор!"
"Зачем ты говоришь все это - "
"Потому что ты меня ненавидишь и думаешь что я дерьмо!"
"Ты чертов нью-йоркский итальяшка, Рафаэль", кричу я и улыбаюсь чтобы
дать понять всем "Ну теперь-то мы знаем что Рафаэль просто дурит, так
давайте не будем спорить".
Но стриженого ежиком МакЛира невозможно ни обидеть ни переспорить и он
отвечает нападением, "Потому что никто из вас ничего не знает о языке --
кроме Джека"
Окей, ну раз я знаю кое-что о языке тогда пожалуйста не пользуйтесь им
для руготни.
Рафаэль разразился обличительной демосфеновской речью с помахиванием в
воздухе кончиками пальцев, но улыбка все чаще и чаще появляется у него на
лице -- и МакЛир тоже улыбается -- они оба понимают что все это просто
недоразумение возникшее из-за тайных тревог поэтов в штанах, этим-то они и
отличаются от поэтов в тогах, вроде Гомера который мог декламировать глядя
незрячими глазами и никто из слушателей не пытался его перебивать,
редактировать или записывать. Гопники стоящие у входа в бар заинтересовались
нашим гвалтом и чудным разговором про какую-то "поезию", и мы чуть было не
ввязываемся в драку на выходе, но я говорю себе "Если мне придется ударить
кого-то крестом защищая этот крест, да я это сделаю, но О лучше бы мне уйти
отсюда и гори оно все огнем", так оно и произошло, слава Богу нам удалось
спокойно выйти на улицу --
Но потом Саймон огорчает меня тем что мочится прямо на улице на виду у
целой толпы народу, до тех пор пока какой-то человек не подходит и не
спрашивает "Зачем ты это делаешь?"
"Потому что писать хочется", говорит Саймон -- и я иду вперед быстрым
шагом со своим рюкзаком за плечами, они идут вслед смеясь -- Заходим в
кафетерий чтобы выпить кофе, но Рафаэль зачем-то разражается длинной громкой
речью обращенной ко всем присутствующим, и естественно они не хотят нас
обслуживать -- Он говорит опять о поэзии и истине но они-то думают что все
это безумная анархия (судя по нашему виду) -- Я с крестом, и мой рюкзак --
Ирвин с бородой -- Саймон со своим шизовым прикидом -- Что бы ни делал
Рафаэль, Саймон смотрит на него с восторгом -- Он ничего больше не замечает,
не видя испуганных людей, "Они должны научиться красоте", говорит Саймон сам
себе решительно.
И в автобусе Рафаэль опять обращается ко всем пассажирам, Эй! Эй!
теперь это большая речь о политике "Голосуйте за Стивенсона!" кричит он
(непонятно почему), "голосуйте за красоту! Голосуйте за истину! Поднимайтесь
на защиту своих прав!"
Когда нам пора выходить автобус останавливается, и мои пустые бутылки
которые мы опустошили в нем начинают громко перекатываться по полу,
водитель-негр читает нам нотацию перед тем как открыть дверь: - "И никогда
больше не пейте пиво в моем автобусе... У нас обычных людей есть свои
проблемы в этом мире, и такие как вы их умножают", говорит он Рафаэлю, и это
не совсем так разве что именно сейчас да, но ведь никто же из пассажиров не
жалуется, это просто такое представление в автобусе --
"Это автобус мертвецов направляющийся к смерти!" говорит Рафаэль на
улице. "И шофер этот знает об этом и ничего не хочет менять!"
Мы спешим чтобы встретиться с Коди на станции -- Бедняга Коди, он
случайно зашел в пристанционный буфет позвонить, с головы до ног одетый в
железнодорожную форму, и тут его обступила со всех сторон и начала тормошить
и гигикать толпа безумных поэтов -- Коди смотрит на меня будто пытаясь
сказать: "А ты не можешь их успокоить?"
"Что я могу?" говорю я. "Разве что призвать к доброте".
"Черт бы драл доброту!" кричит мир. "Нам нужен порядок!" А когда придет
порядок, придут и приказы устанавливающие этот порядок -- И я говорю, "Пусть
в мире царит всепрощение -- попытайтесь -- простить -- забыть -- Да,
молитесь на коленях о силе прощать и забывать -- тогда все станет Небесами
белоснежными".
Коди явно не хочется брать в поезд Рафаэля и всю эту толпу -- Он
говорит мне "Ты хоть причешись, тогда я скажу проводнику кто ты такой" (что
я работал на железной дороге) -- Так что я причесываюсь для Коди. И чтобы
был порядок. Тоже. Я просто хочу протечь сквозь Господи к тебе -- И лучше
мне быть в руках твоих чем в руках Клеопатры... до той ночи когда это будут
одни и те же руки.
Короче, мы прощаемся с Саймоном и Ирвином, и поезд трогается на юг, в
темноту -- Это первый шаг моего трехтысячемильного пути в Мексику, и я
покидаю Сан-Франциско.
Рафаэль по кодиной подначке всю дорогу болтает о правде и истине с
блондинкой, которая выходит в Мильбре и не оставляет адреса, потом он спит
на своем сиденье а мы чухаем по рельсам дальше в темную ночь.
И вот приходит старый железнодорожный волк Коди светящий в темноте
лампой -- У него такой особый маленький фонарик, у нас тут у каждого
проводехи, стрелочника, ремонтника, у всех по такой штуковине есть (такой
вот базар, чувак) -- вместо полагающегося здоровенного фонаря -- Он влезает
в кармашек синей формы но сейчас света маловато, и я спрыгиваю на землю
посмотреть что к чему пока Рафаэль спит сном младенца на пассажирском
сиденье (дым, депо, все как в старых снах когда ты с папой въезжаешь на
поезде в большой город населенный львами) -- Коди рысцой подбегает к
двигателю, отворачивает его воздушные шланги и дает отмашку "Давай!", и они
медленно двигаются к стрелке чтобы подцепить вагон с цветами для завтрашнего
утра, воскресного утра -- Коди спрыгивает и перекидывает стрелку, в его
движениях во время работы видна яростная и преданная серьезность, он хочет
чтобы его напарник всегда и во всем ему доверял, и это потому что он верит в
Бога (и Господь благословляет его -) -- инженер с пожарником смотрят как
скачет в темноте свет его фонарика когда он спрыгивает с передней подножки и
освещает стрелку, все это на маленьких камешках которые выворачиваются из
под ног при прыжке, он отмыкает и перебрасывает стрелку с основной ветки
вбок и они заезжают в ангар по ( - ) пути -- у этого пути есть особое имя --
которое кажется вполне нормальным любому железнодорожнику и ничего не значит
для всех остальных -- но это их работа -- и Коди настоящий Король Тормозных
Кондукторов этой железной дороги -- уж поверьте мне, не раз мотавшемуся в
подвагонном ящике[111] по Сант-Луисской дороге, я знаю, - и озабоченно
посматривающие на часы железнодорожники тоже знают это, Коди не станет
терять времени зря, он отправит цветочный вагон по главной ветке и
Бодхисаттва прибудет к Папе весь в цветах -- и детишки его заворочаются и
вздохнут в своих колыбельках -- Потому что Коди родом из мест где детям не
запрещают кричать[112] -- "Протекая сквозь!"[113] говорит он, помахивая
своей большой ладонью "Расступитесь, дубы и сосны!"[114] -- Он бежит назад к
своей подножке, и мы трогаемся к месту сцепки -- Я наблюдаю, стоя в холодной
ночи наполненной слабым фруктовым ароматом -- и звезды разрывают сердце
твое, зачем они там, наверху? -- И холм с туманными огнями боковых улочек
высится надо мной --
Мы сцепляемся, Коди вытирает и сушит руки в вагонном туалете и говорит
мне "Мальчик мой знаешь я еду в Иннисфри[115]! Да да братишка с этими
лошадьми я точно опять научусь улыбаться. Слушай, буду лыбиться все время, я
буду таким богачом -- Ты мне не веришь? Знаешь что завтра будет?"
"Ага знаю но это неважно".
"Что неважно, день-ги?" кричит он на меня, он сердится на своего брата
которому наплевать на Иннисфри --
"Отлично, ты будешь миллионером. А мне на фиг не надо яхты с
блондиночками и шампанским, все что мне нужно -- это хижина в лесу. Хижина
на Пике Одиночества".
"А еще не забудь про то", похлопывая меня по плечу и подпрыгивая "что
мы сможем сыграть по моей системе на денежки которые я вышлю тебе по Вестерн
Юнион как только мы будем в состоянии расширить наш бизнес на всю страну --
Ты займешься нью-йоркскими ипподромами, я продолжу здесь, а Старого Соню
Рафаэля мы зашлем на какие-нибудь Острова Тропического Парка -- он может
заняться Флоридой -- Ирвину Нью-Орлеан - "
"И Марлону Брандо Санта-Аниту[116]", говорю я --
"Ага и Марлу тоже и вообще всей тусовке - "
"Саймону Сетабустопольский Парк в Сардинской России"
"Русский Сирдупапов[117] миляге Лазарусу ага парень дело в шляпе
заметано точно-точно, будешь пожары сторожить хе-хе, хряп", треснув себя
кулаком в ладонь, "слушай костюмчик вот у меня сзади запачкался, вот те
щетка, счисть эту пылищу у меня со спины будь добр?"
И я горделиво как проводник старого нью-орлеанского поезда из старого
кино, счищаю пыль у него со спины щеткой --
"Отлично мальчик мой", говорит Коди, аккуратно кладя Ипподромный
Бюллетень в карман формы, и мы въезжаем в Саннивэйл -- "вот тебе и старый
Саннивэйл" говорит Коди выглядывая в окно когда мы с лязгом въезжаем на
станцию, и он выходит крича "Саннивейл" пассажирам, два раза, некоторые из
них позевывая встают -- Саннивейл где мы с Коди когда-то вместе работали, и
проводник сказал еще Коди что он слишком много болтает хотя он просто
объяснял мне как не попасть под подножку локомотива -- (Если дернешься не в
ту сторону лучше падай на землю и пропускай ее над собой, иногда в темноте
тебя не видно совсем) (Стоишь ты там на рельсах в темноте и ни черта не
видишь, тут-то эта низкая платформа и подкрадется к тебе как змея) -- Так
что Коди Кондуктор Небесного Поезда, он пробьет нам билетики потому что мы
были добрыми овечками верящими в розы, лампочки и лунные глаза --
Вода с Луны
Скоро выльется вся
Но он зол на меня за то что на эти выходные я потащил к нему домой
Рафаэля, и хотя ему-то лично все равно, он думает что Эвелин Рафаэль не
понравится, или может быть ей не понравится что кто-то приехал вообще -- Мы
слезаем с поезда в Сан-Хосе, будим Рафаэля, залезаем в новый семейный кодин
автомобиль Рэмблер Стэйшн Вагон и отправляемся, Коди опять впадает в
безумство, он мотает машину чумовыми зигзагами не издавая ни звука
тормозами, однажды он научился этому трюку -- "Отлично", будто хочет он
сказать, "мы едем домой и ложимся спать. И", добавляет он вслух, "вы ребята
завтра развлекаетесь следующим образом; смотрите целый день ящик, футбольный
матч Транспортники против Львов, а я вернусь домой около шести и отвезу вас
в понедельник домой на первом поезде -- на том самом на котором работаю, так
что насчет билетов не беспокойтесь -- Теперь расслабьтесь, вот мы и дома",
поворачивая на маленькую проселочную дорогу, потом еще на одну, потом в
переулок и в гараж -- "Вот вам мой отпадный особняк[118], а теперь
быстренько спать".
"А где я буду спать?" спрашивает Рафаэль.
"Ложись на софе в гостиной", говорю я. "А я лягу в своем спальнике на
травке. У меня там во дворе есть любимое местечко".
Ладно, мы выходим и я иду на задворки большого двора и расстеливаю
среди кустов свой спальник, вынутый из рюкзака, на росистой траве, и звезды
холодны -- Но звездный воздух будоражит меня, я заползаю в спальник и это
для меня как молитва -- Сон это молитва сам по себе, но когда спишь под
звездами, когда просыпаешься в три часа и видишь большой и прекрасный
Млечный Путь у себя над головой, облачно-молочный, со ста тысячами мириадов
вселенных, и больше даже, невероятная молочная бесчисленность, никакой
супер-мега-компьютер своим скудным умишком не способен вычислить как огромна
эта наша награда, там в небесах --
И как же блаженен сон под звездными небом, хоть земля и бугриста, ты
пристраиваешься к изгибам ее, ты ощущаешь сырость земную но она тебя
убаюкивает, в каждом из нас живет Индеец Палеолита -- Кроманьонец или
Гримальдиец, спавший на земле, так естественно, нередко под открытым небом,
который часто смотрел на звездное небо, лежа на спине, и пытался вычислить
их магическое количество, их вуду-ууудудуду, таинственность их туманного
сверкания -- И без сомнения он спрашивал себя "Зачем?" "Почему, скажи?" --
Одинокие губы человека Палеолита под звездами, кочевая ночь -- потрескивание
костра --
Аййе, звон его лука --
Порази меня Купидон[119], я просто сплю здесь, закутавшись -- И когда я
просыпаюсь, уже рассвет, и серость, и холод, и я опять зарываюсь в сон -- В
доме Рафаэль переживает свой сон, и Коди свой, и Эвелин, и у детей свои сны,
и даже у собачонки -- Впрочем, все равно все закончится нежным раем...
Я просыпаюсь от звука нежных голосков двух маленьких девочек и
мальчика, "Вставай Джек, завтрак уже готов!" Они как-то по особенному
выпевают это "завтрак готов", их послали сказать это мне, но потом они
минутку-другую шарятся вокруг по кустам просто так, и убегают, а я встаю,
оставляю свой спальник в соломенной Осенней траве и иду в дом умываться --
Рафаэль уже встал и сидит задумчиво на стуле -- блондинка Эвелин как обычно
по утрам сияет. Мы улыбаемся друг другу и разговариваем -- Она скажет мне:
"Чего ж ты не лег спать на диванчике на кухне?" и я скажу "О мне очень
нравится спать у вас во дворе, там мне снятся отличные сны" -- "Хорошо что
еще кому-то сегодня снятся хорошие сны". Она подносит мне чашечку кофе.
"Ты о чем это задумался, Рафаэль?"
"Думаю о твоих хороших снах", говорит он рассеянно грызя себе ноготь.
Коди носится как угорелый по спальне, переключает телевизионные
программы, закуривает сигареты и в перерывах между передачами бегает в
ванную, занимается своим утренним туалетом -- "Ух, глянь какая милашка!",
скажет он глядя на женщину рекламирующую мыло, и Эвелин на кухне это услышит
и тоже что-нибудь скажет. "По всему видать она настоящая ведьма".
"Ведьма или нет", скажет Коди. "Но я б особо не огорчился залезь мне
такая в постель" -- "Фу", скажет она и все пойдет своим чередом.
И целый день никто не любит бедного Рафаэля, проголодавшись он
спрашивает у меня еды, я спрашиваю нет ли каких-нибудь бутербродов у Эвелин,
а потом делаю их сам -- И отправляюсь с детьми в волшебный поход через
маленькое Кошачье Королевство -- среди сливовых деревьев которые я обрываю
подчистую мы идем по дорогам и полям к волшебному дереву, под которым
какой-то мальчик построил маленький волшебный шалаш --
"Ну, скажем, а чем он здесь занимается?"
"О", говорит Эмили, 9 лет, "он просто сидит и поет".
"А что он поет?"
"Все что захочет"
"И", говорит 7 летняя Габи, "он очень хороший мальчик. Тебе надо его
повидать. Он очень смешной".
"Ага, тии хии, очень смешной", говорит Эмили.
"Он очень смешной", говорит Тимми, 5 лет, он такой маленький и держится
за мою руку где-то там внизу у самой земли, так далеко что я забываю про
него -- Внезапно я оказываюсь бродящим по заброшенным землям с маленькими
ангелами --
"Мы пойдем по тайной тропе"
"По короткой тропе"
"Расскажи нам про нее"
"Не-а"
"А куда ведет эта тропа?"
"Она ведет к Королям", говорю я.
"Королям? Хм"
"Через двери-ловушки и убубуны", говорю я.
"О Эмили", объявляет Габи, "правда Джек смешной?"
"Действительно, он смешной", слегка кивает Эмили, невероятно серьезная.
Тимми говорит "А я умею руками играться!" и показывает нам волшебных
теневых птиц --
"Эта птица поет на дереве", подсказываю я ему.
"О я ее слышу", говорит Эмили -- "Я хочу идти дальше"
"Ладно, только не потеряйся"
"Я великан на дереве", говорит Тимми забираясь на дерево.
"Держись крепче", говорю я.
Я сажусь чтобы помедитировать и расслабиться -- Здесь хорошо -- солнце
припекает сквозь ветки --
"Я очень высоко[120]", говорит Тимми, сверху.
"Это уж точно"
Мы идем назад, по дороге к нам подбегает собака и трется о ногу Эмили и
та говорит "О, она прямо как человек"
"Она и есть как человек", говорю я ("в некотором смысле")
Мы идем вместе домой, лопая сливы, радостные и довольные.
"Эвелин", говорю я, "как это здорово иметь троих детей, я даже не могу
сказать кто мне больше нравится, они все одинаково милые".
Коди с Рафаэлем громко футбольно болеют в соседней комнате смотря матч
по телевизору -- мы с Эвелин сидим в гостиной и ведем одну из наших длинных
тихих бесед о вере -- "Все это просто разные слова и фразы чтобы сказать об
одном и том же", говорит Эвелин вертя в руках сутры и писания -- Мы всегда
говорим про Бога. Она отдала себя во власть кодиного безумия, потому что
думает что так нужно -- Когда проказливые дети закидали яйцами ее окно, он
возрадовалась возможности благодарить Бога: "Я благодарила Его за
возможность прощать". Она очень красивая маленькая женщина и идеальная мать
-- Ее совершенно не волнуют какие-то там отвлеченные вещи -- И она
действительно достигла состояния холодной пустотной истинности о котором все
мы столько болтаем, а в обыденной жизни от нее исходят волны тепла -- чего
же еще можно желать? На стене висит позолоченная металлическая пластинка со
странным Христом которого она нарисовала в 14 лет, изобразив струйку крови
вытекающую из Его пронзенного бока, очень по средневековому, и на каминной
полке два неплохих портрета ее дочерей, написанных просто -- В полдень она
выходит в купальном костюме, она блондинка и выглядит так как и положено
выглядеть счастливчикам живущим в Калифорнии и загорающим на солнце, и я
демонстрирую ей и детям прыжки ласточкой и солдатиком в воду -- Рафаэль
смотрит футбол и не хочет купаться -- Коди уходит на работу -- Возвращается
-- Тихий воскресный денек в деревне -- Откуда же это радостное возбуждение?
"Тише, тише, детишки", говорит Коди вылезая из своей железнодорожной
формы и надевая халат. "Ужин, Ма"... "Разве нет у нас тут чем-нибудь
подкрепиться?"
"Во-во", говорит Рафаэль.
И Эвелин заходит с прекрасным вкуснейшим ужином, который мы едим при
свечах, после того как Коди с детьми читают короткую Божью Молитву о еде:
"Хлеб свой насущный даждь нам днесь" - И не только они, мы все должны
прочесть ее вместе потому что Эвелин смотрит, я закрываю глаза, а Рафаэль
приходит в изумление --
"Это же безумие, Померэй", в конце концов говорит он -- "И ты
действительно, честно веришь во всю эту штуковину? -- Ну ладно, если тебе
охота так - " И тут Коди включает программу Оклахомские Исцеляющие Знахари
по телевизору и Рафаэль говорит "Это же дерь-мо собачье!"
Коди с ним не соглашается -- потом Коди немного молится вместе со всей
телевизионной публикой когда целитель просит сосредоточиться на молитве, и
Рафаэль негодует -- Позже этим же вечером мы видим женщину которая участвует
в викторине "Вопрос на 64,000$!!!" и говорит что работает мясником в
Бронксе, и мы видим ее простое серьезное лицо, может она чуть манерничает,
может нет, и Эвелин с Коди соглашаются и берутся за руки (сидя на своем
конце кровати на подушках, Рафаэль восседает как Будда у их ног, а потом я у
дверей с пивом в руке). "Разве ты не видишь, это простая искренняя
женщина-Христианка", говорит Эвелин, "сразу видно она из людей старой
закалки, честных добронравных Христиан" - и Коди соглашается "Ага
точно-точно, дорогая" и Рафаэль орет: "ДА ЧЕГО ВЫ ЕЕ СЛУШАЕТЕ, ОНА УБИВАЕТ
СВИНЕЙ!" И Коди с Эвелин от неожиданности меняются в лице, оба смотрят на
Рафаэля широко-открытыми глазами, и не только потому что он сказал это так
неожиданно, но и по самой сути сказанного, они не могут не согласиться что
это правда, она убивает свиней, но ведь так оно и должно быть, она должна
убивать свиней --
Теперь Рафаэль начинает подкалывать Коди и чувствует себя гораздо лучше
-- Вечерок становится даже забавным, мы пьянеем от движущихся картинок перед
глазами. Розмари Клуни поет так очаровательно, потом Фильмы Золотого Фонда
которые посмотреть нам так и не удается потому что Коди вскакивает и
переключает телевизор на застывшую сценку - снимок спортивной игры, потом на
какой-то голос, вопрос, еще один скачок, ковбои стреляют из игрушечных ружей
среди невысоких пыльных холмов, затем ба-бах большое испуганное лицо в
разговорном шоу, или Вопросы Задаете Вы --
"Перестань, мы хотим посмотреть фильм!" в один голос кричат Эвелин и
Рафаэль --
"Но это же просто один и тот же фильм, Коди знает что делает, он знает
все -- Посмотри-ка, Рафаэль, сейчас увидишь".
Потом я выхожу в прихожую чтобы посмотреть что это там за шум
(Царственный Коди: "Сходи-ка посмотри что это там такое") и это большой
бородатый Константинопольский Патриарх в черной замшевой куртке и очках,
Ирвин Гарден вышедший из мрачных русских глубин -- И я испугался увидев его!
-- Я отступаю назад в комнату, наполовину из-за испуга а наполовину чтобы
сказать Коди "Здесь Ирвин" - За Ирвином стоят Саймон и Гия -- Саймон
раздевается и прыгает в залитый лунным светом бассейн, точно так как это
сделал бы водитель "Скорой Помощи" на вечеринке Потерянного поколения 1923
года[121] -- я отвожу их к стульям на помосте над лунноблистающим бассейном
чтобы мы не мешали Коди с Эвелин спать -- Гия стоит около меня, смеется, и
отходит засунув руки в карманы, она носит штаны -- на мгновение мне кажется
что это мальчик -- она сутулится и курит как мальчишка -- один из уличной
банды -- Саймон подталкивает ее ко мне: "Она любит тебя Джек, она любит
тебя"
Я надеваю темные очки Рафаэля и мы сидим в кабинке ресторана за десять
кварталов дальше по трассе -- Мы заказываем целую кастрюльку кофе,
силексового[122] стекла -- Саймон складывает тарелки, тосты и сигаретные
окурки в высоченную Вавилонскую башню -- Администрация ресторана начинает
нами интересоваться, и я прошу Саймона остановиться "Она уже и так высокая"
-- Ирвин напевает песенку:
"Тихая ночка
ночка святая" --
Улыбаясь Гие.
Рафаэль в задумчивости.
Мы возвращаемся назад домой где я буду спать у себя на траве, и они
прощаются со мной на дорожке у входа, Ирвин говорит "Давайте сядем во дворе
и устроим отвальную"
"Нет", говорю я. "Если вы хотите ехать, то езжайте"
Саймон целует меня в щеку по-братски -- Рафаэль дарит мне свои темные
очки, после того как я возвращаю ему крест который он опять пытается
подарить мне навсегда -- Мне грустно -- Я надеюсь что напоследок они не
увидят моего усталого лица -- наши глаза затуманены временем -- Ирвин
кивает, такой маленький простой дружеский и печальный, убеждающий и
ободряющий кивок, "Ну давай, увидимся в Мексике"
"Прощай Гия" -- и я иду к себе на дворик и сажусь покурить на скамейку
возле бассейна пока они уезжают -- я смотрю в бассейн как директор школы,
как режиссер фильма -- как Мадонна в сияние вод -- сюрреалистический бассейн
-- потом смотрю на кухонную дверь, темнота, и вижу как вырисовывается прямо
перед моими глазами видение группы темных людей носящих серебряные четки,
серебряные безделушки и кресты на темных грудных клетках -- оно мелькает
передо мной и быстро исчезает.
Ах как блестят в темноте эти сверкающие предметы!
На следующий вечер после того как я поцеловал на прощание мать и
детишек, Коди отвез меня в железнодорожное депо Сан-Хосе.
"Коди, прошлой ночью у меня было видение группы темных людей, вроде
Рафаэля, Дэвида Д`Анжели, Ирвина и меня, мы все стояли во мраке со
сверкающими серебряными распятиями и ожерельями на наших темных грудях! --
Коди, Христос придет опять".
"Ну точно", кивает он тихо, держась за рукоятку ручного тормоза, "Так я
ж тебе что говорю - "
Мы останавливаемся около депо и смотрим на задымленный локомотивами
пейзаж, на новые тарахтящие локомотивы и контору депо украшенную яркими
огнями, тут мы когда-то работали вместе -- Я сильно нервничаю и все пытаюсь
вылезти из машины чтобы не прозевать Призрак на выезде, но он говорит "Э
парень они еще только готовятся -- ждут пока двигатель разогреется -- ты сам
увидишь, этот здоровенный четырех моторный сукин сын домчит тебя до Лос
Анжелеса в пять минут, но Джек берегись, держись покрепче и помни то что я
всегда говорил тебе, мальчик мой, в этом одиноком мире мы с тобой долго были
корешами, я тебя люблю больше чем кого бы то ни было и не хочу терять тебя,
сынок - "
У меня с собой полпинтовая фляжка виски на дорогу, и я предлагаю ему
глоток "Что-то ты круто взялся за дело", говорит он, видя что теперь я пью
виски вместо вина и покачивает головой -- Когда он ставит машину за рядами
неуклюжих пассажирских машин, и смотрит как я натягиваю свою старую стопную
куртку с болтающимися рукавами, на одном из
 которых осталась горестная отметина там где когда-то
была нашивка POW[123] оставшаяся от ее корейской предыстории (я купил эту
куртку в Эль Пасо в одной из чудных индейских лавчонок торгующих всякой
всячиной) -- и он смотрит, похоже сравнивая меня в моем городском прикиде и
в экипировке для ночных поездок на товарняках -- Хотелось бы знать что он
думает обо мне -- Куча заботливых пояснений и указаний. Он хочет чтобы я
запрыгнул на поезд со стороны пожарного навеса, но мне неохота пересекать
шесть или семь путей чтобы попасть на главную колею (откуда его будут
перекидывать на нужный путь) -- "Я запутаюсь там в темноте -- лучше пойду на
инженерную сторону". У нас с ним старый спор о том как надо действовать на
железной дороге, он придерживается своей разработанной долгим опытом и
точной как лезвие бритвы оклахомской логике основанной на воображаемых
страхах, а я совершаю свои глупые беспечные промахи основанные на
канукских[124] представлениях о безопасности --
"Но тебя ж увидят на инженерной стороне, парень, под тем вон
здоровенным фонарем ты точняк засветишься!"
"А я спрячусь между вагонами"
"Нет -- пошли внутрь"
И как в те старые времена когда он промышлял угоном машин, Коди,
заслуженный работник компании, пробирается в пустой вагон, оглядывается по
сторонам как вор чтобы его никто не заметил, бледное лицо в полной темноте
-- мне же неохота затаскивать внутрь свой рюкзак и поэтому я стою между
вагонами и жду -- Он шепчет мне из темного окна:
"ПРЯЧЬСЯ ЧТОБ ТЕБЯ НЕ УВИДЕЛИ, ВСЕ ВРЕМЯ ПРЯЧЬСЯ!"
Внезапно через пути недалеко от нас между вагонами пролезает обходчик с
зеленой лампой, подавая ей сигнал, локомотив взрывается тарахтением БАУ БАУ
и вдруг большой круг желтого света светит прямо на меня и я дрожа пытаюсь
спрятаться в тень, Коди таки запугал меня -- вместо того чтобы выпить с ним
раньше глоток виски, я воздержался напомнив себе правило: "Никогда не пей на
работе", на полном серьезе имея под работой ввиду хватание за движущиеся
поручни и вскарабкивание с тяжеленным рюкзаком на неудобную платформу, если
бы я немного выпил то сейчас не трясся б мелкой дрожью -- Обходчик видит
меня, и опять испуганный шепот Коди:
"СПРЯЧЬСЯ ЧТОБ ОН ТЕБЯ НЕ УВИДЕЛ!"
и обходчик кричит:
"Что, попал в передрягу?" что можно понять как или "Напряг с деньгами,
поэтому на товарняк лезешь?" или "Полиции боишься и поэтому прячешься?", но
я не раздумывая кричу на одном дыхании "Ага -- нормально?" и обходчик сразу
же отвечает:
"Поря-адок"
Потом, когда большой поезд медленно заворачивает на главный путь сияя
еще ослепительней я продолжаю разговор крича "Прям тут и залезу", желая
показать обходчику что я всего лишь обычный хороший болтливый парень и не
собираюсь взламывать двери вагонов и портить обшивку -- Коди не издает ни
звука, притаившись в темном окне вагона, скорее всего лежа на полу --
Он говорит мне "Джек для надежности пережди двадцать вагонов, если
залезть слишком близко к локомотиву то задохнешься в маргитских туннелях
надышавшись выхлопных газов" но пока я жду эти двадцать вагонов мне
становится страшно, потому что ускорение растет, они громыхают все быстрее,
и уже на шестом или седьмом я выскакиваю из своего укрытия, пережидаю еще
парочку, сердце колотится, потом несколько раз для пробы примеряюсь к
проплывающим мимо стальным ночным ступенькам (о Господь отцов наших, как же
холодна видимость вещей!) и в конце концов начинаю бежать, рысцой, догоняю
передний поручень, хватаюсь за него и бегу вровень, испуганный, тяжело
дышащий, и вталкиваю себя на платформу одним изящным легким
совсем-не-страшным-пробуждающим-из-кошмара смехотворным усилием и вот я
здесь, стою на платформе и машу рукой назад невидимому Коди, машу долго
чтобы он точно мог увидеть что у меня все в порядке, и поэтому я машу опять
и опять, и еще это чтобы сказать до свидания старина Коди...
- И все наши страхи напрасны и подобны сну, так сказал Господь, -- и
когда-нибудь так же нестрашно мы умрем -
Всю ночь двигаясь на юг вдоль Побережья я пью свой виски и пою звездам,
вспоминая свои прошлые жизни когда я был узником в темницах, и вот теперь я
на свободе -- дальше, дальше, как пророчествовал я в своих песнях
Одиночества, через дымные туннели где красная бандана на носу защищает меня,
и дальше в Обиспо, где обалденные бродяги-негры невозмутимо покуривают
сигареты сидя в кабинах грузовиков стоящих на следующей после моей платформе
прямо на виду у всех! Бедняга Коди! И бедный я! В Эл-Эй[125] где, умывшись
утром водой капающей из вагона-рефрижератора и дотопав до города, я в конце
концов покупаю билет и становлюсь единственным пассажиром автобуса
отъезжающего в Аризону, и мой пустынный сон в дороге и моя приближающаяся
Мексика, вдруг с нами равняется другой автобус, я смотрю и вижу двадцать
молодых людей, сидящих вместе с вооруженными охранниками, по пути в тюрьму,
двое из них оборачиваются и видят меня, и единственное что я могу сделать
для них, это медленно поднять руку и медленно махнуть ей приветствуя, и
увидеть как они медленно улыбаются в ответ --
Пик Одиночества, чего ж еще тебе нужно?
которых осталась горестная отметина там где когда-то
была нашивка POW[123] оставшаяся от ее корейской предыстории (я купил эту
куртку в Эль Пасо в одной из чудных индейских лавчонок торгующих всякой
всячиной) -- и он смотрит, похоже сравнивая меня в моем городском прикиде и
в экипировке для ночных поездок на товарняках -- Хотелось бы знать что он
думает обо мне -- Куча заботливых пояснений и указаний. Он хочет чтобы я
запрыгнул на поезд со стороны пожарного навеса, но мне неохота пересекать
шесть или семь путей чтобы попасть на главную колею (откуда его будут
перекидывать на нужный путь) -- "Я запутаюсь там в темноте -- лучше пойду на
инженерную сторону". У нас с ним старый спор о том как надо действовать на
железной дороге, он придерживается своей разработанной долгим опытом и
точной как лезвие бритвы оклахомской логике основанной на воображаемых
страхах, а я совершаю свои глупые беспечные промахи основанные на
канукских[124] представлениях о безопасности --
"Но тебя ж увидят на инженерной стороне, парень, под тем вон
здоровенным фонарем ты точняк засветишься!"
"А я спрячусь между вагонами"
"Нет -- пошли внутрь"
И как в те старые времена когда он промышлял угоном машин, Коди,
заслуженный работник компании, пробирается в пустой вагон, оглядывается по
сторонам как вор чтобы его никто не заметил, бледное лицо в полной темноте
-- мне же неохота затаскивать внутрь свой рюкзак и поэтому я стою между
вагонами и жду -- Он шепчет мне из темного окна:
"ПРЯЧЬСЯ ЧТОБ ТЕБЯ НЕ УВИДЕЛИ, ВСЕ ВРЕМЯ ПРЯЧЬСЯ!"
Внезапно через пути недалеко от нас между вагонами пролезает обходчик с
зеленой лампой, подавая ей сигнал, локомотив взрывается тарахтением БАУ БАУ
и вдруг большой круг желтого света светит прямо на меня и я дрожа пытаюсь
спрятаться в тень, Коди таки запугал меня -- вместо того чтобы выпить с ним
раньше глоток виски, я воздержался напомнив себе правило: "Никогда не пей на
работе", на полном серьезе имея под работой ввиду хватание за движущиеся
поручни и вскарабкивание с тяжеленным рюкзаком на неудобную платформу, если
бы я немного выпил то сейчас не трясся б мелкой дрожью -- Обходчик видит
меня, и опять испуганный шепот Коди:
"СПРЯЧЬСЯ ЧТОБ ОН ТЕБЯ НЕ УВИДЕЛ!"
и обходчик кричит:
"Что, попал в передрягу?" что можно понять как или "Напряг с деньгами,
поэтому на товарняк лезешь?" или "Полиции боишься и поэтому прячешься?", но
я не раздумывая кричу на одном дыхании "Ага -- нормально?" и обходчик сразу
же отвечает:
"Поря-адок"
Потом, когда большой поезд медленно заворачивает на главный путь сияя
еще ослепительней я продолжаю разговор крича "Прям тут и залезу", желая
показать обходчику что я всего лишь обычный хороший болтливый парень и не
собираюсь взламывать двери вагонов и портить обшивку -- Коди не издает ни
звука, притаившись в темном окне вагона, скорее всего лежа на полу --
Он говорит мне "Джек для надежности пережди двадцать вагонов, если
залезть слишком близко к локомотиву то задохнешься в маргитских туннелях
надышавшись выхлопных газов" но пока я жду эти двадцать вагонов мне
становится страшно, потому что ускорение растет, они громыхают все быстрее,
и уже на шестом или седьмом я выскакиваю из своего укрытия, пережидаю еще
парочку, сердце колотится, потом несколько раз для пробы примеряюсь к
проплывающим мимо стальным ночным ступенькам (о Господь отцов наших, как же
холодна видимость вещей!) и в конце концов начинаю бежать, рысцой, догоняю
передний поручень, хватаюсь за него и бегу вровень, испуганный, тяжело
дышащий, и вталкиваю себя на платформу одним изящным легким
совсем-не-страшным-пробуждающим-из-кошмара смехотворным усилием и вот я
здесь, стою на платформе и машу рукой назад невидимому Коди, машу долго
чтобы он точно мог увидеть что у меня все в порядке, и поэтому я машу опять
и опять, и еще это чтобы сказать до свидания старина Коди...
- И все наши страхи напрасны и подобны сну, так сказал Господь, -- и
когда-нибудь так же нестрашно мы умрем -
Всю ночь двигаясь на юг вдоль Побережья я пью свой виски и пою звездам,
вспоминая свои прошлые жизни когда я был узником в темницах, и вот теперь я
на свободе -- дальше, дальше, как пророчествовал я в своих песнях
Одиночества, через дымные туннели где красная бандана на носу защищает меня,
и дальше в Обиспо, где обалденные бродяги-негры невозмутимо покуривают
сигареты сидя в кабинах грузовиков стоящих на следующей после моей платформе
прямо на виду у всех! Бедняга Коди! И бедный я! В Эл-Эй[125] где, умывшись
утром водой капающей из вагона-рефрижератора и дотопав до города, я в конце
концов покупаю билет и становлюсь единственным пассажиром автобуса
отъезжающего в Аризону, и мой пустынный сон в дороге и моя приближающаяся
Мексика, вдруг с нами равняется другой автобус, я смотрю и вижу двадцать
молодых людей, сидящих вместе с вооруженными охранниками, по пути в тюрьму,
двое из них оборачиваются и видят меня, и единственное что я могу сделать
для них, это медленно поднять руку и медленно махнуть ей приветствуя, и
увидеть как они медленно улыбаются в ответ --
Пик Одиночества, чего ж еще тебе нужно?
 Вот такая вот книжка. Пожалуйста, не считайте только это литературой,
ладно? А то при слове литература становится как-то не по себе, и по моему
это все не о том. Потому что все это было. И не имеет никакого отношения ни
к тому, как жить надо, и к тому как жить не надо, потому что и то и другое
глупость. Просто каждый по жизни ищет свой чистяк, и Джек Керуак искал свой
так -- смотрите сами, близко это вам, или нет. Но в любом случае, спасибо
ему -- мне это помогло жить погрузившись во все эти дела шесть месяцев, пока
я переводил (иногда поднимая голову, я не сразу понимал где я и что к чему),
и может быть поможет вам погрузиться туда же на денек-другой, пока будете
читать. Больше сказать нечего, в книжке все есть. И все-таки жалко, что она
местами такая печальная.
Традиционные, но искренние благодарности -- Алику и Оле, которые
позволили мне и еще целой толпе народу прожить у них полгода, спасибо
правительству Франции, за его бюрократию, которая позволила мне проболтаться
эти полгода в Нанте и не отвлекаться ни на что, спасибо благотворительной
организации Restaurant Du Coeur, которая давала бесплатную еду, спасибо куче
неизвестных мне совершенно американцев, (Augustine Touloupis, Bhajan Peter,
Brajan Block, Butterfly Bill, Hawker, James McGill, Leaf Star, Martha Kerlin
Reynolds, Phreely Phlying (ну этого перца я знаю, Рэйнбоу-папа Билл, хе-хе),
The Reeds, Willie Watson, Dennis, Carla) которые отвечали на мои отчаянные
письма, большая часть всех этих разъясняющих сносок возникла благодаря им,
спасибо Ане Герасимовой, которая взяла да и со всеми договорилась (уже
второй раз в моей жизни), и очень поддержала письмами о том как ей этот
перевод понравился, ну и Московской Библиотеке Иностранной Литературы, из
которой я эту книгу украл в 1994 году (приеду в Москву, отдам).
Удачи и радости,
Миша Шараев tralala@yandex.ru
-------------------------
[1] В оригинале burdened с бруклинским акцентом ("boidened"). Перевести
на русский нельзя (разве что попробовать с одесским, "таки-ж сгрудившаяся" J
[2] Инферно -- ад (лат.)
[3] Джон Бэрримор -- американский киноактер.
[4] На самом деле тут была цитата из поговорки "The best laid plans of
mice and men go oft awry" что-то вроде "Самые лучшие планы человека и мыши
часто рушатся", оттуда же пошло название книги Стейнбека "Of mice and men"
[5] Масло конечно масляное, но так у Керуака.
[6] Поговорка " I complained that I had no shoes untill I meet someone
with no feet" -- Я жаловался что у меня нет ботинок, пока не встретил того,
у кого нет ног"
[7] Джон Баньян (1628-88) Английский писатель и священник, написал
книгу Поступь Пилигрима
[8] По-французски "совершенный факт", но видимо имеется ввиду "условный
рефлекс"
[9] Тут двойной смысл, колесо как руль, штурвал моторной лодки, но
больше, по-моему, имеется ввиду Колесо Самсары, то есть когда ты видишь
женские ляжки и начинаешь как-то так неровно дышать, ты попадаешь во власть
порабощающих эмоций и привязанностей, а эмоции и привязанности ведут к
перерождению и крутят Колесо Самсары дальше. Колесо -- значит все по кругу
идет, родился, ножку увидел, помер, переродился и так вечно, пока не
врубишься и не вылезешь из этого круга J
[10] Чапараль - мексиканский кустарник
[11] Эмили Дикинсон -- американская поэтесса
[12] Роман Джойса, "экспериментальный", много шизовой болтовни и
словесных наворотов.
[13] Дравидийские -- от Дравидии, района Южной Индии
[14] Фрэнк Ллойд Райт -- американский архитектор
[15] Энтони Троллоп -- американский же писатель
[16] Во многих древних религиях были Лунные Богини. Они вызывают
приливы и отливы, а также приступы внезапного лунного безумия (имеется ввиду
здесь). А еще есть такие карты в колоде Таро -- Дурень и Лунная Богиня.
[17] Название города Конкрит (concrete) - цемент
[18] Феллах -- это из арабского, крестьянин
[19] Traveller`s Cheques -- позволяют легко снимать деньги в
иностранных банках.
[20] Сэм Грант -- генерал северян
[21] Джексон Каменная Стена -- генерал южан-конфедератов
[22] рестлинг (wrestling) -- это когда на руках силой меряются, кто
кого завалит)
[23] Как мне объяснили американы, которые знают толк в рестлинге,
четыре точки опоры -- значит, что ты стоишь на карачках упираясь коленями и
локтями. Обычно в американских колледжах первый раунд происходит так же как
и у нас, то есть оба участника стоят (или сидят), а во втором раунде
проигравший становится "на четыре точки опоры", а его соперник обхватывает
его сзади одной рукой за талию, а другой за мат, и ждет сигнала судьи. Потом
пытается завалить соперника. Довольно комично, по-моему.
[24] Окто-протогенерический - octogenarian - восьмидесятилетний, а
protogenarian, уж извините, керуакизм...
[25] ИРМ - Индустриальные Рабочие Мира - мощный профсоюз, знаменит
битвами за правое дело, вплоть до драк с полицией.
[26] Ороско Хосе Клементе - мексиканский художник
[27] Эвереттский расстрел -- известный расстрел полицией демонстрации
американских рабочих
[28] На самом деле он кричит "Signals,go go!", такой футбольный клич,
типа "шайбу, шайбу!", но еще его можно понять и в связи со стопом на трассе
[29] Skid Row -- район дешевых гостиниц, трущобы
[30] Сегрегация -- разделение, это когда на юге Штатов белые черных
обижали.
[31] Hotrod -- это такая старая машина с усовершенствованным мотором,
которому добавили силенок.
[32] Пинокль - карточная игра
[33] Жмурика закапывал - игра слов, stiff - на слэнге значит бумажные
деньги и труп одновременно
[34] Зигфильд, Флоренц -- американский театральный режиссер.
[35] Фоли (Follies) - имеется в виду "Фоли Берже", парижское кабаре
[36] У.К.Филдс - американский актер
[37] чау-мейн - китайское рагу из курицы или говядины с лапшой
[38] Еще одно наблюдение из заморской жизни: в Америке иногда глазунью,
поджарив с одной стороны, переворачивают и прожаривают еще с другой.
[39] Лохинвар - герой баллады из книги Мармион сэра Уолтера Скотта;
романтический поклонник
[40] Бог = God; Собака = Dog
[41] Койтовская башня -- на вершине Телеграфной горки, построена в
честь пожарных которые гасили пожары бушевавшие в Сан-Франциско после
землетрясения 1906 года. А Coit никакого отношения к коитусу как я думал в
начале не имеет, а фамилия богатой тетки которая финансировала строительные
работы после землетрясения.
[42] В оригинале San-Fran -- sound (возможно тут звуковая игра такая --
sound вместо --cisco)
[43] По английски гораздо прикольнее -- beating to the beat of the beat
of Brue Moore (что-то типа "битующих под бит битов Брю Мура"), но увы мне
так по-русски слабо.
[44] Здесь опять -- Old Bru he shall be high on Brew (Brew -
по-английски "варить (пиво)") -- получается игра слов, которую очень жаль
упускать по-русски.
[45] and otay jazz afternoons in the Maurie O`Tay okay
[46] так в оригинале (persepine), американы были мною добросовестно
опрошены, но кроме аллюзий на и так понятную (и совершенно тут не при делах)
Персефону, ничего мне так и не выдали.
[47] Мера емкости.
[48] Мачо (исп.) -- сексуально привлекательный либидозный тип,
по-русски ближе всего "кобелина", но больно уж некрасиво.
[49] beat(франц.) - пишется также как английский beat (бит), -
блаженство.
[50] И вообще бит (beat) тут важное понятие, поэтому лучше его
оставлять без перевода, потому что это не только "биение", "ритм", "такт",
"колебание", это еще и джазовое словечко, и кроме того Керуак придумал слово
"бит-поколение", поколение "битников", которое потом прижилось благодаря
журналистам.
[51] Опять, увы, не переведешь, а жалко -- wild and Dizzy (дует
неистово и ...) - dizzy по-английски головокружение (до головокружения) и
имя джазового музыканта Диззи Гиллеспи.
[52] В американских сказках и преданиях часто говорится о лозоискателях
-- людях, которые могли при помощи прутика виноградной лозы находить воду
(чтобы рыть потом колодец).
[53] Уорн Марш -- джазист, тенор саксофон, играл в импровизационно, в
стиле cool.
[54] Оки - кличка калифорнийцев
[55] Tea -- это на слэнге еще и марихуана.
[56] "Подземные" - "The Subterranians" - книга Керуака
[57] Вы француз, мсье? Я сам тоже француз"
[58] Rimbaud -- французский поэт.
[59] Жене -- французский писатель, писал довольно некрасивые истории о
бандитах, гомиках и парижских гопниках.
[60] Апаши - название парижской уличной шпаны
[61] Джон Гарфилд -- голливудский актер 40-х. Одна тетка из моей
American support team прислал мне по e-mail`у такую историю "... Он даже
внешне был очень похож на Керуака. Помню, в детстве я читала забавную
историю про Гарфилда: Однажды он где-то неслабо напился и влез в драку в
одном мексиканском баре. И его там чуть не угрохали, но он вовремя сумел
спастись через дверь черного хода на кухне бара. Позже протрезвев он зашел
опять в этот бар и заглянул на кухню -- там не было никаких дверей!"
[62] MG -- марка автомобиля
[63] ACHTUNG! Это очень таинственная штука, эта кодина система второго
выбора -- давайте будем реалистами -- кто из нас знает как там тотализатор
на американских скачках работает? Ну тогда не надо пожалуйста спрашивать что
такое second choice system, ладно?
[64] Бывают такие дела, стоит кабинка перед въездом, покупаешь билетик
и переезжаешь на другую сторону.
[65] Еще одна керуаковская книжка
[66] Это напоминает первую строчку Дао-Де-Дзин "Дао (Путь) которое
может быть выражено словами, не есть настоящее (постоянное) Дао". Что значит
что-то типа того, что не зачем базарить попусту, потому как настоящее
понимание словами не передать. И к тому же что Путь штука противоречивая и
состоит из противоположностей и пытаться понять его разумом -- бесполезно.
Поэтому написанное здесь особого смысла не имеет.
[67] Сутра -- поучения, данные Буддой Шакъямуни (историческим Буддой
нашей эпохи). Как правило, сутра представляет собой диалог Будды с одним или
несколькими его учениками на определенную тему
[68] Prajna - это "Будда-Мудрость" - недвойственное всезнающее сознание
Будды, в отличие от Vijnjana - двойственного сознания непросветленных
существ. Извините уж, это не я такой умный, мне так объяснили.
63Судзуки -- японский дядя такой, много написал книг по Дзену и
комментариев к буддистским текстам. В основном ориентировался на западных
читателей.
[70] В оригинале была другая игра слов -- "turn into rock" --
превратиться в камень, очень похоже на "get stoned" -- окаменеть, или, на
сленге, "распереться" (состояние наркотического опьянения).
[71] В оригинале очередное ну-здрасьте-до-свиданья: put the cockles of
your hockles clean -- переделанная поговорка warm the cockles of your heart
(значит "радовать, согревать сердце") только вместо heart -- hockles,
несуществующее слово но напоминающее hocks и вообще, как разъяснили мне
американы, Just silliness and childish reference to pig's ass -- то есть
имеет какое-то странное отношение к свинячьей заднице. Короче, по смыслу
можно перевести в смысле "это тебе башку прочистит", но неинтересно, и я уж
по своему. Извините, если читать все эти мои сноски надоело, я это от
занудства и добросовестности.
[72] В оригинале The juicy Saviour that was manoralized and reputated
on the gold hill. Мне тут объяснили что все это значит, но можно я не буду
объяснять, ОК? То что я написал, ничем не хуже и не лучше, правда.
[73] Имена прототипов Коди и Рафаэля -- Нил Кэсседи и Грегори Корсо, и
то и другое похоже на Сasa d`Oro (Золотой Дом по-итальянски), а еще на cazza
duro (крепкий хуй).
21 Corso -- так по-итальянски обычно называется главная улица,
проспект. Здесь игра слов -- "не хуже чем Corso" -- "no coarser than Corso".
Опять же -- фамилия прототипа Рафаэля Урсо -- Корсо. И опять же "не хуже (не
грязней)" это возможно намек на cazza duro (см. предыдущую сноску).
[75] Видимо Брабакер на гаэльском (кельтском языке старой Ирландии)
значит дерево.
[76] All Jack has to do is write little insensible ditties and be the
nowhere Hamlin`s leader
[77] Fence-talk -- есть такое выражение "fence-talk a la Huckleberry
Finn"), имея в виду Гекельберри Финна с Томом Сойером и их болтовню у забора
(fence -- забор) тетушки Полли.
[78] Это про таблы что-ли? Ну тогда странно он как-то врубился...
[79] Вот тоже беда, the one her broke her mirror, опрошенные американы
дают противоречивые сведения. Некоторые говорят что имеется ввиду что надо
это понимать буквально как напоминание о разбитом зеркале, а другие (как и
мне показалось) пишут что имеется в виду "целку сломал", то есть лишил
девственности. Но тогда не очень понятны другие вещи, короче, я человек
приличный, гадостев не пишу, и оставил первый вариант.
[80] Так в оригинале -- pantomine.
[81] Джон Бэрримор -- киноактер такой американский, видимо Керуак его
любил сильно, раз второй раз уже упоминает
[82] Meanwhile the candle soul burns in our "clasel" brows..
[83] Хе-хе,
The world will be saved by what I see
Universal perfect courtesy --
Orion in the fresh space of heaven
One, two, three, four, five, six, seven -
[84] Лаз, это от "Lazy", лентяй то есть.
[85] Оказывается по-английски так тоже можно сказать, "грузить" (pile
on)
[86] Коди говорит "ogres", "огры" это такие великаны в кельтском
фольклоре.
[87] Увы, загадка -- Лил Абнер это герой комиксов, такой здоровенный
деревенский парень громила. Про его брата ничего неизвестно, однако судя по
всему тоже тип не особо рахитичный.
[88] На канадско-старо французском -- "Черви питаются////в земле"
причем слово Les onges одновременно значит "черви" и напоминает "ангелы",
получается Ангело-черви, что здесь очень в тему по моему...
[89] Бланки ставок на скачках.
[90] У.К.Филдс -- американский актер и комик
[91] Общество Друзей (Friends Society) -- так себя называют квакеры
[92] Сэмюэль Джонсон (1709-84) -- английский лексикограф, писатель и
критик
[93] Босуэлл Джеймс (1740-95) -- шотландский адвокат и писатель,
биограф Сэмюеля Джонсона
[94] Здесь английская фраза была построена так, что если заменить words
на balls, получается "ну и хуй с ним!
[95] Грант Вуд (1892-1942)-- американский художник
[96] hombre -- по-испански человек, парень
[97] буты (boots) -- накладные куски ткани или кожи на ковбойские (или
жокейские) штаны, делающие их похожими на клеши
[98] Life-belt -- пояс, в котором куча всего, от ножа до портативной
радиостанции, армейское снаряжение.
[99] Jukebox -- музыкальный ящик, была раньше такая штука, ящик с
пластинками, выбираешь название, кидаешь монетку, пластинка играет, тебе
хорошо.
[100] Лес Арденнский -- лесистая область в Англии, в Уорвикшире, там
происходило действие многих шекспировских пьес.
[101] Канталупа -- так в словаре переводится cantaloupe. Мускусная
дыня.
[102] Сплит (split) -- это такой вкусняк, делается из разрезанного
вдоль банана с мороженым, орехами, взбитыми сливками и прочими радостями.
[103] Caritas -- любовь к людям (лат.)
[104] Очередной ACHTUNG. То есть пример переводческого обмана, увы.
"Singing to while away the mattick hay", is all I can hear. Этого не понимаю
не только я, но и чисткровнейшие американы. Например, неизвестный мне но
очень полезный Leaf Star написал: "Насчет этой штуки я не уверен, но
возможно это как-то связано с церковной заутреней. JK был католиком". Это он
решил видимо потому что несуществующий керуакизм mattick напоминает matin --
заутреня. Загадочное "сено" на конце (hay) для меня совсем непонятно.
Извиняйте.
[105] Faux pas -- ошибки, "ложные шаги" если дословно с французского.
[106] Хе-хе, вот бывает так: пишешь книгу, пишешь, да и забудешь что у
тебя Грегори Корсо зовется Рафаэль Урсо. Бывает.
[107] Здесь первая часть поговорки "When in Rome do as the Romans do",
что значит "Когда ты в Риме, делай так как делают римляне", ну или "С
волками жить..." только менее грубо.
[108] В оригинале было не так, но это так по-русски не звучит...
[109] Ну не могу я оставить это без сноски -- что ж ты, брат, как
маленький... J
[110] Тут было "she is sick on Milltowns", я долго ломал себе голову, а
потом выяснилось, что это такой наркотик типа бензедрина с чем-то еще.
[111] В американских товарняках есть внизу такой типа ящика или
коробки, как раз достаточного размера чтобы поместился человек, и бродяги
часто передвигаются залезая туда. Те кто так делал говорят что довольно
напряжный способ.
[112] Родом из мест, где детям не запрещают кричать -- самая знаменитая
керуаковская книга "На дороге" кончается так: "и я знаю что сейчас в Айове
дети кричат, в этих местах детям не запрещается кричать"
[113] Здесь наверное тоже игра слов -- "Passing through!" это в
керуаковском смысле "протекать сквозь все", но может быть понято и
по-железнодорожному, "Следовать до конца маршрута", как-то так.
[114] В оригинале "Stand aside, apricot tree!" но "Посторонись,
абрикосовое дерево!" мне писать не захотелось.
[115] Мистический остров Иннисфри, в поэме Йитса, а Йитса Джек и Коди
(Нил) очень любили.
[116] Марлон Брандо киноактер, а Санта-Анита это ипподром в Южной
Калифорнии.
[117] Было еще хуже.
[118] В оригинале Spanish Mansion Pad --Испанский Квартира-Особняк, как
эти слова не крути, нехорошо...
[119] В оригинале очень здорово: "Cupid Bow me," то есть Cupid --
Купидон, Bow -- лук, стрелять из лука, а вместе звучит красиво что передать
не удалось.
[120] I am real high -- это не только "я высоко", но еще и на сленге
"меня впирает", т.е. мне очень хорошо. Джек соглашается, конечно.
[121] Всякие старые американские дела, если интересно почитайте
Фитцджеральда про это. Потерянное Поколение -- это те кто был на первой
мировой и немного напоминали битников, тоже нетухлые были ребята.
[122] Силекс -- жаропрочное стекло
[123] POW -- Prisoner of War -военнопленный
[124] Canuck -- франко-канадец
[125] LA -- Лос-Анжелес
Вот такая вот книжка. Пожалуйста, не считайте только это литературой,
ладно? А то при слове литература становится как-то не по себе, и по моему
это все не о том. Потому что все это было. И не имеет никакого отношения ни
к тому, как жить надо, и к тому как жить не надо, потому что и то и другое
глупость. Просто каждый по жизни ищет свой чистяк, и Джек Керуак искал свой
так -- смотрите сами, близко это вам, или нет. Но в любом случае, спасибо
ему -- мне это помогло жить погрузившись во все эти дела шесть месяцев, пока
я переводил (иногда поднимая голову, я не сразу понимал где я и что к чему),
и может быть поможет вам погрузиться туда же на денек-другой, пока будете
читать. Больше сказать нечего, в книжке все есть. И все-таки жалко, что она
местами такая печальная.
Традиционные, но искренние благодарности -- Алику и Оле, которые
позволили мне и еще целой толпе народу прожить у них полгода, спасибо
правительству Франции, за его бюрократию, которая позволила мне проболтаться
эти полгода в Нанте и не отвлекаться ни на что, спасибо благотворительной
организации Restaurant Du Coeur, которая давала бесплатную еду, спасибо куче
неизвестных мне совершенно американцев, (Augustine Touloupis, Bhajan Peter,
Brajan Block, Butterfly Bill, Hawker, James McGill, Leaf Star, Martha Kerlin
Reynolds, Phreely Phlying (ну этого перца я знаю, Рэйнбоу-папа Билл, хе-хе),
The Reeds, Willie Watson, Dennis, Carla) которые отвечали на мои отчаянные
письма, большая часть всех этих разъясняющих сносок возникла благодаря им,
спасибо Ане Герасимовой, которая взяла да и со всеми договорилась (уже
второй раз в моей жизни), и очень поддержала письмами о том как ей этот
перевод понравился, ну и Московской Библиотеке Иностранной Литературы, из
которой я эту книгу украл в 1994 году (приеду в Москву, отдам).
Удачи и радости,
Миша Шараев tralala@yandex.ru
-------------------------
[1] В оригинале burdened с бруклинским акцентом ("boidened"). Перевести
на русский нельзя (разве что попробовать с одесским, "таки-ж сгрудившаяся" J
[2] Инферно -- ад (лат.)
[3] Джон Бэрримор -- американский киноактер.
[4] На самом деле тут была цитата из поговорки "The best laid plans of
mice and men go oft awry" что-то вроде "Самые лучшие планы человека и мыши
часто рушатся", оттуда же пошло название книги Стейнбека "Of mice and men"
[5] Масло конечно масляное, но так у Керуака.
[6] Поговорка " I complained that I had no shoes untill I meet someone
with no feet" -- Я жаловался что у меня нет ботинок, пока не встретил того,
у кого нет ног"
[7] Джон Баньян (1628-88) Английский писатель и священник, написал
книгу Поступь Пилигрима
[8] По-французски "совершенный факт", но видимо имеется ввиду "условный
рефлекс"
[9] Тут двойной смысл, колесо как руль, штурвал моторной лодки, но
больше, по-моему, имеется ввиду Колесо Самсары, то есть когда ты видишь
женские ляжки и начинаешь как-то так неровно дышать, ты попадаешь во власть
порабощающих эмоций и привязанностей, а эмоции и привязанности ведут к
перерождению и крутят Колесо Самсары дальше. Колесо -- значит все по кругу
идет, родился, ножку увидел, помер, переродился и так вечно, пока не
врубишься и не вылезешь из этого круга J
[10] Чапараль - мексиканский кустарник
[11] Эмили Дикинсон -- американская поэтесса
[12] Роман Джойса, "экспериментальный", много шизовой болтовни и
словесных наворотов.
[13] Дравидийские -- от Дравидии, района Южной Индии
[14] Фрэнк Ллойд Райт -- американский архитектор
[15] Энтони Троллоп -- американский же писатель
[16] Во многих древних религиях были Лунные Богини. Они вызывают
приливы и отливы, а также приступы внезапного лунного безумия (имеется ввиду
здесь). А еще есть такие карты в колоде Таро -- Дурень и Лунная Богиня.
[17] Название города Конкрит (concrete) - цемент
[18] Феллах -- это из арабского, крестьянин
[19] Traveller`s Cheques -- позволяют легко снимать деньги в
иностранных банках.
[20] Сэм Грант -- генерал северян
[21] Джексон Каменная Стена -- генерал южан-конфедератов
[22] рестлинг (wrestling) -- это когда на руках силой меряются, кто
кого завалит)
[23] Как мне объяснили американы, которые знают толк в рестлинге,
четыре точки опоры -- значит, что ты стоишь на карачках упираясь коленями и
локтями. Обычно в американских колледжах первый раунд происходит так же как
и у нас, то есть оба участника стоят (или сидят), а во втором раунде
проигравший становится "на четыре точки опоры", а его соперник обхватывает
его сзади одной рукой за талию, а другой за мат, и ждет сигнала судьи. Потом
пытается завалить соперника. Довольно комично, по-моему.
[24] Окто-протогенерический - octogenarian - восьмидесятилетний, а
protogenarian, уж извините, керуакизм...
[25] ИРМ - Индустриальные Рабочие Мира - мощный профсоюз, знаменит
битвами за правое дело, вплоть до драк с полицией.
[26] Ороско Хосе Клементе - мексиканский художник
[27] Эвереттский расстрел -- известный расстрел полицией демонстрации
американских рабочих
[28] На самом деле он кричит "Signals,go go!", такой футбольный клич,
типа "шайбу, шайбу!", но еще его можно понять и в связи со стопом на трассе
[29] Skid Row -- район дешевых гостиниц, трущобы
[30] Сегрегация -- разделение, это когда на юге Штатов белые черных
обижали.
[31] Hotrod -- это такая старая машина с усовершенствованным мотором,
которому добавили силенок.
[32] Пинокль - карточная игра
[33] Жмурика закапывал - игра слов, stiff - на слэнге значит бумажные
деньги и труп одновременно
[34] Зигфильд, Флоренц -- американский театральный режиссер.
[35] Фоли (Follies) - имеется в виду "Фоли Берже", парижское кабаре
[36] У.К.Филдс - американский актер
[37] чау-мейн - китайское рагу из курицы или говядины с лапшой
[38] Еще одно наблюдение из заморской жизни: в Америке иногда глазунью,
поджарив с одной стороны, переворачивают и прожаривают еще с другой.
[39] Лохинвар - герой баллады из книги Мармион сэра Уолтера Скотта;
романтический поклонник
[40] Бог = God; Собака = Dog
[41] Койтовская башня -- на вершине Телеграфной горки, построена в
честь пожарных которые гасили пожары бушевавшие в Сан-Франциско после
землетрясения 1906 года. А Coit никакого отношения к коитусу как я думал в
начале не имеет, а фамилия богатой тетки которая финансировала строительные
работы после землетрясения.
[42] В оригинале San-Fran -- sound (возможно тут звуковая игра такая --
sound вместо --cisco)
[43] По английски гораздо прикольнее -- beating to the beat of the beat
of Brue Moore (что-то типа "битующих под бит битов Брю Мура"), но увы мне
так по-русски слабо.
[44] Здесь опять -- Old Bru he shall be high on Brew (Brew -
по-английски "варить (пиво)") -- получается игра слов, которую очень жаль
упускать по-русски.
[45] and otay jazz afternoons in the Maurie O`Tay okay
[46] так в оригинале (persepine), американы были мною добросовестно
опрошены, но кроме аллюзий на и так понятную (и совершенно тут не при делах)
Персефону, ничего мне так и не выдали.
[47] Мера емкости.
[48] Мачо (исп.) -- сексуально привлекательный либидозный тип,
по-русски ближе всего "кобелина", но больно уж некрасиво.
[49] beat(франц.) - пишется также как английский beat (бит), -
блаженство.
[50] И вообще бит (beat) тут важное понятие, поэтому лучше его
оставлять без перевода, потому что это не только "биение", "ритм", "такт",
"колебание", это еще и джазовое словечко, и кроме того Керуак придумал слово
"бит-поколение", поколение "битников", которое потом прижилось благодаря
журналистам.
[51] Опять, увы, не переведешь, а жалко -- wild and Dizzy (дует
неистово и ...) - dizzy по-английски головокружение (до головокружения) и
имя джазового музыканта Диззи Гиллеспи.
[52] В американских сказках и преданиях часто говорится о лозоискателях
-- людях, которые могли при помощи прутика виноградной лозы находить воду
(чтобы рыть потом колодец).
[53] Уорн Марш -- джазист, тенор саксофон, играл в импровизационно, в
стиле cool.
[54] Оки - кличка калифорнийцев
[55] Tea -- это на слэнге еще и марихуана.
[56] "Подземные" - "The Subterranians" - книга Керуака
[57] Вы француз, мсье? Я сам тоже француз"
[58] Rimbaud -- французский поэт.
[59] Жене -- французский писатель, писал довольно некрасивые истории о
бандитах, гомиках и парижских гопниках.
[60] Апаши - название парижской уличной шпаны
[61] Джон Гарфилд -- голливудский актер 40-х. Одна тетка из моей
American support team прислал мне по e-mail`у такую историю "... Он даже
внешне был очень похож на Керуака. Помню, в детстве я читала забавную
историю про Гарфилда: Однажды он где-то неслабо напился и влез в драку в
одном мексиканском баре. И его там чуть не угрохали, но он вовремя сумел
спастись через дверь черного хода на кухне бара. Позже протрезвев он зашел
опять в этот бар и заглянул на кухню -- там не было никаких дверей!"
[62] MG -- марка автомобиля
[63] ACHTUNG! Это очень таинственная штука, эта кодина система второго
выбора -- давайте будем реалистами -- кто из нас знает как там тотализатор
на американских скачках работает? Ну тогда не надо пожалуйста спрашивать что
такое second choice system, ладно?
[64] Бывают такие дела, стоит кабинка перед въездом, покупаешь билетик
и переезжаешь на другую сторону.
[65] Еще одна керуаковская книжка
[66] Это напоминает первую строчку Дао-Де-Дзин "Дао (Путь) которое
может быть выражено словами, не есть настоящее (постоянное) Дао". Что значит
что-то типа того, что не зачем базарить попусту, потому как настоящее
понимание словами не передать. И к тому же что Путь штука противоречивая и
состоит из противоположностей и пытаться понять его разумом -- бесполезно.
Поэтому написанное здесь особого смысла не имеет.
[67] Сутра -- поучения, данные Буддой Шакъямуни (историческим Буддой
нашей эпохи). Как правило, сутра представляет собой диалог Будды с одним или
несколькими его учениками на определенную тему
[68] Prajna - это "Будда-Мудрость" - недвойственное всезнающее сознание
Будды, в отличие от Vijnjana - двойственного сознания непросветленных
существ. Извините уж, это не я такой умный, мне так объяснили.
63Судзуки -- японский дядя такой, много написал книг по Дзену и
комментариев к буддистским текстам. В основном ориентировался на западных
читателей.
[70] В оригинале была другая игра слов -- "turn into rock" --
превратиться в камень, очень похоже на "get stoned" -- окаменеть, или, на
сленге, "распереться" (состояние наркотического опьянения).
[71] В оригинале очередное ну-здрасьте-до-свиданья: put the cockles of
your hockles clean -- переделанная поговорка warm the cockles of your heart
(значит "радовать, согревать сердце") только вместо heart -- hockles,
несуществующее слово но напоминающее hocks и вообще, как разъяснили мне
американы, Just silliness and childish reference to pig's ass -- то есть
имеет какое-то странное отношение к свинячьей заднице. Короче, по смыслу
можно перевести в смысле "это тебе башку прочистит", но неинтересно, и я уж
по своему. Извините, если читать все эти мои сноски надоело, я это от
занудства и добросовестности.
[72] В оригинале The juicy Saviour that was manoralized and reputated
on the gold hill. Мне тут объяснили что все это значит, но можно я не буду
объяснять, ОК? То что я написал, ничем не хуже и не лучше, правда.
[73] Имена прототипов Коди и Рафаэля -- Нил Кэсседи и Грегори Корсо, и
то и другое похоже на Сasa d`Oro (Золотой Дом по-итальянски), а еще на cazza
duro (крепкий хуй).
21 Corso -- так по-итальянски обычно называется главная улица,
проспект. Здесь игра слов -- "не хуже чем Corso" -- "no coarser than Corso".
Опять же -- фамилия прототипа Рафаэля Урсо -- Корсо. И опять же "не хуже (не
грязней)" это возможно намек на cazza duro (см. предыдущую сноску).
[75] Видимо Брабакер на гаэльском (кельтском языке старой Ирландии)
значит дерево.
[76] All Jack has to do is write little insensible ditties and be the
nowhere Hamlin`s leader
[77] Fence-talk -- есть такое выражение "fence-talk a la Huckleberry
Finn"), имея в виду Гекельберри Финна с Томом Сойером и их болтовню у забора
(fence -- забор) тетушки Полли.
[78] Это про таблы что-ли? Ну тогда странно он как-то врубился...
[79] Вот тоже беда, the one her broke her mirror, опрошенные американы
дают противоречивые сведения. Некоторые говорят что имеется ввиду что надо
это понимать буквально как напоминание о разбитом зеркале, а другие (как и
мне показалось) пишут что имеется в виду "целку сломал", то есть лишил
девственности. Но тогда не очень понятны другие вещи, короче, я человек
приличный, гадостев не пишу, и оставил первый вариант.
[80] Так в оригинале -- pantomine.
[81] Джон Бэрримор -- киноактер такой американский, видимо Керуак его
любил сильно, раз второй раз уже упоминает
[82] Meanwhile the candle soul burns in our "clasel" brows..
[83] Хе-хе,
The world will be saved by what I see
Universal perfect courtesy --
Orion in the fresh space of heaven
One, two, three, four, five, six, seven -
[84] Лаз, это от "Lazy", лентяй то есть.
[85] Оказывается по-английски так тоже можно сказать, "грузить" (pile
on)
[86] Коди говорит "ogres", "огры" это такие великаны в кельтском
фольклоре.
[87] Увы, загадка -- Лил Абнер это герой комиксов, такой здоровенный
деревенский парень громила. Про его брата ничего неизвестно, однако судя по
всему тоже тип не особо рахитичный.
[88] На канадско-старо французском -- "Черви питаются////в земле"
причем слово Les onges одновременно значит "черви" и напоминает "ангелы",
получается Ангело-черви, что здесь очень в тему по моему...
[89] Бланки ставок на скачках.
[90] У.К.Филдс -- американский актер и комик
[91] Общество Друзей (Friends Society) -- так себя называют квакеры
[92] Сэмюэль Джонсон (1709-84) -- английский лексикограф, писатель и
критик
[93] Босуэлл Джеймс (1740-95) -- шотландский адвокат и писатель,
биограф Сэмюеля Джонсона
[94] Здесь английская фраза была построена так, что если заменить words
на balls, получается "ну и хуй с ним!
[95] Грант Вуд (1892-1942)-- американский художник
[96] hombre -- по-испански человек, парень
[97] буты (boots) -- накладные куски ткани или кожи на ковбойские (или
жокейские) штаны, делающие их похожими на клеши
[98] Life-belt -- пояс, в котором куча всего, от ножа до портативной
радиостанции, армейское снаряжение.
[99] Jukebox -- музыкальный ящик, была раньше такая штука, ящик с
пластинками, выбираешь название, кидаешь монетку, пластинка играет, тебе
хорошо.
[100] Лес Арденнский -- лесистая область в Англии, в Уорвикшире, там
происходило действие многих шекспировских пьес.
[101] Канталупа -- так в словаре переводится cantaloupe. Мускусная
дыня.
[102] Сплит (split) -- это такой вкусняк, делается из разрезанного
вдоль банана с мороженым, орехами, взбитыми сливками и прочими радостями.
[103] Caritas -- любовь к людям (лат.)
[104] Очередной ACHTUNG. То есть пример переводческого обмана, увы.
"Singing to while away the mattick hay", is all I can hear. Этого не понимаю
не только я, но и чисткровнейшие американы. Например, неизвестный мне но
очень полезный Leaf Star написал: "Насчет этой штуки я не уверен, но
возможно это как-то связано с церковной заутреней. JK был католиком". Это он
решил видимо потому что несуществующий керуакизм mattick напоминает matin --
заутреня. Загадочное "сено" на конце (hay) для меня совсем непонятно.
Извиняйте.
[105] Faux pas -- ошибки, "ложные шаги" если дословно с французского.
[106] Хе-хе, вот бывает так: пишешь книгу, пишешь, да и забудешь что у
тебя Грегори Корсо зовется Рафаэль Урсо. Бывает.
[107] Здесь первая часть поговорки "When in Rome do as the Romans do",
что значит "Когда ты в Риме, делай так как делают римляне", ну или "С
волками жить..." только менее грубо.
[108] В оригинале было не так, но это так по-русски не звучит...
[109] Ну не могу я оставить это без сноски -- что ж ты, брат, как
маленький... J
[110] Тут было "she is sick on Milltowns", я долго ломал себе голову, а
потом выяснилось, что это такой наркотик типа бензедрина с чем-то еще.
[111] В американских товарняках есть внизу такой типа ящика или
коробки, как раз достаточного размера чтобы поместился человек, и бродяги
часто передвигаются залезая туда. Те кто так делал говорят что довольно
напряжный способ.
[112] Родом из мест, где детям не запрещают кричать -- самая знаменитая
керуаковская книга "На дороге" кончается так: "и я знаю что сейчас в Айове
дети кричат, в этих местах детям не запрещается кричать"
[113] Здесь наверное тоже игра слов -- "Passing through!" это в
керуаковском смысле "протекать сквозь все", но может быть понято и
по-железнодорожному, "Следовать до конца маршрута", как-то так.
[114] В оригинале "Stand aside, apricot tree!" но "Посторонись,
абрикосовое дерево!" мне писать не захотелось.
[115] Мистический остров Иннисфри, в поэме Йитса, а Йитса Джек и Коди
(Нил) очень любили.
[116] Марлон Брандо киноактер, а Санта-Анита это ипподром в Южной
Калифорнии.
[117] Было еще хуже.
[118] В оригинале Spanish Mansion Pad --Испанский Квартира-Особняк, как
эти слова не крути, нехорошо...
[119] В оригинале очень здорово: "Cupid Bow me," то есть Cupid --
Купидон, Bow -- лук, стрелять из лука, а вместе звучит красиво что передать
не удалось.
[120] I am real high -- это не только "я высоко", но еще и на сленге
"меня впирает", т.е. мне очень хорошо. Джек соглашается, конечно.
[121] Всякие старые американские дела, если интересно почитайте
Фитцджеральда про это. Потерянное Поколение -- это те кто был на первой
мировой и немного напоминали битников, тоже нетухлые были ребята.
[122] Силекс -- жаропрочное стекло
[123] POW -- Prisoner of War -военнопленный
[124] Canuck -- франко-канадец
[125] LA -- Лос-Анжелес
* КНИГА ВТОРАЯ. ПРОТЕКАЯ СКВОЗЬ... *
* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Протекая сквозь Мексику *
И вот, после всего пережитого на вершине горы, где целых два месяца
оставался я в полном одиночестве никого не видя и не слыша ни одного
человеческого слова, началось для меня время полного переворота всех моих
представлений о жизни - Тогда я хотел сохранить это состояние абсолютного
покоя в мире общества, но в то же время тайно жаждал некоторых удовольствий
этим обществом доставляемых (таких как зрелища, секс, удобства, хорошая еда
и выпивка), всего того чего на горной вершине не найдешь - Именно тогда я
начал понимать что вся моя жизнь была поиском покоя в творчестве, и не
только в творчестве - Ведь я человек скорее склонный к созерцанию чем к
действию, древние даосы-китайцы называли это "Недеянием" (У-Вэй), и способ
жизни этот сам по себе прекрасней всех иных и подобен неторопливому
монастырскому деланию среди лихорадочной болтовни жаждущих действия в этом и
других "современных" мирах -
Я хотел доказать что способен "предаваться недеянию" даже находясь
посреди самого буйного общества, в котором я оказался спустившись с гор
штата Вашингтон в Сан-Франциско, как вы уже знаете, и проведя неделю в
пьяных "раздолбасах" (как сказал однажды Коди) с ангелами одиночества,
поэтами и персонажами Сан-францисского Ренессанса - Всего неделю и не более
того, после которой (с сильного похмелья и ясное дело с некоторыми
угрызениями совести) я запрыгнул на товарняк до самого Эл-Эй[1] и
отправился в Старую Мексику чтобы опять оказаться в уединении но на этот раз
в городской лачуге.
Понятное дело, что как художнику мне необходимы одиночество и что-то
вроде этой философии "недеяния", позволяющей мне проводить весь день в
грезах, записывая главы ускользающих из памяти мечтаний, которые годами
позже составляются в целую повесть - И в этом смысле я не посоветовал бы
всем, поскольку все не могут быть художниками, мой образ жизни как
подходящую философию - В этом смысле я просто чудак, вроде Рембрандта -
Рембрандт мог писать портреты деловых бюргеров позирующих ему в свободную
минутку после обеда, но ночью, когда они спали отдыхая перед очередным
рабочим днем, старый Рембрандт бодрствовал в своей студии нанося легкими
прикосновениями пятна темноты на свои холсты - И бюргеры не требовали от
Рембрандта быть кем-то еще кроме как художником и поэтому они не стучались в
полночь в его дверь и не спрашивали: "Почему ты так живешь, Рембрандт?
Почему ты проводишь свои ночи в одиночестве? О чем это ты грезишь?" А также
они не ожидали от Рембрандта что он повернется к ним и скажет: "Вы должны
жить так как я, принять философию одиночества, и другого пути нет".
Итак я искал себе спокойной жизни заполненной созерцанием во всей его
утонченности, и не только чтобы заниматься своим искусством (в моем случае
прозой, повествованием) (прозаическим описанием того что я видел и того как
я это увидел), также я пытался найти свой собственный способ жизни, то есть,
я хотел увидеть мир с точки зрения одиночества и медитировать на этот мир не
впутываясь в сумятицу его свершений, которые уже тогда пугали меня и внушали
мне отвращение - Я хотел быть Человеком Дао, наблюдающим облака и не
обращающим внимания на бушующую под ними историю (что после Мао и Камю уже
непростительно?) (но придет время) -
Но мне и в голову не могло придти что, несмотря на всю мою решимость,
мой опыт творчества в одиночестве и свободу моей бедности - мне не могло
придти в голову что меня тоже затянет в деятельность этого мира - Я не думал
что может так случиться что -
Ну ладно, перейдем к подробностям, в которых-то и вся суть дела -
Сначала все шло как по маслу, после того как я увидел тот тюремный
автобус на выезде из Лос-Анджелеса, и даже когда полицейские остановили меня
той ночью в аризонской пустыне когда в два часа ночи при свете полной луны я
пешком выбирался из Таксона чтобы расстелить свой спальник на песке
где-нибудь за городом - И обнаружив что у меня хватает денег на отель, они
хотели знать почему я все же собираюсь спать в пустыне - Невозможно
объяснить это полиции, не станешь же пускаться в долгие рассуждения - В те
времена я был отчаянным сыном солнца, весил всего 165 фунтов и мог идти
многие мили без передышки с полным рюкзаком за плечами, и сворачивал себе
самокрутки на курево, и знал как удобно устроиться на ночлег в пересохшем
русле ручья, и даже как прожить на жалкие гроши - Теперь же, после
перенесенного мною ужаса литературной известности и водопада выпивки
протекшей сквозь мою глотку, нескольких лет прятанья дома от сотен охотников
до моего времени (полуночный камешек в мое окно "Эй Джек, выходи, давай
выпьем, вокруг такое творится!") - ой - И когда круг замкнулся вокруг меня,
старого независимого вероотступника, я стал выглядеть как Буржуа, с брюшком
и так далее, и это начало отражаться на моем лице гримасой недоверчивости и
сытости (они ведь всегда неразлучны друг с другом?) - Так что (ну, почти)
если б копы сейчас остановили меня в два ночи на трассе, я не удивился бы
если б они просто козырнули мне - Но тогда, всего пять лет назад, я выглядел
дико и необузданно - Они окружили меня двумя патрульными машинами.
И направив лучи своих фонариков на меня, стоящего на дороге в джинсах и
рабочей одежке, с громадным ужасающим рюкзаком за плечами, они спросили: -
"Куда направляешься?", точно такой же вопрос они задали мне годом позже под
телевизионными софитами в Нью-Йорке "Куда вы направляетесь?" - И точно так
же как не объяснишь этого полиции, не скажешь и обществу "Я ищу покоя".
Разве это так важно?
Подожди, и ты увидишь.
P.S. Представь себя объясняющим тысяче беснующихся на токийских улицах
танцоров Змеиных Танцев[2] что ты ищешь покоя и поэтому вне их
карнавала!
Мехико - прекрасный город для художника, где можно раздобыть дешевое
жилье, хорошую еду, полно развлечений субботними вечерами (включая продажных
девочек) - Где можно беспрепятственно бродить по улицам и бульварам в любой
час дня и ночи, и маленькие вежливые полицейские даже не смотрят на тебя
занимаясь своими собственными делами, то есть раскрытием и предотвращением
преступлений - Перед моим внутренним взором Мехико-сити всегда предстает как
город жизнерадостный и восхитительный (особенно в 4 часа дня, когда летний
проливной дождь заставляет людей спешить по сверкающим тротуарам отражающим
синие и розовые неоновые огни, спешащие индейские ноги, автобусы, дождевики,
промозглые бакалейные лавочки и сапожные мастерские, милые ликующие голоса
женщин и детей, сдержанное возбуждение мужчин до сих пор выглядящих
настоящими ацтеками) - Свет свечи в одинокой комнатушке и писание повести о
мире.
Но приехав в Мехико, я всегда поражаюсь тому что позабыл некоторую все
же безотрадность, и даже грусть, темноту, которую например чувствуешь при
виде какого-нибудь индейца в коричневом ржавого цвета костюме, в белой
рубашке с распахнутым воротом, ждущего автобус на Сиркумваласьон, с коробкой
завернутой в газету (Эль Диарио Универсаль), автобус его забит сидящими и
болтающимися в ременных петлях людьми, внутри мерцает темно-зеленый мрак,
освещения нет, и ему предстоит трястись в нем по глинистым ухабистым
закоулочкам добрых полчаса до пригородных глинобитных трущоб где навсегда
воцарилась вонь дохлятины и дерьма - И упиваться описанием убожества этого
человека просто-напросто нечестно, это, в конце концов, недостойно - И я не
стану этого делать - Его жизнь это ужас - Но тут вдруг на глаза вам
попадается полная индейская старушка в платке держащая маленькую девочку за
руку, они идут в пастелерию[3] за разноцветными пирожными!
Девчушка счастлива - Лишь в Мексике, искренней и невинной, рождение и смерть
кажутся чем-то действительно стоящим...
Я приехал в город на автобусе из Ногалеса и немедленно снял себе
глинобитную мазанку стоявшую на крыше дома, обустроил ее на свой вкус, зажег
свечу и принялся писать о спуске-с-горы и безумной неделе проведенной в
Фриско.
И единственной моей компанией был обитавший внизу подо мной, в мрачной
комнатушке, старый мой приятель 60-летний Бык Гэйнс.
Он тоже жил жизнью спокойной.
Как всегда неторопливый, вечно одна и та же история, вот стоит он
сутулящийся и худощавый, поглощенный бесконечными поисками в карманах
пальто, ящиках комода, чемодане, под коврами и ворохом газет своих
бесчисленных заначек торча - Он говорит мне "Такие вот дела, мне тоже
хочется мирной жизни - Наверное у тебя есть твое искусство как ты говоришь,
хоть и не похоже на то" (косясь на меня из под очков чтобы посмотреть как
мне эта его шуточка) "но у меня есть мой дозняк - И пока у меня есть мой
дозняк, я совершенно удовлетворен тем что могу сидеть спокойно дома и читать
Очерки истории Г. Уэллса, которые я перечитал кажется уж сотню раз - И мне
вполне достаточно чашечки Нескафе под рукой, газеты, бутерброда с ветчиной
по случаю, и парочки колес барбитуры на сон грядущий, м-м-м-м-м" -
Каждый раз заканчивая фразу Гэйнс издает это "м-м-м-м-м", дрожащий
глухой стон торчка, стон какого-то тайного смеха или удовольствия от удачно
законченной фразы, законченной с некоторым шиком, как в этом случае "парочки
колес барбитуры" - Но даже говоря "Пойду-ка я что ли спать", он добавляет
это "м-м-м-м-м", и ты понимаешь что это просто такой его способ пропеть
сказанное - Вроде как, представьте себе индийского певца выпевающего этот
звук под ритм таблов и дравидийских барабанчиков. Старый гуру Гэйнс, первый
из множества подобных персонажей встретившихся мне с тех наивных времен - И
он продолжает похлопывать по карманам своего халата в поисках утерянной
кодеинетты, забыв что уже проглотил ее прошлой ночью - У него есть типичный
наркомански унылый комод, с зеркалами в полный рост на обеих скрипучих
дверцах, внутри него висят поношенные нью-йоркские одежки чьи карманы после
30 лет наркомании можно уже выпаривать на ложке - "Во многих отношениях",
говорит он, "есть много общего между так называемым торчком и так называемым
художником, оба они хотят чтобы их оставили одних, в покое, наедине с тем
что им нужно больше всего - Они не носятся как угорелые ища чего бы такого
им сделать, потому что самое для них важное у них внутри, и часами могут
сидеть без движения. Они восприимчивы, так сказать, и не гнушаются чтением
хороших книг. Посмотри-ка на эти картины Ороско, которые я вырезал из
мексиканского журнальчика и повесил на стену. Я все время их рассматриваю, я
их люблю - М-м-м-м-м-м".
Он поворачивается, высокий и похожий на чародея, и начинает делать себе
бутерброд. Длинными тонкими белыми пальцами он подцепляет кусочек хлеба,
ловко, будто пинцетом. Затем кладет на хлеб ветчину, тщательно ее укладывая
и подравнивая, эта медитация длится почти две минуты. Потом он кладет сверху
еще один кусочек хлеба и относит бутерброд к себе на кровать, садится на ее
край прикрыв глаза и размышляет о том, способен ли он его съесть, с
зарождающимся м-м-м-м-м-м. "Точно тебе говорю", произносит он начиная вновь
свои поиски старой ватки в прикроватной тумбочке, "у торчка и художника есть
много общего".
Окна его комнаты открываются прямо на мостовую Мехико, по которой
проходят тысячи парней, ребятишек и тараторящих людей - С улицы видны его
розовые занавески, похожие на занавеси персидских покоев, или цыганской
комнатушки - Внутри же стоит растерзанная кровать продавленная посередине,
также прикрытая розовым покрывалом, и удобное кресло (старенькое, но его
длинные старческие ноги удобно свисают с него почти вровень с полом) - Затем
"горелка" на которой он подогревает воду для бритья, что-то вроде старого
электронагревателя перевернутого вверх ногами (честно говоря, никак не могу
припомнить в точности это диковинное, гениальное и очень простое
изобретение, такое могло придти в голову только торчку) - Затем горестное
ведерко в которое старый инвалид ходил в туалет, и вынужден был после
подниматься каждый день вверх по лестнице чтобы опорожнить его в
единственную в доме уборную, услуга которую я всегда оказывал ему когда мне
доводилось жить поблизости, а это случалось уже второй раз - И всякий раз,
поднимаясь наверх с этим ведром под взглядами всех женщин этого дома я
вспоминал чудесные слова Будды: "Вспоминается мне, что за время пятисот
предыдущих перерождений я использовал жизнь за жизнью чтобы практиковать
смирение и взгляд на собственное существование как на покорное служение
праведного существа, призванного страдать беспрекословно" - Или, другими
словами, я знал что в моем возрасте, в 34 года, лучше прислуживать старику
чем ехидствовать в праздности - Я думал о своем отце, вспоминал как помогал
ему сходить в туалет когда он умирал в 1946-м - И не сказать чтобы я был
образцом страдальца, ведь и я более чем внес свою лепту в дело идиотского
греха и глупого хвастовства.
В комнате Быка царила Персия, будто бы он старый Гуру Министр какого-то
восточного Двора временно принимающий наркотики в далеком городе зная
постоянно что его участь - быть отравленным царской женой по некоей старой
зловещей и загадочной причине, о которой он не скажет ничего кроме
"М-м-м-м-м".
И когда старый Министр ехал со мной в такси направляясь в центр города
пополнить свой запас морфия, он всегда садился подле меня касаясь своими
костлявыми коленями моих - Он никогда даже не пробовал ни положить ладонь
мне на руку когда мы были с ним в комнате наедине, ни даже коснуться меня
пальцем чтобы привлечь внимание к своим словам, но на задних сиденьях такси
он становился преувеличенно дряхлым и беспомощным (думаю, чтобы надурить
таксистов) и облокачивался своими сведенными вместе коленями на мои, и даже
обмякал на сиденье как старый обнищавший игрок на скачках - Но при этом,
когда мы вылезали из машины и шли по тротуару, он футов на шесть-семь
отставал от меня держась у меня за спиной, будто мы были друг с другом
незнакомы, что было очередной его уловкой чтобы обмануть шпиков в этой
стране его изгнания ("Человек из Цинциннати"[4], говаривал он) -
Таксист видел инвалида, населенье же мостовых видело дряхлеющего богемного
страца, бредущего в одиночестве.
К этому времени Гэйнс был уже широко известным персонажем, каждый день
своей нью-йоркской жизни он крал по дорогому пальто и закладывал его чтобы
купить торча, такой вот великий вор.
Его рассказ: "Когда первый раз я приехал в Мексику, какой-то козел спер
мои часы - Я пошел в лавку торгующую часами, и в разговоре размахивал там
рукой все время пока не подцепил (выудил) (стибрил) другой рукой себе новые,
и вышел с ними, и квиты! - Я так разозлился что сильно рисковал, но все же
никто меня не заметил - Я должен был вернуть себе часы назад - Ничто не
может быть хуже для старого вора - "
"Спереть часы в мексиканской лавке это кое-что!" сказал я.
"М-м-м-м-м"
Затем он послал меня с поручением: в лавку за угол, купить вареной
ветчины нарезанной специальной машинкой хозяином греком, который был
типичным жмотским мексиканским торгашом но почему-то ему нравился Старый Бык
Гэйнс, и он называл его "Сеньор Гар-ва" (почти как на санскрите) - Потом мне
пришлось тащиться на улицу Инсургентес в Сирс Робак за его еженедельными
Ньюс Рипорт и Тайм, которые он от корки до корки прочитывал сидя в своем
кресле, опьяненный морфием, иногда засыпая прямо в середине какого-нибудь
высказывания в люсовском[5] стиле, но просыпался чтобы дочитать
его начав точно с места где отключился, и все это для того лишь чтобы опять
заснуть на следующей фразе, так и сидел он поклевывая носом, пока я
задумчиво витал в облаках в обществе этого прекрасного и тишайшего человека
- В его комнате, комнате его изгнания, хоть и мрачноватой, как в монастыре.
И еще я должен был ходить в супермеркадо[6] покупать его
любимые конфеты, треугольные шоколадные фигурки со сливочной начинкой и
замороженные - Но когда подходило время идти в прачечную, он отправлялся
вместе со мной чтобы перекинуться там парой шуток со стариком китайцем.
Обычно он спрашивает его: "Где твой опиум?" и рукой изображает опийную
трубочку. "Давай говори, где!"
И маленький сморщенный опиюшник-китаец всегда отвечает "Не знаю совсем.
Не не не"
"Эти китайцы самые хитрожопые торчки в мире", говорит Бык.
Мы залезаем в такси и опять едем в центр, он чуть облокачивается на
меня со слабой улыбочкой - Говорит "Скажи таксисту пусть тормозит у каждой
встречной аптеки, а сам выскакивай и покупай там по трубочке кодеинетты,
держи вот пятьдесят песо". Так мы и делаем. "Незачем палиться по-глупому,
чтобы эти аптекари смекнули что к чему и потом стуканули на нас". И по пути
домой он всегда просит таксиста остановиться у Сине такого-то, ближайшего
кинотеатра, и проходит квартал пешком чтобы таксист не знал где он живет. "И
когда я перехожу границу, меня им не поймать, потому что я держу палец в
заднице!"[7]
Что за дурацкая картина, старик переходящий пешком границу засунув себе
в задницу палец?
"У меня есть резиновый палец, типа тех которые доктора используют.
Заполняю его торчем, засовываю - Никто не может стукануть на меня потому что
у меня палец в заднице! К тому же я всегда перехожу границу в новом месте",
добавляет он.
Когда мы возвращаемся из очередной поездки на такси все домохозяйки
приветствуют его с почтением "Сеньор Гарв-а! Си?" Он открывает свой висячий
замок, потом еще один дверной замок снизу, и толкнув дверь заходит в
комнату, в ней промозгло от постоянной сырости. Сколько не жги тут дымящую
керосиновую печку, не помогает. "Джек, если бы ты действительно хотел помочь
старику, ты отправился бы со мной на Западное Побережье Мексики и мы
поселились бы в крытой травой лачуге, курили местный опиум на солнышке и
разводили цыплят. Вот как хотелось бы мне закончить дни свои".
У него худощавое лицо, с прилизанными водой как у подростка седыми
волосами. Он надевает свои малиновые шлепанцы, садится в кресло и,
убаюканный дозой, начинает перечитывать Очерки Истории. День за днем он
наставляет меня целыми лекциями на самые разные темы. Когда же приходит мое
время удалиться в свою мансарду на крыше и писать, он говорит "М-м-м-м-м,
еще так рано, почему бы тебе не остаться еще немножко".
За розовыми занавесками город жужжит и напевает свое ночное ча-ча-ча. А
тут он все продолжает бормотать: "По всей видимости, тебя интересует
мистика, Джек - "
И я продолжаю сидеть с ним, и когда он ненадолго засыпает, мне не
остается ничего другого кроме как размышлять, и часто я думал так "Да как
может кто-то, утверждающий что он находится в здравом рассудке, назвать
этого кроткого старика злодеем - пусть он десять раз вор, и что это такое,
вор... преступный... как все ваши повседневные почтенные дела... воры?"
За исключением тех времен когда он неистово мучился из-за недостатка
своего лекарства и я по его наводкам должен был мотаться по трущобам, где
его знакомцы по имени Тристесса[8] или Чернушник[9]
сидели за своими собственными розовыми занавесками, я проводил время в
спокойствии на своей крыше, особенно меня радовали звезды, луна, прохладный
воздух здесь наверху, на расстоянии трех лестничных пролетов над гремящей
музыкой улицей. Там я мог сидеть на краю крыши, смотреть вниз и слушать
ча-ча-ча музыкальных автоматов из закусочных с тако[10]. И я
попивал себе потихонечку винцо, мой собственный наркотик полегче (для
приятного возбуждения, доброго сна, созерцания, или просто за
компанию[11]) - и, когда день заканчивался и все прачки дома
засыпали, вся крыша оставалась мне одному. И я расхаживал по ней в своих
мягких пустынных ботинках. Или заходил в домик и ставил на огонь очередной
котелок кофе или какао. И засыпал прекрасно, а просыпался на заре яркого
солнечного дня. Я написал целый роман, закончил еще один, и написал целую
книжку стихов.
Время от времени старый бедняга Бык с мучительным трудом вскарабкивался
по продуваемой ветрами железной лестнице, я готовил ему спагетти и он
задремывал на моей кровати, прожигая в ней дырку сигаретой. Проснувшись, он
начинал рассказывать о Рембо или еще о чем-нибудь таком. Самые долгие его
повествования были об Александре Великом, Эпопее Гильгамеш, Античном Крите,
Петронии, Малларме, и Насущных Проблемах вроде Суэцкого кризиса того времени
(ах, ну какое дело облакам до Суэцкого Кризиса), о старых денечках в
бостонском Таллахасси Лексингтоне[12] и Нью-Йорке, о своих
любимых песенках, и байки про его старого приятеля Эдди Корпорала. "Эдди
Корпорал каждый день приходил в один и тот же магазин, болтал там и хохмил с
продавцом, а потом выходил вон со сложенным вдвое и засунутым за пряжку
ремня костюмом, не знаю уж как это ему удавалось, какой-то у него там был
свой хитрый трюк. Совсем был без тормозов, из тех что старчиваются за пару
лет. Дашь ему пять гран, и он их сразу вмажет, за раз"
"Так чего там с Александром Великим?"
"Это был единственный известный мне полководец который скакал на коне
перед своей кавалерией размахивая мечом", и засыпает опять.
И этой же ночью я вижу Луну, Цитлаполь по-ацтекски, и даже рисую ее на
залитой лунным светом крыше хозяйской краской, в синих и белых тонах.
Вот, стало быть, пример моей мирной жизни в те времена.
Но события нарастали стремительно.
Чтобы эта история стала более понятной взгляните-ка на меня
попристальней (теперь я уже совсем пьян): - Я сын вдовы, которая живет
сейчас с нашими родственниками без гроша в кармане. Все мое имущество
состоит в летнем жаловании горного пожарного смотрителя обращенном в эти
несчастные пятидолларовые туристические чеки - и здоровенном рюкзачище
забитом старыми свитерами, пакетиками орехов с изюмом на голодные времена и
прочим бродяжьим барахлишком - Мне 34, выгляжу вполне обычно, но люди с
подозрением косятся на меня в моих джинсах и пугающем их прикиде, потому что
я и впрямь похож на беглого пациента психушки у которого хватило физической
силы и врожденного собачьего чутья чтобы выбраться из этого заведения,
прокормить себя и скитаться с места на место в мире, который с каждым днем
становится все непримиримее в своих воззрениях на чудачество - Проходя
улицами городов американской глуши, я ловил на себе самые недоумевающие
взгляды - И я был полон решимости прожить жизнь по-своему - Выражение
"нонконформизм" было мне знакомо очень смутно (Адлер? Эрих Фромм?) - Но я
намеревался прожить жизнь в радости! - Достоевский сказал "Дайте человеку
его Утопию и он непременно разрушит ее с ухмылкою" и с той же самой ухмылкой
я собирался опровергнуть Достоевского! - К тому же я был отъявленным
пьяницей который впадал в неистовство всегда и везде стоило лишь ему
добраться до выпивки - Мои друзья в Сан-Франциско прозвали меня Дзенским
Безумцем, ну Пьяным Безумцем это уж точно, и все же сами они сидели и пили
вместе со мной в залитых лунным светом полях - Когда мне был 21 год, меня
списали с Флота как "шизоидную личность" после того как я сказал флотским
докторам что не способен переносить дисциплину - Я даже толком не знаю как
объяснить то что думаю - Когда мои книги стали широко известны (Поколение
Битников) и журналисты пытались задавать мне вопросы, я просто отвечал им
все что взбредет в голову - У меня не хватало духу попросить их оставить
меня в покое, то есть сделать так как позднее предложил Дэйв Уэйн (великий
персонаж "Биг Сура") "Скажи им что занят интервью с самим собой" - С
медицинской точки зрения, в те времена когда начиналась эта история, на
крыше над Гэйнсом, я был типичным Тщеславным Параноиком - Ничто не могло
остановить меня от писания длинных книг прозы и поэзии, безнадежного
писания, то есть без всякой надежды когда-либо это опубликовать - Я писал их
просто потому что был "Идеалистом" и верил в "Жизнь", что и собирался
доказать своей искренней писаниной - Как ни странно, эта писанина оказалась
первой и единственной в своем роде, я разработал (сам не зная того, можно
так сказать?) новый способ описания жизни, никакой литературы, никакой
художественности, никакой обработки собственных мыслей, лишь истовая
преданность этому своему испытанию истинным огнем, когда ты не можешь
остановиться, но должен хранить обет "сказать это сейчас или заткнуться
навсегда", хранить эту непрерывную исповедальность; преданность,
превращающая разум в слугу языка, при полной невозможности лжи или доработки
написанного (в соответствии с установками не только Dichtung
Warheit[13] Гете, но и Католической Церкви моего детства) - Я
писал эти рукописи так же как пишу сейчас и эту, в дешевых блокнотах за цент
штука, при свечах, в бедности и славе - Славе царившей во мне самом - Потому
что я был "Ти Жан"[14], и поэтому так трудно мне все это
объяснять, как и объяснить что значит "Ти Жан" читателям, не знающим
предыстории из прежних книг - А предыстория в том что у меня был брат Жерар,
который перед своей смертью успел рассказать мне многое, хоть я и не помню
ни слова, или вспоминаю что-то, чуть-чуть (мне было всего четыре года) - Но
он рассказывал мне о благоговении перед жизнью, нет, о благоговении перед
идеей жизни, что я понял для себя так что жизнь сама и есть Дух Святой -
Что все мы просто бредем сквозь плоть свою, и голубка взывает к нам,
возвращающимся к Голубке Небесной -
Вот поэтому-то я и писал, чтобы писанием своим почтить все это, и у
меня были друзья, такие как Ирвин Гарден и Коди Померэй, сказавшие что я
делаю это хорошо и поддержавшие меня, хоть я и был так сладостно одержим,
что не прислушался бы даже и к ним, я все равно не остановился бы - И что же
это за Свет такой, низвергающий нас - Свет Падения - Ангелы по-прежнему
Падают - Вот какая смутная догадка, навряд ли ставшая бы темой обсуждения на
семинаре в Нью-йоркском Университете, мелькала у меня, и я падал вместе с
человеком, и вместе с Люцифером, к буддийскому идеалу смиренного чудачества
- (А иначе, зачем стал бы Кафка писать что он был просто большущим
Тараканом) -
Но не думайте все же что я так уж невинен - Бабник,
бродяга[15], я слонялся без дела, надувал старушек, и даже
гомиков, превращался в полного придурка, нет, скорее пьяного
младенца-индейца во времена запоев - И везде получал в морду но никогда не
давал сдачи (разве что в те времена когда был юным напористым футболистом) -
На самом деле, я сам не знаю кем я был - Каким-то лихорадочным существом
изменчивым как снежинка. (Я начинаю говорить как Саймон, который скоро
появится здесь). В любом случае, поразительным клубком противоречий
(неплохо, по-уитменовски), место которому скорее на Святой Руси 19 века чем
в этой современной Америке стриженных затылков и злобных рож в Понтиаках -
"Все ли я высказал?" спросил лорд Ричард Бакли перед смертью.
Короче, события надвигались: - ребята ехали в Мехико-Сити чтобы
встретиться со мной. Снова Ангелы Одиночества.
Ирвин Гарден также как и я был художником, автором великой и необычной
поэмы "Вой", но никогда не нуждался в одиночестве в том смысле который я
вкладываю в это слово, он постоянно был окружен друзьями и зачастую дюжиной
каких-то бородатых людей постучавшихся легонько в его двери в середине ночи
- Ирвин всегда появлялся вместе со своей тусовкой, как вы уже знаете,
начиная со своего спутника и любовника Саймона Дарловского.
Ирвин был гомосексуалистом и говорил об этом публично, вызывая этим
негодование всех, будь они в деловых костюмах или тренировочных штанах, от
Филадельфии и до Стокгольма - Так, недавно на пути ко мне (а я не
гомосексуалист) в Мексику Ирвин разделся догола на поэтических чтениях в
Лос-Анджелесе, когда кто-то из публики заорал ему "Что это ты имеешь в виду,
нагая?" (имея в виду выражения типа "нагая красота" или "нагая
откровенность" которые он использовал в своих стихах) - Тогда он разделся и
стоял там голый перед мужчинами и женщинами, впрочем все они были видавшим
виды невозмутимым сборищем бывших парижских эмигрантов и сюрреалистов -
Он приехал ко мне в Мексику с Саймоном, белокурым парнишкой русских
кровей, который изначально не был гомиком, но полюбил Ирвина, его "душу" и
поэзию, и поэтому последовал за своим Мастером во всем - а еще Ирвин привез
с собой в Мексику двоих ребят[16], одним из которых был
саймоновский братишка Лазарус (15 с половиной лет) а другим Рафаэль Урсо из
Нью-Йорка, великий молодой поэт (позднее написавший "Атомную бомбу" которую
перепечатал журнал Тайм специально чтобы показать ее нелепость, но она всем
наоборот очень понравилась) -
Кстати говоря, читатель должен понимать что став писателем я
познакомился со многими гомосексуалистами - 60-70% наших лучших писателей
голубые, видимо секс с мужчинами этому как-то способствует, и конечно я
постоянно встречался с ними, общался, обменивался рукописями, встречал их на
вечеринках, поэтических чтениях, везде - Это не мешает
писателю-негомосексуалисту быть писателем или объединяться с ними - Точно в
таком же положении был и Рафаэль, который просто "знал всех" также как и я -
Я мог бы выдать вам список гомосексуалистов в искусстве в милю длиной, но не
вижу никакого смысла находить какой-то цимес[17] в этом
безвредном и вполне нейтральном факте - Каждому свое.
Ирвин написал мне письмо и сказал что они появятся через неделю,
поэтому я заторопился и закончил свой роман исступленным запойным писанием
как раз ко времени их приезда, но они опоздали на две недели из за дурацкой
задержки en route в Гвадалахаре, посещения какой-то занудной поэтессы. Так
что в конце концов мне оставалось только сидеть на краю своей
техадо[18] крыши пялясь вниз на улицу и ожидая когда же появятся
идущие вдоль по Оризабе четверо Братьев Маркс[19]
Все это время старый Гэйнс тоже нетерпеливо ждал их приезда, годы
изгнания (вдали от семьи и законов США) заставили его почувствовать себя
одиноким и кроме того он отлично знал Ирвина по старым временам на
Таймс-сквер когда (в 1945-м) мы с Ирвином, Хаббардом и Хаком мотались по
барыжьим барам вырубая себе дозняк. В те дни Гэйнс был в зените своей славы
одежного вора и частенько читал нам целые лекции по археологии и
антропологии, иногда прямо перед статуей Отца Даффи, несмотря на то что
никто его толком не слушал. (Собственно, это я первый дошел до гениальной
идеи послушать что говорит Гэйнс, впрочем нет, Ирвин тоже к нему
прислушивался, даже в те давние времена).
Теперь вы понимаете что за чудной чувак этот Ирвин. Во времена наших с
Коди путешествий на дороге он ездил за нами в Денвер, возя с собой повсюду
свои апокалиптические поэмы и сумасшедшие глаза. Теперь, став знаменитым
поэтом, он как-то поуспокоился, стал делать все то что ему хотелось делать
всегда, путешествовать еще больше прежнего, впрочем писать стал меньше, но
по-прежнему сматывая в клубок нити своего замысла - так и подмывает назвать
его "Мамаша Гарден".
Ночью, сидя на краю крыши, я воображал как они приедут, и что я сделаю
тогда, кину в них камушком, заору, как-нибудь уж собью их с толку, но на
самом деле я никак не мог по-настоящему представить себе их приезд в
обыденной реальности.
Я спал, просидев всю ночь карябая стишки и блюзовые песенки при свече,
обычно я спал до полудня. Дверь проскрипела настежь и в нее вошел Ирвин,
один. Там, в Фриско, поэт Бен Фэган сказал ему: "Как будешь в Мексике
черкани мне письмецо и напиши что первое ты увидел в комнате Джека". Он
ответил в письме: "Драные штаны свисающие с гвоздя в стене". Он стоял
рассматривая комнату. Я протер глаза и сказал "Черт тебя дери, ты опоздал на
две недели".
"Мы ночевали в Гвадалахаре и врубались в Алису Набокову, странную
поэтессу. У нее чумовые попугаи, квартира и муж - А ты как, Джеки?" и он
ласково положил руку мне на плечо.
Как это странно, какой все же долгий путь проходят люди в этой жизни,
мы с Ирвином, когда-то давно подружившиеся в кампусе Колумбийского
Университета в Нью-Йорке, стоим сейчас друг перед другом в глинобитной
лачуге в Мехико-Сити, так вот людские судьбы струятся себе неторопливо
длинными червями через ночную площадь - Взад и вперед, вверх и вниз, в
болезни и здравии, и хочется спросить, неужто судьбы наших предков текли так
же? "Как протекали жизни наших предков?"
Ирвин говорит "Сидели они себе по домам да хихикали. Давай же, вставай
наконец. Мы идем сейчас в центр смотреть на Воровской Рынок. Всю дорогу от
Тихуаны Рафаэль сочинял безумные стихи о злом роке Мексики, хочу теперь
показать ему настоящий злой рок, продающийся на рынке. Видел эти поломанные
куклы без рук которых они тут продают? И старые ветхие изъеденные червями
ацтекские деревянные статуэтки которые и в руки-то взять страшно? - "
"Старые открывашки"
"Чудные старые продуктовые сумки 1910 года".
Опять мы за свое, стоит нам встретиться как разговор становится похож
на раскачивающееся взад-вперед стихотворение, прерываемое рассказываемыми
байками. "Хлопья свернувшегося молока в гороховом супе"
"Ну а как тут с квартирами?"
"Прежде всего, ага, надо квартиру снять, Гэйнс сказал что внизу есть
одна, дешево, и с кухней".
"А где остальные?"
"Все у Гэйнса"
"И Гэйнс говорит"
"Гэйнс говорит и рассказывает им о Минойской Цивилизации. Пошли"
В комнате Гэйнса Лазарус, 15-летний чудила который никогда не говорит,
сидит и слушает Гэйнса честно глядя невинными глазами. Рафаэль плюхнувшись в
кресло старика наслаждается лекцией. Гэйнс ораторствует сидя на краю своей
кровати и зажав кончик галстука в зубах, потому что как раз перетягивает
себе руку чтобы выступила вена или случилось наконец что-то чтобы он мог
вмазаться шприцом с морфием. Саймон стоит в углу с видом русского святого
старца. Это великое событие. Мы все вместе в одной комнате.
Ирвин получил дозняк от Гэйнса, лег на кровать под розовыми занавесками
и махнул нам рукой. Детка Лаз получил стаканчик гэйнсовского лимонада.
Рафаэль пролистывал Очерки Истории желая знать гэйнсову версию жизнеописания
Александра Великого. "Я хочу быть как Александр Великий", вопил он, как-то
так получалось что он всегда вопил, "Хочу одеваться в роскошные
полководческие одежды усыпанные алмазами, грозить своим мечом Индии и
смотаться поглазеть на Самарканд!"
"Ага", сказал я, "но ты же не хочешь чтобы убили твоего старого друга
лейтенанта и вырезали целую деревню женщин и детей!" Начался спор. Так мне
вспоминается этот день, первым делом мы начали спорить об Александре
Македонском.
Рафаэль Урсо тоже мне нравился, несмотря на, а может наоборот, из-за
наших старых разборок по поводу одной "подземной" девчонки, как я уже
рассказывал раньше[20]. И он тоже вроде как хорошо ко мне
относился, хоть и говорил про меня за глаза всякую хрень, впрочем он болтал
так про всех. Так и сейчас, отойдя в угол он шепнул мне на ухо "Этот твой
Гэйнс мерзкий урод!"
"Это ты о чем?"
"Пришел день горбуна, уродец льстивый..."
"Но я-то думал что он тебе нравится!"
"Смотри, вот мои стихи - " Он показал мне блокнот исписанный
чернильными каракулями и рисунками, превосходными и жуткими зарисовками
истощенных детей пьющих "Кока-колу" из здоровенных бутылок с ножками и
сиськами, наверху завиток волос со словами "Злой рок Мексики" - "В Мексике
царит смерть - Я видел ветряную мельницу чье колесо гнало смерть сюда - Мне
здесь не нравится - и этот твой Гэйнс просто мерзкий урод".
Это чисто для примера. Но все-таки я любил его, за чрезмерность его
горестных раздумий, за то как он стоит на углу, глядя под ноги, ночью, рука
прижата ко лбу, не зная куда ему податься в мире этом. Он чувствовал также
как и все мы, но драматизируя до крайности. И в его стихах это выражено
лучше всего. И поэтому назвать немощного бедолагу Гэйнса "уродом" было для
Рафаэля лишь проявлением его беспощадного но искреннего ужаса.
Что же касается Лазаруса, то спросишь его "Эй Лаз, как дела?" и он
поднимет свои невинные и кроткие синие глаза с легким намеком на улыбку,
такую херувимскую почти что, печальный, и никакой ответ уже не нужен. По
правде говоря, он напоминал мне моего брата Жерара больше чем кто-либо
другой в мире. Он был высоким сутулящимся подростком, прыщавым, но с
красивыми чертами лица, совершенно беспомощным без поддержки и
покровительства своего брата Саймона. Он не был способен правильно
пересчитать деньги, спросить дорогу не попав при этом в передрягу, а в
особенности устроиться на работу, разобраться в каких-нибудь официальных
бумажках или даже в газете. Он был на грани впадения в кататонию, подобно
своему старшему брату находящемуся сейчас в психушке (между прочим, тому
самому старшему брату который всегда был его кумиром). Если б не было
Саймона с Ирвином которые присматривали за ним, защищали, обеспечивали
жильем и кормежкой, его самого тоже быстренько сцапали бы. И не то чтобы он
был полным кретином, или слабоумным. На самом деле он был просто умницей. Я
видел письма написанные им в возрасте 14 лет, до его недавнего обета
молчания: они были совершенно нормальными и уровнем выше среднего, пожалуй
он был восприимчивей и писал лучше чем я в свои 14 когда сам был таким же
простодушным и замкнутым чудовищем. Что же до его увлечения, рисования, то
он был лучше большинства ныне живущих художников, и я всегда знал что он
настоящий юный гений-художник сторонящийся людей чтобы те оставили его в
покое, и не заставляли бы устраиваться на работу. Я частенько подмечал его
странный взгляд обращенный ко мне искоса, похожий на взгляд собрата или
сообщника в мире суетливых зануд, что-то вроде того -
Такой взгляд говорил: "Я знаю Джек, ты понимаешь зачем я это делаю, и
ты делаешь то же самое, но по-своему". Потому что Лаз, точно так же как и я,
проводил целые дни неподвижно глядя в пространство, не делая вообще ничего,
кроме разве расчесывания своих волос, просто вслушиваясь в собственное
сознание как будто он тоже был наедине со своим Ангелом-Хранителем. Обычно
Саймон был чем-то занят, но во время своих полугодовых "шизофренических"
приступов он избегал людей и тоже сидел у себя в комнате ничего не делая.
(Говорю вам, это были настоящие русские братья) (Если точнее, то с примесью
польских кровей).
Когда Ирвин впервые встретился с Саймоном, тот показывал на деревья и
говорил "Видишь, они машут мне и кланяются приветственно". Помимо его этого
своего маняще причудливого туземного мистицизма, он был парнишкой с
ангельским характером и, к примеру, зайдя в комнату Гэйнса он сразу вызвался
оттащить стариково ведерко наверх, даже сполоснул его там, и спустился вниз
улыбаясь и кивая любопытным тетушкам (толпящимся на кухне возле кастрюлек с
варящимися бобами и жарящимися тортильями) - Потом он подмел комнату веником
с совком непреклонно гоняя нас с места на место, вытер стол и спросил Гэйнса
не нужно ли ему что-нибудь из магазина (чуть ли не поклонившись ему при
этом). В качестве иллюстрации его отношения ко мне, когда он (позже) принес
мне на сковородке яичницу из двух яиц и сказал "Ешь давай! Ешь!", и я
отказался потому что не был голоден, он заорал "Ешь черт тебя дери! Лучше
поберегись, а то сделаем революцию и придется тебе работать на шахтах!"
Так что теперь с приездом Саймона, Лаза, Рафаэля и Ирвина стала
происходить куча обалденно забавных вещей, особенно когда мы все собрались
вместе с хозяйкой дома обсудить вопросы оплаты их новой квартиры на первом
этаже с окнами выходящими на мощеный плиткой внутренний дворик.
Родом хозяйка была откуда-то из Европы, по-моему француженкой, и
поскольку я предупредил ее что должны приехать "поэты", она сидела на диване
с видом вежливым и приготовившись что на нее сейчас будут производить
впечатление. Но ее представление о поэтах сводилось к какому-нибудь Де-Мюссе
в плаще или элегантному Малларме - а тут перед ней предстала шайка бандитов.
И Ирвин предложил ей всего 100 песо или что-то вроде под предлогом
отсутствия горячей воды и достаточного количества кроватей. Она сказала мне
по-французски: "Monsieur Duluoz, est ce qu`ils sont des poetes vraiment ces
gens?"[21]
"Qui madame", ответил за меня Ирвин самым своим светским тоном, входя в
образ, как он это называл, "дрессированного венгра" "Nous sommes des poetes
dans la grande tradition de Whitman et Melville, et surtout, Blake"
" Mais, ce jeune la" Она показала на Лаза. "Il est un poete?"
"Mais certainement, dans sa maniere" (Ирвин)
"Eh bien, et vous n`avez pas l`argent pour louer a cinq cent pesos?"
"Comment?"[22]
"Пять сто песо - cinquo ciente pesos[23]"
"А", сказал Ирвин переходя на испанский, "Si, pero el
departamento[24] n`est pas assez grande[25] для всей
толпы".
Она понимала все три языка и ей пришлось сдаться. Теперь, когда все
было улажено, мы помчались в город на Воровской Рынок, но только мы
появились на улице, как какие-то мексиканские чуваки с банками колы в руках
издали длинный протяжный свист при виде нас. Я разозлился, и не только
потому что мне приходилось терпеть теперь такое в компании своей
разношерстной и безумной тусовки, но и потому что мне казалось это просто
несправедливым. Однако Ирвин, старый международный тусарь, сказал "Это они
не пидорам свистят, или что ты там себе вообразил в своей паранойе - это
свист восхищения"
"Восхищения?"
"Ясно дело" и через несколько ночей точно, мексиканцы постучались в
наши двери с бутылками мескаля (неочищенной текилы) в руках, желая выпить и
закорешиться с нами, тусовка мексиканских студентов-медиков, и как позже
выяснилось, живущих двумя этажами выше нас.
Свою первую прогулку по Мехико мы начали с улицы Оризаба. Впереди шли
мы с Ирвином и Саймоном, болтая; Рафаэль (подобно Гэйнсу) шел чуть в
стороне, у обочины, задумавшись; и Лазарус топал своей неторопливой
чудо-юдской походочкой в полуквартале за нами, иногда начиная пялиться на
сентаво у себя на ладони в раздумьях как бы ему купить себе мороженого с
газировкой. В конце концов обернувшись мы увидели как он заходит в рыбную
лавку. Нам пришлось разворачиваться и идти его вызволять. Он стоял там перед
хихикающими мексиканскими девчонками протягивая руку с горстью сентаво и
повторял "Мороженое, газировка - хочу мороженого с газировкой" своим смешным
нью-йоркским выговором, бормоча и глядя на них простодушно.
"Pero, senor, no comprende"[26]
"Мороженое газировка"
И когда Ирвин с Саймоном мягко вывели его вон, он, как только мы
продолжили свой путь, опять отстал от нас на полквартала и (как прорыдал
безутешный Рафаэль) "Бедняга Лазарус - разглядывает свои песо! Потерялся в
Мексике и не может понять песо! Что-то будет с бедным Лазарусом! Как
грустно, как грустно, эта жизнь, ну что за жизнь, ну как это вынести!"
Но Ирвин с Саймоном радостно шагали вперед к новым приключениям.
Так что моя спокойная жизнь в Мехико-Сити подошла к концу, хоть я и не
особо огорчился, потому что с писательством на какое-то время было
покончено, но когда на следующее утро, когда я сладко спал на своей
отшельнической крыше, ко мне ворвался Ирвин с воплями "Вставай! Мы едем в
Университет Мехико-Сити!", это было уже слишком.
"На кой черт мне этот Университет Мехико-Сити, дай поспать спокойно!"
Мне снилась моя таинственная гора в которой воплотился весь мир, все и вся,
к чему эта дурацкая суета?
"Ты придурок", сказал Ирвин, редкий случай когда с его языка сорвалось
то что он на самом деле обо мне думает, "как ты можешь дрыхнуть тут целый
день, ничего не видя и не слыша, зачем вообще тогда жить?"
"А ты скрытный ублюдок, и я вижу тебя насквозь".
"Правда что ли?" внезапно заинтересовался он и присел на мою кровать.
"Ну и как, чего ж ты видишь?"
"Вижу как куча маленьких Гарденов собирается слоняться по миру всю
жизнь валяя дурака до самой смерти и болтая о всяких дурацких чудесах". И
начинается наш старый спор о Самсаре и Нирване, хотя высочайшее буддистское
учение (то есть Махаяна) и утверждает что не существует разницы между
Самсарой (этим миром) и Нирваной (отсутствием мира), и вполне может быть что
так оно и есть. Ну и Хайдеггер этот еще, со своими "сущностями" и "ничто".
"А раз так", говорю я, "то я собираюсь спать дальше".
"Но Самсара это же просто крестик загадочной отметины на поверхности
Нирваны - как ты можешь отвергать этот мир и не замечать его, как ты
пытаешься делать, хоть и довольно неудачно, ведь мир это оболочка твоих
истинных желаний и ты должен знать его!"
"И из этого следует что я должен трястись на вонючих автобусах в
идиотский университет со стадионом в форме сердечка или еще какой-нибудь
хренью, так что ли?"
"Но это же большой международный знаменитый университет, там куча
врубных чуваков[27], анархистов, есть даже студенты из Дели и
Москвы - "
"Так на хуй эту Москву!"
Тем временем ко мне на крышу забирается Лазарус таща за собой стул и
груду новехоньких книжек которые он вчера упросил Саймона ему купить (причем
довольно дорогих) (книг по рисованию и искусству) - Он ставит свой стул на
краю крыши, на солнышке, под хихиканье прачек, и начинает читать. Но не
успели мы с Ирвином в моей комнатушке закончить наш спор о Нирване, как он
встает со стула и спускается вниз оставив стул и книги на крыше - и никогда
больше даже не взглянув в их сторону.
"Это идиотизм!" кричу я. "Я поеду с тобой чтобы показать тебе Пирамиды
Теотиуакана или еще что-нибудь интересное, но не тащи меня на эту дебильную
экскурсию - " Но дело кончается тем что я иду с ними, потому что мне
интересно куда их понесет потом.
В конце концов, единственный смысл жизни или повести в том "Что же
будет потом?"
В их квартире на первом этаже творился полный бардак. Ирвин с Саймоном
спали на двуспальной кровати в единственной спальне. Лазарус спал на хлипком
диванчике в гостиной (по своему обыкновению, закутавшись в единственную
простыню подогнутую со всех сторон, как мумия), и Рафаэль у противоположной
стены на другом диванчике и того короче, свернувшись на нем не снимая всех
своих одежек, маленькой печальной но горделивой кучкой.
И кухня была уже завалена всеми этими манго, бананами, апельсинами,
стручками гороха гарбанзо, яблоками, капустой и кастрюлями купленными нами
вчера на рынках Мехико.
Я всегда сидел там с банкой пива в руке наблюдая за ними. И стоило мне
свернуть косяк, как они немедленно выкуривали его, впрочем не произнося при
этом ни слова.
"Я хочу ростбиф!" заорал Рафаэль просыпаясь на своем диванчике. "Где
тут у них мясо? В этой Мексике смерти должна быть куча мяса!"
"Сначала мы едем в университет!"
"А я сначала хочу мяса! С чесноком!"
"Рафаэль!", кричу я, "когда мы вернемся из этого ирвиновского
университета я свожу тебя к Куку, где ты сможешь съесть здоровенный бифштекс
на кости, а кость кинуть потом через плечо как Александр Великий!"
"Хочу банан", говорит Лазарус.
"Ты их все ночью слопал, маньяк!" говорит Саймон брату, заправляя при
этом аккуратно его постель подоткнув простынку под одеяло.
"Ах как прелестно", говорит Ирвин появляясь из спальни с рафаэлевым
блокнотом в руках. И громко цитирует: "Всплеск пламени соломенной вселенной,
фонтаном искр исчезают чернила Лжи"[28] Ух ты, вот это да -
врубаетесь как это прекрасно? Вся вселенная в огне, и какой-то
хитрец[29] вроде того проныры у Мелвилла пишет историю этого мира
на воспламеняющейся ткани или типа того, и вдобавок еще и исчезающими
чернилами, вот это прикол, всех обставил, так маги создают миры и потом
оставляют их медленно растворяться".
"Разве этому учат в университетах?" говорю я. Но в конце концов мы
отправляемся. Мы садимся в автобус, едем много миль и ничего не происходит.
Мы бродим по громадному ацтекскому кампусу и разговариваем. Единственным
запомнившимся мне событием дня была статья Кокто в парижской газете,
прочитанная мною в читальном зале. Видимо самым интересным в этот день и был
этот огненный маг симпатических чернил.
Вернувшись в город я повел всех в ресторанчик Куку, а потом в бар на
углу Коахуилы и Инсургентес. Этот ресторанчик много лет назад присоветовал
мне Хаббард (встреча с ним еще ждет нас) как неплохой (для этого индейского
города) и забавный венский ресторан, которым заправлял малый из Вены, очень
бойкий и тщеславный. Там можно было пообедать прекрасным супом за 5 песо с
кучей всякой всячины которой хватает чтобы наесться на целый день, и конечно
же громадными бифштексами на кости со всяческими подливами и гарнирами, и
все удовольствие за 80 центов на американские деньги. Сидишь там да лопаешь
эти здоровенные бифштексы в полутьме при свечах и запиваешь отличным
бочковым пивом. И в те времена о которых я пишу, белокурый хозяин-венец
энергично бегал по ресторану присматривая все ли в порядке. Но вот вчера
вечером (сейчас, в 1961-м) я опять зашел туда, и он спал развалившись в
кресле на кухне, официант стоя в углу поплевывал в потолок, а в ресторанном
туалете не было воды. И мне принесли старый паршивый плохо прожаренный
бифштекс засыпанный картофельными чипсами - но в те времена бифштексы еще
были отличными и ребята долго мучились пытаясь разрезать их ножами для
масла. Я сказал, "Говорил же я вам, надо есть как Александр Великий,
руками", так что после нескольких опасливых взглядов в окружающую полутьму
они ухватились за свои бифштексы и вцепились в них жадными зубами. Но
выглядели они при этом очень смущенными, как же так, все ж таки в ресторане!
Этой ночью, когда мы вернулись в квартиру и ручейки дождя зажурчали по
дворику, Лаза вдруг начало лихорадить и он слег в постель - Старый Бык Гэйнс
нанес ежевечерний визит надев свой лучший краденый твидовый пиджак. Лаза
мучил какой-то загадочный вирус который многие американские туристы цепляют
приехав в Мексику, и не дизентерия даже, а что-то такое непонятное. "Одно
верное средство", говорит Бык, "хороший дозняк морфия". Так что Ирвин с
Саймоном встревоженно это обсудив решили попробовать. На Лаза было жалко
посмотреть. Пот, судороги, тошнота. Гэйнс уселся на краю застеленной
простыней кровати, перетянул ему руку, всадил в нее одну шестнадцатую грана,
и утром Лаз вскочил как ни в чем не бывало и ломанулся искать мороженое с
газировкой. Что заставляет понять что запреты на наркотики (или, лекарства)
в Америке создаются докторами которые не хотят чтобы люди могли лечить себя
сами -
Аминь, Анслингер[30] -
И вот настал этот по-настоящему великий день когда мы вместе
отправились к Пирамидам Теотиуакана - Вначале мы сфотографировались у
какого-то фотографа, перед Прадо - Мы стояли там горделиво, мы с Ирвином и
Саймоном стоя (сегодня я изумляюсь тому как широки тогда были мои плечи), и
Рафаэль с Лазом присев на корточки перед нами, как настоящая Команда.
Как это грустно. Как на старых побуревших от времени фотографиях на
которых отец моей матери вместе со своей тусовкой позируют горделиво в
Нью-Гэмпшире 1890-го - Их усы, свет освещавший их головы - или как на старых
фотках найденных на чердаке заброшенной коннектикутской фермы и
запечатлевших дитя 1860 года в колыбели, умершее уже дитя, и на самом-то
деле ты сам уже умер - Свет старого Коннектикута 1860 заставил бы Тома
Вульфа уронить слезинку на потемневшее фото неведомой и гордой
хлопотуньи-матери ребенка - Но наш снимок напоминает мне старые времен
Гражданской Войны Фотографии Однополчан Томаса Бреди, гордые плененные
Конфедераты смотрят на Янки но такие они славные что трудно увидеть за этим
какую-то ненависть, только эту старую уитменовскую сентиментальность,
заставлявшую Уитмена рыдать и ухаживать за ранеными -
Мы вскакиваем в автобус и с грохотом трясемся в нем всю дорогу до
Пирамид, миль 20-30, несясь по заросшим агавами полям - Лазарус глазеет на
странных мексиканских лазарусов, глазеющих на него с той же святой
невинностью, но не голубыми а карими глазами.
Приехав, мы идем к пирамидам все тем же беспорядочным порядком, мы с
Ирвином и Саймоном впереди разговаривая, Рафаэль чуть в стороне в
задумчивости, и Лаз в 50 ярдах сзади шлепая ногами как Франкенштейн. Мы
начинаем восхождение каменными ступенями Пирамиды Солнца.
Все огнепоклонники чтили солнце, и когда они жертвовали кого-нибудь
солнцу поедая его сердце, на самом деле они вкушали Солнце. Эта Пирамида
была воплощением кошмаров, здесь они клали жертву спиной над каменной
раковиной и вырезали ее бьющееся сердце одним или двумя взмахами сердцереза,
поднимали это сердце к солнцу, и затем съедали его. Чудовищные жрецы, теперь
и ребенка ими не испугаешь. (В современной Мексике дети на День Всех
Святых[31] едят конфетные сердечки и черепа).
Потому что все эти индейские страшилки на самом деле сон старого
немецкого фантазера.[32]
И когда мы забрались на самую вершину Пирамиды, я поджег самокрутку с
марихуаной чтобы мы могли вместе почувствовать это место. Лазарус воздел
руки к солнцу, прямо в небеса, хотя никто из нас не рассказывал ему об этом
месте и не объяснял как здесь следует себя вести. И хоть он и выглядел при
этом глуповато, я понял что на самом деле он понимает больше любого из нас.
Не считая вашего плюшевого мишки...
Он протянул руки вверх и честное слово где-то секунд тридцать пытался
схватить солнце руками. Я же, считавший себя выше всего этого и сидящий
великим Буддой в позе медитации на вершине горы, оперся рукой о землю, и тут
же почувствовал жгучий укус. "Боже мой, меня укусил скорпион!", но я
взглянул вниз на свою кровоточащую руку и увидел что это был всего лишь
осколок битого стекла оставленный туристами. Так что я просто замотал себе
руку красным шейным платком.
Но сидя там, укуренный и погрузившись в размышления, я начал понимать
об истории Мексики кое-что о чем не прочесть в книжках. Усталые гонцы
приносят весть что все Тексако затянулось багровой дымкою войны. Блестит
тревожно озеро Тексоко на горизонтах юга, а с запада чудовищный угрозы
призрак, там царство кратера: - Империя ацтеков. Ох. Жрецы Теотиуакана
ублажают сонмы богов, придумывая новых на ходу. С вершины этой погребальной
две мощные империи видны невооруженным глазом, лишь 30 миль до них. Они же в
ужасе отводят взгляд на север туда где высится округло ровная гора за
пирамидами на чьей вершине травянистой (где я сидел осознавая) без сомнения
живет в своей лачуге дряхлеющий мудрец, Король Теотиуакана. По вечерам они
взбираются к нему прося совета. В ответ он машет им пером как будто мир ему
неинтересен и говорит "О!", или скорее даже "Ух ты!"
Все это я рассказал Рафаэлю который тут же прикрыл глаза зорким
козырьком своей полководческой руки и принялся всматриваться в сверкание вод
Озера. "Бог ты мой, да ты прав, ну и стремак же тут был!" Но когда я
рассказал о горе, там позади, и о Мудреце, он сказал только "Ну да,
какой-нибудь чудила-козопас Эдип". А Лазарус все пытался схватить солнце.
Ребятишки подбежали к нам пытаясь продать то что они называли
настоящими древностями найденными под землей: маленькие каменные головы и
тела. Какие-то мастера изготавливали превосходно сделанные подделки,
выглядящие очень древними, в деревне внизу где в обскуре[33]
сумерек мальчишки играли в печальный баскетбол (Ух ты, прямо как в Дарелле и
Лоури[34]!)
"Давайте исследуем пещеры!" кричит Саймон. В тот же момент на вершину
влезает какая-то американская туристка и просит нас посидеть спокойно чтобы
она могла сфотографировать нас на цветную пленку. На этой фотографии я сижу
по-турецки с перевязанной рукой отвернувшись глядя на машущего Ирвина и
хихикающих остальных: позже она прислала нам фотку (по оставленному адресу)
из Гвадалахары.
Спускаемся исследовать пещеры, ходы под Пирамидой, мы с Саймоном
прячемся в тупичке одной из пещер и когда Ирвин с Рафаэлем на ощупь выходят
к нам, вопим "Ууууу!" Лазарус же чувствует себя как дома, молчаливым
призраком топоча вверх-вниз по пещерам. Его не испугал бы даже ураган в
ванной комнате. А что касается меня, то последний раз я играл в страшилки во
время войны в море неподалеку от берегов Исландии.
Затем мы выбираемся из пещер и идем через поле в сторону Пирамиды Луны,
здесь куча муравейников, и вокруг каждого из них кипит лихорадочная
деятельность. Рафаэль кидает веточку на вершину одной из Спарт и все ее
воины спешат к ней и торопятся ее унести дабы не потревожить покой Сенатора
с его сломанной скамьей[35]. Мы кладем еще одну ветку, побольше,
и эти сумасшедшие муравьи уносят и ее прочь. Целый час, выкуривая косяк за
косяком, мы проводим склонившись над муравейниками и рассматриваем их. Но не
наносим вреда ни одному их обитателю. "Посмотрите на вон того чувака, он
ломится с края муравейника таща кусок дохлого скорпиона к той дыре - "
Забивает себе дырку мясными припасами на зиму. "А прикиньте, будь у нас
банка меду, они б точно выпали на измену что начался
Армагеддон?"[36]
"И принялись бы читать длинные мормонские молитвы голубкам".
"И строить храмы скрепляя их муравьиной мочой?"
"На самом-то деле Джек - они просто начали бы ныкать этот мед куда
подальше, а о тебе даже и не вспомнили бы" (Ирвин).
"Интересно, а у них там в муравейнике есть муравьиные больницы?" Мы
наклонились над муравьиным поселением все впятером рассматривая его с
любопытством. И когда мы насыпали им маленькие холмики песка, муравьи тотчас
мобилизовывались на общественные работы общегосударственной важности по их
растаскиванию. "Можно раздавить всю деревню, заставив их парламент трястись
в гневе и ужасе! Одним движением ноги!"
"А когда ацтекские жрецы оттопыривались там наверху, эти ребята-муравьи
как раз начинали копать свой подземный супермаркет".
"Видать немало уже накопали"
"Можно взять лопату и исследовать их ходы - Господь должно быть пожалел
этих букашек ни разу на них не наступив" конечно это была чистая болтовня,
но не успели мы договорить как Лазарус поворачивается и задумчиво
безразлично топает назад к пещерам оставляя исполинские следы прямо по
нескольким аккуратным римским поселениям.
Мы идем вслед за ним аккуратно обходя все муравейники. Я говорю:
"Ирвин, разве Лаз не слышал как мы говорили о муравьях - битый час?"
"А, ну да" радостно "но теперь он думает о чем-то другом"
"Но он же идет прямо по ним, прямо по их домам и головам - "
"Ну да"
"Своими здоровенными ужасными ботинками!"
"Ага, но думает он о чем-то другом"
"Что?"
"Не знаю - если бы он ехал на велосипеде было б еще хуже"
И мы смотрим как Лаз топает прямо через Поле Луны к своей цели, а
именно удобному камешку чтоб присесть.
"Он чудовище!" кричу я.
"Ну а ты тоже не меньше его чудовище, если ешь мясо - подумай обо всех
этих милейших бактериях которых ждет отвратительный путь сквозь катакомбы
твоих едких кишок!"
"И все они превращаются в мохнатых букашек!" добавляет Саймон.
И, так же как Лазарус прошел по муравейникам, так и Господь ступает по
нашим судьбам, и вот мы труженики и воины суетимся встревоженными
букашками[37] пытаясь побыстрее залатать ущерб, хотя в конце
концов все это так безнадежно. Потому что ступня Господня больше ступни
Лазаруса и всех Тексоко, Тексако и завтрашних Маньянас[38]. И вот
стоим мы в сумерках на автобусной остановке и смотрим как индейские
ребятишки играют в баскетбол. Под старым деревом стоим мы, на перекрестке
двух проселочных дорог, и пыль медленно пропитывает нас, принесенная
степными ветрами Мексиканского Плоскогорья, унылее которых не найти нигде,
разве может осенью, в Вайоминге, поздним октябрем...
P.S. Последний раз когда я был в Теотиуакане, Хаббард сказал мне
"Хочешь взглянуть на скорпиона, парень?", и приподнял камень - Под ним
сидела самка скорпиона возле скелета своего спутника, сожранного ею ранее -
С воплем "Ааааа!" Хаббард схватил здоровенный камень и с размаху обрушил его
на эту сценку (и хоть мы с Хаббардом очень разные люди, на этот раз я с ним
был согласен).
Какой же невероятно тусклой кажется реальность после всех твоих
мечтаний о ликующих улицах полных беззаботных шлюх и ликующих ночных клубах
с танцами до рассвета, но в конце концов дело кончается тем же что и у нас с
Ирвином и Саймоном, однажды ночью мы вышли вместе на улицу изумленно
вглядываясь в безучастную костистость ночной мостовой - Хотя в конце
переулка и мелькало что-то похожее на неоновые огоньки, переулок этот был
совершенно безрадостен, невыносимо, невозможно безрадостен - Мы вышли из
дома приодевшись более-менее повеселей, таща за собой упирающегося Рафаэля и
собираясь на танцы в Бомбейский Клуб, но как только отрешенно задумчивый
Рафаэль почувствовал вонь дохлой собачятины пропитавшую эти улицы, увидел
замызганные одинаковые костюмчики певцов мариачи[39], услышал
рыдания хаоса и безумного ужаса что суть ночные улицы современного города,
как тут же укатил домой на такси сказав "К чертовой матери все это, хочу
Эвридику и рог Персефоны - и не хочу лазить тут по грязюке через всю эту
мерзость"
Но Ирвин, от природы обладающий непреклонной и деспотичной веселостью,
увлекает нас с Саймоном к этим порочным огням - В Бомбейском Клубе десяток
безумных мексиканских девиц танцуют под дождем бросаемых песо ввинчивая свои
вращающиеся зады прямо в мужскую толпу, иногда хватают мужчин за ширинку,
под звуки невероятно меланхоличного оркестра выдувающего из своих труб
печальные песенки со своего скорбного помоста - На лицах трубачей
отсутствует всякое выражение, скучающий барабанщик отстукивает ум-ца-ум-ца,
вокалисту кажется что он в Ногалесе и распевает серенады звездам, но на
самом-то деле он торчит в сквернейшей из трущоб и голос его просто сдувает
грязь с наших губ - И с губ шлюх, стоящих рядами за углом Бомбея, у щербатой
стены кишащей клопами и тараканами, и призывно окликающих прогуливающихся
похотливцев, снующих туда обратно пытаясь разглядеть во тьме лица девушек -
Саймон, одетый в ярко рыжую спортивную куртку, романтично вытанцовывает
разбрасывая свои песо по всему полу и отвешивая поклоны черноволосым
партнершам. "Правда, он романтично выглядит?" говорит Ирвин, маша ему рукой
из кабинки где мы сидим попивая Дос Экюс.
"Не сказал бы чтоб он был особо похож на беспечного американского
туриста прожигающего жизнь в Мексике - "
"Но почему?" раздраженно спрашивает Ирвин.
"Так уж по дурацки устроен мир, повсюду - например, представь,
приезжаете вы с Саймоном в Париж, и там повсюду плащи и блистательно
печальная Триумфальная Арка, а вы точно так же позевываете на автобусных
остановках"
"Да, но Саймон же оттягивается". И все же Ирвин не может полностью со
мной не согласиться, и когда мы прогуливаемся взад-вперед по кварталу
борделей, он тоже содрогается подмечая промельк грязи в колыбельках, под
розовым тряпьем. Он не хочет подобрать себе девушку чтобы зайти внутрь.
Проделать это должны мы с Саймоном. И я нахожу целую кучку шлюх сидящих
семейкой на крыльце, те кто постарше присматривают за молоденькими, и
показываю на совсем юную, лет четырнадцати. Мы заходим внутрь, и она кричит
"Agua Caliente[40]" девице которая сегодня отвечает за горячую
воду. За тонкими занавесками слышно поскрипывание помостов там где худые
матрасики положены на подгнившие доски. Стены сочатся влажной
безысходностью. Как только мексиканская девушка выныривает из-под занавески
показывая промельк темных бедер и дешевого шелка опуская ноги назад на
землю, моя малышка заводит меня внутрь и начинает бесцеремонно подмываться
присев на корточки. "Tres peso[41]", говорит она строго, чтобы
удостовериться что получит свои 24 цента до того как мы начнем. Когда же мы
наконец начинаем, она оказывается такой маленькой что мне не удается попасть
в нее за по меньшей мере минуту попыток на ощупь. И побежали кролики, как
говорят американские старшеклассники, со скоростью миля в минуту...
единственный способ доступный молодым, на самом деле. Но ее все это мало
интересует. И я чувствую что начинаю кончать в нее, позабыв о своей хваленой
наработанной способности притормаживать в такие минуты, такими примерно
отвлеченностями "Я свободен как зверь в диком тропическом
лесу[42]!", ну и я продолжаю, все равно никому это не интересно.
А в это время Саймон в одном из приступов своей причудливой русской
эксцентричности подцепил толстую старую шлюху которую уж точно молотили все
подряд от самого Хуареса и со времен Диаса[43], он уходит с ней в
задние комнаты и нам (даже с улицы) слышны взрывы хохота когда Саймон
конечно же перешучивается там со всеми встречными девушками. Иконы Девы
Марии прожигают дырки в стенах. Звуки труб из-за угла, ужасная вонь старых
жареных колбасок, запахи кирпича, влажный кирпич, грязь, банановые ошметки -
и в прорехе раздолбанной стены внезапно видишь звезды.
Неделей позже у бедняги Саймона начинается гонорея и ему приходится
колоть пенициллин. Он не позаботился о том чтобы на всякий случай очиститься
потом специальной мазью, как это сделал я.
Но тогда он этого еще не знал, и мы покинули квартал борделей и пошли
прогуляться вдоль по главной артерии бьющей[44] ночной жизни
(бедной жизни) Мехико-Сити, улице Редондас. И вдруг мы увидели потрясающее
зрелище. Маленький юный и изящный педик лет шестнадцати пронесся мимо нас
держа за руку одетого в тряпье босоногого индейского мальчонку двенадцати
лет. Они постоянно оглядывались куда-то. Я тоже оглянулся и увидел что за
ними следят полицейские. Они резко свернули и спрятались в темном подъезде.
Ирвин был в экстазе. "Ты видел старшего, они точь в точь как Чарли Чаплин с
Малышом, промчались вдоль по улице влюбленные, взявшись за руки,
преследуемые здоровенным зверюгой копом - Давайте с ними поговорим!"
Мы приблизились к странной парочке, но они испуганно убежали. Ирвин
заставил нас мотаться туда сюда по улице пока мы опять не наткнулись на них.
Полиции нигде не было видно. Старший мальчик увидел что-то сочувственное в
глазах Ирвина и остановился чтобы поговорить, спросив для начала сигарету.
Расспросив их по-испански, Ирвин выяснил что они действительно любовники,
бездомные, и что полиция преследует их по какой-то идиотской причине, может
потому что один из копов оказался ревнивцем. Они спали на пустырях
завернувшись в газеты, или иногда в бумажные плакаты оборванные с рекламных
тумб. Старший был вполне обычным гомиком, но без слащавой манерности
свойственной подобным типам в Америке, он был жестким, простым, серьезным, и
со страстной преданностью собственной голубизне, как какой-нибудь придворный
балетный танцор. Бедный же 12-летний парнишка был обычным индейским
мальчиком с большими карими глазами, скорее всего сиротой. Он просто хотел
чтобы Пичи иногда давал ему кусочек тортильи и находил безопасное место для
сна. Старший, Пичи, подкрашивался косметикой, веки в фиолетовый цвет ну и
так далее, довольно ярко и нелепо, но выглядел он при этом скорее как актер
в театральном представлении. Как только копы показались опять, они
заторопились куда-то вдаль по печально извивающемуся червяку боковой улочки
- мы увидели как они промелькнули там, две пары их ног, мчащие их к
темнеющим вдали хибарам закрытого захламленного рынка. После этого Ирвин с
Саймоном казались вполне обычными людьми.
Все это время толпы мексиканских тусарей толкались вокруг, большинство
при усах, все без денег, многие итальянского и кубинского происхождения.
Некоторые из них даже были поэтами, как я узнал позже, и у них существовали
свои иерархии и отношения Ученик - Учитель, прямо как в Америке или в
Лондоне: идешь по улице и видишь, как авторитетный чувак в пальто
растолковывает какую-нибудь закавыку из истории или философии покуривающим
сигаретки слушателям. Чтобы дунуть косячок травы они заходят внутрь в
комнаты и сидят там до самого рассвета размышляя чего это им не спится. Но в
отличие от американских тусовщиков утром им надо идти на работу. Конечно все
они воры, но похоже что крадут они только какие-нибудь причудливые предметы
поразившие их воображение, в отличие от профессиональных воров и карманников
которые тоже шатаются вдоль по Редондасу. Это ужасная улица, просто
тошнотворная. И почему-то музыка труб несущаяся отовсюду делает ее еще
ужасней. И несмотря на такое определение "тусовщика" как человека способного
встав в определенном месте на определенной улице любого иностранного
большого города этого мира вырубить себе траву или торчалово без всякого
знания языка, от всего этого хочется побыстрей домой в Америку пред светлые
очи Гарри Трумэна.
Именно этого-то уже давно и мучительно хочется Рафаэлю, он страдает
больше всех остальных. "Боже мой", причитает он, "все это похоже на старую
грязную тряпку которой вдобавок еще кто-то вытер плевки с пола мужской
уборной! Я лечу домой в Нью-Йорк, плевать я хотел на все! Я еду в центр,
снимаю там номер в дорогом отеле и жду когда мне пришлют деньги! Я не
собираюсь провести свою жизнь пялясь на гарбанзо в помойном ведре! Хочу
замок обнесенный рвом, бархатный капюшон на мою леонардову голову! Хочу свое
старое кресло-качалку времен Франклина! Бархатные занавеси хочу! Звонок и
дворецкого! Лунный свет в волосах! Хочу сидеть в кресле почитывая Шелли и
Чаттертона!"
Мы сидели в квартирке и выслушивали все это от него собирающего свои
вещи. Пока мы шатались по улицам он вернулся домой, проболтал всю ночь с
бедным старым Быком, и тоже угостился морфием. (Рафаэль самый толковый из
всех вас", сказал на следующее утро довольный Бык). Лазарус же проторчал все
это время дома и Бог его знает чем он там занимался, слушал наверное, слушал
и таращился в пустоту сидя один в комнате. Достаточно разок взглянуть на
бедного парня попавшего в ловушку этого сумасшедшего грязного мира, чтобы
задуматься о том что же случится со всеми нами, все, все мы попадем в лапы
собакам вечности в конце концов -
"Я не хочу умереть в этом убожестве" продолжал распространяться Рафаэль
нам внимающим прилежно. "Ах если б я жил в России на хорах древней церкви,
слагая гимны на органе! Почему я должен быть мальчиком из бакалейной лавки?
Это мерзко!" Он произнес это по нью-йоркски, как-то так: меегзко. "Я не
сбился с пути своего! Я получу все что захочу! Когда в детстве я писался под
себя и пытался спрятать простыню от матери, я знал что в конце концов это
закончится чем-то мерзким! И простыня слетела на мерзкую улицу! И я увидел
как бедная моя простынка слетела на другую сторону и обвисла там на мерзком
пожарном гидранте!" К тому моменту мы уже вовсю хохотали. Он разогревался к
своей вечерней поэме. "Я хочу мавританских сводов и настоящих ростбифов!
Приехав сюда мы ни разу даже не были в приличном ресторане! И почему б нам
не сходить позвенеть на колоколах Собора в Полночь!"
"Отлично", сказал Ирвин, "Давайте завтра сходим в Собор на Сокало и
попросимся позвонить в колокола" (И они сделали это, на следующий же день,
втроем, они спросили разрешения у привратника и потом похватали здоровенные
канаты и принялись качаться на них вызванивая длинные гудящие песни, которые
возможно слышал и я сидя один у себя на крыше почитывая Алмазную Сутру на
солнышке - но меня не было с ними, и я не знаю точно что там происходило).
И тут Рафаэль, внезапно перестав болтать, начинает писать стих, Ирвин
зажигает свечку, и пока мы сидим расслабленно и негромко разговаривая, нам
слышится безумное шкррркр рафаэлева пера мчащегося по страницам. На самом-то
деле мы просто слышим это стихотворение в первый и последний раз в этом
мире. Это шебаршение звучит точно так же как и рафаэлевы вопли, в том же
ритме настойчивых уговоров перемеженных напыщенно жалобными вскриками. Но в
этом шкррркр каким-то образом слышатся еще и чудесные превращения слов в
английскую речь, происходящие в голове итальянца который в своем прошедшем
на Нижней Ист-Сайд детстве не говорил по-английски ни слова пока ему не
исполнилось семь. Как удивительно все же устроена его голова, заполненная
медоточивыми, глубокими, восхитительными образами, которыми постоянно
изумляет он всех нас читая свое ежедневное стихотворение. Например, вчера
ночью он прочитал "Историю" Г. Дж. Уэллса и тут же сел переполненный потоком
всех этих исторических имен и восхитительно нанизал их на нить рифмы; там
были какие-то парфяне, и скифы с огрубелыми ручищами, и все это заставляло
ощутить историю со всеми ее ручищами-ножищами, а не просто понимать ее. И
когда он выскрипывал свои стишки в нашей свечной полутьме и тишине, никто из
нас не говорил ни слова. Тогда мне пришло в голову, какая же мы все таки
отъехавшая команда, отъехавшая в смысле общепринятого представления о том
как надо прожить жизнь. Пятеро взрослых американцев под шкрр-шкрр в полной
тишине и при свечке. Но когда он заканчивал, я просил "Ладно, а теперь может
почитаешь что у тебя там..."
"О Готорновы отрепья, игла сломалась, прореха расползается..."
И сразу видишь бедолагу Готорна, пусть он и таскает эту дурацкую
корону, но некому пришить ему заплату на его мансардочке в метели Новой
Англии (или где-то еще), как бы то ни было, может читателя это и не
впечатлит особо, но нас это поражало, даже Лазаруса, и мы по-настоящему
любили Рафаэля. Все мы были тогда в одной упряжке, нищие, в чужой стране,
искусство наше чаще всего просто отвергалось, безумные, честолюбивые, а на
самом-то деле настоящие дети. (Это позже, когда мы стали знаменитыми, эта
наша детскость была осквернена, но это потом).
С верхних этажей, далеко разносясь по двору, слышно было мелодичное
слаженное пение тех самых мексиканских студентов которые свистели нам, под
гитары и все дела, деревенские любовные песенки кампо, и потом вдруг
неуклюжая попытка рок-н-ролла, видимо специально для нас. В ответ мы с
Ирвином стали напевать Эли-Эли, негромко, медленно и низко. Из Ирвина
получился бы настоящий еврейский кантор с чистым трепетным голосом. Его
настоящее имя было Абрам. Мексиканцы замолкли слушая. В Мексике совершенно
нормально когда люди собираются вместе чтобы петь, даже после полуночи и с
открытыми окнами.
На следующий день Рафаэль сделал последнюю попытку как-то взбодриться,
купив громадный ростбиф в Супермеркадо, набив его до отказа чесночными
дольками и запихав в духовку. Это было восхитительно. Даже Гэйнс пришел
пообедать с нами. Но в дверях вдруг появилась целая толпа мексиканских
студентов с бутылками мескаля в руках, и Гэйнс с Рафаэлем быстренько
улизнули пока оставшиеся довольно тухло развлекались. Заводилой всей этой
тусовки был здоровенный и добродушный красавец-индеец в белой рубашке
который очень рвался показать нам что такое настоящее веселье. Из него
наверное получился хороший доктор. Некоторые их остальных были усачами из
хороших местисо (метисных) семей, и один вечный студент, которому явно
доктором не стать уже никогда, постоянно вырубался просыпаясь только к
очередному стакану, а потом стал настаивать что мы должны пойти в какой-то
бордель, и когда мы добрались туда он оказался слишком дорогим, и все равно
его потом вышибли оттуда за нетрезвый вид. И вот опять мы оказались на
улице, стоя и вертя головой во все стороны.
Так что мы помогли Рафаэлю перебраться в его дорогой отель. Там были
большие вазы, ковры, мавританские своды и американские туристки пишущие
письма в вестибюле. Бедняга Рафаэль сидел там в большом дубовом кресле и
оглядывался в поисках благодетельницы которая заберет его с собой, в особняк
на крыше чикагского небоскреба. И мы оставили его размышлять на эту тему. На
следующий же день он улетел самолетом в Вашингтон, будучи приглашен пожить у
Консультанта по Поэзии Библиотеки Конгресса США, где я его и встречу до
странности скоро.
И сейчас перед глазами у меня стоит Рафаэль, пыль несется стремглав с
перекрестка, его глубокие карие глаза утопают за выступающими скулами, под
оленьим завитком волос, волос фавна, ах нет, волос обычного американского
уличного мальчишки... каким был и Шелли? И Чаттертон? И где ж они, все эти
погребальные пирамиды, где Китс, где Адонаис, где увенчанный лаврами конь с
херувимами? Бог его знает о чем он задумался. ("О жареных ботинках", сказал
он позднее в интервью Таймсу, но это ведь просто шутка).
Совершенно случайно получилось так что мы с Ирвином и Саймоном провели
чудеснейшее утро у озера Хочимилько, в Плавучих Райских Садах так и просится
мне на язык. Привела нас туда компания мексиканцев из парка. Для начала мы
отведали моле c индейкой в киоске на берегу. Моле с индейкой это индейка под
густо приправленным шоколадным соусом, очень вкусно. Но хозяин киоска
продавал также пульку (неочищенный мескаль) и я опять напился. Но честное
слово трудно представить себе более подходящее место для этого чем Плавучие
Сады. Мы наняли баржу и поплыли отталкиваясь шестами по сонным каналам,
среди плавающих цветов, и целые плавучие островки крутились вокруг нас -
Другие баржи плыли позади, направляемые шестами теми же угрюмыми
паромщиками, большие семьи праздновали на них свадьбы, и когда я сидел там
по-турецки с бутылью пульки у ног, до нас вдруг донеслись звуки неземной
музыки, и проплыли мимо меня далее, вместе с красивыми девушками, детьми и
стариковскими усами топырящимися что твои велосипедные рули. Затем подгребли
низенькие байдарки с женщинами продающими цветы. Корпуса лодок едва
виднелись, заваленные цветочными грудами. Вплывая в сонные камышовые
заросли, женщины останавливались чтобы перевязать свои букеты. Всевозможные
оркестры мариачи проплывали на юг и на север, и звуки их мелодий смешивались
в ласковом солнечном воздухе. Само судно наше казалось мне лепестком лотоса.
Когда плывешь отталкиваясь шестом, есть в этом какая-то плавность какой не
бывает когда гребешь веслами. Или на моторке. Я был вдрызг пьян этой пулькой
(как я говорил уже, неочищенным кактусовым самогоном, вроде зеленого молока,
омерзительным, пенни за стакан). Но все равно приветственно махал
проплывающим семействам. В основном я сидел в восторженном исступлении
ощущая себя в какой-то Буддовой Стране Цветов и Песен. Хочимилько это то что
осталось от большого озера, осушенного чтобы построить на его месте
Мехико-Сити. Можете себе представить как это выглядело в ацтекские времена,
баржи полные куртизанок и жрецов под лунным светом...
В сумерках этого дня мы играли в чехарду во дворике местной церквушки,
перетягивали канат. Вместе с Саймоном, сидевшим у меня на закорках, мы
умудрились завалить Панчо, на котором ехал Ирвин.
По пути домой мы наблюдали салют празднества 16 Ноября на Сокало. Когда
в Мексике начинается салют все собираются на улице крича УУУ! и потом их
осыпает дождь обильных лохмотьев падающего пламени, настоящее безумие. Это
как на войне. Всем наплевать. Я видел как огненное колесо кружа слетело
прямо на головы сгрудившейся на площади толпе. Мужчины ринулись вытаскивать
детские коляски в безопасное место. Мексиканцы продолжали поджигать все
новые и новые штуковины, одна безумнее и огромнее другой, громыхающие,
шипящие и взрывающиеся со всех сторон. В конце концов они запустили огневой
шквал заключительных бумбумов, великолепных, закончив грандиозным
Боже-ж-ты-мой Бах-барабах! (и все отправились по домам).
Вернувшись в свою комнату на крыше после всех этих сумасшедших дней, я
отправился в кровать со вздохом "Когда все они уедут, я опять вернусь к
прежней жизни", неторопливая чашечка какао в полночь, безмятежный долгий сон
- Но на самом-то деле я понятия не имел чем стану заниматься. Ирвин
почувствовал это, как-то так уж получалось что он во многом направлял мои
действия, и сказал "Джек, ты провел много времени в покое на горе и здесь в
Мексике, почему б тебе теперь не вернуться с нами в Нью-Йорк? Там тебя уже
все ждут. Рано или поздно твою книгу напечатают, может быть даже в этом
году, ты сможешь повидаться с Джульеном, снимешь себе квартирку или комнату
в христианской общаге[45] или еще где-нибудь. Пора тебе наконец
взяться за ум!" вопил он. "В конце-то концов?"
"За какой такой ум? О чем это ты?"
"Я о том что ты должен публиковаться, встречаться с людьми, заработать
денег, стать знаменитым международным автором, ездить по всяким местам,
раздавать автографы пожилым леди в Озоновом парке - "
"А как вы хотите ехать в Нью-Йорк?"
"Да просто посмотреть по газетам кто едет в ту сторону и хочет
попутчиков с оплатой расходов на бензин - Сегодня в газете одно объявление
уже было. Может мы даже сможем проехать через Новый Орлеан - "
"На кой хрен нам этот занудный и старый Новый Орлеан?".
"Ты идиот - я никогда не был в Новом Орлеане!" заорал он. "Я хочу его
увидеть!"
"Чтобы рассказывать всем потом что был в Новом Орлеане?"
"Да ерунда все это. Ах Джек", нежно, оперевшись своим лбом о мой,
"бедный Джеки, замученный Джеки - испуганный и одинокий в своей комнатушке
старой девы - Поехали с нами в Нью-Йорк и мы будем ходить по музеям, мы даже
сходим с тобой в Колумбийский университет, пройдемся по кампусу и ущипнем
старика Шнаппа за ухо - Расскажем Ван Дорену о наших проектах новой мировой
литературы - Мы поселимся у крыльца Триллинга пока он не вернет нам этот
университет!" (Это он про наших университетских преподавателей).
"Достала меня вся эта литература"
"Да, но это ж само по себе прикольно, побродить по этому большому
забавному кампусу, поврубаться во все дела - Где твое старое достоевское
любопытство? Ты стал таким нытиком! Ты торчишь тут черт знает где не вылезая
из комнаты как старый доходяга торчок. Пора тебе носить береты и внезапно
поразить всех кто позабыл что ты большой международный писатель и
знаменитость даже - Мы сможем сделать все что только захотим!" вопил он.
"Снять фильм! Уехать в Париж! Покупать острова! Все!"
"Рафаэль"
"Да, но Рафаэль не хнычет как ты что сбился с пути, он нашел свой путь
- подумай, ведь он теперь вписался в Вашингтоне и будет встречаться с
сенаторами на коктейлях. Пора наконец поэтам повлиять на Американскую
Цивилизацию!" Гарден был похож на современного американского романиста
заявляющего что он непримиримый вождь леваков-анархистов и нанимающий
Карнеги-Холл чтобы заявить об этом, на самом-то деле он был скорее вроде
некоторых выпускников Гарварда занимающих большие посты, сейчас его
интересовала политика, хоть он и любил говорить о своих мистических видениях
бесконечности -
"Ирвин, если б у тебя действительно было видение бесконечности, тебе не
хотелось бы повлиять на Американскую Цивилизацию".
"Но в этом то вся и фишка, тогда я смогу хотя бы реально говорить с
теми кто у власти вместо пережевывания всех этих затхлых идей и
социологической тягомотины из учебников - я обращусь к Железному Псу Америки
блэйковскими словами!"
"Ух ты - ну и что потом?"
"Я стану настоящим уважаемым поэтом к которому люди будут
прислушиваться - и я буду проводить спокойные вечера с друзьями, может в
смокинге даже - выйду из дома и куплю в супермаркете все что захочу - на
меня будут смотреть с уважением в супермаркете!"
"Ладно, а потом?"
"И ты тоже можешь поехать сейчас и договориться о публикации сразу же,
эти придурки тормозят ее просто потому что не врубаются. Твоя "Дорога" это
великая и безумная книга которая изменит Америку! Они даже денег смогут на
ней заработать. Ты будешь танцевать голый на письмах поклонников. Тебе будет
не стыдно встретиться с самим Бойсвертом. Все эти крутейшие Фолкнеры и
Хемингуэи призадумаются глядя на тебя. Время пришло! Понимаешь?" Он стоит
воздев руки как дирижер симфонического оркестра. Его глаза застыли на мне
гипнотически и безумно. (Однажды, накурившись, он сказал мне серьезно "Я
хочу чтобы ты слушал меня, как если бы мои слова разносились на всю Красную
Площадь!") "Агнец Америки будет взращен! Как Восток может уважать страну в
которой нет своих Поэтов-пророков! Агнец должен быть взращен! Громадным
трепещущим Оклахомам нужны поэзия и нагота! И да воспарят самолеты от сердца
нежного к сердцу открытому! Нужно раздать этим слюнявым размазням в офисах
по цветку розы! Нужно послать пшеницу в Индию! Кукольные спектакли нового
битнического классицизма[46] должны разыгрываться на автобусных
вокзалах, или у Капитолия[47], или в туалете на Седьмой авеню,
или в гостиной миссис Рокко в Восточной Загогулине, ну и так далее"
подергивая плечом в такт словам с напористостью старого нью-йоркского тусаря
втюхивающего кому-то свою телегу, с судорожно пульсирующей жилкой на шее...
"Ну ладно, может я и поеду с тобой".
"Может, ты даже найдешь себе девушку в Нью-Йорке, как раньше - Дулуоз,
твоя беда в том что у тебя несколько лет не было своей девушки. Почему ты
вбил себе в голову что у тебя такие грязные мерзкие руки что они недостойны
касаться белой бархатной кожи девушки? Все они хотят чтобы их любили, у них
всех трепетные человеческие души и они боятся тебя потому что ты так глядишь
на них потому что ты сам их боишься".
"Правильно, Джек!" вклинивается Саймон. "Пора задать этим девахам
работенку точно эй давай не тормози парень!" подойдя ко мне и раскачивая
меня за колени.
"А Лазарус поедет с нами?" спрашиваю я.
"Конечно. Лазарус будет часами бродить вдоль по Второй Авеню
разглядывая буханки ржаного хлеба или помогать старикам добраться до
Библиотеки"
"Он сможет читать газеты вверх ногами в Эмпайр Стэйт Билдинг" говорит
Саймон продолжая смеяться.
"Я смогу пойти за дровами на Гудзон", говорит Лазарус со своей постели
лежа с натянутой на подбородок простыней.
"Что?" мы оборачиваемся в изумлении, это первые его слова за последние
сутки.
"Я смогу пойти за дровами на Гудзон", завершающе произносит он с
ударением на "Гудзон", так будто бы это заявление никакому дальнейшему
обсуждению не подлежит. И все же повторяет это опять, еще один последний
раз... "На Гудзон". "Дрова" добавляет он, и вдруг бросает на меня
насмешливый взгляд искоса типа вот как я над всеми вами прикалываюсь но
никогда и ни за что в этом не признаюсь.
( Протекая сквозь - Passing Through. Правильнее было бы перевести как
"Проездом", но тогда теряется основной смысл - перекличка с "Passing through
everything", "протеканием сквозь все".
1 Эл-Эй (L.A.) - Лос-Анджелес
2 Змеиные Пляски (Snake Dances) - индейские ритуальные танцы, с
имитацией движений змеи, проводились каждые два года индейцами Хопи.
3 Pasteleria - кондитерская.
4 Сначала я думал, что это название голливудского шпионского фильма, но
дело не в этом, хотя похожих названий много. Американы говорят, вроде нет
такого. Просто Билл Гарвер (прототип Быка Гэйнса) был родом из Цинциннати, и
здесь он просто подчеркивает что он такой ловкий тип, как Колобок, хрен
поймаешь. Наверно, там в Цинциннати все такие :) .
5 Г.Р.Люс - редактор и издатель, один из основателей журнала "Тайм".
6 Супермаркет по-испански.
7 When I go across the border nobody can put the finger on me because I
put the finger up my ass!
8 Tristessa - от слова triste - печаль, грусть.
9 Black Bastard - Черный Ублюдок.
10 Taco - мексиканское блюдо, тортилья, запеченная с мясом, луком и
т.д.
11 На самом деле "When in Rome", часть поговорки (см. Часть 2, прим.
107)
12 Пригород Бостона.
13 Поэзии Правды (нем).
14 По-детски искаженное "petit Jean", маленький Жан - так Джека звала в
детстве мама. Его семья была франко-канадской, и первым языком -
французский.
15 В оригинале ship-jumper - человек, нанимающийся на судно ненадолго
чтобы перебраться на другое место или просто попутешествовать.
16 В оригинале Irwin was herding two other boys before him to Mexico -
Ирвин гнал перед собой в Мексику табунчик из двоих ребят, по-русски звучит
грубей чем по-английски.
17 Цимес - на идише пикантность, лакомый кусочек.
18 Черепичной (исп.)
19 Братья Маркс - четверо очень знаменитых в Америке 20-30х
актеров-комиков. Причем здесь прикол в том, что Чико Маркс говорил
передразнивая итальянский акцент, Харпо Маркс никогда не разговаривал и
только играл на гармошке, а Граучо носил очки и постоянно придумывал всякие
словесные прибамбасы и перевертыши - похоже на Рафаэля, Лазаруса и Ирвина.
Про четвертого брата ничего такого примечательного не известно.
20 "Подземные" - так называлась одна из керуаковских нью-йоркских
тусовок, а еще книжка "Подземные" (The Subterranians).
21 Мсье Дулуоз, а они что правда поэты, все эти люди?
22 "Да, мадам. Мы поэты в русле великой традиции Уитмена и Мелвилла и,
в особенности, Блейка. "
" Но этот молодой человек. Он тоже поэт? "
" Конечно же да, в своем роде. "
" Ну хорошо, и что же, у вас нет пятисот песо чтобы заплатить за
квартиру "
" Сколько?"
23 Пятьсот песо (исп.)
24 Да, потому что квартира (исп.)
25 Недостаточно велика (фр.)
26 Но сеньор, я не понимаю.
27 В оригинале ignu - слово изобретенное Гинзбергом (используется еще в
поэме Кадиш). Скорее всего изначально от ignoramus - типа
студенты-недоучки-неучи, слабо втыкающиеся но при этом весьма бодрые,
поскольку достаточно хитры чтобы зависать в университете и не слишком
напрягаться науками. Ну а потом это слово обросло дополнительными смыслами.
28 Heap of fire, haylike universe sprinting towards the gaudy
eradication of Swindleresque ink.
29 Здесь swindler - хитрец, лжец, сравните с Swindleresque ink в
предыдущей сноске.
30 Гарри Анслингер - глава Федерального Бюро по Наркотикам США, он
приложил много сил к тому чтобы прошел закон 1937 года, о запрете марихуаны
и других производных конопли.
31 То бишь Хэллоуин. Так наверное сегодня по-русски понятнее будет, да
вот все же не люблю я английские слова вне английского языка...
32 Ну а эта фраза сон русского фантазера средних лет. Потому что "Your
Indiana scarecrow is an old Thuringian phantasy" - Ваше огородное пугало в
Индиане это старая Тюрингская фантазия (причем фантазия написано с немецким
акцентом).
33 Obscura - темнота (исп.)
34 Тут можно понять по-разному (Gee, just like Durell and Lowry!),
во-первых Даррелл и Лоури реально существующие английские писатели, но вот
на хрена им вместе гонять в баскетбол непонятно, да еще и напоминая детишек
из мексиканской деревушки при этом. Скорее родной городок Керуака Лоуэлл и
какой-то неизвестный Дьюри поменявшиеся окончаниями (Dury and Lowell), а
вообще черт его знает :)
35 Какого-то из римских сенаторов укокошили сломанной скамьей, забыл
какого.
36 Перевод с русского на русский для несленгоязычных читателей -
выпадать на измену - впадать в параноидальные состояния накурившись
марихуаны или после других психоделиков.
37 К сожалению, я не могу это перевести. А очень жаль потому что -
послушайте: like the workers and the warriors we worry like worry-warts...
(как рабочие и воины (имеется в виду, как у муравьев) мы беспокоимся
обеспокоенными бородавками (наростами, узелками)) Бородавок я заменил на
букашек, потому что по-английски бородавки это прикол по созвучию, а
по-русски с созвучием облом. Вдобавок еще Саймон в конце предыдущей главы
тоже говорит про мохнатых бородавок (также заменены на букашек), и здесь
такая вот перекличка.
38 Manana - завтра (исп.)
39 Mariachi - от испанского "свадьба" - музыканты, обычно уличного
оркестра, часто приглашаемые играть на свадьбе, и стиль музыки
соответствующий.
40 Горячей воды! (исп.)
41 Три песо (исп.)
42 Обман, на самом деле было "Here I am completely free as an animal in
a crazy Oriental barn!" - "И вот он я совершенно свободный как зверь в
безумном Восточном стойле!", но такую чушь по-русски оставлять не хочется.
43 Конквистадор испанский.
44 Beat nightlife - на самом деле тут больше "битнической жизни", но
есть и другие значения, и я выбрал более понравившееся.
45 Имеется в виду YMCA - Христианский Союз Молодых Людей, у них дешево
можно было снять жилье в их специальной общаге.
46 New hip classical doll scenes... - слово "hip" которого имело в те
времена другой смысл заменено на "битнические" (которое мне тоже не
нравится, потому что штамп).
47 Было Port Authority.
* ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Протекая сквозь Нью-Йорк *
Это было ужасное путешествие. Мы договорились, в смысле что это Ирвин
договорился, так деловито и ловко как только он это умел, с итальянцем из
Нью-Йорка, который работал в Мексике учителем английского, но выглядел при
этом точь в точь как лас-вегасский игрок или хулиган с Мотт-стрит, я даже
принялся гадать про себя чем он на самом деле промышлял в Мексике. Он дал
объявление в газете, у него была машина и он договорился уже с одним
пассажиром-пуэрториканцем. И мы забили его машину до отказа, запихав на ее
крышу гору нашего багажа. Трое спереди и трое сзади, сжатые коленями друг к
другу все три тысячи ужасных миль! Но выхода не было -
Утром нашего отъезда (а я забыл сказать что Гэйнс несколько раз уже
тяжко хворал и посылал нас в центр добыть торча, что было нелегко и
опасно...), утром нашего отъезда Гэйнс опять был нездоров, но мы попытались
ускользнуть незамеченными. На самом-то деле конечно я хотел зайти к нему и
попрощаться, но машина уже ждала, и без сомнения он попросил бы меня
съездить в город за морфием (который опять кончился). Проходя мимо его окна
мы слышали как он кашляет там, за горестными розовыми занавесками, в 8 утра.
И я не смог удержаться и быстро прильнул головой к оконной раме, говоря: "Эй
Бык, мы поехали. До встречи - когда я вернусь - я скоро вернусь - "
"Нет! Нет!" закричал он дрожащим больным голосом, голосом тех времен
когда он пытался обратить муки ломок в барбитуратное отупение, оставлявшее
его недвижным среди истерзанной груды халатов и сбившихся простынь в потеках
мочи. "Нет! Я хочу чтобы ты съездил в город и сделал кое что для меня - Это
не долго - "
Ирвин попытался приободрить его через это окно, но Гэйнс принялся
плакать. "Вы не должны оставлять меня одного, такого старика как я. Не
сейчас, особенно не сейчас, когда я так болен что даже не способен
шевельнуть рукой чтобы найти себе сигарет - "
"Но ты же справлялся сам до того как мы с Джеком приехали сюда, значит
ты сможешь справиться и сейчас".
"Нет, нет, позовите Джека! Не оставляйте меня одного в таком состоянии!
Разве вы не помните те старые времена когда мы были вместе, и как я
раскумаривал вас, делился с вами выручкой с закладных и ссужал вам деньги -
Если сегодня утром вы оставите меня такого вот, я просто умру!" плакал он.
Нам не было его видно, но мы слышали этот голос с подушки. Ирвин подозвал
Саймона, чтобы он крикнул Гэйнсу что-нибудь ободряющее, и потом мы вместе
просто убежали в стыде и горестном ужасе, груженные своим багажом, вдоль по
улице - Саймон смотрел на нас, бледный как полотно. В замешательстве мы
топали по мостовой. Но наша машина уже ждала нас, и естественным трусливым
выходом было просто нырнуть в нее и отправиться в Нью-Йорк. Саймон был
последним запрыгнувшим внутрь. И - вздох облегчения, но все же я так никогда
и не узнал как Гэйнс умудрился выкарабкаться из болезни этого дня. Знаю
только что он смог. Но вы увидите что произошло, после...
Водителя звали Норманом. Когда мы все уселись в его машину, он сказал
что рессоры не дотянут ни до Нью-Йорка, ни даже до Техаса. В машине было
шесть человек и гора сумок и рюкзаков на крыше, крепко стянутая веревками.
Опять эта постылая американская картинка. Так что Норман завел машину,
разогрел мотор, и покатил ее, словно грузовик нашпигованный динамитом из
кино про Латинскую Америку, со скоростью сначала милю в час, потом 2, потом
5, пока мы сидели в ней затаив дыхание конечно же, но потом разогнался до
20, до 30, потом на шоссе до 40 и 50, и вдруг мы почувствовали что это
просто начало долгой автомобильной поездки, и мы просто мчимся себе с
ветерком на прекрасной и надежной американской машине.
Для начала мы решили, чтобы пообвыкнуться в путешествии, забить парочку
косяков, против чего молодой пассажир-пуэрториканец не возражал - он был на
пути в Гарлем. И совсем уж чудная штука - ни с того ни с сего здоровенный
громила Норман начинает прямо за рулем распевать пронзительным тенором арии,
и не замолкает всю ночь до Монтерея. Ирвин, сидящий со мной сзади,
присоединяется к нему и поет арии, вот уж не представлял себе что он может
знать арии, или распевает ноты токатт и фуг Баха. Я настолько уже сбит с
толку всеми этими годами странствий и мучительных печалей, что почти совсем
забываю как мы с Ирвином вместе слушали токатты и фуги Баха через наушники
библиотеки Колумбийского Университета.
Лазарус сидит спереди и пуэрториканец начинает с любопытством его
расспрашивать и, в конце концов поняв что за чудила это парень, к нему
присоединяется Норман. К тому времени как через три дня и три ночи мы
добираемся до Нью-Йорка, он уже настоятельно советует Лазарусу побольше
заниматься, пить молоко, ходить не горбясь и пойти в армию.
Но поначалу в машине царит вражда. Норман постоянно грубит, считая нас
просто сборищем поэтов-пидорасов. И когда мы добираемся до гор Зимопана, мы
уже изрядно укурились и нас мучают подозрения. И он подливает еще масла в
огонь. "Теперь все вы должны считать меня капитаном и полным хозяином этого
корабля. Вам не удастся сидеть сложа руки, предоставив делать всю работу
мне. Помогайте! Короче, на левом повороте все вместе, не переставая петь,
наклоняемся влево, а при правом повороте делаем на-о-бо-рот. Всем понятно?"
Сначала я хохочу, потому что мне смешно (очень полезно для шин, так он
объяснил), но как только мы минуем первый поворот и мы (все наши)
наклоняемся, Норман и Тони этого вовсе не делают, а только смеются. "Теперь
вправо!" говорит Норман, и опять та же самая ерунда.
"Эй, а ты-то чего не наклоняешься?" ору я.
"А мне надо думать о том как баранку крутить. Так что, ребята, делайте
как я говорю, и все будет в порядке и мы доберемся до Нью-Йорка"
раздраженно, из-за того что кто-то осмелился голос подать. Поначалу я его
испугался. В своей марихуановой паранойе я заподозрил что они с Тони
бандиты, которые, стоит нам отъехать подальше по дороге, отнимут у нас все
наше имущество, хоть и отнимать-то особо было нечего. И поэтому, в конце
концов, когда мы отъехали еще и он совсем достал нас, именно Ирвин (который
никогда не ввязывается в драки) сказал ему:
"Да заткнись ты"
& с тех пор обстановка разрядилась.
Оно даже начало становиться приятным, это путешествие, и на границе в
Лоредо мы даже позабавились немало когда нам пришлось распаковывать всю
немыслимую груду барахла на крыше, включая нормановский велосипед, чтобы
показать его пограничникам, носящим очки в тонкой металлической оправе и
отчаявшимся в конце концов копаться в этой куче мусора.
В долине Рио-Гранде задул пронзительный ветер, и я почувствовал себя
великолепно. Мы были опять в Техасе. Это было в воздухе. Первым делом я
купил по молочному коктейлю на каждого, против чего никто вовсе не возражал.
Ночью мы прокатили сквозь Сан-Антонио. Был День Благодарения. Унылые вывески
обещали обеды с индейкой в кафешках Сан-Антона. Мы не осмеливались
остановиться. Нет ничего страшнее для неугомонного скитальца по американским
дорогам чем приостановиться хоть на минуту. Но в 10 вечера Норман слишком
устал чтобы ехать дальше и остановил машину около высохшего русла реки
покемарить на переднем сиденье, а мы с Ирвином, Саймоном и Лазом вытащили
наши спальные мешки и расстелили их на промерзшей земле. Тони улегся на
заднем сиденье. Ирвин с Саймоном как-то втиснулись в купленный Ирвином в
Мексике французский синий спальник с капюшоном, совсем узкий, в котором
вдобавок не вытянуть было толком ног. Лазарусу пришлось лезть в мой
армейский спальник вместе со мной. Я дал ему забраться первым, а потом
протиснулся и сам, пока не смог застегнуть молнию до подбородка. Повернуться
можно было только одновременно. Звезды были холодны и бесстрастны.
Заиндевевшие поросли полыни, запах холодного зимнего навоза. И этот воздух,
божественный воздух Прерий, я заснул вдыхая его, и в середине нашего сна я
пошевелился чтобы перевернуться на другой бок, и Лаз тотчас тоже
перекатился. Так странно. Было очень неудобно еще и потому что нельзя было
повернуться чуть-чуть, только перевернуться полностью. Но мы проспали всю
ночь, а Тони с Норманом, спавшие в машине, замерзли и разбудили нас в 3
ночи, чтобы продолжить путь и согреться печкой машины.
Разнузданная заря в Фредриксбурге, или где-то в другом месте, которое я
уже проезжал уже тысячи раз.
24
Долгие монотонные переезды через полуденные просторы штата, некоторые
из нас спят, некоторые разговаривают, некоторые едят, некоторые жуют
безрадостные бутерброды. Каждый раз когда я так еду, я пробуждаюсь после
недолгой дневной дремоты с ощущением что меня везет на Небеса Небесный
Возница, кто бы ни был за рулем. Есть что-то странное в том, что один
человек ведет машину, а остальные погружены в свои мечтания, вверив свою
жизнь ему в руки, что-то такое рыцарственное, что-то из древности
человеческой, что-то от старой веры в благородство Человека. Выныриваешь из
тягучего сна своего наполненного какими-то простынями на крыше, а ты уж
среди сосновых пустошей Арканзаса, мчишься на скорости 60, изумляешься
почему и смотришь на водителя, а он суров, недвижен и одинок за своим
рулевым колесом.
Мы доехали до Мемфиса к вечеру и наконец-то сытно поужинали в
ресторане. Тогда-то Ирвин и сорвался на Нормана, а я испугался что Норман
остановит машину и изобьет его прямо на дороге: все потому что Норман
придирался к нам всю дорогу, хотя на самом-то деле тогда он уже угомонился;
поэтому я сказал: "Ирвин, нельзя с ним так разговаривать, он просто устал в
дороге". Так я дал понять всем в машине что я просто мямлящий хлюпик
которому главное это чтобы не было драки, какая бы ни была причина. Но Ирвин
на меня не обиделся, а Норман с тех пор замолчал. Единственным разом в жизни
когда я по-настоящему подрался с человеком было когда тот метелил моего
старого братишку Стива Вадковского об машину, ночью, согнувшегося от боли,
всего измочаленного, но он все равно продолжал избивать его, здоровенный
громила. Я накинулся на него и гонял по улице, дубася его со всех сторон,
некоторые из этих ударов попадали в цель, но все были легкими, вроде
толчков, или шлепков, по его спине, и так до тех пор пока его ошалевший
папаша не оттащил меня в сторону. Я не могу защищать себя, только друзей.
Поэтому я не хотел чтобы Ирвин дрался с Норманом. Однажды (в 1953) я
разозлился на Ирвина и сказал что набью ему морду, но он ответил "Я могу
уничтожить тебя моей мистической силой", что напугало меня. В общем, Ирвин
не стерпит обиды ни от кого, а я, я же сижу себе смирно с моим буддийским
"обетом доброты" (принятом в лесном одиночестве) и терплю оскорбления с
затаенным чувством обиды, никогда не давая ему волю. Но однажды человек,
услышавший что Будда (мой герой) (еще один мой герой, первый это Христос)
никогда не отвечает на оскорбления, подошел к печальному Бхагавату и плюнул
ему в лицо, говорят что Будда ему ответил "Поскольку я не могу
воспользоваться твоим оскорблением, можешь получить его назад"
В Мемфисе братья Саймон с Лазарусом вдруг затеяли возню на мостовой
около бензозаправки. Разозлившись, Лазарус толканул Саймона одним мощным
толчком, заставив его вылететь почти на середину улицы, сильный парень, как
бык. Одним патриаршим русским толчком, поразившим меня до крайности. Лаз
ростом в шесть футов, крепкого сложения, но ходит он сгорбившись как
состарившийся щеголь 1910 года, или скорее как фермер попавший в город (само
слово "бит" пришло из старого говора южной глубинки).
На закате, уже в Западной Вирджинии, Норман внезапно доверил мне вести
машину. "У тебя получится, не беспокойся, просто крути баранку и все, а я
отдохну". Этим-то утром я и научился по-настоящему водить. Держась одной
рукой за низ баранки я как-то умудрился преодолеть все эти левые-правые
повороты, заставляя едущие с работы машины протискиваться мимо меня по узкой
двухполосной трассе. Правый поворот правой рукой, левый поворот левой. Я был
поражен. На заднем сиденье все спали. Норман болтал с Тони.
Я был так горд собой, что этим же вечером в Уиллинге купил четвертушку
портвейна. Это была лучшая ночь всего путешествия. Мы напились и голосили
миллионом арий одновременно, пока Саймон без устали рулил (у Саймона большой
опыт водителя "Скорой Помощи") до самого закатного Вашингтона, по отличной
автостраде среди лесов. И когда мы вкатили в Вашингтон, Ирвин начал вопить и
трясти сонного Лазаруса, чтобы он проснулся и увидел столицу Страны. "Спать
хочется".
"Нет, просыпайся! Может тебе никогда больше не придется увидеть
Вашингтон! Смотри! Белый Дом это вон тот большой белый купол, освещенный!
Памятник Вашингтону, та большая игла торчащая в небо - "
"Старый добрый печатный станок" сказал я когда мы проезжали мимо
Монетного Двора.
"Здесь живет президент США, и здесь он ломает себе голову над тем что
надо делать Америке. Вставай - сядь вот тут - смотри - куча всяких там
министерств юстиции, которые разрабатывают правила цензуры - " Лазарус
смотрел кивая головой.
"И куча негров с пустыми карманами стоящих у почтовых ящиков" сказал я.
"А где Эмпай-Стейт-Билдинг", говорит Лаз. Он думает что Вашингтон это в
Нью-Йорке. Запросто может оказаться, что он думает что Мексика это тоже
где-то неподалеку.
25
Потом мы мчимся к выезду на нью-джерсийскую трассу среди только-только
продравшего свои глаза утра трансконтинентального автомобильного кошмара,
которым полна история Америки от переселенческого фургона и до Форда - В
Вашингтоне Ирвин позвонил консультанту по поэзии Библиотеки Конгресса США,
чтобы узнать о Рафаэле, который еще не приехал (разбудив при этом ранним
утром его жену) (но поэзия есть поэзия) - И пока мы заезжаем на
вашингтонскую транспортную развязку, Норман с Тони на переднем сиденье
настоятельно советуют Лазарусу как ему устроить свою жизнь, как не дать себя
обставить, как быть себе хозяином - Что же касается вербовки в Армию, Лаз
говорит "Не хочу чтобы мне говорили что делать", но Норман настаивает нам
том что все мы должны делать то что нам говорят, но я не соглашаюсь, потому
что у меня с Армией и с Флотом дела обстоят так же как и у Лазаруса (если
мне и удалось отделаться от нее, если ему удастся отделаться, так это лишь
уйдя в ночные глубины себя, став одержимым своим собственным и единственным
ангелом-хранителем) - Ирвин же с Саймоном к тому моменту уже совершенно и
полностью вымотались и сидят сзади возле меня, выпрямившись (полный
порядочек, ребята), но уронив свои мученически вспотевшие лбы на грудь, и
один лишь вид их, их лоснящихся усталостью небритых и потных лиц, их губ
полуоткрытых в гримасе ужаса - Ах - Я начинаю чувствовать что все же не зря
я оставил мир моей мексиканской лунной крыши чтобы отправиться с ними
юношествовать в трудостранствиях[1] сквозь все бессердечные
прихоти этого мира, к какой-то дурацкой но возвышенной цели в иной части
Духа Святого - И хоть и не согласен я с их представлениями о мире и поэзии,
не могу я не любить их страдальческие потные лица и взъерошенные копны волос
их, как у моего отца в день когда я нашел его, мертвого, сидящим в кресле -
в кресле у нас дома - Тогда я был совершенно неспособен поверить в
существование такой штуки как смерть папы, не говоря уж о моей собственной
смерти - И теперь эти двое безумных парней много-много лет спустя,
вымотавшиеся, уронившие головы на грудь, как мой мертвый отец (с которым я
постоянно пререкался, Ах зачем? Хотя почему бы нет, даже ангелы вопиют о
чем-то) - Бедные Ирвин с Саймоном, спутники в мире этом,
companeros[2] своей личной Испании, тоской автостоянок испещрено
чело их, носы их преломлены грязью... неугомонные философы без гроша в
кармане ... святые и ангелы сонмов древности известные ныне в современности
как дети небес (разделяю и я это имя) - И падают, падают, со мной, с
Люцифером, и с Норманом тоже, падают, падают, мчатся в машине -
И какова будет смерть Ирвина? От смерти кота моего останется коготь в
земле. А Ирвин - челюсть? А Саймон - лобная кость? Ухмыляющиеся черепа по
всей машине? И за это Лазарус должен идти в армию? А матери этих людей
сидящие сейчас горестно в своих гостиных за темными занавесками? А их отцы
похороненные с мозолистыми руками и лопатами на груди? А чернильные пальцы
печатника обхватившие четки в могиле? А предки их? Оперные певцы глотающие
землю? И ныне? Пуэрториканец с тростниковой свирелью своей, там где цапли
гнездятся на могильных камнях? Мягкий рассветный ветерок с Карибов, колышет
ли он нефтяные факелы Камачо[3]? А в Канаде, задумчивые
французские лица созерцают ли ныне толщи земные? И певцам рассветного Мехико
твердящим о corazon[4], неужели не откроется им никогда более
высокое зарешеченное окошко серенады платки девичьи губы?
Нет.
Да.
26
А сам я найду себе вскорости обильное пшеничное брюшко, которое
заставит меня позабыть о смерти на несколько месяцев - звали ее Рут Хипер.
Это случилось так: мы приехали в Манхэттен морозным ноябрьским утром,
Норман попрощался с нами, и вот остались мы на мостовой, вчетвером,
кашляющие как туберкулезники с недосыпу и от непрерывного курения всю
дорогу. Признаться, я был уже уверен что и впрямь подхватил туберкулез. К
тому же я был тощ как никогда в жизни, около 155 фунтов (против нынешних
моих 195), со впавшими щеками и глубоко утонувшими в пещерах глазниц
глазами. А в Нью-Йорке было холодно. Внезапно мне пришло в голову что мы
запросто можем взять да и умереть, без денег, кашляющие, стоящие на мостовой
с кучей сумок, оглядываясь по всем четырем сторонам обыденно угрюмого
Манхэттена, спешащего на работу ради вечерних пиццевых радостей.
"Старый Манхэт" - "очерченный потоками сверкающих огней" - "низкие
ВИИИП или ВИИИМ гудков сухогрузов на Канале или в порту. Кашляющие уборщицы
в кондитерских, с пустыми глазами, знававшие лучшие времена... где-то"...
Короче: "Ирвин, ну и какого хрена, что нам теперь делать?"
"Не беспокойтесь, сейчас постучимся к Филлипу Воэну, это всего в двух
кварталах отсюда, на Четырнадцатой" - Филлипа Воэна нету дома - "Жаль, а то
мы могли бы, пока не найдем своего жилья, вписаться к нему, на его ковре у
стенки заставленной переводами с французского. Давайте еще попробуем двух
подружек которых я тут знаю".
Звучит неплохо, но я ожидаю увидеть какую-нибудь парочку подозрительных
и несуразных лесбиянок, в сердцах которых для нас найдется только песок - Но
когда мы встали под их прелестными диккенсовскими окнами и завопили (и рты
наши выдули клубы пара под морозным солнцем), они высунули пару
очаровательных темноволосых головок наружу и увидели четверых бродяг,
стоящих внизу и окруженных развалом своего неизбежного, провонявшего потом
багажа.
"Кто это там?"
"Ирвин Гарден!"
"Привет, Ирвин!"
"Мы только что вернулись из Мексики где женщинам именно так и поют
серенады, стоя на улице"
"Ну так спойте нам песенку, вместо того чтобы стоять там и кашлять"
"Мы хотели бы зайти, позвонить кое-куда и отдохнуть пару минут".
"Давайте"
Пару минут конечно же...
Мы пропыхтели четыре этажа вверх и попали в квартиру с поскрипывающим
деревянным полом и камином. Одна из девушек, Рут Эрикссон, стояла там
встречая нас, и я внезапно вспомнил ее: - старая подружка Жюльена, еще до
его женитьбы, та про которую он сказал что сквозь волосы ее текут илистые
воды Миссури, имея ввиду что он любит ее волосы, любит Миссури (свой родной
штат), и любит брюнеток. У нее были черные глаза, белая кожа, черные волосы
и крупные груди: ну и красотка! Мне кажется что она стала как-то повыше с
тех пор как мы как-то однажды напились с ней, Жюльеном и ее соседкой по
комнате. Но вот из другой спальни выходит Рут Хипер, все еще в пижаме,
коричневые шелковистые волосы, черные глаза, надутые губки и кто вы такие и
чего вам тут надо? Ну, и фигурка конечно. Или, как говорит Эдгар Кэйс,
те-ло-сло-жение.
Ну это-то еще ладно, но вот когда она опускает свое тело на стул, да
еще так что мне виден низ ее пижамы, я чувствую что у меня едет крыша. К
тому же в ее лице есть что-то, чего я прежде не видывал: - странное
мальчишечье, озорное, и даже избалованное, проказливое лицо, но с женскими
розовыми губами, нежными щеками, и в прекраснейшем из нарядов утра.
"Рут Хипер?" говорю я как только нас познакомили. "Рут собравшая
зернышки маиса[5]?"
"Она самая" говорит она (так мне кажется, точно не помню). И пока
Эрикссон спускается вниз забрать воскресные газеты, и Ирвин моется в ванной,
так что мы нам приходится сидеть и читать газеты, я никак не могу удержаться
и не думать о прекрасных бедрах Хипер там, в пижаме, прямо передо мной.
На самом деле Эрикссон девушка очень известная у нас в Манхэттене,
добившаяся какого-то такого влияния что ли при помощи телефонных звонков,
мечтаний и интриг за стойкой бара, она умеет сводить людей вместе, а у
мужчин остается после нее чувство вины. Потому что (это я про чувство вины)
она очень чувствительна и откровенна, впрочем я все равно сразу начинаю
подозревать ее в недобрых умыслах. Что же до Хипер, то у нее тоже шальные
глазенки, но это потому что ее избаловал богатый дедушка, который шлет ей
дорогие подарки к Рождеству, телевизоры например, прямо на дом, что не
производит на нее никакого впечатления - Позже я узнал что вдобавок ко всему
она любит разгуливать по Гринвич Виллидж в высоких ботинках и с хлыстом. Но
мне кажется, что на самом-то деле это ей не очень свойственно.
Каждый из нас четверых хочет ее трахнуть, каждый из четверых
омерзительно кашляющих бродяг, появившихся на пороге ее двери, но я вижу что
преимущество за мной, просто потому что я стал смотреть ей в глаза такими
подростково голодными, жадными, "влекущими" глазами, которые впрочем не
лгали, и были так же неподдельны как мои штаны, или ваши, мужчины и женщины
- Я хочу ее - Я близок к безумию от усталости и этой дури - Эрикссон
приносит мне спасительное пиво - Я должен переспать с Хипер или умереть -
Она знает это - Как-то так получается что она начинает петь песни с альбома
Моя прекрасная леди и делает это изумительно, безупречно имитируя Джули
Эндрюс, ее лондонский говор и все остальное - Мне кажется что эта маленькая
кокни[6] в моей прошлой жизни была мальчишкой, маленьким
лондонским жуликом и воришкой - Она вернулась ко мне.
Один за одним, как обычно в таких случаях, каждый из нас четверых
побывал в ванной, худо-бедно привел себя в порядок, и даже побрился - Теперь
нам предстоит веселая ночка, мы собираемся разыскать одного из старых друзей
Саймона в Виллидж, вместе с парочкой радостных Рут, и будем бродить
влюбленные по холодным и восхитительным нью-йоркским ветрам - Бог ты мой.
Неплохое завершение этого ужасного путешествия.
27
И где ж она теперь, моя "мирная жизнь"? Ах, да вот же она, в этом
пижамном животике пшеничного изобилия. В этой шальной девчонке с блестящими
черными глазами, знающей что я люблю ее. Мы выходим на улицы Виллидж, стучим
в окна, находим "Генри", прогуливаемся по парку Вашингтон-Сквер, и там я
показываю Рут свой излюбленный балетный прыжок, который ей очень нравится -
Мы идем взявшись за руки, отстав от остальных - Мне кажется, Саймон слегка
огорчен тем что она выбрала не его - Бога ради, Саймон, оставь мне хоть
что-нибудь - Внезапно Рут говорит что мы с ней должны подняться наверх и
опять прослушать альбом Моя прекрасная леди, целиком, а потом встретиться с
остальными попозже - Идя с нею держась за руки, я показываю на верхние окна
небоскребов моего безумного Манхэттена и говорю "Я хочу написать обо всем
что происходит за каждым их этих окон!"
"Чудесно!"
В спальне, когда она ставит пластинку, я начинаю в поцелуе пригибать ее
к полу, настойчиво как борец - и она отвечает столь же настойчиво, говоря
что если уж она собирается заниматься любовью, то это будет не на полу. А
теперь, в интересах 100% литературы, я опишу нашу любовь.
28
Это похоже на сюрреалистический рисунок Пикассо, чьи части тянутся
неведомо куда и к неизвестной цели - Пикассо не любит быть чересчур точным.
Это как Сад Эдемский и все в нем сущее. Не могу себе представить ничего
более чудесного (и красивого) в своей жизни, чем обнимать обнаженную
девушку, сидя на кровати, в первом предварительном поцелуе. Бархатистая кожа
спины. Волосы, в которых струятся Оби, Параньи и Евфраты. Касание затылка, и
вот она превращается в змеящуюся Еву времен изгнания из Сада, там ты
ощущаешь ее истинную животную душу, мускулы ее, и само понятие пола
пропадает - и О остальное так мягко и неправдоподобно - Если бы мужчины были
столь же мягки, я любил бы их тоже - Странно представить себе, что мягкая
женщина желает твердого волосатого мужчину! Сама мысль эта поражает меня:
где же красота? Но Рут объясняет мне (когда я спрашиваю, забавы ради) что
именно из-за необыкновенной мягкости и пшеничного ее брюшка[7]
все это ей осточертело, и она возжелала грубости - увидев в ней красоту по
контрасту - и поэтому опять-таки как у Пикассо, или в Саду Яна
Мюллера[8], мы усмиряли Марса нашим проникновением мягкого и
твердого - Еще немного фантазии вдобавок, немного этих маленьких и нежных
венских уловок - и вот мы в задыхающейся безвременной ночи чистого любовного
наслаждения, закончившейся сном.
Мы пожирали и жадно вспахивали друг друга.
На следующий день она сказала Эрикссон что это был первый
extase[9] в ее жизни, и когда та пересказала мне это за утренним
кофе, я был польщен, но честно говоря не поверил. Я спустился на 14-ю улицу
и купил себе красную куртку на молнии, и этим же вечером мы с Ирвином и
ребятами должны были подыскать себе квартиры. В какой-то момент я почти
решил снять двойную комнату в YMCA для себя и Лаза, но потом взвесил все за
и против и понял что мне с моими несколькими оставшимися долларами это не по
зубам. В конце концов мы нашли для Лаза комнату в пуэрто-риканской ночлежке,
холодную и унылую, и оставили его горевать там. Ирвин с Саймоном пошли жить
к богатому студенту Филиппу Воэну. Этой же ночью Рут Хипер сказала что я
могу спать с ней, жить с ней, каждой ночью в ее спальне я могу с ней спать,
стучать на машинке все утро когда она уходит на работу в агентство, и
болтать целый день с Рут Эрикссон, попивая кофе или пиво, пока она не придет
вечером с работы, и тогда я стану в ванной смазывать мазью новые ссадины на
ее коже.
29
Рут Эрикссон держала в квартире гигантского немецкого полицейского пса
(или овчарку) (или волка), который любил возиться со мной на вощеном
деревянном полу, у камина - Он мог бы проглотить целую толпу хулиганов и
поэтов по одной только команде, но он знал что я друг Рут Эрикссон - она
называла его своим любовником. Время от времени я брал его гулять на поводке
(по просьбе Рут), прогуляться туда-сюда окропить каемки мостовых, или по
большим делам, он был такой здоровенный что мог протащить тебя полквартала
учуяв какой-нибудь запах. Однажды, когда он увидел другую собаку, мне
пришлось буквально врасти каблуками в мостовую чтобы удержать его. Я сказал
Рут Эрикссон что жестоко держать такую громадину на привязи и в доме, но
выяснилось что совсем недавно он чуть было не погиб, и Рут Эрикссон выходила
его, не отходя от него целых 24 часа, она по-настоящему любила его. В ее
спальне был камин и драгоценности на полке. Как-то раз ее навещал
франко-канадец из Монреаля которому я не доверял (он одолжил у меня пять
долларов да так и не отдал), и он смотался с одним из ее дорогих колец. Она
стала расспрашивать меня о том кто бы мог его взять. Это был не Лаз, не
Саймон, не Ирвин, и не я, ясное дело. "Это тот ловкач из Монреаля". На самом
деле она вроде была бы очень не против чтобы я стал ее любовником, но она
любила Рут Хипер и поэтому об этом не могло быть и речи. Мы проводили целые
дни разговаривая и глядя друг другу в глаза. Когда Рут Хипер возвращалась с
работы, мы готовили спагетти и устраивали ужины при свечах. Каждый вечер к
ней наведывались кандидаты в любовники, но она отказывала им всем
(дюжинами), кроме того француза из Канады, который так и не осмелился ни на
что (кроме разве что с Рут Хипер, когда меня не было дома), и Тима МакКаффри
который осмелился, по его словам, причем с моего разрешения. Он сам (молодой
сотрудник Ньюсвика, с длинными под Джеймса Дина волосами) подошел и спросил
не против ли я, явно с подначки Эрикссон, чтобы подразнить меня.
Да разве можно представить себе что-нибудь лучше этого? Или хуже?
30
Почему "хуже"? Да потому что сладчайший из даров наших на этой земле,
оплодотворение женщины, ощущенье это данное измученному мужчине, приводит к
рождению детей, вырываемых из утробы и кричащих умоляя о пощаде, так, будто
бросают их на съедение крокодилам жизни - в реку жизней - вот что такое
рождение, о леди и джентльмены изысканной Шотландии - "Новорожденные
младенцы, вопящие в этом городе, есть жалкие примеры происходящего повсюду",
написал я однажды - "Тень, отбрасываемая маленькими девочками на мостовую,
короче Тени смерти над этим городом", писал я еще - Обе Рут были рождены
кричащими девочками, но вот лет в 14 они внезапно испытали это побуждение
заставлять других кричать и кричать в змеящемся сладострастии - Это
чудовищно - Основой учения Будды было: "Остановить круг перерождений!", но
учение это было похищено, скрыто, опорочено, перевернуто с ног на голову и
переделано в дзен, изобретение Мары[10] искусителя, Мары
безумного, Мары дьявола - Сегодня пишется куча интеллектуальных книг
поясняющих "дзен", который по сути своей есть не что иное как орудие личной
борьбы дьявола против сути учения Будды, сказавшего своим 1250 ученикам
когда распутница Амра со своими девочками приблизилась к ним с дарами с
полей бенгальских: "Хоть и красива она, хоть и одарена познаниями, лучше
было б вам попасть в пасть тигра, чем в сети ее". Так ведь? Имея в виду, что
ко всем родящимся Кларкам Гейблам и Гэри Куперам, во всей так называемой
славе их (или к Хемингуэям) придут болезни, дряхлость, печаль, стенания,
старость, смерть, распад - имея в виду что на каждый маленький прелестный
комочек младенческого тельца над которым гугукает женщина приходится
здоровенный кусок гнилого мяса медленно источаемый червями могил этого мира.
31
Но природа создала женщин столь невыносимо желанными для мужчин, что
немыслимое колесо рождения и смерти,
которое-действительно-трудно-себе-вообразить, все вращается и вращается,
будто некий дьявол упорно и в поте лица своего вращает его, чтобы не
прекращался ужас человеческого страдания и попыток оставить свой след в
пустоте небесной - Будто бы все, даже реклама пепси-колы с самолетами,
должно оставлять свой отпечаток там, до самого светопреставления - Но по
воле дьявольской мужчины желают женщин, а женщины стремятся завести от
мужчины детишек - Предмет нашей гордости в те времена когда каждый был
хозяином своего маленького поместья, как же тошнотворно это ныне, когда
автоматические двери супермаркетов открываются сами чтобы впускать
беременных женщин, чтобы они могли покупать пищу и вскармливать смерть далее
- Можете взять эти слова на заметку, вы, там, в ЮПИ[11]. -
Но человек от рождения жертва этой трепещущей паутины, индусы называли
ее "Лила" (цветок), и никак ему из нее не вырваться, разве что уйти в
монастырь, где тем не менее часто поджидают его омерзительные извращенцы -
Так почему бы тогда не расслабиться наслаждаясь любовью пшеничного брюшка?
Но я знал что всему придет свой конец.
Ирвин был совершенно прав, советуя походить по издателям чтобы
договориться о публикации и оплате - Они предложили мне 1000$ выплатами по
100$ ежемесячно, и редакторы (а об этом вот я не знал) поднапрягли свои
воробьиные мозги над моей вовсе не нуждающейся в этом прозой, и подготовили
книгу к публикации с миллионом faux pas[12 ]человеческого
скудоумия (ой?) - Так что я вполне был готов жениться на Рут Хипер и
обзавестись домиком в Коннектикуте.
Ссадины на ее коже, как сообщила мне ее дражайшая подруга Эрикссон,
возникли в результате моего приезда и наших любовных утех.
32
Вместе с Рут Эрикссон мы болтали днями напролет, и она рассказала мне
историю своей любви к Жюльену - (ну и ну) - Жюльену, моему наверное лучшему
другу, с которым мы жили вместе на мансарде на 23-й улице, когда он первый
раз повстречал Рут Эрикссон - В те времена он был безумно в нее влюблен, но
она не отвечала ему взаимностью (насколько я знаю, это было не совсем так) -
Но теперь когда он женат на очаровательнейшей из женщин мира, Ванессе фон
Зальцбург, мой хитроумный приятель и наперсник, О теперь-то она хотела его!
Он даже звонил ей по межгороду на Средний Запад, но без особого успеха тогда
- Вот уж действительно, в волосах у нее Миссури, Стикс, или скорее уж тогда
Митилена[13]![
]Старина Жюльен, вот он приходит с работы из бюро, благополучный
молодой администратор в галстуке и с усиками, хотя когда-то в старые времена
мы валялись с ним в дождевых лужах, поливая себе волосы чернилами и оглашая
улицу воплями мексиканских боррачо[14] (или миссурийскими,
долгими) - Приходя домой с работы, он плюхается в изумительное кожаное
кресло, первый барский дар своей лаэрдовой[15] жены, вторым стала
детская колыбелька, и сидит там у потрескивающего огня, покручивает себе ус
- "Нет в жизни занятий важнее чем растить детишек да крутить себе ус",
говорит Жюльен, который сказал мне что он новый Будда, желающий
перерождений! - Новый Будда, посвятивший себя страданию!
Я часто навещал его в бюро и наблюдал за ним за работой, за тем как он
ведет себя там ("Эй ты разъебай топай сюда!"), за скороговоркой его речи
("Да ты че, любое малюсенькое самоубийство в Западной Вирджинии стоит десяти
тонн угля и всех этих Джонов Л. Льюисов!") - Он отвечал за то чтобы самые (с
его точки зрения) важные и слезливые материалы шли по каналам его агентства
- Он был любимчиком самого главного придурка, президента телеграфного
агентства Громилы Джо Такого-то - Его квартира, в которой я иногда зависал
днем, за исключением дней когда мы балясничали попивая кофе с Эрикссон, была
наверное прекраснейшей из манхэттенских квартир, и в жюльеновом стиле к тому
же, с маленьким балкончиком выходящим на неоновые огни, деревья и автомобили
площади Шеридан, с холодильником на кухне, забитым кубиками льда и
кока-колой, чтобы разбавлять наше старое бухло виски Приятельское - и я
коротал там часы разговаривая с его женой Нессой и детишками, которые
просили нас говорить потише как только по телевизору начинали показывать
Мики-Мауса, а потом входил Жюльен, в своем костюме, расстегнутом воротнике,
галстуке, говоря "Черт - приходишь вот домой после тяжкого трудового дня и
находишь тут этого маккартиста[16] Дулуоза", и иногда вместе с
ним приходил один из помощников редактора типа Джо Скрибнера или Тима
Фосетта - Тим Фосетт был глуховат, ходил со слуховым аппаратом, был
сострадательным католиком, и до сих пор любил страдальца Жюльена - Плюх,
Жюльен падает в кожаное кресло возле растопленного Нессой камина, и
покручивает себе ус - У Ирвина с Хаббардом есть такая догадка что Жюльен
отрастил себе эти усы чтобы казаться старше и уродливей чем на самом деле -
"А есть что-нибудь поесть?" говорит он, и Несса приносит половину жареного
цыпленка, от которого от пощипывает рассеянно, пьет кофе, и спрашивает не
хочу ли я смотаться вниз за еще одной пинтой Приятельского -
"Скинемся пополам"
"Вечно вы, кануки[17], норовите скинуться скинуться да
словчить", и мы спускаемся вниз вместе с черной спаниелихой Почки на
поводке, и не доходя до магазинчика заваливаемся в бар чтобы пропустить по
стаканчику ржаного виски с колой и посмотреть телевизор вместе с другими
менее беззаботными нью-йоркцами.
"Придурок ты, Дулуоз, чистых кануцких кровей придурок"
"Это ты о чем?"
Ни с того ни с сего он хватает меня за пазуху, да так что отскакивают
две пуговицы.
"Да что ты прицепился к моей рубашке?"
"Че, мамочки нет поблизости чтобы пришить, а?" и он дергает опять,
терзая бедную мою рубаху, и смотрит на меня печально, и печальный взгляд
Жюльена говорит мне: -
"Ах ну что за дерьмо чувак, вся эта наша с тобой 24-часовая беготня от
звонка до звонка, все эти попытки вырубить себе кусок пожирней - когда мы
отправимся на небеса, нам и в голову не придет подумать о том ради чего была
вся эта суматоха, и на что мы были похожи". Однажды, встретив девушку, я
сказал ему: "Какая прекрасная девушка, грустно" и он сказал "Ах, все мы
прекрасны и грустны"
"Почему?"
"Тебе этого не понять, потому что ты чистых кануцких кровей придурок"
"Зачем ты твердишь все время эту ерунду?"
"Потому что ты из семейки толстозадых"
Он единственный в мире кому позволяется оскорблять мою семью,
правда-правда, ведь оскорбляет он семью рода человеческого.
"А как насчет твоей семьи?"
Он даже не удостаивает меня ответом. - "Да будь ты даже самим королем,
тебя б давно уж повесили". Когда мы возвращаемся в квартиру он начинает
возбуждать собаку (у нее течка): "Ах какая черная сочная задница..."
Метет декабрьская пурга. Приходит Рут Эрикссон, в гости, они сидят с
Нессой и болтают часами, а мы с Жюльеном смываемся и через его спальню
спускаемся по запорошенной снегом пожарной лестнице чтобы догнаться в
ближайшем баре виски с содовой. Я вижу как он проворно спрыгивает с нее
передо мной, и так же не раздумывая прыгаю. Но он-то делал это уже не раз.
Между свисающим концом пожарной лестницы и мостовой десятифутовая пропасть,
и в полете я понимаю это, но недостаточно быстро, и падаю прямо головой об
асфальт. Хряп! Жюльен поднимает меня с окровавленной головой. "И все это
ради того чтобы смыться от баб? Дулуоз, а тебе идет когда ты весь такой
окровавленный"
"Это вытекает твоя чертова кануцкая кровь", добавляет он в баре, но это
не потому что он жестокий, а просто так. "Вот и в Новой Англии у них тоже,
чуть что - сразу лужа кровищи", но видя гримасу боли на моем лице, он
проникается сочувствием.
"Ах бедняга Джек" (прижавшись ко мне лбом, как Ирвин, по той же самой и
все ж по другой причине) "надо было тебе оставаться там где ты был до
приезда сюда - " Он зовет бармена и спрашивает нет ли у него примочки для
моей раны. "Старина Джек", бывают времена когда в моем присутствии он
становится совершенно смирным, и хочет знать что я на самом деле думаю, или
что на самом деле думает он. "А вот сейчас то что ты скажешь важно для
меня". Встретив его впервые в 1944 году, я подумал что он просто паскудный
юный гаденыш, и в единственный раз когда я курил при нем марихуану я как-то
сразу врубился что он против меня, это потом мы с ним всегда только
напивались... и все таки. Жюльен, прищурив свои зеленые глаза, стройный,
жилистый, мужественный, трясет и колошматит меня. "Поехали, покажешь мне
свою девушку". Мы берем такси и едем через снега к Рут Хипер, и как только
мы заходим к ней, она видит что я пьян и вцепляется мне в волосы, она тащит
меня и дергает несколько раз, выдергивает несколько волосков из места
жизненно необходимого мне для причесывания и начинает дубасить кулаками по
моей физиономии. Жюльен сидит, смотрит и говорит, что из нее получился б
неплохой отбивающий в бейсболе. Так что мы уходим.
"Не нравишься ты своему бейсболисту, чувак", радостно говорит Жюльен в
такси. Мы возвращаемся к его жене и Эрикссон, которые до сих пор все еще
чешут языками. Боже ж мой, из женщин должны получаться лучшие из лучших
писателей.
33
Теперь подходит время ночной телепрограммы, так что мы с Нессой
замешиваем на кухне еще по виски с колой, выносим их позвякивая к камину, и
расставляем стулья вокруг телеэкрана чтобы посмотреть на Кларка Гейбла и
Джин Харлоу в фильме про каучуковые плантации 1930-х, клетка с попугаем,
Джин Харлоу чистит ее и говорит попугаю: "Чего это ты нажрался, цемента, что
ли?" и мы закатываемся в хохоте.
"Ну парень, таких фильмов теперь снимать не умеют", говорит Жюльен,
потягивая свою выпивку и пощипывая себя за ус.
Начинается Самый Последний фильм про Скотленд Ярд. Мы сидим с Жюльеном
тихонько и смотрим на истории из нашей с ним прошлой жизни, а Несса смеется.
Ей-то приходилось в ее прежней жизни иметь дело лишь с детскими колясками и
дагерротипами. И мы смотрим как лондонский оборотень Ллойдс разносит на
куски дверь с кривой ухмылкой на губах: -
"Этот сукин сын и двух центов собственной мамочке пожалел бы!"
"Отправил бы ее ночевать в ночлежку!"
"Вздернуть его в Турецких Банях!" орет Жюльен.
"Или в Иннисфри!"
"Подкинь-ка еще дровишек, ма," говорит Жюльен, "тишками" он называет
детишек, а "ма" мамочку, и она делает это с величайшим удовольствием. Наше
обсуждение прерывается посетителями из бюро: Тимом Фосеттом, кричащим из-за
своей глухоты: -
"Бож-же мой! Эта телеграмма ЮПИ, о какой то мамаше, которая была шлюхой
и натерпелась хрен знает чего из-за своего маленького ублюдка!"
"Так ведь помер он, маленький ублюдок-то"
"Помер? Он снес себе полголовы в номере отеля в Харрисбурге!"
Потом мы все напиваемся и кончается все тем что я засыпаю в жюльеновой
спальне, а они с Нессой ложатся на разложенной тахте, я открываю окно в
свежий метельный воздух и засыпаю под старым писанным маслом портретом
жюльенова дедушки Гарета Лова, похороненного подле Джексона Каменной
Стены[18] на лексингтонском кладбище в Вирджинии. Утром я
просыпаюсь, а пол и часть кровати занесены двухфутовым слоем снега. Жюльен
сидит в гостиной бледный и похмельный. Он не может даже поправиться пивом,
ему надо идти на работу. Он съедает яйцо всмятку и ничего более. Он надевает
свой галстук и, содрогаясь от омерзения, отправляется в бюро. Я спускаюсь
вниз, покупаю еще пива, и провожу целый день с Нессой и детишками,
разговариваю и таскаю детей на закорках - С приходом темноты появляется
опять Жюльен, уже пропустивший пару стаканчиков, и начинается пьянство
опять. Несса приносит спаржу, отбивные и вино. Сегодня вечером в гости
приходят все (Ирвин, Саймон, Лаз, Эрикссон и несколько писателей из Виллидж,
в том числе несколько итальянцев) чтобы посмотреть с нами телевизор. Мы
глядим как Перри Комо и Гай Ломбардо обнимаются в программе Зрелище.
"Дерьмо" говорит Жюльен, сидя в кожаном кресле с выпивкой в руке, и даже не
покручивает свой ус, "Лучше б эти итальяшки убирались себе домой, хавали там
свои равиоли и захлебнулись собственной блевотиной"
Смеюсь этому один я (кроме Нессы, про себя), потому что Жюльен
единственный в Нью-Йорке кто всегда выскажет что у него на уме, что бы там у
него ни было, не важно, за это-то я его и люблю: - Лаэрд, господа (и да
простят нас итальяшки).
Я видел фото Жюльена когда ему было 14, в материнском доме, и был
поражен тем что кто-то может быть так прекрасен - Блондин, с настоящим
ореолом света вокруг волос, резкими чертами лица, и этими восточными его
глазами - Я подумал "Вот черт, а понравился бы мне Жюльен в 14 лет, вот
такой вот?" но как только я сказал его сестре что мне нравится эта карточка,
как она спрятала ее, так что в следующий раз (через год) когда мы случайно
забрели к ней в гости на ее квартиру на Парк Авеню и: "А где эта обалденная
фотка Жюльена?", ее не было, она то ли спрятала, то ли уничтожила ее -
Бедолага Жюльен, за его светлой головой я видел взгляд американских
автостоянок, суровый взгляд - Взгляд типа "А ты кто такой, засранец?" - На
самом-то деле он просто потерянный и грустный парнишка, которого я понимал
потому что знал многих потерянных грустных пареньков в Ой ой французской
Канаде, точно также, я уверен, и Ирвин знавал многих в Ой ой еврейском
Нью-Йорке - Парнишка, слишком прекрасный для этой жизни, но в конце концов
спасенный, женой, старой доброй Нессой, которая однажды сказала мне: "Я
заметила, когда ты ложился на тахту, что у тебя штаны лоснятся!"
Однажды я сказал Жюльену, "А Нессу я буду называть "Ножки", потому что
у нее ноги красивые", и он ответил: -
"Если я только замечу что ты хоть взгляд на нее бросил, я тебя
пришибу", и он не шутил.
Его сыновей звали Питер, Гарет и еще один был на подходе, который будет
назван Эзра.
35
Жюльен был зол на меня, за то что я трахнул одну из его старых
подружек, другую, не Рут Эрикссон - Но когда у нас была вечеринка дома у
Рут, кто-то закидал тухлыми яйцами наши окна, и мы с Саймоном спустились
вниз разобраться. Всего неделю до того на Ирвина с Саймоном напала банда
малолетней гопоты, приставив к их горлам горлышки битых бутылок, и всего
лишь за то что Саймон посмотрел на них перед входом в магазин торгующий
разными (вот уж и впрямь, разными) товарами - Теперь я увидел этих пацанов и
спросил "Кто тут кидался тухлыми яйцами?"
"А собака где?" сказал парень, подошедший вместе с здоровенным, ростом
в шесть футов, подростком.
"Она вас не тронет. Это ты яйцами кидаешься?"
"Че, какими яйцами?"
Мне показалось, стоя и разговаривая с ними, что они хотят вытащить ножи
и пырнуть меня, и испугался. Но они повернулись и пошли прочь, и я заметил
имя "Сила" на спине куртки этого парня, я сказал: "Окей, Джонни Сила, не
кидайся больше яйцами". Он повернулся и посмотрел на меня. "Хорошее имя",
сказал я. "Джонни Сила". Этим все более или менее закончилось.
Но потом Ирвин с Саймоном договорились об интервью с Сальвадором Дали.
Но вначале я должен рассказать о своем пальто, нет, вначале о лазарусовском
брате Тони.
У Саймона с Лазарусом было два брата в сумасшедшем доме, как я уже
говорил, один из них безнадежный кататоник, не обращавший ни на кого
внимания и возможно думавший, глядя на санитаров: "Надеюсь, что эти ребята
не захотят чтобы я дотрагивался до них, потому что я полон чудовищных
электрических змей", но второй брат, бывший всего лишь (продвинутым)
шизофреником, хотел еще кое чего от этого мира, и поэтому (честное слово) с
помощью Саймона бежал из госпиталя на Лонг Айленде, в результате какого-то
тщательно разработанного плана, типа как у французских братьев-воров Рифифи
по телевизору - Так что теперь Тони был на воле и работал (делая самую
разную всячину, как я раньше), подносил кегли в кегельбане, хоть и в самом
Бауэри[19], куда мы пошли повидаться с ним и где я увидел его,
согнувшегося в три погибели в кегельбановой яме, спешащего побыстрей
подобрать рассыпанные кегли - Потом, позднее, следующей ночью, когда я
слонялся по квартире Филипа Воэна, читая Малларме, Пруста и Корбьера
по-французски, Ирвин позвонил в звонок и я вышел к дверям встретить их
троих, Ирвина, Саймона и маленького прыщеватого блондина Тони посередине -
"Тони, познакомься с Джеком". Как только Тони увидел мое лицо, или глаза,
или тело, или что-то такое еще, уж не знаю, он резко повернулся и ушел от
нас, и больше я его не видел.
Я думаю, что напомнил ему старшего брата-кататоника, по крайней мере
Лаз сказал мне так.
Позже я пошел навестить моего старого друга Дени Бле.
Дени Бле это совершенно невероятный тип, с которым я жил вместе на
Западном Побережье во времена моих путешествий по трассе, который воровал
все что плохо лежало, но иногда при этом для того лишь чтобы отдать краденое
вдовам (bon coeur, доброе сердце) и который жил теперь, довольно паршиво
должен сказать я, на 13-ой улице, около побережья, в квартирке с
холодильником (в котором всегда все ж таки имелся запас его коронного блюда
- куриного консоме) - Который, надевая шеф-поварскую шапку, жарил
здоровенных индеек на День Благодарения на вечеринках тусовщиков и битников
из Виллидж, а они в конце вечера незаметно выскальзывали наружу с
барабанными палочками в карманах пальто - И все это потому что ему охота
было подцепить классную деваху из Гринвич Виллидж - Бедняга Дени. Дени, у
которого был телефон, и набитый холодильник, и куча бродяг которые постоянно
кидали его, иногда, когда он уезжал на выходные, бродяги оставляли горящий
свет, текущую воду и открытые двери в квартиру - Которого постоянно
кто-нибудь предавал, даже я, как он утверждал. "Слушай Дулуоз", говорит этот
толстый весом в 220 фунтов черноволосый француз (который всегда воровал, и
теперь крадет только то что ему причитается), "ты постоянно доставал меня,
даже если пытался изо всех сил делать по другому - я теперь понимаю это и
мне жалко тебя". Он вытащил какие-то государственные ценные бумаги с его
фотографией, и тыкал мне в них пальцем, в место где было написано красными
чернилами: Я всегда смогу позволить себе консоме и индейку. Он жил всего в
квартале от дома Рут. "Теперь, видя тебя в такой заднице, таким грустным,
несчастным, потерянным, неспособным купить себе выпивку, или просто сказать
мне: "Дени, ты уже столько раз помогал мне, но не мог бы ты одолжить мне
столько-то?" потому что ты никогда, никогда не одалживал у меня денег" (во
времена между путешествиями он работал моряком, или перевозил мебель, старый
мой школьных еще пор приятель, которого видел мой отец и он ему понравился)
(но Жюльен сказал что его руки и ноги слишком маленькие для такой
здоровенной мощной фигуры) (но чье мнение важней?) и теперь он говорит мне:
"Так что я хочу подарить тебе это прекрасное вигуньевое пальто, как только
этой бритвой я отпорю чрезвычайно ценную меховую подкладку - "
"Откуда у тебя это пальто?"
"Какое тебе дело откуда у меня это пальто, но раз уж ты настаиваешь,
раз уж тебе так охота до меня докопаться, раз уж en effet vous ne voulez pas
me croire[20], я раздобыл это пальто в пустом складе, откуда я
вывозил мебель - Так получилось, что я узнал наверняка что владелец пальто
умер, mort[21], поэтому я его взял, теперь тебе все понятно,
Дулуоз?"
"Ага"
"Он говорит "ага"", глядя на своего ангелоподобного том вульфовского
брата. "Я собираюсь подарить ему пальто, стоящее двести долларов, и все что
он может мне сказать, это "ага"!" (Это было за год до вашингтонского
скандала по поводу вигуньевых пальто, пальто из кожи нерожденных телят) (но
сначала он отрезал-таки меховую подкладку). Пальто было гигантским и
длинным, свисая мне до самых пят.
Я сказал "Дени, ты что рассчитываешь что я стану разгуливать по
Нью-Йорку в пальто свисающем до самых пят?"
"Я рассчитываю не только на это", сказал он, надевая мне на голову
вязаную лыжную шапочку и натягивая ее на самые уши, "еще я рассчитываю что
ты будешь продолжать помешивать эти яйца, как я тебе сказал". Он замешал
омлет из шести яиц с четвертью фунта масла, сыром и приправами, поставил его
на медленный огонь и дал мне помешивать ложкой, а сам стал специальной
давилкой разминать картошку с маслом, для картофельного пюре на ужин. Это
было очень вкусно. Он показал мне несколько мельчайших (с песчинку) фигурок
слонов, из слоновой кости (из Индии), и рассказал какие они хрупкие и как
какой-то шутник выбил их у него из рук в баре на Новый Год. А еще он
раздобыл бутылку ликера бенедиктин, которую мы распивали всю ночь. Он хотел,
чтобы я познакомил его с обеими Рут. Но я знал что толку из этого не будет.
Дени старомодный французский raconteur и bon vivant[22], которому
нужна французская жена, и которому не стоило бы болтаться по Виллидж пытаясь
подцепить одну из тамошних одиноких бесчувственных девиц. Но, как всегда, он
взял меня за руку и стал мне рассказывать все свои последние байки, которые
повторил потом еще раз этим же вечером, когда я пригласил его выпить к
Жюльену и Нессе. По этому поводу он послал телеграмму своей очередной
безразличной девице, написав что мы приглашены на коктейль в дом к "le
grande journaliste, Жюльену Лову", но она так и не появилась. И когда он
рассказал все свои анекдоты, Несса принялась за свои, и он до того
ухохотался что обмочил себе трусы, пошел в ванную (он убьет меня за это),
постирал их, повесил там, а потом вернулся назад продолжая хохотать и
совершенно о них забыв, и когда на следующее утро мы с Нессой и Жюльеном
проснулись несчастные, с затуманенными глазами, мы рассмеялись увидев его
широченные всемирные трусы висящими в их душе - "Кто это у нас такой
немаленький?"
На самом деле Дени вовсе не был неряхой.
36
Надев громадное пальто Дени и натянув на уши вязаную шапочку, я пошел с
Ирвином и Саймоном, которые привели меня в Русскую чайную встречаться с
Сальвадором Дали.
Он сидел за столиком Cafe, опустив подбородок на изразцовый набалдашник
своей изящной трости, синего и белого цветов, рядом со своей женой. У него
были маленькие подвощенные усики, и был он худощав. Когда официант спросил
его что он желает, он ответил "Один грейпфрут... фьють!" и у него были
большие синие глаза, настоящий испанец, oro[23]. Он сказал нам
что художник ничего не стоит, если он не умеет делать деньги. Возможно, он
говорил об Учелло, Гьянондри, Франка? А мы на самом деле не знали что это за
штука такая деньги, и что делать с ними. Дали уже прочитал статью о
"мятежных" "битниках", и заинтересовался нами. Когда Ирвин сказал ему
(по-испански) что мы хотели бы повстречаться с Марлоном Брандо (который
обедал в Русской чайной) он сказал, помахивая тремя пальцами в мою сторону,
"Он прекраснее Марлона Брандо"
Я удивился почему он так сказал, видимо у него была какая-то стычка со
стариной Марлом. Но он имел в виду мои глаза, синие, как у него, и мои
волосы, черные, как у него, и когда я посмотрел ему в глаза, и когда он
посмотрел в мои глаза, мы не смогли выдержать всей этой тоски. То есть,
когда мы с Дали смотримся в зеркало, нам не вынести всей этой тоски. И для
Дали тоска прекрасна. "В том что касается политики, я монархист - я хотел бы
чтобы испанская Корона возродилась, а Франко и всех остальных к черту -
Прошлой ночью я закончил свой последний рисунок и сделал последние мазки
лобковыми волосками"
"Правда, что ли?"
Его жена никак не отреагировала на это сообщение, как будто это было
совершенно нормальным, так собственно говоря оно и было. Раз уж ты замужем
за Дали, таскающим за собой эту фаллическую трость, ah Quoi[24]?
На самом деле мы подружились с его женой, пока сам Дали разговаривал на
ломаном французско-англо-испанском наречии с безумным Ирвином, делающим вид
(впрочем, наверное так оно и было) что понимает его.
"Pero, qu`est ce que vous penser de Franco?"
"C`est nes pas`d mon affaire, mon homme, entiendes?"[25]
Между тем, на следующий день старина Дени, хоть и не сам Дали, но это
вовсе не хуже, пригласил меня заработать 4 доллара затащив газовую плиту на
шесть этажей вверх - Мы сплели наши пальцы, напрягли запястья, подняли плиту
и пронесли ее на шесть этажей вверх, на квартиру двух педиков, один из
которых, увидев мое ободранное запястье, любезно наложил на него
меркурохром.
37
Подоспело Рождество, дедуля Рут Хипер обеспокоил ее своим подарком,
переносным телевизором, а я поехал на юг повидаться опять с матерью - Рут
поцеловала меня и занялась со мной любовью на прощанье. По дороге я решил
заехать к Рафаэлю, живущему в доме Варнума Рэндома, поэтического
консультанта Библиотеки Конгресса - Ну и заваруху же мы устроили! Но как это
было смешно! Даже Варнум, должно быть, вспоминает это с веселым ужасом.
Такси, взятое на вокзале, везет меня в пригороды Вашингтона.
Я вижу шикарный дом с ночными неярко светящимися окнами и звоню в
звонок. Мне отвечает Рафаэль, говоря: "Тебя здесь быть не должно, но здесь
есть я, который рассказал тебе что здесь есть я, и вот ты теперь тоже здесь"
"А что, Рэндом против?"
"Нет, конечно нет - но сейчас он спит со своей женой"
"А выпивка тут есть?"
"Тут есть две очаровательные взрослые дочки, ты их увидишь завтра -
Здесь полный ништяк, и это не для тебя. Завтра мы поедем в зоопарк на его
мерседесе - "
"У тебя пыхнуть найдется?"
"Осталось еще немного с Мексики"
Так что мы забиваем косяк в большой и пустой гостиной с пианино, и
Рафаэль засыпает на раскладной тахте, поэтому я могу спуститься на нижний
этаж и спать там на маленькой кровати за занавеской, оборудованной Рэндомами
для Рафаэля.
Спустившись вниз укуренный я вижу тюбики краски, и альбомы с бумагой
для рисования, и перед сном рисую две картинки... "Ангел" и "Кот"...
Утром я понимаю весь ужас происходящего, фактически я просто добавил к
этому ужасу свое воистину назойливое присутствие (но я хотел увидеть
Рафаэля). Сейчас я помню только что невероятный Рафаэль и невероятный я
прямо таки свалились на голову этой тихой и кроткой семье, глава которой,
Варнум, бородатый добрый иезуит (так мне показалось), переносил все это с
истинно аристократическим бестрепетным изяществом, как быть может и мне
придется позднее? Но Варнум знал что Рафаэль действительно великий поэт, и
повез его днем на вечеринку в Иголку Клеопатры, пока я ошивался у него в
гостиной пиша стихи и разговаривая с младшей дочкой 14-ти лет, и со старшей,
18-ти, и размышляя где у них в доме может быть припрятана бутылочка виски
Джек Дениэлс - до которой я добрался попозже -
Вот он, Варнум Рэндом, великий американский поэт, смотрящий по телеку
Кубок Мэда поверх своего Лондонского Литературного Обозрения, похоже все
иезуиты любят футбол - Он показал мне свои стихи, которые были
по-мертоновски прекрасны и по-лоуэлловски формальны - Литературные стили
ограничивают людей, даже меня. И будь хоть капля мрака в летящих на войну
безгрешных самолетах, я добавил бы им последний темный мазок. И если бы
каждый в этом мире, увидевший во сне петуха, умирал бы, как пророчил Си Ань,
все были бы мертвы на рассвете в Мексике, Бирме и всем мире... (и в Индиане
тоже). Но не случается таких вещей в мире реальном, даже на Монмартре, где
Апполинер карабкается на холм по груде кирпичей, чтобы попасть в комнатушку
пьянства своего, под дуновение февральских ветров. Будь же благословен путь.
38
И вот полоумный Рафаэль, вооружившись огромным молотком и огромным
гвоздем, колошматит по изящно украшенной стенке чтобы повесить свою
написанную маслом по деревянной доске картину микеланджелова Давида - я вижу
как морщится хозяйка - Рафаэль несомненно полагает что эта картина будет
вечно и почтительно храниться здесь на стене, подле болдуиновского пианино и
ковра династии Тянь - Более того, он требует потом завтрак - Мне начинает
казаться, что мне лучше уйти - Но Варнум Рэндом, как ни удивительно, просит
меня остаться еще на один день, так что я провожу целый день в гостиной,
закинувшись бенькой и пиша стихи, названные мною Вашингтонский Блюз - Рэндом
и Урсо спорят со мной по поводу моей теории полной спонтанности - На кухне
Рэндом достает бутылку Джека Дениэлса и говорит, "Как же ты можешь выразить
достаточно отточенные и хорошо выношенные мысли в этом, как ты его
называешь, спонтанном потоке? Это все может закончиться только невнятной
тарабарщиной". И это он искренне, без гарвардских штучек. Но я говорю:
"Если получается тарабарщина, значит это тарабарщина. На самом деле ты
ведь все равно управляешь этим потоком, как человек рассказывающий в баре
какую-нибудь байку, без перерыва и даже без заминки".
"Может, это и станет новомодной диковинкой, но я предпочитаю
рассматривать поэзию как искусство"
"Искусство, оно искусство и есть "
"Да? В каком это смысле?"
"Искусственное оно. Душа же штука хитрая, ее ремеслом не
выразить"[26]
Рафаэль встал на сторону Рэндома и заорал: "Когда Шелли писал
"Ласточку", ему было наплевать на теории. Дулуоз, у тебя башка набита
теориями как у старого университетского перфессора, ты думаешь что знаешь
все" ("Думаешь, только ты знаешь все", добавил он про себя). И торжественно
свалил в рэндомовском мерседесе на встречу с Карлом
Сэндбергом[27] или еще кем-то в этом роде. Отличный образец
публичного скандала, сам Ирвин позавидовал бы. Я заорал им вслед:
"Если б я основал Университет Поэзии, знаешь что написал бы я над
входом?"
"Здесь Учат Неведению! Не парьте мне мозги, почтеннейшие! Поэзия это
хрень телячья! Я предсказываю это! Я пошлю все эти школы в изгнание! Мне по
фигу!" Они не взяли меня с собой на встречу с Карлом Сэндбергом, которого я
и так уже встречал семь лет назад на разных вечеринках, где он стоял в
смокинге перед камином и рассказывал об иллинойских товарняках 1910 года. И
в конце концов обнял меня, крича "Ха ха ха! Да ты такой же как я!"
Зачем я все это рассказываю? Я чувствовал себя потерянным и брошенным,
даже когда мы с Рафаэлем и женой Рэндома пошли в зоопарк и я увидел как
обезьянья самка отсасывает у самца (в нижнем Ист-Сайде мы называли это
пунтанг) и я сказал: "Видели, она ему миньет делает?". Женщина залилась
краской, а Рафаэль сказал: "Не говори так!" - они-то откуда знают слово
миньет!
Но мы отлично пообедали вместе в центре, и вашингтонцы пялились на
бородача, одетого в мое громадное вигуньевое пальто (которое я отдал
Рэндому, обменяв на летную кожанку с меховым воротником), на двух
хорошеньких дочек рядом с ним, элегантную жену, взъерошенного и чумазого
черноволосого Рафаэля с альбомом Бойто в руках, и с альбомом Габриэлли тоже,
и меня (в джинсах), пришедших всех вместе и севших за задние столики,
заказав пива и цыплят. К тому же все мы чудесным образом втиснулись в один
маленький мерседес.
39
Я предвидел тогда уже что вся эта литературная известность это просто
очередная тухлятина. Вечером я вызвал такси отвезти меня на автобусную
станцию, и ожидая его выдул полбутылки Джека Дениэлса, сидя на кухонной
скамеечке и набрасывая портрет хорошенькой старшей дочери, готовящейся
отправиться в колледж имени Сары Лоурэнс чтобы узнать все про Эриха Фромма,
кастрюли и сковородки. Я оставил ей рисунок, довольно тщательный, думая что
она будет хранить его вечно вместе с рафаэлевским Микеланджело. Но когда мы
оба месяцем позже возвратились в Нью-Йорк, к нам пришла по почте большая
коробка со всеми нашими картинами, рисунками и забытыми майками, безо всяких
объяснений, что значило "Слава Богу, что вы нас покинули". И я не виню их,
мне до сих пор стыдно за тот незваный визит, я больше никогда так не
поступал, и не буду.
Я приехал на автобусную станцию, вместе со своим рюкзаком, и сдуру
(перебрав Джека Дениэлса) разболтался с какими-то моряками, которые потом
наняли парня с машиной отвезти нас в какие-то вашингтонские закоулки в
поисках где еще можно раздобыть бутылку. И пока мы торговались с каким-то
негром, подошел негр-полицейский чтобы нас обыскать, но нас оказалось
слишком много. Я просто ушел оттуда со своим рюкзаком за плечами, на
станцию, залез в автобус и завалился спать, оставив рюкзак у водительского
места. Когда же на рассвете я проснулся в Роаноке Рапидс, рюкзак исчез.
Кто-то стащил его в Ричмонде. И я уронил голову на сиденье, не в силах
вынести ослепительно жестокого восхода, трудно себе представить что-нибудь
хуже когда ты в Америке и в муках идиотского похмелья. Целый новый роман
(Ангелы одиночества), целая книга стихов, и заключительные главы еще одного
романа (о Тристессе), вместе со всеми моими рисунками, не говоря уже о вещах
(спальник, пончо, нежно любимый свитер, отличное и простое снаряжение,
результат многолетнего отбора), пропали, пропали навсегда. Я стал плакать. И
я посмотрел вверх и увидел промозглые сосны у промозглых фабрик Роаноке
Рапидс, в бесповоротной безысходности, безысходности человека которому
ничего не осталось кроме как покинуть этот мир навеки. Солдаты курили,
поджидая автобус. Старые толстые каролинцы смотрели, сцепив пальцы за
спиной. Воскресное утро, и у меня не осталось больше никаких маленьких
радостей делающей жизнь выносимой. Брошенный сирота, сидящий черт знает где,
больной и плачущий. Будто в момент смерти, я увидел как передо мной
пролетели все мои прожитые годы, и все попытки моего отца придать жизни хоть
какой-нибудь смысл, и кончившееся все той же смертью, бессмысленной смертью
на восходе автомобильного дня, автомобильных кладбищ, целых полей
автомобильных кладбищ повсюду. Я увидел хмурые лица моей матери, Ирвина,
Жюльена, Рут, всех их, безнадежно пытающихся найти свою веру. И беспечные
радостные студенты на заднем сиденье автобуса сделали мою тоску еще острей,
при одной мысли о том что все их радужные планы нелепо закончатся
автомобильным кладбищем бессмысленного страхового бюро. Где ныне тот старый
мул, похоронен на сосновой полянке, или кормит собой стервятников? Кака, мир
сплошная кака. Я вспомнил беспросветное отчаяние тех времен, когда мне было
24 и я просиживал целый день дома у матери, пока она была на работе на
обувной фабрике, в том самом кресле в котором умер отец, невидяще и никчемно
глядя в страницы Гете. Иногда вставая и наигрывая на пианино сонаты,
сочиняемые мною на ходу сонаты, падая потом на кровать и плача. Глядя в окно
на автомобильное зарево бульвара Кроссби. Склоняясь над своим первым
романом, не в силах продолжать, замученный отчаянием. Размышляя о Голдсмите
и Джонсоне, отрыгавших тоску жизни у своих очагов, жизни слишком долгой.
Именно это и сказал мне отец за ночь до смерти, "Жизнь слишком длинна".
Так неужто же существует такой персональный Бог, который действительно
лично занимается происходящим с нами, с каждым из нас? Вверяющий нас
тяготам? Времени? Вопящему ужасу рождения и невероятной потерянности
ожидания смерти? И зачем? Потому лишь что мы падшие ангелы, сказавшие
Небесам "Небеса это здорово, но может быть и получше!" и пали вниз? Но разве
вы помните, и разве я помню что-нибудь подобное?
Я помню только что до рождения своего я пребывал в блаженстве. Я
действительно помню тьму кипящего блаженства 1917 года, хотя я родился
только в 1922-м! Наступил Новый Год, и закончился, а я был просто
блаженством. Но когда я был выпихнут из материнской утробы, посиневший,
синенький младенец, они стали орать на меня, и шлепать чтобы я проснулся, и
с тех самых пор я стал мучим, и все радостное для меня закончилось навсегда.
Никто не шлепал меня в блаженстве! И разве Господь это все? Ведь раз Господь
это все, значит это Господь шлепнул меня! И чего ради? Чтобы я таскал за
собой это тело и называл его своим?
Однако в Рэйли высокий голубоглазый южанин сказал мне что мой рюкзак
был отослан в конечный пункт, в Уинтер Парк. "Господь благословит вас",
сказал я, и он медленно поднял на меня глаза.
40
Что же касается моей матери, то другой такой на свете не найдется,
правда. Может быть, она вынашивала меня, чтоб дитя стало утехой сердца ее?
Это желание сбылось.
К тому времени она уже вышла на пенсию, заслуженную ею за всю жизнь
(начиная с 14-ти лет) обтачивания обуви на обувных фабриках Новой Англии, и,
позднее, Нью-Йорка, получала грошовую пенсию и жила с моей замужней сестрой
в качестве домохозяйки, что-то вроде того, ведь она вовсе и не чуралась
никакой домашней работы, это было так для нее естественно. Опрятная
франко-канадка, родившаяся в Сен-Пакоме в 1895, когда ее беременная мать
приехала в Канаду из Нью-Хэмпшира. Она родилась вместе с сестрой, но ее
радостная толстенькая маленькая близняшка умерла (О на кого она была бы
похожа?), потом умерла и мать. Так что моя мать теряла близких с самого
детства. Потом в 38 лет умер ее отец. Она служила домработницей для всех
своих теток и дядьев, пока не повстречала моего отца, который пришел в
ярость увидев как с ней обращаются. Теперь, когда мой отец умер а я стал
бродягой, она опять работала домохозяйкой для родни, хотя в свои лучшие
времена (в Нью-Йорке военных лет) она зарабатывала по 120$ в неделю на
обувных фабриках Канальной улицы и Бруклина, и когда я бывал слишком болен
или печален чтобы оставаться вместе с женами и друзьями и приезжал домой,
она во всех смыслах поддерживала меня, пока я как-то там писал свои книги
(без всякой реальной надежды когда-либо их опубликовать, просто
художественная блажь). В 1949 году я получил 1000$ долларов авансом за мой
первый роман, но дальше того дело не пошло, поэтому сейчас она живет у моей
сестры, вот она стоит в дверях, вот во дворе опустошает чан с мусором, за
плитой жарит кусок мяса, у раковины моет посуду, за гладильной доской, с
пылесосом, и всегда радостная. Иногда впадая в параноидальную
подозрительность, как тогда когда она сказала что Ирвин и Жюльен дьяволы
которые погубят меня (возможно, так оно и есть), она тем не менее чаще всего
была весела как ребенок. Все ее любили. Единственный случай когда у моего
отца был повод обижаться на эту милую крестьянскую женщину, был когда она
закатила ему скандал за то что он проиграл все свои деньги в карты. И когда
старик умер (в возрасти 57 лет), он сказал ей, Memere, как мой племянник
теперь ее называет (сокращенное от grandmere[28]) - "Энджи, я
никогда раньше не понимал, какая ты прекрасная женщина. Простишь ли ты меня
за все то плохое что я делал, за то как я пропадал целыми днями, за все эти
проигранные в карты деньги, несколько несчастных долларов которые я мог бы
потратить на тебя, купив какую-нибудь дурацкую шляпку? - "
"Да, Эмиль, но ведь ты всегда оставлял нам деньги на еду и плату за
дом"
"Да, но я потерял гораздо больше на лошадях, играя в карты и еще те
деньги которые я раздал куче оборванцев - Ах! - Но теперь похоже я умираю, и
ты работаешь на обувной фабрике, и Джеки тут чтобы заботиться обо мне, а я
не заслуживаю этого, теперь-то я понимаю что я потерял - все эти годы - "
Однажды ночью он сказал что ему хотелось бы полакомиться настоящей хорошей
китайской едой, поэтому Memere дала мне пять долларов и послала на подземке
всю дорогу с Озон Парка до нью-йоркского Чайнатауна купить китайской еды в
коробке и привезти ее домой. Па съел все до последней крошки, но потом
вытошнил все назад (рак печени).
Когда мы хоронили его, она настояла на покупке дорогого гроба, что черт
знает как разозлило меня, и более того, она (хотя против этого я уже не
возражал), она отправила его старое драгоценное тело в Нью Хэмпшир, чтобы он
был похоронен там возле своего сына, Жерара, святого брата моего, так что
теперь, когда громыхает гроза в Мехико-Сити, где я пишу сейчас, они лежат
там бок о бок, проведшие 35 и 15 лет на этой земле, но я никогда не навещал
их могилы, зная что лежащее там это вовсе не папа Эмиль или Жерар, а просто
гниль. Потому что если душа не может покинуть тела, отдайте тогда мир Мао
Цзе Дуну.
41
И более того, я знаю что личный, персональный Бог существует, потому
что я узнал много таких вещей, о которых не прочитать ни в каких книжках. По
сути дела все чему они пытались нас научить когда я приехал в Колумбию, это
был Маркс, будто нужен мне этот их Маркс, я пропускал занятия и оставался в
своей комнате и спал в руках Господа (Именно это диалектические материалисты
и называют "херувимскими наклонностями", а психиатры - "шизоидными
наклонностями"). Спросите лучше про наклонности моего брата и отца в их
могиле.
Я вижу, как они клонятся к золотой бесконечности, где все восстановлено
навеки, где все, что ты любил, воплощено в единой Сущности - единственной.
На дворе Рождество и мы сидим вокруг телевизора, попивая мартини.
Маленький и славный Дэйви, серый котенок который когда-то сопровождал меня в
северо-каролинские леса куда я отправлялся медитировать вместе с собаками,
который любил прятаться на дереве у меня над головой, сбрасывая иногда на
меня веточку или лист чтобы обратить на себя внимание, стал теперь косматым
котищем, любителем загулять и подраться, один раз его змея даже ужалила. Я
попытался усадить его на колени, но он больше не помнил меня (дело в том,
что мой зять все время выбрасывал его за двери). Старый пес Боб, который
когда-то провожал меня через лес полуночными тропами, едва белевшими в
темноте, он теперь уже умер. Я думаю, Дэйв скучал по нему.
Я достал свой альбом для рисования и набросал ма, дремлющую в своем
кресле под полуночную мессу из Нью-Йорка. Когда позже я показал этот рисунок
одной нью-йоркской подружке, она сказала что он выглядит очень средневеково
- сильные руки, суровое спящее лицо, отдохновение в вере.
Однажды в Мехико-Сити я привел домой пятерых плановых тусарей,
продававших мне траву, но они оказались ворами, укравшими мой скаутский нож,
фонарик, глазные капли и крем для кожи, пока я стоял к ним спиной, и хотя я
заметил это, я ничего не сказал. Был такой момент когда их главарь стоял
позади меня, сидящего, секунд тридцать в полной тишине, за это время я вдруг
понял что возможно он собирается пырнуть меня моим же ножом, чтобы они могли
обыскать квартиру в поисках спрятанных денег. Я даже не испугался, я просто
сидел укуренный и мне было все равно. Когда же в конце концов на рассвете
воры стали уходить, один из них стал требовать чтобы я отдал им мой 50-ти
долларовый плащ, и я сказал резко "Non", ясно и окончательно, сказав что моя
мать убьет меня: "Mi madre, бабах!", изображая удар в подбородок - На что их
странный главарь сказал по-английски: "Так значит чего-то ты все-таки
боишься".
На веранде дома стояли мой старый письменный стол, забитый неизданными
рукописями, и кушетка на которой я спал. Сесть за свой старый стол и
задумчиво рассматривать его было грустно. Сколько же работы проделано за
ним, четыре романа, и бесчисленные сны[29], и стихи, и записи. И
я внезапно увидел, что работал в этом мире не менее других, так за что же
мне себя упрекать, в глубине души своей или иначе? Святой Павел писал
(Коринфянам, 8:10): "Для того я и пишу сие в отсутствии, чтобы в присутствии
не употребить строгости по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к
разорению." [30]
И когда я уезжал, после того как ма приготовила на Новый Год обильный и
вкуснейший обед с индейкой, я сказал ей что вернусь осенью, чтобы перевезти
ее в ее собственный маленький домик, рассчитывая что смогу заработать
достаточно денег на книге, которая только что была принята к изданию. Она
сказала: "Qui, Jean, мне хотелось бы иметь свой маленький домик", почти
плача, и я поцеловал ее на прощанье. "Не давай этим твоим нью-йоркским
бродягам втянуть себя во что-нибудь", добавила она, потому что она была
убеждена что Ирвин Гарден охотится за мной чтобы меня прикончить, как
почему-то предсказывал мой отец, говоря: "Энджи, скажи Джеку что этот Ирвин
Гарден погубит его когда-нибудь, и этот Хаббард тоже - Этот Жюльен еще
ничего - Но Гарден и Хаббард точно прикончат его". И было бы странно не
обращать внимания на такие слова, потому что он сказал это перед смертью,
тихим пророческим голосом, так, будто бы я сам Святой Павел, или даже Иисус
окруженный Иудами и врагами в Царстве Небесном. "Держись от них подальше!
Оставайся со своей маленькой подружкой, которая прислала тебе сигары!"
кричала моя ма, имея в виду коробку сигар присланную Рут Хипер на Рождество.
"Они погубят тебя, дай им только волю! Мне не нравятся эти их подозрительные
усмешки!" И все-таки, как ни странно, я собирался вернувшись в Нью-Йорк
одолжить 225 долларов у Ирвина, чтобы уплыть в Марокко, в Танжер, и
навестить там Хаббарда!
Ну и ну.
42
А в это самое время в Нью-Йорке Ирвин, Рафаэль и Рут Хипер позировали
на квартире у Рут для скверных фоток, с Ирвином в черном свитере под самое
горло, Рафаэлем в развратной шапочке (явно трахающем Рут) и самой Рут в
своей пижаме.
Рафаэль постоянно отбивал у меня моих девушек. Жаль что мой па был с
ним незнаком.
Из поезда идущего в Нью-Йорк я увидел беременную женщину с коляской
перед входом на кладбище.
(Как дра-ма-тично).
Первой же ожидавшей меня новостью, как только я отнес свой рюкзак в
спальню Рут Хипер, была та что журнал Лайф собирается снять нас вместе в
лавке Жерара Роуза, торгующей печатной продукцией и рамками для картин в
Гринвич-Вилидж. Все это было устроено Ирвином. Жерар Роуз никогда не любил
меня, и ему была совсем не по вкусу эта идея. Жерар был настоящим крутым
"подпольщиком"[31], таким задерганным и тормознутым одновременно,
но красивым при этом словно Жерар Филип. Он выглядел настолько утомленным
жизнью и скучающим, что познакомившись с ним Хаббард сказал мне потом о нем
так: - "Легко могу себе представить, сидим мы вот с Жераром в баре и монголы
вторгаются в Нью-Йорк - а он склоняет голову на ладонь и говорит "Ах, татары
повсюду". Но мне конечно же нравился Жерар, и когда в конце концов осенью я
опубликовал свою книгу, он крикнул мне: "Ого-го! Король поколения битников?
Хочешь купить мерседес?" (будто бы он был мне по зубам тогда или сейчас).
Так что я напился перед встречей с фотографами из Лайфа, и, пьяный,
причесавшись, стал им позировать стоя на голове: "Скажите всем что это
лучший способ позабыть про докторов!" Они даже не улыбнулись. Они сделали
еще много снимков нас с Рафаэлем, Ирвином и Саймоном сидящих на полу, взяли
у нас интервью и записали услышанное, потом ушли пригласив нас на вечеринку,
и никогда так эти снимки и не опубликовали. Есть у них такая
профессиональная шутка что пол монтажной мастерской журнала "Лайф" завален
на фут глубиной слоем "лишних рож", или как их тут еще называют, "рожами с
монтажного пола". Не сказать конечно чтобы это так уж навеки погубило меня
как художника, как писателя, просто это была дурацкая растрата энергии и в
общем-то скверная шутка.
Потом мы пошли на ту самую вечеринку куда нас позвали, и услышали как
какой-то тип в куртке Братьев Брук сказал: "Что это еще за кайфоломщики у
нас на вечеринке?", и как только мы услышали это "кайфоломщики", так сразу и
ушли, так все это было нелепо и мерзко, будто попердывающий вожатый в
скаутском лагере.
43
Да, это было только начало. Но в те дни происходили ужасно забавные
вещи, Рафаэль вот, например, расписывал хозяйственной краской стену бара на
углу 14-й и 8-й авеню, за деньги, а хозяевами бара были какие-то грозные
итальянские бандиты с пистолетами. И они столпились кругом в просторных
пиджаках, наблюдая как Рафаэль рисует громадных монахов у них на стене. "Чем
больше я на это смотрю, тем больше мне нравится", сказал один из бандюков,
подбегая к звонящему телефону, записывая ставку и опуская ее в свою шляпу.
Однако бандюк-бармен не был так уверен:
"Ну не знаю, по моему Рафаэль сам не знает чего хочет"
Рафаэль вертит взад-вперед кистью, и итальянским жестом другой руки,
большим пальцем к указательному, "Слушайте сюда, парни! Вы ничего не
понимаете в красоте! Все вы тут крутые бандюки и хотите знать где сокрыта
красота! Красота сокрыта в Рафаэле!"
"Почему это красота сокрыта в Рафаэле?" спрашивают они несколько
встревоженно, почесывая себе подмышками, сдвигая шляпы на затылок и
договариваясь по телефону о ставках.
Я сидел там попивая пиво, и мне было интересно чем это все закончится.
Но Рафаэль кричал на них: и я вдруг понял, что из него получился бы самый
прекрасный и убедительный бандит в Нью-Йорке или даже во всей мафии: "Эй!
Всю свою жизнь вы лопаете леденцы на Кенмэр стрит, но когда вы вырастаете,
вы не несете в мир никакой ленденцовой красоты! Посмотрите на эту картину!
Это красота!"
"А я там есть?" спрашивает бармен, Рокко, с ангельски восторженным
видом разглядывая фреску, явно чтобы рассмешить остальных бандитов.
"Конечно ты там есть, ты это монах в самом конце, черный монах - Тебе
просто не хватает светлых волос!" орет Рафаэль, окуная внезапно кисть в
ведро с белой краской и мгновенно набрасывая вокруг головы черного монаха
огромные белые водопады.
"Эй!", кричит Рокко, непритворно изумленный. "У меня ж нету светлых
волос, никаких таких длинных светлых волос?"
"Теперь есть, потому что я так сказал. Я нарекаю тебя
Прекрасноволосый!" и Рафаэль одним взмахом заляпывает белым всю фреску
совершенно портя ее при этом, и все кругом хохочут, а он улыбается этой
своей тонкой рафаэлевской усмешкой, будто у него весь рот забит смехом и он
просто не хочет выпускать его наружу. И именно тогда-то я его действительно
полюбил, потому что он не боялся никаких бандитов, на самом деле он сам был
считай бандитом, и бандиты знали об этом. И когда мы спешим из бара назад к
Рут, на ужин со спагетти, Рафаэль говорит мне сердито: "Эх, брошу я наверное
эту поэтическую суету. Ничего она мне хорошего не дает. А я хочу млеющих
голубков на крыше и виллу на Капри или Крите. Не хочу больше разговаривать у
этими обдолбанными игроками и гопниками. Я буду встречать герцогов и
принцесс".
"Ты хочешь отгородиться рвом?"
"Я хочу ров в форме сердца, как у Дали - И встретив Кирка Дугласа, я не
должен буду стыдиться". Когда мы приходим к Рут, он сразу чувствует себя как
дома и начинает варить устриц в бачке с маслом, одновременно варит спагетти,
вываливает все это, смешивает, режет салат, зажигает свечу, и вот он наш
отличный итальянский ужин, из спагетти с устрицами, и мы смеемся. Появляются
певцы из авангардной оперы и начинают петь прекрасные песни Блоу и Парселла,
вместе с Рут Эрикссон, но Рафаэль говорит мне: "Это еще кто, что за
безмазняк?" (получается как-то так: "безмазнья-а-ак") - "Это же просто
уроды, чувак". Ему охота поцеловать Рут Хипер, но здесь сейчас я, поэтому он
несется в бар на Минетта Лэйн чтобы снять девочку, смешанный бар для цветных
и белых, но уже закрытый к тому времени.
На следующий день Ирвин хватает нас с Саймоном и Рафаэлем в охапку и
отвозит на автобусе в нью-джерсийский Разерфорд, на встречу с Вильямом
Карлосом Вильямсом, великим и старым поэтом Америки 20 века. Всю свою жизнь
Вильямс был практикующим врачом, и его офис до сих пор находится там же где
он 40 лет осматривал пациентов и собирал материал для своих изысканных в
стиле Томаса Харди стихотворений. Он сидит и смотрит в окно, а мы читаем ему
свои стихи и прозу. Ему очень скучно. А кому не было бы скучно в 72 года? Он
все еще подтянут, моложав и величественен, впрочем, в конце концов он идет в
подвал и приносит нам бутылочку вина чтобы маленько нас растормошить. Он
говорит мне: "Так вот и продолжай писать". Ему понравились стихи Саймона, и
после в литературном обозрении он написал что Саймон самый интересный новый
поэт Америки (Саймон любит писать строчки типа "Не прорыдать пожарному
гидранту столь много слез, как мне" или "Звездочкою красной зажег я
сигарету") - И конечно же доктору Вильямсу нравится Ирвин, который родом из
соседнего Патерсона, за его грандиозное, вне рамок суждений человеческих,
воющее однозвучное величие (как у Диззи Гиллеспи на трубе, просто Диззи
наплывает на вас не фразами, а мысленными волнами) - Дайте Ирвину с Диззи
разойтись, и стены падут, ну или хотя бы ваши ушные перегородки это уж точно
- Ирвин пишет о стенаниях с громким и плачущим стоном, и доктор Вильямс
достаточно стар чтобы это понять - Такое вот историческое событие, и в конце
концов мы, очумевшие поэты, просим его дать нам свой последний завет, он
стоит и, глядя за муслиновые занавески своей гостиной на мельтешение
нью-джерсийских машин снаружи, говорит:
"Все-таки там куча придурков"
Я до сих пор удивляюсь, что бы это могло значить.
А я большинство времени провел беседуя с очаровательной женой доктора,
65-ти лет, которая рассказывала каким милым Билл был в молодые годы.
Мужчина под стать тебе.
44
Ирвинов отец Гарри Гарден приехал в дом доктора Вильямса чтобы отвезти
нас домой, в собственный дом в Патерсоне, где мы поужинаем и будем долго
спорить о поэзии. - Сам Гарри тоже поэт (несколько раз в год он публикуется
на редакционных страницах Таймс и Трибьюн с идеально рифмованной печальной
любовной лирикой) - Но есть у него свой заскок, постоянные прибаутки, и
входя в дом доктора Вильямса он сразу заявляет: "Винцо попиваете значит? Раз
стакан пустеет враз, значит выпить ты горазд" - "Ха ха ха" - Не такая уж
ужасная шутка, но Ирвин смотрит на меня так страдальчески, что все это
становится похоже на какую-то немыслимую семейную сцену из Достоевского. "Не
нужен вам, ребята, галстук ручной работы, расписанный пятнами соуса?"
Гарри Гарден преподает в колледже, ему около 60 и он собирается на
пенсию. У него голубые глаза и песчаного цвета волосы, как у его старшего
сына Леонарда Гардена, адвоката, а у Ирвина волосы черные, и черные же глаза
его прекрасной матери Ревекки, о которой он писал, ныне покойной.
Гарри бодро везет нас к себе домой, проявляя в десять раз больше
энергии чем парни которые ему во внуки годятся. У него на кухне с обоями в
завитушках я упиваюсь вином до ошаления, пока он читает и травит свои байки
с чашечкой кофе в руках. Мы переходим в его кабинет. Я начинаю читать свое
дурацкое заумное стихотворение, с каким-то похрюкиваньем и всякими "г р р р
р" и "ф р р р р" должными означать звуки уличного движения в Мексико-Сити -
Рафаэль выкрикивает "Э, это не поэзия!", и старик Гарри смотрит на нас
искренними синими глазами и говорит: -
"Вы что, ругаетесь, мальчики?" и я ловлю быстрый искоса взгляд Ирвина.
Саймон безучастен на небесах.
Битва с бандитом Рафаэлем продолжается и когда мы садимся в автобус из
Патерсона в Нью-Йорк. Я заскакиваю в автобус, плачу за проезд, Саймон платит
за себя (Ирвин остался с отцом), но Рафаэль вопит "У меня нет денег, так
чего б тебе не заплатить за меня, а, Джек?" Я отказываюсь. Саймон платит за
него из ирвиновских денег. Рафаэль начинает доставать меня на тему какой я
бессердечный жадина-канук. Когда мы доезжаем до Порт-Осорити, я уже почти
плачу. А он все говорит: "Ты прячешь денежки под личиной красоты, вот чем ты
занимаешься! И превращаешься в урода! Ты так и сдохнешь зажав свои деньги в
кулаке, и будешь еще удивляться, почему это ангелы не возносят тебя!"
"У тебя нет денег, потому что ты их сразу растрачиваешь"
"Да, я растрачиваю их! А почему бы нет? Деньги это ложь, а поэзия
истина - Могу разве я заплатить за проезд в автобусе истиной? Разве водитель
это поймет? Нет! Потому что он вроде тебя Дулуоз, запуганный прижимистый и
хитрожопый сукин сын, позапрятавший свои денежки в носках, купленных на
грошовой распродаже! В этой жизни ему осталось только СДОХНУТЬ!"
И хотя я мог бы привести кучу доводов, спросить например, зачем Рафаэль
потратил все деньги на самолет из Мексики хотя мог бы спокойно ехать с нами
на этой несчастной машине, я ничего не могу поделать, только вытираю слезы с
глаз. И я не знаю почему, может быть он прав и когда все уже сказано и
сделано, нам остается лишь получать хорошие денежки на все наши похороны, ох
- О ждущие меня похороны, на которые должен буду я одевать галстук! Похороны
Жюльена, похороны Ирвина, похороны Саймона, похороны Рафаэля, похороны ма,
похороны сестры, и я уже надевал галстук и тоскливо смотрел в глину похорон
моего отца! Цветочки и похороны, утрата плеч широких! Вместо нетерпеливо
цокота подошв куда-то по мостовой унылая возня в могиле, как в французском
фильме, и даже кресту не воспрять в этих шелках и грязи - О Талейран!
"Рафаэль, я хочу чтоб ты знал что я люблю тебя" (эта информация была с
готовностью передана Ирвину на следующий день Саймоном, который увидел ее
значимость). "Но не парь мне мозги насчет денег. Ты всегда говоришь о том
что деньги тебе не нужны, но на самом деле ты только этого и хочешь. Ты
попался в ловушку неведения. Я-то по крайней мере это знаю. Но я люблю тебя"
"Оставь себе свои деньги. Я поеду в Грецию и у меня будут видения -
Люди станут давать мне деньги, а я буду отбрасывать их - Я буду спать на
деньгах - Я буду лежа во сне ворочаться на деньгах"
Шел снег. Рафаэль пошел со мной к Рут Хипер, где мы собирались
поужинать и рассказать ей о нашей встрече с Вильямом Карлосом Вильямсом. Я
увидел какое-то чудное выражение у нее в глазах, и у Рут Эрикссон тоже. "Что
случилось?"
В спальне моя любовь Рут рассказала мне, что ее психоаналитик
посоветовал ей предложить мне убраться из ее комнаты и подыскать себе
отдельное жилье, потому что это плохо для нашей с ней психики.
"Этот мудак сам хочет тебя трахнуть!"
"Трахнуть этот как раз нужное слово[32]. Он сказал что ты
используешь меня, что ты безответственный, ничего хорошего мне не несешь,
нажираешься, приводишь пьяных дружков - в любое время ночи - я даже
отдохнуть спокойно не могу".
Я сложил все свое барахло и вышел с Рафаэлем на улицу в крепнущую
вьюгу. Мы спустились по улице Бликер, нет, по Горестной
улице[33], это уж точно. Теперь Рафаэль переживал за меня. Он
поцеловал меня в щеку перед тем как уйти (на ужин с девушкой в пригороде), и
сказал, "Бедный Джек, прости меня Джеки. Я тоже тебя люблю".
Я остаюсь один среди снегов, и поэтому иду к Жюльену и мы опять
напиваемся сидя перед телевизором, Жюльен в конце концов начинает психовать
и сдирает рубашку и майку даже с моей спины, я засыпаю пьяный и сплю до
полудня.
На следующий день я снимаю комнату в гостинице Марлтон на 8-й улице и
начинаю перепечатывать для издателей написанное в Мексике, чистенько, через
двойной интервал, тысячи долларов спрятаны в этом моем рюкзаке.
45
У меня осталось всего десять долларов, и я иду в лавку на угол 5-й
авеню купить пачку курева, рассчитывая чтобы вечером мне хватило денег еще
на жареного цыпленка, чтобы съесть его не отходя от печатной машинки
(одолженной мной у Рут Хипер). Но в лавке этот тип говорит мне "Ну как там
дела в Глакаморе? А ты здесь по соседству живешь, или из Индианы приехал?
Знаешь, что сказал этот старый хрен перед тем как загнулся..." И возвращаясь
в свою комнату я обнаруживаю что он дал мне сдачу только с пятерки. Запудрил
мозги и заныкал сдачу. Я возвращаюсь в лавку, но его смена уже закончилась,
он ушел, а администратор смотрит на меня с подозрением. "У вас тут работает
парень, который навострился ловчить со сдачей - Я ни на кого не хочу
показывать пальцем, но верните мне мои деньги - я есть хочу!" Но я так
никогда и не получил назад своих денег, остался в полной заднице. И
продолжал печатать сидя на одном кофе. Позже я позвонил Ирвину, и он
посоветовал мне позвонить рафаэлевской девушке из пригорода, потому что ее
уже достал Рафаэль, и может быть я смог бы жить у нее.
"А почему ее достал Рафаэль?"
"Потому что он все время валяется на диване и говорит "Покорми
Рафаэля!" Честное слово! Я думаю ты ей понравишься. Просто будь классным и
милым Джеком и позвони ей". И я ей позвонил, девушке по имени Элис Ньюман, и
сказал что умираю с голоду, и не могла бы она встретиться со мной в баре у
Ховарда Джонсона на 6-й авеню и купить мне пару сосисок? Она сказала окей,
низенькая блондинка в красном пальто. И в 8 вечера я увидел ее в дверях.
Она купила сосиски и я набросился на них. И посмотрел уже на нее, и
сказал: "Почему б мне не поселиться у тебя в квартире, мне еще осталось
очень много отпечатать, а меня кинули сегодня на все деньги в лавке"
"Если хочешь"
46
Но это оказалось началом может быть даже самой лучшей моей любви,
потому что Элис была интересной молодой девушкой, изящной еврейкой из
среднего класса, печальной и ищущей чего-то такого своего. Она выглядела
невероятно по-польски, с крестьянскими ногами, худощавым недоразвитым задом,
torque[34] волос (светлых) и печальными понимающими глазами. Так
получилось, что она вроде как влюбилась в меня. Но это просто потому что я
совсем не пытался как-то ее обмануть. И когда в два часа ночи я просил
яичницу с ветчиной и яблочным соком, она с готовностью это делала, потому
что я просил искренне. Искренне? А что неискреннего в просьбе: "Покорми
Рафаэля!" Старушка Элис (22 лет) тем не менее сказала:
"Мне кажется, ты станешь этаким литературным кумиром и все они
попытаются тебя сожрать, так что ты должен позволить мне тебя оберегать"
"И как же это они пожирают литературных кумиров?"
"Они их достают. Будут тебя грызть до тех пор пока от тебя ничего не
останется"
"А ты откуда это знаешь?"
"Я читала книги - Я встречалась с писателями - Я и сама пишу роман -
Думаю, назову его Лети птичка, потом заплатишь, но издателям кажется что у
них возникнут проблемы с авиакомпаниями"
"Назови его Заплати мне пенни потом"
"Очень мило - Прочесть тебе главу?" Внезапно я оказался в тихом
спокойном доме под светом лампы, с тихой и спокойной девушкой, которая
окажется очень пылкой в постели как я увижу после, но Бог ты мой - мне не
нравятся блондинки.
"Мне не нравятся блондинки", сказал я.
"Но может тебе понравлюсь я. Хочешь, покрашу волосы?"
"У блондинок слишком мягкие характеры - И мне еще много жизней придется
с этими мягкими характерами сражаться - "
"Теперь ты захотел твердости? Рут Хипер на самом деле не так уж
великолепна как тебе кажется, на самом-то деле она просто замороченная
девица которая не знает что ей по жизни делать"
Теперь у меня появилась спутница, и даже более того, как я увидел той
ночью когда я надрался в Белой Лошади (а сзади с пивом в руке сидел Норман
Мейлер и говорил об анархии, Бог мой, напоят ли они нас пивом после
революции? или желчью?) - Сижу я пьяный, и вдруг входит Рут Хипер с собакой
Эрикссон на поводке, и начинает говорить со мной, уговаривая меня пойти к
ней домой ночевать.
"Но я живу теперь с Элис - "
"Но разве ты меня больше не любишь?"
"Но ты сказала что твой доктор..."
"Пойдем!" Но тут почему-то здесь, в Белой Лошади, оказывается Элис, и
выволакивает меня оттуда чуть ли не за волосы, сажает в такси и везет домой,
и так я узнаю: Элис Ньюман не позволит никому отнять своего мужчину, кем бы
он ни был. И я был горд. Я пел синатрову песенку "Какой же я дурак" всю
дорогу домой в такси. В такси мчащемся подле океанических судов приставших у
пирсов Северной Реки.
47
И впрямь из нас с Элис вышли потрясающие и искренние любовники - Она
хотела лишь чтобы я давал ей счастье, и делала все что могла чтобы я тоже
был счастлив, и этого хватало - "Ты должен получше узнать еврейских девушек!
Они не только любят тебя, но еще и приносят к твоему утреннему кофе ржаного
хлеба со сладким маслом"
"А кто твой отец?"
"Он курит сигары - "
"А мать?"
"Вяжет кружевные салфеточки сидя в гостиной - "
"А ты?"
"Я не знаю"
"Значит ты собираешься стать великой романисткой - А каких писателей ты
любишь?" Но все они были не те, хотя я все-таки знал что у нее это
получится, получиться стать первой великой писательницей в мире, но я думаю,
мне кажется, все-таки ей хотелось бы детей - Она была очень мила, и нынешней
ночью я ее по-прежнему люблю.
Мы пробыли вместе чудовищно долгое время, года - Жюльен называл ее
Лакомым Кусочком - Так совпало, что ее лучшая подруга, темноволосая Барбара
Липп, была влюблена в Ирвина Гардена - И это именно Ирвин направил меня в
сей приют. В приюте сем я спал с ней чтобы ее любить, но когда мы
заканчивали, я уходил во внешнюю спальню, в которой всю зиму держал окно
постоянно открытым и выключал обогреватель, и спал там в своем спальнике.
Таким способом я наконец-то избавился от мучавшего меня с Мексики
туберкулезного кашля - Не такой уж я дурень (как всегда говорила мне ма).
48
Так что Ирвин с теми самыми 225$ в кармане отводит меня для начала в
Рокфеллеровский Центр, чтобы получить паспорт, а потом мы отправляемся
бродить по центру разговаривая обо всем сразу, как в наши старые
студенческие времена - "Так значит, теперь ты собираешься в Танжер
повидаться с Хаббардом".
"Моя мать говорит что он меня погубит"
"О, может он конечно и попытается, но у него ничего не выйдет, не то
что у меня", прижав свою голову к моей щеке и смеясь. Ох уж этот Ирвин.
"Есть куча людей которые хотят погубить меня, а я все продолжаю опираться
лбом о мост"
"Какой мост?"
"Бруклинский. Мост через Пассаик в Патерсоне. И даже твой хохочущий
безумно мост через Мерримак. Просто любой мост. Я опираюсь лбом о любой
старый мост, где бы он ни был. Вроде как негр с Седьмой Авеню опирается лбом
об унитазы, что-то такое. Я не борюсь с Богом".
"А кто такой Бог?"
"Большая радарная вышка в небесах по-моему, ну или взгляд мертвеца" Он
цитировал одно из своих юношеских стихотворений, "Взгляд мертвеца".
"А что видит взгляд мертвеца?"
"Помнишь тот большой дом который мы, укуренные, видели на 34-й однажды
утром, и нам показалось что в нем живет великан?"
"Ага - с ногами торчащими наружу, или что-то вроде того? Давно же это
было"
"Ну так вот, взгляд мертвеца видит этого великана, и не менее того,
хоть невидимые чернила уже не видны, и даже великана-то самого давно нет"
"Тебе нравится Элис?"
"Да ничего так"
"Она сказала мне что Барбара в тебя влюблена"
"Да, кажется". Ему было явно невероятно скучно. "Я люблю Саймона и не
хочу чтобы толстозадые еврейские женушки со своими тарелками орали на меня -
Смотри какая гнусная рожа только что протопала". И я обернулся чтобы увидеть
спину женщины.
"Гнусная? Почему?"
"У нее на лице написаны презрение и безнадежность, пропащая душонка,
тьфу"
"А разве Бог не любит ее?"
"Ох, да иди ты почитай что ли Шекспира, или еще какую-нибудь чушь, ты
становишься слезливым нытиком", но даже этого он не сказал, так ему было
неинтересно. Он озирался по сторонам, выглядывая кого-нибудь в этом
Рокфеллеровском Центре. "Смотри кто идет". Это была Барбара Липп, она
помахала нам рукой и подошла.
Мы перекинулись парой слов, а потом я получил свой паспорт, мы пошли по
центральным улицам разговаривая, и только мы перешли перекресток Четвертой
Авеню и 12-й, как, откуда ни возьмись, нам навстречу опять Барбара, машет
рукой, и конечно же по чистому совпадению, очень странный случай, правда.
"Ишь ты, второй раз сегодня на вас натыкаюсь", говорит Барбара, которая
выглядит точь-в-точь как Ирвин, черные волосы, серые глаза, и такой же
низкий голос.
Ирвин говорит: "Мы ищем хороший дозняк"
"Что это такое, хороший дозняк" (Барбара)
"Это хороший дозняк какого-нибудь дерьма". И тут вдруг они поднимают
страшный еврейский хай на тему дерьмового дозняка, я уже совсем ничего не
понимаю, они стоят передо мной и смеются, прямо-таки хихикают. Ох уж эти
манхэттенские лентяйки...
49
Так что я покупаю билет на воскресенье в замызганной конторе
югославского пароходства на 14-ой улице. Корабль называется Словения, и
сегодня пятница.
В субботу утром я появляюсь дома у Жюльена, в темных очках потому что у
меня с похмелья болят глаза, и обмотанный шарфом чтобы унять кашель - Элис
со мной, и мы последний раз едем на такси вдоль гудзоновых причалов, смотрим
на громадные изогнутые носы всех этих Либерте и Королев Элизабет, готовых
забросить свои якоря в гавани Ле-Гавра - Жюльен смотрит на меня и кричит:
"Фернандо!"
Он имеет в виду Фернандо Ламаса, мексиканского актера. "Фернандо старый
всемирный roue[35]! Едешь в Танжер проверить как там ай-рабские
девчонки, э?" Несса укутывает детишек, сегодня у Жюльена выходной, и мы
вместе отправляемся на мой бруклинский причал чтобы устроить отвальную
пирушку в моей каюте. У меня целая двухместная каюта на одного, потому что
никто не плавает югославскими судами кроме шпионов и
conspirateurs[36]. Элис наслаждается мачтами кораблей и
полуденным солнцем на воде гавани, хотя уже давно предпочитает Триллинга
Вулфу. Жюльена интересует только одно - как бы полазить с детишками среди
оснастки мачт. Я же пока подготавливаю выпивку в каюте которую уже
перекосило, потому что они загружают корабль начиная с ближнего борта, и
палубу кренит в сторону причала. Милая Несса уже подготовила для меня
прощальный подарок, Danger a Tanger[37], грошовый французский
роман об арабах сбрасывающих кирпичи на головы работников британского
консульства. Члены экипажа даже не говорят по-английски, только
по-югославски, хоть и окидывают Нессу с Элис такими уверенными взглядами
будто способны говорить на любом языке мира. Мы с Жюльеном берем его
мальчишек на капитанский мостик чтобы посмотреть на погрузку.
Представьте, приходится вам двигаться по времени влача за собой каждый
день жизни это лицо свое, да еще помнить что оно должно выглядеть вашим! Вот
уж действительно, Фернандо Ламас! Бедняга Жюльен с этими его усами, он
влачит свое лицо непреклонно и неустанно, что бы и кто бы ему ни говорил,
будь он хоть раскакой угодно философ. Сотките себе эту опухшую маску, и
пусть она выглядит вами, пока ваша печень копит, сердце колотится, этого
достаточно чтобы плачущий Господь сказал "Все чада мои мученики, и я хочу
вернуть их в покой нерушимый! Зачем же я породил их когда-то, не потому ли
что хотелось мне увидеть кино плоти человеческой?" Улыбаясь, беременные
женщины не ведают этого. Бог являющийся всем, уже явившийся, тот, Кого
повстречал я на Пике Одиночества, сам Он подобен такой женщине, улыбающейся,
неведающей. И стоит ли мне сетовать на то как жестоки были они с Кларком
Гэйблом в Шанхае, или Гэри Купером в Полуденном Городе, или о том как
сводили меня с ума старые затерянные студенческие мои дорожки под луною, ох,
под лунным светом, под лунным светом, освети меня лунностью, свет лунный -
лунносвети меня сияньем хмельной лунности[38], отверди и укрепи
меня. Жюльен продолжает кривить губы, мззззгг, и Несса вздымает высокие
скулы плоти, и Элис мычит "Мммм" длинноволосой печали своей, и даже дети
малые умирают. Старый философ Фернандо хотел бы сказать Жюльену что-то
важное, чтобы он передал это по всемирному телеграфу всему свету. Но
югославским краснозвездным работягам на все наплевать пока у них есть хлеб,
вино и женщина - Хоть, может статься, и они встречают гневным пристальным
взглядом проходящего Тито, рррр - Все та же старая история удерживания
личины своей, личины своего я, изо дня в день, и вы можете дать ей упасть
(как пытается сделать Ирвин), но в конце концов спрос ангельский преисполнит
вас изумлением. Мы с Жюльеном мешаем безумные коктейли, выпиваем их, они с
Нессой и детишками сходят в сумерках вниз по трапу, а мы с Элис забываемся
на моей койке до 11 вечера, когда югославский стюард стучится в мою дверь и
говорит "Вы остаетесь на корабле? Окей?" и отправляется в Бруклин чтобы
надраться с остальным экипажем - В час ночи мы с Элис просыпаемся, держась
за руки на этом наводящем ужас корабле, ах - Один лишь вахтенный
прогуливается по палубе - Все пьянствуют по нью-йоркским барам.
"Элис", говорю я, "давай встанем, помоемся, и поедем на подземке в
Нью-Йорк - Мы выйдем на Вест-Энд и отлично выпьем там пивка" Но что такое
этот Вест-Энд как ни смерть сама?
Элис хочется не пива, а плыть со мной в Африку. Но мы одеваемся и,
держась за руки, спускаемся вниз по трапу, по пустому причалу мы идем по
огромным бруклинским площадям, среди шаек уличной гопоты, и я держу бутылку
вина в руках как оружие.
Никогда не видел более опасных мест чем эти бруклинские кварталы за
причалами Бушевского морского вокзала.
В конце концов мы добираемся до Боро Холла, ныряем в подземку, по линии
Ван Кортландт доезжаем прямо до перекрестка 110-й и Бродвея, и идем в бар
где мой старый приятель бармен Джонни наливает нам по пиву.
Я заказываю виски и бурбон - И передо мной встает видение изможденных
ужасных мертвенных лиц, проходящих одно за другим в бар этого мира, но Бог
ты мой, все они в стоят в очереди, в бесконечной очереди, которая непрерывно
ведет их в могилу. Что же мне делать? Я пытаюсь сказать Элис: -
"Лиси, я не вижу вокруг ничего кроме ужаса и страха - "
"Это потому что ты болен, оттого что слишком много пьешь"
"Но что же мне делать с этим ужасом и страхом передо мной?"
"Тебе надо просто проспаться, чувак - "
"Но бармен смотрит на меня так безразлично - будто бы я мертвец"
"Может так оно и есть"
"Потому что я не остаюсь с тобой?"
"Именно"
"Но это же дурацкое и эгоистичное женское объяснение того ужаса который
мы оба чувствуем - "
"Да, чувствуем, и не забывай, что оба"
Бесконечная очередь на бесконечное кладбище, и полное тараканов к тому
же, которые все бегут и бегут в голодные измученные глаза бармена Джонни - Я
сказал "Джонни, разве ты не понимаешь? Мы же все созданы для измены?" и тут
вдруг я понял что как всегда начинаю творить поэзию из ничего, на пустом
месте, и даже будь я берроузовой Механической Счетной Машиной, даже тогда
заставил бы я цифры кружиться в танце передо мной. Все что угодно, лишь бы
было трагично.
И бедная Лиси, она не понимала этих моих гойских штучек.
Переходим к третьей части.
1 Тут в оригинале "to go yungling and travailing", фиг переведешь.
Yungling не существует, и похоже что образовано от слова young ( молодой), а
"travailing" это явная смесь английского travelling (путешествовать) с
французским travail (работать).
2 companeros - товарищи, друзья (исп.)
3 Камачо - Авиль Камачо, президент Мексики (1940-1946), помимо всего
прочего он урегулировал спор по поводу американских нефтяных концессий,
национализированных Мексикой.
4 Corazon - сердце (исп.)
5 Heaper - от heap - собирать, стог. Поэтому здесь игра слов. Ruth who
heaped the heap of corn.
6 Кокни - лондонское произношение в английском языке; житель Лондона.
7 Belly of wheat - пшеничное брюшко. С этим связана очень интересная
история: вначале я думал что это просто очередное джековское чудное
сравнение, а потом тщательные американы из Beat University помогли
раскопать, что есть в Библии такая цитата, среди Песен Соломона, где
воспевается красота Руфи (Ruth - Рут по-английски!):
Thy navel is like a round goblet, which wanteth not liquor: thy belly
is like a heap of wheat set about with lilies.
"Пуп твой подобен круглому кубку, но не хмель содержит он: живот твой
подобен стогу пшеничному среди лилий", заметьте тут heap - стог, груда,
поэтому Ruth Heaper.
Прототипом Рут Хипер была Helen (Елена) Weaver (Ткачиха), поэтому как
рассказывают очевидцы, на самом деле он сказал ей не "Рут собравшая зернышки
маиса?" (Ruth who heaped the heap of corn) (а библейская Руфь в один момент
тоже зернышки собирала), а "Елена, соткавшая сеть Трои?" (Are you the Helen
that wove the web of Troy?).
8 Ян Мюллер - голландский художник 16 века. У него есть такая
знаменитая картина где сидит в саду обнаженная парочка и очень бурно
обнимается. Имеется ввиду вроде бы бог Марс, а нимфа - натурально Венера.
9 Так в тексте, по-французски для убедительности.
10 Мара - что-то вроде буддийского дьявола-искусителя, который в свое
время питался сбить с толку Будду. На самом деле неправда, потому что в
буддизме нет богов, дьяволов и так далее, просто используются изображения и
названия чтобы обозначить какие-то понятия. Мара - понятие нехорошее.
11 United Press Agency - американское агентство новостей.
12 Ошибка, дословно с французского - ложный шаг.
13 Митилена - это столица островов Лесбос (намек в общем понятный).
Наверное, там течет одноименная река.
14 Borracho (исп.) - пьянчуга
15 Лаэрд - шотландский помещик, барин.
16 От имени сенатора Маккарти, который в 50-х создал в Америке Комиссию
по расследованию антиамериканской деятельности, которая отслеживала
коммунистов и устраивала им неприятности. А Джека Жюльен называет так видимо
потому что тот не любил коммунистов.
17 Кличка франко-канадцев.
18 Джексон Каменная Стена - генерал времен Гражданской войны.
19 Бауэри - район в самом центре Нью-Йорка.
20 en effet vous ne voulez pas me croire (фр.) - и впрямь не хочешь мне
поверить (здесь почему то он обращается на "вы", что странно для старых
друзей).
21 Mort (фр.) - мертв.
22 raconteur и bon vivant (фр.) - болтун и кутила.
23 Oro (исп.) - золотой.
24 ah Quoi (фр.) - а что? (Здесь - ну что же теперь?)
25 Ну так что же вы думаете о Франко?
Это не меня не касается, друг мой, абсолютно" (смесь испанского и
французского).
26 Craft (искусство, ремесло) - crafty (искусственная, искусная,
хитроумная).
27 Карл Сэндбург - американский поэт, писатель и собиратель сказок.
28 Grandmere (фр.) - бабушка.
29 Не знаю это ли имеется в виду под "dreams", но вообще у Джека есть
книга "The Book of Dreams" (Книга Снов, с записанными снами), вот бы
почитать...
30 А вот ссылку Джек переврал, на самом деле это - 2 Коринфянам, 13:10.
31 Написано "subterranean" - что-то типа "нашего" "андерграунда", на
самом деле просто тусовка в Нью-Йорке, про нее написана книжка
"Subterraneans", у нас издана под названием "Подземные".
32 Screw значит "трахать" на сленге, но в более прямом смысле
"закручивать, завинчивать", и Рут видимо говорит о том, что ее аналитик
хотел ей крышу на место "ввинтить".
33 Тут тоже игра слов "Bleecker street" и "Bleaker street".
34 Torque - здесь - завитками
35 roue (фр.) - развратник, повеса.
36 Conspirateurs (фр.) - заговорщиков.
37 Danger a Tanger (фр.) - Опасность в Танжере.
38 Здесь очень красивая игра слов - Moonlight me some moonshine -
moonshine это по-английски не только "лунное сияние", но еще и сорт
кукурузной самопальной водки.
* ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. Протекая сквозь Танжер, Францию и Лондон *
Вот ведь безумная история, хотя может быть это история любого
американца, сидишь на корабле, грызешь себе ногти и думаешь куда ж теперь -
я вдруг понял что мне совершенно некуда деваться.
Но именно в этом путешествии в моей жизни произошла великая перемена,
которую я назвал тогда "полным переворотом", поворотом от юношески
безрассудной тяги к приключениям к ощущению полной тошнотворности этого мира
в целом, внезапный перелом во всех шести чувствах. И как я уже говорил,
первые признаки этого перелома появились еще во время мечтательного
отшельнического покоя двух месяцев на горе Одиночества, до Мексики, после
которых я вновь перемешался со всеми своими друзьями и прежними
приключениями, как вы уже знаете, и не всегда это было так уж распрекрасно,
но теперь я опять был один. И ко мне опять вернулось это чувство: беги от
мира, ибо мир это лишь горстка праха и тоски, и в конечном итоге не ничего
значит. Но что же мне тогда делать? И меня непрестанно влекло навстречу
дальнейшем "приключениям", по другую сторону моря. Но именно там, в Танжере,
после опиумного передоза, переворот этот произошел окончательно и
защелкнулся во мне. В одно мгновение - но пока что другое переживание, в
открытом море, вселило в меня боязнь мира, подобное зловещему
предостережению. Это была громадная буря обрушившаяся на наше судно с
севера, со стороны каких-нибудь Льдистых и Мглистых архипелагов Исландии и
Баффинова Залива. Во время войны я плавал в тех северных арктических
широтах, но летом: теперь же, в тысяче милях южнее, в пустыне январских
морей, во мраке, барашки валов водяных обрушивались гневопадами сумрачных
брызг с дом высотой, и бороздили палубу стекая потоками от носа до самых
бурунов за кормой. Гневнокипящие блейковские мраки, громы грохочущие,
омывающие и треплющие мающееся мужество мое, содрогающееся в безрассудной
напрасной растрате длинным поплавком. В крови моей встрепенулось древнее
морское знание бретонцев. И когда я увидел эти водяные стены, надвигающиеся
одна за другой миля за милей мрачные поля сражений, я возопил в душе своей
ЗАЧЕМ Я НЕ ОСТАЛСЯ ДОМА? Но было уже поздно. На третью ночь судно мотало из
стороны в сторону так мощно что даже югославы разошлись по койкам чтобы
забиться меж подушками и одеялами. Всю ночь на кухне царило безумие и
громыхание опрокидывавшихся кастрюль, хоть их и привязали для надежности.
Моряку страшно слышать как его Кухня вскрикивает в ужасе. На обед стюард
поставил тарелки на мокрую скатерть, и ясное дело никаких тарелок для супа,
только глубокие чаши, но было уже поздно. Матросы грызли сухарики,
пошатываясь и стоя на коленях в своих мокрых зюйдвестках. На палубе, куда я
вылез на минутку, крен корабля был настолько силен, что оттуда запросто
могло смыть за борт, прямо на стену воды, шплимп. Привязанные на палубе
грузовики стонали, вырывались из своих пут и крушили все подряд. Это был
Библейский Ураган, настоящий древний сон. Ночью в ужасе молился я Господу,
забирающему ныне всех нас, все души этого корабля, в этот жуткий час и по
Ему лишь ведомой причине. В моем полубреде мне показалось что я увидел
белоснежную лестницу спускающуюся к нам с самих небес[1]. Я
увидел Стеллу Марис[2] над морем сияющую белым словно Статуя
Свободы. Я подумал обо всех когда-либо тонувших моряках и О удушающая мысль
эта, от финикийцев 3000-летней давности до нынешних американских мальчишек
моряков последней войны (с некоторыми из них я благополучно отплавал сам) -
Покрывала опадающей воды, темно-сине-зеленые, посреди океана, с этими
чертовыми пенящимися узорами на них, тошнотворная удушающая чрезмерность,
даже если смотришь только на их поверхность - под ними вздымающиеся пропасти
холодных миль - колыхающиеся, катящиеся, сокрушающие, тонны и грозы
Пелигрозо[3] бьются, взвивают, кружатся - и ни одного лица
вокруг! Еще одна! Берегись! И целый корабль (с деревню длиной) ныряет под
нее содрогаясь, неистовые винты бешено вращаются в пустоте, сотрясая
корабль, шлеп, теперь кверху носом, нос задран наверх, винты грезят где-то
далеко внизу, корабль не продвинулся даже и на десять футов - вот такие дела
- Словно изморозь на лице, словно ледяные уста древних отцов, словно
поскрипыванье дерева в море. И ни рыбы вокруг. Это грохочущее ликованье
Нептуново, и его проклятого бога ветров, ненавистника людей. "А ведь нужно
было мне всего-навсего остаться дома, бросить все это, обзавестись маленьким
домиком на двоих с мамой, медитировать, жить тихо, читать на солнцепеке,
пить вино при луне в старых одеждах, ласкать своих котят, спать и видеть
добрые сны - посмотри же теперь на всю эту petrain в которую я угодил, черт
бы ее подрал!" ("Petrain" на французском 16 века означает "заваруха"). Но
Господь избрал оставить нас в живых, и когда на рассвете капитан направил
судно в другую сторону мы мало-помалу выбрались из этой бури, и он опять
повернул на восток, в сторону Африки и звезд.
51
Кажется мне не удалось толком все это описать, но сейчас уже поздно,
палец мой мимоходом коснулся бури и вот она буря, какая получилась.
После я провел десять спокойных дней на этом старом грузовозе, все
тарахтевшем и тарахтевшем по тишайшим водам никуда казалось совсем не
продвигаясь, и читал книгу по истории мира, писал свои заметки и
прогуливался по палубе ночью. (О как же безучастно пишут они о гибели
испанского флота в буре у ирландских берегов, ох!) (Или даже одного
маленького галилейского рыбака, утонувшего навеки). Но даже занимаясь такими
простыми и мирными вещами, как, например, сидя с книжкой по мировой истории
в удобной каюте и посреди удобных морей, я чувствовал этот чудовищный
перелом во всем - во всех безумствах человеческой истории задолго до наших
времен, могущих заставить зарыдать Аполлона, или Атласа выронить свою ношу,
Бог ты мой, все эти убийства, погромы, отнятые десятины, повешенные воры,
коронованные проходимцы, громилы императорской гвардии, сломанные о головы
скамьи, атакующие кочевнические костры волки, Чингис-Ханы опустошающие -
расплющенные в бою яйца, изнасилованные в дыму женщины, избитые дети, убитые
животные, воздетые ножи, брошенные кости - Гогочущие жирные детины короли с
измазанными мясной подливкой губами поливают всех грязью сквозь свои шелка -
Нищие плюются сквозь дерюгу - Заблуждения, повсюду одни заблуждения! Запах
древних селений, их котлов и навозных куч! - Кардиналы "шелковые чулки
набитые грязью", члены американского конгресса "блистательные и вонючие как
гнилая селедка в лунном свете"[4] - Скальпируют повсюду, от
Дакоты до Тамерлана - И глаза человека перед гильотиной, и пылающий столб
сжигаемого на рассвете, и мрак, и мосты, и туманы, сети, грубые руки и
старые изодранные одежды несчастного человечества за тысячи лет "истории"
(как они это называют), все это ужасное заблуждение. Почему Господь создал
это? Или и впрямь существует дьявол ведущий нас к падению? Души в раю
сказали "Хотелось бы нам попробовать смертной жизни, о Господи, Люцифер
сказал что она прекрасна!" - Бабах, и мы пали вниз ко всем этим
концентрационным лагерям, газовым печам, колючей проволоке, атомным бомбам,
телеубийствам, голоду в Боливии, ворам в шелках, ворам в галстуках, ворам в
офисах, карточным шулерам, бюрократам, обидам, гневу, смятению, ужасу,
ужасным кошмарам, тайной муке похмелий, раку, язве, удушью, гнойникам,
старости, домам престарелых, одышливой плоти, выпадающим зубам, вони,
слезам, и до свидания. Все это пишется кем-то другим, я уж и не знаю как.
И как же теперь жить в радости и покое? Мотаясь со своим рюкзаком из
одной страны в другую, все дальше и дальше, проникая с каждым разом все
глубже во тьму испуганного сердца? И сердце-то само всего лишь здоровенная
трубка, медленно убиваемая нежными покалываниями артерий и вен, с
захлопывающимися отсеками, и в конце концов кто-то пожирает его с ножом и
злобной вилкой, хохоча (Впрочем, не долго и ему осталось).
Ах, но как сказал бы Жюльен "Все равно ничего ты с этим не можешь
поделать, так оттягивайся, парень - Гулять так гулять, Фернандо". Я думаю о
Фернандо, о его загнанных глазах алкоголика, таких же как у меня, о том как
смотрит он на унылые рассветные пальмы, дрожа под шарфом своим: за последним
фризским холмом громадною косою скошены ромашки его надежды, и приходится
ему встречать очередной Новый Год в Рио, или Бомбее. В Голливуде они
быстренько засунут в его склеп какого-нибудь престарелого
режиссера[5]. Полуослепший Олдос Хаксли смотрит как догорает его
дом, ему семьдесят лет и так далеко он от своего беспечного орехового кресла
в Оксфорде[6]. Ничто, ничто, ничто О ничто больше не может
заинтересовать меня и на минуту в этом долбанном мире. Но куда ж мне еще
деваться?
И на опиумном передозе это чувство усилилось до такой степени что я так
и сделал, действительно встал, собрал вещи и отправился назад в Америку
чтобы найти себе дом.
52
Как только страх моря приутих, я стал радоваться что приближаюсь к
Африке и конечно же первую неделю в Африке я славно оттягивался.
Солнечным февральским днем 1957 года мы впервые увидели вдали
расплывчатую мешанину песчаной желтизны и луговой зелени, смутные очертания
береговой линии Африки. С нарастанием полуденной сонливости она также
приближалась, пока беспокоившее меня часами белое пятнышко не оказалось
бензиновой цистерной на холме. Потом словно медленную вереницу магометанок в
белом я увидел внезапно белые крыши маленького порта Танжера, пристроившиеся
прямо передо мною на изгибе суши, и на воде. Видение Африки в белых одеждах
подле синего полуденного Моря, ух ты, кому же привиделось оно? Рембо!
Магеллану! Делакруа! Наполеону! Белые простыни трепещущие на коньке крыши!
И вдруг рыболовная марокканская лодчонка, с мотором, но все же с
высокой кормой и резным балкончиком ливанского дерева при этом, с парнями в
джалабах и шароварах тараторящими на палубе, прошлепала мимо нас и повернула
на юг, вдоль берега, на вечернюю рыбалку под звездой (уже) Стеллы Марис,
Марии морской, защитницы всех рыбаков, оберегающей их от напастей морских
даруя надежду своей архангельской охранной молитвой. И какой-нибудь своей
магометанской Морской Звездой указывающей им путь. Ветер трепал их одежды, и
волосы, "настоящие волосы настоящей Африки" сказал я себе изумленно. (А как
же еще путешествовать, как не ребенком?)
И вот Танжер вырастает перед глазами, слева внезапно появляются
песчаные пустоши Испании, гряда холмов за которыми Гибралтар и Рог Гесперид,
поразительное место, ворота в средиземноморскую Атлантиду древности
затопленную полярными льдами, как повествуется в Книге Ноя. Здесь сам Геракл
держал мир стеная, как "камни грубые стеная влачат свое существованье"
(Блейк). Сюда одноглазые контрабандисты драгоценностей прокрадывались с
воронеными 45-колиберниками похитить танжерский гарем. Сюда безумец Сципион
пришел наказать синеглазый Карфаген. Где-то в этих песках, за Атласным
хребтом, я видел моего голубоглазого Гэри Купера совершающего свой "Beau
Geste[7]". И ночь в Танжере вместе с Хаббардом!
Судно бросило в маленькой милой гавани якорь и начало медленно
кружиться вокруг его цепи, позволяя мне собирая вещи ознакомиться с разными
видами города и мыса из моего иллюминатора. На мысу с другой стороны
танжерской бухты в синих сумерках вращался утешительный словно богоматерь
прожектор маяка, убеждая меня что мы уже доплыли и что все в порядке. В
городе, на приглушенно бормочущем холме Казбы[8], загораются
волшебные огоньки. И мне хочется быстрей оказаться там и бродить по узким
улочкам Медины в поисках гашиша. Первый встреченный мною араб невероятно
смешон: маленькая обшарпанная лодчонка причаливает к нашему трапу
Иакова[9], мотористы в ней оборванные арабские подростки в
свитерах в точности как в Мексике, но в центре лодки стоит толстый араб в
засаленной красной феске, в синем деловом костюме, сцепив руки за спиной и
высматривая нельзя ли тут продать сигарет, или купить что-нибудь нужное или
не очень. Наш милейший капитан-югослав кричит им чтобы они убирались. Около
семи мы швартуемся и я спускаюсь на берег. Мой свежий невинный паспорт уже
проштампован заковыристой арабской вязью чиновниками в пыльных фесках и
обвислых штанах. В общем все это очень похоже на Мексику, феллахский мир, то
есть мир не занятый в настоящем деланием Истории: деланием Истории, ее
производством, ее расстреливанием водородными бомбами или ракетами,
стремлением к великой призрачной цели Высочайших Достижений (чем в наше
время заняты фаустов "Запад" Америки, Британии и Германии, в пике и упадке
соответственно).
Я беру такси и называю адрес Хаббарда на узкой горбатой улочке
европейского квартала, за посверкивающей горой Медины.
Бедному Быку видимо взбрело в голову позаботиться о здоровье, и поэтому
в 21.30, когда я постучался ему в двери, он уже спал. Я был поражен увидев
его сильным и здоровым, не истощенным более наркотиками, загорелым,
мускулистым и бодрым. Ростом он шести футов с лишним, голубоглаз, очки,
песчаного цвета волосы, 44 лет, отпрыск семьи великих американских
промышленников, за что они и отпрыскивают ему ежемесячно 200 опекунских
долларов собираясь вскоре урезать их до 120, через два года они окончательно
отлучат его от своих тщательно обставленных гостиных во флоридском
отдохновении, из-за безумной книги написанной и опубликованной им в Париже
(Голого ужина) - эта книга и впрямь может заставить побледнеть любую мамочку
(и чем дальше тем хлеще). Бык хватает свою шляпу и говорит "Пошли, тусанемся
по Медине" (после того как мы вместе приколотили косячок) и бодро зашагал
похожий на какого-нибудь безумного немецкого филолога в изгнании, он провел
меня сквозь сад и ворота на маленькую волшебную улочку. "Завтра утром, после
моего скромного завтрака, чая с хлебом, мы поедем кататься на лодке по
Заливу".
Это приказ. Последний раз я видел "старого Быка" (бывшего другом
"старого Быка" мексиканского) в те новоорлеанские времена когда он жил с
женой и детьми около Ливи (в луизианском Алжире) - На вид он никак не
изменился, разве что перестал так тщательно как когда-то причесываться, и
то, как я понял на следующий день, по причине полного ошаления и
погруженности в глубины своего писательства, сидя словно заросший безумный
гений сиднем в своей комнате. Он носил американские армейские штаны и рубахи
с карманами, рыбацкую шляпу, и носил с собой большущий с фут длиной выкидной
нож. "Уж поверь мне, без этого ножа мне бы уж давно был конец. Однажды
вечером в переулке меня окружила шайка ай-рабов. Тогда я выщелкнул эту
старую штуковину и сказал "Ну, давайте, сучьи дети", они и свалили".
"И как они тебе, арабы"?
"Гнать их надо с дороги, этих говнюков", внезапно он пошел прямо на
толпу арабов на мостовой, заставив их расступиться в обе стороны, бормоча и
размахивая руками, энергично и нелепо раскачиваясь, словно какой
карикатурный нефтяной безумец-миллионер из Техаса, расчищающий себе путь
сквозь гонг-конгские толпы.
"Да ладно тебе, Бык, ты же не делаешь так каждый день"
"Что?" рявкнул он, чуть не взвизгнув. "Да просто пинай их в сторону,
парень, даже вякнуть им не давай, этим маленьким говнюкам". Но на следующий
день я понял что маленькими говнюками он считает всех: - меня, Ирвина, себя
самого, арабов, женщин, торговцев, президента США и самого Али-бабу.
Али-бабу или как его там, мальчонку ведущего на пастбище стадо овец и
несущего на руках ягненка, с кротким выражением лица, как у святого Иосифа
когда тот тоже был маленьким: - "Маленький говнюк!" И я понял что это просто
выражение такое, печаль Быка что никогда ему не обрести вновь непорочности
Пастуха, то есть этого самого маленького говнюка.
Вдруг, пока мы забирались в гору белыми уличными ступенями, мне
вспомнился старый сон о том как я взбираюсь по таким же ступенькам и попадаю
в Священный Город Любви. "Думаешь теперь, после всего этого, твоя жизнь
изменится?" говорю я сам себя (упыханный), но внезапно справа от меня
раздалось бламмм (молотком по железу) па паммм! И я всмотрелся в чернильно
черную утробу танжерского гаража, и тут-то моя белая мечта и погибла, слава
богу, прямо в промасленных руках здоровенного механика-араба яростно
сокрушавшего буфера и крылья фордов, в масляно-ветошном полумраке под
одинокой мексиканской лампочкой. И я продолжал устало карабкаться по
священным ступеням вверх, к очередному ужасному разочарованию. Бык постоянно
покрикивал спереди "Эй, пошевеливайся, ты ж молодой парень, и не можешь
угнаться за таким стариком как я?"
"Ты слишком быстро ходишь!"
"Тусари саложопые, ни на что вы не годитесь!", говорит Бык.
Мы идем почти сбегая вниз с крутого холма среди травы и каменных глыб,
по тропинке, к волшебной улочке с африканскими домишками и опять я попадаю
во власть старого волшебного сна: "Я родился здесь: на этой самой улице я
когда-то родился". Я даже заглядываю в то самое окно одного из домиков,
чтобы увидеть стоит ли еще там моя колыбелька. (Этот гашиш в комнате у Быка,
чувак - просто поразительно как это американские курильщики марихуаны
распространились по всему свету, со всей своей преувеличенной,
фантасмагорической сентиментальностью, иными словами просто галлюцинациями,
при помощи которых их вышколенные машинами мозги могут хоть чуть-чуть
соприкоснуться с древней жизнью человеческой, так что благослови Господи
марихуану) ("Родись я на этой улице, давно бы уж наверное загнулся" добавляю
я, в задумчивости).
Бык заходит, размахивая руками и чванливо как немецкий нацист в
ближайший бар для гомиков, распихивая арабов по сторонам, и смотрит оттуда
на меня "Ну, чего ты там?" Я не мог понять как ему все это удается, пока не
узнал позже что он провел целый год в этом маленьком городке, сидя у себя в
комнате на страшных передозах морфия и другого торчалова, уставясь на носок
своего ботинка и слишком этим устрашенный чтобы осмелиться принять хоть одну
дрожью бьющую ванну за восемь месяцев. Так что местные арабы запомнили его
трясущимся тощим призраком который вдруг вернулся к жизни, и поэтому
позволяют ему оттопыриваться. Казалось, все его знают. Мальчишки обступают
его, крича "Привет" "Берос[10]!" "Эй!"
В полутемном баре для гомиков служащем базой большинству небогатых
европейских и американских гомиков Танжера, Хаббард знакомит меня с
хозяином, толстым голландцем средних лет, который грозится вернуться домой в
Амстердам если очень скоро не найдет себе хорошего "малшика", где-то я
кажется про него уже рассказывал. Также он жалуется на падение курса песеты,
но я-то знаю что ночью он стонет у себя в одинокой постели желая любви или
чего-то там такого в горестной чужедальности этой своей ночи. Дюжина местных
чудаков европейцев, покашливающих и затерявшихся среди мощеных мостовых
Могреба - некоторые из них сидят за столиками на улице с мрачным видом
иностранцев, читая газетные зигзаги над бокалами ненужного вермута. Вокруг
толкаются бывшие контрабандисты в капитанских фуражках. Нигде не слышно
радостного марокканского бубна. Пыль на улицах. Повсюду все те же тухлые
рыбьи головы.
А еще Хаббард знакомит меня со своим любовником, мальчиком лет двадцати
с нежной и печальной улыбкой, именно таких Бык всегда и любил, от Чикаго и
до здешних мест. Мы пропускаем по паре стаканчиков и возвращаемся назад в
его комнату.
"Может завтра француженка хозяйка этого пансиона сдаст тебе отличную
комнату на мансарде, с душем и балконом, дорогой мой. А мне больше нравится
здесь, внизу, возле садика, тут я могу играть с кошками и выращивать розы".
Кошки, две штуки, принадлежали китайской экономке, убиравшейся в доме для
загадочной парижской мадам, ставшей хозяйкой дома благодаря какой-нибудь
удачной ставке в рулетку, или биржевым спекуляциям, или еще чему-нибудь в
этом роде - но позже я узнаю что вся основная работа делается большой
негритянкой-нубийкой, живущей в подвальном помещении (раз уж у вас такая
охота до романтических танжерских историй).
53
Но на это у нас нет времени! Бык хочет чтобы мы ехали кататься на
лодке. Мы проходим мимо прибрежных кафе заполненных мрачными арабами, все
они пьют зеленый мятный чай в стаканах и курят одну за другой трубки с кефом
(марихуаной) - Они смотрят на нас такими странными глазами, с красными
ободками, будто они наполовину мавры, наполовину карфагеняне (наполовину
берберы) - "Бог ты мой, эти ребята должно быть ненавидят нас, не знаю уж
почему"
"Нет", говорит Бык, "они просто ждут когда на кого-нибудь накатит и он
станет амоком. Видел когда-нибудь бег амока? Время от времени он тут
появляется. Это человек, который внезапно вдруг вытаскивает нож и начинает
безостановочно и неторопливо бегать по рынку кроша людей на ходу. Обычно он
успевает убить или изувечить около дюжины, пока эти типы в кафешках не
врубятся что к чему, не встанут, и не ломанутся за ним чтобы разорвать его
на клочки. А в промежутках они сидят и курят свои бесконечные трубки с
кефом"
"А что они думают когда видят тебя, бегающего каждое утро на набережную
чтобы нанять лодку?"
"Один из них как раз с этого и кормится - " Мальчишки на набережной
присматривают за гребными лодками у пристани. Бык платит им, мы забираемся в
лодку, и Бык начинает энергично грести, стоя лицом вперед, как венецианский
гондольер. "Это я еще в Венеции подметил, только так и можно грести, стоя,
плюм и плям, вот так", говорит он на мощном гребке. "А кроме того Венеция
эта самая, это самый унылый городишко не считая техасского Бивилля. Никогда
не езди в Бивилль, мальчик мой, и в Венецию тоже". (Бивилль это место где
шериф поймал его, когда они миловались со своей женой Джун в машине, на
обочине автотрассы, за что он провел два дня в тюрьме вместе с каким-то
паскудным депутатом в очечках с тонкой оправой). "Венеция - Бог ты мой,
тихими ночами там слышно на целую милю вокруг как на площади Святого Марка
повизгивают педики. По ночам преуспевающие молодые писатели катаются по
каналам. И в середине Канала начинают вдруг докапываться до бедного
итальянского гондольера. У них там целые палаццо есть, и куча принстонских
выпускников трахающих своих шоферов". Когда Бык был в Венеции, с ним
произошла смешная история: он был приглашен на изысканно-шикарную вечеринку
во Дворце, и когда он показался в дверях, со своим старым гарвардским
приятелем Ирвином Свенсоном, хозяйка протянула ему руку для поцелуя - Ирвин
Свенсон сказал: "Видишь ли, в этом обществе принято целовать руку хозяйке" -
Но когда все стали глазеть на него дивясь что это за заминка в дверях, Бык
громко заорал "Да ты че, я б лучше ее в пизду поцеловал!" На чем все
собственно и закончилось.
И вот теперь он энергично гребет, пока я сижу на корме и рассматриваю
танжерскую бухту. Внезапно к нам подгребает лодка полная арабских мальчишек,
и они кричат Быку по-испански: "Tu nuevo amigo Americano? Quieren
muchachos?"
"No, quieren mucha-CHAS"
"Por que?"
"Es macho por muchachas mucho![11]"
"А-аа", и они машут нам руками и уплывают прочь, пытаясь подзаработать
с заезжими педиками, они спросили Хаббарда не педик ли я. Бык продолжает
грести, но вдруг как-то внезапно устает и передает весла мне. Мы
приближаемся к концу волнореза. Волнение на море начинает усиливаться. "А
черт, устал я чего-то"
"Ну что ж, давай тогда малость поднапряжемся, чтобы вернуться домой"
Бык уже устал и хочет вернуться в свою комнату, приготовить маджун и засесть
писать свою книгу.
54
Маджун это такая сладкая масса, он делается из меда, специй и
непросушенной марихуаны (кефа) - Кеф это чаще всего бошки с небольшим
количеством листьев, химка, которая здесь называется мускарин - Бык
скатывает все это в съедобные шарики и мы едим их, жуя целыми часами,
выковыривая из зубов зубочистками, запивая горячим чаем без сахара - Через
два часа наши зрачки становятся черными и огромными, и мы идем гулять по
полям в окрестностях города - И впирает нас так мощно что мир взрывается
богатством цветовых ощущений, типа "Видишь нежные переливы белого тех
цветочков под деревом?" Мы стоим под этим деревом, оглядывая танжерскую
бухту. "У меня на этом месте было много видений", говорит Бык, на этот раз
серьезно, и рассказывает мне о своей книге.
По нескольку часов в день я околачивался в его комнате, хоть у меня и у
самого была отличная комната на мансарде, но он хотел чтобы я болтался у
него с полудня и до двух, потом коктейли, и обед, и большую часть вечера мы
проводили тоже вместе (иногда он становился страшно пунктуальным), так что
бывало сижу я у него на кровати и читаю, а он, печатая свой роман, сгибается
вдруг в хохоте над собственными выкрутасами, иногда падает даже и катается
по ковру. Печатая, он издавал странный сдавленный хохот откуда-то из своей
утробы. Иногда, видимо чтобы никакой Трумэн Капоте не мог назвать его
"машинописателем", он хватается за ручку и начинает карябать на машинописных
страницах, раскидывая их потом через плечо как доктор Мабузе[12],
пока пол не покрывался странными этрусскими письменами его почерка. И, как я
уже говорил, волосы его были постоянно всклокочены, но это был пожалуй
единственный повод моего беспокойства по его поводу, и пару раз он поднимал
глаза от своей писанины и говорил мне, глядя чистыми голубыми глазами,
"Знаешь, а ты единственный в мире человек который может, когда я пишу,
сидеть в комнате так чтобы я совсем не чувствовал его присутствия?" Это был
серьезный комплимент, для него. Я добивался этого тем что просто
сосредотачивался на своих мыслях и уплывал с ними куда-то, и поэтому никак
его не раздражал. "Поднимаю я случайно глаза от этого офигенного словесного
наворота из которого пытаюсь выкарабкаться, а ты сидишь тут и читаешь
этикетку на коньячной бутылке".
Что же касается этой книги, Голого ужина[13], то я оставляю
ее читателю, пусть сам разбирается, в ней намешаны синеющие рубашки
висельников, кастрации и известка - Жуткие и грандиозные сцены с какими-то
вымышленными врачами будущего, накачивающими кататоников в ступоре зловещими
наркотиками чтобы те стерли людей с лица земли, но когда это заканчивается,
Безумный Доктор остается один на один с автономным записывающим устройством,
в которое он может записать и вложить все что хочет, но ни осталось никого
чтобы оценить это, нету даже Белого Дрочилы Чико на его Дереве - Целые
легионы засранцев перебинтованных как скорпионы в коконах, что-то вроде
того, надо б вам самим это прочесть, но все это так ужасно, что, когда я
взялся чистенько перепечатать это через два интервала для его издателей, у
меня через неделю начались на моей мансарде ужасные кошмары - типа
вытягивания гирлянд сосисок изо рта, из самых кишок, целыми футами, я тянул
и тянул из себя весь этот ужас, увиденный и записанный Быком.
Вы можете мне сказать что Синклер Льюис был великим американским
писателем, или Вульф, или Хэмингуэй, или Фолкнер, но никто из них не был так
честен, кроме... но нет, и Торо тоже нет.
"Но почему у тебя всех этих молодых ребят в белых рубашках вешают в
известковых пещерах?"
"Не спрашивай меня - я получаю это как сообщения с других планет -
Видимо я что-то вроде агента с другой планеты, но я еще полностью не
расшифровал присылаемые мне указания"
"Но зачем вся эта гнусь - весь этот мерзкий отстой?"
"Я избавляюсь от своего сраного интеллигентского прошлого, раз и
навсегда. Потому что только в таком катарсисе я могу говорить о самых
ужасных вещах, приходящих мне в голову - Представь себе это, самых ужасных,
грязных, паскудных, пакостных и скудоумных вещичках какие ты только можешь
себе представить - Когда я закончу эту книгу, я буду чист как ангел, дорогой
мой. Все эти крутые экзистенциальные анархисты и террористы так называемые,
им стыдно было даже упомянуть что-нибудь такое про свою обоссаную ширинку,
правда - А неплохо было бы им поворошить палками в своем собственном дерьме,
и вот его-то и проанализировать ради общественного прогресса"
"Но куда нас все это дерьмо заведет?"
"К тому что мы избавимся от дерьма, правда, Джек". Он вытаскивает (уже
четыре часа дня) бутылку коньячного аперитива. И мы оба вздыхаем при виде
ее. Бык так много страдал.
55
И обычно именно в четыре часа заваливается Джон Банкс. Джон Банкс это
симпатяга декадент из английского Бирмингема, который был там раньше
бандитом (по его словам), затем занялся контрабандой, и сразу начал с того
что ломанулся наобум в танжерскую бухту с контрабандным грузом в лодке. А
может быть он просто работал на углевозе, уж и не знаю, тем более что от
Бирмингема и до Ньюкасла недалеко. Но он был жизнерадостным и бодрым чуваком
из Англии, с голубыми глазами и настоящим английским выговором, и Хаббард
просто-таки влюбился в него. Точно также, всякий раз когда я навещал
Хаббарда в Нью-Йорке, или Мехико-Сити, или Ньюарке, или еще где-нибудь, у
него всегда был свой излюбленный raconteur, которого он где-нибудь находил
чтобы услаждать свой слух изумительными историями за коктейлем. Воистину,
Хаббард был самым разэлегантнейшим в мире англичанином. У меня было даже
такое видение его, сидящим в Лондоне у клубного камина со знаменитыми
докторами, с бренди в руке, рассказывающим истории со всего мира, смеясь "Хм
хм хм" из самых утробных глубин своих, сутулясь, этакий громадный Шерлок
Холмс. Однажды Ирвин Гарден, этот безумный колдун, сказал мне совершенно
серьезно "Ты понимаешь что Хаббард это что-то вроде старшего брата Шерлока
Холмса?"
"Старшего брата Шерлока Холмса?"
"Ты чего, Конан Дойля что ли не читал? - Каждый раз, когда Холмс не мог
справиться с разгадкой преступления, он садился в такси и ехал в Сохо, где
спрашивал совета у своего старшего брата, старого алкоголика валявшегося с
бутылкой вина где-нибудь в грошовой комнатушке, просто очаровательно! Прямо
как ты в Фриско".
"Ну и потом?"
"Старший Холмс всегда объяснял Шерлоку как найти разгадку - Вроде как
он знал все что происходит в Лондоне"
"Неужто брат Шерлока Холмса никогда не одевал галстука и не отправлялся
в Клуб?"
"К ма-аамочке он отправлялся, знаа-ааете ли[14]", говорит
Ирвин явно пытаясь от меня отделаться, но теперь я понимаю что Бык это
действительно такой старший брат Шерлока Холмса в Лондоне, любитель
побазарить с бирмингемскими бандитами и поднабраться нового сленга, потому
что он к тому же еще лингвист и филолог интересующийся не только местными
диалектами Дерьмошира и всех прочих широв, но и самым новейшим сленгом. И
посреди телеги о своих приключениях в Бирме Джон Банкс, за мутнящими оконный
свет коньяком и кефом, отпускает изумительные словечки вроде "И тут она ну
давай мне шары языком наяривать"
"Шары наяривать?"
"Это в смысле что без кривенького, кексы!"[15]
"Ну и че дальше?" смеется Бык держась за живот, глаза его сверкают
сейчас нежно голубым светом хотя через пару мгновений он может направить на
вас ружье и сказать: - "Мне всегда хотелось взять его на Амазонку чтобы
расстрелять каждую десятую пиранью!"
"Эй, я еще не закончил историю про Бирму!" И так всегда, коньяк,
россказни, и временами я выходил в сад и наслаждался удивительной лиловизной
закатной бухты. Потом, когда Джон и другие raconteurs уходили, мы с Быком
бодро топали в лучший ресторан города на ужин, обычно это был бифштекс с
острым соусом по-овернски, или паскалев поллито по-ейски, или еще что-то
превосходное, с заплетающим язык кувшинчиком хорошего французского вина, и
Хаббард бросал куриные кости через плечо, по фигу есть здесь в подвальчике
Эль Панаме женщины или нет.
"Эй Бык, у тебя за спиной за столиком длинношеие парижанки в жемчугах"
"La belle gashe[16]", и хряп, куриной косточкой, "че?"
"Но они же пьют из высоких бокалов с тонкими ножками"
"Ох, да хорош меня парить своими мечтаниями, ты не в Новой Англии" но
ему никогда не бросить через плечо целую тарелку, как сделал однажды Жюльен
в 1944-м, хрясь. Изысканным жестом он взрывает длиннющий косяк.
"А здесь не стремно курить?"
К десерту он заказывает бенедектин. Бог ты мой, ему скучно. "Когда ж
сюда приедет Ирвин?" Ирвин с Саймоном уже на пути сюда, на другом
югославском грузовозе, но грузовозе апрельском, когда не бывает штормов.
Вернувшись в мою комнату он внезапно вытаскивает свой бинокль и
всматривается в море. "Когда же он приедет?" И вдруг начинает плакать у меня
на плече.
"Что случилось?"
"Просто и не знаю", - он плачет по настоящему, без всякого притворства.
Он был влюблен в Ирвина много лет, но если вы хотите знать мое мнение,
как-то странно все это было. Однажды я показал ему нарисованную Ирвином
картинку, два сердечка пронзенных стрелой Купидона, но по ошибке древко
стрелы было нарисовано торчащим только из одного сердца, и Хаббард завопил:
"Вот оно! Вот о чем я говорю!"
"И о чем это ты говоришь?"
"Что этот деспотичный тиран может полюбить только свой собственный
образ"
"Что это еще за любовь такая между двумя взрослыми мужчинами" Это
произошло в 1954 году, когда я сидел дома с мамой, и вдруг звенит дверной
звонок. Хаббард распахивает дверь, просит доллар заплатить за такси (за
которое в конце концов платит моя мама) и потом сидит там с нами совершенно
ополоумевший и пишет длинное письмо. После этого-то случая она и стала
говорить "Держись подальше от Хаббарда, он тебя погубит". Никогда не видел
более странной сцены. Внезапно мама сказала: -
"Не хотите ли бутерброд, мистер Хаббард?", но он лишь помотал своей
головой и продолжал писать, он писал длинное и путаное любовное послание
Ирвину в Калифорнию. А ко мне он пришел, как разъяснил он в Танжере своим
скучающим, но и страдающим тоже, голосом "Потому что в эти кошмарные времена
единственная связь с Ирвином была у меня через тебя, это тебе он писал
длинные письма о том чем он там в Фриско занимается. Все это тягостная проза
человечья, но мне нужно было иметь с ним хоть какую связь, и ты был как раз
тем самым нужным мне занудой, ты получал от моего прекрасного ангела длинные
письма и я должен был увидеть хотя бы тебя, все ж таки лучше чем ничего". Но
мне было не обидно, я понимал о чем он говорит, потому что читал Бремя
страстей человеческих, завещание Шекспира, и Дмитрия Карамазова тоже. Мы
ушли из маминого дома (пристыжено) в бар на углу, где он продолжал писать,
пока призрак (который все ж таки лучше чем ничего) заказывал выпивку и молча
его рассматривал. Я любил Хаббарда просто за его большую и дурацкую душу. И
не то чтобы Ирвин был его недостоин, но все равно никак не могу себе
представить, как они могут осуществлять эту свою великую романтическую
любовь с вазелином и прочими смазками?
Если бы Идиот стал клеится к Ипполиту, чего он не делал, то не было бы
и никакого подставного дядюшки Эдуарда, и не на кого было бы скрежетать
зубами безумному и милейшему Бернарду. Но Хаббард все продолжал и продолжал
писать в этом баре, под взглядом покачивающего головой китайского прачечника
с другой стороны улицы. Ирвин недавно нашел себе какую-то девицу в Фриско и
Хаббард говорит "Могу представить себе эту христианскую проблядь", впрочем
ему нечего было беспокоиться по этому поводу, вскоре Ирвин встретился с
Саймоном.
"Какой он, Саймон?" спрашивает он теперь, рыдая у меня на плече в
Танжере. (О что сказала бы моя мать увидев как старший брат Шерлока Холмса
рыдает у меня на плече в Танжере?) Я нарисовал Саймона карандашом чтобы
показать ему. Сумасшедшие глаза и лицо. Он не особо мне поверил. "Давай
спустимся в мою комнату и дунем пару раз". Так говорил старый Кэб
Кэллоуэй[17], и это значило "покурим трубочку опиума". Мы только
что раздобыли его, попивая для отмазки кофе в Зоко Чико, у типа в красной
феске, про которого мне Хаббард секретно (на ухо) поведал что он виновник
эпидемии гепатита в Танжерсе (так он на самом деле произносится). Взяв
старую банку из под оливкового масла и проделав в ней дырку, потом другую
дырку для рта, мы забили красный опиум-сырец в первое отверстие, подожгли
его и стали вдыхать огромные синие клубы опиумного дыма. В это время
появился один наш знакомый американец и сказал что знает где раздобыть шлюх,
про которых я спрашивал. Пока Бык с Джоном Банксом курили опиум, мы с Джимом
нашли девочек разгуливавших в больших джалабах под неоновыми сигаретными
рекламами, привели их в мою комнату, по очереди трахнули, и спустились опять
вниз покурить еще. (Удивительная штука с этими арабскими проститутками, вот
она снимает через голову свою чадру, потом длинные библейские одеяния, и
вдруг перед тобой остается просто спелая девчонка с распутным взглядом без
ничего, только на высоких каблучках - на улице же они выглядят этакими
скорбными святошами, одни лишь глаза, эти темные глаза в глубинах
целомудренного одеяния...)
Позже Бык посмотрел на меня как-то чудно и сказал: "Я что-то ничего не
чувствую, а ты как?"
"Тоже. Наверное мы уже им просто пропитались!"
"Давай попробуем съесть" и мы сыпанули накрошенной сырой О массы в
чашки горячего чая и выпили ее. Через минуту уже нас вставило так что полный
караул. Я поднялся наверх с пригоршней в руке и накрошил себе еще в чай,
вскипяченный на маленьком керосиновом кипятильничке столь любезно купленном
мне Быком в обмен за отпечатывание первых нескольких глав его книги. После я
провел лежа на спине и глядя в потолок двадцать четыре часа, на который
вращавшийся на той стороне бухты маяк святой Марии накручивал полосы
спасительного света, на все это плутовское неистовство кривляющихся ртов -
ацтекских рож - на его щели сквозь которые видны были небеса - Свет свечки
моей - Угас удолбанный священным опиумом - Это и был тот самый "перелом" о
котором я говорил, сказавший мне: "Джек, это конец твоих путешествий - Езжай
домой - Обзаведись домом в Америке - И хоть это так-то и так-то, а то так-то
и так-то, все это не для тебя - Маленькие святые кошки на старых крышах
твоего дурацкого родного городка плачут по тебе, Ти Жан - Все эти ребята
тебя не понимают, а арабы бьют своих мулов - " (Ранее этим днем я увидел как
араб бьет своего мула, и едва удержался чтобы не выхватить у него из рук
палку и не избить ею его самого, что вызвало бы беспорядки на каирском радио
или в Яффе или повсюду где идиоты избивают своих любящих животных, или
мулов, или смертных измученных актеров, вынужденных влачить бремя других
людей) - И если нежные женские бедра открываются для тебя, так это для того
чтобы ты туда кончил. И кончив, получаешь всю ту же окончательность, вот и
все[18]. Напечатайте это в "Правде". Но я лежал там двадцать
четыре, а может и тридцать шесть часов, глядя в потолок, иногда выходя
проблеваться в туалет, этой ужасной старой опиумной массой, а из соседней
комнаты в это время раздавались поскрипывания педерастической любви, что
меня в общем-то не особо беспокоило, кроме того факта что на рассвете мило
улыбающийся печальный мальчик-латиноамериканец зашел в мою душевую и навалил
в биде огромную кучу, которую я увидел утром и ужаснулся, кто еще кроме
нубийской принцессы смог бы снизойти до того чтобы вычистить ее? Мира?
В Мехико-сити Гэйнс всегда говорил мне что по словам китайцев опиум
помогает заснуть, но я спать не мог совсем и только ворочался и ворочался в
постели в ужасе (люди отравляющие себя стонут), и я осознал что "Опиум
ужасен - Де Куинси[19] Боже ж мой - " и еще я понял что моя мама
ждет меня чтобы я отвел ее домой, моя мама, мама моя улыбавшаяся когда
носила меня в чреве - И каждый раз когда я напевал "Зачем меня ты родила?"
(из Гершвина) - она обрывала меня "Зачем ты так поешь?" - и я глотаю
последнюю чашу О.
Радостные священники играющие в баскетбол во дворе Католической школы
за нашим домом, они встают на рассвете и звенят в бенедиктинские колокола,
для меня, когда Стелла звезда Морская сияет безнадежно на водах миллионов
утонувших младенцев, все еще улыбающихся во чреве морском. Дзинь! Я выхожу
на крышу и подавленно пристально гляжу на них всех, священники смотрят на
меня. Мы смотрим не отрываясь. Повсюду былые друзья мои звенят в колокола
иных монастырей. Вокруг какой-то заговор. Что скажет на это Хаббард? Даже в
рясах монашеских все та же безнадежность. И нет успокоения в том чтобы не
увидеть более никогда Орлеанского моста. Самое лучшее что можно сделать, это
уподобиться ребенку.
56
Но мне ведь очень нравился Танжер, великолепные арабы никогда не
глазевшие на меня на улице, державшие свои глаза при себе (в отличие от
Мексики, которая вся из глаз), моя прекрасная мансарда с верандой на
черепичной крыше, выходившей на маленькие мечтательные испанско-марокканские
домишки и пасущуюся на пригорке стреноженную козу - С видом за этими крышами
на волшебную Бухту простирающуюся до самого окончательного Мыса, в ясные дни
гримасничающий вдали смутный Гибралтар - Солнечными утрами я сидел у себя на
веранде наслаждаясь свои-ми книгами, кефом и католическими колоколами - И
даже детскими баскетбольными играми, которые я мог наблюдать склонившись и
перегнув-шись - или посмотрев прямо вниз, и тогда мне был виден садик Быка,
его кошки, он сам призадумавшийся на минутку на солнышке - А райскими
звездными ночами я опирался на ограду крыши (бетонную) и смотрел на море до
тех пор пока и довольно часто не замечал мерцавшие корабли из Касабланки,
тогда я думал что путешествие это того стоило. Но теперь, на опиумном
передозе, в голове моей роились безрадостные мысли обо всей этой Африке,
всей Европе, всем мире - как-то так почувствовал я что нужны мне только
пшеничные хлопья с молоком у американского кухонного окна с ветреными
соснами, что-то вроде того, наверное это был призрак моего американского
детства - Должно быть многие американцы, которым вдруг осточертели чужие
страны, чувствуют такое детское стремление, как Вульф вспомнивший вдруг лежа
и мучаясь в оксфордской комнатушке одинокое позвякивание бутылки молочника
на рассвете в Северной Каролине, или Хемингуэй увидевший внезапно осенние
листья Анн Арбора в берлинском борделе. Слезы Скотта Фитца, подступившие к
его глазам в Испании при мысли о старых отцовских башмаках в проеме дверей
фермы. Турист Джонни Смит просыпается пьяный в облезлом стамбульском отеле и
плачет о воскресном мороженом с содой в ричмонд-хиллском центре.
Так что когда Ирвин с Саймоном в конце концов прибыли для грандиозного
торжественного единения с нами в Африке, было уже поздно. Я все больше и
больше времени проводил у себя на мансарде читая книги издательства Ван Вик
Брукс (о жизни Уитмена, Брета Гарта, и даже Чарльза Нимрода из Южной
Каролины), чтобы почувствовать вкус дома, совершенно забывая как совсем еще
недавно уныло и безнадежно было мне там, потерянному как слезы в Роаноке
Рапидс[20]. Но именно с тех пор я утерял всякое стремление к
дальнейшему поиску во внешнем. Как сказал архиепископ Кентерберийский:
"Постоянная отчужденность, желание отойти от сущего, дабы обрести Господа в
мире и тишине", что более или менее описывает его собственные чувства (а
ведь был он еще и доктором Рамсеем, ученым) по поводу отстранения от этого
назойливого как слепень мира. В те времена я искренне поверил что
единственным достойным занятием в мире является молиться о благе всех, в
одиночестве. У меня было много мистических радостей на этой мансарде, даже
когда Бык или Ирвин уже ждали меня внизу, как тем утром например, когда я
почувствовал как весь мир живых струится в радости и все мертвое ликует.
Иногда я видел как священники разглядывают меня из окон семинарии, куда они
приходили чтобы облокотившись на подоконник тоже полюбоваться морем, и мне
казалось что они все обо мне знают (радостная паранойя). Я думал что они
звенят в колокола с каким-то особенным пылом. Самым лучшим моментом дня было
скользнуть в постель с ночником над книгой, и читать лицом к открытому
верандному окну, к звездам и морю. Мне было слышно как оно вздыхает там,
снаружи.
57
И когда наконец-то оно случилось, это грандиозное и прекрасное
прибытие, было очень странно что Хаббард внезапно опьянел и стал махать
своим тесаком на Ирвина, который сказал ему прекратить всех тут пугать - Бык
ждал так долго, так мучился, и теперь видимо он осознал в своем собственном
опиумном переломе что все это на самом деле чушь собачья - Однажды, когда он
упомянул очень красивую девушку, встреченную им в Лондоне, докторскую дочку,
и я сказал "Почему бы тебе когда-нибудь не жениться на такой вот девушке?"
он сказал: "О дорогуша я холостяк, я хочу жить один". Он никогда не хотел
жить с кем-нибудь вместе. И проводил в своей комнате часы неподвижно глядя в
пустоту, как Лазарус, как я. Но теперь Ирвин хотел чтобы все было путем.
Обеды, прогулки по Медине, предложенное им путешествие поездом в Фес, цирки,
кафе, купание в океане, вылазки в горы, прямо-таки вижу как Хаббард
хватается за голову в смятении. Он продолжал заниматься тем же самым что и
раньше: наступало 4 часа дня, и это означало время аперитивов и ежедневных
радостей. И пока Джон Банкс и остальные raconteurs топтались по комнате
хохоча вместе с Быком, с выпивкой в руках, бедняга Ирвин примостившись на
коленях у керосиновой плитки жарил здоровенных рыб купленных им днем на
рынке. Время от времени Бык угощал нас обедом в Панаме, но это было слишком
дорого. Я ожидал следующей выплаты от издателей в счет аванса, чтобы
отправиться домой через Париж и Лондон.
Было немного грустно. Бык обычно слишком уставал чтобы выбираться на
улицу, поэтому Ирвин с Саймоном начинали звать меня снизу из садика, точно
как детстве когда ребятишки кличут тебя в окно "Дже-екии, выходи!", из-за
чего глаза мои едва не наполнялись слезами и я просто не мог не спуститься к
ним вниз. "Чего это ты стал такой замкнутый ни с того ни с сего!" кричал
Саймон. И я не мог им этого объяснить не сказав что они мне надоели, так же
как и все остальное, очень странно было бы сказать такое людям с которыми ты
провел вместе целые года, и все эти lacrimae rerum[21]
прекрасного единства во тьме беспросветного мира, поэтому я молчал.
Мы изучали Танжер вместе, смешно еще было то что Бык в своих письмах в
Нью-Йорк недвусмысленно предупреждал их что они ни в коем случае не должны
заходить в магометанские заведения, вроде чайных, куда приходят посидеть и
пообщаться с другими, потому что там они будут нежеланны, но Ирвин с
Саймоном приехали в Танжер через Касабланку, где уже забредали в
магометанские кафе и курили гашиш с арабами, и даже купили немножко навынос.
Так что теперь мы заскочили в чудной зал со скамейками и столами, где
подростки сидели и дремали, или играли в шашки и пили зеленый мятный чай из
стаканов. Самый старший из них был молодым бродягой в свободно свисающем
потрепанном одеянии и перебинтованной ногой, босиком, с капюшоном на голове
как у святого Иосифа, бородатый, лет двадцати двух, звали его Мохаммед Майе,
он пригласил нас за свой столик и вытащил мешочек марихуаны, вмял ее пальцем
в длинную трубку, поджег и пустил по кругу. Откуда-то из глубин рваных одежд
он достал истертый газетный портрет своего кумира, султана Мохаммеда. Радио
пронзительно ревело бесконечными воплями Радио Каира. Ирвин сказал Мохаммеду
Майе что он еврей, и это нисколько не смутило ни самого Мохаммеда, ни
остальных в этом месте, кайфовейшая туса чуваков и сорванцов, наверное он
такой, этот новый восточный "бит" - "Бит" в его первоначальном истинном
смысле, в смысле занимайся-своим-делом-и-все-тут - Видели же мы кучки
арабских подростков в джинсах оттягивающихся под рок-н-ролльные пластинки в
чумовом отстойнике с музыкальным ящиком и кучей игральных автоматов, точно
как в Альбукерке (штат Нью-Мексико), или в любом другом месте, и когда мы
пошли в цирк целая толпа их стала одобрительно галдеть и аплодировать
Саймону, увидев как он смеется над жонглером, они оборачивались, целыми
дюжинами, "Хей! Хей!", точно как где-нибудь на танцах в Бронксе (позднее
Ирвин путешествовал еще дальше и видел ту же картину во всех странах Европы,
и слышал что это происходит и в России, и в Корее). Говорят, единственные
кто еще может одним взглядом своим заставить шайку арабских тусарей
рассеяться, это старые и скорбные Святые Мужи мусульманского мира, которых
тут называют "Те, кто молятся" (Hombres Que Rison), ходящие по улицам в
белых одеждах и с длинными бородами. Полицию тут тоже ни во что не ставят,
мы видели уличные беспорядки в Зоко Гранде вспыхнувшие в результате спора
между испанской полицией и марокканскими солдатами. Бык был тогда с нами.
Вдруг ни с того ни с сего бурлящая от ярости желтая толпа полицейских,
солдат, стариков в длинных одеждах и джинсовой шпаны нахлынув заполнила
переулок от стены до стены, и мы все повернулись и побежали. Я потерял
остальных побежав вниз по какой-то улочке вместе с двумя арабскими
мальчишками лет десяти, смеявшимися вместе со мной на бегу. Я нырнул в
испанскую винную лавку как раз успев проскользнуть под опускаемой хозяином
железной скользящей дверью, дзяньк. Пока буйство катилось по улице и вдаль,
я заказал себе малагу. Позже я встретил всю тусу за кафешными столиками.
"Каждый день беспорядки", сказал гордо Бык.
Но с этим ближневосточным "брожением" не все было так просто как
утверждали наши паспорта, в которых власти (в 1957-м) запрещали к примеру
нам посещать Израиль, что взбесило Ирвина, и не зря, судя по тому факту что
арабам было совершенно наплевать еврей он или еще кто, до тех пока он ведет
себя как надо, а уж это он умел. Этим-то "международные тусовщики" и
отличаются, о чем я уже писал.
Одного лишь взгляда на чиновников американского Консульства, куда мы
зашли из-за гнусной бумажной рутины, хватило чтобы понять что же не так с
американской "дипломатией" повсюду в феллахском мире: - чопорные, лезущие в
чужие дела и твердолобые, презирающие даже собственных соотечественников
если те не носят галстуков, будто этот галстук и то что он собой выражает
что-нибудь значат для голодных берберов приезжающих в Танжер каждую субботу
утром, на смиренных осликах, как Христос, везя корзины жалких фруктов или
фиников, и возвращаясь в сумерках маячащими неясными силуэтами вдоль холма и
железнодорожных путей. Железнодорожных путей, где все еще бродили босые
пророки и учили встречных детишек Корану. Почему американский консул никогда
не заходил в тот пацанский зальчик, где сидел и курил Мохаммед Майе? и не
подсаживался к сидящим на корточках на задворках пустых зданий старым
арабам, разговаривавшим руками? почему он не делал ничего такого? Вместо
этого жизнь их заполнена частными лимузинами, гостиничными ресторанами,
приемами в пригородах, бесконечным лицемерным отторжением во имя
"демократии" всего того что суть сила и соль каждой земли.
Мальчишки-нищие спали положив головы на столы, пока Мохаммед Майе
передавал трубку за трубкой крепкого кефа и гашиша, объясняя нам свой город.
Он показал за окно на мостовую под окнами "Море иногда доходило сюда".
Старая метка потопа, он все еще здесь, потоп, у дверей.
Цирк был фантастической североафриканской мешаниной феноменально
шустрых акробатов, таинственных глотателей огня из Индии, белых цыпочек
взбирающихся по серебряным лесенкам, безумных комедиантов которых мы совсем
не понимали, и велосипедистов которых Эд Сэлливан не видывал, а зря, стоило
бы. Это было как в "Марио и волшебнике"[22], ночь терзаний и
аплодисментов, закончившаяся какими-то зловещими чародеями, которые никому
не пришлись по вкусу.
58
Мои деньги наконец-то пришли и пора уже было отправляться, но вот
бедный Ирвин кличет меня в полночь из садика "Спускайся вниз, Джее-кии,
здесь у Быка в комнате большая тусовка чуваков и девиц из Парижа". Это было
точно также как в Нью-Йорке, или Фриско, или в любом другом месте, они
толкались везде в марихуанном дыму, болтали, томные девы с длинными тощими
ногами в широких брюках, мужчины с бородками-эспаньолками, все это в
конечном итоге зануднейшая мура, в те времена (в 1957 году) еще даже не
получившая официального названия "разбитое поколение". Как только подумаю
что я ведь принял во всем этом самое живое участие, как раз в этот момент
рукопись "Дороги" набиралась в типографии для близящейся публикации, а меня
уже тошнило от всех этих дел. Нет ничего более тоскливого чем "крутость" (не
ирвиновская отстраненность, или Быка, или Саймона, которая есть лишь
отражение природного спокойствия) но крутость показная, а на самом деле
скрывающая твердолобость и неспособность человеческого характера справляться
с явлениями сильными и интересными, что-то типа такой социологической
крутизны, которая вскоре на какое-то время станет последним писком моды для
молодежных масс среднего класса. В ней есть даже некоторый оттенок
оскорбляющей враждебности, хотя может это не нарочно, так например когда я
сказал парижской девчонке, только что по ее словам прибывшей с тигриной
охоты вместе с персидским шахом, "Ты что, правда сама тигра подстрелила?",
как она одарила меня таким ледяным взглядом, будто я только что попытался
поцеловать ее у окон Школы Драматического Искусства. Или уличить охотницу во
лжи. Или еще что-то подобное. И мне оставалось только сидеть на краю кровати
в полном отчаянии как Лазарус, слушая их чудовищные "типа" и "типа,
втыкаешься" или "у, чума" и "ништяк, чувак" и "оттяжно" - Все это вскорости
распространится по всей Америке вплоть до университетских кругов, и будет
отчасти приписываться и на мой счет! Но Ирвин не обращал на все это
внимания, он просто хотел знать что у них на уме.
На кровати лежал растянувшись, будто совсем коньки отбросив, Джо
Портман, сын известного писателя на темы путешествий, он сказал мне "Я
слышал ты в Европу собираешься. Хочешь поехали вместе на пароме? На этой
неделе купим билеты"
"Окей"
Все это время парижский джазист объяснял что Чарли Паркеру не хватало
собранности, и что джазу необходимо для придания ему глубины влияние
европейской классической музыки, что заставило меня спастись наверх,
насвистывая "Кашу со свининой", "Au Privave" и "Я оттянулся".
59
После долгой прогулки вдоль линии прибоя и вверх на берберские холмы,
откуда я увидел сам Могреб, я в конце концов собрал вещи и купил себе билет.
Могреб это арабское имя этой страны. Французы называют ее La Marocaine.
Мальчонка чистильщик обуви на берегу произнес это название, яростно выплюнув
его и сверля меня свирепым взглядом, попытался продать мне похабные открытки
и умчался потом гонять мяч на прибрежном песке. Несколько его дружбанов
постарше сказали мне что не могут раздобыть для меня одну из юных девочек на
пляже, потому что они ненавидят "христиан". Но не хочу ли я мальчика? И мы с
мальчиком чистильщиком наблюдали за гомиком американцем злобно рвущим
похабные открытки, разбрасывая кусочки по ветру на бегу, убегающим с пляжа
прочь и плачущим.
Бедный старый Хаббард был уже в кровати когда я собрался уезжать, и он
выглядел по-настоящему огорченным когда принялся трясти меня за руку и
сказал: "Береги себя, Джек", произнося мое имя чуть насмешливо и напевно,
пытаясь этим смягчить серьезность прощания. Ирвин с Саймоном махали мне с
пристани, пока паром отчаливал. Оба они нацепив очки потеряли в конце концов
из виду волны моего корабля, завернувшего и взявшего курс на иные воды за
Гибралтаром, во внезапно выпучившуюся прорву гладко стеклянной округлости.
"Бог ты мой, Атлант все еще стонет под всем этим".
Я редко видел Портмана за время пути. Мы оба пребывали в одинаково
плачевной мрачности, распростершись на застеленных мешковиной койках в
окружении французской армии. На соседней койке лежал молодой французский
солдат, за все эти дни и ночи не сказавший мне ни слова, он просто лежал там
уставясь на пружины верхней койки, ни разу не встав вместе со всеми в
очередь за фасолевой похлебкой, он не делал вообще ничего, даже не спал. Он
возвращался домой со службы на Касабланке, или может быть даже с алжирской
войны. Я вдруг подумал что он скорее всего на игле. Его не интересовало
вообще ничего кроме собственных мыслей, даже когда три
пассажира-мусульманина, которых занесло на верхние койки с нами, французской
армией, вдруг вскакивали посреди ночи и начинали невнятно бормоча поглощать
свои блудливые обеды из бумажных кульков: - Рамадан. Нельзя есть до
наступления скольких-то там часов. И я в очередной раз подумал до чего ж
все-таки стереотипно подается "мировая история" со страниц журналов и газет.
Вот три жалких тощих араба мешают спать ста шестидесяти пяти французским
солдатам, вооруженным к тому же, посреди ночи, и все же ни один сержант или
младший лейтенант не закричит им "Tranquille![23]" Они
беспрекословно сносили все это неудобство и шум, куда как уважительно по
отношению к вере и личной неприкосновенности этих трех арабов. Так чего ради
тогда эта война?
Днем на наружной палубе солдаты пели, поедая фасоль из своих рационных
котелков. Мимо пронеслись Болеарские острова. Иногда казалось что солдаты с
нетерпением ожидают чего-то радостного и волнующего, дома, во Франции,
особенно в Париже, девчонок, восторгов, возвращений, развлечений и
неизвестной своей будущности, или счастливой и совершенной любви, чего-то
такого, а может просто Триумфальной Арки. И какие бы представления о Франции
или о Париже не грезились американцу, в особенности никогда там не
бывавшему, все они посещали и меня: - и даже о Жане Габене сидящем покуривая
на крыле раздолбанной машины на автомобильной свалке, скривив губы в
героическом галльском "Ca me navre"[24], что заставляло меня
трепетать как подростка при мысли обо всей этой Франции в дымке, Франции
истинной подлинности, или даже о мешковатых штанах Луи Жувэ поднимающегося
по лестнице дешевого отеля, или банальная мечта о длинных ночных улицах
Парижа полных радостных передряг в духе какого-нибудь фильма, о внезапной
прекрасности влажного плаща с беретом, вся эта чепуха, совершенно
испарившаяся когда следующим утром я увидел ужасные известково белые холмы
Марселя в тумане, и мрачный собор на одном их них заставивший меня прикусить
губу будто я забыл собственное дурацкое воспоминание. Даже солдаты были
печальны, спускаясь вереницей с корабля в таможенные будки, после того как
несколькими нудными каналами мы пробрались к нашему причалу. Воскресное утро
в Марселе, куда ж теперь нам податься? Кого-то ждет пышная гостиная, кого-то
бильярдная, кого-то комната на втором этаже, вверх по лестнице загородного
домика возле шоссе? Кого-то квартира третьего этажа. Кого-то кондитерская
лавка. Кого-то дровяной склад (угрюмый, как дровяные склады на рю Папино в
Монреале). (На первом этаже того загородного домика живет зубной врач).
Кого-то наверное даже длинная нагретая солнцем стена в бургонской глуши,
ведущая к тетушкам в черном, строго разглядывающим тебя сидящего в их
гостиной? Кого-то Париж? Кто-то будет продавать цветы на Лез-Аль
пронзительными зимними утрами? Кто-то станет кузнецом неподалеку от рю
Сен-Дени и шлюх в черных мехах? Кто-то будет днями бездельно слоняться в
районе киношных шапито рю Клинанкур? Кто-то насмешливо балясничать по
телефону из ночного клуба на Пигаль, пока на улице сыпет дождь со снежной
крупой? Кто-то станет грузчиком в темных винных погребах рю Рошешуар? На
самом деле я этого не знаю.
Я сошел с корабля один, с моим большим рюкзаком, в сторону Америки,
дома моего, моей собственной промозглой Франции.
60
В Париже я сидел за уличными столиками кафе Бонапарт разговаривая с
молодыми художниками и девушками, на солнышке, пьяный, только четыре часа
как в городе, и вот через площадь Сен Жермен размахивая руками топает
Рафаэль, видит меня за целую милю и орет "Джек! Вот ты где! И вокруг тебя
тысячи девушек! Чего ж ты такой грустный? Я покажу тебе Париж! Здесь повсюду
любовь! Я только что написал новое стихотворение, оно называется Перу!"
(Пе-уу!) "У меня есть девушка для тебя!" Но даже сам он понимал что это
всего лишь шутка. Но солнце припекало, и нам было так хорошо вновь
пьянствовать вместе. "Девушки" были стервами студентками из Англии и
Голландии, только и дожидающимися как бы побольнее задеть меня и обозвать
засранцем, как только станет очевидно что я не собираюсь несколько месяцев
обхаживать их с записочками-цветочками и отчаянными посланиями. Я просто
хотел чтобы они раздвинули свои ноги в обычной человеческой постели, а потом
выкинули это из головы. Бог ты мой, после Сартра такие штучки в
романтическом экзистенциалистском Париже не проходят! Позже эти же девы
будут точно также сидеть в других мировых столицах, и томно говорить
окружающей их свите латинян "Я просто ожидаю Годдо, чувак". По улице
туда-сюда расхаживали по-настоящему улетные красавицы, но все они шли
куда-то еще - где их поджидает по-настоящему изысканный молодой француз,
трепещущий огнем надежд - Долгое же время понадобилось бодлеровой тоске
чтобы накатить волною обратно из Америки, но это случилось, начиная с
двадцатых годов. С утомленным жизнью Рафаэлем мы мчимся купить большую
бутылку коньяка и утаскиваем с собой рыжеволосого ирландца с двумя девушками
в Буа де Булонь (Булонский лес), пьянствовать и трепаться посиживая на
солнышке. Своими косеющими пьяными глазами я все же успеваю заметить этот
изысканный парк, и женщин, и детей, прямо как у Пруста, радостных как цветы
их города. Я замечаю что парижские полицейские бродят маленькими группами,
заглядываясь на женщин: чуть где что не так как они появляются там целой
толпой, и конечно же эти их знаменитые накидки-перелины со спрятанными
дубинками. Так мне и хотелось бы врубаться в Париж, в одиночестве,
маленькими личными наблюдениями, но меня затянуло на несколько дней в
точности те же самые расклады что и в Гринвич Виллидж. Потому что Рафаэль
потом ведет меня встречаться с какими-то злобными американскими битниками на
квартирах и в барах, и вот опять все "круто", только сейчас Пасха, и в окнах
фантастических парижских кондитерских плавают трехфутовые шоколадные рыбы.
Но мы все нарезаем круги вокруг Сен-Мишель, и Сен-Жермен, и кружимся и
кружимся, пока точно так же как в Нью-Йорке не остаемся с Рафаэлем ночью на
улице, задумавшись куда же нам теперь деваться. "Сейчас бы самое оно
наткнуться на мочащегося в Сену Селина, или раздолбать несколько кроличьих
клеток"
"Мы идем к моей девушке, Нанетте! Я отдам ее тебе". Но когда я ее вижу,
я понимаю что он никогда мне ее не отдаст, она потрясающая трепетная
красавица и по уши влюблена в Рафаэля. И мы вместе весело отправляемся
отведать шишкабопа с бопом на закуску[25]. Всю ночь я занимаюсь
тем что перевожу ему ее французские признания, в том как она его любит, а
потом ей его английские, что он знает это, но.
"Raphael dit qu`il t`aime mais il veux vraiment faire l`amour avec les
etoiles! C`est ca qu`il dit. Il fait l`amour avec toi dans sa maniere drole"
("Рафаэль говорит, что он любит тебя, но больше всего ему хочется заниматься
любовью со звездами, так он сказал, он занимается любовью и с тобой, но по
своему, на свой чудной манер")
И милашка Нанетта шепчет мне на ухо в шумном арабском коктейль-баре:
"Dit lui que ma soeur vas m`donner d`l`argent demain" ("Скажи ему что сестра
завтра даст мне денег")
"Рафаэль, отдай лучше ее мне! У нее нет денег!"
"А что такое тебе она сказала?" Рафаэль смог влюбить в себя девушку,
даже не будучи способен говорить с ней. Все это кончается тем что кто-то
похлопывает меня по плечу, и я просыпаюсь лежа головой на стойке бара, где в
это время играют "прохладный" джаз. "Пять тысяч франков, пожалуйста". Пять
тысяч франков из моих восьми, ухнули все мои отложенные на Париж денежки,
оставшиеся три тысячи франков составляли (тогда) 7,5 долларов - этого как
раз хватит чтобы добраться до Лондона, взять у моего английского издателя
денег и отплыть домой. Я страшно зол на Рафаэля за то что он вынудил меня
потратить все эти деньги, и вот он опять орет на меня, за то что я такой
жадный и вообще полное ничтожество. Мало того, пока я лежу там у него на
полу, он всю ночь занимается любовью с Нанеттой, а она только всхлипывает.
Утром я смываюсь оттуда под предлогом что меня в кафе ждет девушка, и
никогда больше не возвращаюсь. Я просто брожу по Парижу с рюкзаком за
спиной, и выгляжу так странно что даже шлюхи с Сен Дени не смотрят на меня.
Я покупаю билет до Лондона и наконец-то уезжаю.
Но в конце концов в пустом баре, куда я захожу на чашечку кофе, я
встречаю парижанку моих грез. За стойкой только один бармен, приятный такой
на вид парень, и вот дразняще медленной праздной походочкой заходит
красавица парижанка, руки в карманах, и говорит, просто "ca va? La
vie?[26]" Явно бывшие любовники.
"Qui. Comme ci comme ca[27]" И она сверкнула такой
мимолетной слабой улыбочкой, стоящей больше всего ее обнаженного тела,
настоящей философской такой улыбкой, ленивой, любящей и принимающей все,
даже дни затяжных дождей, или шляпку на набережной, ренуаровская женщина у
которой нет иного занятия кроме как пойти навестить своего старого любовника
и поддразнить его вопросом про жизнь. Впрочем, такие встречаются и в
Ашкаше[28], и в Форест Хиллс, но какая это была походка, какая
ленивая грациозность, будто ее преследует любовник на велосипеде от самого
железнодорожного депо и ей на это решительно наплевать. В песнях Эдит Пиаф
поется о таких парижских женщинах целыми днями нежащих свои волосы, на самом
деле скука смертная, кончающаяся внезапными истериками из-за денег на шубку,
разносящимися из окна столь громогласно, что даже печальная старая
Surete[29] в конце концов приходит пожать плечами на эту трагедию
ли, красоту ли, помня о том что нет ничего ни трагичного, ни прекрасного, а
есть лишь парижская скука, и любовь, потому что больше совсем нечего делать,
правда - Парижские любовники отирают пот со лбов и разламывают длинные
хлебные булки в миллионе миль от Готтердаммерунга[30] на той
стороне Марне[31] (кажется мне) (никогда не встречавшему Марлен
Дитрих на берлинской улице) -
Я приезжаю в Лондон вечером, вокзал Виктория, и сразу иду в бар
называющийся "Шекспир". Но с таким же успехом я мог зайти и в
Шраффт[32]: - белые скатерти на столах, тихонько позвякивающие
бармены, дубовые панели с рекламами портера, официанты в смокингах, ох, я
спешу побыстрей убраться оттуда и иду бродить ночными улицами Лондона, таща
все тот же рюкзак за плечами, и бобики[33] провожают меня
глазами, с той странной застывшей ухмылкой что так хорошо мне запомнилась,
говорящей: "Смотрите-ка на него, да это ж ясен перец Джек Потрошитель
вернулся на место своих преступлений. Не спускайте с него глаз пока я буду
звонить Инспектору".
61
А может они в чем-то и правы, потому что пока я шагал сквозь челсийские
туманы в поисках рыбы с жареной картошкой, в полуквартале передо мной шел
бобби, передо мной неясно маячила его спина с высокой фуражкой, и бросающий
в дрожь стих вдруг пришел мне в голову: "Кто задушит бобика в тумане?" (не
знаю уж и почему, просто потому что был такой туман и он был ко мне спиной,
а на ногах у меня были вкрадчивые полевые ботинки на мягком ходу, как у
разбойника) - А на границе, то есть на таможне на берегу Ла-Манша (в
Нью-Хейвене), они поглядывали на меня так странно будто были со мной
знакомы, и потому что в кармане у меня было только пятнадцать шиллингов (два
доллара) они прямо-таки стеной встали чтобы не допустить меня в Англию, И
смягчились лишь когда я предоставил доказательства что я американский
писатель. Впрочем, даже тогда бобби стояли глядя на меня с едва заметной
злобной улыбочкой, потирая с умным видом свои подбородки, будто желая
сказать "Видали мы таких типов", хотя если б я появился вместе с Джоном
Банксом, меня уже давно засадили бы в тюрягу.
От Челси повлек я во мглистой ночи горестный рюкзак свой через весь
лондонский центр, и совсем уж без сил добрался до Флит-стрит, где ей Богу не
вру видел старого 55-летнего будущего Жюльена, кривоногого светловолосого
шотландца, прямо из Глазго Таймс, покручивающего себе ус в точности как
Жюльен (который тоже шотландских кровей), спеша мельтешащими проворными
ногами газетчика в ближайший паб, под названием Король Луд, испениться пивом
бочек британских - Вот идет он в свете уличного фонаря, под которым
прогуливались Джонсон с Босуэллом, в твидовом костюме, "к ма-аамочке
знаа-ете ли"[34] и все дела, погруженный в новости Эдинбурга,
Фолклендов и Лира.
Мне удалось занять пять фунтов у моего английского агента прямо у него
дома, и я поспешил сквозь Сохо (субботним вечером) найти себе комнату. И
пока я стоял там перед магазином с пластинками, разглядывая обложку альбома
с американской бессмысленной тусовочной рожей Джерри Маллигана, ко мне
подвалила целая толпа тедди[35] высыпавшая вместе с тысячами
других из клубов Сохо, вроде марокканских тусарей в джинсах, но при этом все
превосходно одетые, в жилетах, отутюженных брюках и начищенных ботинках, они
сказали "Слышь ты че, Джерри Маллигана зна-а-аешь?" Как они меня
запеленговали в моих обносках и с рюкзаком, я уж и не знаю. Сохо это такой
лондонский Гринвич Виллидж, там полно грустных греческих и итальянских
ресторанчиков с клетчатыми скатертями при свечах, и джазовых местечек,
ночных клубов, баров со стриптизом и прочими делами, где десятки блондинок и
брюнеток околачиваются чтобы подзаработать: "Слышьте, кексы", но никто из
них даже не глядит в мою сторону, потому что я так ужасно одет. (Я приехал в
Европу в обносках, думая что буду проводить ночи в стогах сена с хлебом и
вином, нету больше этих стогов). "Тедди бойз" это английский эквивалент
наших тусовщиков, они ничего общего не имеют с "Рассерженными молодыми
людьми[36]", которые были вовсе не уличными персонажами
покручивающими цепочки брелков на углах, а университетски образованными
интеллектуалами из среднего класса, в большинстве своем изнеженными
декадентами, а даже если и не изнеженными, то скорее политического толка,
нежели артистического. Тедди же это щеголи уличных углов (есть и у нас такой
особый тип тусовщиков, тщательно или хотя бы с претензией на тщательность
прикинутых, в куртках без лацканов, или в легких голливудско-лас-вегасских
рубашках). Тедди пока еще не начали писать, ну или по крайней мере
издаваться, и, когда это произойдет, они заставят "рассерженных" выглядеть
академическими занудами. Обычные богемные бородачи также в Сохо на виду, но
уж они-то были здесь задолго до Доусона и Де Куинси.
Пикадилли Серкус, где в конце концов я снимаю комнату в дешевом отеле,
это лондонский Таймс-сквер, с той разницей что тут есть очаровательные
уличные артисты, танцующие, играющие и поющие за бросаемые им пенни, среди
них несколько печальных скрипачей напоминающих о грусти диккенсовского
Лондона.
А вот что поразило меня не менее всего остального, так это толстые и
невозмутимые полосатые лондонские коты, некоторые из них преспокойно себе
спали прямо на порогах мясных лавок и входящим приходилось осторожно
переступать их, спали прямо на солнце, в опилках, но отвернув нос от
грохочущей мешанины трамваев, автобусов и машин. Должно быть Англия это
страна кошек, они мирно пребывают на заборах всех задворков Сент-Джонз-Вуда.
И пожилые леди нежно кормят их, точь в точь как моя мама кормит моих котов.
В Танжере или Мехико-Сити редко-редко можно встретить кошку, разве что
поздно ночью, потому что беднота часто ловит их на пропитание. И я чувствую
что Лондон благословлен за свою заботу о кошках. Если Париж это женщина
пронзенная нацистским вторжением, то Лондон это мужчина который никогда не
был никем пронзен, а только курил свою трубку, пил свой портер или
хаф-энд-хаф, и благословлял своего кота касанием его урчащей головы.
Холодными парижскими ночами стоящие вдоль Сены доходные дома выглядят
уныло, также как и доходные дома Нью-Йорка на Риверсайд-Драйв январскими
ночами, когда порывы всех ветров Гудзона негостеприимно треплют перебегающих
до своего подъезда за углом людей, но ночью на берегах Темзы кажется что
есть какой-то знак надежды в поблескивании реки, Ист-Энда на той стороне,
что-то неугомонно английское и обнадеживающее. Во время войны я тоже бывал в
нутряной Англии, на этих немыслимо зеленых просторах призрачных лугов, где
велосипедисты застыли в ожидании на железнодорожных переездах чтобы попасть
домой в домик с соломенной крышей и очагом - и я полюбил ее. Но у меня не
было ни времени ни желания оставаться здесь, я хотел домой.
Идя однажды ночью по Бэйкер стрит, я на полном серьезе принялся искать
адрес Шерлока Холмса, совершенно забыв что он был всего лишь выдумкой
Конан-Дойля!
Я получил свои деньги в конторе агентства на Стрэнде, и купил билет до
Нью-Йорка на голландский корабль С. С. Нье-Амстердам отправлявшийся из
Саутгемптона этим же вечером.
1 Это из Библии, сон Иакова о том как с небес спустилась лестница и к
нему пришел Господь, рассказавший что все будет хорошо. Подробности - Бытие
28:10-15.
2 Стелла Марис (лат) - Звезда морей.
3 Peligroso - по-испански "опасный".
4 В другой книге Керуака есть такой объясняющий эту белиберду пассаж:
"История мира кровава, печальна и безумна... Джон Рандольф говорил что
Эдуард Ливингстон сияет и смердит как тухлая макрель (селедка - это я
изменил чтобы по-русски) в лунном свете, и Наполеон называл Талейрана
шелковыми чулками полными грязью"
Видимо эта фраза очень нравилась Джону Рандольфу, американскому
конгрессмену 19-го века, потому что однажды он обозвал другого конгрессмена,
Генри Клея, "Это человек больших талантов, но совершенно продажный. Он сияет
и смердит как тухлая макрель в лунном свете". В чем смысл обзывания
Талейрана "чулками" мне тоже непонятно.
5 Имеется ввиду голливудское кладбище, где похоронены знаменитые
киноактеры и режиссеры. Быть похороненным там - символ успеха.
6 Дом у Хаксли и впрямь сгорел на старости лет, в 1961 году, погибло
много нужных рукописей.
7 Beau Geste (фр.) - подвиг.
8 Казба (Casbah) - в Северной Африке центр старого города, место
плотной застройки, где скапливается больше всего народу.
9 Из Библии, лестница Иакова (см. сноску 1). "Jacob`s ladder". Можно
перевести и как лестница, и как трап.
10 Бык Хаббард - это на самом деле Уильям Берроуз.
11 "Твой новый американский друг? Он мальчиков любит?"
"Нет, он любит девочек"
"Почему?"
"Он с ними лучше справляется!"
12 Доктор Мабузе - персонаж книги Норберта Жака и известного фильма
Фрица Ланга "Доктор Мабузе, игрок". Фильм - ужастик, и доктор Мабузе -
убийца, убивающий просто так, без причины.
13 На самом деле "Голый завтрак", а Бык - Берроуз. Не читайте, говно
книга.
14 В тексте "knaow mother" - поддразнивание британского произношения
"know mother", по-русски передать я этого к сожалению не в силах.
15 Тут, однако, мой переводческий облом:
В оригинале (кто может оценить):
"There she is juggling me sweetbreads with her tongue!"
"Sweetbreads?"
"Not pumpernickel, ducks."
Sweetbreads - это ягнячьи потроха в кишках, видимо круглой формы,
поэтому мужские яйца напоминает. Но дословно - "сладкие хлебцы"
Pumpernickel - тяжелый ржаной черный хлеб, у немцев. Продолговатой
формы, поэтому здесь имеется в виду хуй.
Все вместе - забавный британский сленг, перевод значительно скучнее, и
более громоздкий.
16 Классные поблядушки (канадско-французский, в моем вольном переводе).
17 Кэб Кэллоуэй - известный джазист.
18 В оригинале - the fact that the sweet little box bent back is only a
fact for come. Come comes, and`s done.
Sweet little box (милая маленькая коробочка) - такая американская
фигура речи, подразумевается женская вагина. Этот факт (не сразу и с большим
трудом мною обнаруженный), поверг меня в такое изумление, что я решил
сделать эту сноску.
Come - оргазм.
И на самом деле перевод фразы come comes, and`s done не совсем точный,
прибавил я тут немного фатализма, да и все остальное несколько изменено,
чтобы по-русски читалось.
19 Де Куинси Томас (1785-1859), английский писатель. Предшественник
декадентства (автобиография "Исповедь англичанина-опиомана", 1822) - говорит
моя энциклопедия.
20 Роаноке Рапидс - известные в Америке водопады.
21 Lacrimae rerum (искаж.лат.) - слезы сущего.
22 Новелла Томаса Манна "Марио и волшебник". В ней Марио приходит на
цирковое представление, на выступление зловещего и уродливого фокусника
синьора Чипполы. Он забавляет публику тем что выставляет на посмешище
отдельных ее представителей, используя гипноз и кнут он заставляет их
выполнять свои нелепые приказы, под смех остальных. Он гипнотизирует Марио и
издевается над ним всю ночь, а потом пробуждает его от транса. От огорчения
Марио убивает волшебника двумя выстрелами.
23 Тихо! (фр.)
24 Это меня огорчает (фр.)
25 Shishkabop - арабское мясное блюдо (вспомните "наш" кебаб, или
шаурму). Боп (бибоп) - стиль в джазе.
26 Как делишки? Как жизнь?
27 Да так. Живу потихонечку.
28 Ашкаш - маленький городишко в восточном Висконсине.
29 Surete (фр.) - верность, надежность, безопасность, мне кажется что
здесь имеется в виду старая консьержка в доме.
30 Gotterdammerung - так по-немецки называется последняя битва в
германской мифологии, в которой мир будет уничтожен в сражении между силами
зла и богами. Боги в этой битве будут побеждены. Другими словами, Армагеддон
германских мифов.
31 на той стороне Марне - имеется в виду в Германии. Марне - это река
на которой в первую мировую войну шли очень сильные бои, там немецкое
наступление и было остановлено.
32 Шраффт - сеть американских закусочных, типа кафе-мороженого, никель,
глянец, неинтересно.
33 Bobbies - английское прозвище полицейских, как "cops" в Америке, или
"менты" у нас.
34 В тексте "knaows mothah" - имитация британского выговора, еще
сильнее выраженная чем раньше (см. прим. 11).
35 Была такая туса в Англии 40-50х, очень по внешним признакам похожая
на наших стиляг тех же времен, с них стиляги и содрали свой стиль
собственно.
36 Angry Young Men - "группа молодых писателей в Великобритании после 2
Мировой Войны, резко критикующие ценности высшего и среднего классов" -
говорит вебстеровская энциклопедия.
* ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Протекая сквозь Америку, опять *
Итак, я совершил это большое европейское путешествие в самую неудачную
пору своей жизни, именно тогда когда всякие новые переживания любого рода
опротивели мне, поэтому я стремительно промчался повсюду, и вот уже
возвращаюсь, в мае 1957, пристыженный, с тоскою в сердце, хмурый,
потрепанный и с мозгами набекрень.
Этим вечером, когда Нье Амстердам отчаливает в открытое море из
саутгемптонского порта, я захожу пританцовывая в столовую третьего класса,
поужинать, но там сидят двести пятьдесят с иголочки одетых туристов со
сверкающими столовыми приборами на белых скатертях, и им прислуживают
запыхавшиеся официанты в смокингах, при свете великолепных канделябров. При
виде меня в джинсах (единственных моих штанах) и байковой рубахе с открытым
воротом официанты переглядываются. Через их строй я прохожу к назначенному
мне столику, находящемуся прямо в центре столовой и за которым сидят четверо
соседей в безукоризненных костюмах и платьях, ничего себе. Смеющаяся
немецкая девушка в вечернем платье: немец в костюме, строгий и аккуратный: и
два голландских коммерсанта направляющихся к Лучоу в деловой Нью-Йорк. Но
мне придется сидеть здесь. И, как ни странно, немец вежлив со мной, кажется
я ему даже симпатичен (я почему-то всегда нравлюсь немцам) и поэтому, когда
паскудный официантишка начинает проявлять нетерпение пока я изучаю
невероятно шикарное меню вызывающее полную сумятицу в голове ("Ух ты,
значит, семга с миндалем под винным соусом, или ростбиф au jus с маленькими
pomme de terre de printemps, или омлет особый с салатом из авокадо, или филе
миньон с грибами, mon doux, что же мне делать?") и спрашивает меня
неприятным голосом, барабаня пальцами по запястью "Ну же, решайтесь!",
немецкий юноша смотрит на него возмущенно. И когда официант уходит чтобы
принести мне жареные мозги и спаржу hollandaise, он говорит "Я пы не
потерпель такой от официант на фашем месте!" Он рявкает это как настоящий
фашист, вернее как любой благовоспитанный немец, ну уж как европейский
джентльмен во всяком случае, хотя и с симпатией ко мне, однако я говорю: -
"Мне все равно".
Он обращает мое внимание что кому-то должно быть не все равно, иначе "
Эти люди станут свирепый унд сабывать свой место!". Я не могу объяснить ему
что мне все равно потому что я франко-канадский-ирокезо-американский
аристократ, бретонско-корнуоллский демократ, или пускай даже тусовщик и
битник, но, когда официант возвращается, немец заставляет его дополнительно
побегать. В то время как девушка-немка радостно наслаждается происходящим,
предвкушая свое шестидневное плавание с тремя симпатичными молодыми
европейцами и даже поглядывает на меня с человеческой недвусмысленной
улыбкой. (Я уже сталкивался с официальным европейским снобизмом когда бродил
по Сэвилл Роу, или Тредниддл стрит, или даже Даунинг стрит, и на меня вовсю
пялились высокопоставленные хлыщи в жилетках, им больше лорнетки подошли бы,
куда как удобнее). Но на следующее утро меня бесцеремонно пересадили за
крайний столик где я меньше мозолил глаза. Будь моя воля я б вообще
предпочел есть на кухне, где можно спокойно класть локти на стол. Но теперь
я оказался загнан в угол лицом к лицу с тремя престарелыми голландскими
учителями, восьмилетней девочкой и девушкой-американкой 22 лет с темными
кругами от недосыпания под глазами, которая мне в общем-то ничем не мешала,
не считая того что она выменяла свои немецкие снотворные таблетки на мои
марокканские (сонерил), но ее снотворное оказалось какой-то ужасающей
разновидностью стимулятора не дающего тебе глаз сомкнуть.
Так что три раза в день я проскальзывал в свой уголок столовой и
оказывался лицом к лицу с этими тетушками, с тусклой улыбкой на лице. С
моего прежнего немецкого стола доносились взрывы радостного хохота.
Был в моей каюте еще один сосед, пожилой симпатяга-голландец куривший
трубку, но совершенно ужасным было то что его старушка-жена постоянно
приходила поговорить держа его за руку, так что мне трудно было уловить
момент и спокойно умыться в раковине. У меня была верхняя койка, и я читал
там дни и ночи напролет. Я заметил что кожа на лбу пожилой голландской дамы
была тончайшей, нежно белой и с бледно синими прожилками вен, такая
встречается иногда на рембрандтовых полотнах... И все это время, поскольку
наши помещения третьего класса находились на корме корабля, нас перекатывало
и болезненно швыряло всю дорогу до нантакетского плавучего маяка.
Многочисленная в начале, толпа в столовой убывала в числе с каждым днем по
мере того как всех накрывало морской болезнью. В первый вечер целый кагал
голландцев за соседним столом принялся хохотать и жевать, все братья, сестры
и прочая двоюродная родня, собирающиеся переселиться или просто съездить в
Америку, но уже через два дня пути от Саутгемптона один лишь тощий брат
продолжал мрачно поглощать принесенное, как и я жадничая всю эту прекрасную
еду входившую в стоимость проезда (225$), и даже прося добавки и непреклонно
съедая все до конца. Я тоже заставлял своего нового молодого официанта
бегать за дополнительными порциями сладкого для меня. Я не собирался
упускать ни одного крема со взбитыми сливками, пусть меня хоть сто раз
поташнивает.
Вечерами жизнерадостные стюарды организовывали танцы с игрою в фанты,
но я в это время надевал свою штормовку на молнии, поверх нее шарф и
прогуливался по палубам, иногда проскальзывая на палубу первого класса, и
вышагивал стремительно кругами по пустынному завывающему ветрами променаду,
ни души вокруг. Мне недоставало одиночества и тишины моего старого
югославского грузовоза, потому что здесь весь день приходилось наблюдать
всех этих больных людей, сидевших в шезлонгах, укутанных и пялившихся в
пустоту.
На завтрак я всегда брал холодный ростбиф с голландским посыпанным
сахарной пудрой хлебом с изюмом, потом обычную яичницу с ветчиной, и чашку
кофе.
В какой-то момент девушка-американка и ее белокурая английская подружка
зазвали меня сходить с ними в гимнастический зал, который всегда был пуст, и
лишь позже мне пришло в голову что может быть им просто хотелось трахнуться.
Они поглядывали на симпатичных морячков со значением, видимо начитавшись
историй о "бортовых романчиках" и отчаянно пытались устроить что-либо
подобное до прибытия в Нью-Йорк. Что же касается меня, я мечтал о телятине с
ветчиной запеченных в фольге. Однажды туманным утром воды успокоились,
остекленели, и перед нами возник нантакетский плавучий маяк, а несколькими
часами позже и плавучий нью-йоркский мусор, в том числе пустая коробка с
надписью "КЭМПБЕЛЛОВСКАЯ СВИНИНА С БОБАМИ", заставившая меня почти
расплакаться от радости вспоминая Америку со всеми ее свининами и бобами от
Бостона до Сиэттла... и наверное те самые сосны в окне родного дома поутру.
И я помчался прочь из Нью-Йорка и далее на Юг к моей матери,
подкрепившись очередной издательской выплатой (100$) - Тормознувшись лишь на
пару дней чтобы провести их с Элис, которая стала теперь нежной и красивой в
своем весеннем платье, и была мне рада - Несколько кружек пива, несколько
ночей любви, несколько слов прошептанных на ушко, и я отправился в путь к
моей "новой жизни", пообещав что вскорости мы увидимся опять.
Вместе с матерью мы упаковали горестное барахлишко нашей жизни и
позвонили транспортникам, дав им единственный известный мне в Калифорнии
адрес, домика Бена Фэгана в Беркли - Я решил что мы проделаем этот путь на
автобусе, все три тысячи ужасных его миль, снимем квартиру в Беркли, и у нас
останется куча времени перенаправить транспортников в новый дом, который,
как я обещал себе, станет моим последним счастливым прибежищем (в надежде на
сосны).
Наше "барахло" состояло из старой одежды которую я никогда уже не стану
носить, коробок с моими старыми рукописями, некоторые еще с 1939 года с
пожелтевшими уже страницами, жалкие обогревательные радиаторы и галоши,
можете себе это представить (галоши старой Новой Англии), пузырьки крема для
бритья и святой воды, и даже лампочки оставшиеся с незапамятных времен, мои
старые курительные трубки, баскетбольный мяч, бейсбольная рукавица, Бог ты
мой, даже бита бейсбольная, старые занавески, которые за неимением дома
никогда не вывешивались, свернутые рулонами лоскутные коврики, книги весом
не менее тонны (даже старые издания Рабле без переплетов), и все виды
неописуемых кастрюлек, сковородок и прочие грустные приспособы которые люди
почему-то таскают с собой повсюду - Потому что я помню еще ту Америку в
которой люди путешествовали налегке и весь их багаж умещался в бумажном
пакете, перевязываемом обычно бечевкой - Я помню Америку очередей за кофе с
пончиками - Америку 1932-го, в которой люди рылись в свалках у реки в
поисках старья на продажу - Когда мой отец продавал галстуки или рыл канавы
для А.О.Р.Р.[1] Когда старики с холщовыми мешками шарились по
помойным контейнерам или собирали редкий лошадиный навоз на мостовых - Когда
горсточка батата вызывала искреннюю радость. Но на дворе стоял 1957 год
Америки преуспевающей, и люди потешались над нашей грудой барахла, в котором
моей матерью были запрятаны ее обязательная швейная корзинка, ее
обязательное распятие и обязательный семейный альбом - Не говоря уж о ее
обязательных солонке, перечнице и сахарнице (полных), обязательном
половинном обмылке хозяйственного мыла, все это завернуто в обязательные
простыни и одеяла ждущих нас где-то там постелей.
Теперь я хочу здесь рассказать о самом важном из персонажей этой
истории, и самом лучшем из них. Я заметил что похоже большинство моих
собратьев-писателей "ненавидит" своих матерей, они затевают по этому поводу
ужасный фрейдистский и социологический галдеж, в сущности используя это в
качестве основной темы своих умствований, ну или говорят об этом немало это
уж точно - Я часто спрашиваю себя, неужто им никогда не приходилось спать до
четырех пополудни и, проснувшись, увидеть своих матерей штопающими их носки
при тусклом свете окошка, или, вернувшись домой после революционных ужасов
выходных дней, увидеть как она зашивает прореху их окровавленной рубашки,
тихо склонив свою вечную голову над иголкой - И не с какой-нибудь там позой
мученического негодования, но искренне совершенно поглощенная шитьем,
зашивая муки, безрассудства и все потери, сшивая дни жизни твоей с едва ли
не радостным сознанием важности своего труда - И во времена холодов она
накидывает на плечи этот платок, и продолжает шить, и картошка на печке
продолжает бормотать во веки вечные - Приводя некоторых неврастеников в
бешенство при виде подобной благости в комнате - Иногда приводив в бешенство
и меня, потому что я был достаточно глуп чтобы рвать себе рубашки, и терять
ботинки, и терять и рвать надежду в клочья в приступах этой глупой вещи под
названием безумство - "Тебе нужен выпускной клапан!" часто орал на меня
Жюльен, "выпускай свой пар, а не то свихнешься!" и рвал на мне рубашку, и
все для того чтобы Memere двумя днями позже, сидя в своем кресле, чинила эту
самую рубаху, просто потому что это рубашка и она принадлежит мне, ее сыну -
Не для того чтобы устыдить меня, а чтобы починить рубашку - Хотя мне всегда
было стыдно слышать как она говорит: "Это была такая красивая рубашка, я
заплатила за нее 3.25$ в магазине Вулворс, ну почему ты позволяешь всяким
психам дергать тебя за рубашку. Ca pas d`bon sens[2]." И если
рубашку было уже невозможно починить, она всегда стирала ее и прятала
куда-то "на заплатки", или на лоскутный коврик. В одном из ее лоскутных
ковриков я разглядел три десятилетия растерзанной жизни, и не только моей,
но и ее собственной, моего отца и моей сестры. Будь это возможно, она вшила
б туда даже могилу, и использовала бы ее потом. Что же касается еды, то
ничто не пропадало зря: завалявшаяся полусъеденная картофелина оказывалась
восхитительно вкусна будучи зажаренной с куском мяса, четвертинка луковицы
попадала в баночку с маринованным луком, а старые обрезки говядины булькали
во вкуснейшем домашнем фрикассе. Даже старый рваный платок стирается,
штопается, и сморкаться в него удобней чем в десять тысяч новейших Платков
Братьев Брукс с их дурацкой монограммой. Каждая из случайных игрушек
купленных мною для ее полки с "побрякушками" (маленькие мексиканские ослики
из пластмассы, или свинки-копилки, или вазочки) стояли на этой полке годами,
тускнели от пыли и расставлялись ею согласно ее представлениям о
прекрасном). Мельчайшая прожженная сигаретой дырочка в старых джинсах
оказывалась немедленно залатана кусочком джинсы 1940 года. В ее швейной
корзинке лежал деревянный штопальный гриб (похожий на маленькую кеглю)
который был старше меня. Некоторые из ее иголок хранятся со времен Нэшуа
1910 года. Все эти годы ее родственники пишут ей письма одно нежнее другого,
поняв видимо что они потеряли забрав тогда ее сиротские деньги и растратив
их. С моих скудных заработков 1950 года я купил ей телевизор, который она
смотрит с истовым восхищением, хоть это и всего лишь обшарпанный ящик фирмы
Моторола 1949 года. Она смотрит рекламные передачи с жеманными женщинами и
мужчинами-пустобрехами, и даже не замечает моего присутствия в комнате. Все
это лишь отрада глаз ее. У меня были кошмарные сны о том как мы с нею в
Нью-Джерси субботним утром рыщем по помойкам в поисках ломтиков копченой
говядины, и о том как верхний ящик ее комода открывается посреди
американской дороги, и все видят ее шелковое исподнее, ее четки, жестяные
банки с пуговицами, рулоны лент, подушечки для булавок, пуховки для пудры,
старые беретки и коробочки с ватой собранной из старых аптекарских
бутылочек. Что может остановить такую женщину? О чем бы я ни спросил ее, она
всегда находила это где-нибудь: - аспирин, мешочек льда, бинт, банку дешевых
спагетти в кухонном шкафу (дешевых, но хороших). Даже свечку, когда
вырубалось это замечательное супертехническое электричество.
Для чистки ванной, туалетов и раковин у нее всегда имеется в запасе
большая упаковка чистящего порошка и дезинфицирующих средств. У нее есть
метла, и дважды в неделю она забирается ею под мою кровать, чтобы вымести
комья пыли, которые выколачиваются затем за подоконник, "Tiens! Теперь у
тебя чистая комната!" В одной из подготовленных к переезду коробок упакована
корзинка с бельевыми прищепками, чтобы она могла развесить свое белье везде,
куда бы ни попала - Я вижу ее с корзиной мокрого белья выходящую за порог с
прищепкой во рту, и когда у нас нет двора, то прямо на кухне! Пригнись под
висящим бельем, и достань себе пиво из холодильника. Как и мать Хьи Неня, я
уверен, она могла привести к просветлению любого своим действенным истинным
"Дзен" искусства жить всегда и повсюду как следует.
Дао говорит, хоть и многословнее чем стоило бы[3], что
заботящаяся о своем доме женщина уравновешивает собою Небеса и Землю.
Потом субботним вечером она гладит на разбитой гладильной доске
купленной ею еще в предыдущей жизни, с порыжевшей от подпалин обивкой и
скрипучими деревянными ножками, но белье оказывается идеально выглаженным и
белоснежным и будет сложено в аккуратно выложенные газетами ящики комода для
пользования.
Ночью, когда она спит, я склоняю свою голову от стыда. И знаю что
утром, когда проснусь (возможно, в полдень) она уже успеет сходить в магазин
на своих крепких "крестьянских" ногах и принести кучу провизии, запиханную
вперемежку в сумку, и сверху будут лежать головки салата, мои сигареты,
сосиски и гамбургеры и помидоры и чеки из бакалейной лавки, чтобы их
"показать мне", и жалкие нейлоновые чулки на самом дне тоже будут смущенно
представлены моему взору - Ах, какой же позор мне, и всем девушкам
встреченным мною в Америке, отщипывавшим кусочек сыра-рокфора и оставляющим
его черстветь на подоконнике! Проводившим долгие часы перед зеркалом с
голубыми тенями для век! Заказывавшим такси съездить за бутылкой молока!
Хныкавшим оставшись без воскресного ростбифа! Бросавшим меня потому что я
такой нытик!
Сегодня очень модно говорить будто матери являются помехой на пути
твоей половой жизни, как будто моя половая жизнь на девичьих квартирах в
Нью-Йорке имела хоть какое отношение к моим мирным воскресным ночам,
проведенным за чтением или писанием в уединении моей чистой уютной спаленки,
когда ветра шелестят занавесками и машины прохрустывают мимо - Когда стоит
котенку мявкнуть у холодильника, а там уже стоит упаковка Девяти жизней для
моего детеныша, купленная мамой в субботу утром (занесенная в ее список
покупок) - Будто бы секс это самое важное в моей любви к женщине.
Моя мать предоставила мне все нужное чтобы находиться в покое и здравом
уме - Она не мучила своего деточку шумными разглагольствованиями о том что я
ее не люблю и не переворачивала в ярости тумбочку со стоящей на ней
парфюмерией - Она не пилила меня, и не нудила когда я погружался в
собственные мысли - Она только зевала в одиннадцать и отправлялась в кровать
с четками в руках, будто в монастыре преподобной матушки О`Шэй - Я мог
валяться на своих чистых простынях и раздумывать не смотаться ли мне куда
чтобы найти шалавую деревенщину-шлюху в чулках натянутых на ворсистый лобок,
но все это не имело никакого отношения к моей матери - Я мог делать все что
захочу - Потому что если для человека естественно из любви к своему другу
оставить его наедине с его женой, так же естественно и сделать это для отца,
друга своего - Каждому свое, и она принадлежала моему отцу.[4]
Но убогие любители подглядывать, воры радостей жизни, говорят нет:
"если мужчина живет со своей матерью, то это от неудовлетворенности": и даже
Женэ, этот божественный знаток Цветов, сказал что человек любящий свою мать
есть наихудший паршивец из всех негодяев: то же и психоаналитики с
волосатыми руками, типа психоаналитика Рут Хипер, облизывающиеся на
белоснежные бедра своих пациенток: и зачуханные папаши семейств
разглагольствующие в холостяцких пивнушках: или безнадежные химики без
единой живой мысли в голове: все они говорят мне: "Дулуоз, ты лжец! Вылезай
наружу из своей норы чтобы жить с женщиной, и бороться, и страдать вместе с
ней! Задохнись в волосах блаженства своего! Раскачивайся в неистовстве!
Покорись ей! Оставь след в истории![5]", а я в это время сижу и
радуюсь укромности милого глупенького мирка моей матери, женщины, каких в
наши времена уже не встретишь, разве что если поехать в Синцзянь, Тибет или
Лампор.
Но вот мы во Флориде, с двумя билетами до Калифорнии в кармане, стоим в
ожидании автобуса на Новый Орлеан, где мы должны будем сделать пересадку в
сторону Эль-Пасо и Эл-Эй - В мае во Флориде жарища - Мне хочется побыстрей
выбраться отсюда позападнее, оставив позади равнины Восточного Техаса,
перемахнуть через Плоскогорье и Водораздел к сухим Аризонам и далее - Бедная
мама стоит рядом и полностью зависит сейчас от меня, какой я ни есть
дурачок, сами видите. Хотелось бы знать что там мой отец говорит обо всем
этом на Небесах? "Этот чокнутый Ти Жан тащит ее за три тысячи миль этими
чудовищными автобусами, и все чего ради? Из-за мечты о священных соснах!" Но
с нами заговаривает паренек стоящий рядом в очереди, и когда я говорю что
хотелось бы знать появится ли вообще этот автобус и доберемся ли мы
когда-нибудь, он говорит: -
"Не волнуйся, доберетесь" Я спрашиваю откуда ему это известно. "Вы не
только доберетесь, вы еще и вернетесь назад и поедете в другое место. Ха ха
ха!"
И все же нет ничего более тяжкого в мире, или по крайней мере в Америке
уж точно, чем трансконтинентальное путешествие на автобусе при недостатке
средств - Более трех дней и трех ночей не меняя одежды, трясясь по всем
мостовым всех встречных городков, и даже в три часа ночи, когда тебе
наконец-то удается заснуть, автобус вдруг подпрыгивает на рельсах
железнодорожного переезда и все вокруг заливается ярким светом, обнажающем
твою замызганность и замученность на сиденье - Когда едешь так, как ездил
неоднократно я, сильный и молодой человек, то это уже достаточно тяжело, но
для 62-летней женщины... И я на полном серьезе частенько спрашивал себя что
же об этом думает мой отец на Небесах, и молился ему прося дать матери сил
пройти через это без слишком уж ужасных страданий - Однако она была куда
беззаботней меня - И придумала классный способ оставаться в достаточно
сносной форме, аспирин с кока-колой три раза в день для успокоения нервов.
Из срединной Флориды ближе к вечеру мы покатили по поросшим
апельсиновыми рощицами холмам по направлению к пятнышкам
Талахасси[6] и утреннему алабамскому Мобилю[7],
никаких признаков Нового Орлеана до самого полудня, а мы уже наполовину
выбились из сил. Необъятность этой страны становится ощутима лишь когда
пересекаешь ее на автобусах, чудовищные протяженности между не менее
чудовищными городами, и все они выглядят совершенно одинаковыми когда видишь
их из автобуса печалей наших, автобуса неизбежного,
который-никогда-не-доедет и останавливается повсюду (есть даже анекдот про
грейхаундовский автобус, тормозящий под каждым столбом), и хуже всего эта
череда сменяющихся каждые двести-триста миль свежих жизнерадостных
водителей, желающих всем легкого и приятного путешествия.
Иногда ночами я смотрел на мою бедную спящую мать безжалостно распятую
здесь в американской ночи потому что у нее не было денег, не было никакой
надежды на то что они появятся, не было семьи, не было ничего, а только я,
глупый сын ее, строящий планы, которые в конечном итоге не что иное как
сгустки тьмы. Бог мой, как же прав был Хемингуэй сказавший что способа
исправить жизнь нет - и подумать только, все эти шуршащие бумажонками
благонравные зануды будут писать снисходительные некрологи о человеке
сказавшем правду, нет, с болью выдохнувшем из себя историю, подобную
этой!... Способа такого нет, но мысленно вздымаю я кулак к Высочайшим
Небесам, обещая что пришибу таки первого же придурка, высмеивающего
человеческое отчаянье - Я знаю что это смешно, молиться своему отцу, этому
комку могильной глины, и все же я молюсь ему, а что еще мне остается делать?
насмешливо ерничать? шуршать бумажками на столе с отрыжкою благоразумия? Ах,
как же благодарен я тебе, Господи, за всех благоразумных людей доставшихся
червям и стервятникам - Благодарю Тебя за всех ненавистью торгующих
политических болтунов, у которых теперь в Могиле Мира нет ни правых ни левых
идей чтобы вопить о них. Я хочу сказать, что все мы переродимся вместе с
Единым, что больше не будем мы самими собой, но спутниками Единого, и именно
это и движет мною, и моей матерью тоже. Она взяла с собой в автобус свои
четки, и не стоит отказывать ей в этом праве, это просто такой ее способ
заявить об этом факте. И если не может быть любви между людьми, так пусть
хотя бы будет любовь между людьми и Богом. Человеческое мужество есть опиум,
но опиум вещь тоже человеческая. И раз религия это опиум, тогда я опиум
тоже. А значит, съешьте меня. Съешьте ночь, съешьте это долгое безутешное
американство от Санфорда и до Мамфорда, и Блямфорда, и Дряньфорда, съешьте
древесные грибы взбухшие на унылых южных деревьях, съешьте кровь пропитавшую
эту землю, мертвых индейцев, мертвых первопроходцев, мертвые форды и
понтиаки, мертвые Миссисипи, мертвые руки тоскливой безнадежности
растекающиеся там внизу - Кем же должны быть эти люди, если могут они
оскорблять других людей? Кем же должны быть эти люди,
если носят они штаны и платья, и могут насмехаться над другими? Так о
чем я вообще говорю? Я говорю о человеческом отчаянии и невероятном
одиночестве во тьме рождения и смерти, и спрашиваю "Что же во всем этом
такого смешного?" "Как можно умничать, попав в мясорубку?" "Кто способен
насмехаться над несчастьем?" Вот мать моя, комок плоти, не просивший быть
рожденным, она беспокойно спит и видит сны полные надежд, рядом с нею ее
сын, который тоже не просил быть рожденным, погруженный в думы
безысходности, молитвы отчаяния, в трясучем земном экипаже направляющемся из
ниоткуда в никуда, это происходит ночью, или и того хуже, в полуденном
зареве беспощадных дорог Побережья - Где тот камень, что послужит нам
опорой? Что мы тут делаем? И в каком это сумасшедшем университете можно
устроить семинар где люди говорят об отчаянии, во веки вечные?
И когда мама просыпается в середине ночи и стонет, сердце мое
разрывается - Автобус грузно переваливается через окраину какого-то
Дерьмотауна чтобы прихватить коробку посылки на рассветной автостанции.
Стоны отовсюду, до самых задних сидений, где черные страдальцы мучаются не
менее оттого что их кожа черна. Правда ваша, "Странники
свободы[8]", хоть твоя кожа "бела" и сидишь ты спереди, не
уменьшит это твоих страданий -
И нету нигде надежды, просто потому что мы так разрознены и стыдимся
друг друга: и если Джо говорит что жизнь печальна, Джим скажет что Джо дурак
потому что это не имеет значения. Или если Джо говорит что нуждается в
помощи, Джим скажет что Джо плакса. Или если Джо говорит что Джим злой, Джим
ночью расплачется. Или что-то типа того. Все это просто ужасно. Единственное
что нам остается, это быть как моя мать: терпеливыми, доверчивыми,
внимательными, недалекими, быть настороже, радоваться мелким удачам,
опасаться крупных, бояться данайцев дары приносящих, делать все по своему,
никого не обижать, заниматься своим делом, и договориться с Господом Богом.
Потому что Господь это наш Ангел-хранитель, и доказательство этому вы
получите когда остальные доказательства уже не работают.
Вечность и Здесь-и-Сейчас, это одно и тоже.
Отправьте это послание Мао, или Шлезингеру в Гарвард, и Герберту Гуверу
тоже.
Как я уже говорил, автобус прибывает в Новый Орлеан в полдень, и нам
приходится выгружаться со всем нашим обширным багажом и ждать четыре часа до
экспресса на Эль Пасо, так что мы решаем с мамой посмотреть Новый Орлеан
чтобы маленько поразмяться. В воображении моем мне представлялся большой и
великолепный обед в ресторане Дары Моря Латинского Квартала, среди
зарешеченных балкончиков и пальм, но, найдя такой ресторан в районе
Бурбонской улицы, мы обнаруживаем что цены в меню настолько высоки что нам
приходится выйти сконфуженно из этого места, где обедают жизнерадостные
коммерсанты, члены муниципального совета и сборщики налогов. В 3 часа дня
они вернутся за столы своих контор шелестеть пятью луково-тонкими
экземплярами сборника нововведений в области негативных формальностей,
которые они затем засунут в копировальные машины размножить еще вдесятеро,
потом отошлют снять с каждого по три копии, и выбросят все это в мусорную
корзину, получив свою зарплату. За всю полученную превосходную еду и выпивку
они дают взамен три копии листочков бумаги с подписями, и никак мне не
понять как все это устроено когда я вижу потные руки копающие на улицах
канавы под немилосердным солнцем Залива -
Чтобы как-то поразвлечься, мы с мамой решаем заглянуть в
ново-орлеанский салун с устричным баром. И там ах Бог ты мой наступает
прекраснейший миг ее жизни, она пьет вино, ест устрицы из полуоткрытых
раковин с соусом пиканте, и ведет громогласные безумные переговоры со старым
итальянцем, продающим устрицы. "А ты женат, а?" (она всегда спрашивает
пожилых мужчин женаты ли они, поразительно все же как это женщины
присматривают себе мужей до самого конца). Нет, он неженат, а не хотела бы
она еще устриц, есть вот еще сготовленные на пару? И они знакомятся и
меняются адресами, но никогда друг другу не напишут. Все это время мама в
полном восхищении оттого что она наконец-то в знаменитом Новом Орлеане, и,
когда мы прогуливаемся по городу, она покупает игрушечных негритят и
вафельные батончики, такая восхищенная всеми этими магазинами, и упаковывает
их в нашем багаже чтобы отослать потом по почте во Флориду в подарок моей
сестре. Упрямая надежда. Точно как и мой отец, она не позволяет себе
потерять силу духа. Я робко шагаю рядом с ней. И так она делала все свои 62
года: вот она в возрасте 14 лет, на рассвете, идет на обувную фабрику чтобы
проработать там до шести вечера, и так до вечера субботы, 72-х часовая
рабочая неделя, вся в радостном предвкушении этого несчастного субботнего
вечера, и воскресенья сулящего воздушную кукурузу, танцы и пение. Что может
сломить таких людей? Когда феодальные помещики-бароны собирали свою
десятину, чувствовали ли они робость перед лицом своих ликующих крестьян?
(окруженные в те времена всеми этими тупоголовыми рыцарями, мечтающими о том
чтобы их вздрючил какой-нибудь самодур-садист из соседнего бурга).
Так что мы вернулись к нашему эль-пасскому автобусу и, отстояв час в
очереди, дыша сизыми автобусными выхлопами, нагрузившись подарками и багажом
и разговаривая со всеми вокруг, с ревом мчимся мы вдоль реки, потом по
луизианским равнинам, снова усевшись спереди, чувствуя себя радостными и
отдохнувшими, а еще из-за того что я купил бутылочку чтобы веселей скоротать
дорожку.
"Мне все равно что люди скажут", говорит мама делая глоток из своей
маленькой дамской фляжечки "парочка глотков еще никому не повредила!" и я
соглашаясь наклоняюсь за спинку сиденья чтобы водитель не засек в зеркальце
заднего вида и прихлебываю из бутылки. Мы мчимся к Лафайетту. Где к нашему
изумлению обнаруживаем что люди тут говорят по-французски прямо как мы в
Квебеке, ведь каджуны это единственные выжившие акадийцы[9], но у
нас нету времени, автобус отправляется в Техас тотчас.
В краснеющих сумерках мы катимся по равнинам Техаса, разговаривая и
потягивая из бутылки, но вскорости она кончается и бедная мама засыпает
опять, беспомощное дитя в этом мире, а нам еще ехать и ехать, ну и когда мы
наконец доберемся, тогда-то что? Корриган, и Крокетт, и Палестина, унылые
автостанции, дорожные знаки, вся эта бесконечность, а ведь одолели мы всего
полконтинента, впереди еще одна бессонная ночь, а потом еще одна, и еще - Ох
ты ж -
Точно через сутки и шесть часов после прибытия в Новый Орлеан
подмигивающей эль-пасской ночью мы наконец-то вваливаемся в долину
Рио-Гранде, за плечами у нас девятьсот miserere[10] миль Техаса,
мы оба совершенно одурманены и одурели от усталости, и я понимаю что у нас
нет другого выбора кроме как сойти с автобуса и снять двухкомнатный номер в
отеле и хорошенько выспаться перед тем как продолжить путь в Калифорнию
длиною более чем в еще одну тысячу ухабистых миль -
И все же я хочу показать моей матери Мексику, находящуюся за маленьким
мостом в Хуарес.
Все знают что значит после двух дней тряски на колесах очутиться вдруг
лежащим на неподвижной кровати стоящей на неподвижной земле и спать - Я снял
номер неподалеку от станции и, пока мама принимала душ, вышел купить
цыпленка-в-корзинке -- Сейчас, вспоминая все это, я понимаю что для нее это
путешествие было огромным приключением, с посещением Нового Орлеана и
ночевкой в двухкомнатном гостиничном номере (за 4.50 доллара), и вот завтра
она впервые в жизни увидит Мексику - Мы выпили еще полбутылки, съели
цыпленка и заснули как младенцы.
Утром, за восемь часов до нашего автобуса, мы выступили в поход,
перепаковав весь наш багаж и сдав его за 25 центов в пристанционную камеру
хранения - Я даже заставил ее пройти пешком милю до моста в Мексику,
разминки ради - На мосту мы заплатили каждый по три цента, и перешли на ту
сторону.
И сразу же оказались в Мексике, а это значит среди индейцев и на
индейской земле - среди запахов тины, жареных цыплят, а также пыли Чихуахуа,
лимонных шкурок, лошадей, соломы, индейской усталости - Крепкий запах
кантин[11], пива, затхлости - Вонь базара - и виды прекрасных
старинных испанских церквей возвышающихся в солнечном свете с их горестными
Мариями Гваделупе, Распятиями и трещинами на стенах - "О Ти Жан! Я хочу
зайти в эту церковь поставить свечку Папе!"
"Окей". И, зайдя внутрь, мы видим старика стоящего на коленях в проходе
воздев руки в знак покаяния, penitente, часами напролет стоит он так, старое
пончо на плечах, старые ботинки, шляпа на церковном полу, потрепанная седая
борода. "О Ти Жан, что он мог сделать такого что его так опечалило? Я не
могу поверить чтобы такой старый человек мог сделать что-то настолько
плохое!"
"Он penitente", говорю я ей по-французски. "Он согрешил, и не хочет
чтобы Господь оставил его".
"Pauvre bonhomme!"[12] и я вижу как женщина оборачивается и
смотрит на маму, думая что она сказала "Pobrecito", впрочем так оно и есть.
Но самым жалостным зрелищем внезапно открывшимся нам в старой церкви Хуареса
стала женщина в платке, одетая в черное, босиком, с ребенком на руках,
медленно на коленях ползущая к алтарю. "А это что же такое?" закричала моя
пораженная мать. "Эта бедная маленькая мать не могла сделать ничего плохого!
Может быть у нее муж попал в тюрьму? И она несет этого малюсенького
ребенка!" Теперь я радуюсь тому что взял с собой маму в это путешествие,
хотя бы потому что она может увидеть истинную церковь Америки. "Она что,
тоже penitente? И этот маленький ребенок тоже penitente? Она его всего
замотала в свою шаль, как маленький шарик!"
"Я не знаю в чем тут дело"
"Где же священник, почему он не благословит ее? Здесь нет никого,
только эта бедная мама и этот бедный старик! Это церковь Марии?"
"Это церковь Марии де Гваделупе. В мексиканском Гваделупе крестьянин
нашел платок с Ее ликом, отпечатавшимся там как на плащанице Христова
распятия"
"Это случилось в Мексике?"
"Si"
"И они молятся Marie? Но эта бедная молодая мама прошла лишь полпути до
алтаря - Она ползет медленно медленно медленно на коленях, такая тихая. А
эти индейцы о которых ты говоришь, это хорошие люди?"
"Qui - эти индейцы такие же как у нас, но испанцы их не убивали"
(по-французски) "Ici les espagnols sont marie avec les
Indiens[13]".
"Pauvre monde![14] Они верят в Бога точно также как и мы! Я
не знала этого, Ти Жан! Я никогда ничего подобного не видела!" Мы
приблизились к алтарю, зажгли свечи и положили по четвертаку в ящик для
пожертвований, заплатив за них. Мама помолилась Богу и перекрестилась.
Пустыня Чихуахуа ворвалась в церковь облачком пыли. Маленькая мать все еще
ползла к алтарю на коленях с ребенком мирно спящим у нее на руках. Глаза
Memere затуманились слезами. Теперь она понимала Мексику, и то почему я так
часто возвращался сюда несмотря на то что цеплял здесь дизентерию, терял в
весе и возвращался такой бледный. "C`est du monde qu`il on du coeur",
прошептала она, "у этих людей есть сердце!"
"Qui"
Она положила доллар в церковную коробку, надеясь что это может как-то
помочь. Она никогда не забывала этого дня: и даже сейчас, через пять лет,
она все еще поминает в своих молитвах маленькую мать с ребенком, ползущую к
алтарю на коленях: "Что-то у нее в жизни пошло наперекосяк. С мужем что-то
не то, или ребенок заболел - Мы никогда уже не узнаем - Но я буду всегда
молиться за эту маленькую женщину. Ти Жан, когда ты взял меня с собой, ты
показал мне такое - я в жизни бы не поверила что такое когда-нибудь увижу -
"
Через несколько лет, встретившись с матерью-настоятельницей
вифлеемского монастыря бенедиктинок, я рассказал ей об этом через деревянную
решетку монастыря, и она заплакала...
И старик Penitente все еще стоит на коленях воздев руки, и все ваши
Сапаты[15] и Кастро приходят и уходят, но Старик Penitente и ныне
там, и всегда будет там, как Старик Койот в горах Навахо и холмах Мескалеро
на севере: -
Вождь Бешеный Конь смотрит на север * Джеронимо плачет
со слезами на глазах * у пони нет
Порывы первого снега налетели * одеял
А еще это было очень смешно, оказаться в Мексике с матерью, потому что
когда мы вышли из церкви Санта-Марии и сели в парке отдохнуть и понежиться
на солнышке, возле нас присел старый индеец в своем пончо, со своей женой,
не говоря ни слова, глядя прямо перед собой, пытаясь осознать свое великое
путешествие в Хуарес из холмов окрестных пустынь - Приехавшие на автобусе
или осликах - И мама предложила им по сигарете. Вначале старый индеец
перепугался, но в конце концов сигарету взял, но потом она предложила еще
одну для его жены, по-французски, на квебекском ирокезском французском, "Vas
il, ai paw `onte, un pour ta famme[16]" так что он взял и ее,
озадаченно - старушка так и не осмелилась взглянуть на Memere - Они знали
что мы американские туристы, но такие туристы им еще не встречались - Старик
медленно закурил свою сигарету и уставился прямо перед собой - Мама спросила
меня: "Они что, боятся разговаривать?"
"Они не знают что им делать. Они никогда ни с кем не встречались. Они
пришли из пустыни. Они даже по-испански не говорят, только по-индейски.
Скажи им тарахумаре"
"Да разве ж такое можно выговорить?"
"Скажи Чихуахуа"
Мама говорит "Чихуахуа" и старик усмехается ей, и старуха улыбается.
"До свидания", говорит мама когда мы уходим. Мы идем прогуляться по милому
маленькому парку, полному детей, людей, мороженого и надувных шариков, и
подходим к чудному человечку с птицами в клетке, который замечает наш
интерес и начинает зазывать нас громкими криками (Я повел маму маленькими
переулочками Хуареса). "А что ему надо?"
"Предсказать нам будущее! Его птицы скажут твое будущее! Дадим ему песо
и птички вытащат полоску бумаги, на которой будет написано твое будущее!"
"Окей! Синьеоор!" Птичка клювом вытягивает листочек из стопки бумажек и
отдает его человеку. Тот, с маленькими усиками и смеющимися глазами,
открывает его. Там написано следующее: -
"У тебя будет хороший щастье с твой сын который тебя любить. Говорить
птица"
Смеясь, он отдает нам бумажку. Поразительно.
"Послушай-ка", говорит Memere пока мы прогуливаемся держась за руки по
улицам старого Хуареса, "откуда могла эта маленькая глупенькая птичка знать
что у меня есть сын, и вообще знать что-то про меня - Фу, какая тут пылища
везде!" когда пустыня в миллион миллионов песчинок взвеяла облачко пыли
вдоль дверей. "Можешь ты это мне объяснить? А сколько это один песо, восемь
центов? И маленькая птичка все это знала? Да?" Как Эстер у Томаса Вульфа,
"Да?", только любовь ее более долговечна. "Этот парень с усиками нас не
знает. А его птичка знает все". Она надежно запрятала птичкину бумажку в
своей сумочке.
"Эта птичка знала Жерара"
"И маленькая птичка вытащила бумажку с его безумным лицом! Ах, но
люди-то тут бедные, правда?"
"Да - но правительство много о них заботится. Раньше тут люди спали
целыми семьями на улице, завернувшись в газеты и афиши боя быков. И девушки
продавали себя за двадцать центов. Теперь у них хорошее правительство, после
Алемана, Карденаса, Кортинеса - "
"Бедная птичка Мессики! И маленькая мать! Я теперь всегда буду говорить
что видела Мессику!" Она произносила это так, "Мессика"
Так что я купил в лавке бутылку бурбона Хуарес, и мы пошли назад, на
американскую автостанцию Эль Пасо, забрались в большой двухэтажный Грейхаунд
на котором было написано "Лос Анжелес", и с ревом помчались в красных
пустынных сумерках, потягивая из бутылки и болтая с американскими моряками,
которые ничего не знали о Санта Марии де Гваделупе и Маленькой Птичке, но
все ж таки были отличными ребятами.
И пока автобус мчался по пустой дороге мимо лунного пейзажа испещренной
бороздами пустыни и лавовых вздутостей, милями пустынной заброшенности, в
сторону неясно вырисовывающейся последней горы Чихуахуа на юге, или
иссушенного скалистого хребта Нью Мексико на севере, Memere сказала, со
стаканчиком в руке: "У боюсь этих гор - они пытаются сказать нам что-то -
они в любой момент могут рухнуть прямо на нас!" И она перегнулась сказать
это морякам, которые рассмеялись, и она предложила им выпить, и даже
поцеловала их в вежливые щеки, и они все так радовались, такая сумасшедшая у
меня мать - Никто в Америке не понимал больше того что она пыталась
рассказать, о том что видела в Мексике или во Всей Вселенной. "Эти горы там,
они не просто так! Они там чтобы рассказать нам что-то! Они просто такие
славные мальчики", и она заснула, вот как оно было, и автобус все жужжал в
сторону Аризоны.
Но теперь мы уже в Америке, и на рассвете оказываемся в Лос Анжелесе,
хотя мы так и не поняли что у него общего с ангелами, когда, оставив в
ожидании сан-францискского автобуса в десять утра нашу поклажу в камере
хранения, отправились поискать среди серых улиц где бы нам выпить кофе с
тостами - Сейчас пять часов утра, самое мертвое время, и нам удается увидеть
только ошалело бродящие повсюду остатки ужаснувшихся хулиганов этой ночи и
окровавленных алкашей - А я-то хотел показать ей сверкающий радостный Эл-Эй
из телешоу Арта Линклеттера, или мимолетный промельк Голливуда, но увидели
мы лишь ужас Кошмарной Стороны, зачуханных торчков, шлюх, чемоданы
обвязанные бечевкой, безжизненные светофоры, нету здесь птичек, нету Марии -
но грязь и смерть, это да. Впрочем, всего в нескольких милях от этих
ожесточенных чудовищных тротуаров были мягкие сияющие берега Тихого океана
Ким Новак[17], которые мама никогда не видела, где hors
d`oeuvres[18] выбрасываются акулам[19] - Где режиссеры
снимаются со своими женами в фильмах которые никогда не выйдут на экраны -
Но бедная Memere увидела в Эл-Эй только предрассветную пришибленность,
гопников, некоторые из них американские индейцы, вымершие мостовые,
скопления полицейских машин, обреченность, ранние утренние свистки, подобные
ранним утренним свисткам в Марселе, замученный уродливый ужасный
калифорнийский город, не-пойму-что-я-делаю-здесь город,
mierda[20] - Ох, любой живший и страдавший в Америке поймет что я
хочу сказать! Любой, кому приходилось выбираться из Кливленда пробравшись на
товарняк с углем или разглядывавший почтовые ящики в Вашингтоне знает это!
Кто обливался кровью в Сиэттле, и опять обливался кровью в Монтане! Кого
обули в Миннеаполисе! Кто умер в Денвере! Или рыдал в Чикаго, или сказал
"Хана мне, ребята" в Ньюарке! Или торговал обувью в Уиншендоне! Или лез на
стенку в Филадельфии? Или скурвился в Тунервилле? Но говорю я вам, нет
ничего ужасней этих пустынных на заре улиц американского города, разве что
быть невинно брошенным на съедение нильским крокодилам под улыбки
кошкоголовых жрецов. Рабы в каждой уборной, воры в каждой дыре, сутенеры в
каждой пивнушке, губернаторы открывают публичные дома - Банды гопоты в
черных куртках стриженные под "утиный хвост" на всех углах, некоторые из них
pachucos[21], и я молюсь своему папе "Прости меня за то что я
протащил Memere сквозь всю эту дрянь чтобы выпить чашечку кофе" - Я знал все
эти улицы прежде, но без нее - Но даже самый злобный пес в самом царстве зла
понимает что такое сын со своей матерью, так что благослови вас всех
Господь.
После целого дня езды по зеленым полям и садам прекрасной долины Сан
Хоакин даже моя мать была впечатлена, хотя все же не преминула подметить
высохшие заросли дрока на холмах вдали (ранее она уже жаловалась, и не зря,
на поросшие тростником пустоши Таксона и пустыни Мохаве) - пока мы сидели
там конечно же обалделые от смертельной усталости, но зато почти уже доехав,
почти на месте, еще четыреста миль на север вдоль долины и вот он, Город -
длинный запутанный способ сказать что мы приезжаем в Фресно в сумерках,
немножко гуляем и садимся в автобус опять, на этот раз с невероятно
энергичным водителем-индейцем (мексиканцем из Мадеры), пулей вылетаем прочь
к Окленду, и водитель угрожающе надвигается на все встречное на этом
двухполосном шоссе Долины (99-м), заставляя разброд встречных машин
дергаться и возвращаться в спасительность прямой линии - А не то б он их
просто размазал по асфальту.
До Окленда мы добираемся уже ночью, в субботу, (я последним глотком
добиваю бутылку калифорнийского красного крепкого, добавив в него льда с
автостанции) и вот те на, первое что мы видим это ободранный алкаш весь в
крови шатающийся по автостанции в поисках медпункта - У моей матери едва
глаза открываются, она проспала всю дорогу от Фресно, но эту сцену она видит
и вздыхает спрашивая себя что же будет дальше, Нью Йорк? а может, Адская
Кухня или нижний Ист-сайд? И я обещаю себе что покажу ей хоть что-то
хорошее, хороший маленький домик, немного покоя и деревьев, точно как обещал
должно быть мой отец, когда вывез ее из Новой Англии в Нью-Йорк - Я беру все
чемоданы и машу автобусу на Беркли.
Очень скоро мы выбираемся из улиц оклендского центра, с пустыми шапито
киношек и пасмурными фонтанами и катимся по длинным улицам где полно старых
1910 года белых коттеджей с пальмами. Но больше тут деревьев других,
Калифорнии северной, грецкого ореха, дубов и кипарисов, и в конце концов мы
приближаемся к Калифорнийскому университету, где я веду ее по листвяной
улочке, навьючив на себя весь наш багаж, к неясно светящей тусклой лампе
старого бхикку Бена Фэгана, предающегося своим учениям в домике во дворе. Он
объяснит нам где снять комнату в гостинице и поможет нам завтра найти
квартиру на первом или втором этаже какого-нибудь коттеджа. Он единственный
мой знакомец в Беркли. И Бог ты мой, когда мы входим, пройдя среди высокой
травы двора, мы видим его в заросшем розами окне, склонившим голову над
Ланкаватара сутрой, и он улыбается! Я не понимаю чему он улыбается, майе?
Как Будда смеющийся на горе Ланка, или что-то вроде? Но тут по двору прохожу
я, старый горемыка, со своей мамой, со старыми потрепанными чемоданами,
явившийся будто призрак истекший со дна морского. Он улыбается!
На самом деле, несколько секунд я удерживаю маму и шикаю на нее чтобы
понаблюдать за ним (мексиканцы называли меня "авантюристом"), и Бог ты мой,
он действительно сидит совершенно один посреди ночи и улыбается истинам
старых бодхисаттв Индии. Такому человеку нельзя не верить. Он улыбается
счастливо, правда-правда, и это настоящее преступление тревожить его - но я
должен это сделать, может он будет счастлив или ошеломлен увидев Майю, но я
должен неуклюже протопать по его крыльцу и сказать "Бен, это Джек, я со
своей матерью". Бедная Memere стоит за моей спиной и ее бедные глаза
полузакрыты от нечеловеческой усталости, и отчаянья тоже, думая а что же
теперь, пока старый Бен топает к своей маленькой увитой розами двери с
трубкой во рту и говорит "Ладно, ладно, много ты понимаешь". Бен слишком
умен и по-настоящему добр чтобы сказать что-нибудь вроде "Ну
здрасте-пожалуйста, ты вообще в курсе сколько времени?" Я уже предупредил
его, но как-то так рассчитал что приеду скорее всего днем и сначала найду
себе комнату в отеле, а потом уж зайду к нему, может быть один для начала
чтобы Memere могла почитать журнал Лайф или съесть пару бутербродов в своей
гостиничной комнате. Но было уже 2 часа ночи, я уже до одури вымотался, и по
пути не видел из автобуса ни отелей ни объявлений о сдающихся комнатах - так
что я просто хотел сейчас опереться на беново плечо. Помимо всего прочего,
утром ему нужно было на работу. Но эта улыбка, в цветочной тишине, когда все
в Беркли спят, да еще над таким текстом как Ланкаватара сутра, в которой
говорятся вещи типа: Взгляни на сетку для волос твоих, она реальна, но так
говорят глупцы, или: Жизнь подобна отражению луны на воде, так какая из этих
лун настоящая? что значит: Что есть реальность как не нереальная часть
нереальности? или наоборот, и кто тогда входит в открытую тобою дверь,
кто-то другой? или ты сам?
И он улыбается этому в западной ночи, пока звезды водопадами
обрушиваются на его крышу словно оступившиеся с лестницы пьянчуги с
фонариками в задницах, прохладная росяная ночь северной Калифорнии которую я
так любил (эту свежесть тропического влажного леса), этот аромат свежей
зеленой мяты растущей среди спутанных любопытствующих сорняков и цветов.
Маленький домик этот место довольно знаменитое, как я уже рассказывал,
в прошлом он служил пристанищем Бродягам Дхармы, и мы устраивали тут долгие
чайные дискуссии о дзене, или сексуальные оргии и ябъюм с девушками, слушали
музыку на граммофоне и шумно пьянствовали в ночи будто Радостные Мексиканцы
в этом тихом университетском соседстве, как-то так получалось что никто не
жаловался -- Все то же старое разбитое кресло-качалка по-прежнему стояло на
уолт-уитменовской увитой розами верандочке, среди лиан, цветочных горшков и
растрескавшегося дерева -- Во дворе по-прежнему оставались истекающие
божественностью горшочки Ирвина Гардена, его помидорные посадки, и может
быть несколько оброненных когда-то нами десятицентовиков, четвертаков и
фотокарточек[22] -- Бену (калифорнийскому поэту из Орегона) это
милый маленький клочок земли достался в наследство после того как все
остальные рассеялись в восточном направлении, некоторые добрались аж до
самой Японии (вроде старого Бродяги Дхармы Джерри Вагнера) -- И вот он сидел
там, улыбаясь над Писанием Ланкаватары в тихой калифорнийской ночи, как же
странно и радостно было мне видеть это после всех этих трех тысяч миль от
Флориды -- И, приглашая нас сесть, он все еще улыбался.
"Ну и что теперь?" вздыхает бедная Memere. "Джеки потащил меня сюда всю
дорогу от дома моей дочери во Флориде, без денег и без малейшего
представления что мы станем делать"
"Здесь в округе полно прекрасных квартир за пятьдесят долларов в
месяц", говорю я, "и к тому же Бен может помочь нам найти комнату на ночь".
Попыхивая трубкой, улыбаясь и таща добрую часть наших сумок, старый Бен
ведет нас в гостиницу находящуюся в пяти кварталах от него на
Университетской и Шаттак, где мы снимаем две комнаты и идем спать. А если
точнее, пока Memere спит, я иду вместе с Беном назад в домик чтобы тряхнуть
стариной. Для нас это были странные и мирные времена, между эпохой Дзенского
Безумия 1955 года, когда мы читали свои новые стихи большим аудиториям в
Сан-Франциско (впрочем я никогда не читал, а лишь в своем роде дирижировал
происходящим бутылкою вина), и близящейся эпохой бумаги и критиков пишущих
об этом и называющих происходившее "Сан-францисским поэтическим ренессансом
поколения битников" -- Так что Бен сидел по-турецки, вздыхал и говорил: "Ох,
да ничего такого уж особенного здесь не происходит. Я вот подумываю
вскорости вернуться в Орегон". Бен большой и розовощекий малый в очках и с
прекрасными спокойными голубыми глазами, вроде глаз Лунного Профессора или
даже скорее глаз Монахини (Или Пата О`Брайена, но он чуть не пришиб меня
когда при первой встрече я спросил не ирландец ли он). Ничто не может его
удивить, даже мое странное появление среди ночи и с мамой; ведь луна будет
все так же сиять на воде, и курицы опять отложат яйца, и никто не познает
сути безграничной курицы без яиц. "Чему это ты улыбался когда я увидел тебя
в окне?" Он идет в маленькую кухоньку и заваривает чайник. "Мне страшно жаль
нарушать твое уединение"
"Может быть я улыбался потому что бабочка попалась между страниц. Когда
я ее освободил, черная кошка и белый кот стали вместе гоняться за ней"
"А цветок погнался за кошками?"
"Нет, приехал Джек Дулуоз с отвисшей челюстью и чем-то встревоженный, в
2 часа ночи, и даже свечки у него не было"
"Тебе понравится моя мать, она настоящая Бодхисаттва"
"Она мне уже нравится. Мне нравится как легко она соглашается с тобой,
со всеми твоими безумными трехтысячемильными затеями"
"Она со всем справится..."
Забавная история, первый раз когда мы с Ирвином встретили Бена, он
прорыдал всю ночь лежа ничком на полу, и мы ничем не могли его утешить. И с
тех самых пор он никогда и слезинки не проронил. Он только что спустился с
горы где провел лето (на Старательской), как и я после него, и написал целую
книжку новых стихов которые ему сразу же опротивели, и он кричал: "Поэзия
это полная херня. Кому охота морочиться с этими умственными разграничениями
в мире уже погибшем, уже полностью отъехавшем? Ничего уж теперь не
поделаешь". Но сейчас он чувствовал себя лучше, с этой своей улыбкой,
говоря: "Все это уже не важно, мне приснилось что я Татхагата двенадцати
футов высоты с позолоченными пальцами ног, и теперь мне все это безразлично"
Вот сидит он со скрещенными ногами, чуть склонившись влево, мягко плывя
сквозь ночь с улыбкою Малайской горы. Синей дымкой появляется он в хижинах
поэтов в пяти тысячах миль отсюда. Это странный мистик живущий один улыбаясь
над книгами, и на следующее утро в отеле моя мать говорит мне: "Что за
парень этот Бенни? Ни жены, ни семьи, ни дела? Он вообще работает
где-нибудь?"
"Он проверяет за полставки яйца в университетской лаборатории на холме.
Заработка как раз хватает на его бобы и вино. Он буддист!"
"Эти твои буддисты! Почему б тебе не держаться собственной веры?" Но мы
выходим из дома в девять утра и сразу же чудеснейшим образом находим
отличную квартиру, на первом этаже и с садиком в цветах, платим на месяц
вперед и заносим наши чемоданы. Это на Берклийском шоссе номер 1943,
недалеко от всех магазинов, и из окна моей спальни виден даже Мост Золотых
Ворот, высящийся над водами и крышами в десяти милях отсюда. Здесь есть даже
камин. Когда Бен возвращается домой после работы, я иду за ним в его домик и
мы отправляемся купить цыпленка на жарку, бутылку виски, сыра, хлеба и все
такие дела, и вечером, когда мы уже хорошенько напиваемся в новой квартире,
я зажариваю цыпленка на каминном огне, поставив вытащенную из рюкзака
сковородку прямо на поленья, и мы устраиваем великое празднество. Бен купил
уже подарок для меня, пестик для трамбовки табака в моей трубке, и мы сидим
покуривая у очага вместе с Memere.
Но виски слишком много, мы перебираем и отрубаемся. В квартире есть уже
две кровати, и посреди ночи я просыпаюсь услышав как Memere стонет от виски,
и как-то мне становится ясно что из-за этого наш новый дом уже проклят.
75
И к тому же Memere начинает уже говорить что берклийские горы скоро
обрушатся на нас в землетрясении -- Так же она не терпеть не может утреннего
тумана -- И что толку в шикарных супермаркетах на нашей улице, если купить
то что ей по-настоящему нравится все равно денег нет -- Я бегу и покупаю
радио за двенадцать долларов и кучу газет чтоб ей было повеселей, но ей это
не нравится -- Она говорит "Калифорния это ужас. Я хочу тратить свою пенсию
во Флориде" (Мы живем на мои 100 долларов в месяц плюс ее 84). Я начинаю
понимать что она никогда не сможет жить нигде кроме как возле моей сестры,
лучшей ее подруги, или возле Нью-Йорка, бывшего когда-то ее мечтой. Memere
со мной тоже нравится, но я не особо силен в женской болтовне, и в основном
занят чтением и писательством. Старый добряк Бен заходит иногда чтобы нас
как-нибудь поразвлечь, но он только вгоняет ее в тоску. ("Он похож старого
деда! Откуда ты только берешь таких людей? Он просто старый добрый дедуля, а
не молодой парень!") С помощью моих оставшихся с Марокко
таблеток-стимуляторов я часами сижу и пишу в своей комнате, неистовые бредни
старого полуночного ангела, больше заняться мне нечем, или брожу по
густолиствяным улицам вникая в разницу между желтым светом уличных фонарей и
белым лунным, и возвращаюсь домой, и рисую хозяйственной краской по дешевой
бумаге, попивая дешевое вино. Memere же делать вообще нечего. Наша мебель
скоро прибудет из Флориды, вся эта груда чудовищного хлама о котором я уже
писал. Так что мне становится ясно что дурацкий-то я поэтишка, попавшийся в
ловушку Америки с несчастной матерью в нищете и позоре. Поэтому меня бесит
что я не общепризнанный деятель литературы живущий на ферме в Вермонте, что
нет у меня ни вареных устриц ни сюсюкающей жены, ни даже лесов для
медитаций. Я все сижу и пишу всякие бессмыслицы, пока бедная Memere в другой
комнате залатывает мои старые штаны. Бен Фэган видит всю грусть этого и
неловко хмыкая кладет руку мне на плечи.
76
И однажды ночью иду я в киношку неподалеку и погружаю себя на три часа
в трагические истории других людей (Джек Карсон, Джефф Чандлер) и, выходя
заполночь из кинотеатра, я бросаю взгляд на Сан-францисский залив в конце
улицы совершенно забыв где нахожусь, вижу сияющий в ночи Мост Золотых Ворот
и содрогаюсь от ужаса. И проваливается дно души моей. Что-то есть в этом
мосту такое, что-то ужасное как говорит мама, вроде забытых подробностей
мутного секоналового[23] кошмара. Я проехал три тысячи миль чтобы
вздрагивать здесь в ужасе -- а Memere сидит дома кутаясь в свою шаль и
пытается придумать чем ей заняться. И все это уже просто нелепо, просто
совершенно невероятно. Ведь, к примеру, есть у нас своя прекрасная маленькая
ванная, но со странным образом скошенными краями днища, и хотя я залезаю по
вечерам в радостно пузырящиеся ванны полные горячей воды и с жидким мылом
Радость, Memere жалуется что боится этой ванны! Она не будет пользоваться
ванной, потому что боится упасть, говорит она. Она уже пишет письма моей
сестре, а наша мебель все еще не прибыла из Флориды!
Боже мой! В конце концов кто из нас просил быть рожденным на свет? И
что же делать с унылыми лицами прохожих? Что делать с трубкой Бена Фэгана?
77
Но вот однажды туманным утром заходит старый безумец Алекс Фэйрбразер,
причем в шортах-бермудах подумайте только, и притаскивает книжный шкаф чтобы
оставить его у меня, и даже шкафом назвать это трудно, а так, доски с
кирпичами какие-то -- Старина Алекс Фэйрбразер, который когда-то, когда мы
были Бродягами Дхармы, забирался со мной и с Джерри на гору и которому все
по фигу -- Время повернулось вспять -- А еще он предлагает заплатить мне за
день работы, нужно помочь расчистить его дом в Буэна Висте -- Вместо того
чтобы улыбнуться Memere и поздороваться с ней, он сходу начинает базарить со
мной точь-в-точь как мы делали это в 1955-м, не обращая на нее никакого
внимания, даже когда она приносит ему чашку кофе: "Что ж Дулуоз, вижу ты
опять добрался до Западного Побережья. Кстати о виржинской знати, они все
сваливают назад в Англию знаешь ли -- Хитрые дела -- А мэр Лондона устроил
прием в честь 350-летия и созвал их всех пятьдесят человек и Елизавета
Вторая даже выдала им поносить парик Елизаветы (кажется) Первой и кучу
других вещей которые из лондонского Тауэра никогда до того не выносились.
Знаешь, у меня девчонка из Виржинии была когда-то... А что это за индейцы
такие, мескалерос[24]? Да и библиотека сегодня закрыта..." и
Memere на кухне уже решает про себя что все мои друзья сумасшедшие. Но мне
действительно очень нужен сейчас этот заработок у Алекса. Я уже был на
фабрике где думал подыскать себе работу, но стоило мне увидеть двух парнишек
таскающих туда-сюда штабеля ящиков под присмотром придурковатого на вид
бригадира, который наверняка в обеденный перерыв пристает к ним с
нескромными вопросами о личной жизни, как я свалил оттуда -- Я даже зашел в
бюро по трудоустройству, и вышел тотчас же словно персонаж Достоевского.
Когда ты молод, работаешь потому что думаешь что тебе нужны деньги:
состарившись знаешь что кроме смерти тебе ничего не нужно, так зачем тогда
работать? А кроме того, "работа" обычно это когда кто-то работает на
другого, ты таскаешь чужие коробки и думаешь "А почему он не таскает свои
коробки сам?" И в России наверное рабочий думает "А почему Народная
Республика не таскает сама свои чертовы коробки?" По крайней мере, работая
на Фэйрбразера, я работал для друга: и если он скажет мне пилить ветки, я
могу хотя бы подумать так: "Я пилю ветки для старины Алекса Фэйрбразера,
потому что он очень смешной и два года назад мы вместе залезали на гору" Но
на следующее утро, когда мы отправились на работу пешком и переходили
маленькую боковую улочку, откуда ни возьмись объявился полицейский и
оштрафовал каждого из нас за переход в неположенном месте на три доллара, а
это была уже половина моего заработка за день. Я изумленно смотрел на унылую
калифорнийскую рожу копа. "Мы же разговаривали, поэтому красный свет не
заметили", сказал я. "К тому же сейчас восемь часов всего, никаких машин
нету!" И ведь видел же он лопаты на наших плечах, значит знал что мы идем
куда-то работать.
"Я просто делаю свою работу", говорит он, "также как и вы свою". Я
поклялся что никогда больше не буду "подрабатывать" на какой-либо "работе" в
Америке, пусть хоть оно все огнем горит к чертовой бабушке. Но, конечно,
когда надо заботиться о Memere, все не так-то просто -- Ничего себе путь, от
голубой романтичности сонного Танжера до пустых голубых глаз американского
полицейского, они по-своему сентиментальны даже, эти глаза, вроде глаз
школьных директоров, и одновременно совершенно анти-сентиментальны, как у
дам из Армии Спасения стучащих в бубны на Рождество. "Моя работа смотреть за
тем чтобы законы соблюдались" говорит он отрешенно: сейчас они не так уж
часто говорят о соблюдении законов, слишком много дурацких законов
развелось, включая неизбежно грядущий закон об окончательном запрещении
метеоритов, в таком бардаке смешно даже говорить о "законности". И пока он
нам тут капает на мозги, в двух кварталах отсюда какой-нибудь придурок
взламывает склад нацепив хеллоуинову маску, или того хуже, какой-нибудь
конгрессмен готовит закон об ужесточении наказаний за "переход улицы в
неположенном месте" - Я вижу как в неположенном месте дорогу переходит
Джордж Вашингтон, без шляпы, погруженный в лазарусовские раздумья о судьбах
Республик, и нарывается на полицейского на углу Маркет и Полк --
И Алекс Фэйрбразер все это знает, великий сатирик и аналитик ситуации,
он смеется над ней своим странным невеселым смехом, и вообще весь остаток
дня мы с ним немало веселимся, хотя я немножко и обманываю его, он просит
меня снести в мусор кучу нарубленных веток, а я просто перебрасываю их через
каменную стену на соседний участок, зная что он не может меня увидеть потому
что сидит на карачках зарывшись в подвальную грязищу, он вынимает ее
пригоршнями, наполняет ею корзины и передает их мне. Он очень странный
чудик, постоянно переезжает с места на место со всей обстановкой, устраивает
всякие перестановки в домах и все в них переделывает: стоит ему снять
маленький домик в Милл-Волли как он тотчас примется не покладая рук
пристраивать маленькую веранду, но вдруг бросает все и переезжает в другое
место, где начинает обдирать старые обои. И нисколько неудивительно увидеть
его идущим по улице с двумя фортепьянными табуретами под мышкой, или с
четырьмя пустыми рамами от картин, или с дюжиной книжек о папоротниках,
честно говоря я его совсем не понимаю, но он мне нравится. Однажды он
прислал мне упаковку школьных печенюшек, которые все искрошились проделав в
посылке три тысячи миль. И в нем самом тоже есть что-то такое искрошенное.
Его крошит по всей стране от одной библиотечной работы к другой, явно вводя
по ходу дела в шок женщин-библиотекарш. Он много чего знает, но в таких
разных и несвязных между собой областях, что никто его не понимает. И он
очень печальный на самом-то деле. Он вытирает свои очки, вздыхает и говорит
"Взрыв рождаемости ослабляет американскую социальную систему и воистине
обескураживает. Может стоит посылать им внутриматочное желе в нефтяных
цистернах Шелл? Это будет новая разновидность продукции Тайд произведенной в
Америке" (на самом деле он имеет в виду некий текст напечатанный на
упаковках идущего на экспорт мыла Тайд, так что он знает о чем говорит,
правда вот никто другой не в состоянии понять к чему это все). В этом зыбком
мире достаточно трудно понять зачем мы существуем, не говоря уж о том чтобы
въехать в то кто как прикалывается. Бык Хаббард говаривал в таких случаях
"жизнь невыносимо скучна", или что-то вроде того. "Фэйрбразер, мне скучно!"
в конце концов говорю и я --
Снимая очки и вздыхая, "Попробуй Suave[25]. Ацтеки вот
пользовались орлиным маслом. Были у них такие длинные имена начинавшиеся на
"К" и кончавшиеся на "ойл"[26]. Кетцалькойл. Так что они всегда
могли подтереть лишнюю влагу пернатым змеем. Может быть перед тем как
вырвать сердце они щекотали его перышком. А вот с американской прессой не
все так очевидно, у них такие длинные усищи и наборы ручек с карандашами".
Я вдруг увидел что он просто безумный одинокий поэт, твердящий днем и
ночью бесконечные поэтические бормоталки под нос самому себе или любому кто
готов это выслушивать.
"Эй Алекс, ты неправильно выговариваешь Кетцалькоатль: надо
Куэт-са-куатай. Например койот будет ко-йо-тай, и пейотль пей-о-тай, а
вулкан Попокатепетль будет Попо-ка-теп-атай"
"Ну и чего ты плюешься тут своими косточками в бродячих инвалидов, я
просто говорю так как принято у нас на Синайской горе... А, скажем, как ты
выговариваешь "Магистр наук" если живешь в пещере?[27]"
"Не знаю, я всего-навсего кельт из Корнуолла"
"Корнийский язык называется кернуак. Киммерийской группы. Если бы
кельты с кимрами произносили "с" вместо "к", нам пришлось бы Корнуолл
называть Сорнуоллом, и что тогда прикажете делать со всей нашей
кукурузой[28]. По дороге в Буд берегись подводных течений. А если
ты симпатяга, то не очень-то разумно ошиваться в районе
Пэдстоу[29]. Иди-ка ты тогда лучше в паб пропустить стаканчик за
здоровье мистера Пенагарда, мистера Пентонгимпса, мистера Маранзанвоза,
мистера Тревискита и мистера Трегеаргата[30], или отправляйся
искать кистваэны с кромлехами[31]. Или помолись Матери-Земле во
имя святого Теата, святого Эрта, святого Брэока, святого Горрана и святого
Кью, там неподалеку от долмена, возле старых труб заброшенных оловянных
шахт. Да здравствует Черный Принц!" Он говорит это когда мы на закате
возвращаемся с лоапатами на плечах, поедая мороженое из стаканчиков (да
простятся мне эти неправильные "лопаты"[32]).
И он добавляет: "Джек, на самом деле тебе просто надо купить себе
лендровер и отправиться путешествовать по Внутренней Монголии, а не то
бегать тебе ночью с лампой в руках". И мне, как и всем остальным, остается
лишь пожать на все это плечами, беспомощно, пока его продолжает нести безо
всякого передыху.
Когда мы возвращаемся назад в мой дом, оказывается что наша мебель
только что прибыла из Флориды, и мама с Беном радостно пьют вино и
распаковывают ее. Старый добрый Бен принес ей сегодня вечером вина, будто
знал что на самом-то деле она хочет не распаковывать все эти вещи, а
вернуться обратно во Флориду, что мы в конце концов и сделали тремя неделями
позже в том запутанном году моей жизни.
Напоследок мы с Беном напились, сидючи в траве под светом луны мы пили
виски прямо из горла, ухали и эгегекали прямо как в старые времена, сидя на
земле лицом друг к другу, выкрикивая дзенские вопросы: "Кто сидит под
неслышным деревом и ломает мою иву?"
"Может, это ты сам?"
"Почему мудрецы всегда спят разинув рот?"
"Может, им выпить еще хочется?"
"А почему мудрецы стоят на коленях в темноте?"
"Может, чтобы не скрипеть?"
"В какую сторону пошел огонь?"
"Направо"
"А ты откуда знаешь?"
"Потому что он меня обжог"
"А это ты откуда знаешь?"
"А этого-то я и не знаю"
И тому подобную чепуху, а еще мы рассказывали длинные истории из
прошлого и из детства: "А ты понимаешь Бен что очень скоро будет уже такая
тьма тьмущая разных прошлых и разных детств, потому что все кому попало
пишут и пишут о них, так что скоро все в отчаянии перестанут это читать -- И
тогда произойдет взрыв всех этих историй прошлого, и историй детства, и им
понадобится завести Необъятный Мозг чтобы записать эти истории на
микропленки которые будут хранится на марсианских складах и ему придется
потратить семьдесят небесных Коти[33] чтобы разобраться в этом
чтиве -- Семьдесят миллионов миллиардов Коти! -- Эгегей! -- Свободны! Все
свободны! - "
"И не о чем теперь заморачиваться, мы можем пустить все на самотек,
позволить японским порно-автоматам перетрахать всех химических куколок до
единой, начхать на больницы для роботов и крематории для калькуляторов, и
просто оторваться и быть свободными во всей этой вселенной!"
"Свободными в вечности! Мы сможем летать на облаках словно ханы и
смотреть телевидение из Самапатти[34]"
"Так мы это и так уже делаем"
Однажды ночью мы даже закинулись пеойотом, шишечками мексиканского
чихуахуанского кактуса который дает видения после предварительных трех часов
мутной тошноты -- В тот день Бен получил из Японии посылку с набором
монашеского буддийского облачения (от друга Джерри) и в тот же день я был
твердо намерен создать великие картины с моим жалким набором хозяйственных
красок. Можете себе представить эдакое безумие, при полной безобидности двух
уторченных раздолбаев, изучающих поэзию в одиночестве: - Солнце на закате,
нормальные люди в это время ужинают (в Испании "ужин" величают
непритязательно и грустно "La Cena", в чем слышится приземленность и уныние
этой простой пищи живых созданий которым без нее никак не обойтись), а у нас
с Беном в животах ворочалось зеленое кактусовое месиво, зрачки наших шальных
глаз расширились, и вот он сидит в безумных одежках своих на полу домика в
полной неподвижности, уставившись в темноту, подняв руки кверху сомкнув их
большими пальцами, отказываясь отвечать мне когда я кричу ему со двора, он
действительно видит древний Рай Старины тех еще до-райских времен, своими
безмятежными глазными яблоками
шевелящимися в калейдоскопическом движении глубокой синевы и розовеющей
лучезарности -- И вот стою я, на коленях в траве в полутьме поливаю
эмалевыми красками лист бумаги и дую на них пока они не оживают и не
смешиваются, и это несомненно должен получится великий шедевр, но вдруг
бедный маленький жучишка садится на него и застревает -- Поэтому я провожу
последние тридцать минут сумерек в попытках извлечь жучка из моего липкого
произведения так чтобы не поранить его и не оторвать ножку, но хрен там -- И
я лежу глядя на бьющегося в краске маленького жука и понимаю что ради жизни
одного этого жука мне никогда не стоило бы писать картин, кем бы он ни был,
и кем бы он ни будет -- И какой же это странный похожий на дракона маленький
жук с благородными очертаниями головы и лба -- Я почти плачу -- На следующий
день картина высыхает и жучок в ней, мертвый -- Через несколько месяцев даже
пыль его истончится прочь -- А может это Фэган послал мне этого жучка из
глубин своего мечтательного Самапатти, чтобы показать что искусство, такое
гордое и такое чистое искусство вовсе не так уж чисто и гордо как кажется?
(Напомнив мне случай когда я писал так быстро что убил жука росчерком своего
карандаша, вот ведь подвиг, эх - )
Так чем же заняты мы в этой жизни что проходит подобно полнейшей
пустоте и все же посылает предупреждения что умрем мы в муках, распаде,
старости, ужасе - ? Хемингуэй называл это гнусной уловкой. Может быть это
даже древнее Испытание наложенное зловещим Инквизитором Пространства, вроде
испытания решетом и ножницами, или испытания водой когда тебя бросают в воду
связав пальцы ног с пальцами рук, О Господи -- Только Люцифер может быть так
жестокосерд, а я и есть Люцифер, и я не жестокосерд, на самом деле место
Люцифера на Небесах -- Теплые губы прижатые к теплым шеям в постелях всего
мира пытающиеся избавиться от этого гнусного Испытания смертью --
Когда мы с Беном немного отошли я говорю ему "Как же быть со всем этим
ужасом повсюду?"
"Это мать Кали танцующая во всем чтобы пожрать то чему она сама дала
жизнь, пожрать безо всякого остатка -- Она носит ослепительно сияющие
танцевальные драгоценности и вся покрыта шелками, украшениями и перьями, ее
танец сводит мужчин с ума, единственное непокрытое место на ней это ее
вагина окруженная мандалой короны из нефрита, ляпис-лазури, сердолика,
жемчуга и перламутра"
"Но без алмазов"
"Нет, это слишком..."
Я спросил свою собственную мать, что нам делать с нашим ужасом и
несчастьями, не упоминая про Мать Кали чтобы ее не пугать, она же заходит
дальше Матери Кали говоря: "Люди должны жить правильно -- Давай выберемся из
этой гнусной Калифорнии где полицейские не дают тебе спокойно и шагу
ступить, и эти туманы еще, и проклятые холмы вокруг готовые свалиться тебе
на голову, и поедем домой"
"Но где это, домой?"
"Домой -- это где твоя семья -- У тебя есть только одна сестра -- У
меня есть только один внук -- И один сын, это ты -- Давайте соберемся все
вместе и будем жить мирно. Люди типа твоего Бена Фэгана, твоего Алекса
Порбразера[35], твоего Ирвина Газуцкого[36], они не
умеют жить! -- Ты должен радоваться жизни, хорошей еде, хорошей постели, и
все тут -- La tranquilite qui compte![37] -- Оставь ты всю эту
ерунду, что тебя беспокоит то-то и то-то, найди себе в этом мире пристанище,
тогда для тебя настанет и рай[38]"
На самом-то деле агнцу живущему нигде не может быть приюта, зато для
мертвого агнца приютов хоть отбавляй, да-да, конечно, скоро уже, но я
последую за Memere просто потому что она говорит о покое. И она совсем не
понимает что именно я-то первый и нарушил покой Бена Фэгана, потому что
пришел сюда, ну да ладно. Мы уже начали собирать вещи чтобы ехать назад. Она
каждый месяц получала свои пенсионные чеки как я уже говорил, а у меня через
месяц должна была выйти книжка. По-настоящему важным из всего сказанного ею
были слова о спокойствии. В своей прошлой жизни она наверняка была (если
только такая штука как предыдущая жизнь возможна для индивидуальной души) --
она должна была быть настоятельницей какого-нибудь удаленного андалусийского
или греческого даже монастыря. Когда вечером она ложится спать я слышу как
она пощелкивает своими четками. "Кому нужна эта Вечность! Нам нужно Здесь и
Сейчас!" кричат танцоры со змеями на улице, уличные беспорядки, гранаты и
авиабомбы. И просыпаясь нежно посреди ночи на своей подушке моя мать
открывает свои усталые и праведные глаза, должно быть она думает: "Вечность?
Здесь и Сейчас? О чем это они говорят?"
Моцарт на своем смертном ложе наверное знал это --
И Блэз Паскаль больше чем кто-либо другой.
Алекс же Фэйрбразер мог ответить на мой вопрос об ужасе лишь своими
глазами, слова его были безнадежно запутаны джойсовским потоком
премудростей, типа: "Ужас повсюду? Звучит неплохо для рекламы нового
турагентства, а? Ты мог бы загнать целую армию безработных в аризонские
каньоны и они покупали бы там тортильи и мороженое у застенчивых индейцев
навахо, да только мороженое это было б с пейотом будто с фисташками и все
они отправились бы по домам распевая Adios Muchachos Companeros de la Vida -
"
Или что-то такое. Лишь в его тоскующих глазах можно увидеть ответ, в
его искрошенных глазах, разочарованных глазах старого бойскаутского
вожатого...
И еще ко всему вдобавок через нашу веранду в дом однажды врывается Коди
и ему смертельно необходимо занять десять долларов чтобы суперсрочно достать
травы. На самом деле я считай и в Калифорнию-то приехал чтобы быть поближе к
старому братишке Коди, но на этот раз его жена отказалась помочь, может быть
потому что со мной была Memere, а может потому что она испугалась что со
мной он опять начнет безумствовать, как уже было в наши времена на дороге за
несколько лет до того -- Его это не волнует, он-то никак не изменился, он
просто хочет занять десять долларов. Он говорит что вернется назад. А еще он
берет десятидолларовую Тибетскую книгу мертвых Бена и уносится прочь,
мускулистый как всегда в своей майке и потертых джинсах, ошалелый Коди.
"Есть тут поблизости девчонки?" вопит он встревожено выруливая со двора.
Но через неделю я беру с собой в Сан-Франциско Memere чтобы она там
покаталась на трамваях и пообедала в Чайнатауне и накупила там в Чайнатауне
побрякушек, я оставляю ее в большой католической церкви на Колумбус, а сам
мчусь в Местечко, любимое заведение Коди, чтобы посмотреть не смогу ли я
вернуть от него эти десять долларов. Бог ты мой, а вот и он, попивает пивко
и играет в шахматы с "Бородой". Он похоже удивлен, но он знает что я хочу
вернуть свои десять долларов. Он разменивает за стойкой двадцатку и отдает
их мне, а потом даже выходит со мной чтобы поздороваться с Memere в церкви.
Когда мы входим он встает на колено и крестится также как и я, и Memere
оборачивается и видит как мы это делаем. Она понимает что мы с Коди
закадычные старые друзья и вовсе не такие уж плохие ребята.
И вот через три дня, когда я стою на коленях на полу распаковывая пачку
сигнальных экземпляров моей Дороги, которая вся о Коди и обо мне и о Джоанне
и о Тощем Бакле, и Memere ушла в магазин так что я остался дома один, я
поднимаю взгляд к входной двери откуда возникает тихий золотой свет: а там
стоят Коди, Джоанна (златовласая красавица), Тощий Бакл, и за ними 4,5
футовый карлик Джимми Лоу (хотя "карликом" его никто никогда не зовет, а
просто Джимми, или еще как называет его Дени Бле, "Маленький человечек"). И
мы все смотрим друг на друга в золотом свете. В полной тишине. Получилось,
что я был застукан на месте преступления (мы все прихихикиваем) с
экземпляром Дороги в руках, причем еще не успев даже сам на нее взглянуть.
Чисто автоматически я протягиваю одну из книжек Коди, который в конце-то
концов главный герой этой бедной, безумной и грустной книги. Это один из
нескольких случаев в моей жизни когда встреча с Коди кажется залитой тихим
золотым светом, потом я расскажу еще об одном таком случае, хоть я и не знаю
что это значит, разве что это значит что по сути своей Коди ангел или
архангел спустившийся в мир этот, и что я его узнал. Как прекрасно сказать
подобное в такой день и в таком возрасте! И в особенности учитывая его
сумасшедший образ жизни который через шесть месяцев закончится трагедией, о
чем я расскажу вам через минуту -- Неплохо так вот болтать про ангелов когда
вокруг воры рвут священные четки своих жертв на улицах... Когда высочайшие в
мире идеалы основаны на месяце и дне когда произошла какая-то зверская и
кровавая революция, и даже более того, когда высочайшие эти идеалы это
просто новый повод убивать и грабить людей -- А Ангелы? Мы ж этих ангелов в
глаза не видели, так о чем же вы говорите? Но ведь именно Христос сказал:
"Не видели вы моего отца, что можете знать вы об Отце моем?"
О да, может я и неправ, и все христианские, исламские,
неоплатонические, буддийские, индуистские и дзенские мистики были неправы
насчет трансцендентальной тайны бытия, но я так не думаю -- Подобно тридцати
птицам которые добрались до Господа и увидели себя отраженными в Его Зерцале
-- Тридцать Грязных Птиц, ну а те 970 нас птиц не сумевших пересечь Долину
Божественного Просветления, на самом деле и мы добрались туда в Совершенстве
своем -- Теперь дайте же мне пояснить вам о бедном Коди, хоть я и рассказал
уже большую часть его истории. Он верует в жизнь, и хочет попасть на Небеса,
но он любит жизнь столь сильно что пытается охватить ее всю, и ему кажется
что он грешен и не увидит Небес никогда -- Он был католиком и
мальчиком-служкой в церкви, даже в те времена когда пытался сшибать на улице
четвертаки для своего забулдыги-отца, ныкающегося по подворотням. Десятки
тысяч чиновников--материалистов с ледяными глазами могут твердить что и они
тоже любят жизнь, но никогда не охватить им ее на той грани греха, и также
никогда не увидеть Небес -- Они со своими холодными бумагами на столах
презирают жизнелюба с горячей кровью, но не потому ли что в них самих крови
нет совсем, а значит нет и греха? Нет! Они греховны безжизненностью! Они
бармалеи Закона врывающиеся в священное бытие Греха! Э, надо б мне объяснить
попроще, без всех этих выкрутас и поэм -- У Коди была жена которую он
действительно любил, и трое детишек которых он действительно любил, и
хорошая работа на железной дороге. Но на закате солнца кровь его вскипала: -
вскипала для старых подружек вроде Джоанны, для старых радостей вроде
марихуаны и разговоров, для джаза, для все тех беспечностей которых желает в
своей жизни каждый респектабельный американец черствеющий год за годом в
высушенной Законом Америке. Но он не прячет своего желания и не кричит
Высуши себя! Он идет до конца. Он набивает свою машину друзьями и выпивкой и
травой и мотается повсюду в поисках экстаза, как какой-нибудь работяга с
полей Джорджии субботним вечером когда луна тихонько холодит гитара радостно
звенит. Он из крепкой миссурийской породы, из тех кто твердо стоит на ногах.
И мы все видели его стоящим на коленях и в поте лица своего молящимся
Господу! Когда в тот день мы поехали в Сан-Франциско, целые кордоны
полицейских оцепили район Норт Бич в поисках таких сумасшедших как он. И
каким-то чудом с полными выпивкой и травой карманами мы прошли прямо сквозь
них, смеясь с девушками, с маленьким Джимми, к вечеринкам, к барам, к
джазовым подвальчикам. Я не понимаю чем заняты были полицейские! Почему они
не искали убийц и грабителей! Когда однажды я высказал это полицейскому,
остановившему нас за то что я сигналил своему приятелю в машине
железнодорожным фонарем чтобы он не попал в аварию, полицейский сказал "А у
тебя голова варит, а?" (имея в виду что я-то как раз и могу быть убийцей и
грабителем). Но я не то и не другое, также как и Коди, чтобы быть убийцей и
грабителем надо быть ВЫСУШЕННЫМ ДО ДНА! Надо НЕНАВИДЕТЬ жизнь чтобы убивать
ее и грабить ее!
Но хватит уже о Калифорнии -- Позже у меня были там приключения в Биг
Суре, они были совершенно ужасны, так бывает когда становишься старше и твои
последние позывы заставляют тебя испробовать все, дойти до безумия, просто
чтобы посмотреть на что способна Пустота -- Достаточно сказать что когда
Коди стал прощаться с нами, в тот день он впервые в нашей жизни не смог на
прощание посмотреть мне прямо в глаза, но как-то уклончиво отвел взгляд в
сторону -- Я не мог понять из-за чего, и до сих пор не понимаю -- Я знал что
теперь что-то пойдет не так, и оно пошло очень и очень не так, он был
арестован через несколько месяцев за хранение марихуаны и провел два года
подметая вату в Сан Квентине, и я знаю в чем истинная причина этого ужасного
испытания в истинном мире, и не в том дело что у него в кармане оказалось
две самокрутки (двое бородатых битников в джинсе спрашивают его из машины
"Что за спешка, чувак?", и Коди говорит им: "Подбросьте-ка мне на станцию,
только поскорей, а то на поезд опаздываю") (у него за превышение скорости
отобрали права) ("А я вам за беспокойство травки подгоню") а они оказываются
переодетыми легавыми -- Настоящей же причиной, кроме того что он не
посмотрел мне в глаза, было что однажды я видел его гоняющим ремнем по
комнате свою дочку, сцена плача и ужаса наказания, и от этого-то Карма его и
повернулась таким образом -- Око за око, и песчинка за пылинку -- Хотя может
за эти два года Коди и стал еще более великим чем когда бы то ни было, если
только он осознал все это -- Ну а я, чего заслуживаю по этому закону
око-за-око я сам?
Ну, разве чтобы земля разверзлась у меня под ногами в маленьком таком
землетрясении -- Мы с Memere едем всю дорогу до Флориды на сером Грейхаунде,
всю эту несчастную дорогу, мебель наша едет за нами, мы находим недорогую
квартирку, с верандой выходящей на двор, и поселяемся там -- Позднее
полуденное солнце немилосердно дубасит по жестяной крыше веранды, и я
принимаю несколько холодных ванн в день, потея и умирая -- И еще я страшно
зол из-за того что мой бедный маленький племянник Малыш Люк постоянно лопает
мое Пеканское песочное печенье (печенюшки эти причина одной из крупнейших и
нелепейших ошибок в моей жизни), так что вдруг в приступе неистовой ярости я
иду и прямо-таки сажусь в автобус назад в Мексику, в Браунсвилль, через
границу в Мантаморос, и дальше, и через полтора дня я опять в Мехико-сити --
Но по крайней мере с Memere теперь все в порядке, потому что она всего в
двух кварталах от моей сестры и вроде бы ей нравится ее квартирка с
верандой, потому что там есть кухонный бар который она называет "уголок
Габи" - И поймите же вы жизнелюбивые сердца что любить это значит любить --
Хоть я и заблудился в неописуемых умственных потемках летописца душевных
историй 20-го века опять едущего непонятно зачем в потемки Мексики -- Я
всегда хотел написать книгу в оправдание кого-нибудь, потому что мне тяжело
оправдать себя, у этого путешествия нет оправданий, но может я опять увижу
старого Гэйнса -- И даже его нет уже там.
О высокоумные печальные джентльмены трубок и лондонских туманов, что ж
это стряслось с вами? Виселица на рассвете для коварного судьи в зловещем
парике? -- Я пошел искать старого Быка по старому адресу, дыра в его окне
была заделана, и я забрался по лестнице чтобы навестить свою старую комнатку
и женщин-прачек -- Молодая чистенькая испанка вселилась в мой дом и
покрасила стены набело, она сидела там среди кружев и разговаривала с моей
старой домохозяйкой, которую я спросил "Где мистер Гэйнс?" И в моей дурацкой
французской голове в сказанном ею "Senor Gaines se murio[39]" мне
послышалось "Мистер Гэйнс умертвил себя" -- Но она хотела сказать что после
моего отъезда он умер -- Ужасно услышать из уст человеческих что собрат по
страданию в конце концов умер, пожрал время скоропалительным деянием своим,
прорубил пространство своей дерзостью и умер вопреки всем запретам разума и
духа -- Вырвался наверняка -- Забрал это млечно-медовое тело свое к Господу
и даже не написал и не сказал ничего тебе -- И даже грек из лавочки на углу
сказал это, "Senor Gahr-va se murio" - Он умертвил себя -- Он, кричавший в
последний день вдогонку мне и Ирвину и Саймону когда мы убегали в Америку и
в Мир и чего ради? -- Так значит никогда более Гэйнсу Роковому не мчаться со
мною в такси в Никуда - И никогда больше не наставлять меня в искусстве
жизни и умирания --
И вот я иду в центр и снимаю номер в дорогом отеле чтобы хоть как-то
возместить себе это. Но это кошмарный Мраморный Муравейник -- Теперь после
ухода Гэйнса весь Мехико-сити это кошмарный Мраморный Муравейник -- Как же
выдерживаем мы этот бесконечный Мрак так и не узнаю никогда я -- Любовь,
Страдание и Труд это девиз нашего рода (Лебри де Кероак), но похоже
страдания мне достается больше чем всего остального -- Старый и славный Билл
наверняка на Небесах, это уж точно -- Остается только вопрос, а куда
направляется Джек? -- Назад во Флориду или в Нью-Йорк? -- К дальнейшей
пустоте? Старый Мыслитель обдумал последнюю свою мысль -- Я ложусь спать в
своей новой гостиничной комнате и вскоре все-таки засыпаю, разве могу я
сделать что-то чтобы вернуть Гэйнса к сомнительной привилегии жить? -- Он же
изо всех сил шлет мне свои благословения, но этой ночью у Джины
Лоллобриджиды[40] рождается Будда и я слышу как комната
поскрипывает, дверка шкафа скрипит туда обратно, стены стонут, вся моя
кровать колышется так что я говорю "Где это я, в море что ли?", но понимаю
что я не в море, а в Мехико-сити -- И все же комната отеля качается как
корабль -- Это мощное землетрясение раскачивает Мексику -- И как тебе
умиралось, старина? - Легко? -- Я кричу себе (как во время морской бури)
"Encore un autre petrain?[41]" и прыгаю под кровать прячусь от
рушащихся потолков, а то кто знает - Hurrican[42] разгоняется
здесь чтобы вдарить по луизианскому побережью -- Большой жилой дом на Калле
Обрегон напротив почты рушится убивая всех -- Могилы злобно щерятся под
лунными соснами -- Все кончено.
Позже я возвращаюсь в Нью-Йорк и сижу с Ирвином, Саймоном и Лазарусом,
и теперь мы уже более или менее знаменитые писатели, но они удивляются
почему я теперь так замкнут, так невосторжен хоть и сидим мы заваленные
нашими вышедшими книгами и стихами, впрочем грусть эта, поскольку живу я с
Memere в ее собственном домике в нескольких милях от города, по крайней мере
грусть умиротворенная. Тихая грусть у себя дома, вот самое лучшее что я могу
предложить миру в конечном итоге, и поэтому я сказал моим Ангелам
Одиночества прощай. Вот моя новая жизнь.
1 Администрация по организации Рабочих Мест - организация,
обеспечивавшая работой безработных во времена Великой Депрессии, обычно по
строительству дорог или подземных коммуникаций.
2 Это же неразумно (фр.).
3 in more words then one (большим количеством слов, чем одно).
4 Вся эта история будет менее понятной, если не вспомнить о том, что в
пятидесятые года был в большой моде фрейдизм, утверждающий что сын постоянно
и бессознательно ревнует мать к собственному отцу, и на этой почве у него
возникают разные болезненные заморочки.
5 Перевод неточный. В оригинале - "Go swarming in your bliss hair! Go
ratcheting after fury! Find the furies! Be historical!", жалко конечно
потерянной переклички fury-furies, но мне это оказалось не по силам.
6 Талахасси - столица штата Флориды. Panhandle Tallahassees означает
видимо освещенные пятнышки городов.
7 Мобиль - река в Алабаме.
8 Странники свободы (Freedom Riders) -- была в 1961 году в Штатах такая
организация, Конгресс за Расовое Равноправие, и они организовывали "поездки
свободы" (freedom rides), когда белые и черные активисты ездили вперемежку в
автобусах по Южным Штатам, в знак протеста против сегрегации.
9 Акадия - это французская колония (1604-1713) в северо-восточной части
Америки (на части территории штата Мэйн, а также Квебека и канадских
провинций Нова Скотия, Новый Брюнсвик и острова Принца Эдуарда). В
результате англо-французских войн все население ее (акадийцы) было
депортировано, часть во Францию, причем большинство погибло по дороге, часть
в Луизиану, где их стали называть каджуны (Cajun). Со временем их диалект
стал отличаться от канадского (Quebecois), а сейчас они и вообще почти
растворились среди англоязычных американцев.
10 Злосчастных, на искаженном французском, видимо квебекском диалекте.
11 Кантина - кафе по-испански.
12 Бедолага (фр.)
13 Здесь испанцы смешались с индейцами (фр.)
14 Бедные люди (фр.)
15 Сапата (Zapata) Эмилиано (1879-1919), руководитель крестьянского
движения в Мексиканской революции 1910-17 (Энциклопедия Кирилла и Мефодия)
16 Бери, не стесняйся, это для твоей жены (фр.)
17 Ким Новак - голливудская киноактриса.
18 Закуска (фр.), часто используется как название в ресторанном меню.
19 Игра слов dogs of the sea -- это похоже на dogfish (рыба-собака) -
одну из разновидностей акулы), а еще так обычно называют пиратов.
20 Дерьмо (исп.)
21 Pachucos - гопники-малолетки из американцев мексиканского
происхождения.
22 "In the back were still the little God-leak pots of Irwin Garden,
his tomato plants, maybe some of our lost dimes and quarters or snapshots"
Это заслуживает отдельной сноски. Один из опрошенных мною по переписке
американов пояснил все это так:
"Окей, конечно заморочка тут немалая, но весь этот пассаж может быть
замаскированным намеком на марихуану. Гарден, то есть Гинзберг собственно
говоря, был одним из главных пропагандистов травы, и как ни странно
упоминание о помидорах также не лишено для меня смысла, потому что в этой
стране, во времена первопроходцев, помидоры часто считались ядовитым
растением, хотя мы все знаем что на самом деле они совершенно безвредны.
Возможно это что-то вроде завуалированного выступления в поддержку
использования этого вещества. Выращивал ли Гинзи дома траву? Учитывая то,
под каким постоянным наблюдением он находился в те дни, сказать об этом
прямо в книге значило бы его подставить (вспомни, что многие считают что
полиция преследовала Нила Кэссиди, что в конечном итоге привело к его
аресту, именно из-за того как Дж.К. описал его в "На дороге") Dime
(десятицентовик) это порция травы (в 10 долларов ценой)... Думаю что это
выражение вполне современное, но кто знает. Может быть четвертак это
упаковка побольше, или четверть унции? И наконец, "истекающие
божественностью" это чудесное описание состояния укуренности, когда ты
чувствуешь что получаешь немного божественной власти "истекшей" к тебе от
настоящего хозяина..."
23 Секонал -- лекарство-барбитурат, используется в медицине как
снотворное или успокоительное.
24 То есть те кто мескалин потребляют, наркотик получаемый из
мексиканского кактуса.
25 Suave -- марка шампуня. По-моему сейчас и в России есть. А еще тут
может быть второй смысл "suave" -- учтивость, вежливость.
26 "Oil" по-английски "масло".
27 В оригинале было "Like after all, how do you pronounce D.O.M. when
you live in a cave?", я думал это степень ученая такая, типа "доктор
медицины", потом оказалось смешнее -- сокращение от Dirty Old Man (это вроде
"Старый пердун", из которого песок сыпется, а он все за девками бегает). Но
по-русски забавней первый вариант получается, неправильный, я его и оставил.
28 Игра слов -- "сorn" (корн) по-английски "кукуруза".
29 Пэдстоу -- старинный город-порт в северном Корнуолле. Буд --
приморский городок-курорт там же.
30 Все это очень кельтско-звучащие имена, в продолжение корнуэлльской
темы.
31 Кромлехи = долмены по-кельтски, т.е. такие древние сложенные из
камней постройки, типа как в Стоунхендже. Кистваэны это такие кромлехи (, но
в узком смысле построек -- могильников у древних кельтов.
32 Тут тоже фиг переведешь -- если английское "shovel" написать как "
shoevel", то у слова будет тоже такой кельтский привкус... Так что --
"лоапаты".
33 Коти -- индуистская мера времени.
34 Самапатти -- санскритское название одного из состояния медитативной
погруженности.
35 Тут она нарочно коверкает "Fairbrother" -- красивый брат, на
"Poorbrother" -- бедный брат.
36 Irwin Gazootsky -- это уже про Гинзберга (Ирвина Гардена), потому
что это звучит очень по-еврейски. Вообще говорят что она терпеть не могла
евреев, и это было одной из причин почему она не пускала Гинзберга в дом.
37 Главное -- это покой! (фр.)
38 По-английски это игра слов, типа: "Make yourself a haven in this
world and Heaven comes after"
39 Потому что по-французски это было бы очень похоже, "se mouru"
(умертвил себя), напоминает испанскую фразу "se murio" (умер), поэтому он и
ослышался.
40 Итальянская актриса.
41 "Опять заваруха?" (фр.)
42 Hurrican (исп.) -- ураган.
Популярность: 25, Last-modified: Tue, 08 Sep 2009 03:03:01 GmT
 Часть первая - Пустынное Одиночество
Часть вторая - Одиночество в Миру
Д ж е к К е р у а к
Часть первая - Пустынное Одиночество
Часть вторая - Одиночество в Миру
Д ж е к К е р у а к
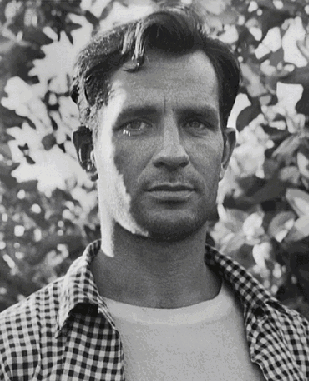
 Да, ведь в июне, добираясь автостопом до Долины Скэджит в
северо-западном Вашингтоне к месту моей работы пожарного наблюдателя, я
думал, "Заберусь вот на самый Пик Одиночества и когда все люди покинут меня
на своих мулах и останусь я совсем один то встречусь лицом к лицу с Богом
или с Татхагатой и смогу раз и навсегда понять в чем смысл существования,
страдания и всех этих бессмысленных метаний", но вместо этого я остался
лицом к лицу с самим собой, без выпивки, без наркотиков, без всякой
возможности увильнуть, но лицом к лицу с чертовым Мной - стариной Дулуозом и
бывали времена, когда мне казалось, что я умираю, сдохну со скуки или
спрыгну с вершины горы, но проходили часы, дни, а у меня все никак не
хватало духу для такого прыжка и я должен был ждать чтобы увидеть реальность
как она есть - и это произошло однажды в полдень 8-го августа когда я брел
по верхнему альпийскому дворику по узенькой дорожке протоптанной мной за те
бесчисленные разы, по нескольку за ночь, что я проходил здесь по пыли или
грязи со своей масляной лампой подвешенной внутри хижины со смотрящими на
все четыре стороны света окнами, заостренной крышей-пагодой и громоотводом,
тогда ко мне пришло это понимание, после всех слез, скрежета зубовного,
убийства мыши и попытки убийства еще одной, чего я в жизни своей прежней не
делал никогда (никогда не убивал животных, даже грызунов), оно пришло ко мне
в этих словах: "Пустоте наплевать на все высоты и падения, Господь мой
взгляни на Хозомин, разве она о чем-нибудь тревожится? разве ей бывает
страшно? Склоняется ли она перед приходом грозы, ворчит ли когда сияет
солнце или кричит во сне? Разве она способна улыбаться? Разве не была она
порождена безумным коловращением дождя и огня, а теперь стала просто Хозомин
и ничем другим? Почему я должен выбирать быть ли мне жестоким или нежным,
если Хозомин это не волнует совсем? - Почему я не могу быть подобен Хозомин
и О Пошлость О почтенная буржуазная пошлость "принимай жизнь такой как она
есть" - как сказал этот алкаш-биограф У.Е. Вудворт "единственный смысл жизни
- прожить ее" - Но О Бог мой, как это скучно! Но разве Хозомин скучает? И
мне осточертели все эти слова и объяснения. А Хозомин - устает?
Аврора Бореалис[1]
над Хозомин
Пустота еще тише
- даже Хозомин когда-нибудь расколется и распадется на куски, ничто не
вечно, а есть лишь промельк-в-том-что-суть-все, протекание-сквозь, вот оно
что происходит, зачем же задавать вопросы, рвать на себе волосы или рыдать,
неясно бубнящий пышнословный Лир севший на своего горестного конька он
просто истеричное старое трепло с развевающимися бакенбардами одураченное
шутом - быть и не быть, вот настоящий ответ - Есть ли Пустоте дело до жизни
и смерти? бывают ли у нее похороны? пироги на день рождения? почему я не
могу стать как Пустота, неистощимо плодородным, вне безмятежности, вне самой
радости, просто Стариной Джеком (и даже менее того) и начать свою жизнь с
этого мгновения (хоть ветра и дуют сквозь мое горло), Пустота - это не
трудноуловимый образ внутри хрустального шара, это сам хрустальный шар и все
мои горести не более чем глупая сетка для волос как сказано в Ланкаватара
Сутре "Смотрите, почтенные, вот изумительная скорбная сетка для волос" - Не
раскисай, Джек, пройди сквозь это, ведь все - лишь один сон, одна видимость,
одна вспышка, один грустный взгляд, одна прозрачно хрустальная тайна, одно
слово - держись, дружище, верни себе утерянную любовь к жизни, спускайся с
этой горы и просто будь - будь - твой безграничный разум может безгранично
творить, не надо объяснений, жалоб, сомнений, суждений, признаний,
изречений, искрящихся словесных бриллиантов, просто плыви, плыви, будь всем,
будь тем что есть, а есть только то что всегда есть -- слово Надежда подобно
снежному оползню - Вот Великое Знание, вот Пробуждение, вот Пустотность -
Так что закрой рот и живи, странствуй, рискуй, будь благословен и ни о чем
не сожалей - Сливы, сливы, ешь свои сливы - и ты был всегда, ты будешь
всегда, и сколько бы ни стучал ты в гневе ногой по ни в чем не виноватым
дверцам шкафа это была лишь Пустота притворяющаяся человеком притворяющимся
не знающим Пустоты -
Я вернулся в дом другим человеком.
Все, что мне оставалось сделать - это прождать 30 длинных дней чтобы
спуститься вниз со скалы и увидеть вновь радостную жизнь - помня что она ни
радостна ни печальна а просто жизнь, и поэтому -
Поэтому длинными полуднями я сижу на моем легком (парусиновом) стуле
лицом к Пустоте Хозомин, тишина висит в моей маленькой хижине, очаг мой
замер, посуда моя сверкает, дрова мои (старые отсыревшие палки и хворост,
чтобы быстро по-индейски разжечь огонек в очаге и на скорую руку приготовить
еды) мои дрова лежат грудой в углу, мои консервы ждут когда их вскроют, мои
старые треснувшие ботинки хнычут, штаны свисают, посудные полотенца висят на
стене, все мое барахло неподвижно застыло повсюду в комнате, глаза мои болят
и ветер бьется и стучится в окна и поднятые жалюзи, дневной свет постепенно
меркнет и подкрашивает Хозомин в темно-синие цвета (высвечивая ее
красноватую полоску) и мне ничего не остается делать кроме как ждать - и
дышать (а разреженным горным воздухом дышится нелегко, особенно с
приобретенной на Западном побережье одышкой) - ждать, дышать, есть, спать,
готовить еду, мыться, шагать, наблюдать, ни одного лесного пожара - и
мечтать "Чем я займусь, когда попаду во Фриско? Ну, для начала сниму
комнатку в Чайнатауне" - но еще чаще и страстнее я мечтал о том, чем я
займусь в День Отъезда, однажды одним благословенным днем раннего сентября,
- "Я пойду вниз по тропе, часа два, меня будет ждать Фил в его лодке,
доберусь до Росс Флот, заночую там, поболтаю о том о сем на кухне, и с утра
пораньше поплыву на пароме в Диабло, прямо с той маленькой пристани
(попрощаюсь с Уолтом), автостопом доеду до Мэрблмаунта, заберу заработанные
деньги, отдам долги, куплю бутылку вина, в полдень в Скэджите ее выпью и
утром следующего дня поеду в Сиэттл" - и так далее, сначала до Фриско, потом
Эл-Эй, потом Ногалес, потом Гвадалахара, потом Мексико-Сити - А застывшая
Пустота никогда никуда не двинется -
Но я сам буду Пустотой, движущейся не совершая движений.
Да, ведь в июне, добираясь автостопом до Долины Скэджит в
северо-западном Вашингтоне к месту моей работы пожарного наблюдателя, я
думал, "Заберусь вот на самый Пик Одиночества и когда все люди покинут меня
на своих мулах и останусь я совсем один то встречусь лицом к лицу с Богом
или с Татхагатой и смогу раз и навсегда понять в чем смысл существования,
страдания и всех этих бессмысленных метаний", но вместо этого я остался
лицом к лицу с самим собой, без выпивки, без наркотиков, без всякой
возможности увильнуть, но лицом к лицу с чертовым Мной - стариной Дулуозом и
бывали времена, когда мне казалось, что я умираю, сдохну со скуки или
спрыгну с вершины горы, но проходили часы, дни, а у меня все никак не
хватало духу для такого прыжка и я должен был ждать чтобы увидеть реальность
как она есть - и это произошло однажды в полдень 8-го августа когда я брел
по верхнему альпийскому дворику по узенькой дорожке протоптанной мной за те
бесчисленные разы, по нескольку за ночь, что я проходил здесь по пыли или
грязи со своей масляной лампой подвешенной внутри хижины со смотрящими на
все четыре стороны света окнами, заостренной крышей-пагодой и громоотводом,
тогда ко мне пришло это понимание, после всех слез, скрежета зубовного,
убийства мыши и попытки убийства еще одной, чего я в жизни своей прежней не
делал никогда (никогда не убивал животных, даже грызунов), оно пришло ко мне
в этих словах: "Пустоте наплевать на все высоты и падения, Господь мой
взгляни на Хозомин, разве она о чем-нибудь тревожится? разве ей бывает
страшно? Склоняется ли она перед приходом грозы, ворчит ли когда сияет
солнце или кричит во сне? Разве она способна улыбаться? Разве не была она
порождена безумным коловращением дождя и огня, а теперь стала просто Хозомин
и ничем другим? Почему я должен выбирать быть ли мне жестоким или нежным,
если Хозомин это не волнует совсем? - Почему я не могу быть подобен Хозомин
и О Пошлость О почтенная буржуазная пошлость "принимай жизнь такой как она
есть" - как сказал этот алкаш-биограф У.Е. Вудворт "единственный смысл жизни
- прожить ее" - Но О Бог мой, как это скучно! Но разве Хозомин скучает? И
мне осточертели все эти слова и объяснения. А Хозомин - устает?
Аврора Бореалис[1]
над Хозомин
Пустота еще тише
- даже Хозомин когда-нибудь расколется и распадется на куски, ничто не
вечно, а есть лишь промельк-в-том-что-суть-все, протекание-сквозь, вот оно
что происходит, зачем же задавать вопросы, рвать на себе волосы или рыдать,
неясно бубнящий пышнословный Лир севший на своего горестного конька он
просто истеричное старое трепло с развевающимися бакенбардами одураченное
шутом - быть и не быть, вот настоящий ответ - Есть ли Пустоте дело до жизни
и смерти? бывают ли у нее похороны? пироги на день рождения? почему я не
могу стать как Пустота, неистощимо плодородным, вне безмятежности, вне самой
радости, просто Стариной Джеком (и даже менее того) и начать свою жизнь с
этого мгновения (хоть ветра и дуют сквозь мое горло), Пустота - это не
трудноуловимый образ внутри хрустального шара, это сам хрустальный шар и все
мои горести не более чем глупая сетка для волос как сказано в Ланкаватара
Сутре "Смотрите, почтенные, вот изумительная скорбная сетка для волос" - Не
раскисай, Джек, пройди сквозь это, ведь все - лишь один сон, одна видимость,
одна вспышка, один грустный взгляд, одна прозрачно хрустальная тайна, одно
слово - держись, дружище, верни себе утерянную любовь к жизни, спускайся с
этой горы и просто будь - будь - твой безграничный разум может безгранично
творить, не надо объяснений, жалоб, сомнений, суждений, признаний,
изречений, искрящихся словесных бриллиантов, просто плыви, плыви, будь всем,
будь тем что есть, а есть только то что всегда есть -- слово Надежда подобно
снежному оползню - Вот Великое Знание, вот Пробуждение, вот Пустотность -
Так что закрой рот и живи, странствуй, рискуй, будь благословен и ни о чем
не сожалей - Сливы, сливы, ешь свои сливы - и ты был всегда, ты будешь
всегда, и сколько бы ни стучал ты в гневе ногой по ни в чем не виноватым
дверцам шкафа это была лишь Пустота притворяющаяся человеком притворяющимся
не знающим Пустоты -
Я вернулся в дом другим человеком.
Все, что мне оставалось сделать - это прождать 30 длинных дней чтобы
спуститься вниз со скалы и увидеть вновь радостную жизнь - помня что она ни
радостна ни печальна а просто жизнь, и поэтому -
Поэтому длинными полуднями я сижу на моем легком (парусиновом) стуле
лицом к Пустоте Хозомин, тишина висит в моей маленькой хижине, очаг мой
замер, посуда моя сверкает, дрова мои (старые отсыревшие палки и хворост,
чтобы быстро по-индейски разжечь огонек в очаге и на скорую руку приготовить
еды) мои дрова лежат грудой в углу, мои консервы ждут когда их вскроют, мои
старые треснувшие ботинки хнычут, штаны свисают, посудные полотенца висят на
стене, все мое барахло неподвижно застыло повсюду в комнате, глаза мои болят
и ветер бьется и стучится в окна и поднятые жалюзи, дневной свет постепенно
меркнет и подкрашивает Хозомин в темно-синие цвета (высвечивая ее
красноватую полоску) и мне ничего не остается делать кроме как ждать - и
дышать (а разреженным горным воздухом дышится нелегко, особенно с
приобретенной на Западном побережье одышкой) - ждать, дышать, есть, спать,
готовить еду, мыться, шагать, наблюдать, ни одного лесного пожара - и
мечтать "Чем я займусь, когда попаду во Фриско? Ну, для начала сниму
комнатку в Чайнатауне" - но еще чаще и страстнее я мечтал о том, чем я
займусь в День Отъезда, однажды одним благословенным днем раннего сентября,
- "Я пойду вниз по тропе, часа два, меня будет ждать Фил в его лодке,
доберусь до Росс Флот, заночую там, поболтаю о том о сем на кухне, и с утра
пораньше поплыву на пароме в Диабло, прямо с той маленькой пристани
(попрощаюсь с Уолтом), автостопом доеду до Мэрблмаунта, заберу заработанные
деньги, отдам долги, куплю бутылку вина, в полдень в Скэджите ее выпью и
утром следующего дня поеду в Сиэттл" - и так далее, сначала до Фриско, потом
Эл-Эй, потом Ногалес, потом Гвадалахара, потом Мексико-Сити - А застывшая
Пустота никогда никуда не двинется -
Но я сам буду Пустотой, движущейся не совершая движений.
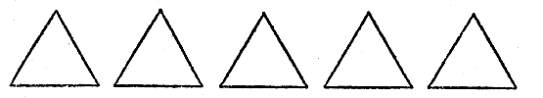 КТО ЧТО ЗАЧЕМ КОГДА ИЛИАТО РAT
КТО ЧТО ЗАЧЕМ КОГДА ИЛИАТО РAT
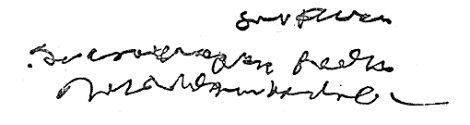 После никогда не случилось Вот все что есть в том чего нет - Бумм
Вверху в долине
и внизу у горы
Птица - Про-снись! Про-снись! Про-снись! Про- Проснись проснись
проснись ПРОСНУЛАСЬ
ПРОСНУЛАСЬ ПРОСНУЛАСЬ
ПРОСНУЛАСЬ
СЕЙЧАС
Вот мудрость
тысячелетней крысы
- Отличного экземпляра, прекрасной териоморфной[19]
Крысы
тьма тьма тьма тьма взмах взмах взмах взмах тьма тьма тьма тьма
взмах взмах взмах взмах
тьма тьма тьма тьма
взмах взмах взмах
После никогда не случилось Вот все что есть в том чего нет - Бумм
Вверху в долине
и внизу у горы
Птица - Про-снись! Про-снись! Про-снись! Про- Проснись проснись
проснись ПРОСНУЛАСЬ
ПРОСНУЛАСЬ ПРОСНУЛАСЬ
ПРОСНУЛАСЬ
СЕЙЧАС
Вот мудрость
тысячелетней крысы
- Отличного экземпляра, прекрасной териоморфной[19]
Крысы
тьма тьма тьма тьма взмах взмах взмах взмах тьма тьма тьма тьма
взмах взмах взмах взмах
тьма тьма тьма тьма
взмах взмах взмах

 маленьких бьющихся сердец - Я закрываю все свои
ставни по всем четырем сторонам света и сижу в темном доме, только одна
дверь остается открытой, и я замечаю как ярок и тепел солнечный свет и
воздух, и мне кажется, что тьма выдавливает меня сквозь последнее ведущее в
мир отверстие - Это мой последний полдень, я сижу и думаю об этом,
интересно, что чувствуют заключенные в последний день 20-летнего срока - Я
могу лишь сидеть и пытаться вобрать в себя все это - Шест анемометра сложен,
все уложено, мне осталось только забросать мусорную яму, вымыть кастрюли и
до-свидания, оставив радио завернутым в ткань, засунув под дом антенну и
присыпав известкой туалет - Каким печальным выглядит мое дочерна загоревшее
лицо в затемненном закрытыми ставнями окне, очертания его напоминают мне о
том что полжизни прожито, это уже почти зрелый возраст, разложение и страсти
готовы привести меня к сладкой победе золотой бесконечности - Полнейшая
тишина, безветренный полдень, маленькие пихты высохли и покоричневели, их
летнее рождество окончено и теперь уж скоро бури покроют инеем и завьюжат
всю округу - И не станут тикать ни одни часы, не станет тосковать ни один
человек и пребудут молчаливыми снег и погребенные им камни, а Хозомин как
всегда будет неясно вырисовываться и грустить беспечально - Прощай, Пик
Одиночества, ибо познал ты меня как есмь - Да парят ангелы неродившиеся и
ангелы погибшие над тобою подобны облаку и окропляют тебя подношениями
золотых вечных цветов - Текущее сквозь все протекло теперь и через меня и
через этот мой карандаш и больше нечего добавить - Маленькие пихты скоро
станут большими - Я бросаю последнюю консервную банку вниз по крутому склону
и слышу как она грохочет весь путь в 1500 футов и это опять напоминает мне
(из-за большой свалки консервных банок накопившихся от смотрителей за
пятнадцать лет) о великой лоуэлловской свалке на которой мы играли по
субботам среди ржавых автомобильных останков и куч смердящего мусора и
считали это великолепным, все это включая старые горделивые авто с
изуродованными проржавевшими сцеплениями валяющиеся под боком
суперсовременной с иголочки автострады проложенной от самого центра вокруг
бульвара и до Лоуренса - последнее одинокое позвякивание моих консервов
Одиночества в безлюдной долине, которому, обнаженный, внемлю с
удовлетворением -- В таком далеком далеком отсюда начале времен было
смерчеподобное пророчество гласившее что все мы плача будем сметены и
унесены как щепки - Люди с усталыми глазами уже понимают это и ждут
наступления бесформенности и распада - и все же может быть сила любви в их
сердцах не ослабла и осталась той же, просто я не знаю больше что означает
это слово - все что мне нужно сейчас это порция мороженого
маленьких бьющихся сердец - Я закрываю все свои
ставни по всем четырем сторонам света и сижу в темном доме, только одна
дверь остается открытой, и я замечаю как ярок и тепел солнечный свет и
воздух, и мне кажется, что тьма выдавливает меня сквозь последнее ведущее в
мир отверстие - Это мой последний полдень, я сижу и думаю об этом,
интересно, что чувствуют заключенные в последний день 20-летнего срока - Я
могу лишь сидеть и пытаться вобрать в себя все это - Шест анемометра сложен,
все уложено, мне осталось только забросать мусорную яму, вымыть кастрюли и
до-свидания, оставив радио завернутым в ткань, засунув под дом антенну и
присыпав известкой туалет - Каким печальным выглядит мое дочерна загоревшее
лицо в затемненном закрытыми ставнями окне, очертания его напоминают мне о
том что полжизни прожито, это уже почти зрелый возраст, разложение и страсти
готовы привести меня к сладкой победе золотой бесконечности - Полнейшая
тишина, безветренный полдень, маленькие пихты высохли и покоричневели, их
летнее рождество окончено и теперь уж скоро бури покроют инеем и завьюжат
всю округу - И не станут тикать ни одни часы, не станет тосковать ни один
человек и пребудут молчаливыми снег и погребенные им камни, а Хозомин как
всегда будет неясно вырисовываться и грустить беспечально - Прощай, Пик
Одиночества, ибо познал ты меня как есмь - Да парят ангелы неродившиеся и
ангелы погибшие над тобою подобны облаку и окропляют тебя подношениями
золотых вечных цветов - Текущее сквозь все протекло теперь и через меня и
через этот мой карандаш и больше нечего добавить - Маленькие пихты скоро
станут большими - Я бросаю последнюю консервную банку вниз по крутому склону
и слышу как она грохочет весь путь в 1500 футов и это опять напоминает мне
(из-за большой свалки консервных банок накопившихся от смотрителей за
пятнадцать лет) о великой лоуэлловской свалке на которой мы играли по
субботам среди ржавых автомобильных останков и куч смердящего мусора и
считали это великолепным, все это включая старые горделивые авто с
изуродованными проржавевшими сцеплениями валяющиеся под боком
суперсовременной с иголочки автострады проложенной от самого центра вокруг
бульвара и до Лоуренса - последнее одинокое позвякивание моих консервов
Одиночества в безлюдной долине, которому, обнаженный, внемлю с
удовлетворением -- В таком далеком далеком отсюда начале времен было
смерчеподобное пророчество гласившее что все мы плача будем сметены и
унесены как щепки - Люди с усталыми глазами уже понимают это и ждут
наступления бесформенности и распада - и все же может быть сила любви в их
сердцах не ослабла и осталась той же, просто я не знаю больше что означает
это слово - все что мне нужно сейчас это порция мороженого
 Перевод: Миша Шараев, tralala@yandex.ru
Перевод: Миша Шараев, tralala@yandex.ru

 которых осталась горестная отметина там где когда-то
была нашивка POW[123] оставшаяся от ее корейской предыстории (я купил эту
куртку в Эль Пасо в одной из чудных индейских лавчонок торгующих всякой
всячиной) -- и он смотрит, похоже сравнивая меня в моем городском прикиде и
в экипировке для ночных поездок на товарняках -- Хотелось бы знать что он
думает обо мне -- Куча заботливых пояснений и указаний. Он хочет чтобы я
запрыгнул на поезд со стороны пожарного навеса, но мне неохота пересекать
шесть или семь путей чтобы попасть на главную колею (откуда его будут
перекидывать на нужный путь) -- "Я запутаюсь там в темноте -- лучше пойду на
инженерную сторону". У нас с ним старый спор о том как надо действовать на
железной дороге, он придерживается своей разработанной долгим опытом и
точной как лезвие бритвы оклахомской логике основанной на воображаемых
страхах, а я совершаю свои глупые беспечные промахи основанные на
канукских[124] представлениях о безопасности --
"Но тебя ж увидят на инженерной стороне, парень, под тем вон
здоровенным фонарем ты точняк засветишься!"
"А я спрячусь между вагонами"
"Нет -- пошли внутрь"
И как в те старые времена когда он промышлял угоном машин, Коди,
заслуженный работник компании, пробирается в пустой вагон, оглядывается по
сторонам как вор чтобы его никто не заметил, бледное лицо в полной темноте
-- мне же неохота затаскивать внутрь свой рюкзак и поэтому я стою между
вагонами и жду -- Он шепчет мне из темного окна:
"ПРЯЧЬСЯ ЧТОБ ТЕБЯ НЕ УВИДЕЛИ, ВСЕ ВРЕМЯ ПРЯЧЬСЯ!"
Внезапно через пути недалеко от нас между вагонами пролезает обходчик с
зеленой лампой, подавая ей сигнал, локомотив взрывается тарахтением БАУ БАУ
и вдруг большой круг желтого света светит прямо на меня и я дрожа пытаюсь
спрятаться в тень, Коди таки запугал меня -- вместо того чтобы выпить с ним
раньше глоток виски, я воздержался напомнив себе правило: "Никогда не пей на
работе", на полном серьезе имея под работой ввиду хватание за движущиеся
поручни и вскарабкивание с тяжеленным рюкзаком на неудобную платформу, если
бы я немного выпил то сейчас не трясся б мелкой дрожью -- Обходчик видит
меня, и опять испуганный шепот Коди:
"СПРЯЧЬСЯ ЧТОБ ОН ТЕБЯ НЕ УВИДЕЛ!"
и обходчик кричит:
"Что, попал в передрягу?" что можно понять как или "Напряг с деньгами,
поэтому на товарняк лезешь?" или "Полиции боишься и поэтому прячешься?", но
я не раздумывая кричу на одном дыхании "Ага -- нормально?" и обходчик сразу
же отвечает:
"Поря-адок"
Потом, когда большой поезд медленно заворачивает на главный путь сияя
еще ослепительней я продолжаю разговор крича "Прям тут и залезу", желая
показать обходчику что я всего лишь обычный хороший болтливый парень и не
собираюсь взламывать двери вагонов и портить обшивку -- Коди не издает ни
звука, притаившись в темном окне вагона, скорее всего лежа на полу --
Он говорит мне "Джек для надежности пережди двадцать вагонов, если
залезть слишком близко к локомотиву то задохнешься в маргитских туннелях
надышавшись выхлопных газов" но пока я жду эти двадцать вагонов мне
становится страшно, потому что ускорение растет, они громыхают все быстрее,
и уже на шестом или седьмом я выскакиваю из своего укрытия, пережидаю еще
парочку, сердце колотится, потом несколько раз для пробы примеряюсь к
проплывающим мимо стальным ночным ступенькам (о Господь отцов наших, как же
холодна видимость вещей!) и в конце концов начинаю бежать, рысцой, догоняю
передний поручень, хватаюсь за него и бегу вровень, испуганный, тяжело
дышащий, и вталкиваю себя на платформу одним изящным легким
совсем-не-страшным-пробуждающим-из-кошмара смехотворным усилием и вот я
здесь, стою на платформе и машу рукой назад невидимому Коди, машу долго
чтобы он точно мог увидеть что у меня все в порядке, и поэтому я машу опять
и опять, и еще это чтобы сказать до свидания старина Коди...
- И все наши страхи напрасны и подобны сну, так сказал Господь, -- и
когда-нибудь так же нестрашно мы умрем -
Всю ночь двигаясь на юг вдоль Побережья я пью свой виски и пою звездам,
вспоминая свои прошлые жизни когда я был узником в темницах, и вот теперь я
на свободе -- дальше, дальше, как пророчествовал я в своих песнях
Одиночества, через дымные туннели где красная бандана на носу защищает меня,
и дальше в Обиспо, где обалденные бродяги-негры невозмутимо покуривают
сигареты сидя в кабинах грузовиков стоящих на следующей после моей платформе
прямо на виду у всех! Бедняга Коди! И бедный я! В Эл-Эй[125] где, умывшись
утром водой капающей из вагона-рефрижератора и дотопав до города, я в конце
концов покупаю билет и становлюсь единственным пассажиром автобуса
отъезжающего в Аризону, и мой пустынный сон в дороге и моя приближающаяся
Мексика, вдруг с нами равняется другой автобус, я смотрю и вижу двадцать
молодых людей, сидящих вместе с вооруженными охранниками, по пути в тюрьму,
двое из них оборачиваются и видят меня, и единственное что я могу сделать
для них, это медленно поднять руку и медленно махнуть ей приветствуя, и
увидеть как они медленно улыбаются в ответ --
Пик Одиночества, чего ж еще тебе нужно?
которых осталась горестная отметина там где когда-то
была нашивка POW[123] оставшаяся от ее корейской предыстории (я купил эту
куртку в Эль Пасо в одной из чудных индейских лавчонок торгующих всякой
всячиной) -- и он смотрит, похоже сравнивая меня в моем городском прикиде и
в экипировке для ночных поездок на товарняках -- Хотелось бы знать что он
думает обо мне -- Куча заботливых пояснений и указаний. Он хочет чтобы я
запрыгнул на поезд со стороны пожарного навеса, но мне неохота пересекать
шесть или семь путей чтобы попасть на главную колею (откуда его будут
перекидывать на нужный путь) -- "Я запутаюсь там в темноте -- лучше пойду на
инженерную сторону". У нас с ним старый спор о том как надо действовать на
железной дороге, он придерживается своей разработанной долгим опытом и
точной как лезвие бритвы оклахомской логике основанной на воображаемых
страхах, а я совершаю свои глупые беспечные промахи основанные на
канукских[124] представлениях о безопасности --
"Но тебя ж увидят на инженерной стороне, парень, под тем вон
здоровенным фонарем ты точняк засветишься!"
"А я спрячусь между вагонами"
"Нет -- пошли внутрь"
И как в те старые времена когда он промышлял угоном машин, Коди,
заслуженный работник компании, пробирается в пустой вагон, оглядывается по
сторонам как вор чтобы его никто не заметил, бледное лицо в полной темноте
-- мне же неохота затаскивать внутрь свой рюкзак и поэтому я стою между
вагонами и жду -- Он шепчет мне из темного окна:
"ПРЯЧЬСЯ ЧТОБ ТЕБЯ НЕ УВИДЕЛИ, ВСЕ ВРЕМЯ ПРЯЧЬСЯ!"
Внезапно через пути недалеко от нас между вагонами пролезает обходчик с
зеленой лампой, подавая ей сигнал, локомотив взрывается тарахтением БАУ БАУ
и вдруг большой круг желтого света светит прямо на меня и я дрожа пытаюсь
спрятаться в тень, Коди таки запугал меня -- вместо того чтобы выпить с ним
раньше глоток виски, я воздержался напомнив себе правило: "Никогда не пей на
работе", на полном серьезе имея под работой ввиду хватание за движущиеся
поручни и вскарабкивание с тяжеленным рюкзаком на неудобную платформу, если
бы я немного выпил то сейчас не трясся б мелкой дрожью -- Обходчик видит
меня, и опять испуганный шепот Коди:
"СПРЯЧЬСЯ ЧТОБ ОН ТЕБЯ НЕ УВИДЕЛ!"
и обходчик кричит:
"Что, попал в передрягу?" что можно понять как или "Напряг с деньгами,
поэтому на товарняк лезешь?" или "Полиции боишься и поэтому прячешься?", но
я не раздумывая кричу на одном дыхании "Ага -- нормально?" и обходчик сразу
же отвечает:
"Поря-адок"
Потом, когда большой поезд медленно заворачивает на главный путь сияя
еще ослепительней я продолжаю разговор крича "Прям тут и залезу", желая
показать обходчику что я всего лишь обычный хороший болтливый парень и не
собираюсь взламывать двери вагонов и портить обшивку -- Коди не издает ни
звука, притаившись в темном окне вагона, скорее всего лежа на полу --
Он говорит мне "Джек для надежности пережди двадцать вагонов, если
залезть слишком близко к локомотиву то задохнешься в маргитских туннелях
надышавшись выхлопных газов" но пока я жду эти двадцать вагонов мне
становится страшно, потому что ускорение растет, они громыхают все быстрее,
и уже на шестом или седьмом я выскакиваю из своего укрытия, пережидаю еще
парочку, сердце колотится, потом несколько раз для пробы примеряюсь к
проплывающим мимо стальным ночным ступенькам (о Господь отцов наших, как же
холодна видимость вещей!) и в конце концов начинаю бежать, рысцой, догоняю
передний поручень, хватаюсь за него и бегу вровень, испуганный, тяжело
дышащий, и вталкиваю себя на платформу одним изящным легким
совсем-не-страшным-пробуждающим-из-кошмара смехотворным усилием и вот я
здесь, стою на платформе и машу рукой назад невидимому Коди, машу долго
чтобы он точно мог увидеть что у меня все в порядке, и поэтому я машу опять
и опять, и еще это чтобы сказать до свидания старина Коди...
- И все наши страхи напрасны и подобны сну, так сказал Господь, -- и
когда-нибудь так же нестрашно мы умрем -
Всю ночь двигаясь на юг вдоль Побережья я пью свой виски и пою звездам,
вспоминая свои прошлые жизни когда я был узником в темницах, и вот теперь я
на свободе -- дальше, дальше, как пророчествовал я в своих песнях
Одиночества, через дымные туннели где красная бандана на носу защищает меня,
и дальше в Обиспо, где обалденные бродяги-негры невозмутимо покуривают
сигареты сидя в кабинах грузовиков стоящих на следующей после моей платформе
прямо на виду у всех! Бедняга Коди! И бедный я! В Эл-Эй[125] где, умывшись
утром водой капающей из вагона-рефрижератора и дотопав до города, я в конце
концов покупаю билет и становлюсь единственным пассажиром автобуса
отъезжающего в Аризону, и мой пустынный сон в дороге и моя приближающаяся
Мексика, вдруг с нами равняется другой автобус, я смотрю и вижу двадцать
молодых людей, сидящих вместе с вооруженными охранниками, по пути в тюрьму,
двое из них оборачиваются и видят меня, и единственное что я могу сделать
для них, это медленно поднять руку и медленно махнуть ей приветствуя, и
увидеть как они медленно улыбаются в ответ --
Пик Одиночества, чего ж еще тебе нужно?
 Вот такая вот книжка. Пожалуйста, не считайте только это литературой,
ладно? А то при слове литература становится как-то не по себе, и по моему
это все не о том. Потому что все это было. И не имеет никакого отношения ни
к тому, как жить надо, и к тому как жить не надо, потому что и то и другое
глупость. Просто каждый по жизни ищет свой чистяк, и Джек Керуак искал свой
так -- смотрите сами, близко это вам, или нет. Но в любом случае, спасибо
ему -- мне это помогло жить погрузившись во все эти дела шесть месяцев, пока
я переводил (иногда поднимая голову, я не сразу понимал где я и что к чему),
и может быть поможет вам погрузиться туда же на денек-другой, пока будете
читать. Больше сказать нечего, в книжке все есть. И все-таки жалко, что она
местами такая печальная.
Традиционные, но искренние благодарности -- Алику и Оле, которые
позволили мне и еще целой толпе народу прожить у них полгода, спасибо
правительству Франции, за его бюрократию, которая позволила мне проболтаться
эти полгода в Нанте и не отвлекаться ни на что, спасибо благотворительной
организации Restaurant Du Coeur, которая давала бесплатную еду, спасибо куче
неизвестных мне совершенно американцев, (Augustine Touloupis, Bhajan Peter,
Brajan Block, Butterfly Bill, Hawker, James McGill, Leaf Star, Martha Kerlin
Reynolds, Phreely Phlying (ну этого перца я знаю, Рэйнбоу-папа Билл, хе-хе),
The Reeds, Willie Watson, Dennis, Carla) которые отвечали на мои отчаянные
письма, большая часть всех этих разъясняющих сносок возникла благодаря им,
спасибо Ане Герасимовой, которая взяла да и со всеми договорилась (уже
второй раз в моей жизни), и очень поддержала письмами о том как ей этот
перевод понравился, ну и Московской Библиотеке Иностранной Литературы, из
которой я эту книгу украл в 1994 году (приеду в Москву, отдам).
Удачи и радости,
Миша Шараев tralala@yandex.ru
-------------------------
Вот такая вот книжка. Пожалуйста, не считайте только это литературой,
ладно? А то при слове литература становится как-то не по себе, и по моему
это все не о том. Потому что все это было. И не имеет никакого отношения ни
к тому, как жить надо, и к тому как жить не надо, потому что и то и другое
глупость. Просто каждый по жизни ищет свой чистяк, и Джек Керуак искал свой
так -- смотрите сами, близко это вам, или нет. Но в любом случае, спасибо
ему -- мне это помогло жить погрузившись во все эти дела шесть месяцев, пока
я переводил (иногда поднимая голову, я не сразу понимал где я и что к чему),
и может быть поможет вам погрузиться туда же на денек-другой, пока будете
читать. Больше сказать нечего, в книжке все есть. И все-таки жалко, что она
местами такая печальная.
Традиционные, но искренние благодарности -- Алику и Оле, которые
позволили мне и еще целой толпе народу прожить у них полгода, спасибо
правительству Франции, за его бюрократию, которая позволила мне проболтаться
эти полгода в Нанте и не отвлекаться ни на что, спасибо благотворительной
организации Restaurant Du Coeur, которая давала бесплатную еду, спасибо куче
неизвестных мне совершенно американцев, (Augustine Touloupis, Bhajan Peter,
Brajan Block, Butterfly Bill, Hawker, James McGill, Leaf Star, Martha Kerlin
Reynolds, Phreely Phlying (ну этого перца я знаю, Рэйнбоу-папа Билл, хе-хе),
The Reeds, Willie Watson, Dennis, Carla) которые отвечали на мои отчаянные
письма, большая часть всех этих разъясняющих сносок возникла благодаря им,
спасибо Ане Герасимовой, которая взяла да и со всеми договорилась (уже
второй раз в моей жизни), и очень поддержала письмами о том как ей этот
перевод понравился, ну и Московской Библиотеке Иностранной Литературы, из
которой я эту книгу украл в 1994 году (приеду в Москву, отдам).
Удачи и радости,
Миша Шараев tralala@yandex.ru
-------------------------