---------------------------------------------------------------
L'ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Перевод Марии Ватсон (1907)
Origin: http://az.lib.ru/s/serwantessaawedra_m_d/text_1907_don_quijote-1.shtml
---------------------------------------------------------------
Полный перевод с испанского М.В.Ватсон(с примечаниями и биографическим очерком)
Текст в современной орфографии воспроизводится по изданию: Сервантес
Сааведра Мигель де. Остроумно-изобретательный идальго Дон Кихот Ламанчский.
-- СПб.: Ф. Ф. Павленков, 1907
Иллюстрации Гюстава Доре воспроизводятся по изданию:
Miguel de Cervantes Saavedra. L'ingunieux hidalgo don Quichotte de la
Manche. -- Paris: Librairie de L. Hachette et Cle, 1863
---------------------------------------------------------------
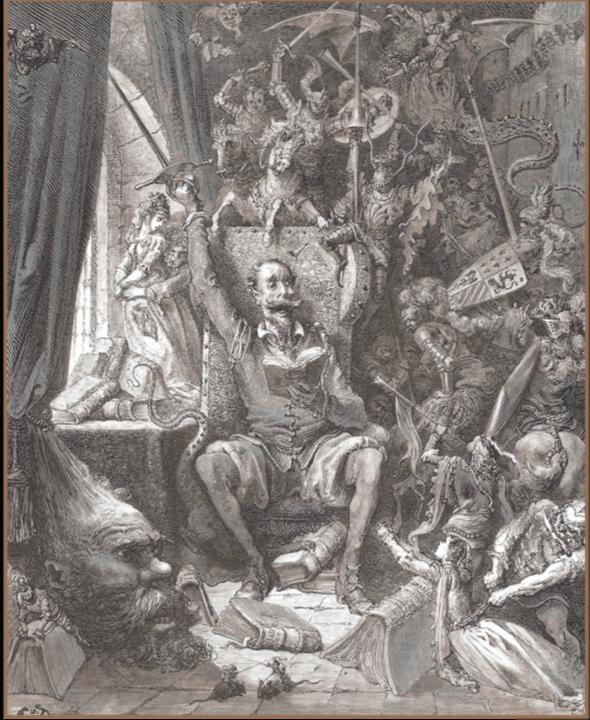 ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ
СОЧИНЕНИЕ МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА СААВЕДРА
ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ
СОЧИНЕНИЕ МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА СААВЕДРА
 Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ТОМ ПЕРВЫЙ
ПРОЛОГ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
ГЛАВА I, в которой идет речь об образе жизни и занятиях знаменитого
идальго Дон Кихота Ламанчского
ГЛАВА II, в которой речь о первом выезде изобретательного Дон Кихота из
родного местечка
ГЛАВА III, в которой рассказывается, к какому забавному способу
прибегнул Дон Кихот, чтобы быть посвященным в рыцари
ГЛАВА IV. Что случилось с нашим рыцарем, когда он уехал с постоялого
двора
ГЛАВА V. Продолжение рассказа о злоключениях нашего рыцаря
ГЛАВА VI. Об искусном и великом следствии, произведенном священником и
цирюльником в библиотеке нашего остроумного идальго
ГЛАВА VII. О втором выезде нашего доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского
ГЛАВА VIII. О великой удаче доблестного Дон Кихота в ужасающем и
невообразимом приключении с ветряными мельницами и о разных других событиях,
достойных сохраниться в памяти
ГЛАВА IX, в которой сообщается конец и исход изумительной битвы между
отважным бискайцем и храбрым ламанчцем
ГЛАВА X. Остроумные разговоры, которые вели Дон Кихот и его оруженосец
Санчо Панса
ГЛАВА XI. О том, что приключилось с Дон Кихотом у козопасов
ГЛАВА XII. О том, что рассказал козопас своим товарищам, бывшим с Дон
Кихотом
ГЛАВА XIII, в которой оканчивается рассказ о пастушке Марселе и
сообщается о других событиях
ГЛАВА XIV, в которой приводится исполненное отчаяния стихотворение
умершего пастуха и рассказываются и другие неожиданные события
ГЛАВА XV, в которой рассказывается о несчастном приключении,
случившемся с Дон Кихотом при встрече с несколькими злобными янгуэсами
ГЛАВА XVI. О том, что случилось с остроумно-изобретательным идальго на
постоялом дворе, который он принял за замок
ГЛАВА XVII. Дальнейшее повествование о бесчисленных невзгодах, которые
пришлось претерпеть мужественному Дон Кихоту и доброму его оруженосцу Санчо
Пансе на постоялом дворе, принятом рыцарем, к несчастью его, за замок
ГЛАВА XVIII, в которой передается о разговоре Санчо Пансы с его
господином Дон Кихотом и о других приключениях, заслуживающих быть
рассказанными
ГЛАВА XIX. О мудром разговоре, который Санчо вел со своим господином, о
приключении с мертвым телом и о других замечательных событиях
ГЛАВА XX. О невиданном и неслыханном приключении, доведенном до конца
храбрым Дон Кихотом Ламанчским с меньшей опасностью, чем приключение,
совершенное кем-либо из других прославленных на свете рыцарей
ГЛАВА XXI, в которой идет речь о славном приключении -- богатой добыче
шлема Мамбрино -- и других событиях, случившихся с непобедимым нашим рыцарем
ГЛАВА XXII. О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых
против их воли вели туда, куда у них не было желания идти
ГЛАВА XXIII. О том, что случилось со знаменитым Дон Кихотом в
Сьерра-Морене,-- одно из самых редкостных приключений, рассказанных в этой
правдивой истории
ГЛАВА XXIV, в которой продолжается приключение в Сьерра-Морене
ГЛАВА XXV, в которой рассказывается о странных вещах, приключившихся с
доблестным рыцарем Ламанчским в Сьерра-Морене, и о том, как он подражал
покаянию Бельтенеброса
ГЛАВА XXVI. Продолжение изящных проделок, совершенных Дон Кихотом в
качестве влюбленного в Сьерра-Морене
ГЛАВА XXVII. О том, как священник и цирюльник выполнили свое намерение,
и о других вещах, заслуживающих быть рассказанными в этой великой истории
ГЛАВА XXVIII. Неожиданное и приятное приключение, случившееся со
священником и цирюльником в той же Сьерра-Морене
ГЛАВА XXIX, в которой рассказывается о забавной уловке и хитрости,
предпринятых с целью освободить влюбленного нашего рыцаря от столь суровой
эпитимии, наложенной им на себя
ГЛАВА XXX, в которой рассказывается о находчивости прекрасной Доротеи и
о других забавных и увеселительных вещах
ГЛАВА XXXI. О приятном разговоре, происходившем между Дон Кихотом и его
оруженосцем Санчо Пансой, а также и о других событиях
ГЛАВА XXXII, в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом
дворе со спутниками Дон Кихота
ГЛАВА XXXIII, в которой рассказывается повесть о Безрассудно-любопытном
ГЛАВА XXXIV, в которой продолжается рассказ о Безрассудно-любопытном
ГЛАВА XXXV, в которой рассказывается о жестокой и необычайной битве Дон
Кихота с несколькими бурдюками красного вина и оканчивается повесть о
Безрассудно-любопытном
ГЛАВА XXXVI, в которой рассказывается о других редкостных событиях,
случившихся на постоялом дворе
ГЛАВА XXXVII, в которой продолжается история знаменитой принцессы
Микомиконы и говорится о других забавных приключениях
ГЛАВА XXXVIII, в которой приведена любопытная речь, произнесенная Дон
Кихотом по поводу оружия и словесных наук
ГЛАВА XXXIX, в которой пленник рассказывает о своей жизни и
приключениях
ГЛАВА XL, в которой продолжается история пленника
ГЛАВА XLI, в которой пленник продолжает свой рассказ
ГЛАВА XLII, в которой сообщается о том, что еще произошло на постоялом
дворе, и о многих других вещах, заслуживающих быть рассказанными
ГЛАВА XLIII, в которой рассказывается занимательная история молодого
погонщика мулов и другие странные происшествия, случившиеся на постоялом
дворе
ГЛАВА XLIV, в которой продолжаются неслыханные приключения на постоялом
дворе
ГЛАВА XLV, в которой окончательно разъясняются сомнения по поводу шлема
Мамбрино и вьючного седла, а также рассказывается и о других истинных
происшествиях
ГЛАВА XLVI, о замечательном приключении с куадрильеросами и о великой
ярости нашего доброго рыцаря Дон Кихота
ГЛАВА XLVII. О странном способе, с помощью которого Дон Кихот был
очарован, и о других замечательных событиях
ГЛАВА XLVIII, в которой каноник продолжает высказываться по поводу
рыцарских книг и других тем, достойных острого его ума
ГЛАВА XLIX, где сообщается о рассудительном разговоре, который Санчо
вел со своим господином Дон Кихотом
ГЛАВА L. Об остроумном споре Дон Кихота с каноником и о других событиях
ГЛАВА LI, в которой сообщается о том, что рассказал козопас всем тем,
кто увозил Дон Кихота
ГЛАВА LII. О ссоре Дон Кихота с козопасом и о редкостном приключении с
бичующимися, счастливо завершенном рыцарем в поте своего лица
Перевод наш сделан с испанского текста, признанного в настоящее время
наиболее критическим и достоверным, а именно с текста, изданного в 1898 г.
членом Испанской академии наук, известным знатоком и исследователем в
области испанской литературы -- англичанином Фицморисом-Келли. Новое издание
было встречено в Испании очень сочувственно и вызвало большие похвалы со
стороны таких авторитетных писателей, как, например, выдающегося
беллетриста, поэта и философа дона Хуана Валера и ученейшего профессора --
теперь директора Национальной библиотеки в Мадриде -- дона Марселино
Менендес-и-Пеляйо. И наш русский сервантист, профессор Шепелевич, в своей
монографии ""Дон Кихот" Сервантеса" (1903) тоже приходит к заключению, что
издание Фицмориса-Келли "внушает более доверия, чем все другие", и что "оно
дает нам текст, свободный от ненужных вставок, исправлений, произвола
редакторов и критиков".
До появления издания Фицмориса-Келли критическим текстом "Дон Кихота"
признавалось издание Испанской Королевской академии; но авторитет его был
поколеблен упомянутым изданием, в основу которого положено editio princeps
{Вставные эпизоды других издании указаны в примечаниях внизу страниц.}, т.
е. первое мадридское издание "Дон Кихота" 1605 года; а Испанская академия,
приступившая к своему изданию в 1780 г. и выпустившая "Дон Кихота" четвертым
изданием в 1814 г., не знала, по-видимому, о существовании двух мадридских
изданий 1605 г. и ошибочно считала второе издание первым. Между тем это
второе издание -- которое, как и первое, печаталось издателем Сервантеса,
Франциском Роблесом, в типографии Хуана де ля Куэст, -- подверглось
исправлениям, изменениям, или, вернее говоря, искажениям, и даже некоторым
интерполяциям или вставкам, без всякого участия самого Сервантеса, которого,
по имеющимся данным, в то время не было в Мадриде. Как на яркий пример
вставок Фицморис-Келли указывает на эпизод похищения осла у Санчо Пансы
Хинесом де Пасамонте[1] (см. главу 23), а затем, несколькими строками ниже,
оказывается, что Санчо Панса снова как ни в чем не бывало едет себе на своем
осле. В editio princeps нет этой вставки и потому нет и такого
несоответствия. О краже осла здесь упоминается -- и то лишь вскользь --
только в главе 25, а во второй части "Дон Кихота", в главе 3, Сан-сон
Карраско упрекает автора в забывчивости и в том, что публике осталось
неизвестным, кто украл у Санчо осла, и только после этого, в главе 4, Санчо
сообщает, что осла украл у него Хинес де Пасамонте и как он это сделал.
Таким образом, издание Фицмориса-Келли, устраняя многие произвольные
изменения и искажения текста, тем самым снимает с Сервантеса обвинение в
противоречиях, забывчивости, рассеянности и в пренебрежительном отношении к
собственному труду. Столь распространенное мнение о будто бы "гениальной
поспешности", с которой писал Сервантес, совершенно ни на чем не основано.
Прежде всего, он сам в своих вступительных стихах к "Дон Кихоту" (Урганда к
книге Д. К.) говорит, что "умный писатель идет не спеша в своих
произведениях, а словно на ногах свинец привешен"; затем известно, что
Сервантес, собственно говоря, написал не так много, сочинения его появлялись
через значительные промежутки и притом тщательно исправлялись им, как это
доказывается выписками из черновых тетрадей "El Celoso extremeno" (Ревнивый
эстремадурец) и "Rinconeteу Cortadillo". Какая тут разница между первой и
окончательной редакцией! Если когда-нибудь удастся найти автограф рукописи
"Дон Кихота", весьма вероятно, что нас и здесь ждет такого же рода сюрприз.
За последнее время в Испании готовится новый критический текст "Дон
Кихота" {Primera edition critica con variantes, notas y el diccionario de
todas las palabras, usadas en la inmortal novela por Don ClИmente CortejТn.
Madrid, 1905.}, издаваемый барселонским профессором литературы доном
Клементе Кортехоном, с множеством вариантов, очень ценными примечаниями и
словарем всех слов, употребленных в бессмертном произведении Сервантеса. Но,
к сожалению, этот монументальный труд только что "зародился" -- если можно
так выразиться, -- и у нас в руках лишь первый его том, заключающий в себе,
кроме предисловия, только 14 глав текста "Дон Кихота".
Покончив с необходимыми объяснениями относительно испанского текста,
избранного нами для перевода "Дон Кихота", считаем не лишним сказать
несколько слов и по поводу самого перевода. Нимало не обольщая себя
надеждой, что в нашем переводе бессмертного произведения мы сумели сохранить
его -- если можно так выразиться -- тонкий аромат, который неизбежно
теряется при всякой передаче на другой язык, или что нам удалось овладеть
изяществом слога оригинала и передать на русский язык всю богатую струю
юмора Сервантеса, игру слов, всякие намеки, полунамеки и т. д. в "Дон
Кихоте", мы, -- следуя указанию самого Сервантеса: переводить, "ничего не
выпуская и ничего не добавляя" (часть I, глава 9), придерживались как можно
ближе и точнее текста и даже, где это не противоречило русскому языку,
передавали его дословно, стараясь везде сохранить и местный колорит, и
малейшие оттенки. Не сомневаемся, что у нас найдется достаточно промахов и
ошибок, без которых едва ли может обойтись подобного рода труд, и будем
очень признательны за всякие обоснованные указания таких промахов и ошибок.
Но одно мы твердо знаем: неповинны мы в том, что, на наш взгляд, было бы
тягчайшим преступлением против Сервантеса и против читающей публики, а
именно: разукрашивать оригинал собственной фантазией, стараться низвести
пафос и юмор великого произведения к самому грубому из идеалов, приписывать
Сервантесу слова и фразы, не принадлежащие ему, обременять своим ложным
юмором его юмор, например, заставлять говорить Санчо и других крестьян,
выведенных в "Дон Кихоте", каким-то особенно грубым и простонародным языком,
когда в действительности этого нет и в Кастилии простолюдины не говорят
языком, столь отличным от языка образованного класса, выставляя Санчо
каким-то неотесанным шутом и представляя в смешном виде рыцаря,-- что также
нелепо, как и неверно относительно оригинала, -- все это мы считали бы
оскорблением правды и искусства и таким неуважением к гениальному автору,
дальше которого нельзя идти.
Для сохранения более яркого, местного колорита, между прочим, мы,
насколько это было возможно на русском языке, придерживались испанского
произношения в именах, исключая лишь Кихота, имя которого по-испански
трехсложное и читается Ки-хо-те. Но внести хотя бы и такое легкое изменение
в имя ламанчского рыцаря невозможно, ввиду того что это имя уже вошло у нас
слишком во всеобщее употребление. Остальные же имена, начиная с Росинанта
вплоть до цирюльника Николаса, или, быть может, вернее, Николяса, переведены
нами соответственно испанскому произношению.
Затем, для облегчения читателю понимания текста, там, где это нам
казалось нужным, мы делали выноски и примечания, заключающие в себе
исторические, библиографические, географические и т. п. сведения, так же как
и объяснения некоторых общеупотребительных испанских оборотов речи и
выражений. Все эти примечания и комментарии заимствованы нами из разных
источников, как испанских, так и английских, а именно у дона Клементе
Кортехона, дона Диаса де Бенхумеа, Хуана Валера и др. и преимущественно у
Эдварда Уатса, который, в свою очередь, почерпнул их у комментаторов и
сервантистов: дона Диего Клеменсина, Антонио Пеллисера, Майнеса и многих
других.
Первый же камень преткновения, который нам встретился при переводе "Дон
Кихота", было заглавное прилагательное к имени Дон Кихота: ingenioso,
которое так удобно переводится на французский язык словом ingИnieux, на
английский -- ungenuous, на немецкий переведено очень удачно словом
sinnreich, a по-русски как-то не поддается переводу. При всем желании найти
что-нибудь получше мы могли лишь остановиться на соединении двух слов,
именно: остроумно-изобретательный {Первое издание перевода М. В. Ватсон так
и было озаглавлено -- "Остроумно-изобретательный идальго Дон Кихот
Ламанчский".}. Заменить же это прилагательное другим или вовсе опустить его,
как это делалось до сих пор многими переводчиками, нельзя, потому что этот
эпитет имеет и не может не иметь значения. Несомненно, что Сервантес
употребил его обдуманно и намеренно и что он имеет в виду выразить истинный
характер его героя и служит ключом для истории его. Не только такой
гениальный писатель, как Сервантес, но и всякий другой, даже посредственный
автор, старается дать наиболее подходящее заглавие своим произведениям. Хотя
прилагательное ingenioso, примененное к безумцу, казалось большинству
переводчиков и публике несовместимым, и сервантист Клеменсин считал этот
эпитет непонятным и неудачным, -- теперешняя критика, напротив, признает его
и удачным и подходящим. Некоторые сервантисты, и, между прочим, столь
страстный дон Диас де Бенхумеа, считают очевидным и несомненным, что эпитет
ingenioso, не имея отношения к буквальному смыслу книги, имеет очень большое
отношение к ее сути, или, иными словами, к внутреннему смыслу фабулы. А
Пеллисер и некоторые другие высказывают предположение, что прилагательное
применено автором к книге, а не к ее герою, с чем, однако, трудно
согласиться, потому что не только в заглавии, но и в тексте (2 и 16 главах I
части и в конце II части) Сервантес говорит el ingenioso hidalgo, относя это
не к книге, а к Дон Кихоту.
М. Ватсон
Мигель де Сервантес Сааведра -- величайший писатель Испании, ее слава и
гордость, тем более потому что он не только национальный, но и всемирный
писатель, -- родился осенью 1547 г. в Алькала-де-Энарес, что окончательно
установлено теперь благодаря официальному документу {Documentos cervantinos
-- книга сеньора Переса Пастора (Perez Pastor), вышедшая в Мадриде в 1897
г.}, подписанному самим Сервантесом в Мадриде 18 декабря 1580 г., в котором
он признает себя уроженцем Алькала-де-Энарес. Это небольшой город, отстоящий
от Мадрида на полтора часа или на час езды. Известно, что долгое время,
несмотря даже на то, что в 1752 г. было найдено свидетельство о крещении
Мигеля 9 октября 1547 г. в церкви Santa Maria la Mayor в Алькала, несколько
испанских городов: Мадрид, Севилья, Эскивиас, Люсена, Консуэгра и
Алькасар-де-Сан-Хуан -- все еще оспаривали друг у друга честь считать своим
уроженцем автора "Дон Кихота". Хотя, собственно говоря, вопрос этот казался
бы в настоящее время не столь важным, потому что великие гении теперь уже
являются как бы всемирными гражданами.
Род Сервантеса чисто кастильского происхождения. Мигель, день рождения
которого так и остался неизвестным, а крещен он был, как уже сказано 9
октября 1547 г., был вторым сыном Родриго де Сервантес и его жены Леоноры де
Кортинас, которые в то время, кроме новорожденного, имели уже троих детей:
сына Андреса и дочерей Андреа и Люису Дед Мигеля, лисенсиат Хуан де
Сервантеса, был адвокатом в Кордове и считался хорошим юристом; отец же
будущего великого писателя, Родриго де Сервантес, лекарь, жил в Алькала, был
беден и к тому же глух. Практику он, надо думать, имел самую незначительную.
Хотя Алькала в то время и славился своим университетом, но богатые и знатные
испанцы предпочитали слушать курс наук в Саламанке, куда их влекли
развлечения и веселая жизнь. Таким образом, в Алькала хотя и было много
учености, но мало денег. Бедному лекарю с его семьей становилось все труднее
жить, тем более что у него в 1550 г. родился пятый ребенок, сын Родриго, а в
1555 г. в Вальядолиде, куда, по имеющимся сведениям, переселились
Сервантесы, еще и шестой -- дочь Магдалена.
Около этого времени умер прославленный император Карл V, и восседавший
на испанском престоле мрачный, скрытный и фанатичный Филипп II со всем
двором переехал в Мадрид, который он избрал себе столицей, и стал возводить
в его окрестностях знаменитый монастырь Эскориал. Имеются сведения, что в
Мадрид перебрался вскоре и Родриго де Сервантес со своей семьей, и тут у
него родился седьмой ребенок -- сын Хуан. Но жизнь здесь оказалась настолько
дорогой, что скоро явилась необходимость уехать. Леонора де Кортинас с
дочерью Люисой вернулась в Алькала, чтобы ухаживать там за своей тяжко
больной матерью, доньей Эльвирой де Кортинас. Люиса, которой тогда было лет
16 или 17, вскоре, в 1565 г., поступила в кармелитский монастырь в Алькала.
Остальная часть семьи Родриго де Сервантеса с ним и старшей его дочерью --
красивой и симпатичной Андреа, занявшей место матери, -- уехали в Севилью,
где, всего вероятнее, а не в Сеговии или Мадриде, Мигель видел Лопе де
Руэду, в то время наиболее популярного и известного человека в Севилье, и
его комедии и "pasos", заключающие в себе в зародыше весь испанский театр и
содействовавшие, быть может, не менее чего-либо другого воспитанию
Сервантеса. Во всяком случае, он тридцать лет спустя еще с восторгом
вспоминал о Лопе де Руэде.
Из того немногого, что мы знаем о детстве и первой юности Мигеля де
Сервантеса, можем лишь отметить его любовь к поэзии, проявившуюся у него,
как он говорит, с самых нежных лет, и такую склонность к чтению, что, по
собственному его признанию, он подбирал даже рваные бумажки на улице, чтобы
читать их. Какие книги предпочитал Сервантес? На этот вопрос мы можем
ответить только гадательно.
В ту эпоху, когда родился Сервантес, атмосфера Испании была как бы
насыщена идеями величия, пылкой деятельности, духом завоевания и неслыханных
и необычайных приключений. Государство и церковь, меч и крест, монах и
солдат -- все одинаково стремились властвовать и порабощать. Идеал
доблестной деятельности олицетворялся, по-видимому, для тогдашнего общества
в романах странствующего рыцарства или в рыцарской эпопее. Короли не всегда
вели войны против мавров или язычников; часто войны их были и несправедливы
и направлены против братьев; битвы же рыцарей оправдывались благородной
целью и велись всегда лишь против великанов и разбойников -- символов зла.
Очень вероятно, что и Сервантес, предпочтительно перед другими книгами,
читал Амадиса и рыцарские романы, а может быть, в то время были в ходу и
детские игры в странствующих рыцарей, и забрало из картона, сделанное Кихана
Добрым для своего шлема, -- одно из воспоминаний детских игр Мигеля. Так ли
обстояло дело или нет, неизвестно, потому что, как мы уже говорили,
достоверных биографических сведений о детской и ранней юношеской жизни
Сервантеса нет.
Есть сведения о том, что в 1565 или в 1566 г. беспокойная семья
Сервантесов снова переселяется в Мадрид, куда Мигель явился, если и не
пройдя школьного курса, о чем нам ничего не известно, то уже, надо думать,
несколько сведущий в школе жизни, так как при скудости средств его
родителей, вероятно, и ему приходилось сталкиваться с нуждой и иными тому
подобными впечатлениями. Около этого времени умерла донья Эльвира де
Кортинас, оставив маленькое наследство -- виноградник, который и был продан
за 1025 реалов, и на эти деньги семья устроилась в Мадриде. Здесь, в школе
городского совета, Мигель проходил класс грамматики. В 1569 г., когда юноше
шел 22-й год, он впервые выступил на литературном поприще. Случилось это
следующим образом.
Дон Карлос, наследник испанского престола, умер 24 июля 1568 г. Через
два с половиной месяца, 3 октября, умерла его мачеха, Изабелла де Валуа,
третья жена Филиппа II. В числе других и профессор словесных наук в Мадриде,
Хуан Лопес де Ойос (Hoyos) издал ранней весной 1569 г. сборник стихов на
смерть юной королевы. Здесь впервые появился в качестве поэта молодой
Сервантес, которому его учитель, маэстро Лопес Ойос, а также и вся школа
(потому что в то время ничего не делалось в классе без участия учеников),
поручили сочинить требуемые эпитафии, аллегории и т. д. Сервантес написал
четыре redondillas, кастильскую copia, элегию в терцетах в 199 стихов и
эпитафию в виде сонета. Маэстро Ойос уделил особое и очень лестное внимание
этим произведениям своего "дорогого и любимого ученика", как он называет
Сервантеса. Говорили очень много и повторяли очень часто, но совершенно
несправедливо, будто Сервантес был лишен всякого поэтического таланта, и
поэтому стоит остановиться на первых юношеских его стихах. Они были не хуже
и не лучше стихов других тогдашних поэтов, хотя и забытых теперь, но в свое
время справедливо пользовавшихся известностью. Во всяком случае, в ту пору
стихи его были признаны очень хорошими, и торжество его было полное.
Вскоре мы видим юного поэта в Италии, куда он уехал в свите кардинала
Аквавива. Каким образом это случилось, просил ли кто за Сервантеса, или
молодой кардинал -- ему было всего 24 года -- лично знал молодого писателя и
симпатизировал ему, и по какой причине уехал Сервантес, просто ли из желания
видеть свет, или вынужденный к бегству из Испании вследствие дуэли, как
некоторые рассказывают, -- факт тот, что он уехал в Италию с монсеньором
Юлио, сыном герцога де Атри-Аквавива, прибывшим в Мадрид с официальной
миссией выразить от имени папского престола соболезнование Филиппу II по
поводу смерти его сына Карлоса.
В Италии Сервантес пробыл двенадцать лет. По всей вероятности, Мигель
не проходил университетского курса, и все дает повод думать, что
действительно оно так и было; достоверно то, что он не получил никакой
ученой степени, но тем не менее он был очень начитан, и это ясно видно из
его произведений. В бытность свою в Италии, где юный поэт больше, чем ее
монументами и соборами, восхищался "vida libre de Italia" (свободной
итальянской жизнью), он научился итальянскому языку и близко познакомился с
итальянской литературой. Но при дворе кардинала Аквавива, где он был
camarero, Сервантес оставался недолго. Эта праздная и ничтожная жизнь не
могла, конечно, прийтись по вкусу юноше со столь живым умом и такой
беспокойной душой. В 1570 г. он записался солдатом в полк Диего де Урбины.
В те времена профессия оружия считалась наиболее почетной, что было
очень естественно в обществе, где, с одной стороны, режим абсолютизма
парализовал индивидуальную энергию, индивидуальные силы и деятельность, а с
другой стороны, деспотизм католицизма парализовал духовные силы. Сервантеса
тем более привлекала военная служба, что носились слухи о готовящейся войне
с турками. Но пока уполномоченные трех держав -- Венеции, Испании и папского
престола -- занимались в Ватикане дипломатическими препирательствами по
поводу Св. лиги, договор которой был формально объявлен в соборе Св. Петра
только 25 мая 1571 года, Селим II не дремал. Турки еще 9 сентября 1570 г.
взяли штурмом Никосию, падение которой вынудило весь Кипр сдаться
завоевателю, исключая лишь крепость Фамагосту, героически продержавшуюся
целых одиннадцать месяцев против осаждавших ее турок. Но и эта крепость пала
1 августа 1571 г., а о падении ее и кровавой, неслыханно зверской расправе
турецких янычаров по приказанию Селима со славными защитниками Фамагосты и
всеми ее жителями, перебитыми или отправленными на турецкие галеры для
долгого мученичества, дон Хуан Австрийский, избранный генералиссимусом над
соединенными силами Лиги, узнал только лишь 5 октября, когда он со своим
флотом (где находился и солдат Сервантес) прибыл в Кефалонию.
Эти известия, из числа тех, которые "сердца трусов превращают в сталь и
кровь сонливых в пламя", распространились по флоту и еще более разожгли
пылкое желание христианских войск сразиться с неприятелем. В воскресенье, 7
октября, когда, вскоре после полудня, раздался первый пушечный выстрел,
Сервантес, лежавший в постели в жесточайшей лихорадке, выскочил на палубу,
едва держась на ногах. В ответ на увещания своего капитана и двух товарищей,
Матео де Сантистебана и Габриэля де Кастаньеды, он просил лишь об одном:
"поставить его в самое опасное место, где бы он мог умереть, сражаясь". Как
видно, свойственные Сервантесу идеализм и кихотизм сказались уже и тут.
Сражение при Лепанто увенчалось полной победой. За исключением лишь
нескольких судов, все неприятельские суда были захвачены или уничтожены,
турецкий адмирал убит, его сыновья взяты в плен. Сервантес, которому двумя
пулями прострелили грудь и одной пулей левую руку, гордился всю жизнь тем,
что он -- "tuve, aunque humilde parte" -- принял, хотя и скромное участие, в
этой знаменитой битве, где он лишился левой руки для вящей славы правой, как
он говорит в своем "Viaje de Parnaso", ("Путешествии на Парнас"). На этом
его отношении к военному делу и построена столь известная речь (часть I,
глава 38) Дон Кихота по поводу оружия и словесных наук. После Лепанто
Сервантес пролежал в госпитале шесть месяцев, и дон Хуан с маркизом де ла
Крус, посещая раненых, обратили особенное внимание на солдата, отличившегося
такой отвагой и храбростью.
Однако блестящая победа при Лепанто оказалась бесплодной, так как
двоедушные венецианцы, потихоньку от союзников, заключили постыдный мир с
турками, а Филипп II, который всегда руководствовался своим любимым
политическим принципом: "глаза, которые не видят, сердце, которое не
чувствует", завидуя славе, приобретенной доном Хуаном в сражении при
Лепанто, не посылал ему ни денег, ни съестных припасов для армии, ни
лекарства для госпиталей.
После Лепанто Сервантес еще сражался и везде с честью: при Корфу,
На-варине, Тунисе. Но Голета была взята штурмом, Тунис пал, и испанскому
флоту пришлось вернуться в Неаполь. Здесь Сервантес, оставшийся бедным
солдатом, пробыл еще почти год под командой герцога де Сесса, вице-короля
Сицилии. Первая его молодость была у него уже за плечами, и в сентябре 1575
г. он просил и получил разрешение вернуться в Испанию. Заручившись
рекомендательными письмами от дона Хуана и герцога де Сесса, Сервантес с
братом Родриго, тоже служившим в Италии, и многими другими лицами, отплыл на
испанской галере El Sol. Но неблагоприятная и завистливая судьба
преследовала его. Утром 26 сентября флотилия алжирских корсаров под командой
арнаута Мами, налетела на Sol и после отчаянного сопротивления испанцев,
сражавшихся, как львы, завладела всем экипажем, в том числе и Сервантесом.
Итак, вместо радостного возвращения в отчизну и справедливой награды,
солдат-поэт оказался обреченным на жестокий плен и мученическое заточение в
Алжире, куда он был отвезен в оковах.
Вместе с братом Родриго он попал невольником к Дали Мами, греческому
ренегату, прозванному El Cojo (Косой), который командовал одной из алжирских
галер в то несчастное сентябрьское утро 1575 г. Рекомендательные письма дона
Хуана и герцога де Сесса сослужили плохую службу Сервантесу. Его хозяин Дали
Мами вывел из них заключение, что за такого пленника можно получить большой
выкуп, так как человек, имеющий подобные документы, наверное, лицо
значительное, и Сервантеса отвели в bano del Rey, где были заключены
наиболее знатные пленники. Пять лет пробыл Сервантес в неволе, и этот период
хотя и самый печальный в его жизни, вместе с тем в известном смысле и самый
яркий. Война и сражения доказали личную храбрость Сервантеса, но плен и
неволя выяснили закал его души и благородство его сердца в борьбе с
обрушившейся на него злополучной судьбой.
Если свободный человек, стойко борющийся с гонениями и превратностями
судьбы и побеждающий их, представляет собою при человеческой слабости
зрелище утешительное, то пленник, сфера действия которого почти ничтожна и
каждый его шаг затруднен, имеющий силу победить свою судьбу, -- такое
зрелище, которое не может не вызвать изумления. Читая "Дон Кихота", невольно
у нас в уме встает образ его автора. Разве прототипом безумного рыцаря,
столь симпатичного своею доблестью, возвышенными иллюзиями, презрением к
явным опасностям и желанием тысячу раз принести себя в жертву на благо
ближних, не является сам Сервантес? В наиболее героической эпохе его жизни и
в лучшей его книге мы и тут и там видим борьбу. В Алжире -- борьбу за
свободу материальную, в "Дон Кихоте" -- за умственную и духовную, в неволе в
Берберии -- за освобождение тела, в повести рыцаря Идеала -- за освобождение
духа.
Вся история плена Сервантеса читается как глава из какого-то бурного,
несбыточного романа. В качестве наиболее героической натуры Сервантес
становится как бы признанным вождем своих товарищей по неволе, центром их
надежд. В упавших духом он поддерживает бодрость, он устраивает для
заключенных драматические представления, быть может, сам играет в
собственных, затерявшихся потом пьесах или в комедиях старого своего любимца
Лопе де Руэды. Вместе с тем изобретательный ум его беспрестанно носится с
разными планами бегства, которые он и пытается привести в исполнение.
Одаренный мужеством, великодушием, презрением к опасностям, Сервантес любит
все выходящее из ряда вон, а больше всего любит свободу. Тем не менее, хотя
ему не раз представлялся случай бежать одному, он отказывался, желая
освободить и своих товарищей по несчастью.
Лишь только его заключили в bano del Rey -- где, как мы уже говорили,
были заточены наиболее значительные пленники, -- он начинает придумывать
план бегства. В первый раз Сервантес доверился мавру, который обещал
провести его и его товарищей по заключению в Оран, ближайший пункт, занятый
испанцами. Проект был рискованный, но желание свободы взяло верх. Однако в
первый же день проводник бросил несчастных, и они были вынуждены вернуться в
тюрьму и к оковам. Сервантес объявил, что зачинщик всего он. По-видимому,
желание Дали Мами получить большой выкуп за "однорукого" спасло на этот раз
Сервантеса от смерти, хотя и не спасло его от усиленных оков и строгой
тюрьмы. Когда в 1577 г. Габриель де Кастаньеда был выкуплен и уехал в
Испанию, Сервантес послал с ним письма к родителям, в которых извещал их о
судьбе своей и Родриго. Отец и мать, а также и сестры после больших усилий и
хлопот собрали наконец сумму в 300 червонцев. Но эти деньги были
презрительно отвергнуты алчным Дали Мами как выкуп за Мигеля, и на них был
выкуплен в августе 1577 г. только лишь Родриго Сервантес, не имевший
рекомендательных писем.
Тогда же будущий автор "Дон Кихота" придумал план второй попытки
бегства. Он поручил Родриго и другому выкупившемуся невольнику Виана
выхлопотать присылку вооруженного фрегата, который пристал бы к берегу в
указанном месте. В трех милях от Алжира, в саду греческого ренегата Алкаида
Ассана, еще за несколько месяцев до выкупа Родриго, Сервантес с помощью
садовника того ренегата, испанца родом из Наварры, выкопал пещеру, в которой
спрятались четырнадцать христиан, пробывших в пещере около шести месяцев.
Съестные припасы приносил им туда по поручению Сервантеса раскаявшийся
ренегат, известный под именем El Dorador. 28 сентября Виана прибыл со столь
страстно ожидаемым скрывшимися пленниками фрегатом, а за неделю перед тем и
Сервантес бежал и присоединился к своим товарищам в пещере. Фрегат Вианы
готовился пристать к берегу, когда несколько случайно проходивших мавров
подняли такой крик и шум, что христиане должны были поспешно отчалить.
Скрывшиеся в пещере пятнадцать пленников томились в ожидании столь страстно
желанного избавления. Но "дьявол, враг человеческий, вложил в сердце
ренегата вернуться снова в ислам", говорит Наедо, автор "Topographia
Historia General de Argel", поэтому el Dorador отправился в Алжир и раскрыл
весь заговор алжирскому бею Ассану.
Солдаты окружили пещеру и захватили всех бывших там вместе с некоторыми
из экипажа фрегата, вернувшегося во второй раз. Сервантес тотчас же опять
взял всю вину на себя и объявил, что один он организовал план бегства и
уговорил остальных присоединиться к нему. Его повели к Ассану, угрожавшему
ему пыткой и смертью, но бесстрашный
Сервантес стоял на своем, повторяя, что один он виноват и никто другой.
Повлияло ли на столь прославившегося своей жестокостью тирана твердость,
спокойствие духа и презрение к смерти Сервантеса, или это произошло по
какой-либо другой причине, так и осталось неизвестным, но Ассан пощадил
жизнь Сервантеса, и только бедный садовник был мученически казнен. Ассан
даже купил за пятьсот червонцев Сервантеса у Дали Мами, говоря, что он может
быть спокоен насчет города, только если "однорукий" испанец будет находиться
у него в тюрьме. Однако не успели заключить туда Сервантеса, как он в третий
раз сделал попытку бежать, послав через мавра письмо в Оран, к командующему
там испанскому офицеру. К несчастью, мавр был обыскан уже вблизи ворот
Орана, схвачен и казнен, а Сервантес и в этот раз избег смерти. Но
неисправимый пленник в четвертый раз, в сентябре 1579 г., приложил новые
усилия к бегству.
С ренегатом из Гренады по имени Хирон, желавшим вернуться в Испанию, и
двумя купцами из Валенсии Сервантес сговорился, чтобы в Алжир прибыл
вооруженный корабль, на котором он и еще шестьдесят невольников могли бы
скрыться. План этот был накануне исполнения, когда проявил себя иудой
доминиканский монах по имени Блянко Пас и флорентийский ренегат Кайбан.
Сервантес в четвертый раз взял всю вину на себя и с веревкой на шее был
приведен к Ассану. Все угрозы бея опять оказались тщетны; Сервантес твердил
одно: с четырьмя другими лицами, уже выкупленными и уехавшими в Испанию, он
устроил это бегство, остальные же ничего не знали о его планах. И на этот
раз Ассан, представлявший собой настоящее чудовище по жестокости и
развращенности, самым непонятным образом опять пощадил жизнь Сервантеса,
которого между тем он сам считал столь опасным человеком и в уме которого
действительно носились еще более грандиозные планы, чем все предыдущие,
именно: умысел восстания всех двадцати тысяч христианских невольников,
находившихся в Алжире, и захват города во власть Испании. Летом 1579 г.
Сервантес написал письмо в стихах к Матео Васкесу, испанскому
государственному секретарю, оканчивающееся мольбой к Филиппу II прислать
"освободительный" флот для захвата Алжира. Письмо это было впоследствии
затеряно, и только в 1863 г. оно было найдено в архиве графа де Альтамира.
Наконец состоялся выкуп Сервантеса, но и то случайно. В далеком Алькала
родители Сервантеса и сестра его Андреа выбивались из сил и прилагали
всевозможные старания, чтобы добыть нужную сумму для выкупа Мигеля. Но им
удалось собрать всего лишь триста червонцев, которые монахи-редемторы
(выкупатели) -- отец Хуан Хил и Антонио де ла Белла -- взяли с собой,
отправляясь в Алжир. Они везли также 500 червонцев для выкупа знатного
кабальеро Херонима Палафокса; но за него потребовали вдвое больше, и все
уговоры и просьбы оказались тщетными. Тогда отец Хил убедил наконец Ассана
взять пятьсот червонцев за Сервантеса, который уже находился в оковах на
галере, увозившей бея в Константинополь.
Этот день -- 19 сентября 1580 г.,-- когда Сервантес вышел на берег
свободным человеком, он считал самым счастливым днем своей жизни. Но до
отъезда в Испанию у него было еще одно неотложное дело. Хуан Блянко де ла
Пас, выдававший себя за члена инквизиции, ярый враг Сервантеса, пытался
добыть целый ряд свидетельских показаний с целью клеветническими, гнусными
изветами и лживыми сведениями о жизни Сервантеса повредить ему и в Испании.
Тогда, в свою очередь, Мигель составил документ, заключающий в себе полную
историю его неволи и состоящий из 25 вопросных пунктов, подписанных
двенадцатью свидетелями. Таким образом, мы имеем в высшей степени
достоверный документ о самом драматическом и интересном периоде жизни
Сервантеса и целом ряде героических его поступков. Так завершилась история
его неволи, и 18 декабря 1580 г. Сервантес прибыл в Мадрид. Но здесь
перспективы оказались для него не особенно утешительными. За два года до
выкупа Мигеля его покровитель дон Хуан Австрийский умер, и всякая надежда
получить повышение на военной службе исчезла. Имеются сведения, что
Сервантес после прибытия в Мадрид служил в войсках в Португалии и на
Азорских островах, также как и его брат Родриго, который там отличился и был
произведен в прапорщики. Алчные глаза Филиппа II уже давно были устремлены
на Португалию, с самого момента гибельного поражения и смерти молодого
короля Себастиана на злополучном поле битвы Аль-Казара-аль-Кебир в августе
1578 г., после чего все королевство пришло в полное расстройство и
беспорядок. Пожилой кардинал Энрике, наследовавший престол Себастиана, в
конце краткого и беспокойного царствования умер в январе 1580 г., и вслед за
тем явились целые шесть претендентов на португальскую корону. Филипп II
давно предвидел такое стечение обстоятельств, и флот, который Сервантес в
упомянутом нами письме к Матео Васкесу просил прислать для "освобождения"
христианских невольников в Алжире, был послан под командой маркиза
Санта-Крус для блокады Лиссабона и порабощения Португалии. Благодаря войску
под начальством герцога Альбы, а также подкупам и дипломатическим уловкам
дона Христобала де Мура, Филиппу как известно, действительно удалось надеть
себе на голову корону Португалии.
В бытность его в Лиссабоне Сервантесу очень понравился город и его
жители, которых он в своем "Персилесе и Силизмунде" осыпает похвалами за их
приятное, любезное обхождение, а также восхищается красотой португальских
женщин. Впрочем, Сервантес питал добрые чувства ко всем: и к маврам, и к
португальцам, и даже к англичанам, в то самое время, когда испанские
патриоты их ненавидели и считали английскую королеву каким-то чудищем рода
человеческого. Сервантес ездил также, по некоторым сведениям, с официальным
поручением в Оран и в Мостаган. Но, как бы то ни было, во всяком случае, он
вернулся в Испанию осенью 1582 г. И с этого времени он принадлежит
литературе. Комедии, написанные им в Алжире, потеряны, и из той эпохи
сохранились лишь только два сонета и письмо в стихах к Матео Васкесу. Но,
должно быть, Сервантес еще до выкупа писал немало стихов, так как в своем
"Pastor de Filida" (1582), Галвес де Монталбан говорит о нем как об
известном поэте, а Падилья называет его знаменитым кастильским поэтом.
Пастушечий роман Сервантеса "La Galatea" появился в 1584 г., а идея
этого произведения зародилась у него, по-видимому, в Португалии, родине
Монтемайора, лучшего автора пасторалей. Книгоиздатель Бляс де Роблес дал за
нее Сервантесу 1336 реалов, что для того времени не такая уже малая сумма.
Но если в денежном отношении успех оказался довольно незначительным, зато
"Галатея" дала автору известность, и он, по-видимому, чувствовал к ней
особенную нежность, так как много раз в течение тридцати лет обещал ее
продолжение, -- но эта обещанная вторая часть так и не появилась.
Вернувшись из Лиссабона, Сервантес познакомился с некоей Анной Франка
-- матерью его единственной дочери, Изабеллы де Сааведра, впоследствии
узаконенной им. Об Анне Франка ничего неизвестно, кроме ее имени и того, что
любовь эта длилась недолго, и Анна Франка вышла замуж за некоего Алон-со
Родригеса, а Сервантес -- ему было тогда 37 лет -- в декабре 1584г. женился
на 19-летней донье Каталине де Саласар Паласиос-и-Восмедиано, жившей в г.
Эскивиас. Средства невесты были также довольно незначительны: сад, два или
три виноградника, несколько кур, небольшая домашняя обстановка. Вскоре после
свадьбы Сервантес с женой переехал жить в Мадрид, где весной 1585 г. отец
его, старый Родриго, заболел и в июне умер.
Вскоре Сервантес является в качестве драматурга. К сожалению, из
двадцати или тридцати его пьес, которые, по словам их автора, давались на
сцене, должно быть, одновременно или немного спустя после выхода в свет
"Галатеи", до нас дошли только две: "Eltrato de Argel" ("Жизнь в Алжире") и
"La Numancia". Комедии Сервантеса игрались, вероятно, между 1583 и 1585 г.,
и около этого времени у него было много литературных связей и друзей;
наиболее близкими его друзьями были тогда поэты Педро Лайнес, Лопес
Мальдонадо, Педро де Падилья и Висенте Эспинель.
На сцене пьесы Сервантеса имели успех, но, по-видимому, удержались
недолго, а распространенное мнение, будто "это чудо природы", Лопе де Вега,
вытеснил его из театра, лишено всякого основания, потому что пьесы Лопе
появились на сцене уже после 1588 г., когда Сервантес имел занятия в
Севилье. К тому же он и сам заявляет в своем прологе к "Ocho comedias"
следующее: "Уменя оказались другие дела, которыми я должен был заняться; я
бросил перо и комедии; и вскоре появилось чудо природы, великий Лопе де
Вега, ставший монархом театра" и т. д. Немного дальше он добавляет:
"Несколько лет как я вернулся к былой моей праздности, и, думая, что еще
продолжаются годы, когда я был осыпан похвалами, я сочинил несколько
комедий, но не нашел птиц в прошлогодних гнездах" и т. д.
В 1585 г. родилась дочь Сервантеса от Анны Франка. По этой ли причине
или вследствие плохих денежных обстоятельств семьи донья Каталина вернулась
к себе в Эскивиас с матерью и братом, священником Франциском де Паласио-сом,
а Сервантес уехал в Севилью, где получил занятия. Большую часть последующей
своей жизни Сервантес провел в разлуке с женой, которая, по-видимому, не
очень тяготилась этим. Быть может, она искренно любила мужа и была ему
доброй и верной женой: сама бездетная, впоследствии она даже согласилась
узаконить его дочь от Анны Франка, Изабеллу. Но все же, по имеющимся
сведениям, донья Каталина не была героиней, она не могла делить с мужем его
скитальческой жизни и, слабохарактерная, не сумела противостоять влиянию
матери и брата, так что добрая и верная жена тайком от мужа в мае 1609 г.
сделала завещание, в котором почти совсем обошла Сервантеса и все свое
имущество записала за братом своим, священником; а под конец жизни она
сделалась сухой ханжой.
В конце 1588 г. Сервантес был назначен одним из четырех помощников
Антонио де Гевары, главного поставщика провианта для Непобедимой армады
(Armada Invencible), т. е. испанского флота, который Филипп II готовил, имея
в виду войну с Англией. Вся злополучная эпопея этой самой Непобедимой
армады, начиная с ее прилагательного,-- яркая иллюстрация все более и более
распространявшегося упадка Испании. Кастильская доблесть стала размениваться
на фанфаронство; главнокомандующим армадой оказался назначенный Филиппом II
трус и полнейшее ничтожество во всех отношениях, маркиз де Медина Сидония, а
главной и даже единственной целью снаряжаемой армады было торжество
католической веры в Англии.
Обязанности комиссара по доставке провианта сильно тяготили Сервантеса,
и весной 1590 г., узнав о том, что имеются три или четыре вакантные
должности в Индии, он подал прошение председателю Совета по делам Индии о
предоставлении ему какой-либо из указанных четырех вакансий. Но сеньор
Нуньес Моркечо, председатель Комитета, положил на это прошение следующую
столь известную свою резолюцию: "Busca рог аса en que se le haga merced"
("Ищите здесь, т. е. в Испании, в чем вам могла бы быть оказана милость"). В
1591-1592 гг. Сервантес служит снова по комиссариатским делам под
начальством Педро де Исуны, закупая пшеницу, масло, горох и иной провиант.
Наконец в августе 1594 г., он получил новое назначение сборщика податей.
Жизнь Сервантеса теперь, после героической ее эпохи, шла однообразно,
как и жизнь всякого бедного человека, в борьбе за насущный хлеб. Долгие годы
-- около двадцати лет -- провел он, получая плату по 12 реалов в день, делая
покупки провианта для нужд Непобедимой армады, или же собирая подати по
городам, деревням, постоялым дворам и местечкам Андалузии, и хотя эти его
занятия были самыми ненавистными, трудными и неблагодарными, которые он
когда-либо исполнял в жизни, тем не менее, его скитальческие годы не пропали
даром. Они дали ему случай ближе присмотреться к повседневной жизни, к жизни
крестьян и других низших классов Испании; и без этих скитальческих годов
Сервантеса, возможно, что у нас и не было бы "Дон Кихота". С жизнью
героической Сервантес был знаком в Ле-панто, с веселой и свободной -- в
Италии, с трагической и жестокой -- в Алжире, с утонченной и придворной -- в
Мадриде и Лиссабоне. Но ту среду, которая составляла и составляет наибольшую
часть нации -- народ, -- Сервантес мало знал. Теперь же, странствуя по
дорогам, ежедневно находясь в селах и местечках, он хорошо узнал народ, а
также близко ознакомился с Андалузией.
Время от времени Сервантес от сбора провианта и податей обращал мысли
свои к литературе. Так, в 1591 г. он написал стихи для сборника Андреса де
Виллальбы: "Elorde variosy nuevos romances" ; в 1592 г. заключил контракт со
знаменитым толедским актером Родриго Осорио, обязавшись написать шесть
комедий, по 50 червонцев за каждую, с тем чтобы эти комедии "были лучшими,
когда-либо игравшимися в Испании". Насколько известно, Сервантес не написал
требуемых шести комедий, но этот контракт -- интересный документ,
доказывающий, что актеры, по-видимому, верили Сервантесу и его
драматическому таланту. В 1595 г. автор "Галатеи" участвовал в поэтическом
турнире в Сарагосе, устроенном доминиканцами в честь св. Хасинто, и получил
первую премию. В 1596 г. он написал сонет в честь маркиза Санта-Крус и
известный свой сатирический сонет "Vimos en julio otra Semana Sonta..." ("Мы
видели в июле другую страстную неделю...") по поводу вступления столь
ничтожного герцога де Медина-Сидониа в Кадикс, после того как город был
разграблен англичанами под предводительством графа Эссекса и покинут ими. В
1597 г., находясь в Севилье, когда там умер Фернандо Эррера, Сервантес
написал сонет в честь знаменитого поэта, уроженца Андалузии; в 1598 г. он
напечатал два сонета и несколько quintillas по поводу смерти в сентябре того
года Филиппа II, смерти, вследствие которой по всей Испании устраивались
пышные похоронные службы, а в Севилье возведенный там катафалк, как и
служба, отличались необычайным великолепием. Но в церкви произошла шумная
ссора между представителями инквизиции и гражданской власти, и ссора эта
разрослась в великий скандал. Случай представлялся очень подходящий для
сатирика, и Сервантес написал свой известный сонет "Voto a Dios, que me
espanta esta grandeza..." ("Клянусь Богом, что меня пугает это
великолепие...").
Однако литературные занятия Сервантеса в те годы были очень
непродолжительны и кратки. Слишком много было у него угнетающих деловых
забот и хлопот. По своему темпераменту Сервантес менее всего был точен и
методичен, а в его должности требовалась величайшая аккуратность и
формализм. В 1595 г. он доверил из казенных денег по сборам податей 7400
реалов некоему севильскому купцу Симону Фреира де Лима, чтобы тот внес их в
Мадридское казначейство. Но Фреира обанкротился и скрылся. Весь этот год
провел Сервантес в сдаче счетов и имел массу неприятностей. Две трети долга
были наконец покрыты им; но так как остающуюся треть он не уплатил еще и в
1597 г., то в сентябре этого года он был арестован и посажен в тюрьму в
Севилье, где и пробыл три месяца, с сентября по декабрь. Еще раньше, в 1592
г., за то, что Сервантес забрал триста фанег пшеницы в г. Эсиха без
дозволения коррехидора, этот последний, дон Франциско Москосо, настоял на
том, чтобы его заключили в тюрьму в городе Кастро-дель-Рио, что и было
сделано, и он пробыл там несколько дней.
В бытность же Сервантеса в тюрьме в Севилье в ней находилось более 1800
заключенных, и шум и неудобства, по свидетельству его, были невыносимы. По
всей вероятности, здесь-то, в темнице, и был "зачат" "Дон Кихот", факт, о
котором упоминает его автор в прологе к I части "Остроумно-изобретательного
идальго". Впрочем, в те времена в Испании почти не было выдающегося
писателя, которому не пришлось бы побывать в тюрьме по той или по другой
причине. Сервантесу суждено было испытать это удовольствие еще два раза: в
конце 1602 г., когда его засадили снова в тюрьму в Севилье за неплатеж по
старым еще счетам и расчетам, а освобожден он был в начале 1603; и затем в
июне 1605 г., уже после того, как появился "Дон Кихот". Автора бессмертного
произведения, в то время жившего с семьей в Вальядолиде, заключили в тюрьму
по подозрению в убийстве кабальеро дона Гаспара де Эспелеты. Только такого
обвинения еще и недоставало гениальному писателю, для которого нужда,
забота, горе, плен, тюрьма были как бы старыми, неразлучными товарищами и
который столько уже видел и испытал в жизни.
А дело Эспелеты обстояло так. Этот молодой человек, рыцарь ордена
Сантего, один из праздных и пустейших донов Хуанов и сердцеедов в
Вальядолиде, в числе других своих романов вступил весной 1605 г. в связь с
женой актуариуса или судебного пристава, по имени Гальбан. 27 июня,
возвращаясь с обеда своего приятеля, маркиза де Фальсеса, на площади близ
фонтана он был смертельно ранен человеком, который затем скрылся в темноте.
На крик о помощи раненого Сервантес, живший рядом с тем местом, выбежал на
улицу, и с ним Люис де Гарибай, сын его соседки по квартире. Они подняли
умирающего и внесли его в комнату доньи Люисы де Монтоя, вдовы Эстебана де
Гарибая, старой знакомой семьи Сервантесов. Чрез два дня кабальеро Эспелета
умер, и Сервантеса со всей семьей: сестрами Андреа и Магдаленой, дочерью
Изабеллой и племянницей Костансой -- Каталина жила у себя в Эскивиасе -- так
же как и всех соседей его по квартире, арестовали и препроводили в тюрьму.
На Изабеллу де Сааведра, дочь Сервантеса, была взведена клевета; однако из
процесса она и все остальные вышли оправданными от предъявленных к ним
подозрений и получили свободу. Убийца Эспелеты, хотя и не был найден, но, по
всей вероятности, им был оскорбленный муж -- сеньор Гальбан.
В январе 1605 г. "Дон Кихот" появился в свет, а привилегия королевская
на издание книги отмечена 26 сентября 1604 г. Высказываемая иными критиками
мысль, будто Сервантес писал свое образцовое произведение на скорую руку, не
исправляя и не перечитывая его, чисто детское предположение. Теперь
доказано, что большая часть или, быть может, и вся первая часть "Дон Кихота"
была написана уже в 1602 г. и многие в Севилье хорошо знали это произведение
Сервантеса, так как он по обычаю того времени читал его и давал его читать в
рукописи. Более чем за шесть месяцев до выхода "Дон Кихота" доминиканец
Андрее Перес (Франциско де Убеда) упоминает о нем в своей "Picara Justina",
a 14 августа 1604 г. Лопе де Вега в частном письме говорит, что нет поэта
"столь плохого, как Сервантес, или такого глупого, чтобы хвалить Дон
Кихота".
Посвятил Сервантес первую часть своего " Остроумно-изобретательного
идальго" герцогу де Бекар, и, если верить преданию, случилось это следующим
образом. Герцог, узнав о содержании "Дон Кихота", отказывался принять
посвящение книги, опасаясь, что репутация его может пострадать, если он
дозволит во главе рыцарского романа поставить свое имя. Сервантес не стал
утруждать себя и герцога просьбами или объяснениями, которые, вероятно,
оказались бы безрезультатными, напротив, он немедленно подчинился воле
герцога и только испросил его согласие прослушать в тот же вечер главу из
"Дон Кихота". Довольствие, доставленное этим чтением обществу, собравшемуся
у герцога, было так велико, что по настоянию их была прочтена вся книга, и
пришедший в восхищение от нее герцог принял с восторгом посвящение, которое
он сначала отверг. Так ли было дело или нет, неизвестно, хотя ничего
невероятного тут нет.
Что касается текста посвящения, Сервантес списал его с посвящения
Фернандо де Эрерры маркизу де Аямонту, и сделал он это, как весьма
основательно предполагает дон Хуан Гарценбуш, вот почему: быть может,
посвящение Сервантеса герцогу Бекару было иное, быть может, оно не
понравилось почему-либо герцогу, и автор "Дон Кихота" прибег к остроумному
способу: он заимствовал предисловие другого автора и из другой эпохи,
намерения которого не могли быть заподозрены, и таким образом сумел сказать
то, что ему хотелось, вставив лишь несколько своих слов {Эти слова
напечатаны курсивом в нашем переводе посвящения Сервантеса герцогу де
Бекар.}, а между тем казалось, что он не от себя говорит.
Успех "Дон Кихота" был необычайный, и в 1605 г. появилось целых пять
изданий. У всех книга была в руках, и все наслаждались чтением бессмертного
произведения, кто смеялся, а кто, быть может, и размышлял. Двадцать лет
неудач и скитальческой жизни Сервантеса оказались не потерянными: наконец
настали и для Сервантеса дни радостные, и над ним загорелись лучи славы.
В 1608 г. или позже -- это еще достоверно не установлено -- Сервантес
поселился в Мадриде, а 9 октября 1609 г. здесь умерла любимая его сестра
Анд-реа, смерть которой, должно быть, была для него тяжелым ударом. Из всей
семьи Андреа более всего походила на брата: нежная, симпатичная, умная,
красивая, она неутомимо, с упорством любви хлопотала о выкупе брата из
неволи в Алжире, пожертвовав для этого даже своими маленькими средствами. А
когда она овдовела -- Андреа была три раза замужем, -- то, по-видимому,
постоянно жила с ним вместе. Гораздо раньше, именно в 1593 г., умерла мать
Сервантеса, Леонора де Кортинас, а в 1601 г. умер его брат Родриго; жена
его, донья Каталина, жила в Эскивиасе, и писатель остался с сестрой
Магдаленой и племянницей Констансой.
Что же касается его дочери Изабеллы, она вышла замуж за рыцаря ордена
Алькантара, дона Диего Сане дель Агиля, человека со средствами. Однако брак
этот был непродолжительным, так как через год зять Сервантеса умер, после
того как у него родилась маленькая дочь, внучка Сервантеса -- Изабелла Сане
дель Агиля. Овдовев, Изабелла де Сааведра вскоре, весной 1609 г., снова
вышла замуж за некоего Люиса де Молину, секретаря и агента итальянских
банкиров, братьев Траппа. С этим зятем у Сервантеса вышли впоследствии
неприятности. Молина был человек алчный и потребовал даже судом от
Сервантеса уплаты обещанных им, в приданое дочери, двух тысяч червонцев,
которые и были ему уплачены другом Сервантеса, Хуаном де Урбиной. В 1610 г.
донья Магдалена и донья Каталина вступили в орден монахинь Терсера, носили
монашескую одежду, и только еще молодость доньи Констансы несколько оживляла
скучный домашний очаг.
Около этого времени Сервантесу блеснула надежда, горько обманувшая его,
поехать в Неаполь с графом Лемосом, который был назначен туда вице-королем.
Граф Лемос -- дон Педро Фернандес де Кастро -- был сам поэт и писал стихи,
полные грусти и разочарования, хотя, собственно говоря, он мог бы считать
себя счастливейшим из смертных. Ему было 33 года, был он женат на красавице
донье Каталине де ла Серда, дочери герцога де Лерма, и достиг цели своих
желаний -- назначения вице-королем в Неаполь. Перед отъездом туда он приехал
в Мадрид в 1610 г., и здесь у него бывал и виделся с ним Сервантес. На
должность только что умершего секретаря своего, дона Хуана Рамиреса де
Арелльяно, граф Лемос пригласил корректного, щегольского, светского и
назидательного поэта Луперсио Леонардо де Архенсолу, который и приехал в
Мадрид с своим братом Бартоломео Леонардо. Сервантес, полагаясь на свою
старинную дружбу с Луперсио, просил последнего включить и его в число поэтов
и писателей, назначенных в литературную свиту неаполитанского вице-короля.
Архенсола обещал, но не сдержал обещания, и автор "Дон Кихота" не попал в
упомянутый список, вероятнее всего, вследствие интриги самих Архенсола,
опасавшихся превосходства над ними Сервантеса; назначенными оказались все
больше молодые поэты и не из перворазрядных. Нет сомнения, что это
разочарование его доставило глубокое огорчение Сервантесу, -- уже четыре
года спустя в "Viaje del Parnaso" ("Путешествие на Парнас") он упрекает в
несдерживании данного обещания двух братьев Архенсола.
В 1613 г. автор "Дон Кихота" издал свои "Novelas Exemplares"
("Примерные новеллы") -- сборник, заключающий в себе двенадцать небольших
прекрасных рассказов, написанных, по-видимому, в разное время. Уже в 47-й
главе первой части "Дон Кихота" Сервантес упоминает заглавие повести
"Ринконете и Кортадильо", включенной в "Novelas Exemplares", привилегию на
которые он продал своему издателю Франциско Роблесу за 1600 реалов и 24
авторских экземпляра. А перед тем, в 1604 г., он продал тому же издателю,
или "торговцу книгами" -- mercader de libres, как их тогда называли в
Испании, первую часть "Дон Кихота" всего-навсего за тысячу реалов. Несмотря
на великую славу свою, перешедшую даже за пределы Испании, Сервантес
продолжал томиться в бедности.
Не успели "Novelas Exemplares" выйти в свет, как их автор снова засел
за работу, и в 1614 г. появился его "Viaje del Parnaso", навеянный ему
чтением "Viaggio un Parnaso" итальянского поэта Цезаре Капорали, умершего
перед тем лет за двенадцать. Последние годы жизни Сервантеса были очень
плодовиты. В 1615 г. он издает свои "Ocho comedias у ocho entremeses
nuevos". Затем на поэтическом турнире в честь св. Тересы, основательницы
ордена Кармелиток, при самой торжественной обстановке стихотворение
Сервантеса, получившее одну из премий, было прочитано самим Лопе, что,
конечно, доставило удовлетворение Сервантесу. Но тут опять на него
обрушилось горе. Впрочем, ему было не привыкать переходить от счастливых
мгновений к дням величайшего огорчения и невзгод.
В то время как он не спеша работал над второй частью "Дон Кихота" и
дошел до 59-й главы, он с негодующим изумлением узнал о выходе в свет в
Тар-рагоне подложного продолжения "Дон Кихота", принадлежащего перу
анонимного автора, назвавшегося Алонсо Фернандес де Авельянеда. Кроме всего
остального этот аноним позволил себе еще в высшей степени грубое и дерзкое
глумление над личностью Сервантеса, осмеял его старость, язвил его тем, что
"язык его движется свободнее руки", -- руки, простреленной в битве при
Лепанто. Много предположений и гипотез было сделано относительно писателя,
скрывшегося под псевдонимом Авельянеды: указывали на Бляско Паса, Андреса
Переса, Люиса де Алиагу, Леонардо де Архенсолу, Аларкона, Тирсо де Молину, и
других: но все это отвергается теперь. Подозревали даже Лопе де Вега. Так,
например, Леон Майнес говорит, что если писала рука Авельянеды, то голос его
-- голос Лопе де Вега. Факт тот, что действительно отношения двух величайших
писателей Испании были не особенно дружескими.
В прологе к "Дон Кихоту" (в первой части) и в ее 48-й главе Сервантес
не совсем почтительно отнесся к прославленному драматургу, который так
привык к самой грубой лести, что малейшие критические намеки казались ему
непростительной дерзостью. Еще раньше, в конце 1600 г., Лопе приезжал в
Севилью, а здесь ходило по рукам написанное против него довольно едкое
стихотворение, принадлежавшее перу малоизвестного поэта и бездельника Алонсо
Альварес де Сориа. Лопе вообразил, что стихи принадлежат Сервантесу, и
ответил ядовитым сонетом, которым мнил похоронить навсегда автора "Галатеи".
Но едва ли Лопе мог дойти до такого неблаговидного поступка, как написание
им второй части подложного "Дон Кихота".
Как бы то ни было, а маску, надетую Авельянедой, не так-то легко
сорвать. Наиболее вероятной считается теперь гипотеза Менендеса-и-Пеляйо, по
мнению которого Авельянедой был некто Алонсо Ламберто, арагонец и
посредственный поэт, побежденный Сервантесом на поэтическом турнире в
Сарагосе. Во всей этой истории несомненны лишь две вещи: автор подложного
"Дон Кихота" был арагонец, и он был другом или почитателем Лопе де Вега. Как
бы то ни было, Сервантес поспешил окончить вторую часть своего "Дон Кихота",
которая и появилась в свет в 1616 г. и имела столь же громкий успех, как и
первая; а подложный "Дон Кихот" Авельянеды после того как бы перестал
существовать.
Сервантес приближался к семидесяти годам, но он все еще был столь же
энергичным, исполненным надежд и планов, как и во время своей неволи в
Алжире тому назад сорок лет. Он работал тогда над некоторыми произведениями,
о которых он и упоминает, именно: "Bernardo", "Las Semanas del Jardin", "El
Engano a los ojos" и "Las trabajos de Persiles y Sigismunda". К этому
последнему своему произведению Сервантес питал особенную слабость, но из
этого вовсе не следует -- как некоторые совершенно неосновательно пытались
доказать, -- будто он не сознавал всей громадной ценности "Дон Кихота",
написанного им "для всеобщего развлечения", по словам Сансона Карраско.
Любовь Сервантеса к "Персилесу", своему последнему произведению, сыну его
старости, нимало не уменьшало в глазах его значения "Дон Кихота", и он на
многих страницах своей книги высказывает высокое свое мнение о нем.
В последние годы жизни Сервантеса больному и бедному писателю оказывали
помощь два человека: толедский архиепископ дон Бернаро де Сандовал-и-Рохас,
и граф Лемос, которому за четыре дня до смерти, мучаясь в сильнейших
припадках водянки, 19 апреля 1616 г., умирающий Сервантес написал свое
прекрасное и трогательное посвящение к "Персилесу", начинающееся так: "Желал
бы я, чтоб старинный романс, в свое время очень известный и начинающийся
словами "Puesto ya el pie en el estribo", не приходился так кстати в этом
моем письме, потому что почти теми же словами я могу теперь начать его,
говоря: "Puesto ya el piХ en el estribo, con las ansias de la muerte, gran
senor, esta te escribo" ("Вложив ногу в стремя, в предсмертном томлении,
пишу тебе это, великий сеньор")".
Вот с какими словами, спокойно и мужественно, готовился встретить
смерть Сервантес. По мнению испанского доктора Гомеса Оканьи, написавшего
клиническую историю Сервантеса ("Historia clinica de Cervantes"), водянка
его была симптомом сердечной болезни. Гениального писателя похоронили бедно
и просто в монастыре монахинь de las Trinitarias, на улице дель Умильядеро,
и могила его ничем не была отмечена, ни надгробным камнем, ни надписью, а
когда монастырь перевели в 1633 г. на улицу Кангаранас, быть может, и прах
Сервантеса перевезли вместе
с останками монахинь. Во всяком случае, его могила никому не ведома.
Конечно, это печально, но еще печальнее то, что ничего не известно о судьбе
оставшихся после Сервантеса рукописей, именно: "Bernardo", "Las semanas del
jardin", комедии "El engano Бlos ojos" и второй части "Галатеи" и что
наследники и душеприказчики его не постарались сохранить и напечатать их
после него. Один только "Персилес" -- рукопись которого донья Каталина,
пережившая мужа на десять дет, продала издателю Виллароэлю -- увидел свет,
год спустя после смерти Сервантеса.
Переходя к обзору произведений Сервантеса, всемирная, громкая слава
которого зиждется, как известно, исключительно на "Дон Кихоте", нельзя,
однако, не отметить, что если бы Сервантес явился только автором одних лишь
лирических и драматических своих произведений, он все же не был бы
безразличным писателем в истории испанской литературы. Правда, лучших
отрывков "Viaje del Parnaso", изящества нескольких стихотворений из
"Галатеи", патриотического вдохновения "Epistola a Mateo Vasquez" и
бесспорной красоты трех-четырех его сонетов не было бы достаточно, чтобы имя
его звучало громче имени Педро де Падильи и других испанских лирических
поэтов его эпохи, забытых теперь, но в свое время пользовавшихся заслуженною
известностью. И в своих комедиях Сервантес, являясь предвестником Лопе де
Вега и не из числа обыденных, все же по значению их в летописях испанского
театра не встал бы выше Хуана де ля Куэвы или Кристобала де Вируеса. Но,
допустив, что достоинства его комедий относительные и ценность их не столь
велика сама по себе, сколько по сравнению с предшествующими им
произведениями, факт тот, что нам они кажутся хуже, чем они есть, потому что
с самого начала им вредит великое имя их автора. Перед блеском "Дон Кихота"
меркнут даже превосходные "Novelas exemplares" Сервантеса, а тем более
другие его произведения, а также комедии, над которыми тяготеет традиционное
и отчасти несправедливое осуждение, против чего теперь уже восстает более
проницательная и лучше осведомленная критика.
"Галатея" Сервантеса, изданная им в 1584 г., являет собой пастушечий
роман, или, как Сервантес называет его, эклогу. Творцом этого рода
литературы считают неаполитанцаЯкопо Саннацаро с его "Аркадией". Взятая им
нота нашла себе подражателей во всех странах: Португалии, Германии, Франции,
Голландии, Англии; и в "Галатее", кажущейся наиболее оригинальной, Сервантес
тем не менее в нескольких местах делает даже заимствования из Саннацаро.
Несмотря на многие недостатки этого юношеского произведения Сервантеса:
малоудачный вымысел, многословие, скука, искусственность, -- все же нельзя
отрицать в "Галатее" живости фантазии, богатства эпитетов, достаточного
количества образцов избранной прозы и того, что слог здесь, за исключением
лишь нескольких мест, везде прекрасный. Интересны также и включенные сюда
автором воспоминания его об Италии, Неаполе, Корфу и т. д. Сервантес -- как
известно, психология художника очень сложная вещь, -- жестоко осмеивающий в
"Разговоре двух собак" словами, вложенными им в уста Берганса, пастушечьи
эклоги, не только сочинил "Галатею" в юных годах, но и всю жизнь обещал
продолжение ее и думал о ней даже на смертном одре. Объясняется это, быть
может, тем, что в душе у него ютилась некоторая доля романтической
неудовлетворенности,
превратившейся в творческую энергию и искавшей в мире идей и в
фантастических событиях того, чего он не находил в действительности, которую
исследовал такими проницательными глазами. В ту эпоху ложной идеализации
военной жизни противопоставляли другую, не менее ложную, идеализацию
пастушеской идиллии, и самые великие писатели того времени -- Шекспир, Лопе
де Вега, Сервантес и другие -- заплатили ей дань в той или иной форме. Но
как бы то ни было, можно только пожалеть, что обещанная Сервантесом вторая
часть "Галатеи" не была им написана или, может быть, затерялась.
Что касается комедий Сервантеса, он написал их в 1584-1585 гг., по
собственным его словам, 20 или 30, имевших успех; затем, в 1615 г., издал
сборник, озаглавленный "Ocho comedias у ocho entremeses" ("Восемь комедий и
восемь интермедий"). Из первого периода до нас дошли только две комедии "La
Numancia" и "Trato de Argel" ("Жизнь в Алжире"), остальные же затерялись. В
"Adjunta al Parnaso" ("Добавление к путешествию на Парнас") Сервантес
называет заглавие некоторых из этих затерявшихся комедий, именно: "La
batalla naval" ("Морское сражение"), "El Bosque Amoroso" ("Благосклонный
лес"), "La Jerusalem", "La Amaranta 6 La del Mayo" ("Майский цветок"), "La
gran Turquesca", которая, быть может, идентична с "La gran Sultana",
напечатанной в сборнике 1615 г. С особенной гордостью говорит Сервантес о
"La Confusa" ("Приведенная в замешательство") и "La unicay la bizarra
Arsinda" ("Единственная и несравненная Арсинда"). Эта последняя комедия, как
видно, существовала еще в 1673 г., так как в то время Хуан Фрагосо называет
ее превосходной.
Лучшим из дошедших до нас драматических произведений Сервантеса
считается его "Numancia", которая давалась на сцене, вероятно, в 1585 или
1586 г., но оставалась ненапечатанной до 1784 г., когда Антонио де Санча
издал ее в одном томе с "Trato de Argel" и "Viaje del Farnaso". "Нумансией"
восхищались такие выдающиеся писатели, как Гете, Шелли, Шлегель, Сисмонди,
Тикнор, Гибсон и другие. Это действительно лучшая и, можно сказать, даже
единственная патриотическая испанская трагедия. Сюжет ее Сервантес почерпнул
из старого испанского романса, но он так вознес и возвысил этот сюжет, что
едва ли можно встретить во всем испанском театре что-либо более сильное и
величественное по героизму.
В этой драме, как и в "Puente Ovejuna" ("Овечьем источнике") Лопе де
Вега, действует и умирает целый народ. Сервантес был первый испанский
драматург, который сумел вывести на сцену толпу. Возвышенность
патриотического чувства доходит в "Numancia" до своего апогея, и героическая
энергия, и пафос здесь изумительны. Сюжет драмы -- знаменитая осада
римлянами под предводительством Сципиона Африканского испанского города
Нумансии и взятие его после 15-летнего сопротивления. У римлян было 80.000
солдат, у испанцев лишь 4000 или меньше, подвергавшихся разного рода
лишениям и ужасам. Когда победители наконец проникли в город, они не нашли
здесь в живых никого из нумантийцев. Все погибли от голода, а последний еще
оставшийся в живых, юноша Вириатус, бросился с башни.
Среди героических сцен выделяется патетическая история Морандро и Лира.
Более чем два столетия спустя, когда в войне за независимость, в 1808 г.,
Палафокс героически защищал Сараго-
су, осажденную французскими войсками под предводительством Жюно, Ланна
и Мортье, осажденные граждане Сарагосы под рев пушек, гремевших у стен
крепости, с патриотическим восторгом слушали "Нумансию" Сервантеса,
поставленную для возбуждения в них бодрости, и, быть может, вдохновенные
стихи Сервантеса помогли отразить неприятеля и спасти Сарагосу.
Не в одних эпических испанских преданиях черпал Сервантес сюжеты для
своих комедий, -- в душе и в уме у него жили еще воспоминания как о победе
при Лепанто, так и о своем плене; и из этих воспоминаний он извлек два
произведения: "La batalla naval" ("Морское сражение") -- комедия,
неизвестная нам, и "Trato de Argel". Заглавие "La batalla naval" показывает
сценическую отвагу Сервантеса: он изобразил, по-видимому, в своей комедии
великий и славный день Лепанто. Такая отвага -- первая в истории испанской
литературы -- имеет, несомненно, свое значение. "El Trato de Argel" носит
зато большею частью автобиографический характер. Здесь идет речь о жизни
христианских невольников в Алжире и изображена страстная любовь мавританки
Сары к невольнику Аурелио, который, в свою очередь, влюблен в Сильвию. В
"Ocho comediasy ocho entremeses" (интермедии) отметим последние, в которых у
автора берет верх веселый тон.
В 1613 г. вышли "Novelas Exemplares" Сервантеса, заключавшие в себе
двенадцать коротких повестей. В столь живо и изящно написанном прологе к
этим "Novelas", -- интересном, как и все его прологи, -- Сервантес
утверждает: "Me doy a entender, y es asi, que soy el primero, que he
novelado in lingua castellana" ("Я полагаю, и оно так и есть, что я первый
писал новеллы на испанском языке"). Утверждение это, в котором, как и во
многих других словах Сервантеса, сказывается сознание им высокого своего
литературного значения, вполне правильно, если под словом novela понимать,
как это следует делать, краткую повесть, единственную, которой в то время
давали это наименование, потому что до Сервантеса новелла представляла из
себя лишь сплошной перевод итальянских повестей или подражание им. В этом же
своем прологе к новеллам Сервантес объясняет, почему он их называет
exemplares: "потому что нет ни одной, из которой нельзя было бы извлечь
какой-нибудь полезный пример или урок".
Большинство этих повестей, написанных, по-видимому, в разное время,
коренятся в тонком наблюдении автором жизни и действительности. Повесть
"Ринконета и Кортадильо", о которой упоминается уже в 47-й главе 1 части
"Дон Кихота" -- одна из лучших, и место действия ее -- Севилья; а также и
сатирически-дидактический "Разговор собак" происходит в той же Севилье.
"Gutanilla" ("Цыганочка"), -- интересная история об украденной в детстве
цыганами девочке знатного рода, воспитанной ими. Из этой повести Вебер
заимствовал свою оперу "Прециоза" и Виктор Гюго Эсмеральду. Прекрасно
написаны и "El Licenciado Vidriera" ("Лисенсиат Стеклянный"), "Lo Espanola
Inglesa", "La illustre Fregona" и другие. Вообще, литературная ценность всех
"Novelas" Сервантеса очень значительная, и они ставятся в литературном
смысле тотчас же после "Дон Кихота" и ценятся очень высоко; а если они не
так широко распространены, то причиною этому их более местный характер и
отсутствие всемирных типов. Был ли Сервантес вполне свободен писать все, что
хотел, из происходящего кругом него, сомнительно, но, во всяком случае,
главные очертания в его "Novelas" верно схвачены с натуры. Как испанские
писатели, так и писатели других стран черпали не раз драматические темы и
вдохновение в этих примерных новеллах "испанского Боккаччо".
"Viaje del Parnaso" -- шуточная поэма, написанная в terza rima, хотя и
была навеяна на Сервантеса чтением "Elviaggio de Parnaso" итальянского поэта
Чезаре Капорали но в нее поэт вложил много своего, оригинального, и тип ее
чисто испанский. Здесь наиболее интересны для нас биографические сведения в
начале четвертой книги и личные воспоминания Сервантеса -- он говорит и о
себе самом, и о своих произведениях: "Галатее", "Дон Кихоте", "Новеллах",
нескольких сонетах и множестве романсов, -- и кончает обещанием дать
"Перси-леса". Отсюда же узнаем мы и о бедности Сервантеса, в тех строках,
когда Тимбрео советует ему закутаться в плащ:
Bien parece, senor, que no se adviХrte
Le respondi, que yo no tenga capa!
("Ясно, сеньор, -- ответил я ему, -- вы не заметили, что у меня нет
плаща").
"Viaje del Parnaso" вызвало весьма разноречивую критическую оценку:
одни восхищаются этим произведением Сервантеса, другие, между прочим Тикнор,
находят в нем "мало достоинств", а Фицморис-Келли обвиняет автора в вялости,
в недостатке сатирической силы и едкости, в отсутствии глубокого,
ненасытного негодования и ненависти.
Последним произведением Сервантеса, пересмотренным и исправленным им с
такой любовью, была "Historia setentrionala de los Trabajos de Persiles y
Sigismunda" ("История скитаний Персилеса и Сигизмунда"). Эстетическое
значение "Персилеса", по мнению Менендеса-и-Пеляйо, еще не нашло себе верной
оценки, а во второй его части встречаются лучшие страницы, когда-либо
написанные автором "Дон Кихота". Правда, в первых двух частях "Персилеса"
выведенные Сервантесом лица проходят перед нашими глазами как тени, и,
несмотря на свежесть юношески живой фантазии почти 70-летнего автора,
несмотря на красоту слога, на богатство вымысла, весьма ярко выступает
банальная неправдоподобность описываемых им приключений -- разных похищений,
кораблекрушений, встреч и бесконечного вмешательства пиратов и разбойников.
Но во второй половине "Персилеса", когда автор повествует о последних
путешествиях двух влюбленных, приятные воспоминания пережитого им в
Лиссабоне овладевают мыслью Сервантеса и увлекают ее из фантастической
области, где она витала. Тут он своих действующих лиц ведет уже по знакомым
дорогам, через Лиссабон, Баядос, Толедо и т. д. до Рима, и здесь встречаются
уже вполне возможные эпизоды. В "Персилесе" -- в котором, как и в "Viaje del
Parnaso", много биографических черт и эти отрывки личных воспоминаний
Сервантеса наиболее интересны -- автор имел, быть может, в виду данное им в
"Viaje" обещание:
Cantar con voz tan entonada y viva
Que piensen que soy cisne y me muero.
("Петь таким звучным, чистым голосом, чтобы подумали, что я лебедь и
умираю"). Так же и "Персилес" Сервантеса, эта несправедливо забытая книга,
служила родником, из которого как испанские, так и иностранные писатели
извлекали темы для своих рассказов и драм.
Но венцом творческой деятельности Сервантеса был, несомненно, "Дон
Кихот". Тут лавры Сервантеса не только не блекнут, но, можно сказать, с
каждым днем все более зеленеют и становятся все пышнее. Книга, написанная,
по словам ее автора, лишь для развлечения -- "entretenimiento", или же
литературная пародия и сатира, единственная цель которой, как уверяет
Сервантес, "низвержение шаткого здания рыцарских книг", между тем встала
высоко над произведениями ума не одной только Испании, а всей Европы, и не в
одно только данное время, а в течение веков. Как объяснить это?
Уже много раз говорилось, но нелишне снова повторить, что, если б
Сервантес написал "Дон Кихота", только "имея в виду уничтожить авторитет и
влияние, которым в мире и в народе пользуются рыцарские романы", его книга
подверглась бы общей участи всех литературных сатир и пародий, -- ученые
ценили бы ее, но она не составляла бы части умственного достояния
человечества во всех странах и во все времена. К тому же большинство
читателей, наслаждающихся чтением "Дон Кихота", не видели в жизни своей ни
одного рыцарского романа и знают только из "Дон Кихота", что они
существовали. В Испании в конце XV и в XVI в. этого рода книги действительно
пользовались громадным успехом, хотя после быстрой и изумительной их
популярности последовало такое полное забвение, которое нельзя приписать
лишь торжеству Сервантеса, так как в начале XVII в. мода на рыцарские книги
и без того уже проходила. Итак, самое торжество Сервантеса, похоронившего
почти мертвый литературный род, должно было бы оказаться гибельным для его
книги, отняв у нее цель и смысл, а между тем случилось обратное.
Та легкость, с которой исчезла столь огромная груда басен, и глубокое
забвение рыцарских книг доказывает только, что они не были истинно
народными, не проникали в сознание испанского народа (тем более что читали
их преимущественно лишь состоятельные классы), хотя они некоторое время и
тешили воображение испанцев блестящими фантасмагориями. Говоря о рыцарских
книгах, большинство предполагает, что этого рода литература пользовалась в
Испании выдающимся успехом благодаря ее соответствию характеру и настроению
народа и тогдашнего общества, так как Испания была привилегированной страной
рыцарства. Но это не совсем верно. Героическое и традиционное рыцарство
Испании, проявляющееся в Cantares de gesta, в CrСnka, в испанских романсах и
т. д., не имеет ничего общего с вымыслами, баснями и волшебствами рыцарских
книг. Ни героическая жизнь Испании в Средние века, ни эпическая или
дидактическая литература, бывшая выражением этой жизни, не дали никаких
элементов для рыцарского романа. Большие циклы этих романов родились не в
Испании, а в Европе; влияние и распространение их было явлением не
испанским, а европейским.
В Испании рыцарские книги привились сначала так плохо, что с XIII до
XVI в. едва появилось несколько оригинальных рыцарских романов. Необычайный
же успех их в конце XV или в начале XVI в., продолжавшийся целое столетие,
был вызван очень сложными причинами как общественного, так и литературного
характера. Что касается "Дон Кихота", он не есть сухое и прозаическое
отрицание рыцарских книг, не есть осуждение хороших рыцарских романов, --
Сервантес сам любил рыцарство и стрелы его направлены лишь против всего
сверхъестественного, вымышленного, туманного и вычурного в рыцарских
романах. "Дон Кихот" отчасти антитеза, отчасти пародия, а отчасти
продолжение и дополнение рыцарских книг. Сервантес нимало не имел в виду
убить идеал, он только хотел преобразить и возвысить его.
Все, что было благородного, поэтического и человеческого в рыцарстве,
воплотилось в новом произведении, а что было химеричного, безнравственного и
ложного, не именно в рыцарском идеале, а в вырождении его, испарилось как по
волшебству перед ясностью благожелательной иронии самого здравого и
уравновешенного ума Возрождения, как говорит Менендес-и-Пеляйо. Таким
образом, "Дон Кихот" является последней рыцарской книгой, самой совершенной
и окончательной, и не ненависть, а любовь дала ей вечную жизнь.
Переходя к вопросу о том, что Сервантес в "Дон Кихоте" имеет в виду
только развлечение -- "entretenimento" -- читателя, можем лишь ответить, что
его книга содержит в себе не скрытно, не в виде загадки или тайны, как
указывают некоторые, но явно и ярко самые возвышенные нравоучения, далеко
переступающие сферу иронической литературной оценки, высказанной в прологе
Сервантесом. Вымысел в "Дон Кихоте" самый простой, как и самый оригинальный
в литературе. Этот веселый и приятный вымысел, хотя бы и начавшийся с
желания быть литературной пародией, сделался, разрастаясь, не только полным
и гармоничным изображением и верной картиной народной жизни в Испании того
времени, но и комической эпопеей человеческого рода. Прекрасная книга полна
благородных мыслей и возвышенных, мудрых изречений. Мы находим в ней, в этой
богатой сокровищнице приключений и опыта, воспоминания из плена Сервантеса,
сцены, виденные им во время скитальческой его жизни сборщика податей и т.
д., и серии сатир, как индивидуальных, так и общественных.
Что касается типа Дон Кихота, он, должно быть, взят автором из
действительности. Это, по-видимому, образ самого Сервантеса, пламенного
энтузиаста, всю жизнь преследуемого судьбой; но, несмотря на все ее удары, в
нем надежда не ослабевает, любовь не уменьшается; это -- изображение
романической души Мигеля де Сервантеса, нарисованное мастерской рукой
великого юмориста. Рыцарь Идеала, дойдя до мысли, что на свете столько горя,
страданий, обид и оскорблений, не справляясь, возможно ли это или нет,
немедленно от мысли переходит к действию и едет скитаться по свету, чтобы
бороться за правду и справедливость, за счастье и благоденствие людей. Он
безумец, если пламенная любовь к добру и правде есть вид безумия, но это
дивное безумие, -- безумие человечества, желающего торжества добра и царства
правды. Дон Кихот -- высшее олицетворение чести и носитель того высокого
идеала справедливости, который ставит конечную цель вне себя. Для нас Дон
Кихот -- символ, но для автора его он не был символом, а живым существом,
полным духовной красоты, любимым сыном его творчества, украшенным им самыми
высшими качествами.
Оруженосец Дон Кихота, Санчо Панса, такой же сложный тип, несмотря на
его кажущуюся и обманчивую простоту, как и сам рыцарь. Было бы величайшею
наивностью воображать, что Сервантес создал его сразу как новый символ для
противопоставления реального идеальному и прозаического здравого смысла
романтической экзальтации. Санчо вовсе не олицетворение грубой вульгарной и
эгоистической действительности, противопоставленной наполняющему душу Дон
Кихота столь возвышенному идеалу, что он соприкасается с безумием. Тип Санчо
прошел не через меньшую отделку и обработку, чем Дон Кихот. Это оригинальный
тип, практическая философия которого облекается постоянно в изречения и
поговорки. Несколько корыстолюбивый, алчный, болтливый, но вместе с тем
верный и преданный своему господину, он мало-помалу перевоспитывается в
постоянном общении с рыцарем Идеала.
Все, что в природе его было грубого и низменного -- его прозаические и
утилитарные стремления, -- понемногу исчезает под благодетельным влиянием
Дон Кихота; он приобретает прямоту, откровенность, и под конец мы видим его
умным и честным правителем, осуществляющим всякие прекрасные мероприятия на
своем острове. Санчо, по словам Менендеса-и-Пеляйо, первое и наибольшее
торжество остроумно-изобретательного идальго. Он заражается энтузиазмом и
самопожертвованием безумного ламанчского рыцаря, и, когда все мечты Дон
Кихота разлетелись и рыцарь отказывается от своих иллюзий, Санчо старается
поддержать и воскресить в душе его прежнюю веру.
Что касается бакалавра Сансона Карраско -- этой новой фигуры, введенной
в фабулу второй части "Дон Кихота" и являющейся осью, вокруг которой
вертится начало и конец второй части,-- в ней как бы олицетворены здравый
смысл, логика, метод, осторожность, сухое рассуждение. Смех Сансона Карраско
предательский, холодный, скрытный, смех того, кто уверен в себе и в том, что
он обладает истиной, смех прямолинейных и мнящих о себе людей, когда они
видят, что совершается какое-либо великодушное безумие. Бакалавр Сансон
Карраско не пойдет против вас открыто, а подкопается под вас за спиной или,
если ему окажется возможным, со сладкой улыбкой постарается уронить вас в
чужом мнении. Он не дурной человек, или же никто не считает его дурным
человеком, у него самые лучшие намерения (т. е. которыми ад вымощен), самые
разумные побуждения; это слегка утомленный, разочарованный, здравомыслящий
человек, не верящий в "идеи", которые он называет безумием. Имя его --
посредственность, а это самая большая сила и теперь, и во времена
Сервантеса, когда владычество посредственности как раз начиналось в Испании,
и герцог Лерма процветал под покровом Филиппа III. Посредственность не любит
никого, она эгоистична и все желает только для себя. Мы видим, что лишь
Сансону Карраско удалось победить (надо думать, только временно) рыцаря
Идеала и отнять у него его прекраснейшие химеры и его мечты о славе.
Итак, из истории Дон Кихота явствует, что доброжелательный идеализм
рыцаря мало-помалу проникает в самые грубые души, и прежде всего в душу
доброго и простого Санчо, потом в души козопасов, других простолюдинов и
лиц, с которыми Дон Кихот приходит в соприкосновение, и только во дворце
герцога и герцогини, в среде самого знатного общества, от начала и до конца
смотрят на него как на безумца, с которым можно лишь позабавиться. В этих
душах царедворцев, привыкших ко лжи и притворству, нет сострадания к рыцарю
Идеала, и только в этих затхлых сферах смеются над ним и не понимают его.
Что касается Дульсинеи, в ней некоторые сервантисты видят символ
разума, свободы и стремления к свету.
В техническом смысле Сервантес достиг в "Дон Кихоте" высшего
совершенства. Язык и слог его здесь образцовый, а вторая часть еще
превосходит первую. В ней большее богатство красок и вымысла, интерес более
общий, больше разнообразия и введены новые типы.
"Дон Кихот" одновременно и самая веселая и самая грустная книга.
Бессмертное произведение Сервантеса, быть может, есть несколько ироническое
изображение "тел culpa" альтруизма, и под веселым смехом доброго Санчо текут
незримые слезы, как под глубиною снежного покрова иногда пробивается
неслышно ручей. Хотя и побежденный, рыцарь Идеала там, на набережной
Барселоны, благороднее чем когда-либо. Глубоко волнуясь, видим мы разрушение
дивного замка иллюзий в груди Дон Кихота, и нас не столько огорчает смерть
рыцаря, сколько то, что он умирает, убежденный в том, что был безумным. Но
хотя рыцарь Идеала и был побежден вследствие неумения приспособиться к
среде, поражение его только кажущееся, потому что великодушные стремления
его остались неприкосновенными и когда-нибудь да будут осуществлены.
М. Ватсон
ИСТОЧНИКИ
Шепелевич Л. Ю. "Дон Кихот" Сервантеса // Л. Ю. Шепелевич. Жизнь
Сервантеса и его произведения. Опыт литературной монографии. Т. 2. -- СПб.,
1903
Шепелевич Л. Ю. Жизнь Сервантеса и его произведения. Опыт литературной
монографии. -- СПб., 1901
Benjumea N. D. de. La verdad sobre el Quijote. -- Madrid, 1878
Cortezon С. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Primera
ediciЖn critica con variantes, notas y el diccionario de todas las palabras
usadas en la inmortal novela, Victoriano SuБrez. -- Madrid, 1907
Fitzmaurice-Kelly J. A history of Spanish Literature, Madrid, 1898
Fitzmaurice-Kelly J. The life of Miguel de Cervantes Saavedra. London,
1892
Ledesma F.N. El ingenioso hidalgo Don Miguel de Cervantes Saavedra.
Madrid, 1905
M. MenИndezy Pelayo. Cultura Literaria de Miguel de Cervantes y
elaboraciЖn del "Quijote". Madrid, 1905
M. Menendezy Pelayo. El Quijote y los libres de Caballerias. Discurso
acadИmico. 1904
Volera D. J. Discurso para conmemorar el tercer centenario de la
publicaciЖn de el ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha. Madrid, 1905
ValeraD.J. Verdadero CarБcterdel Quijote. Discurso acadИmico Madrid,
1864
Watts H. E. Miguel de Cervantes. His life and works. London, 1895
Оценочное свидетельство[1]
[1] Этот документ, как и два следующие, были приложены к Editio Princeps
(Мадрид, типография Хуана де ля Куэсты, 1605).
Я, Хуан Алло де Андрада, актуариус Королевской Канцелярии, из тех,
которые присутствуют в Королевском Совете, удостоверяю и свидетельствую, что
сеньоры члены Совета, рассмотрев книгу, озаглавленную
"Остроумно-изобретательный идальго Ламанчи", сочинение Мигеля де Сервантеса
Сааведра, оценили каждый лист упомянутой книги в три с половиной мараведиса;
а в книге восемдесят четыре листа, так что по указанной цене стоимость
упомянутой книги доходит до двухсот девяноста с половиной мараведисов в
бумажной обложке. Члены Совета дали разрешение, чтобы по этой цене могла
продаваться книжка, и приказали, чтобы оценочное это свидетельство было
выставлено в начале книги и без него она не продавалась бы. Для узаконения
этого постановления мною выдано настоящее свидетельство в Вальядолиде
двадцатого дня декабря месяца тысяча шестьсот четвертого года.
Хуан Алло д'Андрада
Свидетельство об опечатках
Эта книга не заключает в себе ничего, что не соответствовало бы
подлиннику. В удостоверение того, что я держал корректуру, даю это
свидетельство. В коллегии Божьей Матери богословов университета в Алькала
первого декабря тысяча шестьсот четвертого года.
Лисенсиат Франсиско Мурсиа де ля Аляна
Король
Во внимание того, что от вас, Мигель де Сервантес, поступил к нам
доклад о том, что вы сочинили книгу, озаглавленную
"Остроумно-изобретательный идальго Ламанчи", которая потребовала от вас
много труда и является весьма полезной и прибыльной, -- вы просили и умоляли
Нас дать вам разрешение и право напечатать ее, а также дать вам привилегию
на срок, какой Нам угодно будет и какой Мы соблаговолим. Рассмотрев книгу,
члены Нашего Совета -- во внимание к тому, что относительно нее были
выполнены все мероприятия, предписываемые последним Нашим прагматическим
постановлением {Распоряжения государей.} о книгопечатании, -- пришли к
решению, что мы должны повелеть выдать вам эту Нашу грамоту, объяснив и
основания такого решения, и Мы одобрили его. Этой Нашей грамотой, чтобы
оказать вам добро и милость, даруем разрешение и право вам или лицу, которое
вы уполномочите, и никому другому, напечатать упомянутую книгу,
озаглавленную "Остроумно-изобретательный идальго Ламанчи", о которой сказано
выше в пределах всего Нашего королевства на время и срок десяти лет, считая
со дня, которым помечена эта Наша грамота; под страхом лицу или лицам,
которые, не имея полномочия от вас, напечатают книгу, или будут продавать
ее, или поручат кому-либо издать и продавать ее, лишиться всего сделанного
ими издания, шрифта и приспособлений к печатанию и, сверх того,
подвергнуться штрафу в пятьдесят тысяч мараведисов каждый раз, как они
нарушат закон. Из упомянутого штрафа одна треть идет предъявителю обвинения,
другая треть -- в пользу Нашего фиска, а последняя треть -- судье, который
постановит приговор. С тем чтобы всякий раз, когда вы приступите к печатанию
упомянутой книги в течение десятилетнего срока, вы представляли бы ее Нашему
Совету вместе с подлинником, который был на рассмотрении членов Совета, и
каждая страница была бы скреплена подписью и росчерком {В те времена
придавали больше значения росчерку, чем подписи.} Хуана Алло де Андрады,
Нашего актуариуса из тех, которые присутствуют в Совете, чтобы знать,
соответствует ли упомянутое издание подлиннику; или же вы удостоверите
официальным путем, что корректором, назначенным по Нашему повелению, было
проверено и исправлено упомянутое новое издание по подлиннику и оно
напечатано согласно с ним, а в каждом экземпляре издания исправлены
указанные им опечатки, чтобы определить стоимость каждой отдельной книги. И
Мы повелеваем типографщику, чтобы, печатая упомянутую книгу, он не печатал
ни заголовка, ни первого листа и не вручал более одной книги вместе с
подлинником автору, или лицу, на средства которого печатается книга, ни
кому-либо другому для производства упомянутых исправлений и оценки книги
прежде и перед тем, как упомянутая книга будет исправлена и оценена членами
Нашего Совета. Когда все это будет сделано и не иначе, может быть напечатан
упомянутый заголовок и первый лист с включением в него одно вслед за другим:
этой Нашей грамоты, одобрения, оценочного свидетельства и свидетельства об
опечатках -- под страхом быть привлеченным и подвергнуться наказаниям,
заключающимся в законах и прагматических постановлениях, действующих в этом
Нашем королевстве. Повелеваем членам Нашего Совета и всяким иным судебным
учреждениям принять к сведению и исполнению эту Нашу грамоту и ее
содержание. Дана в Вальядолиде двадцать шестого дня сентября месяца тысяча
шестьсот четвертого года. Я, КОРОЛЬ. -- По приказу короля, нашего
повелителя,
Хуан де Амескета
Герцогу де Бекар
Маркизу де Гибралеон, графу де Беналькасар-и-Баньарес, виконту де ла
Пуэбла де Алькосер, владетелю городов Кассилья, Куриэль и Бургильос.
Полагаясь на добрый прием и уважение, которые, Вы, Ваша Светлость,
оказываете всякого рода книгам, как принц, столь склонный
покровительствовать свободным искусствам, в особенности тем, которые по
своему благородству не унижаются к служению и выгоде черни, я решил издать
"Остроумно-изобретательного идальго Дон Кихота Ламанчского" под кровом
славнейшего имени Вашего Сиятельства и с почтением, которым я обязан
высокому вашему положению, умоляю благосклонно принять его под свое
покровительство, чтобы под вашей сенью, хотя и лишенный того драгоценного
украшения изящества и эрудиции, которыми бывают обыкновенно облечены
произведения, сочиняемые в домах ученых людей, он мог отважиться предстать
безопасно на суд некоторых, которые, не сдерживаясь в пределах своего
невежества, имеют обыкновение осуждать чужие труды с большою строгостью и
малою справедливостью. Надеюсь, что Вы, Ваша Светлость, в мудрости своей,
обратив внимание на мое доброе намерение, не отвергнете скудость столь
скромного приношения.
Мигель де Сервантес Сааведра
Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ТОМ ПЕРВЫЙ
ПРОЛОГ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
ГЛАВА I, в которой идет речь об образе жизни и занятиях знаменитого
идальго Дон Кихота Ламанчского
ГЛАВА II, в которой речь о первом выезде изобретательного Дон Кихота из
родного местечка
ГЛАВА III, в которой рассказывается, к какому забавному способу
прибегнул Дон Кихот, чтобы быть посвященным в рыцари
ГЛАВА IV. Что случилось с нашим рыцарем, когда он уехал с постоялого
двора
ГЛАВА V. Продолжение рассказа о злоключениях нашего рыцаря
ГЛАВА VI. Об искусном и великом следствии, произведенном священником и
цирюльником в библиотеке нашего остроумного идальго
ГЛАВА VII. О втором выезде нашего доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского
ГЛАВА VIII. О великой удаче доблестного Дон Кихота в ужасающем и
невообразимом приключении с ветряными мельницами и о разных других событиях,
достойных сохраниться в памяти
ГЛАВА IX, в которой сообщается конец и исход изумительной битвы между
отважным бискайцем и храбрым ламанчцем
ГЛАВА X. Остроумные разговоры, которые вели Дон Кихот и его оруженосец
Санчо Панса
ГЛАВА XI. О том, что приключилось с Дон Кихотом у козопасов
ГЛАВА XII. О том, что рассказал козопас своим товарищам, бывшим с Дон
Кихотом
ГЛАВА XIII, в которой оканчивается рассказ о пастушке Марселе и
сообщается о других событиях
ГЛАВА XIV, в которой приводится исполненное отчаяния стихотворение
умершего пастуха и рассказываются и другие неожиданные события
ГЛАВА XV, в которой рассказывается о несчастном приключении,
случившемся с Дон Кихотом при встрече с несколькими злобными янгуэсами
ГЛАВА XVI. О том, что случилось с остроумно-изобретательным идальго на
постоялом дворе, который он принял за замок
ГЛАВА XVII. Дальнейшее повествование о бесчисленных невзгодах, которые
пришлось претерпеть мужественному Дон Кихоту и доброму его оруженосцу Санчо
Пансе на постоялом дворе, принятом рыцарем, к несчастью его, за замок
ГЛАВА XVIII, в которой передается о разговоре Санчо Пансы с его
господином Дон Кихотом и о других приключениях, заслуживающих быть
рассказанными
ГЛАВА XIX. О мудром разговоре, который Санчо вел со своим господином, о
приключении с мертвым телом и о других замечательных событиях
ГЛАВА XX. О невиданном и неслыханном приключении, доведенном до конца
храбрым Дон Кихотом Ламанчским с меньшей опасностью, чем приключение,
совершенное кем-либо из других прославленных на свете рыцарей
ГЛАВА XXI, в которой идет речь о славном приключении -- богатой добыче
шлема Мамбрино -- и других событиях, случившихся с непобедимым нашим рыцарем
ГЛАВА XXII. О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых
против их воли вели туда, куда у них не было желания идти
ГЛАВА XXIII. О том, что случилось со знаменитым Дон Кихотом в
Сьерра-Морене,-- одно из самых редкостных приключений, рассказанных в этой
правдивой истории
ГЛАВА XXIV, в которой продолжается приключение в Сьерра-Морене
ГЛАВА XXV, в которой рассказывается о странных вещах, приключившихся с
доблестным рыцарем Ламанчским в Сьерра-Морене, и о том, как он подражал
покаянию Бельтенеброса
ГЛАВА XXVI. Продолжение изящных проделок, совершенных Дон Кихотом в
качестве влюбленного в Сьерра-Морене
ГЛАВА XXVII. О том, как священник и цирюльник выполнили свое намерение,
и о других вещах, заслуживающих быть рассказанными в этой великой истории
ГЛАВА XXVIII. Неожиданное и приятное приключение, случившееся со
священником и цирюльником в той же Сьерра-Морене
ГЛАВА XXIX, в которой рассказывается о забавной уловке и хитрости,
предпринятых с целью освободить влюбленного нашего рыцаря от столь суровой
эпитимии, наложенной им на себя
ГЛАВА XXX, в которой рассказывается о находчивости прекрасной Доротеи и
о других забавных и увеселительных вещах
ГЛАВА XXXI. О приятном разговоре, происходившем между Дон Кихотом и его
оруженосцем Санчо Пансой, а также и о других событиях
ГЛАВА XXXII, в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом
дворе со спутниками Дон Кихота
ГЛАВА XXXIII, в которой рассказывается повесть о Безрассудно-любопытном
ГЛАВА XXXIV, в которой продолжается рассказ о Безрассудно-любопытном
ГЛАВА XXXV, в которой рассказывается о жестокой и необычайной битве Дон
Кихота с несколькими бурдюками красного вина и оканчивается повесть о
Безрассудно-любопытном
ГЛАВА XXXVI, в которой рассказывается о других редкостных событиях,
случившихся на постоялом дворе
ГЛАВА XXXVII, в которой продолжается история знаменитой принцессы
Микомиконы и говорится о других забавных приключениях
ГЛАВА XXXVIII, в которой приведена любопытная речь, произнесенная Дон
Кихотом по поводу оружия и словесных наук
ГЛАВА XXXIX, в которой пленник рассказывает о своей жизни и
приключениях
ГЛАВА XL, в которой продолжается история пленника
ГЛАВА XLI, в которой пленник продолжает свой рассказ
ГЛАВА XLII, в которой сообщается о том, что еще произошло на постоялом
дворе, и о многих других вещах, заслуживающих быть рассказанными
ГЛАВА XLIII, в которой рассказывается занимательная история молодого
погонщика мулов и другие странные происшествия, случившиеся на постоялом
дворе
ГЛАВА XLIV, в которой продолжаются неслыханные приключения на постоялом
дворе
ГЛАВА XLV, в которой окончательно разъясняются сомнения по поводу шлема
Мамбрино и вьючного седла, а также рассказывается и о других истинных
происшествиях
ГЛАВА XLVI, о замечательном приключении с куадрильеросами и о великой
ярости нашего доброго рыцаря Дон Кихота
ГЛАВА XLVII. О странном способе, с помощью которого Дон Кихот был
очарован, и о других замечательных событиях
ГЛАВА XLVIII, в которой каноник продолжает высказываться по поводу
рыцарских книг и других тем, достойных острого его ума
ГЛАВА XLIX, где сообщается о рассудительном разговоре, который Санчо
вел со своим господином Дон Кихотом
ГЛАВА L. Об остроумном споре Дон Кихота с каноником и о других событиях
ГЛАВА LI, в которой сообщается о том, что рассказал козопас всем тем,
кто увозил Дон Кихота
ГЛАВА LII. О ссоре Дон Кихота с козопасом и о редкостном приключении с
бичующимися, счастливо завершенном рыцарем в поте своего лица
Перевод наш сделан с испанского текста, признанного в настоящее время
наиболее критическим и достоверным, а именно с текста, изданного в 1898 г.
членом Испанской академии наук, известным знатоком и исследователем в
области испанской литературы -- англичанином Фицморисом-Келли. Новое издание
было встречено в Испании очень сочувственно и вызвало большие похвалы со
стороны таких авторитетных писателей, как, например, выдающегося
беллетриста, поэта и философа дона Хуана Валера и ученейшего профессора --
теперь директора Национальной библиотеки в Мадриде -- дона Марселино
Менендес-и-Пеляйо. И наш русский сервантист, профессор Шепелевич, в своей
монографии ""Дон Кихот" Сервантеса" (1903) тоже приходит к заключению, что
издание Фицмориса-Келли "внушает более доверия, чем все другие", и что "оно
дает нам текст, свободный от ненужных вставок, исправлений, произвола
редакторов и критиков".
До появления издания Фицмориса-Келли критическим текстом "Дон Кихота"
признавалось издание Испанской Королевской академии; но авторитет его был
поколеблен упомянутым изданием, в основу которого положено editio princeps
{Вставные эпизоды других издании указаны в примечаниях внизу страниц.}, т.
е. первое мадридское издание "Дон Кихота" 1605 года; а Испанская академия,
приступившая к своему изданию в 1780 г. и выпустившая "Дон Кихота" четвертым
изданием в 1814 г., не знала, по-видимому, о существовании двух мадридских
изданий 1605 г. и ошибочно считала второе издание первым. Между тем это
второе издание -- которое, как и первое, печаталось издателем Сервантеса,
Франциском Роблесом, в типографии Хуана де ля Куэст, -- подверглось
исправлениям, изменениям, или, вернее говоря, искажениям, и даже некоторым
интерполяциям или вставкам, без всякого участия самого Сервантеса, которого,
по имеющимся данным, в то время не было в Мадриде. Как на яркий пример
вставок Фицморис-Келли указывает на эпизод похищения осла у Санчо Пансы
Хинесом де Пасамонте[1] (см. главу 23), а затем, несколькими строками ниже,
оказывается, что Санчо Панса снова как ни в чем не бывало едет себе на своем
осле. В editio princeps нет этой вставки и потому нет и такого
несоответствия. О краже осла здесь упоминается -- и то лишь вскользь --
только в главе 25, а во второй части "Дон Кихота", в главе 3, Сан-сон
Карраско упрекает автора в забывчивости и в том, что публике осталось
неизвестным, кто украл у Санчо осла, и только после этого, в главе 4, Санчо
сообщает, что осла украл у него Хинес де Пасамонте и как он это сделал.
Таким образом, издание Фицмориса-Келли, устраняя многие произвольные
изменения и искажения текста, тем самым снимает с Сервантеса обвинение в
противоречиях, забывчивости, рассеянности и в пренебрежительном отношении к
собственному труду. Столь распространенное мнение о будто бы "гениальной
поспешности", с которой писал Сервантес, совершенно ни на чем не основано.
Прежде всего, он сам в своих вступительных стихах к "Дон Кихоту" (Урганда к
книге Д. К.) говорит, что "умный писатель идет не спеша в своих
произведениях, а словно на ногах свинец привешен"; затем известно, что
Сервантес, собственно говоря, написал не так много, сочинения его появлялись
через значительные промежутки и притом тщательно исправлялись им, как это
доказывается выписками из черновых тетрадей "El Celoso extremeno" (Ревнивый
эстремадурец) и "Rinconeteу Cortadillo". Какая тут разница между первой и
окончательной редакцией! Если когда-нибудь удастся найти автограф рукописи
"Дон Кихота", весьма вероятно, что нас и здесь ждет такого же рода сюрприз.
За последнее время в Испании готовится новый критический текст "Дон
Кихота" {Primera edition critica con variantes, notas y el diccionario de
todas las palabras, usadas en la inmortal novela por Don ClИmente CortejТn.
Madrid, 1905.}, издаваемый барселонским профессором литературы доном
Клементе Кортехоном, с множеством вариантов, очень ценными примечаниями и
словарем всех слов, употребленных в бессмертном произведении Сервантеса. Но,
к сожалению, этот монументальный труд только что "зародился" -- если можно
так выразиться, -- и у нас в руках лишь первый его том, заключающий в себе,
кроме предисловия, только 14 глав текста "Дон Кихота".
Покончив с необходимыми объяснениями относительно испанского текста,
избранного нами для перевода "Дон Кихота", считаем не лишним сказать
несколько слов и по поводу самого перевода. Нимало не обольщая себя
надеждой, что в нашем переводе бессмертного произведения мы сумели сохранить
его -- если можно так выразиться -- тонкий аромат, который неизбежно
теряется при всякой передаче на другой язык, или что нам удалось овладеть
изяществом слога оригинала и передать на русский язык всю богатую струю
юмора Сервантеса, игру слов, всякие намеки, полунамеки и т. д. в "Дон
Кихоте", мы, -- следуя указанию самого Сервантеса: переводить, "ничего не
выпуская и ничего не добавляя" (часть I, глава 9), придерживались как можно
ближе и точнее текста и даже, где это не противоречило русскому языку,
передавали его дословно, стараясь везде сохранить и местный колорит, и
малейшие оттенки. Не сомневаемся, что у нас найдется достаточно промахов и
ошибок, без которых едва ли может обойтись подобного рода труд, и будем
очень признательны за всякие обоснованные указания таких промахов и ошибок.
Но одно мы твердо знаем: неповинны мы в том, что, на наш взгляд, было бы
тягчайшим преступлением против Сервантеса и против читающей публики, а
именно: разукрашивать оригинал собственной фантазией, стараться низвести
пафос и юмор великого произведения к самому грубому из идеалов, приписывать
Сервантесу слова и фразы, не принадлежащие ему, обременять своим ложным
юмором его юмор, например, заставлять говорить Санчо и других крестьян,
выведенных в "Дон Кихоте", каким-то особенно грубым и простонародным языком,
когда в действительности этого нет и в Кастилии простолюдины не говорят
языком, столь отличным от языка образованного класса, выставляя Санчо
каким-то неотесанным шутом и представляя в смешном виде рыцаря,-- что также
нелепо, как и неверно относительно оригинала, -- все это мы считали бы
оскорблением правды и искусства и таким неуважением к гениальному автору,
дальше которого нельзя идти.
Для сохранения более яркого, местного колорита, между прочим, мы,
насколько это было возможно на русском языке, придерживались испанского
произношения в именах, исключая лишь Кихота, имя которого по-испански
трехсложное и читается Ки-хо-те. Но внести хотя бы и такое легкое изменение
в имя ламанчского рыцаря невозможно, ввиду того что это имя уже вошло у нас
слишком во всеобщее употребление. Остальные же имена, начиная с Росинанта
вплоть до цирюльника Николаса, или, быть может, вернее, Николяса, переведены
нами соответственно испанскому произношению.
Затем, для облегчения читателю понимания текста, там, где это нам
казалось нужным, мы делали выноски и примечания, заключающие в себе
исторические, библиографические, географические и т. п. сведения, так же как
и объяснения некоторых общеупотребительных испанских оборотов речи и
выражений. Все эти примечания и комментарии заимствованы нами из разных
источников, как испанских, так и английских, а именно у дона Клементе
Кортехона, дона Диаса де Бенхумеа, Хуана Валера и др. и преимущественно у
Эдварда Уатса, который, в свою очередь, почерпнул их у комментаторов и
сервантистов: дона Диего Клеменсина, Антонио Пеллисера, Майнеса и многих
других.
Первый же камень преткновения, который нам встретился при переводе "Дон
Кихота", было заглавное прилагательное к имени Дон Кихота: ingenioso,
которое так удобно переводится на французский язык словом ingИnieux, на
английский -- ungenuous, на немецкий переведено очень удачно словом
sinnreich, a по-русски как-то не поддается переводу. При всем желании найти
что-нибудь получше мы могли лишь остановиться на соединении двух слов,
именно: остроумно-изобретательный {Первое издание перевода М. В. Ватсон так
и было озаглавлено -- "Остроумно-изобретательный идальго Дон Кихот
Ламанчский".}. Заменить же это прилагательное другим или вовсе опустить его,
как это делалось до сих пор многими переводчиками, нельзя, потому что этот
эпитет имеет и не может не иметь значения. Несомненно, что Сервантес
употребил его обдуманно и намеренно и что он имеет в виду выразить истинный
характер его героя и служит ключом для истории его. Не только такой
гениальный писатель, как Сервантес, но и всякий другой, даже посредственный
автор, старается дать наиболее подходящее заглавие своим произведениям. Хотя
прилагательное ingenioso, примененное к безумцу, казалось большинству
переводчиков и публике несовместимым, и сервантист Клеменсин считал этот
эпитет непонятным и неудачным, -- теперешняя критика, напротив, признает его
и удачным и подходящим. Некоторые сервантисты, и, между прочим, столь
страстный дон Диас де Бенхумеа, считают очевидным и несомненным, что эпитет
ingenioso, не имея отношения к буквальному смыслу книги, имеет очень большое
отношение к ее сути, или, иными словами, к внутреннему смыслу фабулы. А
Пеллисер и некоторые другие высказывают предположение, что прилагательное
применено автором к книге, а не к ее герою, с чем, однако, трудно
согласиться, потому что не только в заглавии, но и в тексте (2 и 16 главах I
части и в конце II части) Сервантес говорит el ingenioso hidalgo, относя это
не к книге, а к Дон Кихоту.
М. Ватсон
Мигель де Сервантес Сааведра -- величайший писатель Испании, ее слава и
гордость, тем более потому что он не только национальный, но и всемирный
писатель, -- родился осенью 1547 г. в Алькала-де-Энарес, что окончательно
установлено теперь благодаря официальному документу {Documentos cervantinos
-- книга сеньора Переса Пастора (Perez Pastor), вышедшая в Мадриде в 1897
г.}, подписанному самим Сервантесом в Мадриде 18 декабря 1580 г., в котором
он признает себя уроженцем Алькала-де-Энарес. Это небольшой город, отстоящий
от Мадрида на полтора часа или на час езды. Известно, что долгое время,
несмотря даже на то, что в 1752 г. было найдено свидетельство о крещении
Мигеля 9 октября 1547 г. в церкви Santa Maria la Mayor в Алькала, несколько
испанских городов: Мадрид, Севилья, Эскивиас, Люсена, Консуэгра и
Алькасар-де-Сан-Хуан -- все еще оспаривали друг у друга честь считать своим
уроженцем автора "Дон Кихота". Хотя, собственно говоря, вопрос этот казался
бы в настоящее время не столь важным, потому что великие гении теперь уже
являются как бы всемирными гражданами.
Род Сервантеса чисто кастильского происхождения. Мигель, день рождения
которого так и остался неизвестным, а крещен он был, как уже сказано 9
октября 1547 г., был вторым сыном Родриго де Сервантес и его жены Леоноры де
Кортинас, которые в то время, кроме новорожденного, имели уже троих детей:
сына Андреса и дочерей Андреа и Люису Дед Мигеля, лисенсиат Хуан де
Сервантеса, был адвокатом в Кордове и считался хорошим юристом; отец же
будущего великого писателя, Родриго де Сервантес, лекарь, жил в Алькала, был
беден и к тому же глух. Практику он, надо думать, имел самую незначительную.
Хотя Алькала в то время и славился своим университетом, но богатые и знатные
испанцы предпочитали слушать курс наук в Саламанке, куда их влекли
развлечения и веселая жизнь. Таким образом, в Алькала хотя и было много
учености, но мало денег. Бедному лекарю с его семьей становилось все труднее
жить, тем более что у него в 1550 г. родился пятый ребенок, сын Родриго, а в
1555 г. в Вальядолиде, куда, по имеющимся сведениям, переселились
Сервантесы, еще и шестой -- дочь Магдалена.
Около этого времени умер прославленный император Карл V, и восседавший
на испанском престоле мрачный, скрытный и фанатичный Филипп II со всем
двором переехал в Мадрид, который он избрал себе столицей, и стал возводить
в его окрестностях знаменитый монастырь Эскориал. Имеются сведения, что в
Мадрид перебрался вскоре и Родриго де Сервантес со своей семьей, и тут у
него родился седьмой ребенок -- сын Хуан. Но жизнь здесь оказалась настолько
дорогой, что скоро явилась необходимость уехать. Леонора де Кортинас с
дочерью Люисой вернулась в Алькала, чтобы ухаживать там за своей тяжко
больной матерью, доньей Эльвирой де Кортинас. Люиса, которой тогда было лет
16 или 17, вскоре, в 1565 г., поступила в кармелитский монастырь в Алькала.
Остальная часть семьи Родриго де Сервантеса с ним и старшей его дочерью --
красивой и симпатичной Андреа, занявшей место матери, -- уехали в Севилью,
где, всего вероятнее, а не в Сеговии или Мадриде, Мигель видел Лопе де
Руэду, в то время наиболее популярного и известного человека в Севилье, и
его комедии и "pasos", заключающие в себе в зародыше весь испанский театр и
содействовавшие, быть может, не менее чего-либо другого воспитанию
Сервантеса. Во всяком случае, он тридцать лет спустя еще с восторгом
вспоминал о Лопе де Руэде.
Из того немногого, что мы знаем о детстве и первой юности Мигеля де
Сервантеса, можем лишь отметить его любовь к поэзии, проявившуюся у него,
как он говорит, с самых нежных лет, и такую склонность к чтению, что, по
собственному его признанию, он подбирал даже рваные бумажки на улице, чтобы
читать их. Какие книги предпочитал Сервантес? На этот вопрос мы можем
ответить только гадательно.
В ту эпоху, когда родился Сервантес, атмосфера Испании была как бы
насыщена идеями величия, пылкой деятельности, духом завоевания и неслыханных
и необычайных приключений. Государство и церковь, меч и крест, монах и
солдат -- все одинаково стремились властвовать и порабощать. Идеал
доблестной деятельности олицетворялся, по-видимому, для тогдашнего общества
в романах странствующего рыцарства или в рыцарской эпопее. Короли не всегда
вели войны против мавров или язычников; часто войны их были и несправедливы
и направлены против братьев; битвы же рыцарей оправдывались благородной
целью и велись всегда лишь против великанов и разбойников -- символов зла.
Очень вероятно, что и Сервантес, предпочтительно перед другими книгами,
читал Амадиса и рыцарские романы, а может быть, в то время были в ходу и
детские игры в странствующих рыцарей, и забрало из картона, сделанное Кихана
Добрым для своего шлема, -- одно из воспоминаний детских игр Мигеля. Так ли
обстояло дело или нет, неизвестно, потому что, как мы уже говорили,
достоверных биографических сведений о детской и ранней юношеской жизни
Сервантеса нет.
Есть сведения о том, что в 1565 или в 1566 г. беспокойная семья
Сервантесов снова переселяется в Мадрид, куда Мигель явился, если и не
пройдя школьного курса, о чем нам ничего не известно, то уже, надо думать,
несколько сведущий в школе жизни, так как при скудости средств его
родителей, вероятно, и ему приходилось сталкиваться с нуждой и иными тому
подобными впечатлениями. Около этого времени умерла донья Эльвира де
Кортинас, оставив маленькое наследство -- виноградник, который и был продан
за 1025 реалов, и на эти деньги семья устроилась в Мадриде. Здесь, в школе
городского совета, Мигель проходил класс грамматики. В 1569 г., когда юноше
шел 22-й год, он впервые выступил на литературном поприще. Случилось это
следующим образом.
Дон Карлос, наследник испанского престола, умер 24 июля 1568 г. Через
два с половиной месяца, 3 октября, умерла его мачеха, Изабелла де Валуа,
третья жена Филиппа II. В числе других и профессор словесных наук в Мадриде,
Хуан Лопес де Ойос (Hoyos) издал ранней весной 1569 г. сборник стихов на
смерть юной королевы. Здесь впервые появился в качестве поэта молодой
Сервантес, которому его учитель, маэстро Лопес Ойос, а также и вся школа
(потому что в то время ничего не делалось в классе без участия учеников),
поручили сочинить требуемые эпитафии, аллегории и т. д. Сервантес написал
четыре redondillas, кастильскую copia, элегию в терцетах в 199 стихов и
эпитафию в виде сонета. Маэстро Ойос уделил особое и очень лестное внимание
этим произведениям своего "дорогого и любимого ученика", как он называет
Сервантеса. Говорили очень много и повторяли очень часто, но совершенно
несправедливо, будто Сервантес был лишен всякого поэтического таланта, и
поэтому стоит остановиться на первых юношеских его стихах. Они были не хуже
и не лучше стихов других тогдашних поэтов, хотя и забытых теперь, но в свое
время справедливо пользовавшихся известностью. Во всяком случае, в ту пору
стихи его были признаны очень хорошими, и торжество его было полное.
Вскоре мы видим юного поэта в Италии, куда он уехал в свите кардинала
Аквавива. Каким образом это случилось, просил ли кто за Сервантеса, или
молодой кардинал -- ему было всего 24 года -- лично знал молодого писателя и
симпатизировал ему, и по какой причине уехал Сервантес, просто ли из желания
видеть свет, или вынужденный к бегству из Испании вследствие дуэли, как
некоторые рассказывают, -- факт тот, что он уехал в Италию с монсеньором
Юлио, сыном герцога де Атри-Аквавива, прибывшим в Мадрид с официальной
миссией выразить от имени папского престола соболезнование Филиппу II по
поводу смерти его сына Карлоса.
В Италии Сервантес пробыл двенадцать лет. По всей вероятности, Мигель
не проходил университетского курса, и все дает повод думать, что
действительно оно так и было; достоверно то, что он не получил никакой
ученой степени, но тем не менее он был очень начитан, и это ясно видно из
его произведений. В бытность свою в Италии, где юный поэт больше, чем ее
монументами и соборами, восхищался "vida libre de Italia" (свободной
итальянской жизнью), он научился итальянскому языку и близко познакомился с
итальянской литературой. Но при дворе кардинала Аквавива, где он был
camarero, Сервантес оставался недолго. Эта праздная и ничтожная жизнь не
могла, конечно, прийтись по вкусу юноше со столь живым умом и такой
беспокойной душой. В 1570 г. он записался солдатом в полк Диего де Урбины.
В те времена профессия оружия считалась наиболее почетной, что было
очень естественно в обществе, где, с одной стороны, режим абсолютизма
парализовал индивидуальную энергию, индивидуальные силы и деятельность, а с
другой стороны, деспотизм католицизма парализовал духовные силы. Сервантеса
тем более привлекала военная служба, что носились слухи о готовящейся войне
с турками. Но пока уполномоченные трех держав -- Венеции, Испании и папского
престола -- занимались в Ватикане дипломатическими препирательствами по
поводу Св. лиги, договор которой был формально объявлен в соборе Св. Петра
только 25 мая 1571 года, Селим II не дремал. Турки еще 9 сентября 1570 г.
взяли штурмом Никосию, падение которой вынудило весь Кипр сдаться
завоевателю, исключая лишь крепость Фамагосту, героически продержавшуюся
целых одиннадцать месяцев против осаждавших ее турок. Но и эта крепость пала
1 августа 1571 г., а о падении ее и кровавой, неслыханно зверской расправе
турецких янычаров по приказанию Селима со славными защитниками Фамагосты и
всеми ее жителями, перебитыми или отправленными на турецкие галеры для
долгого мученичества, дон Хуан Австрийский, избранный генералиссимусом над
соединенными силами Лиги, узнал только лишь 5 октября, когда он со своим
флотом (где находился и солдат Сервантес) прибыл в Кефалонию.
Эти известия, из числа тех, которые "сердца трусов превращают в сталь и
кровь сонливых в пламя", распространились по флоту и еще более разожгли
пылкое желание христианских войск сразиться с неприятелем. В воскресенье, 7
октября, когда, вскоре после полудня, раздался первый пушечный выстрел,
Сервантес, лежавший в постели в жесточайшей лихорадке, выскочил на палубу,
едва держась на ногах. В ответ на увещания своего капитана и двух товарищей,
Матео де Сантистебана и Габриэля де Кастаньеды, он просил лишь об одном:
"поставить его в самое опасное место, где бы он мог умереть, сражаясь". Как
видно, свойственные Сервантесу идеализм и кихотизм сказались уже и тут.
Сражение при Лепанто увенчалось полной победой. За исключением лишь
нескольких судов, все неприятельские суда были захвачены или уничтожены,
турецкий адмирал убит, его сыновья взяты в плен. Сервантес, которому двумя
пулями прострелили грудь и одной пулей левую руку, гордился всю жизнь тем,
что он -- "tuve, aunque humilde parte" -- принял, хотя и скромное участие, в
этой знаменитой битве, где он лишился левой руки для вящей славы правой, как
он говорит в своем "Viaje de Parnaso", ("Путешествии на Парнас"). На этом
его отношении к военному делу и построена столь известная речь (часть I,
глава 38) Дон Кихота по поводу оружия и словесных наук. После Лепанто
Сервантес пролежал в госпитале шесть месяцев, и дон Хуан с маркизом де ла
Крус, посещая раненых, обратили особенное внимание на солдата, отличившегося
такой отвагой и храбростью.
Однако блестящая победа при Лепанто оказалась бесплодной, так как
двоедушные венецианцы, потихоньку от союзников, заключили постыдный мир с
турками, а Филипп II, который всегда руководствовался своим любимым
политическим принципом: "глаза, которые не видят, сердце, которое не
чувствует", завидуя славе, приобретенной доном Хуаном в сражении при
Лепанто, не посылал ему ни денег, ни съестных припасов для армии, ни
лекарства для госпиталей.
После Лепанто Сервантес еще сражался и везде с честью: при Корфу,
На-варине, Тунисе. Но Голета была взята штурмом, Тунис пал, и испанскому
флоту пришлось вернуться в Неаполь. Здесь Сервантес, оставшийся бедным
солдатом, пробыл еще почти год под командой герцога де Сесса, вице-короля
Сицилии. Первая его молодость была у него уже за плечами, и в сентябре 1575
г. он просил и получил разрешение вернуться в Испанию. Заручившись
рекомендательными письмами от дона Хуана и герцога де Сесса, Сервантес с
братом Родриго, тоже служившим в Италии, и многими другими лицами, отплыл на
испанской галере El Sol. Но неблагоприятная и завистливая судьба
преследовала его. Утром 26 сентября флотилия алжирских корсаров под командой
арнаута Мами, налетела на Sol и после отчаянного сопротивления испанцев,
сражавшихся, как львы, завладела всем экипажем, в том числе и Сервантесом.
Итак, вместо радостного возвращения в отчизну и справедливой награды,
солдат-поэт оказался обреченным на жестокий плен и мученическое заточение в
Алжире, куда он был отвезен в оковах.
Вместе с братом Родриго он попал невольником к Дали Мами, греческому
ренегату, прозванному El Cojo (Косой), который командовал одной из алжирских
галер в то несчастное сентябрьское утро 1575 г. Рекомендательные письма дона
Хуана и герцога де Сесса сослужили плохую службу Сервантесу. Его хозяин Дали
Мами вывел из них заключение, что за такого пленника можно получить большой
выкуп, так как человек, имеющий подобные документы, наверное, лицо
значительное, и Сервантеса отвели в bano del Rey, где были заключены
наиболее знатные пленники. Пять лет пробыл Сервантес в неволе, и этот период
хотя и самый печальный в его жизни, вместе с тем в известном смысле и самый
яркий. Война и сражения доказали личную храбрость Сервантеса, но плен и
неволя выяснили закал его души и благородство его сердца в борьбе с
обрушившейся на него злополучной судьбой.
Если свободный человек, стойко борющийся с гонениями и превратностями
судьбы и побеждающий их, представляет собою при человеческой слабости
зрелище утешительное, то пленник, сфера действия которого почти ничтожна и
каждый его шаг затруднен, имеющий силу победить свою судьбу, -- такое
зрелище, которое не может не вызвать изумления. Читая "Дон Кихота", невольно
у нас в уме встает образ его автора. Разве прототипом безумного рыцаря,
столь симпатичного своею доблестью, возвышенными иллюзиями, презрением к
явным опасностям и желанием тысячу раз принести себя в жертву на благо
ближних, не является сам Сервантес? В наиболее героической эпохе его жизни и
в лучшей его книге мы и тут и там видим борьбу. В Алжире -- борьбу за
свободу материальную, в "Дон Кихоте" -- за умственную и духовную, в неволе в
Берберии -- за освобождение тела, в повести рыцаря Идеала -- за освобождение
духа.
Вся история плена Сервантеса читается как глава из какого-то бурного,
несбыточного романа. В качестве наиболее героической натуры Сервантес
становится как бы признанным вождем своих товарищей по неволе, центром их
надежд. В упавших духом он поддерживает бодрость, он устраивает для
заключенных драматические представления, быть может, сам играет в
собственных, затерявшихся потом пьесах или в комедиях старого своего любимца
Лопе де Руэды. Вместе с тем изобретательный ум его беспрестанно носится с
разными планами бегства, которые он и пытается привести в исполнение.
Одаренный мужеством, великодушием, презрением к опасностям, Сервантес любит
все выходящее из ряда вон, а больше всего любит свободу. Тем не менее, хотя
ему не раз представлялся случай бежать одному, он отказывался, желая
освободить и своих товарищей по несчастью.
Лишь только его заключили в bano del Rey -- где, как мы уже говорили,
были заточены наиболее значительные пленники, -- он начинает придумывать
план бегства. В первый раз Сервантес доверился мавру, который обещал
провести его и его товарищей по заключению в Оран, ближайший пункт, занятый
испанцами. Проект был рискованный, но желание свободы взяло верх. Однако в
первый же день проводник бросил несчастных, и они были вынуждены вернуться в
тюрьму и к оковам. Сервантес объявил, что зачинщик всего он. По-видимому,
желание Дали Мами получить большой выкуп за "однорукого" спасло на этот раз
Сервантеса от смерти, хотя и не спасло его от усиленных оков и строгой
тюрьмы. Когда в 1577 г. Габриель де Кастаньеда был выкуплен и уехал в
Испанию, Сервантес послал с ним письма к родителям, в которых извещал их о
судьбе своей и Родриго. Отец и мать, а также и сестры после больших усилий и
хлопот собрали наконец сумму в 300 червонцев. Но эти деньги были
презрительно отвергнуты алчным Дали Мами как выкуп за Мигеля, и на них был
выкуплен в августе 1577 г. только лишь Родриго Сервантес, не имевший
рекомендательных писем.
Тогда же будущий автор "Дон Кихота" придумал план второй попытки
бегства. Он поручил Родриго и другому выкупившемуся невольнику Виана
выхлопотать присылку вооруженного фрегата, который пристал бы к берегу в
указанном месте. В трех милях от Алжира, в саду греческого ренегата Алкаида
Ассана, еще за несколько месяцев до выкупа Родриго, Сервантес с помощью
садовника того ренегата, испанца родом из Наварры, выкопал пещеру, в которой
спрятались четырнадцать христиан, пробывших в пещере около шести месяцев.
Съестные припасы приносил им туда по поручению Сервантеса раскаявшийся
ренегат, известный под именем El Dorador. 28 сентября Виана прибыл со столь
страстно ожидаемым скрывшимися пленниками фрегатом, а за неделю перед тем и
Сервантес бежал и присоединился к своим товарищам в пещере. Фрегат Вианы
готовился пристать к берегу, когда несколько случайно проходивших мавров
подняли такой крик и шум, что христиане должны были поспешно отчалить.
Скрывшиеся в пещере пятнадцать пленников томились в ожидании столь страстно
желанного избавления. Но "дьявол, враг человеческий, вложил в сердце
ренегата вернуться снова в ислам", говорит Наедо, автор "Topographia
Historia General de Argel", поэтому el Dorador отправился в Алжир и раскрыл
весь заговор алжирскому бею Ассану.
Солдаты окружили пещеру и захватили всех бывших там вместе с некоторыми
из экипажа фрегата, вернувшегося во второй раз. Сервантес тотчас же опять
взял всю вину на себя и объявил, что один он организовал план бегства и
уговорил остальных присоединиться к нему. Его повели к Ассану, угрожавшему
ему пыткой и смертью, но бесстрашный
Сервантес стоял на своем, повторяя, что один он виноват и никто другой.
Повлияло ли на столь прославившегося своей жестокостью тирана твердость,
спокойствие духа и презрение к смерти Сервантеса, или это произошло по
какой-либо другой причине, так и осталось неизвестным, но Ассан пощадил
жизнь Сервантеса, и только бедный садовник был мученически казнен. Ассан
даже купил за пятьсот червонцев Сервантеса у Дали Мами, говоря, что он может
быть спокоен насчет города, только если "однорукий" испанец будет находиться
у него в тюрьме. Однако не успели заключить туда Сервантеса, как он в третий
раз сделал попытку бежать, послав через мавра письмо в Оран, к командующему
там испанскому офицеру. К несчастью, мавр был обыскан уже вблизи ворот
Орана, схвачен и казнен, а Сервантес и в этот раз избег смерти. Но
неисправимый пленник в четвертый раз, в сентябре 1579 г., приложил новые
усилия к бегству.
С ренегатом из Гренады по имени Хирон, желавшим вернуться в Испанию, и
двумя купцами из Валенсии Сервантес сговорился, чтобы в Алжир прибыл
вооруженный корабль, на котором он и еще шестьдесят невольников могли бы
скрыться. План этот был накануне исполнения, когда проявил себя иудой
доминиканский монах по имени Блянко Пас и флорентийский ренегат Кайбан.
Сервантес в четвертый раз взял всю вину на себя и с веревкой на шее был
приведен к Ассану. Все угрозы бея опять оказались тщетны; Сервантес твердил
одно: с четырьмя другими лицами, уже выкупленными и уехавшими в Испанию, он
устроил это бегство, остальные же ничего не знали о его планах. И на этот
раз Ассан, представлявший собой настоящее чудовище по жестокости и
развращенности, самым непонятным образом опять пощадил жизнь Сервантеса,
которого между тем он сам считал столь опасным человеком и в уме которого
действительно носились еще более грандиозные планы, чем все предыдущие,
именно: умысел восстания всех двадцати тысяч христианских невольников,
находившихся в Алжире, и захват города во власть Испании. Летом 1579 г.
Сервантес написал письмо в стихах к Матео Васкесу, испанскому
государственному секретарю, оканчивающееся мольбой к Филиппу II прислать
"освободительный" флот для захвата Алжира. Письмо это было впоследствии
затеряно, и только в 1863 г. оно было найдено в архиве графа де Альтамира.
Наконец состоялся выкуп Сервантеса, но и то случайно. В далеком Алькала
родители Сервантеса и сестра его Андреа выбивались из сил и прилагали
всевозможные старания, чтобы добыть нужную сумму для выкупа Мигеля. Но им
удалось собрать всего лишь триста червонцев, которые монахи-редемторы
(выкупатели) -- отец Хуан Хил и Антонио де ла Белла -- взяли с собой,
отправляясь в Алжир. Они везли также 500 червонцев для выкупа знатного
кабальеро Херонима Палафокса; но за него потребовали вдвое больше, и все
уговоры и просьбы оказались тщетными. Тогда отец Хил убедил наконец Ассана
взять пятьсот червонцев за Сервантеса, который уже находился в оковах на
галере, увозившей бея в Константинополь.
Этот день -- 19 сентября 1580 г.,-- когда Сервантес вышел на берег
свободным человеком, он считал самым счастливым днем своей жизни. Но до
отъезда в Испанию у него было еще одно неотложное дело. Хуан Блянко де ла
Пас, выдававший себя за члена инквизиции, ярый враг Сервантеса, пытался
добыть целый ряд свидетельских показаний с целью клеветническими, гнусными
изветами и лживыми сведениями о жизни Сервантеса повредить ему и в Испании.
Тогда, в свою очередь, Мигель составил документ, заключающий в себе полную
историю его неволи и состоящий из 25 вопросных пунктов, подписанных
двенадцатью свидетелями. Таким образом, мы имеем в высшей степени
достоверный документ о самом драматическом и интересном периоде жизни
Сервантеса и целом ряде героических его поступков. Так завершилась история
его неволи, и 18 декабря 1580 г. Сервантес прибыл в Мадрид. Но здесь
перспективы оказались для него не особенно утешительными. За два года до
выкупа Мигеля его покровитель дон Хуан Австрийский умер, и всякая надежда
получить повышение на военной службе исчезла. Имеются сведения, что
Сервантес после прибытия в Мадрид служил в войсках в Португалии и на
Азорских островах, также как и его брат Родриго, который там отличился и был
произведен в прапорщики. Алчные глаза Филиппа II уже давно были устремлены
на Португалию, с самого момента гибельного поражения и смерти молодого
короля Себастиана на злополучном поле битвы Аль-Казара-аль-Кебир в августе
1578 г., после чего все королевство пришло в полное расстройство и
беспорядок. Пожилой кардинал Энрике, наследовавший престол Себастиана, в
конце краткого и беспокойного царствования умер в январе 1580 г., и вслед за
тем явились целые шесть претендентов на португальскую корону. Филипп II
давно предвидел такое стечение обстоятельств, и флот, который Сервантес в
упомянутом нами письме к Матео Васкесу просил прислать для "освобождения"
христианских невольников в Алжире, был послан под командой маркиза
Санта-Крус для блокады Лиссабона и порабощения Португалии. Благодаря войску
под начальством герцога Альбы, а также подкупам и дипломатическим уловкам
дона Христобала де Мура, Филиппу как известно, действительно удалось надеть
себе на голову корону Португалии.
В бытность его в Лиссабоне Сервантесу очень понравился город и его
жители, которых он в своем "Персилесе и Силизмунде" осыпает похвалами за их
приятное, любезное обхождение, а также восхищается красотой португальских
женщин. Впрочем, Сервантес питал добрые чувства ко всем: и к маврам, и к
португальцам, и даже к англичанам, в то самое время, когда испанские
патриоты их ненавидели и считали английскую королеву каким-то чудищем рода
человеческого. Сервантес ездил также, по некоторым сведениям, с официальным
поручением в Оран и в Мостаган. Но, как бы то ни было, во всяком случае, он
вернулся в Испанию осенью 1582 г. И с этого времени он принадлежит
литературе. Комедии, написанные им в Алжире, потеряны, и из той эпохи
сохранились лишь только два сонета и письмо в стихах к Матео Васкесу. Но,
должно быть, Сервантес еще до выкупа писал немало стихов, так как в своем
"Pastor de Filida" (1582), Галвес де Монталбан говорит о нем как об
известном поэте, а Падилья называет его знаменитым кастильским поэтом.
Пастушечий роман Сервантеса "La Galatea" появился в 1584 г., а идея
этого произведения зародилась у него, по-видимому, в Португалии, родине
Монтемайора, лучшего автора пасторалей. Книгоиздатель Бляс де Роблес дал за
нее Сервантесу 1336 реалов, что для того времени не такая уже малая сумма.
Но если в денежном отношении успех оказался довольно незначительным, зато
"Галатея" дала автору известность, и он, по-видимому, чувствовал к ней
особенную нежность, так как много раз в течение тридцати лет обещал ее
продолжение, -- но эта обещанная вторая часть так и не появилась.
Вернувшись из Лиссабона, Сервантес познакомился с некоей Анной Франка
-- матерью его единственной дочери, Изабеллы де Сааведра, впоследствии
узаконенной им. Об Анне Франка ничего неизвестно, кроме ее имени и того, что
любовь эта длилась недолго, и Анна Франка вышла замуж за некоего Алон-со
Родригеса, а Сервантес -- ему было тогда 37 лет -- в декабре 1584г. женился
на 19-летней донье Каталине де Саласар Паласиос-и-Восмедиано, жившей в г.
Эскивиас. Средства невесты были также довольно незначительны: сад, два или
три виноградника, несколько кур, небольшая домашняя обстановка. Вскоре после
свадьбы Сервантес с женой переехал жить в Мадрид, где весной 1585 г. отец
его, старый Родриго, заболел и в июне умер.
Вскоре Сервантес является в качестве драматурга. К сожалению, из
двадцати или тридцати его пьес, которые, по словам их автора, давались на
сцене, должно быть, одновременно или немного спустя после выхода в свет
"Галатеи", до нас дошли только две: "Eltrato de Argel" ("Жизнь в Алжире") и
"La Numancia". Комедии Сервантеса игрались, вероятно, между 1583 и 1585 г.,
и около этого времени у него было много литературных связей и друзей;
наиболее близкими его друзьями были тогда поэты Педро Лайнес, Лопес
Мальдонадо, Педро де Падилья и Висенте Эспинель.
На сцене пьесы Сервантеса имели успех, но, по-видимому, удержались
недолго, а распространенное мнение, будто "это чудо природы", Лопе де Вега,
вытеснил его из театра, лишено всякого основания, потому что пьесы Лопе
появились на сцене уже после 1588 г., когда Сервантес имел занятия в
Севилье. К тому же он и сам заявляет в своем прологе к "Ocho comedias"
следующее: "Уменя оказались другие дела, которыми я должен был заняться; я
бросил перо и комедии; и вскоре появилось чудо природы, великий Лопе де
Вега, ставший монархом театра" и т. д. Немного дальше он добавляет:
"Несколько лет как я вернулся к былой моей праздности, и, думая, что еще
продолжаются годы, когда я был осыпан похвалами, я сочинил несколько
комедий, но не нашел птиц в прошлогодних гнездах" и т. д.
В 1585 г. родилась дочь Сервантеса от Анны Франка. По этой ли причине
или вследствие плохих денежных обстоятельств семьи донья Каталина вернулась
к себе в Эскивиас с матерью и братом, священником Франциском де Паласио-сом,
а Сервантес уехал в Севилью, где получил занятия. Большую часть последующей
своей жизни Сервантес провел в разлуке с женой, которая, по-видимому, не
очень тяготилась этим. Быть может, она искренно любила мужа и была ему
доброй и верной женой: сама бездетная, впоследствии она даже согласилась
узаконить его дочь от Анны Франка, Изабеллу. Но все же, по имеющимся
сведениям, донья Каталина не была героиней, она не могла делить с мужем его
скитальческой жизни и, слабохарактерная, не сумела противостоять влиянию
матери и брата, так что добрая и верная жена тайком от мужа в мае 1609 г.
сделала завещание, в котором почти совсем обошла Сервантеса и все свое
имущество записала за братом своим, священником; а под конец жизни она
сделалась сухой ханжой.
В конце 1588 г. Сервантес был назначен одним из четырех помощников
Антонио де Гевары, главного поставщика провианта для Непобедимой армады
(Armada Invencible), т. е. испанского флота, который Филипп II готовил, имея
в виду войну с Англией. Вся злополучная эпопея этой самой Непобедимой
армады, начиная с ее прилагательного,-- яркая иллюстрация все более и более
распространявшегося упадка Испании. Кастильская доблесть стала размениваться
на фанфаронство; главнокомандующим армадой оказался назначенный Филиппом II
трус и полнейшее ничтожество во всех отношениях, маркиз де Медина Сидония, а
главной и даже единственной целью снаряжаемой армады было торжество
католической веры в Англии.
Обязанности комиссара по доставке провианта сильно тяготили Сервантеса,
и весной 1590 г., узнав о том, что имеются три или четыре вакантные
должности в Индии, он подал прошение председателю Совета по делам Индии о
предоставлении ему какой-либо из указанных четырех вакансий. Но сеньор
Нуньес Моркечо, председатель Комитета, положил на это прошение следующую
столь известную свою резолюцию: "Busca рог аса en que se le haga merced"
("Ищите здесь, т. е. в Испании, в чем вам могла бы быть оказана милость"). В
1591-1592 гг. Сервантес служит снова по комиссариатским делам под
начальством Педро де Исуны, закупая пшеницу, масло, горох и иной провиант.
Наконец в августе 1594 г., он получил новое назначение сборщика податей.
Жизнь Сервантеса теперь, после героической ее эпохи, шла однообразно,
как и жизнь всякого бедного человека, в борьбе за насущный хлеб. Долгие годы
-- около двадцати лет -- провел он, получая плату по 12 реалов в день, делая
покупки провианта для нужд Непобедимой армады, или же собирая подати по
городам, деревням, постоялым дворам и местечкам Андалузии, и хотя эти его
занятия были самыми ненавистными, трудными и неблагодарными, которые он
когда-либо исполнял в жизни, тем не менее, его скитальческие годы не пропали
даром. Они дали ему случай ближе присмотреться к повседневной жизни, к жизни
крестьян и других низших классов Испании; и без этих скитальческих годов
Сервантеса, возможно, что у нас и не было бы "Дон Кихота". С жизнью
героической Сервантес был знаком в Ле-панто, с веселой и свободной -- в
Италии, с трагической и жестокой -- в Алжире, с утонченной и придворной -- в
Мадриде и Лиссабоне. Но ту среду, которая составляла и составляет наибольшую
часть нации -- народ, -- Сервантес мало знал. Теперь же, странствуя по
дорогам, ежедневно находясь в селах и местечках, он хорошо узнал народ, а
также близко ознакомился с Андалузией.
Время от времени Сервантес от сбора провианта и податей обращал мысли
свои к литературе. Так, в 1591 г. он написал стихи для сборника Андреса де
Виллальбы: "Elorde variosy nuevos romances" ; в 1592 г. заключил контракт со
знаменитым толедским актером Родриго Осорио, обязавшись написать шесть
комедий, по 50 червонцев за каждую, с тем чтобы эти комедии "были лучшими,
когда-либо игравшимися в Испании". Насколько известно, Сервантес не написал
требуемых шести комедий, но этот контракт -- интересный документ,
доказывающий, что актеры, по-видимому, верили Сервантесу и его
драматическому таланту. В 1595 г. автор "Галатеи" участвовал в поэтическом
турнире в Сарагосе, устроенном доминиканцами в честь св. Хасинто, и получил
первую премию. В 1596 г. он написал сонет в честь маркиза Санта-Крус и
известный свой сатирический сонет "Vimos en julio otra Semana Sonta..." ("Мы
видели в июле другую страстную неделю...") по поводу вступления столь
ничтожного герцога де Медина-Сидониа в Кадикс, после того как город был
разграблен англичанами под предводительством графа Эссекса и покинут ими. В
1597 г., находясь в Севилье, когда там умер Фернандо Эррера, Сервантес
написал сонет в честь знаменитого поэта, уроженца Андалузии; в 1598 г. он
напечатал два сонета и несколько quintillas по поводу смерти в сентябре того
года Филиппа II, смерти, вследствие которой по всей Испании устраивались
пышные похоронные службы, а в Севилье возведенный там катафалк, как и
служба, отличались необычайным великолепием. Но в церкви произошла шумная
ссора между представителями инквизиции и гражданской власти, и ссора эта
разрослась в великий скандал. Случай представлялся очень подходящий для
сатирика, и Сервантес написал свой известный сонет "Voto a Dios, que me
espanta esta grandeza..." ("Клянусь Богом, что меня пугает это
великолепие...").
Однако литературные занятия Сервантеса в те годы были очень
непродолжительны и кратки. Слишком много было у него угнетающих деловых
забот и хлопот. По своему темпераменту Сервантес менее всего был точен и
методичен, а в его должности требовалась величайшая аккуратность и
формализм. В 1595 г. он доверил из казенных денег по сборам податей 7400
реалов некоему севильскому купцу Симону Фреира де Лима, чтобы тот внес их в
Мадридское казначейство. Но Фреира обанкротился и скрылся. Весь этот год
провел Сервантес в сдаче счетов и имел массу неприятностей. Две трети долга
были наконец покрыты им; но так как остающуюся треть он не уплатил еще и в
1597 г., то в сентябре этого года он был арестован и посажен в тюрьму в
Севилье, где и пробыл три месяца, с сентября по декабрь. Еще раньше, в 1592
г., за то, что Сервантес забрал триста фанег пшеницы в г. Эсиха без
дозволения коррехидора, этот последний, дон Франциско Москосо, настоял на
том, чтобы его заключили в тюрьму в городе Кастро-дель-Рио, что и было
сделано, и он пробыл там несколько дней.
В бытность же Сервантеса в тюрьме в Севилье в ней находилось более 1800
заключенных, и шум и неудобства, по свидетельству его, были невыносимы. По
всей вероятности, здесь-то, в темнице, и был "зачат" "Дон Кихот", факт, о
котором упоминает его автор в прологе к I части "Остроумно-изобретательного
идальго". Впрочем, в те времена в Испании почти не было выдающегося
писателя, которому не пришлось бы побывать в тюрьме по той или по другой
причине. Сервантесу суждено было испытать это удовольствие еще два раза: в
конце 1602 г., когда его засадили снова в тюрьму в Севилье за неплатеж по
старым еще счетам и расчетам, а освобожден он был в начале 1603; и затем в
июне 1605 г., уже после того, как появился "Дон Кихот". Автора бессмертного
произведения, в то время жившего с семьей в Вальядолиде, заключили в тюрьму
по подозрению в убийстве кабальеро дона Гаспара де Эспелеты. Только такого
обвинения еще и недоставало гениальному писателю, для которого нужда,
забота, горе, плен, тюрьма были как бы старыми, неразлучными товарищами и
который столько уже видел и испытал в жизни.
А дело Эспелеты обстояло так. Этот молодой человек, рыцарь ордена
Сантего, один из праздных и пустейших донов Хуанов и сердцеедов в
Вальядолиде, в числе других своих романов вступил весной 1605 г. в связь с
женой актуариуса или судебного пристава, по имени Гальбан. 27 июня,
возвращаясь с обеда своего приятеля, маркиза де Фальсеса, на площади близ
фонтана он был смертельно ранен человеком, который затем скрылся в темноте.
На крик о помощи раненого Сервантес, живший рядом с тем местом, выбежал на
улицу, и с ним Люис де Гарибай, сын его соседки по квартире. Они подняли
умирающего и внесли его в комнату доньи Люисы де Монтоя, вдовы Эстебана де
Гарибая, старой знакомой семьи Сервантесов. Чрез два дня кабальеро Эспелета
умер, и Сервантеса со всей семьей: сестрами Андреа и Магдаленой, дочерью
Изабеллой и племянницей Костансой -- Каталина жила у себя в Эскивиасе -- так
же как и всех соседей его по квартире, арестовали и препроводили в тюрьму.
На Изабеллу де Сааведра, дочь Сервантеса, была взведена клевета; однако из
процесса она и все остальные вышли оправданными от предъявленных к ним
подозрений и получили свободу. Убийца Эспелеты, хотя и не был найден, но, по
всей вероятности, им был оскорбленный муж -- сеньор Гальбан.
В январе 1605 г. "Дон Кихот" появился в свет, а привилегия королевская
на издание книги отмечена 26 сентября 1604 г. Высказываемая иными критиками
мысль, будто Сервантес писал свое образцовое произведение на скорую руку, не
исправляя и не перечитывая его, чисто детское предположение. Теперь
доказано, что большая часть или, быть может, и вся первая часть "Дон Кихота"
была написана уже в 1602 г. и многие в Севилье хорошо знали это произведение
Сервантеса, так как он по обычаю того времени читал его и давал его читать в
рукописи. Более чем за шесть месяцев до выхода "Дон Кихота" доминиканец
Андрее Перес (Франциско де Убеда) упоминает о нем в своей "Picara Justina",
a 14 августа 1604 г. Лопе де Вега в частном письме говорит, что нет поэта
"столь плохого, как Сервантес, или такого глупого, чтобы хвалить Дон
Кихота".
Посвятил Сервантес первую часть своего " Остроумно-изобретательного
идальго" герцогу де Бекар, и, если верить преданию, случилось это следующим
образом. Герцог, узнав о содержании "Дон Кихота", отказывался принять
посвящение книги, опасаясь, что репутация его может пострадать, если он
дозволит во главе рыцарского романа поставить свое имя. Сервантес не стал
утруждать себя и герцога просьбами или объяснениями, которые, вероятно,
оказались бы безрезультатными, напротив, он немедленно подчинился воле
герцога и только испросил его согласие прослушать в тот же вечер главу из
"Дон Кихота". Довольствие, доставленное этим чтением обществу, собравшемуся
у герцога, было так велико, что по настоянию их была прочтена вся книга, и
пришедший в восхищение от нее герцог принял с восторгом посвящение, которое
он сначала отверг. Так ли было дело или нет, неизвестно, хотя ничего
невероятного тут нет.
Что касается текста посвящения, Сервантес списал его с посвящения
Фернандо де Эрерры маркизу де Аямонту, и сделал он это, как весьма
основательно предполагает дон Хуан Гарценбуш, вот почему: быть может,
посвящение Сервантеса герцогу Бекару было иное, быть может, оно не
понравилось почему-либо герцогу, и автор "Дон Кихота" прибег к остроумному
способу: он заимствовал предисловие другого автора и из другой эпохи,
намерения которого не могли быть заподозрены, и таким образом сумел сказать
то, что ему хотелось, вставив лишь несколько своих слов {Эти слова
напечатаны курсивом в нашем переводе посвящения Сервантеса герцогу де
Бекар.}, а между тем казалось, что он не от себя говорит.
Успех "Дон Кихота" был необычайный, и в 1605 г. появилось целых пять
изданий. У всех книга была в руках, и все наслаждались чтением бессмертного
произведения, кто смеялся, а кто, быть может, и размышлял. Двадцать лет
неудач и скитальческой жизни Сервантеса оказались не потерянными: наконец
настали и для Сервантеса дни радостные, и над ним загорелись лучи славы.
В 1608 г. или позже -- это еще достоверно не установлено -- Сервантес
поселился в Мадриде, а 9 октября 1609 г. здесь умерла любимая его сестра
Анд-реа, смерть которой, должно быть, была для него тяжелым ударом. Из всей
семьи Андреа более всего походила на брата: нежная, симпатичная, умная,
красивая, она неутомимо, с упорством любви хлопотала о выкупе брата из
неволи в Алжире, пожертвовав для этого даже своими маленькими средствами. А
когда она овдовела -- Андреа была три раза замужем, -- то, по-видимому,
постоянно жила с ним вместе. Гораздо раньше, именно в 1593 г., умерла мать
Сервантеса, Леонора де Кортинас, а в 1601 г. умер его брат Родриго; жена
его, донья Каталина, жила в Эскивиасе, и писатель остался с сестрой
Магдаленой и племянницей Констансой.
Что же касается его дочери Изабеллы, она вышла замуж за рыцаря ордена
Алькантара, дона Диего Сане дель Агиля, человека со средствами. Однако брак
этот был непродолжительным, так как через год зять Сервантеса умер, после
того как у него родилась маленькая дочь, внучка Сервантеса -- Изабелла Сане
дель Агиля. Овдовев, Изабелла де Сааведра вскоре, весной 1609 г., снова
вышла замуж за некоего Люиса де Молину, секретаря и агента итальянских
банкиров, братьев Траппа. С этим зятем у Сервантеса вышли впоследствии
неприятности. Молина был человек алчный и потребовал даже судом от
Сервантеса уплаты обещанных им, в приданое дочери, двух тысяч червонцев,
которые и были ему уплачены другом Сервантеса, Хуаном де Урбиной. В 1610 г.
донья Магдалена и донья Каталина вступили в орден монахинь Терсера, носили
монашескую одежду, и только еще молодость доньи Констансы несколько оживляла
скучный домашний очаг.
Около этого времени Сервантесу блеснула надежда, горько обманувшая его,
поехать в Неаполь с графом Лемосом, который был назначен туда вице-королем.
Граф Лемос -- дон Педро Фернандес де Кастро -- был сам поэт и писал стихи,
полные грусти и разочарования, хотя, собственно говоря, он мог бы считать
себя счастливейшим из смертных. Ему было 33 года, был он женат на красавице
донье Каталине де ла Серда, дочери герцога де Лерма, и достиг цели своих
желаний -- назначения вице-королем в Неаполь. Перед отъездом туда он приехал
в Мадрид в 1610 г., и здесь у него бывал и виделся с ним Сервантес. На
должность только что умершего секретаря своего, дона Хуана Рамиреса де
Арелльяно, граф Лемос пригласил корректного, щегольского, светского и
назидательного поэта Луперсио Леонардо де Архенсолу, который и приехал в
Мадрид с своим братом Бартоломео Леонардо. Сервантес, полагаясь на свою
старинную дружбу с Луперсио, просил последнего включить и его в число поэтов
и писателей, назначенных в литературную свиту неаполитанского вице-короля.
Архенсола обещал, но не сдержал обещания, и автор "Дон Кихота" не попал в
упомянутый список, вероятнее всего, вследствие интриги самих Архенсола,
опасавшихся превосходства над ними Сервантеса; назначенными оказались все
больше молодые поэты и не из перворазрядных. Нет сомнения, что это
разочарование его доставило глубокое огорчение Сервантесу, -- уже четыре
года спустя в "Viaje del Parnaso" ("Путешествие на Парнас") он упрекает в
несдерживании данного обещания двух братьев Архенсола.
В 1613 г. автор "Дон Кихота" издал свои "Novelas Exemplares"
("Примерные новеллы") -- сборник, заключающий в себе двенадцать небольших
прекрасных рассказов, написанных, по-видимому, в разное время. Уже в 47-й
главе первой части "Дон Кихота" Сервантес упоминает заглавие повести
"Ринконете и Кортадильо", включенной в "Novelas Exemplares", привилегию на
которые он продал своему издателю Франциско Роблесу за 1600 реалов и 24
авторских экземпляра. А перед тем, в 1604 г., он продал тому же издателю,
или "торговцу книгами" -- mercader de libres, как их тогда называли в
Испании, первую часть "Дон Кихота" всего-навсего за тысячу реалов. Несмотря
на великую славу свою, перешедшую даже за пределы Испании, Сервантес
продолжал томиться в бедности.
Не успели "Novelas Exemplares" выйти в свет, как их автор снова засел
за работу, и в 1614 г. появился его "Viaje del Parnaso", навеянный ему
чтением "Viaggio un Parnaso" итальянского поэта Цезаре Капорали, умершего
перед тем лет за двенадцать. Последние годы жизни Сервантеса были очень
плодовиты. В 1615 г. он издает свои "Ocho comedias у ocho entremeses
nuevos". Затем на поэтическом турнире в честь св. Тересы, основательницы
ордена Кармелиток, при самой торжественной обстановке стихотворение
Сервантеса, получившее одну из премий, было прочитано самим Лопе, что,
конечно, доставило удовлетворение Сервантесу. Но тут опять на него
обрушилось горе. Впрочем, ему было не привыкать переходить от счастливых
мгновений к дням величайшего огорчения и невзгод.
В то время как он не спеша работал над второй частью "Дон Кихота" и
дошел до 59-й главы, он с негодующим изумлением узнал о выходе в свет в
Тар-рагоне подложного продолжения "Дон Кихота", принадлежащего перу
анонимного автора, назвавшегося Алонсо Фернандес де Авельянеда. Кроме всего
остального этот аноним позволил себе еще в высшей степени грубое и дерзкое
глумление над личностью Сервантеса, осмеял его старость, язвил его тем, что
"язык его движется свободнее руки", -- руки, простреленной в битве при
Лепанто. Много предположений и гипотез было сделано относительно писателя,
скрывшегося под псевдонимом Авельянеды: указывали на Бляско Паса, Андреса
Переса, Люиса де Алиагу, Леонардо де Архенсолу, Аларкона, Тирсо де Молину, и
других: но все это отвергается теперь. Подозревали даже Лопе де Вега. Так,
например, Леон Майнес говорит, что если писала рука Авельянеды, то голос его
-- голос Лопе де Вега. Факт тот, что действительно отношения двух величайших
писателей Испании были не особенно дружескими.
В прологе к "Дон Кихоту" (в первой части) и в ее 48-й главе Сервантес
не совсем почтительно отнесся к прославленному драматургу, который так
привык к самой грубой лести, что малейшие критические намеки казались ему
непростительной дерзостью. Еще раньше, в конце 1600 г., Лопе приезжал в
Севилью, а здесь ходило по рукам написанное против него довольно едкое
стихотворение, принадлежавшее перу малоизвестного поэта и бездельника Алонсо
Альварес де Сориа. Лопе вообразил, что стихи принадлежат Сервантесу, и
ответил ядовитым сонетом, которым мнил похоронить навсегда автора "Галатеи".
Но едва ли Лопе мог дойти до такого неблаговидного поступка, как написание
им второй части подложного "Дон Кихота".
Как бы то ни было, а маску, надетую Авельянедой, не так-то легко
сорвать. Наиболее вероятной считается теперь гипотеза Менендеса-и-Пеляйо, по
мнению которого Авельянедой был некто Алонсо Ламберто, арагонец и
посредственный поэт, побежденный Сервантесом на поэтическом турнире в
Сарагосе. Во всей этой истории несомненны лишь две вещи: автор подложного
"Дон Кихота" был арагонец, и он был другом или почитателем Лопе де Вега. Как
бы то ни было, Сервантес поспешил окончить вторую часть своего "Дон Кихота",
которая и появилась в свет в 1616 г. и имела столь же громкий успех, как и
первая; а подложный "Дон Кихот" Авельянеды после того как бы перестал
существовать.
Сервантес приближался к семидесяти годам, но он все еще был столь же
энергичным, исполненным надежд и планов, как и во время своей неволи в
Алжире тому назад сорок лет. Он работал тогда над некоторыми произведениями,
о которых он и упоминает, именно: "Bernardo", "Las Semanas del Jardin", "El
Engano a los ojos" и "Las trabajos de Persiles y Sigismunda". К этому
последнему своему произведению Сервантес питал особенную слабость, но из
этого вовсе не следует -- как некоторые совершенно неосновательно пытались
доказать, -- будто он не сознавал всей громадной ценности "Дон Кихота",
написанного им "для всеобщего развлечения", по словам Сансона Карраско.
Любовь Сервантеса к "Персилесу", своему последнему произведению, сыну его
старости, нимало не уменьшало в глазах его значения "Дон Кихота", и он на
многих страницах своей книги высказывает высокое свое мнение о нем.
В последние годы жизни Сервантеса больному и бедному писателю оказывали
помощь два человека: толедский архиепископ дон Бернаро де Сандовал-и-Рохас,
и граф Лемос, которому за четыре дня до смерти, мучаясь в сильнейших
припадках водянки, 19 апреля 1616 г., умирающий Сервантес написал свое
прекрасное и трогательное посвящение к "Персилесу", начинающееся так: "Желал
бы я, чтоб старинный романс, в свое время очень известный и начинающийся
словами "Puesto ya el pie en el estribo", не приходился так кстати в этом
моем письме, потому что почти теми же словами я могу теперь начать его,
говоря: "Puesto ya el piХ en el estribo, con las ansias de la muerte, gran
senor, esta te escribo" ("Вложив ногу в стремя, в предсмертном томлении,
пишу тебе это, великий сеньор")".
Вот с какими словами, спокойно и мужественно, готовился встретить
смерть Сервантес. По мнению испанского доктора Гомеса Оканьи, написавшего
клиническую историю Сервантеса ("Historia clinica de Cervantes"), водянка
его была симптомом сердечной болезни. Гениального писателя похоронили бедно
и просто в монастыре монахинь de las Trinitarias, на улице дель Умильядеро,
и могила его ничем не была отмечена, ни надгробным камнем, ни надписью, а
когда монастырь перевели в 1633 г. на улицу Кангаранас, быть может, и прах
Сервантеса перевезли вместе
с останками монахинь. Во всяком случае, его могила никому не ведома.
Конечно, это печально, но еще печальнее то, что ничего не известно о судьбе
оставшихся после Сервантеса рукописей, именно: "Bernardo", "Las semanas del
jardin", комедии "El engano Бlos ojos" и второй части "Галатеи" и что
наследники и душеприказчики его не постарались сохранить и напечатать их
после него. Один только "Персилес" -- рукопись которого донья Каталина,
пережившая мужа на десять дет, продала издателю Виллароэлю -- увидел свет,
год спустя после смерти Сервантеса.
Переходя к обзору произведений Сервантеса, всемирная, громкая слава
которого зиждется, как известно, исключительно на "Дон Кихоте", нельзя,
однако, не отметить, что если бы Сервантес явился только автором одних лишь
лирических и драматических своих произведений, он все же не был бы
безразличным писателем в истории испанской литературы. Правда, лучших
отрывков "Viaje del Parnaso", изящества нескольких стихотворений из
"Галатеи", патриотического вдохновения "Epistola a Mateo Vasquez" и
бесспорной красоты трех-четырех его сонетов не было бы достаточно, чтобы имя
его звучало громче имени Педро де Падильи и других испанских лирических
поэтов его эпохи, забытых теперь, но в свое время пользовавшихся заслуженною
известностью. И в своих комедиях Сервантес, являясь предвестником Лопе де
Вега и не из числа обыденных, все же по значению их в летописях испанского
театра не встал бы выше Хуана де ля Куэвы или Кристобала де Вируеса. Но,
допустив, что достоинства его комедий относительные и ценность их не столь
велика сама по себе, сколько по сравнению с предшествующими им
произведениями, факт тот, что нам они кажутся хуже, чем они есть, потому что
с самого начала им вредит великое имя их автора. Перед блеском "Дон Кихота"
меркнут даже превосходные "Novelas exemplares" Сервантеса, а тем более
другие его произведения, а также комедии, над которыми тяготеет традиционное
и отчасти несправедливое осуждение, против чего теперь уже восстает более
проницательная и лучше осведомленная критика.
"Галатея" Сервантеса, изданная им в 1584 г., являет собой пастушечий
роман, или, как Сервантес называет его, эклогу. Творцом этого рода
литературы считают неаполитанцаЯкопо Саннацаро с его "Аркадией". Взятая им
нота нашла себе подражателей во всех странах: Португалии, Германии, Франции,
Голландии, Англии; и в "Галатее", кажущейся наиболее оригинальной, Сервантес
тем не менее в нескольких местах делает даже заимствования из Саннацаро.
Несмотря на многие недостатки этого юношеского произведения Сервантеса:
малоудачный вымысел, многословие, скука, искусственность, -- все же нельзя
отрицать в "Галатее" живости фантазии, богатства эпитетов, достаточного
количества образцов избранной прозы и того, что слог здесь, за исключением
лишь нескольких мест, везде прекрасный. Интересны также и включенные сюда
автором воспоминания его об Италии, Неаполе, Корфу и т. д. Сервантес -- как
известно, психология художника очень сложная вещь, -- жестоко осмеивающий в
"Разговоре двух собак" словами, вложенными им в уста Берганса, пастушечьи
эклоги, не только сочинил "Галатею" в юных годах, но и всю жизнь обещал
продолжение ее и думал о ней даже на смертном одре. Объясняется это, быть
может, тем, что в душе у него ютилась некоторая доля романтической
неудовлетворенности,
превратившейся в творческую энергию и искавшей в мире идей и в
фантастических событиях того, чего он не находил в действительности, которую
исследовал такими проницательными глазами. В ту эпоху ложной идеализации
военной жизни противопоставляли другую, не менее ложную, идеализацию
пастушеской идиллии, и самые великие писатели того времени -- Шекспир, Лопе
де Вега, Сервантес и другие -- заплатили ей дань в той или иной форме. Но
как бы то ни было, можно только пожалеть, что обещанная Сервантесом вторая
часть "Галатеи" не была им написана или, может быть, затерялась.
Что касается комедий Сервантеса, он написал их в 1584-1585 гг., по
собственным его словам, 20 или 30, имевших успех; затем, в 1615 г., издал
сборник, озаглавленный "Ocho comedias у ocho entremeses" ("Восемь комедий и
восемь интермедий"). Из первого периода до нас дошли только две комедии "La
Numancia" и "Trato de Argel" ("Жизнь в Алжире"), остальные же затерялись. В
"Adjunta al Parnaso" ("Добавление к путешествию на Парнас") Сервантес
называет заглавие некоторых из этих затерявшихся комедий, именно: "La
batalla naval" ("Морское сражение"), "El Bosque Amoroso" ("Благосклонный
лес"), "La Jerusalem", "La Amaranta 6 La del Mayo" ("Майский цветок"), "La
gran Turquesca", которая, быть может, идентична с "La gran Sultana",
напечатанной в сборнике 1615 г. С особенной гордостью говорит Сервантес о
"La Confusa" ("Приведенная в замешательство") и "La unicay la bizarra
Arsinda" ("Единственная и несравненная Арсинда"). Эта последняя комедия, как
видно, существовала еще в 1673 г., так как в то время Хуан Фрагосо называет
ее превосходной.
Лучшим из дошедших до нас драматических произведений Сервантеса
считается его "Numancia", которая давалась на сцене, вероятно, в 1585 или
1586 г., но оставалась ненапечатанной до 1784 г., когда Антонио де Санча
издал ее в одном томе с "Trato de Argel" и "Viaje del Farnaso". "Нумансией"
восхищались такие выдающиеся писатели, как Гете, Шелли, Шлегель, Сисмонди,
Тикнор, Гибсон и другие. Это действительно лучшая и, можно сказать, даже
единственная патриотическая испанская трагедия. Сюжет ее Сервантес почерпнул
из старого испанского романса, но он так вознес и возвысил этот сюжет, что
едва ли можно встретить во всем испанском театре что-либо более сильное и
величественное по героизму.
В этой драме, как и в "Puente Ovejuna" ("Овечьем источнике") Лопе де
Вега, действует и умирает целый народ. Сервантес был первый испанский
драматург, который сумел вывести на сцену толпу. Возвышенность
патриотического чувства доходит в "Numancia" до своего апогея, и героическая
энергия, и пафос здесь изумительны. Сюжет драмы -- знаменитая осада
римлянами под предводительством Сципиона Африканского испанского города
Нумансии и взятие его после 15-летнего сопротивления. У римлян было 80.000
солдат, у испанцев лишь 4000 или меньше, подвергавшихся разного рода
лишениям и ужасам. Когда победители наконец проникли в город, они не нашли
здесь в живых никого из нумантийцев. Все погибли от голода, а последний еще
оставшийся в живых, юноша Вириатус, бросился с башни.
Среди героических сцен выделяется патетическая история Морандро и Лира.
Более чем два столетия спустя, когда в войне за независимость, в 1808 г.,
Палафокс героически защищал Сараго-
су, осажденную французскими войсками под предводительством Жюно, Ланна
и Мортье, осажденные граждане Сарагосы под рев пушек, гремевших у стен
крепости, с патриотическим восторгом слушали "Нумансию" Сервантеса,
поставленную для возбуждения в них бодрости, и, быть может, вдохновенные
стихи Сервантеса помогли отразить неприятеля и спасти Сарагосу.
Не в одних эпических испанских преданиях черпал Сервантес сюжеты для
своих комедий, -- в душе и в уме у него жили еще воспоминания как о победе
при Лепанто, так и о своем плене; и из этих воспоминаний он извлек два
произведения: "La batalla naval" ("Морское сражение") -- комедия,
неизвестная нам, и "Trato de Argel". Заглавие "La batalla naval" показывает
сценическую отвагу Сервантеса: он изобразил, по-видимому, в своей комедии
великий и славный день Лепанто. Такая отвага -- первая в истории испанской
литературы -- имеет, несомненно, свое значение. "El Trato de Argel" носит
зато большею частью автобиографический характер. Здесь идет речь о жизни
христианских невольников в Алжире и изображена страстная любовь мавританки
Сары к невольнику Аурелио, который, в свою очередь, влюблен в Сильвию. В
"Ocho comediasy ocho entremeses" (интермедии) отметим последние, в которых у
автора берет верх веселый тон.
В 1613 г. вышли "Novelas Exemplares" Сервантеса, заключавшие в себе
двенадцать коротких повестей. В столь живо и изящно написанном прологе к
этим "Novelas", -- интересном, как и все его прологи, -- Сервантес
утверждает: "Me doy a entender, y es asi, que soy el primero, que he
novelado in lingua castellana" ("Я полагаю, и оно так и есть, что я первый
писал новеллы на испанском языке"). Утверждение это, в котором, как и во
многих других словах Сервантеса, сказывается сознание им высокого своего
литературного значения, вполне правильно, если под словом novela понимать,
как это следует делать, краткую повесть, единственную, которой в то время
давали это наименование, потому что до Сервантеса новелла представляла из
себя лишь сплошной перевод итальянских повестей или подражание им. В этом же
своем прологе к новеллам Сервантес объясняет, почему он их называет
exemplares: "потому что нет ни одной, из которой нельзя было бы извлечь
какой-нибудь полезный пример или урок".
Большинство этих повестей, написанных, по-видимому, в разное время,
коренятся в тонком наблюдении автором жизни и действительности. Повесть
"Ринконета и Кортадильо", о которой упоминается уже в 47-й главе 1 части
"Дон Кихота" -- одна из лучших, и место действия ее -- Севилья; а также и
сатирически-дидактический "Разговор собак" происходит в той же Севилье.
"Gutanilla" ("Цыганочка"), -- интересная история об украденной в детстве
цыганами девочке знатного рода, воспитанной ими. Из этой повести Вебер
заимствовал свою оперу "Прециоза" и Виктор Гюго Эсмеральду. Прекрасно
написаны и "El Licenciado Vidriera" ("Лисенсиат Стеклянный"), "Lo Espanola
Inglesa", "La illustre Fregona" и другие. Вообще, литературная ценность всех
"Novelas" Сервантеса очень значительная, и они ставятся в литературном
смысле тотчас же после "Дон Кихота" и ценятся очень высоко; а если они не
так широко распространены, то причиною этому их более местный характер и
отсутствие всемирных типов. Был ли Сервантес вполне свободен писать все, что
хотел, из происходящего кругом него, сомнительно, но, во всяком случае,
главные очертания в его "Novelas" верно схвачены с натуры. Как испанские
писатели, так и писатели других стран черпали не раз драматические темы и
вдохновение в этих примерных новеллах "испанского Боккаччо".
"Viaje del Parnaso" -- шуточная поэма, написанная в terza rima, хотя и
была навеяна на Сервантеса чтением "Elviaggio de Parnaso" итальянского поэта
Чезаре Капорали но в нее поэт вложил много своего, оригинального, и тип ее
чисто испанский. Здесь наиболее интересны для нас биографические сведения в
начале четвертой книги и личные воспоминания Сервантеса -- он говорит и о
себе самом, и о своих произведениях: "Галатее", "Дон Кихоте", "Новеллах",
нескольких сонетах и множестве романсов, -- и кончает обещанием дать
"Перси-леса". Отсюда же узнаем мы и о бедности Сервантеса, в тех строках,
когда Тимбрео советует ему закутаться в плащ:
Bien parece, senor, que no se adviХrte
Le respondi, que yo no tenga capa!
("Ясно, сеньор, -- ответил я ему, -- вы не заметили, что у меня нет
плаща").
"Viaje del Parnaso" вызвало весьма разноречивую критическую оценку:
одни восхищаются этим произведением Сервантеса, другие, между прочим Тикнор,
находят в нем "мало достоинств", а Фицморис-Келли обвиняет автора в вялости,
в недостатке сатирической силы и едкости, в отсутствии глубокого,
ненасытного негодования и ненависти.
Последним произведением Сервантеса, пересмотренным и исправленным им с
такой любовью, была "Historia setentrionala de los Trabajos de Persiles y
Sigismunda" ("История скитаний Персилеса и Сигизмунда"). Эстетическое
значение "Персилеса", по мнению Менендеса-и-Пеляйо, еще не нашло себе верной
оценки, а во второй его части встречаются лучшие страницы, когда-либо
написанные автором "Дон Кихота". Правда, в первых двух частях "Персилеса"
выведенные Сервантесом лица проходят перед нашими глазами как тени, и,
несмотря на свежесть юношески живой фантазии почти 70-летнего автора,
несмотря на красоту слога, на богатство вымысла, весьма ярко выступает
банальная неправдоподобность описываемых им приключений -- разных похищений,
кораблекрушений, встреч и бесконечного вмешательства пиратов и разбойников.
Но во второй половине "Персилеса", когда автор повествует о последних
путешествиях двух влюбленных, приятные воспоминания пережитого им в
Лиссабоне овладевают мыслью Сервантеса и увлекают ее из фантастической
области, где она витала. Тут он своих действующих лиц ведет уже по знакомым
дорогам, через Лиссабон, Баядос, Толедо и т. д. до Рима, и здесь встречаются
уже вполне возможные эпизоды. В "Персилесе" -- в котором, как и в "Viaje del
Parnaso", много биографических черт и эти отрывки личных воспоминаний
Сервантеса наиболее интересны -- автор имел, быть может, в виду данное им в
"Viaje" обещание:
Cantar con voz tan entonada y viva
Que piensen que soy cisne y me muero.
("Петь таким звучным, чистым голосом, чтобы подумали, что я лебедь и
умираю"). Так же и "Персилес" Сервантеса, эта несправедливо забытая книга,
служила родником, из которого как испанские, так и иностранные писатели
извлекали темы для своих рассказов и драм.
Но венцом творческой деятельности Сервантеса был, несомненно, "Дон
Кихот". Тут лавры Сервантеса не только не блекнут, но, можно сказать, с
каждым днем все более зеленеют и становятся все пышнее. Книга, написанная,
по словам ее автора, лишь для развлечения -- "entretenimiento", или же
литературная пародия и сатира, единственная цель которой, как уверяет
Сервантес, "низвержение шаткого здания рыцарских книг", между тем встала
высоко над произведениями ума не одной только Испании, а всей Европы, и не в
одно только данное время, а в течение веков. Как объяснить это?
Уже много раз говорилось, но нелишне снова повторить, что, если б
Сервантес написал "Дон Кихота", только "имея в виду уничтожить авторитет и
влияние, которым в мире и в народе пользуются рыцарские романы", его книга
подверглась бы общей участи всех литературных сатир и пародий, -- ученые
ценили бы ее, но она не составляла бы части умственного достояния
человечества во всех странах и во все времена. К тому же большинство
читателей, наслаждающихся чтением "Дон Кихота", не видели в жизни своей ни
одного рыцарского романа и знают только из "Дон Кихота", что они
существовали. В Испании в конце XV и в XVI в. этого рода книги действительно
пользовались громадным успехом, хотя после быстрой и изумительной их
популярности последовало такое полное забвение, которое нельзя приписать
лишь торжеству Сервантеса, так как в начале XVII в. мода на рыцарские книги
и без того уже проходила. Итак, самое торжество Сервантеса, похоронившего
почти мертвый литературный род, должно было бы оказаться гибельным для его
книги, отняв у нее цель и смысл, а между тем случилось обратное.
Та легкость, с которой исчезла столь огромная груда басен, и глубокое
забвение рыцарских книг доказывает только, что они не были истинно
народными, не проникали в сознание испанского народа (тем более что читали
их преимущественно лишь состоятельные классы), хотя они некоторое время и
тешили воображение испанцев блестящими фантасмагориями. Говоря о рыцарских
книгах, большинство предполагает, что этого рода литература пользовалась в
Испании выдающимся успехом благодаря ее соответствию характеру и настроению
народа и тогдашнего общества, так как Испания была привилегированной страной
рыцарства. Но это не совсем верно. Героическое и традиционное рыцарство
Испании, проявляющееся в Cantares de gesta, в CrСnka, в испанских романсах и
т. д., не имеет ничего общего с вымыслами, баснями и волшебствами рыцарских
книг. Ни героическая жизнь Испании в Средние века, ни эпическая или
дидактическая литература, бывшая выражением этой жизни, не дали никаких
элементов для рыцарского романа. Большие циклы этих романов родились не в
Испании, а в Европе; влияние и распространение их было явлением не
испанским, а европейским.
В Испании рыцарские книги привились сначала так плохо, что с XIII до
XVI в. едва появилось несколько оригинальных рыцарских романов. Необычайный
же успех их в конце XV или в начале XVI в., продолжавшийся целое столетие,
был вызван очень сложными причинами как общественного, так и литературного
характера. Что касается "Дон Кихота", он не есть сухое и прозаическое
отрицание рыцарских книг, не есть осуждение хороших рыцарских романов, --
Сервантес сам любил рыцарство и стрелы его направлены лишь против всего
сверхъестественного, вымышленного, туманного и вычурного в рыцарских
романах. "Дон Кихот" отчасти антитеза, отчасти пародия, а отчасти
продолжение и дополнение рыцарских книг. Сервантес нимало не имел в виду
убить идеал, он только хотел преобразить и возвысить его.
Все, что было благородного, поэтического и человеческого в рыцарстве,
воплотилось в новом произведении, а что было химеричного, безнравственного и
ложного, не именно в рыцарском идеале, а в вырождении его, испарилось как по
волшебству перед ясностью благожелательной иронии самого здравого и
уравновешенного ума Возрождения, как говорит Менендес-и-Пеляйо. Таким
образом, "Дон Кихот" является последней рыцарской книгой, самой совершенной
и окончательной, и не ненависть, а любовь дала ей вечную жизнь.
Переходя к вопросу о том, что Сервантес в "Дон Кихоте" имеет в виду
только развлечение -- "entretenimento" -- читателя, можем лишь ответить, что
его книга содержит в себе не скрытно, не в виде загадки или тайны, как
указывают некоторые, но явно и ярко самые возвышенные нравоучения, далеко
переступающие сферу иронической литературной оценки, высказанной в прологе
Сервантесом. Вымысел в "Дон Кихоте" самый простой, как и самый оригинальный
в литературе. Этот веселый и приятный вымысел, хотя бы и начавшийся с
желания быть литературной пародией, сделался, разрастаясь, не только полным
и гармоничным изображением и верной картиной народной жизни в Испании того
времени, но и комической эпопеей человеческого рода. Прекрасная книга полна
благородных мыслей и возвышенных, мудрых изречений. Мы находим в ней, в этой
богатой сокровищнице приключений и опыта, воспоминания из плена Сервантеса,
сцены, виденные им во время скитальческой его жизни сборщика податей и т.
д., и серии сатир, как индивидуальных, так и общественных.
Что касается типа Дон Кихота, он, должно быть, взят автором из
действительности. Это, по-видимому, образ самого Сервантеса, пламенного
энтузиаста, всю жизнь преследуемого судьбой; но, несмотря на все ее удары, в
нем надежда не ослабевает, любовь не уменьшается; это -- изображение
романической души Мигеля де Сервантеса, нарисованное мастерской рукой
великого юмориста. Рыцарь Идеала, дойдя до мысли, что на свете столько горя,
страданий, обид и оскорблений, не справляясь, возможно ли это или нет,
немедленно от мысли переходит к действию и едет скитаться по свету, чтобы
бороться за правду и справедливость, за счастье и благоденствие людей. Он
безумец, если пламенная любовь к добру и правде есть вид безумия, но это
дивное безумие, -- безумие человечества, желающего торжества добра и царства
правды. Дон Кихот -- высшее олицетворение чести и носитель того высокого
идеала справедливости, который ставит конечную цель вне себя. Для нас Дон
Кихот -- символ, но для автора его он не был символом, а живым существом,
полным духовной красоты, любимым сыном его творчества, украшенным им самыми
высшими качествами.
Оруженосец Дон Кихота, Санчо Панса, такой же сложный тип, несмотря на
его кажущуюся и обманчивую простоту, как и сам рыцарь. Было бы величайшею
наивностью воображать, что Сервантес создал его сразу как новый символ для
противопоставления реального идеальному и прозаического здравого смысла
романтической экзальтации. Санчо вовсе не олицетворение грубой вульгарной и
эгоистической действительности, противопоставленной наполняющему душу Дон
Кихота столь возвышенному идеалу, что он соприкасается с безумием. Тип Санчо
прошел не через меньшую отделку и обработку, чем Дон Кихот. Это оригинальный
тип, практическая философия которого облекается постоянно в изречения и
поговорки. Несколько корыстолюбивый, алчный, болтливый, но вместе с тем
верный и преданный своему господину, он мало-помалу перевоспитывается в
постоянном общении с рыцарем Идеала.
Все, что в природе его было грубого и низменного -- его прозаические и
утилитарные стремления, -- понемногу исчезает под благодетельным влиянием
Дон Кихота; он приобретает прямоту, откровенность, и под конец мы видим его
умным и честным правителем, осуществляющим всякие прекрасные мероприятия на
своем острове. Санчо, по словам Менендеса-и-Пеляйо, первое и наибольшее
торжество остроумно-изобретательного идальго. Он заражается энтузиазмом и
самопожертвованием безумного ламанчского рыцаря, и, когда все мечты Дон
Кихота разлетелись и рыцарь отказывается от своих иллюзий, Санчо старается
поддержать и воскресить в душе его прежнюю веру.
Что касается бакалавра Сансона Карраско -- этой новой фигуры, введенной
в фабулу второй части "Дон Кихота" и являющейся осью, вокруг которой
вертится начало и конец второй части,-- в ней как бы олицетворены здравый
смысл, логика, метод, осторожность, сухое рассуждение. Смех Сансона Карраско
предательский, холодный, скрытный, смех того, кто уверен в себе и в том, что
он обладает истиной, смех прямолинейных и мнящих о себе людей, когда они
видят, что совершается какое-либо великодушное безумие. Бакалавр Сансон
Карраско не пойдет против вас открыто, а подкопается под вас за спиной или,
если ему окажется возможным, со сладкой улыбкой постарается уронить вас в
чужом мнении. Он не дурной человек, или же никто не считает его дурным
человеком, у него самые лучшие намерения (т. е. которыми ад вымощен), самые
разумные побуждения; это слегка утомленный, разочарованный, здравомыслящий
человек, не верящий в "идеи", которые он называет безумием. Имя его --
посредственность, а это самая большая сила и теперь, и во времена
Сервантеса, когда владычество посредственности как раз начиналось в Испании,
и герцог Лерма процветал под покровом Филиппа III. Посредственность не любит
никого, она эгоистична и все желает только для себя. Мы видим, что лишь
Сансону Карраско удалось победить (надо думать, только временно) рыцаря
Идеала и отнять у него его прекраснейшие химеры и его мечты о славе.
Итак, из истории Дон Кихота явствует, что доброжелательный идеализм
рыцаря мало-помалу проникает в самые грубые души, и прежде всего в душу
доброго и простого Санчо, потом в души козопасов, других простолюдинов и
лиц, с которыми Дон Кихот приходит в соприкосновение, и только во дворце
герцога и герцогини, в среде самого знатного общества, от начала и до конца
смотрят на него как на безумца, с которым можно лишь позабавиться. В этих
душах царедворцев, привыкших ко лжи и притворству, нет сострадания к рыцарю
Идеала, и только в этих затхлых сферах смеются над ним и не понимают его.
Что касается Дульсинеи, в ней некоторые сервантисты видят символ
разума, свободы и стремления к свету.
В техническом смысле Сервантес достиг в "Дон Кихоте" высшего
совершенства. Язык и слог его здесь образцовый, а вторая часть еще
превосходит первую. В ней большее богатство красок и вымысла, интерес более
общий, больше разнообразия и введены новые типы.
"Дон Кихот" одновременно и самая веселая и самая грустная книга.
Бессмертное произведение Сервантеса, быть может, есть несколько ироническое
изображение "тел culpa" альтруизма, и под веселым смехом доброго Санчо текут
незримые слезы, как под глубиною снежного покрова иногда пробивается
неслышно ручей. Хотя и побежденный, рыцарь Идеала там, на набережной
Барселоны, благороднее чем когда-либо. Глубоко волнуясь, видим мы разрушение
дивного замка иллюзий в груди Дон Кихота, и нас не столько огорчает смерть
рыцаря, сколько то, что он умирает, убежденный в том, что был безумным. Но
хотя рыцарь Идеала и был побежден вследствие неумения приспособиться к
среде, поражение его только кажущееся, потому что великодушные стремления
его остались неприкосновенными и когда-нибудь да будут осуществлены.
М. Ватсон
ИСТОЧНИКИ
Шепелевич Л. Ю. "Дон Кихот" Сервантеса // Л. Ю. Шепелевич. Жизнь
Сервантеса и его произведения. Опыт литературной монографии. Т. 2. -- СПб.,
1903
Шепелевич Л. Ю. Жизнь Сервантеса и его произведения. Опыт литературной
монографии. -- СПб., 1901
Benjumea N. D. de. La verdad sobre el Quijote. -- Madrid, 1878
Cortezon С. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Primera
ediciЖn critica con variantes, notas y el diccionario de todas las palabras
usadas en la inmortal novela, Victoriano SuБrez. -- Madrid, 1907
Fitzmaurice-Kelly J. A history of Spanish Literature, Madrid, 1898
Fitzmaurice-Kelly J. The life of Miguel de Cervantes Saavedra. London,
1892
Ledesma F.N. El ingenioso hidalgo Don Miguel de Cervantes Saavedra.
Madrid, 1905
M. MenИndezy Pelayo. Cultura Literaria de Miguel de Cervantes y
elaboraciЖn del "Quijote". Madrid, 1905
M. Menendezy Pelayo. El Quijote y los libres de Caballerias. Discurso
acadИmico. 1904
Volera D. J. Discurso para conmemorar el tercer centenario de la
publicaciЖn de el ingenioso Hidalgo D. Quijote de la Mancha. Madrid, 1905
ValeraD.J. Verdadero CarБcterdel Quijote. Discurso acadИmico Madrid,
1864
Watts H. E. Miguel de Cervantes. His life and works. London, 1895
Оценочное свидетельство[1]
[1] Этот документ, как и два следующие, были приложены к Editio Princeps
(Мадрид, типография Хуана де ля Куэсты, 1605).
Я, Хуан Алло де Андрада, актуариус Королевской Канцелярии, из тех,
которые присутствуют в Королевском Совете, удостоверяю и свидетельствую, что
сеньоры члены Совета, рассмотрев книгу, озаглавленную
"Остроумно-изобретательный идальго Ламанчи", сочинение Мигеля де Сервантеса
Сааведра, оценили каждый лист упомянутой книги в три с половиной мараведиса;
а в книге восемдесят четыре листа, так что по указанной цене стоимость
упомянутой книги доходит до двухсот девяноста с половиной мараведисов в
бумажной обложке. Члены Совета дали разрешение, чтобы по этой цене могла
продаваться книжка, и приказали, чтобы оценочное это свидетельство было
выставлено в начале книги и без него она не продавалась бы. Для узаконения
этого постановления мною выдано настоящее свидетельство в Вальядолиде
двадцатого дня декабря месяца тысяча шестьсот четвертого года.
Хуан Алло д'Андрада
Свидетельство об опечатках
Эта книга не заключает в себе ничего, что не соответствовало бы
подлиннику. В удостоверение того, что я держал корректуру, даю это
свидетельство. В коллегии Божьей Матери богословов университета в Алькала
первого декабря тысяча шестьсот четвертого года.
Лисенсиат Франсиско Мурсиа де ля Аляна
Король
Во внимание того, что от вас, Мигель де Сервантес, поступил к нам
доклад о том, что вы сочинили книгу, озаглавленную
"Остроумно-изобретательный идальго Ламанчи", которая потребовала от вас
много труда и является весьма полезной и прибыльной, -- вы просили и умоляли
Нас дать вам разрешение и право напечатать ее, а также дать вам привилегию
на срок, какой Нам угодно будет и какой Мы соблаговолим. Рассмотрев книгу,
члены Нашего Совета -- во внимание к тому, что относительно нее были
выполнены все мероприятия, предписываемые последним Нашим прагматическим
постановлением {Распоряжения государей.} о книгопечатании, -- пришли к
решению, что мы должны повелеть выдать вам эту Нашу грамоту, объяснив и
основания такого решения, и Мы одобрили его. Этой Нашей грамотой, чтобы
оказать вам добро и милость, даруем разрешение и право вам или лицу, которое
вы уполномочите, и никому другому, напечатать упомянутую книгу,
озаглавленную "Остроумно-изобретательный идальго Ламанчи", о которой сказано
выше в пределах всего Нашего королевства на время и срок десяти лет, считая
со дня, которым помечена эта Наша грамота; под страхом лицу или лицам,
которые, не имея полномочия от вас, напечатают книгу, или будут продавать
ее, или поручат кому-либо издать и продавать ее, лишиться всего сделанного
ими издания, шрифта и приспособлений к печатанию и, сверх того,
подвергнуться штрафу в пятьдесят тысяч мараведисов каждый раз, как они
нарушат закон. Из упомянутого штрафа одна треть идет предъявителю обвинения,
другая треть -- в пользу Нашего фиска, а последняя треть -- судье, который
постановит приговор. С тем чтобы всякий раз, когда вы приступите к печатанию
упомянутой книги в течение десятилетнего срока, вы представляли бы ее Нашему
Совету вместе с подлинником, который был на рассмотрении членов Совета, и
каждая страница была бы скреплена подписью и росчерком {В те времена
придавали больше значения росчерку, чем подписи.} Хуана Алло де Андрады,
Нашего актуариуса из тех, которые присутствуют в Совете, чтобы знать,
соответствует ли упомянутое издание подлиннику; или же вы удостоверите
официальным путем, что корректором, назначенным по Нашему повелению, было
проверено и исправлено упомянутое новое издание по подлиннику и оно
напечатано согласно с ним, а в каждом экземпляре издания исправлены
указанные им опечатки, чтобы определить стоимость каждой отдельной книги. И
Мы повелеваем типографщику, чтобы, печатая упомянутую книгу, он не печатал
ни заголовка, ни первого листа и не вручал более одной книги вместе с
подлинником автору, или лицу, на средства которого печатается книга, ни
кому-либо другому для производства упомянутых исправлений и оценки книги
прежде и перед тем, как упомянутая книга будет исправлена и оценена членами
Нашего Совета. Когда все это будет сделано и не иначе, может быть напечатан
упомянутый заголовок и первый лист с включением в него одно вслед за другим:
этой Нашей грамоты, одобрения, оценочного свидетельства и свидетельства об
опечатках -- под страхом быть привлеченным и подвергнуться наказаниям,
заключающимся в законах и прагматических постановлениях, действующих в этом
Нашем королевстве. Повелеваем членам Нашего Совета и всяким иным судебным
учреждениям принять к сведению и исполнению эту Нашу грамоту и ее
содержание. Дана в Вальядолиде двадцать шестого дня сентября месяца тысяча
шестьсот четвертого года. Я, КОРОЛЬ. -- По приказу короля, нашего
повелителя,
Хуан де Амескета
Герцогу де Бекар
Маркизу де Гибралеон, графу де Беналькасар-и-Баньарес, виконту де ла
Пуэбла де Алькосер, владетелю городов Кассилья, Куриэль и Бургильос.
Полагаясь на добрый прием и уважение, которые, Вы, Ваша Светлость,
оказываете всякого рода книгам, как принц, столь склонный
покровительствовать свободным искусствам, в особенности тем, которые по
своему благородству не унижаются к служению и выгоде черни, я решил издать
"Остроумно-изобретательного идальго Дон Кихота Ламанчского" под кровом
славнейшего имени Вашего Сиятельства и с почтением, которым я обязан
высокому вашему положению, умоляю благосклонно принять его под свое
покровительство, чтобы под вашей сенью, хотя и лишенный того драгоценного
украшения изящества и эрудиции, которыми бывают обыкновенно облечены
произведения, сочиняемые в домах ученых людей, он мог отважиться предстать
безопасно на суд некоторых, которые, не сдерживаясь в пределах своего
невежества, имеют обыкновение осуждать чужие труды с большою строгостью и
малою справедливостью. Надеюсь, что Вы, Ваша Светлость, в мудрости своей,
обратив внимание на мое доброе намерение, не отвергнете скудость столь
скромного приношения.
Мигель де Сервантес Сааведра
 Праздный читатель, и без клятв можешь ты поверить, что я желал бы, чтоб
эта книга -- дитя ума моего -- была самой прекрасной, самой веселой и самой
рассудительной, какую только можно вообразить себе; но я не мог нарушить
закона природы, по которому каждый производит себе подобное. Итак, что же
был в состоянии произвести бесплодный и плохо возделанный ум мой, как не
историю сына худощавого, сухого, причудливого и исполненного разных мыслей,
никогда не приходивших в голову кому-либо другому, как это и подобает тому,
кто был зачат в темнице, где всякое беспокойство имеет свое местопребывание
и всякий печальный шум -- свое жилище. Тишина, мирное убежище, услада полей,
ясность неба, журчание источников, спокойствие духа значительно способствуют
тому, что наиболее бесплодные музы оказываются плодородными и дарят миру
такие произведения, которые преисполняют его изумлением и радостью. Может
случиться, что у отца есть сын некрасивый и неуклюжий и любовь накладывает
отцу на глаза повязку, так что он не видит недостатков сына, а скорей
считает их за выдающиеся качества и совершенства и рассказывает о них
друзьям своим как о проявлениях остроумия и дарования. Но я, который, хотя и
кажусь отцом, лишь только отчим Дон Кихоту {Подобно тому как во многих
рыцарских книгах авторы их часто говорили, что они переведены с греческого,
так и Сервантес намекает здесь на Сида Амета бен-Енхели, подложного
арабского автора, с которого, по его словам, он будто бы перевел на
испанский язык "Дон Кихота".}, не желаю ни плыть по течению обычая, ни
умолять, чуть ли не со слезами на глазах, как это делают другие, тебя,
дражайший читатель, чтобы ты простил или скрыл недостатки, которые ты увидел
бы в этом моем сыне. И, так как ты ему не друг и не родня, и в теле у тебя
имеется душа и свободная воля, как и у самого замечательного из людей, и ты
находишься у себя дома, где ты такой же сеньор, как и король над ввозными
пошлинами, и знаешь, что принято говорить: под моим плащом я убиваю короля
{Испанская пословица.} -- все это избавляет и освобождает тебя от всякой
почтительности и обязательства; итак, ты можешь сказать об этой истории все,
что о ней думаешь, не опасаясь, что за дурной отзыв тебя оклевещут, а за
хороший -- вознаградят.
Я только желал бы дать ее тебе очищенною и обнаженною, без украшения
предисловия и нескончаемого списка обычных сонетов, эпиграмм и похвальных
слов, которые обыкновенно помещаются в начале книги. Потому что могу тебе
сказать, что, хотя мне и стоило некоторого труда сочинить ее, самый большой
труд для меня был написать пролог, который ты читаешь. Много раз брал я в
руки перо, чтоб написать его и много раз бросал перо, не зная, что писать. И
вот однажды, когда я сидел в недоумении, разложив перед собой бумагу, с
пером за ухом, с локтями на столе, подпирая рукой щеку и придумывая, что бы
мне сказать, неожиданно вошел один из моих друзей, остроумный и
рассудительный, который, увидав меня погруженным в такую задумчивость,
спросил о причине, и я, не скрыв ее от него, сказал, что задумался над
сочинением пролога к истории "Дон Кихота", а это так сильно затрудняет меня,
что я не желаю ни писать пролога, ни даже издавать в свет повесть о подвигах
столь благородного рыцаря. -- Как же вы хотите, чтоб я не смущался при
мысли, что скажет древний законодатель, именуемый "публикой", когда он
увидит, что по истечении стольких лет, которые я спал в тишине забвения
{Сервантес издан свою "Галатею" в 1584 г. и затем в течение 21 года не
появлялся больше в печати.}, теперь, со всеми моими годами на плечах
{Сервантесу шел 58-й год, когда была издана первая часть "Дон Кихота".}, я
появляюсь с произведением, сухим, как ковыль, чуждым изобретательности,
неудовлетворительным по слогу, бедным по замыслу, лишенным эрудиции и всякой
учености, без выносок на полях и без примечаний в конце книги, зная, что
другие книги, -- хотя бы они были вымышленные и светские -- так переполнены
изречениями из Аристотеля, Платона и всей толпы философов, что они приводят
в изумление читателей, которые вследствие этого считают их авторов людьми
учеными, начитанными и красноречивыми. А тем более еще когда они делают
ссылки на Св. Писание! Тут волей-неволей сочтешь их за святых Фом Кемпийских
и других богословов, причем они соблюдают такой тонкий декорум, что,
изобразив в одной строке безумно влюбленного, в другой тотчас же произносят
маленькую христианскую проповедь, -- так что слушать или читать их -- одно
удовольствие и наслаждение. Всего этого будет лишена моя книга, потому что у
меня нет ни ссылок для полей, ни примечаний для конца книги, и еще менее
знаю я, каким следую в ней авторам, чтобы выставить, как все это делают, в
начале книги имена их по алфавиту, начиная с Аристотеля и до последней буквы
азбуки, поместив в список Зоила или Зевскиса, хотя первый был сочинителем
пасквилей, а второй -- живописцем. В моей книге не будет также и
вступительных сонетов, по крайней мере таких, авторы которых графы, маркизы,
герцоги, епископы, дамы или прославленные поэты, хотя, если б я попросил
стихов у двух или трех моих друзей-писателей, я знаю, что они дали бы мне
их, и таких, которые превзошли бы сонеты наиболее известных у нас в Испании
поэтов. Словом, сеньор и друг мой,-- продолжал я, -- я решил, что сеньор Дон
Кихот останется схороненным в архивах Ламанчи до тех пор, пока небо не
пошлет кого-нибудь, кто бы украсил его всем, чего ему недостает, так как сам
я не могу этому помочь по своей неспособности и недостатку учености и
потому, что от природы я слишком беспечен и ленив, чтобы идти отыскивать
авторов, которые говорят то, что я сумею сказать и без них. Вот откуда
проистекают волнение и недоумение, в которых вы застали меня, а причина для
такого настроения, как вы видите, достаточно веская.
Выслушав эти слова, мой друг ударил себя ладонью по лбу, разразился
продолжительным смехом и сказал:
-- Клянусь Богом, брат, теперь я окончательно излечился от заблуждения,
в котором находился все долгое время нашего с вами знакомства, считая вас
всегда за умного и рассудительного человека во всех ваших поступках! Но
теперь я вижу, что вы также далеки от этого, как небо от земли. Возможно ли,
чтобы такие пустяшные и столь легко устранимые вещи имели бы власть смущать
и затруднять такой зрелый ум, как ваш, привыкший преодолевать и побеждать
гораздо более серьезные затруднения? Верьте мне, это происходит не от
недостатка уменья, а от излишка лености и от скупости на слова. Желаете ли
вы убедиться в том, правду ли я говорю? Так выслушайте меня внимательно, и
вы увидите, как в мгновение ока я отстраню все затруднения и исправлю все
недочеты, которые, по вашим словам, вас пугают и отбивают у вас охоту издать
в свет историю вашего знаменитого Дон Кихота, красы и зеркала всего
странствующего рыцарства.
-- Скажите мне, -- ответил я, выслушав то, что он говорил, -- каким
образом думаете вы наполнить пустоту, которая меня тревожит, и привести в
ясность хаос моего смущения?
На это он ответил:
-- Что касается вашего затруднения относительно сонетов, эпиграмм и
хвалебных стихотворений, которых у вас нет для помещения в начале книги и
которые должны бы быть написаны знатными и титулованными особами, этому горю
легко помочь тем, что вы сами возьмете на себя труд сочинить их. А потом вы
можете их окрестить и поставить под ними имена, какие пожелаете, приписав их
священнику Иоанну Индийскому {В Средние века полагали, что это христианский
король и вместе с тем священник, царствовавший в восточной части Тибета, на
границе Китая.} или императору Трапезундскому, о которых, как я знаю,
имеются сведения, что они были знаменитые поэты. Но даже допустив, что они
не были ими и нашлись бы такие педанты и бакалавры, которые вздумали бы
куснуть вас сзади и стали бы отрицать то, что вы утверждаете, -- не
обращайте на них ни на грош внимания, потому что, если б они и уличили вас
во лжи, не отрежут же вам руку, которая написала ее? Что же касается выносок
на полях о тех книгах и авторах, из которых вы заимствовали изречения и
мысли, рассыпанные в вашем произведении, -- ничего большего не требуется,
как только вставить несколько подходящих изречений или латинских отрывков,
известных вам наизусть, или же по крайней мере такие, отыскать которые вам
не составит большого труда. Так, например, говоря о свободе и неволе,
вставьте:
Non bene pro toto libertas venditur auro[1].
[1] Нехорошо продавать свободу за какую бы то ни было цену (лат.) --
Эзоп, кн. III, басня 14.
И сейчас же на полях цитируйте Горация или того, кто это сказал. Если
же речь зайдет о могуществе смерти, тотчас же приведите строки:
Pallida mors aequo puisat pede pauperum tabernas Regumque turres[1].
[1] Бледная смерть одинаково стучится как в хижины бедняков, так и в
замки королей (лат.) -- Гораций, Carmen, кн. I, ода 4.
Если дело коснется дружбы и любви, которую Бог заповедал питать к
врагам, немедленно обратитесь к Св. Писанию, так как вы можете это сделать с
некоторою любознательностью, и привести, по меньшей мере, слова самого
Господа Бога: Ego autem dico vobis: diligite inimicos vostros {Я же говорю
вам: любите врагов ваших (лат.) -- Ев. Матф., 5:44.}. Если вы заговорите о
дурных помыслах, прибегайте к Евангелию: De corde exeunt cogitationes malae
{Из сердца исходят злые помыслы (лат.) -- Ев. Матф., 15:19.}. Если речь идет
о непостоянстве друзей, перед вами Катон {Не Катон, а Овидий. "Disticha"
Катона была книгой, бывшей в то время в очень большом ходу.}, предлагающий
свое двустишие:
Donec eris felix, multos numerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila, solus eris {Пока ты счастлив, ты
насчитываешь множество друзей, а наступят темные дни -- станешь одинок
(лат.).}.
С этими латинскими изречениями и другими тому подобными, вас сочтут, по
меньшей мере, за грамматика, а быть им приносит в наши дни немалую выгоду и
честь.
Относительно примечаний в конце книги вы, конечно, можете сделать
следующее. Если у вас зайдет речь о каком-нибудь великане, устройте так,
чтобы это был великан Голиаф, и благодаря одному этому -- что вам почти
ничего не стоит -- у вас окажется большое примечание, и вы можете написать:
Великий Голиас, или Голиаф, был филистимлянин, которого пастух Давид убил
большим камнем, пущенным из пращи, в долине Терпентина {Терпентино --
терпентинное дерево, очень распространенное в Палестине; некоторые же
критики думают, что Сервантес будто бы намекает здесь на какого-то
писателя.}, как о том повествуется в Книге Царств, в главе такой-то (которую
вы отыщете). Затем, чтобы выказать себя человеком ученым по словесным наукам
и космографии, постарайтесь, чтобы в вашей истории была упомянута река Тахо,
и тотчас же получится другое превосходное примечание, и вы напишете: Река
Тахо была названа так одним из королей Испании, истоки ее в таком-то месте,
впадает она в море-океан, омывая стены знаменитого города Лиссабона, и
полагают, что в ней имеется золотой песок и т. д.
Если речь зайдет о разбойниках, -- я сообщу вам историю Како, так как
знаю ее наизусть; если же вы будете говорить о женщинах легкого поведения,
-- перед вами епископ де Мондоньедо {Епископ де Мондоньедо -- известный
испанский писатель Антонио Гевара, летописец Карла V, в своих "Epistolas
Familiares", напечатанных в 1603г., приводит подробный, хотя и не очень
назидательный рассказ о трех знаменитых куртизанках древности: Ламии, Лаисе
и Флоре.}, у которого позаимствуйте Ламию, Лаису и Флору, и примечание это
придаст вам большой вес. Если же вы заговорите о жестоких женщинах, Овидий
снабдит вас Медеей; о волшебницах и чародейках -- у Гомера есть Калипсо, у
Виргилия -- Цирцея; о храбрых полководцах -- сам Юлий Цезарь предстанет
перед вами в своих "Комментариях", а Плутарх даст вам тысячи Александров.
Гели вы коснетесь любви, -- с двумя унциями знания итальянского языка вы
наткнетесь на Леона Эбрео {Леон Эбрео -- испанский еврей, из числа тех,
которые уехали в Италию вследствие королевского указа 1492 г., по профессии
врач, написал "Los Dialogos de amor", напечатанные лишь по-итальянски в 1572
г. в Венеции.}, который вам переполнит меру через край. А если вы не
захотите отправляться в чужие страны, у себя дома вы имеете Фонсека
{Христовал Фонсека -- августинский монах, написал "Del amor de Dios"; изд. в
Барселоне в 1594 г.} и его сочинение "О любви к Богу", заключающее в себе
все то, что вы и лучшие умы могли бы пожелать относительно подобного сюжета.
Словом, вы только потрудитесь назвать эти имена или же коснитесь в вашей
книге тех историй, о которых я сейчас говорил, и предоставьте мне труд
составить выноски и примечания. Ручаюсь вам, что я покрою ими все поля вашей
книги, а в конце ее включу четыре печатных листа примечаний.
Перейдем теперь к ссылкам на авторов, имеющихся в других книгах, но
которых недостает вашей книге. Средство помочь этому очень простое, потому
что надо лишь сделать одно: отыскать книгу, где все они перечислены, как вы
говорите, от А до Z {По-видимому, здесь намек на поэму Лопе де Вега
"Isidro", где алфавитный указатель авторов, на которых есть ссылки в книге,
достигает 277 имен.}. Вот этот-то самый алфавит имен и поместите в свою
книгу, потому что, хотя ложь и будет ясно видна, это неважно, так как вам не
было нужды пользоваться этими именами, а может быть, и найдется какой-нибудь
простодушный читатель, который поверит, что вы всеми ими воспользовались в
вашей простой и безыскусственной истории. И, если ни на что другое не
пригодится этот обширный каталог авторов, он, по крайней мере, послужит на
то, чтобы с первого же взгляда придать авторитетность вашей книге. К тому же
никто не станет проверять, действительно ли вы пользовались ими или нет, так
как это несущественно; тем более что, если я вас верно понял, эта ваша книга
и не нуждается ни в одной из тех вещей, которых, по вашим словам, недостает
ей, потому что вся она есть поношение рыцарских книг, о которых ни
Аристотель не имел понятия, ни св. Василий ничего не говорил, ни Цицерон
ничего не знал {На Аристотеля, св. Василия и Цицерона ссылается, между
прочим, Лопе де Вега в своей поэме "Isidro".}. К ее вымышленным нелепостям
не имеют никакого касательства ни точность истины, ни наблюдения астрологии,
и для нее не представляют значения ни геометрические измерения, ни
опровержения доводов, которыми пользуются риторики; книга ваша не стремится
проповедовать, смешивая человеческое с божественным, т. е. такого рода
смесь, в которую не должно облекаться никакое здравое христианское суждение.
Она стремится только воспользоваться подражанием действительности в том, что
в ней будет написано, и чем совершеннее будет подражание, тем лучше окажется
то, что написано. И так как это ваше сочинение имеет лишь в виду уничтожить
авторитет и влияние, которыми в мире и в народе пользуются рыцарские романы,
вам незачем нищенски вымаливать изречения у философов, тексты у Св. Писания,
вымысла у поэтов, красноречие у риториков, чудеса у святых, -- а
постарайтесь только, чтобы в выразительных, подходящих и хорошо
расставленных словах речь ваша и периоды вышли звучными и пленительными и во
всем, что для вас окажется возможным, вырисовывалось ваше намерение и ясно
выступали ваши мысли, не запутанные и не затемненные вами. Постарайтесь
также, чтобы, читая вашу историю, грустный был бы вынужден смеяться, веселый
-- еще более укрепился бы в своем приятном настроении, простоватый не
соскучился бы, умный удивился бы вымыслу, серьезный не пренебрег бы им, а
рассудительный похвалил бы. Словом, поставьте себе целью низвержение шаткого
здания рыцарских книг, которые столь многие ненавидят, а еще большее число
восхищается ими,-- и, если вам удастся достигнуть этого, вы достигнете
немалого.
В глубоком молчании слушал я то, что мне говорил мой друг, и его доводы
так сильно запечатлелись в моем уме, что, не оспаривая их, я тотчас их
одобрил и решил составить именно из них этот пролог, из которого ты, милый
читатель, увидишь проницательность моего друга, счастливую судьбу мою,
пославшую мне в самое нужное время такого советника, и собственное свое
облегчение, найдя столь искренней и бесхитростной историю знаменитого Дон
Кихота Ламанчского, который, по мнению всех жителей округа Монтьельской
равнины, был самым целомудренным влюбленным и самым доблестным рыцарем,
существовавшим за многие годы в тех окрестностях. Я не хочу подчеркивать
услугу, которую я тебе оказываю, познакомив тебя с таким выдающимся и
почтенным рыцарем; но я желал бы, чтобы ты почувствовал ко мне
признательность за знакомство с его оруженосцем, знаменитым Санчо Пансой, в
лице которого, как мне кажется, я сосредоточил все прелести оруженосцев,
рассеянные в длинной веренице суетных рыцарских книг.
Итак, дай бог тебе здоровья, и да не забудет Он и меня. Vale {Прощай,
будь здоров (лат.).}.
Праздный читатель, и без клятв можешь ты поверить, что я желал бы, чтоб
эта книга -- дитя ума моего -- была самой прекрасной, самой веселой и самой
рассудительной, какую только можно вообразить себе; но я не мог нарушить
закона природы, по которому каждый производит себе подобное. Итак, что же
был в состоянии произвести бесплодный и плохо возделанный ум мой, как не
историю сына худощавого, сухого, причудливого и исполненного разных мыслей,
никогда не приходивших в голову кому-либо другому, как это и подобает тому,
кто был зачат в темнице, где всякое беспокойство имеет свое местопребывание
и всякий печальный шум -- свое жилище. Тишина, мирное убежище, услада полей,
ясность неба, журчание источников, спокойствие духа значительно способствуют
тому, что наиболее бесплодные музы оказываются плодородными и дарят миру
такие произведения, которые преисполняют его изумлением и радостью. Может
случиться, что у отца есть сын некрасивый и неуклюжий и любовь накладывает
отцу на глаза повязку, так что он не видит недостатков сына, а скорей
считает их за выдающиеся качества и совершенства и рассказывает о них
друзьям своим как о проявлениях остроумия и дарования. Но я, который, хотя и
кажусь отцом, лишь только отчим Дон Кихоту {Подобно тому как во многих
рыцарских книгах авторы их часто говорили, что они переведены с греческого,
так и Сервантес намекает здесь на Сида Амета бен-Енхели, подложного
арабского автора, с которого, по его словам, он будто бы перевел на
испанский язык "Дон Кихота".}, не желаю ни плыть по течению обычая, ни
умолять, чуть ли не со слезами на глазах, как это делают другие, тебя,
дражайший читатель, чтобы ты простил или скрыл недостатки, которые ты увидел
бы в этом моем сыне. И, так как ты ему не друг и не родня, и в теле у тебя
имеется душа и свободная воля, как и у самого замечательного из людей, и ты
находишься у себя дома, где ты такой же сеньор, как и король над ввозными
пошлинами, и знаешь, что принято говорить: под моим плащом я убиваю короля
{Испанская пословица.} -- все это избавляет и освобождает тебя от всякой
почтительности и обязательства; итак, ты можешь сказать об этой истории все,
что о ней думаешь, не опасаясь, что за дурной отзыв тебя оклевещут, а за
хороший -- вознаградят.
Я только желал бы дать ее тебе очищенною и обнаженною, без украшения
предисловия и нескончаемого списка обычных сонетов, эпиграмм и похвальных
слов, которые обыкновенно помещаются в начале книги. Потому что могу тебе
сказать, что, хотя мне и стоило некоторого труда сочинить ее, самый большой
труд для меня был написать пролог, который ты читаешь. Много раз брал я в
руки перо, чтоб написать его и много раз бросал перо, не зная, что писать. И
вот однажды, когда я сидел в недоумении, разложив перед собой бумагу, с
пером за ухом, с локтями на столе, подпирая рукой щеку и придумывая, что бы
мне сказать, неожиданно вошел один из моих друзей, остроумный и
рассудительный, который, увидав меня погруженным в такую задумчивость,
спросил о причине, и я, не скрыв ее от него, сказал, что задумался над
сочинением пролога к истории "Дон Кихота", а это так сильно затрудняет меня,
что я не желаю ни писать пролога, ни даже издавать в свет повесть о подвигах
столь благородного рыцаря. -- Как же вы хотите, чтоб я не смущался при
мысли, что скажет древний законодатель, именуемый "публикой", когда он
увидит, что по истечении стольких лет, которые я спал в тишине забвения
{Сервантес издан свою "Галатею" в 1584 г. и затем в течение 21 года не
появлялся больше в печати.}, теперь, со всеми моими годами на плечах
{Сервантесу шел 58-й год, когда была издана первая часть "Дон Кихота".}, я
появляюсь с произведением, сухим, как ковыль, чуждым изобретательности,
неудовлетворительным по слогу, бедным по замыслу, лишенным эрудиции и всякой
учености, без выносок на полях и без примечаний в конце книги, зная, что
другие книги, -- хотя бы они были вымышленные и светские -- так переполнены
изречениями из Аристотеля, Платона и всей толпы философов, что они приводят
в изумление читателей, которые вследствие этого считают их авторов людьми
учеными, начитанными и красноречивыми. А тем более еще когда они делают
ссылки на Св. Писание! Тут волей-неволей сочтешь их за святых Фом Кемпийских
и других богословов, причем они соблюдают такой тонкий декорум, что,
изобразив в одной строке безумно влюбленного, в другой тотчас же произносят
маленькую христианскую проповедь, -- так что слушать или читать их -- одно
удовольствие и наслаждение. Всего этого будет лишена моя книга, потому что у
меня нет ни ссылок для полей, ни примечаний для конца книги, и еще менее
знаю я, каким следую в ней авторам, чтобы выставить, как все это делают, в
начале книги имена их по алфавиту, начиная с Аристотеля и до последней буквы
азбуки, поместив в список Зоила или Зевскиса, хотя первый был сочинителем
пасквилей, а второй -- живописцем. В моей книге не будет также и
вступительных сонетов, по крайней мере таких, авторы которых графы, маркизы,
герцоги, епископы, дамы или прославленные поэты, хотя, если б я попросил
стихов у двух или трех моих друзей-писателей, я знаю, что они дали бы мне
их, и таких, которые превзошли бы сонеты наиболее известных у нас в Испании
поэтов. Словом, сеньор и друг мой,-- продолжал я, -- я решил, что сеньор Дон
Кихот останется схороненным в архивах Ламанчи до тех пор, пока небо не
пошлет кого-нибудь, кто бы украсил его всем, чего ему недостает, так как сам
я не могу этому помочь по своей неспособности и недостатку учености и
потому, что от природы я слишком беспечен и ленив, чтобы идти отыскивать
авторов, которые говорят то, что я сумею сказать и без них. Вот откуда
проистекают волнение и недоумение, в которых вы застали меня, а причина для
такого настроения, как вы видите, достаточно веская.
Выслушав эти слова, мой друг ударил себя ладонью по лбу, разразился
продолжительным смехом и сказал:
-- Клянусь Богом, брат, теперь я окончательно излечился от заблуждения,
в котором находился все долгое время нашего с вами знакомства, считая вас
всегда за умного и рассудительного человека во всех ваших поступках! Но
теперь я вижу, что вы также далеки от этого, как небо от земли. Возможно ли,
чтобы такие пустяшные и столь легко устранимые вещи имели бы власть смущать
и затруднять такой зрелый ум, как ваш, привыкший преодолевать и побеждать
гораздо более серьезные затруднения? Верьте мне, это происходит не от
недостатка уменья, а от излишка лености и от скупости на слова. Желаете ли
вы убедиться в том, правду ли я говорю? Так выслушайте меня внимательно, и
вы увидите, как в мгновение ока я отстраню все затруднения и исправлю все
недочеты, которые, по вашим словам, вас пугают и отбивают у вас охоту издать
в свет историю вашего знаменитого Дон Кихота, красы и зеркала всего
странствующего рыцарства.
-- Скажите мне, -- ответил я, выслушав то, что он говорил, -- каким
образом думаете вы наполнить пустоту, которая меня тревожит, и привести в
ясность хаос моего смущения?
На это он ответил:
-- Что касается вашего затруднения относительно сонетов, эпиграмм и
хвалебных стихотворений, которых у вас нет для помещения в начале книги и
которые должны бы быть написаны знатными и титулованными особами, этому горю
легко помочь тем, что вы сами возьмете на себя труд сочинить их. А потом вы
можете их окрестить и поставить под ними имена, какие пожелаете, приписав их
священнику Иоанну Индийскому {В Средние века полагали, что это христианский
король и вместе с тем священник, царствовавший в восточной части Тибета, на
границе Китая.} или императору Трапезундскому, о которых, как я знаю,
имеются сведения, что они были знаменитые поэты. Но даже допустив, что они
не были ими и нашлись бы такие педанты и бакалавры, которые вздумали бы
куснуть вас сзади и стали бы отрицать то, что вы утверждаете, -- не
обращайте на них ни на грош внимания, потому что, если б они и уличили вас
во лжи, не отрежут же вам руку, которая написала ее? Что же касается выносок
на полях о тех книгах и авторах, из которых вы заимствовали изречения и
мысли, рассыпанные в вашем произведении, -- ничего большего не требуется,
как только вставить несколько подходящих изречений или латинских отрывков,
известных вам наизусть, или же по крайней мере такие, отыскать которые вам
не составит большого труда. Так, например, говоря о свободе и неволе,
вставьте:
Non bene pro toto libertas venditur auro[1].
[1] Нехорошо продавать свободу за какую бы то ни было цену (лат.) --
Эзоп, кн. III, басня 14.
И сейчас же на полях цитируйте Горация или того, кто это сказал. Если
же речь зайдет о могуществе смерти, тотчас же приведите строки:
Pallida mors aequo puisat pede pauperum tabernas Regumque turres[1].
[1] Бледная смерть одинаково стучится как в хижины бедняков, так и в
замки королей (лат.) -- Гораций, Carmen, кн. I, ода 4.
Если дело коснется дружбы и любви, которую Бог заповедал питать к
врагам, немедленно обратитесь к Св. Писанию, так как вы можете это сделать с
некоторою любознательностью, и привести, по меньшей мере, слова самого
Господа Бога: Ego autem dico vobis: diligite inimicos vostros {Я же говорю
вам: любите врагов ваших (лат.) -- Ев. Матф., 5:44.}. Если вы заговорите о
дурных помыслах, прибегайте к Евангелию: De corde exeunt cogitationes malae
{Из сердца исходят злые помыслы (лат.) -- Ев. Матф., 15:19.}. Если речь идет
о непостоянстве друзей, перед вами Катон {Не Катон, а Овидий. "Disticha"
Катона была книгой, бывшей в то время в очень большом ходу.}, предлагающий
свое двустишие:
Donec eris felix, multos numerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila, solus eris {Пока ты счастлив, ты
насчитываешь множество друзей, а наступят темные дни -- станешь одинок
(лат.).}.
С этими латинскими изречениями и другими тому подобными, вас сочтут, по
меньшей мере, за грамматика, а быть им приносит в наши дни немалую выгоду и
честь.
Относительно примечаний в конце книги вы, конечно, можете сделать
следующее. Если у вас зайдет речь о каком-нибудь великане, устройте так,
чтобы это был великан Голиаф, и благодаря одному этому -- что вам почти
ничего не стоит -- у вас окажется большое примечание, и вы можете написать:
Великий Голиас, или Голиаф, был филистимлянин, которого пастух Давид убил
большим камнем, пущенным из пращи, в долине Терпентина {Терпентино --
терпентинное дерево, очень распространенное в Палестине; некоторые же
критики думают, что Сервантес будто бы намекает здесь на какого-то
писателя.}, как о том повествуется в Книге Царств, в главе такой-то (которую
вы отыщете). Затем, чтобы выказать себя человеком ученым по словесным наукам
и космографии, постарайтесь, чтобы в вашей истории была упомянута река Тахо,
и тотчас же получится другое превосходное примечание, и вы напишете: Река
Тахо была названа так одним из королей Испании, истоки ее в таком-то месте,
впадает она в море-океан, омывая стены знаменитого города Лиссабона, и
полагают, что в ней имеется золотой песок и т. д.
Если речь зайдет о разбойниках, -- я сообщу вам историю Како, так как
знаю ее наизусть; если же вы будете говорить о женщинах легкого поведения,
-- перед вами епископ де Мондоньедо {Епископ де Мондоньедо -- известный
испанский писатель Антонио Гевара, летописец Карла V, в своих "Epistolas
Familiares", напечатанных в 1603г., приводит подробный, хотя и не очень
назидательный рассказ о трех знаменитых куртизанках древности: Ламии, Лаисе
и Флоре.}, у которого позаимствуйте Ламию, Лаису и Флору, и примечание это
придаст вам большой вес. Если же вы заговорите о жестоких женщинах, Овидий
снабдит вас Медеей; о волшебницах и чародейках -- у Гомера есть Калипсо, у
Виргилия -- Цирцея; о храбрых полководцах -- сам Юлий Цезарь предстанет
перед вами в своих "Комментариях", а Плутарх даст вам тысячи Александров.
Гели вы коснетесь любви, -- с двумя унциями знания итальянского языка вы
наткнетесь на Леона Эбрео {Леон Эбрео -- испанский еврей, из числа тех,
которые уехали в Италию вследствие королевского указа 1492 г., по профессии
врач, написал "Los Dialogos de amor", напечатанные лишь по-итальянски в 1572
г. в Венеции.}, который вам переполнит меру через край. А если вы не
захотите отправляться в чужие страны, у себя дома вы имеете Фонсека
{Христовал Фонсека -- августинский монах, написал "Del amor de Dios"; изд. в
Барселоне в 1594 г.} и его сочинение "О любви к Богу", заключающее в себе
все то, что вы и лучшие умы могли бы пожелать относительно подобного сюжета.
Словом, вы только потрудитесь назвать эти имена или же коснитесь в вашей
книге тех историй, о которых я сейчас говорил, и предоставьте мне труд
составить выноски и примечания. Ручаюсь вам, что я покрою ими все поля вашей
книги, а в конце ее включу четыре печатных листа примечаний.
Перейдем теперь к ссылкам на авторов, имеющихся в других книгах, но
которых недостает вашей книге. Средство помочь этому очень простое, потому
что надо лишь сделать одно: отыскать книгу, где все они перечислены, как вы
говорите, от А до Z {По-видимому, здесь намек на поэму Лопе де Вега
"Isidro", где алфавитный указатель авторов, на которых есть ссылки в книге,
достигает 277 имен.}. Вот этот-то самый алфавит имен и поместите в свою
книгу, потому что, хотя ложь и будет ясно видна, это неважно, так как вам не
было нужды пользоваться этими именами, а может быть, и найдется какой-нибудь
простодушный читатель, который поверит, что вы всеми ими воспользовались в
вашей простой и безыскусственной истории. И, если ни на что другое не
пригодится этот обширный каталог авторов, он, по крайней мере, послужит на
то, чтобы с первого же взгляда придать авторитетность вашей книге. К тому же
никто не станет проверять, действительно ли вы пользовались ими или нет, так
как это несущественно; тем более что, если я вас верно понял, эта ваша книга
и не нуждается ни в одной из тех вещей, которых, по вашим словам, недостает
ей, потому что вся она есть поношение рыцарских книг, о которых ни
Аристотель не имел понятия, ни св. Василий ничего не говорил, ни Цицерон
ничего не знал {На Аристотеля, св. Василия и Цицерона ссылается, между
прочим, Лопе де Вега в своей поэме "Isidro".}. К ее вымышленным нелепостям
не имеют никакого касательства ни точность истины, ни наблюдения астрологии,
и для нее не представляют значения ни геометрические измерения, ни
опровержения доводов, которыми пользуются риторики; книга ваша не стремится
проповедовать, смешивая человеческое с божественным, т. е. такого рода
смесь, в которую не должно облекаться никакое здравое христианское суждение.
Она стремится только воспользоваться подражанием действительности в том, что
в ней будет написано, и чем совершеннее будет подражание, тем лучше окажется
то, что написано. И так как это ваше сочинение имеет лишь в виду уничтожить
авторитет и влияние, которыми в мире и в народе пользуются рыцарские романы,
вам незачем нищенски вымаливать изречения у философов, тексты у Св. Писания,
вымысла у поэтов, красноречие у риториков, чудеса у святых, -- а
постарайтесь только, чтобы в выразительных, подходящих и хорошо
расставленных словах речь ваша и периоды вышли звучными и пленительными и во
всем, что для вас окажется возможным, вырисовывалось ваше намерение и ясно
выступали ваши мысли, не запутанные и не затемненные вами. Постарайтесь
также, чтобы, читая вашу историю, грустный был бы вынужден смеяться, веселый
-- еще более укрепился бы в своем приятном настроении, простоватый не
соскучился бы, умный удивился бы вымыслу, серьезный не пренебрег бы им, а
рассудительный похвалил бы. Словом, поставьте себе целью низвержение шаткого
здания рыцарских книг, которые столь многие ненавидят, а еще большее число
восхищается ими,-- и, если вам удастся достигнуть этого, вы достигнете
немалого.
В глубоком молчании слушал я то, что мне говорил мой друг, и его доводы
так сильно запечатлелись в моем уме, что, не оспаривая их, я тотчас их
одобрил и решил составить именно из них этот пролог, из которого ты, милый
читатель, увидишь проницательность моего друга, счастливую судьбу мою,
пославшую мне в самое нужное время такого советника, и собственное свое
облегчение, найдя столь искренней и бесхитростной историю знаменитого Дон
Кихота Ламанчского, который, по мнению всех жителей округа Монтьельской
равнины, был самым целомудренным влюбленным и самым доблестным рыцарем,
существовавшим за многие годы в тех окрестностях. Я не хочу подчеркивать
услугу, которую я тебе оказываю, познакомив тебя с таким выдающимся и
почтенным рыцарем; но я желал бы, чтобы ты почувствовал ко мне
признательность за знакомство с его оруженосцем, знаменитым Санчо Пансой, в
лице которого, как мне кажется, я сосредоточил все прелести оруженосцев,
рассеянные в длинной веренице суетных рыцарских книг.
Итак, дай бог тебе здоровья, и да не забудет Он и меня. Vale {Прощай,
будь здоров (лат.).}.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ:
Урганда Неузнаваемая[1] к книге Дон Кихота Ламанчского
Если только к умным, кни- (га),[2]
Ты попасть в виду име- (ешь),
Про тебя глупец не ска- (жет),
Что свое не знаешь де- (ло).
Но хоть хлеб и не пекла- (ты),
Для кормежки идио- (тов),
А увидишь, как неждан- (но)
Пальцы все они обли- (жут),
Любознательность живу- (ю)
Показать свою стара- (ясь)...
Учит опыт нас: кто к дре- (ву)
Прислонится, тень найдет- (тот)
Под его густой листво- (ю).
И тебе звезда уда- (чи)
Предлагает дуб высо- (кий),
Королевский3 дуб в Беха- (ре).
Принцы -- плод его роско- (шный),
Цвет прекрасный -- герцог; но- (вый)
Александр он Вели- (кий).
Встань под тень его ты: сме- (лым)
Покровительствует счас- (тье).
И расскажешь приключень- (я)
Благородного идаль- (го)
Из Ламанчи, чей рассу- (док)
Был расшатан праздным чте- (ньем).
Дамы, рыцари, ору- (жье) --
Так его все возбуди- (ло),
Что, любовью пламе- (нея),
Как неистовый Орлан- (до),
Он добыл рукой могу- (чей)
Дульсинею из Тобо- (со).
На щите своем, нескром- (но)
Не чекань ты иерогли- (фов),
Потому что, если дер- (жишь)
На руках одни фигу- (ры),--
Проиграть игру ты мо- (жешь)[4].
Если ж выкажешь смире- (нье),
То никто тогда не ска- (жет)
С ядовитою улыб- (кой):
"Что за дон Алваро Лу- (на)[5]
Аннибал из Карфаге- (на)
Иль король Франциск в Мадри- (де)[6]
На свою судьбину роп- (щет)!"
Раз уж небу не угод- (но),
Чтоб прослыл ты столь уче- (ным),
Как тот негр, Хуан Лати- (но)[7],
Откажися от латы- (ни),
Не пускайся в остроумь- (е),
Ссылки брось на философь- (ю),
Чтоб, скривив свой рот усмеш- (кой),
Не сказал бы неуч круг- (лый):
"Мне на что цветы все э- (ти)?"
Не суди все вкривь и вкось- (ты),
И не суй свой нос ты всю- (ду):
От того, что нам чужо- (е),
Отойти подальше, -- му- (дрость):
Очень часто угоща- (ют)
Лишь пинками и щелчка- (ми)
Тех, кто шутит науда- (чу)-
Ты ж старанья и усиль- (я)
Приложи в се, что бы толь- (ко)
Заручиться доброй сла- (вой).
Кто печатает неле- (пость),
Отдает ее наве- (ки)
В беспрерывную арен- (ду).
Помни твердо: безрассуд- (но) --
Если ты в стеклянном до- (ме) --
Собирать в руке каме- (нья),
Чтобы бросить их в сосе- (да).
Кто умен, тот, сочиня- (я),
Пусть в своих произведе- (ньях)
Не спеша идет, а слов- (но)
На ногах свинец приве- (шен).
Кто же пишет для заба- (вы)
Вздорных дев, тот пишет толь- (ко)
Для глупцов и для безум- (ных).
[1] Urganda la desconocida -- добрая волшебница, девушка лет
восемнадцати; играет большую роль в "Амадисе Галльском" и появляется и в
других рыцарских романах. Неузнаваемой она была названа потому, -- как
объясняет Галаору (брату Амадиса), его наставник, великан Гандалак, -- "что
она часто превращается и переряжается так, что ее нельзя узнать". Некоторые
критики -- между прочим дон Диас де Бенхумеа -- придают этим стихам Урганды
выдающееся значение, как документу, где, под маской иронии и намеренной
темноты, проглядывают истинные цели, которыми задавался Сервантес, когда
писал "Дон Кихота", отрицая, чтобы у него было лишь то исключительное
намерение, на которое он так усиленно указывает в своем прологе, -- т. е.
осмеяние рыцарских книг. Другие же -- и очень почтенные критики -- не видят
в этих стихах ни загадки, ни ключа к затаенным целям Сервантеса, а
усматривают в них только преобладающую комическую ноту и новое
доказательство того, что автор легко овладевал самыми разнообразными
манерами и стилями.
[2] Не Сервантес изобрел эту форму стихов -- как утверждал
ученый-сервантист Пеллисер и думал Клеменсин, -- а зубоскал и шутник Алонсо
Алварес де Сориа, любивший вращаться в обществе разных гаерствующих и
развратных людей. Он-то и придумал в 1603 г. -- как пишет дон Люис Фернандес
Герра -- никогда не виданную форму стихов, именно стихи de cabo roto, т. е.
стихи с усеченным концом, так как сделал наблюдение, что головорезы и шуты,
среди которых он вращался, проглатывают последние слоги фраз, желая этим
придать больше внушительности и звучности своему бахвальству и хвастовству.
[3] Считали, что герцог де Бекар происходит от старинных Наваррских
королей.
[4] Здесь, по-видимому, намек на игру в карты, и, вероятно, на игру
"Primero", бывшую тогда в большом ходу в Испании, игра, в которой высшей
картой считалась семерка, а фигуры -- наименьшими.
[5] Дон Альваро Луна -- любимец короля Хуана II, пользовавшийся целые
тридцать лет неограниченною властью при дворе, затем впал в немилость и был
казнен в 1452 г.
[6] Франциск I был взят в плен в сражении при Павии и содержался в
Мадриде в плену.
[7] Juan Latino -- негр, родившийся в Берберии и воспитанный в доме
герцогини де Терранова, -- был самоучкой и получил свое прозвище благодаря
превосходному знанию латинского языка и, вообще, его учености. Герцог Сесеа,
на службе у которого он состоял, "нося ему книги в кабинет", отпустил его на
волю. Хуан Латино женился затем на донье Анне де Карвахал, получил, наконец,
кафедру грамматики и читал курс этот более пятидесяти лет, так как дожил до
девяноста лет.
Амадис Галльский[1] к Дон Кихоту Ламанчскому
СОНЕТ
О ты, что подражал мне в пылком увлеченье,
Когда я горькой жизни сам себя обрек
На Пенья Побре[2], там, забыт и одинок,
Уйдя от радостей, отдался весь мученью,
Ты, -- жажде чьей мог дать тогда успокоенье
Лишь только слез твоих обильнейший поток,
Отвергнув серебро и роскоши далек,
На голой ел земле земли ты приношенье --
Уверен будь: всегда, отныне и вовек,
Пока румяный Феб, бог солнца, будет править
Конями в небесах и направлять их бег,
За доблесть без конца тебя все будут славить,
И встанет выше всех твой край благословенный
И мудрый автор твой, единый, несравненный!
[1] По мнению Клеменсина, неудивительно, что Амадис, этот прототип
странствующих рыцарей, посвящает сонет Ламанчскому герою: нам известно, что
Амадис был поэт, так как, находясь на Пенья Побре, он сочинил стихи.
[2] Pena Pobre (скала Бедная, или Бедности) -- была так названа, по
словам отшельника Амадису, "оттого, что жить там можно лишь в величайшей
бедности". На этой-то скале Амадис, под именем Бельтенеброса, и совершил
эпитимию, наложенную им на себя после ссоры с Орианой.
Дон Белианис Греческий[1] Дон Кихоту Ламанчскому
СОНЕТ
Громил, рубил, давил, бил, делал, говорил
Я больше рыцарей всех в мире, -- и в сраженье
Я ловкий, храбрый, гордый был; спасенье
Гонимым нес, сто тысяч раз за них я мстил.
И подвиги мои мир славой озарил.
В любви был нежен я и пылок в увлеченье,
Гигант мне карликом казался, и значенье
Дуэли я, ее законов, свято чтил.
У ног своих держал в покорности я счастье,
И случай подчинить умел себе всегда,
Не знал я никогда ни горя, ни ненастья,
Но как ни высоко горит моя звезда,
Все ж подвигов твоих завидую сиянью,
Великий Дон Кихот, -- их блеску, обаянью.
[1] Белианис Греческий был один из самых грозных странствующих рыцарей.
"Более ядовитый, чем змея, более храбрый, чем лев", -- говорит о нем его
историк. Его страстные порывы отличались такою пылкостью, что во время
одного из них "словно огонь вырывался у него из-под забрала".
[3] Из истории Амадиса и Орианы мы узнаем, что любовь их не была такой
платонической, как любовь Дульсинеи и Дон Кихота. В Мирафлоресе у Орианы
родился сын, которого закупорили в ящик и бросили в Темзу. Спасенный чудом
мальчик сделался впоследствии знаменитым Эспландианом, подвиги которого --
"Las Sergas de Esplandian" -- сообщены в четвертой книге Амадиса и чуть ли
не превосходят подвиги его отца.
Сеньора Ориана[1] Дульсинее Тобосской
СОНЕТ
О, если б, Дульсинея, мощною рукою
Судьба могла б мой Мирафлорес[2] обменять
На Тобосо, и Лондон на село, чтоб дать
Мне отдых и покой со сладкой тишиною!
О, если б я могла и телом, и душою
Подобной быть тебе, носить твою печать,
Могла б того в бою кровавом увидать,
Кого дарила ты любовью молодою!
О, если б я могла уйти столь непорочной[3]
От друга, как ушла от Дон Кихота ты
С его любовью скромной и заочной,--
Вдали от горести и всякой суеты
Не зная зависти, я б зависть лишь внушала
И платы бы судьбе за радость не давала.
[1] Ориана была возлюбленной Амадиса, дочерью короля Лизуарта и
отличалась такой необычайной красотой, что ее прозвали "несравненной",
потому что в ее время никто не мог сравниться с ней по красоте.
[2] Мирафлорес -- загородный замок, принадлежавший королю Лизуарту, там
обыкновенно и жила Ориана, его дочь. Этот замок, хотя и небольшой,
находившийся в шести милях от Лондона, был прелестнейшим в мире уголком: он
стоял в роще, на вершине горы, окруженный садами с фруктовыми и иными
высочайшими деревьями, и тут же в садах росло множество самых разнородных
растений и цветов.
Гандалин[1], оруженосец[2] Амадиса Галльского к Санчо Пансе, оруженосцу
Дон Кихота
СОНЕТ
Привет тебе, муж славы, избранный судьбою
Оруженосцем быть! Судьба тебя вела
На поприще твоем столь мудрою рукою,
Что промаха свершить ни разу не дала.
Пример твой доказал, что рыцарства тропою
Идет уже плебей: его пора пришла[3];
Сурово обвинен твоею простотою
Надменный, гордость чья превыше звезд зашла.
Исполнен зависти, о Санчо своенравный,
К твоим двум сумкам я, к ослу я твоему
И к имени. Ты муж настолько славный --
Прими привет мой, -- что тебе лишь одному
Испанский наш Овидий, в сладком умиленье
Щелкнув тебя по носу, шлет свое почтенье.
[1] Гандалин был молочный брат Амадиса Галльского и служил у него
оруженосцем. В числе прочих подвигов он отсек голову великанше Андандоне.
Накануне большого сражения он был посвящен в рыцари и так отличился в битве,
что, по словам своего историка, покрыл себя честью и славой на весь остаток
своей жизни.
[2] Escudero -- оруженосец, или вернее щитоносец. Guardiola (Гардиола) в
его книге "Nobleza de Espana" ("Дворянские роды Испании") мы читаем
следующее: "Надо заметить, что название escudero взяло свое начало и
происхождение из старинного обычая, именно: великодушные люди и юные идальго
-- не потому, чтобы они льстились на плату или приобретение имущества, а
будучи более опытны в военном деле, -- отправлялись скрытно ко двору
принцев, могущественных государей, и туда, где шла молва о каком-либо
знаменитом рыцаре, стараясь попасть к ним на службу; ревностно исполняя свои
обязанности, они в пути несли щит".
[3] Во всех рыцарских книгах, оруженосцами были сыновья знатных сеньоров,
и только оруженосец Дон Кихота по своему званию скромный плебей.
От изящного поэта, ни шаткого, ни валкого[1], к Санчо Пансе и Росинанту
К САНЧО ПАНСЕ
Санчо я, оружено- (сец)
Дон Кихота из Ламан- (чи).
Я ушел бродить, скитать- (ся),
Чтобы жить умнее, луч- (ше).
Молчаливый Вилладье- (го)[2],
Государственную поль- (зу)
В отступленье видел; э- (то)
Знает также "Селести- (на)"[3],
Книга дивная, на взгляд- (мой),
Если только бы поболь- (ше)
Прикрывалась нагота в- (ней).
К РОСИНАНТУ
Я праправнук Бабие- (ки)[4];
Худобой грешил и от- (дан)
Был за это Дон Кихо- (ту).
Хоть бежал плохой я ры- (сью),
Но нигде не упускал (я)
Случай кормом поживить- (ся),
Взяв пример в том с Ласари- (льо)[5],
Когда он вино все вы- (пил),
Обманув хитро слепо- (го).
[1] Собственно: entreverado (перемешанный, смешанный), вроде того как в
ветчине -- и мясо, и жир. Это стихотворение опять образчик стихов с
усеченным концом. Кого Сервантес имел в виду под именем поэта Donoso
(изящный, милый), неизвестно.
[2] Кто был этот Вилладьего, -- неизвестно.
[3] "Celestina", или трагикомедия "De Calixto y Melibea" ("Калисто и
Мелибея") -- знаменитая драма в прозе и самое выдающееся произведение XV в.,
-- являет собою верное отражение того времени. Много было исследований о
том, кто автор столь прославленного сочинения. Новейшие изыскания весьма
авторитетных писателей устанавливают, что "Celestina" -- труд двух авторов:
неизвестного, написавшего первое действие, остальные же действия написаны
Фернандо де Рохасом, уроженцем Пуебла-де-Монтальбан.
[4] Лошадь, принадлежавшая Сиду.
[5] Намек на эпизод в известном испанском романе "Lazarillo de Tormes",
когда юный плут Ласарильо, применяя к своему хозяину надувательство, чему он
научился у своих родителей-воров, опускает в горлышко кувшина, который
слепой его хозяин держит в руках, ржаную соломину и, потягивая вино,
оставляет слепого в дураках.
Орландо Неистовый Дон Кихоту Ламанчскому
СОНЕТ
Хоть не был ты пэром[1], но мог, без сомнения,
Средь тысячи пэров быть лучший их цвет;
Увенчан сияньем таких ты побед,
Каким не найти во всем мире сравненья.
Кихот, я -- Орландо; в любви, упоенье
К Анхелике чуть не изъездил весь свет,
Неся ей на жертвенник славы в привет
Ту доблесть, щадит что поныне забвенье.
Быть равным тебе не могу: затмеваешь
Всех славой своей ты, хотя, как и я,
Лишен был рассудка жестокой судьбою.
Но ты, -- ты мне равен, когда укрощаешь
Надменного мавра и скифа, тебя
В несчастье любовном сравнявших со мною.
[1] Здесь, в продолжение всего сонета, игра слов на двойном значении par
-- "пэр" и "равный". Орландо был, как известно, одним из двенадцати пэров
при дворе Карла Великого.
Рыцарь дель Фебо[1] Дон Кихоту Ламанчскому
СОНЕТ
Как может соперничать меч мой с сияньем
Меча твоего, Феб испанский, герой!
Ведь подвиг, свершенный моею рукой,
Ничто пред твоим, полным блеска, деяньем!
Короны отверг, пренебрег и даяньем
Востока я алого, лик дорогой
Моей Кларидьяны[2] чтоб видеть, зарей
Светящей мне ясной и рая мерцаньем.
Я чудом ее полюбил несказанно:
Обрушилось горе над ней, -- и тогда
Сам ад задрожал пред моей грозной местью.
Тебя ж прославляет, Кихот, невозбранно
Твоя Дульсинея, и ты навсегда
Ее одарил славой, мудростью, честью.
[1] Приключения рыцаря дель Фебо, сына императора Требачио, рассказаны в
четырех книгах "Espejo de Principes у Caballeros" ("Зеркало принцев и
рыцарей"), сочинения Диего Ортуньеса, напечатанного впервые в Сарагосе в
1562 г. Это одна из самых фантастических, нелепых и скучных рыцарских книг.
[2] Кларидьяна была дочерью трапезундского императора и королевы
амазонок.
Соли сдан[1] Дон Кихоту Ламанчскому
СОНЕТ
Хотя, сеньор Кихот, нелепостью мышленья
Затмили вы свой ум, и светлый, и живой,
Никто не бросит в вас упреком иль хулой
За низкие дела и мелочность стремленья.
Поступки славят вас: обиженным вы мщенье
Несли и смело шли за угнетенных в бой.
А от дрянных людей, с бессовестной душой,
Вы много раз за то терпели избиенье.
И если Дульсинея вас так огорчить
Могла жестокостью, упорством столь холодным,
Лишив ваш ствол надежд зеленой всей листвы,--
Чтоб вас утешить, я могу вам доложить,
Что Санчо Панса ваш был сводником негодным,
Он туп, крута она, и не любовник вы.
[1] Кто такой этот Солисдан (Solisdan), оставалось загадкой, так как
подобное имя не встречалось нигде в книгах и предполагали, что оно
изобретено Сервантесом. Счастливое разрешение этого вопроса (по мнению дона
Клементе Кортехона), пока не будет доказано противное, дает Поль Груссак
(Paul Groussac) в своей книге "Une Иnigme littИraire". Вот что он говорит:
"Сонеты и шуточные стихи, обращенные к Дон Кихоту и его близким героями и
героинями рыцарских книг, хранят между собой некоторую симметрию и
параллельность: Амадис и Белианис, Орландо и Фебо -- однородные пары, и
точно также составляют пару Урганда и Ориана, а после них идут оруженосец
Амадиса Гандолин и Солисдан. Ввиду этого не требовалось быть особенно
великим волшебником, чтобы понять, что "таинственный Солисдан", дополняющий
картину, должен быть личностью, аналогичной Гандолину; и, по-видимому,
Сервантес позабавился с ним, переставив буквы его имени. Несомненно, что
Солисдан анаграмма Лассиндо, оруженосца знаменитого Брунео де Бонамара,
посвященного в рыцари в один день с Гандолином, после того как он с ним же
вместе стоял на страже оружия".
Разговор между Бабиекой и Росинантом
СОНЕТ
Б. Как худ ты, Росинант, в каком ты истощенье!
Р. Не ел я ничего, а изнуряет труд.
Б. Тебе овса и сена, что ли, не дают?
Р. Да, голодом меня морят без сожаленья.
Б. Чернить хозяина, сеньор, вы, без сомненья,
Ослиным языком почувствовали зуд?
Р. Осел не я, а он. Что говорить уж тут!
Смотрите, он каков в любовном увлеченьи!
Б. Любить -- нелепо, что ль?
Р. И не умно ведь тоже.
Б. Философ вы?
Р. Я голоден, могу сказать.
Б. Корите лучше Санчо.
Р. Что мне в том, -- тем паче
Что не корить обоих их нельзя же,
Когда слуга и господин -- о благодать! --
Такие ж точно, как и Росинанте, клячи!
Глава I, в которой идет речь об образе жизни и занятиях знаменитого
идальго Дон Кихота Ламанчского
 В одном местечке Ламанчи {Округ Новой Кастилии; название La Mancha
производят от арабского слова Манха, означающего "сухая земля".}, название
которого не желаю вспоминать, жил не так давно идальго {Идальго (исп.
Hidalgo, от hijo de algo -- "сын чего-то") -- дворянин.} из числа тех, что
имеют копье в козлах, старинный щит, тощую лошаденку и борзую собаку. Олла
{Испанское кушанье, приготовленное из разного рода овощей и мяса.},
состоящая больше из говядины, чем баранины {В те времена в Испании баранина
была дороже говядины.}, по вечерам чаще всего сальпикон {Холодное мясо,
приправленное уксусом, перцем, луком и солью.}, по субботам дуэлос и
кебрантос {Duelosу quebrantos -- буквально "огорчение и перелом". По
объяснению ученого-сервантиста Пеллисера, это название произошло из обычая
пастухов, существовавшего в некоторых местностях Ламанчи, приносить домой
хозяевам овец, свалившихся со скал или умерших от какого-либо другого
несчастного случая, из мяса которых делалась солонина. Блюдо это называлось
огорчение и перелом, намекая на чувство огорчения, вызываемое у хозяев
несчастием, приключившимся с их овцами, и перелом костей этих последних.
Вообще же это место очень трудно понять, так как некоторые отвергают и это
объяснение Пеллисера.}, по пятницам -- чечевица, по воскресеньям -- в виде
прибавки какой-нибудь голубенок, все это поглощало три четверти его дохода.
Остальная часть уходила на полукафтанье из хорошего черного сукна, бархатные
панталоны и такие же туфли для ношения в праздники и на платье из серого
полусукна, в которое он наряжался в будни. Он держал у себя в доме ключницу,
особу лет за сорок, племянницу, не достигнувшую еще и двадцати лет, и слугу
для домашних и полевых работ, который так же седлал лошадь, как и управлялся
садовым резаком. Нашему идальго было около пятидесяти лет; крепко сложенный,
сухощавый, с костлявым лицом, он вставал рано-ранехонько и был большим
любителем охоты. Звали его, как говорят, Кихада, или Кесада (так как в этом
существует некоторое разногласие у писавших о том авторах), хотя по весьма
правдоподобным догадкам можно заключить, что его звали Кехана. Но это
неважно для нашего рассказа: достаточно, чтобы мы, передавая его, не
отступали бы ни на йоту от истины. Итак, надо знать, что вышеупомянутый
идальго в те промежутки времени, когда он бывал не занят (а случалось это
большую часть года), отдавался чтению рыцарских книг с такой страстностью и
рвением, что почти совсем забывал об охоте и даже о своем хозяйстве. Его
любопытство и безрассудство в этом отношении дошли до того, что он продал
несколько участков пахотной земли, чтобы купить себе рыцарские книги, и
таким образом он собрал их в доме у себя столько, сколько мог достать. Из
всех книг ни одна не нравилась ему так, как сочинения Фелисиана де Сильвы
{Автор очень распространенного в то время романа: "Don Florisel de Niquea",
который в вымыслах своих перешел все пределы и был осмеян некоторыми
писателями еще до Сервантеса.}, потому что его проза и запутанные выражения
казались ему настоящими перлами, в особенности когда ему приходилось читать
объяснения в любви или письма с вызовами, где он часто встречал выражения в
таком роде: "Справедливость несправедливости, направленной против моей
справедливости, до того ослабила мое чувство справедливости, что я
справедливо жалуюсь на вашу красоту". Или же: "Высокие небеса, божественно
подкрепляющие вашу божественность красотою звезд, делают вас достойной того
достоинства, которого достойно ваше величие".
Над такими и тому подобными фразами бедный идальго терял рассудок. Он
не спал по ночам, стараясь понять их и вникнуть в сокровенный их смысл, до
которого не додумался бы и которого не постиг бы и сам Аристотель, если б
только для этого воскрес. Не очень-то нравились идальго раны, которые дон
Белианис {Один из героев рыцарских романов.} наносил и получал, потому что
ему представлялось, что, какие бы искусные врачи его ни лечили, все же на
его лице и всем теле должны были остаться бесчисленные рубцы и знаки. Но тем
не менее он хвалил автора за то, что он оканчивал книгу обещанием
бесконечного рассказа о нескончаемых приключениях, и не раз приходило ему
желание взяться самому за перо и буквально исполнить то, что там было
обещано. Без всякого сомнения, он это и сделал бы, и сделал бы успешно, если
б другие более значительные и настойчивые мысли не помешали ему.
Часто вступал он с деревенским священником (человеком образованным,
получившим ученую степень в Сигуэнсе) в споры о том, кто был лучшим рыцарем
-- Пальмерин ли Английский или Амадис Галльский? Но маэсе {Мастер.} Николас,
местный цирюльник, говорил, что им обоим далеко до рыцаря Феба, с которым,
если уж кто-нибудь и может сравниться, то лишь дон Галаор, брат Амадиса
Галльского, потому что он обладал всеми нужными для этого данными: он не был
таким щепетильным рыцарем и таким плаксой, как его брат; что же касается
храбрости, то в этом нимало не уступал ему.
Словом, наш идальго до того погрузился весь в чтение, что проводил над
книгами дни и ночи напролет, и, таким образом, от малого сна и беспрерывного
чтения мозг его так высох, что он лишился рассудка. Воображение его
наполнилось всем тем, что он читал в своих книгах: чародействами, ссорами,
сражениями, вызовами на поединок, ранами, ухаживаниями, любовными
приключениями, ревностью и невозможными нелепостями. В его голове так крепко
засела уверенность, что вся эта масса фантастических выдумок, которые он
читал, -- не что иное, как истина, что для него не существовало другой,
более достоверной, истории в мире. Он говорил, что Сид Руи Диас несомненно
храбрый рыцарь, но что его нельзя даже сравнить с рыцарем Пылающего Меча,
который одним взмахом положил на месте двух дерзких и чудовищных великанов;
Бернардо дель Карпио нравился ему несколько больше, потому что он в
Ронсевале убил очарованного Роланда, прибегнув к уловке Геркулеса, когда тот
задушил в своих объятиях Антея, сына Земли. Он отзывался очень хорошо о
великане Моргайте, так как, происходя из поколения гигантов, которые все
заносчивы и невежливы, он один был приветлив и благовоспитан. Но больше всех
нравился ему Рейнальдос де Монтальбан, особенно когда он выезжал из своего
замка и грабил все, что ему попадалось под руку, и когда он похитил за морем
истукана Магомета, весь литой из золота, -- как о том повествует его
история. А если б он мог дать хорошую встрепку изменнику Галалону! За это он
отдал бы и ключницу, которую держал, и даже свою племянницу в придачу.
Наконец, когда рассудок его окончательно помрачился, ему пришла в
голову самая изумительная мысль, никогда еще не осенявшая ни одного безумца
в мире, а именно: он решил, что ему не только следует, а даже необходимо --
как для собственной его славы, так и для благополучия государства --
сделаться странствующим рыцарем и верхом на коне в своих доспехах скитаться
по свету в поисках приключений, занимаясь тем, чем занимались, как он это
читал, странствующие рыцари, возмещая за всякого рода обиды, идя навстречу
всевозможным опасностям и случайностям, чтобы, преодолев их, покрыть свое
имя неувядаемой славой. В воображении своем бедняга уже видел себя
увенчанным, благодаря своей доблести, по меньшей мере короной Трапезундской
империи. В чаду таких приятных грез, увлеченный необычайным удовольствием,
которое они ему доставляли, он решил поскорее осуществить то, к чему он так
стремился.
Прежде всего он приступил к чистке доспехов, которые принадлежали еще
его прапрадедам и, изъеденные ржавчиной и плесенью, целые века оставались
позабытыми и заброшенными где-то в углу. Он вычистил и выпрямил их как мог
лучше, но заметил следующий большой недостаток: шлем был неполный,
недоставало забрала и нижней части шлема, -- это был простой шишак. Однако
изобретательный ум его сумел помочь беде, и он из картона смастерил нечто
вроде забрала, которое и прикрепил к шишаку так, что тот принял вид
настоящего рыцарского шлема. Правда, с целью испытать прочность забрала и
может ли он противостоять удару меча, он вынул свой меч, два раза ударил им
по шлему и первым же ударом мгновенно уничтожил то, что он мастерил целую
неделю. Не очень-то ему понравилась легкость, с которой он разнес вдребезги
свое изделие, и, чтобы предохранить себя от той же опасности в будущем, он
принялся делать новое забрало, прикрепив внутри его несколько железных
полосок, и остался доволен его прочностью. Не желая его вновь подвергать
испытанию, он решил, что оно вполне пригодно, и считал его прекраснейшим
забралом.
В одном местечке Ламанчи {Округ Новой Кастилии; название La Mancha
производят от арабского слова Манха, означающего "сухая земля".}, название
которого не желаю вспоминать, жил не так давно идальго {Идальго (исп.
Hidalgo, от hijo de algo -- "сын чего-то") -- дворянин.} из числа тех, что
имеют копье в козлах, старинный щит, тощую лошаденку и борзую собаку. Олла
{Испанское кушанье, приготовленное из разного рода овощей и мяса.},
состоящая больше из говядины, чем баранины {В те времена в Испании баранина
была дороже говядины.}, по вечерам чаще всего сальпикон {Холодное мясо,
приправленное уксусом, перцем, луком и солью.}, по субботам дуэлос и
кебрантос {Duelosу quebrantos -- буквально "огорчение и перелом". По
объяснению ученого-сервантиста Пеллисера, это название произошло из обычая
пастухов, существовавшего в некоторых местностях Ламанчи, приносить домой
хозяевам овец, свалившихся со скал или умерших от какого-либо другого
несчастного случая, из мяса которых делалась солонина. Блюдо это называлось
огорчение и перелом, намекая на чувство огорчения, вызываемое у хозяев
несчастием, приключившимся с их овцами, и перелом костей этих последних.
Вообще же это место очень трудно понять, так как некоторые отвергают и это
объяснение Пеллисера.}, по пятницам -- чечевица, по воскресеньям -- в виде
прибавки какой-нибудь голубенок, все это поглощало три четверти его дохода.
Остальная часть уходила на полукафтанье из хорошего черного сукна, бархатные
панталоны и такие же туфли для ношения в праздники и на платье из серого
полусукна, в которое он наряжался в будни. Он держал у себя в доме ключницу,
особу лет за сорок, племянницу, не достигнувшую еще и двадцати лет, и слугу
для домашних и полевых работ, который так же седлал лошадь, как и управлялся
садовым резаком. Нашему идальго было около пятидесяти лет; крепко сложенный,
сухощавый, с костлявым лицом, он вставал рано-ранехонько и был большим
любителем охоты. Звали его, как говорят, Кихада, или Кесада (так как в этом
существует некоторое разногласие у писавших о том авторах), хотя по весьма
правдоподобным догадкам можно заключить, что его звали Кехана. Но это
неважно для нашего рассказа: достаточно, чтобы мы, передавая его, не
отступали бы ни на йоту от истины. Итак, надо знать, что вышеупомянутый
идальго в те промежутки времени, когда он бывал не занят (а случалось это
большую часть года), отдавался чтению рыцарских книг с такой страстностью и
рвением, что почти совсем забывал об охоте и даже о своем хозяйстве. Его
любопытство и безрассудство в этом отношении дошли до того, что он продал
несколько участков пахотной земли, чтобы купить себе рыцарские книги, и
таким образом он собрал их в доме у себя столько, сколько мог достать. Из
всех книг ни одна не нравилась ему так, как сочинения Фелисиана де Сильвы
{Автор очень распространенного в то время романа: "Don Florisel de Niquea",
который в вымыслах своих перешел все пределы и был осмеян некоторыми
писателями еще до Сервантеса.}, потому что его проза и запутанные выражения
казались ему настоящими перлами, в особенности когда ему приходилось читать
объяснения в любви или письма с вызовами, где он часто встречал выражения в
таком роде: "Справедливость несправедливости, направленной против моей
справедливости, до того ослабила мое чувство справедливости, что я
справедливо жалуюсь на вашу красоту". Или же: "Высокие небеса, божественно
подкрепляющие вашу божественность красотою звезд, делают вас достойной того
достоинства, которого достойно ваше величие".
Над такими и тому подобными фразами бедный идальго терял рассудок. Он
не спал по ночам, стараясь понять их и вникнуть в сокровенный их смысл, до
которого не додумался бы и которого не постиг бы и сам Аристотель, если б
только для этого воскрес. Не очень-то нравились идальго раны, которые дон
Белианис {Один из героев рыцарских романов.} наносил и получал, потому что
ему представлялось, что, какие бы искусные врачи его ни лечили, все же на
его лице и всем теле должны были остаться бесчисленные рубцы и знаки. Но тем
не менее он хвалил автора за то, что он оканчивал книгу обещанием
бесконечного рассказа о нескончаемых приключениях, и не раз приходило ему
желание взяться самому за перо и буквально исполнить то, что там было
обещано. Без всякого сомнения, он это и сделал бы, и сделал бы успешно, если
б другие более значительные и настойчивые мысли не помешали ему.
Часто вступал он с деревенским священником (человеком образованным,
получившим ученую степень в Сигуэнсе) в споры о том, кто был лучшим рыцарем
-- Пальмерин ли Английский или Амадис Галльский? Но маэсе {Мастер.} Николас,
местный цирюльник, говорил, что им обоим далеко до рыцаря Феба, с которым,
если уж кто-нибудь и может сравниться, то лишь дон Галаор, брат Амадиса
Галльского, потому что он обладал всеми нужными для этого данными: он не был
таким щепетильным рыцарем и таким плаксой, как его брат; что же касается
храбрости, то в этом нимало не уступал ему.
Словом, наш идальго до того погрузился весь в чтение, что проводил над
книгами дни и ночи напролет, и, таким образом, от малого сна и беспрерывного
чтения мозг его так высох, что он лишился рассудка. Воображение его
наполнилось всем тем, что он читал в своих книгах: чародействами, ссорами,
сражениями, вызовами на поединок, ранами, ухаживаниями, любовными
приключениями, ревностью и невозможными нелепостями. В его голове так крепко
засела уверенность, что вся эта масса фантастических выдумок, которые он
читал, -- не что иное, как истина, что для него не существовало другой,
более достоверной, истории в мире. Он говорил, что Сид Руи Диас несомненно
храбрый рыцарь, но что его нельзя даже сравнить с рыцарем Пылающего Меча,
который одним взмахом положил на месте двух дерзких и чудовищных великанов;
Бернардо дель Карпио нравился ему несколько больше, потому что он в
Ронсевале убил очарованного Роланда, прибегнув к уловке Геркулеса, когда тот
задушил в своих объятиях Антея, сына Земли. Он отзывался очень хорошо о
великане Моргайте, так как, происходя из поколения гигантов, которые все
заносчивы и невежливы, он один был приветлив и благовоспитан. Но больше всех
нравился ему Рейнальдос де Монтальбан, особенно когда он выезжал из своего
замка и грабил все, что ему попадалось под руку, и когда он похитил за морем
истукана Магомета, весь литой из золота, -- как о том повествует его
история. А если б он мог дать хорошую встрепку изменнику Галалону! За это он
отдал бы и ключницу, которую держал, и даже свою племянницу в придачу.
Наконец, когда рассудок его окончательно помрачился, ему пришла в
голову самая изумительная мысль, никогда еще не осенявшая ни одного безумца
в мире, а именно: он решил, что ему не только следует, а даже необходимо --
как для собственной его славы, так и для благополучия государства --
сделаться странствующим рыцарем и верхом на коне в своих доспехах скитаться
по свету в поисках приключений, занимаясь тем, чем занимались, как он это
читал, странствующие рыцари, возмещая за всякого рода обиды, идя навстречу
всевозможным опасностям и случайностям, чтобы, преодолев их, покрыть свое
имя неувядаемой славой. В воображении своем бедняга уже видел себя
увенчанным, благодаря своей доблести, по меньшей мере короной Трапезундской
империи. В чаду таких приятных грез, увлеченный необычайным удовольствием,
которое они ему доставляли, он решил поскорее осуществить то, к чему он так
стремился.
Прежде всего он приступил к чистке доспехов, которые принадлежали еще
его прапрадедам и, изъеденные ржавчиной и плесенью, целые века оставались
позабытыми и заброшенными где-то в углу. Он вычистил и выпрямил их как мог
лучше, но заметил следующий большой недостаток: шлем был неполный,
недоставало забрала и нижней части шлема, -- это был простой шишак. Однако
изобретательный ум его сумел помочь беде, и он из картона смастерил нечто
вроде забрала, которое и прикрепил к шишаку так, что тот принял вид
настоящего рыцарского шлема. Правда, с целью испытать прочность забрала и
может ли он противостоять удару меча, он вынул свой меч, два раза ударил им
по шлему и первым же ударом мгновенно уничтожил то, что он мастерил целую
неделю. Не очень-то ему понравилась легкость, с которой он разнес вдребезги
свое изделие, и, чтобы предохранить себя от той же опасности в будущем, он
принялся делать новое забрало, прикрепив внутри его несколько железных
полосок, и остался доволен его прочностью. Не желая его вновь подвергать
испытанию, он решил, что оно вполне пригодно, и считал его прекраснейшим
забралом.
 Покончив с этим делом, он пошел взглянуть на свою клячу, и хотя у нее
на копытах было немало трещин, и, вообще, больше было пороков, чем даже у
лошади Гонелы {Шут герцога Феррарского, живший в XV веке; лошадь его была
знаменита своей худобой.}, которая "tantum pellis et ossa fuit" {Была лишь
кожа да кости (лат.).}, ему показалось, что ни Буцефал Александра
Македонского, ни Бабиека Сида не могут сравниться с его конем. Четыре дня
употребил он на то, чтобы придумать, какое ему дать имя, потому что, говорил
он себе, несправедливо, чтобы конь столь знаменитого рыцаря и сам по себе
такой хороший оставался без известного всем имени. Поэтому он старался
придумать такое, которое означало бы и то, что представляла из себя лошадь,
прежде чем она принадлежала странствующему рыцарю, и то, чем она стала
потом, так как было вполне справедливым, чтобы с переменой положения ее
господина и она переменила имя и получила бы громкое и блестящее название,
как это приличествовало новой профессии и тому ордену, в который вступил ее
господин. Итак, после того как он перебрал в своем уме массу имен, отвергнул
их, вновь придумал некоторые, опять их отвергнул и придумывал еще новые, он
наконец назвал лошадь свою Росинант {Слово, составленное из двух испанских
слов "rocin" ("кляча"), "antes" ("прежде и впереди").}, имя, показавшееся
ему возвышенным, звучным и означавшим то, чем лошадь была прежде, когда она
была клячей, и то, чем она стала теперь, сделавшись первой и лучшей из всех
кляч в мире.
Дав своему коню название, которое ему так нравилось, он пожелал также и
себе приискать имя, и в размышлениях над этим у него прошла еще неделя.
Наконец он решил назваться Дон Кихотом {Quijote -- в переводе с испанского
"набедренник".}, и это дало повод, как уже было сказано, авторам этой столь
правдивой истории утверждать, что, без сомнения, он, должно быть, назывался
Кихада, а не Кесада, как уверяют другие. Однако, вспомнив, что храбрый
Амадис не довольствовался одним именем Амадиса, а добавил к нему название
своего королевства и отечества, чтобы прославить его, и назвал себя Амадисом
Галльским, -- и он, как добрый рыцарь, пожелал добавить к своему имени имя
своего отечества и называться Дон Кихотом Ламанчским, чем, как ему казалось,
он во всеуслышание провозглашает свое происхождение и отечество и оказывает
честь родине, делая из ее имени свое прозвище. Вычистив оружие, смастерив из
шишака настоящий шлем с забралом, дав название своему коню, снабдив и себя
новым именем, он решил, что теперь ему недостает лишь одного: найти даму, в
которую бы он влюбился; потому что странствующий рыцарь без любви все равно
что дерево без листьев и без плодов и тело без души. Он сказал себе: "Если я
в наказание за мои грехи или же вследствие счастливой своей судьбы встречусь
в этих местностях с каким-нибудь великаном -- как это обыкновенно случается
со странствующими рыцарями -- и, схватившись с ним, сброшу его на землю, или
разрублю надвое, или, одержав над ним окончательную победу, заставлю его
сдаться, разве нехорошо было бы иметь, к кому бы я мог его послать
представиться, и чтобы он, войдя в комнату, упал бы на колени перед моей
нежной сеньорой и сказал бы смиренным и покорным голосом: "Я, сеньора,
великан Каракулиамбро, повелитель острова Мамендрания, которого победил в
поединке никогда в достаточной мере не восхваленный рыцарь Дон Кихот
Ламанчский, приказавший мне явиться к вашей милости, чтобы ваше величие
располагало мною по своему благоусмотрению"". О, как обрадовался наш добрый
кабальеро {Кабальеро -- рыцарь (исп.).}, когда он произнес эту речь, а еще
более, когда он придумал, кого ему избрать своей дамой. Дело в том, как
полагают, что в одном местечке, по соседству с его местечком, жила молодая
крестьянка, очень недурная собой, в которую он одно время был влюблен, хотя,
по слухам, она этого никогда не знала и не замечала этого. Звали ее Альдонса
Лоренсо, и ей-то ему показалось подходящим дать титул "владычицы его дум".
Отыскивая для нее имя, которое не очень бы отступало от ее имени, а
походило бы и приближалось бы к имени принцессы и знатной сеньоры, он назвал
ее Дульсинеей Тобосской, потому что она родом была из Тобосо, -- имя, по его
мнению, музыкальное, необычайно красивое и выразительное, как и имена,
придуманные им для себя и для своей лошади.
Покончив с этим делом, он пошел взглянуть на свою клячу, и хотя у нее
на копытах было немало трещин, и, вообще, больше было пороков, чем даже у
лошади Гонелы {Шут герцога Феррарского, живший в XV веке; лошадь его была
знаменита своей худобой.}, которая "tantum pellis et ossa fuit" {Была лишь
кожа да кости (лат.).}, ему показалось, что ни Буцефал Александра
Македонского, ни Бабиека Сида не могут сравниться с его конем. Четыре дня
употребил он на то, чтобы придумать, какое ему дать имя, потому что, говорил
он себе, несправедливо, чтобы конь столь знаменитого рыцаря и сам по себе
такой хороший оставался без известного всем имени. Поэтому он старался
придумать такое, которое означало бы и то, что представляла из себя лошадь,
прежде чем она принадлежала странствующему рыцарю, и то, чем она стала
потом, так как было вполне справедливым, чтобы с переменой положения ее
господина и она переменила имя и получила бы громкое и блестящее название,
как это приличествовало новой профессии и тому ордену, в который вступил ее
господин. Итак, после того как он перебрал в своем уме массу имен, отвергнул
их, вновь придумал некоторые, опять их отвергнул и придумывал еще новые, он
наконец назвал лошадь свою Росинант {Слово, составленное из двух испанских
слов "rocin" ("кляча"), "antes" ("прежде и впереди").}, имя, показавшееся
ему возвышенным, звучным и означавшим то, чем лошадь была прежде, когда она
была клячей, и то, чем она стала теперь, сделавшись первой и лучшей из всех
кляч в мире.
Дав своему коню название, которое ему так нравилось, он пожелал также и
себе приискать имя, и в размышлениях над этим у него прошла еще неделя.
Наконец он решил назваться Дон Кихотом {Quijote -- в переводе с испанского
"набедренник".}, и это дало повод, как уже было сказано, авторам этой столь
правдивой истории утверждать, что, без сомнения, он, должно быть, назывался
Кихада, а не Кесада, как уверяют другие. Однако, вспомнив, что храбрый
Амадис не довольствовался одним именем Амадиса, а добавил к нему название
своего королевства и отечества, чтобы прославить его, и назвал себя Амадисом
Галльским, -- и он, как добрый рыцарь, пожелал добавить к своему имени имя
своего отечества и называться Дон Кихотом Ламанчским, чем, как ему казалось,
он во всеуслышание провозглашает свое происхождение и отечество и оказывает
честь родине, делая из ее имени свое прозвище. Вычистив оружие, смастерив из
шишака настоящий шлем с забралом, дав название своему коню, снабдив и себя
новым именем, он решил, что теперь ему недостает лишь одного: найти даму, в
которую бы он влюбился; потому что странствующий рыцарь без любви все равно
что дерево без листьев и без плодов и тело без души. Он сказал себе: "Если я
в наказание за мои грехи или же вследствие счастливой своей судьбы встречусь
в этих местностях с каким-нибудь великаном -- как это обыкновенно случается
со странствующими рыцарями -- и, схватившись с ним, сброшу его на землю, или
разрублю надвое, или, одержав над ним окончательную победу, заставлю его
сдаться, разве нехорошо было бы иметь, к кому бы я мог его послать
представиться, и чтобы он, войдя в комнату, упал бы на колени перед моей
нежной сеньорой и сказал бы смиренным и покорным голосом: "Я, сеньора,
великан Каракулиамбро, повелитель острова Мамендрания, которого победил в
поединке никогда в достаточной мере не восхваленный рыцарь Дон Кихот
Ламанчский, приказавший мне явиться к вашей милости, чтобы ваше величие
располагало мною по своему благоусмотрению"". О, как обрадовался наш добрый
кабальеро {Кабальеро -- рыцарь (исп.).}, когда он произнес эту речь, а еще
более, когда он придумал, кого ему избрать своей дамой. Дело в том, как
полагают, что в одном местечке, по соседству с его местечком, жила молодая
крестьянка, очень недурная собой, в которую он одно время был влюблен, хотя,
по слухам, она этого никогда не знала и не замечала этого. Звали ее Альдонса
Лоренсо, и ей-то ему показалось подходящим дать титул "владычицы его дум".
Отыскивая для нее имя, которое не очень бы отступало от ее имени, а
походило бы и приближалось бы к имени принцессы и знатной сеньоры, он назвал
ее Дульсинеей Тобосской, потому что она родом была из Тобосо, -- имя, по его
мнению, музыкальное, необычайно красивое и выразительное, как и имена,
придуманные им для себя и для своей лошади.

Глава II, в которой речь о первом выезде изобретательного Дон Кихота из
родного местечка
 Окончив эти приготовления, наш идальго решил тотчас же привести в
исполнение задуманное им, так как его угнетала мысль, что промедление даст
себя чувствовать миру, приняв в расчет все те обиды, которые он думал
уничтожить, несправедливости -- исправить, злоупотребления -- искоренить,
ошибки -- загладить и долги -- уплатить. Не сообщив никому о своем намерении
и так, чтобы никто его не видел, однажды утром, еще до рассвета (так как это
был один из самых жарких июльских дней), он надел все свои доспехи, сел
верхом на Росинанта, опустил плохо прилаженное забрало, продел на руку щит,
взял свое копье и выехал из задней калитки двора в поле, донельзя довольный
и обрадованный тем, что ему так легко удалось положить начало доброму своему
желанию. Но едва он очутился в поле, как у него мелькнула страшная мысль, и
такая страшная, что она чуть было не заставила его отказаться от начатого
дела, именно он вспомнил, что еще не был посвящен в рыцари и что по
рыцарским законам он не может и не должен сражаться ни с кем из рыцарей.
Допустив же, что он был бы посвящен в рыцари, ему, как новичку, следовало бы
иметь лишь "белое" оружие, без девиза на щите, пока он не заслужит его
собственными подвигами. Эти мысли заставили его поколебаться в своем
намерении, но так как его безумие было сильнее всяких других доводов, он
решил просить первого, кто встретится ему, посвятить его в рыцари, в
подражание многим другим, которые поступили таким же образом, как он это
прочел в книгах, столь сильно завладевших им. Что же касается "белого"
оружия, он решил, когда окажется время, так основательно вычистить свои
доспехи, чтобы они стали белее горностая. Все это успокоило его, и он поехал
дальше, предоставив лошади своей идти, куда она пожелает, думая, что в этом
и состоит вся тайна приключений.
Продолжая путь свой, наш свежеиспеченный искатель приключений стал
рассуждать сам с собою, говоря: "Нет сомнения, что в будущие века, когда
правдивая история славных моих подвигов явится в свет, мудрец, который ее
напишет, повествуя о первом моем выезде на рассвете дня начнет свое описание
следующими словами: "Едва румяный Аполлон разбросал по лицу великой и
обширной земли золотые нити прекрасных своих волос, едва маленькие пестрые
птички с зубчатыми язычками приветствовали сладкой и нежной мелодией
появление розовой Авроры, которая, покинув мягкое ложе ревнивого супруга,
выглянула из всех дверей и балконов ламанчского горизонта и появилась перед
очами смертных, -- знаменитый рыцарь Дон Кихот Ламанчский, оставив праздные
свои пуховики, сел верхом на славного коня Росинанта и поехал по старинной,
всем хорошо известной Монтиельской долине"" (и в самом деле он ехал по этой
долине). И он продолжал, говоря: "Счастливое время и счастливый тот век,
когда появятся в свет славные подвиги мои, заслуживающие, чтобы их, на
память потомству, увековечили в бронзе, в мраморе и в живописи! О ты, мудрый
чародей, кто бы ты ни был, которому суждено будет стать летописцем
необычайной этой истории, прошу тебя, не забудь моего доброго Росинанта,
вечного моего товарища во всех моих дорогах и путях". Тотчас за тем он
добавил, как будто он в самом деле был влюблен: "О принцесса Дульсинея,
владычица этого плененного вами сердца! Как сильно вы меня обидели, отослав
со строгим приказанием не являться перед вашими светлыми очами. Сеньора,
удостойте вспомнить о беззаветно преданном вам сердце, которое из любви к
вам терпит столько мук".
Сказав это, он стал нанизывать еще другие нелепости наподобие тех,
которым он научился в своих книгах, стараясь, насколько мог, подражать их
слогу. При этом он ехал так медленно, а солнце поднялось так высоко и жгло
так сильно, что этого одного было бы достаточно, чтобы растопить все его
мозги, если б они еще были у него. Почти весь тот день он пространствовал,
но с ним не случилось ничего, о чем бы стоило рассказать. Это привело его в
отчаяние, так как он желал тотчас же встретиться с кем-нибудь, чтобы
испытать над ним доблесть своей сильной руки. Некоторые авторы говорят,
будто первое случившееся с ним приключение было приключение в ущелье Лаписе,
другие, что первым его приключением было сражение с ветряными мельницами. Но
в чем я мог удостовериться относительно этого вопроса и что нашел занесенным
в летописи Ламанчи, это то, что он весь день пространствовал и, когда стало
смеркаться, его лошадь и он сильно утомились и умирали с голоду. Оглядываясь
во все стороны, нет ли где замка или пастушьей хижины, где бы он мог
переночевать и удовлетворить великую свою нужду в отдыхе и еде, он увидел
недалеко от дороги, по которой ехал, постоялый двор, а ему показалось, будто
он видит звезду, которая ведет его не только в преддверие, но и в самый
чертог спасения. Он пришпорил лошадь и в то время, когда спускалась ночь,
добрался до постоялого двора.
У дверей стояли случайно две молодые женщины из тех, которых принято
называть "уличными". Они ехали в Севилью с погонщиками мулов и остановились
на ночь с ними на этом постоялом дворе. А так как нашему искателю
приключений все, что он думал, видел или воображал, представлялось подобным
тому, что совершалось и происходило в прочитанных им книгах, то лишь только
он увидел постоялый двор, ему представилось, что это замок с четырьмя
башнями со шпилями из блестящего серебра, с подъемным мостом и глубокими
рвами, -- словом, со всеми принадлежностями, как их обыкновенно описывают в
подобного рода замках. Он подъехал ближе к постоялому двору (который ему
казался замком) и в недалеком расстоянии от него придержал за поводья
Росинанта, ожидая, что на зубчатых стенах замка появится какой-нибудь карлик
и трубным звуком возвестит о прибытии рыцаря. Но так как он увидел, что
очень медлят и что Росинант спешит скорее попасть в конюшню, он подъехал
ближе к дверям постоялого двора и заметил стоявших здесь двух женщин
"легкого поведения", которых он принял за двух знатных барышень или же за
двух изящных дам, прогуливающихся перед воротами своего замка. Случайно в
это время свинопас, гнавший с пастбища стадо свиней (а их, не извиняясь, так
и называют), затрубил в рог, при звуках которого они собираются. Тотчас же
Дон Кихот вообразил, что исполнилось его желание, а именно что карлик дает
знать о его приезде. Итак, донельзя довольный, он подъехал к постоялому
двору и к дамам; а они, увидав человека, вооруженного таким образом -- со
щитом и с копьем, -- исполненные страха, бросились к дверям. Но Дон Кихот,
по бегству их догадавшийся об их испуге, приподняв картонное свое забрало и
открыв сухощавое, запыленное лицо, изящно приосанился и спокойным голосом
обратился к ним, говоря:
-- Не бегите, милости ваши, и не опасайтесь никаких неприятностей, так
как не в правилах и не в обычаях рыцарского ордена, к которому я принадлежу,
обижать кого бы то ни было, а тем более таких знатных девушек, как это
явствует из вашей наружности.
Женщины всматривались в рыцаря, стараясь разглядеть его лицо, скрытое
плохо поднятым забралом. Но когда они услышали, что их называют девушками,
что так противоречило их профессии, они не могли удержаться от громкого
взрыва смеха. Это рассердило Дон Кихота, и он сказал:
-- Осмотрительность очень идет к красоте, и к тому же весьма глупо
смеяться, когда повод вздорный. Но я говорю вам это не с целью вас обидеть
или же вызвать ваше неудовольствие, так как единственное мое желание --
служить вам.
Этот язык, непонятный тем сеньорам, и странный вид нашего рыцаря только
еще более усилили их смех, а в нем усилили досаду, и, может быть, дело
кончилось бы плохо, если б как раз в это время не появился хозяин постоялого
двора, человек очень миролюбивый, так как он был очень толстый.
Увидав безобразную фигуру рыцаря, вооруженного такими сборными
доспехами, какими были поводья, щит, копье и латы, он чуть было не
присоединился к двум девицам в изъявлении своего веселья. Но действительно
устрашенный этой массой военных снарядов, он решил говорить с ним вежливо и
потому сказал:
-- Сеньор кабальеро, если ваша милость ищет ночлега, то, за исключением
постели (так как на этом постоялом дворе нет постели), всем остальным могу
служить вам в большом изобилии.
Увидав покорность начальника крепости (таковым Дон Кихот счел хозяина
постоялого двора), рыцарь ответил:
-- Сеньор кастелян, я удовлетворюсь самым малым, так как мое оружие --
мне украшенье, а битва -- отдых мой {Отрывок из старинного испанского
романса.}.
Окончив эти приготовления, наш идальго решил тотчас же привести в
исполнение задуманное им, так как его угнетала мысль, что промедление даст
себя чувствовать миру, приняв в расчет все те обиды, которые он думал
уничтожить, несправедливости -- исправить, злоупотребления -- искоренить,
ошибки -- загладить и долги -- уплатить. Не сообщив никому о своем намерении
и так, чтобы никто его не видел, однажды утром, еще до рассвета (так как это
был один из самых жарких июльских дней), он надел все свои доспехи, сел
верхом на Росинанта, опустил плохо прилаженное забрало, продел на руку щит,
взял свое копье и выехал из задней калитки двора в поле, донельзя довольный
и обрадованный тем, что ему так легко удалось положить начало доброму своему
желанию. Но едва он очутился в поле, как у него мелькнула страшная мысль, и
такая страшная, что она чуть было не заставила его отказаться от начатого
дела, именно он вспомнил, что еще не был посвящен в рыцари и что по
рыцарским законам он не может и не должен сражаться ни с кем из рыцарей.
Допустив же, что он был бы посвящен в рыцари, ему, как новичку, следовало бы
иметь лишь "белое" оружие, без девиза на щите, пока он не заслужит его
собственными подвигами. Эти мысли заставили его поколебаться в своем
намерении, но так как его безумие было сильнее всяких других доводов, он
решил просить первого, кто встретится ему, посвятить его в рыцари, в
подражание многим другим, которые поступили таким же образом, как он это
прочел в книгах, столь сильно завладевших им. Что же касается "белого"
оружия, он решил, когда окажется время, так основательно вычистить свои
доспехи, чтобы они стали белее горностая. Все это успокоило его, и он поехал
дальше, предоставив лошади своей идти, куда она пожелает, думая, что в этом
и состоит вся тайна приключений.
Продолжая путь свой, наш свежеиспеченный искатель приключений стал
рассуждать сам с собою, говоря: "Нет сомнения, что в будущие века, когда
правдивая история славных моих подвигов явится в свет, мудрец, который ее
напишет, повествуя о первом моем выезде на рассвете дня начнет свое описание
следующими словами: "Едва румяный Аполлон разбросал по лицу великой и
обширной земли золотые нити прекрасных своих волос, едва маленькие пестрые
птички с зубчатыми язычками приветствовали сладкой и нежной мелодией
появление розовой Авроры, которая, покинув мягкое ложе ревнивого супруга,
выглянула из всех дверей и балконов ламанчского горизонта и появилась перед
очами смертных, -- знаменитый рыцарь Дон Кихот Ламанчский, оставив праздные
свои пуховики, сел верхом на славного коня Росинанта и поехал по старинной,
всем хорошо известной Монтиельской долине"" (и в самом деле он ехал по этой
долине). И он продолжал, говоря: "Счастливое время и счастливый тот век,
когда появятся в свет славные подвиги мои, заслуживающие, чтобы их, на
память потомству, увековечили в бронзе, в мраморе и в живописи! О ты, мудрый
чародей, кто бы ты ни был, которому суждено будет стать летописцем
необычайной этой истории, прошу тебя, не забудь моего доброго Росинанта,
вечного моего товарища во всех моих дорогах и путях". Тотчас за тем он
добавил, как будто он в самом деле был влюблен: "О принцесса Дульсинея,
владычица этого плененного вами сердца! Как сильно вы меня обидели, отослав
со строгим приказанием не являться перед вашими светлыми очами. Сеньора,
удостойте вспомнить о беззаветно преданном вам сердце, которое из любви к
вам терпит столько мук".
Сказав это, он стал нанизывать еще другие нелепости наподобие тех,
которым он научился в своих книгах, стараясь, насколько мог, подражать их
слогу. При этом он ехал так медленно, а солнце поднялось так высоко и жгло
так сильно, что этого одного было бы достаточно, чтобы растопить все его
мозги, если б они еще были у него. Почти весь тот день он пространствовал,
но с ним не случилось ничего, о чем бы стоило рассказать. Это привело его в
отчаяние, так как он желал тотчас же встретиться с кем-нибудь, чтобы
испытать над ним доблесть своей сильной руки. Некоторые авторы говорят,
будто первое случившееся с ним приключение было приключение в ущелье Лаписе,
другие, что первым его приключением было сражение с ветряными мельницами. Но
в чем я мог удостовериться относительно этого вопроса и что нашел занесенным
в летописи Ламанчи, это то, что он весь день пространствовал и, когда стало
смеркаться, его лошадь и он сильно утомились и умирали с голоду. Оглядываясь
во все стороны, нет ли где замка или пастушьей хижины, где бы он мог
переночевать и удовлетворить великую свою нужду в отдыхе и еде, он увидел
недалеко от дороги, по которой ехал, постоялый двор, а ему показалось, будто
он видит звезду, которая ведет его не только в преддверие, но и в самый
чертог спасения. Он пришпорил лошадь и в то время, когда спускалась ночь,
добрался до постоялого двора.
У дверей стояли случайно две молодые женщины из тех, которых принято
называть "уличными". Они ехали в Севилью с погонщиками мулов и остановились
на ночь с ними на этом постоялом дворе. А так как нашему искателю
приключений все, что он думал, видел или воображал, представлялось подобным
тому, что совершалось и происходило в прочитанных им книгах, то лишь только
он увидел постоялый двор, ему представилось, что это замок с четырьмя
башнями со шпилями из блестящего серебра, с подъемным мостом и глубокими
рвами, -- словом, со всеми принадлежностями, как их обыкновенно описывают в
подобного рода замках. Он подъехал ближе к постоялому двору (который ему
казался замком) и в недалеком расстоянии от него придержал за поводья
Росинанта, ожидая, что на зубчатых стенах замка появится какой-нибудь карлик
и трубным звуком возвестит о прибытии рыцаря. Но так как он увидел, что
очень медлят и что Росинант спешит скорее попасть в конюшню, он подъехал
ближе к дверям постоялого двора и заметил стоявших здесь двух женщин
"легкого поведения", которых он принял за двух знатных барышень или же за
двух изящных дам, прогуливающихся перед воротами своего замка. Случайно в
это время свинопас, гнавший с пастбища стадо свиней (а их, не извиняясь, так
и называют), затрубил в рог, при звуках которого они собираются. Тотчас же
Дон Кихот вообразил, что исполнилось его желание, а именно что карлик дает
знать о его приезде. Итак, донельзя довольный, он подъехал к постоялому
двору и к дамам; а они, увидав человека, вооруженного таким образом -- со
щитом и с копьем, -- исполненные страха, бросились к дверям. Но Дон Кихот,
по бегству их догадавшийся об их испуге, приподняв картонное свое забрало и
открыв сухощавое, запыленное лицо, изящно приосанился и спокойным голосом
обратился к ним, говоря:
-- Не бегите, милости ваши, и не опасайтесь никаких неприятностей, так
как не в правилах и не в обычаях рыцарского ордена, к которому я принадлежу,
обижать кого бы то ни было, а тем более таких знатных девушек, как это
явствует из вашей наружности.
Женщины всматривались в рыцаря, стараясь разглядеть его лицо, скрытое
плохо поднятым забралом. Но когда они услышали, что их называют девушками,
что так противоречило их профессии, они не могли удержаться от громкого
взрыва смеха. Это рассердило Дон Кихота, и он сказал:
-- Осмотрительность очень идет к красоте, и к тому же весьма глупо
смеяться, когда повод вздорный. Но я говорю вам это не с целью вас обидеть
или же вызвать ваше неудовольствие, так как единственное мое желание --
служить вам.
Этот язык, непонятный тем сеньорам, и странный вид нашего рыцаря только
еще более усилили их смех, а в нем усилили досаду, и, может быть, дело
кончилось бы плохо, если б как раз в это время не появился хозяин постоялого
двора, человек очень миролюбивый, так как он был очень толстый.
Увидав безобразную фигуру рыцаря, вооруженного такими сборными
доспехами, какими были поводья, щит, копье и латы, он чуть было не
присоединился к двум девицам в изъявлении своего веселья. Но действительно
устрашенный этой массой военных снарядов, он решил говорить с ним вежливо и
потому сказал:
-- Сеньор кабальеро, если ваша милость ищет ночлега, то, за исключением
постели (так как на этом постоялом дворе нет постели), всем остальным могу
служить вам в большом изобилии.
Увидав покорность начальника крепости (таковым Дон Кихот счел хозяина
постоялого двора), рыцарь ответил:
-- Сеньор кастелян, я удовлетворюсь самым малым, так как мое оружие --
мне украшенье, а битва -- отдых мой {Отрывок из старинного испанского
романса.}.
 Хозяин двора подумал, что рыцарь назвал его кастеляном, потому что
принял за продувного кастильца {Кастелян (castellan) означает по-испански
одновременно и "кастелян" и "кастилец", а sano de Castilla, на воровском
испанском диалекте означает "скрытый вор".}, хотя он был родом андалузец с
побережья Сан-Лукара {Любимый притон бродяг и мошенников в те времена.}, не
менее вор, чем Како, не менее шутник, чем студент или паж. Итак, он ответил
ему:
-- Судя по этому, ложем вашей милости должны быть твердые скалы, а сном
-- постоянное бодрствование {Следующие строки куплета, цитируемого Дон
Кихотом.}, и, если это так, вы можете сойти с коня в полной уверенности
найти в этой хижине случай и случаи бодрствовать целый год, а тем более одну
ночь.
Сказав это, он стал держать стремя Дон Кихоту, который слез с лошади с
большим трудом и усилием, как человек, целый день не имевший ни куска во
рту.
Тотчас же он попросил хозяина хорошенько позаботиться о его коне,
потому что это лучшее существо, евшее хлеб на земле. Хозяин взглянул на
лошадь, но она ему показалась не так хороша, как говорил Дон Кихот, и даже
вполовину не так хороша. Устроив ее в конюшне, он вернулся узнать, что ему
прикажет его гость, которого молодые женщины (уже помирившиеся с ним)
освобождали от его доспехов. Они сняли с него латы, нагрудник и наплечники,
но никак не могли освободить ему горло от нашейника, ни снять уродливое
забрало, которое было привязано зелеными шнурками. Приходилось разрезать их,
так как нельзя было развязать узлы, но Дон Кихот никоим образом не
соглашался на это и оставался всю ночь с шлемом на голове; это была самая
смешная и странная фигура, какую только можно представить себе. Когда с него
снимали доспехи, он, вообразив, что делавшие это две уличные женщины --
знатные сеньоры и владелицы замка, сказал им с большой любезностью:
Никогда так не служили
Дамы рыцарям отменно,
Как служили Дон Кихоту,
Когда выехал впервые
Из деревни он: за ним
Девы знатные ходили,
За конем его -- принцессы *,
* Дон Кихот применяет здесь к себе старинный испанский романс
Лансарота.
или за Росинантом, так как это, сеньоры мои, имя моего коня, а мое имя
-- Дон Кихот Ламанчский; но хотя я и не желал открыться вам раньше, чем это
сделали бы подвиги, совершенные мною вам на пользу, и, служа вам,
необходимость приметить к данному случаю старый романс Лансарота была
причиной того, что вы раньше времени узнали мое имя. Однако настанет пора,
когда вы, сеньоры, будете повелевать, а я исполню ваши повеления, и сила
руки моей докажет мое желание служить вам.
Молодые женщины, не привыкшие к таким витиеватым речам, не ответили ни
слова и только спросили его, не желает ли он поесть.
-- Я бы поел чего угодно, -- ответил Дон Кихот, -- потому что, как мне
кажется, я очень в этом нуждаюсь.
Случилось, что в тот день была пятница, и на всем постоялом дворе не
оказалось ничего, кроме порции рыбы, которую в Кастилии называют "аббатиком"
{В Испании все это местные шуточные названия для соленой трески.}, в
Андалузии "баккалавриком", в некоторых местностях "потоками", а в других
"форельчиками". Дон Кихота спросили, не желает ли его милость отведать
"форельчиков", а другой рыбы, которую можно было бы подать ему есть, нет.
-- Так как форельчиков много, -- сказал Дон Кихот, -- они могут сойти
за форель, потому что не все ли равно, дадут ли мне восемь реалов мелкой
монетой или же одну крупную монету в восемь реалов? Тем более что, может
быть, и форельчики нечто вроде телятины, которая вкуснее говядины, или же
вроде мяса молодого козленка, которое вкуснее мяса старого козла. Но будь
что будет, лишь бы мне давали поскорей, так как бремя и тяжесть оружия
нелегко выносить, не удовлетворив требований желудка.
Для прохлады накрыли на стол у дверей постоялого двора, и хозяин принес
порцию плохо вымоченной и еще хуже сваренной рыбы из рода трески и такого же
черного и заплесневелого хлеба, как и доспехи Дон Кихота. Удивительно смешно
было видеть, как он ел, потому что с надетым шлемом и приподнятым забралом
ему неудобно было что-либо класть себе в рот своими руками, если кто другой
не подавал ему, и одна из девиц оказывала ему эту услугу. А напоить его и
было, и осталось бы невозможным, если б хозяин двора не просверлил тростник,
один конец которого он сунул в рот Дон Кихота, а через другой вливал вино.
Рыцарь все это сносил терпеливо, чтобы только избежать необходимости
разрезать шнурки у шлема. Как раз в это время к постоялому двору случайно
подходил холостильщик свиней и, приблизившись, сыграл четыре или пять раз на
своей камышовой свирели. Это окончательно убедило Дон Кихота, что он
находится в рыцарском замке, что за его обедом играет музыка, что поданная
ему треска -- форель, а лежащий перед ним черный хлеб -- булка из лучшей
пшеничной муки, что две уличные женщины -- знатные дамы и что хозяин
постоялого двора -- кастелян замка, и поэтому он считал и свое решение, и
свой выезд вполне удачными. Но больше всего тревожила его мысль, что он еще
не посвящен в рыцари, так как ему казалось, что ему нельзя на законном
основании пуститься в какое бы то ни было приключение, прежде чем он не
вступит в рыцарский орден.
Хозяин двора подумал, что рыцарь назвал его кастеляном, потому что
принял за продувного кастильца {Кастелян (castellan) означает по-испански
одновременно и "кастелян" и "кастилец", а sano de Castilla, на воровском
испанском диалекте означает "скрытый вор".}, хотя он был родом андалузец с
побережья Сан-Лукара {Любимый притон бродяг и мошенников в те времена.}, не
менее вор, чем Како, не менее шутник, чем студент или паж. Итак, он ответил
ему:
-- Судя по этому, ложем вашей милости должны быть твердые скалы, а сном
-- постоянное бодрствование {Следующие строки куплета, цитируемого Дон
Кихотом.}, и, если это так, вы можете сойти с коня в полной уверенности
найти в этой хижине случай и случаи бодрствовать целый год, а тем более одну
ночь.
Сказав это, он стал держать стремя Дон Кихоту, который слез с лошади с
большим трудом и усилием, как человек, целый день не имевший ни куска во
рту.
Тотчас же он попросил хозяина хорошенько позаботиться о его коне,
потому что это лучшее существо, евшее хлеб на земле. Хозяин взглянул на
лошадь, но она ему показалась не так хороша, как говорил Дон Кихот, и даже
вполовину не так хороша. Устроив ее в конюшне, он вернулся узнать, что ему
прикажет его гость, которого молодые женщины (уже помирившиеся с ним)
освобождали от его доспехов. Они сняли с него латы, нагрудник и наплечники,
но никак не могли освободить ему горло от нашейника, ни снять уродливое
забрало, которое было привязано зелеными шнурками. Приходилось разрезать их,
так как нельзя было развязать узлы, но Дон Кихот никоим образом не
соглашался на это и оставался всю ночь с шлемом на голове; это была самая
смешная и странная фигура, какую только можно представить себе. Когда с него
снимали доспехи, он, вообразив, что делавшие это две уличные женщины --
знатные сеньоры и владелицы замка, сказал им с большой любезностью:
Никогда так не служили
Дамы рыцарям отменно,
Как служили Дон Кихоту,
Когда выехал впервые
Из деревни он: за ним
Девы знатные ходили,
За конем его -- принцессы *,
* Дон Кихот применяет здесь к себе старинный испанский романс
Лансарота.
или за Росинантом, так как это, сеньоры мои, имя моего коня, а мое имя
-- Дон Кихот Ламанчский; но хотя я и не желал открыться вам раньше, чем это
сделали бы подвиги, совершенные мною вам на пользу, и, служа вам,
необходимость приметить к данному случаю старый романс Лансарота была
причиной того, что вы раньше времени узнали мое имя. Однако настанет пора,
когда вы, сеньоры, будете повелевать, а я исполню ваши повеления, и сила
руки моей докажет мое желание служить вам.
Молодые женщины, не привыкшие к таким витиеватым речам, не ответили ни
слова и только спросили его, не желает ли он поесть.
-- Я бы поел чего угодно, -- ответил Дон Кихот, -- потому что, как мне
кажется, я очень в этом нуждаюсь.
Случилось, что в тот день была пятница, и на всем постоялом дворе не
оказалось ничего, кроме порции рыбы, которую в Кастилии называют "аббатиком"
{В Испании все это местные шуточные названия для соленой трески.}, в
Андалузии "баккалавриком", в некоторых местностях "потоками", а в других
"форельчиками". Дон Кихота спросили, не желает ли его милость отведать
"форельчиков", а другой рыбы, которую можно было бы подать ему есть, нет.
-- Так как форельчиков много, -- сказал Дон Кихот, -- они могут сойти
за форель, потому что не все ли равно, дадут ли мне восемь реалов мелкой
монетой или же одну крупную монету в восемь реалов? Тем более что, может
быть, и форельчики нечто вроде телятины, которая вкуснее говядины, или же
вроде мяса молодого козленка, которое вкуснее мяса старого козла. Но будь
что будет, лишь бы мне давали поскорей, так как бремя и тяжесть оружия
нелегко выносить, не удовлетворив требований желудка.
Для прохлады накрыли на стол у дверей постоялого двора, и хозяин принес
порцию плохо вымоченной и еще хуже сваренной рыбы из рода трески и такого же
черного и заплесневелого хлеба, как и доспехи Дон Кихота. Удивительно смешно
было видеть, как он ел, потому что с надетым шлемом и приподнятым забралом
ему неудобно было что-либо класть себе в рот своими руками, если кто другой
не подавал ему, и одна из девиц оказывала ему эту услугу. А напоить его и
было, и осталось бы невозможным, если б хозяин двора не просверлил тростник,
один конец которого он сунул в рот Дон Кихота, а через другой вливал вино.
Рыцарь все это сносил терпеливо, чтобы только избежать необходимости
разрезать шнурки у шлема. Как раз в это время к постоялому двору случайно
подходил холостильщик свиней и, приблизившись, сыграл четыре или пять раз на
своей камышовой свирели. Это окончательно убедило Дон Кихота, что он
находится в рыцарском замке, что за его обедом играет музыка, что поданная
ему треска -- форель, а лежащий перед ним черный хлеб -- булка из лучшей
пшеничной муки, что две уличные женщины -- знатные дамы и что хозяин
постоялого двора -- кастелян замка, и поэтому он считал и свое решение, и
свой выезд вполне удачными. Но больше всего тревожила его мысль, что он еще
не посвящен в рыцари, так как ему казалось, что ему нельзя на законном
основании пуститься в какое бы то ни было приключение, прежде чем он не
вступит в рыцарский орден.

Глава III, в которой рассказывается, к какому забавному способу
прибегнул Дон Кихот, чтобы быть посвященным в рыцари
 Удрученный мыслью о том, что он не посвящен в рыцари, Дон Кихот
поспешил покончить со скудным своим ужином, после чего позвал хозяина,
заперся с ним в конюшне и здесь бросился перед ним на колени, говоря: "Ни за
что не встану до тех пор, пока вы, храбрый рыцарь, любезно не соизволите
обещать мне то, о чем я хочу вас просить и что обратится вам в похвалу, а
человеческому роду на пользу".
Хозяин двора, увидав гостя у своих ног и услышав такие речи, был смущен
и смотрел на него с изумлением, не зная, что сказать или что делать, и
настаивал, чтобы он встал, но Дон Кихот ни за что не соглашался, пока
наконец хозяин не объявил, что исполнит то, о чем он просит.
-- Я меньшего и не ждал от великой щедрости вашей, сеньор мой, --
сказал Дон Кихот. -- Знайте же что просьба моя, на которую вы так
великодушно согласились, заключается в том, чтобы вы завтра посвятили меня в
рыцари; эту же ночь я простою на страже при оружии в часовне вашего замка.
Итак, завтра, как я сказал, исполнится мое желание, и мне можно будет, как
надлежит, отправиться искать по всем четырем частям света приключений на
пользу нуждающимся, что и составляет обязанность рыцарства и странствующих
рыцарей, подобных мне, чьи мысли устремлены на такого рода подвиги. Хозяин
двора, который, как сказано, был несколько плутоват и еще раньше подозревал,
что гость его не совсем в здравом рассудке, услыхав от него такие речи,
окончательно убедился в этом и, желая посмеяться, решил согласиться на его
причуду. Итак, он сказал, что рыцарь вполне прав в том, чего желает и
просит, и что намерение его как нельзя более естественно и приличествует
такому знаменитому рыцарю, каким он кажется, и о чем свидетельствует
отважная его наружность. И сам он, хозяин, в молодые годы также занимался
уважаемой рыцарской профессией, скитаясь по разным частям света в поисках за
приключениями, и не упустил случая побывать на Рыбном базаре в Малаге, на
Риоранских островах, в "Компасе" {Квартал в Севилье, где было множество
домов, в которых жили женщины легкого поведения.} Севильи, на площади
водопровода в Сеговии, в оливковой роще в Валенсии, на городском валу в
Гранаде, на побережье Сан-Лукара, на площади Потро в Кордове {Место в
Кордове, получившее свое название от статуи коня над фонтаном. Потро --
по-испански жеребец, молодая лошадь.}, во всех питейных домах Толедо {Все
эти местности были известны в то время как притоны воров и мазуриков.} и в
других тому подобных местах, где он упражнялся в быстроте ног и ловкости
рук, многих сделал кривыми, ласкал немало вдов, соблазнил не одну девушку,
обманул нескольких несовершеннолетних и, наконец, стал известен почти во
всех испанских судебных местах и присутствиях. В конце концов он удалился на
покой в этот свой замок, где живет на свои и чужие средства, принимая у себя
всех странствующих рыцарей, к какому бы званию и положению они ни
принадлежали, единственно из-за великой к ним любви и чтобы они в награду за
доброе его отношение делились с ним своим имуществом. Он сказал ему также,
что в этом его замке нет часовни, в которой рыцарь мог бы стоять на страже
оружия, так как старая часовня сломана, чтобы выстроить новую; но он знает,
что в случае необходимости не возбраняется стоять на страже оружия где бы то
ни было, и этою ночью он может это сделать во дворе замка. Завтра же утром,
если Богу угодно, все нужные церемонии будут выполнены, и он окажется
посвященным рыцарем, и таким рыцарем, что лучшего не может быть на свете.
Хозяин спросил, имеет ли он при себе деньги. Дон Кихот ответил, что не
имеет ни гроша, так как он нигде во всех историях о странствующих рыцарях не
читал, чтобы кто-нибудь из них держал при себе деньги. Хозяин возразил ему,
что он ошибается. Допустив даже, что в рыцарских историях ничего не
упомянуто о деньгах по той простой причине, что авторам этих историй
казалось излишним писать о такой самой по себе ясной и необходимой вещи, как
деньги и чистое белье, -- из этого не следует делать вывод, будто рыцари не
были снабжены и тем, и другим. Итак, пусть он считает достоверным и
бесспорным, что все странствующие рыцари (о которых говорит и
свидетельствует такое множество книг) носили при себе туго набитые кошельки
для непредвиденных случайностей, а также чистые рубашки и коробочки с мазью,
чтобы лечить полученные ими раны. Не всегда же в тех долинах и пустынях, где
они сражались и где им наносили раны, находился у них под рукой кто-нибудь,
кто мог бы их лечить; разве только у них был друг, какой-нибудь мудрый
волшебник, который тотчас же оказывал им помощь, послав на облаке молодую
девушку или карлика со склянкой, наполненной такой целебной водой, что
стоило лишь проглотить несколько капель, и мгновенно заживали все язвы и
раны, как будто никогда ничего и не было. Но не имея такого покровителя,
прежние странствующие рыцари считали необходимостью, чтобы их оруженосцы
были снабжены деньгами и другими полезными вещами, как, например, корпией и
мазью для лечения ран. А когда случалось, что рыцари не имели оруженосцев
(это бывало очень редко), они сами возили все нужное в небольших, почти
незаметных сумочках, прикрепленных сзади к седлу и имевших вид чего-то
другого, более ценного, так как, за исключением подобных случаев, возить с
собой сумки не очень-то было принято у странствующих рыцарей. Итак, он
советует ему (хотя мог бы приказать, как своему крестнику, которым он так
скоро сделается) с этого дня впредь никогда больше не пускаться в путь, не
имея при себе денег и всех вышеупомянутых запасов, и сам он увидит, как они
пригодятся ему тогда, когда он менее всего будет думать об этом.
Дон Кихот обещал в точности исполнить данный ему совет, после чего
сейчас же получил приказание держать стражу над оружием в большом дворе,
примыкавшем к постоялому двору. Он собрал все свои доспехи, положил их на
водопойное корыто, стоявшее близ колодца, и, продев на руку щит, взяв
копье, с изящной осанкой принялся ходить взад и вперед перед колодой.
Когда он начал свою прогулку, стало темнеть.
Хозяин рассказал всем бывшим на постоялом дворе о безумии постояльца, о
его страже над оружием и посвящении в рыцари, которое он ожидал. Все были
изумлены умопомешательством столь необычайного рода, отправились наблюдать
за ним издали и увидели, что он со спокойной осанкой то пройдется взад и
вперед, то остановится, опираясь на копье, и, устремив глаза на оружие,
долгое время не отрывает их от него. Ночь окончательно спустилась на землю,
но луна светила так ярко, что могла бы соперничать с той планетой, от
которой она заимствует свой свет. Таким образом, все, что делал новый
рыцарь, было хорошо видно всем.
Одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, понадобилось
напоить своих мулов и для этого приходилось снять с водопойной колоды
лежавшее на ней оружие Дон Кихота, а он, увидав, что погонщик подходит,
громким голосом сказал ему:
-- О, ты, кто бы ты ни был, дерзкий рыцарь, имеющий намерение
прикоснуться к оружию храбрейшего странствующего рыцаря, который когда-либо
опоясывался мечом, подумай о том, что делаешь, и не касайся оружия, если не
хочешь заплатить жизнью за свою дерзость!
Удрученный мыслью о том, что он не посвящен в рыцари, Дон Кихот
поспешил покончить со скудным своим ужином, после чего позвал хозяина,
заперся с ним в конюшне и здесь бросился перед ним на колени, говоря: "Ни за
что не встану до тех пор, пока вы, храбрый рыцарь, любезно не соизволите
обещать мне то, о чем я хочу вас просить и что обратится вам в похвалу, а
человеческому роду на пользу".
Хозяин двора, увидав гостя у своих ног и услышав такие речи, был смущен
и смотрел на него с изумлением, не зная, что сказать или что делать, и
настаивал, чтобы он встал, но Дон Кихот ни за что не соглашался, пока
наконец хозяин не объявил, что исполнит то, о чем он просит.
-- Я меньшего и не ждал от великой щедрости вашей, сеньор мой, --
сказал Дон Кихот. -- Знайте же что просьба моя, на которую вы так
великодушно согласились, заключается в том, чтобы вы завтра посвятили меня в
рыцари; эту же ночь я простою на страже при оружии в часовне вашего замка.
Итак, завтра, как я сказал, исполнится мое желание, и мне можно будет, как
надлежит, отправиться искать по всем четырем частям света приключений на
пользу нуждающимся, что и составляет обязанность рыцарства и странствующих
рыцарей, подобных мне, чьи мысли устремлены на такого рода подвиги. Хозяин
двора, который, как сказано, был несколько плутоват и еще раньше подозревал,
что гость его не совсем в здравом рассудке, услыхав от него такие речи,
окончательно убедился в этом и, желая посмеяться, решил согласиться на его
причуду. Итак, он сказал, что рыцарь вполне прав в том, чего желает и
просит, и что намерение его как нельзя более естественно и приличествует
такому знаменитому рыцарю, каким он кажется, и о чем свидетельствует
отважная его наружность. И сам он, хозяин, в молодые годы также занимался
уважаемой рыцарской профессией, скитаясь по разным частям света в поисках за
приключениями, и не упустил случая побывать на Рыбном базаре в Малаге, на
Риоранских островах, в "Компасе" {Квартал в Севилье, где было множество
домов, в которых жили женщины легкого поведения.} Севильи, на площади
водопровода в Сеговии, в оливковой роще в Валенсии, на городском валу в
Гранаде, на побережье Сан-Лукара, на площади Потро в Кордове {Место в
Кордове, получившее свое название от статуи коня над фонтаном. Потро --
по-испански жеребец, молодая лошадь.}, во всех питейных домах Толедо {Все
эти местности были известны в то время как притоны воров и мазуриков.} и в
других тому подобных местах, где он упражнялся в быстроте ног и ловкости
рук, многих сделал кривыми, ласкал немало вдов, соблазнил не одну девушку,
обманул нескольких несовершеннолетних и, наконец, стал известен почти во
всех испанских судебных местах и присутствиях. В конце концов он удалился на
покой в этот свой замок, где живет на свои и чужие средства, принимая у себя
всех странствующих рыцарей, к какому бы званию и положению они ни
принадлежали, единственно из-за великой к ним любви и чтобы они в награду за
доброе его отношение делились с ним своим имуществом. Он сказал ему также,
что в этом его замке нет часовни, в которой рыцарь мог бы стоять на страже
оружия, так как старая часовня сломана, чтобы выстроить новую; но он знает,
что в случае необходимости не возбраняется стоять на страже оружия где бы то
ни было, и этою ночью он может это сделать во дворе замка. Завтра же утром,
если Богу угодно, все нужные церемонии будут выполнены, и он окажется
посвященным рыцарем, и таким рыцарем, что лучшего не может быть на свете.
Хозяин спросил, имеет ли он при себе деньги. Дон Кихот ответил, что не
имеет ни гроша, так как он нигде во всех историях о странствующих рыцарях не
читал, чтобы кто-нибудь из них держал при себе деньги. Хозяин возразил ему,
что он ошибается. Допустив даже, что в рыцарских историях ничего не
упомянуто о деньгах по той простой причине, что авторам этих историй
казалось излишним писать о такой самой по себе ясной и необходимой вещи, как
деньги и чистое белье, -- из этого не следует делать вывод, будто рыцари не
были снабжены и тем, и другим. Итак, пусть он считает достоверным и
бесспорным, что все странствующие рыцари (о которых говорит и
свидетельствует такое множество книг) носили при себе туго набитые кошельки
для непредвиденных случайностей, а также чистые рубашки и коробочки с мазью,
чтобы лечить полученные ими раны. Не всегда же в тех долинах и пустынях, где
они сражались и где им наносили раны, находился у них под рукой кто-нибудь,
кто мог бы их лечить; разве только у них был друг, какой-нибудь мудрый
волшебник, который тотчас же оказывал им помощь, послав на облаке молодую
девушку или карлика со склянкой, наполненной такой целебной водой, что
стоило лишь проглотить несколько капель, и мгновенно заживали все язвы и
раны, как будто никогда ничего и не было. Но не имея такого покровителя,
прежние странствующие рыцари считали необходимостью, чтобы их оруженосцы
были снабжены деньгами и другими полезными вещами, как, например, корпией и
мазью для лечения ран. А когда случалось, что рыцари не имели оруженосцев
(это бывало очень редко), они сами возили все нужное в небольших, почти
незаметных сумочках, прикрепленных сзади к седлу и имевших вид чего-то
другого, более ценного, так как, за исключением подобных случаев, возить с
собой сумки не очень-то было принято у странствующих рыцарей. Итак, он
советует ему (хотя мог бы приказать, как своему крестнику, которым он так
скоро сделается) с этого дня впредь никогда больше не пускаться в путь, не
имея при себе денег и всех вышеупомянутых запасов, и сам он увидит, как они
пригодятся ему тогда, когда он менее всего будет думать об этом.
Дон Кихот обещал в точности исполнить данный ему совет, после чего
сейчас же получил приказание держать стражу над оружием в большом дворе,
примыкавшем к постоялому двору. Он собрал все свои доспехи, положил их на
водопойное корыто, стоявшее близ колодца, и, продев на руку щит, взяв
копье, с изящной осанкой принялся ходить взад и вперед перед колодой.
Когда он начал свою прогулку, стало темнеть.
Хозяин рассказал всем бывшим на постоялом дворе о безумии постояльца, о
его страже над оружием и посвящении в рыцари, которое он ожидал. Все были
изумлены умопомешательством столь необычайного рода, отправились наблюдать
за ним издали и увидели, что он со спокойной осанкой то пройдется взад и
вперед, то остановится, опираясь на копье, и, устремив глаза на оружие,
долгое время не отрывает их от него. Ночь окончательно спустилась на землю,
но луна светила так ярко, что могла бы соперничать с той планетой, от
которой она заимствует свой свет. Таким образом, все, что делал новый
рыцарь, было хорошо видно всем.
Одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, понадобилось
напоить своих мулов и для этого приходилось снять с водопойной колоды
лежавшее на ней оружие Дон Кихота, а он, увидав, что погонщик подходит,
громким голосом сказал ему:
-- О, ты, кто бы ты ни был, дерзкий рыцарь, имеющий намерение
прикоснуться к оружию храбрейшего странствующего рыцаря, который когда-либо
опоясывался мечом, подумай о том, что делаешь, и не касайся оружия, если не
хочешь заплатить жизнью за свою дерзость!
 Но погонщик мулов не обратил внимания на эти слова (а было бы лучше,
если бы он обратил, потому что это значило обратить внимание на свою
безопасность) и, схватив за ремни доспехи, далеко отшвырнул их от себя.
Увидев это, Дон Кихот поднял глаза к небу и, устремив мысли (как казалось) к
своей сеньоре Дульсинее, воскликнул:
-- Помогите мне, моя сеньора, в этой первой обиде, обрушившейся на
покоренное вами сердце! Не лишайте меня в этой первой опасности своей опоры
и своего покровительства!
Говоря эти и другие подобные слова, Дон Кихот бросил свой щит,
приподнял обеими руками копье и, ударив им со всей силы по голове погонщика
мулов, свалил его на землю в столь плачевном состоянии, что, если бы
последовал второй удар, ему не понадобился бы доктор, чтобы лечить его.
Сделав это, Дон Кихот собрал свои доспехи и снова стал прогуливаться так же
спокойно, как и до того. Немного спустя, ничего не зная о случившемся (так
как ошеломленный ударом погонщик лежал еще в беспамятстве), подошел другой
погонщик с тем же намерением напоить своих мулов. Только что он сбросил с
водопойной колоды доспехи, как Дон Кихот, не говоря ни слова и не призывая
никого на помощь, опять откинул щит, схватил обеими руками копье и нанес им
такой сильный удар по голове погонщика, что не копье сломалось, а голова
второго погонщика раскололась не на три, а на целых четыре части. На шум
сбежался весь народ, бывший на постоялом дворе, и среди них и хозяин. Увидав
это, Дон Кихот схватил щит и, обнажив меч, сказал:
-- О королева красоты, опора и сила моего ослабевшего сердца, теперь
настало время обратить очи твоего величия на плененного тобою рыцаря,
которому предстоит столь великое приключение!
Слова эти, как ему казалось, влили в него такую отвагу, что, если б
погонщики всего света напали на него, он не отступил бы ни на шаг. Товарищи
раненых, увидав их в столь плохом состоянии, стали издали осыпать градом
камней Дон Кихота, который, сколько мог, прикрывался щитом, не решаясь
отойти от водопойной колоды, чтобы доспехи не оставить без защиты. Хозяин
постоялого двора кричал, прося не трогать его, потому что он уже им говорил,
что это сумасшедший и в качестве сумасшедшего он будет выпущен на свободу,
хотя бы убил их всех. А Дон Кихот, со своей стороны, кричал еще громче,
называл их трусами и изменниками, а владельца замка низким и бесчестным
рыцарем, потому что с его согласия здесь так нагло обращаются со
странствующими рыцарями, и что если бы он уже был посвящен в рыцари, то
проучил бы его за его предательство.
-- Что же касается вас, низкая и грязная сволочь, вы для меня ничего не
значите. Стреляйте, бросайтесь на меня, оскорбляйте, сколько у вас хватит
сил, и увидите, какую получите награду за свою дерзость и глупость!
Он проговорил все это с таким пылом и такой отвагой, что вызвал сильный
страх в тех, которые на него нападали. И отчасти от этого, отчасти и
вследствие уговоров хозяина они перестали бросать в него каменьями, а он, со
своей стороны, позволив им убрать раненых, снова стал на страже оружия с
таким же спокойствием и хладнокровием, как и раньше.
Но хозяину постоялого двора не понравились эти шутки его постояльца, и
он решил сократить срок и тотчас же посвятить его в проклятый рыцарский
орден, прежде чем случится другое несчастие. Итак, подойдя к Дон Кихоту, он
оправдался, говоря, что дерзкий поступок низких этих людей был совершен без
его ведома, но что они были хорошо наказаны за свою самонадеянность. Он
сказал ему, как уже и раньше говорил, что в замке нет часовни, но для того,
что им еще предстоит сделать, она и не нужна. Ведь вся суть церемониала
посвящения в рыцари -- насколько у него об этом имеются сведения --
заключается в двух ударах мечом, один по затылку, другой по плечу, а это
может быть совершено хотя бы среди поля. Что же касается стражи над оружием,
он исполнил уже все, что следует, тем более что требуется всего два часа, а
он простоял целых четыре.
Дон Кихот поверил всему этому и сказал, что готов подчиниться ему во
всем и чтобы он кончал все как можно скорее, потому что, если еще раз на
него нападут, после того как он будет посвящен в рыцари, он решил не
оставить никого в живых в замке, исключая тех, кого укажет ему владелец
замка, из уважения к которому он их и пощадит.
Предупрежденный и испуганный этими словами кастелян тотчас же принес
книгу, в которую он вносил записи о ячмене и соломе, выдаваемых им
погонщикам мулов, и в сопровождении мальчика, несшего за ним огарок свечи, и
двух уже упомянутых девушек он подошел туда, где стоял Дон Кихот, велел ему
опуститься на колени и, читая из своей книги, как бы произнося набожную
молитву, среди чтения поднял руку и сильно ударил ею Дон Кихота но шее,
после чего нанес ему собственным его мечом увесистый удар по плечу,
продолжая что-то бормотать сквозь зубы, точно молясь. Сделав это, он
приказал одной из дам опоясать нового рыцаря мечом, что она и исполнила с
большой ловкостью и благоразумием, потому что требовалась не малая доля его,
чтоб удержаться от громкого взрыва смеха во время церемоний посвящения; но
подвиги, совершенные на глазах у всех новопосвященным рыцарем, сдержали
душивший их хохот.
Опоясывая Дон Кихота мечом, добрая сеньора сказала:
-- Дай бог счастья вашей милости и победу в сражениях.
Дон Кихот спросил, как ее зовут, чтоб отныне и впредь он знал, кому он
обязан оказанной ему услугой, потому что он намерен уделить и ей долю той
славы, которую он добудет мужественной рукой своей. Она ответила с большим
смирением, что ее зовут Ла Толоса и что она дочь чеботаря, уроженца Толедо,
живущего вблизи лавок Санчо Бьеная, и что, где бы она ни была, она всегда
готова служить ему и считать его своим сеньором. В ответ Дон Кихот просил ее
из расположения к нему, сделать ему милость присвоить себе титул "донья" {В
Испании частица "дон" -- титул дворян, а "донья" -- титул испанских дам.
Сервантес осмеивает здесь столь распространенную в его время страсть к
добавлению этих "дон" и "донья".} и называться "доньей Толосой", что она и
обещала сделать. Вторая дама прикрепила Дон Кихоту шпоры, и у нее с ним
произошел почти такой же разговор, как и с той, которая опоясала его мечом.
На вопрос, как ее зовут, она ответила, что зовут ее Ла Молинера и что она
дочь почтенного мельника из Антекера. Дон Кихот также и ее просил присвоить
себе титул "донья", предлагая и ей всякие свои услуги и милости.
Как только эти никогда еще не виданные церемонии посвящения были быстро
и поспешно окончены, Дон Кихот решил поскорей сесть на коня и отправиться в
поиски за приключениями. И, оседлав тотчас Росинанта, он сел на него, и,
обняв хозяина, наговорил ему столько удивительных вещей, благодаря его за
посвящение в рыцари, что передать их в точности невозможно. Хозяин, желавший
только одного, чтобы он поскорее уехал с постоялого двора, ответил ему в том
же выспреннем тоне, но более кратко и, не требуя от него платы за ночлег,
отпустил его с богом.
Но погонщик мулов не обратил внимания на эти слова (а было бы лучше,
если бы он обратил, потому что это значило обратить внимание на свою
безопасность) и, схватив за ремни доспехи, далеко отшвырнул их от себя.
Увидев это, Дон Кихот поднял глаза к небу и, устремив мысли (как казалось) к
своей сеньоре Дульсинее, воскликнул:
-- Помогите мне, моя сеньора, в этой первой обиде, обрушившейся на
покоренное вами сердце! Не лишайте меня в этой первой опасности своей опоры
и своего покровительства!
Говоря эти и другие подобные слова, Дон Кихот бросил свой щит,
приподнял обеими руками копье и, ударив им со всей силы по голове погонщика
мулов, свалил его на землю в столь плачевном состоянии, что, если бы
последовал второй удар, ему не понадобился бы доктор, чтобы лечить его.
Сделав это, Дон Кихот собрал свои доспехи и снова стал прогуливаться так же
спокойно, как и до того. Немного спустя, ничего не зная о случившемся (так
как ошеломленный ударом погонщик лежал еще в беспамятстве), подошел другой
погонщик с тем же намерением напоить своих мулов. Только что он сбросил с
водопойной колоды доспехи, как Дон Кихот, не говоря ни слова и не призывая
никого на помощь, опять откинул щит, схватил обеими руками копье и нанес им
такой сильный удар по голове погонщика, что не копье сломалось, а голова
второго погонщика раскололась не на три, а на целых четыре части. На шум
сбежался весь народ, бывший на постоялом дворе, и среди них и хозяин. Увидав
это, Дон Кихот схватил щит и, обнажив меч, сказал:
-- О королева красоты, опора и сила моего ослабевшего сердца, теперь
настало время обратить очи твоего величия на плененного тобою рыцаря,
которому предстоит столь великое приключение!
Слова эти, как ему казалось, влили в него такую отвагу, что, если б
погонщики всего света напали на него, он не отступил бы ни на шаг. Товарищи
раненых, увидав их в столь плохом состоянии, стали издали осыпать градом
камней Дон Кихота, который, сколько мог, прикрывался щитом, не решаясь
отойти от водопойной колоды, чтобы доспехи не оставить без защиты. Хозяин
постоялого двора кричал, прося не трогать его, потому что он уже им говорил,
что это сумасшедший и в качестве сумасшедшего он будет выпущен на свободу,
хотя бы убил их всех. А Дон Кихот, со своей стороны, кричал еще громче,
называл их трусами и изменниками, а владельца замка низким и бесчестным
рыцарем, потому что с его согласия здесь так нагло обращаются со
странствующими рыцарями, и что если бы он уже был посвящен в рыцари, то
проучил бы его за его предательство.
-- Что же касается вас, низкая и грязная сволочь, вы для меня ничего не
значите. Стреляйте, бросайтесь на меня, оскорбляйте, сколько у вас хватит
сил, и увидите, какую получите награду за свою дерзость и глупость!
Он проговорил все это с таким пылом и такой отвагой, что вызвал сильный
страх в тех, которые на него нападали. И отчасти от этого, отчасти и
вследствие уговоров хозяина они перестали бросать в него каменьями, а он, со
своей стороны, позволив им убрать раненых, снова стал на страже оружия с
таким же спокойствием и хладнокровием, как и раньше.
Но хозяину постоялого двора не понравились эти шутки его постояльца, и
он решил сократить срок и тотчас же посвятить его в проклятый рыцарский
орден, прежде чем случится другое несчастие. Итак, подойдя к Дон Кихоту, он
оправдался, говоря, что дерзкий поступок низких этих людей был совершен без
его ведома, но что они были хорошо наказаны за свою самонадеянность. Он
сказал ему, как уже и раньше говорил, что в замке нет часовни, но для того,
что им еще предстоит сделать, она и не нужна. Ведь вся суть церемониала
посвящения в рыцари -- насколько у него об этом имеются сведения --
заключается в двух ударах мечом, один по затылку, другой по плечу, а это
может быть совершено хотя бы среди поля. Что же касается стражи над оружием,
он исполнил уже все, что следует, тем более что требуется всего два часа, а
он простоял целых четыре.
Дон Кихот поверил всему этому и сказал, что готов подчиниться ему во
всем и чтобы он кончал все как можно скорее, потому что, если еще раз на
него нападут, после того как он будет посвящен в рыцари, он решил не
оставить никого в живых в замке, исключая тех, кого укажет ему владелец
замка, из уважения к которому он их и пощадит.
Предупрежденный и испуганный этими словами кастелян тотчас же принес
книгу, в которую он вносил записи о ячмене и соломе, выдаваемых им
погонщикам мулов, и в сопровождении мальчика, несшего за ним огарок свечи, и
двух уже упомянутых девушек он подошел туда, где стоял Дон Кихот, велел ему
опуститься на колени и, читая из своей книги, как бы произнося набожную
молитву, среди чтения поднял руку и сильно ударил ею Дон Кихота но шее,
после чего нанес ему собственным его мечом увесистый удар по плечу,
продолжая что-то бормотать сквозь зубы, точно молясь. Сделав это, он
приказал одной из дам опоясать нового рыцаря мечом, что она и исполнила с
большой ловкостью и благоразумием, потому что требовалась не малая доля его,
чтоб удержаться от громкого взрыва смеха во время церемоний посвящения; но
подвиги, совершенные на глазах у всех новопосвященным рыцарем, сдержали
душивший их хохот.
Опоясывая Дон Кихота мечом, добрая сеньора сказала:
-- Дай бог счастья вашей милости и победу в сражениях.
Дон Кихот спросил, как ее зовут, чтоб отныне и впредь он знал, кому он
обязан оказанной ему услугой, потому что он намерен уделить и ей долю той
славы, которую он добудет мужественной рукой своей. Она ответила с большим
смирением, что ее зовут Ла Толоса и что она дочь чеботаря, уроженца Толедо,
живущего вблизи лавок Санчо Бьеная, и что, где бы она ни была, она всегда
готова служить ему и считать его своим сеньором. В ответ Дон Кихот просил ее
из расположения к нему, сделать ему милость присвоить себе титул "донья" {В
Испании частица "дон" -- титул дворян, а "донья" -- титул испанских дам.
Сервантес осмеивает здесь столь распространенную в его время страсть к
добавлению этих "дон" и "донья".} и называться "доньей Толосой", что она и
обещала сделать. Вторая дама прикрепила Дон Кихоту шпоры, и у нее с ним
произошел почти такой же разговор, как и с той, которая опоясала его мечом.
На вопрос, как ее зовут, она ответила, что зовут ее Ла Молинера и что она
дочь почтенного мельника из Антекера. Дон Кихот также и ее просил присвоить
себе титул "донья", предлагая и ей всякие свои услуги и милости.
Как только эти никогда еще не виданные церемонии посвящения были быстро
и поспешно окончены, Дон Кихот решил поскорей сесть на коня и отправиться в
поиски за приключениями. И, оседлав тотчас Росинанта, он сел на него, и,
обняв хозяина, наговорил ему столько удивительных вещей, благодаря его за
посвящение в рыцари, что передать их в точности невозможно. Хозяин, желавший
только одного, чтобы он поскорее уехал с постоялого двора, ответил ему в том
же выспреннем тоне, но более кратко и, не требуя от него платы за ночлег,
отпустил его с богом.

Глава IV Что случилось с нашим рыцарем, когда он уехал с постоялого двора
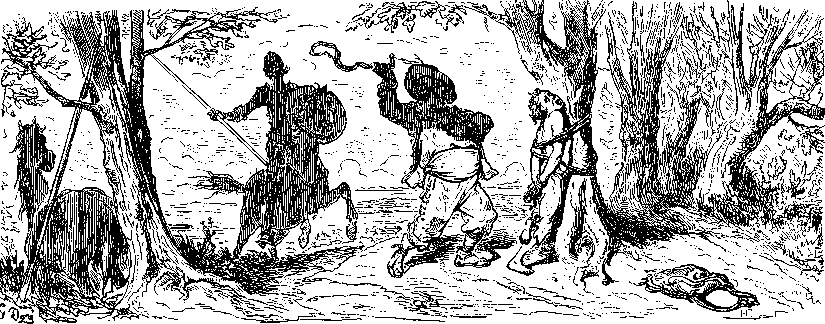 Начинало рассветать, когда Дон Кихот выехал с постоялого двора,
довольный, веселый и в таком восторге от мысли, что теперь он посвящен в
рыцари, что радость его чуть не брызгала из подпруги его лошади. Но,
вспомнив советы хозяина относительно столь необходимых для него запасов,
особенно денег и рубашек, он решил вернуться домой -- запастись всем этим, а
также и приискать себе оруженосца, рассчитывая на одного крестьянина, своего
соседа, человека бедного и обремененного семьей, но очень подходящего для
исполнения обязанностей оруженосца при странствующем рыцаре. С этой мыслью
он повернул на дорогу к себе в деревню Росинанта, который, как бы угадав, в
чем дело, быстро пустился бежать, точно его ноги не касались земли.
Недалеко отъехал Дон Кихот, как вдруг ему почудилось, что направо, из
чащи леса, бывшего вблизи, раздаются жалобные стоны, и он, едва заслышав их,
воскликнул: "Благодарю небо за милость, которую оно мне оказывает,
предоставляя мне так скоро случай исполнить обязанности моего звания и
пожать плоды добрых моих намерений. Эти крики, без сомнения, исходят от
несчастного или несчастной, нуждающихся в моей помощи и защите". И, дернув
за поводья Росинанта, он повернул его к тому месту, откуда, как ему
казалось, раздаются стоны. Не успел он въехать в лес, как на расстоянии
нескольких шагов увидел кобылу, привязанную к дубу, а к другому дубу был
привязан оголенный от пояса вверх мальчик лет пятнадцати, который кричал, --
и не без причины, потому что дюжий крестьянин нещадно бил его ремнем с
пряжкой. Каждый удар он сопровождал выговором и советом, говоря: "Держи язык
на привязи и смотри в оба".
И мальчик отвечал: "Не сделаю этого в другой раз, сеньор мой, клянусь
страстями Господними, не сделаю этого в другой раз, и обещаю отныне и впредь
хорошенько смотреть за стадом!".
Увидав то, что происходит, Дон Кихот гневным голосом воскликнул:
-- Недостойный рыцарь, не пристало вам нападать на того, кто не может
защищаться! Садитесь сейчас на своего коня, берите копье (так как у
крестьянина также оказалось копье, прислоненное к дубу, к которому привязана
была кобыла), и я докажу вам, что одни лишь трусы могут так поступать, как
вы.
При виде этой вооруженной с ног до головы фигуры, которая махала копьем
над его головой, крестьянин счел себя погибшим, и ответил ему по-хорошему:
-- Сеньор рыцарь, мальчик, которого я наказываю, мой слуга и пасет
стадо овец в этой местности. Но он так неисправен, что каждый день теряет по
овце. А когда я его наказываю за его небрежность и плутовство, он говорит,
что я это делаю из скупости, чтобы не заплатить жалованье, которое я ему
должен. Но клянусь Богом и душой, он лжет!
-- Лжет в моем присутствии, гнусный негодяй?! -- крикнул Дон Кихот. --
Клянусь солнцем, которое нам светит, я готов вас проколоть насквозь этим
копьем. Заплатите ему тотчас без всякого возражения, а нет -- клянусь Богом,
который правит нами, -- я тут же покончу с вами и мгновенно уничтожу вас.
Сейчас же отвяжите мальчика!
Крестьянин опустил голову и, не отвечая ни слова, отвязал своего слугу,
у которого Дон Кихот спросил, сколько хозяин должен ему. Мальчик сказал, что
он ему должен жалованье за девять месяцев по семи реалов {Real -- монета в
25 сантимов, или четверть франка.} в месяц.
Дон Кихот сосчитал, сколько это составит, и вышло шестьдесят три реала.
Тогда он сказал крестьянину, чтобы тот немедленно раскошелился, если не
хочет проститься с жизнью.
Трусливый крестьянин стал божиться местом, на котором он стоит, и
данной им клятвой (хотя он никакой клятвы не давал), что он меньше должен,
потому что следует вычесть и принять в расчет три пары башмаков, которые он
дал своему слуге, и один реал за два кровопускания, когда он был болен.
-- Все это хорошо, -- ответил Дон Кихот, -- но башмаки и кровопускание
пусть идут в счет за удары, которые вы без его вины нанесли ему; так как,
если он изорвал кожу башмаков, которые вы ему дали, вы изорвали ему кожу
тела; и если цирюльник пустил ему кровь, когда он был болен, вы пустили ему
кровь, когда он здоров. Итак, с этой стороны он ничего вам не должен.
-- К несчастью, сеньор рыцарь, -- ответил крестьянин, -- у меня нет
денег при себе. Пусть Андрес идет со мной, и я дома уплачу ему весь долг до
последнего реала.
-- Идти с ним! -- воскликнул мальчик. -- Боже сохрани! Нет, сеньор, ни
за что на свете, потому что если я останусь с ним глаз на глаз, он сдерет с
меня кожу, как со святого Варфоломея.
-- Этого он не сделает, -- ответил Дон Кихот. -- Довольно, что я
приказываю ему, чтобы он послушался, и, если он мне поклянется в том
рыцарским орденом, к которому он принадлежит, я отпущу его на свободу и
поручусь за уплату им долга.
-- Обратите внимание, ваша милость, сеньор, на то, что вы говорите, --
сказал мальчик, -- так как этот мой хозяин не рыцарь и не принадлежит ни к
какому рыцарскому ордену. Он Хуан Альдудо, богач, и живет в Кинтанаре.
-- Это неважно, -- ответил Дон Кихот, -- и Альдудосы могут быть
рыцарями, тем более что всякий -- сын своих дел.
-- Совершенно верно, -- согласился Андрес, -- но этот мой хозяин сын
каких же дел, если он отказывается платить мне жалованье за работу в поте
лица?
-- Я не отказываюсь, брат Андрес,-- сказал крестьянин, -- сделайте мне
удовольствие, пойдемте со мной, и я клянусь всеми рыцарскими орденами,
которые существуют на свете, что уплачу вам до последнего реала, да еще
деньгами, опрысканными духами.
Начинало рассветать, когда Дон Кихот выехал с постоялого двора,
довольный, веселый и в таком восторге от мысли, что теперь он посвящен в
рыцари, что радость его чуть не брызгала из подпруги его лошади. Но,
вспомнив советы хозяина относительно столь необходимых для него запасов,
особенно денег и рубашек, он решил вернуться домой -- запастись всем этим, а
также и приискать себе оруженосца, рассчитывая на одного крестьянина, своего
соседа, человека бедного и обремененного семьей, но очень подходящего для
исполнения обязанностей оруженосца при странствующем рыцаре. С этой мыслью
он повернул на дорогу к себе в деревню Росинанта, который, как бы угадав, в
чем дело, быстро пустился бежать, точно его ноги не касались земли.
Недалеко отъехал Дон Кихот, как вдруг ему почудилось, что направо, из
чащи леса, бывшего вблизи, раздаются жалобные стоны, и он, едва заслышав их,
воскликнул: "Благодарю небо за милость, которую оно мне оказывает,
предоставляя мне так скоро случай исполнить обязанности моего звания и
пожать плоды добрых моих намерений. Эти крики, без сомнения, исходят от
несчастного или несчастной, нуждающихся в моей помощи и защите". И, дернув
за поводья Росинанта, он повернул его к тому месту, откуда, как ему
казалось, раздаются стоны. Не успел он въехать в лес, как на расстоянии
нескольких шагов увидел кобылу, привязанную к дубу, а к другому дубу был
привязан оголенный от пояса вверх мальчик лет пятнадцати, который кричал, --
и не без причины, потому что дюжий крестьянин нещадно бил его ремнем с
пряжкой. Каждый удар он сопровождал выговором и советом, говоря: "Держи язык
на привязи и смотри в оба".
И мальчик отвечал: "Не сделаю этого в другой раз, сеньор мой, клянусь
страстями Господними, не сделаю этого в другой раз, и обещаю отныне и впредь
хорошенько смотреть за стадом!".
Увидав то, что происходит, Дон Кихот гневным голосом воскликнул:
-- Недостойный рыцарь, не пристало вам нападать на того, кто не может
защищаться! Садитесь сейчас на своего коня, берите копье (так как у
крестьянина также оказалось копье, прислоненное к дубу, к которому привязана
была кобыла), и я докажу вам, что одни лишь трусы могут так поступать, как
вы.
При виде этой вооруженной с ног до головы фигуры, которая махала копьем
над его головой, крестьянин счел себя погибшим, и ответил ему по-хорошему:
-- Сеньор рыцарь, мальчик, которого я наказываю, мой слуга и пасет
стадо овец в этой местности. Но он так неисправен, что каждый день теряет по
овце. А когда я его наказываю за его небрежность и плутовство, он говорит,
что я это делаю из скупости, чтобы не заплатить жалованье, которое я ему
должен. Но клянусь Богом и душой, он лжет!
-- Лжет в моем присутствии, гнусный негодяй?! -- крикнул Дон Кихот. --
Клянусь солнцем, которое нам светит, я готов вас проколоть насквозь этим
копьем. Заплатите ему тотчас без всякого возражения, а нет -- клянусь Богом,
который правит нами, -- я тут же покончу с вами и мгновенно уничтожу вас.
Сейчас же отвяжите мальчика!
Крестьянин опустил голову и, не отвечая ни слова, отвязал своего слугу,
у которого Дон Кихот спросил, сколько хозяин должен ему. Мальчик сказал, что
он ему должен жалованье за девять месяцев по семи реалов {Real -- монета в
25 сантимов, или четверть франка.} в месяц.
Дон Кихот сосчитал, сколько это составит, и вышло шестьдесят три реала.
Тогда он сказал крестьянину, чтобы тот немедленно раскошелился, если не
хочет проститься с жизнью.
Трусливый крестьянин стал божиться местом, на котором он стоит, и
данной им клятвой (хотя он никакой клятвы не давал), что он меньше должен,
потому что следует вычесть и принять в расчет три пары башмаков, которые он
дал своему слуге, и один реал за два кровопускания, когда он был болен.
-- Все это хорошо, -- ответил Дон Кихот, -- но башмаки и кровопускание
пусть идут в счет за удары, которые вы без его вины нанесли ему; так как,
если он изорвал кожу башмаков, которые вы ему дали, вы изорвали ему кожу
тела; и если цирюльник пустил ему кровь, когда он был болен, вы пустили ему
кровь, когда он здоров. Итак, с этой стороны он ничего вам не должен.
-- К несчастью, сеньор рыцарь, -- ответил крестьянин, -- у меня нет
денег при себе. Пусть Андрес идет со мной, и я дома уплачу ему весь долг до
последнего реала.
-- Идти с ним! -- воскликнул мальчик. -- Боже сохрани! Нет, сеньор, ни
за что на свете, потому что если я останусь с ним глаз на глаз, он сдерет с
меня кожу, как со святого Варфоломея.
-- Этого он не сделает, -- ответил Дон Кихот. -- Довольно, что я
приказываю ему, чтобы он послушался, и, если он мне поклянется в том
рыцарским орденом, к которому он принадлежит, я отпущу его на свободу и
поручусь за уплату им долга.
-- Обратите внимание, ваша милость, сеньор, на то, что вы говорите, --
сказал мальчик, -- так как этот мой хозяин не рыцарь и не принадлежит ни к
какому рыцарскому ордену. Он Хуан Альдудо, богач, и живет в Кинтанаре.
-- Это неважно, -- ответил Дон Кихот, -- и Альдудосы могут быть
рыцарями, тем более что всякий -- сын своих дел.
-- Совершенно верно, -- согласился Андрес, -- но этот мой хозяин сын
каких же дел, если он отказывается платить мне жалованье за работу в поте
лица?
-- Я не отказываюсь, брат Андрес,-- сказал крестьянин, -- сделайте мне
удовольствие, пойдемте со мной, и я клянусь всеми рыцарскими орденами,
которые существуют на свете, что уплачу вам до последнего реала, да еще
деньгами, опрысканными духами.
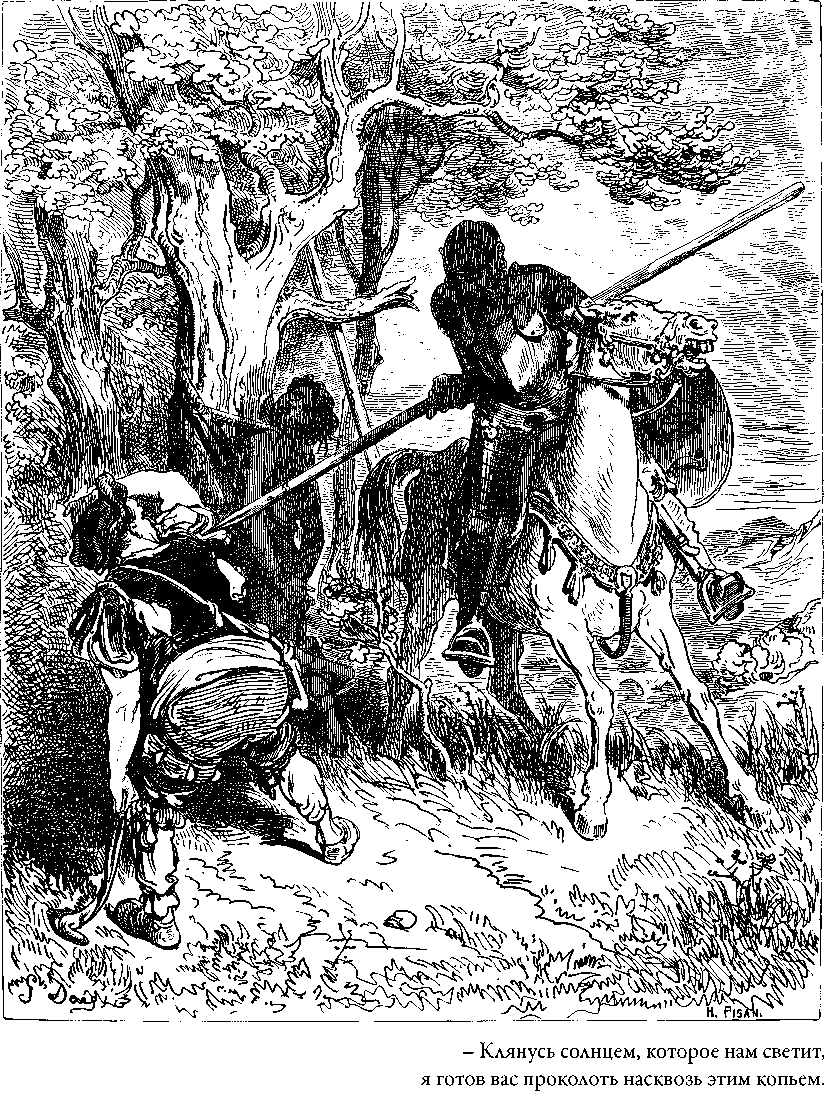 -- От опрыскивания духами освобождаю вас, -- сказал Дон Кихот, --
уплатите ему свой долг простыми реалами, этим я удовлетворюсь. Но смотрите,
исполните то, в чем клялись, а если нет, той же клятвой клянусь вам, что
разыщу и накажу вас и что найду вас, хотя бы вы скрывались лучше ящерицы. И
если вы желаете знать, кто вам приказывает это, -- чтобы еще более усилить
обязательство, принятое вами на себя, -- знайте, что я -- доблестный Дон
Кихот Ламанчский, защитник угнетенных и мститель за обиженных. Прощайте и не
забывайте того, что вы обещали и в чем клялись, под страхом объявленного вам
наказания.
С этими словами Дон Кихот пришпорил Росинанта и быстро исчез из глаз
присутствующих. Крестьянин смотрел ему вслед, и, когда он убедился, что
рыцарь выехал из леса и его больше не видать, он подошел к своему слуге,
Андресу, и сказал:
-- Ступайте-ка сюда, сын мой, я желаю уплатить вам все, что должен, как
тот защитник угнетенных мне приказывал.
-- Клянусь, -- ответил Андрес, -- вы хорошо сделаете, если исполните
приказание того доброго рыцаря, -- да здравствует он тысячу лет, столь
честный и справедливый судья! Но -- клянусь святым Роком! -- если вы не
заплатите мне, он вернется и сделает то, что сказал.
-- И я клянусь в том же, -- ответил крестьянин, -- однако из сильной к
вам любви желаю увеличить долг, чтобы увеличить и платеж.
С этими словами он схватил мальчика за руку, привязал его опять к дубу
и избил до полусмерти.
-- Зовите теперь, сеньор Андрес,-- сказал крестьянин, -- защитника
угнетенных, и посмотрим, как он возместит вам за эту обиду, хотя мне
думается, что я еще не довел ее до конца, так как чувствую желание содрать с
вас с живого кожу, как вы опасались.
Но наконец он отвязал его и предоставил ему свободу идти отыскивать
справедливого судью, чтобы тот привел в исполнение свой приговор.
Андрес ушел рассерженный, давая клятву разыскать храброго Дон Кихота
Ламанчского и рассказать ему в точности, что произошло, чтобы он отплатил за
все это семикратно. Тем не менее мальчик шел весь в слезах, а хозяин смеялся
ему вслед.
Вот каким образом защитил угнетенного доблестный Дон Кихот, который был
в восторге от случившегося, так как считал, что положил этим счастливое и
достойное начало своим рыцарским подвигам, и, очень довольный собой, ехал,
направляясь к себе в деревню, говоря вполголоса: "Ты действительно можешь
назвать себя счастливейшей из всех живущих теперь на земле или из всех
красавиц, прекрасная Дульсинея Тобосская, потому что тебе выпало на долю
держать в подчинении и покорности твоей воле и твоим желаниям столь храброго
и знаменитого рыцаря, каким есть и будет Дон Кихот Ламанчский. Он (как всем
известно) вчера лишь был посвящен в рыцари, а сегодня уже воздал должное за
самую великую обиду и оскорбление, какие могла изобрести несправедливость и
совершить жестокость. Сегодня он вырвал плеть из рук бездушного врага,
который так беспричинно истязал слабого ребенка".
В это время Дон Кихот подъехал к месту, где дорога расходилась на
четыре стороны, и тотчас же он вспомнил о перекрестках, на которых
странствующие рыцари обыкновенно останавливались, раздумывая, какую из дорог
им выбрать. Чтобы последовать их примеру, он тоже остановился на мгновение
и, после того как хорошенько подумал, отпустил поводья Росинанта и подчинил
свою волю воле коня, который не изменил своему первоначальному намерению и
направился к своей конюшне.
-- От опрыскивания духами освобождаю вас, -- сказал Дон Кихот, --
уплатите ему свой долг простыми реалами, этим я удовлетворюсь. Но смотрите,
исполните то, в чем клялись, а если нет, той же клятвой клянусь вам, что
разыщу и накажу вас и что найду вас, хотя бы вы скрывались лучше ящерицы. И
если вы желаете знать, кто вам приказывает это, -- чтобы еще более усилить
обязательство, принятое вами на себя, -- знайте, что я -- доблестный Дон
Кихот Ламанчский, защитник угнетенных и мститель за обиженных. Прощайте и не
забывайте того, что вы обещали и в чем клялись, под страхом объявленного вам
наказания.
С этими словами Дон Кихот пришпорил Росинанта и быстро исчез из глаз
присутствующих. Крестьянин смотрел ему вслед, и, когда он убедился, что
рыцарь выехал из леса и его больше не видать, он подошел к своему слуге,
Андресу, и сказал:
-- Ступайте-ка сюда, сын мой, я желаю уплатить вам все, что должен, как
тот защитник угнетенных мне приказывал.
-- Клянусь, -- ответил Андрес, -- вы хорошо сделаете, если исполните
приказание того доброго рыцаря, -- да здравствует он тысячу лет, столь
честный и справедливый судья! Но -- клянусь святым Роком! -- если вы не
заплатите мне, он вернется и сделает то, что сказал.
-- И я клянусь в том же, -- ответил крестьянин, -- однако из сильной к
вам любви желаю увеличить долг, чтобы увеличить и платеж.
С этими словами он схватил мальчика за руку, привязал его опять к дубу
и избил до полусмерти.
-- Зовите теперь, сеньор Андрес,-- сказал крестьянин, -- защитника
угнетенных, и посмотрим, как он возместит вам за эту обиду, хотя мне
думается, что я еще не довел ее до конца, так как чувствую желание содрать с
вас с живого кожу, как вы опасались.
Но наконец он отвязал его и предоставил ему свободу идти отыскивать
справедливого судью, чтобы тот привел в исполнение свой приговор.
Андрес ушел рассерженный, давая клятву разыскать храброго Дон Кихота
Ламанчского и рассказать ему в точности, что произошло, чтобы он отплатил за
все это семикратно. Тем не менее мальчик шел весь в слезах, а хозяин смеялся
ему вслед.
Вот каким образом защитил угнетенного доблестный Дон Кихот, который был
в восторге от случившегося, так как считал, что положил этим счастливое и
достойное начало своим рыцарским подвигам, и, очень довольный собой, ехал,
направляясь к себе в деревню, говоря вполголоса: "Ты действительно можешь
назвать себя счастливейшей из всех живущих теперь на земле или из всех
красавиц, прекрасная Дульсинея Тобосская, потому что тебе выпало на долю
держать в подчинении и покорности твоей воле и твоим желаниям столь храброго
и знаменитого рыцаря, каким есть и будет Дон Кихот Ламанчский. Он (как всем
известно) вчера лишь был посвящен в рыцари, а сегодня уже воздал должное за
самую великую обиду и оскорбление, какие могла изобрести несправедливость и
совершить жестокость. Сегодня он вырвал плеть из рук бездушного врага,
который так беспричинно истязал слабого ребенка".
В это время Дон Кихот подъехал к месту, где дорога расходилась на
четыре стороны, и тотчас же он вспомнил о перекрестках, на которых
странствующие рыцари обыкновенно останавливались, раздумывая, какую из дорог
им выбрать. Чтобы последовать их примеру, он тоже остановился на мгновение
и, после того как хорошенько подумал, отпустил поводья Росинанта и подчинил
свою волю воле коня, который не изменил своему первоначальному намерению и
направился к своей конюшне.
 Проехав приблизительно около двух миль, Дон Кихот увидел толпу
путешественников, которые, как потом оказалось, были купцами из Толедо,
ехавшими покупать шелк в Мурсию. Их было шестеро, и в руках они держали
зонтики. Сопровождали их четверо слуг верхом и трое погонщиков мулов пешком.
Едва Дон Кихот увидел их, он тотчас же вообразил, что это -- новое
приключение, и, чтобы во всем, что ему казалось возможным, подражать
подвигам, о которых он читал в своих книгах, он решил, что этот случай для
него самый подходящий. Итак, приняв гордую осанку и отважный вид, он
выпрямился на стременах, сжал в руке копье, прикрыл себе грудь щитом и,
остановившись посреди дороги, стал ждать, чтобы к нему подъехали
странствующие рыцари (он уже считал и принял их за таковых). Когда
путешественники приблизились настолько, что они могли его видеть и слышать,
Дон Кихот громким голосом и с вызывающим жестом воскликнул:
-- Остановитесь все, если вы все не признаете, что на целом свете нет
более прекрасной девушки, как императрица Ламанчи, несравненная Дульсинея
Тобосская!
Купцы остановились, услыхав эти слова и увидав странную фигуру того,
кто их произносил. И по фигуре, и по сказанному ею они тотчас же смекнули,
что имеют дело с сумасшедшим. Но им хотелось точнее узнать, в чем же состоит
признание, которое от них требуют, и поэтому один из купцов, большой шутник
и человек остроумный, сказал Дон Кихоту:
-- Господин рыцарь, мы не знаем той почтенной сеньоры, о которой вы
изволили говорить; покажите нам ее, и, если она действительно так прекрасна,
как вы утверждаете, мы по доброй воле и без всякого принуждения признаем
истину, которую вы требуете от нас.
-- Если бы я показал ее вам, -- возразил Дон Кихот, -- в чем была бы
заслуга, что вы признали бы столь неопровержимую истину? Суть дела в том,
чтобы, не видя ее, вы поверили, признали, подтвердили, клялись и стояли за
это. А если нет, сражайтесь со мной, чудовищные и надменные люди! Выйдете ли
вы на бой поодиночке, как этого требует рыцарский устав, или же все вместе,
по обычаю и дурной привычке людей вашего сорта, -- здесь я стою и жду вас,
зная, что справедливость на моей стороне.
-- Сеньор рыцарь,-- ответил купец,-- умоляю вашу милость от имени всех
этих принцев, которые тут перед вами, -- чтобы не отягощать нашу совесть
признанием того, чего мы никогда не видели и не слышали, тем более что
признание это клонит к обиде и ущербу всех императриц и королев Альгаррии
{Округ в Новой Кастилии, на левом берегу Энареса.} и Эстремадуры, -- не
будете ли вы столь добры, милость ваша, показать нам какой-нибудь портрет
той сеньоры, хотя бы величиной с пшеничное зерно, потому что и по нитке
можно добраться до клубка, -- и мы убедимся и удовлетворимся этим, а ваша
милость успокоится и останется довольной. И я даже думаю, что мы уже и
теперь на вашей стороне, так что, если бы по портрету ее и оказалось, что
она косит на один глаз, а из другого у нее истекают киноварь и сера, тем не
менее, желая угодить вашей милости, мы скажем в ее пользу все то, что вы
пожелаете.
-- Не истекает у нее, -- закричал, разгоревшись гневом, Дон Кихот, --
не истекает у нее то, что ты сказал, гнусная сволочь! А только благоухание
амбры и мускуса, и она не косая и не горбатая, а стройнее веретена Гадаррамы
{Гадаррама -- горная цепь на сев.-зап. от Мадрида, отделяющая Старую
Кастилию от Новой Кастилии и бассейн Дуро от бассейна реки Тахо. Веретеном
Гадаррамы, по-видимому, указывается на очень острые вершины этой горы.}. Но
вы заплатите мне за великую хулу, произнесенную вами против несравненной
красоты моей сеньоры!
Сказав это, Дон Кихот схватил копье и с таким гневом и бешенством
бросился на говорившего с ним, что дерзкому купцу пришлось бы плохо, если бы
по счастливому для него велению судьбы Росинант не споткнулся и не упал бы
на полпути. Росинант упал, и господин его покатился по полю на порядочное
расстояние, а когда он хотел подняться, он никак не мог, ему мешали копье,
щит, шпоры и шлем вместе с тяжестью старинных лат. И в то время как он
пытался встать и не мог, он говорил: "Не бегите, люди трусливые, люди
презренные; погодите, так как не по своей вине, а по вине моей лошади я лежу
здесь, растянувшись на земле".
Один из слуг, которые вели мулов, по-видимому, не очень-то
доброжелательный по природе, услыхав высокомерные речи упавшего с коня
бедняги, не мог удержаться, чтоб не прописать ему ответа на его спине. Он
подбежал к нему, схватил его копье, переломал на куски и одним из этих
кусков принялся так обрабатывать нашего Дон Кихота, что, несмотря на
защищавшие его латы, он измолол его, точно зерно на мельнице. Господа
кричали своему слуге, чтобы он перестал и оставил бы рыцаря, но погонщик был
так возбужден, что не захотел бросить игру, пока не истощится весь запас его
гнева. Подняв и остальные куски копья, он всех их переломал на ребрах
несчастного упавшего, который, несмотря на этот ураган сыпавшихся на него
ударов, не молчал, а угрожал небу и земле и разбойникам, за которых он
принял проезжих.
Наконец погонщик устал, и купцы продолжали свой путь, имея что
порассказать о бедном избитом рыцаре. А он, оставшись один, снова попытался
встать, но если он не мог этого сделать, когда был цел и невредим, как мог
бы он это сделать измятый и избитый? И все же он считал себя счастливым, так
как ему казалось, что это злоключение весьма обычное для странствующих
рыцарей, и он его приписал единственно падению своей лошади. Однако ему
невозможно было подняться, до того болело и ныло все его тело.
Проехав приблизительно около двух миль, Дон Кихот увидел толпу
путешественников, которые, как потом оказалось, были купцами из Толедо,
ехавшими покупать шелк в Мурсию. Их было шестеро, и в руках они держали
зонтики. Сопровождали их четверо слуг верхом и трое погонщиков мулов пешком.
Едва Дон Кихот увидел их, он тотчас же вообразил, что это -- новое
приключение, и, чтобы во всем, что ему казалось возможным, подражать
подвигам, о которых он читал в своих книгах, он решил, что этот случай для
него самый подходящий. Итак, приняв гордую осанку и отважный вид, он
выпрямился на стременах, сжал в руке копье, прикрыл себе грудь щитом и,
остановившись посреди дороги, стал ждать, чтобы к нему подъехали
странствующие рыцари (он уже считал и принял их за таковых). Когда
путешественники приблизились настолько, что они могли его видеть и слышать,
Дон Кихот громким голосом и с вызывающим жестом воскликнул:
-- Остановитесь все, если вы все не признаете, что на целом свете нет
более прекрасной девушки, как императрица Ламанчи, несравненная Дульсинея
Тобосская!
Купцы остановились, услыхав эти слова и увидав странную фигуру того,
кто их произносил. И по фигуре, и по сказанному ею они тотчас же смекнули,
что имеют дело с сумасшедшим. Но им хотелось точнее узнать, в чем же состоит
признание, которое от них требуют, и поэтому один из купцов, большой шутник
и человек остроумный, сказал Дон Кихоту:
-- Господин рыцарь, мы не знаем той почтенной сеньоры, о которой вы
изволили говорить; покажите нам ее, и, если она действительно так прекрасна,
как вы утверждаете, мы по доброй воле и без всякого принуждения признаем
истину, которую вы требуете от нас.
-- Если бы я показал ее вам, -- возразил Дон Кихот, -- в чем была бы
заслуга, что вы признали бы столь неопровержимую истину? Суть дела в том,
чтобы, не видя ее, вы поверили, признали, подтвердили, клялись и стояли за
это. А если нет, сражайтесь со мной, чудовищные и надменные люди! Выйдете ли
вы на бой поодиночке, как этого требует рыцарский устав, или же все вместе,
по обычаю и дурной привычке людей вашего сорта, -- здесь я стою и жду вас,
зная, что справедливость на моей стороне.
-- Сеньор рыцарь,-- ответил купец,-- умоляю вашу милость от имени всех
этих принцев, которые тут перед вами, -- чтобы не отягощать нашу совесть
признанием того, чего мы никогда не видели и не слышали, тем более что
признание это клонит к обиде и ущербу всех императриц и королев Альгаррии
{Округ в Новой Кастилии, на левом берегу Энареса.} и Эстремадуры, -- не
будете ли вы столь добры, милость ваша, показать нам какой-нибудь портрет
той сеньоры, хотя бы величиной с пшеничное зерно, потому что и по нитке
можно добраться до клубка, -- и мы убедимся и удовлетворимся этим, а ваша
милость успокоится и останется довольной. И я даже думаю, что мы уже и
теперь на вашей стороне, так что, если бы по портрету ее и оказалось, что
она косит на один глаз, а из другого у нее истекают киноварь и сера, тем не
менее, желая угодить вашей милости, мы скажем в ее пользу все то, что вы
пожелаете.
-- Не истекает у нее, -- закричал, разгоревшись гневом, Дон Кихот, --
не истекает у нее то, что ты сказал, гнусная сволочь! А только благоухание
амбры и мускуса, и она не косая и не горбатая, а стройнее веретена Гадаррамы
{Гадаррама -- горная цепь на сев.-зап. от Мадрида, отделяющая Старую
Кастилию от Новой Кастилии и бассейн Дуро от бассейна реки Тахо. Веретеном
Гадаррамы, по-видимому, указывается на очень острые вершины этой горы.}. Но
вы заплатите мне за великую хулу, произнесенную вами против несравненной
красоты моей сеньоры!
Сказав это, Дон Кихот схватил копье и с таким гневом и бешенством
бросился на говорившего с ним, что дерзкому купцу пришлось бы плохо, если бы
по счастливому для него велению судьбы Росинант не споткнулся и не упал бы
на полпути. Росинант упал, и господин его покатился по полю на порядочное
расстояние, а когда он хотел подняться, он никак не мог, ему мешали копье,
щит, шпоры и шлем вместе с тяжестью старинных лат. И в то время как он
пытался встать и не мог, он говорил: "Не бегите, люди трусливые, люди
презренные; погодите, так как не по своей вине, а по вине моей лошади я лежу
здесь, растянувшись на земле".
Один из слуг, которые вели мулов, по-видимому, не очень-то
доброжелательный по природе, услыхав высокомерные речи упавшего с коня
бедняги, не мог удержаться, чтоб не прописать ему ответа на его спине. Он
подбежал к нему, схватил его копье, переломал на куски и одним из этих
кусков принялся так обрабатывать нашего Дон Кихота, что, несмотря на
защищавшие его латы, он измолол его, точно зерно на мельнице. Господа
кричали своему слуге, чтобы он перестал и оставил бы рыцаря, но погонщик был
так возбужден, что не захотел бросить игру, пока не истощится весь запас его
гнева. Подняв и остальные куски копья, он всех их переломал на ребрах
несчастного упавшего, который, несмотря на этот ураган сыпавшихся на него
ударов, не молчал, а угрожал небу и земле и разбойникам, за которых он
принял проезжих.
Наконец погонщик устал, и купцы продолжали свой путь, имея что
порассказать о бедном избитом рыцаре. А он, оставшись один, снова попытался
встать, но если он не мог этого сделать, когда был цел и невредим, как мог
бы он это сделать измятый и избитый? И все же он считал себя счастливым, так
как ему казалось, что это злоключение весьма обычное для странствующих
рыцарей, и он его приписал единственно падению своей лошади. Однако ему
невозможно было подняться, до того болело и ныло все его тело.

Глава V Продолжение рассказа о злоключениях нашего рыцаря
 Дон Кихот, убедившись, что он в самом деле не может шевельнуться, решил
прибегнуть к обычному своему средству: припомнить то или иное событие из
прочитанного им в своих книгах. Безумие привело ему теперь на память
происшествие с Балдовиносом и маркизом Мантуанским, когда Карлото оставил
Балдовиноса раненым на горе, -- история, хорошо знакомая детям,
небезызвестная юношам, которою потешаются старики и даже верят ей, и при
всем том не более правдивая, чем чудеса Магомета. Эта-то история и
показалась Дон Кихоту как нельзя более подходящей к тому положению, в
котором он находился. Итак, он с признаками сильнейшего страдания стал
кататься на земле и чуть слышно повторял то, что будто бы говорил раненый
рыцарь в лесу:
-- Где же ты, моя сеньора,
Что тебе не жаль меня?
Про беду мою не знаешь,
Или ложь -- любовь твоя?
Таким образом он продолжал декламировать романс до строки:
О, мой дядя благородный,
Повелитель кровный мой...
Случаю было угодно, что, когда он дошел до этих строк, как раз проходил
мимо него крестьянин из того же местечка, как и он, -- его сосед,
возвращавшийся с мельницы, куда он только что свез пшеницу. Увидав лежащего
на земле человека, крестьянин подошел к нему и спросил, кто он и что с ним
случилось, что он издает такие жалобные стоны. Дон Кихот наверно подумал,
что это и есть маркиз Мантуанский, его дядя, и вместо ответа, продолжал
декламировать романс, в котором он давал ему отчет о своем несчастии и о
любовных похождениях императорского сына с его супругой, точь-в-точь как о
том поется в романсе. Крестьянин был изумлен, слушая эти нелепости, и, сняв
с него забрало, которое от ударов было уже изломано в куски, вытер ему лицо,
покрытое пылью; сделав это, крестьянин тотчас же узнал его и сказал:
-- Сеньор Кихана (так звали его, когда он был в здравом уме и еще не
превратился из мирного идальго в странствующего рыцаря), кто привел вашу
милость в такое состояние?
Но Дон Кихот продолжал декламировать свой романс в ответ на все
вопросы. Видя это, добрый человек снял как мог осторожнее с него латы и
наплечники, чтобы посмотреть, не ранен ли он, но нигде не нашел ни крови, ни
признаков ран. Кое-как ему удалось поднять рыцаря, и он с величайшим трудом
усадил его на своего осла, решив, что это более спокойный способ
передвижения. Он собрал все оружие, даже до обломков копья, сложил все это и
привязал на спину Росинанту, которого взял за повод, а осла -- за недоуздок
и таким образом направился к своему селу, с сокрушением слушая нелепости,
которые говорил Дон Кихот. Не менее приуныл и сам Дон Кихот; весь измятый и
избитый, он едва держался на осле и посылал время от времени к небу столь
глубокие вздохи, что крестьянин опять счел нужным спросить, что у него
болит. И казалось, точно дьявол помогал Дон Кихоту припоминать рассказы,
подходившие к теперешнему его положению, так как в эту минуту, забыв о
Балдовиносе, он вспомнил мавра Абиндараеса, которого Родриго де Нарваес --
начальник крепости Антекера -- взял в плен и увез к себе в замок. Поэтому,
когда крестьянин снова спросил его, как он себя чувствует и что у него
болит, Дон Кихот ответил ему теми самыми выражениями и словами, с какими
пленный Абиндараес обращается к Родриго Нарваесскому, точь-в-точь, как он
прочел эту историю в "Диане" Юор-хе де Монтемайоре, и так кстати пользовался
ею, что крестьянин посылал себя к черту, слушая эту кучу нелепостей, из
которых он заключил, что его сосед сошел с ума. Он торопился поскорей
добраться до своего города, чтобы избавиться от скуки, которую наводили на
него долгие разглагольствования Дон Кихота. В заключение рыцарь сказал:
-- Да будет известно вашей милости, сеньор дон Родриго де Нарваес, что
прекрасная Харифа, о которой я говорил вам, в настоящее время -- не кто
иная, как прелестная Дульсинея Тобосская, ради которой я совершил, совершаю
и буду совершать самые блестящие подвиги, какие когда-либо видел, видит или
увидит мир.
На это крестьянин ему ответил:
-- Прошу вас, сеньор, всмотритесь хорошенько в меня, бедного грешника,
-- я вовсе не дон Родриго де Нарваес и не маркиз Мантуанский, а просто Педро
Алонсо, ваш сосед, и ваша милость вовсе не Балдовинос и не Абиндараес, а
почтенный идальго, сеньор Кихана.
-- Я отлично знаю, кто я, -- ответил Дон Кихот, -- и знаю также, что
мог бы быть не только теми, кого я называл, но и всеми двенадцатью пэрами
Франции и девятью мужами славы {Девятью мужами славы называли трех
христианских королей: Артура, Карла Великого и Годфрида Бульонского, трех
евреев: Осию, Давида и Иуду Маккавея, и трех язычников: Александра, Гектора
и Юлия Цезаря.}, потому что подвиги мои превзойдут все их подвиги вместе
взятые и подвиги, совершенные каждым из них в отдельности.
В таких и тому подобных разговорах они в сумерки добрались до местечка;
но крестьянин подождал, пока не стемнело совсем, чтобы не видели избитого
идальго, едущего на осле.
Когда наконец ему показалось, что настало время, он въехал в село и
направился к дому Дон Кихота, где все было в большом переполохе. Там
находились деревенский священник и местный цирюльник, оба большие приятели
Дон Кихота. Обращаясь к ним, ключница громким голосом говорила:
-- Как вы думаете, ваша милость сеньор Педро Перес (так звали
священника), не приключилась ли беда с моим господином? Шесть дней уже, что
не видать ни его, ни его коня, ни щита его, ни копья, ни доспехов. О,
несчастная я! Мне кажется, -- и это также верно, как то, что я родилась,
чтобы умереть, -- проклятые эти его рыцарские книги, которые он постоянно
читает, омрачили его рассудок. Теперь я вспоминаю, что я не раз слышала, как
он сам с собой говорил, высказывая желание сделаться странствующим рыцарем и
искать приключения по всему свету. Пусть бы Сатана с Варравою унесли все эти
книги, погубившие самый тонкий ум, бывший во всей Ламанче!
Племянница говорила то же, и даже больше того:
-- Знайте, сеньор маэсе Николас (так звали цирюльника), не раз
случалось, что мой сеньор дядя читал эти бездушные, несчастные книги, не
отрываясь два дня и две ночи подряд, после чего он бросал книгу, хватал
шпагу и наносил удары в стены. Когда он был очень утомлен, он говорил, что
убил четырех великанов, подобных четырем башням, а пот, который лил с него
от усталости, он считал кровью из ран, полученных им в сражении, и тогда он
выпивал большой кувшин холодной воды и становился спокоен и здоров, говоря,
что вода эта -- драгоценное питье, принесенное ему мудрым Эскифом, могучим
волшебником и другом его. Но я сама виновата во всем, потому что не сообщила
вам раньше о безрассудствах моего сеньора дяди, чтобы вы могли ему помочь
прежде, чем он дошел до того состояния, в каком он теперь, и сожгли бы все
эти безбожные книги, а их у него много, и они вполне заслуживают того, чтобы
их сожгли, как сжигают еретиков.
-- Я согласен с вами, -- ответил священник, -- и, по чести говоря, не
далее как завтра книги эти будут преданы суду и приговорены к сожжению,
чтобы они не склонили тех, кто мог бы их прочесть, сделать то, что, должно
быть, сделал добрый мой друг.
Весь этот разговор слышали Дон Кихот и крестьянин, который теперь
окончательно понял болезнь своего соседа, и потому он громким голосом
сказал:
-- Впустите сеньора Балдовиноса и сеньора маркиза Мантуанского, который
возвращается тяжелораненый, и сеньора мавра Абиндараеса, взятого в плен и
привезенного храбрым Родриго Нарваесским, алькадом {Начальником.} крепости
Антекера!
На крик крестьянина все выбежали и, узнав, одни -- своего друга, другие
-- дядю и господина, который еще не слез с осла, потому что не был в силах,
бросились его обнимать.
Дон Кихот, убедившись, что он в самом деле не может шевельнуться, решил
прибегнуть к обычному своему средству: припомнить то или иное событие из
прочитанного им в своих книгах. Безумие привело ему теперь на память
происшествие с Балдовиносом и маркизом Мантуанским, когда Карлото оставил
Балдовиноса раненым на горе, -- история, хорошо знакомая детям,
небезызвестная юношам, которою потешаются старики и даже верят ей, и при
всем том не более правдивая, чем чудеса Магомета. Эта-то история и
показалась Дон Кихоту как нельзя более подходящей к тому положению, в
котором он находился. Итак, он с признаками сильнейшего страдания стал
кататься на земле и чуть слышно повторял то, что будто бы говорил раненый
рыцарь в лесу:
-- Где же ты, моя сеньора,
Что тебе не жаль меня?
Про беду мою не знаешь,
Или ложь -- любовь твоя?
Таким образом он продолжал декламировать романс до строки:
О, мой дядя благородный,
Повелитель кровный мой...
Случаю было угодно, что, когда он дошел до этих строк, как раз проходил
мимо него крестьянин из того же местечка, как и он, -- его сосед,
возвращавшийся с мельницы, куда он только что свез пшеницу. Увидав лежащего
на земле человека, крестьянин подошел к нему и спросил, кто он и что с ним
случилось, что он издает такие жалобные стоны. Дон Кихот наверно подумал,
что это и есть маркиз Мантуанский, его дядя, и вместо ответа, продолжал
декламировать романс, в котором он давал ему отчет о своем несчастии и о
любовных похождениях императорского сына с его супругой, точь-в-точь как о
том поется в романсе. Крестьянин был изумлен, слушая эти нелепости, и, сняв
с него забрало, которое от ударов было уже изломано в куски, вытер ему лицо,
покрытое пылью; сделав это, крестьянин тотчас же узнал его и сказал:
-- Сеньор Кихана (так звали его, когда он был в здравом уме и еще не
превратился из мирного идальго в странствующего рыцаря), кто привел вашу
милость в такое состояние?
Но Дон Кихот продолжал декламировать свой романс в ответ на все
вопросы. Видя это, добрый человек снял как мог осторожнее с него латы и
наплечники, чтобы посмотреть, не ранен ли он, но нигде не нашел ни крови, ни
признаков ран. Кое-как ему удалось поднять рыцаря, и он с величайшим трудом
усадил его на своего осла, решив, что это более спокойный способ
передвижения. Он собрал все оружие, даже до обломков копья, сложил все это и
привязал на спину Росинанту, которого взял за повод, а осла -- за недоуздок
и таким образом направился к своему селу, с сокрушением слушая нелепости,
которые говорил Дон Кихот. Не менее приуныл и сам Дон Кихот; весь измятый и
избитый, он едва держался на осле и посылал время от времени к небу столь
глубокие вздохи, что крестьянин опять счел нужным спросить, что у него
болит. И казалось, точно дьявол помогал Дон Кихоту припоминать рассказы,
подходившие к теперешнему его положению, так как в эту минуту, забыв о
Балдовиносе, он вспомнил мавра Абиндараеса, которого Родриго де Нарваес --
начальник крепости Антекера -- взял в плен и увез к себе в замок. Поэтому,
когда крестьянин снова спросил его, как он себя чувствует и что у него
болит, Дон Кихот ответил ему теми самыми выражениями и словами, с какими
пленный Абиндараес обращается к Родриго Нарваесскому, точь-в-точь, как он
прочел эту историю в "Диане" Юор-хе де Монтемайоре, и так кстати пользовался
ею, что крестьянин посылал себя к черту, слушая эту кучу нелепостей, из
которых он заключил, что его сосед сошел с ума. Он торопился поскорей
добраться до своего города, чтобы избавиться от скуки, которую наводили на
него долгие разглагольствования Дон Кихота. В заключение рыцарь сказал:
-- Да будет известно вашей милости, сеньор дон Родриго де Нарваес, что
прекрасная Харифа, о которой я говорил вам, в настоящее время -- не кто
иная, как прелестная Дульсинея Тобосская, ради которой я совершил, совершаю
и буду совершать самые блестящие подвиги, какие когда-либо видел, видит или
увидит мир.
На это крестьянин ему ответил:
-- Прошу вас, сеньор, всмотритесь хорошенько в меня, бедного грешника,
-- я вовсе не дон Родриго де Нарваес и не маркиз Мантуанский, а просто Педро
Алонсо, ваш сосед, и ваша милость вовсе не Балдовинос и не Абиндараес, а
почтенный идальго, сеньор Кихана.
-- Я отлично знаю, кто я, -- ответил Дон Кихот, -- и знаю также, что
мог бы быть не только теми, кого я называл, но и всеми двенадцатью пэрами
Франции и девятью мужами славы {Девятью мужами славы называли трех
христианских королей: Артура, Карла Великого и Годфрида Бульонского, трех
евреев: Осию, Давида и Иуду Маккавея, и трех язычников: Александра, Гектора
и Юлия Цезаря.}, потому что подвиги мои превзойдут все их подвиги вместе
взятые и подвиги, совершенные каждым из них в отдельности.
В таких и тому подобных разговорах они в сумерки добрались до местечка;
но крестьянин подождал, пока не стемнело совсем, чтобы не видели избитого
идальго, едущего на осле.
Когда наконец ему показалось, что настало время, он въехал в село и
направился к дому Дон Кихота, где все было в большом переполохе. Там
находились деревенский священник и местный цирюльник, оба большие приятели
Дон Кихота. Обращаясь к ним, ключница громким голосом говорила:
-- Как вы думаете, ваша милость сеньор Педро Перес (так звали
священника), не приключилась ли беда с моим господином? Шесть дней уже, что
не видать ни его, ни его коня, ни щита его, ни копья, ни доспехов. О,
несчастная я! Мне кажется, -- и это также верно, как то, что я родилась,
чтобы умереть, -- проклятые эти его рыцарские книги, которые он постоянно
читает, омрачили его рассудок. Теперь я вспоминаю, что я не раз слышала, как
он сам с собой говорил, высказывая желание сделаться странствующим рыцарем и
искать приключения по всему свету. Пусть бы Сатана с Варравою унесли все эти
книги, погубившие самый тонкий ум, бывший во всей Ламанче!
Племянница говорила то же, и даже больше того:
-- Знайте, сеньор маэсе Николас (так звали цирюльника), не раз
случалось, что мой сеньор дядя читал эти бездушные, несчастные книги, не
отрываясь два дня и две ночи подряд, после чего он бросал книгу, хватал
шпагу и наносил удары в стены. Когда он был очень утомлен, он говорил, что
убил четырех великанов, подобных четырем башням, а пот, который лил с него
от усталости, он считал кровью из ран, полученных им в сражении, и тогда он
выпивал большой кувшин холодной воды и становился спокоен и здоров, говоря,
что вода эта -- драгоценное питье, принесенное ему мудрым Эскифом, могучим
волшебником и другом его. Но я сама виновата во всем, потому что не сообщила
вам раньше о безрассудствах моего сеньора дяди, чтобы вы могли ему помочь
прежде, чем он дошел до того состояния, в каком он теперь, и сожгли бы все
эти безбожные книги, а их у него много, и они вполне заслуживают того, чтобы
их сожгли, как сжигают еретиков.
-- Я согласен с вами, -- ответил священник, -- и, по чести говоря, не
далее как завтра книги эти будут преданы суду и приговорены к сожжению,
чтобы они не склонили тех, кто мог бы их прочесть, сделать то, что, должно
быть, сделал добрый мой друг.
Весь этот разговор слышали Дон Кихот и крестьянин, который теперь
окончательно понял болезнь своего соседа, и потому он громким голосом
сказал:
-- Впустите сеньора Балдовиноса и сеньора маркиза Мантуанского, который
возвращается тяжелораненый, и сеньора мавра Абиндараеса, взятого в плен и
привезенного храбрым Родриго Нарваесским, алькадом {Начальником.} крепости
Антекера!
На крик крестьянина все выбежали и, узнав, одни -- своего друга, другие
-- дядю и господина, который еще не слез с осла, потому что не был в силах,
бросились его обнимать.
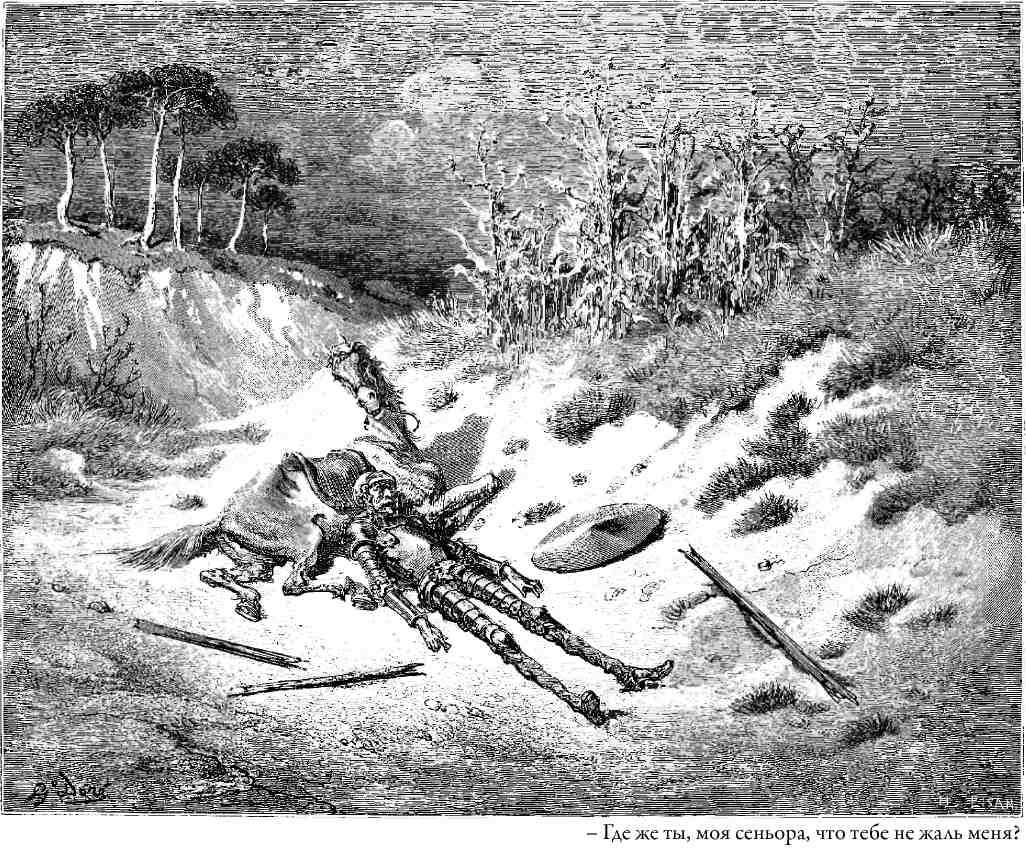 Но Дон Кихот сказал:
-- Подождите вы все. Я приехал тяжелораненый по вине моего коня.
Уложите меня в постель и позовите, если это окажется возможным, мудрую
Урганду чтобы она осмотрела мои раны и вылечила их.
-- Вот видите ли! -- сказала тогда ключница. К несчастью, сердце мое
верно подсказало мне, на какую ногу хромает мой господин. Войдите в добрый
час, ваша милость, и мы сами, не призывая этой ургады {На воровском
испанском языке -- "непотребная женщина".}, сумеем вылечить вас. Да будут
прокляты, говорю я еще раз и еще сто раз, эти рыцарские книги, которые
довели вашу милость до такого состояния!
Тотчас же уложили Дон Кихота в постель и, отыскивая раны, не нашли ни
одной, а он сказал, что расшибся вследствие жестокого падения вместе с
Росинантом, своим конем, сражаясь с десятью великанами, самыми чудовищными и
отважными, какие только можно встретить на поверхности земли.
-- Та-та-та, -- сказал священник,-- уже заплясали великаны? Клянусь
знамением креста, я всех их сожгу завтра до наступления ночи!
Дон Кихоту стали задавать тысячи вопросов, но он ни на один ничего не
ответил, только попросил принести ему поесть и дать ему спать, потому что
это наиболее необходимо для него. Так и сделали, и священник подробно
расспросил крестьянина, где и как он нашел Дон Кихота. Крестьянин рассказал
ему все, а также и нелепости, которые Дон Кихот ему говорил, когда он его
нашел и когда он его вез домой. Это еще более утвердило священника в его
решении сделать то, что он и сделал на следующий же день, зайдя
предварительно за своим другом, цирюльником маэсе Николасом, с которым и
отправился в дом к Дон Кихоту.
Но Дон Кихот сказал:
-- Подождите вы все. Я приехал тяжелораненый по вине моего коня.
Уложите меня в постель и позовите, если это окажется возможным, мудрую
Урганду чтобы она осмотрела мои раны и вылечила их.
-- Вот видите ли! -- сказала тогда ключница. К несчастью, сердце мое
верно подсказало мне, на какую ногу хромает мой господин. Войдите в добрый
час, ваша милость, и мы сами, не призывая этой ургады {На воровском
испанском языке -- "непотребная женщина".}, сумеем вылечить вас. Да будут
прокляты, говорю я еще раз и еще сто раз, эти рыцарские книги, которые
довели вашу милость до такого состояния!
Тотчас же уложили Дон Кихота в постель и, отыскивая раны, не нашли ни
одной, а он сказал, что расшибся вследствие жестокого падения вместе с
Росинантом, своим конем, сражаясь с десятью великанами, самыми чудовищными и
отважными, какие только можно встретить на поверхности земли.
-- Та-та-та, -- сказал священник,-- уже заплясали великаны? Клянусь
знамением креста, я всех их сожгу завтра до наступления ночи!
Дон Кихоту стали задавать тысячи вопросов, но он ни на один ничего не
ответил, только попросил принести ему поесть и дать ему спать, потому что
это наиболее необходимо для него. Так и сделали, и священник подробно
расспросил крестьянина, где и как он нашел Дон Кихота. Крестьянин рассказал
ему все, а также и нелепости, которые Дон Кихот ему говорил, когда он его
нашел и когда он его вез домой. Это еще более утвердило священника в его
решении сделать то, что он и сделал на следующий же день, зайдя
предварительно за своим другом, цирюльником маэсе Николасом, с которым и
отправился в дом к Дон Кихоту.


Глава VI, Об искусном и великом следствии, произведенном священником
и цирюльником в библиотеке нашего остроумного идальго
 Дон Кихот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключи от
комнаты, в которой находились книги -- виновники случившегося, -- и она с
величайшей охотой дала их ему. Все они вошли в комнату, в том числе и
ключница, и нашли более ста больших томов в очень хороших переплетах и
другие книги, меньшего формата. Как только ключница увидела их, она поспешно
выбежала из комнаты и тотчас же вернулась с чашей святой воды и пучком
иссопа {Иссоп считался издревле растением очищения и употреблялся при
изгнании бесов и нечистой силы.}.
-- Вот, ваша милость сеньор лисенсиат {Ученая степень.}, -- сказала
она, -- окропите святой водой комнату на случай, если бы тут оказался
кто-нибудь из множества волшебников, которыми полны эти книги, чтобы они не
околдовали нас в наказание за то, что мы желаем согнать их со свету.
Лисенсиат рассмеялся над простотой ключницы и велел цирюльнику передавать
ему одну за другой книги, чтоб посмотреть, о чем там речь, так как могут
найтись некоторые книги, не заслуживающие быть преданными огню.
-- Нет, -- сказала племянница, -- ни одной не надо щадить, все они
делали зло. Лучше было бы бросить их из окна во двор, свалить в кучу и
сжечь, а если нет, снести их на задний двор, там устроить костер, и тогда
дым не будет нас беспокоить.
То же самое сказала и ключница: так велико было желание обеих казнить
смертью этих невинных; но священник не согласился с ними и решил прочитать
по крайней мере хоть заглавия.
Первые книги, поданные ему маэсе Николасом, были четыре тома "Амадиса
Галльского", и священник сказал:
-- Это очень странное совпадение, потому что, как я слышал, "Амадис
Галльский" была первой из рыцарских книг, напечатанных в Испании, и все
остальные получили начало и происхождение из нее. Итак, мне кажется, что
этого Амадиса, как ересеначальника столь вредной секты, мы без всякого
снисхождения должны приговорить к сожжению.
-- Нет, сеньор, -- сказал цирюльник, -- я слышал также, что книга эта
-- лучшая из всех, сочиненных в этом роде, и потому, как единственную по
совершенству, ее следует помиловать.
-- Верно, -- сказал священник, -- и по этой причине ей даруется пока
жизнь. Посмотрим ту другую, которая рядом с ней.
-- Это, -- сказал цирюльник, -- "Подвиги Эспландиана", законного сына
Амадиса Галльского.
-- По чести говоря, -- ответил священник, -- сыну не могут быть
поставлены в оправдание достоинства отца; возьмите его, сеньора ключница,
откройте окно и выбросьте его во двор. Таким образом будет положено начало
костру, который мы собираемся устроить.
Ключница сделала это с большим удовольствием, и бедняга "Эспландиан"
полетел на задний двор, терпеливо ожидая угрожавшего ему сожжения.
-- Дальше! -- сказал священник.
-- Тут вот, -- отозвался цирюльник, -- "Амадис Греческий", и мне
кажется, что весь ряд на этой полке сродни "Амадису".
-- Пусть же все эти книги отправляются на задний двор, -- решил
священник, -- так как, за то, чтобы я мог сжечь королеву Пинтикиниестру и
пастуха Даринела с его эклогами и с чертовски запутанной болтовней их
автора, я вместе с ними сжег бы на костре и родного моего отца, если бы он
явился в облике странствующего рыцаря.
-- И я того же мнения, -- сказал цирюльник.
-- И я также,-- добавила племянница.
-- Еcли это так, -- сказала ключница, -- давайте их сюда, и пусть все
летят во двор.
Они передали ей книги, и так как их было немало, то, чтобы избавить
себя от беготни по лестнице, ключница бросила их во двор из окна.
-- А это что за бочка там? -- спросил священник.
-- Это, -- ответил цирюльник,-- "Дон Оливанте де Лаура".
-- Автор этой книги, -- сказал священник, -- вместе с тем и автор
"Цветочного сада", и право, я не мог бы решить, которое из этих двух его
сочинений более правдиво, или, точнее, менее лживо. Одно могу сказать, что
за свою напыщенность и нелепость "Оливанте" полетит во двор.
-- Следующая книга -- "Флорисмарте де Иркания", -- сообщил цирюльник.
-- Как, тут и сеньор Флорисмарте?-- спросил священник. -- По чести
говоря, ему придется тотчас же отправиться во двор, несмотря на его странное
рождение и фантастические приключения, так как сухой и жесткий слог его
ничего иного не заслуживает. Во двор его и еще вот эту книгу, сеньора
ключница!
-- С величайшим удовольствием,-- ответила та и живо исполнила данное ей
поручение.
-- Вот это -- "Рыцарь Платир",-- сказал цирюльник.
-- Старинная это книга, -- заметил священник, -- но я в ней не нахожу
ничего, заслуживающего пощады. Пусть она без возражения присоединится к
своим товарищам во дворе.
Так и было сделано. Раскрыли еще книгу, и заглавие ее оказалось "Рыцарь
Креста".
-- Ради такого святого заглавия,-- сказал священник, -- можно было бы
простить ей ее невежество, но говорят также: "Позади креста стоит дьявол" --
пусть же она отправляется в огонь!
Взяв другую книгу, цирюльник сказал:
-- Это "Зеркало рыцарства".
-- Я знаком с его милостью, -- объявил священник, -- тут речь идет о
сеньоре Рейнальдосе де Монтальбане с его друзьями и товарищами, мошенниками,
похуже Како, а также и о двенадцати пэрах Франции с правдивым историком
Турпином. По правде говоря, я стою за то, чтобы их осудить не более как на
вечное изгнание, хотя бы уже ради того, что на долю их выпала честь
вдохновить знаменитого Маттео Боярдо, из которого и христианский поэт
Людовико Ариосто заимствовал канву своей поэмы. Если я встречу здесь Ариосто
на другом, а не на родном его языке, то отнесусь к нему без всякого
уважения; если же на его родном языке, то я положу его себе на голову
{Ориентализм: добрый магометанин кладет себе на голову Коран в знак
благоговения.}.
-- У меня Ариосто на итальянском языке, но я его не понимаю, -- сказал
цирюльник.
-- Ничего хорошего не было бы, если б вы его и понимали, -- ответил
священник. -- И мы бы простили сеньора капитана {Дон Иеронимо Хименес де
Урреа -- очень плохой переводчик Ариосто на испанский язык.}, если бы он не
привез Ариосто к нам в Испанию и не сделал бы из него кастильца, потому что
этим он лишил его многих присущих ему достоинств. То же самое сделают и все
те, которые пожелали бы перевести стихотворные произведения на другой язык,
так как, сколько бы они ни старались, сколько бы ни выказывали искусства,
никогда им не достигнуть совершенства оригинала. Итак, говорю я, пусть эта
книга и все сочинения о событиях во Франции, которые еще здесь найдутся
{Речь идет о романах, относящихся к героям Карловингов.}, будут брошены на
дно сухого колодца и сложены там, пока мы после дальнейшего совещания не
решим, что с ними делать, -- исключая лишь "Бернардо дель Карпио", который,
наверное, есть здесь, и еще одной книги, озаглавленной "Ронсеваль". Как
только обе эти книги попадутся мне на глаза, я отдам их сейчас же сеньоре
ключнице, а из ее рук они без всякого промедления отправятся в огонь.
Со всем этим согласился и цирюльник и все сказанное священником одобрил
вполне, так как он его знал за доброго христианина и такого любителя истины,
который ни за что в мире не сказал бы неправды. Цирюльник раскрыл еще одну
книгу и увидел, что это "Пальмерин Оливы", а рядом лежала другая,
озаглавленная "Пальмерин Английский". Увидев эти две книги, лисенсиат
сказал:
-- Срубите поскорей эту оливу и сожгите ее так, чтоб от нее не осталось
и пепла. Английскую же пальму возьмите и сохраните, как единственную в своем
роде, и пусть для нее сделают такой же ларец, какой нашел Александр
Македонский в добыче, взятой у Дария, и предназначил для хранения
произведений Гомера. Книга эта, сеньор кум, интересна по двум причинам:
во-первых, потому что она сама по себе очень хороша, а во-вторых, автором
ее, как говорят, был мудрый португальский король. Все приключения в замке
Мирагарды превосходны и написаны с большим искусством, слог изящный и ясный,
а разговоры приноровлены, с пониманием и вкусом, к характеру действующих
лиц. Поэтому мне казалось бы -- если и вы, сеньор Николас, согласитесь со
мной, -- что следует освободить и эту книгу, и "Амадиса Галльского" от
сожжения, все же остальные без дальнейшего промедления предать огню!
-- Нет, сеньор кум, -- возразил цирюльник, -- потому что книга, которая
у меня как раз в руках, -- знаменитый "Дон Белианис".
-- Что касается его, -- ответил священник, -- то второй, третьей и
четвертой его части следовало бы дать небольшую дозу ревеня, чтобы очистить
их от излишка желчи; необходимо также выкинуть оттуда весь рассказ о храме
славы и другую, еще худшую, белиберду. В этих видах можно дать дону
Белианису отсрочку, как для проживающих за морем {Испанский закон
предоставлял всем, проживающим "за морем", известный срок, смотря по
расстоянию, чтобы приготовиться к защите.}, и -- смотря по тому, исправится
ли он или нет, -- оказать ему снисхождение, или же поступить с ним по всей
строгости закона. А пока возьмите его к себе на дом, кум, но никому не
давайте читать.
-- Прекрасно, -- ответил цирюльник, и не желая больше утруждать себя
пересмотром остальных рыцарских книг, он велел ключнице взять все большие
тома и бросить их из окна. Это было сказано не глупой и не глухой, а такой,
которая горела большим желанием сжечь эти книги, чем даже приняться за пряжу
самого широкого и тонкого в мире полотна, и потому она взяла сразу томов
восемь, чтобы бросить их из окна. Но она захватила слишком много, и одна из
книг выскользнула у нее из рук и упала к ногам цирюльника, который из
любопытства поднял ее и прочел заглавие: "История знаменитого рыцаря Тиранте
Белого".
-- Господи помоги! -- сказал громким голосом священник. Как, здесь и
"Тиранте Белый"! Дайте-ка мне его сюда, кум; я уверен, что нашел в нем клад
удовольствия и источник развлечения. Тут и храбрый рыцарь дон Кириэлейсон
{Господи помилуй нас.} де Монтальбан, и брат его Томас де Монтальбан, и
рыцарь Фонсека, и битва Тиранте с догом, и остроумные причуды девушки
Пласердемивида {Удовольствие моей жизни.}, и любовные интриги и плутни вдовы
Репосада {Спокойствие.}, и сеньора императрица, влюбленная в своего
наездника Ипполита. Истинно говорю вам, сеньор кум, относительно слога это
-- лучшая из всех книг в мире. Здесь рыцари едят и спят и умирают в своих
кроватях, перед смертью делают завещания, а также другие вещи, о которых нет
ни слова во всех остальных книгах того же рода. Тем не менее, говорю вам,
автор книги заслуживал бы, если б он намеренно написал столько безрассудств,
быть бессрочно сосланным на галеры. Возьмите его домой, прочтите, и вы
увидите, что я сказал правду.
-- Не сомневаюсь в том, -- ответил цирюльник. -- Но как нам поступить
вот с этими маленькими книжками, которые еще здесь остались?
-- Эти книжки, -- сказал священник, -- должно быть, не рыцарские
романы, а стихотворения.
Раскрыв одну из книг, он увидел, что это "Диана" {"Диана" -- пастушечья
повесть в стихах и прозе, впервые появившаяся в печати в 1545 г.}
Монтемайора, и сказал, полагая, что и все остальные в том же роде:
-- Книги эти не заслуживают быть присужденными, подобно другим, к
сожжению, потому что они не сделали и не сделают того вреда, какой принесли
рыцарские романы; это книги для времяпровождения, не причиняющие ущерба
никому.
-- Ах, сеньор, -- сказала племянница, -- лучше было бы, если б ваша
милость распорядилась сжечь и эти книги вместе с остальными, потому что
очень возможно, что мой дядя, выздоровев от рыцарской заразы и читая эти
книги, вздумает вдруг превратиться в пастуха и с песнями и музыкой будет
скитаться по лесам и полям или, что еще хуже, сделается поэтом, а это, как я
слышала, болезнь заразительная и неизлечимая.
-- Девушка говорит правду, -- сказал священник, -- и было бы хорошо
устранить с дороги нашего друга и этот камень преткновения, и эту опасность.
Но так как мы начали с "Дианы" Монтемайо-ра, я держусь мнения, чтобы не
сжигать ее, а лишь выкинуть все те места, в которых речь о мудрой Фелисии и
очарованной воде, и почти все главные стихотворения; затем в добрый час
оставим ей всю прозу, а также и честь быть родоначальницей подобных ей
произведений.
-- Следующая книга, -- сказал цирюльник, -- "Диана", называемая "Второй
Сальмантина", а эта вот тоже "Диана", но ее автор -- Хиль Поло.
-- Пусть произведение Сальмантина, -- сказал священник, -- отправится к
осужденным во двор и увеличит их число, а "Диану" Хиля Поло следует беречь,
как будто ее написал сам Аполлон. Но продолжайте, сеньор кум, нам надо
торопиться, ведь становится уже поздно.
-- Эта книга, -- сказал цирюльник, раскрывая еще одну -- "Десять книг
Фортуны любви", сочинение сардинского поэта Антонио Лофрасо.
-- Клянусь моим духовным званием, -- воскликнул священник, -- с тех
пор, как Аполлон -- Аполлон, музы -- музы, а поэты -- поэты, не было
написано более веселой и фантастической книги, чем эта. Она лучшая и
единственная в своем роде среди подобных ей, когда-либо появлявшихся на
свет, и тот, кто ее не читал, может быть уверен, что не читал никогда вещи,
написанной со вкусом. Дайте мне ее сюда, кум, я больше ценю эту находку, чем
если б мне подарили рясу из простой флорентийской материи {Все сказанное об
этой книге -- ирония.}.
Священник отложил книгу в сторону с видимым удовольствием, а цирюльник
продолжал осмотр, говоря:
-- Вот тут у нас еще "Иберийский пастух", "Нимфы Энереса" и "Излечение
от ревности".
-- Их и остается только передать в руки светской власти ключницы, --
сказал священник, -- и не спрашивайте меня почему, иначе мы никогда не
кончим.
-- А вот "Пастух Фелиды".
-- Это не пастух, -- сказал священник, -- а самый утонченный
царедворец. Сохраним его как драгоценность.
-- Большой этот том, -- продолжал цирюльник, -- озаглавлен
"Сокровищница стихотворений".
-- Если б их не было здесь так много, -- сказал священник, -- их ценили
бы больше. Необходимо прополоть эту книгу и пообчистить от некоторых плоских
и ничтожных вещей, встречающихся в ней среди истинно прекрасных. Сохраним ее
еще и оттого, что автор ее мой друг, а также и из уважения к другим более
возвышенным и героическим произведениям, которые он написал.
-- Вот эта книга -- "Песенник Лопеса Мальдонада", -- продолжал
цирюльник.
-- Автор этой книги также большой мне друг, -- сказал священник, -- и
когда он читает свои стихи, они приводят в восторг слушателей, а когда он их
поет, голос его такой сладостный, что он всех чарует. Его эклоги несколько
растянуты, но то, что хорошо, никогда не надоедает. Отложим и его к
избранным авторам. А это что за книга там, рядом с ним?
-- Это -- "Галатея" Мигеля Сервантеса, -- сказал цирюльник.
-- Много уже лет этот Сервантес мой большой друг, и я знаю, что он
более опытен в несчастии, чем в стихах. У него недурная изобретательность,
он что-то имеет в виду, но ничего не оканчивает. Надо подождать второй части
"Галатеи", обещанной им. Быть может, тогда он, исправившись, заслужит
полного прощения, в котором ему теперь отказывается. А пока что держите его
у себя в заточении, сеньор кум.
-- С удовольствием, -- ответил цирюльник. -- Здесь вот три книги
вместе: "Араукана" дона Алонсо де Эрсильи, "Аустриада" Хуана Руфо, судьи в
Кордове, и "Монсеррате" Христоваля де Вируэса, поэта из Валенсии {Эти три
книги считаются наиболее образцовыми произведениями испанской героической
поэзии.
}.
-- Эти три книги, -- сказал священник, -- лучшие из всех написанных
героическим метром на кастильском языке и могут соперничать с наиболее
знаменитыми произведениями в том же роде итальянских авторов. Будем же их
беречь, как самые роскошные поэтические алмазы, которыми обладает Испания.
Священник устал производить осмотр книгам и потому решил все оставшиеся
отдать целиком на сожжение, но цирюльник уже раскрыл одну из них,
озаглавленную "Слезы Анжелики".
-- Я бы сам пролил слезы, -- сказал священник, услыхав заглавие, --
если бы велел бросить в огонь и эту книгу, потому что ее автор был одним из
самых знаменитых поэтов не только Испании, но и всего мира, и необычайно
удачно перевел некоторые из басен Овидия.
Дон Кихот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключи от
комнаты, в которой находились книги -- виновники случившегося, -- и она с
величайшей охотой дала их ему. Все они вошли в комнату, в том числе и
ключница, и нашли более ста больших томов в очень хороших переплетах и
другие книги, меньшего формата. Как только ключница увидела их, она поспешно
выбежала из комнаты и тотчас же вернулась с чашей святой воды и пучком
иссопа {Иссоп считался издревле растением очищения и употреблялся при
изгнании бесов и нечистой силы.}.
-- Вот, ваша милость сеньор лисенсиат {Ученая степень.}, -- сказала
она, -- окропите святой водой комнату на случай, если бы тут оказался
кто-нибудь из множества волшебников, которыми полны эти книги, чтобы они не
околдовали нас в наказание за то, что мы желаем согнать их со свету.
Лисенсиат рассмеялся над простотой ключницы и велел цирюльнику передавать
ему одну за другой книги, чтоб посмотреть, о чем там речь, так как могут
найтись некоторые книги, не заслуживающие быть преданными огню.
-- Нет, -- сказала племянница, -- ни одной не надо щадить, все они
делали зло. Лучше было бы бросить их из окна во двор, свалить в кучу и
сжечь, а если нет, снести их на задний двор, там устроить костер, и тогда
дым не будет нас беспокоить.
То же самое сказала и ключница: так велико было желание обеих казнить
смертью этих невинных; но священник не согласился с ними и решил прочитать
по крайней мере хоть заглавия.
Первые книги, поданные ему маэсе Николасом, были четыре тома "Амадиса
Галльского", и священник сказал:
-- Это очень странное совпадение, потому что, как я слышал, "Амадис
Галльский" была первой из рыцарских книг, напечатанных в Испании, и все
остальные получили начало и происхождение из нее. Итак, мне кажется, что
этого Амадиса, как ересеначальника столь вредной секты, мы без всякого
снисхождения должны приговорить к сожжению.
-- Нет, сеньор, -- сказал цирюльник, -- я слышал также, что книга эта
-- лучшая из всех, сочиненных в этом роде, и потому, как единственную по
совершенству, ее следует помиловать.
-- Верно, -- сказал священник, -- и по этой причине ей даруется пока
жизнь. Посмотрим ту другую, которая рядом с ней.
-- Это, -- сказал цирюльник, -- "Подвиги Эспландиана", законного сына
Амадиса Галльского.
-- По чести говоря, -- ответил священник, -- сыну не могут быть
поставлены в оправдание достоинства отца; возьмите его, сеньора ключница,
откройте окно и выбросьте его во двор. Таким образом будет положено начало
костру, который мы собираемся устроить.
Ключница сделала это с большим удовольствием, и бедняга "Эспландиан"
полетел на задний двор, терпеливо ожидая угрожавшего ему сожжения.
-- Дальше! -- сказал священник.
-- Тут вот, -- отозвался цирюльник, -- "Амадис Греческий", и мне
кажется, что весь ряд на этой полке сродни "Амадису".
-- Пусть же все эти книги отправляются на задний двор, -- решил
священник, -- так как, за то, чтобы я мог сжечь королеву Пинтикиниестру и
пастуха Даринела с его эклогами и с чертовски запутанной болтовней их
автора, я вместе с ними сжег бы на костре и родного моего отца, если бы он
явился в облике странствующего рыцаря.
-- И я того же мнения, -- сказал цирюльник.
-- И я также,-- добавила племянница.
-- Еcли это так, -- сказала ключница, -- давайте их сюда, и пусть все
летят во двор.
Они передали ей книги, и так как их было немало, то, чтобы избавить
себя от беготни по лестнице, ключница бросила их во двор из окна.
-- А это что за бочка там? -- спросил священник.
-- Это, -- ответил цирюльник,-- "Дон Оливанте де Лаура".
-- Автор этой книги, -- сказал священник, -- вместе с тем и автор
"Цветочного сада", и право, я не мог бы решить, которое из этих двух его
сочинений более правдиво, или, точнее, менее лживо. Одно могу сказать, что
за свою напыщенность и нелепость "Оливанте" полетит во двор.
-- Следующая книга -- "Флорисмарте де Иркания", -- сообщил цирюльник.
-- Как, тут и сеньор Флорисмарте?-- спросил священник. -- По чести
говоря, ему придется тотчас же отправиться во двор, несмотря на его странное
рождение и фантастические приключения, так как сухой и жесткий слог его
ничего иного не заслуживает. Во двор его и еще вот эту книгу, сеньора
ключница!
-- С величайшим удовольствием,-- ответила та и живо исполнила данное ей
поручение.
-- Вот это -- "Рыцарь Платир",-- сказал цирюльник.
-- Старинная это книга, -- заметил священник, -- но я в ней не нахожу
ничего, заслуживающего пощады. Пусть она без возражения присоединится к
своим товарищам во дворе.
Так и было сделано. Раскрыли еще книгу, и заглавие ее оказалось "Рыцарь
Креста".
-- Ради такого святого заглавия,-- сказал священник, -- можно было бы
простить ей ее невежество, но говорят также: "Позади креста стоит дьявол" --
пусть же она отправляется в огонь!
Взяв другую книгу, цирюльник сказал:
-- Это "Зеркало рыцарства".
-- Я знаком с его милостью, -- объявил священник, -- тут речь идет о
сеньоре Рейнальдосе де Монтальбане с его друзьями и товарищами, мошенниками,
похуже Како, а также и о двенадцати пэрах Франции с правдивым историком
Турпином. По правде говоря, я стою за то, чтобы их осудить не более как на
вечное изгнание, хотя бы уже ради того, что на долю их выпала честь
вдохновить знаменитого Маттео Боярдо, из которого и христианский поэт
Людовико Ариосто заимствовал канву своей поэмы. Если я встречу здесь Ариосто
на другом, а не на родном его языке, то отнесусь к нему без всякого
уважения; если же на его родном языке, то я положу его себе на голову
{Ориентализм: добрый магометанин кладет себе на голову Коран в знак
благоговения.}.
-- У меня Ариосто на итальянском языке, но я его не понимаю, -- сказал
цирюльник.
-- Ничего хорошего не было бы, если б вы его и понимали, -- ответил
священник. -- И мы бы простили сеньора капитана {Дон Иеронимо Хименес де
Урреа -- очень плохой переводчик Ариосто на испанский язык.}, если бы он не
привез Ариосто к нам в Испанию и не сделал бы из него кастильца, потому что
этим он лишил его многих присущих ему достоинств. То же самое сделают и все
те, которые пожелали бы перевести стихотворные произведения на другой язык,
так как, сколько бы они ни старались, сколько бы ни выказывали искусства,
никогда им не достигнуть совершенства оригинала. Итак, говорю я, пусть эта
книга и все сочинения о событиях во Франции, которые еще здесь найдутся
{Речь идет о романах, относящихся к героям Карловингов.}, будут брошены на
дно сухого колодца и сложены там, пока мы после дальнейшего совещания не
решим, что с ними делать, -- исключая лишь "Бернардо дель Карпио", который,
наверное, есть здесь, и еще одной книги, озаглавленной "Ронсеваль". Как
только обе эти книги попадутся мне на глаза, я отдам их сейчас же сеньоре
ключнице, а из ее рук они без всякого промедления отправятся в огонь.
Со всем этим согласился и цирюльник и все сказанное священником одобрил
вполне, так как он его знал за доброго христианина и такого любителя истины,
который ни за что в мире не сказал бы неправды. Цирюльник раскрыл еще одну
книгу и увидел, что это "Пальмерин Оливы", а рядом лежала другая,
озаглавленная "Пальмерин Английский". Увидев эти две книги, лисенсиат
сказал:
-- Срубите поскорей эту оливу и сожгите ее так, чтоб от нее не осталось
и пепла. Английскую же пальму возьмите и сохраните, как единственную в своем
роде, и пусть для нее сделают такой же ларец, какой нашел Александр
Македонский в добыче, взятой у Дария, и предназначил для хранения
произведений Гомера. Книга эта, сеньор кум, интересна по двум причинам:
во-первых, потому что она сама по себе очень хороша, а во-вторых, автором
ее, как говорят, был мудрый португальский король. Все приключения в замке
Мирагарды превосходны и написаны с большим искусством, слог изящный и ясный,
а разговоры приноровлены, с пониманием и вкусом, к характеру действующих
лиц. Поэтому мне казалось бы -- если и вы, сеньор Николас, согласитесь со
мной, -- что следует освободить и эту книгу, и "Амадиса Галльского" от
сожжения, все же остальные без дальнейшего промедления предать огню!
-- Нет, сеньор кум, -- возразил цирюльник, -- потому что книга, которая
у меня как раз в руках, -- знаменитый "Дон Белианис".
-- Что касается его, -- ответил священник, -- то второй, третьей и
четвертой его части следовало бы дать небольшую дозу ревеня, чтобы очистить
их от излишка желчи; необходимо также выкинуть оттуда весь рассказ о храме
славы и другую, еще худшую, белиберду. В этих видах можно дать дону
Белианису отсрочку, как для проживающих за морем {Испанский закон
предоставлял всем, проживающим "за морем", известный срок, смотря по
расстоянию, чтобы приготовиться к защите.}, и -- смотря по тому, исправится
ли он или нет, -- оказать ему снисхождение, или же поступить с ним по всей
строгости закона. А пока возьмите его к себе на дом, кум, но никому не
давайте читать.
-- Прекрасно, -- ответил цирюльник, и не желая больше утруждать себя
пересмотром остальных рыцарских книг, он велел ключнице взять все большие
тома и бросить их из окна. Это было сказано не глупой и не глухой, а такой,
которая горела большим желанием сжечь эти книги, чем даже приняться за пряжу
самого широкого и тонкого в мире полотна, и потому она взяла сразу томов
восемь, чтобы бросить их из окна. Но она захватила слишком много, и одна из
книг выскользнула у нее из рук и упала к ногам цирюльника, который из
любопытства поднял ее и прочел заглавие: "История знаменитого рыцаря Тиранте
Белого".
-- Господи помоги! -- сказал громким голосом священник. Как, здесь и
"Тиранте Белый"! Дайте-ка мне его сюда, кум; я уверен, что нашел в нем клад
удовольствия и источник развлечения. Тут и храбрый рыцарь дон Кириэлейсон
{Господи помилуй нас.} де Монтальбан, и брат его Томас де Монтальбан, и
рыцарь Фонсека, и битва Тиранте с догом, и остроумные причуды девушки
Пласердемивида {Удовольствие моей жизни.}, и любовные интриги и плутни вдовы
Репосада {Спокойствие.}, и сеньора императрица, влюбленная в своего
наездника Ипполита. Истинно говорю вам, сеньор кум, относительно слога это
-- лучшая из всех книг в мире. Здесь рыцари едят и спят и умирают в своих
кроватях, перед смертью делают завещания, а также другие вещи, о которых нет
ни слова во всех остальных книгах того же рода. Тем не менее, говорю вам,
автор книги заслуживал бы, если б он намеренно написал столько безрассудств,
быть бессрочно сосланным на галеры. Возьмите его домой, прочтите, и вы
увидите, что я сказал правду.
-- Не сомневаюсь в том, -- ответил цирюльник. -- Но как нам поступить
вот с этими маленькими книжками, которые еще здесь остались?
-- Эти книжки, -- сказал священник, -- должно быть, не рыцарские
романы, а стихотворения.
Раскрыв одну из книг, он увидел, что это "Диана" {"Диана" -- пастушечья
повесть в стихах и прозе, впервые появившаяся в печати в 1545 г.}
Монтемайора, и сказал, полагая, что и все остальные в том же роде:
-- Книги эти не заслуживают быть присужденными, подобно другим, к
сожжению, потому что они не сделали и не сделают того вреда, какой принесли
рыцарские романы; это книги для времяпровождения, не причиняющие ущерба
никому.
-- Ах, сеньор, -- сказала племянница, -- лучше было бы, если б ваша
милость распорядилась сжечь и эти книги вместе с остальными, потому что
очень возможно, что мой дядя, выздоровев от рыцарской заразы и читая эти
книги, вздумает вдруг превратиться в пастуха и с песнями и музыкой будет
скитаться по лесам и полям или, что еще хуже, сделается поэтом, а это, как я
слышала, болезнь заразительная и неизлечимая.
-- Девушка говорит правду, -- сказал священник, -- и было бы хорошо
устранить с дороги нашего друга и этот камень преткновения, и эту опасность.
Но так как мы начали с "Дианы" Монтемайо-ра, я держусь мнения, чтобы не
сжигать ее, а лишь выкинуть все те места, в которых речь о мудрой Фелисии и
очарованной воде, и почти все главные стихотворения; затем в добрый час
оставим ей всю прозу, а также и честь быть родоначальницей подобных ей
произведений.
-- Следующая книга, -- сказал цирюльник, -- "Диана", называемая "Второй
Сальмантина", а эта вот тоже "Диана", но ее автор -- Хиль Поло.
-- Пусть произведение Сальмантина, -- сказал священник, -- отправится к
осужденным во двор и увеличит их число, а "Диану" Хиля Поло следует беречь,
как будто ее написал сам Аполлон. Но продолжайте, сеньор кум, нам надо
торопиться, ведь становится уже поздно.
-- Эта книга, -- сказал цирюльник, раскрывая еще одну -- "Десять книг
Фортуны любви", сочинение сардинского поэта Антонио Лофрасо.
-- Клянусь моим духовным званием, -- воскликнул священник, -- с тех
пор, как Аполлон -- Аполлон, музы -- музы, а поэты -- поэты, не было
написано более веселой и фантастической книги, чем эта. Она лучшая и
единственная в своем роде среди подобных ей, когда-либо появлявшихся на
свет, и тот, кто ее не читал, может быть уверен, что не читал никогда вещи,
написанной со вкусом. Дайте мне ее сюда, кум, я больше ценю эту находку, чем
если б мне подарили рясу из простой флорентийской материи {Все сказанное об
этой книге -- ирония.}.
Священник отложил книгу в сторону с видимым удовольствием, а цирюльник
продолжал осмотр, говоря:
-- Вот тут у нас еще "Иберийский пастух", "Нимфы Энереса" и "Излечение
от ревности".
-- Их и остается только передать в руки светской власти ключницы, --
сказал священник, -- и не спрашивайте меня почему, иначе мы никогда не
кончим.
-- А вот "Пастух Фелиды".
-- Это не пастух, -- сказал священник, -- а самый утонченный
царедворец. Сохраним его как драгоценность.
-- Большой этот том, -- продолжал цирюльник, -- озаглавлен
"Сокровищница стихотворений".
-- Если б их не было здесь так много, -- сказал священник, -- их ценили
бы больше. Необходимо прополоть эту книгу и пообчистить от некоторых плоских
и ничтожных вещей, встречающихся в ней среди истинно прекрасных. Сохраним ее
еще и оттого, что автор ее мой друг, а также и из уважения к другим более
возвышенным и героическим произведениям, которые он написал.
-- Вот эта книга -- "Песенник Лопеса Мальдонада", -- продолжал
цирюльник.
-- Автор этой книги также большой мне друг, -- сказал священник, -- и
когда он читает свои стихи, они приводят в восторг слушателей, а когда он их
поет, голос его такой сладостный, что он всех чарует. Его эклоги несколько
растянуты, но то, что хорошо, никогда не надоедает. Отложим и его к
избранным авторам. А это что за книга там, рядом с ним?
-- Это -- "Галатея" Мигеля Сервантеса, -- сказал цирюльник.
-- Много уже лет этот Сервантес мой большой друг, и я знаю, что он
более опытен в несчастии, чем в стихах. У него недурная изобретательность,
он что-то имеет в виду, но ничего не оканчивает. Надо подождать второй части
"Галатеи", обещанной им. Быть может, тогда он, исправившись, заслужит
полного прощения, в котором ему теперь отказывается. А пока что держите его
у себя в заточении, сеньор кум.
-- С удовольствием, -- ответил цирюльник. -- Здесь вот три книги
вместе: "Араукана" дона Алонсо де Эрсильи, "Аустриада" Хуана Руфо, судьи в
Кордове, и "Монсеррате" Христоваля де Вируэса, поэта из Валенсии {Эти три
книги считаются наиболее образцовыми произведениями испанской героической
поэзии.
}.
-- Эти три книги, -- сказал священник, -- лучшие из всех написанных
героическим метром на кастильском языке и могут соперничать с наиболее
знаменитыми произведениями в том же роде итальянских авторов. Будем же их
беречь, как самые роскошные поэтические алмазы, которыми обладает Испания.
Священник устал производить осмотр книгам и потому решил все оставшиеся
отдать целиком на сожжение, но цирюльник уже раскрыл одну из них,
озаглавленную "Слезы Анжелики".
-- Я бы сам пролил слезы, -- сказал священник, услыхав заглавие, --
если бы велел бросить в огонь и эту книгу, потому что ее автор был одним из
самых знаменитых поэтов не только Испании, но и всего мира, и необычайно
удачно перевел некоторые из басен Овидия.

Глава VII О втором выезде нашего доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского
 Они были еще заняты осмотром книг, как вдруг Дон Кихот громко закричал:
-- Сюда, сюда, доблестные рыцари! Здесь необходимо выказать силу и
отвагу вашу, потому что придворные берут верх в турнире.
На этот шум и крик все бросились в комнату к Дон Кихоту, и таким
образом был прерван осмотр еще оставшихся книг; поэтому, как полагают, в
огонь попали без суда и следствия "Каролеа" и "Лев Испанский" вместе с
подвигами императора дона Луиса де Авила, которые, без сомнения, находились
среди оставшихся книг, и, быть может, если бы священник их увидел, он не
вынес бы им такого строгого приговора.
Когда вошли в комнату к Дон Кихоту, он уже встал с постели и продолжал
кричать и говорить нелепости, размахивая мечом и рубя им во все стороны,
такой возбужденный, будто он вовсе и не спал. Его схватили и силой уложили
опять в постель, а когда он немного успокоился, то обратился к священнику,
говоря:
-- Конечно, сеньор архиепископ Турпин, нам, называющим себя двенадцатью
пэрами, должно быть стыдно, что мы без дальнейшего сопротивления уступаем
победу на турнире придворным рыцарям, после того как награды за первые
предшествующие три дня постоянно получали мы, странствующие рыцари.
-- Успокойтесь, сеньор кум, -- сказал священник, -- если Богу угодно,
все переменится, и то, что было проиграно сегодня, может быть выиграно
завтра. Теперь же позаботьтесь о вашем здоровье, потому что, как мне
кажется, вы, должно быть, чрезмерно утомлены, если еще сверх того не тяжело
ранены.
-- Нет, я не ранен, -- ответил Дон Кихот, -- а смят и избит, это не
подлежит сомнению, так как этот ублюдок дон Ролдан {Испанское имя Роланда.}
бил меня стволом дуба и сделал это лишь из зависти, потому что видел, что
один я могу соперничать с ним в доблести. Но пусть не зовут меня Рейнальдос
де Монтальбан, если он, несмотря на все его чары, не заплатит мне за это,
когда я встану с постели. А теперь пусть мне принесут поесть, так как я
знаю, что именно это мне всего нужнее, а заботу отомстить за себя пусть
предоставят мне самому.
Они исполнили его желание,-- дали ему поесть, и после того он опять
уснул, а они не могли не изумляться его безумию.
В эту же ночь ключница бросила в огонь и сожгла все книги, бывшие во
дворе и во всем доме, и, должно быть, были сожжены и такие, которые
заслуживали быть сохраненными на вечные времена в архивах, но этому помешала
их судьба и лень исследователя, и, таким образом, над ними оправдалась
пословица, что иногда праведники платятся за грешников.
Одним из средств, к которому священник и цирюльник еще прибегли для
лечения недуга своего приятеля, было запереть и заделать дверь в комнату,
где прежде хранились его книги, чтобы, когда он встанет с постели, он не
нашел бы их (быть может, с устранением причины прекратится и ее следствие),
а ему они решили сказать, что волшебник унес с собой все: и комнату, и
книги. Этот план был тотчас же приведен в исполнение.
Два дня спустя Дон Кихот встал, и первое, что он сделал, было пойти
посмотреть на свои книги. Но так как он не мог найти комнаты, где они у него
лежали, то и ходил туда и сюда, отыскивая ее. Он подходил к месту, где
прежде была дверь, ощупывал стену руками и смотрел во все стороны, не говоря
ни слова; а по прошествии довольно долгого времени он спросил ключницу: где
же комната с его книгами?
Ключница, которую уже научили, как ответить, сказала:
-- Какая комната? Или что еще там вы ищете, ваша милость? В этом доме
нет уже ни комнаты для книг, ни книг, потому что все это унес сам дьявол.
-- Не дьявол, -- поправила племянница, -- а волшебник, который явился
сюда на облаке однажды ночью после вашего отъезда и, сойдя с змея, на
котором он ехал верхом, вошел в комнату, и не знаю, что он там делал, но
вскоре он вылетел оттуда через крышу, и весь дом наполнился дымом. А когда
мы решились посмотреть, что он там наделал, мы не увидели ни комнаты, ни
книг. Только обе мы, и я, и ключница, хорошо помним, что, улетая, злой
старик громко крикнул, будто из-за тайной вражды, питаемой им к собственнику
этих книг и этой комнаты, он причинил ему ущерб, который обнаружится потом.
Он сказал также, что имя его мудрый Муньятон.
-- Вероятно, Фрестон, -- поправил Дон Кихот.
-- Не знаю, -- ответила ключница,-- зовут ли его Фристон или Фритон,
знаю только, что его имя кончается на "тон".
-- Так оно и есть, -- сказал Дон Кихот. -- Это -- мудрейший волшебник,
большой мой враг; он ненавидит меня за то, что мне со временем суждено --
как он из своих книг и мудрствований узнал -- вступить в единоборство с
одним рыцарем, которому он покровительствует, и тот рыцарь будет побежден
мной вопреки его желанию помешать этому, оттого он и старается делать мне
какие только может неприятности. Но я ему заявлял, что навряд ли ему удастся
воспротивиться тому или предотвратить то, что предназначено небом.
-- Кто сомневается в этом, -- сказала племянница. -- Но зачем же вы,
милость ваша, сеньор дядя, вмешиваетесь во все эти ссоры? Не лучше ли было
бы сидеть мирно дома и не искать по свету хлеба белее пшеничного, не говоря
уже о том, что многие идут стричь овец, а возвращаются сами остриженные.
-- О племянница моя, -- ответил Дон Кихот, -- как сильно ошибаешься ты
в своих расчетах: прежде чем меня остригут, я вырву бороды всем тем, которые
вздумали бы дотронуться до кончика хоть единого моего волоса.
Обе они, племянница и ключница, не решились больше возражать ему,
потому что видели, что в нем закипает гнев.
Случилось так, что он провел две недели очень спокойно дома, ничем не
обнаруживая желания повторить прежние свои нелепые выходки. В эти дни он с
двумя своими кумовьями -- со священником и цирюльником -- вел остроумнейшие
беседы относительно того, что миру, как он говорил, более всего нужны
странствующие рыцари и чтобы именно в его особе воскресло странствующее
рыцарство. Иногда священник противоречил Дон Кихоту, а иногда соглашался с
ним, так как если б он не прибегал к этой уловке, то не мог бы и образумить
его.
Между тем Дон Кихот осаждал своими просьбами одного крестьянина, своего
соседа, человека почтенного (если так можно назвать того, кто беден), но не
блистающего умом. Дон Кихот столько наговорил ему, столько наобещал, так
долго и много убеждал его, что бедный крестьянин наконец решился ехать с ним
и служить ему в качестве оруженосца. Между прочим, Дон Кихот говорил ему,
что ему следовало бы по собственной охоте сопровождать его, так как легко
может случиться, что ему встретится такого рода приключение, когда он во
мгновение ока приобретет какой-нибудь остров и назначит его там
губернатором.
Прельстившись этими и тому подобными обещаниями, Санчо Панса (так звали
крестьянина), оставив жену и детей, поступил на службу к своему соседу.
Тотчас же Дон Кихот стал приискивать деньги и, продав одно, заложив другое,
терпя во всем убытки, собрал довольно значительную сумму. Он запасся также и
круглым щитом, взяв его на время у одного из своих приятелей, и, починив как
можно лучше сломанный шлем, уведомил оруженосца своего, Санчо Пансу, о дне и
часе, когда он думает пуститься в путь, чтобы и он мог запастись всем
необходимым, и, главным образом, велел ему взять с собой сумки {Сумки, или
седельные вьюки, были в то время необходимой принадлежностью всех
путешественников в Испании, едущих верхом и пеших.}. Санчо сказал, что
возьмет их, а также рассчитывает взять с собой и своего осла, очень
хорошего, потому что он не привык ходить много пешком. Относительно осла Дон
Кихот несколько задумался, стараясь припомнить, сопровождал ли какого-нибудь
рыцаря оруженосец верхом на осле, и не мог припомнить ничего подобного. Тем
не менее он позволил Санчо взять осла и решил, лишь только подвернется
случай, снабдить его более почетным верховым животным, отняв коня у первого
дерзкого рыцаря, который ему встретится. Он запасся также рубашками и всем,
что мог, следуя совету, который ему дал хозяин постоялого двора.
Они были еще заняты осмотром книг, как вдруг Дон Кихот громко закричал:
-- Сюда, сюда, доблестные рыцари! Здесь необходимо выказать силу и
отвагу вашу, потому что придворные берут верх в турнире.
На этот шум и крик все бросились в комнату к Дон Кихоту, и таким
образом был прерван осмотр еще оставшихся книг; поэтому, как полагают, в
огонь попали без суда и следствия "Каролеа" и "Лев Испанский" вместе с
подвигами императора дона Луиса де Авила, которые, без сомнения, находились
среди оставшихся книг, и, быть может, если бы священник их увидел, он не
вынес бы им такого строгого приговора.
Когда вошли в комнату к Дон Кихоту, он уже встал с постели и продолжал
кричать и говорить нелепости, размахивая мечом и рубя им во все стороны,
такой возбужденный, будто он вовсе и не спал. Его схватили и силой уложили
опять в постель, а когда он немного успокоился, то обратился к священнику,
говоря:
-- Конечно, сеньор архиепископ Турпин, нам, называющим себя двенадцатью
пэрами, должно быть стыдно, что мы без дальнейшего сопротивления уступаем
победу на турнире придворным рыцарям, после того как награды за первые
предшествующие три дня постоянно получали мы, странствующие рыцари.
-- Успокойтесь, сеньор кум, -- сказал священник, -- если Богу угодно,
все переменится, и то, что было проиграно сегодня, может быть выиграно
завтра. Теперь же позаботьтесь о вашем здоровье, потому что, как мне
кажется, вы, должно быть, чрезмерно утомлены, если еще сверх того не тяжело
ранены.
-- Нет, я не ранен, -- ответил Дон Кихот, -- а смят и избит, это не
подлежит сомнению, так как этот ублюдок дон Ролдан {Испанское имя Роланда.}
бил меня стволом дуба и сделал это лишь из зависти, потому что видел, что
один я могу соперничать с ним в доблести. Но пусть не зовут меня Рейнальдос
де Монтальбан, если он, несмотря на все его чары, не заплатит мне за это,
когда я встану с постели. А теперь пусть мне принесут поесть, так как я
знаю, что именно это мне всего нужнее, а заботу отомстить за себя пусть
предоставят мне самому.
Они исполнили его желание,-- дали ему поесть, и после того он опять
уснул, а они не могли не изумляться его безумию.
В эту же ночь ключница бросила в огонь и сожгла все книги, бывшие во
дворе и во всем доме, и, должно быть, были сожжены и такие, которые
заслуживали быть сохраненными на вечные времена в архивах, но этому помешала
их судьба и лень исследователя, и, таким образом, над ними оправдалась
пословица, что иногда праведники платятся за грешников.
Одним из средств, к которому священник и цирюльник еще прибегли для
лечения недуга своего приятеля, было запереть и заделать дверь в комнату,
где прежде хранились его книги, чтобы, когда он встанет с постели, он не
нашел бы их (быть может, с устранением причины прекратится и ее следствие),
а ему они решили сказать, что волшебник унес с собой все: и комнату, и
книги. Этот план был тотчас же приведен в исполнение.
Два дня спустя Дон Кихот встал, и первое, что он сделал, было пойти
посмотреть на свои книги. Но так как он не мог найти комнаты, где они у него
лежали, то и ходил туда и сюда, отыскивая ее. Он подходил к месту, где
прежде была дверь, ощупывал стену руками и смотрел во все стороны, не говоря
ни слова; а по прошествии довольно долгого времени он спросил ключницу: где
же комната с его книгами?
Ключница, которую уже научили, как ответить, сказала:
-- Какая комната? Или что еще там вы ищете, ваша милость? В этом доме
нет уже ни комнаты для книг, ни книг, потому что все это унес сам дьявол.
-- Не дьявол, -- поправила племянница, -- а волшебник, который явился
сюда на облаке однажды ночью после вашего отъезда и, сойдя с змея, на
котором он ехал верхом, вошел в комнату, и не знаю, что он там делал, но
вскоре он вылетел оттуда через крышу, и весь дом наполнился дымом. А когда
мы решились посмотреть, что он там наделал, мы не увидели ни комнаты, ни
книг. Только обе мы, и я, и ключница, хорошо помним, что, улетая, злой
старик громко крикнул, будто из-за тайной вражды, питаемой им к собственнику
этих книг и этой комнаты, он причинил ему ущерб, который обнаружится потом.
Он сказал также, что имя его мудрый Муньятон.
-- Вероятно, Фрестон, -- поправил Дон Кихот.
-- Не знаю, -- ответила ключница,-- зовут ли его Фристон или Фритон,
знаю только, что его имя кончается на "тон".
-- Так оно и есть, -- сказал Дон Кихот. -- Это -- мудрейший волшебник,
большой мой враг; он ненавидит меня за то, что мне со временем суждено --
как он из своих книг и мудрствований узнал -- вступить в единоборство с
одним рыцарем, которому он покровительствует, и тот рыцарь будет побежден
мной вопреки его желанию помешать этому, оттого он и старается делать мне
какие только может неприятности. Но я ему заявлял, что навряд ли ему удастся
воспротивиться тому или предотвратить то, что предназначено небом.
-- Кто сомневается в этом, -- сказала племянница. -- Но зачем же вы,
милость ваша, сеньор дядя, вмешиваетесь во все эти ссоры? Не лучше ли было
бы сидеть мирно дома и не искать по свету хлеба белее пшеничного, не говоря
уже о том, что многие идут стричь овец, а возвращаются сами остриженные.
-- О племянница моя, -- ответил Дон Кихот, -- как сильно ошибаешься ты
в своих расчетах: прежде чем меня остригут, я вырву бороды всем тем, которые
вздумали бы дотронуться до кончика хоть единого моего волоса.
Обе они, племянница и ключница, не решились больше возражать ему,
потому что видели, что в нем закипает гнев.
Случилось так, что он провел две недели очень спокойно дома, ничем не
обнаруживая желания повторить прежние свои нелепые выходки. В эти дни он с
двумя своими кумовьями -- со священником и цирюльником -- вел остроумнейшие
беседы относительно того, что миру, как он говорил, более всего нужны
странствующие рыцари и чтобы именно в его особе воскресло странствующее
рыцарство. Иногда священник противоречил Дон Кихоту, а иногда соглашался с
ним, так как если б он не прибегал к этой уловке, то не мог бы и образумить
его.
Между тем Дон Кихот осаждал своими просьбами одного крестьянина, своего
соседа, человека почтенного (если так можно назвать того, кто беден), но не
блистающего умом. Дон Кихот столько наговорил ему, столько наобещал, так
долго и много убеждал его, что бедный крестьянин наконец решился ехать с ним
и служить ему в качестве оруженосца. Между прочим, Дон Кихот говорил ему,
что ему следовало бы по собственной охоте сопровождать его, так как легко
может случиться, что ему встретится такого рода приключение, когда он во
мгновение ока приобретет какой-нибудь остров и назначит его там
губернатором.
Прельстившись этими и тому подобными обещаниями, Санчо Панса (так звали
крестьянина), оставив жену и детей, поступил на службу к своему соседу.
Тотчас же Дон Кихот стал приискивать деньги и, продав одно, заложив другое,
терпя во всем убытки, собрал довольно значительную сумму. Он запасся также и
круглым щитом, взяв его на время у одного из своих приятелей, и, починив как
можно лучше сломанный шлем, уведомил оруженосца своего, Санчо Пансу, о дне и
часе, когда он думает пуститься в путь, чтобы и он мог запастись всем
необходимым, и, главным образом, велел ему взять с собой сумки {Сумки, или
седельные вьюки, были в то время необходимой принадлежностью всех
путешественников в Испании, едущих верхом и пеших.}. Санчо сказал, что
возьмет их, а также рассчитывает взять с собой и своего осла, очень
хорошего, потому что он не привык ходить много пешком. Относительно осла Дон
Кихот несколько задумался, стараясь припомнить, сопровождал ли какого-нибудь
рыцаря оруженосец верхом на осле, и не мог припомнить ничего подобного. Тем
не менее он позволил Санчо взять осла и решил, лишь только подвернется
случай, снабдить его более почетным верховым животным, отняв коня у первого
дерзкого рыцаря, который ему встретится. Он запасся также рубашками и всем,
что мог, следуя совету, который ему дал хозяин постоялого двора.
 Когда все это было сделано и устроено, Санчо Панса, не простившись с
женой и детьми, а Дон Кихот -- с племянницей и ключницей, однажды ночью
выехали из села так, что никто их не видел, и, не останавливаясь, ехали всю
ночь до рассвета, когда они могли быть уверены, что их нельзя уже найти,
если б даже и пытались искать их.
Санчо Панса ехал на своем осле, как патриарх, со своими сумками, со
своим бурдюком и с большим желанием увидеть себя поскорей губернатором
острова, обещанного ему господином. Случилось, что Дон Кихот избрал то же
направление и тот же путь, как и в первый свой выезд, а именно Монтьельскую
долину, по которой он ехал теперь с меньшим неудобством, чем в тот раз,
потому что было раннее утро и солнечные лучи, падая косвенно, не так
припекали.
Между тем Санчо Панса сказал своему господину:
-- Смотрите, милость ваша, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте
того, что вы мне обещали насчет острова, потому что я сумею управлять им,
как бы он ни был велик.
На это Дон Кихот ответил:
-- Ты должен знать, друг Санчо Панса, что среди старинных странствующих
рыцарей был очень распространен обычай назначать своих оруженосцев
губернаторами тех островов или королевств, которые они завоевывали; и я, со
своей стороны, решил не только придерживаться этого похвального обычая, но
даже пойти дальше в том же направлении, так как прежние рыцари иногда, и
даже, быть может, чаще всего, ждали, чтобы оруженосцы их состарились; и уже
после того, как они обессилели у них на службе, проводя плохо дни и еще хуже
ночи, они давали им какой-нибудь титул графа или по меньшей мере маркиза
того или иного местечка, или более или менее значительной области. Но если
ты и я, мы оба, останемся живы, весьма возможно, что меньше чем через неделю
я завоюю королевство, которому будут подчинены еще несколько других
королевств, как раз подходящих для того, чтобы короновать тебя королем
одного из них. И не считай это за диковину, потому что со странствующими
рыцарями приключаются такие неслыханные и невиданные вещи и случаи, что я
легко мог бы дать тебе даже больше того, что обещал.
-- Таким образом, -- ответил Санчо Панса, -- если б я сделался королем
благодаря какому-нибудь чуду из тех, о которых говорит ваша милость, по
меньшей мере Хуана Гутьерес, моя птаха, стала бы королевой, а дети мои --
инфантами?
-- Кто же сомневается в этом? -- ответил Дон Кихот.
-- Я сомневаюсь, -- возразил Санчо Панса, -- потому что я так думаю про
себя: если б даже Бог послал на землю дождь из королевских корон, все равно
ни одна из них не пришлась бы по голове Мари Гутьерес. Знайте, сеньор, что
как королева она не стоила бы и двух мараведисов; графиня подошла бы к ней
лучше, -- и тут еще помоги господи!
Когда все это было сделано и устроено, Санчо Панса, не простившись с
женой и детьми, а Дон Кихот -- с племянницей и ключницей, однажды ночью
выехали из села так, что никто их не видел, и, не останавливаясь, ехали всю
ночь до рассвета, когда они могли быть уверены, что их нельзя уже найти,
если б даже и пытались искать их.
Санчо Панса ехал на своем осле, как патриарх, со своими сумками, со
своим бурдюком и с большим желанием увидеть себя поскорей губернатором
острова, обещанного ему господином. Случилось, что Дон Кихот избрал то же
направление и тот же путь, как и в первый свой выезд, а именно Монтьельскую
долину, по которой он ехал теперь с меньшим неудобством, чем в тот раз,
потому что было раннее утро и солнечные лучи, падая косвенно, не так
припекали.
Между тем Санчо Панса сказал своему господину:
-- Смотрите, милость ваша, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте
того, что вы мне обещали насчет острова, потому что я сумею управлять им,
как бы он ни был велик.
На это Дон Кихот ответил:
-- Ты должен знать, друг Санчо Панса, что среди старинных странствующих
рыцарей был очень распространен обычай назначать своих оруженосцев
губернаторами тех островов или королевств, которые они завоевывали; и я, со
своей стороны, решил не только придерживаться этого похвального обычая, но
даже пойти дальше в том же направлении, так как прежние рыцари иногда, и
даже, быть может, чаще всего, ждали, чтобы оруженосцы их состарились; и уже
после того, как они обессилели у них на службе, проводя плохо дни и еще хуже
ночи, они давали им какой-нибудь титул графа или по меньшей мере маркиза
того или иного местечка, или более или менее значительной области. Но если
ты и я, мы оба, останемся живы, весьма возможно, что меньше чем через неделю
я завоюю королевство, которому будут подчинены еще несколько других
королевств, как раз подходящих для того, чтобы короновать тебя королем
одного из них. И не считай это за диковину, потому что со странствующими
рыцарями приключаются такие неслыханные и невиданные вещи и случаи, что я
легко мог бы дать тебе даже больше того, что обещал.
-- Таким образом, -- ответил Санчо Панса, -- если б я сделался королем
благодаря какому-нибудь чуду из тех, о которых говорит ваша милость, по
меньшей мере Хуана Гутьерес, моя птаха, стала бы королевой, а дети мои --
инфантами?
-- Кто же сомневается в этом? -- ответил Дон Кихот.
-- Я сомневаюсь, -- возразил Санчо Панса, -- потому что я так думаю про
себя: если б даже Бог послал на землю дождь из королевских корон, все равно
ни одна из них не пришлась бы по голове Мари Гутьерес. Знайте, сеньор, что
как королева она не стоила бы и двух мараведисов; графиня подошла бы к ней
лучше, -- и тут еще помоги господи!
 -- Предоставь все это Богу, Санчо, -- сказал Дон Кихот. -- Он даст ей
то, что всего лучше для нее; но ты не унижайся духом настолько, чтобы
удовлетвориться меньшим, чем генерал-губернаторством.
-- Этого я не сделаю, сеньор, -- ответил Санчо, -- тем более, что я
имею в вашей милости такого превосходного господина, который сумеет дать мне
все то, что мне будет и полезно, и под силу.
-- Предоставь все это Богу, Санчо, -- сказал Дон Кихот. -- Он даст ей
то, что всего лучше для нее; но ты не унижайся духом настолько, чтобы
удовлетвориться меньшим, чем генерал-губернаторством.
-- Этого я не сделаю, сеньор, -- ответил Санчо, -- тем более, что я
имею в вашей милости такого превосходного господина, который сумеет дать мне
все то, что мне будет и полезно, и под силу.

Глава VIII О великой удаче доблестного Дон Кихота в ужасающем
и невообразимом приключении с ветряными мельницами и о разных других
событиях, достойных сохраниться в памяти
 В это время они увидели тридцать или сорок ветряных мельниц, бывших на
той равнине, и, как только Дон Кихот заметил их, он сказал своему
оруженосцу: -- Счастливая судьба устраивает наши дела даже лучше, чем мы
могли бы желать, так как, -- взгляни туда, друг Санчо Панса, -- видишь ты
тридцать или более чудовищных великанов, с которыми я намерен вступить в бой
и всех их лишить жизни? А добычей, отнятой у них, мы положим начало нашему
обогащению, потому что это справедливая война и великая заслуга перед Богом
-- искоренять столь дурное семя с лица земли.
-- Какие великаны? -- спросил Санчо Панса.
-- Вот те, которых ты там видишь,-- ответил его господин, -- с
громадными руками, у некоторых они длиною чуть-ли не в две мили.
-- Посмотрите хорошенько, милость ваша, -- ответил Санчо, -- то, что вы
там видите, это не великаны, а ветряные мельницы, и то, что вы считаете их
руками, -- мельничные крылья, которые поворачивает ветер, а они приводят в
движение жернова.
-- Сейчас видно, -- ответил Дон Кихот, -- что ты мало сведущ в деле
приключений. Это великаны, а если ты боишься, уходи отсюда и читай молитвы в
то время, как я вступлю с ними в неравный и жестокий бой.
С этими словами Дон Кихот пришпорил своего коня Росинанта, не обращая
внимания на крики, которыми его оруженосец Санчо предостерегал его, что, без
сомнения, это ветряные мельницы, а не великаны, на которых он собирается
напасть. Однако рыцарь был твердо убежден, что это великаны, и не слышал
криков Санчо, не видел и не различал, что такое перед ним, хотя уже подъехал
близко к мельницам, и громким голосом кричал им:
-- Не бегите, трусливые и низкие созданья, так как один лишь рыцарь
идет против вас.
В это время подул легкий ветер, и большие мельничные крылья стали
двигаться; увидав это, Дон Кихот воскликнул:
-- Хотя бы вы двигали еще большим числом рук, чем их было у великана
Бриарея, вы за это поплатитесь мне!
Говоря так, он всей душой поручил себя своей сеньоре Дульсинее, прося
ее помочь ему в опасности, и, прикрыв себя щитом, с копьем наперевес
устремился во весь галоп вперед и атаковал ближайшую мельницу. Но в ту
минуту, когда он вонзал копье в ее крыло, ветер так бешено повернул это
крыло, что копье разлетелось вдребезги, а всадник и конь были приподняты и с
размаху отброшены далеко в поле. Санчо Панса поспешил во всю прыть своего
осла на помощь к своему господину, и когда он подъехал к нему, то увидел,
что он не может шевельнуться, так сильно было его падение с Росинанта.
-- Помилуй нас, господи, -- сказал Санчо, -- не говорил ли я вашей
милости, чтобы вы подумали о том, что делаете, и что перед вами не что иное,
как ветряные мельницы, и не знать этого мог только тот, у кого в голове были
другие такие же ветряные мельницы.
-- Молчи, друг Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- военные дела более
других подвержены постоянным превращениям. Тем более что я думаю -- и оно
так и есть в действительности, -- мудрый Фрестон, похитивший у меня комнату
с книгами, превратил и этих великанов в ветряные мельницы, чтобы отнять у
меня славу победы над ними, -- такова ненависть его ко мне. Но в конце
концов восторжествует мой добрый меч над злыми его кознями.
-- Что Бог даст, то и будет, -- ответил Санчо Панса, помогая Дон Кихоту
подняться и усаживая его на Росинанта, у которого чуть ли не были вывихнуты
лопатки.
И, разговаривая о случившемся приключении, они поехали по дороге к
горному ущелью Лаписе, потому что там, как говорил Дон Кихот, им не могли не
встретиться многие и самые разнообразные приключения, так как немало народу
посещает это место. Рыцарь был сильно опечален утратой своего копья и,
говоря об этом со своим оруженосцем, сказал:
-- Помнится, я читал где-то, что испанский рыцарь по имени дон Диего
Перес де Варгас, потеряв в битве меч, отломил от дуба огромный сук и в тот
же день совершил с ним столько подвигов и разгромил столько мавров, что
получил прозвище Мачука {Machucar (исп.) -- громить, размозжить.}, и с этого
дня он, как и все его потомки, стали называться Варгас-и-Мачука. Я рассказал
тебе это потому, что и я намерен отломить от первого попавшегося дуба
подобный же здоровенный сук, и с ним думаю и надеюсь совершить такие
подвиги, что ты будешь считать за счастье удостоиться видеть их и быть
свидетелем дел, которым едва можно будет поверить.
В это время они увидели тридцать или сорок ветряных мельниц, бывших на
той равнине, и, как только Дон Кихот заметил их, он сказал своему
оруженосцу: -- Счастливая судьба устраивает наши дела даже лучше, чем мы
могли бы желать, так как, -- взгляни туда, друг Санчо Панса, -- видишь ты
тридцать или более чудовищных великанов, с которыми я намерен вступить в бой
и всех их лишить жизни? А добычей, отнятой у них, мы положим начало нашему
обогащению, потому что это справедливая война и великая заслуга перед Богом
-- искоренять столь дурное семя с лица земли.
-- Какие великаны? -- спросил Санчо Панса.
-- Вот те, которых ты там видишь,-- ответил его господин, -- с
громадными руками, у некоторых они длиною чуть-ли не в две мили.
-- Посмотрите хорошенько, милость ваша, -- ответил Санчо, -- то, что вы
там видите, это не великаны, а ветряные мельницы, и то, что вы считаете их
руками, -- мельничные крылья, которые поворачивает ветер, а они приводят в
движение жернова.
-- Сейчас видно, -- ответил Дон Кихот, -- что ты мало сведущ в деле
приключений. Это великаны, а если ты боишься, уходи отсюда и читай молитвы в
то время, как я вступлю с ними в неравный и жестокий бой.
С этими словами Дон Кихот пришпорил своего коня Росинанта, не обращая
внимания на крики, которыми его оруженосец Санчо предостерегал его, что, без
сомнения, это ветряные мельницы, а не великаны, на которых он собирается
напасть. Однако рыцарь был твердо убежден, что это великаны, и не слышал
криков Санчо, не видел и не различал, что такое перед ним, хотя уже подъехал
близко к мельницам, и громким голосом кричал им:
-- Не бегите, трусливые и низкие созданья, так как один лишь рыцарь
идет против вас.
В это время подул легкий ветер, и большие мельничные крылья стали
двигаться; увидав это, Дон Кихот воскликнул:
-- Хотя бы вы двигали еще большим числом рук, чем их было у великана
Бриарея, вы за это поплатитесь мне!
Говоря так, он всей душой поручил себя своей сеньоре Дульсинее, прося
ее помочь ему в опасности, и, прикрыв себя щитом, с копьем наперевес
устремился во весь галоп вперед и атаковал ближайшую мельницу. Но в ту
минуту, когда он вонзал копье в ее крыло, ветер так бешено повернул это
крыло, что копье разлетелось вдребезги, а всадник и конь были приподняты и с
размаху отброшены далеко в поле. Санчо Панса поспешил во всю прыть своего
осла на помощь к своему господину, и когда он подъехал к нему, то увидел,
что он не может шевельнуться, так сильно было его падение с Росинанта.
-- Помилуй нас, господи, -- сказал Санчо, -- не говорил ли я вашей
милости, чтобы вы подумали о том, что делаете, и что перед вами не что иное,
как ветряные мельницы, и не знать этого мог только тот, у кого в голове были
другие такие же ветряные мельницы.
-- Молчи, друг Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- военные дела более
других подвержены постоянным превращениям. Тем более что я думаю -- и оно
так и есть в действительности, -- мудрый Фрестон, похитивший у меня комнату
с книгами, превратил и этих великанов в ветряные мельницы, чтобы отнять у
меня славу победы над ними, -- такова ненависть его ко мне. Но в конце
концов восторжествует мой добрый меч над злыми его кознями.
-- Что Бог даст, то и будет, -- ответил Санчо Панса, помогая Дон Кихоту
подняться и усаживая его на Росинанта, у которого чуть ли не были вывихнуты
лопатки.
И, разговаривая о случившемся приключении, они поехали по дороге к
горному ущелью Лаписе, потому что там, как говорил Дон Кихот, им не могли не
встретиться многие и самые разнообразные приключения, так как немало народу
посещает это место. Рыцарь был сильно опечален утратой своего копья и,
говоря об этом со своим оруженосцем, сказал:
-- Помнится, я читал где-то, что испанский рыцарь по имени дон Диего
Перес де Варгас, потеряв в битве меч, отломил от дуба огромный сук и в тот
же день совершил с ним столько подвигов и разгромил столько мавров, что
получил прозвище Мачука {Machucar (исп.) -- громить, размозжить.}, и с этого
дня он, как и все его потомки, стали называться Варгас-и-Мачука. Я рассказал
тебе это потому, что и я намерен отломить от первого попавшегося дуба
подобный же здоровенный сук, и с ним думаю и надеюсь совершить такие
подвиги, что ты будешь считать за счастье удостоиться видеть их и быть
свидетелем дел, которым едва можно будет поверить.
 -- Дай-то бог, -- сказал Санчо, -- я верю всему, что говорит ваша
милость. Но выпрямитесь немного, а то кажется, будто вы свесились на один
бок; должно быть, это от ушиба во время падения.
-- Ты прав, -- ответил Дон Кихот,-- и если я не жалуюсь на боль, то
лишь потому, что странствующим рыцарям не позволено жаловаться на раны,
полученные ими, каковы бы они ни были, хотя бы даже кишки вывалились наружу.
-- Если это так, я ничего не могу возразить, -- ответил Санчо. -- Но
знает бог, что я был бы рад, чтобы ваша милость жаловалась, когда у вас
что-нибудь болит. О себе же могу сказать, что буду охать от малейшей боли,
если только запрещение жаловаться не распространяется и на оруженосцев
странствующих рыцарей.
Дон Кихот не мог не рассмеяться над простодушием своего оруженосца и
объяснил ему, что он может себе охать, сколько и когда захочет, основательно
или неосновательно, как ему вздумается, потому что до сих пор он не прочитал
в рыцарских уставах ничего противного этому.
Санчо напомнил ему, что наступило время закусить, но господин его
ответил, что не чувствует в этом потребности, а Санчо может есть, когда ему
захочется. Получив разрешение, оруженосец устроился как мог удобнее на своем
осле и, вынимая из сумок то, что у него было там припасено, ехал за своим
господином и ел в свое удовольствие. Время от времени он с таким
наслаждением прикладывался к бурдюку с вином, что самый упитанный шинкарь в
Малаге мог бы ему позавидовать. И пока он таким образом ехал, то и дело
пропуская себе в горло вино глоток за глотком, он уже не думал ни о каких
обещаниях господина своего и не считал за труд, а только за приятный отдых
поиски приключений, как бы опасны они ни были.
Эту ночь они провели под деревьями, и от одного из них Дон Кихот
отломал сухой сук, который почти мог служить ему копьем, и насадил на него
железное острие, снятое им с прежнего сломанного копья. Всю эту ночь Дон
Кихот провел без сна, думая о своей сеньоре Дульсинее, чтобы подражать тому,
что он прочел в своих книгах, когда рыцари проводили многие ночи в лесах и
пустынных местностях без сна, погруженные в воспоминания о своих дамах. Не
так провел эту ночь Санчо Панса, наполнив себе желудок, да притом и не
цикорной водой {Цикорная вода была в большом ходу в те времена в качестве
прохладительного напитка; особенно же она считалась полезной для печени.},
он беспросыпно проспал до утра, и его не разбудили бы -- если бы господин не
окликнул его -- ни солнечные лучи, ударявшие ему прямо в лицо, ни пение
птиц, которые в большом числе и очень радостно приветствовали появление
нового дня. Вставая, Санчо ощупал бурдюк и нашел его несколько более тощим,
чем накануне вечером, и сердце его опечалилось тем, что, как ему казалось,
не так скоро явится возможность пополнить эту убыль. Дон Кихот не пожелал
завтракать, потому что, как уже было сказано, он питался приятными
воспоминаниями. Они снова продолжали начатый путь к ущелью Лаписе и около
трех часов дня увидели издали это место.
-- Здесь, -- сказал тогда Дон Кихот, -- мы можем, брат Санчо Панса,
окунуть руки наши по локоть в то, что называют приключениями. Но обрати
внимание: хотя бы ты меня видел в величайшей опасности в мире, ты не должен
браться за меч, чтобы защитить меня, разве увидишь, что те, которые
нападают, -- сволочь и люди низкого звания, -- в таком случае ты можешь
помочь мне. Но если это рыцари, никоим образом тебе не дозволяется и не
разрешается рыцарскими законами вступаться за меня, пока ты не будешь
посвящен в рыцари.
-- Дай-то бог, -- сказал Санчо, -- я верю всему, что говорит ваша
милость. Но выпрямитесь немного, а то кажется, будто вы свесились на один
бок; должно быть, это от ушиба во время падения.
-- Ты прав, -- ответил Дон Кихот,-- и если я не жалуюсь на боль, то
лишь потому, что странствующим рыцарям не позволено жаловаться на раны,
полученные ими, каковы бы они ни были, хотя бы даже кишки вывалились наружу.
-- Если это так, я ничего не могу возразить, -- ответил Санчо. -- Но
знает бог, что я был бы рад, чтобы ваша милость жаловалась, когда у вас
что-нибудь болит. О себе же могу сказать, что буду охать от малейшей боли,
если только запрещение жаловаться не распространяется и на оруженосцев
странствующих рыцарей.
Дон Кихот не мог не рассмеяться над простодушием своего оруженосца и
объяснил ему, что он может себе охать, сколько и когда захочет, основательно
или неосновательно, как ему вздумается, потому что до сих пор он не прочитал
в рыцарских уставах ничего противного этому.
Санчо напомнил ему, что наступило время закусить, но господин его
ответил, что не чувствует в этом потребности, а Санчо может есть, когда ему
захочется. Получив разрешение, оруженосец устроился как мог удобнее на своем
осле и, вынимая из сумок то, что у него было там припасено, ехал за своим
господином и ел в свое удовольствие. Время от времени он с таким
наслаждением прикладывался к бурдюку с вином, что самый упитанный шинкарь в
Малаге мог бы ему позавидовать. И пока он таким образом ехал, то и дело
пропуская себе в горло вино глоток за глотком, он уже не думал ни о каких
обещаниях господина своего и не считал за труд, а только за приятный отдых
поиски приключений, как бы опасны они ни были.
Эту ночь они провели под деревьями, и от одного из них Дон Кихот
отломал сухой сук, который почти мог служить ему копьем, и насадил на него
железное острие, снятое им с прежнего сломанного копья. Всю эту ночь Дон
Кихот провел без сна, думая о своей сеньоре Дульсинее, чтобы подражать тому,
что он прочел в своих книгах, когда рыцари проводили многие ночи в лесах и
пустынных местностях без сна, погруженные в воспоминания о своих дамах. Не
так провел эту ночь Санчо Панса, наполнив себе желудок, да притом и не
цикорной водой {Цикорная вода была в большом ходу в те времена в качестве
прохладительного напитка; особенно же она считалась полезной для печени.},
он беспросыпно проспал до утра, и его не разбудили бы -- если бы господин не
окликнул его -- ни солнечные лучи, ударявшие ему прямо в лицо, ни пение
птиц, которые в большом числе и очень радостно приветствовали появление
нового дня. Вставая, Санчо ощупал бурдюк и нашел его несколько более тощим,
чем накануне вечером, и сердце его опечалилось тем, что, как ему казалось,
не так скоро явится возможность пополнить эту убыль. Дон Кихот не пожелал
завтракать, потому что, как уже было сказано, он питался приятными
воспоминаниями. Они снова продолжали начатый путь к ущелью Лаписе и около
трех часов дня увидели издали это место.
-- Здесь, -- сказал тогда Дон Кихот, -- мы можем, брат Санчо Панса,
окунуть руки наши по локоть в то, что называют приключениями. Но обрати
внимание: хотя бы ты меня видел в величайшей опасности в мире, ты не должен
браться за меч, чтобы защитить меня, разве увидишь, что те, которые
нападают, -- сволочь и люди низкого звания, -- в таком случае ты можешь
помочь мне. Но если это рыцари, никоим образом тебе не дозволяется и не
разрешается рыцарскими законами вступаться за меня, пока ты не будешь
посвящен в рыцари.
 -- Будьте покойны, сеньор, -- сказал Санчо, -- я точно исполню это
приказание вашей милости, тем более что сам по себе я миролюбив и враг
всякого вмешательства в чужие ссоры и распри. Что же касается защиты
собственной моей особы, не очень я обращу внимание на эти правила, так как
божественные и человеческие законы дозволяют, чтобы каждый защищался против
того, кто хочет его обидеть.
-- Совершенно согласен с тобой,-- ответил Дон Кихот, -- но в деле твоей
помощи мне против рыцарей тебе придется наложить узду на свою горячность.
-- Повторяю, что исполню ваше приказание и также свято сумею следовать
ему, как и предписанию о воскресном отдыхе.
В то время, как они так разговаривали, на дороге показались два монаха
бенедиктинского ордена верхом на двух дромадерах, так как мулы, на которых
они ехали, были немногим меньше дромадеров. На путешественниках были надеты
дорожные маски {Это были маски из картона со стеклами для глаз для защиты
лица от пыли и солнца.}, а в руках они держали зонтики. За ними ехала
карета, сопровождаемая четырьмя или пятью всадниками и двумя пешими
погонщиками мулов. В карете сидела, как впоследствии оказалось, одна сеньора
из Бискайи, ехавшая в Севилью, где находился ее муж, который был назначен в
Индию на весьма почетную должность. Монахи не сопровождали ее, а только
ехали по той же дороге, как и она.
Едва Дон Кихот завидел их, как тотчас же сказал своему оруженосцу:
-- Или я ошибаюсь, или это будет самое громкое приключение, какое
когда-либо видели, потому что эти черные фигуры, которые там появились,
должны быть и есть, без сомнения, волшебники; они везут в карете похищенную
ими принцессу, и мне всеми силами необходимо исправить это зло.
-- Дело это будет похуже ветряных мельниц, -- сказал Санчо. --
Слушайте, сеньор, ведь это монахи бенедиктинского ордена, а в карете, должно
быть, едут путешественники. Повторяю вам, обдумайте хорошенько, что делаете,
чтобы дьявол опять не попутал вас.
-- Я уже говорил тебе, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- что ты мало
смыслишь в приключениях. То, что я утверждаю, несомненно, и ты сейчас в этом
убедишься.
Говоря это, Дон Кихот поскакал вперед, остановился среди дороги, по
которой ехали монахи, и, когда ему показалось, что они настолько
приблизились, что могут расслышать его слова, он громким голосом крикнул им:
-- Чудовищное, дьявольское отродье, сейчас же освободите знатных
принцесс, которых вы против их воли везете в карете; если же нет,
приготовьтесь к немедленной смерти, как к достойной каре за ваши злодеяния!
Монахи попридержали поводья своих мулов и, изумленные как фигурой Дон
Кихота, так и его словами, ответили:
-- Сеньор рыцарь, мы вовсе не чудовища и не дьявольское отродье, а два
монаха бенедиктинского ордена. Следуем мы своей дорогой и не знаем, едут ли
или нет в той карете какие-нибудь похищенные принцессы.
-- Меня вы не обманете льстивыми словами, потому что я вас знаю,
вероломная сволочь! -- крикнул Дон Кихот и, не дожидаясь ответа, пришпорил
Росинанта и, размахнувшись копьем, устремился на первого монаха с таким
бешенством и яростью, что если б тот сам не соскочил с мула, то был бы
сброшен с седла и тяжело ранен, а может быть, и убит. Когда второй монах
увидел, как обошлись с его товарищем, он всадил пятки в бока своего доброго
мула и быстрее ветра помчался по долине.
Санчо Панса, увидав лежащего на земле монаха, быстро слез со своего
осла, бросился к упавшему и стал снимать с него одежду. В это время
подоспели двое слуг монахов и спросили его, зачем он раздевает их господина.
Санчо ответил, что это добыча, принадлежащая ему по праву победы, одержанной
его сеньором, Дон Кихотом. Слуги, не склонные к шуткам и ничего не
понимавшие, какая тут добыча и победа, увидав, что Дон Кихот отъехал и
разговаривает с сидящими в карете, набросились на Санчо, повалили его на
землю, вырвали ему бороду и так отколотили, что он лежал, растянувшись на
земле, без памяти и без дыхания. Что же касается упавшего монаха, он, не
медля ни минуты, взобрался снова на своего мула, весь дрожа, перепуганный, с
мертвенно бледным лицом, и, когда он очутился верхом, он поскакал вслед за
своим товарищем, который, отъехав на порядочное расстояние, поджидал его и
смотрел, чем кончится весь этот ужас; и не желая дожидаться конца
приключения, они продолжали свой путь, творя крестное знамение усерднее, чем
если бы дьявол сидел у них за плечами.
В это время Дон Кихот, как уже было сказано, разговаривал с дамой,
сидевшей в карете, говоря ей:
-- Ваша красота, сеньора моя, может теперь располагать собою, как ей
заблагорассудится, так как гордость похитителей ваших повержена в прах моей
сильной рукой. А чтобы избавить вас от труда узнавать имя вашего
освободителя, знайте, что я -- Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь,
искатель приключений и пленник несравненной и прекрасной доньи Дульси-неи
Тобосской. В благодарность за оказанную вам услугу я прошу вас только об
одном: чтобы вы вернулись в Тобосо, от моего имени представились сеньоре
Дульсинее и рассказали бы ей то, что я сделал для вашего освобождения.
Один из всадников, сопровождавших карету, родом бискаец, слышал, что
говорил Дон Кихот. Видя, что он не пускает карету ехать дальше, а требует,
чтобы она повернула тотчас же в Тобосо, бискаец подъехал к Дон Кихоту,
схватил его за копье и обратился к нему не то на плохом кастильском языке,
не то на еще худшем бискайском, говоря:
-- Уберись, рыцарь, ходи к черту! Клянусь Богом, создавшим меня, если
мешаешь проехать карете, я убью тебя так верно, как я бискаец.
Дон Кихот понял его и очень спокойно ответил ему:
-- Если б ты был рыцарь -- но ты не рыцарь, -- я бы уже наказал тебя за
твою глупость и дерзость, презренное создание.
На это бискаец ответил:
-- Я не рыцарь? Клянусь Богом, так же лжешь, как то, что ты христианин.
Брось копье, возьми в руки меч, и тотчас ты увидишь воду, которую несешь к
кошке {Llevar el goto alagua -- "нести кошку в воду", общеупотребительное
испанское выражение, когда речь идет о трудном и опасном предприятии.
Бискаец в своем гневе говорит эту фразу навыворот.}. Бискаец на суше,
идальго на море -- идальго к черту, и лжешь, если говоришь, что это
неправда.
-- Теперь вы увидите, сказал Аграхес {Фраза, вошедшая в поговорку в
Испании, взятая из "Амадиса". Аграхес был двоюродный брат Амадиса, всегда
угрожавший своим противникам, когда они его вызывали, словами: "Теперь вы
увидите!".Эти все местности были известны в то время как притоны воров и
мазуриков.}, -- ответил Дон Кихот и, бросив копье на землю, обнажил меч,
прикрылся щитом и устремился на бискайца с явным намерением лишить его
жизни.
Бискаец, видя это, хотел соскочить с мула, так как тот был плохой, из
наемных, и он не мог ему доверять, но не успел сделать ничего другого, как
только обнажить меч. К счастью своему, он находился близ кареты, откуда мог
взять подушку, которая заменила ему щит, и тотчас же противники ринулись
друг на друга, точно два смертельных врага. Остальные бывшие там пытались
примирить их, но не могли, потому что бискаец сказал на своем ломаном
наречии, что, если ему не дадут кончить сражения, он собственноручно убьет
свою госпожу и всякого, кто ему станет мешать. Дама, сидевшая в карете,
изумленная и испуганная тем, что видела, приказала кучеру отъехать немного в
сторону и стала издали смотреть на ужасную битву, в течение которой бискаец
нанес Дон Кихоту такой страшный удар по плечу, что, если б рыцарь не защитил
себя щитом, он был бы рассечен до пояса.
Почувствовав тяжесть этого чудовищного удара, Дон Кихот воскликнул
громким голосом:
-- О повелительница души моей, Дульсинея, цвет красоты! Помогите вашему
рыцарю, который, чтобы доставить удовлетворение великой вашей доброте,
находится в столь страшной опасности!
Сказать это, схватить меч, хорошенько прикрыться круглым щитом и
кинуться на бискайца -- было для него делом мгновения, так как он решил
поставить сразу все на карту и покончить битву одним ударом. Бискаец, видя,
что рыцарь так стремительно несется на него, понял всю отвагу его намерения
и, с своей стороны, решил поступить так же, как и Дон Кихот; итак, он ждал
его, хорошо прикрывшись подушкой, не имея возможности двинуть своего мула ни
в ту, ни в другую сторону, потому что страшно утомленное и непривычное к
подобным штукам животное стояло как вкопанное. Дон Кихот, как уже было
сказано, устремился на осторожного бискайца с поднятым мечом и с твердым
намерением разрубить его пополам, а бискаец, со своей стороны, ждал его тоже
с поднятым мечом и под прикрытием подушки вместо щита. Все присутствовавшие
стояли исполненные страха и ожидания, какой будет исход столь ужасных
ударов, которыми противники угрожали друг другу. Дама, сидевшая в карете, и
ее прислужница творили молитвы и давали тысячи обетов всем храмам с особо
почитаемыми иконами в Испании, только бы Бог спас и бискайца, и их самих от
угрожавшей им великой опасности.
Но горе в том, что как раз в эту минуту и на этом месте автор истории
оставляет битву нерешенной, оправдываясь тем, что он не нашел других
сообщений об этих подвигах Дон Кихота, кроме уже переданных. Правда, что
второй автор {Само собой разумеется, что этот второй автор -- тот же
Сервантес, придумавший фикцию о Сиде Амете бен-Енхели, арабском авторе "Дон
Кихота", лишь в подражание рыцарским книгам, авторство которых приписывалось
обыкновенно чужеземным источникам, большею частью восточным писателям.}
этого сочинения не захотел поверить, чтобы столь любопытная история могла
быть предана забвению или же чтобы умы Ламанчи были так мало любознательны,
что в ламанчских архивах или письменных столах не нашлись бы документы,
относящиеся к столь знаменитому рыцарю. Уверенный в этом, он не отчаивался
найти конец этой приятной истории, и, так как небо благоприятствовало ему,
он и нашел его, а каким образом, -- будет рассказано в следующей главе.
-- Будьте покойны, сеньор, -- сказал Санчо, -- я точно исполню это
приказание вашей милости, тем более что сам по себе я миролюбив и враг
всякого вмешательства в чужие ссоры и распри. Что же касается защиты
собственной моей особы, не очень я обращу внимание на эти правила, так как
божественные и человеческие законы дозволяют, чтобы каждый защищался против
того, кто хочет его обидеть.
-- Совершенно согласен с тобой,-- ответил Дон Кихот, -- но в деле твоей
помощи мне против рыцарей тебе придется наложить узду на свою горячность.
-- Повторяю, что исполню ваше приказание и также свято сумею следовать
ему, как и предписанию о воскресном отдыхе.
В то время, как они так разговаривали, на дороге показались два монаха
бенедиктинского ордена верхом на двух дромадерах, так как мулы, на которых
они ехали, были немногим меньше дромадеров. На путешественниках были надеты
дорожные маски {Это были маски из картона со стеклами для глаз для защиты
лица от пыли и солнца.}, а в руках они держали зонтики. За ними ехала
карета, сопровождаемая четырьмя или пятью всадниками и двумя пешими
погонщиками мулов. В карете сидела, как впоследствии оказалось, одна сеньора
из Бискайи, ехавшая в Севилью, где находился ее муж, который был назначен в
Индию на весьма почетную должность. Монахи не сопровождали ее, а только
ехали по той же дороге, как и она.
Едва Дон Кихот завидел их, как тотчас же сказал своему оруженосцу:
-- Или я ошибаюсь, или это будет самое громкое приключение, какое
когда-либо видели, потому что эти черные фигуры, которые там появились,
должны быть и есть, без сомнения, волшебники; они везут в карете похищенную
ими принцессу, и мне всеми силами необходимо исправить это зло.
-- Дело это будет похуже ветряных мельниц, -- сказал Санчо. --
Слушайте, сеньор, ведь это монахи бенедиктинского ордена, а в карете, должно
быть, едут путешественники. Повторяю вам, обдумайте хорошенько, что делаете,
чтобы дьявол опять не попутал вас.
-- Я уже говорил тебе, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- что ты мало
смыслишь в приключениях. То, что я утверждаю, несомненно, и ты сейчас в этом
убедишься.
Говоря это, Дон Кихот поскакал вперед, остановился среди дороги, по
которой ехали монахи, и, когда ему показалось, что они настолько
приблизились, что могут расслышать его слова, он громким голосом крикнул им:
-- Чудовищное, дьявольское отродье, сейчас же освободите знатных
принцесс, которых вы против их воли везете в карете; если же нет,
приготовьтесь к немедленной смерти, как к достойной каре за ваши злодеяния!
Монахи попридержали поводья своих мулов и, изумленные как фигурой Дон
Кихота, так и его словами, ответили:
-- Сеньор рыцарь, мы вовсе не чудовища и не дьявольское отродье, а два
монаха бенедиктинского ордена. Следуем мы своей дорогой и не знаем, едут ли
или нет в той карете какие-нибудь похищенные принцессы.
-- Меня вы не обманете льстивыми словами, потому что я вас знаю,
вероломная сволочь! -- крикнул Дон Кихот и, не дожидаясь ответа, пришпорил
Росинанта и, размахнувшись копьем, устремился на первого монаха с таким
бешенством и яростью, что если б тот сам не соскочил с мула, то был бы
сброшен с седла и тяжело ранен, а может быть, и убит. Когда второй монах
увидел, как обошлись с его товарищем, он всадил пятки в бока своего доброго
мула и быстрее ветра помчался по долине.
Санчо Панса, увидав лежащего на земле монаха, быстро слез со своего
осла, бросился к упавшему и стал снимать с него одежду. В это время
подоспели двое слуг монахов и спросили его, зачем он раздевает их господина.
Санчо ответил, что это добыча, принадлежащая ему по праву победы, одержанной
его сеньором, Дон Кихотом. Слуги, не склонные к шуткам и ничего не
понимавшие, какая тут добыча и победа, увидав, что Дон Кихот отъехал и
разговаривает с сидящими в карете, набросились на Санчо, повалили его на
землю, вырвали ему бороду и так отколотили, что он лежал, растянувшись на
земле, без памяти и без дыхания. Что же касается упавшего монаха, он, не
медля ни минуты, взобрался снова на своего мула, весь дрожа, перепуганный, с
мертвенно бледным лицом, и, когда он очутился верхом, он поскакал вслед за
своим товарищем, который, отъехав на порядочное расстояние, поджидал его и
смотрел, чем кончится весь этот ужас; и не желая дожидаться конца
приключения, они продолжали свой путь, творя крестное знамение усерднее, чем
если бы дьявол сидел у них за плечами.
В это время Дон Кихот, как уже было сказано, разговаривал с дамой,
сидевшей в карете, говоря ей:
-- Ваша красота, сеньора моя, может теперь располагать собою, как ей
заблагорассудится, так как гордость похитителей ваших повержена в прах моей
сильной рукой. А чтобы избавить вас от труда узнавать имя вашего
освободителя, знайте, что я -- Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь,
искатель приключений и пленник несравненной и прекрасной доньи Дульси-неи
Тобосской. В благодарность за оказанную вам услугу я прошу вас только об
одном: чтобы вы вернулись в Тобосо, от моего имени представились сеньоре
Дульсинее и рассказали бы ей то, что я сделал для вашего освобождения.
Один из всадников, сопровождавших карету, родом бискаец, слышал, что
говорил Дон Кихот. Видя, что он не пускает карету ехать дальше, а требует,
чтобы она повернула тотчас же в Тобосо, бискаец подъехал к Дон Кихоту,
схватил его за копье и обратился к нему не то на плохом кастильском языке,
не то на еще худшем бискайском, говоря:
-- Уберись, рыцарь, ходи к черту! Клянусь Богом, создавшим меня, если
мешаешь проехать карете, я убью тебя так верно, как я бискаец.
Дон Кихот понял его и очень спокойно ответил ему:
-- Если б ты был рыцарь -- но ты не рыцарь, -- я бы уже наказал тебя за
твою глупость и дерзость, презренное создание.
На это бискаец ответил:
-- Я не рыцарь? Клянусь Богом, так же лжешь, как то, что ты христианин.
Брось копье, возьми в руки меч, и тотчас ты увидишь воду, которую несешь к
кошке {Llevar el goto alagua -- "нести кошку в воду", общеупотребительное
испанское выражение, когда речь идет о трудном и опасном предприятии.
Бискаец в своем гневе говорит эту фразу навыворот.}. Бискаец на суше,
идальго на море -- идальго к черту, и лжешь, если говоришь, что это
неправда.
-- Теперь вы увидите, сказал Аграхес {Фраза, вошедшая в поговорку в
Испании, взятая из "Амадиса". Аграхес был двоюродный брат Амадиса, всегда
угрожавший своим противникам, когда они его вызывали, словами: "Теперь вы
увидите!".Эти все местности были известны в то время как притоны воров и
мазуриков.}, -- ответил Дон Кихот и, бросив копье на землю, обнажил меч,
прикрылся щитом и устремился на бискайца с явным намерением лишить его
жизни.
Бискаец, видя это, хотел соскочить с мула, так как тот был плохой, из
наемных, и он не мог ему доверять, но не успел сделать ничего другого, как
только обнажить меч. К счастью своему, он находился близ кареты, откуда мог
взять подушку, которая заменила ему щит, и тотчас же противники ринулись
друг на друга, точно два смертельных врага. Остальные бывшие там пытались
примирить их, но не могли, потому что бискаец сказал на своем ломаном
наречии, что, если ему не дадут кончить сражения, он собственноручно убьет
свою госпожу и всякого, кто ему станет мешать. Дама, сидевшая в карете,
изумленная и испуганная тем, что видела, приказала кучеру отъехать немного в
сторону и стала издали смотреть на ужасную битву, в течение которой бискаец
нанес Дон Кихоту такой страшный удар по плечу, что, если б рыцарь не защитил
себя щитом, он был бы рассечен до пояса.
Почувствовав тяжесть этого чудовищного удара, Дон Кихот воскликнул
громким голосом:
-- О повелительница души моей, Дульсинея, цвет красоты! Помогите вашему
рыцарю, который, чтобы доставить удовлетворение великой вашей доброте,
находится в столь страшной опасности!
Сказать это, схватить меч, хорошенько прикрыться круглым щитом и
кинуться на бискайца -- было для него делом мгновения, так как он решил
поставить сразу все на карту и покончить битву одним ударом. Бискаец, видя,
что рыцарь так стремительно несется на него, понял всю отвагу его намерения
и, с своей стороны, решил поступить так же, как и Дон Кихот; итак, он ждал
его, хорошо прикрывшись подушкой, не имея возможности двинуть своего мула ни
в ту, ни в другую сторону, потому что страшно утомленное и непривычное к
подобным штукам животное стояло как вкопанное. Дон Кихот, как уже было
сказано, устремился на осторожного бискайца с поднятым мечом и с твердым
намерением разрубить его пополам, а бискаец, со своей стороны, ждал его тоже
с поднятым мечом и под прикрытием подушки вместо щита. Все присутствовавшие
стояли исполненные страха и ожидания, какой будет исход столь ужасных
ударов, которыми противники угрожали друг другу. Дама, сидевшая в карете, и
ее прислужница творили молитвы и давали тысячи обетов всем храмам с особо
почитаемыми иконами в Испании, только бы Бог спас и бискайца, и их самих от
угрожавшей им великой опасности.
Но горе в том, что как раз в эту минуту и на этом месте автор истории
оставляет битву нерешенной, оправдываясь тем, что он не нашел других
сообщений об этих подвигах Дон Кихота, кроме уже переданных. Правда, что
второй автор {Само собой разумеется, что этот второй автор -- тот же
Сервантес, придумавший фикцию о Сиде Амете бен-Енхели, арабском авторе "Дон
Кихота", лишь в подражание рыцарским книгам, авторство которых приписывалось
обыкновенно чужеземным источникам, большею частью восточным писателям.}
этого сочинения не захотел поверить, чтобы столь любопытная история могла
быть предана забвению или же чтобы умы Ламанчи были так мало любознательны,
что в ламанчских архивах или письменных столах не нашлись бы документы,
относящиеся к столь знаменитому рыцарю. Уверенный в этом, он не отчаивался
найти конец этой приятной истории, и, так как небо благоприятствовало ему,
он и нашел его, а каким образом, -- будет рассказано в следующей главе.

Глава IX, в которой сообщается конец и исход изумительной битвы
между отважным бискайцем и храбрым ламанчцем
 В предыдущей главе мы оставили мужественного бискайца и доблестного Дон
Кихота с высоко поднятыми, обнаженными мечами, готовых нанести друг другу
такие бешеные удары, что если б они действительно нанесли их, то по меньшей
мере разрубили бы друг друга сверху донизу и раскололи бы пополам, как
гранатовое яблоко; и в такую критическую минуту обрывается и остается
неоконченной интересная эта история, а ее автор не указывает нам, где можно
было бы найти то, чего недостает в ней.
Это меня очень огорчило, потому что удовольствие, с которым я прочел
столь немногое, превратилось в неудовольствие при мысли о том, какой мне
предстоит трудный путь, чтобы отыскать то многое, недостававшее, как мне
казалось, столь занимательному рассказу. Мне представлялось невероятным и
несоответствующим всем добрым обычаям, чтобы для такого храброго рыцаря не
нашелся мудрец, который взял бы на себя труд описать его неслыханные
подвиги, -- в чем никогда не было недостатка у странствующих рыцарей из тех,
о которых люди говорят, что они отправляются в поиски за своими
приключениями. Каждый из них всегда имел наготове одного или двух мудрецов,
которые не только описывали его деяния, но и воспроизводили малейшие его
помыслы и ребячества, как бы они ни были скрытыми; мне казалось невозможным,
чтобы такой доблестный рыцарь, как Дон Кихот, был бы столь несчастным и ему
недоставало бы того, что имели в изобилии Платир и ему подобные. Вот почему
я не допускал мысли, чтобы такая превосходная история могла остаться
недосказанной и неоконченной, и винил в этом лишь злобу всепожирающего и
всесокрушающего времени, которое ее скрыло или уничтожило. С другой стороны,
мне казалось, что если в числе книг Дон Кихота нашлись некоторые столь
современные, как "Излечение от ревности", "Эиаресские нимфы и пастухи", то и
его история также должна была быть современной, а в случае, если она не
написана, то хранится, вероятно, в памяти жителей его деревни и окрестных
деревень. Эта мысль тревожила меня и возбуждала желание доподлинно и
подробно узнать всю историю жизни и неслыханных подвигов нашего знаменитого
испанца Дон Кихота Ламанчского, светила и зеркала ламанчского рыцарства,
первого, в наш век и в эти столь бедственные времена посвятившего себя
трудам и обязанностям странствующих рыцарей и взявшего на себя исправлять
зло, помогать вдовам и защищать девушек из числа тех, которые верхом на
конях, с хлыстами в руках и со всей своей девственностью за плечами ездили с
горы на гору и из долины в долину; потому что в старинные времена бывали
девушки, которые -- если какой-нибудь подлец или негодяй с алебардой и
шишаком, или же чудовищный великан не изнасиловали их -- достигали
восьмидесятилетнего возраста и, не проспав во все это время ни одной ночи
под кровлей, сходили в могилу такими же непорочными, как и матери, родившие
их.
Итак, я говорю, что по этим и многим другим причинам наш доблестный Дон
Кихот заслуживает постоянных, достопамятных похвал; и даже мне не следует
отказывать в них за труд и старание, с которыми я разыскивал конец этой
занимательной истории; хотя я хорошо знаю, что, если б мне не помогли небо,
случай и счастливая моя звезда, мир был бы лишен времяпровождения и
удовольствия, какие может получить часа на два тот, кто со вниманием прочтет
эту историю. Вот каким образом я разыскал ее.
Однажды, когда я был в Алькана {Так называлась улица в Толедо, занятая
вся в конце XVI в. еврейскими лавками продавцов сукна и мелочных товаров.}[ ]в
Толедо, мне встретился мальчик, шедший к торговцу шелка, чтобы продать ему
старые бумаги и тетради. Так как я очень люблю читать, хотя бы даже рваные
бумаги, валяющиеся на улице, то, следуя этой природной своей склонности, я
взял одну из тетрадей, которые продавал мальчик, и увидел, что шрифт
арабский. И хотя я это и понял, но читать по-арабски не умел; поэтому я стал
смотреть, не пройдет ли какой-нибудь мориск {Морисками назывались потомки
мавров и арабов, которые остались в Испании после взятия Гренады и были
насильно обращены в католичество.}, говорящий по-испански, который бы мог
прочесть мне их. Не очень трудным оказалось найти такого переводчика, и даже
если б я искал его для другого, лучшего и более древнего, языка {Т. е.
еврейского. В прежние времена в Толедо было множество евреев.}, и то бы
нашел. Словом, судьба послала мне одного, которому я объяснил, в чем дело, и
передал ему в руки тетрадь. Он раскрыл ее в середине и, прочитав немного из
нее, стал смеяться. Я спросил его, отчего он смеется, и он ответил, что его
рассмешило примечание на полях рукописи. Когда я попросил его сообщить мне,
что там написано, он, все еще смеясь, сказал, что на полях здесь написано
вот что: "Та самая Дульсинея Тобосская, о которой столько раз упоминается в
этой истории, как говорят, умела искуснее остальных женщин Ааманчи солить
свинину". Когда я услыхал имя Дульсинеи Тобосской, я удивился и был поражен,
потому что тотчас же подумал, что в этих тетрадях заключается история Дон
Кихота. Побуждаемый этой мыслью, я торопил мориска скорей прочесть заглавие
рукописи; он сделал это немедленно и, переведя его с арабского на испанский
язык, прочитал следующее: "История Дон Кихота Ламанчского, написанная
арабским историком Сидом Аметом бен-Енхели". Нужна была большая
сдержанность, чтобы скрыть испытанную мною радость, когда до моего слуха
дошло заглавие рукописи, и, бросившись к торговцу шелком, я купил у мальчика
все тетради и бумаги за полреала; хотя если б он был проницательнее и знал
бы, как сильно я желал приобрести эти рукописи, то мог бы потребовать и
получить за них больше шести реалов. Тотчас же уединился я с мориском в
монастырские коридоры соборной церкви и попросил его перевести мне эти
тетради, все те, в которых шла речь о Дон Кихоте, ничего не выпуская и
ничего не добавляя, за что предложил ему вознаграждение, какое он пожелает.
Он удовольствовался двумя арробами {Испанская мера веса (от 25 до 36
фунтов).} изюма и двумя фанегами {Испанская мера зерна (4 четверика).}
пшеницы и обещал сделать перевод хорошо, точно и как можно скорей; но я,
чтобы еще более облегчить дело и не выпускать из рук столь ценной находки,
привел мориска к себе в дом, где он в полтора месяца с небольшим перевел
всю историю в том виде, как она здесь излагается.
В первой тетради была прекрасно нарисована битва Дон Кихота с
бискайцем: оба они были изображены в том положении, как сообщается в
истории, -- с поднятыми мечами, один, прикрываясь щитом, другой -- подушкой,
и мул бискайца был нарисован так живо, что уже издали можно было видеть, что
он наемный. У ног бискайца стояла надпись, гласившая: "Дон Санчо де
Аспеития" {Аспеития -- город в Бискайе, в котором родился Игнатий Лойола,
основатель иезуитского ордена.}, которая, без сомнения, должна была означать
его имя, а у ног Росинанта стояла другая надпись: "Дон Кихот". Росинант был
нарисован изумительно: такой длинный и вытянутый, такой исхудалый и тощий,
такой костлявый и чахоточный, что рисунок ясно показывал, как хорошо к нему
подходило и с какой проницательностью ему было дано имя Росинант. Рядом с
ним стоял Санчо Панса и держал за недоуздок своего осла, у ног которого
стояла надпись: "Санчо Санкас" {Пузо, брюхо.}. Судя по рисунку, у него,
по-видимому, был большой живот, короткое туловище и длинные ноги, почему,
должно быть, его называли Панса и Санкас {Длинная нога, или птичья лапа, в
особенности у голенастых или болотных птиц.}, так как под этими двумя
прозвищами он иногда появляется в этой истории. Можно было бы упомянуть еще
и о некоторых других мелочах, но все они незначительны и не имеют отношения
к правдивой передаче истории, а никакая передача не может считаться плохой,
лишь бы она была правдива.
Если же может возникнуть какое-нибудь возражение против истины этой
истории, то лишь только на том основании, что ее автор был араб, -- а люди
этой нации очень склонны ко лжи; хотя, ввиду того что они так враждебно
относятся к испанцам, скорей можно было бы предположить, что он кое-что
хорошее скрыл в своем рассказе, а не преувеличил. По крайней мере, мне так
кажется, потому что, когда он и мог бы и должен был бы употребить свое перо
на похвалу столь достойному рыцарю, он, по-видимому, намеренно молчит, --
поступок дурной, а намерение -- еще худшее, так как историки должны и
обязаны быть точными, правдивыми, вполне беспристрастными, и ни
корыстолюбие, ни страх, ни злоба, ни любовь не должны заставлять их свернуть
с пути истины; а мать истины есть история, -- соперница времени, хранилище
деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение в настоящем и
предостережение для будущего. Я знаю, что в этой нашей истории найдется все
то, чего можно желать от самой занимательной истории, а если оказалось бы,
что кой-чего хорошего недостает ей, вина в том падает, на мой взгляд, скорее
на ее автора-собаку, а не на избранный им сюжет. Словом, вторая часть
истории в переводе начиналась таким образом.
Острые, высоко поднятые мечи двух храбрых и разгневанных противников,
казалось, угрожали небу, земле и преисподней -- с такой отвагой и решимостью
стояли они друг против друга. Первый нанес удар желчный бискаец, и нанес его
с такой силой и с таким бешенством, что, если б меч его не повернулся у него
в руке, одного этого удара было бы достаточно, чтобы положить конец
страшному поединку и всем приключениям нашего рыцаря. Но счастливая судьба,
хранившая его для более великих дел, направила меч противника таким образом,
что хотя удар меча и попал ему по левому плечу, но не нанес иного вреда, как
только обезоружил всю эту сторону, сорвав с нее латы, и по пути унес
значительную часть шлема и половину уха; все это со страшным шумом рухнуло
на землю, и рыцарь оказался в очень плачевном положении. Великий Боже! Кто
был бы в состоянии как следует описать бешенство, переполнившее душу нашего
ламанчца, когда он увидел, как с ним обошлись! Но достаточно, если мы
скажем, что бешенство это дошло до того, что он приподнялся снова на
стременах и, еще крепче схватив меч обеими руками, так яростно бросился на
бискайца и нанес ему такой сильный удар по подушке и по голове, что,
несмотря на столь хорошее прикрытие, у бискайца -- словно на него упала гора
-- пошла кровь из носа, изо рта и ушей и казалось, он упадет с мула и, без
сомнения, он и упал бы, если бы не ухватился обеими руками за шею животного.
Тем не менее он потерял стремена, выпустил из рук поводья, и мул, испуганный
страшным ударом, понесся по полю, а после нескольких скачков повалился на
землю со своим всадником.
Дон Кихот смотрел на это очень спокойно, но когда он увидел, что
бискаец упал, то соскочил с коня, быстро приблизился к нему и, приставив
острие меча к его глазам, потребовал, чтобы он сдался, а нет, -- он отрубит
ему голову. Ошеломленный бискаец не был в силах ответить ни слова, и ему
пришлось бы плохо, настолько гнев ослеплял Дон Кихота, если б дамы, сидевшие
в карете и до тех пор следившие с величайшим ужасом за исходом битвы, не
поспешили к рыцарю, умоляя его оказать им милость и снисхождение и пощадить
жизнь их слуги. На это Дон Кихот с большой важностью и торжественностью
ответил им:
-- Конечно, прекрасные сеньоры, я очень рад исполнить то, о чем вы
просите, но только с одним условием и уговором, именно: рыцарь этот должен
мне обещать, что он отправится в город Тобосо и от моего имени представится
несравненной донье Дульсинее, чтобы она могла располагать им, как ей
заблагорассудится.
Испуганные и глубоко огорченные сеньоры, не входя в разбор того, что
требовал от них Дон Кихот, и не спрашивая, кто такая сеньора Дульсинея,
обещали, что оруженосец их исполнит в точности все, что он приказал ему.
-- Доверяя вашему слову, -- ответил Дон Кихот, -- я не сделаю ему
больше зла, хотя он этого вполне заслуживает.
В предыдущей главе мы оставили мужественного бискайца и доблестного Дон
Кихота с высоко поднятыми, обнаженными мечами, готовых нанести друг другу
такие бешеные удары, что если б они действительно нанесли их, то по меньшей
мере разрубили бы друг друга сверху донизу и раскололи бы пополам, как
гранатовое яблоко; и в такую критическую минуту обрывается и остается
неоконченной интересная эта история, а ее автор не указывает нам, где можно
было бы найти то, чего недостает в ней.
Это меня очень огорчило, потому что удовольствие, с которым я прочел
столь немногое, превратилось в неудовольствие при мысли о том, какой мне
предстоит трудный путь, чтобы отыскать то многое, недостававшее, как мне
казалось, столь занимательному рассказу. Мне представлялось невероятным и
несоответствующим всем добрым обычаям, чтобы для такого храброго рыцаря не
нашелся мудрец, который взял бы на себя труд описать его неслыханные
подвиги, -- в чем никогда не было недостатка у странствующих рыцарей из тех,
о которых люди говорят, что они отправляются в поиски за своими
приключениями. Каждый из них всегда имел наготове одного или двух мудрецов,
которые не только описывали его деяния, но и воспроизводили малейшие его
помыслы и ребячества, как бы они ни были скрытыми; мне казалось невозможным,
чтобы такой доблестный рыцарь, как Дон Кихот, был бы столь несчастным и ему
недоставало бы того, что имели в изобилии Платир и ему подобные. Вот почему
я не допускал мысли, чтобы такая превосходная история могла остаться
недосказанной и неоконченной, и винил в этом лишь злобу всепожирающего и
всесокрушающего времени, которое ее скрыло или уничтожило. С другой стороны,
мне казалось, что если в числе книг Дон Кихота нашлись некоторые столь
современные, как "Излечение от ревности", "Эиаресские нимфы и пастухи", то и
его история также должна была быть современной, а в случае, если она не
написана, то хранится, вероятно, в памяти жителей его деревни и окрестных
деревень. Эта мысль тревожила меня и возбуждала желание доподлинно и
подробно узнать всю историю жизни и неслыханных подвигов нашего знаменитого
испанца Дон Кихота Ламанчского, светила и зеркала ламанчского рыцарства,
первого, в наш век и в эти столь бедственные времена посвятившего себя
трудам и обязанностям странствующих рыцарей и взявшего на себя исправлять
зло, помогать вдовам и защищать девушек из числа тех, которые верхом на
конях, с хлыстами в руках и со всей своей девственностью за плечами ездили с
горы на гору и из долины в долину; потому что в старинные времена бывали
девушки, которые -- если какой-нибудь подлец или негодяй с алебардой и
шишаком, или же чудовищный великан не изнасиловали их -- достигали
восьмидесятилетнего возраста и, не проспав во все это время ни одной ночи
под кровлей, сходили в могилу такими же непорочными, как и матери, родившие
их.
Итак, я говорю, что по этим и многим другим причинам наш доблестный Дон
Кихот заслуживает постоянных, достопамятных похвал; и даже мне не следует
отказывать в них за труд и старание, с которыми я разыскивал конец этой
занимательной истории; хотя я хорошо знаю, что, если б мне не помогли небо,
случай и счастливая моя звезда, мир был бы лишен времяпровождения и
удовольствия, какие может получить часа на два тот, кто со вниманием прочтет
эту историю. Вот каким образом я разыскал ее.
Однажды, когда я был в Алькана {Так называлась улица в Толедо, занятая
вся в конце XVI в. еврейскими лавками продавцов сукна и мелочных товаров.}[ ]в
Толедо, мне встретился мальчик, шедший к торговцу шелка, чтобы продать ему
старые бумаги и тетради. Так как я очень люблю читать, хотя бы даже рваные
бумаги, валяющиеся на улице, то, следуя этой природной своей склонности, я
взял одну из тетрадей, которые продавал мальчик, и увидел, что шрифт
арабский. И хотя я это и понял, но читать по-арабски не умел; поэтому я стал
смотреть, не пройдет ли какой-нибудь мориск {Морисками назывались потомки
мавров и арабов, которые остались в Испании после взятия Гренады и были
насильно обращены в католичество.}, говорящий по-испански, который бы мог
прочесть мне их. Не очень трудным оказалось найти такого переводчика, и даже
если б я искал его для другого, лучшего и более древнего, языка {Т. е.
еврейского. В прежние времена в Толедо было множество евреев.}, и то бы
нашел. Словом, судьба послала мне одного, которому я объяснил, в чем дело, и
передал ему в руки тетрадь. Он раскрыл ее в середине и, прочитав немного из
нее, стал смеяться. Я спросил его, отчего он смеется, и он ответил, что его
рассмешило примечание на полях рукописи. Когда я попросил его сообщить мне,
что там написано, он, все еще смеясь, сказал, что на полях здесь написано
вот что: "Та самая Дульсинея Тобосская, о которой столько раз упоминается в
этой истории, как говорят, умела искуснее остальных женщин Ааманчи солить
свинину". Когда я услыхал имя Дульсинеи Тобосской, я удивился и был поражен,
потому что тотчас же подумал, что в этих тетрадях заключается история Дон
Кихота. Побуждаемый этой мыслью, я торопил мориска скорей прочесть заглавие
рукописи; он сделал это немедленно и, переведя его с арабского на испанский
язык, прочитал следующее: "История Дон Кихота Ламанчского, написанная
арабским историком Сидом Аметом бен-Енхели". Нужна была большая
сдержанность, чтобы скрыть испытанную мною радость, когда до моего слуха
дошло заглавие рукописи, и, бросившись к торговцу шелком, я купил у мальчика
все тетради и бумаги за полреала; хотя если б он был проницательнее и знал
бы, как сильно я желал приобрести эти рукописи, то мог бы потребовать и
получить за них больше шести реалов. Тотчас же уединился я с мориском в
монастырские коридоры соборной церкви и попросил его перевести мне эти
тетради, все те, в которых шла речь о Дон Кихоте, ничего не выпуская и
ничего не добавляя, за что предложил ему вознаграждение, какое он пожелает.
Он удовольствовался двумя арробами {Испанская мера веса (от 25 до 36
фунтов).} изюма и двумя фанегами {Испанская мера зерна (4 четверика).}
пшеницы и обещал сделать перевод хорошо, точно и как можно скорей; но я,
чтобы еще более облегчить дело и не выпускать из рук столь ценной находки,
привел мориска к себе в дом, где он в полтора месяца с небольшим перевел
всю историю в том виде, как она здесь излагается.
В первой тетради была прекрасно нарисована битва Дон Кихота с
бискайцем: оба они были изображены в том положении, как сообщается в
истории, -- с поднятыми мечами, один, прикрываясь щитом, другой -- подушкой,
и мул бискайца был нарисован так живо, что уже издали можно было видеть, что
он наемный. У ног бискайца стояла надпись, гласившая: "Дон Санчо де
Аспеития" {Аспеития -- город в Бискайе, в котором родился Игнатий Лойола,
основатель иезуитского ордена.}, которая, без сомнения, должна была означать
его имя, а у ног Росинанта стояла другая надпись: "Дон Кихот". Росинант был
нарисован изумительно: такой длинный и вытянутый, такой исхудалый и тощий,
такой костлявый и чахоточный, что рисунок ясно показывал, как хорошо к нему
подходило и с какой проницательностью ему было дано имя Росинант. Рядом с
ним стоял Санчо Панса и держал за недоуздок своего осла, у ног которого
стояла надпись: "Санчо Санкас" {Пузо, брюхо.}. Судя по рисунку, у него,
по-видимому, был большой живот, короткое туловище и длинные ноги, почему,
должно быть, его называли Панса и Санкас {Длинная нога, или птичья лапа, в
особенности у голенастых или болотных птиц.}, так как под этими двумя
прозвищами он иногда появляется в этой истории. Можно было бы упомянуть еще
и о некоторых других мелочах, но все они незначительны и не имеют отношения
к правдивой передаче истории, а никакая передача не может считаться плохой,
лишь бы она была правдива.
Если же может возникнуть какое-нибудь возражение против истины этой
истории, то лишь только на том основании, что ее автор был араб, -- а люди
этой нации очень склонны ко лжи; хотя, ввиду того что они так враждебно
относятся к испанцам, скорей можно было бы предположить, что он кое-что
хорошее скрыл в своем рассказе, а не преувеличил. По крайней мере, мне так
кажется, потому что, когда он и мог бы и должен был бы употребить свое перо
на похвалу столь достойному рыцарю, он, по-видимому, намеренно молчит, --
поступок дурной, а намерение -- еще худшее, так как историки должны и
обязаны быть точными, правдивыми, вполне беспристрастными, и ни
корыстолюбие, ни страх, ни злоба, ни любовь не должны заставлять их свернуть
с пути истины; а мать истины есть история, -- соперница времени, хранилище
деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение в настоящем и
предостережение для будущего. Я знаю, что в этой нашей истории найдется все
то, чего можно желать от самой занимательной истории, а если оказалось бы,
что кой-чего хорошего недостает ей, вина в том падает, на мой взгляд, скорее
на ее автора-собаку, а не на избранный им сюжет. Словом, вторая часть
истории в переводе начиналась таким образом.
Острые, высоко поднятые мечи двух храбрых и разгневанных противников,
казалось, угрожали небу, земле и преисподней -- с такой отвагой и решимостью
стояли они друг против друга. Первый нанес удар желчный бискаец, и нанес его
с такой силой и с таким бешенством, что, если б меч его не повернулся у него
в руке, одного этого удара было бы достаточно, чтобы положить конец
страшному поединку и всем приключениям нашего рыцаря. Но счастливая судьба,
хранившая его для более великих дел, направила меч противника таким образом,
что хотя удар меча и попал ему по левому плечу, но не нанес иного вреда, как
только обезоружил всю эту сторону, сорвав с нее латы, и по пути унес
значительную часть шлема и половину уха; все это со страшным шумом рухнуло
на землю, и рыцарь оказался в очень плачевном положении. Великий Боже! Кто
был бы в состоянии как следует описать бешенство, переполнившее душу нашего
ламанчца, когда он увидел, как с ним обошлись! Но достаточно, если мы
скажем, что бешенство это дошло до того, что он приподнялся снова на
стременах и, еще крепче схватив меч обеими руками, так яростно бросился на
бискайца и нанес ему такой сильный удар по подушке и по голове, что,
несмотря на столь хорошее прикрытие, у бискайца -- словно на него упала гора
-- пошла кровь из носа, изо рта и ушей и казалось, он упадет с мула и, без
сомнения, он и упал бы, если бы не ухватился обеими руками за шею животного.
Тем не менее он потерял стремена, выпустил из рук поводья, и мул, испуганный
страшным ударом, понесся по полю, а после нескольких скачков повалился на
землю со своим всадником.
Дон Кихот смотрел на это очень спокойно, но когда он увидел, что
бискаец упал, то соскочил с коня, быстро приблизился к нему и, приставив
острие меча к его глазам, потребовал, чтобы он сдался, а нет, -- он отрубит
ему голову. Ошеломленный бискаец не был в силах ответить ни слова, и ему
пришлось бы плохо, настолько гнев ослеплял Дон Кихота, если б дамы, сидевшие
в карете и до тех пор следившие с величайшим ужасом за исходом битвы, не
поспешили к рыцарю, умоляя его оказать им милость и снисхождение и пощадить
жизнь их слуги. На это Дон Кихот с большой важностью и торжественностью
ответил им:
-- Конечно, прекрасные сеньоры, я очень рад исполнить то, о чем вы
просите, но только с одним условием и уговором, именно: рыцарь этот должен
мне обещать, что он отправится в город Тобосо и от моего имени представится
несравненной донье Дульсинее, чтобы она могла располагать им, как ей
заблагорассудится.
Испуганные и глубоко огорченные сеньоры, не входя в разбор того, что
требовал от них Дон Кихот, и не спрашивая, кто такая сеньора Дульсинея,
обещали, что оруженосец их исполнит в точности все, что он приказал ему.
-- Доверяя вашему слову, -- ответил Дон Кихот, -- я не сделаю ему
больше зла, хотя он этого вполне заслуживает.

Глава X Остроумные разговоры, которые вели Дон Кихот и его
оруженосец Санчо Панса
 Между тем Санчо Панca уже поднялся, хотя и несколько помятый слугами
монахов, и, внимательно следя за ходом битвы своего господина с бискайцем,
молил в душе Бога даровать победу Дон Кихоту и дать ему возможность
завоевать какой-нибудь остров, губернатором которого он назначил бы его, как
обещал ему это. Увидав, что поединок кончен и что господин его собирается
влезть на Росинанта, Санчо подбежал поддержать ему стремя, и, прежде чем Дон
Кихот успел сесть на коня, он бросился перед ним на колени, схватил его руку
и поцеловал ее, говоря:
-- Сеньор мой Дон Кихот, пусть ваша милость соблаговолит дать мне в
управление остров, завоеванный вами в этом ужасном сражении, потому что, как
бы он ни был велик, я чувствую в себе силы управлять им так же хорошо, как и
всякий другой, управлявший островами на свете.
На это Дон Кихот ответил: -- Заметь, брат Санчо, что это приключение и
ему подобные не приводят к завоеванию островов; это -- приключения на
перекрестках, которыми не приобретаешь ничего другого, как только пролом
головы или потерю уха. Но имей терпение, представятся и такого рода
приключения, благодаря которым я не только смогу тебя сделать губернатором,
но и больше того.
Санчо усердно поблагодарил его, и, поцеловав еще раз руку, а также и
край кольчуги, он помог ему взобраться на Росинанта, после чего сам влез на
своего осла и поехал вслед за господином, который, не простясь с сидевшими в
карете дамами и не говоря больше с ними ни слова, быстро повернул в
близлежащий лесок. Санчо следовал за ним во всю прыть своего осла, но
Росинант бежал очень быстро, и Санчо, видя, что он отстал, стал кричать
своему сеньору, чтобы тот подождал его. Дон Кихот сделал это и придержал
поводья Росинанта, пока его не нагнал утомившийся оруженосец, который,
подъехав к нему, сказал:
-- Мне кажется, сеньор, мы поступили бы благоразумнее, если б укрылись
в какую-нибудь церковь, потому что тот, с которым вы сражались, приведен в
столь плачевное состояние, что неудивительно было бы, если б они сообщили о
случившемся Святой Эрмандаде {Santa Hermandad -- святое братство, было
основано еще в XIII в. и восстановлено в 1476 г. королями Фердинандом и
Изабеллой для преследования преступлений, совершенных на больших дорогах и в
более отдаленных и диких местностях Испании; несколько видоизмененное, оно
существовало во времена Сервантеса, который, по-видимому, не очень-то
одобрял это братство.} и нас бы арестовали; а по чести, если они это
сделают, то, прежде чем мы выйдем из тюрьмы, нам придется немало попотеть
там.
-- Перестань, -- сказал Дон Кихот, -- где ты когда-либо видел или
читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали в суд, сколько бы он ни
совершил смертоубийств?
-- Ничего я не знаю о сверхбивствах {Санчо по-своему извращает слово
"homicidios", которое он не понимает.}, -- ответил Санчо, -- и в моей жизни
никому их не причинял. Знаю только, что Святая Эрмандада имеет дело с теми,
которые сражаются в открытом поле, а в то, другое, я не вмешиваюсь.
-- Не тревожься, друг, -- ответил Дон Кихот, -- потому что я сумею
высвободить тебя из рук халдейцев, не только что из рук Святой Эрмандады. Но
скажи мне откровенно, видел ли ты на всей поверхности земной более
доблестного рыцаря, чем я? Читал ли в историях о ком другом, который
выказывает или выказывал больше отваги при нападении, больше твердости в
обороне, больше ловкости в нанесении удара, больше искусства в поражении
противника?
-- Скажу по правде, -- ответил Санчо, -- что я никогда никакой истории
не читал, так как не умею ни читать, ни писать. Но я готов хоть сейчас
биться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я в жизни
не служил, и дай бог, чтобы за эту отвагу вы не получили платы, о которой я
говорил. А прошу я вашу милость лишь об одном: дайте мне сделать вам
перевязку, потому что из раненого уха у вас сильно идет кровь, а у меня в
сумке есть корпия и немного белой мази.
-- Все это было бы лишним, -- сказал Дон Кихот, -- если б я не забыл
приготовить склянку бальзама Фиэрабраса, так как одной каплей его можно было
бы сберечь время и лекарства.
-- Что это за склянка и что за бальзам такой? -- спросил Санчо.
-- Это бальзам, -- ответил Дон Кихот, -- рецепт которого я храню в
памяти; имея при себе это лекарство, нельзя бояться смерти, ни опасаться
умереть от каких-либо ран. Итак, когда я его изготовлю и дам тебе, ты должен
делать лишь одно: если увидишь, что в какой-нибудь битве меня разрубили
пополам -- а это нередко случается, -- ты тихонько подними ту часть моего
тела, которая упала на землю, и быстро, прежде чем кровь застынет, приложи
ее к другой части тела, оставшейся на седле, стараясь соединить обе эти
части как можно правильнее и ровнее, и тотчас дай мне выпить глотка два
бальзама и увидишь, что я стану крепче яблока.
-- Если это так, -- сказал Панса, -- я теперь же отказываюсь от
губернаторства на острове, которое вы мне обещали, а в награду за все мои
добрые и многочисленные услуги прошу лишь одного: пусть милость ваша сообщит
мне рецепт этого изумительного бальзама, потому что наверное за унцию его
везде дадут более двух реалов, а больше мне и не нужно, чтобы прожить жизнь
свою в довольстве и покое. Но теперь надо узнать: дорого ли обойдется
приготовление бальзама?
-- Менее чем за три реала можно приготовить три асумбрес {Мера для
жидкостей -- немного больше двух литров каждая, значит, больше шести
литров.}, -- ответил Дон Кихот.
-- Грешный я! -- воскликнул Санчо. -- Так почему же ваша милость медлит
приготовить бальзам и научить этому и меня?
-- Молчи, друг, -- ответил Дон Кихот, -- еще большие тайны думаю я
открыть тебе и оказать не такие еще благодеяния, а теперь надо бы меня
полечить, потому что ухо мое болит сильнее, чем я того хотел бы.
Санчо достал из сумки корпии и мази; но когда Дон Кихот увидев, что
шлем его сломан, он чуть не потерял рассудка. Положив руку на меч и подняв
глаза к небу, он сказал:
-- Клянусь Творцом Вселенной и четырьмя святыми Евангелиями в полном их
объеме вести жизнь, которую вел великий маркиз Мантуанский, когда он
поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдовиноса, а именно: не
есть хлеба со скатерти и не ласкать своей жены и воздерживаться от других
вещей -- которые, хотя я сейчас их и не помню, но тоже включаю в свою клятву
-- до тех пор, пока не отомщу полностью тому, кто нанес мне это оскорбление.
Услышав эту клятву, Санчо сказал:
-- Заметьте, милость ваша сеньор Дон Кихот, если тот рыцарь исполнил
приказание, которое вы ему дали -- явиться к сеньоре Дульсинее Тобосской, --
он все сделал, что должен был сделать, и не заслуживает нового наказания,
если не совершит нового проступка.
-- Ты верно сказал и попал как раз в цель, -- ответил Дон Кихот, --
поэтому я уничтожаю клятву относительно мести, но возобновляю и подтверждаю
ее относительно образа жизни, который я собираюсь вести до тех пор, пока не
добуду силой у какого-нибудь рыцаря другого шлема, такого же хорошего, каким
был мой. И не думай, Санчо, что я так поступаю ни с того ни с сего, я хорошо
знаю, кому в этом подражать, так как все это буквально случилось со шлемом
Мамбрина, который так дорого обошелся Сакрипанту
-- Пусть ваша милость пошлет все эти клятвы к черту, -- ответил
Санчо,-- потому что они весьма вредны для здоровья и очень пагубны для
совести. А нет, скажите мне теперь: если мы случайно долгое время не
встретим вооруженного человека со шлемом, что нам тогда делать? Исполним ли
мы клятву, несмотря на все неудобства и затруднения, как, например, спать,
не раздеваясь, ночевать не в жилых помещениях, а под открытым небом и
совершать тысячи других епитимий, заключавшихся в клятве того старого
сумасброда, маркиза Мантуанского,-- клятве, которой ваша милость желает
теперь дать снова ход? Подумайте о том, сеньор, что на этих дорогах не ездят
вооруженные люди, а лишь возчики и погонщики мулов, которые не только не
носят на голове шлемов, но, может быть, никогда в жизни и не слыхали о них.
-- Ты ошибаешься, думая так, -- сказал Дон Кихот. -- Не пройдет и двух
часов, как мы на этих перекрестках встретим больше вооруженных людей, чем их
прибыло под Альбраку, чтобы овладеть прекрасной Анхеликой {В поэме Боярдо
"Влюбленный Роланд" Агрикан, царь татарский, осаждает сильную крепость
Альбраку с войском в два миллиона солдат, чтобы овладеть прекрасной
Анхеликой, дочерью короля Галафрона.}.
-- Хорошо, пусть будет так, -- сказал Санчо, -- и дай бог, чтобы нам
повезло и вы поскорее завоевали остров, который мне так дорого стоит, а
потом я готов хоть умереть.
-- Я уже говорил тебе, Санчо, чтобы ты об этом нимало не беспокоился,
потому что, если б не оказалось острова, у нас есть королевство Динамарк или
королевство Собрадиса {Баснословные государства, о которых говорится в
"Амадисе Галльском".}, которые придутся тебе в пору, как кольцо на палец, и
ты еще должен тем более радоваться, что они на материке. Но оставим это до
времени, а теперь посмотри, нет ли у тебя в сумках каких-нибудь съестных
припасов, потому что, закусив, мы тотчас же отправимся искать замок, где бы
нам можно было переночевать и приготовить бальзам, о котором я тебе говорил,
так как, клянусь тебе Богом, что ухо у меня сильно болит.
-- У меня есть здесь луковица, кусок сыру и не знаю сколько ломтей
хлеба, -- сказал Санчо, -- но все это не яства для столь доблестного рыцаря,
как ваша милость.
-- Плохо ты понимаешь это дело,-- ответил Дон Кихот. -- Я хотел бы,
чтобы ты знал, Санчо, что для странствующих рыцарей честь и слава не есть
целый месяц ничего, а когда они едят, то довольствуются тем, что попадет им
под руку, и это было бы хорошо известно тебе, если б ты прочел столько
истории, сколько я их читал; потому что, несмотря на великое их множество,
ни в одной из них не нашел я упоминание о том, чтобы странствующие рыцари
ели; разве только случайно и на каких-нибудь великолепных пиршествах,
которые устраивались в честь их, остальное же время они жили, питаясь
цветами {Т. е. очень малым.}. И хотя понятно, что они не могли существовать
без пищи и без удовлетворения других естественных потребностей, потому что,
действительно, они были такие же люди, как и мы, надо также предположить,
что, так как они большую часть своей жизни скитались в лесах, пустынных
местах и без повара, самой обычной их едой были простые яства, вроде тех,
которые ты мне теперь предлагаешь. Итак, друг Санчо, не заботься о том, что
мне больше по вкусу, не старайся переделать заново свет или вывести
странствующее рыцарство из его колеи.
-- Простите мне, милость ваша,-- сказал Санчо, -- так как я не умею ни
читать, ни писать, о чем я уже вам говорил, и не знаю и не имею понятия о
правилах рыцарской профессии. Но с этого времени впредь буду запасаться
разного рода сухими плодами для вашей милости, как для рыцаря, а для себя,
так как я не рыцарь, буду набивать сумку более существенными и питательными
вещами.
-- Я вовсе не говорю, Санчо, -- возразил Дон Кихот, -- что
странствующие рыцари должны обязательно есть одни лишь сухие плоды, как ты
сейчас сказал, а говорю только, что самой обычной их пищей были,
по-видимому, сухие плоды и травы, которые они находили на полях и знали их,
и я также их знаю.
-- Хорошо знать эти травы, -- ответил Санчо, -- так как, судя потому,
что мне представляется, когда-нибудь нам окажется необходимым
воспользоваться этим знанием.
Говоря это, Санчо достал из сумки съестные припасы, бывшие там у него,
и они оба стали есть мирно и дружно. Однако, желая скорее отыскать себе
ночлег, они быстро покончили свою скудную и бедную трапезу, тотчас же сели
верхом, торопясь, пока еще не стемнело, доехать до жилого помещения.
Но солнце скрылось и вместе с ним и надежда найти то, чего они искали,
когда они очутились вблизи нескольких шалашей козьих пастухов. Итак, они
решили переночевать здесь. Насколько сильно было огорчение Санчо, что они не
добрались до села, настолько его господин был доволен, что будет спать под
открытым небом, потому что всякий раз, как это случалось с ним, ему
казалось, что он приобретает новый документ, подтверждающий его право на
рыцарское звание.
Между тем Санчо Панca уже поднялся, хотя и несколько помятый слугами
монахов, и, внимательно следя за ходом битвы своего господина с бискайцем,
молил в душе Бога даровать победу Дон Кихоту и дать ему возможность
завоевать какой-нибудь остров, губернатором которого он назначил бы его, как
обещал ему это. Увидав, что поединок кончен и что господин его собирается
влезть на Росинанта, Санчо подбежал поддержать ему стремя, и, прежде чем Дон
Кихот успел сесть на коня, он бросился перед ним на колени, схватил его руку
и поцеловал ее, говоря:
-- Сеньор мой Дон Кихот, пусть ваша милость соблаговолит дать мне в
управление остров, завоеванный вами в этом ужасном сражении, потому что, как
бы он ни был велик, я чувствую в себе силы управлять им так же хорошо, как и
всякий другой, управлявший островами на свете.
На это Дон Кихот ответил: -- Заметь, брат Санчо, что это приключение и
ему подобные не приводят к завоеванию островов; это -- приключения на
перекрестках, которыми не приобретаешь ничего другого, как только пролом
головы или потерю уха. Но имей терпение, представятся и такого рода
приключения, благодаря которым я не только смогу тебя сделать губернатором,
но и больше того.
Санчо усердно поблагодарил его, и, поцеловав еще раз руку, а также и
край кольчуги, он помог ему взобраться на Росинанта, после чего сам влез на
своего осла и поехал вслед за господином, который, не простясь с сидевшими в
карете дамами и не говоря больше с ними ни слова, быстро повернул в
близлежащий лесок. Санчо следовал за ним во всю прыть своего осла, но
Росинант бежал очень быстро, и Санчо, видя, что он отстал, стал кричать
своему сеньору, чтобы тот подождал его. Дон Кихот сделал это и придержал
поводья Росинанта, пока его не нагнал утомившийся оруженосец, который,
подъехав к нему, сказал:
-- Мне кажется, сеньор, мы поступили бы благоразумнее, если б укрылись
в какую-нибудь церковь, потому что тот, с которым вы сражались, приведен в
столь плачевное состояние, что неудивительно было бы, если б они сообщили о
случившемся Святой Эрмандаде {Santa Hermandad -- святое братство, было
основано еще в XIII в. и восстановлено в 1476 г. королями Фердинандом и
Изабеллой для преследования преступлений, совершенных на больших дорогах и в
более отдаленных и диких местностях Испании; несколько видоизмененное, оно
существовало во времена Сервантеса, который, по-видимому, не очень-то
одобрял это братство.} и нас бы арестовали; а по чести, если они это
сделают, то, прежде чем мы выйдем из тюрьмы, нам придется немало попотеть
там.
-- Перестань, -- сказал Дон Кихот, -- где ты когда-либо видел или
читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали в суд, сколько бы он ни
совершил смертоубийств?
-- Ничего я не знаю о сверхбивствах {Санчо по-своему извращает слово
"homicidios", которое он не понимает.}, -- ответил Санчо, -- и в моей жизни
никому их не причинял. Знаю только, что Святая Эрмандада имеет дело с теми,
которые сражаются в открытом поле, а в то, другое, я не вмешиваюсь.
-- Не тревожься, друг, -- ответил Дон Кихот, -- потому что я сумею
высвободить тебя из рук халдейцев, не только что из рук Святой Эрмандады. Но
скажи мне откровенно, видел ли ты на всей поверхности земной более
доблестного рыцаря, чем я? Читал ли в историях о ком другом, который
выказывает или выказывал больше отваги при нападении, больше твердости в
обороне, больше ловкости в нанесении удара, больше искусства в поражении
противника?
-- Скажу по правде, -- ответил Санчо, -- что я никогда никакой истории
не читал, так как не умею ни читать, ни писать. Но я готов хоть сейчас
биться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я в жизни
не служил, и дай бог, чтобы за эту отвагу вы не получили платы, о которой я
говорил. А прошу я вашу милость лишь об одном: дайте мне сделать вам
перевязку, потому что из раненого уха у вас сильно идет кровь, а у меня в
сумке есть корпия и немного белой мази.
-- Все это было бы лишним, -- сказал Дон Кихот, -- если б я не забыл
приготовить склянку бальзама Фиэрабраса, так как одной каплей его можно было
бы сберечь время и лекарства.
-- Что это за склянка и что за бальзам такой? -- спросил Санчо.
-- Это бальзам, -- ответил Дон Кихот, -- рецепт которого я храню в
памяти; имея при себе это лекарство, нельзя бояться смерти, ни опасаться
умереть от каких-либо ран. Итак, когда я его изготовлю и дам тебе, ты должен
делать лишь одно: если увидишь, что в какой-нибудь битве меня разрубили
пополам -- а это нередко случается, -- ты тихонько подними ту часть моего
тела, которая упала на землю, и быстро, прежде чем кровь застынет, приложи
ее к другой части тела, оставшейся на седле, стараясь соединить обе эти
части как можно правильнее и ровнее, и тотчас дай мне выпить глотка два
бальзама и увидишь, что я стану крепче яблока.
-- Если это так, -- сказал Панса, -- я теперь же отказываюсь от
губернаторства на острове, которое вы мне обещали, а в награду за все мои
добрые и многочисленные услуги прошу лишь одного: пусть милость ваша сообщит
мне рецепт этого изумительного бальзама, потому что наверное за унцию его
везде дадут более двух реалов, а больше мне и не нужно, чтобы прожить жизнь
свою в довольстве и покое. Но теперь надо узнать: дорого ли обойдется
приготовление бальзама?
-- Менее чем за три реала можно приготовить три асумбрес {Мера для
жидкостей -- немного больше двух литров каждая, значит, больше шести
литров.}, -- ответил Дон Кихот.
-- Грешный я! -- воскликнул Санчо. -- Так почему же ваша милость медлит
приготовить бальзам и научить этому и меня?
-- Молчи, друг, -- ответил Дон Кихот, -- еще большие тайны думаю я
открыть тебе и оказать не такие еще благодеяния, а теперь надо бы меня
полечить, потому что ухо мое болит сильнее, чем я того хотел бы.
Санчо достал из сумки корпии и мази; но когда Дон Кихот увидев, что
шлем его сломан, он чуть не потерял рассудка. Положив руку на меч и подняв
глаза к небу, он сказал:
-- Клянусь Творцом Вселенной и четырьмя святыми Евангелиями в полном их
объеме вести жизнь, которую вел великий маркиз Мантуанский, когда он
поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдовиноса, а именно: не
есть хлеба со скатерти и не ласкать своей жены и воздерживаться от других
вещей -- которые, хотя я сейчас их и не помню, но тоже включаю в свою клятву
-- до тех пор, пока не отомщу полностью тому, кто нанес мне это оскорбление.
Услышав эту клятву, Санчо сказал:
-- Заметьте, милость ваша сеньор Дон Кихот, если тот рыцарь исполнил
приказание, которое вы ему дали -- явиться к сеньоре Дульсинее Тобосской, --
он все сделал, что должен был сделать, и не заслуживает нового наказания,
если не совершит нового проступка.
-- Ты верно сказал и попал как раз в цель, -- ответил Дон Кихот, --
поэтому я уничтожаю клятву относительно мести, но возобновляю и подтверждаю
ее относительно образа жизни, который я собираюсь вести до тех пор, пока не
добуду силой у какого-нибудь рыцаря другого шлема, такого же хорошего, каким
был мой. И не думай, Санчо, что я так поступаю ни с того ни с сего, я хорошо
знаю, кому в этом подражать, так как все это буквально случилось со шлемом
Мамбрина, который так дорого обошелся Сакрипанту
-- Пусть ваша милость пошлет все эти клятвы к черту, -- ответил
Санчо,-- потому что они весьма вредны для здоровья и очень пагубны для
совести. А нет, скажите мне теперь: если мы случайно долгое время не
встретим вооруженного человека со шлемом, что нам тогда делать? Исполним ли
мы клятву, несмотря на все неудобства и затруднения, как, например, спать,
не раздеваясь, ночевать не в жилых помещениях, а под открытым небом и
совершать тысячи других епитимий, заключавшихся в клятве того старого
сумасброда, маркиза Мантуанского,-- клятве, которой ваша милость желает
теперь дать снова ход? Подумайте о том, сеньор, что на этих дорогах не ездят
вооруженные люди, а лишь возчики и погонщики мулов, которые не только не
носят на голове шлемов, но, может быть, никогда в жизни и не слыхали о них.
-- Ты ошибаешься, думая так, -- сказал Дон Кихот. -- Не пройдет и двух
часов, как мы на этих перекрестках встретим больше вооруженных людей, чем их
прибыло под Альбраку, чтобы овладеть прекрасной Анхеликой {В поэме Боярдо
"Влюбленный Роланд" Агрикан, царь татарский, осаждает сильную крепость
Альбраку с войском в два миллиона солдат, чтобы овладеть прекрасной
Анхеликой, дочерью короля Галафрона.}.
-- Хорошо, пусть будет так, -- сказал Санчо, -- и дай бог, чтобы нам
повезло и вы поскорее завоевали остров, который мне так дорого стоит, а
потом я готов хоть умереть.
-- Я уже говорил тебе, Санчо, чтобы ты об этом нимало не беспокоился,
потому что, если б не оказалось острова, у нас есть королевство Динамарк или
королевство Собрадиса {Баснословные государства, о которых говорится в
"Амадисе Галльском".}, которые придутся тебе в пору, как кольцо на палец, и
ты еще должен тем более радоваться, что они на материке. Но оставим это до
времени, а теперь посмотри, нет ли у тебя в сумках каких-нибудь съестных
припасов, потому что, закусив, мы тотчас же отправимся искать замок, где бы
нам можно было переночевать и приготовить бальзам, о котором я тебе говорил,
так как, клянусь тебе Богом, что ухо у меня сильно болит.
-- У меня есть здесь луковица, кусок сыру и не знаю сколько ломтей
хлеба, -- сказал Санчо, -- но все это не яства для столь доблестного рыцаря,
как ваша милость.
-- Плохо ты понимаешь это дело,-- ответил Дон Кихот. -- Я хотел бы,
чтобы ты знал, Санчо, что для странствующих рыцарей честь и слава не есть
целый месяц ничего, а когда они едят, то довольствуются тем, что попадет им
под руку, и это было бы хорошо известно тебе, если б ты прочел столько
истории, сколько я их читал; потому что, несмотря на великое их множество,
ни в одной из них не нашел я упоминание о том, чтобы странствующие рыцари
ели; разве только случайно и на каких-нибудь великолепных пиршествах,
которые устраивались в честь их, остальное же время они жили, питаясь
цветами {Т. е. очень малым.}. И хотя понятно, что они не могли существовать
без пищи и без удовлетворения других естественных потребностей, потому что,
действительно, они были такие же люди, как и мы, надо также предположить,
что, так как они большую часть своей жизни скитались в лесах, пустынных
местах и без повара, самой обычной их едой были простые яства, вроде тех,
которые ты мне теперь предлагаешь. Итак, друг Санчо, не заботься о том, что
мне больше по вкусу, не старайся переделать заново свет или вывести
странствующее рыцарство из его колеи.
-- Простите мне, милость ваша,-- сказал Санчо, -- так как я не умею ни
читать, ни писать, о чем я уже вам говорил, и не знаю и не имею понятия о
правилах рыцарской профессии. Но с этого времени впредь буду запасаться
разного рода сухими плодами для вашей милости, как для рыцаря, а для себя,
так как я не рыцарь, буду набивать сумку более существенными и питательными
вещами.
-- Я вовсе не говорю, Санчо, -- возразил Дон Кихот, -- что
странствующие рыцари должны обязательно есть одни лишь сухие плоды, как ты
сейчас сказал, а говорю только, что самой обычной их пищей были,
по-видимому, сухие плоды и травы, которые они находили на полях и знали их,
и я также их знаю.
-- Хорошо знать эти травы, -- ответил Санчо, -- так как, судя потому,
что мне представляется, когда-нибудь нам окажется необходимым
воспользоваться этим знанием.
Говоря это, Санчо достал из сумки съестные припасы, бывшие там у него,
и они оба стали есть мирно и дружно. Однако, желая скорее отыскать себе
ночлег, они быстро покончили свою скудную и бедную трапезу, тотчас же сели
верхом, торопясь, пока еще не стемнело, доехать до жилого помещения.
Но солнце скрылось и вместе с ним и надежда найти то, чего они искали,
когда они очутились вблизи нескольких шалашей козьих пастухов. Итак, они
решили переночевать здесь. Насколько сильно было огорчение Санчо, что они не
добрались до села, настолько его господин был доволен, что будет спать под
открытым небом, потому что всякий раз, как это случалось с ним, ему
казалось, что он приобретает новый документ, подтверждающий его право на
рыцарское звание.

Глава XI О том, что приключилось с Дон Кихотом у козопасов
 Козопасы приняли их радушно, и Санчо, пристроив как мог лучше Росинанта
и своего осла, сам направился туда, куда его привлекал запах, издаваемый
кусками козлиного мяса, варившегося в котле над огнем. И хотя он исследовал
бы охотно тотчас, достаточно ли сварилось мясо, чтобы из котла перейти в его
желудок, но он не мог этого сделать, потому что пастухи сняли котел с огня
и, разложив на земле несколько овчин, спешно накрыли свой деревенский стол,
дружески пригласив Дон Кихота и Санчо разделить с ними скромный ужин.
Шестеро из них -- все бывшие в шалаше -- уселись в кружок на овчинах,
попросив предварительно -- с не очень-то утонченной деревенской учтивостью
-- Дон Кихота сесть на опрокинутую колоду, которую они ему придвинули. Дон
Кихот сел, а Санчо остался стоять подле него, чтобы подавать ему пить из
кубка, сделанного из рога. Увидав, что Санчо стоит, его господин сказал ему:
-- Чтобы ты, Санчо, понял, какое благо заключается в странствующем
рыцарстве и как быстро те, которые в каком бы то ни было звании ему служат,
достигают на свете уважения и почестей, -- я хочу, чтобы ты сел здесь, рядом
со мной, и в обществе этих добрых людей слился бы воедино с твоим господином
и природным повелителем, чтобы ты ел из моей тарелки и пил из кубка, из
которого я пью, -- потому что о странствующем рыцарстве можно сказать то же,
что говорится о любви, а именно что она всех равняет.
-- Премного вам благодарен, -- ответил Санчо, -- но я должен сказать
вашей милости, что я ел бы также хорошо и еще лучше, стоя и наедине, как и
сидя рядом с императором, лишь бы было что есть. И даже, говоря по правде,
куда вкуснее кажется мне то, что я ем в своем углу, без жеманства и
церемоний, хотя бы это были лишь хлеб да лук, а не индейка за чужим столом,
где я вынужден жевать медленно, пить мало, часто вытирать себе рот, где я не
могу ни чихать, ни кашлять, если б мне захотелось, и не могу делать и других
вещей, какие дозволяют свобода и уединение. Так что, сеньор мой, эти
почести, которые ваша милость желает оказать мне, как служителю и члену
странствующего рыцарства, -- каков я есть, будучи оруженосцем вашей милости,
-- обратите лучше во что-нибудь другое, более удобное и выгодное для меня, и
хотя я их уже и считаю полученными, но отказываюсь от них отныне и вовек.
-- Тем не менее ты должен сесть рядом со мной, потому что, кто сам себя
унижает, того Бог возвысит, -- ответил Дон Кихот. И, взяв за руку Санчо, он
принудил его сесть рядом с собой.
Пастухи ничего не поняли из всей этой тарабарщины об оруженосцах и
странствующих рыцарях и только и делали, что ели, молчали и смотрели, как
гости их с большим достоинством и с видимым удовольствием быстро отправляли
себе в рот куски козлиного мяса величиною с кулак. Когда было покончено с
мясным блюдом, пастухи насыпали на бараньи шкуры множество сухих желудей {В
Испании -- в Ламанче и в Эстремадуре -- имеется сорт вкусных и годных для
еды желудей.}, а также положили туда и полкруга сыра, более твердого, чем
если б он был сделан из извести. Между тем не оставался праздным и роговой
кубок, потому что он беспрерывно обходил всех кругом, то полный, то пустой,
как ведро на водокачке, и очень скоро из двух бурдюков принесенных
пастухами, один оказался выпитым. Удовлетворив требованиям своего желудка,
Дон Кихот взял в руку горсть желудей, внимательно поглядел на них и,
возвысив голос, сказал:
-- Счастливо то время, и счастлив тот век, который древние прозвали
золотым, не потому, чтоб золото, столь высоко ценимое в этот наш железный
век, добывалось в тот, счастливый, без всякого труда, а потому, что живущие
тогда не знали двух этих слов: твое и мое. В те святые времена все было
общее. Никому не нужно было -- чтобы добыть себе насущное пропитание --
прибегать к иному труду, как только к труду поднять руку и взять себе пищу с
могучих дубов, которые щедро предлагали сладкие и вкусные свои плоды.
Прозрачные ключи и быстротекущие реки доставляли в великолепном изобилии
чистую, прозрачную воду. В расщелинах скал, в дуплах деревьев заботливые и
умные пчелы, учреждая свои общины, бескорыстно оделяли каждую протянутую
руку богатой жатвой сладчайшего своего труда. Могучие пробковые деревья без
всякого принуждения, по собственному доброму желанию сбрасывали с себя
широкую и легкую кору свою, которою люди начали покрывать дома на грубых
подпорках, возведенные ими единственно лишь для защиты от непогоды. В те
времена всюду царил мир, всюду царили дружба и согласие. Тяжелый сошник
кривого плуга еще не дерзал вскрывать и раздирать сострадательные недра
нашей праматери-земли, потому что она без принуждения на всем пространстве
своего великого и плодородного лона предлагала все, что могло насытить,
поддержать существование и доставить наслаждение детям ее, в ту пору
владевшим ею. Тогда в действительности простодушные и прекрасные пастушки
бродили по долинам и холмам, с непокрытой головой и в косах, не имея на себе
другой одежды, кроме необходимой, чтобы стыдливо прикрыть все, что
стыдливость требует и всегда требовала держать прикрытым; и украшения их
были не те, которые в употреблении теперь и которые пурпур Тира и на столько
ладов терзаемый шелк делает такими дорогими, -- а состояли лишь из листьев
зеленого лопуха, переплетенных с плющом, и, быть может, в них они казались
не менее великолепно одеты и нарядны, чем теперь наши столичные дамы,
щеголяющие в редкостных и чужеземных изобретениях моды, указанных им
праздным тщеславием. Тогда порывы любящего сердца облекались в столь же
простые и искренние выражения, какими были чувства, породившие их, и не
искали искусственных оборотов речи, чтобы придать им больше ценности. Не
было лжи, -- злоба и обман не смешивались еще с правдой и искренностью.
Правосудие не выходило из своих пределов, и его еще не дерзали смущать и
оскорблять корыстолюбие и лицеприятие, которые теперь так унижают, смущают и
преследуют его. Закон произвола еще не сделался достоянием судей, потому что
и судить тогда было некого и не за что. Девушки и целомудрие, как я уже
говорил, являлись, где хотели, одни-одинешеньки, не опасаясь, чтобы чужая
распущенность и похотливость унизили их, -- и если они и гибли, то лишь
только по доброй воле и по собственному желанию. А теперь, в отвратительные
наши времена, ни одна девушка не находится в безопасности, хотя бы ее
скрывал и окружал новый лабиринт, подобный Критскому, так как и туда, через
щели или с воздухом, благодаря рьяности проклятого ухаживания проникла бы
любовная зараза и привела бы к крушению всю ее скромность. И вот для защиты
добродетели, так как время шло и зло возрастало, был учрежден рыцарский
орден, чтобы охранять девушек, защищать вдов и помогать сиротам и
нуждающимся. К этому ордену принадлежу и я, братья пастухи, которых
благодарю за угощенье и радушный прием, оказанный мне и моему оруженосцу. И
хотя по закону природы все живущие в мире обязаны благоприятствовать
странствующим рыцарям, тем не менее, так как я знаю, что вы, находясь в
неведении относительно этой вашей обязанности, все же приняли и угостили
меня, справедливо, чтобы и я поблагодарил вас от всего сердца за выказанное
мне вами доброе расположение.
Вся эта длинная речь (без которой можно было бы отлично обойтись) была
сказана нашим рыцарем потому, что предложенные желуди напомнили ему золотой
век и он вздумал обратиться с ненужными этими рассуждениями к пастухам, а
те, не отвечая ни слова, слушали его, изумленные и недоумевающие. Даже и
Санчо молчал, ел желуди и частенько прикладывался ко второму бурдюку,
который пастухи -- чтобы вино охладилось -- держали подвешенным к пробковому
дереву.
Речь Дон Кихота длилась дольше, чем ужин. Когда он кончил, один из
пастухов сказал:
-- Сеньор странствующий рыцарь, чтобы милость ваша могла еще с большим
правом говорить, что мы приняли вас дружески и радушно, мы желали бы
доставить вам удовольствие и забаву -- послушать пение одного из наших
товарищей, который скоро явится сюда. Это очень умный пастух; он сильно
влюблен и, сверх того, умеет читать и писать и так хорошо играет на рабеле
{Рабель -- древний род лютни маврского происхождения. Рабель был в
употреблении у пастухов во времена Сервантеса, -- трехструнный инструмент,
на котором играли небольшим смычком.}, что лучшего нельзя и желать.
Не успел пастух договорить этих слов, как уже раздались звуки рабеля, а
вскоре появился игравший на нем молодой, красивый парень лет около двадцати
двух. Товарищи спросили его, ужинал ли он, и, получив утвердительный ответ,
тот, который хвалил его Дон Кихоту, сказал ему:
Козопасы приняли их радушно, и Санчо, пристроив как мог лучше Росинанта
и своего осла, сам направился туда, куда его привлекал запах, издаваемый
кусками козлиного мяса, варившегося в котле над огнем. И хотя он исследовал
бы охотно тотчас, достаточно ли сварилось мясо, чтобы из котла перейти в его
желудок, но он не мог этого сделать, потому что пастухи сняли котел с огня
и, разложив на земле несколько овчин, спешно накрыли свой деревенский стол,
дружески пригласив Дон Кихота и Санчо разделить с ними скромный ужин.
Шестеро из них -- все бывшие в шалаше -- уселись в кружок на овчинах,
попросив предварительно -- с не очень-то утонченной деревенской учтивостью
-- Дон Кихота сесть на опрокинутую колоду, которую они ему придвинули. Дон
Кихот сел, а Санчо остался стоять подле него, чтобы подавать ему пить из
кубка, сделанного из рога. Увидав, что Санчо стоит, его господин сказал ему:
-- Чтобы ты, Санчо, понял, какое благо заключается в странствующем
рыцарстве и как быстро те, которые в каком бы то ни было звании ему служат,
достигают на свете уважения и почестей, -- я хочу, чтобы ты сел здесь, рядом
со мной, и в обществе этих добрых людей слился бы воедино с твоим господином
и природным повелителем, чтобы ты ел из моей тарелки и пил из кубка, из
которого я пью, -- потому что о странствующем рыцарстве можно сказать то же,
что говорится о любви, а именно что она всех равняет.
-- Премного вам благодарен, -- ответил Санчо, -- но я должен сказать
вашей милости, что я ел бы также хорошо и еще лучше, стоя и наедине, как и
сидя рядом с императором, лишь бы было что есть. И даже, говоря по правде,
куда вкуснее кажется мне то, что я ем в своем углу, без жеманства и
церемоний, хотя бы это были лишь хлеб да лук, а не индейка за чужим столом,
где я вынужден жевать медленно, пить мало, часто вытирать себе рот, где я не
могу ни чихать, ни кашлять, если б мне захотелось, и не могу делать и других
вещей, какие дозволяют свобода и уединение. Так что, сеньор мой, эти
почести, которые ваша милость желает оказать мне, как служителю и члену
странствующего рыцарства, -- каков я есть, будучи оруженосцем вашей милости,
-- обратите лучше во что-нибудь другое, более удобное и выгодное для меня, и
хотя я их уже и считаю полученными, но отказываюсь от них отныне и вовек.
-- Тем не менее ты должен сесть рядом со мной, потому что, кто сам себя
унижает, того Бог возвысит, -- ответил Дон Кихот. И, взяв за руку Санчо, он
принудил его сесть рядом с собой.
Пастухи ничего не поняли из всей этой тарабарщины об оруженосцах и
странствующих рыцарях и только и делали, что ели, молчали и смотрели, как
гости их с большим достоинством и с видимым удовольствием быстро отправляли
себе в рот куски козлиного мяса величиною с кулак. Когда было покончено с
мясным блюдом, пастухи насыпали на бараньи шкуры множество сухих желудей {В
Испании -- в Ламанче и в Эстремадуре -- имеется сорт вкусных и годных для
еды желудей.}, а также положили туда и полкруга сыра, более твердого, чем
если б он был сделан из извести. Между тем не оставался праздным и роговой
кубок, потому что он беспрерывно обходил всех кругом, то полный, то пустой,
как ведро на водокачке, и очень скоро из двух бурдюков принесенных
пастухами, один оказался выпитым. Удовлетворив требованиям своего желудка,
Дон Кихот взял в руку горсть желудей, внимательно поглядел на них и,
возвысив голос, сказал:
-- Счастливо то время, и счастлив тот век, который древние прозвали
золотым, не потому, чтоб золото, столь высоко ценимое в этот наш железный
век, добывалось в тот, счастливый, без всякого труда, а потому, что живущие
тогда не знали двух этих слов: твое и мое. В те святые времена все было
общее. Никому не нужно было -- чтобы добыть себе насущное пропитание --
прибегать к иному труду, как только к труду поднять руку и взять себе пищу с
могучих дубов, которые щедро предлагали сладкие и вкусные свои плоды.
Прозрачные ключи и быстротекущие реки доставляли в великолепном изобилии
чистую, прозрачную воду. В расщелинах скал, в дуплах деревьев заботливые и
умные пчелы, учреждая свои общины, бескорыстно оделяли каждую протянутую
руку богатой жатвой сладчайшего своего труда. Могучие пробковые деревья без
всякого принуждения, по собственному доброму желанию сбрасывали с себя
широкую и легкую кору свою, которою люди начали покрывать дома на грубых
подпорках, возведенные ими единственно лишь для защиты от непогоды. В те
времена всюду царил мир, всюду царили дружба и согласие. Тяжелый сошник
кривого плуга еще не дерзал вскрывать и раздирать сострадательные недра
нашей праматери-земли, потому что она без принуждения на всем пространстве
своего великого и плодородного лона предлагала все, что могло насытить,
поддержать существование и доставить наслаждение детям ее, в ту пору
владевшим ею. Тогда в действительности простодушные и прекрасные пастушки
бродили по долинам и холмам, с непокрытой головой и в косах, не имея на себе
другой одежды, кроме необходимой, чтобы стыдливо прикрыть все, что
стыдливость требует и всегда требовала держать прикрытым; и украшения их
были не те, которые в употреблении теперь и которые пурпур Тира и на столько
ладов терзаемый шелк делает такими дорогими, -- а состояли лишь из листьев
зеленого лопуха, переплетенных с плющом, и, быть может, в них они казались
не менее великолепно одеты и нарядны, чем теперь наши столичные дамы,
щеголяющие в редкостных и чужеземных изобретениях моды, указанных им
праздным тщеславием. Тогда порывы любящего сердца облекались в столь же
простые и искренние выражения, какими были чувства, породившие их, и не
искали искусственных оборотов речи, чтобы придать им больше ценности. Не
было лжи, -- злоба и обман не смешивались еще с правдой и искренностью.
Правосудие не выходило из своих пределов, и его еще не дерзали смущать и
оскорблять корыстолюбие и лицеприятие, которые теперь так унижают, смущают и
преследуют его. Закон произвола еще не сделался достоянием судей, потому что
и судить тогда было некого и не за что. Девушки и целомудрие, как я уже
говорил, являлись, где хотели, одни-одинешеньки, не опасаясь, чтобы чужая
распущенность и похотливость унизили их, -- и если они и гибли, то лишь
только по доброй воле и по собственному желанию. А теперь, в отвратительные
наши времена, ни одна девушка не находится в безопасности, хотя бы ее
скрывал и окружал новый лабиринт, подобный Критскому, так как и туда, через
щели или с воздухом, благодаря рьяности проклятого ухаживания проникла бы
любовная зараза и привела бы к крушению всю ее скромность. И вот для защиты
добродетели, так как время шло и зло возрастало, был учрежден рыцарский
орден, чтобы охранять девушек, защищать вдов и помогать сиротам и
нуждающимся. К этому ордену принадлежу и я, братья пастухи, которых
благодарю за угощенье и радушный прием, оказанный мне и моему оруженосцу. И
хотя по закону природы все живущие в мире обязаны благоприятствовать
странствующим рыцарям, тем не менее, так как я знаю, что вы, находясь в
неведении относительно этой вашей обязанности, все же приняли и угостили
меня, справедливо, чтобы и я поблагодарил вас от всего сердца за выказанное
мне вами доброе расположение.
Вся эта длинная речь (без которой можно было бы отлично обойтись) была
сказана нашим рыцарем потому, что предложенные желуди напомнили ему золотой
век и он вздумал обратиться с ненужными этими рассуждениями к пастухам, а
те, не отвечая ни слова, слушали его, изумленные и недоумевающие. Даже и
Санчо молчал, ел желуди и частенько прикладывался ко второму бурдюку,
который пастухи -- чтобы вино охладилось -- держали подвешенным к пробковому
дереву.
Речь Дон Кихота длилась дольше, чем ужин. Когда он кончил, один из
пастухов сказал:
-- Сеньор странствующий рыцарь, чтобы милость ваша могла еще с большим
правом говорить, что мы приняли вас дружески и радушно, мы желали бы
доставить вам удовольствие и забаву -- послушать пение одного из наших
товарищей, который скоро явится сюда. Это очень умный пастух; он сильно
влюблен и, сверх того, умеет читать и писать и так хорошо играет на рабеле
{Рабель -- древний род лютни маврского происхождения. Рабель был в
употреблении у пастухов во времена Сервантеса, -- трехструнный инструмент,
на котором играли небольшим смычком.}, что лучшего нельзя и желать.
Не успел пастух договорить этих слов, как уже раздались звуки рабеля, а
вскоре появился игравший на нем молодой, красивый парень лет около двадцати
двух. Товарищи спросили его, ужинал ли он, и, получив утвердительный ответ,
тот, который хвалил его Дон Кихоту, сказал ему:
 -- В таком случае сделай нам удовольствие, Антонио, и спой что-нибудь,
чтобы этот сеньор -- гость наш -- видел, что и в горах, и в лесах есть люди,
знающие музыку. Мы ему хвалили твои способности и желали бы, чтобы ты их
выказал теперь и доказал этим, что мы говорили правду. Итак, прошу тебя
твоей жизнью, садись и спой нам романс о твоей любви, сочиненный для тебя
твоим дядей-церковником, -- романс, который так понравился у нас в селе.
-- С удовольствием спою, -- ответил юноша и, не заставляя себя просить,
сел на пень срубленного дуба, настроил рабель и спел очень приятным голосом
следующий романс:
АНТОНИО
Знаю я, Олалья, -- любишь
Ты меня, хоть не оказала
Мне о том ты даже взглядом,--
Языком немым любви.
Что и я люблю, наверно
Поняла ты, -- и навряд ли
Безответным будет чувство,
Раз оно известным стало.
Ты подчас старалась, правда,
Показать мне, будто сердце
У тебя в груди из стали,
А душа твоя -- скала.
Но сквозь робкие укоры,
Сквозь смущенные отказы,
Иногда надежды светлой
Край покрова видел я.
И доверчиво стремился
Ей навстречу всей душою,
Рад был сладостной приманке,
Беспредельно верил ей...
Если ж знак любви -- учтивость,--
Из твоей я заключаю,
Что уж близится развязка,
О которой я мечтаю.
Если нежные услуги
Иногда смягчают сердце,
Может быть, и мне уж скоро
Овладеть твоим удастся.
Ты не раз могла заметить,
Что в одежде я воскресной
В понедельник пред тобою
Из любви к тебе являлся.
Ведь любовь и страсть к нарядам
По одной идут дороге,--
Оттого всегда желал я
Быть в твоих глазах пригожим.
Для тебя я бросил танцы,
Пел тебе я серенады
Поздней ночью, ранним утром,
Лишь проснутся петухи.
Умолчу, какой хвалою
Осыпал тебя я всюду.
И был прав. Но зло косились
На меня твои подруги.
Раз тобой я восхищался,
А Тереса мне сказала:
"Мнит иной, пред ним богиня,
Но влюблен он в обезьяну.
Мишуры не замечая,
Накладных волос не видя,
Обольщен красой притворной,
Он введен кругом в обман".
"Это ложь!" -- я крикнул гневно.
За сестру тогда вступился
Брат ее, -- меня он вызвал;
Чем все кончилось, ты знаешь.
Не ищу я легкой связи,
Не хочу тебя прельстить я,
Не люблю я для забавы:
Цель моя честней и выше.
Церковь узы налагает,--
Сплетены они из шелка;
В то ярмо ты вдень лишь шею,
Вмиг мою увидишь рядом.
А не хочешь, так клянуся
Величайшей в мире клятвой:
Я покину эти горы.
Чтоб идти лишь в капуцины.
На этом пастух кончил свое пение, и хотя Дон Кихот просил спеть еще
что-нибудь, но Санчо Панса не согласился, потому что ему больше хотелось
спать, чем слушать песни. Итак, он сказал своему господину:
-- Вашей милости следовало бы теперь немедленно устроиться на ночь,
потому что труд, которым добрые эти люди заняты целый день-деньской, не
позволяет им проводить ночи, распевая песни.
-- Понимаю тебя, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- ясно, что посещения
бурдюка располагают скорее ко сну, чем к музыке.
-- Всем нам пришлось по вкусу вино, благодарение богу, -- ответил
Санчо.
-- Не отрицаю этого, -- возразил Дон Кихот, ступай устраивайся на ночь,
где хочешь; людям же моей профессии приличнее бодрствовать, чем спать. А все
же, Санчо, было бы недурно, если бы ты еще раз перевязал мне ухо, которое
болит больше, чем бы следовало.
Санчо сделал то, что ему было приказано, а один из пастухов, увидав
рану, просил не трудиться перевязывать ее, так как он сейчас положит на рану
лекарство, от которого она быстро заживет, и, оторвав несколько листьев
розмарина, растущего там в изобилии, он их разжевал, прибавил немного соли
и, приложив все это к уху Дон Кихота, крепко перевязал, уверяя, что другого
лекарства не понадобится, -- так оно и оказалось на самом деле.
-- В таком случае сделай нам удовольствие, Антонио, и спой что-нибудь,
чтобы этот сеньор -- гость наш -- видел, что и в горах, и в лесах есть люди,
знающие музыку. Мы ему хвалили твои способности и желали бы, чтобы ты их
выказал теперь и доказал этим, что мы говорили правду. Итак, прошу тебя
твоей жизнью, садись и спой нам романс о твоей любви, сочиненный для тебя
твоим дядей-церковником, -- романс, который так понравился у нас в селе.
-- С удовольствием спою, -- ответил юноша и, не заставляя себя просить,
сел на пень срубленного дуба, настроил рабель и спел очень приятным голосом
следующий романс:
АНТОНИО
Знаю я, Олалья, -- любишь
Ты меня, хоть не оказала
Мне о том ты даже взглядом,--
Языком немым любви.
Что и я люблю, наверно
Поняла ты, -- и навряд ли
Безответным будет чувство,
Раз оно известным стало.
Ты подчас старалась, правда,
Показать мне, будто сердце
У тебя в груди из стали,
А душа твоя -- скала.
Но сквозь робкие укоры,
Сквозь смущенные отказы,
Иногда надежды светлой
Край покрова видел я.
И доверчиво стремился
Ей навстречу всей душою,
Рад был сладостной приманке,
Беспредельно верил ей...
Если ж знак любви -- учтивость,--
Из твоей я заключаю,
Что уж близится развязка,
О которой я мечтаю.
Если нежные услуги
Иногда смягчают сердце,
Может быть, и мне уж скоро
Овладеть твоим удастся.
Ты не раз могла заметить,
Что в одежде я воскресной
В понедельник пред тобою
Из любви к тебе являлся.
Ведь любовь и страсть к нарядам
По одной идут дороге,--
Оттого всегда желал я
Быть в твоих глазах пригожим.
Для тебя я бросил танцы,
Пел тебе я серенады
Поздней ночью, ранним утром,
Лишь проснутся петухи.
Умолчу, какой хвалою
Осыпал тебя я всюду.
И был прав. Но зло косились
На меня твои подруги.
Раз тобой я восхищался,
А Тереса мне сказала:
"Мнит иной, пред ним богиня,
Но влюблен он в обезьяну.
Мишуры не замечая,
Накладных волос не видя,
Обольщен красой притворной,
Он введен кругом в обман".
"Это ложь!" -- я крикнул гневно.
За сестру тогда вступился
Брат ее, -- меня он вызвал;
Чем все кончилось, ты знаешь.
Не ищу я легкой связи,
Не хочу тебя прельстить я,
Не люблю я для забавы:
Цель моя честней и выше.
Церковь узы налагает,--
Сплетены они из шелка;
В то ярмо ты вдень лишь шею,
Вмиг мою увидишь рядом.
А не хочешь, так клянуся
Величайшей в мире клятвой:
Я покину эти горы.
Чтоб идти лишь в капуцины.
На этом пастух кончил свое пение, и хотя Дон Кихот просил спеть еще
что-нибудь, но Санчо Панса не согласился, потому что ему больше хотелось
спать, чем слушать песни. Итак, он сказал своему господину:
-- Вашей милости следовало бы теперь немедленно устроиться на ночь,
потому что труд, которым добрые эти люди заняты целый день-деньской, не
позволяет им проводить ночи, распевая песни.
-- Понимаю тебя, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- ясно, что посещения
бурдюка располагают скорее ко сну, чем к музыке.
-- Всем нам пришлось по вкусу вино, благодарение богу, -- ответил
Санчо.
-- Не отрицаю этого, -- возразил Дон Кихот, ступай устраивайся на ночь,
где хочешь; людям же моей профессии приличнее бодрствовать, чем спать. А все
же, Санчо, было бы недурно, если бы ты еще раз перевязал мне ухо, которое
болит больше, чем бы следовало.
Санчо сделал то, что ему было приказано, а один из пастухов, увидав
рану, просил не трудиться перевязывать ее, так как он сейчас положит на рану
лекарство, от которого она быстро заживет, и, оторвав несколько листьев
розмарина, растущего там в изобилии, он их разжевал, прибавил немного соли
и, приложив все это к уху Дон Кихота, крепко перевязал, уверяя, что другого
лекарства не понадобится, -- так оно и оказалось на самом деле.

Глава XII О том, что рассказал козопас своим товарищам, бывшим с Дон Кихотом
 В это время пришел еще один молодой парень из тех, которые носили
пастухам съестные припасы из деревни, и сказал:
-- Знаете ли вы, товарищи, что делается на селе?
-- Откуда могли бы мы это знать? -- отозвался один из пастухов.
-- Так слушайте же, -- продолжал парень, -- сегодня утром умер
известный пастух-студент, по имени Грисостомо, и говорят, что он умер от
любви к этой чертовской девушке Марселе, дочери Гильермо богатого, -- той,
которая, переодетая пастушкой, бродит по здешним пустынным местам.
-- Из любви к Марселе? -- переспросил кто-то.
-- Из любви к ней, -- ответил пастух. Но лучше всего то, что в своем
завещании он распорядился, чтобы его, как мавра, похоронили в поле, у
подножия скалы, где источник Пробкового дерева, потому что -- по слухам
(говорят, будто он сам это рассказывал), -- здесь именно он впервые увидел
Марселу. Завещал он также и кой-что другое, -- то, что, по словам местных
церковников, нельзя привести в исполнение, и нехорошо было бы, если бы это
сделали, потому что все это смахивает на язычество. Но большой друг
Грисостомо, студент Амбросио, который вместе с ним переодевался пастухом,
требует, чтобы в точности было исполнено, что завещал Грисостомо, -- из-за
этого-то и всполошилось все село. Однако, говорят, в конце концов сделают
именно так, как желают Амбросио и пастухи, его друзья, и завтра с большой
торжественностью похоронят Грисостомо там, где я говорил. Мне кажется, что
это будет очень интересное зрелище; по крайней мере, я непременно пошел бы
посмотреть, если бы знал, что мне не нужно будет завтра возвращаться в село.
-- Мы все хотим пойти на похороны Грисостомо, -- сказали пастухи, -- и
бросим жребий, кому из нас оставаться здесь пасти коз.
-- Ты правильно решил, Педро,-- отозвался один из пастухов, -- хотя нет
нужды бросать жребий, так как я останусь здесь за всех вас. Но не
приписывайте этого моему великодушию или отсутствию у меня любопытства, --
остаюсь я только потому, что заноза, попавшая на днях в ногу, мешает мне
пойти с вами. Тем не менее мы очень тебе благодарны, Педро.
Дон Кихот попросил Педро рассказать ему, кто такой был этот покойник и
та пастушка. На это Педро ответил, что, насколько ему известно, покойник был
богатый идальго и жил в местечке в этих горах. Много лет пробыл он в
Саламанском университете, после чего вернулся на родину, где слыл за очень
начитанного и ученого человека. Особенно хорошо знал он, как говорят, науку
звезд и то, что происходит на небе с Солнцем и Луной, потому что он всегда
точно предсказывал нам темноту Солнца и Луны.
-- Не темнотой, а затмением называют, друг мой, явление, когда
омрачаются эти два большие светила, -- сказал Дон Кихот, но Педро, не
обращая внимания на такие пустяки, продолжал:
-- Он умел также предсказывать, будет ли год плодородный или
нерожайный.
-- Неурожайный, хотите вы сказать, -- поправил его снова Дон Кихот.
-- Нерожайный или неурожайный -- одно и то же, -- заявил Педро. --
Итак, я говорю, что отец и друзья его, верившие ему, разбогатели, потому что
делали всегда то, что он им советовал, говоря: "Сейте в этом году ячмень, а
не пшеницу; а в этом году можете сеять горох, но не ячмень. В наступающем
году будет обильный сбор оливок; в следующие затем три года -- полный их
неурожай".
-- Эту науку, -- сказал Дон Кихот,-- называют астрологией {Предсказание
о жатвах входило в те времена в обязанность астрологов.}.
-- Не знаю, как ее называют, -- возразил Педро, -- но знаю, что он все
это понимал и даже более того. Словом, не прошло и нескольких месяцев после
возвращения его из Саламанки, как однажды он явился одетый пастухом, с
посохом и в овчине, сняв с себя свое длинное студенческое облаченье. Вместе
с ним оделся пастухом и его лучший друг, по имени Амбросио, товарищ его по
университету. Я забыл сказать, что покойный Грисостомо был великий мастер
сочинять стихи, и такой мастер, что он сочинял вилланчикосы {Villancicos
(исп.) -- церковная песнь в честь Пресвятой Девы; поется она главным образом
в ночь на Рождество Христово.} на Сочельник Рождества Христова и аутосы
{Autos sacramentales -- маленькие пьесы и драмы духовного содержания.} на
праздник Тела Господня, которые разыгрывались парнями нашего села, и все
находили их превосходными. Когда деревенские жители увидели двух студентов,
столь внезапно превратившихся в пастухов, они были поражены и не могли
понять причины такого странного превращения. В то время отец нашего
Грисостомо уже умер и оставил ему большое состояние, движимое и недвижимое,
великое множество крупного и мелкого скота и значительное количество денег.
Над всем этим юноша оказался неограниченным хозяином, и, говоря по правде,
он заслуживал свое богатство, потому что был прекрасным товарищем, человеком
сострадательным и другом всех добрых людей, -- а лицом он был красив, как
ангел. Впоследствии стало известным, что он переоделся пастухом единственно
только из-за того, чтобы иметь возможность встречаться в этих пустынных
местах с пастушкой Марселой, той самой, о которой только что упоминал наш
товарищ и в которую влюбился бедный покойный Грисостомо. А теперь сообщу вам
-- потому что вам это надо знать, -- кто такая эта девушка. Быть может, и
даже наверное, вы во всю свою жизнь не слышали и не услышите никогда ничего
подобного, хотя бы и прожили дольше, чем Сарна {Сарна (sarna) -- в переводе
с испанского "чесотка". Сарра, как известно, жена Авраама.}.
-- Говорите Сарра, -- возразил Дон Кихот, который не мог стерпеть
искажения слов, делаемого пастухом.
-- И сарна живет достаточно долго, -- ответил Педро. -- Если же вы,
сеньор, будете каждую минуту исправлять мои слова, мы не кончим и через год.
-- Простите, друг, -- сказал Дон Кихот, -- перебил я вас потому только,
что столь большая разница в значении слов сарна и Сарра. Но вы ответили как
нельзя лучше, потому что сарна живет дольше Сарры. Продолжайте ваш рассказ,
я не буду больше прерывать вас.
-- Итак, я говорю, сеньор души моей, -- продолжал пастух, -- что у нас
в деревне жил крестьянин, еще более богатый, чем Грисостомо, по имени
Гильермо, которому Бог, сверх многих и великих богатств, дал дочь; родив
девочку, мать умерла, а была она самой уважаемой женщиной во всем околотке.
Как сейчас вижу я ее перед собой, с лицом, которое, казалось, светилось с
одной стороны, что солнце, а с другой, что луна, -- и, главное, она была
очень дельная хозяйка и сострадательная к бедным, за что -- я уверен -- душа
ее в настоящее время наслаждается на том свете лицезрением Бога. С горя о
потери столь доброй жены умер и муж ее, Гильермо, оставив дочь свою Марселу,
богатую малютку, под опекой дяди, священника нашего села. Девочка росла
такой красавицей, что напоминала собою мать, обладавшую необычайной
красотой, и тем не менее мы считали, что дочь превзойдет ее в этом
отношении. Оно так и случилось, потому что, когда она достигла возраста
между четырнадцатью и пятнадцатью годами, всякий, кто ее видел, хвалил Бога
за то, что Он создал ее такой прекрасной, а большинство мужчин влюблялось в
нее и сходили с ума от нее. Дядя всячески заботился о ней и держал ее в
полном уединении. Но тем не менее слава о необычайной красоте Марселы
распространилась так, что вследствие этого, а также и большого ее богатства,
не только из нашего местечка, но даже из дальней округи самые завидные
женихи просили, умоляли и надоедали ее дяде, чтобы он отдал ее им в жены. Но
он -- будучи на самом деле добрым христианином -- хотя и желал выдать ее
замуж тотчас же, когда ей вышли года, не хотел, однако, делать этого без ее
согласия, причем он вовсе не принимал в расчет выгоду и пользу, которую
могла бы доставить ему опека над ее имуществом, если б он подольше
откладывал замужество ее. И, по правде говоря, часто шел об этом разговор на
вечеринках в селе в похвалу доброму священнику. Мне хотелось бы, чтобы вы
знали, сеньор проезжий, что в таких маленьких местечках во все вмешиваются и
обо всем тараторят, и будьте уверены, как и я в том уверен, что духовное
лицо, о котором прихожане его -- в особенности в деревнях -- отзываются с
похвалой, в действительности должно быть необычайно хорошим.
-- Это правда, -- сказал Дон Кихот,-- но продолжайте ваш рассказ,
добрый Педро, так как он очень интересен и вы передаете его очень мило.
-- Лишь бы милость Божья была на мне, вот что главное. Итак, вы должны
знать, что, хотя дядя и сообщал племяннице о всех женихах, которые к ней
сватались, и описывал ей качества каждого из них, уговаривая ее выходить
замуж и выбрать того, кто ей понравится, но в ответ она ему всякий раз
говорила одно и то же: пока еще она не желает выходить замуж, будучи для
этого слишком молодой и не чувствуя себя способной нести бремя замужества.
На основании этих -- как они ему казались -- довольно веских причин отказа
дядя перестал уговаривать ее в надежде, что став несколько старше, она
сумеет выбрать себе товарища на всю жизнь по собственному желанию. Потому
что, говорил он -- и говорил справедливо, -- родители не должны устраивать
брака детей своих против их воли. И вот однажды, когда никто этого не
ожидал, коварная Марсела вдруг явилась одетой пастушкой, и против желания
дяди и всех тех в селе, которые отсоветовали ей это, она отправилась в поле
с другими деревенскими пастушками и стала пасти свое собственное стадо. Как
только она явилась всенародно и красота ее оказалась у всех на виду, не
сумею хорошенько сказать вам, сколько богатых юношей -- дворян и крестьян,
-- подобно Грисостомо, оделись пастухами и стали ухаживать за ней, скитаясь
по этим полям. В числе их, как я уже говорил, был и покойный Грисостомо,
который не то что любил, а просто боготворил ее. Только не думайте, чтобы
Марсела, избрав себе такой свободный и независимый образ жизни, давала бы
повод или хотя бы тень повода для сомнения в ее чистоте и добродетели.
Напротив, она так рьяно и неусыпно следит за своею честью, что из всех,
которые ухаживают за ней и стараются ей понравиться, ни один не хвалился, да
и не мог бы -- придерживаясь истины -- хвалиться тем, будто она подала ему
малейшую надежду добиться цели своих желаний. Хотя она и не сторонится
пастухов, не избегает их общества и разговоров, а, напротив того, обращается
со всеми приветливо и дружески, но лишь только кто-нибудь вздумает открыть
ей свои намерения, -- пусть бы они были столь справедливы и святы, как
желание брака, -- она их отвергает и тотчас отбрасывает от себя словно
метательным снарядом. Этим своим нравом и образом жизни она причиняет больше
вреда в нашей местности, чем если бы здесь появилась чума; потому что
приветливость и красота ее привлекают к ней сердца всех, кто ее видит, и
заставляют служить ей и любить ее. Но пренебрежительность, равнодушие ее и
недоступность приводят их в отчаяние. Итак, они не знают, что ей сказать; но
громогласно называют ее жестокой, неблагодарной и другими подобными именами,
которые ясно обнаруживают ее душевный склад. И если б вы остались здесь
некоторое время, вы бы услышали, сеньор, как в этих горах и долинах
раздаются жалобы отвергнутых ею и всюду следующих за нею поклонников ее.
Недалеко отсюда есть местечко, где растут дюжины две высоких буковых
деревьев, и нет ни одного из них, на гладкой коре которого не было бы
написано и вырезано имя Марселы, а кой-где над ее именем вырезана еще и
корона, точно влюбленный в нее хотел этим ясно сказать, что Марсела носит и
заслуживает носить корону всякой человеческой красоты. Здесь вздыхает
пастух, там жалуется другой; тут раздаются песни любви, там слышатся песни
отчаяния. Иной проводит всю ночь, сидя под дубом или у подножия скалы, и его
-- не сомкнувшего заплаканных глаз, углубленного в мечты и восхищенного ими
-- так и застает здесь утреннее солнце; а другой в самый невыносимый зной,
под палящими полуденными лучами, лежа на раскаленном песке, воссылает, не
прерывая вздохов, жалобы свои к сострадательному небу. И над этим, и тем, и
над одним, и над другим свободно и беззаботно торжествует красавица Марсела.
Все мы, знающие ее, ждем, где окажется предел ее гордости и кто будет тот
счастливец, которому удастся смягчить такое жестокое сердце и насладиться
столь необычайной красотой. Так как все, что я вам рассказал, -- несомненная
истина, то я убежден, что и сообщение нашего пастуха о причине смерти
Грисостомо, -- такая же истина. Поэтому советую вам, сеньор, непременно
отправиться завтра утром на похороны Грисостомо. Там будет на что
посмотреть, потому что у Грисостомо немало друзей. А отсюда до места, где он
велел похоронить себя, недалеко,-- всего полмили.
-- Непременно воспользуюсь этим случаем, -- сказал Дон Кихот, -- и
очень благодарю вас за удовольствие, доставленное мне столь занимательной
историей.
-- О, -- ответил пастух, -- я не знаю и половины приключений,
случившихся с поклонниками Марселы. Но, может быть, завтра по дороге мы
встретимся с каким-нибудь пастухом, который нам сообщит их, а теперь было бы
хорошо, если бы вы пошли спать под кровлю, потому что ночная сырость может
повредить вашей ране, хотя лекарство, положенное на нее, такого рода, что
нельзя опасаться ничего дурного.
Санчо Панса, который посылал уже к черту многословие пастуха, со своей
стороны, тоже стал уговаривать своего господина, чтобы он лег спать в шалаше
Педро. Дон Кихот так и сделал, но большую часть ночи провел -- подражая
обожателям Марселы -- в воспоминаниях о своей сеньоре Дульсинее. Санчо Панса
устроил себе ночлег между Росинантом и своим ослом и спал не как отверженный
влюбленный, а как человек, немилосердно избитый.
В это время пришел еще один молодой парень из тех, которые носили
пастухам съестные припасы из деревни, и сказал:
-- Знаете ли вы, товарищи, что делается на селе?
-- Откуда могли бы мы это знать? -- отозвался один из пастухов.
-- Так слушайте же, -- продолжал парень, -- сегодня утром умер
известный пастух-студент, по имени Грисостомо, и говорят, что он умер от
любви к этой чертовской девушке Марселе, дочери Гильермо богатого, -- той,
которая, переодетая пастушкой, бродит по здешним пустынным местам.
-- Из любви к Марселе? -- переспросил кто-то.
-- Из любви к ней, -- ответил пастух. Но лучше всего то, что в своем
завещании он распорядился, чтобы его, как мавра, похоронили в поле, у
подножия скалы, где источник Пробкового дерева, потому что -- по слухам
(говорят, будто он сам это рассказывал), -- здесь именно он впервые увидел
Марселу. Завещал он также и кой-что другое, -- то, что, по словам местных
церковников, нельзя привести в исполнение, и нехорошо было бы, если бы это
сделали, потому что все это смахивает на язычество. Но большой друг
Грисостомо, студент Амбросио, который вместе с ним переодевался пастухом,
требует, чтобы в точности было исполнено, что завещал Грисостомо, -- из-за
этого-то и всполошилось все село. Однако, говорят, в конце концов сделают
именно так, как желают Амбросио и пастухи, его друзья, и завтра с большой
торжественностью похоронят Грисостомо там, где я говорил. Мне кажется, что
это будет очень интересное зрелище; по крайней мере, я непременно пошел бы
посмотреть, если бы знал, что мне не нужно будет завтра возвращаться в село.
-- Мы все хотим пойти на похороны Грисостомо, -- сказали пастухи, -- и
бросим жребий, кому из нас оставаться здесь пасти коз.
-- Ты правильно решил, Педро,-- отозвался один из пастухов, -- хотя нет
нужды бросать жребий, так как я останусь здесь за всех вас. Но не
приписывайте этого моему великодушию или отсутствию у меня любопытства, --
остаюсь я только потому, что заноза, попавшая на днях в ногу, мешает мне
пойти с вами. Тем не менее мы очень тебе благодарны, Педро.
Дон Кихот попросил Педро рассказать ему, кто такой был этот покойник и
та пастушка. На это Педро ответил, что, насколько ему известно, покойник был
богатый идальго и жил в местечке в этих горах. Много лет пробыл он в
Саламанском университете, после чего вернулся на родину, где слыл за очень
начитанного и ученого человека. Особенно хорошо знал он, как говорят, науку
звезд и то, что происходит на небе с Солнцем и Луной, потому что он всегда
точно предсказывал нам темноту Солнца и Луны.
-- Не темнотой, а затмением называют, друг мой, явление, когда
омрачаются эти два большие светила, -- сказал Дон Кихот, но Педро, не
обращая внимания на такие пустяки, продолжал:
-- Он умел также предсказывать, будет ли год плодородный или
нерожайный.
-- Неурожайный, хотите вы сказать, -- поправил его снова Дон Кихот.
-- Нерожайный или неурожайный -- одно и то же, -- заявил Педро. --
Итак, я говорю, что отец и друзья его, верившие ему, разбогатели, потому что
делали всегда то, что он им советовал, говоря: "Сейте в этом году ячмень, а
не пшеницу; а в этом году можете сеять горох, но не ячмень. В наступающем
году будет обильный сбор оливок; в следующие затем три года -- полный их
неурожай".
-- Эту науку, -- сказал Дон Кихот,-- называют астрологией {Предсказание
о жатвах входило в те времена в обязанность астрологов.}.
-- Не знаю, как ее называют, -- возразил Педро, -- но знаю, что он все
это понимал и даже более того. Словом, не прошло и нескольких месяцев после
возвращения его из Саламанки, как однажды он явился одетый пастухом, с
посохом и в овчине, сняв с себя свое длинное студенческое облаченье. Вместе
с ним оделся пастухом и его лучший друг, по имени Амбросио, товарищ его по
университету. Я забыл сказать, что покойный Грисостомо был великий мастер
сочинять стихи, и такой мастер, что он сочинял вилланчикосы {Villancicos
(исп.) -- церковная песнь в честь Пресвятой Девы; поется она главным образом
в ночь на Рождество Христово.} на Сочельник Рождества Христова и аутосы
{Autos sacramentales -- маленькие пьесы и драмы духовного содержания.} на
праздник Тела Господня, которые разыгрывались парнями нашего села, и все
находили их превосходными. Когда деревенские жители увидели двух студентов,
столь внезапно превратившихся в пастухов, они были поражены и не могли
понять причины такого странного превращения. В то время отец нашего
Грисостомо уже умер и оставил ему большое состояние, движимое и недвижимое,
великое множество крупного и мелкого скота и значительное количество денег.
Над всем этим юноша оказался неограниченным хозяином, и, говоря по правде,
он заслуживал свое богатство, потому что был прекрасным товарищем, человеком
сострадательным и другом всех добрых людей, -- а лицом он был красив, как
ангел. Впоследствии стало известным, что он переоделся пастухом единственно
только из-за того, чтобы иметь возможность встречаться в этих пустынных
местах с пастушкой Марселой, той самой, о которой только что упоминал наш
товарищ и в которую влюбился бедный покойный Грисостомо. А теперь сообщу вам
-- потому что вам это надо знать, -- кто такая эта девушка. Быть может, и
даже наверное, вы во всю свою жизнь не слышали и не услышите никогда ничего
подобного, хотя бы и прожили дольше, чем Сарна {Сарна (sarna) -- в переводе
с испанского "чесотка". Сарра, как известно, жена Авраама.}.
-- Говорите Сарра, -- возразил Дон Кихот, который не мог стерпеть
искажения слов, делаемого пастухом.
-- И сарна живет достаточно долго, -- ответил Педро. -- Если же вы,
сеньор, будете каждую минуту исправлять мои слова, мы не кончим и через год.
-- Простите, друг, -- сказал Дон Кихот, -- перебил я вас потому только,
что столь большая разница в значении слов сарна и Сарра. Но вы ответили как
нельзя лучше, потому что сарна живет дольше Сарры. Продолжайте ваш рассказ,
я не буду больше прерывать вас.
-- Итак, я говорю, сеньор души моей, -- продолжал пастух, -- что у нас
в деревне жил крестьянин, еще более богатый, чем Грисостомо, по имени
Гильермо, которому Бог, сверх многих и великих богатств, дал дочь; родив
девочку, мать умерла, а была она самой уважаемой женщиной во всем околотке.
Как сейчас вижу я ее перед собой, с лицом, которое, казалось, светилось с
одной стороны, что солнце, а с другой, что луна, -- и, главное, она была
очень дельная хозяйка и сострадательная к бедным, за что -- я уверен -- душа
ее в настоящее время наслаждается на том свете лицезрением Бога. С горя о
потери столь доброй жены умер и муж ее, Гильермо, оставив дочь свою Марселу,
богатую малютку, под опекой дяди, священника нашего села. Девочка росла
такой красавицей, что напоминала собою мать, обладавшую необычайной
красотой, и тем не менее мы считали, что дочь превзойдет ее в этом
отношении. Оно так и случилось, потому что, когда она достигла возраста
между четырнадцатью и пятнадцатью годами, всякий, кто ее видел, хвалил Бога
за то, что Он создал ее такой прекрасной, а большинство мужчин влюблялось в
нее и сходили с ума от нее. Дядя всячески заботился о ней и держал ее в
полном уединении. Но тем не менее слава о необычайной красоте Марселы
распространилась так, что вследствие этого, а также и большого ее богатства,
не только из нашего местечка, но даже из дальней округи самые завидные
женихи просили, умоляли и надоедали ее дяде, чтобы он отдал ее им в жены. Но
он -- будучи на самом деле добрым христианином -- хотя и желал выдать ее
замуж тотчас же, когда ей вышли года, не хотел, однако, делать этого без ее
согласия, причем он вовсе не принимал в расчет выгоду и пользу, которую
могла бы доставить ему опека над ее имуществом, если б он подольше
откладывал замужество ее. И, по правде говоря, часто шел об этом разговор на
вечеринках в селе в похвалу доброму священнику. Мне хотелось бы, чтобы вы
знали, сеньор проезжий, что в таких маленьких местечках во все вмешиваются и
обо всем тараторят, и будьте уверены, как и я в том уверен, что духовное
лицо, о котором прихожане его -- в особенности в деревнях -- отзываются с
похвалой, в действительности должно быть необычайно хорошим.
-- Это правда, -- сказал Дон Кихот,-- но продолжайте ваш рассказ,
добрый Педро, так как он очень интересен и вы передаете его очень мило.
-- Лишь бы милость Божья была на мне, вот что главное. Итак, вы должны
знать, что, хотя дядя и сообщал племяннице о всех женихах, которые к ней
сватались, и описывал ей качества каждого из них, уговаривая ее выходить
замуж и выбрать того, кто ей понравится, но в ответ она ему всякий раз
говорила одно и то же: пока еще она не желает выходить замуж, будучи для
этого слишком молодой и не чувствуя себя способной нести бремя замужества.
На основании этих -- как они ему казались -- довольно веских причин отказа
дядя перестал уговаривать ее в надежде, что став несколько старше, она
сумеет выбрать себе товарища на всю жизнь по собственному желанию. Потому
что, говорил он -- и говорил справедливо, -- родители не должны устраивать
брака детей своих против их воли. И вот однажды, когда никто этого не
ожидал, коварная Марсела вдруг явилась одетой пастушкой, и против желания
дяди и всех тех в селе, которые отсоветовали ей это, она отправилась в поле
с другими деревенскими пастушками и стала пасти свое собственное стадо. Как
только она явилась всенародно и красота ее оказалась у всех на виду, не
сумею хорошенько сказать вам, сколько богатых юношей -- дворян и крестьян,
-- подобно Грисостомо, оделись пастухами и стали ухаживать за ней, скитаясь
по этим полям. В числе их, как я уже говорил, был и покойный Грисостомо,
который не то что любил, а просто боготворил ее. Только не думайте, чтобы
Марсела, избрав себе такой свободный и независимый образ жизни, давала бы
повод или хотя бы тень повода для сомнения в ее чистоте и добродетели.
Напротив, она так рьяно и неусыпно следит за своею честью, что из всех,
которые ухаживают за ней и стараются ей понравиться, ни один не хвалился, да
и не мог бы -- придерживаясь истины -- хвалиться тем, будто она подала ему
малейшую надежду добиться цели своих желаний. Хотя она и не сторонится
пастухов, не избегает их общества и разговоров, а, напротив того, обращается
со всеми приветливо и дружески, но лишь только кто-нибудь вздумает открыть
ей свои намерения, -- пусть бы они были столь справедливы и святы, как
желание брака, -- она их отвергает и тотчас отбрасывает от себя словно
метательным снарядом. Этим своим нравом и образом жизни она причиняет больше
вреда в нашей местности, чем если бы здесь появилась чума; потому что
приветливость и красота ее привлекают к ней сердца всех, кто ее видит, и
заставляют служить ей и любить ее. Но пренебрежительность, равнодушие ее и
недоступность приводят их в отчаяние. Итак, они не знают, что ей сказать; но
громогласно называют ее жестокой, неблагодарной и другими подобными именами,
которые ясно обнаруживают ее душевный склад. И если б вы остались здесь
некоторое время, вы бы услышали, сеньор, как в этих горах и долинах
раздаются жалобы отвергнутых ею и всюду следующих за нею поклонников ее.
Недалеко отсюда есть местечко, где растут дюжины две высоких буковых
деревьев, и нет ни одного из них, на гладкой коре которого не было бы
написано и вырезано имя Марселы, а кой-где над ее именем вырезана еще и
корона, точно влюбленный в нее хотел этим ясно сказать, что Марсела носит и
заслуживает носить корону всякой человеческой красоты. Здесь вздыхает
пастух, там жалуется другой; тут раздаются песни любви, там слышатся песни
отчаяния. Иной проводит всю ночь, сидя под дубом или у подножия скалы, и его
-- не сомкнувшего заплаканных глаз, углубленного в мечты и восхищенного ими
-- так и застает здесь утреннее солнце; а другой в самый невыносимый зной,
под палящими полуденными лучами, лежа на раскаленном песке, воссылает, не
прерывая вздохов, жалобы свои к сострадательному небу. И над этим, и тем, и
над одним, и над другим свободно и беззаботно торжествует красавица Марсела.
Все мы, знающие ее, ждем, где окажется предел ее гордости и кто будет тот
счастливец, которому удастся смягчить такое жестокое сердце и насладиться
столь необычайной красотой. Так как все, что я вам рассказал, -- несомненная
истина, то я убежден, что и сообщение нашего пастуха о причине смерти
Грисостомо, -- такая же истина. Поэтому советую вам, сеньор, непременно
отправиться завтра утром на похороны Грисостомо. Там будет на что
посмотреть, потому что у Грисостомо немало друзей. А отсюда до места, где он
велел похоронить себя, недалеко,-- всего полмили.
-- Непременно воспользуюсь этим случаем, -- сказал Дон Кихот, -- и
очень благодарю вас за удовольствие, доставленное мне столь занимательной
историей.
-- О, -- ответил пастух, -- я не знаю и половины приключений,
случившихся с поклонниками Марселы. Но, может быть, завтра по дороге мы
встретимся с каким-нибудь пастухом, который нам сообщит их, а теперь было бы
хорошо, если бы вы пошли спать под кровлю, потому что ночная сырость может
повредить вашей ране, хотя лекарство, положенное на нее, такого рода, что
нельзя опасаться ничего дурного.
Санчо Панса, который посылал уже к черту многословие пастуха, со своей
стороны, тоже стал уговаривать своего господина, чтобы он лег спать в шалаше
Педро. Дон Кихот так и сделал, но большую часть ночи провел -- подражая
обожателям Марселы -- в воспоминаниях о своей сеньоре Дульсинее. Санчо Панса
устроил себе ночлег между Росинантом и своим ослом и спал не как отверженный
влюбленный, а как человек, немилосердно избитый.

Глава XIII, в которой оканчивается рассказ о пастушке Марселе
и сообщается о других событиях
 Едва лишь занялся день, выглянув из окон и балконов восточного неба,
как из шести пастухов уже пятеро проснулись и, разбудив Дон Кихота, сказали
ему, что готовы сопровождать его, если он остался при своем намерении пойти
на необычайные похороны Грисостомо. Дон Кихот, который только этого и желал,
сейчас же поднялся и велел Санчо поскорее седлать Росинанта и осла, что
Санчо и поспешил исполнить, после чего все быстро двинулись в путь. Не
проехали они и четверти мили, как увидели, что навстречу им, когда они
пересекали тропинку, идут около шести пастухов, одетых в черные овчины, с
венками из кипариса и горького олеандра на головах, и каждый из них держит в
руках толстую палку из терновника. Между ними виднелись также и два всадника
в изящных дорожных костюмах, сопровождаемые тремя пешими слугами.
Встретившись, обе стороны вежливо раскланялись друг с другом и обменялись
вопросами: куда лежит их путь? Оказалось, что все отправляются на погребение
Грисостомо, и поэтому они решили теперь идти вместе. Один из двух всадников,
обратившись к своему товарищу, сказал:
-- Мне кажется, сеньор Вивальдо, мы не пожалеем о том, что задержались
в пути, чтобы присутствовать на замечательных этих похоронах; а они не могут
быть незамечательны, судя по удивительному рассказу пастухов как об умершем
их товарище, так и о смертоносной пастушке.
-- Я разделяю ваше мнение, -- ответил Вивальдо, -- и был бы готов
просрочить не только день, а даже целых четыре, чтобы присутствовать на этих
похоронах.
Дон Кихот спросил у них, что, собственно, они слышали о Грисостомо и
Марселе. Путешественники ответили, что ранним утром сегодня они встретились
со своими спутниками-пастухами и, увидав их в столь печальном облачении,
спросили, почему они так одеты. В ответ один из них рассказал им о причудах
и необычайной красоте пастушки, называемой Марселой, о любви к ней
многочисленных ее поклонников, добивающихся руки ее, и о смерти того
Грисостомо, на похороны которого они теперь идут. Словом, он повторил все
то, что Педро уже рассказал Дон Кихоту. Этот разговор прекратился, и начался
другой, так как всадник, который назывался Вивальдо, спросил Дон Кихота, что
побуждает его разъезжать вооруженным с ног до головы по столь мирной стране.
На это Дон Кихот ответил:
-- Обязанности моей профессии не допускают и не дозволяют мне
странствовать в ином виде. Довольство, роскошь и ленивый отдых изобретены
лишь для изнеженных царедворцев, а труд, тревоги и оружие изобретены и
созданы для тех, которых свет называет странствующими рыцарями и к числу
которых принадлежу и я, хотя и недостойный и самый незначительный из всех.
Едва они услышали эти слова Дон Кихота, как все сочли его за
сумасшедшего, и, чтобы еще более удостовериться в этом и узнать, какого рода
у него помешательство, Вивальдо опять обратился к нему, спрашивая: что же
собственно он понимает под словом "странствующий рыцарь"?
-- Разве вы, милости ваши, -- ответил Дон Кихот, -- не читали летописей
и историй Англии, в которых идет речь о доблестных подвигах короля Артура,
обыкновенно называемого у нас, в наших испанских романсах, королем Артусом?
Старинное предание, очень распространенное во всем Великобританском
королевстве, гласит, что король Артур не умер, а был превращен искусством
волшебства в ворона, но с течением времени он вернется на царство и овладеет
вновь своим скипетром и королевством. Вот почему не было примера, чтобы с
той поры и до настоящего дня кто-либо из англичан убил ворона. Итак, во
время доброго того короля был основан знаменитый орден рыцарей Круглого
стола {Самое древнее рыцарское учреждение, оно состояло из 24 рыцарей под
председательством короля Артура и послужило образцом для Карла Великого и
его двенадцати пэров.}, и тогда же случились -- точь-в-точь, как о них
рассказывается -- романические похождения Лансарота дель Лого с королевой
Хиневрой, причем посредницей и доверенным их лицом была весьма почтенная
дуэнья Кинтаньона; отсюда и получил свое начало столь общеизвестный и
распространенный в Испании романс:
Никогда так не служили
Дамы рыцарям отменно,
Как служили Лансароту
В день приезда из Британьи,
а после этих четырех строк следует трогательный и сладостный рассказ о
его любовных похождениях и военных подвигах. Итак, с того времени
мало-помалу этот рыцарский орден стал расширяться и распространяться во
многих и разных частях света. В нем приобрели известность и прославились
своими подвигами храбрый Амадис Галльский со всеми сыновьями и внуками до
пятого поколения, и доблестный Феликсмарте Ирканский, и никогда достаточно
не восхваленный Тиранте Белый, и непобедимый и отважный дон Белианис
Греческий, которого мы чуть ли не в наши дни видели, слышали и сносились с
ним. Вот это, сеньоры, и значит быть странствующим рыцарем, а орден, о
котором я говорил, и есть орден странствующего рыцарства. К нему, как уже
было сказано, принадлежу и я, грешный, и то, что исповедовали упомянутые
рыцари, исповедую и я. Итак, я странствую по этим уединенным и пустынным
местам, отыскивая приключения со смелой решимостью идти навстречу самой
большой опасности, которую судьба может мне послать, если только дело
коснется защиты и поддержки угнетенных и гонимых.
Эта речь Дон Кихота окончательно убедила путешественников в его
умопомешательстве и выяснила им, какого оно рода, что столь же сильно
удивило их, как удивляло и всех, кто впервые узнавал о его безумии. Тогда
Вивальдо, человек остроумный и веселый, вздумал -- чтобы не скучая провести
ту незначительную часть дороги, которая, как им говорили, еще оставалась до
места погребения,-- дать случай Дон Кихоту зайти еще дальше в его
нелепостях. Итак, он сказал:
-- Мне кажется, сеньор странствующий рыцарь, что милость ваша избрала
себе одну из самых суровых профессий в мире, и я думаю, что даже орден
картезианских монахов не столь суров.
-- Быть может, он и столь же суров,-- ответил Дон Кихот, -- но так ли
необходим он миру? В этом я сильно сомневаюсь, потому что, говоря по правде,
солдат, исполняющий приказание, данное ему начальником, делает не менее, чем
начальник, давший ему приказание. Я хочу сказать вот что: монахи в полном
спокойствии и тишине молят небо о ниспослании благ земле, мы же -- воины и
рыцари -- приводим в исполнение то, о чем они молят небо, -- защищая все это
силой рук наших и острием наших мечей, притом не под кровлей, а под открытым
небом, подвергаясь летом невыносимому зною солнечных лучей, а зимой
леденящему дыханию мороза. Таким образом, мы, слуги Бога на земле, -- руки,
которыми совершается его правосудие. А так как боевые подвиги и все, что к
ним относится и с ними соприкасается, может быть выполнено лишь только
благодаря усилиям и труду в поте лица, -- из этого следует, что люди нашей
профессии несут, несомненно, больше тягот, чем те, которые со всеми
удобствами, в тишине и спокойствии молят Бога о защите слабых. Я не хочу
сказать этим, и мне и в голову не приходило, что звание странствующего
рыцаря столь же хорошо, как и звание удалившегося от мира монаха; я только
желал бы -- судя по тому, что сам терплю, -- вывести заключение, что звание
странствующего рыцаря, несомненно, более тягостно, чем звание монаха, более
подвержено ударам, голоду, жажде, нужде, лохмотьям и вшивости, потому что не
подлежит сомнению, что и прежние странствующие рыцари переносили много
страданий в течение своей жизни. И если некоторым из них благодаря их отваге
и мужеству удалось возвыситься до звания императоров, по чести говоря, им
пришлось недешево заплатить за это своей кровью и потом. И если б тем,
которые поднялись до такой высоты, не покровительствовали волшебники и
мудрецы, желания их не были бы осуществлены, и надежды их были бы обмануты.
-- И я держусь того же мнения, -- ответил путешественник, -- но мне в
числе многих других вещей одна в особенности не нравится у странствующих
рыцарей: когда они очутятся лицом к лицу с великим и опасным приключением,
явно угрожающим их жизни, в это мгновение они не думают поручать себя Богу,
как всякий христианин должен бы это делать в подобного рода положении, а,
напротив, они поручают себя своим дамам с таким жаром и благоговением, точно
эти дамы заменяют им Бога, -- вещь, которая, как мне кажется, отзывается
несколько язычеством.
-- Сеньор, -- ответил Дон Кихот,-- без этого нельзя никак обойтись, и
плохо пришлось бы тому странствующему рыцарю, который поступил бы иначе, так
как нравы и обычаи странствующего рыцарства требуют, чтобы, собираясь
совершить какой-либо военный подвиг, рыцарь видел перед собой свою даму и
устремлял на нее взгляд, полный нежности и любви, как бы прося ее о защите и
покровительстве в предстоящей ему грозной стычке. И хотя бы никто его не
слышал, он все же обязан произнести сквозь зубы несколько слов, которыми от
всего сердца поручает себя своей сеньоре, относительно чего мы имеем
бесчисленные примеры в рыцарских историях. Но из этого не следует вовсе,
чтобы рыцари не поручали себя и Богу, на что у них в продолжение битвы
найдется достаточно времени и возможности.
-- Тем не менее, -- возразил путешественник, -- у меня остается еще
одно сомнение, а именно: не раз читал я, что двое странствующих рыцарей
начнут спорить между собой, и слово за слово у них разгорится гнев, они
поворачивают лошадей и, отъехав на некоторое расстояние, тотчас же, без
дальнейших рассуждений, стремительно, полным галопом несутся друг на друга,
поручая себя в эти мгновения своим дамам. Последствием подобной схватки
обыкновенно бывает то, что один из рыцарей, проколотый насквозь копьем
своего противника, падает с лошади навзничь, и с другим случилось бы то же,
если б он не удержался за гриву своего коня. Вот я и не понимаю, каким
образом убитый рыцарь мог бы во время столь быстрой схватки найти минуту,
чтобы поручить себя Богу. Было бы лучше, если б он, бросаясь на противника,
не поручал себя своей даме, а обратился к Богу, как это должен делать и как
это приличествует каждому христианину. Тем более что, насколько мне
известно, не у всех странствующих рыцарей имеются дамы, которым они могут
себя поручать, потому что не все же рыцари влюблены.
-- Этого не может быть, -- ответил Дон Кихот, -- я говорю, что не может
быть, чтобы странствующий рыцарь не имел дамы, потому что быть влюбленным
так же естественно и так же свойственно рыцарю, как небу сиять звездами.
Наверное, никто еще не читал истории, где странствующий рыцарь не был бы
влюблен. А даже в случае если бы такой рыцарь и нашелся, он не мог бы
считаться настоящим, полноправным рыцарем, а лишь незаконным сыном
рыцарства, который вошел в крепость нашего ордена не через ворота, а перелез
туда через забор, как вор и разбойник.
-- Тем не менее, -- сказал путешественник, -- мне кажется (если только
я не ошибаюсь), будто я читал, что дон Галаор, брат храброго Амадиса
Галльского, не имел какой-либо известной дамы, которой он мог бы поручать
себя, и, несмотря на это, им нимало не пренебрегали, и он считался очень
доблестным и знаменитым рыцарем.
На это наш Дон Кихот ответил:
-- Сеньор, одна ласточка не делает еще весны, тем более что, как мне
известно, и этот рыцарь был втайне сильно влюблен, не говоря уже о том, что
увлекаться каждой, которая ему казалась красивой, было присуще его природе,
и побороть этого он не мог. В конце концов, вполне доказано, что и у него
была одна лишь дама, которую он избрал повелительницей своих дум, и ей он
поручал себя очень часто и в полнейшей тайне, так как особенно гордился тем,
что он скрытный рыцарь.
-- Если так существенно, чтобы каждый странствующий рыцарь был влюблен,
-- сказал путешественник, -- можно легко предположить, что и вы, ваша
милость, тоже влюблены, раз вы принадлежите к рыцарскому ордену. И если вы,
сеньор, не гордитесь тем, что вы столь же скрытны, как и дон Галаор,
убедительнейше прошу вас от моего имени и всех здесь присутствующих сообщить
нам звание, родину и имя вашей дамы и описать нам ее красоту, так как она,
несомненно, сочтет за счастье, чтобы весь мир знал, что ее любит и ей служит
такой доблестный рыцарь, каким вы, милость ваша, кажетесь.
Тут Дон Кихот глубоко вздохнул и сказал:
-- Не берусь утверждать, желает ли или нет моя очаровательная
неприятельница, чтобы весь мир знал, что я ей служу. Могу лишь в ответ на
столь вежливо обращенную ко мне просьбу сказать, что имя ее -- Дульсинея,
родина -- местечко в Ламанче, Тобосо, звание -- по меньшей мере принцесса,
так как она моя повелительница и королева. Красота ее сверхчеловеческая,
потому что в ней осуществлены все невозможные и фантастические признаки
красоты, которые поэты приписывают своим дамам, так как волосы ее -- золото,
лоб -- елисейские поля, брови -- небесные радуги, глаза -- солнечные
светила, щеки -- розы, губы -- кораллы, зубы -- жемчуг, шея -- алебастр,
грудь -- мрамор, руки -- слоновая кость, белизна ее кожи -- снег, а
остальные прелести, которые целомудрие скрывает от человеческих взоров,
таковы, как я думаю и понимаю, что из сдержанности не следует их ни к чему
приравнивать, а только молча восхищаться ими.
-- Мы бы желали также знать ее род, происхождение и всю генеалогию, --
сказал Вивальдо.
На это Дон Кихот ответил:
-- Она не происходит ни от древних римских Курциев, Кайев и Сципионов,
ни от современных Колонна и Урсино, ни от Монкадос и Рекесенс Каталонских, а
также ни от Ребелла и Вилланова Валенсийских, ни от Палафохес, Нуса,
Рокаберти, Корелла, Луна, Алагоне, Урреа, Фосе и Гурреа Аррагонских, ни от
Серды, Манрика, Мендосы и Гусмана Кастильских, ни от Аленкастро, Палла и
Мейеса Португальских, -- она происходит из рода Тобосо Ламанчского, хотя и
нового, но такого, который может послужить благородной колыбелью для самых
знаменитых родов грядущих времен. И пусть никто мне на это не возражает,
разве только под условием, начертанном Сербино на подножии трофеев,
сложенных из оружия Роланда, а именно:
Пусть только тот дерзает прикоснуться к ним,
Кто, как Роланд, в бою непобедим!
-- Хотя я и происхожу из рода Качопинос {Cachopines называли в Америке
тех, которые оттого лишь, что они там разбогатели, хвастались древним
происхождением, не обладая им; в Испании же -- Cachopines de Laredo;
Ларедо - астурийский приморский город, прозвище астурийцев вследствие
их характера.} де Ларедо, -- сказал Вивальдо,-- но я не осмелюсь сопоставить
его с родом Тобосо Ламанчским, хотя, по правде говоря, до сих пор я никогда
не слыхал о такой фамилии.
-- Удивляюсь, как это могло случиться, -- ответил Дон Кихот.
Все остальные, бывшие тут, слушали с большим вниманием разговор этих
двух лиц, и даже козопасы и пастухи заметили полное отсутствие здравого
рассудка в нашем Дон Кихоте, один лишь Санчо Панса думал, что все сказанное
его господином -- истина, так как знал, кто он такой, и видел его с детства,
и если в чем-либо сомневался, то лишь только относительно прелестной
Дульсинеи Тобосской, потому что никогда ничего не слышал ни о таком имени,
ни о такой принцессе, хотя он и жил так близко от Тобосо. Продолжая путь в
такого рода разговорах, они вдруг увидели, как из ущелья, образованного
двумя высокими горами, спустилось около двадцати пастухов, облаченных в
черные бараньи шкуры и увенчанных венками частью из тисовых, частью из
кипарисовых ветвей. Как потом оказалось, шестеро из этих пастухов несли
носилки, покрытые множеством зелени и разного рода цветами. Увидев это, один
из козопасов сказал:
-- Вот идут пастухи, которые несут тело Грисостомо, а там вот место у
подножия горы, где он велел похоронить себя.
Тогда все ускорили шаг и как раз прибыли туда, когда носилки были
опущены на землю и четверо из тех, которые их несли, принялись острыми
кирками высекать могилу в твердой скале.
Все вежливо приветствовали друг друга. Дон Кихот и бывшие с ним тотчас
подошли к носилкам и увидели на них труп в одежде пастуха, прикрытый
цветами. На вид мертвецу казалось лет около тридцати, и даже теперь видно
было, что он при жизни был очень красивый, стройный и рослый. Кругом него,
на тех же носилках, лежало несколько книг и много сложенных и развернутых
бумаг. Присутствующие -- как те, которые смотрели на мертвеца, так и те,
которые высекали ему могилу, и все остальные -- хранили торжественное
молчание, пока один из принесших покойника не сказал:
-- Посмотрите хорошенько, Амбросио, действительно ли это то самое
место, о котором говорил Грисостомо, раз вы желаете, чтобы все, что он
завещал, было исполнено в точности.
-- Это то самое место и есть, -- ответил Амбросио, -- так как много раз
несчастный друг мой рассказывал мне именно здесь повесть своих страданий.
Тут, по его словам, увидел он впервые этого заклятого врага человеческого
рода, Марселу; тут открыл он ей впервые свою столь же чистую, как и
пламенную любовь, и тут же Марсела в последний раз презрительно отвергла
его, вследствие чего Грисостомо положил конец трагедии своей грустной жизни.
И тут же, в память стольких несчастий, он пожелал, чтобы предали его в лоно
вечного забвения.
И, обращаясь к Дон Кихоту и к путешественникам, Амбросио сказал:
-- Это тело, сеньоры, на которое вы смотрите растроганными глазами,
служило оболочкой для души, одаренной небом неисчислимой долей его богатств.
Это -- тело Грисостомо, который был единственным по уму, беспримерным по
благородству, выдающимся по доброте, фениксом в дружбе, щедрым беспредельно,
серьезным без заносчивости, веселым без пошлости, -- словом, он был первым
во всем, что считается добродетелью, и не имел себе равного во всем, что
называется несчастьем. Он любил -- его ненавидели; он боготворил -- его
отвергли с презрением; он обращался с мольбой к лютому зверю, пытался
одушевить мрамор, гнался за вихрем, думал быть услышанным в пустыне,
поклонялся неблагодарности,-- и в награду за это стал добычей смерти в
середине поприща своей жизни, прекращенной той самой пастушкой, имя которой
он пытался обессмертить в памяти людской, что могли бы засвидетельствовать
эти вот бумаги, лежащие перед вами, если бы он не завещал мне предать их
огню после того, как тело его будет предано земле.
-- Если вы это сделаете, -- сказал Вивальдо, -- вы поступите с ними
более сурово и жестоко, чем собственный их автор, потому что несправедливо и
неумно исполнять волю того, кто в своих распоряжениях переходит все границы
здравого смысла; и Август Цезарь поступил бы дурно, если бы согласился
привести в исполнение то, что требовал в своем завещании божественный певец
Мантуи {Намек на рассказ, переданный Плинием, о запрещении императора
Августа сжечь поэмы Виргилия, как о том распорядился поэт в своем
завещании.}. Итак, сеньор Амбросио, предавая тело вашего друга земле, не
предавайте произведений его забвению, потому что, если он -- как глубоко
оскорбленный человек -- и велел это сделать, не хорошо было бы, чтобы вы --
как неразумный человек -- исполнили его волю. Напротив, даровав жизнь его
рукописям, увековечьте этим память о жестокости Марселы, чтобы жестокость
эта служила предостережением тем, кто будет жить в грядущие времена, и они
могли бы избегать и отстраняться от подобного рода пропастей. И я, и все
прибывшие сюда, мы знаем историю вашего влюбленного и впавшего в отчаяние
друга; знаем и о вашей дружбе к нему, о причине его смерти, и о предсмертных
его распоряжениях. Из этой плачевной истории можно вывести заключение, как
велика была жестокость Марселы, любовь Грисостомо, постоянство вашей дружбы
и какой конец ожидает тех, которые стремглав несутся по пути, указанному им
безрассудной их любовью. Вчера вечером узнали мы о смерти Грисостомо и о
том, что его собираются похоронить здесь, в этом месте. Поэтому, движимые
любопытством и состраданием, свернули мы с прямого нашего пути и решили
отправиться сюда, чтобы собственными глазами видеть то, что столь глубоко
взволновало нас, когда мы об этом услышали. А в награду за наше участие и
родившееся в нас желание оказать помощь, если б было возможно, мы просим
тебя, благородный Амбросио (по крайней мере, я со своей стороны умоляю
тебя), вместо того чтобы предать эти бумаги огню, позволь мне взять
некоторые из них с собой.
И не ожидая ответа пастуха, Вивальдо протянул руку и взял несколько
листов из тех, которые лежали ближе к нему. Увидав это, Амбросио сказал:
-- Из любезности я согласен оставить у вас, сеньор, взятые вами
рукописи. Но думать, что я не сожгу остальные,-- надежда тщетная.
Вивальдо, желавший скорее узнать, что написано в рукописях, взятых им,
поспешно развернул одну из них и прочел заглавие: "Песня отчаяния". Услыхав
это, Амбросио сказал:
-- Это последние стихи, написанные несчастным моим другом, и чтобы вы,
сеньор, видели до какого отчаяния довели его несчастия, прочитайте вслух эти
стихи, так как времени у вас на это будет достаточно, пока кончат высекать
могилу в скале.
-- Сделаю это очень охотно, -- сказал Вивальдо; и так как все
присутствовавшие разделяли его желание, они окружили его, и он внятным
голосом прочел то, что следует.
Едва лишь занялся день, выглянув из окон и балконов восточного неба,
как из шести пастухов уже пятеро проснулись и, разбудив Дон Кихота, сказали
ему, что готовы сопровождать его, если он остался при своем намерении пойти
на необычайные похороны Грисостомо. Дон Кихот, который только этого и желал,
сейчас же поднялся и велел Санчо поскорее седлать Росинанта и осла, что
Санчо и поспешил исполнить, после чего все быстро двинулись в путь. Не
проехали они и четверти мили, как увидели, что навстречу им, когда они
пересекали тропинку, идут около шести пастухов, одетых в черные овчины, с
венками из кипариса и горького олеандра на головах, и каждый из них держит в
руках толстую палку из терновника. Между ними виднелись также и два всадника
в изящных дорожных костюмах, сопровождаемые тремя пешими слугами.
Встретившись, обе стороны вежливо раскланялись друг с другом и обменялись
вопросами: куда лежит их путь? Оказалось, что все отправляются на погребение
Грисостомо, и поэтому они решили теперь идти вместе. Один из двух всадников,
обратившись к своему товарищу, сказал:
-- Мне кажется, сеньор Вивальдо, мы не пожалеем о том, что задержались
в пути, чтобы присутствовать на замечательных этих похоронах; а они не могут
быть незамечательны, судя по удивительному рассказу пастухов как об умершем
их товарище, так и о смертоносной пастушке.
-- Я разделяю ваше мнение, -- ответил Вивальдо, -- и был бы готов
просрочить не только день, а даже целых четыре, чтобы присутствовать на этих
похоронах.
Дон Кихот спросил у них, что, собственно, они слышали о Грисостомо и
Марселе. Путешественники ответили, что ранним утром сегодня они встретились
со своими спутниками-пастухами и, увидав их в столь печальном облачении,
спросили, почему они так одеты. В ответ один из них рассказал им о причудах
и необычайной красоте пастушки, называемой Марселой, о любви к ней
многочисленных ее поклонников, добивающихся руки ее, и о смерти того
Грисостомо, на похороны которого они теперь идут. Словом, он повторил все
то, что Педро уже рассказал Дон Кихоту. Этот разговор прекратился, и начался
другой, так как всадник, который назывался Вивальдо, спросил Дон Кихота, что
побуждает его разъезжать вооруженным с ног до головы по столь мирной стране.
На это Дон Кихот ответил:
-- Обязанности моей профессии не допускают и не дозволяют мне
странствовать в ином виде. Довольство, роскошь и ленивый отдых изобретены
лишь для изнеженных царедворцев, а труд, тревоги и оружие изобретены и
созданы для тех, которых свет называет странствующими рыцарями и к числу
которых принадлежу и я, хотя и недостойный и самый незначительный из всех.
Едва они услышали эти слова Дон Кихота, как все сочли его за
сумасшедшего, и, чтобы еще более удостовериться в этом и узнать, какого рода
у него помешательство, Вивальдо опять обратился к нему, спрашивая: что же
собственно он понимает под словом "странствующий рыцарь"?
-- Разве вы, милости ваши, -- ответил Дон Кихот, -- не читали летописей
и историй Англии, в которых идет речь о доблестных подвигах короля Артура,
обыкновенно называемого у нас, в наших испанских романсах, королем Артусом?
Старинное предание, очень распространенное во всем Великобританском
королевстве, гласит, что король Артур не умер, а был превращен искусством
волшебства в ворона, но с течением времени он вернется на царство и овладеет
вновь своим скипетром и королевством. Вот почему не было примера, чтобы с
той поры и до настоящего дня кто-либо из англичан убил ворона. Итак, во
время доброго того короля был основан знаменитый орден рыцарей Круглого
стола {Самое древнее рыцарское учреждение, оно состояло из 24 рыцарей под
председательством короля Артура и послужило образцом для Карла Великого и
его двенадцати пэров.}, и тогда же случились -- точь-в-точь, как о них
рассказывается -- романические похождения Лансарота дель Лого с королевой
Хиневрой, причем посредницей и доверенным их лицом была весьма почтенная
дуэнья Кинтаньона; отсюда и получил свое начало столь общеизвестный и
распространенный в Испании романс:
Никогда так не служили
Дамы рыцарям отменно,
Как служили Лансароту
В день приезда из Британьи,
а после этих четырех строк следует трогательный и сладостный рассказ о
его любовных похождениях и военных подвигах. Итак, с того времени
мало-помалу этот рыцарский орден стал расширяться и распространяться во
многих и разных частях света. В нем приобрели известность и прославились
своими подвигами храбрый Амадис Галльский со всеми сыновьями и внуками до
пятого поколения, и доблестный Феликсмарте Ирканский, и никогда достаточно
не восхваленный Тиранте Белый, и непобедимый и отважный дон Белианис
Греческий, которого мы чуть ли не в наши дни видели, слышали и сносились с
ним. Вот это, сеньоры, и значит быть странствующим рыцарем, а орден, о
котором я говорил, и есть орден странствующего рыцарства. К нему, как уже
было сказано, принадлежу и я, грешный, и то, что исповедовали упомянутые
рыцари, исповедую и я. Итак, я странствую по этим уединенным и пустынным
местам, отыскивая приключения со смелой решимостью идти навстречу самой
большой опасности, которую судьба может мне послать, если только дело
коснется защиты и поддержки угнетенных и гонимых.
Эта речь Дон Кихота окончательно убедила путешественников в его
умопомешательстве и выяснила им, какого оно рода, что столь же сильно
удивило их, как удивляло и всех, кто впервые узнавал о его безумии. Тогда
Вивальдо, человек остроумный и веселый, вздумал -- чтобы не скучая провести
ту незначительную часть дороги, которая, как им говорили, еще оставалась до
места погребения,-- дать случай Дон Кихоту зайти еще дальше в его
нелепостях. Итак, он сказал:
-- Мне кажется, сеньор странствующий рыцарь, что милость ваша избрала
себе одну из самых суровых профессий в мире, и я думаю, что даже орден
картезианских монахов не столь суров.
-- Быть может, он и столь же суров,-- ответил Дон Кихот, -- но так ли
необходим он миру? В этом я сильно сомневаюсь, потому что, говоря по правде,
солдат, исполняющий приказание, данное ему начальником, делает не менее, чем
начальник, давший ему приказание. Я хочу сказать вот что: монахи в полном
спокойствии и тишине молят небо о ниспослании благ земле, мы же -- воины и
рыцари -- приводим в исполнение то, о чем они молят небо, -- защищая все это
силой рук наших и острием наших мечей, притом не под кровлей, а под открытым
небом, подвергаясь летом невыносимому зною солнечных лучей, а зимой
леденящему дыханию мороза. Таким образом, мы, слуги Бога на земле, -- руки,
которыми совершается его правосудие. А так как боевые подвиги и все, что к
ним относится и с ними соприкасается, может быть выполнено лишь только
благодаря усилиям и труду в поте лица, -- из этого следует, что люди нашей
профессии несут, несомненно, больше тягот, чем те, которые со всеми
удобствами, в тишине и спокойствии молят Бога о защите слабых. Я не хочу
сказать этим, и мне и в голову не приходило, что звание странствующего
рыцаря столь же хорошо, как и звание удалившегося от мира монаха; я только
желал бы -- судя по тому, что сам терплю, -- вывести заключение, что звание
странствующего рыцаря, несомненно, более тягостно, чем звание монаха, более
подвержено ударам, голоду, жажде, нужде, лохмотьям и вшивости, потому что не
подлежит сомнению, что и прежние странствующие рыцари переносили много
страданий в течение своей жизни. И если некоторым из них благодаря их отваге
и мужеству удалось возвыситься до звания императоров, по чести говоря, им
пришлось недешево заплатить за это своей кровью и потом. И если б тем,
которые поднялись до такой высоты, не покровительствовали волшебники и
мудрецы, желания их не были бы осуществлены, и надежды их были бы обмануты.
-- И я держусь того же мнения, -- ответил путешественник, -- но мне в
числе многих других вещей одна в особенности не нравится у странствующих
рыцарей: когда они очутятся лицом к лицу с великим и опасным приключением,
явно угрожающим их жизни, в это мгновение они не думают поручать себя Богу,
как всякий христианин должен бы это делать в подобного рода положении, а,
напротив, они поручают себя своим дамам с таким жаром и благоговением, точно
эти дамы заменяют им Бога, -- вещь, которая, как мне кажется, отзывается
несколько язычеством.
-- Сеньор, -- ответил Дон Кихот,-- без этого нельзя никак обойтись, и
плохо пришлось бы тому странствующему рыцарю, который поступил бы иначе, так
как нравы и обычаи странствующего рыцарства требуют, чтобы, собираясь
совершить какой-либо военный подвиг, рыцарь видел перед собой свою даму и
устремлял на нее взгляд, полный нежности и любви, как бы прося ее о защите и
покровительстве в предстоящей ему грозной стычке. И хотя бы никто его не
слышал, он все же обязан произнести сквозь зубы несколько слов, которыми от
всего сердца поручает себя своей сеньоре, относительно чего мы имеем
бесчисленные примеры в рыцарских историях. Но из этого не следует вовсе,
чтобы рыцари не поручали себя и Богу, на что у них в продолжение битвы
найдется достаточно времени и возможности.
-- Тем не менее, -- возразил путешественник, -- у меня остается еще
одно сомнение, а именно: не раз читал я, что двое странствующих рыцарей
начнут спорить между собой, и слово за слово у них разгорится гнев, они
поворачивают лошадей и, отъехав на некоторое расстояние, тотчас же, без
дальнейших рассуждений, стремительно, полным галопом несутся друг на друга,
поручая себя в эти мгновения своим дамам. Последствием подобной схватки
обыкновенно бывает то, что один из рыцарей, проколотый насквозь копьем
своего противника, падает с лошади навзничь, и с другим случилось бы то же,
если б он не удержался за гриву своего коня. Вот я и не понимаю, каким
образом убитый рыцарь мог бы во время столь быстрой схватки найти минуту,
чтобы поручить себя Богу. Было бы лучше, если б он, бросаясь на противника,
не поручал себя своей даме, а обратился к Богу, как это должен делать и как
это приличествует каждому христианину. Тем более что, насколько мне
известно, не у всех странствующих рыцарей имеются дамы, которым они могут
себя поручать, потому что не все же рыцари влюблены.
-- Этого не может быть, -- ответил Дон Кихот, -- я говорю, что не может
быть, чтобы странствующий рыцарь не имел дамы, потому что быть влюбленным
так же естественно и так же свойственно рыцарю, как небу сиять звездами.
Наверное, никто еще не читал истории, где странствующий рыцарь не был бы
влюблен. А даже в случае если бы такой рыцарь и нашелся, он не мог бы
считаться настоящим, полноправным рыцарем, а лишь незаконным сыном
рыцарства, который вошел в крепость нашего ордена не через ворота, а перелез
туда через забор, как вор и разбойник.
-- Тем не менее, -- сказал путешественник, -- мне кажется (если только
я не ошибаюсь), будто я читал, что дон Галаор, брат храброго Амадиса
Галльского, не имел какой-либо известной дамы, которой он мог бы поручать
себя, и, несмотря на это, им нимало не пренебрегали, и он считался очень
доблестным и знаменитым рыцарем.
На это наш Дон Кихот ответил:
-- Сеньор, одна ласточка не делает еще весны, тем более что, как мне
известно, и этот рыцарь был втайне сильно влюблен, не говоря уже о том, что
увлекаться каждой, которая ему казалась красивой, было присуще его природе,
и побороть этого он не мог. В конце концов, вполне доказано, что и у него
была одна лишь дама, которую он избрал повелительницей своих дум, и ей он
поручал себя очень часто и в полнейшей тайне, так как особенно гордился тем,
что он скрытный рыцарь.
-- Если так существенно, чтобы каждый странствующий рыцарь был влюблен,
-- сказал путешественник, -- можно легко предположить, что и вы, ваша
милость, тоже влюблены, раз вы принадлежите к рыцарскому ордену. И если вы,
сеньор, не гордитесь тем, что вы столь же скрытны, как и дон Галаор,
убедительнейше прошу вас от моего имени и всех здесь присутствующих сообщить
нам звание, родину и имя вашей дамы и описать нам ее красоту, так как она,
несомненно, сочтет за счастье, чтобы весь мир знал, что ее любит и ей служит
такой доблестный рыцарь, каким вы, милость ваша, кажетесь.
Тут Дон Кихот глубоко вздохнул и сказал:
-- Не берусь утверждать, желает ли или нет моя очаровательная
неприятельница, чтобы весь мир знал, что я ей служу. Могу лишь в ответ на
столь вежливо обращенную ко мне просьбу сказать, что имя ее -- Дульсинея,
родина -- местечко в Ламанче, Тобосо, звание -- по меньшей мере принцесса,
так как она моя повелительница и королева. Красота ее сверхчеловеческая,
потому что в ней осуществлены все невозможные и фантастические признаки
красоты, которые поэты приписывают своим дамам, так как волосы ее -- золото,
лоб -- елисейские поля, брови -- небесные радуги, глаза -- солнечные
светила, щеки -- розы, губы -- кораллы, зубы -- жемчуг, шея -- алебастр,
грудь -- мрамор, руки -- слоновая кость, белизна ее кожи -- снег, а
остальные прелести, которые целомудрие скрывает от человеческих взоров,
таковы, как я думаю и понимаю, что из сдержанности не следует их ни к чему
приравнивать, а только молча восхищаться ими.
-- Мы бы желали также знать ее род, происхождение и всю генеалогию, --
сказал Вивальдо.
На это Дон Кихот ответил:
-- Она не происходит ни от древних римских Курциев, Кайев и Сципионов,
ни от современных Колонна и Урсино, ни от Монкадос и Рекесенс Каталонских, а
также ни от Ребелла и Вилланова Валенсийских, ни от Палафохес, Нуса,
Рокаберти, Корелла, Луна, Алагоне, Урреа, Фосе и Гурреа Аррагонских, ни от
Серды, Манрика, Мендосы и Гусмана Кастильских, ни от Аленкастро, Палла и
Мейеса Португальских, -- она происходит из рода Тобосо Ламанчского, хотя и
нового, но такого, который может послужить благородной колыбелью для самых
знаменитых родов грядущих времен. И пусть никто мне на это не возражает,
разве только под условием, начертанном Сербино на подножии трофеев,
сложенных из оружия Роланда, а именно:
Пусть только тот дерзает прикоснуться к ним,
Кто, как Роланд, в бою непобедим!
-- Хотя я и происхожу из рода Качопинос {Cachopines называли в Америке
тех, которые оттого лишь, что они там разбогатели, хвастались древним
происхождением, не обладая им; в Испании же -- Cachopines de Laredo;
Ларедо - астурийский приморский город, прозвище астурийцев вследствие
их характера.} де Ларедо, -- сказал Вивальдо,-- но я не осмелюсь сопоставить
его с родом Тобосо Ламанчским, хотя, по правде говоря, до сих пор я никогда
не слыхал о такой фамилии.
-- Удивляюсь, как это могло случиться, -- ответил Дон Кихот.
Все остальные, бывшие тут, слушали с большим вниманием разговор этих
двух лиц, и даже козопасы и пастухи заметили полное отсутствие здравого
рассудка в нашем Дон Кихоте, один лишь Санчо Панса думал, что все сказанное
его господином -- истина, так как знал, кто он такой, и видел его с детства,
и если в чем-либо сомневался, то лишь только относительно прелестной
Дульсинеи Тобосской, потому что никогда ничего не слышал ни о таком имени,
ни о такой принцессе, хотя он и жил так близко от Тобосо. Продолжая путь в
такого рода разговорах, они вдруг увидели, как из ущелья, образованного
двумя высокими горами, спустилось около двадцати пастухов, облаченных в
черные бараньи шкуры и увенчанных венками частью из тисовых, частью из
кипарисовых ветвей. Как потом оказалось, шестеро из этих пастухов несли
носилки, покрытые множеством зелени и разного рода цветами. Увидев это, один
из козопасов сказал:
-- Вот идут пастухи, которые несут тело Грисостомо, а там вот место у
подножия горы, где он велел похоронить себя.
Тогда все ускорили шаг и как раз прибыли туда, когда носилки были
опущены на землю и четверо из тех, которые их несли, принялись острыми
кирками высекать могилу в твердой скале.
Все вежливо приветствовали друг друга. Дон Кихот и бывшие с ним тотчас
подошли к носилкам и увидели на них труп в одежде пастуха, прикрытый
цветами. На вид мертвецу казалось лет около тридцати, и даже теперь видно
было, что он при жизни был очень красивый, стройный и рослый. Кругом него,
на тех же носилках, лежало несколько книг и много сложенных и развернутых
бумаг. Присутствующие -- как те, которые смотрели на мертвеца, так и те,
которые высекали ему могилу, и все остальные -- хранили торжественное
молчание, пока один из принесших покойника не сказал:
-- Посмотрите хорошенько, Амбросио, действительно ли это то самое
место, о котором говорил Грисостомо, раз вы желаете, чтобы все, что он
завещал, было исполнено в точности.
-- Это то самое место и есть, -- ответил Амбросио, -- так как много раз
несчастный друг мой рассказывал мне именно здесь повесть своих страданий.
Тут, по его словам, увидел он впервые этого заклятого врага человеческого
рода, Марселу; тут открыл он ей впервые свою столь же чистую, как и
пламенную любовь, и тут же Марсела в последний раз презрительно отвергла
его, вследствие чего Грисостомо положил конец трагедии своей грустной жизни.
И тут же, в память стольких несчастий, он пожелал, чтобы предали его в лоно
вечного забвения.
И, обращаясь к Дон Кихоту и к путешественникам, Амбросио сказал:
-- Это тело, сеньоры, на которое вы смотрите растроганными глазами,
служило оболочкой для души, одаренной небом неисчислимой долей его богатств.
Это -- тело Грисостомо, который был единственным по уму, беспримерным по
благородству, выдающимся по доброте, фениксом в дружбе, щедрым беспредельно,
серьезным без заносчивости, веселым без пошлости, -- словом, он был первым
во всем, что считается добродетелью, и не имел себе равного во всем, что
называется несчастьем. Он любил -- его ненавидели; он боготворил -- его
отвергли с презрением; он обращался с мольбой к лютому зверю, пытался
одушевить мрамор, гнался за вихрем, думал быть услышанным в пустыне,
поклонялся неблагодарности,-- и в награду за это стал добычей смерти в
середине поприща своей жизни, прекращенной той самой пастушкой, имя которой
он пытался обессмертить в памяти людской, что могли бы засвидетельствовать
эти вот бумаги, лежащие перед вами, если бы он не завещал мне предать их
огню после того, как тело его будет предано земле.
-- Если вы это сделаете, -- сказал Вивальдо, -- вы поступите с ними
более сурово и жестоко, чем собственный их автор, потому что несправедливо и
неумно исполнять волю того, кто в своих распоряжениях переходит все границы
здравого смысла; и Август Цезарь поступил бы дурно, если бы согласился
привести в исполнение то, что требовал в своем завещании божественный певец
Мантуи {Намек на рассказ, переданный Плинием, о запрещении императора
Августа сжечь поэмы Виргилия, как о том распорядился поэт в своем
завещании.}. Итак, сеньор Амбросио, предавая тело вашего друга земле, не
предавайте произведений его забвению, потому что, если он -- как глубоко
оскорбленный человек -- и велел это сделать, не хорошо было бы, чтобы вы --
как неразумный человек -- исполнили его волю. Напротив, даровав жизнь его
рукописям, увековечьте этим память о жестокости Марселы, чтобы жестокость
эта служила предостережением тем, кто будет жить в грядущие времена, и они
могли бы избегать и отстраняться от подобного рода пропастей. И я, и все
прибывшие сюда, мы знаем историю вашего влюбленного и впавшего в отчаяние
друга; знаем и о вашей дружбе к нему, о причине его смерти, и о предсмертных
его распоряжениях. Из этой плачевной истории можно вывести заключение, как
велика была жестокость Марселы, любовь Грисостомо, постоянство вашей дружбы
и какой конец ожидает тех, которые стремглав несутся по пути, указанному им
безрассудной их любовью. Вчера вечером узнали мы о смерти Грисостомо и о
том, что его собираются похоронить здесь, в этом месте. Поэтому, движимые
любопытством и состраданием, свернули мы с прямого нашего пути и решили
отправиться сюда, чтобы собственными глазами видеть то, что столь глубоко
взволновало нас, когда мы об этом услышали. А в награду за наше участие и
родившееся в нас желание оказать помощь, если б было возможно, мы просим
тебя, благородный Амбросио (по крайней мере, я со своей стороны умоляю
тебя), вместо того чтобы предать эти бумаги огню, позволь мне взять
некоторые из них с собой.
И не ожидая ответа пастуха, Вивальдо протянул руку и взял несколько
листов из тех, которые лежали ближе к нему. Увидав это, Амбросио сказал:
-- Из любезности я согласен оставить у вас, сеньор, взятые вами
рукописи. Но думать, что я не сожгу остальные,-- надежда тщетная.
Вивальдо, желавший скорее узнать, что написано в рукописях, взятых им,
поспешно развернул одну из них и прочел заглавие: "Песня отчаяния". Услыхав
это, Амбросио сказал:
-- Это последние стихи, написанные несчастным моим другом, и чтобы вы,
сеньор, видели до какого отчаяния довели его несчастия, прочитайте вслух эти
стихи, так как времени у вас на это будет достаточно, пока кончат высекать
могилу в скале.
-- Сделаю это очень охотно, -- сказал Вивальдо; и так как все
присутствовавшие разделяли его желание, они окружили его, и он внятным
голосом прочел то, что следует.

Глава XIV, в которой приводится исполненное отчаяния стихотворение
умершего пастуха и рассказываются и другие неожиданные события
 ПЕСНЯ ГРИСОСТОМО
Коль ты сама, бездушная, желаешь,
Чтобы из уст в уста ко всем народам
Неслась молва о лютом твоем гневе,--
Так пусть же в грудь, истерзанную горем,
Сам ад вольет мне жалобные звуки,
И заглушат они мой прежний голос.
Хочу ужасным воплем я поведать
О скорбной участи моей и злых
Твоих поступках. Пусть весь мир узнает,
Какой жестокой пыткой истерзала
Мне сердце ты, разбитое тобой.
Так слушай же; внимай не сладким звукам,
А страшным стонам, вырванным из груди,
Богатой горем, властью исступленья
И силой мук жестоких, в облегченье,
В усладу мне -- тебе же лишь к досаде.
Пусть волка дикий вой и льва рыканье,
Шипенье змей чешуйчатых и рев
Ужасных, нам неведомых чудовищ;
Пусть крик зловещий ворона, шум бури
На лоне вод морских, мычанье
Быка сраженного и одинокий
Голубки стон; пусть зов совы печальной
И плач сынов всей черной преисподней --
Все, все скорей сольется в звук единый,
И этот звук, исторгнутый из глуби
Больной души, сумеет потрясти
Весь мир, все чувства, мысли все!
Страдание мое так сильно, что о нем поведать
Нельзя путем обычным... К новым средствам,
К картинам новым должен я прибегнуть!..
Смешенье звуков страшных -- отголосок
Моей безумной скорби -- не услышат
Пески родного Тахо и оливы
Бетиса[1] славного, -- здесь изолью я
[1] Бетис -- древнее название Гвадалквивира, берега которого обсажены и
поныне оливковыми деревьями.
Печаль мою, на высях хмурых скал,
В глуби ущелий -- языком хоть мертвым,
Но речью, полной жизни; изолью
Печаль свою в местах я безотрадных,
Там, где нога людская не ступала,
В краях, где солнце никогда не светит,
Иль средь толпы чудовищ ядовитых,
Которых Нил питает и растит.
Но хоть в безлюдных, диких лишь пустынях
Звучать мой возглас будет, -- отголосок
Глухой и смутный о моих страданьях
И о твоей жестокости безмерной,
Веленьем рока злого разнесется
Из уст в уста по всем концам вселенной.
Казнит и мучит ревность, убивает
Презренье, гасит жизни цвет и силу
Разлуки долгой гнет, яд подозрений --
Правдивых, ложных ли -- терпенье губит;
И нет защиты от тисков забвенья
В надежде твердой на любовь и счастье!
Во всем здесь смерть, -- она неотразима,
А я -- о диво дивное -- живу,
Живу, отвергнутый, томим презреньем,
Разлукой, ревностью и подозреньем,
Горю в огне, снедающем меня!
Средь стольких мук не вижу я просвета;
Не может взор мой уловить средь них
Хотя бы тень надежды отдаленной,--
И больше к ней взывать уж не хочу я;
В глухом отчаянье, чтоб вдосталь горем
Упиться мне, клянусь теперь вовеки
Луча малейшего надежды убегать.
Возможно ль в тот же миг питать надежду
И страх, иль хорошо ли это делать,
Когда причины страха непреложны?
И если ревность злая пред глазами
Стоит -- закрыть их надо ль мне, раз видеть
Ее я вынужден в глубоких ранах,
В кровавых ранах сердца моего?
Кто б не раскрыл отчаянью все двери,
Когда открытое к себе презренье
Он видит; и все то, что подозреньем
Лишь только было, обращенным в правду
Он видит, -- правду ж -- обращенной в ложь?
О ревность, лютый деспот во владеньях
Любви, ты дай скорей мне нож свой в руки!
А ты, презренье, ты неси веревку
Для казни мне! Увы! Непобедимо
Живет о вас еще воспоминанье
В душе моей средь ужасов страданья!
Но смерть близка... И так как не надеюсь
На счастье в жизни я иль в смерти, твердо
Держусь своих фантазий и скажу,
Что всех умней, кто всех сильнее любит;
Что всех свободней в мире тот, кто рабски
Тиранству древнему любви покорен;
Что та, которая меня сгубила,
Душой прекрасна так же, как и телом;
Что сам в ее измене я повинен
И что любовь царит и мирно правит
Лишь оттого, что столько в ней страданья.
С такими мыслями стяну я крепко
На шее петлю, и, уйдя туда,
Куда ведет меня ее презренье,
Я ветрам тело бренное и душу
Отдам без пальм и лавров благ грядущих.
А ты, чья горькая несправедливость
Меня принудила несправедливым
Быть к жизни -- к юной, бедной жизни,
Теперь постылой мне и ненавистной,--
Ты видишь ли, что так сквозит открыто
Из сердца ран глубоких, как навстречу
Твоим желаньям радостно иду я?
Но если б небо ясное прекрасных
Твоих очей нежданно омрачилось
От ранней гибели моей, -- не надо
Мне слез твоих, не надо мне награды
За то, что отдал я тебе всю душу!
Нет, лучше смехом звонким докажи ты,
Что смерть моя тебе веселый праздник!
Глупец, к чему об этом говорю я
Ведь знаю: славой для себя сочтешь ты,
Чтоб я скорей к трагической развязке
Довел бы повесть жизни безотрадной!
Настало время... Из глубокой бездны
Явись, Тантал, с твоей ужасной жаждой,
И ты, Сизиф, с скалой безмерно тяжкой,
Пусть Прометей мне коршуна приносит,
Пусть с колесом ко мне спешит Эгион,
И с пыткой злой идут пусть Данаиды
С своей вовек ненаполнимой бочкой;
Пусть все свои смертельные страданья
Они вольют мне в грудь и заунывно
Надгробный плач свершат (коль подобает
Он тем, кто впал в отчаянье) над трупом,
Лишенным всяких почестей прощальных,
И пусть привратник трехголовый ада
Со стаей всей химер и чудищ разных
Усилят хор печальный; проводов иных,
Сдается мне, иного погребенья
Не стоит тот, кто умер от любви!
О песнь отчаянья, ты воплем скорби
И криком муки не греми над миром!
Коль той, из-за которой ты родилась,
Мое несчастье счастье лишь приносит,
А скорбь моя дарит веселье, -- лучше
Умолкни навсегда со мной в могиле!
Слушателям очень понравилось стихотворение Грисостомо, но читавший его
Вивальдо сказал, что, по его мнению, оно противоречит молве о скромности и
целомудрии Марселы, так как Грисостомо жалуется на ревность, подозрения и
разлуку в ущерб доброму имени и доброй славе Марселы. На это Амбросио, как
человек, хорошо знавший даже тайные мысли своего друга, ответил так:
-- Желая рассеять ваши сомнения, сеньор, я должен вам сказать, что,
когда несчастный писал эту песнь, он действительно находился вдали от
Марселы, с которой не виделся по доброй своей воле, решив испытать, не
окажет ли и на него разлука обычного своего действия. А так как всякая
безделица тревожит отсутствующего влюбленного и его терзают разные мнимые
страхи, то и Грисостомо мучился воображаемой ревностью и воображаемыми
подозрениями, точно действительными. Таким образом, все, что молва
разглашает о добродетели Марселы, остается по-прежнему истинным, и, за
исключением того, что она жестокосерда, несколько заносчива и очень
пренебрежительна, сама зависть не может и не должна обвинять ее в каком бы
то ни было проступке.
-- Совершенно верно, -- ответил Вивальдо. И он только что собрался
прочесть еще одну из рукописей, спасенных им от огня, но ему помешало чудное
видение (оно казалось таковым), внезапно представшее перед их глазами. Дело
в том, что на вершине скалы, у подножия которой высекали могилу, появилась
пастушка Марсела, такая прекрасная, что красота ее превосходила все, что о
ней говорили. Те, кто впервые ее видели, смотрели на нее с безмолвным
восхищением, и даже те, которые уже привыкли ее видеть, были поражены не
менее видевших ее впервые.
Но едва ее заметил Амбросио, как он, глубоко возмущенный, сказал,
обращаясь к ней:
-- Быть может, о лютый василиск этих гор, ты явилась сюда посмотреть,
не раскроются ли вновь в твоем присутствии раны этого несчастного, которого
лишила жизни твоя жестокость? Или же ты намерена хвалиться ужасными своими
подвигами, или смотреть с вершины этой скалы, точно второй бездушный Нерон,
на пожар пылающего Рима, или надменно попирать ногами несчастный этот труп,
как бесчеловечная дочь попирала труп своего отца Тарквиния? {Не Тарквиний, а
Сервий Туллий.} Говори скорей, зачем явилась ты сюда, или что, собственно,
тебе угодно, потому что, хорошо зная, как при жизни Грисостомо не переставал
подчиняться тебе во всех своих помышлениях, я постараюсь, чтобы и после его
смерти твоим желаниям подчинялись все те, которые назывались его друзьями.
-- Я пришла, о Амбросио, не для того, о чем ты говоришь, -- ответила
Марсела, -- а только для того, чтобы защитить себя и доказать, как
несправедливо судят те, которые винят меня в своих страданиях и в смерти
Грисостомо. Итак, прошу всех здесь присутствующих внимательно выслушать
меня, потому что не потребуется ни много времени, ни много слов, чтобы
убедить умных людей в истине. Небо, как вы говорите, создало меня красивой,
и столь красивой, что вы не имеете сил противостоять моей красоте, и она
побуждает вас любить меня, а за любовь, которую вы мне выказываете, вы
думаете и воображаете, что и я обязана любить вас. Благодаря разуму, которым
Бог одарил меня, я знаю, что все прекрасное мило нашему сердцу, но не могу
понять, почему тот, которого любят за красоту, обязан любить того, кто его
любит? Тем более, могло бы ведь случиться, что любящий красивое сам
безобразен, а так как безобразное достойно отвращения, было бы несправедливо
сказать: "Я люблю тебя за то, что ты красива; ты должна любить меня, хотя я
безобразен". Но если мы предположим случай, что красота с обеих сторон
равная, из этого еще не следует, чтобы и желания были равные; ведь, не
всякая красота вызывает любовь, -- иная радует глаз, но не покоряет сердце.
Если бы всякая красота вызывала любовь и покоряла сердца, то желания пришли
бы в столь великое смятение и так бы сбились с толку, что не могли бы ни на
чем остановиться; потому что если количество прекрасных предметов
бесчисленно, то и желания должны бы быть бесчисленны; и, судя по тому, что я
слышала, истинную любовь нельзя делить, и она должна быть свободной, а не
вынужденной. Если же это так -- а я думаю, что это так, -- как же вы можете
требовать, чтобы я насиловала свою волю только потому, что вы говорите, что
любите меня? А если нет, скажите мне: раз небо, создавшее меня красивой,
создало бы меня безобразной, могла бы я по справедливости негодовать на вас
за то, что вы меня не любите? Сверх того, вам еще следует принять во
внимание, что красоту, которою я обладаю, не я себе избрала, а такою, какою
она есть, получила ее в дар свыше, не прося и не добиваясь ее. И, подобно
тому как нельзя винить змею за смертоносный яд в ее жале, хотя она и убивает
им, потому что он дан ей природой, точно так же нельзя укорять и меня за то,
что я красива; ведь красота добродетельной женщины подобна дальнему огню или
острому мечу: огонь не жжет, и меч не режет тех, которые к ним не
приближаются. Честь и добродетели -- украшения души, без которых тело, хотя
бы оно и было красиво, не должно казаться таковым. Если же целомудрие --
одна из добродетелей, придающих наибольшую прелесть и украшающих тело и
душу, почему же та, которую любят за ее красоту, должна потерять целомудрие,
чтобы удовлетворить желания человека, который единственно ради своего
удовольствия прилагает все усилия и старания лишить ее этой добродетели? Я
родилась свободной и, чтобы иметь возможность жить свободной, избрала
уединение полей: деревья на горах этих -- мое общество; прозрачные воды
ручейков -- мои зеркала; деревьям и ручейкам доверяю я свои мысли и свою
красоту. Я -- дальний огонь, который не жжет, я -- меч, отложенный в
сторону. Тех, которые влюблялись в меня, увлекаясь моей красотой, я
разочаровывала моими словами; а если желания питаются надеждами, так как я
не дала никакой пищи желаниям Грисостомо, ни кого-либо другого, словом,
никому, -- можно было бы скорее сказать, что Грисостомо убило его упорство,
а не моя жестокость. Если же мне ставят в вину, что намерения его были
чисты, и поэтому я будто бы была обязана не отталкивать его, я отвечу: когда
он здесь, на этом самом месте, где теперь ему высекают могилу, открыл мне
чистоту своих намерений, я сказала ему, что мое намерение -- жить в
постоянном уединении и лишь одна земля насладится плодами моего уединения и
бренными останками моей красоты. Если после столь решительного ответа он все
же упорствовал в своих надеждах и плыл против течения, что удивительного в
том, что он утонул в водовороте собственного своего безумия? Если б я
обнадежила его, я бы солгала; если б исполнила его желание, я поступила бы в
разрез с лучшими моими чувствами и намерениями. Выведенный из заблуждения,
он все-таки упорствовал, и, хотя никто его не ненавидел, он впал в отчаяние;
теперь решайте: справедливо ли винить меня в его страданиях? Пусть жалуется
тот, кого обманули, впадает в отчаяние тот, кого опутали лживыми надеждами,
ждет чего-либо тот, кого я зову, и хвалится тот, кого я допущу к себе; но
пусть не называет меня жестокой или убийцей тот, кого я не обманывала, кому
ничего не обещала, кого не увлекала и не звала. Небу до сих пор еще не было
угодно, чтобы сама я полюбила, а думать, что я полюблю по чужому указанию,
об этом не может быть и речи. Пусть же это общее мое предостережение
послужит на пользу всем тем, которые ухаживают за мной, и отныне и впредь
станет известным, что, если еще кто-нибудь умрет из-за меня, его убьет не
ревность ко мне и не пренебрежение мое, потому что тот, кто никого не любит,
не может и внушить никому ревности, а откровенное признание, что не любишь,
не должно быть сочтено за пренебрежение. Тот, кто меня называет лютым зверем
и василиском, пусть избегает меня, как избегают всего злого и опасного; тот,
кто считает меня неблагодарной, пусть не ухаживает за мной; кто считает
бесчувственной, не ищет моего общества; кто считает жестокой, не идет за
мной; так как этот зверь, этот василиск, эта неблагодарная, эта жестокая и
бесчувственная, никоим образом не будет искать их, служить им, знакомиться с
ними и следовать за ними. И если Грисостомо убили его нетерпение и страстные
желания, почему же слагать вину за это на мою скромность и осмотрительность?
Если я сохраняю чистоту свою среди деревьев, как может требовать, чтобы я ее
утратила, тот, который желает, чтобы я сохраняла ее среди людей. Я, как вам
известно, сама владею богатством и не стремлюсь присвоить себе чужое; я
свободна и не чувствую желания надеть на себя ярмо; я не люблю никого и ни к
кому не питаю ненависти; не обманываю этого, не увлекаю того, не насмехаюсь
над одним, не развлекаюсь с другим. Дружеские разговоры с пастушками
окрестных деревень и забота о своих козах -- вот что меня занимает; желания
мои не переходят за предел этих гор, а если они и переступают через него, то
лишь только затем, чтобы созерцать красоту неба -- этот путь, по которому
человеческая душа возносится к первоначальной своей обители.
С этими словами Марсела, не дожидаясь ответа, повернулась и исчезла в
густой чаще ближнего леса, покрывавшего горные склоны, оставив всех
присутствовавших в восхищении как от ее ума, так и от ее красоты. Некоторые
(из числа очарованных волшебными стрелами прекрасных ее глаз) собрались,
по-видимому, следовать за нею вопреки только что слышанному столь ясному
предупреждению. Заметив это, Дон Кихот -- так как ему казалось, что настала
пора для выполнения его рыцарских обязанностей вступаться за девушек,
нуждающихся в защите, -- схватился за рукоятку своего меча и воскликнул
громким и внятным голосом:
-- Пусть никто -- какое бы он ни занимал положение, к какому бы ни
принадлежал званию -- не осмелится следовать за красавицей Марселой под
страхом навлечь на себя мое яростное негодование. Убедительными и ясными
доводами доказала она незначительность, или, вернее, отсутствие всякой ее
вины в смерти Грисостомо, а также насколько далека от нее мысль снизойти к
желаниям кого-либо из ее поклонников. Итак, по справедливости, вместо того
чтобы следовать за нею и преследовать ее, все благомыслящие люди в мире
должны были бы уважать и чтить ее, так как выяснилось, что одна она живет на
свете с столь чистыми намерениями.
Вследствие ли угроз Дон Кихота, или потому что Амбросио просил до конца
оказать последний долг его дорогому другу, никто из пастухов не двинулся с
места и не ушел до тех пор, пока не окончили высекать в скале могилу, бумаги
Грисостомо не были сожжены, и труп его не был опущен в гробницу среди слез,
проливаемых всеми присутствующими. Могилу прикрыли временно большим обломком
скалы, пока не будет готова плита, которую Амбросио, как он сообщил, решил
заказать с нижеследующей эпитафией:
Пастуха здесь труп безгласный,
Труп недвижимый зарыт.
Был он юн; любовью страстной
Он пылал, -- и ей убит.
Он убит, сведен в могилу
Девой, камня холодней,
Но Амур-тиран дал силу,
Дал ей власть среди людей.
Затем они осыпали могилу цветами и зелеными ветками, и, выразив чувство
соболезнования другу покойного, Амбросио, простились с ним. То же сделали
Вивальдо и его товарищ, а Дон Кихот простился с бывшими своими хозяевами и с
путешественниками, которые уговаривали его ехать с ними в Севилью, так как
это самое подходящее место для искателя приключений: там на каждой улице, на
каждом перекрестке можно найти их больше, чем где бы то ни было. Дон Кихот
поблагодарил путешественников за совет и за желание оказать ему услугу, но
объявил, что он не может и не должен ехать в Севилью, пока не очистит
окрестные горы от мошенников и разбойников, которыми они, по слухам,
переполнены. Узнав о его похвальном намерении, путешественники не пожелали
больше докучать ему и, снова простившись с ним, отправились своим путем, в
продолжение которого у них было о чем поговорить, -- как об истории Марселы
и Грисостомо, так и о безумии Дон Кихота. А этот последний решил разыскать
пастушку Марселу и предложить ей свои услуги. Но случилось иначе, чем он
предполагал, что мы и узнаем из продолжения правдивой этой истории, вторая
часть которой оканчивается здесь {Сервантес первоначально разделил первый
том "Дон Кихота" на четыре части, в подражание "Амадису Галльскому", но не
довел этого намерения до конца, и второй том назвал лишь второй частью,
разделив ее только на главы.}.
ПЕСНЯ ГРИСОСТОМО
Коль ты сама, бездушная, желаешь,
Чтобы из уст в уста ко всем народам
Неслась молва о лютом твоем гневе,--
Так пусть же в грудь, истерзанную горем,
Сам ад вольет мне жалобные звуки,
И заглушат они мой прежний голос.
Хочу ужасным воплем я поведать
О скорбной участи моей и злых
Твоих поступках. Пусть весь мир узнает,
Какой жестокой пыткой истерзала
Мне сердце ты, разбитое тобой.
Так слушай же; внимай не сладким звукам,
А страшным стонам, вырванным из груди,
Богатой горем, властью исступленья
И силой мук жестоких, в облегченье,
В усладу мне -- тебе же лишь к досаде.
Пусть волка дикий вой и льва рыканье,
Шипенье змей чешуйчатых и рев
Ужасных, нам неведомых чудовищ;
Пусть крик зловещий ворона, шум бури
На лоне вод морских, мычанье
Быка сраженного и одинокий
Голубки стон; пусть зов совы печальной
И плач сынов всей черной преисподней --
Все, все скорей сольется в звук единый,
И этот звук, исторгнутый из глуби
Больной души, сумеет потрясти
Весь мир, все чувства, мысли все!
Страдание мое так сильно, что о нем поведать
Нельзя путем обычным... К новым средствам,
К картинам новым должен я прибегнуть!..
Смешенье звуков страшных -- отголосок
Моей безумной скорби -- не услышат
Пески родного Тахо и оливы
Бетиса[1] славного, -- здесь изолью я
[1] Бетис -- древнее название Гвадалквивира, берега которого обсажены и
поныне оливковыми деревьями.
Печаль мою, на высях хмурых скал,
В глуби ущелий -- языком хоть мертвым,
Но речью, полной жизни; изолью
Печаль свою в местах я безотрадных,
Там, где нога людская не ступала,
В краях, где солнце никогда не светит,
Иль средь толпы чудовищ ядовитых,
Которых Нил питает и растит.
Но хоть в безлюдных, диких лишь пустынях
Звучать мой возглас будет, -- отголосок
Глухой и смутный о моих страданьях
И о твоей жестокости безмерной,
Веленьем рока злого разнесется
Из уст в уста по всем концам вселенной.
Казнит и мучит ревность, убивает
Презренье, гасит жизни цвет и силу
Разлуки долгой гнет, яд подозрений --
Правдивых, ложных ли -- терпенье губит;
И нет защиты от тисков забвенья
В надежде твердой на любовь и счастье!
Во всем здесь смерть, -- она неотразима,
А я -- о диво дивное -- живу,
Живу, отвергнутый, томим презреньем,
Разлукой, ревностью и подозреньем,
Горю в огне, снедающем меня!
Средь стольких мук не вижу я просвета;
Не может взор мой уловить средь них
Хотя бы тень надежды отдаленной,--
И больше к ней взывать уж не хочу я;
В глухом отчаянье, чтоб вдосталь горем
Упиться мне, клянусь теперь вовеки
Луча малейшего надежды убегать.
Возможно ль в тот же миг питать надежду
И страх, иль хорошо ли это делать,
Когда причины страха непреложны?
И если ревность злая пред глазами
Стоит -- закрыть их надо ль мне, раз видеть
Ее я вынужден в глубоких ранах,
В кровавых ранах сердца моего?
Кто б не раскрыл отчаянью все двери,
Когда открытое к себе презренье
Он видит; и все то, что подозреньем
Лишь только было, обращенным в правду
Он видит, -- правду ж -- обращенной в ложь?
О ревность, лютый деспот во владеньях
Любви, ты дай скорей мне нож свой в руки!
А ты, презренье, ты неси веревку
Для казни мне! Увы! Непобедимо
Живет о вас еще воспоминанье
В душе моей средь ужасов страданья!
Но смерть близка... И так как не надеюсь
На счастье в жизни я иль в смерти, твердо
Держусь своих фантазий и скажу,
Что всех умней, кто всех сильнее любит;
Что всех свободней в мире тот, кто рабски
Тиранству древнему любви покорен;
Что та, которая меня сгубила,
Душой прекрасна так же, как и телом;
Что сам в ее измене я повинен
И что любовь царит и мирно правит
Лишь оттого, что столько в ней страданья.
С такими мыслями стяну я крепко
На шее петлю, и, уйдя туда,
Куда ведет меня ее презренье,
Я ветрам тело бренное и душу
Отдам без пальм и лавров благ грядущих.
А ты, чья горькая несправедливость
Меня принудила несправедливым
Быть к жизни -- к юной, бедной жизни,
Теперь постылой мне и ненавистной,--
Ты видишь ли, что так сквозит открыто
Из сердца ран глубоких, как навстречу
Твоим желаньям радостно иду я?
Но если б небо ясное прекрасных
Твоих очей нежданно омрачилось
От ранней гибели моей, -- не надо
Мне слез твоих, не надо мне награды
За то, что отдал я тебе всю душу!
Нет, лучше смехом звонким докажи ты,
Что смерть моя тебе веселый праздник!
Глупец, к чему об этом говорю я
Ведь знаю: славой для себя сочтешь ты,
Чтоб я скорей к трагической развязке
Довел бы повесть жизни безотрадной!
Настало время... Из глубокой бездны
Явись, Тантал, с твоей ужасной жаждой,
И ты, Сизиф, с скалой безмерно тяжкой,
Пусть Прометей мне коршуна приносит,
Пусть с колесом ко мне спешит Эгион,
И с пыткой злой идут пусть Данаиды
С своей вовек ненаполнимой бочкой;
Пусть все свои смертельные страданья
Они вольют мне в грудь и заунывно
Надгробный плач свершат (коль подобает
Он тем, кто впал в отчаянье) над трупом,
Лишенным всяких почестей прощальных,
И пусть привратник трехголовый ада
Со стаей всей химер и чудищ разных
Усилят хор печальный; проводов иных,
Сдается мне, иного погребенья
Не стоит тот, кто умер от любви!
О песнь отчаянья, ты воплем скорби
И криком муки не греми над миром!
Коль той, из-за которой ты родилась,
Мое несчастье счастье лишь приносит,
А скорбь моя дарит веселье, -- лучше
Умолкни навсегда со мной в могиле!
Слушателям очень понравилось стихотворение Грисостомо, но читавший его
Вивальдо сказал, что, по его мнению, оно противоречит молве о скромности и
целомудрии Марселы, так как Грисостомо жалуется на ревность, подозрения и
разлуку в ущерб доброму имени и доброй славе Марселы. На это Амбросио, как
человек, хорошо знавший даже тайные мысли своего друга, ответил так:
-- Желая рассеять ваши сомнения, сеньор, я должен вам сказать, что,
когда несчастный писал эту песнь, он действительно находился вдали от
Марселы, с которой не виделся по доброй своей воле, решив испытать, не
окажет ли и на него разлука обычного своего действия. А так как всякая
безделица тревожит отсутствующего влюбленного и его терзают разные мнимые
страхи, то и Грисостомо мучился воображаемой ревностью и воображаемыми
подозрениями, точно действительными. Таким образом, все, что молва
разглашает о добродетели Марселы, остается по-прежнему истинным, и, за
исключением того, что она жестокосерда, несколько заносчива и очень
пренебрежительна, сама зависть не может и не должна обвинять ее в каком бы
то ни было проступке.
-- Совершенно верно, -- ответил Вивальдо. И он только что собрался
прочесть еще одну из рукописей, спасенных им от огня, но ему помешало чудное
видение (оно казалось таковым), внезапно представшее перед их глазами. Дело
в том, что на вершине скалы, у подножия которой высекали могилу, появилась
пастушка Марсела, такая прекрасная, что красота ее превосходила все, что о
ней говорили. Те, кто впервые ее видели, смотрели на нее с безмолвным
восхищением, и даже те, которые уже привыкли ее видеть, были поражены не
менее видевших ее впервые.
Но едва ее заметил Амбросио, как он, глубоко возмущенный, сказал,
обращаясь к ней:
-- Быть может, о лютый василиск этих гор, ты явилась сюда посмотреть,
не раскроются ли вновь в твоем присутствии раны этого несчастного, которого
лишила жизни твоя жестокость? Или же ты намерена хвалиться ужасными своими
подвигами, или смотреть с вершины этой скалы, точно второй бездушный Нерон,
на пожар пылающего Рима, или надменно попирать ногами несчастный этот труп,
как бесчеловечная дочь попирала труп своего отца Тарквиния? {Не Тарквиний, а
Сервий Туллий.} Говори скорей, зачем явилась ты сюда, или что, собственно,
тебе угодно, потому что, хорошо зная, как при жизни Грисостомо не переставал
подчиняться тебе во всех своих помышлениях, я постараюсь, чтобы и после его
смерти твоим желаниям подчинялись все те, которые назывались его друзьями.
-- Я пришла, о Амбросио, не для того, о чем ты говоришь, -- ответила
Марсела, -- а только для того, чтобы защитить себя и доказать, как
несправедливо судят те, которые винят меня в своих страданиях и в смерти
Грисостомо. Итак, прошу всех здесь присутствующих внимательно выслушать
меня, потому что не потребуется ни много времени, ни много слов, чтобы
убедить умных людей в истине. Небо, как вы говорите, создало меня красивой,
и столь красивой, что вы не имеете сил противостоять моей красоте, и она
побуждает вас любить меня, а за любовь, которую вы мне выказываете, вы
думаете и воображаете, что и я обязана любить вас. Благодаря разуму, которым
Бог одарил меня, я знаю, что все прекрасное мило нашему сердцу, но не могу
понять, почему тот, которого любят за красоту, обязан любить того, кто его
любит? Тем более, могло бы ведь случиться, что любящий красивое сам
безобразен, а так как безобразное достойно отвращения, было бы несправедливо
сказать: "Я люблю тебя за то, что ты красива; ты должна любить меня, хотя я
безобразен". Но если мы предположим случай, что красота с обеих сторон
равная, из этого еще не следует, чтобы и желания были равные; ведь, не
всякая красота вызывает любовь, -- иная радует глаз, но не покоряет сердце.
Если бы всякая красота вызывала любовь и покоряла сердца, то желания пришли
бы в столь великое смятение и так бы сбились с толку, что не могли бы ни на
чем остановиться; потому что если количество прекрасных предметов
бесчисленно, то и желания должны бы быть бесчисленны; и, судя по тому, что я
слышала, истинную любовь нельзя делить, и она должна быть свободной, а не
вынужденной. Если же это так -- а я думаю, что это так, -- как же вы можете
требовать, чтобы я насиловала свою волю только потому, что вы говорите, что
любите меня? А если нет, скажите мне: раз небо, создавшее меня красивой,
создало бы меня безобразной, могла бы я по справедливости негодовать на вас
за то, что вы меня не любите? Сверх того, вам еще следует принять во
внимание, что красоту, которою я обладаю, не я себе избрала, а такою, какою
она есть, получила ее в дар свыше, не прося и не добиваясь ее. И, подобно
тому как нельзя винить змею за смертоносный яд в ее жале, хотя она и убивает
им, потому что он дан ей природой, точно так же нельзя укорять и меня за то,
что я красива; ведь красота добродетельной женщины подобна дальнему огню или
острому мечу: огонь не жжет, и меч не режет тех, которые к ним не
приближаются. Честь и добродетели -- украшения души, без которых тело, хотя
бы оно и было красиво, не должно казаться таковым. Если же целомудрие --
одна из добродетелей, придающих наибольшую прелесть и украшающих тело и
душу, почему же та, которую любят за ее красоту, должна потерять целомудрие,
чтобы удовлетворить желания человека, который единственно ради своего
удовольствия прилагает все усилия и старания лишить ее этой добродетели? Я
родилась свободной и, чтобы иметь возможность жить свободной, избрала
уединение полей: деревья на горах этих -- мое общество; прозрачные воды
ручейков -- мои зеркала; деревьям и ручейкам доверяю я свои мысли и свою
красоту. Я -- дальний огонь, который не жжет, я -- меч, отложенный в
сторону. Тех, которые влюблялись в меня, увлекаясь моей красотой, я
разочаровывала моими словами; а если желания питаются надеждами, так как я
не дала никакой пищи желаниям Грисостомо, ни кого-либо другого, словом,
никому, -- можно было бы скорее сказать, что Грисостомо убило его упорство,
а не моя жестокость. Если же мне ставят в вину, что намерения его были
чисты, и поэтому я будто бы была обязана не отталкивать его, я отвечу: когда
он здесь, на этом самом месте, где теперь ему высекают могилу, открыл мне
чистоту своих намерений, я сказала ему, что мое намерение -- жить в
постоянном уединении и лишь одна земля насладится плодами моего уединения и
бренными останками моей красоты. Если после столь решительного ответа он все
же упорствовал в своих надеждах и плыл против течения, что удивительного в
том, что он утонул в водовороте собственного своего безумия? Если б я
обнадежила его, я бы солгала; если б исполнила его желание, я поступила бы в
разрез с лучшими моими чувствами и намерениями. Выведенный из заблуждения,
он все-таки упорствовал, и, хотя никто его не ненавидел, он впал в отчаяние;
теперь решайте: справедливо ли винить меня в его страданиях? Пусть жалуется
тот, кого обманули, впадает в отчаяние тот, кого опутали лживыми надеждами,
ждет чего-либо тот, кого я зову, и хвалится тот, кого я допущу к себе; но
пусть не называет меня жестокой или убийцей тот, кого я не обманывала, кому
ничего не обещала, кого не увлекала и не звала. Небу до сих пор еще не было
угодно, чтобы сама я полюбила, а думать, что я полюблю по чужому указанию,
об этом не может быть и речи. Пусть же это общее мое предостережение
послужит на пользу всем тем, которые ухаживают за мной, и отныне и впредь
станет известным, что, если еще кто-нибудь умрет из-за меня, его убьет не
ревность ко мне и не пренебрежение мое, потому что тот, кто никого не любит,
не может и внушить никому ревности, а откровенное признание, что не любишь,
не должно быть сочтено за пренебрежение. Тот, кто меня называет лютым зверем
и василиском, пусть избегает меня, как избегают всего злого и опасного; тот,
кто считает меня неблагодарной, пусть не ухаживает за мной; кто считает
бесчувственной, не ищет моего общества; кто считает жестокой, не идет за
мной; так как этот зверь, этот василиск, эта неблагодарная, эта жестокая и
бесчувственная, никоим образом не будет искать их, служить им, знакомиться с
ними и следовать за ними. И если Грисостомо убили его нетерпение и страстные
желания, почему же слагать вину за это на мою скромность и осмотрительность?
Если я сохраняю чистоту свою среди деревьев, как может требовать, чтобы я ее
утратила, тот, который желает, чтобы я сохраняла ее среди людей. Я, как вам
известно, сама владею богатством и не стремлюсь присвоить себе чужое; я
свободна и не чувствую желания надеть на себя ярмо; я не люблю никого и ни к
кому не питаю ненависти; не обманываю этого, не увлекаю того, не насмехаюсь
над одним, не развлекаюсь с другим. Дружеские разговоры с пастушками
окрестных деревень и забота о своих козах -- вот что меня занимает; желания
мои не переходят за предел этих гор, а если они и переступают через него, то
лишь только затем, чтобы созерцать красоту неба -- этот путь, по которому
человеческая душа возносится к первоначальной своей обители.
С этими словами Марсела, не дожидаясь ответа, повернулась и исчезла в
густой чаще ближнего леса, покрывавшего горные склоны, оставив всех
присутствовавших в восхищении как от ее ума, так и от ее красоты. Некоторые
(из числа очарованных волшебными стрелами прекрасных ее глаз) собрались,
по-видимому, следовать за нею вопреки только что слышанному столь ясному
предупреждению. Заметив это, Дон Кихот -- так как ему казалось, что настала
пора для выполнения его рыцарских обязанностей вступаться за девушек,
нуждающихся в защите, -- схватился за рукоятку своего меча и воскликнул
громким и внятным голосом:
-- Пусть никто -- какое бы он ни занимал положение, к какому бы ни
принадлежал званию -- не осмелится следовать за красавицей Марселой под
страхом навлечь на себя мое яростное негодование. Убедительными и ясными
доводами доказала она незначительность, или, вернее, отсутствие всякой ее
вины в смерти Грисостомо, а также насколько далека от нее мысль снизойти к
желаниям кого-либо из ее поклонников. Итак, по справедливости, вместо того
чтобы следовать за нею и преследовать ее, все благомыслящие люди в мире
должны были бы уважать и чтить ее, так как выяснилось, что одна она живет на
свете с столь чистыми намерениями.
Вследствие ли угроз Дон Кихота, или потому что Амбросио просил до конца
оказать последний долг его дорогому другу, никто из пастухов не двинулся с
места и не ушел до тех пор, пока не окончили высекать в скале могилу, бумаги
Грисостомо не были сожжены, и труп его не был опущен в гробницу среди слез,
проливаемых всеми присутствующими. Могилу прикрыли временно большим обломком
скалы, пока не будет готова плита, которую Амбросио, как он сообщил, решил
заказать с нижеследующей эпитафией:
Пастуха здесь труп безгласный,
Труп недвижимый зарыт.
Был он юн; любовью страстной
Он пылал, -- и ей убит.
Он убит, сведен в могилу
Девой, камня холодней,
Но Амур-тиран дал силу,
Дал ей власть среди людей.
Затем они осыпали могилу цветами и зелеными ветками, и, выразив чувство
соболезнования другу покойного, Амбросио, простились с ним. То же сделали
Вивальдо и его товарищ, а Дон Кихот простился с бывшими своими хозяевами и с
путешественниками, которые уговаривали его ехать с ними в Севилью, так как
это самое подходящее место для искателя приключений: там на каждой улице, на
каждом перекрестке можно найти их больше, чем где бы то ни было. Дон Кихот
поблагодарил путешественников за совет и за желание оказать ему услугу, но
объявил, что он не может и не должен ехать в Севилью, пока не очистит
окрестные горы от мошенников и разбойников, которыми они, по слухам,
переполнены. Узнав о его похвальном намерении, путешественники не пожелали
больше докучать ему и, снова простившись с ним, отправились своим путем, в
продолжение которого у них было о чем поговорить, -- как об истории Марселы
и Грисостомо, так и о безумии Дон Кихота. А этот последний решил разыскать
пастушку Марселу и предложить ей свои услуги. Но случилось иначе, чем он
предполагал, что мы и узнаем из продолжения правдивой этой истории, вторая
часть которой оканчивается здесь {Сервантес первоначально разделил первый
том "Дон Кихота" на четыре части, в подражание "Амадису Галльскому", но не
довел этого намерения до конца, и второй том назвал лишь второй частью,
разделив ее только на главы.}.

Глава XV, в которой рассказывается о несчастном приключении,
случившемся с Дон Кихотом при встрече с несколькими злобными янгуэсами[1]
 [1] Обитатели Янгуэсского округа в провинции Риола, в Старой Кастилии. И
теперь еще они же большей частью занимаются извозом.
Мудрый Сид Амет бен-Енхели рассказывает, что, когда Дон Кихот простился
со своими хозяевами и со всеми присутствовавшими на похоронах пастуха
Грисостомо, он и его оруженосец отправились в тот самый лес, куда, как они
видели, удалилась пастушка Марсела. Но, проискав ее там больше двух часов и
не найдя, они наконец очутились на лугу, покрытом зеленой травой. Вблизи его
журчал прохладный и свежий ручеек, пленивший их, и они соблазнились провести
здесь часы сиесты {Сиеста -- послеобеденный сон или полуденный отдых.},
укрывшись от полуденного зноя. Дон Кихот и Санчо спешились, и, предоставив
ослу и Росинанту пастись во всю их волю на лугу, покрытом обильной травой,
они достали дорожные сумки, и без всякой церемонии, в добром мире и согласии
господин и слуга сели и стали истреблять все, что там нашлось. Санчо не
позаботился спутать ноги Росинанту, так как считал его столь добронравным и
степенным, что все кобылы с пастбищ Кордовы не смогли бы совратить его с
правого пути. Но судьба и дьявол -- который не всегда спит -- устроили так,
что на этом лугу пасся табун галицийских кобыл, принадлежавших нескольким
галицийским погонщикам, а у них в обычае делать в полдень привал со своими
животными в местах, изобилующих травой и водой, и та поляна, где как раз
находился Дон Кихот, была очень подходящая и для галицийских погонщиков.
Случилось, однако, что Росинант почувствовал охоту позабавиться с сеньорами
кобылами, и лишь только он их почуял, как совершенно противно своим обычаям
и природе он, не спрашивая позволения у господина, мелкой, проворной рысцой
направился сообщить им о своей потребности. Но кобылы, по-видимому, больше
желали пастись, чем чего-либо другого, и приняли его ударами копыт и стали
грызть зубами, так что разорвали ему подпругу, и он стоял голый, без седла.
Однако чувствительнее всего для него оказалось то, что погонщики, увидав его
насильственные покушения на кобыл, подбежали к нему с дубинами и так
немилосердно стали бить его, что он свалился на землю в весьма жалком
состоянии. В это время Дон Кихот и Санчо, увидавшие, как били Росинанта,
прибежали, запыхавшись, и Дон Кихот сказал, обращаясь к Санчо:
-- Насколько я вижу, друг Санчо, эти люди не рыцари, а чернь, низкий
сброд; говорю это потому, что ты в полном праве помочь мне в справедливой
моей мести за обиду, нанесенную на наших глазах Росинанту.
-- Какая тут к черту месть, -- ответил Санчо, -- если их больше
двадцати, а нас два или, пожалуй, всего лишь полтора человека?
-- Один я стою сотни, -- возразил Дон Кихот и, не тратя больше слов,
обнажил меч и устремился на погонщиков. То же сделал и Санчо Панса,
возбужденный и воспламененный примером своего господина. Дон Кихот с первого
разу нанес одному из погонщиков удар, которым разрубил бывшее на том кожаное
полукафтанье, а также и значительную часть плеча. Галицийцы, увидав, что с
ними так жестоко расправляются всего лишь два человека, а их самих так
много, схватили дубины и, окружив своих противников, с величайшим
ожесточением и пылом стали осыпать их градом ударов. Правда, что со вторым
ударом Санчо уже лежал на земле, и то же случилось и с Дон Кихотом, которому
не помогли ни ловкость его, ни мужество. Судьбе было угодно, чтобы он упал к
ногам Росинанта, который все еще не мог подняться, из чего легко вывести
заключение, как ужасно действуют дубины в руках рассерженных крестьян. Когда
галицийцы увидели, какую они заварили кашу, они с величайшей поспешностью
навьючили своих кобыл и продолжали путь, оставив двух искателей приключений
распростертыми на земле в очень незавидном состоянии и еще худшем
расположении духа.
Первым пришел в себя Санчо Панса. Увидав, что он лежит рядом со своим
господином, он слабым и жалобным голосом проговорил:
-- Сеньор Дон Кихот, ах, сеньор Дон Кихот!
-- Чего ты желаешь, брат Санчо? -- отозвался Дон Кихот таким же слабым
и жалобным голосом, как и Санчо.
-- Я хотел бы, если б это было возможно, -- сказал Санчо Панса, --
чтобы ваша милость дала мне глотка два бальзама Фео-Бласа {Вместо
Фиерабраса.}, в случае если он у вас под рукой. Быть может, он окажется
таким же целебным для перелома костей, как и для ран.
-- Если б я имел его здесь -- несчастный я, -- чего же бы еще
недоставало нам, -- ответил Дон Кихот. -- Но клянусь тебе, Санчо Панса,
честью странствующего рыцаря, что не позже двух дней (если только судьба не
решит иначе) бальзам этот будет в моем распоряжении, или же у меня
перестанут действовать руки.
-- А как вы думаете, ваша милость, сколько потребуется времени, чтобы
мы были в состоянии двигать ногами? -- спросил Санчо Панса.
-- О себе могу сказать, -- ответил избитый рыцарь Дон Кихот, -- что не
сумею определить этому срок, но во всем случившемся виноват я сам, потому
что мне не следовало обнажать меча против людей, которые не были, подобно
мне, посвящены в рыцари. Итак, я думаю, что в наказание за то, что я нарушил
рыцарские законы, бог сражений допустил, чтобы эта кара постигла меня. Вот
почему, Санчо Панса, ты должен обратить внимание на то, что я сейчас скажу,
так как это очень важно для обоюдного нашего, твоего и моего, благополучия,
именно: если ты увидишь, что подобный сброд начнет оскорблять нас, не жди,
чтобы я обнажил против них свой меч,-- этого я никогда больше не сделаю, --
а вынимай свой и руби им сколько душе твоей угодно. Если же на помощь и в
защиту им явятся рыцари, я сумею со всей своею мощью защитить тебя и
отразить их. Ты ведь на тысяче примеров и опытов видел, до чего простирается
доблесть этой моей сильной руки.
[1] Обитатели Янгуэсского округа в провинции Риола, в Старой Кастилии. И
теперь еще они же большей частью занимаются извозом.
Мудрый Сид Амет бен-Енхели рассказывает, что, когда Дон Кихот простился
со своими хозяевами и со всеми присутствовавшими на похоронах пастуха
Грисостомо, он и его оруженосец отправились в тот самый лес, куда, как они
видели, удалилась пастушка Марсела. Но, проискав ее там больше двух часов и
не найдя, они наконец очутились на лугу, покрытом зеленой травой. Вблизи его
журчал прохладный и свежий ручеек, пленивший их, и они соблазнились провести
здесь часы сиесты {Сиеста -- послеобеденный сон или полуденный отдых.},
укрывшись от полуденного зноя. Дон Кихот и Санчо спешились, и, предоставив
ослу и Росинанту пастись во всю их волю на лугу, покрытом обильной травой,
они достали дорожные сумки, и без всякой церемонии, в добром мире и согласии
господин и слуга сели и стали истреблять все, что там нашлось. Санчо не
позаботился спутать ноги Росинанту, так как считал его столь добронравным и
степенным, что все кобылы с пастбищ Кордовы не смогли бы совратить его с
правого пути. Но судьба и дьявол -- который не всегда спит -- устроили так,
что на этом лугу пасся табун галицийских кобыл, принадлежавших нескольким
галицийским погонщикам, а у них в обычае делать в полдень привал со своими
животными в местах, изобилующих травой и водой, и та поляна, где как раз
находился Дон Кихот, была очень подходящая и для галицийских погонщиков.
Случилось, однако, что Росинант почувствовал охоту позабавиться с сеньорами
кобылами, и лишь только он их почуял, как совершенно противно своим обычаям
и природе он, не спрашивая позволения у господина, мелкой, проворной рысцой
направился сообщить им о своей потребности. Но кобылы, по-видимому, больше
желали пастись, чем чего-либо другого, и приняли его ударами копыт и стали
грызть зубами, так что разорвали ему подпругу, и он стоял голый, без седла.
Однако чувствительнее всего для него оказалось то, что погонщики, увидав его
насильственные покушения на кобыл, подбежали к нему с дубинами и так
немилосердно стали бить его, что он свалился на землю в весьма жалком
состоянии. В это время Дон Кихот и Санчо, увидавшие, как били Росинанта,
прибежали, запыхавшись, и Дон Кихот сказал, обращаясь к Санчо:
-- Насколько я вижу, друг Санчо, эти люди не рыцари, а чернь, низкий
сброд; говорю это потому, что ты в полном праве помочь мне в справедливой
моей мести за обиду, нанесенную на наших глазах Росинанту.
-- Какая тут к черту месть, -- ответил Санчо, -- если их больше
двадцати, а нас два или, пожалуй, всего лишь полтора человека?
-- Один я стою сотни, -- возразил Дон Кихот и, не тратя больше слов,
обнажил меч и устремился на погонщиков. То же сделал и Санчо Панса,
возбужденный и воспламененный примером своего господина. Дон Кихот с первого
разу нанес одному из погонщиков удар, которым разрубил бывшее на том кожаное
полукафтанье, а также и значительную часть плеча. Галицийцы, увидав, что с
ними так жестоко расправляются всего лишь два человека, а их самих так
много, схватили дубины и, окружив своих противников, с величайшим
ожесточением и пылом стали осыпать их градом ударов. Правда, что со вторым
ударом Санчо уже лежал на земле, и то же случилось и с Дон Кихотом, которому
не помогли ни ловкость его, ни мужество. Судьбе было угодно, чтобы он упал к
ногам Росинанта, который все еще не мог подняться, из чего легко вывести
заключение, как ужасно действуют дубины в руках рассерженных крестьян. Когда
галицийцы увидели, какую они заварили кашу, они с величайшей поспешностью
навьючили своих кобыл и продолжали путь, оставив двух искателей приключений
распростертыми на земле в очень незавидном состоянии и еще худшем
расположении духа.
Первым пришел в себя Санчо Панса. Увидав, что он лежит рядом со своим
господином, он слабым и жалобным голосом проговорил:
-- Сеньор Дон Кихот, ах, сеньор Дон Кихот!
-- Чего ты желаешь, брат Санчо? -- отозвался Дон Кихот таким же слабым
и жалобным голосом, как и Санчо.
-- Я хотел бы, если б это было возможно, -- сказал Санчо Панса, --
чтобы ваша милость дала мне глотка два бальзама Фео-Бласа {Вместо
Фиерабраса.}, в случае если он у вас под рукой. Быть может, он окажется
таким же целебным для перелома костей, как и для ран.
-- Если б я имел его здесь -- несчастный я, -- чего же бы еще
недоставало нам, -- ответил Дон Кихот. -- Но клянусь тебе, Санчо Панса,
честью странствующего рыцаря, что не позже двух дней (если только судьба не
решит иначе) бальзам этот будет в моем распоряжении, или же у меня
перестанут действовать руки.
-- А как вы думаете, ваша милость, сколько потребуется времени, чтобы
мы были в состоянии двигать ногами? -- спросил Санчо Панса.
-- О себе могу сказать, -- ответил избитый рыцарь Дон Кихот, -- что не
сумею определить этому срок, но во всем случившемся виноват я сам, потому
что мне не следовало обнажать меча против людей, которые не были, подобно
мне, посвящены в рыцари. Итак, я думаю, что в наказание за то, что я нарушил
рыцарские законы, бог сражений допустил, чтобы эта кара постигла меня. Вот
почему, Санчо Панса, ты должен обратить внимание на то, что я сейчас скажу,
так как это очень важно для обоюдного нашего, твоего и моего, благополучия,
именно: если ты увидишь, что подобный сброд начнет оскорблять нас, не жди,
чтобы я обнажил против них свой меч,-- этого я никогда больше не сделаю, --
а вынимай свой и руби им сколько душе твоей угодно. Если же на помощь и в
защиту им явятся рыцари, я сумею со всей своею мощью защитить тебя и
отразить их. Ты ведь на тысяче примеров и опытов видел, до чего простирается
доблесть этой моей сильной руки.
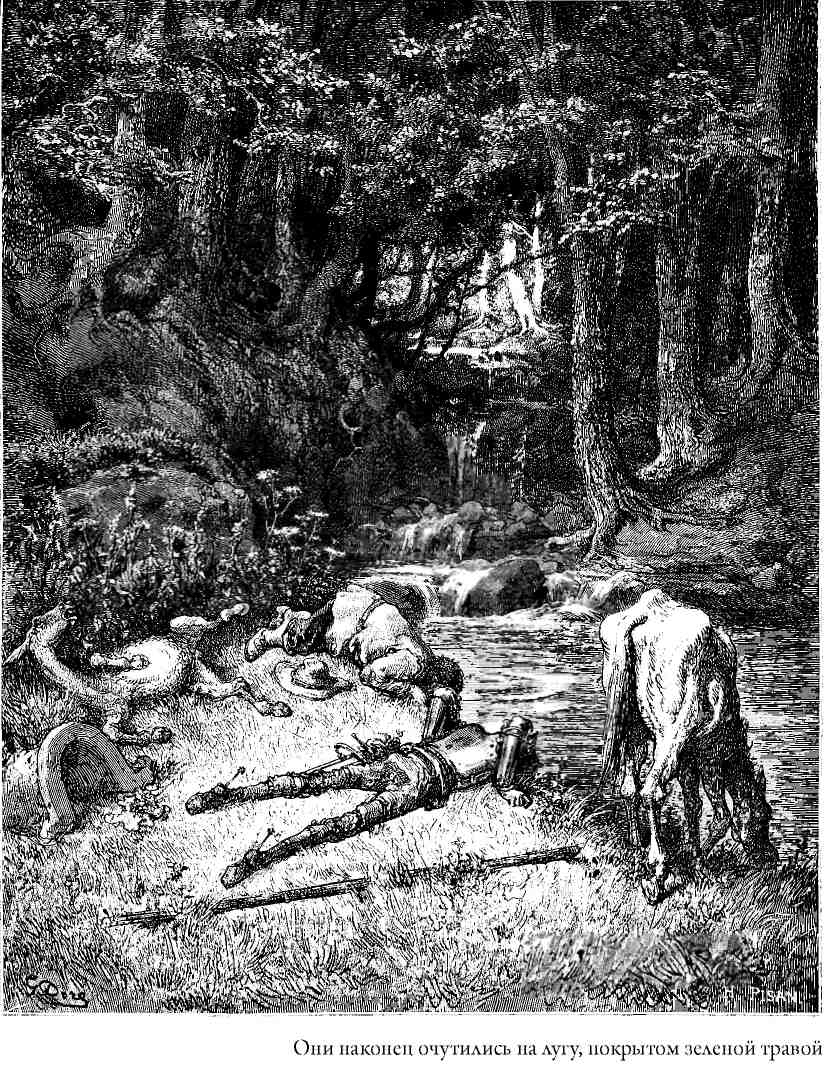 Вот каким заносчивым стал бедный сеньор после своей победы над храбрым
бискайцем. Но это предупреждение господина не очень-то понравилось Санчо
Пансе, так что он не удержался, чтобы не ответить ему:
-- Сеньор, я человек тихий, спокойный и миролюбивый и могу снести какую
бы то ни было обиду, потому что имею жену и детей, которых я должен
прокормить и воспитать. Итак, я тоже предупреждаю вашу милость (потому что
не вправе приказывать), что я никоим образом не стану обнажать меча ни
против простолюдина, ни против рыцаря, и что отныне и впредь я -- пред лицом
Божьим -- прощаю всякую обиду и оскорбление, которые мне нанесли или могут
нанести люди знатного или низкого рода, богатые или бедные, из дворян или
податного сословия {Pechero (исп.) -- человек платящий pecho, подать, от
которой дворяне (идальго) были освобождены.}, одним словом, какого бы ни
было звания или положения.
Услыхав это, его господин ответил ему:
-- Желал бы я, чтобы у меня не занимало дыхание, и я мог бы говорить
без затруднения, и чтобы боль в боку несколько утихла, и я был бы в
состоянии объяснить тебе, Санчо, как сильно ты ошибаешься. Слушай,
несчастный грешник: если бы судьба, столь неблагоприятная нам до сих пор,
вдруг повернулась в нашу сторону и паруса наших желаний так окрепли, что мы
быстро и беспрепятственно вошли бы в гавань одного из тех островов, который
я тебе обещал, -- что сталось бы с тобой, если бы, после того как я завоевал
его и назначил тебя губернатором, ты сделал бы невозможным это свое
назначение тем, что ты не рыцарь, не желаешь им быть и не имеешь ни
мужества, ни намерения мстить за нанесенные тебе обиды и защищать свои
владения? Ведь ты должен знать, что в королевствах и провинциях, недавно
завоеванных, жители вовсе не так спокойны и не так преданы своему новому
повелителю, чтобы можно было не опасаться каких-нибудь вспышек с целью еще
раз изменить существующий строй и попытать счастье в перевороте, как принято
говорить. Вот почему необходимо, чтобы новый владетель обладал умом и
искусством управлять, а также и мужеством, чтобы, смотря по обстоятельствам,
нападать или защищаться.
-- В только что случившихся с нами обстоятельствах, -- ответил Санчо,
-- я желал бы обладать тем умом и мужеством, о которых говорила ваша
милость; но, клянусь вам честью бедного человека, мне более нужны припарки,
чем разговоры. Попытайтесь, ваша милость, не удастся ли вам встать на ноги,
и тогда мы поможем поднять Росинанта, хотя он этого и не заслуживает, так
как был главной причиной избиения нашего. Никогда я не ждал ничего подобного
от Росинанта, которого считал таким же целомудренным и миролюбивым, каков я
сам. Но справедливо говорят, что надо много времени, чтобы хорошенько узнать
людей, и что в жизни нет ничего вполне достоверного. Кто бы мог сказать, что
после страшных ударов меча, которыми милость ваша наградила того несчастного
странствующего рыцаря, так быстро и неожиданно последует этот великий ураган
палочных ударов, обрушившийся на наши плечи?
Вот каким заносчивым стал бедный сеньор после своей победы над храбрым
бискайцем. Но это предупреждение господина не очень-то понравилось Санчо
Пансе, так что он не удержался, чтобы не ответить ему:
-- Сеньор, я человек тихий, спокойный и миролюбивый и могу снести какую
бы то ни было обиду, потому что имею жену и детей, которых я должен
прокормить и воспитать. Итак, я тоже предупреждаю вашу милость (потому что
не вправе приказывать), что я никоим образом не стану обнажать меча ни
против простолюдина, ни против рыцаря, и что отныне и впредь я -- пред лицом
Божьим -- прощаю всякую обиду и оскорбление, которые мне нанесли или могут
нанести люди знатного или низкого рода, богатые или бедные, из дворян или
податного сословия {Pechero (исп.) -- человек платящий pecho, подать, от
которой дворяне (идальго) были освобождены.}, одним словом, какого бы ни
было звания или положения.
Услыхав это, его господин ответил ему:
-- Желал бы я, чтобы у меня не занимало дыхание, и я мог бы говорить
без затруднения, и чтобы боль в боку несколько утихла, и я был бы в
состоянии объяснить тебе, Санчо, как сильно ты ошибаешься. Слушай,
несчастный грешник: если бы судьба, столь неблагоприятная нам до сих пор,
вдруг повернулась в нашу сторону и паруса наших желаний так окрепли, что мы
быстро и беспрепятственно вошли бы в гавань одного из тех островов, который
я тебе обещал, -- что сталось бы с тобой, если бы, после того как я завоевал
его и назначил тебя губернатором, ты сделал бы невозможным это свое
назначение тем, что ты не рыцарь, не желаешь им быть и не имеешь ни
мужества, ни намерения мстить за нанесенные тебе обиды и защищать свои
владения? Ведь ты должен знать, что в королевствах и провинциях, недавно
завоеванных, жители вовсе не так спокойны и не так преданы своему новому
повелителю, чтобы можно было не опасаться каких-нибудь вспышек с целью еще
раз изменить существующий строй и попытать счастье в перевороте, как принято
говорить. Вот почему необходимо, чтобы новый владетель обладал умом и
искусством управлять, а также и мужеством, чтобы, смотря по обстоятельствам,
нападать или защищаться.
-- В только что случившихся с нами обстоятельствах, -- ответил Санчо,
-- я желал бы обладать тем умом и мужеством, о которых говорила ваша
милость; но, клянусь вам честью бедного человека, мне более нужны припарки,
чем разговоры. Попытайтесь, ваша милость, не удастся ли вам встать на ноги,
и тогда мы поможем поднять Росинанта, хотя он этого и не заслуживает, так
как был главной причиной избиения нашего. Никогда я не ждал ничего подобного
от Росинанта, которого считал таким же целомудренным и миролюбивым, каков я
сам. Но справедливо говорят, что надо много времени, чтобы хорошенько узнать
людей, и что в жизни нет ничего вполне достоверного. Кто бы мог сказать, что
после страшных ударов меча, которыми милость ваша наградила того несчастного
странствующего рыцаря, так быстро и неожиданно последует этот великий ураган
палочных ударов, обрушившийся на наши плечи?
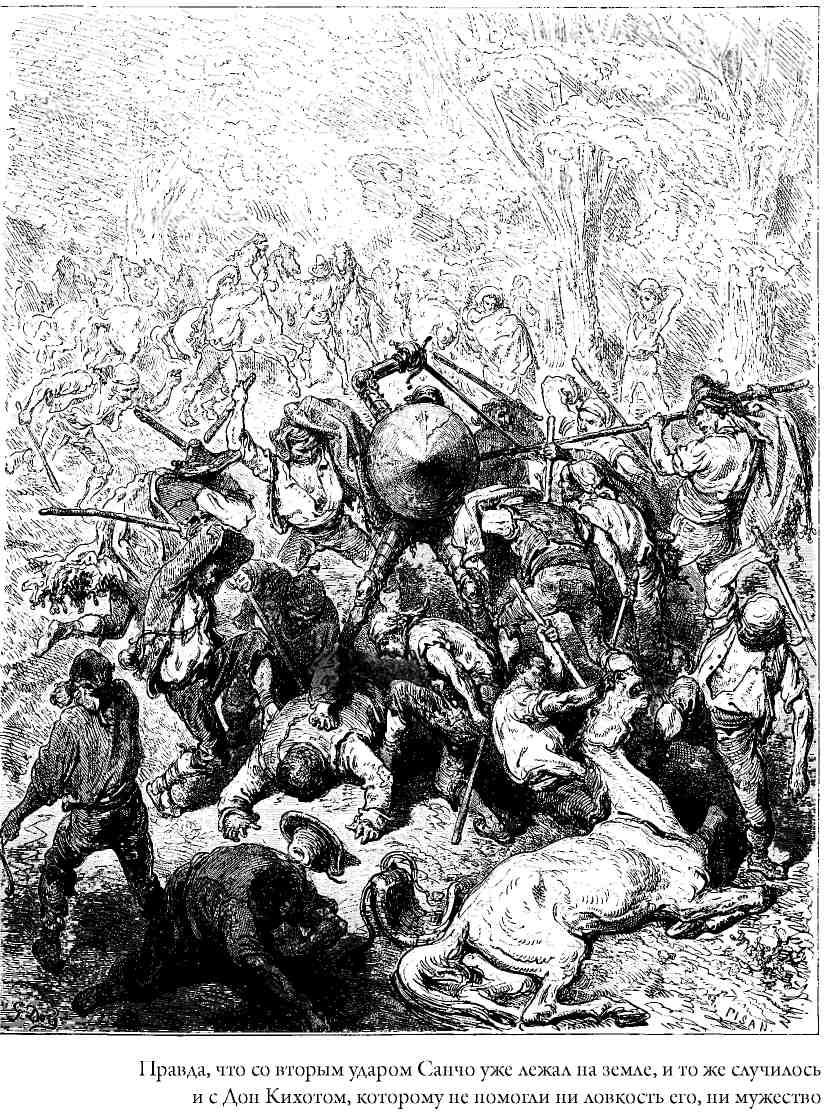 -- Твои плечи, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- должно быть, еще привычны
к такого рода ураганам, но мои, с детства прикрытые тонким голландским
полотном, очевидно, более чувствительны к ужасам этой катастрофы. И если бы
я не воображал -- что я говорю, воображал, -- если бы не знал наверное, что
все подобные невзгоды тесно связаны с рыцарским званием, я бы здесь же и
умер от одной лишь досады.
На это оруженосец ответил:
-- Сеньор, если такие несчастия составляют жатвы, собираемые
рыцарством, скажите мне, ваша милость, часто ли они следуют одна за другой,
или же в какие-нибудь известные сроки, потому что, мне думается, после двух
таких жатв мы окажемся негодными для третьей, если только Бог, в бесконечной
Своей милости, не придет нам на помощь.
-- Знай, друг Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- что жизнь странствующих
рыцарей подвержена тысяче опасностей и невзгод; но точно так же в их
непосредственной власти не более и не менее как сделаться императорами и
королями, как это доказывается примерами многих и различных рыцарей, история
которых мне хорошо известна. И я мог бы теперь -- если бы не препятствовала
мне боль -- рассказать тебе о некоторых рыцарях, завоевавших только
благодаря своему мужеству то высокое положение, о котором я сейчас говорил,
и эти же самые рыцари испытывали перед тем и после того всякого рода
невзгоды и неприятности. Так, мужественный Амадис Галльский очутился во
власти своего врага, волшебника Аркалая, который, как это достоверно
известно, однажды привязал пленного рыцаря к столбу на дворе и нанес ему
более двухсот ударов вожжами своей лошади. А безымянный, но заслуживающий
полного доверия автор рассказывает, как рыцарь Феб попал в западню,
раскрывшуюся у него под ногами в одном замке, и он, падая, очутился в
глубоком подземелье, связанный по рукам и ногам, а здесь ему поставили то,
что принято называть клистиром, из ледяной воды и песка, отчего он чуть не
умер; и если бы в этой великой беде ему не помог один волшебник -- его
большой приятель, -- то бедному рыцарю пришлось бы плохо. Так что и я не
прочь кое-что претерпеть в обществе стольких хороших людей, которые вынесли
более тяжкие оскорбления, чем вынесенные нами теперь. Мне бы хотелось, чтобы
ты, Санчо, знал, что раны, нанесенные случайно находившимся в руках орудием,
не считаются позорными; это изложено в законе о поединках в следующих ясных
выражениях: если башмачник ударит другого колодкой, которую держит в руках,
то, хотя эта колодка на самом деле такое же дерево, как и палка, тем не
менее нельзя сказать, что тот, кого хватили колодкой, был бит палкой. Говорю
это, чтобы ты не думал, что мы -- если нас и помяли в этой схватке -- тем
самым опозорены, потому что оружие, которым эти люди нас так немилосердно
избили, было не что иное, как колья, и ни у одного из них -- насколько мне
помнится -- не было ни шпаги, ни меча, ни кинжала...
-- Они не дали мне времени, -- ответил Санчо, -- так подробно
рассмотреть это; едва я взялся за свою Тисону {Название одного из мечей
Сида, другой его меч назывался Колада.}, как те люди благословили меня по
спине своими кольями так, что у меня потемнело в глазах, ноги подкосились, и
я свалился туда, где теперь лежу и где меня вовсе не тревожит мысль, были ли
или нет оскорблением полученные палочные удары, а лишь беспокоит боль от
этих ударов, которые останутся так же глубоко запечатлены в моей памяти, как
и на моих плечах.
-- Твои плечи, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- должно быть, еще привычны
к такого рода ураганам, но мои, с детства прикрытые тонким голландским
полотном, очевидно, более чувствительны к ужасам этой катастрофы. И если бы
я не воображал -- что я говорю, воображал, -- если бы не знал наверное, что
все подобные невзгоды тесно связаны с рыцарским званием, я бы здесь же и
умер от одной лишь досады.
На это оруженосец ответил:
-- Сеньор, если такие несчастия составляют жатвы, собираемые
рыцарством, скажите мне, ваша милость, часто ли они следуют одна за другой,
или же в какие-нибудь известные сроки, потому что, мне думается, после двух
таких жатв мы окажемся негодными для третьей, если только Бог, в бесконечной
Своей милости, не придет нам на помощь.
-- Знай, друг Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- что жизнь странствующих
рыцарей подвержена тысяче опасностей и невзгод; но точно так же в их
непосредственной власти не более и не менее как сделаться императорами и
королями, как это доказывается примерами многих и различных рыцарей, история
которых мне хорошо известна. И я мог бы теперь -- если бы не препятствовала
мне боль -- рассказать тебе о некоторых рыцарях, завоевавших только
благодаря своему мужеству то высокое положение, о котором я сейчас говорил,
и эти же самые рыцари испытывали перед тем и после того всякого рода
невзгоды и неприятности. Так, мужественный Амадис Галльский очутился во
власти своего врага, волшебника Аркалая, который, как это достоверно
известно, однажды привязал пленного рыцаря к столбу на дворе и нанес ему
более двухсот ударов вожжами своей лошади. А безымянный, но заслуживающий
полного доверия автор рассказывает, как рыцарь Феб попал в западню,
раскрывшуюся у него под ногами в одном замке, и он, падая, очутился в
глубоком подземелье, связанный по рукам и ногам, а здесь ему поставили то,
что принято называть клистиром, из ледяной воды и песка, отчего он чуть не
умер; и если бы в этой великой беде ему не помог один волшебник -- его
большой приятель, -- то бедному рыцарю пришлось бы плохо. Так что и я не
прочь кое-что претерпеть в обществе стольких хороших людей, которые вынесли
более тяжкие оскорбления, чем вынесенные нами теперь. Мне бы хотелось, чтобы
ты, Санчо, знал, что раны, нанесенные случайно находившимся в руках орудием,
не считаются позорными; это изложено в законе о поединках в следующих ясных
выражениях: если башмачник ударит другого колодкой, которую держит в руках,
то, хотя эта колодка на самом деле такое же дерево, как и палка, тем не
менее нельзя сказать, что тот, кого хватили колодкой, был бит палкой. Говорю
это, чтобы ты не думал, что мы -- если нас и помяли в этой схватке -- тем
самым опозорены, потому что оружие, которым эти люди нас так немилосердно
избили, было не что иное, как колья, и ни у одного из них -- насколько мне
помнится -- не было ни шпаги, ни меча, ни кинжала...
-- Они не дали мне времени, -- ответил Санчо, -- так подробно
рассмотреть это; едва я взялся за свою Тисону {Название одного из мечей
Сида, другой его меч назывался Колада.}, как те люди благословили меня по
спине своими кольями так, что у меня потемнело в глазах, ноги подкосились, и
я свалился туда, где теперь лежу и где меня вовсе не тревожит мысль, были ли
или нет оскорблением полученные палочные удары, а лишь беспокоит боль от
этих ударов, которые останутся так же глубоко запечатлены в моей памяти, как
и на моих плечах.
 -- Тем не менее я должен тебе сказать, брат Панса, -- ответил Дон
Кихот,-- что нет воспоминания, которого не истребило бы время, и нет горя,
которого не исцелила бы смерть.
-- Но какое же может быть большее несчастье, -- возразил Панса, -- как
то, когда приходится ждать, чтобы время его истребило и смерть положила ему
конец ? Если б несчастье наше было из числа тех, которые излечиваются
двумя-тремя пластырями, дело обстояло бы еще не так худо; но мне кажется,
что не хватило бы пластырей целого госпиталя, чтобы дать ему хороший оборот.
-- Оставь это и собери все свои слабые силы, Санчо -- ответил Дон
Кихот,-- я сделаю то же, и посмотрим, что с Росинантом, потому что, как мне
сдается, на беднягу обрушилась наибольшая доля нашей беды.
-- Удивляться тут нечему, ответил Санчо, -- ведь, и он тоже
странствующий рыцарь; удивляюсь я лишь тому, что мой осел остался цел и
ничем не поплатился; тогда как мы поплатились ребрами.
-- Счастье всегда оставляет в несчастьях открытой одну дверь, чтобы
дать им облегченье, -- сказал Дон Кихот. -- Говорю это потому, что твой
ослик может заменить мне теперь Росинанта и довезти меня до какого-нибудь
замка, где мне перевяжут раны. Я же вовсе не считаю позорным ехать на осле,
так как, помнится, где-то читал, что добрый старый Силен -- наставник и
воспитатель веселого бога смеха -- при въезде в стовратный город весьма
удобно сидел верхом на прекраснейшем осле.
-- Должно быть, он действительно, как говорит ваша милость, сидел
верхом, сказал Санчо, -- но большая разница: сидеть ли верхом или лежать
поперек осла, как мешок с навозом.
На это Дон Кихот ответил:
-- Раны, полученные в сраженье, приносят скорее честь, чем лишают ее.
Поэтому, друг Панса, не возражай мне больше, но, как я уже говорил,
постарайся подняться на ноги, усади меня, как тебе покажется лучше, на твоем
осле, и уедем отсюда прежде, чем спустится ночь и застигнет нас в этой
пустынной местности.
-- Но я слышал от вашей милости,-- сказал Санчо, -- что странствующим
рыцарям приличествует большую часть года спать в лесах и пустынных
местностях и они считают это за большое счастье для себя.
-- Это случается, -- ответил Дон Кихот, -- тогда, когда они не могут
поступить иначе или же когда они влюблены; последнее настолько верно, что
бывали рыцари, которые проводили по два года на скале, подвергаясь все время
зною, и стуже, и всякой непогоде, и об этом не знали их дамы. Одним из таких
рыцарей был Амадис, когда он, назвавшись Бельтенеброс {Красавец во мраке,
или погруженный во мрак.}, удалился на Пенья Побре и провел там, не знаю,
восемь ли месяцев или восемь лет -- точно не помню, -- достаточно, что он
там был, подвергаясь эпитимии за, не знаю какое, огорчение, причиненное ему
его дамой, сеньорой Орианой. Но оставим это, Санчо, и поспеши, прежде чем с
ослом не приключилось такой же беды, как с Росинантом.
-- Это уж было бы черт знает что,-- сказал Санчо, и, испуская из себя
тридцать "ой", шестьдесят вздохов, и послав сто двадцать проклятий по адресу
того, кто его сманил, он кое-как приподнялся, но, остановившись на
полдороге, стоял согнутый, как турецкий кривой лук, не будучи в состоянии
окончательно выпрямиться, несмотря на свои старания. Он взнуздал и оседлал
осла, тоже несколько сбившегося с дороги при чрезмерной свободе того дня.
Затем он поднял Росинанта, который, если б обладал даром слова, наверное, не
отстал бы в жалобах от Санчо и от своего господина. В заключение Санчо
устроил Дон Кихота на осле, привязал позади него Росинанта и, взяв осла за
уздечку, медленно поплелся по тому направлению, где, как ему казалось,
должна была пролегать большая дорога. Едва прошел он коротенькую милю, как
судьба -- направлявшая его дела от хорошего к лучшему -- вывела его на
большую дорогу, и он издали увидел постоялый двор, который, к досаде Санчо,
но к удовольствию Дон Кихота, этот последний принял за замок. Санчо
настаивал на том, что это постоялый двор, а Дон Кихот уверял, что замок, и
спор их был так продолжителен, что они, не окончив его, успели добраться до
постоялого двора, куда Санчо без дальнейшей проверки и въехал со всей своей
запряжкой.
-- Тем не менее я должен тебе сказать, брат Панса, -- ответил Дон
Кихот,-- что нет воспоминания, которого не истребило бы время, и нет горя,
которого не исцелила бы смерть.
-- Но какое же может быть большее несчастье, -- возразил Панса, -- как
то, когда приходится ждать, чтобы время его истребило и смерть положила ему
конец ? Если б несчастье наше было из числа тех, которые излечиваются
двумя-тремя пластырями, дело обстояло бы еще не так худо; но мне кажется,
что не хватило бы пластырей целого госпиталя, чтобы дать ему хороший оборот.
-- Оставь это и собери все свои слабые силы, Санчо -- ответил Дон
Кихот,-- я сделаю то же, и посмотрим, что с Росинантом, потому что, как мне
сдается, на беднягу обрушилась наибольшая доля нашей беды.
-- Удивляться тут нечему, ответил Санчо, -- ведь, и он тоже
странствующий рыцарь; удивляюсь я лишь тому, что мой осел остался цел и
ничем не поплатился; тогда как мы поплатились ребрами.
-- Счастье всегда оставляет в несчастьях открытой одну дверь, чтобы
дать им облегченье, -- сказал Дон Кихот. -- Говорю это потому, что твой
ослик может заменить мне теперь Росинанта и довезти меня до какого-нибудь
замка, где мне перевяжут раны. Я же вовсе не считаю позорным ехать на осле,
так как, помнится, где-то читал, что добрый старый Силен -- наставник и
воспитатель веселого бога смеха -- при въезде в стовратный город весьма
удобно сидел верхом на прекраснейшем осле.
-- Должно быть, он действительно, как говорит ваша милость, сидел
верхом, сказал Санчо, -- но большая разница: сидеть ли верхом или лежать
поперек осла, как мешок с навозом.
На это Дон Кихот ответил:
-- Раны, полученные в сраженье, приносят скорее честь, чем лишают ее.
Поэтому, друг Панса, не возражай мне больше, но, как я уже говорил,
постарайся подняться на ноги, усади меня, как тебе покажется лучше, на твоем
осле, и уедем отсюда прежде, чем спустится ночь и застигнет нас в этой
пустынной местности.
-- Но я слышал от вашей милости,-- сказал Санчо, -- что странствующим
рыцарям приличествует большую часть года спать в лесах и пустынных
местностях и они считают это за большое счастье для себя.
-- Это случается, -- ответил Дон Кихот, -- тогда, когда они не могут
поступить иначе или же когда они влюблены; последнее настолько верно, что
бывали рыцари, которые проводили по два года на скале, подвергаясь все время
зною, и стуже, и всякой непогоде, и об этом не знали их дамы. Одним из таких
рыцарей был Амадис, когда он, назвавшись Бельтенеброс {Красавец во мраке,
или погруженный во мрак.}, удалился на Пенья Побре и провел там, не знаю,
восемь ли месяцев или восемь лет -- точно не помню, -- достаточно, что он
там был, подвергаясь эпитимии за, не знаю какое, огорчение, причиненное ему
его дамой, сеньорой Орианой. Но оставим это, Санчо, и поспеши, прежде чем с
ослом не приключилось такой же беды, как с Росинантом.
-- Это уж было бы черт знает что,-- сказал Санчо, и, испуская из себя
тридцать "ой", шестьдесят вздохов, и послав сто двадцать проклятий по адресу
того, кто его сманил, он кое-как приподнялся, но, остановившись на
полдороге, стоял согнутый, как турецкий кривой лук, не будучи в состоянии
окончательно выпрямиться, несмотря на свои старания. Он взнуздал и оседлал
осла, тоже несколько сбившегося с дороги при чрезмерной свободе того дня.
Затем он поднял Росинанта, который, если б обладал даром слова, наверное, не
отстал бы в жалобах от Санчо и от своего господина. В заключение Санчо
устроил Дон Кихота на осле, привязал позади него Росинанта и, взяв осла за
уздечку, медленно поплелся по тому направлению, где, как ему казалось,
должна была пролегать большая дорога. Едва прошел он коротенькую милю, как
судьба -- направлявшая его дела от хорошего к лучшему -- вывела его на
большую дорогу, и он издали увидел постоялый двор, который, к досаде Санчо,
но к удовольствию Дон Кихота, этот последний принял за замок. Санчо
настаивал на том, что это постоялый двор, а Дон Кихот уверял, что замок, и
спор их был так продолжителен, что они, не окончив его, успели добраться до
постоялого двора, куда Санчо без дальнейшей проверки и въехал со всей своей
запряжкой.

Глава XVI О том, что случилось с остроумно-изобретательным идальго на
постоялом дворе, который он принял за замок
 Хозяин двора, увидав Дон Кихота, лежащим поперек седла, спросил Санчо:
чем этот человек болен? Санчо ответил, что он не болен, а только упал со
скалы и немного ушиб себе ребра. У хозяина была жена, непохожая на других
женщин своей профессии, потому что она от природы была сострадательна и
принимала к сердцу беды ближнего. Итак, она тотчас же поспешила на помощь к
Дон Кихоту и велела и дочери своей, молоденькой и хорошенькой девушке,
помогать ей ухаживать за приезжим. На том же постоялом дворе служила также
девушка-астурийка, с широким лицом, плоским затылком, коротким носом, на
один глаз кривая, и другой был у нее не совсем здоров. Правда, изящество
фигуры и роста вознаграждали за все эти недостатки, а именно: в ней, считая
с головы до пят, не было целых семи четвертей, и ее плечи, несколько ее
обременявшие, вынуждали ее смотреть вниз, на землю, больше, чем она того
желала бы. Итак, эта миловидная девушка явилась на подмогу хозяйской дочери,
и вдвоем они устроили Дон Кихоту очень скверную постель на чердаке, по явным
признакам служившем в былое время долгие годы помещением для хранения
соломы. Тут же ночевал и погонщик мулов, постель которого находилась не
очень далеко от постели Дон Кихота. И хотя она и была устроена из седел и
попон мулов, но имела большие преимущества перед постелью Дон Кихота,
состоявшей из четырех шероховатых досок, лежавших на двух не очень-то ровных
чурбанах; из тюфяка, такого тонкого, что он имел вид стеганого одеяла,
наполненного комками, которые -- если б через несколько имевшихся в тюфяке
дыр не видно было, что они из шерсти, -- по твердости можно было бы на ощупь
принять за кремни; из двух кожаных простынь и шерстяного одеяла, в котором
-- если б захотеть -- можно было бы сосчитать все нитки до единой. В эту-то
проклятую постель лег Дон Кихот, и тотчас же хозяйка с дочерью обложили его
пластырями с головы до ног, причем им светила Мариторнес, -- так звали
служанку-астурийку. А когда хозяйка, обкладывая рыцаря пластырями, увидела
на теле у него во многих местах синяки, она сказала, что это скорее похоже
на следы от ударов, чем на следы от падения.
-- Нет, это не удары, -- сказал Санчо, -- а у скалы было много углов и
выступов, и каждый из них оставил свой синяк. -- Затем он добавил: -- Прошу
вас, милость ваша, сеньора, сберегите немного этой пакли, так как найдется
еще кое-кто, кому она понадобится, потому что и у меня болит немного
поясница.
-- Значит, и вы упали со скалы? -- спросила хозяйка.
-- Я не упал, -- ответил Санчо Панса, -- но от внезапного испуга, когда
я увидел, что мой господин падает, у меня так заболело тело, что мне
кажется, будто мне надавали тысячи палочных ударов.
-- Это бывает, -- сказала хозяйская дочь, -- мне не раз случалось
видеть во сне, что я падаю с высокой башни и никак не могу достигнуть земли;
а когда потом я просыпалась, то чувствовала себя такой помятой и разбитой,
точно я в самом деле упала.
-- Загвоздка-то в том,-- ответил Санчо Панса, -- что вовсе не во сне, а
даже более наяву, чем теперь, у меня оказалось немногим менее синяков на
теле, чем у господина моего Дон Кихота.
-- Как зовут этого кабальеро? -- спросила астурийка Мариторнес.
-- Дон Кихотом Ламанчским, -- ответил Санчо Панса. -- Он странствующий
рыцарь и один из самых лучших и самых храбрых, когда-либо бывших на свете.
-- Что такое странствующий рыцарь? -- спросила служанка.
-- Вы еще так мало прожили на свете, что этого не знаете? -- сказал
Санчо Панса. -- Так слушайте же, сестра моя: странствующий рыцарь -- тот,
кто в мгновение ока видит себя и избитым, и императором. Сегодня он самое
несчастное и нуждающееся создание в мире, а завтра у него две или три
королевские короны для подарка своему оруженосцу.
-- Как же это вы, -- спросила хозяйка, -- состоя на службе у такого
превосходного сеньора, по-видимому, не владеете даже и графством?
-- Не время еще, -- ответил Санчо,-- всего лишь месяц, что мы
отправились в поиски за приключениями, и нам не встретилось ни одного,
которое заслуживало бы этого названия, а подчас бывает так, что ищешь одну
вещь, а находишь другую. Но, право, если господин мой Дон Кихот выздоровеет
от этих ран или от этого падения, а также и я не окажусь изувеченным от них,
я не променяю моих надежд на самый громкий титул в Испании.
Дон Кихот очень внимательно прислушивался ко всему этому разговору, и,
приподнявшись на постели, насколько мог, он взял хозяйку за руку и сказал:
-- Поверьте мне, прекрасная сеньора, вы можете почитать себя
счастливой, что приняли в этом вашем замке личность, подобную мне; и если я
не восхваляю себя, то лишь только потому, что принято говорить:
самовосхваление унижает; но мой оруженосец объяснит вам, кто я такой. Я же
скажу лишь одно, что сохраню навсегда в памяти оказанную мне вами услугу и
останусь вам за нее благодарен всю мою жизнь. И если бы высшим небесам не
было угодно, чтобы любовь меня так покорила и так подчинила своим законам и
прекрасным очам той неблагодарной, имя которой я шепчу про себя, очи
очаровательной вашей дочери сделались бы властелинами моей свободы.
Хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнес были смущены, слушая слова
странствующего рыцаря, и столько же поняли из них, как если б он говорил
по-гречески, хотя и догадались, что вся речь его клонилась лишь к
любезностям и благодарностям. Но так как они не привыкли к подобного рода
речам, то смотрели друг на друга и удивлялись, и он показался им совсем
другим человеком, чем те, каких они обыкновенно встречали. Поблагодарив его
на трактирном обиходном языке за его любезность, хозяйка с дочерью ушли,
астурийка же Мариторнес принялась лечить Санчо, который не меньше нуждался в
этом, чем его господин. Еще раньше погонщик мулов сговорился с Мариторнес
скоротать вместе с нею эту ночь, и она дала ему слово, как только улягутся
постояльцы и заснут хозяева, прийти к нему и подчиниться всем его желаниям.
А об этой доброй девушке передают, будто, когда она давала подобного рода
обещания, еще не было случая, чтобы она их не сдерживала, хотя бы дала их в
лесу и без свидетелей, потому что она очень гордилась своим дворянством
{Сервантес смеется здесь над слабостью, присущей астурийцам, -- хвастать
своим дворянством и знатностью рода. В качестве потомков чистокровных готов,
которые вновь отвоевали Испанию у мавров, астурийцы претендуют на особую
чистоту происхождения.} и не считала для себя унизительным служить на
постоялом дворе, так как, говорила она, лишь несчастия и плохие
обстоятельства довели ее до такого положения.
Жесткая, узкая, жалкая и предательская постель Дон Кихота стояла первая
среди звездного, как небо, чердака, а рядом с нею Санчо устроил себе
постель, состоявшую лишь из камышовой циновки и одеяла, скорей похожего на
реденький холст, чем на шерстяную ткань. За этими двумя постелями виднелась
постель погонщика мулов, устроенная, как уже было сказано, из вьючных седел
и попон его двух лучших мулов, а было их у него целых двенадцать, и все
такие откормленные, видные и красивые, так как он принадлежал к числу
богатых погонщиков из Аревало {Аревало -- город в Старой Кастилии, на
полдороге между Вальядолидом и Авила.}, судя по словам автора этой истории,
который о нем особо упоминает, потому что очень хорошо знал его и даже, как
некоторые утверждают, был ему несколько сродни {В те времена погонщики мулов
были большею частью мавры.}. Кроме того, Сид Амет бен-Енхели был крайне
добросовестным историком, что ясно видно из переданных нами обстоятельств,
которых, несмотря на их незначительность и ничтожность, он не пожелал обойти
молчанием; это могло бы служить примером серьезным историкам, передающим нам
о событиях так кратко и сжато, что они едва мажут ими по губам, оставляя --
вследствие небрежности, злобы или невежества -- все наиболее существенное на
дне чернильницы. Да здравствует тысячу раз автор "Табланта де Рикамонте" и
автор той другой книги, в которой рассказывается о подвигах графа Томильяса:
как точно и подробно они все там описывают!
Итак, я говорю, что погонщик, осмотрев своих мулов и задав им вторичную
порцию корма, растянулся на вьючных седлах и стал поджидать свою всегда
исполнительную Мариторнес. Санчо был уже весь обложен пластырями и лежал в
постели; хотя он и старался заснуть, но этому препятствовала боль в ребрах;
Дон Кихот также с болью в ребрах лежал с открытыми, как у зайца, глазами.
Весь постоялый двор был погружен в безмолвие, и нигде не было видно света,
за исключением лишь того, который исходил от лампы, висевшей посреди
галереи. Эта удивительная тишина и привычка рыцаря неотступно вспоминать о
событиях, рассказываемых на каждом шагу в книгах -- виновниках его
несчастий, -- зародили в его голове одну из самых странных нелепостей, какие
только можно выдумать, именно: он вообразил, что приехал в знаменитый замок
(потому что, как уже было сказано, все постоялые дворы, где он
останавливался, казались ему замками) и что дочь хозяина постоялого двора --
дочь владельца замка, которая, побежденная его изяществом, влюбилась в него
и обещала тайком от родителей прийти к нему этою ночью полежать с ним в
постели. Считая всю эту им самим созданную химеру за действительность и
истину, он стал тревожиться и думать об опасности, грозившей его
добродетели, и в душе своей твердо решил не изменять сеньоре Дульсинее
Тобосской, хотя бы перед ним предстала сама королева Хинебра с дуэньей своей
Кинтаньоною.
Пока он был углублен в эти нелепые мечтания, настало время и пробил час
(злополучный для него) прихода Мариторнес. Босиком, в одной рубашке, с
волосами, подобранными в сетку из бумазеи, она осторожными, тихими шагами
вошла в комнату, где помещались все трое, пробираясь к погонщику. Но едва
она переступила порог, как Дон Кихот услышал ее шаги и, поднявшись на
постели, несмотря на свои пластыри и боль в боках, открыл объятья, чтобы
принять в них красавицу астурийку, которая, крадучись и молча, протягивая
вперед руки, искала ощупью своего возлюбленного. Она встретила объятья Дон
Кихота; он крепко схватил ее за кисть руки и, привлекая к себе ее, не
смевшую выговорить ни слова, посадил на постель. Тотчас же дотронулся он до
ее рубашки, и, хотя она была сделана из самого грубого мешочного холста,
дерюга эта показалась ему тончайшим, мягким сендалем {Cendal (исп.) -- очень
тонкая материя, нечто вроде шелковой тафты.}. Кисти рук Мариторнес были
украшены несколькими нитками стеклянных бус, но ему эти бусы казались
драгоценнейшим жемчугом Востока. Ее волосы, смахивающие в некотором роде на
конскую гриву, он принял за нити сверкающего арабского золота, блеск
которого затмевал даже блеск самого солнца. А дыхание ее, несомненно
отдававшее перепрелым мясом и салатом, съеденным ею накануне, казалось ему
нежным и благоухающим ароматом, источаемым ее устами. Словом, он разрисовал
ее в своем воображении в том самом виде и по тому образцу, как он читал в
своих книгах о другой принцессе, которая, побежденная любовью, явилась во
всех вышеупомянутых украшениях навестить тяжелораненого рыцаря, покорившего
ее сердце. И так велико было ослепление бедного идальго, что ни
прикосновение, ни дыхание, ни другие вещи, имевшиеся у доброй девушки и
которые могли бы нагнать тошноту на всякого, кто не был погонщиком мулов, не
в состоянии были вывести его из заблуждения. Напротив того, ему казалось,
что он держит в своих объятиях богиню красоты, и, прижав ее крепко к себе,
он заговорил тихим и нежным голосом:
-- Желал бы я быть в состоянии, прекрасная и знатная сеньора,
отплатить, как должно, вам за высокую милость, которую вы мне оказали
зрелищем величайшей вашей красоты. Но судьба, без устали преследующая
добрых, бросила меня на эту постель, где я лежу до того измятый и разбитый,
что при всем моем желании мне было бы невозможно согласовать мою волю с
вашей, и тем более, что к этой невозможности присоединяется еще другая,
более значительная: верность, обещанная мною несравненной Дульсинее
Тобосской, единственной повелительнице самых сокровенных моих помыслов. Если
б не все эти препятствия, я не был бы столь тупоумным рыцарем, чтобы не
воспользоваться счастливым случаем, предложенным мне безграничной вашей
добротой.
Мариторнес была в страшной тревоге, и ее ударило в пот, когда она
увидела, что Дон Кихот так крепко держит ее; не понимая и не обращая
внимания на то, что он ей говорил, она молча старалась вырваться из его рук.
Что же касается почтенного погонщика мулов, которому тоже не давали заснуть
его греховные помыслы, он тотчас же заметил свою любезную, лишь только она
переступила порог, и стал внимательно прислушиваться ко всему, что говорил
Дон Кихот; загоревшись ревностью оттого, что астурийка нарушила в угоду
другому данное ему обещание, он пододвинулся ближе к постели Дон Кихота и,
притаившись, ждал, чем кончатся эти речи, из которых он ничего не понял. Но
когда он увидел, что девушка старается вырваться, а Дон Кихот насильно
удерживает ее, -- эта шутка ему не понравилась, и, широко размахнувшись, он
так сильно ударил кулаком по узким челюстям влюбленного рыцаря, что у того
мигом весь рот наполнился кровью. Однако, не довольствуясь этим, погонщик
вскочил на грудь Дон Кихота и, пройдясь по ней быстрой рысью, помял ему все
ребра. Постель, и без того слабо державшаяся на шатких подпорках, не могла
выдержать еще тяжесть погонщика и грохнула на пол. От сильного треска
проснулся хозяин и тотчас же подумал, что, должно быть, это штуки
Мариторнес, так как она не откликнулась на его громкий зов. С этим
подозрением он встал, зажег лампу и пошел по тому направлению, откуда
услышал шум. Видя, что хозяин идет и что он в страшном гневе, служанка от
страха и смущения залезла в постель еще спавшего Санчо Пансы и там
свернулась в клубок. Войдя в комнату, хозяин крикнул:
-- Где ты, непотребная женщина? Наверное, это все твои шашни?
Тут как раз проснулся Санчо и, чувствуя тяжесть, лежавшую у него чуть
ли не на груди, подумал, что с ним кошмар, и стал махать во все стороны
кулаками; многие из его ударов попали в Мариторнес, которая от боли, позабыв
всякий стыд, принялась давать ему такую хорошую сдачу, что, против его
желания, спугнула с него всякий сон. Чувствуя, что его бьют, и не зная, кто
это делает, он, как мог, поднялся, схватил Мариторнес, и между ними началась
самая рьяная и забавная в мире схватка. Когда же погонщик при свете
зажженной лампы, которую хозяин держал в руках, увидел, как плохо приходится
его даме, он, оставив Дон Кихота, поспешил оказать ей помощь. И хозяин тоже
бросился к ней, но уже с другим намерением: хорошенько проучить ее, потому
что он не сомневался, что она одна причина всей этой кутерьмы. И как
говорится в присло-вице: кошка к крысе, крыса к веревке, веревка к палке, --
так и погонщик колотил Санчо, Санчо -- служанку, служанка -- его, хозяин --
служанку, и все они действовали так быстро и рьяно, что не давали себе ни
минуты отдыха. В довершение всего лампа в руках хозяина погасла, и,
очутившись в темноте, они так беспощадно обрабатывали друг друга, что куда
попадал удар кулака, там не оставалось живого места. Случайно на постоялом
дворе ночевал куадрильеро {Член эрмандады, т. е. братства.} из состава
членов так называемой Старой толедской эрмандады {Называлась она Старой
эрмандадой, потому что была учреждена в XIII в., а также и в отличие от
Новой эрмандады, учрежденной в правление Фердинанда и Изабеллы.}. Он тоже
услышал необычайный шум сражения, схватил свой жезл и жестяной ларчик с
удостоверением своей должности, и в темноте войдя в комнату, крикнул:
-- Остановитесь во имя правосудия, остановитесь во имя Святой
эрмандады.
Хозяин двора, увидав Дон Кихота, лежащим поперек седла, спросил Санчо:
чем этот человек болен? Санчо ответил, что он не болен, а только упал со
скалы и немного ушиб себе ребра. У хозяина была жена, непохожая на других
женщин своей профессии, потому что она от природы была сострадательна и
принимала к сердцу беды ближнего. Итак, она тотчас же поспешила на помощь к
Дон Кихоту и велела и дочери своей, молоденькой и хорошенькой девушке,
помогать ей ухаживать за приезжим. На том же постоялом дворе служила также
девушка-астурийка, с широким лицом, плоским затылком, коротким носом, на
один глаз кривая, и другой был у нее не совсем здоров. Правда, изящество
фигуры и роста вознаграждали за все эти недостатки, а именно: в ней, считая
с головы до пят, не было целых семи четвертей, и ее плечи, несколько ее
обременявшие, вынуждали ее смотреть вниз, на землю, больше, чем она того
желала бы. Итак, эта миловидная девушка явилась на подмогу хозяйской дочери,
и вдвоем они устроили Дон Кихоту очень скверную постель на чердаке, по явным
признакам служившем в былое время долгие годы помещением для хранения
соломы. Тут же ночевал и погонщик мулов, постель которого находилась не
очень далеко от постели Дон Кихота. И хотя она и была устроена из седел и
попон мулов, но имела большие преимущества перед постелью Дон Кихота,
состоявшей из четырех шероховатых досок, лежавших на двух не очень-то ровных
чурбанах; из тюфяка, такого тонкого, что он имел вид стеганого одеяла,
наполненного комками, которые -- если б через несколько имевшихся в тюфяке
дыр не видно было, что они из шерсти, -- по твердости можно было бы на ощупь
принять за кремни; из двух кожаных простынь и шерстяного одеяла, в котором
-- если б захотеть -- можно было бы сосчитать все нитки до единой. В эту-то
проклятую постель лег Дон Кихот, и тотчас же хозяйка с дочерью обложили его
пластырями с головы до ног, причем им светила Мариторнес, -- так звали
служанку-астурийку. А когда хозяйка, обкладывая рыцаря пластырями, увидела
на теле у него во многих местах синяки, она сказала, что это скорее похоже
на следы от ударов, чем на следы от падения.
-- Нет, это не удары, -- сказал Санчо, -- а у скалы было много углов и
выступов, и каждый из них оставил свой синяк. -- Затем он добавил: -- Прошу
вас, милость ваша, сеньора, сберегите немного этой пакли, так как найдется
еще кое-кто, кому она понадобится, потому что и у меня болит немного
поясница.
-- Значит, и вы упали со скалы? -- спросила хозяйка.
-- Я не упал, -- ответил Санчо Панса, -- но от внезапного испуга, когда
я увидел, что мой господин падает, у меня так заболело тело, что мне
кажется, будто мне надавали тысячи палочных ударов.
-- Это бывает, -- сказала хозяйская дочь, -- мне не раз случалось
видеть во сне, что я падаю с высокой башни и никак не могу достигнуть земли;
а когда потом я просыпалась, то чувствовала себя такой помятой и разбитой,
точно я в самом деле упала.
-- Загвоздка-то в том,-- ответил Санчо Панса, -- что вовсе не во сне, а
даже более наяву, чем теперь, у меня оказалось немногим менее синяков на
теле, чем у господина моего Дон Кихота.
-- Как зовут этого кабальеро? -- спросила астурийка Мариторнес.
-- Дон Кихотом Ламанчским, -- ответил Санчо Панса. -- Он странствующий
рыцарь и один из самых лучших и самых храбрых, когда-либо бывших на свете.
-- Что такое странствующий рыцарь? -- спросила служанка.
-- Вы еще так мало прожили на свете, что этого не знаете? -- сказал
Санчо Панса. -- Так слушайте же, сестра моя: странствующий рыцарь -- тот,
кто в мгновение ока видит себя и избитым, и императором. Сегодня он самое
несчастное и нуждающееся создание в мире, а завтра у него две или три
королевские короны для подарка своему оруженосцу.
-- Как же это вы, -- спросила хозяйка, -- состоя на службе у такого
превосходного сеньора, по-видимому, не владеете даже и графством?
-- Не время еще, -- ответил Санчо,-- всего лишь месяц, что мы
отправились в поиски за приключениями, и нам не встретилось ни одного,
которое заслуживало бы этого названия, а подчас бывает так, что ищешь одну
вещь, а находишь другую. Но, право, если господин мой Дон Кихот выздоровеет
от этих ран или от этого падения, а также и я не окажусь изувеченным от них,
я не променяю моих надежд на самый громкий титул в Испании.
Дон Кихот очень внимательно прислушивался ко всему этому разговору, и,
приподнявшись на постели, насколько мог, он взял хозяйку за руку и сказал:
-- Поверьте мне, прекрасная сеньора, вы можете почитать себя
счастливой, что приняли в этом вашем замке личность, подобную мне; и если я
не восхваляю себя, то лишь только потому, что принято говорить:
самовосхваление унижает; но мой оруженосец объяснит вам, кто я такой. Я же
скажу лишь одно, что сохраню навсегда в памяти оказанную мне вами услугу и
останусь вам за нее благодарен всю мою жизнь. И если бы высшим небесам не
было угодно, чтобы любовь меня так покорила и так подчинила своим законам и
прекрасным очам той неблагодарной, имя которой я шепчу про себя, очи
очаровательной вашей дочери сделались бы властелинами моей свободы.
Хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнес были смущены, слушая слова
странствующего рыцаря, и столько же поняли из них, как если б он говорил
по-гречески, хотя и догадались, что вся речь его клонилась лишь к
любезностям и благодарностям. Но так как они не привыкли к подобного рода
речам, то смотрели друг на друга и удивлялись, и он показался им совсем
другим человеком, чем те, каких они обыкновенно встречали. Поблагодарив его
на трактирном обиходном языке за его любезность, хозяйка с дочерью ушли,
астурийка же Мариторнес принялась лечить Санчо, который не меньше нуждался в
этом, чем его господин. Еще раньше погонщик мулов сговорился с Мариторнес
скоротать вместе с нею эту ночь, и она дала ему слово, как только улягутся
постояльцы и заснут хозяева, прийти к нему и подчиниться всем его желаниям.
А об этой доброй девушке передают, будто, когда она давала подобного рода
обещания, еще не было случая, чтобы она их не сдерживала, хотя бы дала их в
лесу и без свидетелей, потому что она очень гордилась своим дворянством
{Сервантес смеется здесь над слабостью, присущей астурийцам, -- хвастать
своим дворянством и знатностью рода. В качестве потомков чистокровных готов,
которые вновь отвоевали Испанию у мавров, астурийцы претендуют на особую
чистоту происхождения.} и не считала для себя унизительным служить на
постоялом дворе, так как, говорила она, лишь несчастия и плохие
обстоятельства довели ее до такого положения.
Жесткая, узкая, жалкая и предательская постель Дон Кихота стояла первая
среди звездного, как небо, чердака, а рядом с нею Санчо устроил себе
постель, состоявшую лишь из камышовой циновки и одеяла, скорей похожего на
реденький холст, чем на шерстяную ткань. За этими двумя постелями виднелась
постель погонщика мулов, устроенная, как уже было сказано, из вьючных седел
и попон его двух лучших мулов, а было их у него целых двенадцать, и все
такие откормленные, видные и красивые, так как он принадлежал к числу
богатых погонщиков из Аревало {Аревало -- город в Старой Кастилии, на
полдороге между Вальядолидом и Авила.}, судя по словам автора этой истории,
который о нем особо упоминает, потому что очень хорошо знал его и даже, как
некоторые утверждают, был ему несколько сродни {В те времена погонщики мулов
были большею частью мавры.}. Кроме того, Сид Амет бен-Енхели был крайне
добросовестным историком, что ясно видно из переданных нами обстоятельств,
которых, несмотря на их незначительность и ничтожность, он не пожелал обойти
молчанием; это могло бы служить примером серьезным историкам, передающим нам
о событиях так кратко и сжато, что они едва мажут ими по губам, оставляя --
вследствие небрежности, злобы или невежества -- все наиболее существенное на
дне чернильницы. Да здравствует тысячу раз автор "Табланта де Рикамонте" и
автор той другой книги, в которой рассказывается о подвигах графа Томильяса:
как точно и подробно они все там описывают!
Итак, я говорю, что погонщик, осмотрев своих мулов и задав им вторичную
порцию корма, растянулся на вьючных седлах и стал поджидать свою всегда
исполнительную Мариторнес. Санчо был уже весь обложен пластырями и лежал в
постели; хотя он и старался заснуть, но этому препятствовала боль в ребрах;
Дон Кихот также с болью в ребрах лежал с открытыми, как у зайца, глазами.
Весь постоялый двор был погружен в безмолвие, и нигде не было видно света,
за исключением лишь того, который исходил от лампы, висевшей посреди
галереи. Эта удивительная тишина и привычка рыцаря неотступно вспоминать о
событиях, рассказываемых на каждом шагу в книгах -- виновниках его
несчастий, -- зародили в его голове одну из самых странных нелепостей, какие
только можно выдумать, именно: он вообразил, что приехал в знаменитый замок
(потому что, как уже было сказано, все постоялые дворы, где он
останавливался, казались ему замками) и что дочь хозяина постоялого двора --
дочь владельца замка, которая, побежденная его изяществом, влюбилась в него
и обещала тайком от родителей прийти к нему этою ночью полежать с ним в
постели. Считая всю эту им самим созданную химеру за действительность и
истину, он стал тревожиться и думать об опасности, грозившей его
добродетели, и в душе своей твердо решил не изменять сеньоре Дульсинее
Тобосской, хотя бы перед ним предстала сама королева Хинебра с дуэньей своей
Кинтаньоною.
Пока он был углублен в эти нелепые мечтания, настало время и пробил час
(злополучный для него) прихода Мариторнес. Босиком, в одной рубашке, с
волосами, подобранными в сетку из бумазеи, она осторожными, тихими шагами
вошла в комнату, где помещались все трое, пробираясь к погонщику. Но едва
она переступила порог, как Дон Кихот услышал ее шаги и, поднявшись на
постели, несмотря на свои пластыри и боль в боках, открыл объятья, чтобы
принять в них красавицу астурийку, которая, крадучись и молча, протягивая
вперед руки, искала ощупью своего возлюбленного. Она встретила объятья Дон
Кихота; он крепко схватил ее за кисть руки и, привлекая к себе ее, не
смевшую выговорить ни слова, посадил на постель. Тотчас же дотронулся он до
ее рубашки, и, хотя она была сделана из самого грубого мешочного холста,
дерюга эта показалась ему тончайшим, мягким сендалем {Cendal (исп.) -- очень
тонкая материя, нечто вроде шелковой тафты.}. Кисти рук Мариторнес были
украшены несколькими нитками стеклянных бус, но ему эти бусы казались
драгоценнейшим жемчугом Востока. Ее волосы, смахивающие в некотором роде на
конскую гриву, он принял за нити сверкающего арабского золота, блеск
которого затмевал даже блеск самого солнца. А дыхание ее, несомненно
отдававшее перепрелым мясом и салатом, съеденным ею накануне, казалось ему
нежным и благоухающим ароматом, источаемым ее устами. Словом, он разрисовал
ее в своем воображении в том самом виде и по тому образцу, как он читал в
своих книгах о другой принцессе, которая, побежденная любовью, явилась во
всех вышеупомянутых украшениях навестить тяжелораненого рыцаря, покорившего
ее сердце. И так велико было ослепление бедного идальго, что ни
прикосновение, ни дыхание, ни другие вещи, имевшиеся у доброй девушки и
которые могли бы нагнать тошноту на всякого, кто не был погонщиком мулов, не
в состоянии были вывести его из заблуждения. Напротив того, ему казалось,
что он держит в своих объятиях богиню красоты, и, прижав ее крепко к себе,
он заговорил тихим и нежным голосом:
-- Желал бы я быть в состоянии, прекрасная и знатная сеньора,
отплатить, как должно, вам за высокую милость, которую вы мне оказали
зрелищем величайшей вашей красоты. Но судьба, без устали преследующая
добрых, бросила меня на эту постель, где я лежу до того измятый и разбитый,
что при всем моем желании мне было бы невозможно согласовать мою волю с
вашей, и тем более, что к этой невозможности присоединяется еще другая,
более значительная: верность, обещанная мною несравненной Дульсинее
Тобосской, единственной повелительнице самых сокровенных моих помыслов. Если
б не все эти препятствия, я не был бы столь тупоумным рыцарем, чтобы не
воспользоваться счастливым случаем, предложенным мне безграничной вашей
добротой.
Мариторнес была в страшной тревоге, и ее ударило в пот, когда она
увидела, что Дон Кихот так крепко держит ее; не понимая и не обращая
внимания на то, что он ей говорил, она молча старалась вырваться из его рук.
Что же касается почтенного погонщика мулов, которому тоже не давали заснуть
его греховные помыслы, он тотчас же заметил свою любезную, лишь только она
переступила порог, и стал внимательно прислушиваться ко всему, что говорил
Дон Кихот; загоревшись ревностью оттого, что астурийка нарушила в угоду
другому данное ему обещание, он пододвинулся ближе к постели Дон Кихота и,
притаившись, ждал, чем кончатся эти речи, из которых он ничего не понял. Но
когда он увидел, что девушка старается вырваться, а Дон Кихот насильно
удерживает ее, -- эта шутка ему не понравилась, и, широко размахнувшись, он
так сильно ударил кулаком по узким челюстям влюбленного рыцаря, что у того
мигом весь рот наполнился кровью. Однако, не довольствуясь этим, погонщик
вскочил на грудь Дон Кихота и, пройдясь по ней быстрой рысью, помял ему все
ребра. Постель, и без того слабо державшаяся на шатких подпорках, не могла
выдержать еще тяжесть погонщика и грохнула на пол. От сильного треска
проснулся хозяин и тотчас же подумал, что, должно быть, это штуки
Мариторнес, так как она не откликнулась на его громкий зов. С этим
подозрением он встал, зажег лампу и пошел по тому направлению, откуда
услышал шум. Видя, что хозяин идет и что он в страшном гневе, служанка от
страха и смущения залезла в постель еще спавшего Санчо Пансы и там
свернулась в клубок. Войдя в комнату, хозяин крикнул:
-- Где ты, непотребная женщина? Наверное, это все твои шашни?
Тут как раз проснулся Санчо и, чувствуя тяжесть, лежавшую у него чуть
ли не на груди, подумал, что с ним кошмар, и стал махать во все стороны
кулаками; многие из его ударов попали в Мариторнес, которая от боли, позабыв
всякий стыд, принялась давать ему такую хорошую сдачу, что, против его
желания, спугнула с него всякий сон. Чувствуя, что его бьют, и не зная, кто
это делает, он, как мог, поднялся, схватил Мариторнес, и между ними началась
самая рьяная и забавная в мире схватка. Когда же погонщик при свете
зажженной лампы, которую хозяин держал в руках, увидел, как плохо приходится
его даме, он, оставив Дон Кихота, поспешил оказать ей помощь. И хозяин тоже
бросился к ней, но уже с другим намерением: хорошенько проучить ее, потому
что он не сомневался, что она одна причина всей этой кутерьмы. И как
говорится в присло-вице: кошка к крысе, крыса к веревке, веревка к палке, --
так и погонщик колотил Санчо, Санчо -- служанку, служанка -- его, хозяин --
служанку, и все они действовали так быстро и рьяно, что не давали себе ни
минуты отдыха. В довершение всего лампа в руках хозяина погасла, и,
очутившись в темноте, они так беспощадно обрабатывали друг друга, что куда
попадал удар кулака, там не оставалось живого места. Случайно на постоялом
дворе ночевал куадрильеро {Член эрмандады, т. е. братства.} из состава
членов так называемой Старой толедской эрмандады {Называлась она Старой
эрмандадой, потому что была учреждена в XIII в., а также и в отличие от
Новой эрмандады, учрежденной в правление Фердинанда и Изабеллы.}. Он тоже
услышал необычайный шум сражения, схватил свой жезл и жестяной ларчик с
удостоверением своей должности, и в темноте войдя в комнату, крикнул:
-- Остановитесь во имя правосудия, остановитесь во имя Святой
эрмандады.
 Первый, на которого он наткнулся, был избитый Дон Кихот, лежавший на
рухнувшей постели лицом кверху, в полном беспамятстве. Схватив его ощупью за
бороду, куадрильеро не переставал кричать:
-- На помощь правосудию!
Но заметив, что тот, кого он держит, не двигается и не шевелится, он
подумал, что он мертвый и что остальные, бывшие в комнате, его убийцы.
Побуждаемый этим подозрением, он закричал еще громче:
-- Заприте ворота постоялого двора и не выпускайте никого! Здесь убили
человека.
Этот крик всполошил всех: услыхав его, каждый участник сражения
поспешил покинуть поле битвы. Хозяин удалился к себе в комнату, погонщик
мулов -- к своим попонам, служанка -- в свою каморку, и только несчастный
Дон Кихот и Санчо не могли двинуться с места. Между тем куадрильеро,
выпустив из рук бороду {Из этого видно, что Дон Кихот, как и Санчо, носили
бороду; обычай, бывший в те времена в общем употреблении в Испании, а между
тем большинство художников, иллюстрировавших великое произведение
Сервантеса, изображали рыцаря и его оруженосца без бороды.} Дон Кихота,
пошел за огнем, чтобы разыскать и арестовать виновников приключения. Но он
не нашел огня, так как хозяин, удалившись в свою комнату, нарочно потушил
ночник, и потому куадрильеро был вынужден отправиться к очагу, где, потратив
много времени и труда, ему наконец удалось засветить лампу.
Первый, на которого он наткнулся, был избитый Дон Кихот, лежавший на
рухнувшей постели лицом кверху, в полном беспамятстве. Схватив его ощупью за
бороду, куадрильеро не переставал кричать:
-- На помощь правосудию!
Но заметив, что тот, кого он держит, не двигается и не шевелится, он
подумал, что он мертвый и что остальные, бывшие в комнате, его убийцы.
Побуждаемый этим подозрением, он закричал еще громче:
-- Заприте ворота постоялого двора и не выпускайте никого! Здесь убили
человека.
Этот крик всполошил всех: услыхав его, каждый участник сражения
поспешил покинуть поле битвы. Хозяин удалился к себе в комнату, погонщик
мулов -- к своим попонам, служанка -- в свою каморку, и только несчастный
Дон Кихот и Санчо не могли двинуться с места. Между тем куадрильеро,
выпустив из рук бороду {Из этого видно, что Дон Кихот, как и Санчо, носили
бороду; обычай, бывший в те времена в общем употреблении в Испании, а между
тем большинство художников, иллюстрировавших великое произведение
Сервантеса, изображали рыцаря и его оруженосца без бороды.} Дон Кихота,
пошел за огнем, чтобы разыскать и арестовать виновников приключения. Но он
не нашел огня, так как хозяин, удалившись в свою комнату, нарочно потушил
ночник, и потому куадрильеро был вынужден отправиться к очагу, где, потратив
много времени и труда, ему наконец удалось засветить лампу.

Глава XVII Дальнейшее повествование о бесчисленных невзгодах, которые
пришлось претерпеть мужественному Дон Кихоту и доброму его оруженосцу
Санчо Пансе на постоялом дворе, принятом рыцарем, к несчастью его, за замок
 Между тем к Дон Кихоту уже вернулось сознание, и тем же голосом, каким
он накануне, лежа на земле, в долине "кольев", обратился к своему
оруженосцу, он и теперь стал звать его, говоря:
-- Санчо, друг, -- ты спишь? Спишь ли ты, друг Санчо?
-- Заснешь тут, нечего сказать, -- ответил Санчо, исполненный бешенства
и досады. -- Этой ночью, по-видимому, все как есть дьяволы тешились надо
мной.
-- Верно, оно так и было, -- ответил Дон Кихот, -- потому что или я
ничего не понимаю, или этот замок очарован. Ты должен знать, но то, что я
сейчас намерен тебе сказать, поклянись хранить в тайне даже и после моей
смерти.
-- Клянусь в том, -- ответил Санчо.
-- Требую я это потому, -- пояснил Дон Кихот, -- что я враг
посягновения на чью-либо честь.
-- Еще раз клянусь вам, -- повторил Санчо, -- что буду молчать до конца
ваших дней, -- и дай бог, чтобы я мог хоть завтра уже все разболтать.
-- Неужели я сделал тебе столько зла, Санчо, -- спросил Дон Кихот,--
что ты хотел бы так скоро видеть меня мертвым?
-- Вовсе не поэтому, -- ответил Санчо, -- а потому, что я не охотник
долго хранить вещи и не желал бы, чтобы они у меня сгнили от чрезмерного
лежания.
-- Как бы то ни было, -- сказал Дон Кихот, -- но я вполне доверяю твоей
любви и благородству. Итак, знай же, что сегодня ночью со мной случилось
удивительнейшее приключение, которым я мог бы даже гордиться. Коротко
говоря, ко мне приходила сюда недавно дочь владельца замка, самая нарядная и
очаровательная красавица во всем мире. Что сказать тебе об изяществе ее
внешности, о живости ее ума и о других скрытых ее прелестях, которых --
чтобы не нарушать обета, данного мною повелительнице моей Дульсинее
Тобосской, -- я не коснусь и обойду их молчанием. Скажу лишь одно: или небо
позавидовало великому счастью, посланному мне судьбой, или, быть может (и
это всего вернее), замок этот -- как я уже говорил -- очарован, но в то
время, когда я с красавицей вел самые нежные и влюбленные разговоры, вдруг,
нежданно и неведомо откуда, рука, принадлежавшая огромному великану, нанесла
мне такой удар по челюстям, что они у меня и до сих пор еще в крови; а потом
этот великан так мне помял бока, что я теперь чувствую себя даже хуже, чем
вчера, когда погонщики кобыл из-за невоздержанности Росинанта нанесли нам то
оскорбление, о котором тебе известно. Из этого я заключаю, что сокровище
красоты дочери владельца замка охраняется, по-видимому, каким-нибудь
очарованным мавром и, должно быть, создано не для меня.
-- А также и не для меня, -- ответил Санчо, -- потому что более
четырехсот мавров до того меня избили, что по сравнению с их ударами
вчерашние удары дубинами могли бы мне показаться сладкими пирожками и
пряниками. Но скажите, сеньор, как можете вы называть приятным и
удивительным то приключение, от которого нам обоим пришлось так плохо? Еще
вашей милости легче, вы хоть держали в своих объятиях несравненную
красавицу, о которой вы говорили мне. Но я, -- что же я-то получил, кроме
самих ужасных побоев, каким, надеюсь, я не подвергнусь больше во всю свою
жизнь? Несчастный я, и несчастная мать, родившая меня: ведь, я же не
странствующий рыцарь и не думаю им никогда быть, а из всех невзгод наших
большая часть выпадает всегда на мою долю.
-- Как? Неужели и тебя побили? -- спросил Дон Кихот.
-- Ведь говорил же я вам что и меня побили, будь проклят весь мой род!
-- сказал Санчо.
-- Не печалься, друг мой, -- утешил его Дон Кихот. -- Я сейчас же
приготовлю драгоценный бальзам, который нас обоих исцелит в мгновение ока.
Между тем куадрильеро зажег наконец лампу и пошел посмотреть на того,
которого он считал убитым. Лишь только Санчо увидел его входящим в одной
рубашке, с головой, повязанной на ночь платком, с лампой в руках и с очень
сердитой физиономией, -- он спросил своего господина:
-- Быть может, сеньор, это-то и есть очарованный мавр и он вернулся,
чтобы снова приняться за нас и довести до конца не совсем еще оконченное им
дело?
-- Нет, это не может быть мавр,-- ответил Дон Кихот, -- так как
очарованных нельзя видеть.
-- Если их нельзя видеть, то можно их чувствовать, -- сказал Санчо, --
об этом кое-что известно моей спине.
-- Также и моей известно об этом,-- ответил Дон Кихот. -- Но все-таки
это недостаточная причина думать, что вошедший сюда -- очарованный мавр.
Куадрильеро подошел поближе к ним и очень удивился, застав их столь
мирно разговаривающими друг с другом. Правда, Дон Кихот все еще лежал на
спине, не будучи в состоянии шевельнуться, до того он был весь избит и
обложен пластырями. Блюститель правосудия подошел к нему и спросил:
-- Ну, как ты себя чувствуешь, добрый человек?
-- Я бы на вашем месте говорил повежливее, -- ответил Дон Кихот. --
Разве здесь, в этой местности, принято говорить так со странствующими
рыцарями, грубиян вы этакий?
Куадрильеро, встретив столь дерзкое с собой обхождение со стороны
такого невзрачного с виду человека, не мог стерпеть этого; он размахнулся
лампой, наполненной маслом, и ударил ею по голове Дон Кихота так сильно, что
чуть не раскроил ему черепа; все снова погрузилось в темноту, и куадрильеро
тотчас же вышел. А Санчо Панса сказал:
-- Без сомнения, сеньор, это и был очарованный мавр; должно быть, он
для других хранит сокровище, а для нас одни лишь побои и удары лампой.
-- Так оно и есть, -- ответил Дон Кихот. -- Но не надо ни обращать
внимания на подобного рода волшебства, ни сердиться, ни досадовать на них,
потому что раз наши враги незримы и фантастичны, как бы мы ни старались, все
равно мы не найдем, кому отомстить. Встань, Санчо, если можешь, позови
начальника этой крепости и попроси его дать тебе немного масла, вина, соли и
розмарина, чтобы я мог приготовить целительный бальзам, который, говоря по
правде, теперь мне крайне нужен, так как из раны, нанесенной мне тем
привидением, сильно идет кровь.
Санчо встал, чувствуя страшную боль в костях, и в темноте пошел
отыскивать комнату хозяина, но, наткнувшись на блюстителя правосудия,
который подслушивал у дверей, как обстоят дела его врага, он ему сказал:
-- Сеньор, кто бы вы ни были, окажите такую милость и благодеяние и
велите дать нам немного розмарина, масла, соли и вина. Все это необходимо
для лечения одного из лучших странствующих рыцарей в мире, который лежит в
той вот комнате, в постели, сильно раненный очарованным мавром, появившимся
на этом постоялом дворе.
Когда куадрильеро услышал такую речь, он счел Санчо за помешанного, а
так как уже начинало светать, он открыл двери постоялого двора и, позвав
хозяина, передал ему просьбу бедняги. Хозяин снабдил его всем, чего он
желал, и Санчо отнес это Дон Кихоту, который лежал, держась руками за голову
и жалуясь на боль, причиненную ему ударом лампы, хотя от этого удара не
произошло большого вреда, а только у него выскочили две довольно-таки
изрядные шишки; то же, что он принял за кровь, оказалось потом, выступившим
у него от волнений перенесенной бури. Он взял у Санчо лекарственные
снадобья, сделал из них смесь и кипятил ее довольно долго, пока ему не
показалось, что все готово. Тогда он попросил склянку, чтобы вылить туда
бальзам; но на постоялом дворе не нашлось склянки, и он решил заменить ее
жестянкой из-под масла, которую хозяин великодушно подарил ему. Не теряя
времени, Дон Кихот прочитал над этой жестянкой более восьмидесяти "Pater
noster", столько же "Ave Maria", "Salve" и "Credo", сопровождая каждое
произнесенное им слово крестным знамением, вроде как бы благословения. При
всей этой церемонии присутствовали Санчо, хозяин двора и куадрильеро;
погонщик же мулов потихоньку ушел, чтобы задать корм своим мулам.
Когда Дон Кихот все кончил, он пожелал тотчас же на себе испытать
действие столь драгоценного, по его мнению, бальзама. Поэтому он выпил около
полукварты снадобья, не поместившегося в жестянке и оставшегося в котелке, в
котором варилось лекарство. Но едва проглотил он эту порцию бальзама, как
его стало так сильно рвать, что ему очистило весь желудок, а томление и муки
рвоты вызвали у него сильнейший пот. Тогда он попросил, чтобы его потеплее
покрыли и оставили одного. Окружающие так и сделали, и наш рыцарь проспал
более трех часов. Затем, проснувшись, он почувствовал, что силы его окрепли
и боль утихла, так что он счел себя здоровым и был глубоко убежден, что
действительно изготовил настоящий бальзам Фиерабраса и что, обладая этим
средством, он может отныне и впредь бесстрашно пускаться в какие угодно
сражения, стычки и поединки, как бы они ни были опасны. Санчо Панса,
которому исцеление его господина тоже показалось настоящим чудом, попросил
Дон Кихота, чтобы тот позволил и ему выпить весь остаток, еще бывший в
котелке, -- а там было его немало. Дон Кихот дал свое согласие, и Санчо
обеими руками схватил котелок и с величайшей верой и еще большим усердием
опрокинул себе лекарство в горло, выпив немногим менее, чем его господин.
Но, по-видимому, желудок бедного Санчо не был так нежен, как желудок Дон
Кихота, и потому, прежде чем его вырвало, он почувствовал такое смертное
томление и ужасную тошноту, с него лил такой холодный пот, с ним делались
такие обмороки, что он вполне и искренно был уверен, что настал его
последний час и среди боли и мук своих проклинал бальзам и разбойника,
угостившего его им. Увидев его в таком состоянии, Дон Кихот сказал:
-- Я думаю, Санчо, что все твои страдания происходят оттого, что ты не
посвящен в рыцари, так как, на мой взгляд, бальзам не может идти в пользу
тем, кто не рыцарь.
-- Если вы, милость ваша, это знали, -- ответил Санчо, -- будь проклят
я и вся моя родня, -- как могли вы допустить, чтобы я отведал его?
В эту минуту бальзам как раз возымел свое действие и бедный оруженосец
начал так бурно разгружаться через оба канала своего тела, что камышовая
циновка, на которую он опять бросился, и холщовое одеяло, которым он
накрылся, оказались уже негодными к употреблению. Вместе с тем у него
выступил пот и лил с него ручьем, сопровождаемый такими судорогами и
припадками, что не только он сам, но и все окружавшие его думали, что
наступает его кончина. Эти бурные и тревожные припадки продолжались у него
около двух часов, а когда они прошли, он не только не почувствовал
облегчения, как его господин, но до того ослабел и был так разбит, что не
мог держаться на ногах.
А Дон Кихот, чувствовавший себя, как уже было сказано, здоровым и
бодрым, захотел немедленно отправиться в поиски за приключениями, так как
ему казалось, что каждую минуту, которую он здесь промедлит, он отнимает у
всего света и у нуждающихся в его защите и покровительстве, а твердая
надежда и доверие, питаемые им к своему бальзаму, еще больше подкрепляли его
в этом. Итак, побуждаемый этим желанием, он собственноручно оседлал
Росинанта и осла, помог своему оруженосцу одеться и взобраться на седло; а
затем и сам сел верхом и, подъехав к углу двора, взял стоявший там
остроконечный шест, намереваясь употребить его как копье. Все бывшие на
постоялом дворе -- было же их более двадцати человек -- смотрели на него с
изумлением; смотрела на него также и хозяйская дочь, а он не сводил с нее
глаз и время от времени испускал вздох, исходивший, казалось, из глубины его
души, и все думали, что, вероятно, он вздыхает вследствие сильной боли в
боках; по крайней мере, так думали те, которые накануне вечером видели, как
его всего облепляли пластырями.
Между тем к Дон Кихоту уже вернулось сознание, и тем же голосом, каким
он накануне, лежа на земле, в долине "кольев", обратился к своему
оруженосцу, он и теперь стал звать его, говоря:
-- Санчо, друг, -- ты спишь? Спишь ли ты, друг Санчо?
-- Заснешь тут, нечего сказать, -- ответил Санчо, исполненный бешенства
и досады. -- Этой ночью, по-видимому, все как есть дьяволы тешились надо
мной.
-- Верно, оно так и было, -- ответил Дон Кихот, -- потому что или я
ничего не понимаю, или этот замок очарован. Ты должен знать, но то, что я
сейчас намерен тебе сказать, поклянись хранить в тайне даже и после моей
смерти.
-- Клянусь в том, -- ответил Санчо.
-- Требую я это потому, -- пояснил Дон Кихот, -- что я враг
посягновения на чью-либо честь.
-- Еще раз клянусь вам, -- повторил Санчо, -- что буду молчать до конца
ваших дней, -- и дай бог, чтобы я мог хоть завтра уже все разболтать.
-- Неужели я сделал тебе столько зла, Санчо, -- спросил Дон Кихот,--
что ты хотел бы так скоро видеть меня мертвым?
-- Вовсе не поэтому, -- ответил Санчо, -- а потому, что я не охотник
долго хранить вещи и не желал бы, чтобы они у меня сгнили от чрезмерного
лежания.
-- Как бы то ни было, -- сказал Дон Кихот, -- но я вполне доверяю твоей
любви и благородству. Итак, знай же, что сегодня ночью со мной случилось
удивительнейшее приключение, которым я мог бы даже гордиться. Коротко
говоря, ко мне приходила сюда недавно дочь владельца замка, самая нарядная и
очаровательная красавица во всем мире. Что сказать тебе об изяществе ее
внешности, о живости ее ума и о других скрытых ее прелестях, которых --
чтобы не нарушать обета, данного мною повелительнице моей Дульсинее
Тобосской, -- я не коснусь и обойду их молчанием. Скажу лишь одно: или небо
позавидовало великому счастью, посланному мне судьбой, или, быть может (и
это всего вернее), замок этот -- как я уже говорил -- очарован, но в то
время, когда я с красавицей вел самые нежные и влюбленные разговоры, вдруг,
нежданно и неведомо откуда, рука, принадлежавшая огромному великану, нанесла
мне такой удар по челюстям, что они у меня и до сих пор еще в крови; а потом
этот великан так мне помял бока, что я теперь чувствую себя даже хуже, чем
вчера, когда погонщики кобыл из-за невоздержанности Росинанта нанесли нам то
оскорбление, о котором тебе известно. Из этого я заключаю, что сокровище
красоты дочери владельца замка охраняется, по-видимому, каким-нибудь
очарованным мавром и, должно быть, создано не для меня.
-- А также и не для меня, -- ответил Санчо, -- потому что более
четырехсот мавров до того меня избили, что по сравнению с их ударами
вчерашние удары дубинами могли бы мне показаться сладкими пирожками и
пряниками. Но скажите, сеньор, как можете вы называть приятным и
удивительным то приключение, от которого нам обоим пришлось так плохо? Еще
вашей милости легче, вы хоть держали в своих объятиях несравненную
красавицу, о которой вы говорили мне. Но я, -- что же я-то получил, кроме
самих ужасных побоев, каким, надеюсь, я не подвергнусь больше во всю свою
жизнь? Несчастный я, и несчастная мать, родившая меня: ведь, я же не
странствующий рыцарь и не думаю им никогда быть, а из всех невзгод наших
большая часть выпадает всегда на мою долю.
-- Как? Неужели и тебя побили? -- спросил Дон Кихот.
-- Ведь говорил же я вам что и меня побили, будь проклят весь мой род!
-- сказал Санчо.
-- Не печалься, друг мой, -- утешил его Дон Кихот. -- Я сейчас же
приготовлю драгоценный бальзам, который нас обоих исцелит в мгновение ока.
Между тем куадрильеро зажег наконец лампу и пошел посмотреть на того,
которого он считал убитым. Лишь только Санчо увидел его входящим в одной
рубашке, с головой, повязанной на ночь платком, с лампой в руках и с очень
сердитой физиономией, -- он спросил своего господина:
-- Быть может, сеньор, это-то и есть очарованный мавр и он вернулся,
чтобы снова приняться за нас и довести до конца не совсем еще оконченное им
дело?
-- Нет, это не может быть мавр,-- ответил Дон Кихот, -- так как
очарованных нельзя видеть.
-- Если их нельзя видеть, то можно их чувствовать, -- сказал Санчо, --
об этом кое-что известно моей спине.
-- Также и моей известно об этом,-- ответил Дон Кихот. -- Но все-таки
это недостаточная причина думать, что вошедший сюда -- очарованный мавр.
Куадрильеро подошел поближе к ним и очень удивился, застав их столь
мирно разговаривающими друг с другом. Правда, Дон Кихот все еще лежал на
спине, не будучи в состоянии шевельнуться, до того он был весь избит и
обложен пластырями. Блюститель правосудия подошел к нему и спросил:
-- Ну, как ты себя чувствуешь, добрый человек?
-- Я бы на вашем месте говорил повежливее, -- ответил Дон Кихот. --
Разве здесь, в этой местности, принято говорить так со странствующими
рыцарями, грубиян вы этакий?
Куадрильеро, встретив столь дерзкое с собой обхождение со стороны
такого невзрачного с виду человека, не мог стерпеть этого; он размахнулся
лампой, наполненной маслом, и ударил ею по голове Дон Кихота так сильно, что
чуть не раскроил ему черепа; все снова погрузилось в темноту, и куадрильеро
тотчас же вышел. А Санчо Панса сказал:
-- Без сомнения, сеньор, это и был очарованный мавр; должно быть, он
для других хранит сокровище, а для нас одни лишь побои и удары лампой.
-- Так оно и есть, -- ответил Дон Кихот. -- Но не надо ни обращать
внимания на подобного рода волшебства, ни сердиться, ни досадовать на них,
потому что раз наши враги незримы и фантастичны, как бы мы ни старались, все
равно мы не найдем, кому отомстить. Встань, Санчо, если можешь, позови
начальника этой крепости и попроси его дать тебе немного масла, вина, соли и
розмарина, чтобы я мог приготовить целительный бальзам, который, говоря по
правде, теперь мне крайне нужен, так как из раны, нанесенной мне тем
привидением, сильно идет кровь.
Санчо встал, чувствуя страшную боль в костях, и в темноте пошел
отыскивать комнату хозяина, но, наткнувшись на блюстителя правосудия,
который подслушивал у дверей, как обстоят дела его врага, он ему сказал:
-- Сеньор, кто бы вы ни были, окажите такую милость и благодеяние и
велите дать нам немного розмарина, масла, соли и вина. Все это необходимо
для лечения одного из лучших странствующих рыцарей в мире, который лежит в
той вот комнате, в постели, сильно раненный очарованным мавром, появившимся
на этом постоялом дворе.
Когда куадрильеро услышал такую речь, он счел Санчо за помешанного, а
так как уже начинало светать, он открыл двери постоялого двора и, позвав
хозяина, передал ему просьбу бедняги. Хозяин снабдил его всем, чего он
желал, и Санчо отнес это Дон Кихоту, который лежал, держась руками за голову
и жалуясь на боль, причиненную ему ударом лампы, хотя от этого удара не
произошло большого вреда, а только у него выскочили две довольно-таки
изрядные шишки; то же, что он принял за кровь, оказалось потом, выступившим
у него от волнений перенесенной бури. Он взял у Санчо лекарственные
снадобья, сделал из них смесь и кипятил ее довольно долго, пока ему не
показалось, что все готово. Тогда он попросил склянку, чтобы вылить туда
бальзам; но на постоялом дворе не нашлось склянки, и он решил заменить ее
жестянкой из-под масла, которую хозяин великодушно подарил ему. Не теряя
времени, Дон Кихот прочитал над этой жестянкой более восьмидесяти "Pater
noster", столько же "Ave Maria", "Salve" и "Credo", сопровождая каждое
произнесенное им слово крестным знамением, вроде как бы благословения. При
всей этой церемонии присутствовали Санчо, хозяин двора и куадрильеро;
погонщик же мулов потихоньку ушел, чтобы задать корм своим мулам.
Когда Дон Кихот все кончил, он пожелал тотчас же на себе испытать
действие столь драгоценного, по его мнению, бальзама. Поэтому он выпил около
полукварты снадобья, не поместившегося в жестянке и оставшегося в котелке, в
котором варилось лекарство. Но едва проглотил он эту порцию бальзама, как
его стало так сильно рвать, что ему очистило весь желудок, а томление и муки
рвоты вызвали у него сильнейший пот. Тогда он попросил, чтобы его потеплее
покрыли и оставили одного. Окружающие так и сделали, и наш рыцарь проспал
более трех часов. Затем, проснувшись, он почувствовал, что силы его окрепли
и боль утихла, так что он счел себя здоровым и был глубоко убежден, что
действительно изготовил настоящий бальзам Фиерабраса и что, обладая этим
средством, он может отныне и впредь бесстрашно пускаться в какие угодно
сражения, стычки и поединки, как бы они ни были опасны. Санчо Панса,
которому исцеление его господина тоже показалось настоящим чудом, попросил
Дон Кихота, чтобы тот позволил и ему выпить весь остаток, еще бывший в
котелке, -- а там было его немало. Дон Кихот дал свое согласие, и Санчо
обеими руками схватил котелок и с величайшей верой и еще большим усердием
опрокинул себе лекарство в горло, выпив немногим менее, чем его господин.
Но, по-видимому, желудок бедного Санчо не был так нежен, как желудок Дон
Кихота, и потому, прежде чем его вырвало, он почувствовал такое смертное
томление и ужасную тошноту, с него лил такой холодный пот, с ним делались
такие обмороки, что он вполне и искренно был уверен, что настал его
последний час и среди боли и мук своих проклинал бальзам и разбойника,
угостившего его им. Увидев его в таком состоянии, Дон Кихот сказал:
-- Я думаю, Санчо, что все твои страдания происходят оттого, что ты не
посвящен в рыцари, так как, на мой взгляд, бальзам не может идти в пользу
тем, кто не рыцарь.
-- Если вы, милость ваша, это знали, -- ответил Санчо, -- будь проклят
я и вся моя родня, -- как могли вы допустить, чтобы я отведал его?
В эту минуту бальзам как раз возымел свое действие и бедный оруженосец
начал так бурно разгружаться через оба канала своего тела, что камышовая
циновка, на которую он опять бросился, и холщовое одеяло, которым он
накрылся, оказались уже негодными к употреблению. Вместе с тем у него
выступил пот и лил с него ручьем, сопровождаемый такими судорогами и
припадками, что не только он сам, но и все окружавшие его думали, что
наступает его кончина. Эти бурные и тревожные припадки продолжались у него
около двух часов, а когда они прошли, он не только не почувствовал
облегчения, как его господин, но до того ослабел и был так разбит, что не
мог держаться на ногах.
А Дон Кихот, чувствовавший себя, как уже было сказано, здоровым и
бодрым, захотел немедленно отправиться в поиски за приключениями, так как
ему казалось, что каждую минуту, которую он здесь промедлит, он отнимает у
всего света и у нуждающихся в его защите и покровительстве, а твердая
надежда и доверие, питаемые им к своему бальзаму, еще больше подкрепляли его
в этом. Итак, побуждаемый этим желанием, он собственноручно оседлал
Росинанта и осла, помог своему оруженосцу одеться и взобраться на седло; а
затем и сам сел верхом и, подъехав к углу двора, взял стоявший там
остроконечный шест, намереваясь употребить его как копье. Все бывшие на
постоялом дворе -- было же их более двадцати человек -- смотрели на него с
изумлением; смотрела на него также и хозяйская дочь, а он не сводил с нее
глаз и время от времени испускал вздох, исходивший, казалось, из глубины его
души, и все думали, что, вероятно, он вздыхает вследствие сильной боли в
боках; по крайней мере, так думали те, которые накануне вечером видели, как
его всего облепляли пластырями.
 Лишь только оба -- господин и слуга -- уселись верхом, Дон Кихот,
доехав до ворот, позвал хозяина двора и спокойным, серьезным тоном сказал
ему:
-- Многочисленны и велики благодеяния, сеньор кастелян, оказанные мне в
этом вашем замке, и я всю мою жизнь буду вам за них признателен и
благодарен. Если я могу отплатить вам, отомстив какому-нибудь надменному
злодею за нанесенное вам оскорбление, -- знайте, что мое звание вменяет мне
в обязанность помогать слабым, мстить за угнетенных и карать за измену.
Переберите ваши воспоминания и, если найдется у вас что-либо в таком роде,
скажите мне, и я обещаю вам рыцарскою своею честью, что вы получите
полнейшее удовлетворение и будете отомщены как нельзя лучше.
Хозяин двора ответил ему столь же спокойно:
-- Сеньор рыцарь, я не нуждаюсь в том, чтобы милость ваша мстила
кому-нибудь за меня, потому что, когда я нахожу это нужным, я и сам умею
постоять за себя. Желал бы я лишь одного: чтобы милость ваша заплатила мне
по счету за свое пребывание на постоялом дворе, как за солому и ячмень для
ваших двух животных, так и за ваш ужин и ночлег.
-- Значит, это постоялый двор? -- спросил Дон Кихот.
-- И один из лучших, -- ответил хозяин.
-- Я ошибался до сих пор, -- объявил Дон Кихот, -- так как, говоря по
правде, предполагал, что это замок, и не из плохих. Но если это не замок, а
постоялый двор, вам придется вот что сделать: добровольно отказаться от
требования платы, потому что я не могу нарушить устава ордена странствующих
рыцарей, по которому, как я достоверно знаю (и до сих пор не читал ничего
противоречащего тому), рыцари никогда и нигде не платили ни за свой ночлег,
ни за что-либо другое на тех постоялых дворах, где они останавливались; ведь
им по праву и справедливости везде обязаны оказывать самый лучший прием в
благодарность за непомерный труд, который они выносят в своих поисках за
приключениями, скитаясь верхом и пешком ночью и днем, зимой и летом, в холод
и зной, страдая от голода и жажды, подвергаясь всем суровостям непогоды и
всяким земным бедствиям.
-- Это меня не касается, -- ответил хозяин двора, -- заплатите свой
долг и оставьте меня в покое с вашими россказнями и рыцарством: у меня лишь
одна забота -- получить свое.
-- Вы глупый и дурной трактирщик! -- ответил Дон Кихот и, пришпорив
Росинанта, махая копьем, уехал с постоялого двора никем не задержанный и, не
обернувшись посмотреть, следует ли за ним его оруженосец или нет, отъехал на
довольно далекое расстояние. Видя, что Дон Кихот уехал, ничего не заплатив,
хозяин двора подбежал к Санчо, чтобы получить от него по счету. Но тот
ответил, что раз его господин не пожелал платить, и он тоже не заплатит, так
как, состоя оруженосцем у странствующего рыцаря, он обязан придерживаться
того же постановления и правила, как и его господин, то есть не платить в
гостиницах и на постоялых дворах.
Услыхав этот ответ, хозяин страшно рассердился и пригрозил ему, если он
не заплатит, взыскать с него должное таким способом, который не весьма его
порадует. На это Санчо ответил, что, подчиняясь закону рыцарского ордена, к
которому принадлежит его господин, он не заплатит и четверти грошика, хотя
бы это стоило ему жизни, так как не желает, чтобы по его вине был нарушен
добрый старый обычай странствующих рыцарей, и оруженосцы тех из рыцарей,
которые еще имеют появиться в мире, не могли бы укорять его за нарушение
столь справедливого их права.
Лишь только оба -- господин и слуга -- уселись верхом, Дон Кихот,
доехав до ворот, позвал хозяина двора и спокойным, серьезным тоном сказал
ему:
-- Многочисленны и велики благодеяния, сеньор кастелян, оказанные мне в
этом вашем замке, и я всю мою жизнь буду вам за них признателен и
благодарен. Если я могу отплатить вам, отомстив какому-нибудь надменному
злодею за нанесенное вам оскорбление, -- знайте, что мое звание вменяет мне
в обязанность помогать слабым, мстить за угнетенных и карать за измену.
Переберите ваши воспоминания и, если найдется у вас что-либо в таком роде,
скажите мне, и я обещаю вам рыцарскою своею честью, что вы получите
полнейшее удовлетворение и будете отомщены как нельзя лучше.
Хозяин двора ответил ему столь же спокойно:
-- Сеньор рыцарь, я не нуждаюсь в том, чтобы милость ваша мстила
кому-нибудь за меня, потому что, когда я нахожу это нужным, я и сам умею
постоять за себя. Желал бы я лишь одного: чтобы милость ваша заплатила мне
по счету за свое пребывание на постоялом дворе, как за солому и ячмень для
ваших двух животных, так и за ваш ужин и ночлег.
-- Значит, это постоялый двор? -- спросил Дон Кихот.
-- И один из лучших, -- ответил хозяин.
-- Я ошибался до сих пор, -- объявил Дон Кихот, -- так как, говоря по
правде, предполагал, что это замок, и не из плохих. Но если это не замок, а
постоялый двор, вам придется вот что сделать: добровольно отказаться от
требования платы, потому что я не могу нарушить устава ордена странствующих
рыцарей, по которому, как я достоверно знаю (и до сих пор не читал ничего
противоречащего тому), рыцари никогда и нигде не платили ни за свой ночлег,
ни за что-либо другое на тех постоялых дворах, где они останавливались; ведь
им по праву и справедливости везде обязаны оказывать самый лучший прием в
благодарность за непомерный труд, который они выносят в своих поисках за
приключениями, скитаясь верхом и пешком ночью и днем, зимой и летом, в холод
и зной, страдая от голода и жажды, подвергаясь всем суровостям непогоды и
всяким земным бедствиям.
-- Это меня не касается, -- ответил хозяин двора, -- заплатите свой
долг и оставьте меня в покое с вашими россказнями и рыцарством: у меня лишь
одна забота -- получить свое.
-- Вы глупый и дурной трактирщик! -- ответил Дон Кихот и, пришпорив
Росинанта, махая копьем, уехал с постоялого двора никем не задержанный и, не
обернувшись посмотреть, следует ли за ним его оруженосец или нет, отъехал на
довольно далекое расстояние. Видя, что Дон Кихот уехал, ничего не заплатив,
хозяин двора подбежал к Санчо, чтобы получить от него по счету. Но тот
ответил, что раз его господин не пожелал платить, и он тоже не заплатит, так
как, состоя оруженосцем у странствующего рыцаря, он обязан придерживаться
того же постановления и правила, как и его господин, то есть не платить в
гостиницах и на постоялых дворах.
Услыхав этот ответ, хозяин страшно рассердился и пригрозил ему, если он
не заплатит, взыскать с него должное таким способом, который не весьма его
порадует. На это Санчо ответил, что, подчиняясь закону рыцарского ордена, к
которому принадлежит его господин, он не заплатит и четверти грошика, хотя
бы это стоило ему жизни, так как не желает, чтобы по его вине был нарушен
добрый старый обычай странствующих рыцарей, и оруженосцы тех из рыцарей,
которые еще имеют появиться в мире, не могли бы укорять его за нарушение
столь справедливого их права.
 Но по воле злой судьбы несчастного Санчо среди лиц, бывших на постоялом
дворе, оказалось четыре чесальщика шерсти из Сеговии {Сеговия была в дни
Сервантеса главным центром шерстяного производства, пришедшего теперь в
упадок в Испании.}, три игольных мастера с площади Потро в Кордове {Так
называлась в Кордове площадь, посреди которой высоко, на вершине шара,
стояло изображение жеребца (potro), окруженное фонтанами, вероятно, оттого,
что тогда Кордова славилась своими конями.} и два обывателя с Базарной
площади в Севилье -- все веселые малые, разнузданные, склонные к шуткам и
проказам; точно осененные и побуждаемые одной и той же мыслью, они подошли к
Санчо, стащили его с осла, и один из них побежал за одеялом в комнату
хозяина. Бросив Санчо на одеяло, они, взглянув вверх, заметили, что навес на
переднем дворе низковат для той цели, которую они имели в виду, поэтому
решили отправиться на задний двор, над которым расстилался только лишь один
небесный свод. Тут, уложив Санчо на середину одеяла, они стали подбрасывать
его вверх и забавлялись с ним, как с собакой во время карнавала {В Испании
существовал в то время обычай забавляться подбрасыванием собак в дни
карнавала.}. Крик подбрасываемого вверх бедняги был столь пронзительный, что
достиг до слуха его господина. Он остановился, внимательно прислушался и уже
думал, не представляется ли ему новое приключение, как наконец ясно различил
голос своего оруженосца. Тогда Дон Кихот повернул коня и тяжелым галопом
доехал до постоялого двора. Увидав, что ворота заперты, он объехал кругом
весь двор, отыскивая, не найдется ли где входа. Но, не доезжая еще до ограды
заднего двора, которая была не очень высока, он приметил злую забаву,
устроенную над его оруженосцем. Он видел, с какой грацией и быстротой Санчо
подымается и опускается в воздухе, и если б не
гнев его, я уверен, что рыцарь рассмеялся бы. Попытался он взобраться с
коня на ограду, но до того был разбит и слаб, что не мог даже слезть с
лошади, и потому, сидя на ней, стал изливать на тех, которые подбрасывали
Санчо, столько укоров и ругательств, что нет возможности их записать. Однако
они не прекратили вследствие этого своего смеха и своей работы, а летающий
Санчо не прекратил своих воплей, смешанных то с угрозами, то с мольбой;
однако и вопли его помогали мало, и ничего не помогли ему, пока наконец
побежденные усталостью мучители сами не бросили его. Затем они привели Санчо
его осла, усадили беднягу на него, завернув его в плащ, а сострадательная
Мариторнес, увидав его таким изможденным, сочла нужным прийти к нему на
помощь с кувшином воды, почерпнутой из колодца, чтобы она была посвежее.
Санчо взял кувшин и поднес его ко рту, но остановился, услыхав, что господин
его громко крикнул ему:
-- Сын мой, Санчо, не пей воды! Не пей ее, сын мой, потому что она
убьет тебя! Смотри, у меня здесь святейший бальзам (и он показывал ему
жестянку с жидкостью). Выпив две капли его, ты, без сомнения, выздоровеешь.
В ответ на эти слова Санчо взглянул на Дон Кихота искоса и крикнул еще
громче, чем его господин:
-- Быть может, вы, ваша милость, забыли, что я не странствующий рыцарь,
или вы хотите, чтобы меня окончательно вырвало и последними внутренностями,
которые еще остались у меня от сегодняшней ночи? Приберегите свое питье для
себя и всех чертей, а меня оставьте в покое.
Но по воле злой судьбы несчастного Санчо среди лиц, бывших на постоялом
дворе, оказалось четыре чесальщика шерсти из Сеговии {Сеговия была в дни
Сервантеса главным центром шерстяного производства, пришедшего теперь в
упадок в Испании.}, три игольных мастера с площади Потро в Кордове {Так
называлась в Кордове площадь, посреди которой высоко, на вершине шара,
стояло изображение жеребца (potro), окруженное фонтанами, вероятно, оттого,
что тогда Кордова славилась своими конями.} и два обывателя с Базарной
площади в Севилье -- все веселые малые, разнузданные, склонные к шуткам и
проказам; точно осененные и побуждаемые одной и той же мыслью, они подошли к
Санчо, стащили его с осла, и один из них побежал за одеялом в комнату
хозяина. Бросив Санчо на одеяло, они, взглянув вверх, заметили, что навес на
переднем дворе низковат для той цели, которую они имели в виду, поэтому
решили отправиться на задний двор, над которым расстилался только лишь один
небесный свод. Тут, уложив Санчо на середину одеяла, они стали подбрасывать
его вверх и забавлялись с ним, как с собакой во время карнавала {В Испании
существовал в то время обычай забавляться подбрасыванием собак в дни
карнавала.}. Крик подбрасываемого вверх бедняги был столь пронзительный, что
достиг до слуха его господина. Он остановился, внимательно прислушался и уже
думал, не представляется ли ему новое приключение, как наконец ясно различил
голос своего оруженосца. Тогда Дон Кихот повернул коня и тяжелым галопом
доехал до постоялого двора. Увидав, что ворота заперты, он объехал кругом
весь двор, отыскивая, не найдется ли где входа. Но, не доезжая еще до ограды
заднего двора, которая была не очень высока, он приметил злую забаву,
устроенную над его оруженосцем. Он видел, с какой грацией и быстротой Санчо
подымается и опускается в воздухе, и если б не
гнев его, я уверен, что рыцарь рассмеялся бы. Попытался он взобраться с
коня на ограду, но до того был разбит и слаб, что не мог даже слезть с
лошади, и потому, сидя на ней, стал изливать на тех, которые подбрасывали
Санчо, столько укоров и ругательств, что нет возможности их записать. Однако
они не прекратили вследствие этого своего смеха и своей работы, а летающий
Санчо не прекратил своих воплей, смешанных то с угрозами, то с мольбой;
однако и вопли его помогали мало, и ничего не помогли ему, пока наконец
побежденные усталостью мучители сами не бросили его. Затем они привели Санчо
его осла, усадили беднягу на него, завернув его в плащ, а сострадательная
Мариторнес, увидав его таким изможденным, сочла нужным прийти к нему на
помощь с кувшином воды, почерпнутой из колодца, чтобы она была посвежее.
Санчо взял кувшин и поднес его ко рту, но остановился, услыхав, что господин
его громко крикнул ему:
-- Сын мой, Санчо, не пей воды! Не пей ее, сын мой, потому что она
убьет тебя! Смотри, у меня здесь святейший бальзам (и он показывал ему
жестянку с жидкостью). Выпив две капли его, ты, без сомнения, выздоровеешь.
В ответ на эти слова Санчо взглянул на Дон Кихота искоса и крикнул еще
громче, чем его господин:
-- Быть может, вы, ваша милость, забыли, что я не странствующий рыцарь,
или вы хотите, чтобы меня окончательно вырвало и последними внутренностями,
которые еще остались у меня от сегодняшней ночи? Приберегите свое питье для
себя и всех чертей, а меня оставьте в покое.
 Сказать это и поднести ко рту кувшин было для Санчо делом мгновения. Но
так как он при первом же глотке увидел, что это только вода, он не захотел
ее пить, а попросил Мариторнес принести ему вина. Она это сделала очень
охотно и заплатила за вино свои собственные деньги, потому что про нее
действительно говорят, что хотя она и занималась такой профессией, но
сохранила в себе несколько следов и признаков доброй христианки. Как только
Санчо выпил вино, он ударил пятками в бока своего осла и выехал из широко
раскрытых перед ним ворот постоялого двора очень довольный тем, что все-таки
ничего не заплатил и настоял на своем, хотя это и случилось за счет обычного
его поручителя, которым являлась его спина. Правда, хозяин двора оставил
себе вместо платы дорожные сумки Санчо, но он этого даже не заметил в том
тревожном состоянии, в котором находился. Лишь только он выехал за ворота,
хозяин двора хотел было покрепче припереть их, но подбрасывавшие Санчо
воспротивились, так как это были такого сорта люди, что даже если бы Дон
Кихот на самом деле оказался одним из рыцарей Круглого стола, и тогда они не
поставили бы его ни в грош.
Сказать это и поднести ко рту кувшин было для Санчо делом мгновения. Но
так как он при первом же глотке увидел, что это только вода, он не захотел
ее пить, а попросил Мариторнес принести ему вина. Она это сделала очень
охотно и заплатила за вино свои собственные деньги, потому что про нее
действительно говорят, что хотя она и занималась такой профессией, но
сохранила в себе несколько следов и признаков доброй христианки. Как только
Санчо выпил вино, он ударил пятками в бока своего осла и выехал из широко
раскрытых перед ним ворот постоялого двора очень довольный тем, что все-таки
ничего не заплатил и настоял на своем, хотя это и случилось за счет обычного
его поручителя, которым являлась его спина. Правда, хозяин двора оставил
себе вместо платы дорожные сумки Санчо, но он этого даже не заметил в том
тревожном состоянии, в котором находился. Лишь только он выехал за ворота,
хозяин двора хотел было покрепче припереть их, но подбрасывавшие Санчо
воспротивились, так как это были такого сорта люди, что даже если бы Дон
Кихот на самом деле оказался одним из рыцарей Круглого стола, и тогда они не
поставили бы его ни в грош.

Глава XVIII, в которой передается о разговоре Санчо Пансы с его
господином Дон Кихотом и о других приключениях, заслуживающих быть рассказанными
 Санчо подъехал к своему господину столь изнеможенный и разбитый, что
едва мог погонять своего осла. Когда Дон Кихот увидел его в таком состоянии,
он сказал:
-- Теперь я окончательно убедился, добрый мой Санчо, что этот замок,
или постоялый двор, несомненно очарован, потому что те, которые так жестоко
забавлялись над тобой, не могут быть не чем иным, как только привидениями и
существами из другого мира. Это подтверждается еще и тем обстоятельством,
что, когда я подъехал к ограде заднего двора и смотрел на ход печальной
твоей трагедии, я лишился возможности не только взобраться на ограду, но
даже не мог сойти с Росинанта, -- ясно, что я был очарован. Иначе, клянусь
тебе тем, что я есть, если б я только мог подняться на ограду или сойти с
лошади, я отомстил бы за тебя так, что те негодяи и мошенники вечно бы
помнили свою проделку; хотя, поступив таким образом, я нарушил бы рыцарский
устав, не дозволяющий, как я уже не раз говорил тебе, рыцарям обнажать меч
против лиц, не посвященных в рыцари, исключая лишь случая крайней и
неотложной необходимости, для защиты своей жизни и личности.
-- И я также отомстил бы за себя, если б мог, -- сказал Санчо, -- был
бы или не был бы я посвящен в рыцари, -- но я не мог; хотя мне думается, что
те, которые забавлялись надо мной, не были привидениями и не были очарованы
-- как ваша милость говорит, -- а были такими же людьми из плоти и крови,
как вы и я, и у всех у них есть имена. Я слышал, как они называли друг
друга, когда подбрасывали меня вверх: одного звали Педро Марти-нес, другого,
-- Тенорио Эрнандес, а хозяина двора звали Хуан Паломек Левша. Так что, если
вы, сеньор, не могли влезть на ограду или сойти с лошади, причиной тому было
что-либо другое, а не волшебство; из всего этого я вывожу лишь одно:
приключения, которые мы отправляемся отыскивать, в конце концов приведут нас
к таким несчастиям, что мы не будем знать, которая у нас правая нога. Было
бы лучше и умнее, по моему бедному разумению, вернуться нам к себе, в село,
теперь, когда настала жатва, и заняться хозяйством, бросив скитаться по
долам и горам и попадать, как говорится, из огня в полымя.
-- Как ты плохо понимаешь рыцарские дела, Санчо, -- ответил Дон Кихот.
-- Молчи, и имей терпение, потому что настанет день, когда ты воочию
убедишься, какая почетная вещь -- нести это звание. Если же нет, -- скажи:
может ли на свете быть большее удовольствие, или какое наслаждение может
сравниться с победой в битве и торжеством над своим врагом? Никакое, без
всякого сомнения!
-- Должно быть, это так и есть,-- ответил Санчо, -- хотя я этого не
знаю; знаю только, что с тех пор, как мы с вами стали странствующими
рыцарями, или, вернее, как ваша милость им стала (потому что я не могу
причислить себя к столь почетному званию), мы никогда еще не выиграли ни
одной битвы, -- разве только битву с бискайцем, и даже из нее ваша милость
вышла, лишившись пол-уха и полшлема. А после того и до сих пор на нас
сыпались одни лишь побои палкой и палкой, удары кулаками и кулаками; я же,
сверх того, вынес и подбрасывание на одеяле, а проделали это надо мной люди
очарованные, которым я не могу отомстить, чтобы хоть отведать, насколько
велико наслаждение торжествовать над своим врагом, как говорит ваша милость.
-- В этом-то и заключается мое огорчение, а также, должно быть, и твое,
Санчо, -- ответил Дон Кихот. -- Но отныне постараюсь добыть себе меч,
настолько искусно выкованный, что против того, кто его носит, окажутся
бессильны какие бы то ни было чары. Может даже случиться, что счастье
наделит меня мечом, принадлежавшим Амадису, -- когда он назывался Рыцарем
Пылающего Меча,-- это был один из лучших мечей во всем мире, которыми
обладал какой-либо рыцарь; так как, сверх указанного свойства, он еще резал
как бритва, и не было таких доспехов -- как бы они ни были крепки и
очарованы, -- которые могли бы устоять перед ним.
-- Такое мое счастье, -- сказал Санчо, -- что, даже если б это и
случилось и вашей милости удалось бы найти подобный меч, он служил бы и
пошел бы на пользу -- как и бальзам -- одним только рыцарям, а оруженосцы
пускай себе хлебают горе.
-- Не опасайся этого, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- небо пошлет тебе
нечто получше.
Разговаривая таким образом, Дон Кихот и его оруженосец продолжали свой
путь, как вдруг первый из них увидел, что по дороге, по которой они ехали,
им навстречу поднялось большое, густое облака пыли. Заметив его, Дон Кихот
обернулся к Санчо и сказал:
-- Настал день, о Санчо, когда выяснится, какое счастье хранила для
меня судьба. Настал день, говорю я, когда,-- как и во всякий другой --
выкажется могущество моей руки и я совершу подвиги, имеющие быть вписанными
в книгу славы в назидание грядущим векам. Видишь ли, Санчо, облако пыли,
которое вот там подымается? Знай же, что всю эту муть производит громадное
войско, составленное из разных и бесчисленных народностей, которое
направляется сюда.
-- Но в таком случае их должно быть целых два, -- сказал Санчо, --
потому что и с противоположной стороны подымается точно такое же облако
пыли.
Дон Кихот обернулся и увидел, что действительно так и было; необычайно
обрадовавшись, он вообразил, что наверное два войска идут друг на друга,
готовые сойтись и вступить в бой здесь, среди этой обширной равнины; так как
во всякое время его фантазия была переполнена битвами, очарованиями,
приключениями, сумасбродствами, любовными похождениями и вызовами на
поединки, о которых рассказывается в рыцарских книгах, и все, что он
говорил, думал или делал, клонилось к подобным вещам. А облако пыли, которое
он увидел, было поднято двумя большими стадами овец и баранов, подвигавшихся
по той же дороге с двух противоположных сторон; вследствие густой пыли их
нельзя было разглядеть, пока они не приблизились. Между тем Дон Кихот так
горячо утверждал, что это два войска, что наконец Санчо поверил ему и
спросил:
-- Сеньор, что же нам делать теперь?
-- Что делать? -- сказал Дон Кихот,-- Оказывать покровительство и
помощь слабым и нуждающимся! Ты должен знать, Санчо, что во главе армии,
идущей нам навстречу, стоит и ею предводительствует великий император
Алифанфарон, владетель обширного острова Трапобана {Нынешний Цейлон.};
другим же войском, идущим позади нас, предводительствует его враг, король
гарамантов {Народ, обитавший во Внутренней Африке, о котором дважды
упоминает Вергилий.}, Пентаполин с Засученным Рукавом, которому дали такое
прозвище потому, что в сражениях он всегда обнажает правую руку
-- Из-за чего же враждуют друг с другом эти два сеньора? -- спросил
Санчо.
-- Из-за того,-- ответил Дон Кихот,-- что Алифанфарон -- завзятый
язычник и влюблен в дочь Пентаполина, необычайную красавицу и очень милую
девушку, но она христианка, и отец ее не желает выдавать ее замуж за
короля-язычника, пока тот не даст обещания отказаться от веры лжепророка
Магомета и принять христианство.
-- Клянусь моей бородой, -- воскликнул Санчо, -- Пентаполин вполне
прав, и я готов помогать ему изо всех моих сил.
-- Делая это, ты исполнишь свой долг, Санчо, -- сказал Дон Кихот, --
потому что для участия в такого рода битвах не требуется быть посвященным в
рыцари.
-- Это я хорошо понимаю, -- ответил Санчо, -- но куда же нам деть осла,
чтобы быть уверенными найти его, когда кончится драка? Потому что, я думаю,
до сих пор еще не вошло в обычай вступать в бой верхом на таком животном.
-- Совершенно верно, -- сказал Дон Кихот, -- единственное, что ты
можешь сделать, -- это предоставить его на собственный произвол, погибнет он
или нет, все равно, так как после победы у нас окажется столько лошадей, что
даже и Росинанту грозит опасность быть обмененным на другого коня. Но теперь
слушай меня внимательно и смотри сюда, я хочу описать тебе самых выдающихся
рыцарей в обоих войсках; а чтобы ты их лучше видел и рассмотрел, поднимайся
на этот вот холмик, оттуда можно окинуть взглядом оба войска.
Они так и сделали и взобрались на холм, с которого можно было бы хорошо
различить оба стада, превратившиеся у Дон Кихота в войска, если бы облако
пыли, поднятое ими, не мешало и не слепило им глаза. Но тем не менее, видя в
своем воображении то, чего нельзя было видеть и чего и не было, Дон Кихот
заговорил, возвысив голос:
-- Этот рыцарь, которого ты там видишь в желтых доспехах, с
изображением на щите коронованного льва, лежащего у ног молодой девушки, --
доблестный Лауркалко, владетель Пуэнта де Плата {Серебряного моста.}; тот
вот другой, в доспехах с золотыми цветами, у которого на щите три серебряные
короны на лазурном поле, это грозный Микоколембо, великий герцог Киросиа. А
тот, что стоит по правую его руку, телосложением великан, неустрашимый
Брандабарбаран де Боличе, повелитель трех Аравии; вместо лат на нем змеиная
кожа, а вместо щита -- дверь, которая, по преданию, была одной из дверей
храма, разрушенного Самсоном, когда он, умирая, отомстил своим врагам.
Но обрати глаза в другую сторону -- и ты увидишь впереди и во главе
второго войска никем не побежденного и всегда побеждающего Тимонела де
Каркахона, принца Новой Бискайи; он вооружен доспехами из четырех цветов:
голубого, зеленого, белого и светло-желтого, а на щите у него золотая кошка
в буром поле с надписью "Миай", а это -- начальный слог имени его дамы, как
говорят, несравненной Миаулины, дочери герцога Алфеньикена дель Алгарбе. А
этот вот, который тяжестью своей давит и обременяет могучего боевого коня, в
доспехах белых как снег и с белым щитом без девиза,-- новопосвященный
рыцарь, по происхождению француз, зовут его Пьерес Папин, и он владетель
Утрикских баронств. Тот, подальше, в лазурных доспехах, вонзающий в бока
легкой и полосатой зебре свои железные шпоры, -- мужественный герцог Нербии
Эспартофилардо дель Боске; на щите у него, в виде девиза, куст спаржи с
надписью на кастильском языке: -- "Rastreamisuerte" {Исследуй мою судьбу.}.
И таким образом Дон Кихот продолжал называть еще многих рыцарей того и
другого войска, как он представлял их себе, и всех их наделил оружием,
красками, эмблемами и девизами, увлеченный вдохновением столь неслыханного
своего помешательства и не останавливаясь, он продолжал, говоря:
-- Вот это войско впереди нас составлено из лиц различных
национальностей: здесь те, что пьют сладкие воды знаменитого Ханто; горцы,
попирающие Массилийские поля; те, которые просеивают прекраснейшее, тонкое
золото счастливой Аравии; те, которые наслаждаются знаменитыми и прохладными
берегами прозрачного Термодонте; те, что многими и различными способами
пользуются золотоносным Пактолем; нумидийцы, на обещания которых нельзя
положиться; персы, славящиеся своими луками и стрелами; парфяне, мидяне,
которые сражаются, убегая; арабы с их кочевыми шатрами, скифы, столь же
жестокие, как и белокожие эфиопы с проколотыми губами; и бесконечное
множество других народов, черты которых мне знакомы, и я их вижу, хотя не
могу вспомнить их имен. В том другом войске виднеются те, что пьют
хрустальные струи осененного оливковыми деревьями Бетиса; те, которые
освежают и омывают себе лицо влагою всегда обильного и золотоносного Тахо;
те, которые наслаждаются целебными водами божественного Хениля; те, которые
попирают Тартесийские равнины, изобилующие пастбищами; те, которые веселятся
на елисейских лугах Хереса; богатые ламанчцы с венками из спелых колосьев на
головах закованные в железо, последние отпрыски древних готов; те, которые
купаются в Писуерге, прославленной мягкостью струй; те, которые пасут стада
на обширных пажитях излучистой Гадианы, славящейся своим таинственным
течением; те, что дрожат от холода на лесистых вершинах Пиренеев или среди
белых снежных хлопьев на высоких Апеннинах, -- словом, здесь собраны все
народы, населяющие Европу и входящие в ее состав.
Помоги нам боже, сколько местностей перечислил он, сколько назвал
народов, наделяя каждый из них с удивительной быстротой принадлежавшими им
свойствами, совершенно поглощенный и весь пропитанный тем, что он прочел в
своих лживых книгах.
Санчо Панса молча прислушивался к словам Дон Кихота и время от времени
поворачивал голову, чтобы посмотреть, не увидит ли он тех рыцарей или
великанов, которых его господин называл, и, так как он никого не открыл, он
сказал:
-- Сеньор, черт их побери, но из всех, сколько ни перечисляла их ваша
милость, ни один человек, ни великан, ни рыцарь не показываются; по крайней
мере, я их не вижу; быть может, все это такое же волшебство, как и вчерашние
привидения.
-- Как можешь ты это говорить, -- ответил Дон Кихот, -- разве ты не
слышишь ржания коней, боя барабанов и звуков труб?
-- Не слышу ничего, -- ответил Санчо, -- кроме сильного блеяния баранов
и овец.
Так оно и было на самом деле, потому что оба стада уже подошли к ним
довольно близко.
-- Страх, который ты чувствуешь,-- сказал Дон Кихот, -- мешает тебе,
Санчо, правильно видеть и слышать; одно из действий страха -- именно
поражать наши чувства, вследствие чего предметы кажутся нам иными, чем они
есть на самом деле. И если ты так сильно боишься, отойди подальше и оставь
меня одного, потому что и один я сумею склонить победу на ту сторону, к
которой я присоединюсь.
Говоря это, Дон Кихот пришпорил Росинанта и, держа копье наперевес, с
быстротой молнии спустился с холма. Санчо крикнул ему вслед:
-- Ваша милость Дон Кихот, вернитесь, клянусь вам Богом, это бараны и
овцы, на которых вы хотите напасть! Вернитесь!.. Несчастливый отец,
породивший меня!.. Что это за сумасшествие! Посмотрите, тут нет ни
великанов, ни рыцарей, нет ни доспехов, ни кошек, ни четырехпольных, ни
цельных щитов, ни лазурного, ни чертова железного шлема... Что это он
делает?.. Боже, помилуй меня грешного!..
Но крик Санчо не заставил вернуться Дон Кихота, напротив, он скакал
вперед, громко говоря:
-- Эй вы, рыцари, которые служите и сражаетесь под знаменами храброго
императора Пентаполина с Засученным Рукавом, -- следуйте за мной, и вы
увидите, как легко я добуду ему отмщение над врагом его Алифанфароном де ла
Трапобана.
С этими словами он въехал в самую середину стада овец и с таким
мужеством и отвагой стал прокалывать их копьем, словно он в самом деле
расправлялся со смертельными своими врагами. Пастухи и подпаски, бывшие со
стадами, кричали ему, чтобы он этого не делал, но, увидав, что ничего не
помогает, они отвязали с пояса свои пращи и стали приветствовать его уши
камнями величиною с кулак. Дон Кихот, не обращая внимания на камни, скакал
то туда, то сюда и кричал:
-- Где ты, надменный Алифанфарон?.. Выходи на бой, так как против тебя
выступает лишь один рыцарь, который желает в поединке испытать твои силы и
лишить тебя жизни в наказание за твою вину против мужественного Пентаполина
Гараманта.
В эту минуту большой речной кремень, ударившись в бок Дон Кихоту,
вдавил ему внутрь два ребра. Видя себя в столь плохом состоянии, он,
наверное, подумал, что убит или опасно ранен, и, вспомнив о своем бальзаме,
вынул сосудец, поднес его ко рту и стал вливать жидкость себе в желудок. Но,
прежде чем он успел выпить столько, сколько ему казалось нужным, свистнула
вторая кремневая миндалина и так ловко ударила его по руке и по сосудцу, что
этот последний разбился на куски, а попутно выхватила у него изо рта три или
четыре передних и коренных зуба и сильно ушибла два пальца на руке. Как
первый, так и второй удар оказались столь меткими, что бедный рыцарь потерял
равновесие и свалился с лошади. Пастухи подбежали к нему и, подумав, что они
его убили, с величайшей поспешностью собрали свои стада, взвалили на плечи
мертвых овец, которых оказалось более семи, и удалились, не желая
исследовать ничего другого.
Все это время Санчо стоял на холме, глядел на безумные выходки своего
господина и рвал себе бороду, проклиная день и час, когда злой рок свел его
с Дон Кихотом. Когда же он увидел, что рыцарь лежит на земле, а пастухи
ушли, Санчо спустился с холма, приблизился к Дон Кихоту и, найдя его в
крайне плохом состоянии, хотя он еще был в памяти, сказал ему:
-- Не говорил ли я вам, сеньор Дон Кихот, чтобы вы вернулись, так как
те, на которых вы собирались напасть, не войска, а стада баранов?
-- Вот как этот плут волшебник, враг мой, умеет изменять и извращать
вещи, -- сказал Дон Кихот. -- Знай, Санчо, что таким, как он, легко
заставить нас видеть все, что они пожелают, и злобный чародей, преследующий
меня, завидуя славе, которою мне предстояло покрыться в этой битве, --
превратил полки врагов в стада баранов. Если же ты мне не веришь, Санчо,
сделай одну вещь, умоляю тебя, чтобы убедиться, что ты заблуждаешься, а я
прав. Садись на своего осла, поезжай тихонько за ними, и ты увидишь, как
удалившись отсюда на небольшое расстояние, все снова примут первоначальный
свой вид и из баранов превратятся опять в настоящих и подлинных людей,
таких, каких я тебе описывал. Впрочем, повремени еще ехать, потому что мне
нужна твоя помощь и услуга. Подойди поближе ко мне и посмотри, сколько
недостает у меня передних и коренных зубов: мне кажется, что во рту у меня
не осталось ни одного зуба.
Санчо наклонился так близко к рыцарю, что глаза его чуть ли не влезли
ему в рот. В это время бальзам произвел как раз свое действие в желудке Дон
Кихота, и в ту самую минуту, когда Санчо осматривал ему рот, рыцарь изверг
из себя стремительнее, чем выстрел из мушкета, все, что у него было внутри,
и обдал этим бороду сострадательного оруженосца.
-- Пресвятая Дева Мария! -- воскликнул Санчо, -- что такое случилось со
мной? Без сомнения, этот грешник ранен насмерть, так как его рвет кровью.
Но, вглядевшись ближе, Санчо по цвету, запаху и вкусу убедился, что это
не кровь, а бальзам, который, как он видел, Дон Кихот пил из сосудца, и его
охватила такая тошнота, что и у него перевернуло желудок и все, что там
было, вырвало на Дон Кихота, так что теперь оба они сверкали, будто
украшенные жемчугом. Санчо побежал к ослу, чтобы достать из дорожных сумок
что-нибудь, чем вытереться и перевязать раны своему господину, но, не найдя
сумок, чуть не сошел с ума; он опять стал себя проклинать и в душе своей
решил бросить господина и вернуться домой, хотя бы он и потерял жалованье за
свою службу и надежды на губернаторство на обещанном ему острове.
Между тем Дон Кихот встал и, придерживая левой рукой рот, чтобы не
выпали у него и остальные зубы, правой взял за узду Росинанта, который, стоя
рядом со своим господином, не двинулся от него ни на шаг (до того он был
верен и предан ему), и пошел туда, где оруженосец его стоял, прислонившись
грудью к своему ослу и подперев рукою щеку, как человек, погруженный в
глубокую задумчивость. Увидав его в такой позе и столь грустного, Дон Кихот
сказал ему:
Санчо подъехал к своему господину столь изнеможенный и разбитый, что
едва мог погонять своего осла. Когда Дон Кихот увидел его в таком состоянии,
он сказал:
-- Теперь я окончательно убедился, добрый мой Санчо, что этот замок,
или постоялый двор, несомненно очарован, потому что те, которые так жестоко
забавлялись над тобой, не могут быть не чем иным, как только привидениями и
существами из другого мира. Это подтверждается еще и тем обстоятельством,
что, когда я подъехал к ограде заднего двора и смотрел на ход печальной
твоей трагедии, я лишился возможности не только взобраться на ограду, но
даже не мог сойти с Росинанта, -- ясно, что я был очарован. Иначе, клянусь
тебе тем, что я есть, если б я только мог подняться на ограду или сойти с
лошади, я отомстил бы за тебя так, что те негодяи и мошенники вечно бы
помнили свою проделку; хотя, поступив таким образом, я нарушил бы рыцарский
устав, не дозволяющий, как я уже не раз говорил тебе, рыцарям обнажать меч
против лиц, не посвященных в рыцари, исключая лишь случая крайней и
неотложной необходимости, для защиты своей жизни и личности.
-- И я также отомстил бы за себя, если б мог, -- сказал Санчо, -- был
бы или не был бы я посвящен в рыцари, -- но я не мог; хотя мне думается, что
те, которые забавлялись надо мной, не были привидениями и не были очарованы
-- как ваша милость говорит, -- а были такими же людьми из плоти и крови,
как вы и я, и у всех у них есть имена. Я слышал, как они называли друг
друга, когда подбрасывали меня вверх: одного звали Педро Марти-нес, другого,
-- Тенорио Эрнандес, а хозяина двора звали Хуан Паломек Левша. Так что, если
вы, сеньор, не могли влезть на ограду или сойти с лошади, причиной тому было
что-либо другое, а не волшебство; из всего этого я вывожу лишь одно:
приключения, которые мы отправляемся отыскивать, в конце концов приведут нас
к таким несчастиям, что мы не будем знать, которая у нас правая нога. Было
бы лучше и умнее, по моему бедному разумению, вернуться нам к себе, в село,
теперь, когда настала жатва, и заняться хозяйством, бросив скитаться по
долам и горам и попадать, как говорится, из огня в полымя.
-- Как ты плохо понимаешь рыцарские дела, Санчо, -- ответил Дон Кихот.
-- Молчи, и имей терпение, потому что настанет день, когда ты воочию
убедишься, какая почетная вещь -- нести это звание. Если же нет, -- скажи:
может ли на свете быть большее удовольствие, или какое наслаждение может
сравниться с победой в битве и торжеством над своим врагом? Никакое, без
всякого сомнения!
-- Должно быть, это так и есть,-- ответил Санчо, -- хотя я этого не
знаю; знаю только, что с тех пор, как мы с вами стали странствующими
рыцарями, или, вернее, как ваша милость им стала (потому что я не могу
причислить себя к столь почетному званию), мы никогда еще не выиграли ни
одной битвы, -- разве только битву с бискайцем, и даже из нее ваша милость
вышла, лишившись пол-уха и полшлема. А после того и до сих пор на нас
сыпались одни лишь побои палкой и палкой, удары кулаками и кулаками; я же,
сверх того, вынес и подбрасывание на одеяле, а проделали это надо мной люди
очарованные, которым я не могу отомстить, чтобы хоть отведать, насколько
велико наслаждение торжествовать над своим врагом, как говорит ваша милость.
-- В этом-то и заключается мое огорчение, а также, должно быть, и твое,
Санчо, -- ответил Дон Кихот. -- Но отныне постараюсь добыть себе меч,
настолько искусно выкованный, что против того, кто его носит, окажутся
бессильны какие бы то ни было чары. Может даже случиться, что счастье
наделит меня мечом, принадлежавшим Амадису, -- когда он назывался Рыцарем
Пылающего Меча,-- это был один из лучших мечей во всем мире, которыми
обладал какой-либо рыцарь; так как, сверх указанного свойства, он еще резал
как бритва, и не было таких доспехов -- как бы они ни были крепки и
очарованы, -- которые могли бы устоять перед ним.
-- Такое мое счастье, -- сказал Санчо, -- что, даже если б это и
случилось и вашей милости удалось бы найти подобный меч, он служил бы и
пошел бы на пользу -- как и бальзам -- одним только рыцарям, а оруженосцы
пускай себе хлебают горе.
-- Не опасайся этого, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- небо пошлет тебе
нечто получше.
Разговаривая таким образом, Дон Кихот и его оруженосец продолжали свой
путь, как вдруг первый из них увидел, что по дороге, по которой они ехали,
им навстречу поднялось большое, густое облака пыли. Заметив его, Дон Кихот
обернулся к Санчо и сказал:
-- Настал день, о Санчо, когда выяснится, какое счастье хранила для
меня судьба. Настал день, говорю я, когда,-- как и во всякий другой --
выкажется могущество моей руки и я совершу подвиги, имеющие быть вписанными
в книгу славы в назидание грядущим векам. Видишь ли, Санчо, облако пыли,
которое вот там подымается? Знай же, что всю эту муть производит громадное
войско, составленное из разных и бесчисленных народностей, которое
направляется сюда.
-- Но в таком случае их должно быть целых два, -- сказал Санчо, --
потому что и с противоположной стороны подымается точно такое же облако
пыли.
Дон Кихот обернулся и увидел, что действительно так и было; необычайно
обрадовавшись, он вообразил, что наверное два войска идут друг на друга,
готовые сойтись и вступить в бой здесь, среди этой обширной равнины; так как
во всякое время его фантазия была переполнена битвами, очарованиями,
приключениями, сумасбродствами, любовными похождениями и вызовами на
поединки, о которых рассказывается в рыцарских книгах, и все, что он
говорил, думал или делал, клонилось к подобным вещам. А облако пыли, которое
он увидел, было поднято двумя большими стадами овец и баранов, подвигавшихся
по той же дороге с двух противоположных сторон; вследствие густой пыли их
нельзя было разглядеть, пока они не приблизились. Между тем Дон Кихот так
горячо утверждал, что это два войска, что наконец Санчо поверил ему и
спросил:
-- Сеньор, что же нам делать теперь?
-- Что делать? -- сказал Дон Кихот,-- Оказывать покровительство и
помощь слабым и нуждающимся! Ты должен знать, Санчо, что во главе армии,
идущей нам навстречу, стоит и ею предводительствует великий император
Алифанфарон, владетель обширного острова Трапобана {Нынешний Цейлон.};
другим же войском, идущим позади нас, предводительствует его враг, король
гарамантов {Народ, обитавший во Внутренней Африке, о котором дважды
упоминает Вергилий.}, Пентаполин с Засученным Рукавом, которому дали такое
прозвище потому, что в сражениях он всегда обнажает правую руку
-- Из-за чего же враждуют друг с другом эти два сеньора? -- спросил
Санчо.
-- Из-за того,-- ответил Дон Кихот,-- что Алифанфарон -- завзятый
язычник и влюблен в дочь Пентаполина, необычайную красавицу и очень милую
девушку, но она христианка, и отец ее не желает выдавать ее замуж за
короля-язычника, пока тот не даст обещания отказаться от веры лжепророка
Магомета и принять христианство.
-- Клянусь моей бородой, -- воскликнул Санчо, -- Пентаполин вполне
прав, и я готов помогать ему изо всех моих сил.
-- Делая это, ты исполнишь свой долг, Санчо, -- сказал Дон Кихот, --
потому что для участия в такого рода битвах не требуется быть посвященным в
рыцари.
-- Это я хорошо понимаю, -- ответил Санчо, -- но куда же нам деть осла,
чтобы быть уверенными найти его, когда кончится драка? Потому что, я думаю,
до сих пор еще не вошло в обычай вступать в бой верхом на таком животном.
-- Совершенно верно, -- сказал Дон Кихот, -- единственное, что ты
можешь сделать, -- это предоставить его на собственный произвол, погибнет он
или нет, все равно, так как после победы у нас окажется столько лошадей, что
даже и Росинанту грозит опасность быть обмененным на другого коня. Но теперь
слушай меня внимательно и смотри сюда, я хочу описать тебе самых выдающихся
рыцарей в обоих войсках; а чтобы ты их лучше видел и рассмотрел, поднимайся
на этот вот холмик, оттуда можно окинуть взглядом оба войска.
Они так и сделали и взобрались на холм, с которого можно было бы хорошо
различить оба стада, превратившиеся у Дон Кихота в войска, если бы облако
пыли, поднятое ими, не мешало и не слепило им глаза. Но тем не менее, видя в
своем воображении то, чего нельзя было видеть и чего и не было, Дон Кихот
заговорил, возвысив голос:
-- Этот рыцарь, которого ты там видишь в желтых доспехах, с
изображением на щите коронованного льва, лежащего у ног молодой девушки, --
доблестный Лауркалко, владетель Пуэнта де Плата {Серебряного моста.}; тот
вот другой, в доспехах с золотыми цветами, у которого на щите три серебряные
короны на лазурном поле, это грозный Микоколембо, великий герцог Киросиа. А
тот, что стоит по правую его руку, телосложением великан, неустрашимый
Брандабарбаран де Боличе, повелитель трех Аравии; вместо лат на нем змеиная
кожа, а вместо щита -- дверь, которая, по преданию, была одной из дверей
храма, разрушенного Самсоном, когда он, умирая, отомстил своим врагам.
Но обрати глаза в другую сторону -- и ты увидишь впереди и во главе
второго войска никем не побежденного и всегда побеждающего Тимонела де
Каркахона, принца Новой Бискайи; он вооружен доспехами из четырех цветов:
голубого, зеленого, белого и светло-желтого, а на щите у него золотая кошка
в буром поле с надписью "Миай", а это -- начальный слог имени его дамы, как
говорят, несравненной Миаулины, дочери герцога Алфеньикена дель Алгарбе. А
этот вот, который тяжестью своей давит и обременяет могучего боевого коня, в
доспехах белых как снег и с белым щитом без девиза,-- новопосвященный
рыцарь, по происхождению француз, зовут его Пьерес Папин, и он владетель
Утрикских баронств. Тот, подальше, в лазурных доспехах, вонзающий в бока
легкой и полосатой зебре свои железные шпоры, -- мужественный герцог Нербии
Эспартофилардо дель Боске; на щите у него, в виде девиза, куст спаржи с
надписью на кастильском языке: -- "Rastreamisuerte" {Исследуй мою судьбу.}.
И таким образом Дон Кихот продолжал называть еще многих рыцарей того и
другого войска, как он представлял их себе, и всех их наделил оружием,
красками, эмблемами и девизами, увлеченный вдохновением столь неслыханного
своего помешательства и не останавливаясь, он продолжал, говоря:
-- Вот это войско впереди нас составлено из лиц различных
национальностей: здесь те, что пьют сладкие воды знаменитого Ханто; горцы,
попирающие Массилийские поля; те, которые просеивают прекраснейшее, тонкое
золото счастливой Аравии; те, которые наслаждаются знаменитыми и прохладными
берегами прозрачного Термодонте; те, что многими и различными способами
пользуются золотоносным Пактолем; нумидийцы, на обещания которых нельзя
положиться; персы, славящиеся своими луками и стрелами; парфяне, мидяне,
которые сражаются, убегая; арабы с их кочевыми шатрами, скифы, столь же
жестокие, как и белокожие эфиопы с проколотыми губами; и бесконечное
множество других народов, черты которых мне знакомы, и я их вижу, хотя не
могу вспомнить их имен. В том другом войске виднеются те, что пьют
хрустальные струи осененного оливковыми деревьями Бетиса; те, которые
освежают и омывают себе лицо влагою всегда обильного и золотоносного Тахо;
те, которые наслаждаются целебными водами божественного Хениля; те, которые
попирают Тартесийские равнины, изобилующие пастбищами; те, которые веселятся
на елисейских лугах Хереса; богатые ламанчцы с венками из спелых колосьев на
головах закованные в железо, последние отпрыски древних готов; те, которые
купаются в Писуерге, прославленной мягкостью струй; те, которые пасут стада
на обширных пажитях излучистой Гадианы, славящейся своим таинственным
течением; те, что дрожат от холода на лесистых вершинах Пиренеев или среди
белых снежных хлопьев на высоких Апеннинах, -- словом, здесь собраны все
народы, населяющие Европу и входящие в ее состав.
Помоги нам боже, сколько местностей перечислил он, сколько назвал
народов, наделяя каждый из них с удивительной быстротой принадлежавшими им
свойствами, совершенно поглощенный и весь пропитанный тем, что он прочел в
своих лживых книгах.
Санчо Панса молча прислушивался к словам Дон Кихота и время от времени
поворачивал голову, чтобы посмотреть, не увидит ли он тех рыцарей или
великанов, которых его господин называл, и, так как он никого не открыл, он
сказал:
-- Сеньор, черт их побери, но из всех, сколько ни перечисляла их ваша
милость, ни один человек, ни великан, ни рыцарь не показываются; по крайней
мере, я их не вижу; быть может, все это такое же волшебство, как и вчерашние
привидения.
-- Как можешь ты это говорить, -- ответил Дон Кихот, -- разве ты не
слышишь ржания коней, боя барабанов и звуков труб?
-- Не слышу ничего, -- ответил Санчо, -- кроме сильного блеяния баранов
и овец.
Так оно и было на самом деле, потому что оба стада уже подошли к ним
довольно близко.
-- Страх, который ты чувствуешь,-- сказал Дон Кихот, -- мешает тебе,
Санчо, правильно видеть и слышать; одно из действий страха -- именно
поражать наши чувства, вследствие чего предметы кажутся нам иными, чем они
есть на самом деле. И если ты так сильно боишься, отойди подальше и оставь
меня одного, потому что и один я сумею склонить победу на ту сторону, к
которой я присоединюсь.
Говоря это, Дон Кихот пришпорил Росинанта и, держа копье наперевес, с
быстротой молнии спустился с холма. Санчо крикнул ему вслед:
-- Ваша милость Дон Кихот, вернитесь, клянусь вам Богом, это бараны и
овцы, на которых вы хотите напасть! Вернитесь!.. Несчастливый отец,
породивший меня!.. Что это за сумасшествие! Посмотрите, тут нет ни
великанов, ни рыцарей, нет ни доспехов, ни кошек, ни четырехпольных, ни
цельных щитов, ни лазурного, ни чертова железного шлема... Что это он
делает?.. Боже, помилуй меня грешного!..
Но крик Санчо не заставил вернуться Дон Кихота, напротив, он скакал
вперед, громко говоря:
-- Эй вы, рыцари, которые служите и сражаетесь под знаменами храброго
императора Пентаполина с Засученным Рукавом, -- следуйте за мной, и вы
увидите, как легко я добуду ему отмщение над врагом его Алифанфароном де ла
Трапобана.
С этими словами он въехал в самую середину стада овец и с таким
мужеством и отвагой стал прокалывать их копьем, словно он в самом деле
расправлялся со смертельными своими врагами. Пастухи и подпаски, бывшие со
стадами, кричали ему, чтобы он этого не делал, но, увидав, что ничего не
помогает, они отвязали с пояса свои пращи и стали приветствовать его уши
камнями величиною с кулак. Дон Кихот, не обращая внимания на камни, скакал
то туда, то сюда и кричал:
-- Где ты, надменный Алифанфарон?.. Выходи на бой, так как против тебя
выступает лишь один рыцарь, который желает в поединке испытать твои силы и
лишить тебя жизни в наказание за твою вину против мужественного Пентаполина
Гараманта.
В эту минуту большой речной кремень, ударившись в бок Дон Кихоту,
вдавил ему внутрь два ребра. Видя себя в столь плохом состоянии, он,
наверное, подумал, что убит или опасно ранен, и, вспомнив о своем бальзаме,
вынул сосудец, поднес его ко рту и стал вливать жидкость себе в желудок. Но,
прежде чем он успел выпить столько, сколько ему казалось нужным, свистнула
вторая кремневая миндалина и так ловко ударила его по руке и по сосудцу, что
этот последний разбился на куски, а попутно выхватила у него изо рта три или
четыре передних и коренных зуба и сильно ушибла два пальца на руке. Как
первый, так и второй удар оказались столь меткими, что бедный рыцарь потерял
равновесие и свалился с лошади. Пастухи подбежали к нему и, подумав, что они
его убили, с величайшей поспешностью собрали свои стада, взвалили на плечи
мертвых овец, которых оказалось более семи, и удалились, не желая
исследовать ничего другого.
Все это время Санчо стоял на холме, глядел на безумные выходки своего
господина и рвал себе бороду, проклиная день и час, когда злой рок свел его
с Дон Кихотом. Когда же он увидел, что рыцарь лежит на земле, а пастухи
ушли, Санчо спустился с холма, приблизился к Дон Кихоту и, найдя его в
крайне плохом состоянии, хотя он еще был в памяти, сказал ему:
-- Не говорил ли я вам, сеньор Дон Кихот, чтобы вы вернулись, так как
те, на которых вы собирались напасть, не войска, а стада баранов?
-- Вот как этот плут волшебник, враг мой, умеет изменять и извращать
вещи, -- сказал Дон Кихот. -- Знай, Санчо, что таким, как он, легко
заставить нас видеть все, что они пожелают, и злобный чародей, преследующий
меня, завидуя славе, которою мне предстояло покрыться в этой битве, --
превратил полки врагов в стада баранов. Если же ты мне не веришь, Санчо,
сделай одну вещь, умоляю тебя, чтобы убедиться, что ты заблуждаешься, а я
прав. Садись на своего осла, поезжай тихонько за ними, и ты увидишь, как
удалившись отсюда на небольшое расстояние, все снова примут первоначальный
свой вид и из баранов превратятся опять в настоящих и подлинных людей,
таких, каких я тебе описывал. Впрочем, повремени еще ехать, потому что мне
нужна твоя помощь и услуга. Подойди поближе ко мне и посмотри, сколько
недостает у меня передних и коренных зубов: мне кажется, что во рту у меня
не осталось ни одного зуба.
Санчо наклонился так близко к рыцарю, что глаза его чуть ли не влезли
ему в рот. В это время бальзам произвел как раз свое действие в желудке Дон
Кихота, и в ту самую минуту, когда Санчо осматривал ему рот, рыцарь изверг
из себя стремительнее, чем выстрел из мушкета, все, что у него было внутри,
и обдал этим бороду сострадательного оруженосца.
-- Пресвятая Дева Мария! -- воскликнул Санчо, -- что такое случилось со
мной? Без сомнения, этот грешник ранен насмерть, так как его рвет кровью.
Но, вглядевшись ближе, Санчо по цвету, запаху и вкусу убедился, что это
не кровь, а бальзам, который, как он видел, Дон Кихот пил из сосудца, и его
охватила такая тошнота, что и у него перевернуло желудок и все, что там
было, вырвало на Дон Кихота, так что теперь оба они сверкали, будто
украшенные жемчугом. Санчо побежал к ослу, чтобы достать из дорожных сумок
что-нибудь, чем вытереться и перевязать раны своему господину, но, не найдя
сумок, чуть не сошел с ума; он опять стал себя проклинать и в душе своей
решил бросить господина и вернуться домой, хотя бы он и потерял жалованье за
свою службу и надежды на губернаторство на обещанном ему острове.
Между тем Дон Кихот встал и, придерживая левой рукой рот, чтобы не
выпали у него и остальные зубы, правой взял за узду Росинанта, который, стоя
рядом со своим господином, не двинулся от него ни на шаг (до того он был
верен и предан ему), и пошел туда, где оруженосец его стоял, прислонившись
грудью к своему ослу и подперев рукою щеку, как человек, погруженный в
глубокую задумчивость. Увидав его в такой позе и столь грустного, Дон Кихот
сказал ему:
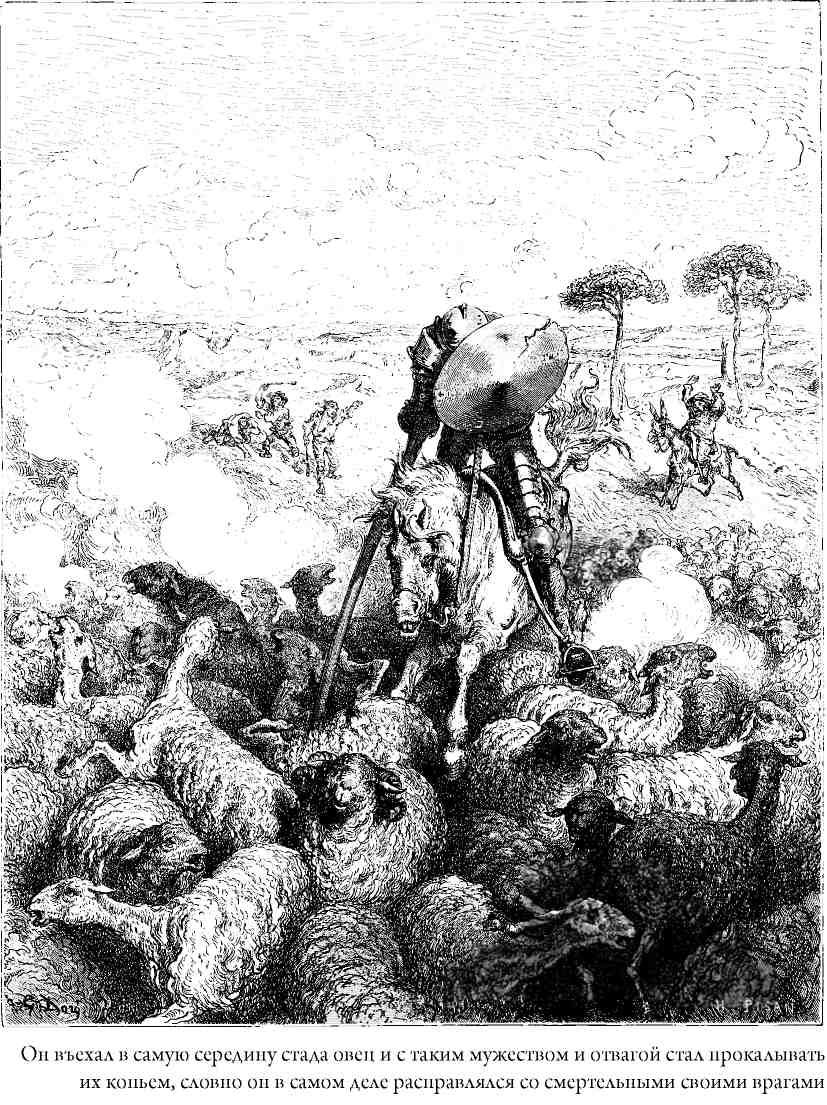 -- Знай, Санчо, -- нет человека, который стоил бы больше другого, если
он не сделал больше его; все эти бури, разражающиеся над нами, предвещают,
что погода скоро прояснится и дела наши примут хороший оборот; потому что
невозможно, чтобы зло или добро длилось бы очень долго, и из этого следует,
что, если зло продолжалось долго, добро уже близко; так что ты не должен
сокрушаться о несчастиях, приключившихся со мной, -- ведь, они не коснулись
тебя.
-- Как не коснулись меня, -- ответил Санчо, -- быть может, тот,
которого вчера бросали вверх на одеяле, был кто другой, а не сын моего
отца?.. И сумки, пропавшие у меня сегодня со всем моим добром, принадлежали,
быть может, кому другому, а не мне?..
-- Как, Санчо, у тебя пропали сумки? -- спросил Дон Кихот.
-- Да, пропали, -- ответил Санчо.
-- Значит, сегодня нам нечего будет есть, -- сказал Дон Кихот.
-- Нечего было бы, -- ответил Санчо, -- если б на этих лугах не росли
травы, которые вам, как вы говорили, хорошо известны и которыми несчастные
странствующие рыцари, подобные вашей милости, имеют обыкновение заменять
недостаток пищи.
-- Тем не менее, -- ответил Дон Кихот, -- я охотнее предпочел бы теперь
кусок белого или же простого деревенского хлеба и пару голов копченых
сельдей всем травам, описанным Диоскоридом, хотя бы и с иллюстрациями
доктора Лагуна {Андрес Лагуна -- доктор императора Карла V, перевел с
греческого Диоскорида, с комментариями и иллюстрациями.}. Однако садись на
своего осла, Санчо Добрый, и следуй за мной, так как Бог, который печется
обо всех, не оставит и нас, особенно потому, что странствуя, как мы это
делаем, мы тем самым служим Ему; ведь Он не забывает ни комаров в воздухе,
ни червей в земле, ни головастиков в воде и так милостив, что велит солнцу
своему восходить над добрыми и злыми и орошает дождем праведных и
неправедных.
-- Вашей милости пристало бы больше быть проповедником, чем
странствующим рыцарем, -- сказал Санчо.
-- Странствующие рыцари знают все и должны все знать, Санчо, -- ответил
Дон Кихот, -- так как в прошлые века встречались рыцари, которые были столь
же способны произнести проповедь или сказать речь среди чистого поля, как
будто они получили ученую степень в Парижском университете, и из этого
следует, что никогда копье не притупляет пера, ни перо -- копья.
-- Что ж, пусть будет так, как говорит ваша милость, -- ответил Санчо,
-- а теперь уедем отсюда и постараемся найти себе ночлег, только дай бог,
чтобы мы нашли его там, где не будет ни подбрасывания вверх на одеяле, ни
подбрасыва-телей, ни привидений, ни очарованных мавров, потому что, если они
окажутся, тогда пусть черт все поберет с собой.
-- Попроси о том Бога, сын мой,-- сказал Дон Кихот, -- и веди меня,
куда хочешь, так как на этот раз я предоставляю выбор ночлега тебе, но
дай-ка сюда руку и ощупай пальцем, сколько у меня недостает зубов на правой
верхней челюсти, потому что там я чувствую боль.
Санчо всунул ему в рот пальцы и, ощупав десну, сказал:
-- Сколько коренных зубов было раньше вот с этой стороны у вашей
милости?
-- Четыре, -- ответил Дон Кихот,-- не считая зуба мудрости, и все были
совершенно целы и невредимы.
-- Подумайте-ка хорошенько, так ли вы говорите, милость ваша, -- сказал
Санчо.
-- Говорю тебе, что четыре, если не пять, -- ответил Дон Кихот, --
потому что во всю жизнь у меня не вырвали ни одного зуба, ни переднего, ни
коренного, и ни один не выпал и не разрушился от гниения или простуды.
-- Ну, на этой стороне внизу, -- сказал Санчо, -- у вашей милости всего
лишь два с половиной коренных зуба, а там, наверху, нет ни ползуба и ничего,
потому что все гладко, как ладонь руки.
-- Несчастный я! -- воскликнул Дон Кихот, услышав печальное известие,
сообщенное его оруженосцем. Я скорей желал бы, чтоб у меня отрубили руку, но
только не ту, которой держат меч; так как ты должен знать, Санчо, что рот
без коренных зубов все равно что мельница без жерновов и надо ценить зуб
куда выше, чем алмаз. Но всем таким случайностям подвержены мы, те, что
исповедуют суровые правила рыцарства. Садись на своего осла, друг, и поезжай
впереди, а я буду следовать за тобой, какую бы дорогу ни выбрал ты.
Санчо так и сделал и направился туда, где он надеялся найти ночлег, не
покидая, однако, большой дороги, ясно обозначенной здесь. В то время как они
медленно подвигались вперед, потому что боль в челюстях не давала Дон Кихоту
покоя и не позволяла быстро ехать, Санчо пожелал развлечь и занять его и,
между прочим, рассказал ему то, о чем будет сообщено в следующей главе.
-- Знай, Санчо, -- нет человека, который стоил бы больше другого, если
он не сделал больше его; все эти бури, разражающиеся над нами, предвещают,
что погода скоро прояснится и дела наши примут хороший оборот; потому что
невозможно, чтобы зло или добро длилось бы очень долго, и из этого следует,
что, если зло продолжалось долго, добро уже близко; так что ты не должен
сокрушаться о несчастиях, приключившихся со мной, -- ведь, они не коснулись
тебя.
-- Как не коснулись меня, -- ответил Санчо, -- быть может, тот,
которого вчера бросали вверх на одеяле, был кто другой, а не сын моего
отца?.. И сумки, пропавшие у меня сегодня со всем моим добром, принадлежали,
быть может, кому другому, а не мне?..
-- Как, Санчо, у тебя пропали сумки? -- спросил Дон Кихот.
-- Да, пропали, -- ответил Санчо.
-- Значит, сегодня нам нечего будет есть, -- сказал Дон Кихот.
-- Нечего было бы, -- ответил Санчо, -- если б на этих лугах не росли
травы, которые вам, как вы говорили, хорошо известны и которыми несчастные
странствующие рыцари, подобные вашей милости, имеют обыкновение заменять
недостаток пищи.
-- Тем не менее, -- ответил Дон Кихот, -- я охотнее предпочел бы теперь
кусок белого или же простого деревенского хлеба и пару голов копченых
сельдей всем травам, описанным Диоскоридом, хотя бы и с иллюстрациями
доктора Лагуна {Андрес Лагуна -- доктор императора Карла V, перевел с
греческого Диоскорида, с комментариями и иллюстрациями.}. Однако садись на
своего осла, Санчо Добрый, и следуй за мной, так как Бог, который печется
обо всех, не оставит и нас, особенно потому, что странствуя, как мы это
делаем, мы тем самым служим Ему; ведь Он не забывает ни комаров в воздухе,
ни червей в земле, ни головастиков в воде и так милостив, что велит солнцу
своему восходить над добрыми и злыми и орошает дождем праведных и
неправедных.
-- Вашей милости пристало бы больше быть проповедником, чем
странствующим рыцарем, -- сказал Санчо.
-- Странствующие рыцари знают все и должны все знать, Санчо, -- ответил
Дон Кихот, -- так как в прошлые века встречались рыцари, которые были столь
же способны произнести проповедь или сказать речь среди чистого поля, как
будто они получили ученую степень в Парижском университете, и из этого
следует, что никогда копье не притупляет пера, ни перо -- копья.
-- Что ж, пусть будет так, как говорит ваша милость, -- ответил Санчо,
-- а теперь уедем отсюда и постараемся найти себе ночлег, только дай бог,
чтобы мы нашли его там, где не будет ни подбрасывания вверх на одеяле, ни
подбрасыва-телей, ни привидений, ни очарованных мавров, потому что, если они
окажутся, тогда пусть черт все поберет с собой.
-- Попроси о том Бога, сын мой,-- сказал Дон Кихот, -- и веди меня,
куда хочешь, так как на этот раз я предоставляю выбор ночлега тебе, но
дай-ка сюда руку и ощупай пальцем, сколько у меня недостает зубов на правой
верхней челюсти, потому что там я чувствую боль.
Санчо всунул ему в рот пальцы и, ощупав десну, сказал:
-- Сколько коренных зубов было раньше вот с этой стороны у вашей
милости?
-- Четыре, -- ответил Дон Кихот,-- не считая зуба мудрости, и все были
совершенно целы и невредимы.
-- Подумайте-ка хорошенько, так ли вы говорите, милость ваша, -- сказал
Санчо.
-- Говорю тебе, что четыре, если не пять, -- ответил Дон Кихот, --
потому что во всю жизнь у меня не вырвали ни одного зуба, ни переднего, ни
коренного, и ни один не выпал и не разрушился от гниения или простуды.
-- Ну, на этой стороне внизу, -- сказал Санчо, -- у вашей милости всего
лишь два с половиной коренных зуба, а там, наверху, нет ни ползуба и ничего,
потому что все гладко, как ладонь руки.
-- Несчастный я! -- воскликнул Дон Кихот, услышав печальное известие,
сообщенное его оруженосцем. Я скорей желал бы, чтоб у меня отрубили руку, но
только не ту, которой держат меч; так как ты должен знать, Санчо, что рот
без коренных зубов все равно что мельница без жерновов и надо ценить зуб
куда выше, чем алмаз. Но всем таким случайностям подвержены мы, те, что
исповедуют суровые правила рыцарства. Садись на своего осла, друг, и поезжай
впереди, а я буду следовать за тобой, какую бы дорогу ни выбрал ты.
Санчо так и сделал и направился туда, где он надеялся найти ночлег, не
покидая, однако, большой дороги, ясно обозначенной здесь. В то время как они
медленно подвигались вперед, потому что боль в челюстях не давала Дон Кихоту
покоя и не позволяла быстро ехать, Санчо пожелал развлечь и занять его и,
между прочим, рассказал ему то, о чем будет сообщено в следующей главе.

Глава XIX О мудром разговоре, который Санчо вел со своим господином, о
приключении с мертвым телом и о других замечательных событиях
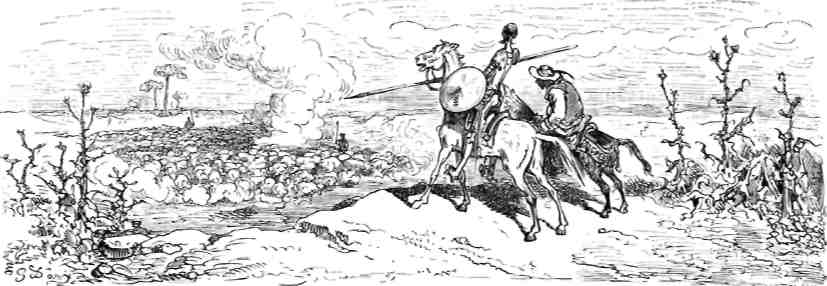 -- Мне кажется, сеньор мой, что все эти несчастья, обрушившиеся на нас
в последние дни, были, вне всякого сомнения, наказанием за грех против
рыцарского устава, в который впала ваша милость, не сдержав своей клятвы не
есть хлеба со скатерти, не забавляться с королевой и не делать и остального,
что еще за этим следовало и что ваша милость клялась исполнять, пока вам не
удастся добыть себе шлема Меландрина или как там зовут мавра, хорошенько не
помню.
-- Ты вполне прав, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- но, говоря по правде,
я забыл о моей клятве, и за то, что ты во время не напомнил мне о ней, с
тобой приключилась -- можешь в этом быть уверен -- неприятность с
подбрасыванием на одеяле. Впрочем, я заглажу свою ошибку, так как в
рыцарском ордене имеются средства все уладить.
-- Но разве и я клялся в чем-либо?-- спросил Санчо.
-- Неважно, что ты не клялся, -- ответил Дон Кихот, -- достаточно и
того, что я считаю тебя не совсем свободным от соучастия, и, так ли оно на
деле или нет, недурно было бы принять нам какие-нибудь меры для исправления
нашей ошибки.
-- Если дело так обстоит, -- сказал Санчо, -- постарайтесь, ваша
милость, не забыть сказанного вами сейчас, как вы забыли свою клятву; иначе
привидениям может опять прийти охота потешиться надо мной и даже и над вашей
милостью, если они увидят, до чего вы упорны.
В этих и подобных разговорах ночь застигла их среди дороги прежде, чем
они нашли или добрались до места, где им можно было бы переночевать; но хуже
всего было то, что они умирали с голоду, так как вместе с сумками исчезла и
их кладовая со всеми съестными припасами. К довершению беды им встретилось
приключение, которое без искусственной натяжки действительно можно было
назвать таковым. Наступила довольно темная ночь, но, несмотря на это, они
продолжали свой путь, так как Санчо полагал, что раз они находятся на
большой дороге, то, проехав одну или две мили, они непременно должны попасть
на какой-нибудь постоялый двор. И вот голодный оруженосец и господин его
тоже с сильным желанием поесть, путешествуя таким образом в ночной темноте,
увидели, что навстречу им по той же дороге движется великое множество огней,
казавшихся чем-то вроде движущихся звезд. При виде этих огней Санчо чуть не
обмер от страха, да и Дон Кихоту стало не по себе, один дернул осла за
недоуздок, другой придержал лошадь за повод, и оба они остановились и стали
внимательно всматриваться, что бы это могло быть. Они видели, что огни
приближались к ним, и чем больше они приближались, тем больше увеличивались.
При этом зрелище Санчо задрожал, как человек, принявший внутрь ртуть
{Temblar соте un azogado -- общеупотребительное испанское выражение,
основанное на мысли, что те, которые принимают ртуть, azogue, или вдыхают
ее, подобно рабочим в ртутных рудниках, дрожат, как и сам металл.}, а у Дон
Кихота волосы встали дыбом, но он тотчас же, несколько приободрившись,
сказал:
-- Нет сомнения, Санчо, что это одно из величайших и самых опасных
приключений, в котором мне нужно будет выказать всю мою храбрость и
мужество.
-- Несчастный я! -- воскликнул Санчо. -- Если и это приключение
окажется опять с привидениями, как мне сдается, где же нам набраться ребер,
чтобы выдержать его?
-- Пусть будет сколько угодно привидений, -- сказал Дон Кихот, -- но я
не допущу, чтобы они дотронулись хоть до нитки твоего платья; и если в тот
раз они пошутили над тобой, это случилось потому, что я не мог перебраться
через забор двора; теперь же мы в открытом поле, где я в состоянии
размахнуться мечом, как захочу.
-- А если они заворожат и сделают его бессильным, как в тот раз, --
сказал Санчо, -- какая будет польза от того, в открытом ли мы поле или нет?
-- Тем не менее, -- возразил Дон Кихот, -- прошу тебя, Санчо, запасись
мужеством, а сколько его у меня, ты увидишь на деле.
-- Да, я запасусь мужеством, если Богу будет угодно, -- ответил Санчо.
И оба, отъехав немного в сторону, стали снова внимательно
всматриваться, что бы такое могли быть эти двигавшиеся огни, и вскоре они
различили большое число людей, одетых в белые балахоны {Encamisados (одетые
в белые рубахи поверх одежды) -- выражение, чаще всего употребляемое по
отношению к солдатам, прибегавшим к этой хитрости во время ночных нападений,
чтобы признать друг друга в темноте.}. Это страшное видение окончательно
погасило мужество в душе Санчо Пансы, и он застучал зубами, как в припадке
четырехдневной лихорадки; его дрожь и стучание зубами еще усилились, когда
они ясно рассмотрели, что это такое: они увидели около двадцати человек в
длинных белых балахонах верхом, с зажженными факелами в руках, а за ними
следовали носилки, покрытые трауром, за которыми ехало еще шесть всадников,
облаченных в траур до самых ног их мулов, -- что это были мулы, а не лошади,
хорошо было видно по их спокойной поступи. Ехали белые привидения, что-то
бормоча себе под нос тихим и жалобным голосом. Это изумительное видение в
такой час и в таком пустынном месте могло, без сомнения, наполнить страхом
сердце Санчо и даже сердце его господина, что действительно и случилось с
Дон Кихотом. Но Санчо окончательно забыл свое намерение запастись мужеством.
С господином же его произошло противоположное, так как его фантазия тотчас
же ярко разрисовала ему, что это одно из приключений, описанных в его
книгах. Он вообразил себе, что носилки -- погребальные дроги, а на них везут
какого-нибудь тяжелораненого или мертвого рыцаря, отомстить за которого
предназначено единственно ему. Без дальнейших размышлений он, взяв наперевес
копье, уселся крепче в седле и с благородной осанкой и мужественным видом
стал посреди дороги, по которой белые привидения неминуемо должны были
проехать. Когда же он увидел их вблизи себя, то громким голосом воскликнул:
-- Остановитесь, рыцари, кто бы вы ни были, и дайте мне отчет: откуда и
куда вы едете, кто вы такие и что у вас там, на этих носилках? По всем
признакам вы или сами совершили, или над вами было совершено кем-либо
злодеяние, -- мне же следует и необходимо это знать для того, чтобы наказать
вас за содеянное вами зло или же отомстить за нанесенную вам обиду!
-- Мы спешим, -- ответило одно из белых привидений, -- а до постоялого
двора еще далеко, и мы не можем останавливаться, чтобы дать вам
обстоятельный отчет, которого вы требуете. -- И, пришпорив мула, привидение
двинулось вперед. Сильно раздраженный таким ответом, Дон Кихот схватил мула
за узду и сказал:
-- Остановитесь и будьте вежливее! Дайте отчет, которого я требую; если
же нет, вызываю всех вас на поединок со мной.
Мул был пуглив, и, когда почувствовал, что его схватили за узду, он так
испугался, что поднялся на дыбы и сбросил своего седока на землю. Слуга,
шедший пешком, увидав, что его господин в белом одеянии упал с мула, начал
поносить Дон Кихота, который, воспылав гневом, не раздумывая ни минуты,
наклонив копье, устремился на одного из всадников, одетых в траур, и, тяжело
ранив его, сбросил на землю; затем он обратился к
остальным, и, действительно, стоило посмотреть, с какой он быстротой
нападал на них и разбивал их: казалось, что в ту минуту у Росинанта выросли
крылья, так он легко и гордо выступал. Всадники, облаченные в белое, были
люди пугливые и безоружные, поэтому они поспешили тотчас же отказаться от
битвы и бросились бежать по полю с зажженными факелами, более всего
напоминая собой ряженых, забавляющихся в дни празднеств и торжеств. А одетые
в траур -- закутанные и опутанные своими шлейфами и длинными облачениями --
не могли двинуться с места; поэтому Дон Кихот, не подвергаясь ни малейшей
опасности, всех их побил и заставил против их воли покинуть место действия,
так как они думали, что на них напал не человек, а сам дьявол, явившийся из
преисподней, чтобы отнять у них труп, который они несли на носилках. Все это
видел Санчо; удивленный отвагой своего господина, он подумал про себя:
"Несомненно, этот мой господин в самом деле такой мужественный и храбрый,
как он говорит".
На земле, близ первого всадника, сброшенного мулом, лежал горящий
факел, при свете которого Дон Кихот увидел упавшего. Он подошел к нему,
приставил ему к лицу острие копья и потребовал, чтобы он сдался; если же
нет, грозил убить его. На это упавший ответил:
-- Кажется, я вполне сдался, потому что не могу двинуться с места: у
меня нога сломана. Умоляю вашу милость, если вы рыцарь-христианин, не
убивайте меня, иначе вы совершите великое святотатство, потому что я
лисенсиат и уже посвящен в духовный сан.
-- Какие же черти принесли вас сюда, если вы духовное лицо? --
воскликнул Дон Кихот.
-- Какие черти, сеньор? -- ответил упавший. -- Несчастная моя судьба.
-- И еще более несчастная судьба ожидает вас, -- объявил Дон Кихот,--
если вы тотчас же не удовлетворите меня, ответив на вопрос, первоначально
предложенный мною вам.
-- Удовлетворю вашу милость немедленно, -- сказал лисенсиат. -- Итак,
да будет известно вашей милости, что, хотя я перед тем сказал, что я
лисенсиат, я только бакалавр, и зовут меня Алонсо Лопес. Родом я из
Алькобендаса, и вместе с другими одиннадцатью священнослужителями, теми
самыми, которые убежали с факелами, едем мы из города Баэса в город Сеговию,
провожая мертвое тело, лежащее на этих носилках,-- труп дворянина, умершего
в Баэсе, где он был похоронен, а теперь, как я уже говорил, мы везем его
останки в фамильный склеп в Сеговию, откуда он родом.
-- А кто его убил? -- спросил Дон Кихот.
-- Бог, посредством гнилой горячки, которая и унесла его, -- ответил
бакалавр.
-- Таким образом, -- сказал Дон Кихот, -- Господь Бог избавил меня от
труда отомстить за смерть этого человека, что я должен был бы сделать, если
бы его убил кто-нибудь другой; а так как он умер по воле пославшего ему
смерть, остается лишь одно: молчать и пожать плечами, потому что я сделал бы
то же, если бы Он убил и меня самого. Но я желал бы, чтобы вы, ваше
преподобие, знали, что я рыцарь, родом из Ламанчи, по имени Дон Кихот и что
моя профессия и мое призвание -- скитаться по всему свету, исправляя зло и
уничтожая несправедливость и обиды.
-- Не знаю, как вы там исправляете зло, -- сказал бакалавр, -- но что
касается меня, вы не исправили, а нанесли мне зло, сломав мне ногу,
вследствие чего я буду хромать до конца моих дней; относительно же
уничтожения обид, вы не уничтожили, а, напротив, нанесли мне неизгладимую на
всю жизнь обиду; и самое большое несчастие, обрушившееся на меня, была
встреча с вами в ваших поисках приключений.
-- Не все вещи случаются на один и тот же лад, -- сказал Дон Кихот, --
беда ваша, сеньор бакалавр Алонсо Лопес, заключалась в том, что вы ехали
ночью, одетые в стихари, с зажженными факелами, с тихим пением и обвешанные
трауром, так что, действительно, вы казались какой-то чертовщиной и
порождением ехидны. Поэтому я не мог не исполнить своей обязанности и не
напасть на вас. Я напал бы на вас и тогда, если бы был даже вполне уверен,
что вы самые что ни на есть дьяволы из преисподней, за которых я вас все
время считал и принимал.
-- Раз уж мне выпала столь несчастная судьба, -- сказал бакалавр, -- то
прошу вашу милость, сеньор странствующий рыцарь, лишивший меня возможности
странствовать: помогите мне выбраться из-под этого мула, так как у меня нога
прищемлена между стременем и седлом.
-- Я бы говорил, пожалуй, до завтрашнего дня, -- сказал Дон Кихот, -- а
вы чего же ждали и не сказали мне о своей беде?
И он немедленно позвал Санчо, но тот не очень-то спешил, так как был
занят разгрузкой вьючного мула, которого добрые сеньоры вели за собой,
хорошо нагруженного съестными припасами. Санчо устроил мешок из своего плаща
и, наложив туда всего, что мог и что туда влезло, взвалил мешок на своего
осла и затем тотчас побежал на зов Дон Кихота, которому он и помог вытащить
сеньора бакалавра из-под его мула; усадив его на седло, он подал ему факел,
а Дон Кихот сказал бакалавру, чтобы он ехал вслед за бежавшими своими
товарищами и попросил бы у них от его имени извинения за оскорбление,
которое он им нанес и которое не в его власти было не нанести им. А Санчо
еще добавил:
-- Если б случайно эти сеньоры пожелали узнать, кто был тот храбрый
человек, который так хорошо отделал их, скажите им, ваша милость, что это
был знаменитый Дон Кихот Ламанчский, называемый другим именем: Рыцарь
Печального Образа.
Тогда бакалавр сказал, уезжая:
-- Я забыл предупредить вашу милость, что вы отлучены от церкви за то,
что насильственно подняли руку на священные предметы: "juxta illud si quis
suadente diabolo" {Если кто по наущению дьявола (лат.).} и т. д.
-- Я этой латыни не понимаю, -- ответил Дон Кихот, -- но хорошо знаю,
что поднял я не руку, а вот это копье; сверх того, я не подозревал, что
оскорбляю духовных лиц или церковные предметы, к которым, как верующий
католик и добрый христианин, я питаю достодолжное уважение, а думал, что
нападаю на привидения и чудища с того света. Но даже если б оно и не было
так, все же в памяти у меня хранится то, что случилось с Си-дом Руи Диасом,
когда он сломал вдребезги кресло королевского посланника в присутствии Его
Святейшества Папы, за что тот отлучил его от церкви; а тем не менее добрый
Родриго де Бивар вел себя в тот день как самый благородный и мужественный
рыцарь.
Услыхав это, бакалавр, как уже было сказано, уехал, не ответив ни
слова. А Дон Кихот спросил Санчо, что побудило его именно теперь, а не в
другое время, назвать его Рыцарем Печального Образа.
-- Сейчас скажу вам, -- ответил Санчо, -- я смотрел на вас несколько
минут при свете факела, который держал в руках тот несчастный хромой, и,
право, у вашей милости было самое жалкое лицо, которое я когда-либо видел;
должно быть, это произошло или оттого, что вы сильно утомились в бою, или же
от недостающих у вас передних и коренных зубов.
-- Вовсе не то, -- ответил Дон Кихот, -- но мудрецу, которому предстоит
написать историю моих подвигов, показалось, без сомнения, уместным, чтобы я
избрал себе прозвище, как это делали все рыцари в былые времена; один из них
назывался Рыцарем Пылающего Меча, другой -- Рыцарем Единорога, третьего
звали Рыцарем Феникса, этого -- Рыцарем Грифа, того -- Рыцарем Смерти, и под
этими прозвищами и девизами они были известны на всем земном шаре. Итак, я
говорю, что упомянутый мудрец внушил тебе мысль и вложил тебе в уста назвать
меня теперь Рыцарем Печального Образа, как я отныне и намерен называться. А
чтоб это прозвище еще лучше ко мне шло, я, когда окажется случай, велю
нарисовать на своем щите необычайно печальную фигуру.
-- К чему вам тратить время и деньги на изображение такой фигуры, --
сказал Санчо, -- вам надо сделать лишь одно: пусть ваша милость покажет свою
фигуру, и тем, которые будут смотреть на вас, откройте свое лицо, и тотчас
же, без всякого промедления и всяких изображений и щитов вас назовут Рыцарем
Печального Образа. Поверьте мне, что я говорю правду, и уверяю вас, милость
ваша сеньор (будь сказано в шутку), что голод и потеря коренных зубов до
того обезобразили ваше лицо, что, как я уже говорил, вам отлично можно
обойтись без изображения печального образа на щите.
Дон Кихот рассмеялся над шуткой Санчо, но тем не менее он решил принять
новое прозвище и дать разрисовать свой щит, как он намеревался.
Дон Кихот захотел удостовериться, действительно ли на носилках лежит
труп или нет, но Санчо не согласился на это, сказав:
-- Сеньор, опасное это приключение кончилось для вашей милости более
счастливо, чем все остальные, при которых я присутствовал; но эти люди, хотя
и побежденные и обращенные в бегство, могут, однако, одуматься и понять, что
с ними расправился всего лишь один человек; рассерженные этим и устыдившись,
они могут ободриться и вернуться, разыскать нас и хорошенько нас проучить.
Осел в исправности, горы вблизи, голод мучит нас, и нам остается лишь одно:
спокойным шагом удалиться отсюда, и, как говорится, пускай мертвый ложится в
могилу, а живой берется за хлеб.
С этими словами Санчо, погнав вперед своего осла, попросил и господина
своего следовать за ним, что тот, считая, что Санчо прав, и сделал без
всякого возражения.
Они проехали небольшое расстояние между двумя холмами и очутились на
уединенной, обширной поляне, где оба спешились, и Санчо разгрузил здесь
своего осла. Господин и слуга растянулись на зеленой траве и, благодаря
приправе голода, одновременно позавтракали и пообедали, пополдничали и
поужинали, набив свои желудки многими лакомыми припасами, которые
сопровождавшие покойника сеньоры церковники (редко забывающие основательно
позаботиться о себе) везли с собой на вьючном муле. Но с Дон Кихотом и его
оруженосцем приключилась новая беда, которую Санчо счел за худшую из всех, а
именно: у них не оказалось не только вина, а даже и воды, чтоб промочить
себе горло. Терзаемый жаждой Санчо, заметив, что луг, на котором они сидели,
в изобилии покрыт свежей, сочной травой, сказал то, что будет изложено в
следующей главе.
-- Мне кажется, сеньор мой, что все эти несчастья, обрушившиеся на нас
в последние дни, были, вне всякого сомнения, наказанием за грех против
рыцарского устава, в который впала ваша милость, не сдержав своей клятвы не
есть хлеба со скатерти, не забавляться с королевой и не делать и остального,
что еще за этим следовало и что ваша милость клялась исполнять, пока вам не
удастся добыть себе шлема Меландрина или как там зовут мавра, хорошенько не
помню.
-- Ты вполне прав, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- но, говоря по правде,
я забыл о моей клятве, и за то, что ты во время не напомнил мне о ней, с
тобой приключилась -- можешь в этом быть уверен -- неприятность с
подбрасыванием на одеяле. Впрочем, я заглажу свою ошибку, так как в
рыцарском ордене имеются средства все уладить.
-- Но разве и я клялся в чем-либо?-- спросил Санчо.
-- Неважно, что ты не клялся, -- ответил Дон Кихот, -- достаточно и
того, что я считаю тебя не совсем свободным от соучастия, и, так ли оно на
деле или нет, недурно было бы принять нам какие-нибудь меры для исправления
нашей ошибки.
-- Если дело так обстоит, -- сказал Санчо, -- постарайтесь, ваша
милость, не забыть сказанного вами сейчас, как вы забыли свою клятву; иначе
привидениям может опять прийти охота потешиться надо мной и даже и над вашей
милостью, если они увидят, до чего вы упорны.
В этих и подобных разговорах ночь застигла их среди дороги прежде, чем
они нашли или добрались до места, где им можно было бы переночевать; но хуже
всего было то, что они умирали с голоду, так как вместе с сумками исчезла и
их кладовая со всеми съестными припасами. К довершению беды им встретилось
приключение, которое без искусственной натяжки действительно можно было
назвать таковым. Наступила довольно темная ночь, но, несмотря на это, они
продолжали свой путь, так как Санчо полагал, что раз они находятся на
большой дороге, то, проехав одну или две мили, они непременно должны попасть
на какой-нибудь постоялый двор. И вот голодный оруженосец и господин его
тоже с сильным желанием поесть, путешествуя таким образом в ночной темноте,
увидели, что навстречу им по той же дороге движется великое множество огней,
казавшихся чем-то вроде движущихся звезд. При виде этих огней Санчо чуть не
обмер от страха, да и Дон Кихоту стало не по себе, один дернул осла за
недоуздок, другой придержал лошадь за повод, и оба они остановились и стали
внимательно всматриваться, что бы это могло быть. Они видели, что огни
приближались к ним, и чем больше они приближались, тем больше увеличивались.
При этом зрелище Санчо задрожал, как человек, принявший внутрь ртуть
{Temblar соте un azogado -- общеупотребительное испанское выражение,
основанное на мысли, что те, которые принимают ртуть, azogue, или вдыхают
ее, подобно рабочим в ртутных рудниках, дрожат, как и сам металл.}, а у Дон
Кихота волосы встали дыбом, но он тотчас же, несколько приободрившись,
сказал:
-- Нет сомнения, Санчо, что это одно из величайших и самых опасных
приключений, в котором мне нужно будет выказать всю мою храбрость и
мужество.
-- Несчастный я! -- воскликнул Санчо. -- Если и это приключение
окажется опять с привидениями, как мне сдается, где же нам набраться ребер,
чтобы выдержать его?
-- Пусть будет сколько угодно привидений, -- сказал Дон Кихот, -- но я
не допущу, чтобы они дотронулись хоть до нитки твоего платья; и если в тот
раз они пошутили над тобой, это случилось потому, что я не мог перебраться
через забор двора; теперь же мы в открытом поле, где я в состоянии
размахнуться мечом, как захочу.
-- А если они заворожат и сделают его бессильным, как в тот раз, --
сказал Санчо, -- какая будет польза от того, в открытом ли мы поле или нет?
-- Тем не менее, -- возразил Дон Кихот, -- прошу тебя, Санчо, запасись
мужеством, а сколько его у меня, ты увидишь на деле.
-- Да, я запасусь мужеством, если Богу будет угодно, -- ответил Санчо.
И оба, отъехав немного в сторону, стали снова внимательно
всматриваться, что бы такое могли быть эти двигавшиеся огни, и вскоре они
различили большое число людей, одетых в белые балахоны {Encamisados (одетые
в белые рубахи поверх одежды) -- выражение, чаще всего употребляемое по
отношению к солдатам, прибегавшим к этой хитрости во время ночных нападений,
чтобы признать друг друга в темноте.}. Это страшное видение окончательно
погасило мужество в душе Санчо Пансы, и он застучал зубами, как в припадке
четырехдневной лихорадки; его дрожь и стучание зубами еще усилились, когда
они ясно рассмотрели, что это такое: они увидели около двадцати человек в
длинных белых балахонах верхом, с зажженными факелами в руках, а за ними
следовали носилки, покрытые трауром, за которыми ехало еще шесть всадников,
облаченных в траур до самых ног их мулов, -- что это были мулы, а не лошади,
хорошо было видно по их спокойной поступи. Ехали белые привидения, что-то
бормоча себе под нос тихим и жалобным голосом. Это изумительное видение в
такой час и в таком пустынном месте могло, без сомнения, наполнить страхом
сердце Санчо и даже сердце его господина, что действительно и случилось с
Дон Кихотом. Но Санчо окончательно забыл свое намерение запастись мужеством.
С господином же его произошло противоположное, так как его фантазия тотчас
же ярко разрисовала ему, что это одно из приключений, описанных в его
книгах. Он вообразил себе, что носилки -- погребальные дроги, а на них везут
какого-нибудь тяжелораненого или мертвого рыцаря, отомстить за которого
предназначено единственно ему. Без дальнейших размышлений он, взяв наперевес
копье, уселся крепче в седле и с благородной осанкой и мужественным видом
стал посреди дороги, по которой белые привидения неминуемо должны были
проехать. Когда же он увидел их вблизи себя, то громким голосом воскликнул:
-- Остановитесь, рыцари, кто бы вы ни были, и дайте мне отчет: откуда и
куда вы едете, кто вы такие и что у вас там, на этих носилках? По всем
признакам вы или сами совершили, или над вами было совершено кем-либо
злодеяние, -- мне же следует и необходимо это знать для того, чтобы наказать
вас за содеянное вами зло или же отомстить за нанесенную вам обиду!
-- Мы спешим, -- ответило одно из белых привидений, -- а до постоялого
двора еще далеко, и мы не можем останавливаться, чтобы дать вам
обстоятельный отчет, которого вы требуете. -- И, пришпорив мула, привидение
двинулось вперед. Сильно раздраженный таким ответом, Дон Кихот схватил мула
за узду и сказал:
-- Остановитесь и будьте вежливее! Дайте отчет, которого я требую; если
же нет, вызываю всех вас на поединок со мной.
Мул был пуглив, и, когда почувствовал, что его схватили за узду, он так
испугался, что поднялся на дыбы и сбросил своего седока на землю. Слуга,
шедший пешком, увидав, что его господин в белом одеянии упал с мула, начал
поносить Дон Кихота, который, воспылав гневом, не раздумывая ни минуты,
наклонив копье, устремился на одного из всадников, одетых в траур, и, тяжело
ранив его, сбросил на землю; затем он обратился к
остальным, и, действительно, стоило посмотреть, с какой он быстротой
нападал на них и разбивал их: казалось, что в ту минуту у Росинанта выросли
крылья, так он легко и гордо выступал. Всадники, облаченные в белое, были
люди пугливые и безоружные, поэтому они поспешили тотчас же отказаться от
битвы и бросились бежать по полю с зажженными факелами, более всего
напоминая собой ряженых, забавляющихся в дни празднеств и торжеств. А одетые
в траур -- закутанные и опутанные своими шлейфами и длинными облачениями --
не могли двинуться с места; поэтому Дон Кихот, не подвергаясь ни малейшей
опасности, всех их побил и заставил против их воли покинуть место действия,
так как они думали, что на них напал не человек, а сам дьявол, явившийся из
преисподней, чтобы отнять у них труп, который они несли на носилках. Все это
видел Санчо; удивленный отвагой своего господина, он подумал про себя:
"Несомненно, этот мой господин в самом деле такой мужественный и храбрый,
как он говорит".
На земле, близ первого всадника, сброшенного мулом, лежал горящий
факел, при свете которого Дон Кихот увидел упавшего. Он подошел к нему,
приставил ему к лицу острие копья и потребовал, чтобы он сдался; если же
нет, грозил убить его. На это упавший ответил:
-- Кажется, я вполне сдался, потому что не могу двинуться с места: у
меня нога сломана. Умоляю вашу милость, если вы рыцарь-христианин, не
убивайте меня, иначе вы совершите великое святотатство, потому что я
лисенсиат и уже посвящен в духовный сан.
-- Какие же черти принесли вас сюда, если вы духовное лицо? --
воскликнул Дон Кихот.
-- Какие черти, сеньор? -- ответил упавший. -- Несчастная моя судьба.
-- И еще более несчастная судьба ожидает вас, -- объявил Дон Кихот,--
если вы тотчас же не удовлетворите меня, ответив на вопрос, первоначально
предложенный мною вам.
-- Удовлетворю вашу милость немедленно, -- сказал лисенсиат. -- Итак,
да будет известно вашей милости, что, хотя я перед тем сказал, что я
лисенсиат, я только бакалавр, и зовут меня Алонсо Лопес. Родом я из
Алькобендаса, и вместе с другими одиннадцатью священнослужителями, теми
самыми, которые убежали с факелами, едем мы из города Баэса в город Сеговию,
провожая мертвое тело, лежащее на этих носилках,-- труп дворянина, умершего
в Баэсе, где он был похоронен, а теперь, как я уже говорил, мы везем его
останки в фамильный склеп в Сеговию, откуда он родом.
-- А кто его убил? -- спросил Дон Кихот.
-- Бог, посредством гнилой горячки, которая и унесла его, -- ответил
бакалавр.
-- Таким образом, -- сказал Дон Кихот, -- Господь Бог избавил меня от
труда отомстить за смерть этого человека, что я должен был бы сделать, если
бы его убил кто-нибудь другой; а так как он умер по воле пославшего ему
смерть, остается лишь одно: молчать и пожать плечами, потому что я сделал бы
то же, если бы Он убил и меня самого. Но я желал бы, чтобы вы, ваше
преподобие, знали, что я рыцарь, родом из Ламанчи, по имени Дон Кихот и что
моя профессия и мое призвание -- скитаться по всему свету, исправляя зло и
уничтожая несправедливость и обиды.
-- Не знаю, как вы там исправляете зло, -- сказал бакалавр, -- но что
касается меня, вы не исправили, а нанесли мне зло, сломав мне ногу,
вследствие чего я буду хромать до конца моих дней; относительно же
уничтожения обид, вы не уничтожили, а, напротив, нанесли мне неизгладимую на
всю жизнь обиду; и самое большое несчастие, обрушившееся на меня, была
встреча с вами в ваших поисках приключений.
-- Не все вещи случаются на один и тот же лад, -- сказал Дон Кихот, --
беда ваша, сеньор бакалавр Алонсо Лопес, заключалась в том, что вы ехали
ночью, одетые в стихари, с зажженными факелами, с тихим пением и обвешанные
трауром, так что, действительно, вы казались какой-то чертовщиной и
порождением ехидны. Поэтому я не мог не исполнить своей обязанности и не
напасть на вас. Я напал бы на вас и тогда, если бы был даже вполне уверен,
что вы самые что ни на есть дьяволы из преисподней, за которых я вас все
время считал и принимал.
-- Раз уж мне выпала столь несчастная судьба, -- сказал бакалавр, -- то
прошу вашу милость, сеньор странствующий рыцарь, лишивший меня возможности
странствовать: помогите мне выбраться из-под этого мула, так как у меня нога
прищемлена между стременем и седлом.
-- Я бы говорил, пожалуй, до завтрашнего дня, -- сказал Дон Кихот, -- а
вы чего же ждали и не сказали мне о своей беде?
И он немедленно позвал Санчо, но тот не очень-то спешил, так как был
занят разгрузкой вьючного мула, которого добрые сеньоры вели за собой,
хорошо нагруженного съестными припасами. Санчо устроил мешок из своего плаща
и, наложив туда всего, что мог и что туда влезло, взвалил мешок на своего
осла и затем тотчас побежал на зов Дон Кихота, которому он и помог вытащить
сеньора бакалавра из-под его мула; усадив его на седло, он подал ему факел,
а Дон Кихот сказал бакалавру, чтобы он ехал вслед за бежавшими своими
товарищами и попросил бы у них от его имени извинения за оскорбление,
которое он им нанес и которое не в его власти было не нанести им. А Санчо
еще добавил:
-- Если б случайно эти сеньоры пожелали узнать, кто был тот храбрый
человек, который так хорошо отделал их, скажите им, ваша милость, что это
был знаменитый Дон Кихот Ламанчский, называемый другим именем: Рыцарь
Печального Образа.
Тогда бакалавр сказал, уезжая:
-- Я забыл предупредить вашу милость, что вы отлучены от церкви за то,
что насильственно подняли руку на священные предметы: "juxta illud si quis
suadente diabolo" {Если кто по наущению дьявола (лат.).} и т. д.
-- Я этой латыни не понимаю, -- ответил Дон Кихот, -- но хорошо знаю,
что поднял я не руку, а вот это копье; сверх того, я не подозревал, что
оскорбляю духовных лиц или церковные предметы, к которым, как верующий
католик и добрый христианин, я питаю достодолжное уважение, а думал, что
нападаю на привидения и чудища с того света. Но даже если б оно и не было
так, все же в памяти у меня хранится то, что случилось с Си-дом Руи Диасом,
когда он сломал вдребезги кресло королевского посланника в присутствии Его
Святейшества Папы, за что тот отлучил его от церкви; а тем не менее добрый
Родриго де Бивар вел себя в тот день как самый благородный и мужественный
рыцарь.
Услыхав это, бакалавр, как уже было сказано, уехал, не ответив ни
слова. А Дон Кихот спросил Санчо, что побудило его именно теперь, а не в
другое время, назвать его Рыцарем Печального Образа.
-- Сейчас скажу вам, -- ответил Санчо, -- я смотрел на вас несколько
минут при свете факела, который держал в руках тот несчастный хромой, и,
право, у вашей милости было самое жалкое лицо, которое я когда-либо видел;
должно быть, это произошло или оттого, что вы сильно утомились в бою, или же
от недостающих у вас передних и коренных зубов.
-- Вовсе не то, -- ответил Дон Кихот, -- но мудрецу, которому предстоит
написать историю моих подвигов, показалось, без сомнения, уместным, чтобы я
избрал себе прозвище, как это делали все рыцари в былые времена; один из них
назывался Рыцарем Пылающего Меча, другой -- Рыцарем Единорога, третьего
звали Рыцарем Феникса, этого -- Рыцарем Грифа, того -- Рыцарем Смерти, и под
этими прозвищами и девизами они были известны на всем земном шаре. Итак, я
говорю, что упомянутый мудрец внушил тебе мысль и вложил тебе в уста назвать
меня теперь Рыцарем Печального Образа, как я отныне и намерен называться. А
чтоб это прозвище еще лучше ко мне шло, я, когда окажется случай, велю
нарисовать на своем щите необычайно печальную фигуру.
-- К чему вам тратить время и деньги на изображение такой фигуры, --
сказал Санчо, -- вам надо сделать лишь одно: пусть ваша милость покажет свою
фигуру, и тем, которые будут смотреть на вас, откройте свое лицо, и тотчас
же, без всякого промедления и всяких изображений и щитов вас назовут Рыцарем
Печального Образа. Поверьте мне, что я говорю правду, и уверяю вас, милость
ваша сеньор (будь сказано в шутку), что голод и потеря коренных зубов до
того обезобразили ваше лицо, что, как я уже говорил, вам отлично можно
обойтись без изображения печального образа на щите.
Дон Кихот рассмеялся над шуткой Санчо, но тем не менее он решил принять
новое прозвище и дать разрисовать свой щит, как он намеревался.
Дон Кихот захотел удостовериться, действительно ли на носилках лежит
труп или нет, но Санчо не согласился на это, сказав:
-- Сеньор, опасное это приключение кончилось для вашей милости более
счастливо, чем все остальные, при которых я присутствовал; но эти люди, хотя
и побежденные и обращенные в бегство, могут, однако, одуматься и понять, что
с ними расправился всего лишь один человек; рассерженные этим и устыдившись,
они могут ободриться и вернуться, разыскать нас и хорошенько нас проучить.
Осел в исправности, горы вблизи, голод мучит нас, и нам остается лишь одно:
спокойным шагом удалиться отсюда, и, как говорится, пускай мертвый ложится в
могилу, а живой берется за хлеб.
С этими словами Санчо, погнав вперед своего осла, попросил и господина
своего следовать за ним, что тот, считая, что Санчо прав, и сделал без
всякого возражения.
Они проехали небольшое расстояние между двумя холмами и очутились на
уединенной, обширной поляне, где оба спешились, и Санчо разгрузил здесь
своего осла. Господин и слуга растянулись на зеленой траве и, благодаря
приправе голода, одновременно позавтракали и пообедали, пополдничали и
поужинали, набив свои желудки многими лакомыми припасами, которые
сопровождавшие покойника сеньоры церковники (редко забывающие основательно
позаботиться о себе) везли с собой на вьючном муле. Но с Дон Кихотом и его
оруженосцем приключилась новая беда, которую Санчо счел за худшую из всех, а
именно: у них не оказалось не только вина, а даже и воды, чтоб промочить
себе горло. Терзаемый жаждой Санчо, заметив, что луг, на котором они сидели,
в изобилии покрыт свежей, сочной травой, сказал то, что будет изложено в
следующей главе.

Глава XX О невиданном и неслыханном приключении, доведенном до конца
храбрым Дон Кихотом Ламанчским с меньшей опасностью, чем приключение,
совершенное кем-либо из других прославленных на свете рыцарей
 Без сомнения, сеньор мои,-- и эта трава служит тому доказательством, --
здесь поблизости должен быть источник или ручеек, освежающий этот луг, и
потому было бы хорошо нам пройти немного дальше и отыскать место, где можно
будет утолить ужасную жажду, терзающую нас, и которая, несомненно,
мучительнее голода.
Совет этот понравился Дон Кихоту, и он взял за повод Росинанта, а Санчо
взял за недоуздок осла, предварительно навьючив на него остатки ужина, и оба
они начали ощупью подниматься по лугу вверх, так как ночная темнота мешала
им что-либо видеть. Но не прошли они и двухсот шагов, как до слуха их
донесся сильный шум воды, словно свергавшейся с высоких и крутых скал. Этот
шум чрезвычайно обрадовал их; когда же они остановились, чтобы прислушаться,
с какой стороны он раздается, до их ушей внезапно донесся грохот другого
рода, который уничтожил их радость по поводу найденной воды, и особенно
радость Санчо, потому что он по природе был малодушен и труслив. Они
услышали, говорю я, какие-то мерно раздававшиеся удары, смешанные с
бряцанием железа и цепей, и все это, сопровождаемое страшным грохотом вод,
низвергавшихся со скал, наполнило бы ужасом любое сердце, исключая лишь
сердце Дон Кихота.
Кругом, как было сказано, стояла непроглядная ночь, и наши искатели
приключений очутились под высокими деревьями, листва которых, колеблемая
легким ветерком, издавала какой-то глухой, зловещий шелест, так что темнота,
пустынная местность, шум вод и шелест листьев -- все вместе наводило страх и
ужас, и тем более когда они убедились, что и удары не умолкают, и ветер не
перестает дуть, и утро не занимается, и в довершение всего местность, в
которой они находятся, совершенно незнакома им.
Но Дон Кихот, подбодряемый своим неустрашимым сердцем, вскочил на
Росинанта, надел на руку щит и, подняв копье, сказал:
-- Санчо, друг! Ты должен знать, что я -- по велению небес -- родился в
этот наш железный век, чтобы воскресить в нем так называемый золотой век. Я
тот, для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги; я тот, говорю
еще раз, которому суждено воскресить рыцарей Круглого стола, двенадцать
пэров Франции и девять мужей Славы; тот, который заставит забыть Платиров,
Таблантов, Одивантов и Тирантов, Белианисов и Фебов со всей толпой
странствующих рыцарей минувших времен, совершив в этот наш век столь
небывалые чудеса храбрости и изумительные подвиги, от которых померкнут все
самые блестящие деяния, совершенные ими. Заметь хорошенько, верный и
преданный оруженосец, темноту этой ночи, странную ее тишину, глухой и
смутный шелест деревьев, ужасающий рев воды, которую мы искали и которая
словно низвергается и стремительно выбрасывается с высоких гор луны,
вслушайся в эти неперестающие мерные удары, что нам терзают и ранят слух, --
всех этих явлений вместе взятых и каждого из них в отдельности было бы
достаточно, чтобы вселить страх, испуг и ужас в грудь самого Марса, а тем
более того, кто не привык к подобного рода событиям и приключениям. Но все,
что я сейчас описал тебе, пробуждает и зажигает во мне отвагу, и сердце мое
так и бьется в груди от желания идти навстречу страшному этому приключению,
какой бы опасностью оно ни угрожало. Итак, Санчо, подтяни немного подпруги
Росинанта, и да хранит тебя бог. Ожидай меня здесь не более трех суток и,
если я в течение этого времени не вернусь, отправляйся к нам в село, а
оттуда -- чтобы сделать мне удовольствие и оказать мне услугу -- съезди в
Тобосо и передай там несравненной моей сеньоре Дульсинее, что плененный ею
рыцарь погиб, совершая подвиги, которые сделали бы его достойным называться
ее поклонником.
Когда Санчо услыхал эти слова своего господина, растроганный донельзя,
он заплакал и сказал:
-- Не знаю, сеньор, зачем ваша милость желает идти навстречу столь
ужасному приключению. Теперь ночь; здесь никто нас не видит, мы легко можем
свернуть с дороги и укрыться от опасности, хотя бы нам не пришлось пить
целых три дня; а так как некому нас видеть, то некому будет и обзывать нас
трусами. Притом же я часто слышал, как сельский наш священник (с которым
ваша милость хорошо знакома) в своих проповедях говорил, что тот, кто ищет
опасности, от нее погибает; поэтому нехорошо искушать Бога и предпринимать
столь ужасающее дело, спастись от которого можно только благодаря чуду.
Довольствуйтесь тем, что небо уже сделало для вашей милости, избавив вас от
того, чему я подвергся, от подкидывания на одеяле, и допустив вас выйти
победителем, свободным и невредимым, над столь многими врагами, которые
сопровождали покойника. И если все это не тронет и не смягчит жестокое ваше
сердце, пусть его тронет мысль и уверенность, что, едва ваша милость
удалится, я со страху отдам мою душу тому, кто захочет ее взять. Я покинул
свою родину, оставил жену и детей, чтобы служить вашей милости, в полной
уверенности, что улучшу, а не ухудшу свои обстоятельства. Но подобно тому
как алчность прорывает мешок, она сгубила и мои надежды, потому что, как раз
когда они были особенно ярки и я был уверен, что наконец получу злополучный,
проклятый остров, который ваша милость столько раз мне обещала, -- я вижу,
что взамен этой награды вы хотите бросить меня теперь одного в местности,
столь отдаленной от всякого сношения с людьми. Ради единого бога, сеньор
мой, не наносите мне такой обиды. И если уже милость ваша не желает вовсе
отказаться от задуманного ею подвига, по крайней мере, отложите его хоть до
утра, так как, судя по приметам, которые я узнал, когда был пастухом, до
рассвета осталось, может быть, менее трех часов, потому что отверстие Рога
{Bocina (исп.) -- Охотничий Рог, так называли в те времена в Испании
созвездие Малой Медведицы. Пастухи определяли часы ночи по прохождению
Полярной звезды, изображающей отверстие Рога.} стоит над головой, а полночь
оно показывает на линии левой руки.
-- Как можешь ты, Санчо, -- спросил Дон Кихот, -- видеть, где эта
линия, или это отверстие, или голова, о которой ты говоришь, если ночь такая
темная, что на всем небе не видать ни одной звезды.
-- Это верно, -- сказал Санчо, -- но у страха много глаз, и он видит
вещи под землей, а тем более на небе; впрочем, и без того нетрудно
догадаться, что до рассвета уже недалеко.
-- Далеко или недалеко, -- ответил Дон Кихот, -- но да не будет сказано
про меня ни теперь и ни в какое время, что слезы и просьбы отклонили меня
сделать то, что в качестве рыцаря я должен был сделать. Поэтому прошу тебя,
Санчо, замолчи, так как Бог, вложивший мне в душу решимость подвергнуть себя
теперь этому неслыханному и столь ужасному приключению, позаботится о моей
безопасности и утешит тебя в твоей печали. Теперь тебе предстоит лишь одно:
хорошенько подтянуть подпруги Росинанта и оставаться здесь, так как я скоро
вернусь, живой или мертвый.
Когда Санчо увидел, что это окончательное решение его господина и
убедился, как мало на него действуют слезы, советы и просьбы, он задумал
прибегнуть к хитрости, чтобы заставить его дождаться рассвета, если
возможно. Поэтому, пока он подтягивал подпругу лошади, он неслышно и
незаметно недоуздком осла связал обе ноги Росинанта, так что, когда Дон
Кихот захотел ехать, он не мог этого сделать оттого, что конь не был в
состоянии двинуться иначе как только прыжками. Увидев, как хорошо ему
удалась эта хитрость, Санчо сказал:
-- Вот, сеньор, небо, тронутое моими слезами и мольбами, устроило так,
что Росинант не может двинуться с места. Если же вы захотели бы
упорствовать, понукать и бить лошадь, это значило бы гневить судьбу и, как
говорится, идти против рожна.
Дон Кихот был в отчаянии, но чем больше он пришпоривал Росинанта, тем
менее тот двигался с места. Нимало не подозревая, что у лошади связаны ноги,
Дон Кихот счел тогда за лучшее успокоиться и ждать, или чтобы рассвело, или
чтобы Росинант начал двигаться, и, вполне уверенный, что случившееся
происходит от чего-либо другого, а не от хитрости Санчо, он сказал ему:
-- Раз это так, Санчо, что Росинант не может двигаться, я согласен
ждать здесь, пока нам улыбнется утро, хотя я чуть не плачу оттого, что оно
так медлит показаться.
-- Плакать незачем, -- возразил Санчо, -- так как я буду забавлять вашу
милость, рассказывая вам сказки до самого утра, если только вы не пожелаете
слезть с коня и уснуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей,
чтобы чувствовать себя свежим и бодрым, когда займется день и настанет время
идти навстречу ожидающему вас столь неслыханному и ужасному приключению.
-- Кому это ты говоришь, чтобы слезть с коня или уснуть? -- сказал Дон
Кихот. -- Разве я из тех рыцарей, которые ищут отдыха среди опасностей? Спи
ты, родившийся для того, чтобы спать, или делай, что хочешь, я же буду
делать то, что более всего соответствует моему призванию.
Без сомнения, сеньор мои,-- и эта трава служит тому доказательством, --
здесь поблизости должен быть источник или ручеек, освежающий этот луг, и
потому было бы хорошо нам пройти немного дальше и отыскать место, где можно
будет утолить ужасную жажду, терзающую нас, и которая, несомненно,
мучительнее голода.
Совет этот понравился Дон Кихоту, и он взял за повод Росинанта, а Санчо
взял за недоуздок осла, предварительно навьючив на него остатки ужина, и оба
они начали ощупью подниматься по лугу вверх, так как ночная темнота мешала
им что-либо видеть. Но не прошли они и двухсот шагов, как до слуха их
донесся сильный шум воды, словно свергавшейся с высоких и крутых скал. Этот
шум чрезвычайно обрадовал их; когда же они остановились, чтобы прислушаться,
с какой стороны он раздается, до их ушей внезапно донесся грохот другого
рода, который уничтожил их радость по поводу найденной воды, и особенно
радость Санчо, потому что он по природе был малодушен и труслив. Они
услышали, говорю я, какие-то мерно раздававшиеся удары, смешанные с
бряцанием железа и цепей, и все это, сопровождаемое страшным грохотом вод,
низвергавшихся со скал, наполнило бы ужасом любое сердце, исключая лишь
сердце Дон Кихота.
Кругом, как было сказано, стояла непроглядная ночь, и наши искатели
приключений очутились под высокими деревьями, листва которых, колеблемая
легким ветерком, издавала какой-то глухой, зловещий шелест, так что темнота,
пустынная местность, шум вод и шелест листьев -- все вместе наводило страх и
ужас, и тем более когда они убедились, что и удары не умолкают, и ветер не
перестает дуть, и утро не занимается, и в довершение всего местность, в
которой они находятся, совершенно незнакома им.
Но Дон Кихот, подбодряемый своим неустрашимым сердцем, вскочил на
Росинанта, надел на руку щит и, подняв копье, сказал:
-- Санчо, друг! Ты должен знать, что я -- по велению небес -- родился в
этот наш железный век, чтобы воскресить в нем так называемый золотой век. Я
тот, для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги; я тот, говорю
еще раз, которому суждено воскресить рыцарей Круглого стола, двенадцать
пэров Франции и девять мужей Славы; тот, который заставит забыть Платиров,
Таблантов, Одивантов и Тирантов, Белианисов и Фебов со всей толпой
странствующих рыцарей минувших времен, совершив в этот наш век столь
небывалые чудеса храбрости и изумительные подвиги, от которых померкнут все
самые блестящие деяния, совершенные ими. Заметь хорошенько, верный и
преданный оруженосец, темноту этой ночи, странную ее тишину, глухой и
смутный шелест деревьев, ужасающий рев воды, которую мы искали и которая
словно низвергается и стремительно выбрасывается с высоких гор луны,
вслушайся в эти неперестающие мерные удары, что нам терзают и ранят слух, --
всех этих явлений вместе взятых и каждого из них в отдельности было бы
достаточно, чтобы вселить страх, испуг и ужас в грудь самого Марса, а тем
более того, кто не привык к подобного рода событиям и приключениям. Но все,
что я сейчас описал тебе, пробуждает и зажигает во мне отвагу, и сердце мое
так и бьется в груди от желания идти навстречу страшному этому приключению,
какой бы опасностью оно ни угрожало. Итак, Санчо, подтяни немного подпруги
Росинанта, и да хранит тебя бог. Ожидай меня здесь не более трех суток и,
если я в течение этого времени не вернусь, отправляйся к нам в село, а
оттуда -- чтобы сделать мне удовольствие и оказать мне услугу -- съезди в
Тобосо и передай там несравненной моей сеньоре Дульсинее, что плененный ею
рыцарь погиб, совершая подвиги, которые сделали бы его достойным называться
ее поклонником.
Когда Санчо услыхал эти слова своего господина, растроганный донельзя,
он заплакал и сказал:
-- Не знаю, сеньор, зачем ваша милость желает идти навстречу столь
ужасному приключению. Теперь ночь; здесь никто нас не видит, мы легко можем
свернуть с дороги и укрыться от опасности, хотя бы нам не пришлось пить
целых три дня; а так как некому нас видеть, то некому будет и обзывать нас
трусами. Притом же я часто слышал, как сельский наш священник (с которым
ваша милость хорошо знакома) в своих проповедях говорил, что тот, кто ищет
опасности, от нее погибает; поэтому нехорошо искушать Бога и предпринимать
столь ужасающее дело, спастись от которого можно только благодаря чуду.
Довольствуйтесь тем, что небо уже сделало для вашей милости, избавив вас от
того, чему я подвергся, от подкидывания на одеяле, и допустив вас выйти
победителем, свободным и невредимым, над столь многими врагами, которые
сопровождали покойника. И если все это не тронет и не смягчит жестокое ваше
сердце, пусть его тронет мысль и уверенность, что, едва ваша милость
удалится, я со страху отдам мою душу тому, кто захочет ее взять. Я покинул
свою родину, оставил жену и детей, чтобы служить вашей милости, в полной
уверенности, что улучшу, а не ухудшу свои обстоятельства. Но подобно тому
как алчность прорывает мешок, она сгубила и мои надежды, потому что, как раз
когда они были особенно ярки и я был уверен, что наконец получу злополучный,
проклятый остров, который ваша милость столько раз мне обещала, -- я вижу,
что взамен этой награды вы хотите бросить меня теперь одного в местности,
столь отдаленной от всякого сношения с людьми. Ради единого бога, сеньор
мой, не наносите мне такой обиды. И если уже милость ваша не желает вовсе
отказаться от задуманного ею подвига, по крайней мере, отложите его хоть до
утра, так как, судя по приметам, которые я узнал, когда был пастухом, до
рассвета осталось, может быть, менее трех часов, потому что отверстие Рога
{Bocina (исп.) -- Охотничий Рог, так называли в те времена в Испании
созвездие Малой Медведицы. Пастухи определяли часы ночи по прохождению
Полярной звезды, изображающей отверстие Рога.} стоит над головой, а полночь
оно показывает на линии левой руки.
-- Как можешь ты, Санчо, -- спросил Дон Кихот, -- видеть, где эта
линия, или это отверстие, или голова, о которой ты говоришь, если ночь такая
темная, что на всем небе не видать ни одной звезды.
-- Это верно, -- сказал Санчо, -- но у страха много глаз, и он видит
вещи под землей, а тем более на небе; впрочем, и без того нетрудно
догадаться, что до рассвета уже недалеко.
-- Далеко или недалеко, -- ответил Дон Кихот, -- но да не будет сказано
про меня ни теперь и ни в какое время, что слезы и просьбы отклонили меня
сделать то, что в качестве рыцаря я должен был сделать. Поэтому прошу тебя,
Санчо, замолчи, так как Бог, вложивший мне в душу решимость подвергнуть себя
теперь этому неслыханному и столь ужасному приключению, позаботится о моей
безопасности и утешит тебя в твоей печали. Теперь тебе предстоит лишь одно:
хорошенько подтянуть подпруги Росинанта и оставаться здесь, так как я скоро
вернусь, живой или мертвый.
Когда Санчо увидел, что это окончательное решение его господина и
убедился, как мало на него действуют слезы, советы и просьбы, он задумал
прибегнуть к хитрости, чтобы заставить его дождаться рассвета, если
возможно. Поэтому, пока он подтягивал подпругу лошади, он неслышно и
незаметно недоуздком осла связал обе ноги Росинанта, так что, когда Дон
Кихот захотел ехать, он не мог этого сделать оттого, что конь не был в
состоянии двинуться иначе как только прыжками. Увидев, как хорошо ему
удалась эта хитрость, Санчо сказал:
-- Вот, сеньор, небо, тронутое моими слезами и мольбами, устроило так,
что Росинант не может двинуться с места. Если же вы захотели бы
упорствовать, понукать и бить лошадь, это значило бы гневить судьбу и, как
говорится, идти против рожна.
Дон Кихот был в отчаянии, но чем больше он пришпоривал Росинанта, тем
менее тот двигался с места. Нимало не подозревая, что у лошади связаны ноги,
Дон Кихот счел тогда за лучшее успокоиться и ждать, или чтобы рассвело, или
чтобы Росинант начал двигаться, и, вполне уверенный, что случившееся
происходит от чего-либо другого, а не от хитрости Санчо, он сказал ему:
-- Раз это так, Санчо, что Росинант не может двигаться, я согласен
ждать здесь, пока нам улыбнется утро, хотя я чуть не плачу оттого, что оно
так медлит показаться.
-- Плакать незачем, -- возразил Санчо, -- так как я буду забавлять вашу
милость, рассказывая вам сказки до самого утра, если только вы не пожелаете
слезть с коня и уснуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей,
чтобы чувствовать себя свежим и бодрым, когда займется день и настанет время
идти навстречу ожидающему вас столь неслыханному и ужасному приключению.
-- Кому это ты говоришь, чтобы слезть с коня или уснуть? -- сказал Дон
Кихот. -- Разве я из тех рыцарей, которые ищут отдыха среди опасностей? Спи
ты, родившийся для того, чтобы спать, или делай, что хочешь, я же буду
делать то, что более всего соответствует моему призванию.
 -- Не сердитесь, ваша милость сеньор мой, -- ответил Санчо, -- я сказал
это не подумавши. -- И подойдя к Дон Кихоту, он положил одну руку на
переднюю луку седла, а другую -- на задний арчак, так что обнял левое бедро
своего господина, не смея отойти от него ни на палец, так велик был его
страх перед ударами, которые все еще мерно раздавались один за другим. Дон
Кихот просил Санчо рассказать ему какую-нибудь историю, чтобы развлечь его,
как он обещал. На это Санчо ответил, что сделал бы это, если б не страх,
наводимый на него шумом, который он слышит. -- Тем не менее,-- продолжал он,
-- я приложу все усилия рассказать вам такую историю, что, если мне удастся
ее рассказать и меня не прервут, она окажется лучшей из всех историй.
Слушайте же внимательно, ваша милость, потому что я начинаю.
Было то, что было, и пусть добро достается всем, а зло тому, кто его
ищет; и заметьте, ваша милость, сеньор мой, что начало сказок, как их
говорили в старину, было не таким, как кому вздумается, потому что это было
изречение Катона Сонсорино {Санчо говорит "Caton Zonzorino", желая сказать
"Caton el Censorino", или Катон Цензор, изречения которого были в то время в
большом ходу как среди ученых, так и неученых.} римского, гласившее: а зло
тому, кто его ищет, и это так же под стать здесь, как кольцо к пальцу, имея
в виду, чтобы ваша милость оставалась спокойной и не отправлялась куда-либо
искать зло и мы бы повернули на другую дорогу, так как никто не принуждает
нас продолжать путь, где столько ужасов ожидает нас.
-- Продолжай свой рассказ, Санчо,-- сказал Дон Кихот, -- и предоставь
мне заботиться, по какой дороге нам ехать.
-- Итак, я говорю, -- снова начал Санчо, -- что в одном из местечек
Эстрамадуры жил-был пастух, или, надо бы сказать, козопас; каковой пастух,
или козопас, как говорится в моей истории, назывался Лопе Руис, и этот Лопе
Руис был влюблен в пастушку, которую звали Торральва, а пастушка по имени
Торральва была дочерью богатого владельца стада, богатый же владелец
стада...
-- Если ты, Санчо, будешь продолжать рассказывать таким образом,
повторяя каждое слово по два раза, ты не кончишь свой рассказ и в два дня...
Говори же связно и рассказывай как разумный человек или уж лучше ничего не
говори.
-- Таким же образом, как я рассказываю, -- ответил Санчо, --
рассказывают у нас на селе все сказки, и я не умею рассказывать их иначе, и
нехорошо с вашей стороны, сеньор, что вы требуете от меня, чтобы я вводил
новые обычаи.
-- Рассказывай, как знаешь, -- согласился Дон Кихот, -- и продолжай,
раз судьбе угодно, чтобы я слушал тебя...
-- Итак, сеньор души моей, -- сказал снова Санчо, -- этот пастух, как я
уже говорил, был влюблен в пастушку Торральву, девушку здоровенную и
строптивую, которая к тому же немного смахивала на мужчину, потому что у нее
были небольшие усики, право, я ее как сейчас вижу перед собою.
-- Значит, ты ее знал? -- спросил Дон Кихот.
-- Нет, я не знал ее, -- ответил Санчо, -- но тот, кто рассказывал мне
эту сказку, говорил, что в ней до того все истинно и правдиво, что когда я
буду рассказывать ее другим, то могу уверять и клясться, что видел все
собственными своими глазами. Итак, в то время как дни шли и уходили, черт,
который не спит и все путает, устроил так, что любовь пастуха к пастушке
обратилась в отвращение и злобу, а причиной тому, как говорят злые языки,
было достаточное количество ревности, возбужденной в нем такого рода ее
поступками, которые переходили меру и граничили с недозволенным; всего этого
накопилось столько, что пастух с того времени возненавидел ее и, чтобы не
встречаться с нею, решил покинуть ту местность и идти туда, где его глаза
никогда не увидят ее. Лишь только Торральва убедилась, что Лопе пренебрегает
ею, тотчас же она полюбила его так сильно, как никогда прежде не любила.
-- Это прирожденное женщинам свойство, -- сказал Дон Кихот, --
пренебрегать теми, кто их любит, и любить тех, кто их ненавидит. Продолжай,
Санчо.
-- Случилось так, -- сказал Санчо,-- что пастух привел в исполнение
свое намерение. Он собрал всех своих коз и погнал их по полям Эстрамадуры,
имея в виду перебраться в Португальское королевство. Узнав об этом,
Торральва пустилась вслед за ним и шла издали, пешком, босая, с посохом в
руках и с котомкой за плечами, в которой у нее, как говорит молва,
находились обломок зеркала, кусочек гребня и не знаю какая склянка с
притираниями для лица. Но пусть она несла себе, что хотела, я не желаю
заниматься проверкой этого теперь, а только скажу одно, что пастух, как
говорят, подошел со своим стадом к реке Гадиана, через которую должен был
переправиться. Но в то время года вода в реке сильно поднялась и почти что
вышла из берегов. А в том месте, куда пришел пастух, не было ни лодки, ни
барки и никого, кто бы мог перевезти его и его стадо на другой берег. Это
чрезвычайно огорчило пастуха, так как он видел, что Торральва приближается и
наделает ему много неприятностей своими просьбами и слезами. Но он не
переставал всматриваться во все стороны, пока наконец не увидел рыбака, у
которого была такая маленькая лодка, что в ней могли поместиться всего лишь
один человек и одна коза. Тем не менее он поговорил с ним и условился, чтобы
рыбак перевез на другой берег его и бывшие при нем триста коз. Рыбак сел в
лодочку и перевез сначала одну козу, вернулся и перевез другую, опять
вернулся и перевез еще одну. Хорошенько считайте, ваша милость, тех коз,
которых рыбак перевозит на другой берег, потому что, если хоть одна из них
выскочит у вас из памяти, рассказу будет конец и к нему нельзя будет
прибавить ни слова больше. Итак, продолжаю и говорю, что пристань на том
берегу была очень топкая и скользкая и рыбаку требовалось немало времени для
переезда туда и обратно. Тем не менее он вернулся еще за одной козой, потом
еще за одной, и еще за одной...
-- Предположи, что он перевез их всех, -- сказал Дон Кихот, -- и не
переезжай с ними всякий раз туда и обратно, иначе ты и через год не
перевезешь их на другой берег.
-- Сколько коз было перевезено до сих пор? -- спросил Санчо.
-- Как, черт возьми, могу я это знать! -- ответил Дон Кихот.
-- Ну вот, не говорил ли я вам, чтобы вы хорошенько считали, потому что
теперь, ей-богу, конец моему рассказу, и никак нельзя его продолжать.
-- Как это может быть? -- спросил Дон Кихот. -- Неужели так существенно
для твоего рассказа знать с точностью, сколько коз было перевезено на другой
берег, и, если просчитаешь хоть одну козу, ты не можешь продолжать дальше
своей истории?..
-- Да, сеньор, никоим образом не могу, -- подтвердил Санчо, -- потому
что, когда я спросил вашу милость, сколько коз было перевезено на другой
берег, а вы мне ответили, что не знаете, в ту же минуту у меня из памяти
улетучилось все, что оставалось мне досказать, а говоря по чести, это было
нечто очень интересное и забавное {Эта сказка одна из самых древних и,
несомненно, восточного происхождения.}.
-- Значит, -- сказал Дон Кихот,-- история твоя кончена?
-- Она так же кончена, как и жизнь моей матери, -- ответил Санчо.
-- Скажу тебе по правде, -- ответил Дон Кихот, -- что ты рассказал одну
из самых новейших сказок, повестей или историй, которую кто-либо на свете
мог придумать, и такой манеры рассказывать и обрывать рассказ никто в жизни
никогда еще не слышал и не услышит, хотя я и не ожидал чего-либо другого от
твоего великого ума; но я не удивляюсь тому, так как, по-видимому, от
беспрерывного стука у тебя помутился рассудок.
-- Все может быть, -- ответил Санчо, -- но я знаю, что относительно
моей истории мне ничего больше не остается сказать: она кончается там, где
начинается ошибка в счете перевезенных на другой берег коз.
-- Пусть история эта в добрый час кончается где угодно, -- сказал Дон
Кихот, -- а теперь посмотрим, в состоянии ли Росинант двинуться с места. --
Снова он пришпорил коня, а Росинант снова сделал несколько скачков и не
двинулся с места, так хорошо он был спутан.
Как раз в это время -- оттого ли, что уже наступившая утренняя прохлада
тому содействовала, или же потому, что Санчо вечером за ужином съел
что-нибудь слабительное, или же просто по естественному ходу вещей (что
всего вероятнее), -- он почувствовал сильное желание и потребность сделать
то, чего никто другой не мог сделать за него; однако страх, наполнявший его
душу, был так велик, что Санчо не отваживался отдалиться от своего господина
даже на кончик ногтя. С другой стороны, не сделать того, что составляло для
него неотложную потребность, также оказывалось невозможным. Желая примирить
и то и другое, он отпустил правую руку, которой держался за арчак седла, и
тихонько, не производя шума, развязал шнурок, на котором без всякого другого
приспособления держались его штаны, и, лишь только он это сделал, они
свалились к его ногам, опутав их точно кандалами. Затем он поднял, насколько
было возможно, рубашку и выставил на воздух обе половины своего седалища (а
были они немалых размеров). Когда он сделал это (а ему казалось, что это-то
и было самое необходимое, чтобы выйти из ужасного томления и мучения), им
овладела еще другая и еще большая забота: он боялся, что не сможет облегчить
себя, не производя некоторых звуков и шума. Итак, он стиснул зубы и поднял
вверх плечи, втягивая в себя сколько мог дыхание. Но, несмотря на свои
усилия, он был так несчастлив, что в конце концов произвел легкий шум,
весьма непохожий на тот, который внушал ему такой ужас.
Дон Кихот услышал этот звук и сказал:
-- Что это за звук такой, Санчо?
-- Не знаю, сеньор, -- ответил Санчо, -- должно быть, новое что-нибудь,
так как приключения и несчастья никогда не начинаются с ничего не значащего.
Он опять попытал счастье, и на этот раз ему так повезло, что он без
дальнейшего шума и суматохи освободился от тяжести, доставившей ему столько
хлопот. Но так как Дон Кихот обладал столь же тонким обонянием, как и
слухом, а Санчо стоял с ним рядом и словно пришитый к нему, испарения же
поднимались вверх почти по прямой линии, то было неизбежно, что некоторая
часть их ударила рыцарю в нос; а едва это случилось, как он поспешил на
помощь своему носу зажав его двумя пальцами, и потому несколько гнусавым
голосом сказал:
-- Мне кажется, Санчо, что тебя обуял сильнейший страх.
-- Вы правы, -- ответил Санчо, -- но из чего же милость ваша заключает,
что мой страх теперь больше, чем он был раньше?
-- Из того, что от тебя пахнет теперь больше, чем раньше, да и не
амброй, -- ответил Дон Кихот.
-- Очень может быть, -- сказал Санчо, -- но вина не моя, а вашей
милости, заставляющей меня скитаться в такие неурочные часы и в таких
необычных местностях.
-- Отойди на три или на четыре шага, -- сказал (не разжимая носа) Дон
Кихот, -- и впредь будь внимательнее как к себе самому, так и к твоим
обязанностям относительно меня. Слишком фамильярное обращение мое с тобой --
причина твоей непочтительности ко мне.
-- Готов биться об заклад, -- ответил Санчо, -- что ваша милость
воображает, будто я сейчас сделал нечто такое, чего мне не следовало делать.
-- Еще хуже копаться в этом, друг Санчо, -- ответил Дон Кихот.
В таких и тому подобных разговорах господин и слуга провели ночь, а
когда Санчо заметил, что уже близко к рассвету, он как можно осторожнее
развязал ноги Росинанту и завязал себе штаны. Едва Росинант почувствовал,
что он свободен -- хотя по природе в нем совсем не было горячности -- он
словно ожил и стал бить копытами, потому что делать курбеты (прошу у него
извинения) он не умел. Заметив, что Росинант может теперь двигаться, Дон
Кихот счел это за хорошее предзнаменование и решил, что настало время
пуститься в столь опасное приключение.
Между тем заря окончательно занялась, все предметы кругом можно было
уже ясно различить, и Дон Кихот увидел, что он находится под высокими
деревьями, оказавшимися каштанами, которые бросают очень густую тень. Он
слышал также, что стук не прекращается, но не мог открыть, кто производит
его. Итак, не медля дольше, он пришпорил Росинанта и, еще раз прощаясь с
Санчо, приказал ему ждать его здесь, как уже раньше говорил, самое большее
три дня; если же по прошествии этого срока он не вернется, пусть Санчо
считает за достоверное, что Богу было угодно, чтобы он в столь опасном
приключении поплатился жизнью. Снова повторил он ему поручение и послание,
которые от его имени предстояло Санчо передать сеньоре Дульсинее,
относительно же вознаграждения за его службу просил его не беспокоиться,
потому что перед отъездом из своего села им было сделано завещание, по
которому Санчо будет удовлетворен, соразмерно со временем его службы, во
всем, касающемся жалования его. Гели же Бог поможет рыцарю выйти из этой
опасности здравым, целым и невредимым, пусть Санчо считает более чем
несомненным, что получит обещанный остров.
Санчо снова заплакал, услыхав жалостливые слова доброго своего
господина, и решил не оставлять его до последнего перехода и окончания этого
предприятия. (Из этих слез и столь почтенного решения Санчо Пансы автор этой
истории выводит заключение, что, должно быть, он был хорошего происхождения,
по меньшей мере старый христианин {Старыми христианами называли в Испании
тех, у которых среди их предков не было выкрестов евреев или мавров.}).
Добрые чувства Санчо хотя и растрогали несколько его господина, но не
настолько, чтобы он выказал какую-либо слабость, напротив, он скрыл по
возможности свое волнение и тотчас же направился в ту сторону, откуда, как
ему казалось, раздавался шум воды и слышались мерные удары. Санчо следовал
за ним пешком и вел -- как обыкновенно это делал -- за недоуздок осла, этого
неразлучного своего товарища в счастии и несчастии.
После того как они проехали порядочное расстояние под тенью каштанов и
других густолиственных деревьев, перед ними открылась небольшая поляна,
расположенная у подножия нескольких высоких скал, с которых низвергался
мощный водопад. Внизу у этих скал виднелось несколько плохих строений,
казавшихся скорее развалинами, чем домами; оттуда именно, как они в этом
убедились, и исходил тот грохот и стук, который все еще не умолкал. Росинант
испугался гула воды и раздававшихся ударов; но Дон Кихот, успокаивая его,
приближался мало-помалу к строениям, причем он от всего сердца поручал себя
своей даме и умолял ее благоприятствовать ему в этом столь страшном
начинании и предприятии и попутно поручил себя также и Богу, чтобы Он не
оставил его. Санчо не отставал ни на шаг от своего господина и, сколько мог,
вытягивал шею и голову между ног Росинанта, чтобы посмотреть, не увидит ли
он наконец того, что нагнало на него такой страх и ужас. Пройдя еще около
ста шагов, они обогнули выдающуюся часть скалы и вдруг ясно и отчетливо
увидели перед собой причину -- потому что иной не могло быть -- того
страшного шума и тех мерных ударов, которые продержали их всю ночь в
величайшем смущении и страхе. Это были (лишь бы, о читатель, ты не
почувствовал огорчения и досады) шесть молотов валяльных мельниц, которые
своими попеременными ударами производили весь тот грохот.
Когда Дон Кихот понял, в чем дело, он словно онемел и точно замер.
Санчо посмотрел на него и увидел, что он стоит с опущенной на грудь головой,
пристыженный и смущенный. И Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и
заметил, что тот надул щеки, стараясь удержать душивший его хохот, и,
несмотря на всю свою досаду, он не мог сдержать смеха, глядя на него. Как
только Санчо увидел, что его господин первый начал, он дал себе полную волю
и до того расхохотался, что должен был подпереть кулаками бока, чтобы не
лопнуть от смеха. Четыре раза он успокаивался и столько же раз снова
принимался хохотать до упада, так что Дон Кихот посылал себя к черту, в
особенности же когда он услышал, что Санчо, передразнивая его, сказал:
-- Ты должен знать, о друг Санчо, что я, по велению небес, родился в
этот наш железный век, чтоб воскресить так называемый золотой век. Я тот,
для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги...
-- Не сердитесь, ваша милость сеньор мой, -- ответил Санчо, -- я сказал
это не подумавши. -- И подойдя к Дон Кихоту, он положил одну руку на
переднюю луку седла, а другую -- на задний арчак, так что обнял левое бедро
своего господина, не смея отойти от него ни на палец, так велик был его
страх перед ударами, которые все еще мерно раздавались один за другим. Дон
Кихот просил Санчо рассказать ему какую-нибудь историю, чтобы развлечь его,
как он обещал. На это Санчо ответил, что сделал бы это, если б не страх,
наводимый на него шумом, который он слышит. -- Тем не менее,-- продолжал он,
-- я приложу все усилия рассказать вам такую историю, что, если мне удастся
ее рассказать и меня не прервут, она окажется лучшей из всех историй.
Слушайте же внимательно, ваша милость, потому что я начинаю.
Было то, что было, и пусть добро достается всем, а зло тому, кто его
ищет; и заметьте, ваша милость, сеньор мой, что начало сказок, как их
говорили в старину, было не таким, как кому вздумается, потому что это было
изречение Катона Сонсорино {Санчо говорит "Caton Zonzorino", желая сказать
"Caton el Censorino", или Катон Цензор, изречения которого были в то время в
большом ходу как среди ученых, так и неученых.} римского, гласившее: а зло
тому, кто его ищет, и это так же под стать здесь, как кольцо к пальцу, имея
в виду, чтобы ваша милость оставалась спокойной и не отправлялась куда-либо
искать зло и мы бы повернули на другую дорогу, так как никто не принуждает
нас продолжать путь, где столько ужасов ожидает нас.
-- Продолжай свой рассказ, Санчо,-- сказал Дон Кихот, -- и предоставь
мне заботиться, по какой дороге нам ехать.
-- Итак, я говорю, -- снова начал Санчо, -- что в одном из местечек
Эстрамадуры жил-был пастух, или, надо бы сказать, козопас; каковой пастух,
или козопас, как говорится в моей истории, назывался Лопе Руис, и этот Лопе
Руис был влюблен в пастушку, которую звали Торральва, а пастушка по имени
Торральва была дочерью богатого владельца стада, богатый же владелец
стада...
-- Если ты, Санчо, будешь продолжать рассказывать таким образом,
повторяя каждое слово по два раза, ты не кончишь свой рассказ и в два дня...
Говори же связно и рассказывай как разумный человек или уж лучше ничего не
говори.
-- Таким же образом, как я рассказываю, -- ответил Санчо, --
рассказывают у нас на селе все сказки, и я не умею рассказывать их иначе, и
нехорошо с вашей стороны, сеньор, что вы требуете от меня, чтобы я вводил
новые обычаи.
-- Рассказывай, как знаешь, -- согласился Дон Кихот, -- и продолжай,
раз судьбе угодно, чтобы я слушал тебя...
-- Итак, сеньор души моей, -- сказал снова Санчо, -- этот пастух, как я
уже говорил, был влюблен в пастушку Торральву, девушку здоровенную и
строптивую, которая к тому же немного смахивала на мужчину, потому что у нее
были небольшие усики, право, я ее как сейчас вижу перед собою.
-- Значит, ты ее знал? -- спросил Дон Кихот.
-- Нет, я не знал ее, -- ответил Санчо, -- но тот, кто рассказывал мне
эту сказку, говорил, что в ней до того все истинно и правдиво, что когда я
буду рассказывать ее другим, то могу уверять и клясться, что видел все
собственными своими глазами. Итак, в то время как дни шли и уходили, черт,
который не спит и все путает, устроил так, что любовь пастуха к пастушке
обратилась в отвращение и злобу, а причиной тому, как говорят злые языки,
было достаточное количество ревности, возбужденной в нем такого рода ее
поступками, которые переходили меру и граничили с недозволенным; всего этого
накопилось столько, что пастух с того времени возненавидел ее и, чтобы не
встречаться с нею, решил покинуть ту местность и идти туда, где его глаза
никогда не увидят ее. Лишь только Торральва убедилась, что Лопе пренебрегает
ею, тотчас же она полюбила его так сильно, как никогда прежде не любила.
-- Это прирожденное женщинам свойство, -- сказал Дон Кихот, --
пренебрегать теми, кто их любит, и любить тех, кто их ненавидит. Продолжай,
Санчо.
-- Случилось так, -- сказал Санчо,-- что пастух привел в исполнение
свое намерение. Он собрал всех своих коз и погнал их по полям Эстрамадуры,
имея в виду перебраться в Португальское королевство. Узнав об этом,
Торральва пустилась вслед за ним и шла издали, пешком, босая, с посохом в
руках и с котомкой за плечами, в которой у нее, как говорит молва,
находились обломок зеркала, кусочек гребня и не знаю какая склянка с
притираниями для лица. Но пусть она несла себе, что хотела, я не желаю
заниматься проверкой этого теперь, а только скажу одно, что пастух, как
говорят, подошел со своим стадом к реке Гадиана, через которую должен был
переправиться. Но в то время года вода в реке сильно поднялась и почти что
вышла из берегов. А в том месте, куда пришел пастух, не было ни лодки, ни
барки и никого, кто бы мог перевезти его и его стадо на другой берег. Это
чрезвычайно огорчило пастуха, так как он видел, что Торральва приближается и
наделает ему много неприятностей своими просьбами и слезами. Но он не
переставал всматриваться во все стороны, пока наконец не увидел рыбака, у
которого была такая маленькая лодка, что в ней могли поместиться всего лишь
один человек и одна коза. Тем не менее он поговорил с ним и условился, чтобы
рыбак перевез на другой берег его и бывшие при нем триста коз. Рыбак сел в
лодочку и перевез сначала одну козу, вернулся и перевез другую, опять
вернулся и перевез еще одну. Хорошенько считайте, ваша милость, тех коз,
которых рыбак перевозит на другой берег, потому что, если хоть одна из них
выскочит у вас из памяти, рассказу будет конец и к нему нельзя будет
прибавить ни слова больше. Итак, продолжаю и говорю, что пристань на том
берегу была очень топкая и скользкая и рыбаку требовалось немало времени для
переезда туда и обратно. Тем не менее он вернулся еще за одной козой, потом
еще за одной, и еще за одной...
-- Предположи, что он перевез их всех, -- сказал Дон Кихот, -- и не
переезжай с ними всякий раз туда и обратно, иначе ты и через год не
перевезешь их на другой берег.
-- Сколько коз было перевезено до сих пор? -- спросил Санчо.
-- Как, черт возьми, могу я это знать! -- ответил Дон Кихот.
-- Ну вот, не говорил ли я вам, чтобы вы хорошенько считали, потому что
теперь, ей-богу, конец моему рассказу, и никак нельзя его продолжать.
-- Как это может быть? -- спросил Дон Кихот. -- Неужели так существенно
для твоего рассказа знать с точностью, сколько коз было перевезено на другой
берег, и, если просчитаешь хоть одну козу, ты не можешь продолжать дальше
своей истории?..
-- Да, сеньор, никоим образом не могу, -- подтвердил Санчо, -- потому
что, когда я спросил вашу милость, сколько коз было перевезено на другой
берег, а вы мне ответили, что не знаете, в ту же минуту у меня из памяти
улетучилось все, что оставалось мне досказать, а говоря по чести, это было
нечто очень интересное и забавное {Эта сказка одна из самых древних и,
несомненно, восточного происхождения.}.
-- Значит, -- сказал Дон Кихот,-- история твоя кончена?
-- Она так же кончена, как и жизнь моей матери, -- ответил Санчо.
-- Скажу тебе по правде, -- ответил Дон Кихот, -- что ты рассказал одну
из самых новейших сказок, повестей или историй, которую кто-либо на свете
мог придумать, и такой манеры рассказывать и обрывать рассказ никто в жизни
никогда еще не слышал и не услышит, хотя я и не ожидал чего-либо другого от
твоего великого ума; но я не удивляюсь тому, так как, по-видимому, от
беспрерывного стука у тебя помутился рассудок.
-- Все может быть, -- ответил Санчо, -- но я знаю, что относительно
моей истории мне ничего больше не остается сказать: она кончается там, где
начинается ошибка в счете перевезенных на другой берег коз.
-- Пусть история эта в добрый час кончается где угодно, -- сказал Дон
Кихот, -- а теперь посмотрим, в состоянии ли Росинант двинуться с места. --
Снова он пришпорил коня, а Росинант снова сделал несколько скачков и не
двинулся с места, так хорошо он был спутан.
Как раз в это время -- оттого ли, что уже наступившая утренняя прохлада
тому содействовала, или же потому, что Санчо вечером за ужином съел
что-нибудь слабительное, или же просто по естественному ходу вещей (что
всего вероятнее), -- он почувствовал сильное желание и потребность сделать
то, чего никто другой не мог сделать за него; однако страх, наполнявший его
душу, был так велик, что Санчо не отваживался отдалиться от своего господина
даже на кончик ногтя. С другой стороны, не сделать того, что составляло для
него неотложную потребность, также оказывалось невозможным. Желая примирить
и то и другое, он отпустил правую руку, которой держался за арчак седла, и
тихонько, не производя шума, развязал шнурок, на котором без всякого другого
приспособления держались его штаны, и, лишь только он это сделал, они
свалились к его ногам, опутав их точно кандалами. Затем он поднял, насколько
было возможно, рубашку и выставил на воздух обе половины своего седалища (а
были они немалых размеров). Когда он сделал это (а ему казалось, что это-то
и было самое необходимое, чтобы выйти из ужасного томления и мучения), им
овладела еще другая и еще большая забота: он боялся, что не сможет облегчить
себя, не производя некоторых звуков и шума. Итак, он стиснул зубы и поднял
вверх плечи, втягивая в себя сколько мог дыхание. Но, несмотря на свои
усилия, он был так несчастлив, что в конце концов произвел легкий шум,
весьма непохожий на тот, который внушал ему такой ужас.
Дон Кихот услышал этот звук и сказал:
-- Что это за звук такой, Санчо?
-- Не знаю, сеньор, -- ответил Санчо, -- должно быть, новое что-нибудь,
так как приключения и несчастья никогда не начинаются с ничего не значащего.
Он опять попытал счастье, и на этот раз ему так повезло, что он без
дальнейшего шума и суматохи освободился от тяжести, доставившей ему столько
хлопот. Но так как Дон Кихот обладал столь же тонким обонянием, как и
слухом, а Санчо стоял с ним рядом и словно пришитый к нему, испарения же
поднимались вверх почти по прямой линии, то было неизбежно, что некоторая
часть их ударила рыцарю в нос; а едва это случилось, как он поспешил на
помощь своему носу зажав его двумя пальцами, и потому несколько гнусавым
голосом сказал:
-- Мне кажется, Санчо, что тебя обуял сильнейший страх.
-- Вы правы, -- ответил Санчо, -- но из чего же милость ваша заключает,
что мой страх теперь больше, чем он был раньше?
-- Из того, что от тебя пахнет теперь больше, чем раньше, да и не
амброй, -- ответил Дон Кихот.
-- Очень может быть, -- сказал Санчо, -- но вина не моя, а вашей
милости, заставляющей меня скитаться в такие неурочные часы и в таких
необычных местностях.
-- Отойди на три или на четыре шага, -- сказал (не разжимая носа) Дон
Кихот, -- и впредь будь внимательнее как к себе самому, так и к твоим
обязанностям относительно меня. Слишком фамильярное обращение мое с тобой --
причина твоей непочтительности ко мне.
-- Готов биться об заклад, -- ответил Санчо, -- что ваша милость
воображает, будто я сейчас сделал нечто такое, чего мне не следовало делать.
-- Еще хуже копаться в этом, друг Санчо, -- ответил Дон Кихот.
В таких и тому подобных разговорах господин и слуга провели ночь, а
когда Санчо заметил, что уже близко к рассвету, он как можно осторожнее
развязал ноги Росинанту и завязал себе штаны. Едва Росинант почувствовал,
что он свободен -- хотя по природе в нем совсем не было горячности -- он
словно ожил и стал бить копытами, потому что делать курбеты (прошу у него
извинения) он не умел. Заметив, что Росинант может теперь двигаться, Дон
Кихот счел это за хорошее предзнаменование и решил, что настало время
пуститься в столь опасное приключение.
Между тем заря окончательно занялась, все предметы кругом можно было
уже ясно различить, и Дон Кихот увидел, что он находится под высокими
деревьями, оказавшимися каштанами, которые бросают очень густую тень. Он
слышал также, что стук не прекращается, но не мог открыть, кто производит
его. Итак, не медля дольше, он пришпорил Росинанта и, еще раз прощаясь с
Санчо, приказал ему ждать его здесь, как уже раньше говорил, самое большее
три дня; если же по прошествии этого срока он не вернется, пусть Санчо
считает за достоверное, что Богу было угодно, чтобы он в столь опасном
приключении поплатился жизнью. Снова повторил он ему поручение и послание,
которые от его имени предстояло Санчо передать сеньоре Дульсинее,
относительно же вознаграждения за его службу просил его не беспокоиться,
потому что перед отъездом из своего села им было сделано завещание, по
которому Санчо будет удовлетворен, соразмерно со временем его службы, во
всем, касающемся жалования его. Гели же Бог поможет рыцарю выйти из этой
опасности здравым, целым и невредимым, пусть Санчо считает более чем
несомненным, что получит обещанный остров.
Санчо снова заплакал, услыхав жалостливые слова доброго своего
господина, и решил не оставлять его до последнего перехода и окончания этого
предприятия. (Из этих слез и столь почтенного решения Санчо Пансы автор этой
истории выводит заключение, что, должно быть, он был хорошего происхождения,
по меньшей мере старый христианин {Старыми христианами называли в Испании
тех, у которых среди их предков не было выкрестов евреев или мавров.}).
Добрые чувства Санчо хотя и растрогали несколько его господина, но не
настолько, чтобы он выказал какую-либо слабость, напротив, он скрыл по
возможности свое волнение и тотчас же направился в ту сторону, откуда, как
ему казалось, раздавался шум воды и слышались мерные удары. Санчо следовал
за ним пешком и вел -- как обыкновенно это делал -- за недоуздок осла, этого
неразлучного своего товарища в счастии и несчастии.
После того как они проехали порядочное расстояние под тенью каштанов и
других густолиственных деревьев, перед ними открылась небольшая поляна,
расположенная у подножия нескольких высоких скал, с которых низвергался
мощный водопад. Внизу у этих скал виднелось несколько плохих строений,
казавшихся скорее развалинами, чем домами; оттуда именно, как они в этом
убедились, и исходил тот грохот и стук, который все еще не умолкал. Росинант
испугался гула воды и раздававшихся ударов; но Дон Кихот, успокаивая его,
приближался мало-помалу к строениям, причем он от всего сердца поручал себя
своей даме и умолял ее благоприятствовать ему в этом столь страшном
начинании и предприятии и попутно поручил себя также и Богу, чтобы Он не
оставил его. Санчо не отставал ни на шаг от своего господина и, сколько мог,
вытягивал шею и голову между ног Росинанта, чтобы посмотреть, не увидит ли
он наконец того, что нагнало на него такой страх и ужас. Пройдя еще около
ста шагов, они обогнули выдающуюся часть скалы и вдруг ясно и отчетливо
увидели перед собой причину -- потому что иной не могло быть -- того
страшного шума и тех мерных ударов, которые продержали их всю ночь в
величайшем смущении и страхе. Это были (лишь бы, о читатель, ты не
почувствовал огорчения и досады) шесть молотов валяльных мельниц, которые
своими попеременными ударами производили весь тот грохот.
Когда Дон Кихот понял, в чем дело, он словно онемел и точно замер.
Санчо посмотрел на него и увидел, что он стоит с опущенной на грудь головой,
пристыженный и смущенный. И Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и
заметил, что тот надул щеки, стараясь удержать душивший его хохот, и,
несмотря на всю свою досаду, он не мог сдержать смеха, глядя на него. Как
только Санчо увидел, что его господин первый начал, он дал себе полную волю
и до того расхохотался, что должен был подпереть кулаками бока, чтобы не
лопнуть от смеха. Четыре раза он успокаивался и столько же раз снова
принимался хохотать до упада, так что Дон Кихот посылал себя к черту, в
особенности же когда он услышал, что Санчо, передразнивая его, сказал:
-- Ты должен знать, о друг Санчо, что я, по велению небес, родился в
этот наш железный век, чтоб воскресить так называемый золотой век. Я тот,
для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги...
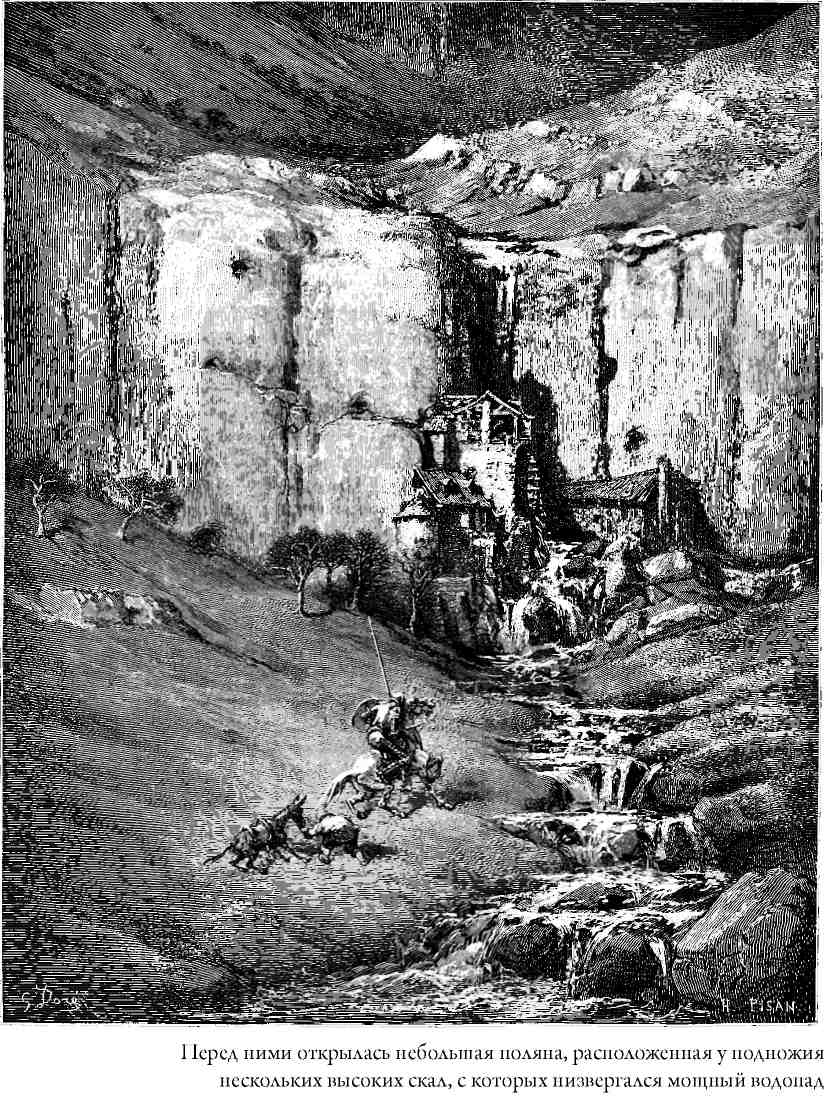 Таким образом, он повторил все или по крайней мере, большую часть того,
что говорил Дон Кихот, когда они впервые услышали страшные удары молотов.
Видя, что Санчо потешается над ним, Дон Кихот так рассердился и вспылил, что
поднял копье и нанес им два увесистых удара Санчо, которыми, если б они
попали ему не по плечам, а по голове, господин его освободился бы от выплаты
ему жалованья, разве только ему пришлось бы уплатить это жалованье его
наследникам. Видя, что шутки его принесли такие горестные плоды, и опасаясь,
чтобы его господин не зашел еще дальше в том же направлении, Санчо с большим
смирением сказал ему:
-- Ваша милость, успокойтесь, ей-богу же, я пошутил.
-- Но если вы шутите, я не шучу,-- ответил Дон Кихот. -- Ступайте-ка
сюда, господин весельчак! Думаете ли вы, что, если б тут были не эти
валяльные молоты, а предстояло бы какое-нибудь опасное приключение, я не
выказал бы мужества, необходимого для того, чтобы предпринять его и довести
до конца? Быть может, -- будучи рыцарем, каков я есть, -- я обязан узнавать
и различать звуки и знать, производятся ли они валяльными мельницами или
нет? И тем более, говорю я, ведь могло бы быть -- как оно на самом деле и
есть, -- что я никогда в жизни не видел таких мельниц, какие видели вы,
грубая деревенщина, вы, рожденный и воспитанный среди них! А если не верите
мне, устройте, чтоб эти шесть молотов обратились в великанов, и бросьте их
мне в бороду одного за другим или же всех разом, и, в случае если я не
уничтожил бы их, опрокинув лапами вверх, издевайтесь надо мной сколько
угодно.
-- Успокойтесь, сеньор мой, -- сказал Санчо, -- я ведь признаю, что
слишком далеко зашел в своей шутке. Но скажите мне, милость ваша, теперь,
когда мы с вами помирились, -- и да хранит вас Бог во всех приключениях,
которые вам еще предстоят, столь же здравым и невредимым, как Он хранил вас
в этом приключении, -- разве не смешно рассказывать об ужасном страхе,
который мы испытали? Или, по крайней мере, который я испытал, так как
относительно вашей милости мне хорошо известно, что страх или испуг и
непонятны, и неведомы вам.
-- Не отрицаю, -- ответил Дон Кихот, -- что случившееся с нами достойно
смеха, но рассказывать об этом незачем; ведь не все люди так рассудительны,
чтобы смотреть на вещи надлежащим образом.
-- По крайней мере, -- сказал Санчо, -- ваша милость сумела надлежащим
образом размахнуться копьем, направив его мне в голову, а ударив по плечам
благодаря богу и той быстроте, с которой я уклонился в сторону. Но ничего,
-- все отмоется в щелоке, и я слышал, что говорят: тот крепко тебя любит,
кто заставляет плакать. Кроме того, знатные господа обыкновенно, побранив
слугу, тотчас дарят ему пару штанов, -- хотя я не знаю, что у них в
обыкновении давать ему после того, как они побьют его, но возможно, что
странствующие рыцари вознаграждают за нанесенные удары островами или
королевствами на материке.
-- Игральная кость может так упасть, -- сказал Дон Кихот, -- что все
сказанное тобой сбудется. Извини меня за случившееся; ты ведь умен и знаешь,
что первые движения не во власти человека. И отныне и впредь заметь себе вот
что: сдерживайся и не позволяй себе лишнего в разговорах со мной, так как во
всех рыцарских книгах, которые я прочел -- а им и конца нет, -- никогда не
встречалось мне, чтобы какой-нибудь оруженосец так много говорил со своим
господином, как ты с твоим; и действительно, я считаю это большой ошибкой с
твоей и с моей стороны: с твоей -- что ты так мало уважаешь меня, с моей --
что я не сумел заставить тебя уважать меня больше. Вот Гандалин, оруженосец
Амадиса Галльского, был графом Insula Firme {Сухопутного острова (лат.).}, a
мы о нем читаем, что он всегда говорил со своим господином, держа шапку в
руках, наклонив голову и нагнувшись всем телом, more turquesco {По турецкому
обычаю (исп.).}. Затем, что сказать нам о Гасобале -- оруженосце дона
Галаора, -- который был так молчалив, что имя его упоминается всего лишь раз
во всей этой столь же пространной, как и правдивой истории, с целью
подчеркнуть нам необычайную и изумительную его сдержанность. Из всего, что я
сказал, ты можешь заключить, Санчо, что необходимо делать различие между
господином и слугой, хозяином и работником, рыцарем и оруженосцем; так что
отныне и впредь мы должны обращаться друг с другом с большим уважением и не
распускаясь, потому что, каким бы образом я ни рассердился на вас, плохо
придется кувшину {Mal para el cantaro (исп.) -- намек на испанскую
пословицу: "Кувшин ли ударит о камень, или камень ударит о кувшин, --
одинаково плохо для кувшина".}. Милости и благодеяния, которые я вам обещал,
явятся в свое время, а если они и не явятся, то по крайней мере жалование
ваше не пропадет, как я уже говорил вам.
-- Все хорошо, что говорит ваша милость, -- сказал Санчо, -- но я желал
бы знать (на случай если не наступит время милостей и окажется нужным
прибегнуть к жалованью): сколько зарабатывал оруженосец странствующих
рыцарей в те времена и получал ли он помесячно или поденно, как работник у
каменщика?
-- Не думаю, -- сказал Дон Кихот,-- чтобы оруженосцы когда-либо служили
за жалование, они получали только милости. Если же я назначил тебе жалованье
в завещании, оставленном мною дома запечатанным, то сделал это только на
всякий случай, потому что не знаю, как еще в наши столь бедственные времена
сложатся обстоятельства с рыцарством, и я не хотел бы, чтобы из-за
пустяковины душа моя мучилась на том свете, так как тебе, Санчо, надо знать,
что на этом свете нет профессии более опасной, чем профессия искателей
приключений.
-- Это верно, -- сказал Санчо, -- если уже шум молотов валяльной
мельницы мог смутить и встревожить сердце такого храброго странствующего
искателя приключений, как ваша милость; но вы можете быть уверены, что
отныне и впредь я не раскрою рта, чтобы подшучивать над поступками вашей
милости, а только чтобы чтить вас как моего господина и природного
повелителя.
-- В таком случае, -- сказал Дон Кихот, -- ты будешь долголетен на
земле, потому что после родителей надо чтить, точно родителей, господ.
Таким образом, он повторил все или по крайней мере, большую часть того,
что говорил Дон Кихот, когда они впервые услышали страшные удары молотов.
Видя, что Санчо потешается над ним, Дон Кихот так рассердился и вспылил, что
поднял копье и нанес им два увесистых удара Санчо, которыми, если б они
попали ему не по плечам, а по голове, господин его освободился бы от выплаты
ему жалованья, разве только ему пришлось бы уплатить это жалованье его
наследникам. Видя, что шутки его принесли такие горестные плоды, и опасаясь,
чтобы его господин не зашел еще дальше в том же направлении, Санчо с большим
смирением сказал ему:
-- Ваша милость, успокойтесь, ей-богу же, я пошутил.
-- Но если вы шутите, я не шучу,-- ответил Дон Кихот. -- Ступайте-ка
сюда, господин весельчак! Думаете ли вы, что, если б тут были не эти
валяльные молоты, а предстояло бы какое-нибудь опасное приключение, я не
выказал бы мужества, необходимого для того, чтобы предпринять его и довести
до конца? Быть может, -- будучи рыцарем, каков я есть, -- я обязан узнавать
и различать звуки и знать, производятся ли они валяльными мельницами или
нет? И тем более, говорю я, ведь могло бы быть -- как оно на самом деле и
есть, -- что я никогда в жизни не видел таких мельниц, какие видели вы,
грубая деревенщина, вы, рожденный и воспитанный среди них! А если не верите
мне, устройте, чтоб эти шесть молотов обратились в великанов, и бросьте их
мне в бороду одного за другим или же всех разом, и, в случае если я не
уничтожил бы их, опрокинув лапами вверх, издевайтесь надо мной сколько
угодно.
-- Успокойтесь, сеньор мой, -- сказал Санчо, -- я ведь признаю, что
слишком далеко зашел в своей шутке. Но скажите мне, милость ваша, теперь,
когда мы с вами помирились, -- и да хранит вас Бог во всех приключениях,
которые вам еще предстоят, столь же здравым и невредимым, как Он хранил вас
в этом приключении, -- разве не смешно рассказывать об ужасном страхе,
который мы испытали? Или, по крайней мере, который я испытал, так как
относительно вашей милости мне хорошо известно, что страх или испуг и
непонятны, и неведомы вам.
-- Не отрицаю, -- ответил Дон Кихот, -- что случившееся с нами достойно
смеха, но рассказывать об этом незачем; ведь не все люди так рассудительны,
чтобы смотреть на вещи надлежащим образом.
-- По крайней мере, -- сказал Санчо, -- ваша милость сумела надлежащим
образом размахнуться копьем, направив его мне в голову, а ударив по плечам
благодаря богу и той быстроте, с которой я уклонился в сторону. Но ничего,
-- все отмоется в щелоке, и я слышал, что говорят: тот крепко тебя любит,
кто заставляет плакать. Кроме того, знатные господа обыкновенно, побранив
слугу, тотчас дарят ему пару штанов, -- хотя я не знаю, что у них в
обыкновении давать ему после того, как они побьют его, но возможно, что
странствующие рыцари вознаграждают за нанесенные удары островами или
королевствами на материке.
-- Игральная кость может так упасть, -- сказал Дон Кихот, -- что все
сказанное тобой сбудется. Извини меня за случившееся; ты ведь умен и знаешь,
что первые движения не во власти человека. И отныне и впредь заметь себе вот
что: сдерживайся и не позволяй себе лишнего в разговорах со мной, так как во
всех рыцарских книгах, которые я прочел -- а им и конца нет, -- никогда не
встречалось мне, чтобы какой-нибудь оруженосец так много говорил со своим
господином, как ты с твоим; и действительно, я считаю это большой ошибкой с
твоей и с моей стороны: с твоей -- что ты так мало уважаешь меня, с моей --
что я не сумел заставить тебя уважать меня больше. Вот Гандалин, оруженосец
Амадиса Галльского, был графом Insula Firme {Сухопутного острова (лат.).}, a
мы о нем читаем, что он всегда говорил со своим господином, держа шапку в
руках, наклонив голову и нагнувшись всем телом, more turquesco {По турецкому
обычаю (исп.).}. Затем, что сказать нам о Гасобале -- оруженосце дона
Галаора, -- который был так молчалив, что имя его упоминается всего лишь раз
во всей этой столь же пространной, как и правдивой истории, с целью
подчеркнуть нам необычайную и изумительную его сдержанность. Из всего, что я
сказал, ты можешь заключить, Санчо, что необходимо делать различие между
господином и слугой, хозяином и работником, рыцарем и оруженосцем; так что
отныне и впредь мы должны обращаться друг с другом с большим уважением и не
распускаясь, потому что, каким бы образом я ни рассердился на вас, плохо
придется кувшину {Mal para el cantaro (исп.) -- намек на испанскую
пословицу: "Кувшин ли ударит о камень, или камень ударит о кувшин, --
одинаково плохо для кувшина".}. Милости и благодеяния, которые я вам обещал,
явятся в свое время, а если они и не явятся, то по крайней мере жалование
ваше не пропадет, как я уже говорил вам.
-- Все хорошо, что говорит ваша милость, -- сказал Санчо, -- но я желал
бы знать (на случай если не наступит время милостей и окажется нужным
прибегнуть к жалованью): сколько зарабатывал оруженосец странствующих
рыцарей в те времена и получал ли он помесячно или поденно, как работник у
каменщика?
-- Не думаю, -- сказал Дон Кихот,-- чтобы оруженосцы когда-либо служили
за жалование, они получали только милости. Если же я назначил тебе жалованье
в завещании, оставленном мною дома запечатанным, то сделал это только на
всякий случай, потому что не знаю, как еще в наши столь бедственные времена
сложатся обстоятельства с рыцарством, и я не хотел бы, чтобы из-за
пустяковины душа моя мучилась на том свете, так как тебе, Санчо, надо знать,
что на этом свете нет профессии более опасной, чем профессия искателей
приключений.
-- Это верно, -- сказал Санчо, -- если уже шум молотов валяльной
мельницы мог смутить и встревожить сердце такого храброго странствующего
искателя приключений, как ваша милость; но вы можете быть уверены, что
отныне и впредь я не раскрою рта, чтобы подшучивать над поступками вашей
милости, а только чтобы чтить вас как моего господина и природного
повелителя.
-- В таком случае, -- сказал Дон Кихот, -- ты будешь долголетен на
земле, потому что после родителей надо чтить, точно родителей, господ.

Глава XXI в которой идет речь о славном приключении -- богатой добыче
шлема Мамбрино[1 ]и других событиях, случившихся с непобедимым нашим рыцарем
 [1] Волшебный шлем сарацинского короля Мамбрино, делавший неуязвимым
того, кто его носил.
В это время стал накрапывать небольшой дождик, и Санчо хотел было
укрыться от него в валяльных мельницах, но Дон Кихот, вследствие недавней
жестокой шутки, чувствовал такое отвращение к ним, что наотрез отказался
идти туда. Итак, свернув вправо, они выехали на другую дорогу, сходную с
той, по которой ехали накануне. Вскоре Дон Кихот заметил всадника, на голове
которого было что-то блестевшее, точно золото, и едва он увидел его, как
обернулся к Санчо и сказал:
-- Мне кажется, Санчо, что нет пословицы, которая не заключала бы в
себе истины, потому что все они -- изречения, почерпнутые из самого опыта,
этого родоначальника всех наук; в особенности же справедлива пословица
гласящая: "Где закрывается одна дверь, открывается другая". Говорю это
потому, что, если сегодняшней ночью судьба закрыла перед нами дверь
приключения, которого мы искали, и ввела нас в обман с валяльными
мельницами, теперь она растворяет перед нами настежь дверь к другому,
лучшему и более надежному приключению, и если я не сумею войти в эту дверь,
вина будет моя, и мне нельзя будет приписать ее ни малому знанию валяльных
мельниц, ни темноте ночной. Говорю это потому, что, если я не ошибаюсь, нам
навстречу едет человек со шлемом Мамбрино на голове, с тем самым шлемом,
ради которого я дал известную тебе клятву.
-- Обдумайте хорошенько, ваша милость, что вы говорите, и еще больше
то, что вы делаете, -- сказал Санчо, -- так как я не желал бы, чтобы явились
новые валяльные мельницы, которые окончательно изваляли бы нас и отшибли бы
у нас всякое соображение.
-- Черт побери этого человека,-- воскликнул Дон Кихот,-- что общего
между шлемом и валяльными мельницами?
-- Ничего не знаю, -- ответил Санчо, -- но, по чести, если б я мог так
много говорить, как прежде, быть может, я привел бы вам такие доводы,
которые убедили бы милость вашу, насколько вы ошибаетесь в том, что
говорите.
-- Как могу я ошибаться в том, что говорю, сомневающийся предатель,--
воскликнул Дон Кихот. -- Скажи мне, не видишь ты, что ли, рыцаря, едущего
нам навстречу верхом на сером в яблоках коне, а на голове у него золотой
шлем?
-- То, что я вижу и могу различить,-- ответил Санчо, -- это человек
верхом на сером осле, как и мой, а на голове у него что-то блестящее.
-- Но ведь это-то и есть шлем Мамбрино, -- сказал Дон Кихот. --
Отъезжай в сторону и оставь меня одного с ним, и увидишь, как я, не говоря
ни слова, чтобы сберечь время, кончу это приключение и овладею столь
вожделенным мною шлемом.
-- Отъехать в сторону -- моя забота, -- сказал Санчо, -- но дай бог,
повторю я снова, чтоб это оказался душистый майоран {Санчо намекает на
старинную испанскую пословицу: "Дай бог, чтоб это был бы душистый майоран и
он не превратился бы в полевой тмин".}, а не валяльные мельницы.
-- Я уже говорил тебе, брат, чтоб ты даже и мысленно не напоминал мне о
деле с валяльными мельницами, -- сказал Дон Кихот, -- иначе, клянусь, я
ничего больше не скажу, а изваляю тебе душу в теле.
Санчо замолчал, опасаясь, чтобы господин его не исполнил угрозы,
которую он ему бросил в лицо, словно мяч.
Что же касается шлема, коня и рыцаря, усмотренных Дон Кихотом, дело
обстояло следующим образом: в той окрестности было два села и одно из них
такое маленькое, что там не было ни аптеки, ни цирюльника; в соседнем же
селе было и то и другое; итак, цирюльник большого села обслуживал меньшее,
где одному больному нужно было пустить кровь, а другому побрить бороду. Для
этого-то и ехал цирюльник и вез с собой медный таз для бритья. Но как раз в
это самое время по воле судьбы пошел дождик, и, чтобы не испортилась его,
должно быть, новая шляпа, цирюльник надел себе на голову таз, а так как он
был хорошо вычищен, то и блестел на расстоянии полмили. Цирюльник ехал на
сером осле, как и сказал Санчо, а Дон Кихоту представилась и серая в яблоках
лошадь, и рыцарь, и золотой шлем, потому что все, что попадалось ему на
глаза, он с необычайной легкостью приурочивал к своему бреду о рыцарстве и к
странным своим фантазиям.
Увидав, что бедный всадник приближается, Дон Кихот, не обменявшись с
ним ни словом, устремился на него во весь карьер Росинанта с поднятым копьем
и с намерением проткнуть им его насквозь. Когда же он совсем близко подъехал
к нему, Дон Кихот, не умеряя ярости своего натиска, крикнул:
-- Защищайся, презренное созданье, или же отдай добровольно то, что
принадлежит мне по праву.
Цирюльник, ехавший ни о чем не думая и ничего не опасаясь, увидав
привидение, которое неслось ему навстречу, не нашел другого средства
избежать удара копьем, как свалиться с осла, и, едва коснувшись земли, он
поднялся легче серны и пустился бежать по полю с такой быстротой, что его не
догнал бы и ветер. Таз, упавший с его головы, остался лежать на земле, чем
Дон Кихот и удовлетворился, говоря, что бежавший язычник поступил умно и
подражал примеру бобра, который, видя, что его преследуют охотники,
откусывает собственными зубами то, ради чего, как ему подсказывает его
природный инстинкт, его преследуют. Дон Кихот велел Санчо поднять шлем, и
тот, взяв его в руки, сказал:
-- Ей-богу, превосходный таз для бритья, и стоит он восемь реалов, как
один мараведис {Мелкая испанская монета -- грош, полушка.}.
Затем он передал таз своему господину, который сейчас же надел его на
голову, и, повертывая то в ту, то в другую сторону, отыскивал забрало, но,
не найдя его, он сказал:
-- Наверное язычник, для которого впервые был выкован этот знаменитый
шлем, имел громадную голову; а хуже всего то, что недостает половины шлема.
Когда Санчо услышал, что Дон Кихот называет таз для бритья шлемом, он
не мог удержаться от смеха, но, вспомнив гнев своего господина, тотчас же
остановился.
-- Над чем ты смеешься, Санчо? -- спросил Дон Кихот.
-- Я смеюсь, -- ответил Санчо, -- думая о том, какую большую голову
должен был иметь язычник, которому принадлежал этот шлем, точь-в-точь
похожий на тазик цирюльника.
-- Знаешь ли что, Санчо? Мне кажется, что этот знаменитый, очарованный
шлем по какой-нибудь странной случайности попал в руки человеку, который не
сумел ни понять его ценности, ни судить о ней, и, не ведая, что творит,
увидав, что шлем из чистейшего золота, вероятно, расплавил одну половину,
чтобы выручить ее стоимость, а из другой половины сделал это вот, столь
похожее на тазик для бритья, как ты говоришь. Но что бы то ни было, для
меня, узнавшего этот шлем, превращение его неважно, так как в первом же
местечке, где найдется кузнец, я поправлю его, и поправлю таким образом, что
его не только не превзойдет, но даже и не сравнится с ним тот шлем, который
был выкован богом кузнечного дела для бога войны {Оружие, выкованное
Вулканом для Марса.}. А до тех пор буду носить его хоть таким, потому что
лучше что-нибудь, чем ничего; тем более что в теперешнем своем виде он
вполне может защитить меня от удара камнем.
-- Пожалуй, что так, -- сказал Санчо, -- если только не будут бросать
камней пращою, как это было в стычке двух войск, когда вашей милости вышибли
коренные зубы и сломали посудину, где хранился тот благословенный напиток,
от которого меня вырвало всеми моими внутренностями.
-- Я не очень-то жалею об этой потере, -- сказал Дон Кихот, -- ведь ты,
Санчо, знаешь, что я храню рецепт бальзама у себя в памяти.
-- И я тоже храню его в памяти,-- ответил Санчо, -- но если я
когда-либо изготовлю его или возьму в рот, пусть настанет последний час моей
жизни! Тем более что я не намерен ставить себя в такое положение, чтобы
нуждаться в нем, так как я с помощью всех пяти моих чувств постараюсь и себя
оберегать от ран, и никому не наносить их. А о том, что меня еще раз могут
подбросить на одеяле, я ничего не скажу; такого рода неприятности трудно
предупредить, и, случись они, ничего другого не остается, как только
хорошенько втянуть в себя плечи, задержать дыхание, закрыть глаза и
предоставить себя судьбе и одеялу, куда бы они ни привели вас.
-- Ты плохой христианин, Санчо,-- сказал, услыхав это, Дон Кихот, --
ибо ты никогда не забываешь обиды, которую нанесли тебе. Но знай, что
благородному и великодушному сердцу несвойственно обращать внимание на
пустяки. Стал ты хромать, что ли, или тебе переломали ребра, или разбили
голову, что ты не можешь забыть этой шутки? Ведь если хорошенько разобрать
дело, ясно, что это была лишь шутка и забава; прими я это иначе, то давно бы
уже вернулся туда и, чтобы отомстить за тебя, наделал бы больше бед, чем
наделали их греки, мстя за похищение Елены, которая -- если бы она жила в
наши дни или моя Дульсинея в то время, -- наверное, не славилась бы так
своей красотой, как она теперь славится ею.
И с этими словами Дон Кихот испустил вздох, послав его к небесам. А
Санчо сказал:
-- Пусть все это сойдет за шутку, так как отомстить в действительности
нельзя. Но я знаю, какого качества была и шутка и действительность, и знаю
также, что и то и другое не изгладится из моей памяти, как и не снимется с
моих плеч. Но, в сторону это, а скажите мне, ваша милость, что нам делать с
серым в яблоках конем, столь похожим на серого осла, которого тот Мартино,
вышибленный вашей милостью из седла, оставил здесь на произвол судьбы? Судя
по тому, как он задал стрекача и пустился наутек, навряд ли он когда-нибудь
вернется за своим ослом, а, клянусь моей бородой, осел этот очень недурен.
-- Не в моих обычаях, -- ответил Дон Кихот, -- обирать тех, кого я
побеждаю, и не в правилах рыцарства отнимать у них коней и оставлять их
пешими, разве только в случае, когда победитель лишился в битве собственного
коня; тогда лишь ему разрешается присвоить себе лошадь побежденного в
качестве законной военной добычи; так что, Санчо, оставь этого коня, или
осла, или чем бы ты ни желал его считать, потому что, лишь только хозяин его
увидит, что мы удалились отсюда, он вернется за ним.
-- Богу известно, как охотно я взял бы его с собой, -- сказал Санчо, --
или, по крайней мере, обменял бы его на моего осла, который мне кажется не
таким хорошим. Вот уж верно, что законы рыцарства стеснительны, так как они
не дают простора даже для обмена одного осла на другого; но я желал бы
знать, нельзя ли мне обменять хоть сбрую?
-- Относительно этого я не совсем уверен, -- ответил Дон Кихот, -- а в
виду моего сомнения, пока я не буду лучше осведомлен, пожалуй, обменяй
сбрую, если в ней для тебя крайность.
-- Такая крайность, -- сказал Санчо, -- что, если бы сбруя
предназначалась лично для меня, и тогда она не могла бы мне быть нужнее.
Воспользовавшись тотчас же данным ему разрешением, Санчо устроил
mutatio capparum {Mutatio capparum (лат.) -- перемена облачения римских
епископов и кардиналов, ежегодная церемония, происходившая на Пасху, когда
все зимние меховые облачения менялись на шелковые.} и так роскошно вырядил
своего осла, что он оказался куда красивее прежнего. После этого господин и
слуга позавтракали остатками припасов, взятых с вьючного мула
священнослужителей, и напились воды из ручья, протекавшего близ валяльных
мельниц, на которые они не оглянулись, так велико было их отвращение к этим
мельницам из-за страха, на них нагнанного ими. Позабыв свой гнев и даже свою
грусть, они сели верхом и, не следуя по определенной дороге (потому что
заранее выбирать определенную дорогу было не в обычае у странствующих
рыцарей), поехали туда, куда вздумалось Росинанту, руководившему волей
своего господина, а также и осла, который всегда в добром согласии и дружбе
следовал за ним всюду, куда бы он его ни повел. Тем не менее они очутились
снова на большой дороге и ехали по ней наугад, без всякого определенного
намерения. Пока они так ехали, Санчо сказал своему господину:
-- Сеньор, не разрешите ли вы мне, ваша милость, немного поболтать с
вами, потому что, с тех пор как вы наложили на меня строгий запрет молчания,
у меня внутри сгнило более четырех вещей и теперь на кончике языка вертится
одна, которую мне бы не хотелось погубить даром.
-- Скажи ее, -- разрешил Дон Кихот, -- и будь краток в твоей речи, так
как никакая речь -- если она длинна -- не может доставить удовольствия.
-- Итак, я скажу, сеньор, -- ответил Санчо, -- что вот уже несколько
дней я размышляю над тем, как мало можно приобрести и выиграть, отправляясь
в поиски за приключениями, подобными тем, которые отыскивает ваша милость по
этим пустынным местностям и перекресткам дорог, где, если и удастся одержать
победу и преодолеть самые большие опасности, никто этого не увидит и не
узнает, и, таким образом, ваши подвиги останутся навеки в забвении, к ущербу
намерениям вашей милости и того, чего они заслуживают. Поэтому, мне кажется,
было бы лучше (разве только ваша милость рассудит иначе), чтобы мы
отправились к какому-нибудь императору или другому великому принцу, ведущему
войну. На службе у него ваша милость могла бы выказать личные свои
достоинства -- необычайную силу и еще большую прозорливость своего ума.
Увидав все это, государь, которому мы будем служить, должен будет
волей-неволей наградить нас каждого по заслугам, и там наверное найдется
кто-нибудь, кто опишет подвиги вашей милости, чтобы память о них сохранилась
на вечные времена. О своих подвигах не говорю ничего, потому что они не
должны переходить за пределы службы оруженосца, хотя могу сказать, что если
в обычаях рыцарства описывать также и подвиги оруженосцев, не думаю, чтобы
не сообщили и о моих.
-- Ты рассуждаешь недурно, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- но до того
времени нужно странствовать по свету как бы для испытания, в поисках за
приключениями, и успешно справившись с некоторыми из них, приобрести такое
имя и такую славу, чтобы рыцарь, явившись ко двору какого-нибудь великого
монарха, был уже известен своими подвигами. Тогда мальчики, едва увидев его
въезжающим в городские ворота, все побегут за ним, окружат его и закричат:
"Вот он, Рыцарь Солнца, или Рыцарь Змей, или какой-нибудь другой эмблемы,
под которой он совершал великие свои подвиги. Вот тот, скажут они, кто
победил в поединке столь могучего великана Брокабруно; тот, кто сумел с
великого Мамелюка Персии снять чары, в которых он томился девятьсот лет".
Так из уст в уста будут прославлять его подвиги, и тотчас на крик мальчиков
и остального народа появится у окна королевского дворца сам король того
королевства. И лишь только он увидит рыцаря, узнав его по его доспехам или
по девизу на щите, он не преминет воскликнуть: "Эй вы, все рыцари моего
двора, выходите встречать цвет рыцарства, явившийся к нам!" Услыхав его
приказ, все выбегут, и сам король сойдет до середины лестницы, крепко-крепко
обнимет приезжего, приветствуя его поцелуем в уста, и тотчас же поведет за
руку в покои сеньоры королевы, где рыцарь увидит ее с инфантой, ее дочерью,
которая должна быть одной из самых прекрасных и одаренных такими
совершенствами девушкой, какую лишь с величайшим трудом можно найти на всем
пространстве земного шара. И тут же немедленно случится, что она вскинет
глаза на рыцаря, а он -- на нее, и каждый из них явится перед другим скорее
божественным, чем земным существом. Не зная как и почему, они окажутся
пойманными и запутанными в нерасторгаемых сетях любви, и сердца их
наполнятся великой тревогой, потому что они не будут знать, как им говорить,
чтобы друг другу открыть свои чувства и муки. Из покоя королевы рыцаря
поведут, наверное, в какую-нибудь богато убранную комнату дворца, где, сняв
с него доспехи, принесут ему роскошную алую епанчу, которую он накинет на
себя; и если он был красив в доспехах, таким же и еще лучше будет он
казаться в камзоле. По наступлении ночи рыцарь сядет ужинать с королем,
королевой и инфантой, с которой он не спустит глаз и будет смотреть на нее
украдкой от окружающих, а инфанта сделает то же самое и с той же
осторожностью, потому что, как я уже говорил, она очень рассудительна и
умна. Лишь только уберут со стола, неожиданно войдет в зал маленький,
уродливый карлик с прекрасной дуэньей, которая шествует за ним между двумя
великанами и предлагает какое-нибудь предприятие, задуманное древнейшим
мудрецом, с тем что, кто успешно доведет это дело до конца, будет признан
лучшим рыцарем в целом мире. Король тотчас же прикажет, чтобы все
присутствующие рыцари испытали свои силы, но никто из них не сумеет
выполнить и окончить этого дела, исключая лишь приезжего рыцаря, что
послужит еще к большему возвеличению его славы и сильно обрадует инфанту:
она сочтет себя счастливой и вполне вознагражденной за то, что остановила и
сосредоточила свои помыслы на столь возвышенном предмете. Лучше же всего то,
что этот король, или принц, или кто бы он ни был ведет упорную войну с
другим, таким же могущественным, как и он, а приезжий рыцарь (по истечении
нескольких дней, проведенных им во дворце) просит у него разрешения служить
ему в этой войне. Король с величайшей охотой дает ему разрешение, рыцарь
вежливо целует ему руку за оказанную милость. В туже ночь прощается он со
своей сеньорой инфантой у решетки сада, куда выходят окна ее спальни и где
он много раз уже говорил с нею, причем посредницей и доверенным лицом была
девушка, на которую инфанта вполне полагается. Он вздыхает, она падает в
обморок, девушка бежит за водой; она очень волнуется, потому что настает
утро, и, оберегая честь своей госпожи, боится, чтобы их не накрыли. Наконец
инфанта приходит в себя, протягивает рыцарю сквозь решетку белые свои руки;
он целует их тысячу и тысячу раз и омывает слезами. Они уславливаются, каким
образом давать друг другу знать о счастливых или несчастных событиях своей
жизни; принцесса умоляет рыцаря вернуться как можно скорей; он ей это
обещает со многими клятвами; снова целует ей руки и прощается с таким горем
на душе, что едва тут же не расстается с жизнью. Затем он идет к себе в
комнату; бросается на постель; не может заснуть из-за тоски от разлуки;
встает рано утром; идет прощаться с королем, королевой и инфантой; король и
королева, прощаясь с ним, говорят, что сеньора инфанта нездорова и не может
принять посетителей. Рыцарь думает, что она заболела от горя вследствие
разлуки с ним; он взволнован до глубины души и чуть не обнаруживает, как
сильно он терзается. Девушка-посредница присутствует при этом; она все
подмечает; идет пересказать обо всем своей сеньоре, которая слушает ее со
слезами и говорит, что одно из величайших ее огорчений -- неведение, кто ее
рыцарь и королевского ли он происхождения или нет. Прислужница девушка
уверяет инфанту, что столько учтивости, благородства и мужества, какими
обладает ее рыцарь, могут встретиться только у человека знатного
королевского рода. Горюющая принимает это утешение и старается казаться
веселой, чтобы не возбудить подозрений в своих родителях, и по истечении
двух дней появляется всюду. Рыцарь уже уехал; он сражается на войне,
побеждает врагов короля, завоевывает много городов, торжествует во многих
битвах, возвращается ко двору, видится с инфантой на прежнем условленном
месте, и они сговариваются, чтобы в награду за свои подвиги он просил у
короля ее себе в жены. Король не соглашается отдать ее замуж за рыцаря,
потому что не знает, кто он такой, но тем не менее, похитит ли он ее, или
каким-нибудь иным образом, инфанта становится его женой, и отец ее со
временем считает это за великое счастье, так как выясняется, что рыцарь --
сын могущественного короля, не знаю какого королевства, думаю, что оно,
должно быть, не занесено на карту. Король умирает; инфанта наследует
престол, словом, рыцарь делается королем. Тут-то немедленно он осыпает
щедротами своего оруженосца и всех тех, кто ему помог достигнуть столь
высокого положения. Оруженосца своего он женит на девушке инфанты, на той,
конечно, которая была посредницей их любви, а она дочь знатного герцога.
-- Этого я и желаю, эта игра как раз мне на руку, -- воскликнул Санчо,
-- и я буду придерживаться ее, потому что все точь-в-точь должно случиться с
вашей милостью под прозвищем Рыцаря Печального Образа.
-- Не сомневайся в этом, Санчо,-- ответил Дон Кихот, -- потому что
таким же способом и по тем же ступеням, которые я описал тебе, странствующие
рыцари поднимаются и поднимались до сана королей и императоров. Теперь нужно
лишь одно: узнать, кто из королей, христианских или языческих, ведет войну и
имеет красавицу дочь; но времени у нас достаточно подумать об этом, потому
что, как я уже говорил тебе, прежде чем явиться ко двору, надо сперва
приобрести славу в других местах. Мне недостает и еще одной вещи: так как,
предположив, что нашелся король, ведущий войну и имеющий красавицу дочь и
что я приобрел неимоверную славу во всей вселенной, я все же не знаю, как
могло бы оказаться, что я королевского рода или по меньшей мере, троюродный
брат какого-нибудь императора; потому что король не захочет отдать мне свою
дочь в жены, пока он сначала не удостоверится в этом, и тут никакие громкие
подвиги мне не помогут. Итак, из-за этой недохватки, я боюсь потерять все,
что заслужил доблестью руки своей. Правда, что я -- идальго известной
фамилии, имею собственность и землю, вправе требовать за обиду
вознаграждения в пятьсот суэльдос {По древнему испанскому закону за обиду,
нанесенную идальго -- его личности, чести или имуществу, -- платили штраф в
пятьсот суэльдос. За обиду, нанесенную простолюдину, он -- судя по
занимаемому им положению -- получал меньшую сумму.}, и может случиться, что
мудрец, которому предстоит написать мою историю, так разъяснит родство мое и
происхождение, что я окажусь в пятом или шестом колене внуком короля. Ты
должен знать, Санчо, что происхождение и родословная бывают двоякого рода:
одни происходят и ведут свой род от принцев и монархов, но мало-помалу время
приводит их род к упадку, и он кончается точкой, подобно пирамиде; другие же
берут начало от предков-простолюдинов, но поднимаются со ступеньки на
ступеньку выше и выше, пока не сделаются знатными вельможами; так что
разница состоит в том, что одни перестали быть тем, чем были прежде, а
другие стали тем, чем они не были. И могло бы случиться, что и я принадлежу
к числу тех, род которых был велик и славен; оно так и окажется после
внимательной проверки, а тогда король, будущий тесть мой, должен
удовлетвориться этим. Если же он не удовлетворится, инфанта полюбит меня так
пламенно, что наперекор воле отца изберет своим супругом и повелителем, хотя
бы она достоверно знала, что я сын водовоза. Если же нет, -- в таком случае
придется похитить ее и увезти, куда мне вздумается, так как время или смерть
должны же положить конец гневу ее родителей.
-- Сюда подходит также и то, -- сказал Санчо, -- что говорят некоторые
повесы: "Не проси, как милости, того, что можешь взять силой", хотя было бы
еще более кстати сказать: "Лучше скачок через забор, чем молитва добрых
людей". Говорю это к тому, что, если бы сеньор король -- тесть вашей милости
-- не захотел бы снизойти и отдать вам сеньору инфанту, только и остается,
как говорит ваша милость, похитить ее и увезти куда-нибудь. Но беда в том,
что, пока вы не помиритесь с родителями и не будете в состоянии наслаждаться
своим королевством, несчастный оруженосец останется на бобах по части
награды, разве только девушка-посредница, которая должна стать его женой,
убежит вместе с инфантой и он будет делить с нею свои дни невзгод, пока
наконец небо не распорядится иначе; так как, я думаю, господин оруженосца
может тотчас же отдать ее ему в законные супруги.
-- Этому никто не может воспрепятствовать, -- сказал Дон Кихот.
-- В таком случае, -- ответил Санчо,-- нам ничего не остается, как
только предать себя в руки Божьи и предоставить судьбе вести нас, куда ей
вздумается.
-- Да пошлет нам бог, -- сказал Дон Кихот, -- и то, чего я желаю, и то,
что тебе, Санчо, нужно, и пусть будет ничтожным тот, кто считает себя
ничтожным.
-- С богом, -- сказал Санчо. -- Я же старый христианин, и, чтобы быть
графом, этого совершенно достаточно.
-- Более чем достаточно, -- подтвердил Дон Кихот. -- А если б ты и не
был старым христианином, невелика беда, так как, будучи королем, я легко
могу пожаловать тебе дворянство, и тебе не надо ни покупать его, ни получать
его за заслуги; потому что, если я тебя возведу в графы, тем самым ты
мгновенно станешь кабальеро, и пусть себе говорят, что хотят, но, по чести,
как бы они ни досадовали, придется им называть тебя "ваша милость".
-- Поверьте, -- сказал Санчо, -- что я сумею, как следует, поддержать
свой дитул.
-- Титул, должен ты сказать, а не дитул, -- поправил его господин.
-- Пусть так, -- ответил Санчо, -- я говорю, что знаю, как себя вести,
потому что, клянусь жизнью, я был некоторое время церковным сторожем при
одном братстве, и одежда сторожа так шла ко мне, что все говорили, будто я
по осанке своей мог бы быть старшиной того же братства. А что же будет, если
я накину на плечи герцогскую мантию или оденусь в золото и жемчуг, по обычаю
иностранных графов? Не сомневаюсь, что придут за сто миль смотреть на меня.
-- Вид у тебя будет недурной, -- сказал Дон Кихот, -- но придется тебе
часто брить бороду, потому что она у тебя такая густая, всклокоченная и
нечесаная, что, если ты не будешь отдавать ее по крайней мере каждые два дня
под бритву, -- уже на расстоянии ружейного выстрела видно будет, кто ты
такой.
-- Ничего больше не остается сделать, -- сказал Санчо, -- как только
взять цирюльника и держать его в доме у себя на жалованье и даже, если бы
оказалось нужным, заставить его следовать за собой, как штальмейстер следует
за большим вельможей.
-- А почему ты знаешь, -- спросил его Дон Кихот, -- что за большим
вельможей следует штальмейстер?
-- Сейчас скажу вам, -- ответил Санчо. -- Несколько лет тому назад я
пробыл месяц в столице, и там я видел, как прогуливался очень маленький
господин, про которого говорили, что он очень большой сеньор, а позади него,
всюду, куда бы он ни поворачивал, следовал человек верхом, так что казалось,
точно он его хвост. Я спросил, почему этот человек не едет рядом с другим, а
всегда позади него, и мне ответили: это штальмейстер, и у больших вельмож в
обычае водить за собой подобного рода людей. С тех пор я так хорошо это
запомнил, что никогда не забываю.
-- Признаться, ты прав, -- сказал Дон Кихот, -- и точно также и ты
можешь водить за собой цирюльника, потому что обычаи явились не все вместе и
были придуманы не сразу, и ты можешь быть первым графом, за которым будет
всюду следовать его цирюльник; к тому же бритье бороды -- дело, требующее
больше доверия, чем седлание лошади.
-- Заботу о цирюльнике предоставьте мне, -- сказал Санчо, -- а вы,
милость ваша, позаботьтесь сделаться королем и меня возвести в графы.
-- Да будет так, -- ответил Дон Кихот и, подняв глаза, увидел то, о чем
мы услышим в следующей главе.
[1] Волшебный шлем сарацинского короля Мамбрино, делавший неуязвимым
того, кто его носил.
В это время стал накрапывать небольшой дождик, и Санчо хотел было
укрыться от него в валяльных мельницах, но Дон Кихот, вследствие недавней
жестокой шутки, чувствовал такое отвращение к ним, что наотрез отказался
идти туда. Итак, свернув вправо, они выехали на другую дорогу, сходную с
той, по которой ехали накануне. Вскоре Дон Кихот заметил всадника, на голове
которого было что-то блестевшее, точно золото, и едва он увидел его, как
обернулся к Санчо и сказал:
-- Мне кажется, Санчо, что нет пословицы, которая не заключала бы в
себе истины, потому что все они -- изречения, почерпнутые из самого опыта,
этого родоначальника всех наук; в особенности же справедлива пословица
гласящая: "Где закрывается одна дверь, открывается другая". Говорю это
потому, что, если сегодняшней ночью судьба закрыла перед нами дверь
приключения, которого мы искали, и ввела нас в обман с валяльными
мельницами, теперь она растворяет перед нами настежь дверь к другому,
лучшему и более надежному приключению, и если я не сумею войти в эту дверь,
вина будет моя, и мне нельзя будет приписать ее ни малому знанию валяльных
мельниц, ни темноте ночной. Говорю это потому, что, если я не ошибаюсь, нам
навстречу едет человек со шлемом Мамбрино на голове, с тем самым шлемом,
ради которого я дал известную тебе клятву.
-- Обдумайте хорошенько, ваша милость, что вы говорите, и еще больше
то, что вы делаете, -- сказал Санчо, -- так как я не желал бы, чтобы явились
новые валяльные мельницы, которые окончательно изваляли бы нас и отшибли бы
у нас всякое соображение.
-- Черт побери этого человека,-- воскликнул Дон Кихот,-- что общего
между шлемом и валяльными мельницами?
-- Ничего не знаю, -- ответил Санчо, -- но, по чести, если б я мог так
много говорить, как прежде, быть может, я привел бы вам такие доводы,
которые убедили бы милость вашу, насколько вы ошибаетесь в том, что
говорите.
-- Как могу я ошибаться в том, что говорю, сомневающийся предатель,--
воскликнул Дон Кихот. -- Скажи мне, не видишь ты, что ли, рыцаря, едущего
нам навстречу верхом на сером в яблоках коне, а на голове у него золотой
шлем?
-- То, что я вижу и могу различить,-- ответил Санчо, -- это человек
верхом на сером осле, как и мой, а на голове у него что-то блестящее.
-- Но ведь это-то и есть шлем Мамбрино, -- сказал Дон Кихот. --
Отъезжай в сторону и оставь меня одного с ним, и увидишь, как я, не говоря
ни слова, чтобы сберечь время, кончу это приключение и овладею столь
вожделенным мною шлемом.
-- Отъехать в сторону -- моя забота, -- сказал Санчо, -- но дай бог,
повторю я снова, чтоб это оказался душистый майоран {Санчо намекает на
старинную испанскую пословицу: "Дай бог, чтоб это был бы душистый майоран и
он не превратился бы в полевой тмин".}, а не валяльные мельницы.
-- Я уже говорил тебе, брат, чтоб ты даже и мысленно не напоминал мне о
деле с валяльными мельницами, -- сказал Дон Кихот, -- иначе, клянусь, я
ничего больше не скажу, а изваляю тебе душу в теле.
Санчо замолчал, опасаясь, чтобы господин его не исполнил угрозы,
которую он ему бросил в лицо, словно мяч.
Что же касается шлема, коня и рыцаря, усмотренных Дон Кихотом, дело
обстояло следующим образом: в той окрестности было два села и одно из них
такое маленькое, что там не было ни аптеки, ни цирюльника; в соседнем же
селе было и то и другое; итак, цирюльник большого села обслуживал меньшее,
где одному больному нужно было пустить кровь, а другому побрить бороду. Для
этого-то и ехал цирюльник и вез с собой медный таз для бритья. Но как раз в
это самое время по воле судьбы пошел дождик, и, чтобы не испортилась его,
должно быть, новая шляпа, цирюльник надел себе на голову таз, а так как он
был хорошо вычищен, то и блестел на расстоянии полмили. Цирюльник ехал на
сером осле, как и сказал Санчо, а Дон Кихоту представилась и серая в яблоках
лошадь, и рыцарь, и золотой шлем, потому что все, что попадалось ему на
глаза, он с необычайной легкостью приурочивал к своему бреду о рыцарстве и к
странным своим фантазиям.
Увидав, что бедный всадник приближается, Дон Кихот, не обменявшись с
ним ни словом, устремился на него во весь карьер Росинанта с поднятым копьем
и с намерением проткнуть им его насквозь. Когда же он совсем близко подъехал
к нему, Дон Кихот, не умеряя ярости своего натиска, крикнул:
-- Защищайся, презренное созданье, или же отдай добровольно то, что
принадлежит мне по праву.
Цирюльник, ехавший ни о чем не думая и ничего не опасаясь, увидав
привидение, которое неслось ему навстречу, не нашел другого средства
избежать удара копьем, как свалиться с осла, и, едва коснувшись земли, он
поднялся легче серны и пустился бежать по полю с такой быстротой, что его не
догнал бы и ветер. Таз, упавший с его головы, остался лежать на земле, чем
Дон Кихот и удовлетворился, говоря, что бежавший язычник поступил умно и
подражал примеру бобра, который, видя, что его преследуют охотники,
откусывает собственными зубами то, ради чего, как ему подсказывает его
природный инстинкт, его преследуют. Дон Кихот велел Санчо поднять шлем, и
тот, взяв его в руки, сказал:
-- Ей-богу, превосходный таз для бритья, и стоит он восемь реалов, как
один мараведис {Мелкая испанская монета -- грош, полушка.}.
Затем он передал таз своему господину, который сейчас же надел его на
голову, и, повертывая то в ту, то в другую сторону, отыскивал забрало, но,
не найдя его, он сказал:
-- Наверное язычник, для которого впервые был выкован этот знаменитый
шлем, имел громадную голову; а хуже всего то, что недостает половины шлема.
Когда Санчо услышал, что Дон Кихот называет таз для бритья шлемом, он
не мог удержаться от смеха, но, вспомнив гнев своего господина, тотчас же
остановился.
-- Над чем ты смеешься, Санчо? -- спросил Дон Кихот.
-- Я смеюсь, -- ответил Санчо, -- думая о том, какую большую голову
должен был иметь язычник, которому принадлежал этот шлем, точь-в-точь
похожий на тазик цирюльника.
-- Знаешь ли что, Санчо? Мне кажется, что этот знаменитый, очарованный
шлем по какой-нибудь странной случайности попал в руки человеку, который не
сумел ни понять его ценности, ни судить о ней, и, не ведая, что творит,
увидав, что шлем из чистейшего золота, вероятно, расплавил одну половину,
чтобы выручить ее стоимость, а из другой половины сделал это вот, столь
похожее на тазик для бритья, как ты говоришь. Но что бы то ни было, для
меня, узнавшего этот шлем, превращение его неважно, так как в первом же
местечке, где найдется кузнец, я поправлю его, и поправлю таким образом, что
его не только не превзойдет, но даже и не сравнится с ним тот шлем, который
был выкован богом кузнечного дела для бога войны {Оружие, выкованное
Вулканом для Марса.}. А до тех пор буду носить его хоть таким, потому что
лучше что-нибудь, чем ничего; тем более что в теперешнем своем виде он
вполне может защитить меня от удара камнем.
-- Пожалуй, что так, -- сказал Санчо, -- если только не будут бросать
камней пращою, как это было в стычке двух войск, когда вашей милости вышибли
коренные зубы и сломали посудину, где хранился тот благословенный напиток,
от которого меня вырвало всеми моими внутренностями.
-- Я не очень-то жалею об этой потере, -- сказал Дон Кихот, -- ведь ты,
Санчо, знаешь, что я храню рецепт бальзама у себя в памяти.
-- И я тоже храню его в памяти,-- ответил Санчо, -- но если я
когда-либо изготовлю его или возьму в рот, пусть настанет последний час моей
жизни! Тем более что я не намерен ставить себя в такое положение, чтобы
нуждаться в нем, так как я с помощью всех пяти моих чувств постараюсь и себя
оберегать от ран, и никому не наносить их. А о том, что меня еще раз могут
подбросить на одеяле, я ничего не скажу; такого рода неприятности трудно
предупредить, и, случись они, ничего другого не остается, как только
хорошенько втянуть в себя плечи, задержать дыхание, закрыть глаза и
предоставить себя судьбе и одеялу, куда бы они ни привели вас.
-- Ты плохой христианин, Санчо,-- сказал, услыхав это, Дон Кихот, --
ибо ты никогда не забываешь обиды, которую нанесли тебе. Но знай, что
благородному и великодушному сердцу несвойственно обращать внимание на
пустяки. Стал ты хромать, что ли, или тебе переломали ребра, или разбили
голову, что ты не можешь забыть этой шутки? Ведь если хорошенько разобрать
дело, ясно, что это была лишь шутка и забава; прими я это иначе, то давно бы
уже вернулся туда и, чтобы отомстить за тебя, наделал бы больше бед, чем
наделали их греки, мстя за похищение Елены, которая -- если бы она жила в
наши дни или моя Дульсинея в то время, -- наверное, не славилась бы так
своей красотой, как она теперь славится ею.
И с этими словами Дон Кихот испустил вздох, послав его к небесам. А
Санчо сказал:
-- Пусть все это сойдет за шутку, так как отомстить в действительности
нельзя. Но я знаю, какого качества была и шутка и действительность, и знаю
также, что и то и другое не изгладится из моей памяти, как и не снимется с
моих плеч. Но, в сторону это, а скажите мне, ваша милость, что нам делать с
серым в яблоках конем, столь похожим на серого осла, которого тот Мартино,
вышибленный вашей милостью из седла, оставил здесь на произвол судьбы? Судя
по тому, как он задал стрекача и пустился наутек, навряд ли он когда-нибудь
вернется за своим ослом, а, клянусь моей бородой, осел этот очень недурен.
-- Не в моих обычаях, -- ответил Дон Кихот, -- обирать тех, кого я
побеждаю, и не в правилах рыцарства отнимать у них коней и оставлять их
пешими, разве только в случае, когда победитель лишился в битве собственного
коня; тогда лишь ему разрешается присвоить себе лошадь побежденного в
качестве законной военной добычи; так что, Санчо, оставь этого коня, или
осла, или чем бы ты ни желал его считать, потому что, лишь только хозяин его
увидит, что мы удалились отсюда, он вернется за ним.
-- Богу известно, как охотно я взял бы его с собой, -- сказал Санчо, --
или, по крайней мере, обменял бы его на моего осла, который мне кажется не
таким хорошим. Вот уж верно, что законы рыцарства стеснительны, так как они
не дают простора даже для обмена одного осла на другого; но я желал бы
знать, нельзя ли мне обменять хоть сбрую?
-- Относительно этого я не совсем уверен, -- ответил Дон Кихот, -- а в
виду моего сомнения, пока я не буду лучше осведомлен, пожалуй, обменяй
сбрую, если в ней для тебя крайность.
-- Такая крайность, -- сказал Санчо, -- что, если бы сбруя
предназначалась лично для меня, и тогда она не могла бы мне быть нужнее.
Воспользовавшись тотчас же данным ему разрешением, Санчо устроил
mutatio capparum {Mutatio capparum (лат.) -- перемена облачения римских
епископов и кардиналов, ежегодная церемония, происходившая на Пасху, когда
все зимние меховые облачения менялись на шелковые.} и так роскошно вырядил
своего осла, что он оказался куда красивее прежнего. После этого господин и
слуга позавтракали остатками припасов, взятых с вьючного мула
священнослужителей, и напились воды из ручья, протекавшего близ валяльных
мельниц, на которые они не оглянулись, так велико было их отвращение к этим
мельницам из-за страха, на них нагнанного ими. Позабыв свой гнев и даже свою
грусть, они сели верхом и, не следуя по определенной дороге (потому что
заранее выбирать определенную дорогу было не в обычае у странствующих
рыцарей), поехали туда, куда вздумалось Росинанту, руководившему волей
своего господина, а также и осла, который всегда в добром согласии и дружбе
следовал за ним всюду, куда бы он его ни повел. Тем не менее они очутились
снова на большой дороге и ехали по ней наугад, без всякого определенного
намерения. Пока они так ехали, Санчо сказал своему господину:
-- Сеньор, не разрешите ли вы мне, ваша милость, немного поболтать с
вами, потому что, с тех пор как вы наложили на меня строгий запрет молчания,
у меня внутри сгнило более четырех вещей и теперь на кончике языка вертится
одна, которую мне бы не хотелось погубить даром.
-- Скажи ее, -- разрешил Дон Кихот, -- и будь краток в твоей речи, так
как никакая речь -- если она длинна -- не может доставить удовольствия.
-- Итак, я скажу, сеньор, -- ответил Санчо, -- что вот уже несколько
дней я размышляю над тем, как мало можно приобрести и выиграть, отправляясь
в поиски за приключениями, подобными тем, которые отыскивает ваша милость по
этим пустынным местностям и перекресткам дорог, где, если и удастся одержать
победу и преодолеть самые большие опасности, никто этого не увидит и не
узнает, и, таким образом, ваши подвиги останутся навеки в забвении, к ущербу
намерениям вашей милости и того, чего они заслуживают. Поэтому, мне кажется,
было бы лучше (разве только ваша милость рассудит иначе), чтобы мы
отправились к какому-нибудь императору или другому великому принцу, ведущему
войну. На службе у него ваша милость могла бы выказать личные свои
достоинства -- необычайную силу и еще большую прозорливость своего ума.
Увидав все это, государь, которому мы будем служить, должен будет
волей-неволей наградить нас каждого по заслугам, и там наверное найдется
кто-нибудь, кто опишет подвиги вашей милости, чтобы память о них сохранилась
на вечные времена. О своих подвигах не говорю ничего, потому что они не
должны переходить за пределы службы оруженосца, хотя могу сказать, что если
в обычаях рыцарства описывать также и подвиги оруженосцев, не думаю, чтобы
не сообщили и о моих.
-- Ты рассуждаешь недурно, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- но до того
времени нужно странствовать по свету как бы для испытания, в поисках за
приключениями, и успешно справившись с некоторыми из них, приобрести такое
имя и такую славу, чтобы рыцарь, явившись ко двору какого-нибудь великого
монарха, был уже известен своими подвигами. Тогда мальчики, едва увидев его
въезжающим в городские ворота, все побегут за ним, окружат его и закричат:
"Вот он, Рыцарь Солнца, или Рыцарь Змей, или какой-нибудь другой эмблемы,
под которой он совершал великие свои подвиги. Вот тот, скажут они, кто
победил в поединке столь могучего великана Брокабруно; тот, кто сумел с
великого Мамелюка Персии снять чары, в которых он томился девятьсот лет".
Так из уст в уста будут прославлять его подвиги, и тотчас на крик мальчиков
и остального народа появится у окна королевского дворца сам король того
королевства. И лишь только он увидит рыцаря, узнав его по его доспехам или
по девизу на щите, он не преминет воскликнуть: "Эй вы, все рыцари моего
двора, выходите встречать цвет рыцарства, явившийся к нам!" Услыхав его
приказ, все выбегут, и сам король сойдет до середины лестницы, крепко-крепко
обнимет приезжего, приветствуя его поцелуем в уста, и тотчас же поведет за
руку в покои сеньоры королевы, где рыцарь увидит ее с инфантой, ее дочерью,
которая должна быть одной из самых прекрасных и одаренных такими
совершенствами девушкой, какую лишь с величайшим трудом можно найти на всем
пространстве земного шара. И тут же немедленно случится, что она вскинет
глаза на рыцаря, а он -- на нее, и каждый из них явится перед другим скорее
божественным, чем земным существом. Не зная как и почему, они окажутся
пойманными и запутанными в нерасторгаемых сетях любви, и сердца их
наполнятся великой тревогой, потому что они не будут знать, как им говорить,
чтобы друг другу открыть свои чувства и муки. Из покоя королевы рыцаря
поведут, наверное, в какую-нибудь богато убранную комнату дворца, где, сняв
с него доспехи, принесут ему роскошную алую епанчу, которую он накинет на
себя; и если он был красив в доспехах, таким же и еще лучше будет он
казаться в камзоле. По наступлении ночи рыцарь сядет ужинать с королем,
королевой и инфантой, с которой он не спустит глаз и будет смотреть на нее
украдкой от окружающих, а инфанта сделает то же самое и с той же
осторожностью, потому что, как я уже говорил, она очень рассудительна и
умна. Лишь только уберут со стола, неожиданно войдет в зал маленький,
уродливый карлик с прекрасной дуэньей, которая шествует за ним между двумя
великанами и предлагает какое-нибудь предприятие, задуманное древнейшим
мудрецом, с тем что, кто успешно доведет это дело до конца, будет признан
лучшим рыцарем в целом мире. Король тотчас же прикажет, чтобы все
присутствующие рыцари испытали свои силы, но никто из них не сумеет
выполнить и окончить этого дела, исключая лишь приезжего рыцаря, что
послужит еще к большему возвеличению его славы и сильно обрадует инфанту:
она сочтет себя счастливой и вполне вознагражденной за то, что остановила и
сосредоточила свои помыслы на столь возвышенном предмете. Лучше же всего то,
что этот король, или принц, или кто бы он ни был ведет упорную войну с
другим, таким же могущественным, как и он, а приезжий рыцарь (по истечении
нескольких дней, проведенных им во дворце) просит у него разрешения служить
ему в этой войне. Король с величайшей охотой дает ему разрешение, рыцарь
вежливо целует ему руку за оказанную милость. В туже ночь прощается он со
своей сеньорой инфантой у решетки сада, куда выходят окна ее спальни и где
он много раз уже говорил с нею, причем посредницей и доверенным лицом была
девушка, на которую инфанта вполне полагается. Он вздыхает, она падает в
обморок, девушка бежит за водой; она очень волнуется, потому что настает
утро, и, оберегая честь своей госпожи, боится, чтобы их не накрыли. Наконец
инфанта приходит в себя, протягивает рыцарю сквозь решетку белые свои руки;
он целует их тысячу и тысячу раз и омывает слезами. Они уславливаются, каким
образом давать друг другу знать о счастливых или несчастных событиях своей
жизни; принцесса умоляет рыцаря вернуться как можно скорей; он ей это
обещает со многими клятвами; снова целует ей руки и прощается с таким горем
на душе, что едва тут же не расстается с жизнью. Затем он идет к себе в
комнату; бросается на постель; не может заснуть из-за тоски от разлуки;
встает рано утром; идет прощаться с королем, королевой и инфантой; король и
королева, прощаясь с ним, говорят, что сеньора инфанта нездорова и не может
принять посетителей. Рыцарь думает, что она заболела от горя вследствие
разлуки с ним; он взволнован до глубины души и чуть не обнаруживает, как
сильно он терзается. Девушка-посредница присутствует при этом; она все
подмечает; идет пересказать обо всем своей сеньоре, которая слушает ее со
слезами и говорит, что одно из величайших ее огорчений -- неведение, кто ее
рыцарь и королевского ли он происхождения или нет. Прислужница девушка
уверяет инфанту, что столько учтивости, благородства и мужества, какими
обладает ее рыцарь, могут встретиться только у человека знатного
королевского рода. Горюющая принимает это утешение и старается казаться
веселой, чтобы не возбудить подозрений в своих родителях, и по истечении
двух дней появляется всюду. Рыцарь уже уехал; он сражается на войне,
побеждает врагов короля, завоевывает много городов, торжествует во многих
битвах, возвращается ко двору, видится с инфантой на прежнем условленном
месте, и они сговариваются, чтобы в награду за свои подвиги он просил у
короля ее себе в жены. Король не соглашается отдать ее замуж за рыцаря,
потому что не знает, кто он такой, но тем не менее, похитит ли он ее, или
каким-нибудь иным образом, инфанта становится его женой, и отец ее со
временем считает это за великое счастье, так как выясняется, что рыцарь --
сын могущественного короля, не знаю какого королевства, думаю, что оно,
должно быть, не занесено на карту. Король умирает; инфанта наследует
престол, словом, рыцарь делается королем. Тут-то немедленно он осыпает
щедротами своего оруженосца и всех тех, кто ему помог достигнуть столь
высокого положения. Оруженосца своего он женит на девушке инфанты, на той,
конечно, которая была посредницей их любви, а она дочь знатного герцога.
-- Этого я и желаю, эта игра как раз мне на руку, -- воскликнул Санчо,
-- и я буду придерживаться ее, потому что все точь-в-точь должно случиться с
вашей милостью под прозвищем Рыцаря Печального Образа.
-- Не сомневайся в этом, Санчо,-- ответил Дон Кихот, -- потому что
таким же способом и по тем же ступеням, которые я описал тебе, странствующие
рыцари поднимаются и поднимались до сана королей и императоров. Теперь нужно
лишь одно: узнать, кто из королей, христианских или языческих, ведет войну и
имеет красавицу дочь; но времени у нас достаточно подумать об этом, потому
что, как я уже говорил тебе, прежде чем явиться ко двору, надо сперва
приобрести славу в других местах. Мне недостает и еще одной вещи: так как,
предположив, что нашелся король, ведущий войну и имеющий красавицу дочь и
что я приобрел неимоверную славу во всей вселенной, я все же не знаю, как
могло бы оказаться, что я королевского рода или по меньшей мере, троюродный
брат какого-нибудь императора; потому что король не захочет отдать мне свою
дочь в жены, пока он сначала не удостоверится в этом, и тут никакие громкие
подвиги мне не помогут. Итак, из-за этой недохватки, я боюсь потерять все,
что заслужил доблестью руки своей. Правда, что я -- идальго известной
фамилии, имею собственность и землю, вправе требовать за обиду
вознаграждения в пятьсот суэльдос {По древнему испанскому закону за обиду,
нанесенную идальго -- его личности, чести или имуществу, -- платили штраф в
пятьсот суэльдос. За обиду, нанесенную простолюдину, он -- судя по
занимаемому им положению -- получал меньшую сумму.}, и может случиться, что
мудрец, которому предстоит написать мою историю, так разъяснит родство мое и
происхождение, что я окажусь в пятом или шестом колене внуком короля. Ты
должен знать, Санчо, что происхождение и родословная бывают двоякого рода:
одни происходят и ведут свой род от принцев и монархов, но мало-помалу время
приводит их род к упадку, и он кончается точкой, подобно пирамиде; другие же
берут начало от предков-простолюдинов, но поднимаются со ступеньки на
ступеньку выше и выше, пока не сделаются знатными вельможами; так что
разница состоит в том, что одни перестали быть тем, чем были прежде, а
другие стали тем, чем они не были. И могло бы случиться, что и я принадлежу
к числу тех, род которых был велик и славен; оно так и окажется после
внимательной проверки, а тогда король, будущий тесть мой, должен
удовлетвориться этим. Если же он не удовлетворится, инфанта полюбит меня так
пламенно, что наперекор воле отца изберет своим супругом и повелителем, хотя
бы она достоверно знала, что я сын водовоза. Если же нет, -- в таком случае
придется похитить ее и увезти, куда мне вздумается, так как время или смерть
должны же положить конец гневу ее родителей.
-- Сюда подходит также и то, -- сказал Санчо, -- что говорят некоторые
повесы: "Не проси, как милости, того, что можешь взять силой", хотя было бы
еще более кстати сказать: "Лучше скачок через забор, чем молитва добрых
людей". Говорю это к тому, что, если бы сеньор король -- тесть вашей милости
-- не захотел бы снизойти и отдать вам сеньору инфанту, только и остается,
как говорит ваша милость, похитить ее и увезти куда-нибудь. Но беда в том,
что, пока вы не помиритесь с родителями и не будете в состоянии наслаждаться
своим королевством, несчастный оруженосец останется на бобах по части
награды, разве только девушка-посредница, которая должна стать его женой,
убежит вместе с инфантой и он будет делить с нею свои дни невзгод, пока
наконец небо не распорядится иначе; так как, я думаю, господин оруженосца
может тотчас же отдать ее ему в законные супруги.
-- Этому никто не может воспрепятствовать, -- сказал Дон Кихот.
-- В таком случае, -- ответил Санчо,-- нам ничего не остается, как
только предать себя в руки Божьи и предоставить судьбе вести нас, куда ей
вздумается.
-- Да пошлет нам бог, -- сказал Дон Кихот, -- и то, чего я желаю, и то,
что тебе, Санчо, нужно, и пусть будет ничтожным тот, кто считает себя
ничтожным.
-- С богом, -- сказал Санчо. -- Я же старый христианин, и, чтобы быть
графом, этого совершенно достаточно.
-- Более чем достаточно, -- подтвердил Дон Кихот. -- А если б ты и не
был старым христианином, невелика беда, так как, будучи королем, я легко
могу пожаловать тебе дворянство, и тебе не надо ни покупать его, ни получать
его за заслуги; потому что, если я тебя возведу в графы, тем самым ты
мгновенно станешь кабальеро, и пусть себе говорят, что хотят, но, по чести,
как бы они ни досадовали, придется им называть тебя "ваша милость".
-- Поверьте, -- сказал Санчо, -- что я сумею, как следует, поддержать
свой дитул.
-- Титул, должен ты сказать, а не дитул, -- поправил его господин.
-- Пусть так, -- ответил Санчо, -- я говорю, что знаю, как себя вести,
потому что, клянусь жизнью, я был некоторое время церковным сторожем при
одном братстве, и одежда сторожа так шла ко мне, что все говорили, будто я
по осанке своей мог бы быть старшиной того же братства. А что же будет, если
я накину на плечи герцогскую мантию или оденусь в золото и жемчуг, по обычаю
иностранных графов? Не сомневаюсь, что придут за сто миль смотреть на меня.
-- Вид у тебя будет недурной, -- сказал Дон Кихот, -- но придется тебе
часто брить бороду, потому что она у тебя такая густая, всклокоченная и
нечесаная, что, если ты не будешь отдавать ее по крайней мере каждые два дня
под бритву, -- уже на расстоянии ружейного выстрела видно будет, кто ты
такой.
-- Ничего больше не остается сделать, -- сказал Санчо, -- как только
взять цирюльника и держать его в доме у себя на жалованье и даже, если бы
оказалось нужным, заставить его следовать за собой, как штальмейстер следует
за большим вельможей.
-- А почему ты знаешь, -- спросил его Дон Кихот, -- что за большим
вельможей следует штальмейстер?
-- Сейчас скажу вам, -- ответил Санчо. -- Несколько лет тому назад я
пробыл месяц в столице, и там я видел, как прогуливался очень маленький
господин, про которого говорили, что он очень большой сеньор, а позади него,
всюду, куда бы он ни поворачивал, следовал человек верхом, так что казалось,
точно он его хвост. Я спросил, почему этот человек не едет рядом с другим, а
всегда позади него, и мне ответили: это штальмейстер, и у больших вельмож в
обычае водить за собой подобного рода людей. С тех пор я так хорошо это
запомнил, что никогда не забываю.
-- Признаться, ты прав, -- сказал Дон Кихот, -- и точно также и ты
можешь водить за собой цирюльника, потому что обычаи явились не все вместе и
были придуманы не сразу, и ты можешь быть первым графом, за которым будет
всюду следовать его цирюльник; к тому же бритье бороды -- дело, требующее
больше доверия, чем седлание лошади.
-- Заботу о цирюльнике предоставьте мне, -- сказал Санчо, -- а вы,
милость ваша, позаботьтесь сделаться королем и меня возвести в графы.
-- Да будет так, -- ответил Дон Кихот и, подняв глаза, увидел то, о чем
мы услышим в следующей главе.

Глава XXII О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых
против их воли вели туда, куда у них не было желания идти
 Cид Амет бен-Енхели, арабский и Ламанчский писатель, рассказывает в
этой столь значительной, возвышенной, обстоятельной, прелестной и
замысловатой истории, что после того, как между знаменитым Дон Кихотом
Ламанчским и Санчо Пансой, его оруженосцем, произошел разговор, который был
передан в конце XXI главы, Дон Кихот поднял глаза и увидел, что по дороге,
по которой он ехал, шло пешком человек двенадцать, нанизанных за шеи, как
бусы в четках, на одну длинную железную цепь, и у всех были кандалы на
руках. С ними вместе ехали также два человека верхом, и два шли пешком; у
всадников были кремневые оружия, а у пеших -- мечи и дротики.
Как только Санчо Панса увидел их, он сказал:
-- Это цепь каторжников, невольников короля, которых отправляют на
галеры.
-- Как так невольников? -- спросил Дон Кихот. -- Возможно ли, чтобы
король обращал кого-либо в неволю?
-- Этого я не говорю, -- ответил Санчо, -- а только это люди, которые в
наказание за свои преступления осуждены служить королю на галерах.
-- Словом, -- возразил Дон Кихот,-- кто бы они ни были, люди эти идут
по принуждению, а не по доброй воле туда, куда их ведут.
-- Так оно и есть, -- ответил Санчо.
-- Следовательно, -- сказал его господин, -- мне предстоит здесь
приступить к исполнению обязанностей моего призвания -- к уничтожению
насилия, к защите и помощи несчастным.
-- Обратите внимание, ваша милость, -- сказал Санчо, -- что правосудие
-- а это все то же, что и сам король,-- не делает ни насилия, ни обиды
подобного рода людям, а только карает их в наказание за их преступления.
В это время цепь галерных невольников приблизилась, и Дон Кихот в очень
учтивых выражениях попросил сопровождавших их стражников, не будут ли они
столь обязательны изложить и сообщить ему причину или причины, почему они
ведут этих людей таким образом. Один из конных стражников ответил, что это
галерные каторжники -- люди, подневольные Его Величеству, которые
отправляются на галеры, и больше он ничего не может сказать, и ему нечего
больше и знать.
-- Тем не менее, -- ответил Дон Кихот, -- я хотел бы узнать о каждом из
них в отдельности причину его несчастия.
К этим словам он прибавил еще и другие и такие учтивые речи, чтобы
побудить их сообщить ему сведения, которые он желал получить, что второй
конный стражник сказал:
-- Хотя мы и везем с собой списки и копии судебных приговоров каждого
из этих несчастных, но у нас нет времени останавливаться, чтобы их достать и
прочесть вам. Подойдите, милость ваша, к ним поближе и расспросите их сами,
и они ответят вам, если пожелают, а пожелают они наверное, потому что это
такого рода люди, которым доставляет удовольствие и делать мошенничества, и
рассказывать о них.
С этим разрешением -- которое Дон Кихот сам бы взял, если б его не
дали,-- он подошел к цепи каторжников и спросил первого из них, за какие
грехи он попал в такое неприятное положение. Тот ответил, что попал в это
положение за то, что был влюблен.
-- Только за это? -- спросил его Дон Кихот. -- Но если посылают на
галеры влюбленных, мне следовало бы уже давно работать там веслами.
-- Любовь эта не такого рода, как думает ваша милость, -- сказал
галерный невольник, -- моя любовь заключалась в том, что я пламенно влюбился
в большую корзину, набитую бельем, и так крепко обнимал ее, что, если бы
правосудие не отняло ее у меня насильно, я и до сих пор не расстался бы с
ней по доброй воле. Меня схватили на месте преступления, и не понадобилось
прибегать к пытке. По вынесенному приговору мне отсчитали по спине сотню
ударов, а в придачу назначали еще три года гура-пас {Название галер на
испанском воровском языке.} и делу конец.
-- Что такое гурапас? -- спросил Дон Кихот.
-- Гурапас -- это галеры, -- ответил каторжник, молодой парень лет
около двадцати четырех, родом из Пиедранты {Маленький городок в Старой
Кастилии.}, как он сообщил.
Дон Кихот обратился с тем же вопросом и к следующему галерному
невольнику, но тот не ответил ни слова, так он был убит и грустен, а за него
ответил первый невольник и сказал:
-- Сеньор, этот вот идет на галеры за то, что пел канарейкой {Петь
канарейкой -- на воровском языке означает "сознаться под пыткой".}, -- я
хочу сказать, за то, что он музыкант и певец.
-- Как так? -- переспросил Дон Кихот. -- Разве ссылают людей на галеры
также и за то, что они музыканты и певцы?
-- Да, сеньор, -- ответил галерный невольник, -- потому что нет ничего
хуже, как петь в беде.
-- А я, напротив, слышал -- сказал Дон Кихот, -- что тот, кто поет,
свое горе спугнет.
-- Здесь же наоборот, -- ответил галерный невольник, -- тому, кто раз
споет, придется плакать всю жизнь.
-- Не понимаю этого, -- объявил Дон Кихот. Но один из стражников сказал
ему:
-- Сеньор рыцарь, петь в беде значит на языке этих нечестивых людей
сознаться под пыткой. Вот этого грешника пытали, и он сознался в своем
преступлении, в том, что он был куатреро, то есть воровал рогатый скот.
Основываясь на его признании, его осудили на шесть лет галер, не считая
двухсот полученных им ударов, которые он уже несет на плечах. Идет же он
всегда задумчивый и печальный оттого, что воры -- как оставшиеся в тюрьме,
так и те, что идут здесь, -- обижают его, издеваются над ним, мучат и
презирают за то, что он сознался и не имел мужества отпереться; потому что,
говорят они, как в да так и в нет всего лишь один слог и для преступника
большое счастье, если жизнь или смерть его зависят от собственного его
языка, а не от языка свидетелей или доказательств. Со своей стороны, и я
полагаю, что они недалеки от истины.
-- И я того же мнения, -- сказал Дон Кихот и затем, подойдя к третьему
галерному невольнику, предложил ему тот же вопрос, как и первым двум, а
спрошенный им ответил ему быстро и очень развязно:
-- Я иду на пять лет к сеньорам гура-пас, потому что у меня не хватило
десяти червонцев.
-- С величайшей охотой дам вам двадцать, -- сказал Дон Кихот, -- чтобы
освободить вас от предстоящей вам неприятности.
-- Это, кажется мне, похоже на то,-- ответил галерный невольник, -- как
если б у кого-нибудь в открытом море были деньги, а он умирал бы с голоду
оттого, что ему негде купить необходимое ему. Говорю это, потому что, если б
я своевременно получил двадцать червонцев, предлагаемые мне теперь вашей
милостью, я подмазал бы ими перо секретаря суда и оживил бы ум моего
адвоката, так что сегодня вы видели бы меня на площади Сокодовер в Толедо, а
не на этой дороге, привязанного на своре, как борзая собака. Но Бог велик:
терпение -- и конец разговору.
Дон Кихот подошел теперь к четвертому галерному невольнику, человеку
почтенной наружности, с белой бородой, доходившей ему до пояса.
Услыхав, что его спрашивают о причине, отчего он здесь, старик заплакал
и не ответил ни слова; но пятый осужденный заменил собою его язык и сказал:
-- Этот уважаемый человек, отправляется на четыре года на галеры, совершив
перед тем во всем параде и верхом обычный объезд {Перед наказанием плетью
преступников обыкновенно водили напоказ верхом на лошади по некоторым людным
улицам, с дощечкой на груди и надписью на ней преступления, в котором они
обвинялись.}.
-- Это, как мне кажется, -- сказал Санчо Панса, -- значит быть
выставленным на публичный позор.
-- Так оно и есть, -- ответил галерный невольник, -- и преступление, за
которое его присудили к этому наказанию, заключается в том, что он был
маклером ушей и даже всего тела. Одним словом, я хочу сказать, этот
кабальеро идет на галеры за то, что был сводником, а также и за некоторую
его склонность и прикосновенность к колдовству.
-- Если бы он не имел этой склонности и прикосновенности к колдовству,
-- сказал Дон Кихот, -- то за то лишь, что был просто сводником, он не
заслуживал бы быть сосланным работать веслами на галерах, а скорей ему
следовало бы поручить команду над ними и сделать его там генералом, потому
что занятие сводничеством вовсе не пустяшная вещь. Это занятие для умных
людей, крайне необходимое в хорошо устроенном государстве, и никто не должен
был бы упражняться в нем, кроме особ знатного происхождения; и даже
следовало бы для них учредить инспекторов и экзаменаторов, как это делается
и в других ремеслах, а также установить и определить их число, как число
маклеров на бирже. Таким образом можно было бы избежать немало зла,
происходящего оттого, что эта должность и профессия попадает в руки тупиц и
людей без всякого понятия, как то: глупых, ничего не стоящих женщин,
мальчишек и шутов, которые обладают столь же малым запасом лет, как и опыта,
и в самый нужный момент, когда требуется величайшее искусство, дают
замерзнуть куску по дороге от пальцев ко рту и не могут отличить правой руки
от левой. Я мог бы подробнее высказаться и указать причины, почему следовало
бы делать выбор из лиц, которым предстоит заняться столь необходимым в
государстве ремеслом, но делать это здесь считаю неуместным. Когда-нибудь
поговорю с теми, которые могут направить дело и помочь ему. Теперь же скажу
лишь одно: тяжелое чувство, вызванное во мне зрелищем этих седых волос и
почтенной наружности старика, попавшего в такую беду за сводничество,
испарилось вследствие обвинения его в колдовстве, хотя я и хорошо знаю, что
на свете нет колдунов, которые могли бы влиять на чужую волю и насиловать
ее, как это думают иные простаки, потому что наша воля свободна и нет таких
трав или чар, которые могли бы завладеть ею {Ирония этой речи Дон Кихота,
кроме общего ее характера, направлена главным образом на осмеяние рыцарских
романов, где многие из наиболее выдающихся действующих лиц не брезгали
заниматься сводничеством, так же как и некоторые из выведенных там
высокородных дам.}. Все, что некоторые глупые кумушки и хитрые обманщики и
плуты могут сделать, это приготовить снадобья и яды, которыми они сводят с
ума людей, давая им понять, что они обладают властью заставлять любить,
хотя, как я говорил, невозможно насиловать волю.
-- Так оно и есть, -- сказал добрый старик, -- и, по правде говоря,
сеньор, в колдовстве я неповинен; что же касается сводничества, -- не могу
отрицать этого, но я никогда не думал, что делаю нечто дурное, так как
намерение мое клонилось лишь к одному: что бы все наслаждались и жили дружно
и мирно, без ссор и неприятностей. Но это доброе намерение не спасло меня от
путешествия туда, откуда я не надеюсь вернуться ввиду моих преклонных лет и
болезни мочевого пузыря, которая не дает мне ни минуты покоя.
Тут он снова заплакал, как и перед тем, и Санчо почувствовал к нему
такое сострадание, что вытащил из-за пазухи монету в четыре реала и дал ее
ему в виде милостыни.
Дон Кихот двинулся дальше и спросил еще одного осужденного, в чем его
вина. Тот ответил с не меньшей, если не с большей бойкостью, чем предыдущий,
говоря:
-- Я здесь потому, что зашел слишком далеко в шутках с двумя моими
двоюродными сестрами и с другими двумя сестрами, -- но не моими. Словом, я
так дурачился с ними со всеми, что результатом шутки явилось приращение
родства, столь сложного, что нет черта, который мог бы разобраться в этом
деле. Меня уличили во всем, покровителей не нашлось, денег не было, мне
грозила опасность быть повешенным; присудили меня к шести годам на галеры; я
согласился; это кара за мою вину; я молод, и лишь бы продлилась жизнь, -- а
с нею все еще может войти в надлежащую колею. Если вы, милость ваша, сеньор
рыцарь, имеете при себе что-нибудь, чем могли бы помочь этим беднякам, Бог
отплатит вам за это на небе, а здесь, на земле, мы позаботимся упросить Отца
Небесного в наших молитвах послать вашей милости доброго здоровья и долгой
жизни, чтобы вы наслаждались этим в полное удовольствие, как того
заслуживает ваша благородная наружность.
Cид Амет бен-Енхели, арабский и Ламанчский писатель, рассказывает в
этой столь значительной, возвышенной, обстоятельной, прелестной и
замысловатой истории, что после того, как между знаменитым Дон Кихотом
Ламанчским и Санчо Пансой, его оруженосцем, произошел разговор, который был
передан в конце XXI главы, Дон Кихот поднял глаза и увидел, что по дороге,
по которой он ехал, шло пешком человек двенадцать, нанизанных за шеи, как
бусы в четках, на одну длинную железную цепь, и у всех были кандалы на
руках. С ними вместе ехали также два человека верхом, и два шли пешком; у
всадников были кремневые оружия, а у пеших -- мечи и дротики.
Как только Санчо Панса увидел их, он сказал:
-- Это цепь каторжников, невольников короля, которых отправляют на
галеры.
-- Как так невольников? -- спросил Дон Кихот. -- Возможно ли, чтобы
король обращал кого-либо в неволю?
-- Этого я не говорю, -- ответил Санчо, -- а только это люди, которые в
наказание за свои преступления осуждены служить королю на галерах.
-- Словом, -- возразил Дон Кихот,-- кто бы они ни были, люди эти идут
по принуждению, а не по доброй воле туда, куда их ведут.
-- Так оно и есть, -- ответил Санчо.
-- Следовательно, -- сказал его господин, -- мне предстоит здесь
приступить к исполнению обязанностей моего призвания -- к уничтожению
насилия, к защите и помощи несчастным.
-- Обратите внимание, ваша милость, -- сказал Санчо, -- что правосудие
-- а это все то же, что и сам король,-- не делает ни насилия, ни обиды
подобного рода людям, а только карает их в наказание за их преступления.
В это время цепь галерных невольников приблизилась, и Дон Кихот в очень
учтивых выражениях попросил сопровождавших их стражников, не будут ли они
столь обязательны изложить и сообщить ему причину или причины, почему они
ведут этих людей таким образом. Один из конных стражников ответил, что это
галерные каторжники -- люди, подневольные Его Величеству, которые
отправляются на галеры, и больше он ничего не может сказать, и ему нечего
больше и знать.
-- Тем не менее, -- ответил Дон Кихот, -- я хотел бы узнать о каждом из
них в отдельности причину его несчастия.
К этим словам он прибавил еще и другие и такие учтивые речи, чтобы
побудить их сообщить ему сведения, которые он желал получить, что второй
конный стражник сказал:
-- Хотя мы и везем с собой списки и копии судебных приговоров каждого
из этих несчастных, но у нас нет времени останавливаться, чтобы их достать и
прочесть вам. Подойдите, милость ваша, к ним поближе и расспросите их сами,
и они ответят вам, если пожелают, а пожелают они наверное, потому что это
такого рода люди, которым доставляет удовольствие и делать мошенничества, и
рассказывать о них.
С этим разрешением -- которое Дон Кихот сам бы взял, если б его не
дали,-- он подошел к цепи каторжников и спросил первого из них, за какие
грехи он попал в такое неприятное положение. Тот ответил, что попал в это
положение за то, что был влюблен.
-- Только за это? -- спросил его Дон Кихот. -- Но если посылают на
галеры влюбленных, мне следовало бы уже давно работать там веслами.
-- Любовь эта не такого рода, как думает ваша милость, -- сказал
галерный невольник, -- моя любовь заключалась в том, что я пламенно влюбился
в большую корзину, набитую бельем, и так крепко обнимал ее, что, если бы
правосудие не отняло ее у меня насильно, я и до сих пор не расстался бы с
ней по доброй воле. Меня схватили на месте преступления, и не понадобилось
прибегать к пытке. По вынесенному приговору мне отсчитали по спине сотню
ударов, а в придачу назначали еще три года гура-пас {Название галер на
испанском воровском языке.} и делу конец.
-- Что такое гурапас? -- спросил Дон Кихот.
-- Гурапас -- это галеры, -- ответил каторжник, молодой парень лет
около двадцати четырех, родом из Пиедранты {Маленький городок в Старой
Кастилии.}, как он сообщил.
Дон Кихот обратился с тем же вопросом и к следующему галерному
невольнику, но тот не ответил ни слова, так он был убит и грустен, а за него
ответил первый невольник и сказал:
-- Сеньор, этот вот идет на галеры за то, что пел канарейкой {Петь
канарейкой -- на воровском языке означает "сознаться под пыткой".}, -- я
хочу сказать, за то, что он музыкант и певец.
-- Как так? -- переспросил Дон Кихот. -- Разве ссылают людей на галеры
также и за то, что они музыканты и певцы?
-- Да, сеньор, -- ответил галерный невольник, -- потому что нет ничего
хуже, как петь в беде.
-- А я, напротив, слышал -- сказал Дон Кихот, -- что тот, кто поет,
свое горе спугнет.
-- Здесь же наоборот, -- ответил галерный невольник, -- тому, кто раз
споет, придется плакать всю жизнь.
-- Не понимаю этого, -- объявил Дон Кихот. Но один из стражников сказал
ему:
-- Сеньор рыцарь, петь в беде значит на языке этих нечестивых людей
сознаться под пыткой. Вот этого грешника пытали, и он сознался в своем
преступлении, в том, что он был куатреро, то есть воровал рогатый скот.
Основываясь на его признании, его осудили на шесть лет галер, не считая
двухсот полученных им ударов, которые он уже несет на плечах. Идет же он
всегда задумчивый и печальный оттого, что воры -- как оставшиеся в тюрьме,
так и те, что идут здесь, -- обижают его, издеваются над ним, мучат и
презирают за то, что он сознался и не имел мужества отпереться; потому что,
говорят они, как в да так и в нет всего лишь один слог и для преступника
большое счастье, если жизнь или смерть его зависят от собственного его
языка, а не от языка свидетелей или доказательств. Со своей стороны, и я
полагаю, что они недалеки от истины.
-- И я того же мнения, -- сказал Дон Кихот и затем, подойдя к третьему
галерному невольнику, предложил ему тот же вопрос, как и первым двум, а
спрошенный им ответил ему быстро и очень развязно:
-- Я иду на пять лет к сеньорам гура-пас, потому что у меня не хватило
десяти червонцев.
-- С величайшей охотой дам вам двадцать, -- сказал Дон Кихот, -- чтобы
освободить вас от предстоящей вам неприятности.
-- Это, кажется мне, похоже на то,-- ответил галерный невольник, -- как
если б у кого-нибудь в открытом море были деньги, а он умирал бы с голоду
оттого, что ему негде купить необходимое ему. Говорю это, потому что, если б
я своевременно получил двадцать червонцев, предлагаемые мне теперь вашей
милостью, я подмазал бы ими перо секретаря суда и оживил бы ум моего
адвоката, так что сегодня вы видели бы меня на площади Сокодовер в Толедо, а
не на этой дороге, привязанного на своре, как борзая собака. Но Бог велик:
терпение -- и конец разговору.
Дон Кихот подошел теперь к четвертому галерному невольнику, человеку
почтенной наружности, с белой бородой, доходившей ему до пояса.
Услыхав, что его спрашивают о причине, отчего он здесь, старик заплакал
и не ответил ни слова; но пятый осужденный заменил собою его язык и сказал:
-- Этот уважаемый человек, отправляется на четыре года на галеры, совершив
перед тем во всем параде и верхом обычный объезд {Перед наказанием плетью
преступников обыкновенно водили напоказ верхом на лошади по некоторым людным
улицам, с дощечкой на груди и надписью на ней преступления, в котором они
обвинялись.}.
-- Это, как мне кажется, -- сказал Санчо Панса, -- значит быть
выставленным на публичный позор.
-- Так оно и есть, -- ответил галерный невольник, -- и преступление, за
которое его присудили к этому наказанию, заключается в том, что он был
маклером ушей и даже всего тела. Одним словом, я хочу сказать, этот
кабальеро идет на галеры за то, что был сводником, а также и за некоторую
его склонность и прикосновенность к колдовству.
-- Если бы он не имел этой склонности и прикосновенности к колдовству,
-- сказал Дон Кихот, -- то за то лишь, что был просто сводником, он не
заслуживал бы быть сосланным работать веслами на галерах, а скорей ему
следовало бы поручить команду над ними и сделать его там генералом, потому
что занятие сводничеством вовсе не пустяшная вещь. Это занятие для умных
людей, крайне необходимое в хорошо устроенном государстве, и никто не должен
был бы упражняться в нем, кроме особ знатного происхождения; и даже
следовало бы для них учредить инспекторов и экзаменаторов, как это делается
и в других ремеслах, а также установить и определить их число, как число
маклеров на бирже. Таким образом можно было бы избежать немало зла,
происходящего оттого, что эта должность и профессия попадает в руки тупиц и
людей без всякого понятия, как то: глупых, ничего не стоящих женщин,
мальчишек и шутов, которые обладают столь же малым запасом лет, как и опыта,
и в самый нужный момент, когда требуется величайшее искусство, дают
замерзнуть куску по дороге от пальцев ко рту и не могут отличить правой руки
от левой. Я мог бы подробнее высказаться и указать причины, почему следовало
бы делать выбор из лиц, которым предстоит заняться столь необходимым в
государстве ремеслом, но делать это здесь считаю неуместным. Когда-нибудь
поговорю с теми, которые могут направить дело и помочь ему. Теперь же скажу
лишь одно: тяжелое чувство, вызванное во мне зрелищем этих седых волос и
почтенной наружности старика, попавшего в такую беду за сводничество,
испарилось вследствие обвинения его в колдовстве, хотя я и хорошо знаю, что
на свете нет колдунов, которые могли бы влиять на чужую волю и насиловать
ее, как это думают иные простаки, потому что наша воля свободна и нет таких
трав или чар, которые могли бы завладеть ею {Ирония этой речи Дон Кихота,
кроме общего ее характера, направлена главным образом на осмеяние рыцарских
романов, где многие из наиболее выдающихся действующих лиц не брезгали
заниматься сводничеством, так же как и некоторые из выведенных там
высокородных дам.}. Все, что некоторые глупые кумушки и хитрые обманщики и
плуты могут сделать, это приготовить снадобья и яды, которыми они сводят с
ума людей, давая им понять, что они обладают властью заставлять любить,
хотя, как я говорил, невозможно насиловать волю.
-- Так оно и есть, -- сказал добрый старик, -- и, по правде говоря,
сеньор, в колдовстве я неповинен; что же касается сводничества, -- не могу
отрицать этого, но я никогда не думал, что делаю нечто дурное, так как
намерение мое клонилось лишь к одному: что бы все наслаждались и жили дружно
и мирно, без ссор и неприятностей. Но это доброе намерение не спасло меня от
путешествия туда, откуда я не надеюсь вернуться ввиду моих преклонных лет и
болезни мочевого пузыря, которая не дает мне ни минуты покоя.
Тут он снова заплакал, как и перед тем, и Санчо почувствовал к нему
такое сострадание, что вытащил из-за пазухи монету в четыре реала и дал ее
ему в виде милостыни.
Дон Кихот двинулся дальше и спросил еще одного осужденного, в чем его
вина. Тот ответил с не меньшей, если не с большей бойкостью, чем предыдущий,
говоря:
-- Я здесь потому, что зашел слишком далеко в шутках с двумя моими
двоюродными сестрами и с другими двумя сестрами, -- но не моими. Словом, я
так дурачился с ними со всеми, что результатом шутки явилось приращение
родства, столь сложного, что нет черта, который мог бы разобраться в этом
деле. Меня уличили во всем, покровителей не нашлось, денег не было, мне
грозила опасность быть повешенным; присудили меня к шести годам на галеры; я
согласился; это кара за мою вину; я молод, и лишь бы продлилась жизнь, -- а
с нею все еще может войти в надлежащую колею. Если вы, милость ваша, сеньор
рыцарь, имеете при себе что-нибудь, чем могли бы помочь этим беднякам, Бог
отплатит вам за это на небе, а здесь, на земле, мы позаботимся упросить Отца
Небесного в наших молитвах послать вашей милости доброго здоровья и долгой
жизни, чтобы вы наслаждались этим в полное удовольствие, как того
заслуживает ваша благородная наружность.
 Говоривший был одет студентом, -- и один из стражников сказал, что он
большой краснобай и хороший латинист. Последним в цепи галерных невольников
был человек очень красивый собой, лет тридцати, но только он косил, так что
один глаз не переставал смотреть на другой. Он был иначе скован, чем
остальные; на ноге у него была такая длинная цепь, что она охватывала все
его тело, а на горле виднелись два железных ошейника: один -- прикрепленный
к цепи, а другой -- из тех, которые называют опорой, или поддержкой друга.
От него спускались две железные полосы, доходившие невольнику до пояса, а к
ним были прикреплены кандалы, надетые на его руки и замкнутые большим замком
так, что он не мог ни достать руками до рта, ни наклонить голову к рукам.
Дон Кихот спросил: почему этот человек скован гораздо большим количеством
цепей, чем все остальные? Конвойный ответил:
[1] Железный ошейник или костыль, прозванный так на воровском языке;
назначение его было поддерживать голову преступника, чтобы он не мог
опускать ее и прятать, стыдясь своего наказания.
потому, что один он совершил больше преступлений, чем все остальные
вместе взятые, и притом он такой смелый и выдающийся мошенник, что, хотя его
и ведут закованным таким образом, все же они не уверены в нем и опасаются,
чтобы он не сбежал у них.
-- Какие же мог он совершить преступления, -- спросил Дон Кихот, --
если он не заслужил большего наказания, как только быть сосланным на галеры?
-- Он идет туда на десять лет, -- ответил стражник, -- а это все равно
что гражданская смерть. С вас будет достаточно знать, если я вам скажу, что
этот добрый человек -- не кто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте,
называемый иначе Хинесильо де Парапилья.
-- Тише, сеньор комиссар, -- сказал тогда галерный невольник, -- нечего
тут перебирать имена и прозвища. Зовут меня Хинес, а не Хинесильо, и фамилия
моя Пасамонте, а не Парапилья, как вы говорите; да к тому же: знай себя --
итого будет с тебя.
-- Не говорите, -- возразил комиссар, -- таким наглым тоном, сеньор
первейший вор и мазурик, если вы не желаете, чтобы я вас заставил, не на
радость вам, молчать.
-- Нет сомнения, -- ответил галерный невольник, -- что человеку
приходится идти туда, куда Бог велит, но когда-нибудь кое-кто узнает, зовут
ли меня Хинесильо де Парапилья.
-- А разве тебя не зовут так, обманщик? -- сказал стражник.
-- Да, зовут, -- ответил Хинес, -- но я позабочусь о том, чтобы меня
так не звали, или же вырву бороду, -- а у кого, про себя знаю. Сеньор
рыцарь, если вы желаете что нам дать, давайте скорей и ступайте себе с
богом, а то вы уж очень надоели своими расспросами о жизни чужих людей. Если
же вы хотите познакомиться с моей жизнью, -- знайте, что я Хинес де
Пасамонте, биография которого написана вот этими пальцами.
-- Это правда, -- подтвердил комиссар, -- потому что он сам написал
свою историю как нельзя лучше и оставил книгу в тюрьме под залог двухсот
реалов.
-- Но я намерен выкупить ее, -- сказал Хинес, -- даже если б она была
заложена за двести червонцев.
-- Разве она так хороша? -- спросил Дон Кихот.
-- Так хороша, -- ответил Хинес,-- что черт побери "Ласарильо де
Тормес" и все остальные сочинения в том же роде, уже написанные или которые
будут еще написаны! Могу вам только сказать, что в этой книге речь идет лишь
об истинах, и о таких милых и приятных истинах, что никакая ложь не может
сравниться с ними.
-- А как озаглавлена ваша книга? -- спросил Дон Кихот.
-- "Жизнь Хинеса де Пасамонте",-- ответил автор.
-- И она окончена? -- осведомился Дон Кихот.
-- Как же может это быть, -- ответил Хинес, -- если моя жизнь еще не
кончена? Написанное мной начинается с моего рождения и доведено до того
времени, когда меня в последний раз сослали на галеры.
-- Значит, вы там уже были? -- спросил Дон Кихот.
-- Я был там, служа Богу и королю, однажды, четыре года тому назад, и
уже знаю вкус сухарей и плетей из воловьих хвостов, -- ответил Хинес. -- Не
очень я огорчен, что иду туда, потому что у меня будет время кончить мою
книгу: мне ведь осталось еще многое сказать; а на галерах
в Испании больше свободного времени, чем надо, хотя мне его и не много
надо для того, что мне еще осталось дописать, так как я все наизусть знаю.
-- Ты, кажется, способный малый,-- сказал Дон Кихот.
-- И несчастный, -- ответил Хинес,-- потому что несчастье всегда
преследует умные головы.
-- Оно преследует мошенников,-- поправил его комиссар.
-- Я уже говорил вам, сеньор комиссар, -- огрызнулся Пасамонте, --
держитесь потише; те господа дали вам этот должностной ваш жезл не для того,
чтобы вы обижали нас, бедняжек, идущих здесь, а только для того, чтоб вы нас
сопровождали и отвели туда, куда приказывает Его Величество; если же нет,
клянусь жизнью... Но довольно! Быть может, когда-нибудь и отмоются в щелоке
пятна, сделанные в трактире, и пусть каждый закусит свой язык, живет хорошо
и говорит еще лучше, и давайте отправимся дальше: вся эта комедия тянется
уже слишком долго.
Комиссар замахнулся жезлом, чтобы ударить им Пасамонте в ответ на его
угрозы, но Дон Кихот заступился за него и попросил комиссара не обижать его,
так как не велика важность, если у тех, у кого крепко связаны руки,
несколько развязан язык. И, обращаясь ко всем находящимся на цепи, он
сказал:
-- Из всего, что вы сообщили мне, дражайшие братья, -- я увидел ясно,
что хотя вас и осудили за преступления, но наказание, которое вам предстоит
нести, не очень-то вам по вкусу и вы подчиняетесь ему крайне неохотно и
совершенно против вашей воли. Очень может быть, что малодушие одного во
время пытки, недостаток денег у другого, неимение покровителей у третьего и,
наконец, ошибочный приговор судей были причиной вашей гибели и неудачи
добыть себе такое правосудие, которое было бы на вашей стороне. Все это
представляется теперь так живо моему уму, что убеждает, внушает и даже
принуждает меня доказать на вашем примере, для какой цели небо послало меня
в мир и приобщило меня к рыцарскому ордену, который я исповедую и приняв
который я дал клятву помогать нуждающимся и защищать угнетенных против
сильных. Но так как я знаю, что одно из свойств благоразумия -- не
добиваться насилием того, что может быть достигнуто добром, я обращаюсь с
просьбой к этим сеньорам, вашим стражникам, и к комиссару, не будут ли они
столь добры снять с вас оковы и отпустить вас с миром на все четыре стороны,
так как не будет недостатка в других, которые по лучшим побуждениям
согласятся нести службу королю, потому что мне кажется жестоким обращать в
рабов тех, которых Бог и природа создала свободными. Тем более, сеньоры
стражники, -- добавил Дон Кихот, -- что эти бедные люди ничем не провинились
лично против вас. Пусть же каждый сам отвечает за свой грех; на небе есть
Бог, который не преминет наказать злых и наградить добрых; и не годится,
чтобы честные люди были палачами других людей, не имея к этому никакого
касательства. Прошу с такой кротостью и спокойствием, чтобы, в случае если б
вы исполнили мою просьбу, мне было за что благодарить вас; если же вы не
согласитесь добровольно, копье это, и меч, и сила руки моей принудят вас к
тому.
-- Премиленькая выходка, -- сказал комиссар, -- и отменная шутка, с
которой он под конец выступил! Он желает, чтобы мы освободили невольников
короля, -- точно в нашей власти отпустить их или же в его власти приказать
нам это! Ступайте в добрый час своей дорогой, милость ваша, сеньор, да
поправьте на голове у себя этот таз и не ищите у кошки трех лап {Поговорка,
которая правильнее звучит так: "Искать у кошки пять лап".}.
-- Это вы сами кошка, крыса и негодяй, -- ответил Дон Кихот. И,
одновременно говоря и действуя, он так быстро устремился на комиссара, что
не дал ему времени защититься, а тяжелораненого ударом копья сбросил на
землю, на счастье себе, потому что упавший-то именно и был вооружен
кремневым ружьем. Остальные стражники стояли изумленные и смущенные столь
неожиданным событием; но придя в себя, верховые схватились за меч, а пешие
-- за метательные копья и кинулись с ними на Дон Кихота, ожидавшего их
совершенно спокойно; но ему, без сомнения, пришлось бы плохо, если б
галерные невольники, видя, что им представляется счастливый случай получить
свободу, не поспешили воспользоваться им, сломав цепь, которой они были
прикованы друг к другу Общая суматоха была так велика, что стражники, то
подбегавшие к галерным невольникам, ломавшим свои цепи, то бросавшиеся на
Дон Кихота, который нападал на них, ничего путного не могли сделать. Санчо,
со своей стороны, помог освободиться Хинесу де Пасамонте, очутившемуся
первым на воле и без цепей. Он кинулся к лежавшему на земле комиссару,
отобрал у него меч и ружье и, прицеливаясь то в одного, то в другого, но не
стреляя ни в кого, очистил поле битвы от стражников, обратившихся в бегство
как от ружья Пасамонте, так и от града камней, которыми их осыпали
освободившиеся галерные невольники. Санчо был очень огорчен этой историей,
потому что боялся, что бежавшие стражники сообщат о случившемся Святой
эрмандаде, а она при звоне вестового колокола начнет преследовать
преступников. Все это он сказал своему господину и просил его тотчас же
уехать с ним отсюда и скрыться в близлежащих горах.
-- Это хорошо, -- сказал Дон Кихот, -- но я знаю, что теперь мне
надлежит делать. -- И он позвал галерных невольников, которые, волнуясь и
шумя, бежали по полю, обобрав донага комиссара; они все собрались кругом
него, чтобы узнать, какие он даст приказания, после чего он обратился к ним
со следующими словами:
-- Благородным людям свойственно быть благодарными за полученное
благодеяние; и один из грехов, наиболее противных Богу, -- неблагодарность.
Говорю это, сеньоры, потому, что вы видели и испытали на себе оказанное мною
вам благодеяние. В воздаяние за него я желал бы -- и такова моя воля, --
чтобы вы, обремененные цепью, которую я снял с вашей шеи, немедленно
отправились в путь и, дойдя до города Тобосо, явились там к сеньоре
Дульсинее Тобосской и сообщили ей, что ее рыцарь -- Рыцарь Печального Образа
-- велел передать ей свой привет и рассказать ей точка в точку все
подробности этого знаменитого приключения от начала и до того, как я добыл
вам желанную свободу. Сделав это, вы можете идти с миром и в добрый час,
куда хотите.
Хинес де Пасамонте ответил за всех и сказал:
-- То, что нам милость ваша приказывает, сеньор и освободитель наш,
самая невозможная из всех невозможностей, потому что нам нельзя идти всем
вместе по дорогам, а только врозь и поодиночке, каждый со своей стороны
стараясь скрыться в недрах земли, чтобы не быть застигнутым Святой
эрман-дадой, которая, без сомнения, будет нас
разыскивать. То, что ваша милость могла бы сделать -- и следовало бы и
было бы справедливо сделать, -- это заменить обязательство, возложенное на
нас, и дань относительно сеньоры Дульсинеи Тобосской известным количеством
"Ave Maria" и "Credo", и мы охотно произнесли бы их за ваш счет, потому что
это такое дело, которым можно заняться ночью и днем, во время бегства и на
отдыхе, на войне и в мирное время. Но думать, чтобы мы теперь вернулись в
землю Египетскую, то есть чтобы мы взяли нашу цепь и отправились по дороге в
Тобосо, -- значит думать, что теперь ночь, когда еще нет и десяти часов
утра, и требовать этого от нас -- все равно что требовать груш от вяза.
-- В таком случае, -- воскликнул Дон Кихот (уже вспыхнувший гневом), --
я клянусь, дон сын блудницы, дон Хинесильо де Парапильо, или как вас там
зовут, что пойдете вы один, поджав хвост между ногами и неся всю цепь на
своих плечах.
Пассамонте, который был не очень-то терпеливого нрава (притом он уже
догадался, что Дон Кихот не в здравом рассудке, так как совершил столь
безумный поступок, возвратив им свободу), видя, что с ним обращаются таким
образом, мигнул товарищам, и, отойдя в сторону, они стали осыпать рыцаря
градом камней, так что он только и делал, что старался прикрыть себя щитом,
а бедняга Росинант нимало не обращал внимания на шпоры, словно он был вылит
из бронзы. Санчо спрятался за своим ослом и таким образом защитил себя от
бури и града камней, разразившихся над ними обоими. Дон Кихот не мог
прикрыться щитом настолько хорошо, чтобы несколько кремневых камней --
сколько не знаю -- не попало в него, и с такой силой, что он свалился на
землю.
Едва он упал, как студент бросился к нему, снял у него с головы таз,
ударил его им три или четыре раза по плечам и столько же раз стукнул тазом
по земле, так что чуть не разбил его в куски. Галерные невольники сняли с
рыцаря полукафтанье, которое было у него надето поверх доспехов, и сняли бы
с него и чулки, если бы этому не помешали ножные его латы. У Санчо они
отняли верхнее платье, оставив его в одной рубашке, и, поделив между собою
завоеванную в битве добычу, разбежались, каждый в свою сторону, более
озабоченные тем, чтобы укрыться от Святой эрмандады, которой они страшились,
чем обременить себя цепью и идти представляться сеньоре Дульсинее Тобосской.
Остались на поле сражения только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел --
задумчивый, с опущенной головой, время от времени потрясая ушами, словно он
полагал, что шквал камней, просвистевших над его головой, еще не утих;
Росинант -- лежа врастяжку рядом со своим господином, так как удар камня
свалил и его на землю; Санчо -- в одной рубашке, дрожащий от страха перед
Святой эрмандадой; Дон Кихот -- вне себя от гнева при мысли, что с ним так
предательски обошлись те самые люди, которым он сделал столько добра.
Говоривший был одет студентом, -- и один из стражников сказал, что он
большой краснобай и хороший латинист. Последним в цепи галерных невольников
был человек очень красивый собой, лет тридцати, но только он косил, так что
один глаз не переставал смотреть на другой. Он был иначе скован, чем
остальные; на ноге у него была такая длинная цепь, что она охватывала все
его тело, а на горле виднелись два железных ошейника: один -- прикрепленный
к цепи, а другой -- из тех, которые называют опорой, или поддержкой друга.
От него спускались две железные полосы, доходившие невольнику до пояса, а к
ним были прикреплены кандалы, надетые на его руки и замкнутые большим замком
так, что он не мог ни достать руками до рта, ни наклонить голову к рукам.
Дон Кихот спросил: почему этот человек скован гораздо большим количеством
цепей, чем все остальные? Конвойный ответил:
[1] Железный ошейник или костыль, прозванный так на воровском языке;
назначение его было поддерживать голову преступника, чтобы он не мог
опускать ее и прятать, стыдясь своего наказания.
потому, что один он совершил больше преступлений, чем все остальные
вместе взятые, и притом он такой смелый и выдающийся мошенник, что, хотя его
и ведут закованным таким образом, все же они не уверены в нем и опасаются,
чтобы он не сбежал у них.
-- Какие же мог он совершить преступления, -- спросил Дон Кихот, --
если он не заслужил большего наказания, как только быть сосланным на галеры?
-- Он идет туда на десять лет, -- ответил стражник, -- а это все равно
что гражданская смерть. С вас будет достаточно знать, если я вам скажу, что
этот добрый человек -- не кто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте,
называемый иначе Хинесильо де Парапилья.
-- Тише, сеньор комиссар, -- сказал тогда галерный невольник, -- нечего
тут перебирать имена и прозвища. Зовут меня Хинес, а не Хинесильо, и фамилия
моя Пасамонте, а не Парапилья, как вы говорите; да к тому же: знай себя --
итого будет с тебя.
-- Не говорите, -- возразил комиссар, -- таким наглым тоном, сеньор
первейший вор и мазурик, если вы не желаете, чтобы я вас заставил, не на
радость вам, молчать.
-- Нет сомнения, -- ответил галерный невольник, -- что человеку
приходится идти туда, куда Бог велит, но когда-нибудь кое-кто узнает, зовут
ли меня Хинесильо де Парапилья.
-- А разве тебя не зовут так, обманщик? -- сказал стражник.
-- Да, зовут, -- ответил Хинес, -- но я позабочусь о том, чтобы меня
так не звали, или же вырву бороду, -- а у кого, про себя знаю. Сеньор
рыцарь, если вы желаете что нам дать, давайте скорей и ступайте себе с
богом, а то вы уж очень надоели своими расспросами о жизни чужих людей. Если
же вы хотите познакомиться с моей жизнью, -- знайте, что я Хинес де
Пасамонте, биография которого написана вот этими пальцами.
-- Это правда, -- подтвердил комиссар, -- потому что он сам написал
свою историю как нельзя лучше и оставил книгу в тюрьме под залог двухсот
реалов.
-- Но я намерен выкупить ее, -- сказал Хинес, -- даже если б она была
заложена за двести червонцев.
-- Разве она так хороша? -- спросил Дон Кихот.
-- Так хороша, -- ответил Хинес,-- что черт побери "Ласарильо де
Тормес" и все остальные сочинения в том же роде, уже написанные или которые
будут еще написаны! Могу вам только сказать, что в этой книге речь идет лишь
об истинах, и о таких милых и приятных истинах, что никакая ложь не может
сравниться с ними.
-- А как озаглавлена ваша книга? -- спросил Дон Кихот.
-- "Жизнь Хинеса де Пасамонте",-- ответил автор.
-- И она окончена? -- осведомился Дон Кихот.
-- Как же может это быть, -- ответил Хинес, -- если моя жизнь еще не
кончена? Написанное мной начинается с моего рождения и доведено до того
времени, когда меня в последний раз сослали на галеры.
-- Значит, вы там уже были? -- спросил Дон Кихот.
-- Я был там, служа Богу и королю, однажды, четыре года тому назад, и
уже знаю вкус сухарей и плетей из воловьих хвостов, -- ответил Хинес. -- Не
очень я огорчен, что иду туда, потому что у меня будет время кончить мою
книгу: мне ведь осталось еще многое сказать; а на галерах
в Испании больше свободного времени, чем надо, хотя мне его и не много
надо для того, что мне еще осталось дописать, так как я все наизусть знаю.
-- Ты, кажется, способный малый,-- сказал Дон Кихот.
-- И несчастный, -- ответил Хинес,-- потому что несчастье всегда
преследует умные головы.
-- Оно преследует мошенников,-- поправил его комиссар.
-- Я уже говорил вам, сеньор комиссар, -- огрызнулся Пасамонте, --
держитесь потише; те господа дали вам этот должностной ваш жезл не для того,
чтобы вы обижали нас, бедняжек, идущих здесь, а только для того, чтоб вы нас
сопровождали и отвели туда, куда приказывает Его Величество; если же нет,
клянусь жизнью... Но довольно! Быть может, когда-нибудь и отмоются в щелоке
пятна, сделанные в трактире, и пусть каждый закусит свой язык, живет хорошо
и говорит еще лучше, и давайте отправимся дальше: вся эта комедия тянется
уже слишком долго.
Комиссар замахнулся жезлом, чтобы ударить им Пасамонте в ответ на его
угрозы, но Дон Кихот заступился за него и попросил комиссара не обижать его,
так как не велика важность, если у тех, у кого крепко связаны руки,
несколько развязан язык. И, обращаясь ко всем находящимся на цепи, он
сказал:
-- Из всего, что вы сообщили мне, дражайшие братья, -- я увидел ясно,
что хотя вас и осудили за преступления, но наказание, которое вам предстоит
нести, не очень-то вам по вкусу и вы подчиняетесь ему крайне неохотно и
совершенно против вашей воли. Очень может быть, что малодушие одного во
время пытки, недостаток денег у другого, неимение покровителей у третьего и,
наконец, ошибочный приговор судей были причиной вашей гибели и неудачи
добыть себе такое правосудие, которое было бы на вашей стороне. Все это
представляется теперь так живо моему уму, что убеждает, внушает и даже
принуждает меня доказать на вашем примере, для какой цели небо послало меня
в мир и приобщило меня к рыцарскому ордену, который я исповедую и приняв
который я дал клятву помогать нуждающимся и защищать угнетенных против
сильных. Но так как я знаю, что одно из свойств благоразумия -- не
добиваться насилием того, что может быть достигнуто добром, я обращаюсь с
просьбой к этим сеньорам, вашим стражникам, и к комиссару, не будут ли они
столь добры снять с вас оковы и отпустить вас с миром на все четыре стороны,
так как не будет недостатка в других, которые по лучшим побуждениям
согласятся нести службу королю, потому что мне кажется жестоким обращать в
рабов тех, которых Бог и природа создала свободными. Тем более, сеньоры
стражники, -- добавил Дон Кихот, -- что эти бедные люди ничем не провинились
лично против вас. Пусть же каждый сам отвечает за свой грех; на небе есть
Бог, который не преминет наказать злых и наградить добрых; и не годится,
чтобы честные люди были палачами других людей, не имея к этому никакого
касательства. Прошу с такой кротостью и спокойствием, чтобы, в случае если б
вы исполнили мою просьбу, мне было за что благодарить вас; если же вы не
согласитесь добровольно, копье это, и меч, и сила руки моей принудят вас к
тому.
-- Премиленькая выходка, -- сказал комиссар, -- и отменная шутка, с
которой он под конец выступил! Он желает, чтобы мы освободили невольников
короля, -- точно в нашей власти отпустить их или же в его власти приказать
нам это! Ступайте в добрый час своей дорогой, милость ваша, сеньор, да
поправьте на голове у себя этот таз и не ищите у кошки трех лап {Поговорка,
которая правильнее звучит так: "Искать у кошки пять лап".}.
-- Это вы сами кошка, крыса и негодяй, -- ответил Дон Кихот. И,
одновременно говоря и действуя, он так быстро устремился на комиссара, что
не дал ему времени защититься, а тяжелораненого ударом копья сбросил на
землю, на счастье себе, потому что упавший-то именно и был вооружен
кремневым ружьем. Остальные стражники стояли изумленные и смущенные столь
неожиданным событием; но придя в себя, верховые схватились за меч, а пешие
-- за метательные копья и кинулись с ними на Дон Кихота, ожидавшего их
совершенно спокойно; но ему, без сомнения, пришлось бы плохо, если б
галерные невольники, видя, что им представляется счастливый случай получить
свободу, не поспешили воспользоваться им, сломав цепь, которой они были
прикованы друг к другу Общая суматоха была так велика, что стражники, то
подбегавшие к галерным невольникам, ломавшим свои цепи, то бросавшиеся на
Дон Кихота, который нападал на них, ничего путного не могли сделать. Санчо,
со своей стороны, помог освободиться Хинесу де Пасамонте, очутившемуся
первым на воле и без цепей. Он кинулся к лежавшему на земле комиссару,
отобрал у него меч и ружье и, прицеливаясь то в одного, то в другого, но не
стреляя ни в кого, очистил поле битвы от стражников, обратившихся в бегство
как от ружья Пасамонте, так и от града камней, которыми их осыпали
освободившиеся галерные невольники. Санчо был очень огорчен этой историей,
потому что боялся, что бежавшие стражники сообщат о случившемся Святой
эрмандаде, а она при звоне вестового колокола начнет преследовать
преступников. Все это он сказал своему господину и просил его тотчас же
уехать с ним отсюда и скрыться в близлежащих горах.
-- Это хорошо, -- сказал Дон Кихот, -- но я знаю, что теперь мне
надлежит делать. -- И он позвал галерных невольников, которые, волнуясь и
шумя, бежали по полю, обобрав донага комиссара; они все собрались кругом
него, чтобы узнать, какие он даст приказания, после чего он обратился к ним
со следующими словами:
-- Благородным людям свойственно быть благодарными за полученное
благодеяние; и один из грехов, наиболее противных Богу, -- неблагодарность.
Говорю это, сеньоры, потому, что вы видели и испытали на себе оказанное мною
вам благодеяние. В воздаяние за него я желал бы -- и такова моя воля, --
чтобы вы, обремененные цепью, которую я снял с вашей шеи, немедленно
отправились в путь и, дойдя до города Тобосо, явились там к сеньоре
Дульсинее Тобосской и сообщили ей, что ее рыцарь -- Рыцарь Печального Образа
-- велел передать ей свой привет и рассказать ей точка в точку все
подробности этого знаменитого приключения от начала и до того, как я добыл
вам желанную свободу. Сделав это, вы можете идти с миром и в добрый час,
куда хотите.
Хинес де Пасамонте ответил за всех и сказал:
-- То, что нам милость ваша приказывает, сеньор и освободитель наш,
самая невозможная из всех невозможностей, потому что нам нельзя идти всем
вместе по дорогам, а только врозь и поодиночке, каждый со своей стороны
стараясь скрыться в недрах земли, чтобы не быть застигнутым Святой
эрман-дадой, которая, без сомнения, будет нас
разыскивать. То, что ваша милость могла бы сделать -- и следовало бы и
было бы справедливо сделать, -- это заменить обязательство, возложенное на
нас, и дань относительно сеньоры Дульсинеи Тобосской известным количеством
"Ave Maria" и "Credo", и мы охотно произнесли бы их за ваш счет, потому что
это такое дело, которым можно заняться ночью и днем, во время бегства и на
отдыхе, на войне и в мирное время. Но думать, чтобы мы теперь вернулись в
землю Египетскую, то есть чтобы мы взяли нашу цепь и отправились по дороге в
Тобосо, -- значит думать, что теперь ночь, когда еще нет и десяти часов
утра, и требовать этого от нас -- все равно что требовать груш от вяза.
-- В таком случае, -- воскликнул Дон Кихот (уже вспыхнувший гневом), --
я клянусь, дон сын блудницы, дон Хинесильо де Парапильо, или как вас там
зовут, что пойдете вы один, поджав хвост между ногами и неся всю цепь на
своих плечах.
Пассамонте, который был не очень-то терпеливого нрава (притом он уже
догадался, что Дон Кихот не в здравом рассудке, так как совершил столь
безумный поступок, возвратив им свободу), видя, что с ним обращаются таким
образом, мигнул товарищам, и, отойдя в сторону, они стали осыпать рыцаря
градом камней, так что он только и делал, что старался прикрыть себя щитом,
а бедняга Росинант нимало не обращал внимания на шпоры, словно он был вылит
из бронзы. Санчо спрятался за своим ослом и таким образом защитил себя от
бури и града камней, разразившихся над ними обоими. Дон Кихот не мог
прикрыться щитом настолько хорошо, чтобы несколько кремневых камней --
сколько не знаю -- не попало в него, и с такой силой, что он свалился на
землю.
Едва он упал, как студент бросился к нему, снял у него с головы таз,
ударил его им три или четыре раза по плечам и столько же раз стукнул тазом
по земле, так что чуть не разбил его в куски. Галерные невольники сняли с
рыцаря полукафтанье, которое было у него надето поверх доспехов, и сняли бы
с него и чулки, если бы этому не помешали ножные его латы. У Санчо они
отняли верхнее платье, оставив его в одной рубашке, и, поделив между собою
завоеванную в битве добычу, разбежались, каждый в свою сторону, более
озабоченные тем, чтобы укрыться от Святой эрмандады, которой они страшились,
чем обременить себя цепью и идти представляться сеньоре Дульсинее Тобосской.
Остались на поле сражения только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел --
задумчивый, с опущенной головой, время от времени потрясая ушами, словно он
полагал, что шквал камней, просвистевших над его головой, еще не утих;
Росинант -- лежа врастяжку рядом со своим господином, так как удар камня
свалил и его на землю; Санчо -- в одной рубашке, дрожащий от страха перед
Святой эрмандадой; Дон Кихот -- вне себя от гнева при мысли, что с ним так
предательски обошлись те самые люди, которым он сделал столько добра.


Глава XXIII О том, что случилось со знаменитым Дон Кихотом в
Сьерра-Морене[1],-- одно из самых редкостных приключений,
рассказанных в этой правдивой истории
 [1] Так называется горная цепь, отделяющая Ламанчу от Андалузии. Во
времена Сервантеса Сьерра-Морена служила убежищем для всех скрывавшихся от
правосудия и была любимым местопребыванием разбойников, воров и др. Римляне
называли эти горы Mons Marianus.
Видя себя в таком плохом положении, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:
-- Я всегда слышал, Санчо, что делать добро негодяям все равно что лить воду
в море. Если б я поверил тому, что ты мне говорил, я бы мог избежать этого
огорчения; но так как дело сделано, -- терпение, а отныне впредь я научусь
остерегаться.
-- То, что ваша милость научится остерегаться, -- ответил Санчо, -- так
же верно, как и то, что я турок. Но раз вы говорите, что, если б вы мне
поверили, вы бы избегли этой беды, -- поверьте же мне хоть теперь, и вы
избегнете еще большей беды, потому что я должен вам сказать, что Святую
эрмандаду нельзя пронять рыцарством и она не даст и двух мараведисов за всех
странствующих рыцарей, сколько бы их ни было, и, знаете ли -- мне уже
кажется, что стрелы ее свистят около моих ушей {В старину убийц, застигнутых
на месте преступления, Святая Эрмандада подвергала такой каре: их
привязывали на большой дороге к столбу и убивали градом стрел.}.
-- Ты по своей природе трус, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- но чтобы ты
не говорил, что я упрям и никогда не делаю того, что ты мне советуешь, -- на
этот раз я последую твоему совету и уйду от фурии, которой ты так боишься.
Но сделаю это с одним лишь условием: чтобы никогда, во всю свою жизнь, и в
смерти ты никому не сказал, что я отстранился и бежал от этой опасности из
страха, а только потому, что я сдался на твои просьбы; если же ты скажешь
что-нибудь другое, ты солжешь отныне и впредь, и отныне и впредь я обличаю
тебя во лжи и говорю ты лжешь и будешь лгать всякий раз, как ты это
подумаешь или скажешь. И не возражай мне ни слова, потому что при одной
мысли, что я отступаю и бегу от какой-нибудь опасности, и особенно от этой
опасности, которая действительно может пробудить нечто вроде тени страха, --
я уже готов остаться здесь и ждать один не только Святое братство, о котором
ты говоришь и которого боишься, но и братьев всех двенадцати колен Израиля,
и семь братьев Макавеев, и Кастора и Пол-лукса, и даже всех братьев и все
братства, какие имеются на свете.
[1] Так называется горная цепь, отделяющая Ламанчу от Андалузии. Во
времена Сервантеса Сьерра-Морена служила убежищем для всех скрывавшихся от
правосудия и была любимым местопребыванием разбойников, воров и др. Римляне
называли эти горы Mons Marianus.
Видя себя в таком плохом положении, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:
-- Я всегда слышал, Санчо, что делать добро негодяям все равно что лить воду
в море. Если б я поверил тому, что ты мне говорил, я бы мог избежать этого
огорчения; но так как дело сделано, -- терпение, а отныне впредь я научусь
остерегаться.
-- То, что ваша милость научится остерегаться, -- ответил Санчо, -- так
же верно, как и то, что я турок. Но раз вы говорите, что, если б вы мне
поверили, вы бы избегли этой беды, -- поверьте же мне хоть теперь, и вы
избегнете еще большей беды, потому что я должен вам сказать, что Святую
эрмандаду нельзя пронять рыцарством и она не даст и двух мараведисов за всех
странствующих рыцарей, сколько бы их ни было, и, знаете ли -- мне уже
кажется, что стрелы ее свистят около моих ушей {В старину убийц, застигнутых
на месте преступления, Святая Эрмандада подвергала такой каре: их
привязывали на большой дороге к столбу и убивали градом стрел.}.
-- Ты по своей природе трус, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- но чтобы ты
не говорил, что я упрям и никогда не делаю того, что ты мне советуешь, -- на
этот раз я последую твоему совету и уйду от фурии, которой ты так боишься.
Но сделаю это с одним лишь условием: чтобы никогда, во всю свою жизнь, и в
смерти ты никому не сказал, что я отстранился и бежал от этой опасности из
страха, а только потому, что я сдался на твои просьбы; если же ты скажешь
что-нибудь другое, ты солжешь отныне и впредь, и отныне и впредь я обличаю
тебя во лжи и говорю ты лжешь и будешь лгать всякий раз, как ты это
подумаешь или скажешь. И не возражай мне ни слова, потому что при одной
мысли, что я отступаю и бегу от какой-нибудь опасности, и особенно от этой
опасности, которая действительно может пробудить нечто вроде тени страха, --
я уже готов остаться здесь и ждать один не только Святое братство, о котором
ты говоришь и которого боишься, но и братьев всех двенадцати колен Израиля,
и семь братьев Макавеев, и Кастора и Пол-лукса, и даже всех братьев и все
братства, какие имеются на свете.
 -- Сеньор, -- ответил Санчо, -- отступать -- не значит еще бежать, и
оставаться там, где опасность берет верх над надеждой, -- не есть
благоразумие, и кто умен, тот бережет себя сегодня для завтрашнего дня и не
рискует всем в один день; и знайте, что, хотя я неученый, грубый крестьянин,
все же я обладаю долей того, что называют житейским опытом; итак, не
раскаивайтесь, что последовали моему совету, но садитесь на Росинанта, если
можете, а не можете, я помогу вам, и поезжайте за мной, так как ум мой
говорит мне, что нам теперь ноги нужнее, чем руки.
Дон Кихот сел на коня, не возражая больше ни слова, а Санчо указывал
путь на своем осле, и таким образом въехали они в Сьерра-Морену, бывшую там
поблизости. Санчо намеревался проехать ее всю и выехать в Визо или в
Альмодавар-дель-Кампо, скрываясь несколько дней среди этих скалистых, диких
местностей, чтобы их не нашли, если б Святая эрмандада стала искать их. Он
еще более укрепился в своем намерении, когда увидел, что съестные припасы,
которые он вез на осле, остались целы в схватке с галерными невольниками, --
обстоятельство, показавшееся ему чудом, если принять во внимание то, что они
у них отняли и как старательно все обыскивали.
-----
Этою ночью они добрались до самых недр Сьерра-Морены, где Санчо
заблагорассудил провести ночь и еще несколько дней -- по крайней мере
столько времени, насколько хватит съестных припасов, бывших при нем. Итак,
они расположились на ночлег между двумя скалами, под несколькими пробковыми
деревьями. Но злополучная судьба, которая, по мнению людей, не озаренных
светом истинной веры, всем управляет, руководит и все устраивает по своему
усмотрению, распорядилась, чтобы Хинес де Пасамонте, знаменитый обманщик и
вор, благодаря доблести и безумию Дон Кихота освободившийся от цепи,
движимый страхом перед Святой эрмандадой, которой он справедливо опасался,
тоже решил скрыться в этих же горах. Судьба его и страх привели его на то же
самое место, куда они привели Дон Кихота и Санчо Пансу, как раз когда еще
было настолько светло, что он мог их узнать, и в то время, когда они уже
заснули. И так как злые всегда неблагодарны, а нужда побуждает их совершать
то, чего не следовало бы делать, и отдавать предпочтение настоящей выгоде
перед будущей, Хинес, который не был ни признательным, ни благожелательным,
рассудил украсть у Санчо Пансы осла, не заботясь о Росинанте, так как это
была добыча негодная, ее нельзя было ни продать, ни заложить. Санчо Панса
спал. Хинес украл у него осла; и прежде, чем рассвело, он уехал уже так
далеко, что нельзя было догнать его. Зажглась заря, обрадовав мир, но
опечалив Санчо Пансу, так как он не нашел своего серого. Видя, что его
похитили у него, он разразился самыми горькими и заунывными жалобами и вопил
так громко, что Дон Кихот проснулся от его криков и услышал, как он
восклицал:
-- Сеньор, -- ответил Санчо, -- отступать -- не значит еще бежать, и
оставаться там, где опасность берет верх над надеждой, -- не есть
благоразумие, и кто умен, тот бережет себя сегодня для завтрашнего дня и не
рискует всем в один день; и знайте, что, хотя я неученый, грубый крестьянин,
все же я обладаю долей того, что называют житейским опытом; итак, не
раскаивайтесь, что последовали моему совету, но садитесь на Росинанта, если
можете, а не можете, я помогу вам, и поезжайте за мной, так как ум мой
говорит мне, что нам теперь ноги нужнее, чем руки.
Дон Кихот сел на коня, не возражая больше ни слова, а Санчо указывал
путь на своем осле, и таким образом въехали они в Сьерра-Морену, бывшую там
поблизости. Санчо намеревался проехать ее всю и выехать в Визо или в
Альмодавар-дель-Кампо, скрываясь несколько дней среди этих скалистых, диких
местностей, чтобы их не нашли, если б Святая эрмандада стала искать их. Он
еще более укрепился в своем намерении, когда увидел, что съестные припасы,
которые он вез на осле, остались целы в схватке с галерными невольниками, --
обстоятельство, показавшееся ему чудом, если принять во внимание то, что они
у них отняли и как старательно все обыскивали.
-----
Этою ночью они добрались до самых недр Сьерра-Морены, где Санчо
заблагорассудил провести ночь и еще несколько дней -- по крайней мере
столько времени, насколько хватит съестных припасов, бывших при нем. Итак,
они расположились на ночлег между двумя скалами, под несколькими пробковыми
деревьями. Но злополучная судьба, которая, по мнению людей, не озаренных
светом истинной веры, всем управляет, руководит и все устраивает по своему
усмотрению, распорядилась, чтобы Хинес де Пасамонте, знаменитый обманщик и
вор, благодаря доблести и безумию Дон Кихота освободившийся от цепи,
движимый страхом перед Святой эрмандадой, которой он справедливо опасался,
тоже решил скрыться в этих же горах. Судьба его и страх привели его на то же
самое место, куда они привели Дон Кихота и Санчо Пансу, как раз когда еще
было настолько светло, что он мог их узнать, и в то время, когда они уже
заснули. И так как злые всегда неблагодарны, а нужда побуждает их совершать
то, чего не следовало бы делать, и отдавать предпочтение настоящей выгоде
перед будущей, Хинес, который не был ни признательным, ни благожелательным,
рассудил украсть у Санчо Пансы осла, не заботясь о Росинанте, так как это
была добыча негодная, ее нельзя было ни продать, ни заложить. Санчо Панса
спал. Хинес украл у него осла; и прежде, чем рассвело, он уехал уже так
далеко, что нельзя было догнать его. Зажглась заря, обрадовав мир, но
опечалив Санчо Пансу, так как он не нашел своего серого. Видя, что его
похитили у него, он разразился самыми горькими и заунывными жалобами и вопил
так громко, что Дон Кихот проснулся от его криков и услышал, как он
восклицал:
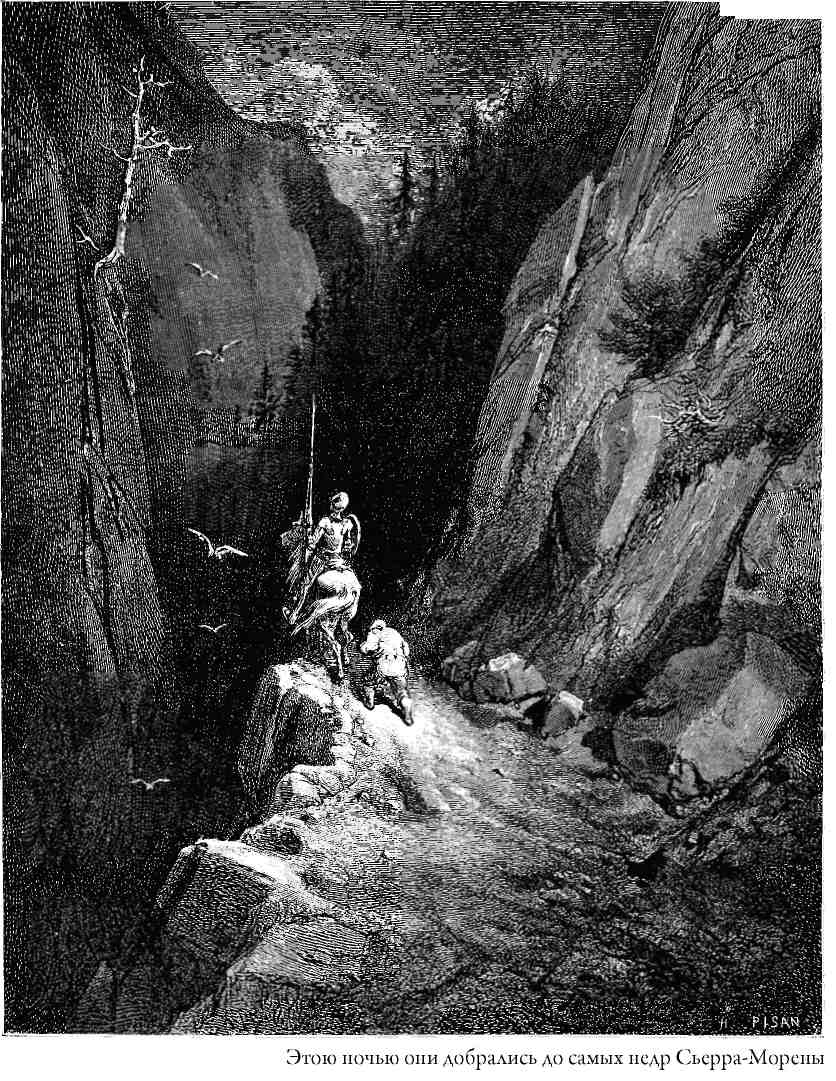 -- О дитя моей утробы, ты, родившийся у меня в доме, развлечение моих
детей, утешение моей жены, предмет зависти соседей, облегчите моего бремени
и, наконец, опора половины моего существования, потому что на двадцать шесть
мераведисов, которые ты зарабатывал ежедневно, я снискивал половину моего
пропитания!
Дон Кихот, видя его слезы и узнав причину их, утешил Санчо лучшими
доводами, которые только мог найти, и просил его иметь терпение, обещая дать
ему вексель, по которому ему выдадут трех ослят из пяти, оставленных им у
себя дома. Санчо утешился этим, вытер свои слезы, умерил свои рыдания и
поблагодарил Дон Кихота за милость оказанную ему {Этот эпизод был вставлен
во второе издание "Дон Кихота" Куэсты, в 1605 г.}.
-----
Лишь только Дон Кихот очутился в горах, сердце его исполнилось
радостью, так как ему казалось, что эти места очень подходящи для
приключений, которых он искал. Он вспомнил изумительные события, случавшиеся
со странствующими рыцарями в подобных же уединенных и диких местах, и так
углубился в эти мысли, был ими так увлечен и восхищен, что ничего другого не
видел и не слышал. Санчо же не имел теперь иной заботы (после того как они,
по его мнению, достигли вполне безопасного места), кроме заботы
удовлетворить свой желудок остатками добычи, взятой у священнослужителей.
Итак, он ехал за господином, сидя на своем осле по-женски, доставая из мешка
припасы и набивая ими брюхо свое, и, пока он был занят таким образом, он не
дал бы и медного гроша за то, чтоб найти новое приключение. Между тем Санчо,
вскинув глаза, увидел, что его господин остановился и острием копья
старается поднять какой-то узел, лежащий на земле, он поспешил к рыцарю,
чтобы ему помочь, если это окажется нужным; и как раз поспел в ту минуту,
когда Дон Кихот поднимал острием копья седельную подушку с привязанным к ней
ручным чемоданчиком, оба полусгнившие, или, вернее, даже совсем сгнившие и
разваливающиеся, но они были такие тяжелые, что Санчо пришлось сойти с осла,
чтобы поднять их. Его господин приказал ему посмотреть, что в чемоданчике.
Санчо быстро исполнил это; и хотя чемоданчик и был заперт цепью и замком, но
сквозь дыры и отверстия в прогнивших местах он увидел, что там находилось:
четыре рубашки из тонкого голландского полотна и другие полотняные вещи, не
менее тонкие и чистые, а в платочке он нашел добрую кучку золотых монет, и,
когда он их увидел, он воскликнул:
-- Да будет благословенно все небо за то, что оно послало нам
приключение, стоящее чего-нибудь. -- И, поискав еще в чемоданчике, он нашел
богато украшенную маленькую записную книжку, которую Дон Кихот потребовал у
него, деньги же приказал ему сохранить и взять их себе. Санчо поцеловал ему
руки за эту милость и, вынув из чемоданчика белье, положил их в мешок со
съестными припасами. Увидав все это, Дон Кихот сказал:
-- Мне кажется, Санчо (и иначе быть не может), что какой-нибудь
путешественник заблудился в этих горах, а разбойники напали на него, убили и
потом принесли сюда и зарыли в этом столь глухом месте.
-- Не может этого быть, -- ответил Санчо, -- потому что, если б это
были воры, они не оставили бы здесь денег.
-- О дитя моей утробы, ты, родившийся у меня в доме, развлечение моих
детей, утешение моей жены, предмет зависти соседей, облегчите моего бремени
и, наконец, опора половины моего существования, потому что на двадцать шесть
мераведисов, которые ты зарабатывал ежедневно, я снискивал половину моего
пропитания!
Дон Кихот, видя его слезы и узнав причину их, утешил Санчо лучшими
доводами, которые только мог найти, и просил его иметь терпение, обещая дать
ему вексель, по которому ему выдадут трех ослят из пяти, оставленных им у
себя дома. Санчо утешился этим, вытер свои слезы, умерил свои рыдания и
поблагодарил Дон Кихота за милость оказанную ему {Этот эпизод был вставлен
во второе издание "Дон Кихота" Куэсты, в 1605 г.}.
-----
Лишь только Дон Кихот очутился в горах, сердце его исполнилось
радостью, так как ему казалось, что эти места очень подходящи для
приключений, которых он искал. Он вспомнил изумительные события, случавшиеся
со странствующими рыцарями в подобных же уединенных и диких местах, и так
углубился в эти мысли, был ими так увлечен и восхищен, что ничего другого не
видел и не слышал. Санчо же не имел теперь иной заботы (после того как они,
по его мнению, достигли вполне безопасного места), кроме заботы
удовлетворить свой желудок остатками добычи, взятой у священнослужителей.
Итак, он ехал за господином, сидя на своем осле по-женски, доставая из мешка
припасы и набивая ими брюхо свое, и, пока он был занят таким образом, он не
дал бы и медного гроша за то, чтоб найти новое приключение. Между тем Санчо,
вскинув глаза, увидел, что его господин остановился и острием копья
старается поднять какой-то узел, лежащий на земле, он поспешил к рыцарю,
чтобы ему помочь, если это окажется нужным; и как раз поспел в ту минуту,
когда Дон Кихот поднимал острием копья седельную подушку с привязанным к ней
ручным чемоданчиком, оба полусгнившие, или, вернее, даже совсем сгнившие и
разваливающиеся, но они были такие тяжелые, что Санчо пришлось сойти с осла,
чтобы поднять их. Его господин приказал ему посмотреть, что в чемоданчике.
Санчо быстро исполнил это; и хотя чемоданчик и был заперт цепью и замком, но
сквозь дыры и отверстия в прогнивших местах он увидел, что там находилось:
четыре рубашки из тонкого голландского полотна и другие полотняные вещи, не
менее тонкие и чистые, а в платочке он нашел добрую кучку золотых монет, и,
когда он их увидел, он воскликнул:
-- Да будет благословенно все небо за то, что оно послало нам
приключение, стоящее чего-нибудь. -- И, поискав еще в чемоданчике, он нашел
богато украшенную маленькую записную книжку, которую Дон Кихот потребовал у
него, деньги же приказал ему сохранить и взять их себе. Санчо поцеловал ему
руки за эту милость и, вынув из чемоданчика белье, положил их в мешок со
съестными припасами. Увидав все это, Дон Кихот сказал:
-- Мне кажется, Санчо (и иначе быть не может), что какой-нибудь
путешественник заблудился в этих горах, а разбойники напали на него, убили и
потом принесли сюда и зарыли в этом столь глухом месте.
-- Не может этого быть, -- ответил Санчо, -- потому что, если б это
были воры, они не оставили бы здесь денег.
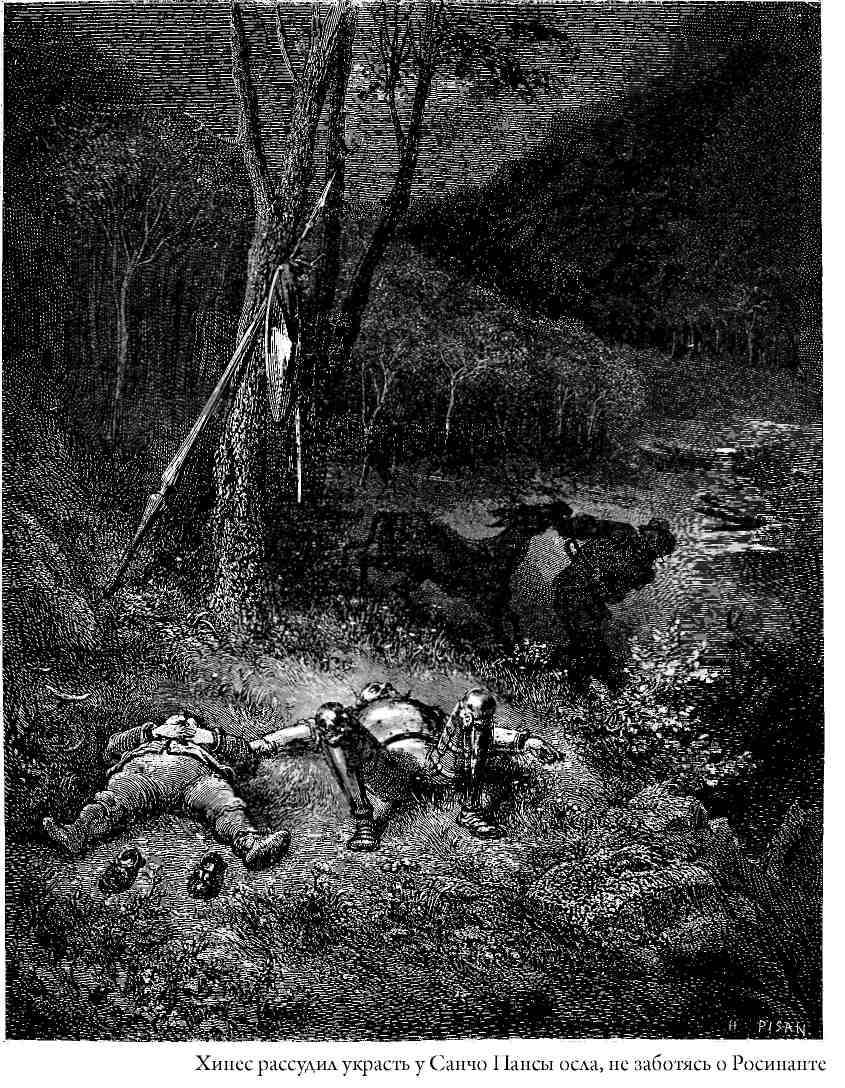 -- Ты прав, -- согласился Дон Кихот, -- и в таком случае я не знаю и не
могу отгадать, что это могло бы быть; но подожди, мы посмотрим, не найдем ли
в этой маленькой книжечке какой-нибудь записи, которая могла бы навести нас
на след и дать сведения о том, что мы желаем узнать.
Он раскрыл книжечку, и первое, на что наткнулся, был сонет, написанный
вчерне, хотя четким, хорошим почерком; читая сонет вслух, чтобы и Санчо тоже
слышал его, он увидел, что в нем заключается следующее:
Иль бог любви не знает состраданья,
Иль чересчур ко мне он был жесток,
Иль я несу сверх меры наказанье
И без вины карает злобный рок?
Но если чтить мы божества сиянье
Должны в любви, -- сомненья нет, что бог
Жестоким быть не может.
Кто ж страданье,
Кто пытку ту мне ниспослать бы мог?
Ты, Нита?[1]
Нет, то было б заблужденье!
Не может ад от неба исходить,
Зло от добра, от блага -- преступленье.
Мне смерть грозит...
Когда происхождение
Причину мук не можем проследить,
Нам не найти лекарства и спасенья!
[1] В испанском сонете имя Fili, которое Санчо, ослышавшись или нарочно
превращает в hilo (старинное filo), т. е. нитка.
-- Из этих стихов, -- сказал Санчо,-- ничего нельзя узнать, разве
только мы по нитке, о которой там речь, доберемся и до всего клубка.
-- Какая там нитка? -- спросил Дон Кихот.
-- Мне послышалось, -- сказал Санчо, -- что ваша милость, читая,
упомянула о нитке.
-- Я не сказал нитка, а Нита, -- ответил Дон Кихот, -- и, без сомнения,
это имя той дамы, на которую жалуется автор сонета; и, по чести, должно
быть, он недурной поэт, или же я мало смыслю в искусстве стихотворства.
-- Значит, -- спросил Санчо, -- милость ваша умеет также писать и
стихи?
-- Получше, чем ты думаешь, -- ответил Дон Кихот, -- и ты увидишь это,
когда я пошлю тебя отнести письмо моей сеньоре Дульсинее Тобосской,
написанное сверху донизу стихами. Ты должен знать, Санчо, что все или
большинство странствующих рыцарей минувших времен были хорошими трубадурами
{Поэты-певцы, а специально так назывались провансальские певцы.} и
музыкантами, потому что эти два искусства, или, вернее говоря, природные
дарования, были свойственны влюбленным странствующим рыцарям; правда также,
что в стихах старинных рыцарей больше ума, чем изящества.
-- Почитайте еще, милость ваша,-- сказал Санчо, -- может быть, и
найдется в книжечке что-нибудь, что удовлетворит нас.
Дон Кихот перевернул страницу и сказал:
-- Тут вот проза, и, по-видимому, это письмо.
-- Для отправки на почту? -- спросил Санчо.
-- Судя по началу, это любовное письмо, -- ответил Дон Кихот.
-- Прочтите вслух, ваша милость,-- попросил Санчо, -- ведь я большой
охотник до всяких любовных историй.
-- Ты прав, -- согласился Дон Кихот, -- и в таком случае я не знаю и не
могу отгадать, что это могло бы быть; но подожди, мы посмотрим, не найдем ли
в этой маленькой книжечке какой-нибудь записи, которая могла бы навести нас
на след и дать сведения о том, что мы желаем узнать.
Он раскрыл книжечку, и первое, на что наткнулся, был сонет, написанный
вчерне, хотя четким, хорошим почерком; читая сонет вслух, чтобы и Санчо тоже
слышал его, он увидел, что в нем заключается следующее:
Иль бог любви не знает состраданья,
Иль чересчур ко мне он был жесток,
Иль я несу сверх меры наказанье
И без вины карает злобный рок?
Но если чтить мы божества сиянье
Должны в любви, -- сомненья нет, что бог
Жестоким быть не может.
Кто ж страданье,
Кто пытку ту мне ниспослать бы мог?
Ты, Нита?[1]
Нет, то было б заблужденье!
Не может ад от неба исходить,
Зло от добра, от блага -- преступленье.
Мне смерть грозит...
Когда происхождение
Причину мук не можем проследить,
Нам не найти лекарства и спасенья!
[1] В испанском сонете имя Fili, которое Санчо, ослышавшись или нарочно
превращает в hilo (старинное filo), т. е. нитка.
-- Из этих стихов, -- сказал Санчо,-- ничего нельзя узнать, разве
только мы по нитке, о которой там речь, доберемся и до всего клубка.
-- Какая там нитка? -- спросил Дон Кихот.
-- Мне послышалось, -- сказал Санчо, -- что ваша милость, читая,
упомянула о нитке.
-- Я не сказал нитка, а Нита, -- ответил Дон Кихот, -- и, без сомнения,
это имя той дамы, на которую жалуется автор сонета; и, по чести, должно
быть, он недурной поэт, или же я мало смыслю в искусстве стихотворства.
-- Значит, -- спросил Санчо, -- милость ваша умеет также писать и
стихи?
-- Получше, чем ты думаешь, -- ответил Дон Кихот, -- и ты увидишь это,
когда я пошлю тебя отнести письмо моей сеньоре Дульсинее Тобосской,
написанное сверху донизу стихами. Ты должен знать, Санчо, что все или
большинство странствующих рыцарей минувших времен были хорошими трубадурами
{Поэты-певцы, а специально так назывались провансальские певцы.} и
музыкантами, потому что эти два искусства, или, вернее говоря, природные
дарования, были свойственны влюбленным странствующим рыцарям; правда также,
что в стихах старинных рыцарей больше ума, чем изящества.
-- Почитайте еще, милость ваша,-- сказал Санчо, -- может быть, и
найдется в книжечке что-нибудь, что удовлетворит нас.
Дон Кихот перевернул страницу и сказал:
-- Тут вот проза, и, по-видимому, это письмо.
-- Для отправки на почту? -- спросил Санчо.
-- Судя по началу, это любовное письмо, -- ответил Дон Кихот.
-- Прочтите вслух, ваша милость,-- попросил Санчо, -- ведь я большой
охотник до всяких любовных историй.
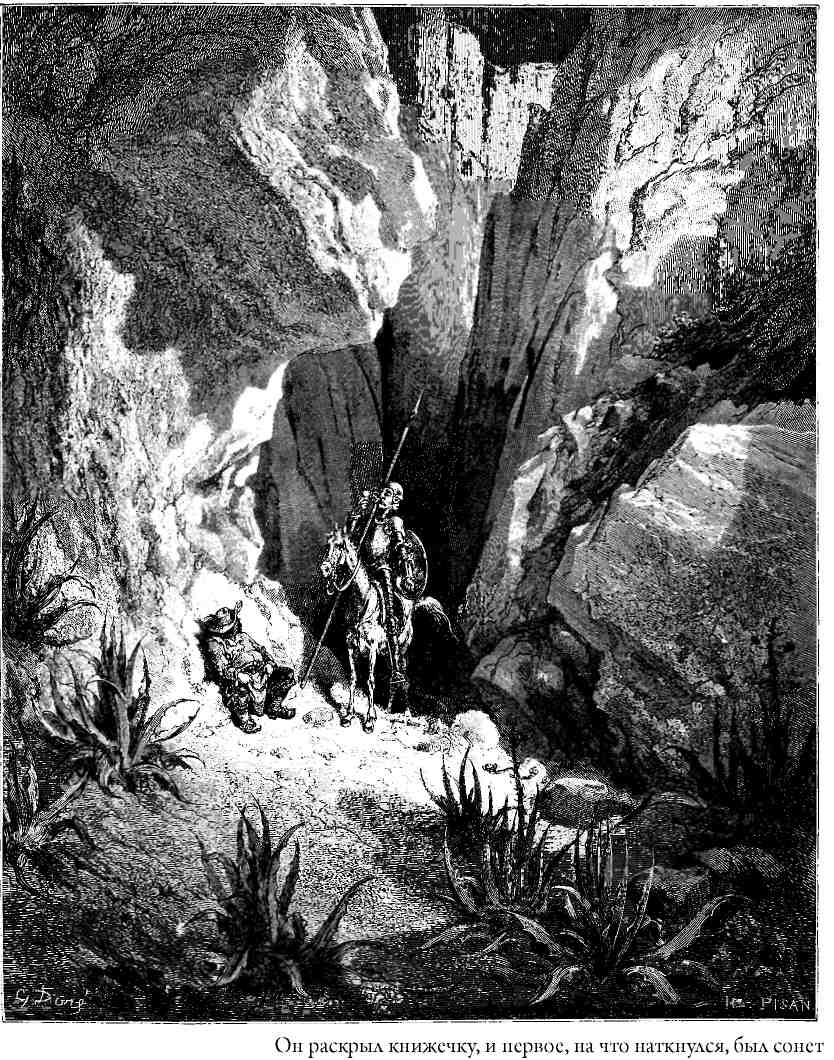 -- С удовольствием, -- ответил Дон Кихот и, читая письмо вслух, как о
том просил Санчо, увидел, что в нем заключается следующее:
"Твое лживое обещание и мое несомненное несчастие влекут меня в такое
место, откуда до твоего слуха раньше донесется весть о моей смерти, чем
слова моих жалоб. Ты, о неблагодарная, отвергла меня для человека,
обладающего большим богатством, чем я, но не стоящего больше меня. И если б
добродетель ценилась подобно богатству, я не завидовал бы теперь чужому
счастию и не оплакивал бы моего несчастия. То, что воздвигла твоя красота,
разрушили твои поступки; из нее я заключил, что ты ангел, -- из них я знаю,
что ты женщина. Пребывай в мире, виновница моих битв, и дай-то небо, чтоб
вероломство твоего мужа оставалось навсегда нераскрытым, чтобы ты не
раскаялась в том, что сделала, и я не отомстил бы там, где этого не желаю".
Прочитав письмо, Дон Кихот сказал:
-- Из этого письма еще менее, чем из стихотворения, можно узнать, кто
написал его; ясно лишь одно, -- что писал его отверженный любовник.
И, перелистав почти всю записную книжечку, он нашел еще другие
стихотворения и письма, из которых иные можно было разобрать, а другие нет.
Но все заключали в себе жалобы, сетования, опасения, изъявления радости,
горя, благосклонности, презрения, причем приятное превозносилось, а грустное
-- оплакивалось.
Пока Дон Кихот рассматривал записную книжечку, Санчо возился с
чемоданчиком, не оставив в нем, а также и в седельной подушке, ни одного
уголка, которого он бы не обшарил, не вытряс и не исследовал: ни одного шва
-- нераспоротым, ни клочка шерсти -- нерастрепанным, желая увериться, что
там ничего не осталось незамеченным по его небрежности или недостатку
старания, -- такую алчность пробудили в нем найденные червонцы, которых
оказалось более ста. И хотя он и не нашел ничего сверх уже найденного, он
теперь вполне примирился и с тем, что его подбрасывали на одеяле, и с рвотой
от бальзама, и с благословением его спины дубинами, и с кулачной расправой
погонщика мулов, и с пропажей дорожных сумок, и с похищением у него одежды,
и с голодом, жаждой и утомлением, перенесенными им на службе своего доброго
господина, так как ему казалось, что он за все это как нельзя более
вознагражден милостивой уступкой ему Дон Кихотом их находки.
Рыцарь Печального Образа был охвачен сильным желанием узнать, кто такой
хозяин ручного чемодана, догадываясь по сонету и письму, по червонцам и
столь тонким рубахам, что это, должно быть, влюбленный знатного рода,
которого довели до какого-нибудь отчаянного шага жестокость и пренебрежение
его дамы.
Но так как в этой пустынной, скалистой местности не видно было никого,
кто бы мог сообщить ему сведения, Дон Кихот думал теперь лишь об одном: как
бы ему скорее ехать дальше, что он и сделал, предоставив Росинанту выбрать
себе дорогу, а выбрал он ту, где ему удобнее было ступать, причем рыцарь не
переставал все время воображать, что среди этой пустынной местности он не
может не встретиться с каким-нибудь необычайным приключением. Пока он ехал
углубленный в эти мысли, вдруг он увидел на вершине небольшого пригорка
человека, прыгавшего с необычайной легкостью со скалы на скалу и из
кустарника в кустарник. Он показался ему почти нагим, с черной густой
бородой, длинными всклокоченными волосами, с босыми ногами; бедра его были
прикрыты панталонами, по-видимому, из темно-желтого бархата, но это были уже
одни лохмотья, так что во многих местах просвечивало тело. Голова его тоже
ничем не была покрыта; и хотя он пробежал, как было сказано, с необычайной
быстротой, но Рыцарь Печального Образа подметил и увидел все эти
подробности. И он попытался догнать его, но не мог этого сделать, потому что
слабым силам Росинанта не было дано взбираться по таким скалистым местам, --
тем более что от природы ход его не был рысист, а весьма медлен. Дон Кихоту
тотчас же пришло на ум, что пробежавший мимо них -- хозяин седельной подушки
и ручного чемоданчика, и он решил искать его, хотя бы ему пришлось скитаться
целый год в горах, пока не найдет его. Поэтому он приказал Санчо слезть с
осла и обогнуть с одной стороны гору, в то время как сам он объедет ее с
другой стороны, и таким образом, быть может, им удастся настигнуть человека,
столь поспешно скрывшегося у них из глаз.
-- С удовольствием, -- ответил Дон Кихот и, читая письмо вслух, как о
том просил Санчо, увидел, что в нем заключается следующее:
"Твое лживое обещание и мое несомненное несчастие влекут меня в такое
место, откуда до твоего слуха раньше донесется весть о моей смерти, чем
слова моих жалоб. Ты, о неблагодарная, отвергла меня для человека,
обладающего большим богатством, чем я, но не стоящего больше меня. И если б
добродетель ценилась подобно богатству, я не завидовал бы теперь чужому
счастию и не оплакивал бы моего несчастия. То, что воздвигла твоя красота,
разрушили твои поступки; из нее я заключил, что ты ангел, -- из них я знаю,
что ты женщина. Пребывай в мире, виновница моих битв, и дай-то небо, чтоб
вероломство твоего мужа оставалось навсегда нераскрытым, чтобы ты не
раскаялась в том, что сделала, и я не отомстил бы там, где этого не желаю".
Прочитав письмо, Дон Кихот сказал:
-- Из этого письма еще менее, чем из стихотворения, можно узнать, кто
написал его; ясно лишь одно, -- что писал его отверженный любовник.
И, перелистав почти всю записную книжечку, он нашел еще другие
стихотворения и письма, из которых иные можно было разобрать, а другие нет.
Но все заключали в себе жалобы, сетования, опасения, изъявления радости,
горя, благосклонности, презрения, причем приятное превозносилось, а грустное
-- оплакивалось.
Пока Дон Кихот рассматривал записную книжечку, Санчо возился с
чемоданчиком, не оставив в нем, а также и в седельной подушке, ни одного
уголка, которого он бы не обшарил, не вытряс и не исследовал: ни одного шва
-- нераспоротым, ни клочка шерсти -- нерастрепанным, желая увериться, что
там ничего не осталось незамеченным по его небрежности или недостатку
старания, -- такую алчность пробудили в нем найденные червонцы, которых
оказалось более ста. И хотя он и не нашел ничего сверх уже найденного, он
теперь вполне примирился и с тем, что его подбрасывали на одеяле, и с рвотой
от бальзама, и с благословением его спины дубинами, и с кулачной расправой
погонщика мулов, и с пропажей дорожных сумок, и с похищением у него одежды,
и с голодом, жаждой и утомлением, перенесенными им на службе своего доброго
господина, так как ему казалось, что он за все это как нельзя более
вознагражден милостивой уступкой ему Дон Кихотом их находки.
Рыцарь Печального Образа был охвачен сильным желанием узнать, кто такой
хозяин ручного чемодана, догадываясь по сонету и письму, по червонцам и
столь тонким рубахам, что это, должно быть, влюбленный знатного рода,
которого довели до какого-нибудь отчаянного шага жестокость и пренебрежение
его дамы.
Но так как в этой пустынной, скалистой местности не видно было никого,
кто бы мог сообщить ему сведения, Дон Кихот думал теперь лишь об одном: как
бы ему скорее ехать дальше, что он и сделал, предоставив Росинанту выбрать
себе дорогу, а выбрал он ту, где ему удобнее было ступать, причем рыцарь не
переставал все время воображать, что среди этой пустынной местности он не
может не встретиться с каким-нибудь необычайным приключением. Пока он ехал
углубленный в эти мысли, вдруг он увидел на вершине небольшого пригорка
человека, прыгавшего с необычайной легкостью со скалы на скалу и из
кустарника в кустарник. Он показался ему почти нагим, с черной густой
бородой, длинными всклокоченными волосами, с босыми ногами; бедра его были
прикрыты панталонами, по-видимому, из темно-желтого бархата, но это были уже
одни лохмотья, так что во многих местах просвечивало тело. Голова его тоже
ничем не была покрыта; и хотя он пробежал, как было сказано, с необычайной
быстротой, но Рыцарь Печального Образа подметил и увидел все эти
подробности. И он попытался догнать его, но не мог этого сделать, потому что
слабым силам Росинанта не было дано взбираться по таким скалистым местам, --
тем более что от природы ход его не был рысист, а весьма медлен. Дон Кихоту
тотчас же пришло на ум, что пробежавший мимо них -- хозяин седельной подушки
и ручного чемоданчика, и он решил искать его, хотя бы ему пришлось скитаться
целый год в горах, пока не найдет его. Поэтому он приказал Санчо слезть с
осла и обогнуть с одной стороны гору, в то время как сам он объедет ее с
другой стороны, и таким образом, быть может, им удастся настигнуть человека,
столь поспешно скрывшегося у них из глаз.
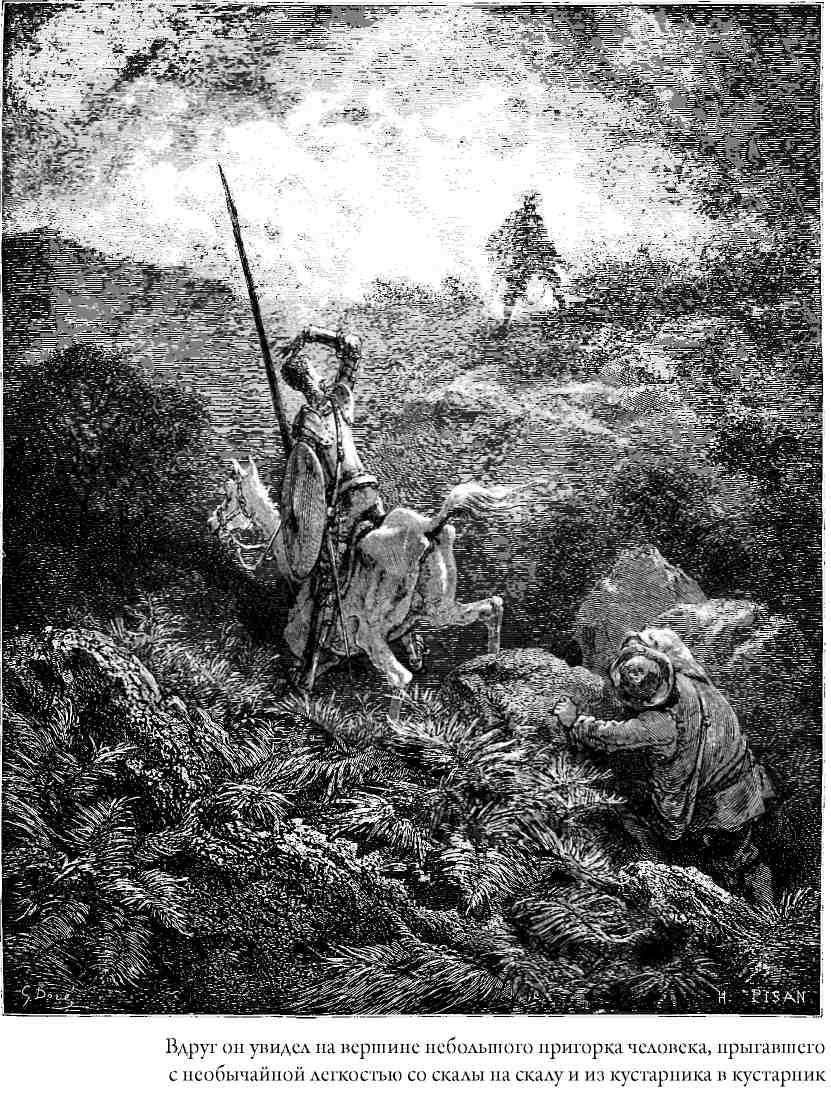 -- Я не могу этого сделать, -- сказал Санчо, -- потому что, лишь только
я удаляюсь от вашей милости, страх тотчас же овладевает мной и терзает меня
тысячью призраков и видений; заметьте себе сказанное мной, и да служит оно
вам предупреждением, что отныне и впредь я не на палец не отойду от вас.
-- Пусть будет так, -- согласился Рыцарь Печального Образа. Мне приятно
видеть, что ты ищешь опору в моем мужестве, которое не изменит тебе, хотя бы
от страха душа твоя была готова расстаться с телом. А теперь следуй за мной
медленно или как можешь и сделай из глаз своих фонари; мы объедем этот
маленький холм и, быть может, встретим того человека, которого сейчас
видели, а он -- без всякого сомнения -- и есть хозяин найденных нами вещей.
На это Санчо ответил:
-- Было бы гораздо лучше не искать его, потому что, если мы его найдем
и он, быть может, окажется хозяином денег,-- очевидно, мне придется вернуть
их ему; итак, было бы лучше, не утруждая себя излишней заботой, хранить со
спокойной совестью эти деньги, пока каким-нибудь другим образом, неожиданно
и без поисков, объявится настоящий их хозяин, и, быть может, это случится,
когда я уж истрачу их, а на нет и суда нет.
-- В этом ты ошибаешься, Санчо,-- ответил Дон Кихот, -- потому что раз
мы догадываемся, кто хозяин денег и он почти что на глазах у нас, -- мы
обязаны его искать и вернуть ему его собственность. А если же мы не станем
искать его, то одно уж столь основательное предположение наше, что он хозяин
денег, сделало бы нас столь же виновными, как если б он действительно был
им. Так что, Санчо, друг, не огорчайся нашими поисками, потому что с души
моей спадет большая забота, если мы его найдем.
Говоря это, Дон Кихот пришпорил Росинанта, и Санчо, как всегда,
последовал за ним на своем осле. Объехав часть горы, они увидели в небольшой
ложбине труп -- наполовину уже съеденный собаками и склеванный воронами --
оседланного и взнузданного мула; все это еще более укрепило их в
предположении, что бежавший был хозяином мула и седельной подушки. В то
время как они рассматривали труп мула, они услышали свист, похожий на свист
пастуха, сгоняющего стадо, и вдруг слева от них появилось большое количество
коз, а сзади, на верхушке горы, показался пастух, человек пожилой. Дон Кихот
окликнул его и попросил спуститься к ним. В свою очередь, и он громко
отозвался, спрашивая, кто завел их сюда, в это место, где редко или даже
никогда еще не ступала человеческая нога, только бродят козы и волки, и
другие дикие звери хозяйничают здесь. Санчо в ответ крикнул, чтобы он сошел
к ним, тогда они все объяснят ему. Козопас спустился и, дойдя до места, где
стоял Дон Кихот, сказал:
-- Я не могу этого сделать, -- сказал Санчо, -- потому что, лишь только
я удаляюсь от вашей милости, страх тотчас же овладевает мной и терзает меня
тысячью призраков и видений; заметьте себе сказанное мной, и да служит оно
вам предупреждением, что отныне и впредь я не на палец не отойду от вас.
-- Пусть будет так, -- согласился Рыцарь Печального Образа. Мне приятно
видеть, что ты ищешь опору в моем мужестве, которое не изменит тебе, хотя бы
от страха душа твоя была готова расстаться с телом. А теперь следуй за мной
медленно или как можешь и сделай из глаз своих фонари; мы объедем этот
маленький холм и, быть может, встретим того человека, которого сейчас
видели, а он -- без всякого сомнения -- и есть хозяин найденных нами вещей.
На это Санчо ответил:
-- Было бы гораздо лучше не искать его, потому что, если мы его найдем
и он, быть может, окажется хозяином денег,-- очевидно, мне придется вернуть
их ему; итак, было бы лучше, не утруждая себя излишней заботой, хранить со
спокойной совестью эти деньги, пока каким-нибудь другим образом, неожиданно
и без поисков, объявится настоящий их хозяин, и, быть может, это случится,
когда я уж истрачу их, а на нет и суда нет.
-- В этом ты ошибаешься, Санчо,-- ответил Дон Кихот, -- потому что раз
мы догадываемся, кто хозяин денег и он почти что на глазах у нас, -- мы
обязаны его искать и вернуть ему его собственность. А если же мы не станем
искать его, то одно уж столь основательное предположение наше, что он хозяин
денег, сделало бы нас столь же виновными, как если б он действительно был
им. Так что, Санчо, друг, не огорчайся нашими поисками, потому что с души
моей спадет большая забота, если мы его найдем.
Говоря это, Дон Кихот пришпорил Росинанта, и Санчо, как всегда,
последовал за ним на своем осле. Объехав часть горы, они увидели в небольшой
ложбине труп -- наполовину уже съеденный собаками и склеванный воронами --
оседланного и взнузданного мула; все это еще более укрепило их в
предположении, что бежавший был хозяином мула и седельной подушки. В то
время как они рассматривали труп мула, они услышали свист, похожий на свист
пастуха, сгоняющего стадо, и вдруг слева от них появилось большое количество
коз, а сзади, на верхушке горы, показался пастух, человек пожилой. Дон Кихот
окликнул его и попросил спуститься к ним. В свою очередь, и он громко
отозвался, спрашивая, кто завел их сюда, в это место, где редко или даже
никогда еще не ступала человеческая нога, только бродят козы и волки, и
другие дикие звери хозяйничают здесь. Санчо в ответ крикнул, чтобы он сошел
к ним, тогда они все объяснят ему. Козопас спустился и, дойдя до места, где
стоял Дон Кихот, сказал:
 -- Готов биться о заклад, что вы смотрите на мула, лежащего мертвым там
вот, в овраге, по чести говорю вам, что он уже целых шесть месяцев находится
здесь. Скажите мне, не встретили ли вы где-нибудь поблизости его хозяина?
-- Мы никого не встретили, -- ответил Дон Кихот, -- а только нашли
недалеко отсюда седельную подушку и небольшой ручной чемодан.
-- И я также видел их, -- ответил козопас, -- но не хотел ни поднять,
ни близко подойти к ним из боязни неприятности и чтобы меня не обвинили в
краже. Дьявол-то ведь лукавый, и под ногами человека вдруг оказывается
что-нибудь такое, обо что он спотыкается и падает, не зная как и почему.
-- Это самое говорю и я, -- сказал Санчо, -- я тоже нашел те вещи, но
не подошел к ним и на расстояние брошенного камня: там я их оставил, и пусть
они остаются лежать, потому что мне не нужна собака с погремушками.
-- Скажите, добрый человек, -- спросил Дон Кихот, -- не знаете ли вы,
кто хозяин этих вещей?
-- Могу вам сказать только то, -- ответил козопас, -- что месяцев шесть
назад -- немногим ли больше, немногим меньше -- к нам в пастуший шалаш около
трех миль отсюда, приехал красивый и стройный юноша верхом на том самом
муле, что лежит здесь мертвый, и с той самой седельной подушкой и ручным
чемоданчиком, которые, по вашим словам, вы нашли и не тронули. Он спросил
нас, какая часть этой горной цепи самая пустынная и суровая; мы указали на
ту, где мы теперь с вами находимся, и это правда, потому что, пройди еще с
полмили вглубь, быть может, уже и не выберешься оттуда, и я изумлен, каким
образом могли вы попасть сюда, в это место, куда нет ни дороги, ни тропинки.
Итак, говорю я, юноша, услыхав наш ответ, повернул своего мула и направился
к тому месту, которое мы ему указали, оставив нас всех восхищенными его
прекрасной наружностью и удивленными как его вопросом, так и поспешностью, с
которой, как мы видели, он повернул и поехал по направлению к горам. С той
поры мы его больше не видели, но через несколько дней он встретился по
дороге одному из наших пастухов и, не говоря ни слова, подошел к нему,
обрушился на него кулаками, надавал ему пинков, а затем бросился к его
вьючному ослу, который вез для нас съестные припасы, забрал с него весь хлеб
и сыр, и, сделав это, он с изумительной быстротой скрылся опять в горах.
Когда мы это узнали, несколько козопасов -- в том числе и я -- отправились
искать его и, пространствовав почти два дня в самых глухих местах этой
горной цепи, наконец мы его нашли скрывающимся в дупле высокого и могучего
пробкового дерева. Он вышел к нам очень кроткий, в изодранной одежде и с
лицом, таким обезображенным и загоревшим от солнца, что навряд ли бы мы
узнали его, если б не платье, хотя и разорванное, которое мы запомнили, и по
нему увидели, что перед нами тот, кого мы искали. Он вежливо поклонился нам
и в кратких, но приветливых словах просил нас не удивляться, видя его
скитающимся здесь в таком состоянии, так как это необходимо для выполнения
одной эпитимии, наложенной на него за многие грехи его. Мы просили его
сообщить, кто он такой, но не могли добиться этого. Просили его также, когда
ему понадобится пища -- без которой он не может существовать, -- сказать
нам, где нам найти его, так как мы охотно и с радостью будем носить ее ему,
или же, если и это ему не нравится, пусть он, по крайней мере, придет и
спросит, что ему нужно, а не отнимает насильно у пастухов. Он благодарил нас
за наше предложение, просил простить его за прошлые нападения и обещал
отныне и впредь просить у нас все нужное ему именем Бога, никого не обижая.
Что же касается местопребывания своего, он сказал, что у него нет другого
жилища, как то, которое ему доставляет случай там, где его застигнет ночь, и
с этими словами он так горько заплакал, что мы, слушавшие его, имели бы
каменное сердце, если б не заплакали вместе с ним, вспоминая, каким мы его
видели в первый раз и каким нашли теперь; потому что, как я уже говорил, он
был очень красивый, изящный юноша, а вежливый и рассудительный его разговор
доказывал, что он знатного происхождения и хорошо воспитан. Хотя мы,
слушавшие его, были лишь деревенские люди, но и в простоте нашей мы не могли
не оценить его милого обращения. Только вдруг среди оживленной речи он
остановился, замолк, и в течение долгого времени пристально устремил глаза в
землю, а мы стояли кругом него молча и изумленные, ожидая, когда кончится с
ним припадок, и смотрели на него с величайшею жалостью, потому что из того,
как он то широко раскрывал глаза, неподвижно устремив их на землю и долгое
время не мигнув ресницами, то закрывал их, стискивая зубы и нахмурив брови,
мы легко догадались, что с ним случился припадок сумасшествия. Вскоре он
доказал нам, что мы не ошиблись, потому что он, в бешенстве вскочив с земли,
на которую только что перед тем бросился, до того яро и свирепо накинулся на
стоявшего подле него пастуха, что, если б мы не отняли его, он убил бы его
кулаками и зубами, и, делая это, он не переставал кричать: "А, вероломный
Фернандо! Здесь, здесь заплатишь ты мне за все зло, нанесенное мне тобою!
Этими руками вырву я твое сердце, в котором живут и обитают, соединившись,
все пороки, особенно же коварство и обман!" И к этим словам он добавил еще и
другие, направленные к обвинению того Фернандо и клеймившие его именем
изменника и предателя. С немалым трудом отняли мы у него нашего товарища; не
говоря больше ни слова, он оставил нас и так быстро скрылся среди мелкого
терновника и кустарника, что нам невозможно было следовать за ним. Из этого
всего мы заключили, что сумасшествие находит на него по временам, и что
некий Фернандо, должно быть, причинил ему зло, и весьма великое зло, как это
доказывало то печальное состояние, до которого он был доведен. Все это
подтвердилось и в последующие разы -- а их было немало, -- когда он выходил
на дорогу, иногда прося пастухов дать ему что-нибудь поесть из того, что они
несут, а в другой раз отнимая у них силой их припасы, потому что, когда на
него найдет припадок безумия, хотя бы пастухи и предлагали ему добровольно
пищу, он не берет ее, а вырывает у них ударами кулаков; когда же он в
здравом рассудке, то просит лишь именем Бога, вежливо и учтиво, рассыпаясь в
благодарностях, и не без слез. Скажу вам по правде, сеньоры, -- продолжал
козопас, -- что вчера я и еще четыре пастуха -- из них двое мои работники, и
двое мои друзья, -- мы решили искать его, пока не найдем, а когда найдем --
силою ли или с его согласия -- отвезти его в город Альмодовар, в восьми
милях отсюда, и там лечить его, если болезнь поддается лечению, или же --
когда он будет в здравом рассудке -- узнать, кто он и есть ли у него родные,
которых можно было бы известить о случившемся с ним несчастии. Вот все,
сеньоры, что я могу ответить вам на ваш вопрос, и будьте уверены, хозяин
вещей, найденных вами, -- тот самый, кого вы видели бежавшим с такой
быстротой почти нагим.
Дон Кихот уже сказал ему, что он видел этого человека, прыгавшего со
скалы на скалу.
Рыцарь был изумлен тем, что он услышал от козопаса, и его желание
узнать, кто был тот несчастный сумасшедший, еще усилилось, и он твердо решил
исполнить то, что раньше задумал: искать его по всей горной цепи, не оставив
без осмотра ни одного уголка, ни одной пещеры, пока не найдет его.
Однако счастие благоприятствовало ему больше, чем он думал и надеялся,
так как в ту самую минуту из ближайшего горного ущелья появился юноша,
которого он искал. Шел он, бормоча что-то про себя, чего нельзя было понять
и вблизи, а тем менее можно было разобрать издали. Одежда на нем была та же,
как уже описано, но только, когда он приблизился, Дон Кихот заметил, что
рваный камзол на его плечах надушен амброй {Эти духи очень высоко ценились
во времена Сервантеса, употреблялись знатными людьми и сохраняли свой запах
надолго и даже будто бы навсегда.}, из чего он заключил, что человек,
носивший такую одежду, не мог быть простого звания. Приблизившись к ним,
юноша приветствовал их хриплым и глухим голосом, но весьма учтиво. Дон Кихот
ответил на его приветствие с неменьшей учтивостию и, с достоинством и
изяществом сойдя с Росинанта, подошел к юноше, обнял его и некоторое время
крепко прижимал к груди, словно знал его долгие годы. Юноша -- которого мы
можем назвать Оборванцем Жалкого Образа, как Дон Кихота -- Печального -- дав
себя обнять, отстранил немного Дон Кихота и, положив ему руки на плечи,
смотрел на него пристально, как бы желая припомнить, не знает ли он его,
удивленный видом, фигурой и вооружением Дон Кихота не менее, быть может, чем
Дон Кихот был удивлен его внешностью. Наконец первым заговорил после объятий
Оборванец, и он сказал то, что будет сообщено ниже.
-- Готов биться о заклад, что вы смотрите на мула, лежащего мертвым там
вот, в овраге, по чести говорю вам, что он уже целых шесть месяцев находится
здесь. Скажите мне, не встретили ли вы где-нибудь поблизости его хозяина?
-- Мы никого не встретили, -- ответил Дон Кихот, -- а только нашли
недалеко отсюда седельную подушку и небольшой ручной чемодан.
-- И я также видел их, -- ответил козопас, -- но не хотел ни поднять,
ни близко подойти к ним из боязни неприятности и чтобы меня не обвинили в
краже. Дьявол-то ведь лукавый, и под ногами человека вдруг оказывается
что-нибудь такое, обо что он спотыкается и падает, не зная как и почему.
-- Это самое говорю и я, -- сказал Санчо, -- я тоже нашел те вещи, но
не подошел к ним и на расстояние брошенного камня: там я их оставил, и пусть
они остаются лежать, потому что мне не нужна собака с погремушками.
-- Скажите, добрый человек, -- спросил Дон Кихот, -- не знаете ли вы,
кто хозяин этих вещей?
-- Могу вам сказать только то, -- ответил козопас, -- что месяцев шесть
назад -- немногим ли больше, немногим меньше -- к нам в пастуший шалаш около
трех миль отсюда, приехал красивый и стройный юноша верхом на том самом
муле, что лежит здесь мертвый, и с той самой седельной подушкой и ручным
чемоданчиком, которые, по вашим словам, вы нашли и не тронули. Он спросил
нас, какая часть этой горной цепи самая пустынная и суровая; мы указали на
ту, где мы теперь с вами находимся, и это правда, потому что, пройди еще с
полмили вглубь, быть может, уже и не выберешься оттуда, и я изумлен, каким
образом могли вы попасть сюда, в это место, куда нет ни дороги, ни тропинки.
Итак, говорю я, юноша, услыхав наш ответ, повернул своего мула и направился
к тому месту, которое мы ему указали, оставив нас всех восхищенными его
прекрасной наружностью и удивленными как его вопросом, так и поспешностью, с
которой, как мы видели, он повернул и поехал по направлению к горам. С той
поры мы его больше не видели, но через несколько дней он встретился по
дороге одному из наших пастухов и, не говоря ни слова, подошел к нему,
обрушился на него кулаками, надавал ему пинков, а затем бросился к его
вьючному ослу, который вез для нас съестные припасы, забрал с него весь хлеб
и сыр, и, сделав это, он с изумительной быстротой скрылся опять в горах.
Когда мы это узнали, несколько козопасов -- в том числе и я -- отправились
искать его и, пространствовав почти два дня в самых глухих местах этой
горной цепи, наконец мы его нашли скрывающимся в дупле высокого и могучего
пробкового дерева. Он вышел к нам очень кроткий, в изодранной одежде и с
лицом, таким обезображенным и загоревшим от солнца, что навряд ли бы мы
узнали его, если б не платье, хотя и разорванное, которое мы запомнили, и по
нему увидели, что перед нами тот, кого мы искали. Он вежливо поклонился нам
и в кратких, но приветливых словах просил нас не удивляться, видя его
скитающимся здесь в таком состоянии, так как это необходимо для выполнения
одной эпитимии, наложенной на него за многие грехи его. Мы просили его
сообщить, кто он такой, но не могли добиться этого. Просили его также, когда
ему понадобится пища -- без которой он не может существовать, -- сказать
нам, где нам найти его, так как мы охотно и с радостью будем носить ее ему,
или же, если и это ему не нравится, пусть он, по крайней мере, придет и
спросит, что ему нужно, а не отнимает насильно у пастухов. Он благодарил нас
за наше предложение, просил простить его за прошлые нападения и обещал
отныне и впредь просить у нас все нужное ему именем Бога, никого не обижая.
Что же касается местопребывания своего, он сказал, что у него нет другого
жилища, как то, которое ему доставляет случай там, где его застигнет ночь, и
с этими словами он так горько заплакал, что мы, слушавшие его, имели бы
каменное сердце, если б не заплакали вместе с ним, вспоминая, каким мы его
видели в первый раз и каким нашли теперь; потому что, как я уже говорил, он
был очень красивый, изящный юноша, а вежливый и рассудительный его разговор
доказывал, что он знатного происхождения и хорошо воспитан. Хотя мы,
слушавшие его, были лишь деревенские люди, но и в простоте нашей мы не могли
не оценить его милого обращения. Только вдруг среди оживленной речи он
остановился, замолк, и в течение долгого времени пристально устремил глаза в
землю, а мы стояли кругом него молча и изумленные, ожидая, когда кончится с
ним припадок, и смотрели на него с величайшею жалостью, потому что из того,
как он то широко раскрывал глаза, неподвижно устремив их на землю и долгое
время не мигнув ресницами, то закрывал их, стискивая зубы и нахмурив брови,
мы легко догадались, что с ним случился припадок сумасшествия. Вскоре он
доказал нам, что мы не ошиблись, потому что он, в бешенстве вскочив с земли,
на которую только что перед тем бросился, до того яро и свирепо накинулся на
стоявшего подле него пастуха, что, если б мы не отняли его, он убил бы его
кулаками и зубами, и, делая это, он не переставал кричать: "А, вероломный
Фернандо! Здесь, здесь заплатишь ты мне за все зло, нанесенное мне тобою!
Этими руками вырву я твое сердце, в котором живут и обитают, соединившись,
все пороки, особенно же коварство и обман!" И к этим словам он добавил еще и
другие, направленные к обвинению того Фернандо и клеймившие его именем
изменника и предателя. С немалым трудом отняли мы у него нашего товарища; не
говоря больше ни слова, он оставил нас и так быстро скрылся среди мелкого
терновника и кустарника, что нам невозможно было следовать за ним. Из этого
всего мы заключили, что сумасшествие находит на него по временам, и что
некий Фернандо, должно быть, причинил ему зло, и весьма великое зло, как это
доказывало то печальное состояние, до которого он был доведен. Все это
подтвердилось и в последующие разы -- а их было немало, -- когда он выходил
на дорогу, иногда прося пастухов дать ему что-нибудь поесть из того, что они
несут, а в другой раз отнимая у них силой их припасы, потому что, когда на
него найдет припадок безумия, хотя бы пастухи и предлагали ему добровольно
пищу, он не берет ее, а вырывает у них ударами кулаков; когда же он в
здравом рассудке, то просит лишь именем Бога, вежливо и учтиво, рассыпаясь в
благодарностях, и не без слез. Скажу вам по правде, сеньоры, -- продолжал
козопас, -- что вчера я и еще четыре пастуха -- из них двое мои работники, и
двое мои друзья, -- мы решили искать его, пока не найдем, а когда найдем --
силою ли или с его согласия -- отвезти его в город Альмодовар, в восьми
милях отсюда, и там лечить его, если болезнь поддается лечению, или же --
когда он будет в здравом рассудке -- узнать, кто он и есть ли у него родные,
которых можно было бы известить о случившемся с ним несчастии. Вот все,
сеньоры, что я могу ответить вам на ваш вопрос, и будьте уверены, хозяин
вещей, найденных вами, -- тот самый, кого вы видели бежавшим с такой
быстротой почти нагим.
Дон Кихот уже сказал ему, что он видел этого человека, прыгавшего со
скалы на скалу.
Рыцарь был изумлен тем, что он услышал от козопаса, и его желание
узнать, кто был тот несчастный сумасшедший, еще усилилось, и он твердо решил
исполнить то, что раньше задумал: искать его по всей горной цепи, не оставив
без осмотра ни одного уголка, ни одной пещеры, пока не найдет его.
Однако счастие благоприятствовало ему больше, чем он думал и надеялся,
так как в ту самую минуту из ближайшего горного ущелья появился юноша,
которого он искал. Шел он, бормоча что-то про себя, чего нельзя было понять
и вблизи, а тем менее можно было разобрать издали. Одежда на нем была та же,
как уже описано, но только, когда он приблизился, Дон Кихот заметил, что
рваный камзол на его плечах надушен амброй {Эти духи очень высоко ценились
во времена Сервантеса, употреблялись знатными людьми и сохраняли свой запах
надолго и даже будто бы навсегда.}, из чего он заключил, что человек,
носивший такую одежду, не мог быть простого звания. Приблизившись к ним,
юноша приветствовал их хриплым и глухим голосом, но весьма учтиво. Дон Кихот
ответил на его приветствие с неменьшей учтивостию и, с достоинством и
изяществом сойдя с Росинанта, подошел к юноше, обнял его и некоторое время
крепко прижимал к груди, словно знал его долгие годы. Юноша -- которого мы
можем назвать Оборванцем Жалкого Образа, как Дон Кихота -- Печального -- дав
себя обнять, отстранил немного Дон Кихота и, положив ему руки на плечи,
смотрел на него пристально, как бы желая припомнить, не знает ли он его,
удивленный видом, фигурой и вооружением Дон Кихота не менее, быть может, чем
Дон Кихот был удивлен его внешностью. Наконец первым заговорил после объятий
Оборванец, и он сказал то, что будет сообщено ниже.

Глава XXIV, в которой продолжается приключение в Сьерра-Морене
 История повествует, что Дон Кихот слушал с величайшим вниманием
злосчастного рыцаря Сьерры, который так начал свою речь:
-- Конечно, сеньор, -- кто бы вы ни были (потому что я вас не знаю), я
благодарен вам за данные мне доказательства вашего благорасположения и очень
бы желал быть в состоянии отплатить за столь любезный ваш прием чем-нибудь
большим, а не одним лишь добрым намерением. Но судьба лишила меня
возможности отвечать на оказываемые мне услуги иначе как только желанием
отплатить за них.
-- А мое желание, -- ответил Дон Кихот, -- сводится к тому, чтобы
служить вам, и оно так сильно, что я еще раньше решил не покидать этих гор,
пока не разыщу вас и не узнаю от вас, нельзя ли
найти какое-нибудь средство для облегчения горя, которое, по-видимому,
побудило вас вести столь странный образ жизни, и если окажется нужным
отыскать это средство, то искать его со всевозможным рвением. В случае же
если б ваше несчастие было из тех, что закрывают двери перед всякого рода
утешением, я имел в виду поплакать и погоревать вместе с вами, как могу,
потому что все-таки утешение -- найти в несчастии кого-нибудь, кто огорчен
им. И если доброе мое намерение заслуживает какой-либо признательности,
умоляю вас, сеньор, ради той любезности, которой, на мой взгляд, у вас так
много, и в то же время заклинаю вас тем, что вы больше всего в жизни любили
и еще любите, скажите мне, кто вы такой и что побудило вас жить и умереть в
этих пустынях, как дикий зверь, пребывая в их среде столь неподходящим для
вас образом, как это видно по вашей одежде и наружности. И я клянусь, --
добавил Дон Кихот,-- орденом рыцарства, членом которого, хотя недостойный и
грешный, я состою, и моей профессией странствующего рыцаря, если вы, сеньор,
исполните просьбу мою, я буду служить вам со всем рвением, к которому
обязывает меня мое звание, стараясь облегчить ваше несчастие, если окажется
возможность облегчить его, или же проливая вместе с вами над ним слезы, как
я уже говорил.
Рыцарь Леса, услыхав, каким слогом говорит с ним Рыцарь Печального
Образа, только и делал, что глядел на него во все глаза и вновь и вновь
рассматривал его с ног до головы, и после того как хорошенько рассмотрел,
сказал:
-- Если у вас найдется что-нибудь поесть, именем Бога прошу вас, дайте
мне, и как только я поем, я сделаю все, о чем вы меня просите, из
благодарности за столь доброе расположение, которое было мне здесь оказано.
Тотчас же Санчо достал из своего мешка, а козопас из котомки, чем
утолить голод Оборванца, который, подобно умалишенному, ел то, что ему дали,
так поспешно, что у него почти не было промежутка между одним и другим
куском, так как он не ел, а жадно поглощал их, и, пока он это делал, ни он,
ни все смотревшие на него не проронили ни слова. Кончив есть, он дал им знак
следовать за ним, что они и сделали, и привел их на зеленый лужок,
раскинувшийся тотчас же за ближайшим выступом скалы. Здесь он растянулся на
траве, остальные последовали его примеру; все это делалось молча, пока
Оборванец, удобно усевшись, не заговорил:
-- Если вы, сеньоры, желаете, чтобы я в кратких словах передал вам
повесть безграничного моего несчастия, вы должны обещать мне, что не будете
прерывать нити моего грустного рассказа вопросами или чем бы то ни было,
потому что, как только вы это сделаете, мне придется тотчас же прекратить
его.
Эти слова Оборванца напомнили Дон Кихоту сказку, рассказанную ему
оруженосцем его, когда он не мог указать число коз, перевезенных через реку,
и сказка осталась недосказанной.
Но вернемся к Оборванцу, который продолжал так:
-- Я ставлю это условие потому, что желал бы как можно кратче передать
вам повесть моих несчастий, так как воспоминание о них доставляет мне лишь
новое страдание, и чем меньше вы будете спрашивать меня, тем скорее я кончу
свой рассказ, хотя и не пропущу в нем ничего существенного, чтобы вполне
удовлетворить ваше желание.
Дон Кихот обещал от имени всех исполнить его требование, и, заручившись
этим обещанием, молодой человек начал так:
-- Мое имя Карденио; родился я в одном из лучших городов Андалузии;
происхождение мое знатное, родители -- богатые; несчастие же мое так велико,
что отец и мать могут оплакивать его, родственники могут огорчаться им, но
не в состоянии облегчить его своим богатством, потому что от невзгод,
посланных небесами, не охранят и не спасут деньги и состояние. В том же
родном мне уголке земли обитало само небо -- девушка, которую любовь
украсила таким блеском, о каком я и не смел мечтать: так велика была красота
Люсинды, -- девушки, столь же знатной и богатой, как и я, но более
счастливой, чем я, и менее постоянной, чем того заслуживали чистые мои
намерения. Эту Люсинду я любил, восхищался ею и боготворил ее с самой ранней
моей юности, и она тоже любила меня со всей искренностью и невинностью,
свойственными нежному ее возрасту. Родители знали о наших чувствах и не
противились им, так как ясно видели, что с годами они не могут кончиться не
чем иным, как только браком, которому благоприятствовало равенство
происхождения и богатства. Мы росли, вместе с нами росла и наша любовь, так
что отцу Люсинды стало казаться, что он -- ради приличия и осторожности --
должен воспретить мне бывать у них в доме, подражая в этом родителям столь
воспетой поэтами Тисбы. Но это запрещение прибавило лишь пламя к пламени и
страстное желание к страстному желанию, потому что, хотя и наложило молчание
на наши уста, не могло наложить его на наши перья, которые обыкновенно с
большей свободой, чем языки, открывают любящим то, что скрыто в сердце,
потому что часто присутствие любимого предмета смущает и заставляет
умолкнуть самую твердую решимость и самый смелый язык. О небо, сколько писем
написал я ей; сколько скромных очаровательных ответов получил от нее!
Сколько песен, сколько любовных стихов сочинил, в которых открывал свою
душу, изливал свои чувства, описывал пламенные свои желания, предавался
воспоминаниям и питал свою страсть! Наконец я стал чахнуть, и душа моя до
того сильно томилась желанием увидеть Люсинду, что я решил прибегнуть и
обратиться к средству, казавшемуся мне наиболее пригодным для достижения
столь желанной и заслуженной мной награды, -- именно просить ее отца дать
мне ее в жены, -- что я и сделал. В ответ он сказал, что благодарит меня за
желание оказать ему честь и почтить и себя, домогаясь союза с дорогой его
дочерью, но так как мой отец жив, то ему по праву следует сделать это
предложение, потому что, в случае если он не дал бы полного своего одобрения
и согласия, Люсинда не из тех, которых берут или отдают замуж тайком. Я
поблагодарил его за доброе ко мне расположение, сознавая, что он прав,
говоря таким образом, и вполне уверенный, что отец мой немедленно даст свое
согласие, как только я с ним переговорю. С этим намерением я тотчас же пошел
к отцу, чтобы сообщить ему о своем желании. Но, войдя в комнату, где он
находился, я застал его с распечатанным письмом в руках, которое, прежде чем
я успел выговорить слово, он мне передал, говоря: "Из этого письма ты
увидишь, Карденио, какую милость желает тебе оказать герцог Рикардо". А этот
герцог Рикардо, как вы, сеньоры, должно быть, знаете, -- испанский гранд,
владелец богатых поместий в лучшей части Андалузии. Я взял письмо, прочел
его; оно было такое сердечное, что и мне самому показалось, что не хорошо
было бы, если б мой отец не исполнил просьбы герцога. Просил же он, как
можно скорее прислать меня к нему в качестве не слуги, а товарища его
старшего сына, обещая вместе с тем доставить мне такое положение, которое
соответствовало бы его уважению ко мне. Я прочел письмо и, читая его,
онемел, а тем более еще когда услышал, что отец мой сказал: "Через два дня
ты уедешь, Карденио, из дому, чтобы исполнить желание герцога, и благодари
Бога, что Он открывает тебе путь, по которому ты достигнешь того, чего ты,
как я знаю, вполне заслуживаешь". И к этому он добавил еще несколько
отеческих советов. Время моего отъезда наступило; перед тем ночью я говорил
с Люсиндой, рассказал ей все, что произошло, и сообщил также и ее отцу,
умоляя его подождать некоторое время и не выдавать дочь замуж, пока я не
увижу, чего герцог Рикардо желает от меня. Он обещал мне это, а Люсинда
подтвердила его обещание тысячей клятв и обмороков. Наконец я приехал к
герцогу Рикардо, и он так хорошо встретил меня и обращался со мной, что
зависть тотчас же принялась делать свое дело, закравшись в душу старых
герцогских слуг, думавших, что доказательства его расположения ко мне
послужат во вред им. Но тот, кто особенно обрадовался моему приезду, был
второй сын герцога, по имени дон Фернандо, веселый, увлекающийся, щедрый и
влюбчивый юноша, который в короткое время так подружился со мной, что об
этом пошли везде толки. И хотя я нравился также и старшему сыну герцога, и
он тоже относился ко мне очень мило, но все же не в такой степени, как меня
любил и со мной дружил дон Фернандо. Ввиду того что у друзей не бывает тайн,
которые бы они не сообщали друг другу -- а моя близость к дону Фернандо
быстро перешла в дружбу, -- он открывал мне все свои мысли и в особенности
говорил об одном своем романе, несколько его тревожившем. Именно: он был
страстно влюблен в дочь земледельца, вассала его отца, родители которой были
очень богаты, сама же она до того прекрасна, умна, скромна и добродетельна,
что никто из всех знавших не мог решить, которыми из этих качеств она
обладала в более высокой степени или в большем совершенстве. Чары прекрасной
крестьянки так разожгли страсть дона Фернандо, что он для достижения своей
цели и победы над добродетелью девушки решил дать ей слово жениться на ней,
потому что добиваться чего-либо иным путем значило бы добиваться
невозможного. По долгу дружбы, связывающей меня с ним, я счел своею
обязанностию самыми убедительными доводами, какие я только мог придумать, и
самыми яркими примерами, какие я только знал, попытаться отговорить его от
его намерения и отклонить от него. Но видя, что ничто не помогает, я решил
рассказать обо всем его отцу, герцогу Рикардо. Однако дон Фернандо,
проницательный и хитрый, боялся и опасался этого, зная, что я, в качестве
верного слуги, обязан открыть герцогу, моему господину, вещь столь
предосудительную для его чести. Итак, чтобы ввести меня в заблуждение и
обмануть, он сказал, что не находит лучшего средства изгнать из своей памяти
красавицу, так сильно полонившую его, как только удалиться на несколько
месяцев, и с этой целью он желал бы, чтобы мы оба поехали к моему отцу под
предлогом, как он скажет герцогу, посмотреть и купить нескольких хороших
лошадей в моем родном городе, славившемся лучшими в мире лошадьми {В те
времена особенно славилась своими лошадьми Кордова.}. Лишь только я услышал
эти его слова, побуждаемый собственной моей любовью, я счел его решение как
нельзя более разумным, и посмотрел бы на него точно так же, если б оно и не
было столь благоразумным, ввиду того что мне представлялся случай и
возможность снова увидеться с моей Люсиндой. Движимый этой мыслью и этим
желанием, я одобрил его план, поддержал его в его намерении и торопил как
можно скорее привести его в исполнение, потому что разлука, наверное,
произведет свое действие, как бы ни была велика сила чувства. А в то время,
когда он вел такие разговоры со мной, он -- как я потом узнал -- уже
насладился под видом супруга любовью молодой крестьянки и ждал лишь случая
разгласить об этом с безопасностью для себя, потому что боялся гнева
герцога, отца своего, когда тот узнает о его безрассудстве. Но известно, что
любовь молодых людей по большей части не любовь, а только вожделение,
которое, имея конечной своей целью наслаждение, достигнув этой цели, гаснет,
и то, что казалось любовью, прекращается, потому что не может перейти за
пределы, поставленные природой, -- а такими пределами не ограничена истинная
любовь. С доном Фернандо произошло то же самое; лишь только он овладел
молодой крестьянкой, его желания утихли, страсть охладела, так что, если он
сначала притворялся, будто хочет уехать, чтобы исцелиться от своей любви,
теперь он действительно торопился это сделать, желая избавиться от
исполнения данного им обещания. Герцог отпустил своего сына и приказал мне
сопровождать его.
Мы приехали в родной мой город; отец мой принял дона Фернандо, как
подобает его званию; тотчас же я повидался с Люсиндой, и страсть моя снова
ожила (хотя она нимало не угасала и не умирала). На свое несчастие, я
рассказал обо всем дону Фернандо, так как мне казалось, что мой долг ввиду
великой дружбы, выказываемой им мне, ничего не скрывать от него. Я так
восхвалял ему красоту, изящество и ум Люсинды, что мои похвалы возбудили в
нем желание видеть девушку, украшенную столь великими совершенствами. На
гибель себе, я исполнил это его желание и показал ему Люсинду однажды ночью,
при свете восковой свечи, в окне, где мы обыкновенно с ней разговаривали.
Увидел он ее в утреннем домашнем платье, и она была так очаровательна, что
сразу затмила в его уме образы всех красавиц, которых он до тех пор
встречал. Он онемел, он ничего не видел и не слышал, он стоял, не отрывая от
нее глаз, и пламенно влюбился в нее, -- как это и выяснится из продолжения
рассказа о моих несчастиях. Чтобы еще сильнее разжечь его страсть (которую
он тщательно скрывал от меня и доверял одним лишь звездам), случилось, что
однажды он нашел письмо ко мне Люсинды, в котором она советовала мне просить
ее отца выдать ее за меня замуж, письмо, написанное так умно, скромно и с
такой любовью, что Фернандо, прочитав его, сказал мне, что в одной Люсинде
соединены все прелести красоты и ума, которые у остальных женщин в мире
встречаются лишь порознь. Правда -- и я должен сознаться в этом теперь, --
хотя я хорошо понимал, насколько справедливо дон Фернандо восхвалял Люсинду,
мне было неприятно слышать эти похвалы из его уст. Я начал бояться и
избегать его, потому что не проходило минуты, когда бы он не желал говорить
о Люсинде, и всегда наводил на нее разговор, хотя бы притягивая его за
волосы. Это пробудило во мне нечто похожее на ревность. Не то чтобы я
опасался непостоянства Люсинды или ее неверности, но, хотя и вполне
уверенный в ней, я дрожал при мысли о превратностях судьбы. Дон Фернандо
продолжал читать письма, которые я посылал Люсинде, и ее ответы мне под
предлогом, что проявляющийся в них ум обоих нас доставляет ему большое
удовольствие. Случилось так, что однажды Люсинда попросила у меня почитать
одну рыцарскую книгу, которую она очень любила, и это был "Амадис
Галльский"...
Едва Дон Кихот услышал упоминание о рыцарской книге, как он сказал:
-- Если б вы, милость ваша, сейчас же, в начале вашей истории, сказали
мне, что ее милость, сеньора Люсинда, любит рыцарские книги, не требовалось
бы никаких других разъяснений, чтоб убедить меня в превосходстве ее ума, так
как он не мог бы быть у нее столь выдающимся, каким вы, сеньор, описали его,
если б она не была одарена склонностью к такому усладительному чтению. Итак,
что касается меня, вам незачем тратить больше слов для заверений о ее
красоте, достоинствах и уме; потому что, лишь услыхав об этой ее склонности,
я готов утверждать, что она -- самая красивая и умная женщина в мире, и я бы
желал только, чтобы вы, сеньор, заодно с "Амадисом Галльским", послали ей
также и почтенного "Дона Рухеля Греческого", так как я уверен, что сеньоре
Люсинде очень понравились бы Дараида и Гарая, а также и остроумие пастуха
Даринела и его удивительные буколические стихи, которые он читал и пел с
таким изяществом, умом и развязностью. Но со временем пробел этот может быть
пополнен, а для этого требуется только, чтобы милость ваша соизволила
поехать со мной в мою деревню, где я мог бы вам дать более трехсот книг,
составляющих усладу души моей и радость моей жизни, хотя -- думается мне --
у меня нет уже больше книг благодаря злобе коварных и завистливых
волшебников. Простите мне, что я не сдержал данного обещания не прерывать
вашего рассказа; но когда я слышу разговор о рыцарстве и странствующих
рыцарях, мне также невозможно воздержаться говорить о них, как солнечным
лучам невозможно не испускать теплоту, а лучам луны -- увлажнять росой {По
народному поверью тех времен, луна считалась причиной и источником воды и
всякой влаги, подобно тому как солнце -- источником огня и теплоты.}. Итак,
простите мне, и продолжайте, потому что теперь это наиболее существенное.
Пока Дон Кихот произносил только что приведенные слова, Карденио,
опустив голову на грудь, впал, по-видимому, в глубокую задумчивость; и, хотя
Дон Кихот дважды повторил ему, чтобы он продолжал свой рассказ, он не поднял
головы и не ответил ни слова. Наконец после довольно продолжительной
остановки он приподнялся и сказал:
-- Я не могу отделаться от одной мысли, и никто в мире не может
избавить меня от нее или же убедить меня в ином, -- и болван был бы тот, кто
думал или утверждал бы противное, именно: будто бы этот величайший плут
маэстро Элисабад не был любовником королевы Мадасимы.
-- Это ложь, -- клянусь всем в мире, что это ложь, -- воскликнул
разгневанный Дон Кихот (по обыкновению быстро вспыхнув), -- и величайшая
клевета, или, вернее, подлость. Королева Мадасима была благороднейшей
сеньорой, и нельзя предполагать, чтобы столь знатная принцесса имела
любовную связь с каким-то лекаришкой; кто же утверждает противное, лжет, как
величайший негодяй, и я берусь доказать ему это, пеший или конный,
вооруженный или безоружный, ночью или днем, как ему будет угодно.
Карденио смотрел пристально на Дон Кихота, потому что на него уже нашел
его припадок безумия и он не был в состоянии продолжать своей истории, как и
Дон Кихот не был в состоянии слушать ее, -- до того был он выведен из себя
сказанным Карденио о Мадасиме. Удивительная вещь! Он так серьезно за нее
заступился, будто она и в самом деле была его настоящей и природной
повелительницей: до того им владели проклятые его книги!
Когда Карденио, на которого, как я уже говорил, нашел его припадок
безумия, услышал, что его называют лжецом, подлецом и другими бранными
словами, шутка эта не понравилась ему, и он поднял камень, лежавший вблизи
него, и бросил им так сильно в грудь Дон Кихоту, что тот упал навзничь.
Увидав, как он обращается с его господином, Санчо Панса кинулся на
сумасшедшего со сжатыми кулаками; но Оборванец принял его так, что одним
ударом кулака свалил на землю, тотчас же вскочил на него и помял ему бока во
все свое удовольствие. Козопас, который хотел защитить Санчо, подвергся той
же участи; и после того, как он всех их повалил на землю и избил, он оставил
их и спокойно удалился в горы, где и скрылся. Санчо встал и, взбешенный тем,
что его так незаслуженно отколотили, бросился на козопаса, чтобы отомстить
ему, обвиняя его во всем, так как он не предупредил их, что по временам этот
человек подвержен припадкам безумия, потому что если бы они это знали, то
были бы осторожнее и сумели бы себя уберечь от него. Козопас ответил, что
говорил им, а если Санчо не слышал, то вина не его. Санчо возразил; козопас
стоял на своем, и концом этих пререканий было то, что они вцепились друг
другу в бороды, и посыпались такие удары кулаков, что если бы Дон Кихот не
разнял их, они бы растерзали друг друга на куски. Схватившись с козопасом,
Санчо говорил:
-- Оставьте меня, милость ваша, сеньор Рыцарь Печального Образа, ведь с
этим человеком, таким же простолюдином, как и я, и не посвященным в рыцари,
я могу спокойно расправиться за оскорбление, нанесенное им мне, и драться с
ним один на один, как честный человек.
-- Совершенно верно, -- сказал Дон Кихот, -- но я знаю, что он нимало
не виноват в том, что случилось.
Этим он помирил их и снова спросил козопаса, нельзя ли будет отыскать
Карденио, потому что он чувствует сильнейшее желание услышать конец его
истории. Козопас повторил сказанное им еще раньше, именно что нет верных
сведений о его местопребывании, но если Дон Кихот много поездит по этим
окрестностям, он непременно разыщет его, или в здравом уме, или безумного.
История повествует, что Дон Кихот слушал с величайшим вниманием
злосчастного рыцаря Сьерры, который так начал свою речь:
-- Конечно, сеньор, -- кто бы вы ни были (потому что я вас не знаю), я
благодарен вам за данные мне доказательства вашего благорасположения и очень
бы желал быть в состоянии отплатить за столь любезный ваш прием чем-нибудь
большим, а не одним лишь добрым намерением. Но судьба лишила меня
возможности отвечать на оказываемые мне услуги иначе как только желанием
отплатить за них.
-- А мое желание, -- ответил Дон Кихот, -- сводится к тому, чтобы
служить вам, и оно так сильно, что я еще раньше решил не покидать этих гор,
пока не разыщу вас и не узнаю от вас, нельзя ли
найти какое-нибудь средство для облегчения горя, которое, по-видимому,
побудило вас вести столь странный образ жизни, и если окажется нужным
отыскать это средство, то искать его со всевозможным рвением. В случае же
если б ваше несчастие было из тех, что закрывают двери перед всякого рода
утешением, я имел в виду поплакать и погоревать вместе с вами, как могу,
потому что все-таки утешение -- найти в несчастии кого-нибудь, кто огорчен
им. И если доброе мое намерение заслуживает какой-либо признательности,
умоляю вас, сеньор, ради той любезности, которой, на мой взгляд, у вас так
много, и в то же время заклинаю вас тем, что вы больше всего в жизни любили
и еще любите, скажите мне, кто вы такой и что побудило вас жить и умереть в
этих пустынях, как дикий зверь, пребывая в их среде столь неподходящим для
вас образом, как это видно по вашей одежде и наружности. И я клянусь, --
добавил Дон Кихот,-- орденом рыцарства, членом которого, хотя недостойный и
грешный, я состою, и моей профессией странствующего рыцаря, если вы, сеньор,
исполните просьбу мою, я буду служить вам со всем рвением, к которому
обязывает меня мое звание, стараясь облегчить ваше несчастие, если окажется
возможность облегчить его, или же проливая вместе с вами над ним слезы, как
я уже говорил.
Рыцарь Леса, услыхав, каким слогом говорит с ним Рыцарь Печального
Образа, только и делал, что глядел на него во все глаза и вновь и вновь
рассматривал его с ног до головы, и после того как хорошенько рассмотрел,
сказал:
-- Если у вас найдется что-нибудь поесть, именем Бога прошу вас, дайте
мне, и как только я поем, я сделаю все, о чем вы меня просите, из
благодарности за столь доброе расположение, которое было мне здесь оказано.
Тотчас же Санчо достал из своего мешка, а козопас из котомки, чем
утолить голод Оборванца, который, подобно умалишенному, ел то, что ему дали,
так поспешно, что у него почти не было промежутка между одним и другим
куском, так как он не ел, а жадно поглощал их, и, пока он это делал, ни он,
ни все смотревшие на него не проронили ни слова. Кончив есть, он дал им знак
следовать за ним, что они и сделали, и привел их на зеленый лужок,
раскинувшийся тотчас же за ближайшим выступом скалы. Здесь он растянулся на
траве, остальные последовали его примеру; все это делалось молча, пока
Оборванец, удобно усевшись, не заговорил:
-- Если вы, сеньоры, желаете, чтобы я в кратких словах передал вам
повесть безграничного моего несчастия, вы должны обещать мне, что не будете
прерывать нити моего грустного рассказа вопросами или чем бы то ни было,
потому что, как только вы это сделаете, мне придется тотчас же прекратить
его.
Эти слова Оборванца напомнили Дон Кихоту сказку, рассказанную ему
оруженосцем его, когда он не мог указать число коз, перевезенных через реку,
и сказка осталась недосказанной.
Но вернемся к Оборванцу, который продолжал так:
-- Я ставлю это условие потому, что желал бы как можно кратче передать
вам повесть моих несчастий, так как воспоминание о них доставляет мне лишь
новое страдание, и чем меньше вы будете спрашивать меня, тем скорее я кончу
свой рассказ, хотя и не пропущу в нем ничего существенного, чтобы вполне
удовлетворить ваше желание.
Дон Кихот обещал от имени всех исполнить его требование, и, заручившись
этим обещанием, молодой человек начал так:
-- Мое имя Карденио; родился я в одном из лучших городов Андалузии;
происхождение мое знатное, родители -- богатые; несчастие же мое так велико,
что отец и мать могут оплакивать его, родственники могут огорчаться им, но
не в состоянии облегчить его своим богатством, потому что от невзгод,
посланных небесами, не охранят и не спасут деньги и состояние. В том же
родном мне уголке земли обитало само небо -- девушка, которую любовь
украсила таким блеском, о каком я и не смел мечтать: так велика была красота
Люсинды, -- девушки, столь же знатной и богатой, как и я, но более
счастливой, чем я, и менее постоянной, чем того заслуживали чистые мои
намерения. Эту Люсинду я любил, восхищался ею и боготворил ее с самой ранней
моей юности, и она тоже любила меня со всей искренностью и невинностью,
свойственными нежному ее возрасту. Родители знали о наших чувствах и не
противились им, так как ясно видели, что с годами они не могут кончиться не
чем иным, как только браком, которому благоприятствовало равенство
происхождения и богатства. Мы росли, вместе с нами росла и наша любовь, так
что отцу Люсинды стало казаться, что он -- ради приличия и осторожности --
должен воспретить мне бывать у них в доме, подражая в этом родителям столь
воспетой поэтами Тисбы. Но это запрещение прибавило лишь пламя к пламени и
страстное желание к страстному желанию, потому что, хотя и наложило молчание
на наши уста, не могло наложить его на наши перья, которые обыкновенно с
большей свободой, чем языки, открывают любящим то, что скрыто в сердце,
потому что часто присутствие любимого предмета смущает и заставляет
умолкнуть самую твердую решимость и самый смелый язык. О небо, сколько писем
написал я ей; сколько скромных очаровательных ответов получил от нее!
Сколько песен, сколько любовных стихов сочинил, в которых открывал свою
душу, изливал свои чувства, описывал пламенные свои желания, предавался
воспоминаниям и питал свою страсть! Наконец я стал чахнуть, и душа моя до
того сильно томилась желанием увидеть Люсинду, что я решил прибегнуть и
обратиться к средству, казавшемуся мне наиболее пригодным для достижения
столь желанной и заслуженной мной награды, -- именно просить ее отца дать
мне ее в жены, -- что я и сделал. В ответ он сказал, что благодарит меня за
желание оказать ему честь и почтить и себя, домогаясь союза с дорогой его
дочерью, но так как мой отец жив, то ему по праву следует сделать это
предложение, потому что, в случае если он не дал бы полного своего одобрения
и согласия, Люсинда не из тех, которых берут или отдают замуж тайком. Я
поблагодарил его за доброе ко мне расположение, сознавая, что он прав,
говоря таким образом, и вполне уверенный, что отец мой немедленно даст свое
согласие, как только я с ним переговорю. С этим намерением я тотчас же пошел
к отцу, чтобы сообщить ему о своем желании. Но, войдя в комнату, где он
находился, я застал его с распечатанным письмом в руках, которое, прежде чем
я успел выговорить слово, он мне передал, говоря: "Из этого письма ты
увидишь, Карденио, какую милость желает тебе оказать герцог Рикардо". А этот
герцог Рикардо, как вы, сеньоры, должно быть, знаете, -- испанский гранд,
владелец богатых поместий в лучшей части Андалузии. Я взял письмо, прочел
его; оно было такое сердечное, что и мне самому показалось, что не хорошо
было бы, если б мой отец не исполнил просьбы герцога. Просил же он, как
можно скорее прислать меня к нему в качестве не слуги, а товарища его
старшего сына, обещая вместе с тем доставить мне такое положение, которое
соответствовало бы его уважению ко мне. Я прочел письмо и, читая его,
онемел, а тем более еще когда услышал, что отец мой сказал: "Через два дня
ты уедешь, Карденио, из дому, чтобы исполнить желание герцога, и благодари
Бога, что Он открывает тебе путь, по которому ты достигнешь того, чего ты,
как я знаю, вполне заслуживаешь". И к этому он добавил еще несколько
отеческих советов. Время моего отъезда наступило; перед тем ночью я говорил
с Люсиндой, рассказал ей все, что произошло, и сообщил также и ее отцу,
умоляя его подождать некоторое время и не выдавать дочь замуж, пока я не
увижу, чего герцог Рикардо желает от меня. Он обещал мне это, а Люсинда
подтвердила его обещание тысячей клятв и обмороков. Наконец я приехал к
герцогу Рикардо, и он так хорошо встретил меня и обращался со мной, что
зависть тотчас же принялась делать свое дело, закравшись в душу старых
герцогских слуг, думавших, что доказательства его расположения ко мне
послужат во вред им. Но тот, кто особенно обрадовался моему приезду, был
второй сын герцога, по имени дон Фернандо, веселый, увлекающийся, щедрый и
влюбчивый юноша, который в короткое время так подружился со мной, что об
этом пошли везде толки. И хотя я нравился также и старшему сыну герцога, и
он тоже относился ко мне очень мило, но все же не в такой степени, как меня
любил и со мной дружил дон Фернандо. Ввиду того что у друзей не бывает тайн,
которые бы они не сообщали друг другу -- а моя близость к дону Фернандо
быстро перешла в дружбу, -- он открывал мне все свои мысли и в особенности
говорил об одном своем романе, несколько его тревожившем. Именно: он был
страстно влюблен в дочь земледельца, вассала его отца, родители которой были
очень богаты, сама же она до того прекрасна, умна, скромна и добродетельна,
что никто из всех знавших не мог решить, которыми из этих качеств она
обладала в более высокой степени или в большем совершенстве. Чары прекрасной
крестьянки так разожгли страсть дона Фернандо, что он для достижения своей
цели и победы над добродетелью девушки решил дать ей слово жениться на ней,
потому что добиваться чего-либо иным путем значило бы добиваться
невозможного. По долгу дружбы, связывающей меня с ним, я счел своею
обязанностию самыми убедительными доводами, какие я только мог придумать, и
самыми яркими примерами, какие я только знал, попытаться отговорить его от
его намерения и отклонить от него. Но видя, что ничто не помогает, я решил
рассказать обо всем его отцу, герцогу Рикардо. Однако дон Фернандо,
проницательный и хитрый, боялся и опасался этого, зная, что я, в качестве
верного слуги, обязан открыть герцогу, моему господину, вещь столь
предосудительную для его чести. Итак, чтобы ввести меня в заблуждение и
обмануть, он сказал, что не находит лучшего средства изгнать из своей памяти
красавицу, так сильно полонившую его, как только удалиться на несколько
месяцев, и с этой целью он желал бы, чтобы мы оба поехали к моему отцу под
предлогом, как он скажет герцогу, посмотреть и купить нескольких хороших
лошадей в моем родном городе, славившемся лучшими в мире лошадьми {В те
времена особенно славилась своими лошадьми Кордова.}. Лишь только я услышал
эти его слова, побуждаемый собственной моей любовью, я счел его решение как
нельзя более разумным, и посмотрел бы на него точно так же, если б оно и не
было столь благоразумным, ввиду того что мне представлялся случай и
возможность снова увидеться с моей Люсиндой. Движимый этой мыслью и этим
желанием, я одобрил его план, поддержал его в его намерении и торопил как
можно скорее привести его в исполнение, потому что разлука, наверное,
произведет свое действие, как бы ни была велика сила чувства. А в то время,
когда он вел такие разговоры со мной, он -- как я потом узнал -- уже
насладился под видом супруга любовью молодой крестьянки и ждал лишь случая
разгласить об этом с безопасностью для себя, потому что боялся гнева
герцога, отца своего, когда тот узнает о его безрассудстве. Но известно, что
любовь молодых людей по большей части не любовь, а только вожделение,
которое, имея конечной своей целью наслаждение, достигнув этой цели, гаснет,
и то, что казалось любовью, прекращается, потому что не может перейти за
пределы, поставленные природой, -- а такими пределами не ограничена истинная
любовь. С доном Фернандо произошло то же самое; лишь только он овладел
молодой крестьянкой, его желания утихли, страсть охладела, так что, если он
сначала притворялся, будто хочет уехать, чтобы исцелиться от своей любви,
теперь он действительно торопился это сделать, желая избавиться от
исполнения данного им обещания. Герцог отпустил своего сына и приказал мне
сопровождать его.
Мы приехали в родной мой город; отец мой принял дона Фернандо, как
подобает его званию; тотчас же я повидался с Люсиндой, и страсть моя снова
ожила (хотя она нимало не угасала и не умирала). На свое несчастие, я
рассказал обо всем дону Фернандо, так как мне казалось, что мой долг ввиду
великой дружбы, выказываемой им мне, ничего не скрывать от него. Я так
восхвалял ему красоту, изящество и ум Люсинды, что мои похвалы возбудили в
нем желание видеть девушку, украшенную столь великими совершенствами. На
гибель себе, я исполнил это его желание и показал ему Люсинду однажды ночью,
при свете восковой свечи, в окне, где мы обыкновенно с ней разговаривали.
Увидел он ее в утреннем домашнем платье, и она была так очаровательна, что
сразу затмила в его уме образы всех красавиц, которых он до тех пор
встречал. Он онемел, он ничего не видел и не слышал, он стоял, не отрывая от
нее глаз, и пламенно влюбился в нее, -- как это и выяснится из продолжения
рассказа о моих несчастиях. Чтобы еще сильнее разжечь его страсть (которую
он тщательно скрывал от меня и доверял одним лишь звездам), случилось, что
однажды он нашел письмо ко мне Люсинды, в котором она советовала мне просить
ее отца выдать ее за меня замуж, письмо, написанное так умно, скромно и с
такой любовью, что Фернандо, прочитав его, сказал мне, что в одной Люсинде
соединены все прелести красоты и ума, которые у остальных женщин в мире
встречаются лишь порознь. Правда -- и я должен сознаться в этом теперь, --
хотя я хорошо понимал, насколько справедливо дон Фернандо восхвалял Люсинду,
мне было неприятно слышать эти похвалы из его уст. Я начал бояться и
избегать его, потому что не проходило минуты, когда бы он не желал говорить
о Люсинде, и всегда наводил на нее разговор, хотя бы притягивая его за
волосы. Это пробудило во мне нечто похожее на ревность. Не то чтобы я
опасался непостоянства Люсинды или ее неверности, но, хотя и вполне
уверенный в ней, я дрожал при мысли о превратностях судьбы. Дон Фернандо
продолжал читать письма, которые я посылал Люсинде, и ее ответы мне под
предлогом, что проявляющийся в них ум обоих нас доставляет ему большое
удовольствие. Случилось так, что однажды Люсинда попросила у меня почитать
одну рыцарскую книгу, которую она очень любила, и это был "Амадис
Галльский"...
Едва Дон Кихот услышал упоминание о рыцарской книге, как он сказал:
-- Если б вы, милость ваша, сейчас же, в начале вашей истории, сказали
мне, что ее милость, сеньора Люсинда, любит рыцарские книги, не требовалось
бы никаких других разъяснений, чтоб убедить меня в превосходстве ее ума, так
как он не мог бы быть у нее столь выдающимся, каким вы, сеньор, описали его,
если б она не была одарена склонностью к такому усладительному чтению. Итак,
что касается меня, вам незачем тратить больше слов для заверений о ее
красоте, достоинствах и уме; потому что, лишь услыхав об этой ее склонности,
я готов утверждать, что она -- самая красивая и умная женщина в мире, и я бы
желал только, чтобы вы, сеньор, заодно с "Амадисом Галльским", послали ей
также и почтенного "Дона Рухеля Греческого", так как я уверен, что сеньоре
Люсинде очень понравились бы Дараида и Гарая, а также и остроумие пастуха
Даринела и его удивительные буколические стихи, которые он читал и пел с
таким изяществом, умом и развязностью. Но со временем пробел этот может быть
пополнен, а для этого требуется только, чтобы милость ваша соизволила
поехать со мной в мою деревню, где я мог бы вам дать более трехсот книг,
составляющих усладу души моей и радость моей жизни, хотя -- думается мне --
у меня нет уже больше книг благодаря злобе коварных и завистливых
волшебников. Простите мне, что я не сдержал данного обещания не прерывать
вашего рассказа; но когда я слышу разговор о рыцарстве и странствующих
рыцарях, мне также невозможно воздержаться говорить о них, как солнечным
лучам невозможно не испускать теплоту, а лучам луны -- увлажнять росой {По
народному поверью тех времен, луна считалась причиной и источником воды и
всякой влаги, подобно тому как солнце -- источником огня и теплоты.}. Итак,
простите мне, и продолжайте, потому что теперь это наиболее существенное.
Пока Дон Кихот произносил только что приведенные слова, Карденио,
опустив голову на грудь, впал, по-видимому, в глубокую задумчивость; и, хотя
Дон Кихот дважды повторил ему, чтобы он продолжал свой рассказ, он не поднял
головы и не ответил ни слова. Наконец после довольно продолжительной
остановки он приподнялся и сказал:
-- Я не могу отделаться от одной мысли, и никто в мире не может
избавить меня от нее или же убедить меня в ином, -- и болван был бы тот, кто
думал или утверждал бы противное, именно: будто бы этот величайший плут
маэстро Элисабад не был любовником королевы Мадасимы.
-- Это ложь, -- клянусь всем в мире, что это ложь, -- воскликнул
разгневанный Дон Кихот (по обыкновению быстро вспыхнув), -- и величайшая
клевета, или, вернее, подлость. Королева Мадасима была благороднейшей
сеньорой, и нельзя предполагать, чтобы столь знатная принцесса имела
любовную связь с каким-то лекаришкой; кто же утверждает противное, лжет, как
величайший негодяй, и я берусь доказать ему это, пеший или конный,
вооруженный или безоружный, ночью или днем, как ему будет угодно.
Карденио смотрел пристально на Дон Кихота, потому что на него уже нашел
его припадок безумия и он не был в состоянии продолжать своей истории, как и
Дон Кихот не был в состоянии слушать ее, -- до того был он выведен из себя
сказанным Карденио о Мадасиме. Удивительная вещь! Он так серьезно за нее
заступился, будто она и в самом деле была его настоящей и природной
повелительницей: до того им владели проклятые его книги!
Когда Карденио, на которого, как я уже говорил, нашел его припадок
безумия, услышал, что его называют лжецом, подлецом и другими бранными
словами, шутка эта не понравилась ему, и он поднял камень, лежавший вблизи
него, и бросил им так сильно в грудь Дон Кихоту, что тот упал навзничь.
Увидав, как он обращается с его господином, Санчо Панса кинулся на
сумасшедшего со сжатыми кулаками; но Оборванец принял его так, что одним
ударом кулака свалил на землю, тотчас же вскочил на него и помял ему бока во
все свое удовольствие. Козопас, который хотел защитить Санчо, подвергся той
же участи; и после того, как он всех их повалил на землю и избил, он оставил
их и спокойно удалился в горы, где и скрылся. Санчо встал и, взбешенный тем,
что его так незаслуженно отколотили, бросился на козопаса, чтобы отомстить
ему, обвиняя его во всем, так как он не предупредил их, что по временам этот
человек подвержен припадкам безумия, потому что если бы они это знали, то
были бы осторожнее и сумели бы себя уберечь от него. Козопас ответил, что
говорил им, а если Санчо не слышал, то вина не его. Санчо возразил; козопас
стоял на своем, и концом этих пререканий было то, что они вцепились друг
другу в бороды, и посыпались такие удары кулаков, что если бы Дон Кихот не
разнял их, они бы растерзали друг друга на куски. Схватившись с козопасом,
Санчо говорил:
-- Оставьте меня, милость ваша, сеньор Рыцарь Печального Образа, ведь с
этим человеком, таким же простолюдином, как и я, и не посвященным в рыцари,
я могу спокойно расправиться за оскорбление, нанесенное им мне, и драться с
ним один на один, как честный человек.
-- Совершенно верно, -- сказал Дон Кихот, -- но я знаю, что он нимало
не виноват в том, что случилось.
Этим он помирил их и снова спросил козопаса, нельзя ли будет отыскать
Карденио, потому что он чувствует сильнейшее желание услышать конец его
истории. Козопас повторил сказанное им еще раньше, именно что нет верных
сведений о его местопребывании, но если Дон Кихот много поездит по этим
окрестностям, он непременно разыщет его, или в здравом уме, или безумного.

Глава XXV, в которой рассказывается о странных вещах, приключившихся
с доблестным рыцарем Ламанчским в Сьерра-Морене, и о том,
как он подражал покаянию Бельтенеброса[1]
 [1] Мрачного красавца.
Дон Кихот простился с козопасом, взобрался опять на Росинанта и
приказал Санчо следовать за ним, что тот и исполнил, сидя верхом на своем
осле, но весьма неохотно. Они ехали медленно, пробираясь в самую глушь дикой
горной местности. Санчо до смерти хотелось поболтать со своим господином, и
он ждал лишь, не заговорит ли тот сам, чтобы не нарушить данного ему
приказания. Но, будучи не в силах выносить столь долгого молчания, он
сказал:
-- Сеньор Дон Кихот, пусть милость ваша даст мне свое благословение и
уволит меня, так как я желал бы тотчас же вернуться домой к жене и детям, с
которыми, по крайней мере, я могу говорить и толковать обо всем, что мне
взбредет в голову; ведь если ваша милость требует, чтобы я день и ночь
скитался с вами по этим пустынным местам и не говорил бы, когда мне придет
охота, -- это значит похоронить меня живым. Если бы по воле судьбы животные
разговаривали, как во времена Гисопета {Так Санчо называет баснописца Эзопа.
Гисопет вместо Эзоп писал и архиепископ Ита, живший в XIV в.}, было бы не
так еще плохо, потому что я мог бы, о чем мне вздумается, болтать с моим
ослом и таким образом услаждал бы свою тяжкую участь. Но уже слишком жестоко
и невыносимо всю жизнь проводить в поисках приключений и находить одни лишь
подзатыльники, бросанье вверх на одеяле, удары камнями и кулаками; а при
всем том чтобы еще был зашит рот и человек не смел высказать то, что у него
на душе, как будто он немой.
-- Понимаю тебя, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- ты умираешь от
желания, чтобы я снял запрещение, наложенное мной на твой язык. Хорошо,
считай его снятым и говори, что хочешь, но только с условием, что данное
тебе разрешение имеет силу лишь на то время, пока мы скитаемся в этих горах.
-- Пусть будет так, -- сказал Санчо,-- пусть я поговорю хоть теперь, а
что будет потом, известно одному лишь Богу. Итак, я начинаю пользоваться
этой охранной грамотой и спрашиваю: из-за чего вы, милость ваша, распинались
так сильно за ту королеву Махимасу, или как ее зовут, и какое вам дело, был
ли тот аббат ее другом или нет? Если бы ваша милость не обратила на это
внимание -- ведь вы же не были ее судьей, -- наверное сумасшедший продолжал
бы свою историю и мы бы избежали и удара камнем, и пинков, и более чем
полдюжины тумаков.
-- По чести, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- если б ты знал, как я это
знаю, что за почтенная и благородная сеньора была королева Мадасима,
наверное, ты сказал бы, что я выказал слишком много терпения, не раздробив
рта, из которого исходила такая хула; потому что величайшая хула -- говорить
или думать, что королева была наложницей лекаря. Правда же во всей истории
та, что этот маэстро Элисабад, о котором говорил сумасшедший, был очень
благоразумный человек, хороший советчик и служил наставником и врачом при
королеве, но думать, будто она была его любовницей, -- бессмыслица,
заслуживающая самого строгого наказания, а чтобы ты убедился, как мало
Карденио сознавал, что говорит, вспомни: когда он это сказал, он уже был в
припадке сумасшествия.
-- Я именно и говорю, -- возразил Санчо, -- что не следовало обращать
внимания на слова сумасшедшего, потому что, если бы счастье не было на
стороне вашей милости, и камень, вместо того чтобы попасть в грудь, попал бы
вам в голову, хороши бы мы были с вашим заступничеством за ту сеньору --
погуби ее бог, -- и к тому же Карденио наверное был бы выпущен на свободу в
качестве сумасшедшего.
-- Всякий странствующий рыцарь обязан вступиться как против
здравомыслящих, так и против сумасшедших, за честь женщин, кто бы они ни
были; а тем более за честь королевы, столь возвышенной и добродетельной,
какой была королева Мадасима, которую я особенно чту за ее необычайные
качества. Ведь сверх красоты своей она отличалась еще умом и терпением в
страданиях, а их выпало немало на ее долю; и именно советы и общество
маэстро Элисабада послужили ей на пользу и облегченье и помогли ей перенести
бедствия свои с мудростью и спокойствием. Это-то и подало повод
невежественной и злонамеренной черни думать и говорить, что она была его
наложницей. Но они лгут, повторяю еще раз, и солгут двести раз все те,
которые подумают или скажут это.
-- Я этого и не говорю, и не думаю,-- ответил Санчо, -- пусть себе
делают и съедают со своим хлебом; были ли они любовниками или нет, отчет в
этом дали они Богу; я иду из своего виноградника и ничего не знаю;
подглядывать, как живут другие, мне нет охоты; тот, кто закупает и лжет, на
своей же мошне познаёт; тем более что наг я родился, наг и остался, ничего
не теряю, ничего не выгадываю; и если б между ними что и было, -- мне какое
дело? Многие думают найти ветчину там, где нет и крючков для копчения ее; но
кто же может запереть открытое поле воротами? И тем более что поносили даже
самого Бога.
-- Господи помоги, -- сказал Дон Кихот, -- сколько вздору ты, Санчо,
нагородил! Какое отношение между тем, что мы говорили, и пословицами,
которые ты нанизываешь одну на другую? Жизнью твоей заклинаю тебя, Санчо,
замолчи, и отныне и впредь занимайся лишь тем, чтобы подгонять своего осла,
не вмешиваясь в то, что тебя не касается. Пойми своими пятью чувствами, что
все, что я делал, делаю и буду делать, вполне разумно и совершенно согласно
с правилами рыцарства, которые я лучше знаю, чем все рыцари в мире,
когда-либо исповедовавшие их.
-- Сеньор, -- ответил Санчо, -- это ли одно из хороших правил
рыцарства, что мы блуждаем по здешним горам, без дорог и тропинок, отыскивая
сумасшедшего, к которому, когда мы его найдем, быть может, вернется желание
докончить, что он начал, -- не свой рассказ, а... речь идет о голове вашей
милости и моих ребрах, которые он проломает вконец.
-- Молчи, Санчо, говорю тебе еще раз, -- сказал Дон Кихот, -- и знай,
что не только желание разыскать сумасшедшего влечет меня в эти места, а
также и намерение совершить подвиг, которым я приобрету бессмертное имя и
славу на всем земном пространстве, и подвиг этот будет таков, что я увенчаю
им все, что может привести странствующего рыцаря к совершенству и всесветной
знаменитости.
-- А этот подвиг очень опасный? -- спросил Санчо Панса.
-- Нет, -- ответил Рыцарь Печального Образа. -- Но игральная кость
может упасть так, что вместо выигрыша мы получим проигрыш; хотя все будет
зависеть от твоего старания.
-- От моего старания? -- удивился Санчо.
-- Да, -- подтвердил Дон Кихот,-- потому что, если ты скоро вернешься
оттуда, куда я думаю послать тебя, в таком случае скоро кончится мое
страдание и начнется моя слава. И так как нехорошо держать тебя дольше в
неизвестности и томить ожиданием, куда клонятся мои слова, я желаю, чтобы
ты, Санчо, знал, что знаменитый Амадис Галльский был один из превосходнейших
странствующих рыцарей. Я неверно сказал "один"; он был единственный, первый,
самый выдающийся, -- глава всех рыцарей, существовавших на свете в его
время. К черту дона Белианиса и всех говоривших, что они в чем-либо равны
ему, потому что они ошибаются, клянусь честью! Вместе с тем скажу: если
какой-нибудь живописец желает прославиться в своем искусстве, он старается
подражать оригиналам лучших известных ему художников; это правило применимо
и ко всем занятиям и профессиям, имеющим значение и служащим украшением
общества. Так точно должен поступать и поступает тот, кто желает прослыть
мудрым и терпеливым, -- он подражает Улиссу, в лице которого Гомер нарисовал
нам живой образ мудрости и терпения; также и Вергилий изобразил в лице Энея
добродетель нежного сына и прозорливость храброго и опытного военачальника;
причем эти поэты не описывали и не рисовали своих героев такими, какими они
действительно были, а какими они должны были быть, чтобы будущим поколениям
завещать пример своих добродетелей. Совершенно также и Амадис был магнитом,
утренней звездою и солнцем доблестных и влюбленных рыцарей, и все мы,
сражающиеся под знаменем рыцарства и любви, должны подражать ему. Если же
это так, Санчо, друг, то, на мой взгляд, тот странствующий рыцарь, который
наилучше сумеет подражать Амадису, приблизится больше других к рыцарскому
совершенству; а один из поступков этого рыцаря, в котором он особенно
проявил свою мудрость, отвагу, терпение, постоянство и любовь, был тот,
когда он из-за пренебрежения к нему сеньоры Орианы удалился для совершения
эпитимии на Пенья По-бре, назвавшись именем Бельтенеброс, именем,
несомненно, выразительным и подходящим к образу жизни, избранному им по
доброй его воле. И так как мне легче подражать Амадису в этом, чем
раскалывать надвое великанов, обезглавливать чудовищных змей, убивать
драконов, рассеивать войска, уничтожать флот и разрушать чары -- а
окружающая нас местность как нельзя лучше приспособлена к выполнению
подобного намерения, -- то нет причины упускать случай, которым я могу
теперь отлично воспользоваться.
[1] Мрачного красавца.
Дон Кихот простился с козопасом, взобрался опять на Росинанта и
приказал Санчо следовать за ним, что тот и исполнил, сидя верхом на своем
осле, но весьма неохотно. Они ехали медленно, пробираясь в самую глушь дикой
горной местности. Санчо до смерти хотелось поболтать со своим господином, и
он ждал лишь, не заговорит ли тот сам, чтобы не нарушить данного ему
приказания. Но, будучи не в силах выносить столь долгого молчания, он
сказал:
-- Сеньор Дон Кихот, пусть милость ваша даст мне свое благословение и
уволит меня, так как я желал бы тотчас же вернуться домой к жене и детям, с
которыми, по крайней мере, я могу говорить и толковать обо всем, что мне
взбредет в голову; ведь если ваша милость требует, чтобы я день и ночь
скитался с вами по этим пустынным местам и не говорил бы, когда мне придет
охота, -- это значит похоронить меня живым. Если бы по воле судьбы животные
разговаривали, как во времена Гисопета {Так Санчо называет баснописца Эзопа.
Гисопет вместо Эзоп писал и архиепископ Ита, живший в XIV в.}, было бы не
так еще плохо, потому что я мог бы, о чем мне вздумается, болтать с моим
ослом и таким образом услаждал бы свою тяжкую участь. Но уже слишком жестоко
и невыносимо всю жизнь проводить в поисках приключений и находить одни лишь
подзатыльники, бросанье вверх на одеяле, удары камнями и кулаками; а при
всем том чтобы еще был зашит рот и человек не смел высказать то, что у него
на душе, как будто он немой.
-- Понимаю тебя, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- ты умираешь от
желания, чтобы я снял запрещение, наложенное мной на твой язык. Хорошо,
считай его снятым и говори, что хочешь, но только с условием, что данное
тебе разрешение имеет силу лишь на то время, пока мы скитаемся в этих горах.
-- Пусть будет так, -- сказал Санчо,-- пусть я поговорю хоть теперь, а
что будет потом, известно одному лишь Богу. Итак, я начинаю пользоваться
этой охранной грамотой и спрашиваю: из-за чего вы, милость ваша, распинались
так сильно за ту королеву Махимасу, или как ее зовут, и какое вам дело, был
ли тот аббат ее другом или нет? Если бы ваша милость не обратила на это
внимание -- ведь вы же не были ее судьей, -- наверное сумасшедший продолжал
бы свою историю и мы бы избежали и удара камнем, и пинков, и более чем
полдюжины тумаков.
-- По чести, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- если б ты знал, как я это
знаю, что за почтенная и благородная сеньора была королева Мадасима,
наверное, ты сказал бы, что я выказал слишком много терпения, не раздробив
рта, из которого исходила такая хула; потому что величайшая хула -- говорить
или думать, что королева была наложницей лекаря. Правда же во всей истории
та, что этот маэстро Элисабад, о котором говорил сумасшедший, был очень
благоразумный человек, хороший советчик и служил наставником и врачом при
королеве, но думать, будто она была его любовницей, -- бессмыслица,
заслуживающая самого строгого наказания, а чтобы ты убедился, как мало
Карденио сознавал, что говорит, вспомни: когда он это сказал, он уже был в
припадке сумасшествия.
-- Я именно и говорю, -- возразил Санчо, -- что не следовало обращать
внимания на слова сумасшедшего, потому что, если бы счастье не было на
стороне вашей милости, и камень, вместо того чтобы попасть в грудь, попал бы
вам в голову, хороши бы мы были с вашим заступничеством за ту сеньору --
погуби ее бог, -- и к тому же Карденио наверное был бы выпущен на свободу в
качестве сумасшедшего.
-- Всякий странствующий рыцарь обязан вступиться как против
здравомыслящих, так и против сумасшедших, за честь женщин, кто бы они ни
были; а тем более за честь королевы, столь возвышенной и добродетельной,
какой была королева Мадасима, которую я особенно чту за ее необычайные
качества. Ведь сверх красоты своей она отличалась еще умом и терпением в
страданиях, а их выпало немало на ее долю; и именно советы и общество
маэстро Элисабада послужили ей на пользу и облегченье и помогли ей перенести
бедствия свои с мудростью и спокойствием. Это-то и подало повод
невежественной и злонамеренной черни думать и говорить, что она была его
наложницей. Но они лгут, повторяю еще раз, и солгут двести раз все те,
которые подумают или скажут это.
-- Я этого и не говорю, и не думаю,-- ответил Санчо, -- пусть себе
делают и съедают со своим хлебом; были ли они любовниками или нет, отчет в
этом дали они Богу; я иду из своего виноградника и ничего не знаю;
подглядывать, как живут другие, мне нет охоты; тот, кто закупает и лжет, на
своей же мошне познаёт; тем более что наг я родился, наг и остался, ничего
не теряю, ничего не выгадываю; и если б между ними что и было, -- мне какое
дело? Многие думают найти ветчину там, где нет и крючков для копчения ее; но
кто же может запереть открытое поле воротами? И тем более что поносили даже
самого Бога.
-- Господи помоги, -- сказал Дон Кихот, -- сколько вздору ты, Санчо,
нагородил! Какое отношение между тем, что мы говорили, и пословицами,
которые ты нанизываешь одну на другую? Жизнью твоей заклинаю тебя, Санчо,
замолчи, и отныне и впредь занимайся лишь тем, чтобы подгонять своего осла,
не вмешиваясь в то, что тебя не касается. Пойми своими пятью чувствами, что
все, что я делал, делаю и буду делать, вполне разумно и совершенно согласно
с правилами рыцарства, которые я лучше знаю, чем все рыцари в мире,
когда-либо исповедовавшие их.
-- Сеньор, -- ответил Санчо, -- это ли одно из хороших правил
рыцарства, что мы блуждаем по здешним горам, без дорог и тропинок, отыскивая
сумасшедшего, к которому, когда мы его найдем, быть может, вернется желание
докончить, что он начал, -- не свой рассказ, а... речь идет о голове вашей
милости и моих ребрах, которые он проломает вконец.
-- Молчи, Санчо, говорю тебе еще раз, -- сказал Дон Кихот, -- и знай,
что не только желание разыскать сумасшедшего влечет меня в эти места, а
также и намерение совершить подвиг, которым я приобрету бессмертное имя и
славу на всем земном пространстве, и подвиг этот будет таков, что я увенчаю
им все, что может привести странствующего рыцаря к совершенству и всесветной
знаменитости.
-- А этот подвиг очень опасный? -- спросил Санчо Панса.
-- Нет, -- ответил Рыцарь Печального Образа. -- Но игральная кость
может упасть так, что вместо выигрыша мы получим проигрыш; хотя все будет
зависеть от твоего старания.
-- От моего старания? -- удивился Санчо.
-- Да, -- подтвердил Дон Кихот,-- потому что, если ты скоро вернешься
оттуда, куда я думаю послать тебя, в таком случае скоро кончится мое
страдание и начнется моя слава. И так как нехорошо держать тебя дольше в
неизвестности и томить ожиданием, куда клонятся мои слова, я желаю, чтобы
ты, Санчо, знал, что знаменитый Амадис Галльский был один из превосходнейших
странствующих рыцарей. Я неверно сказал "один"; он был единственный, первый,
самый выдающийся, -- глава всех рыцарей, существовавших на свете в его
время. К черту дона Белианиса и всех говоривших, что они в чем-либо равны
ему, потому что они ошибаются, клянусь честью! Вместе с тем скажу: если
какой-нибудь живописец желает прославиться в своем искусстве, он старается
подражать оригиналам лучших известных ему художников; это правило применимо
и ко всем занятиям и профессиям, имеющим значение и служащим украшением
общества. Так точно должен поступать и поступает тот, кто желает прослыть
мудрым и терпеливым, -- он подражает Улиссу, в лице которого Гомер нарисовал
нам живой образ мудрости и терпения; также и Вергилий изобразил в лице Энея
добродетель нежного сына и прозорливость храброго и опытного военачальника;
причем эти поэты не описывали и не рисовали своих героев такими, какими они
действительно были, а какими они должны были быть, чтобы будущим поколениям
завещать пример своих добродетелей. Совершенно также и Амадис был магнитом,
утренней звездою и солнцем доблестных и влюбленных рыцарей, и все мы,
сражающиеся под знаменем рыцарства и любви, должны подражать ему. Если же
это так, Санчо, друг, то, на мой взгляд, тот странствующий рыцарь, который
наилучше сумеет подражать Амадису, приблизится больше других к рыцарскому
совершенству; а один из поступков этого рыцаря, в котором он особенно
проявил свою мудрость, отвагу, терпение, постоянство и любовь, был тот,
когда он из-за пренебрежения к нему сеньоры Орианы удалился для совершения
эпитимии на Пенья По-бре, назвавшись именем Бельтенеброс, именем,
несомненно, выразительным и подходящим к образу жизни, избранному им по
доброй его воле. И так как мне легче подражать Амадису в этом, чем
раскалывать надвое великанов, обезглавливать чудовищных змей, убивать
драконов, рассеивать войска, уничтожать флот и разрушать чары -- а
окружающая нас местность как нельзя лучше приспособлена к выполнению
подобного намерения, -- то нет причины упускать случай, которым я могу
теперь отлично воспользоваться.
 -- Одним словом, -- сказал Санчо,-- что же, собственно, ваша милость
собирается делать здесь, в этом столь отдаленном месте?
-- Разве я тебе не говорил, -- ответил Дон Кихот, -- что хочу подражать
Амадису, изображая здесь впавшего в отчаяние, безумного и неистового, в то
же время подражая и доблестному дону Ролдану {Испанское имя Роланда.}, когда
он вблизи одного источника нашел доказательства того, что прекрасная
Анхелика обесчестила себя с Медором, вследствие чего он от огорчения сошел с
ума и стал вырывать с корнями деревья, мутить воды светлых источников,
убивать пастухов, уничтожать их стада, поджигать хижины, опрокидывать дома,
волочить по земле коней, словом, совершать сотни тысяч безумств {История
любви Медора и Анжелики и безумств Роланда рассказана в 23-й и 24-й песнях
известной поэмы итальянского писателя Ариосто "Orlando Furioso" ("Неистовый
Роланд").}, достойных вечного упоминания и внесения в летописи. И хотя я не
намерен подражать Орландо, Ролдану, или Ротоланду (так как его прозывали
всеми этими тремя именами), шаг за шагом во всех безумствах, которые он
совершил, сказал или придумал, я постараюсь, как сумею, выбрать и повторить
те из них, которые мне покажутся наиболее существенными. А может быть, я
ограничусь лишь только подражанием Амадису, не совершившему никаких пагубных
безумств и одними лишь слезами своими и скорбью достигшему самой высокой
славы.
-- Мне кажется, -- сказал Санчо,-- что рыцари, которые делали нечто
подобное, были вызваны к тому и имели причины совершать эти безумства и
эпитимии; но какая причина у вашей милости сходить с ума? Какая дама
отвергла вас или какие нашли вы доказательства, что сеньора Дульсинея
Тобосская согрешила с мавром или с христианином?
-- В этом-то вся суть дела, -- сказал Дон Кихот, -- и вся красота моего
предприятия, потому что, если странствующий рыцарь сходит с ума, имея на то
причину, в чем же тут заслуга и повод для похвалы? Вся соль именно в том,
чтобы сойти с ума без причины и чтобы дать понять своей даме: если зеленое
дерево так вспыхнуло, как запылало бы сухое! Кроме того, у меня есть
достаточная для этого причина в долгой разлуке с той, которая навсегда
останется моей повелительницей, с Дульсинеей Тобосской,-- потому что, как ты
недавно слышал от пастуха Амбросио: тот, кто в разлуке, испытывает и
опасается всяких зол и бед. Итак, Санчо, друг, не теряй понапрасну времени,
советуя мне отказаться от столь редкостного, счастливого и никогда не
бывалого подражания. Я сумасшедший и останусь сумасшедшим до тех пор, пока
ты не вернешься с ответом на письмо, которое я думаю послать с тобой моей
сеньоре Дульсинее, и если ответ ее будет таким, какого заслуживает мое
постоянство, -- моему безумию и покаянию настанет конец. Если же случится
наоборот, то я в действительности сойду с ума и, будучи сумасшедшим,
перестану что-либо ощущать. Так что, как бы она ни ответила, я выйду из
неопределенности и из того затруднения, в которых ты меня оставляешь,
радуясь -- если я буду в здравом уме, -- добрым вестям, привезенным мне
тобой, или же, в случае если ты мне сообщишь худые вести, ничего не буду
чувствовать, впав в безумие. Но скажи мне, Санчо, в сохранности ли у тебя
шлем Мамбрино? Я видел, что ты поднял его с земли, когда тот неблагодарный
пытался сломать его вдребезги и не мог, из чего ясно видно, какой хороший
закал шлема.
На это Санчо ответил:
-- Клянусь Богом живым, сеньор Рыцарь Печального Образа, я не могу
сносить и терпеливо выслушивать иные вещи, которые милость ваша говорит,
потому что они наводят меня на мысль, что ваши рассказы о рыцарстве, о
завоеваниях королевств и империй, раздаче островов и всяких других милостей
и щедрот, как это в обычае у странствующих рыцарей, должно быть, одно лишь
дуновение ветра и ложь, одни лишь просто-напросто сказки и басни, или как их
там назвать. Ведь каждый, кто услышит, что ваша милость утверждает, будто
таз цирюльника -- шлем Мамбрино, и увидит, что вы остаетесь в этом
заблуждении более четырех дней, не может подумать чего-либо иного, кроме
того, что человек, который говорит и утверждает нечто подобное, наверное
распростился с своим разумом. Таз, весь смятый и изогнутый, у меня здесь в
мешке, и я везу его домой, чтобы выпрямить его и употреблять для бритья,
если Бог окажет мне такую милость и я когда-нибудь снова увижу жену и детей
своих.
-- Слушай, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- клянусь тем же Богом, Каким и
ты только что клялся, -- у тебя самый тупой ум, которым когда-либо обладал
или обладает какой бы то ни было оруженосец в мире. Возможно ли, чтобы ты,
так долго скитаясь со мной, еще не разглядел, что все относящееся к
странствующему рыцарству кажется обольщением, безумием и нелепостью и все
делается навыворот? И не потому, чтобы это действительно было так, а потому,
что среди нас, рыцарей, всегда носится толпа волшебников, которые все, что
мы делаем, преобразуют, изменяют и превращают, как им вздумается, смотря по
тому, намерены ли они благоприятствовать нам или же повредить; и вот почему
то, что ты считаешь тазом для бритья, мне кажется шлемом Мамбрино, а другому
может показаться еще чем-нибудь иным. Со стороны покровительствующего мне
мудреца было необычайно предусмотрительно устроить так, чтобы всем казалось
тазом для бритья то, что поистине и на самом деле есть шлем Мамбрино, потому
что вследствие столь высокой ценности его весь свет преследовал бы меня,
чтобы отнять его. Но теперь -- видя в нем только лишь цирюльничий таз -- они
не стремятся приобрести его, что ясно доказал тот, который захотел его
сломать и, не взяв с собой, оставил лежать на земле, а по чести, если б он
знал истинную цену его, то никогда бы не расстался с ним. Береги же его
хорошенько, друг, потому что теперь он мне не нужен, и даже мне придется
снять с себя все эти доспехи и остаться нагим, как я родился, если мне
вздумается подражать в моем искусе скорее Ролдану, чем Амадису
Разговаривая таким образом, они добрались до подножия высокой горы,
стоявшей одиноко, словно обрубленная громадная скала, среди других
окружавших ее гор. Внизу, у ее подошвы, протекал мирный ручеек, опоясывая
зеленый роскошный луг, приводивший в восхищение всякий взгляд, который
останавливался на нем. Кругом виднелось немало лесных деревьев и разных
растений и цветов, делавших эту поляну еще очаровательнее. Ее-то Рыцарь
Печального Образа и избрал для совершения своей эпитимии, и, лишь только
увидел ее, он воскликнул громким голосом, словно уже впавший в безумие:
-- Вот место, о небеса, избранное и назначенное мною, чтобы оплакивать
несчастье, в которое вы сами ввергли меня. Вот то место, где влага из моих
глаз приумножит воды маленького этого ручья, а неперестающие и глубокие
вздохи мои приведут в беспрерывное движение листву горных этих деревьев в
доказательство и свидетельство мучений, испытываемых этим истерзанным
сердцем моим! О вы, кто бы вы ни были, сельские божества, обитающие в
необитаемой этой местности! Внемлите жалобам несчастного влюбленного,
которого долгая разлука и мнимая ревность привели сюда, среди этих суровых
скал скорбеть и плакаться на жестокость сердца неблагодарной и прекрасной,
-- являющей собой совершенство и венец всякой человеческой красоты! О вы,
лесные нимфы и дриады, имеющие обыкновение жить в густой тени горных этих
дубрав! Пусть быстроногие и сладострастные сатиры, тщетно влюбленные в вас,
никогда не нарушат мирного вашего покоя, если вы поможете мне оплакивать мое
несчастье или, по крайней мере, не соскучитесь, слушая о нем! О Дульсинея
Тобосская, день моей ночи, наслаждение моих мук, путеводная звезда моей
жизни, луч моего счастья! Да ниспошлет тебе небо полной мерой все, чего бы
ты ни пожелала, если ты обратишь взоры свои на место и положение, к которому
меня привела разлука с тобой, и ответишь мне взаимностью в награду за мою
верность тебе! О уединенные деревья, которые отныне и впредь будете мне
единственным обществом в полном моем одиночестве! Подайте мне знак
сладостным шелестом ветвей ваших, что присутствие мое не причиняет вам
неудовольствия! О ты, оруженосец мой, милый товарищ во всех счастливых и
несчастных моих приключениях! Запечатлей хорошенько в своей памяти то, что я
буду делать здесь, на глазах у тебя, чтобы передать и пересказать о том
единственной виновнице всего происходящего!
Говоря это, Дон Кихот слез с Росинанта, спешно расседлал его и, ладонью
хлопнув по бокам, сказал:
-- Свободу дает тебе тот, кто сам лишен ее! О конь, столь же
прославленный заслугами своими, как и несчастный по судьбе своей, ступай
куда хочешь, потому что у тебя на лбу написано, что по быстроте с тобой не
сравнится ни Гипогриф {Гипогриф -- чудовище, рожденное от баснословного
животного -- грифа и кобылы; играет значительную роль в поэме Ариосто, так
же как и Фронтино -- светло-гнедой конь с белой полосой.}[ ]Астольфа, ни
знаменитый Фронтино, стоивший так дорого Брадаманте.
Когда Санчо увидел это, он сказал:
-- Всяческого успеха тому, кто избавил нас теперь от труда расседлывать
Серого, потому что, по чести, пришлось бы и его похлопать и наговорить и ему
разных разностей в похвалу, хотя, если б он был здесь, я не согласился бы,
чтобы кто-нибудь снял с него седло, потому что не было бы причины, так как
общие правила влюбленных и впавших в отчаяние нимало не касаются его, как и
его господина, которым я был, пока Богу было угодно. Но, право, сеньор
Рыцарь Печального Образа, если мой отъезд и безумие вашей милости -- вещь
серьезная, было бы лучше снова оседлать Росинанта, чтобы он заменил
отсутствие Серого, так как это значило бы сберечь время туда и обратно;
потому что, если мне придется идти пешком, не знаю, когда я дойду и когда
вернусь, оттого что я в самом деле плохой ходок.
-- Говорю, Санчо, пусть будет по-твоему, -- ответил Дон Кихот, --
потому что твой план кажется мне недурным, и говорю тебе, что через три дня
ты уедешь, так как я желаю, чтобы за это время ты увидел то, что я ради
Дульсинеи буду делать и говорить, и затем сообщил бы ей о том.
-- Но что же я увижу больше того, что я уже видел? -- спросил Санчо.
-- Как ты сильно ошибаешься в своем расчете, -- ответил Дон Кихот, --
теперь мне нужно еще разорвать одежду, разбросать кругом себя оружие,
удариться головой об эти скалы и совершить другие вещи в том же роде,
которые изумят тебя.
-- Ради бога, -- сказал Санчо, -- будьте осторожнее, милость ваша,
когда вы будете биться головой о скалы, потому что вы можете удариться о
такую скалу и в таком ее месте, что с первым же ударом наступит конец всей
вашей затее об эпи-тимии. Я бы держался того мнения, уж
если ваша милость находит, что биться головой необходимо и без этого
дело не может быть сделано, вы бы удовольствовались -- так как все это лишь
притворно, вымышлено и в шутку, -- вы бы удовольствовались, говорю я, биться
головой о воду или о какой-нибудь мягкий предмет, например вату, и затем
предоставьте все мне, а я скажу сеньоре Дульсинее, что ваша милость билась
головой о скалы, более твердые, чем алмаз.
-- Благодарю тебя за твое доброе намерение, друг Санчо, -- сказал Дон
Кихот, -- но ты должен знать, что все эти вещи я делаю вовсе не в шутку, а
всерьез, потому что поступать иначе -- значило бы нарушать законы рыцарства,
воспрещающие нам под страхом наказания за отступничество когда-либо говорить
ложь; а делать одну вещь вместо другой -- все то же, что лгать. Вот почему
мои удары головой о скалу должны быть настоящие, неподдельные, не
заключающие в себе ничего призрачного или фантастичного; и потому нужно,
чтобы ты оставил мне немного корпии для перевязки, раз по воле судьбы мы
лишились бальзама, потерянного нами.
-- Еще хуже было потерять осла,-- ответил Санчо, -- так как заодно с
ним потеряна и корпия, и все остальное. Но прошу вас, ваша милость, не
напоминайте мне об этом проклятом питье; только при одном напоминании о нем
у меня выворачивает всю душу, чтобы не сказать весь желудок! И еще прошу
вас, считайте, что уже прошли три дня сроку, данного мне вами, чтобы глядеть
на безумные ваши выходки, так как я готов заявить, что уже видел их и они
были уже доведены до конца, и я расскажу о них чудеса сеньоре Дульсинее.
Итак, пишите письмо и посылайте меня тотчас, потому что я чувствую сильное
желание скорей вернуться, чтобы освободить вас, милость ваша, из чистилища,
в котором оставляю вас.
-- Ты называешь это чистилищем, Санчо? -- спросил Дон Кихот. -- Лучше
бы ты называл это адом и даже хуже чем адом, если что-нибудь может быть хуже
его.
-- Тому, кто попал в ад, -- ответил Санчо, -- nula est retention
{Санчо, коверкая слова, говорит "retentio" вместо "redemptio", желая
сказать: "In inferno milla est redemptio" ("Из ада нет избавления").}, как
мне приводилось слышать.
-- Не понимаю, что значит retentio,-- сказал Дон Кихот.
-- Retentio, -- ответил Санчо, -- значит, что тот, кто в аду, никогда
оттуда не выйдет и не может выйти, а с вашей милостью будет наоборот, или же
моим пяткам придется плохо, если я возьму шпоры, чтобы торопить Росинанта.
Дайте мне лишь приехать в Тобосо и явиться перед сеньорой Дульсинеей, я
столько ей нарасскажу о дурачествах и сумасбродствах (ведь это одно и то
же), которые ваша милость делала и продолжает делать, что она у меня станет
мягче перчатки, хотя бы я ее застал жестче пробкового дерева. С ее ответом,
сладким и медовым, я по воздуху, как колдун, вернусь и освобожу вашу милость
из этого чистилища, похожего на ад, но который не есть ад, потому что вы
имеете надежду выйти из него, а этой надежды, как я уже говорил, нет у тех,
которые в аду; и я не думаю, что ваша милость станет возражать против этого.
-- Ты прав, -- сказал Рыцарь Печального Образа, -- но как нам быть,
чтобы написать письмо?
-- А также и приказ о выдаче мне ослят, -- добавил Санчо.
-- Все будет включено, -- сказал Дон Кихот, -- и было бы хорошо, раз у
нас нет бумаги, если бы мы, как это делали древние, написали письмо на
древесных листьях или на восковых дощечках, хотя найти их теперь так же
трудно, как и найти бумагу. Но сейчас мне пришло в голову, на чем можно так
же хорошо и даже еще лучше написать письмо, -- в записной книжке,
принадлежавшей Кар-денио. А ты уже позаботишься дать его переписать на
бумагу и хорошим почерком в первом же встречном селе, где ты найдешь учителя
в школе для мальчиков, а если не найдешь, то какой-нибудь пономарь перепишет
тебе письмо. Но не давай переписывать его кому-нибудь из нотариусов, которые
пишут так крючковато, что сам сатана ничего не разберет.
-- А как же насчет подписи? -- спросил Санчо.
-- В письмах Амадиса никогда не было подписи, -- ответил Дон Кихот.
-- Все это очень хорошо, -- сказал Санчо, -- но приказ на получение
ослят должен быть непременно подписан,-- если же подпись будет переписана,
скажут, что она подложная, и я останусь без ослят.
-- Приказ на ослят я подпишу здесь в этой записной книжке, и, увидав
мою подпись, племянница моя не затруднится исполнить то, о чем я пишу. Что
же касается любовного письма, ты поставишь такую подпись: "Ваш до гроба.
Рыцарь Печального Образа". И неважно, что письмо это будет написано чужой
рукой, так как, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать и
никогда в жизни не видела ни моего почерка, ни какого-либо письма моего,
потому что наша обоюдная -- моя и ее -- любовь была всегда лишь
платонической и не заходила дальше целомудренных взглядов, да и это
случалось лишь редко. И я мог бы истинно поклясться: в течение двенадцати
лет, что я ее люблю больше зеницы глаз этих, которые будут засыпаны землей,
я видел ее всего лишь четыре раза; и, быть может, в эти четыре раза она даже
не заметила, что я на нее смотрю, -- до того строго и в таком уединении ее
воспитывал отец ее, Лоренсо Корхуело, и мать, Алдонса Ногалес.
-- Та-та, -- воскликнул Санчо, -- значит, дочь Лоренсо Корхуэло и есть
сеньора Дульсинея Тобосская, иначе называемая Алдонса Лоренсо? {Среди
испанских крестьян, не имевших фамилий, было в обычае к имени детей, и
особенно девушек, приставлять имя отца.}
-- Это она и есть, -- ответил Дон Кихот, -- та самая, которая
заслуживает быть повелительницей всего мира.
-- Я хорошо ее знаю, -- сказал Санчо, -- и могу удостоверить, что она
так ловко бросает шест, как самый сильный парень в селе. Клянусь Создателем,
эта девушка чисто огонь, разбитная, удалая и такой крепыш, что всякого
странствующего или имеющего странствовать рыцаря, который выбрал бы ее себе
в сеньоры, она может вытащить за бороду из грязи. О дочь блудницы, какие у
нее здоровенные легкие и что за голос! Могу вам сказать, однажды она
поднялась на сельскую колокольню, чтобы позвать батраков, работавших на
пашне ее отца, и они, даже находясь на расстоянии более чем полмили оттуда,
услышали ее так же хорошо, как будто стояли внизу колокольни; а всего лучше
то, что она нимало не жеманна, потому что у нее чрезвычайное сходство с
придворной дамой {Игра слов: cortesana означает и "придворная дама", и "дама
легкого поведения."}; со всеми она шутит и над всем смеется и острит. Теперь
скажу, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вы, милость ваша, не только
можете и должны совершать безумства ради нее, но и с полным правом можете
прийти в отчаяние и повеситься, потому что всякий, кто узнает об этом,
скажет, что вы крайне хорошо поступили, хотя бы вас и побрал черт; и я желал
бы уже быть в дороге, только чтобы увидеть ее, потому что я давно ее не
видел, и она за это время, должно быть, очень изменилась; ведь лицо женщин
сильно портится, если они постоянно находятся в поле, на ветру и на солнце.
Должен признаться вам, ваша милость, сеньор Дон Кихот, до сих пор я был в
большом заблуждении, так как искренно и твердо верил, что сеньора Дульсинея
какая-нибудь принцесса, в которую милость ваша влюблена, или же знатная
особа, заслуживающая богатых подарков, которые ваша милость посылала ей,
например бискайца, каторжников и, верно, еще многих других, судя по тому,
что ваша милость, должно быть, одерживала и одержала немало побед в то
время, когда я еще не был у вас оруженосцем. Но, если хорошенько вникнуть в
дело, какая же польза сеньоре Алдонсе Лоренсо (я хотел сказать сеньоре
Дульсинее Тобосской) из того, что к ней являются преклонять колени
побежденные, которых ваша милость посылала и будет посылать ей? Ведь может
случиться, что в то самое время, когда они к ней явятся, она будет занята
чесанием льна или молотьбой на току, и они, увидав это, смутятся, а она
рассмеется и вышутит ваш подарок.
-- Я и прежде не раз говорил тебе, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- что
ты большой говорун, и хотя ум у тебя туповатый, ты часто умеешь быть очень
колким. Но чтобы ты видел, насколько ты глуп, а я рассудителен, выслушай
маленький рассказ. Итак, ты должен знать, что одна вдова, молодая, красивая,
независимая и богатая, к тому же очень веселого нрава, влюбилась в юного
послушника, дюжего и сильного. Настоятель монастыря узнал об этом и однажды
сказал доброй вдове в виде братского увещевания: "Я изумлен, сеньора, и не
без причины, что такая знатная, красивая и богатая женщина, как вы,
влюбилась в человека такого ничтожного, грязного и глупого, в то время как
здесь, в монастыре, столько ученых магистров и богословов, из числа которых
ваша милость могла бы выбрать, как среди груш, и сказать: этот мне нравится,
а тот нет". Но она ответила ему весело и развязно: "Вы, милость ваша, сеньор
мой, очень ошибаетесь и мыслите на старинный лад, если думаете, что я
сделала плохой выбор. Тот, о ком вы говорите, каким бы он вам ни казался
идиотом, для того, на что он мне нужен, знает философию столько же и даже
больше, чем Аристотель". Итак, Санчо, для того, на что мне нужна Дульсинея
Тобосская, она так же годится, как и самая знатная принцесса в мире. Далеко
не верно, что все поэты действительно обладали теми дамами, которых они
прославляли под вымышленными именами. Думаешь ли ты, что Амарильисы, Филиды,
Сильвии, Дианы, Галатеи, Алиды и многие другие, которыми полны книги,
романсы, лавочки цирюльников и театры, на самом деле существа из плоти и
крови и принадлежали тем, которые их воспевают и воспевали? Конечно, нет; по
большей части поэты выдумывали их, чтобы иметь сюжет для своих стихов и
чтобы их принимали за влюбленных и за людей, способных быть ими. Поэтому и
для меня достаточно думать и верить, что добрая Алдонса Лоренсо прекрасна и
добродетельна; а что касается ее происхождения, это неважно, потому что
никто не будет наводить о том справки, чтобы поднести ей какой-нибудь
орденский знак {В некоторые орденские учреждения, например Золотого руна и
Иоанна де Калатрава, нельзя было поступить иначе, как только если получался
удовлетворительный результат после предварительного исследования
генеалогии.}, -- я же, со своей стороны, считаю ее самой возвышенной
принцессой в мире. Ты должен знать, Санчо, -- если ты этого еще не знаешь,
-- что единственно лишь две вещи преимущественно перед всеми остальными
разжигают любовь, именно: великая красота и добрая слава, и обе эти вещи
имеются в превосходной степени у Дульсинеи, потому что по красоте ни одна
женщина не сравнится с нею, а в доброй славе немногие приблизятся к ней. В
заключение же скажу: я представляю себе, что все именно так и обстоит, как я
говорю, не хуже и не лучше; и я рисую ее себе в своем воображении такой,
какой я желал бы, чтобы она была как по красоте, так и по знатности
происхождения. Ни Елена не может сравниться с нею, ни Лукреция не достигает
до нее и ни одна из знаменитых женщин древности -- греческой, варварской,
или латинской, -- и пусть каждый говорит что хочет, потому что, если меня за
это и будут порицать невежды, чуткие люди не осудят.
-- Я скажу, что вы, ваша милость, во всем правы, -- ответил Санчо, -- а
я -- осел. Не знаю только, зачем слово "осел" попалось мне на язык, потому
что в доме повешенного о веревке не следует говорить. Но давайте письмо и
прощайте, -- я ухожу.
Дон Кихот вынул записную книжку, отошел в сторону и, хорошенько
обдумывая, стал писать; а когда он кончил, он позвал Санчо и сказал, что
желал бы прочесть ему письмо, с тем чтобы он его запомнил, на случай если бы
дорогой потерял его, так как ввиду несчастной его судьбы можно всего
опасаться.
На это Санчо ответил:
-- Пусть ваша милость два или три раза напишет его здесь, в книжечке, и
даст мне ее, и я повезу ее очень бережно; но думать, что я могу запомнить
письмо, -- бессмысленно, потому что у меня память такая плохая, что я часто
забываю свое собственное имя. Тем не менее прочтите письмо, милость ваша, я
с удовольствием прослушаю его, потому что оно, наверное, не хуже печатного.
-- Одним словом, -- сказал Санчо,-- что же, собственно, ваша милость
собирается делать здесь, в этом столь отдаленном месте?
-- Разве я тебе не говорил, -- ответил Дон Кихот, -- что хочу подражать
Амадису, изображая здесь впавшего в отчаяние, безумного и неистового, в то
же время подражая и доблестному дону Ролдану {Испанское имя Роланда.}, когда
он вблизи одного источника нашел доказательства того, что прекрасная
Анхелика обесчестила себя с Медором, вследствие чего он от огорчения сошел с
ума и стал вырывать с корнями деревья, мутить воды светлых источников,
убивать пастухов, уничтожать их стада, поджигать хижины, опрокидывать дома,
волочить по земле коней, словом, совершать сотни тысяч безумств {История
любви Медора и Анжелики и безумств Роланда рассказана в 23-й и 24-й песнях
известной поэмы итальянского писателя Ариосто "Orlando Furioso" ("Неистовый
Роланд").}, достойных вечного упоминания и внесения в летописи. И хотя я не
намерен подражать Орландо, Ролдану, или Ротоланду (так как его прозывали
всеми этими тремя именами), шаг за шагом во всех безумствах, которые он
совершил, сказал или придумал, я постараюсь, как сумею, выбрать и повторить
те из них, которые мне покажутся наиболее существенными. А может быть, я
ограничусь лишь только подражанием Амадису, не совершившему никаких пагубных
безумств и одними лишь слезами своими и скорбью достигшему самой высокой
славы.
-- Мне кажется, -- сказал Санчо,-- что рыцари, которые делали нечто
подобное, были вызваны к тому и имели причины совершать эти безумства и
эпитимии; но какая причина у вашей милости сходить с ума? Какая дама
отвергла вас или какие нашли вы доказательства, что сеньора Дульсинея
Тобосская согрешила с мавром или с христианином?
-- В этом-то вся суть дела, -- сказал Дон Кихот, -- и вся красота моего
предприятия, потому что, если странствующий рыцарь сходит с ума, имея на то
причину, в чем же тут заслуга и повод для похвалы? Вся соль именно в том,
чтобы сойти с ума без причины и чтобы дать понять своей даме: если зеленое
дерево так вспыхнуло, как запылало бы сухое! Кроме того, у меня есть
достаточная для этого причина в долгой разлуке с той, которая навсегда
останется моей повелительницей, с Дульсинеей Тобосской,-- потому что, как ты
недавно слышал от пастуха Амбросио: тот, кто в разлуке, испытывает и
опасается всяких зол и бед. Итак, Санчо, друг, не теряй понапрасну времени,
советуя мне отказаться от столь редкостного, счастливого и никогда не
бывалого подражания. Я сумасшедший и останусь сумасшедшим до тех пор, пока
ты не вернешься с ответом на письмо, которое я думаю послать с тобой моей
сеньоре Дульсинее, и если ответ ее будет таким, какого заслуживает мое
постоянство, -- моему безумию и покаянию настанет конец. Если же случится
наоборот, то я в действительности сойду с ума и, будучи сумасшедшим,
перестану что-либо ощущать. Так что, как бы она ни ответила, я выйду из
неопределенности и из того затруднения, в которых ты меня оставляешь,
радуясь -- если я буду в здравом уме, -- добрым вестям, привезенным мне
тобой, или же, в случае если ты мне сообщишь худые вести, ничего не буду
чувствовать, впав в безумие. Но скажи мне, Санчо, в сохранности ли у тебя
шлем Мамбрино? Я видел, что ты поднял его с земли, когда тот неблагодарный
пытался сломать его вдребезги и не мог, из чего ясно видно, какой хороший
закал шлема.
На это Санчо ответил:
-- Клянусь Богом живым, сеньор Рыцарь Печального Образа, я не могу
сносить и терпеливо выслушивать иные вещи, которые милость ваша говорит,
потому что они наводят меня на мысль, что ваши рассказы о рыцарстве, о
завоеваниях королевств и империй, раздаче островов и всяких других милостей
и щедрот, как это в обычае у странствующих рыцарей, должно быть, одно лишь
дуновение ветра и ложь, одни лишь просто-напросто сказки и басни, или как их
там назвать. Ведь каждый, кто услышит, что ваша милость утверждает, будто
таз цирюльника -- шлем Мамбрино, и увидит, что вы остаетесь в этом
заблуждении более четырех дней, не может подумать чего-либо иного, кроме
того, что человек, который говорит и утверждает нечто подобное, наверное
распростился с своим разумом. Таз, весь смятый и изогнутый, у меня здесь в
мешке, и я везу его домой, чтобы выпрямить его и употреблять для бритья,
если Бог окажет мне такую милость и я когда-нибудь снова увижу жену и детей
своих.
-- Слушай, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- клянусь тем же Богом, Каким и
ты только что клялся, -- у тебя самый тупой ум, которым когда-либо обладал
или обладает какой бы то ни было оруженосец в мире. Возможно ли, чтобы ты,
так долго скитаясь со мной, еще не разглядел, что все относящееся к
странствующему рыцарству кажется обольщением, безумием и нелепостью и все
делается навыворот? И не потому, чтобы это действительно было так, а потому,
что среди нас, рыцарей, всегда носится толпа волшебников, которые все, что
мы делаем, преобразуют, изменяют и превращают, как им вздумается, смотря по
тому, намерены ли они благоприятствовать нам или же повредить; и вот почему
то, что ты считаешь тазом для бритья, мне кажется шлемом Мамбрино, а другому
может показаться еще чем-нибудь иным. Со стороны покровительствующего мне
мудреца было необычайно предусмотрительно устроить так, чтобы всем казалось
тазом для бритья то, что поистине и на самом деле есть шлем Мамбрино, потому
что вследствие столь высокой ценности его весь свет преследовал бы меня,
чтобы отнять его. Но теперь -- видя в нем только лишь цирюльничий таз -- они
не стремятся приобрести его, что ясно доказал тот, который захотел его
сломать и, не взяв с собой, оставил лежать на земле, а по чести, если б он
знал истинную цену его, то никогда бы не расстался с ним. Береги же его
хорошенько, друг, потому что теперь он мне не нужен, и даже мне придется
снять с себя все эти доспехи и остаться нагим, как я родился, если мне
вздумается подражать в моем искусе скорее Ролдану, чем Амадису
Разговаривая таким образом, они добрались до подножия высокой горы,
стоявшей одиноко, словно обрубленная громадная скала, среди других
окружавших ее гор. Внизу, у ее подошвы, протекал мирный ручеек, опоясывая
зеленый роскошный луг, приводивший в восхищение всякий взгляд, который
останавливался на нем. Кругом виднелось немало лесных деревьев и разных
растений и цветов, делавших эту поляну еще очаровательнее. Ее-то Рыцарь
Печального Образа и избрал для совершения своей эпитимии, и, лишь только
увидел ее, он воскликнул громким голосом, словно уже впавший в безумие:
-- Вот место, о небеса, избранное и назначенное мною, чтобы оплакивать
несчастье, в которое вы сами ввергли меня. Вот то место, где влага из моих
глаз приумножит воды маленького этого ручья, а неперестающие и глубокие
вздохи мои приведут в беспрерывное движение листву горных этих деревьев в
доказательство и свидетельство мучений, испытываемых этим истерзанным
сердцем моим! О вы, кто бы вы ни были, сельские божества, обитающие в
необитаемой этой местности! Внемлите жалобам несчастного влюбленного,
которого долгая разлука и мнимая ревность привели сюда, среди этих суровых
скал скорбеть и плакаться на жестокость сердца неблагодарной и прекрасной,
-- являющей собой совершенство и венец всякой человеческой красоты! О вы,
лесные нимфы и дриады, имеющие обыкновение жить в густой тени горных этих
дубрав! Пусть быстроногие и сладострастные сатиры, тщетно влюбленные в вас,
никогда не нарушат мирного вашего покоя, если вы поможете мне оплакивать мое
несчастье или, по крайней мере, не соскучитесь, слушая о нем! О Дульсинея
Тобосская, день моей ночи, наслаждение моих мук, путеводная звезда моей
жизни, луч моего счастья! Да ниспошлет тебе небо полной мерой все, чего бы
ты ни пожелала, если ты обратишь взоры свои на место и положение, к которому
меня привела разлука с тобой, и ответишь мне взаимностью в награду за мою
верность тебе! О уединенные деревья, которые отныне и впредь будете мне
единственным обществом в полном моем одиночестве! Подайте мне знак
сладостным шелестом ветвей ваших, что присутствие мое не причиняет вам
неудовольствия! О ты, оруженосец мой, милый товарищ во всех счастливых и
несчастных моих приключениях! Запечатлей хорошенько в своей памяти то, что я
буду делать здесь, на глазах у тебя, чтобы передать и пересказать о том
единственной виновнице всего происходящего!
Говоря это, Дон Кихот слез с Росинанта, спешно расседлал его и, ладонью
хлопнув по бокам, сказал:
-- Свободу дает тебе тот, кто сам лишен ее! О конь, столь же
прославленный заслугами своими, как и несчастный по судьбе своей, ступай
куда хочешь, потому что у тебя на лбу написано, что по быстроте с тобой не
сравнится ни Гипогриф {Гипогриф -- чудовище, рожденное от баснословного
животного -- грифа и кобылы; играет значительную роль в поэме Ариосто, так
же как и Фронтино -- светло-гнедой конь с белой полосой.}[ ]Астольфа, ни
знаменитый Фронтино, стоивший так дорого Брадаманте.
Когда Санчо увидел это, он сказал:
-- Всяческого успеха тому, кто избавил нас теперь от труда расседлывать
Серого, потому что, по чести, пришлось бы и его похлопать и наговорить и ему
разных разностей в похвалу, хотя, если б он был здесь, я не согласился бы,
чтобы кто-нибудь снял с него седло, потому что не было бы причины, так как
общие правила влюбленных и впавших в отчаяние нимало не касаются его, как и
его господина, которым я был, пока Богу было угодно. Но, право, сеньор
Рыцарь Печального Образа, если мой отъезд и безумие вашей милости -- вещь
серьезная, было бы лучше снова оседлать Росинанта, чтобы он заменил
отсутствие Серого, так как это значило бы сберечь время туда и обратно;
потому что, если мне придется идти пешком, не знаю, когда я дойду и когда
вернусь, оттого что я в самом деле плохой ходок.
-- Говорю, Санчо, пусть будет по-твоему, -- ответил Дон Кихот, --
потому что твой план кажется мне недурным, и говорю тебе, что через три дня
ты уедешь, так как я желаю, чтобы за это время ты увидел то, что я ради
Дульсинеи буду делать и говорить, и затем сообщил бы ей о том.
-- Но что же я увижу больше того, что я уже видел? -- спросил Санчо.
-- Как ты сильно ошибаешься в своем расчете, -- ответил Дон Кихот, --
теперь мне нужно еще разорвать одежду, разбросать кругом себя оружие,
удариться головой об эти скалы и совершить другие вещи в том же роде,
которые изумят тебя.
-- Ради бога, -- сказал Санчо, -- будьте осторожнее, милость ваша,
когда вы будете биться головой о скалы, потому что вы можете удариться о
такую скалу и в таком ее месте, что с первым же ударом наступит конец всей
вашей затее об эпи-тимии. Я бы держался того мнения, уж
если ваша милость находит, что биться головой необходимо и без этого
дело не может быть сделано, вы бы удовольствовались -- так как все это лишь
притворно, вымышлено и в шутку, -- вы бы удовольствовались, говорю я, биться
головой о воду или о какой-нибудь мягкий предмет, например вату, и затем
предоставьте все мне, а я скажу сеньоре Дульсинее, что ваша милость билась
головой о скалы, более твердые, чем алмаз.
-- Благодарю тебя за твое доброе намерение, друг Санчо, -- сказал Дон
Кихот, -- но ты должен знать, что все эти вещи я делаю вовсе не в шутку, а
всерьез, потому что поступать иначе -- значило бы нарушать законы рыцарства,
воспрещающие нам под страхом наказания за отступничество когда-либо говорить
ложь; а делать одну вещь вместо другой -- все то же, что лгать. Вот почему
мои удары головой о скалу должны быть настоящие, неподдельные, не
заключающие в себе ничего призрачного или фантастичного; и потому нужно,
чтобы ты оставил мне немного корпии для перевязки, раз по воле судьбы мы
лишились бальзама, потерянного нами.
-- Еще хуже было потерять осла,-- ответил Санчо, -- так как заодно с
ним потеряна и корпия, и все остальное. Но прошу вас, ваша милость, не
напоминайте мне об этом проклятом питье; только при одном напоминании о нем
у меня выворачивает всю душу, чтобы не сказать весь желудок! И еще прошу
вас, считайте, что уже прошли три дня сроку, данного мне вами, чтобы глядеть
на безумные ваши выходки, так как я готов заявить, что уже видел их и они
были уже доведены до конца, и я расскажу о них чудеса сеньоре Дульсинее.
Итак, пишите письмо и посылайте меня тотчас, потому что я чувствую сильное
желание скорей вернуться, чтобы освободить вас, милость ваша, из чистилища,
в котором оставляю вас.
-- Ты называешь это чистилищем, Санчо? -- спросил Дон Кихот. -- Лучше
бы ты называл это адом и даже хуже чем адом, если что-нибудь может быть хуже
его.
-- Тому, кто попал в ад, -- ответил Санчо, -- nula est retention
{Санчо, коверкая слова, говорит "retentio" вместо "redemptio", желая
сказать: "In inferno milla est redemptio" ("Из ада нет избавления").}, как
мне приводилось слышать.
-- Не понимаю, что значит retentio,-- сказал Дон Кихот.
-- Retentio, -- ответил Санчо, -- значит, что тот, кто в аду, никогда
оттуда не выйдет и не может выйти, а с вашей милостью будет наоборот, или же
моим пяткам придется плохо, если я возьму шпоры, чтобы торопить Росинанта.
Дайте мне лишь приехать в Тобосо и явиться перед сеньорой Дульсинеей, я
столько ей нарасскажу о дурачествах и сумасбродствах (ведь это одно и то
же), которые ваша милость делала и продолжает делать, что она у меня станет
мягче перчатки, хотя бы я ее застал жестче пробкового дерева. С ее ответом,
сладким и медовым, я по воздуху, как колдун, вернусь и освобожу вашу милость
из этого чистилища, похожего на ад, но который не есть ад, потому что вы
имеете надежду выйти из него, а этой надежды, как я уже говорил, нет у тех,
которые в аду; и я не думаю, что ваша милость станет возражать против этого.
-- Ты прав, -- сказал Рыцарь Печального Образа, -- но как нам быть,
чтобы написать письмо?
-- А также и приказ о выдаче мне ослят, -- добавил Санчо.
-- Все будет включено, -- сказал Дон Кихот, -- и было бы хорошо, раз у
нас нет бумаги, если бы мы, как это делали древние, написали письмо на
древесных листьях или на восковых дощечках, хотя найти их теперь так же
трудно, как и найти бумагу. Но сейчас мне пришло в голову, на чем можно так
же хорошо и даже еще лучше написать письмо, -- в записной книжке,
принадлежавшей Кар-денио. А ты уже позаботишься дать его переписать на
бумагу и хорошим почерком в первом же встречном селе, где ты найдешь учителя
в школе для мальчиков, а если не найдешь, то какой-нибудь пономарь перепишет
тебе письмо. Но не давай переписывать его кому-нибудь из нотариусов, которые
пишут так крючковато, что сам сатана ничего не разберет.
-- А как же насчет подписи? -- спросил Санчо.
-- В письмах Амадиса никогда не было подписи, -- ответил Дон Кихот.
-- Все это очень хорошо, -- сказал Санчо, -- но приказ на получение
ослят должен быть непременно подписан,-- если же подпись будет переписана,
скажут, что она подложная, и я останусь без ослят.
-- Приказ на ослят я подпишу здесь в этой записной книжке, и, увидав
мою подпись, племянница моя не затруднится исполнить то, о чем я пишу. Что
же касается любовного письма, ты поставишь такую подпись: "Ваш до гроба.
Рыцарь Печального Образа". И неважно, что письмо это будет написано чужой
рукой, так как, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать и
никогда в жизни не видела ни моего почерка, ни какого-либо письма моего,
потому что наша обоюдная -- моя и ее -- любовь была всегда лишь
платонической и не заходила дальше целомудренных взглядов, да и это
случалось лишь редко. И я мог бы истинно поклясться: в течение двенадцати
лет, что я ее люблю больше зеницы глаз этих, которые будут засыпаны землей,
я видел ее всего лишь четыре раза; и, быть может, в эти четыре раза она даже
не заметила, что я на нее смотрю, -- до того строго и в таком уединении ее
воспитывал отец ее, Лоренсо Корхуело, и мать, Алдонса Ногалес.
-- Та-та, -- воскликнул Санчо, -- значит, дочь Лоренсо Корхуэло и есть
сеньора Дульсинея Тобосская, иначе называемая Алдонса Лоренсо? {Среди
испанских крестьян, не имевших фамилий, было в обычае к имени детей, и
особенно девушек, приставлять имя отца.}
-- Это она и есть, -- ответил Дон Кихот, -- та самая, которая
заслуживает быть повелительницей всего мира.
-- Я хорошо ее знаю, -- сказал Санчо, -- и могу удостоверить, что она
так ловко бросает шест, как самый сильный парень в селе. Клянусь Создателем,
эта девушка чисто огонь, разбитная, удалая и такой крепыш, что всякого
странствующего или имеющего странствовать рыцаря, который выбрал бы ее себе
в сеньоры, она может вытащить за бороду из грязи. О дочь блудницы, какие у
нее здоровенные легкие и что за голос! Могу вам сказать, однажды она
поднялась на сельскую колокольню, чтобы позвать батраков, работавших на
пашне ее отца, и они, даже находясь на расстоянии более чем полмили оттуда,
услышали ее так же хорошо, как будто стояли внизу колокольни; а всего лучше
то, что она нимало не жеманна, потому что у нее чрезвычайное сходство с
придворной дамой {Игра слов: cortesana означает и "придворная дама", и "дама
легкого поведения."}; со всеми она шутит и над всем смеется и острит. Теперь
скажу, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вы, милость ваша, не только
можете и должны совершать безумства ради нее, но и с полным правом можете
прийти в отчаяние и повеситься, потому что всякий, кто узнает об этом,
скажет, что вы крайне хорошо поступили, хотя бы вас и побрал черт; и я желал
бы уже быть в дороге, только чтобы увидеть ее, потому что я давно ее не
видел, и она за это время, должно быть, очень изменилась; ведь лицо женщин
сильно портится, если они постоянно находятся в поле, на ветру и на солнце.
Должен признаться вам, ваша милость, сеньор Дон Кихот, до сих пор я был в
большом заблуждении, так как искренно и твердо верил, что сеньора Дульсинея
какая-нибудь принцесса, в которую милость ваша влюблена, или же знатная
особа, заслуживающая богатых подарков, которые ваша милость посылала ей,
например бискайца, каторжников и, верно, еще многих других, судя по тому,
что ваша милость, должно быть, одерживала и одержала немало побед в то
время, когда я еще не был у вас оруженосцем. Но, если хорошенько вникнуть в
дело, какая же польза сеньоре Алдонсе Лоренсо (я хотел сказать сеньоре
Дульсинее Тобосской) из того, что к ней являются преклонять колени
побежденные, которых ваша милость посылала и будет посылать ей? Ведь может
случиться, что в то самое время, когда они к ней явятся, она будет занята
чесанием льна или молотьбой на току, и они, увидав это, смутятся, а она
рассмеется и вышутит ваш подарок.
-- Я и прежде не раз говорил тебе, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- что
ты большой говорун, и хотя ум у тебя туповатый, ты часто умеешь быть очень
колким. Но чтобы ты видел, насколько ты глуп, а я рассудителен, выслушай
маленький рассказ. Итак, ты должен знать, что одна вдова, молодая, красивая,
независимая и богатая, к тому же очень веселого нрава, влюбилась в юного
послушника, дюжего и сильного. Настоятель монастыря узнал об этом и однажды
сказал доброй вдове в виде братского увещевания: "Я изумлен, сеньора, и не
без причины, что такая знатная, красивая и богатая женщина, как вы,
влюбилась в человека такого ничтожного, грязного и глупого, в то время как
здесь, в монастыре, столько ученых магистров и богословов, из числа которых
ваша милость могла бы выбрать, как среди груш, и сказать: этот мне нравится,
а тот нет". Но она ответила ему весело и развязно: "Вы, милость ваша, сеньор
мой, очень ошибаетесь и мыслите на старинный лад, если думаете, что я
сделала плохой выбор. Тот, о ком вы говорите, каким бы он вам ни казался
идиотом, для того, на что он мне нужен, знает философию столько же и даже
больше, чем Аристотель". Итак, Санчо, для того, на что мне нужна Дульсинея
Тобосская, она так же годится, как и самая знатная принцесса в мире. Далеко
не верно, что все поэты действительно обладали теми дамами, которых они
прославляли под вымышленными именами. Думаешь ли ты, что Амарильисы, Филиды,
Сильвии, Дианы, Галатеи, Алиды и многие другие, которыми полны книги,
романсы, лавочки цирюльников и театры, на самом деле существа из плоти и
крови и принадлежали тем, которые их воспевают и воспевали? Конечно, нет; по
большей части поэты выдумывали их, чтобы иметь сюжет для своих стихов и
чтобы их принимали за влюбленных и за людей, способных быть ими. Поэтому и
для меня достаточно думать и верить, что добрая Алдонса Лоренсо прекрасна и
добродетельна; а что касается ее происхождения, это неважно, потому что
никто не будет наводить о том справки, чтобы поднести ей какой-нибудь
орденский знак {В некоторые орденские учреждения, например Золотого руна и
Иоанна де Калатрава, нельзя было поступить иначе, как только если получался
удовлетворительный результат после предварительного исследования
генеалогии.}, -- я же, со своей стороны, считаю ее самой возвышенной
принцессой в мире. Ты должен знать, Санчо, -- если ты этого еще не знаешь,
-- что единственно лишь две вещи преимущественно перед всеми остальными
разжигают любовь, именно: великая красота и добрая слава, и обе эти вещи
имеются в превосходной степени у Дульсинеи, потому что по красоте ни одна
женщина не сравнится с нею, а в доброй славе немногие приблизятся к ней. В
заключение же скажу: я представляю себе, что все именно так и обстоит, как я
говорю, не хуже и не лучше; и я рисую ее себе в своем воображении такой,
какой я желал бы, чтобы она была как по красоте, так и по знатности
происхождения. Ни Елена не может сравниться с нею, ни Лукреция не достигает
до нее и ни одна из знаменитых женщин древности -- греческой, варварской,
или латинской, -- и пусть каждый говорит что хочет, потому что, если меня за
это и будут порицать невежды, чуткие люди не осудят.
-- Я скажу, что вы, ваша милость, во всем правы, -- ответил Санчо, -- а
я -- осел. Не знаю только, зачем слово "осел" попалось мне на язык, потому
что в доме повешенного о веревке не следует говорить. Но давайте письмо и
прощайте, -- я ухожу.
Дон Кихот вынул записную книжку, отошел в сторону и, хорошенько
обдумывая, стал писать; а когда он кончил, он позвал Санчо и сказал, что
желал бы прочесть ему письмо, с тем чтобы он его запомнил, на случай если бы
дорогой потерял его, так как ввиду несчастной его судьбы можно всего
опасаться.
На это Санчо ответил:
-- Пусть ваша милость два или три раза напишет его здесь, в книжечке, и
даст мне ее, и я повезу ее очень бережно; но думать, что я могу запомнить
письмо, -- бессмысленно, потому что у меня память такая плохая, что я часто
забываю свое собственное имя. Тем не менее прочтите письмо, милость ваша, я
с удовольствием прослушаю его, потому что оно, наверное, не хуже печатного.
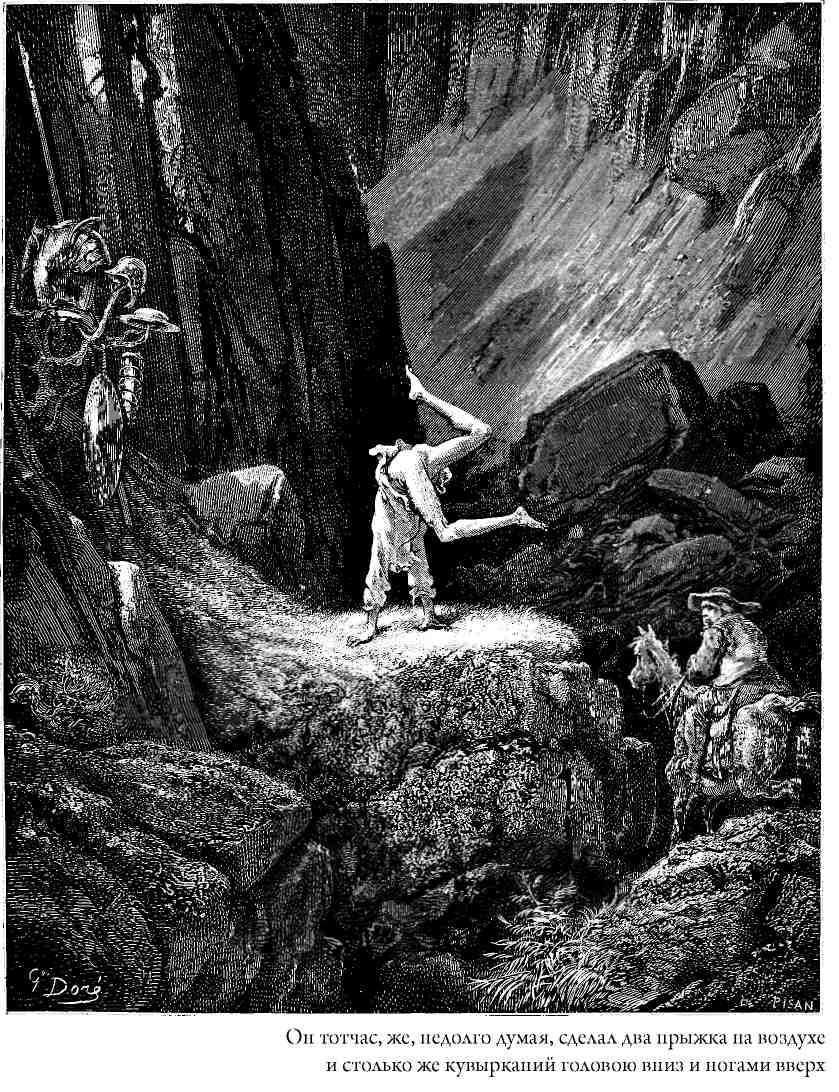 -- Слушай же, -- сказал Дон Кихот,-- вот что я написал:
ПИСЬМО ДОН КИХОТА К ДУЛЬСИНЕЕ ТОБОССКОЙ
Неограниченная и Высочайшая сеньора!
Раненный острием разлуки, пронзенный до глубины сердца, шлет тебе,
сладчайшая Дульсинея Тобосская, пожелания здоровья тот, кто сам его не
имеет. Если твоя красота пренебрегает мною, если превосходство твое не на
радость мне, если цель твоего презрения -- усилить мои муки, хотя я и
достаточно закален в страданиях, у меня не хватит сил вынести этого горя,
которое, кроме того что оно очень велико, еще и очень продолжительно. Мой
добрый оруженосец Санчо подробно сообщит тебе, о неблагодарная красавица,
возлюбленная неприятельница моя, до какого состояния я дошел ради тебя. Если
ты соблаговолишь помочь мне -- я твой, если же нет -- поступай, как тебе
угодно будет, потому что, прекратив жизнь мою, я удовлетворю этим твою
жестокость и собственное мое желание. Твой до гроба
Рыцарь Печального Образа.
-- Клянусь жизнью отца моего,-- воскликнул Санчо, прослушав письмо,--
это самая возвышенная вещь, которую я когда-либо слышал. Черт возьми, как
хорошо ваша милость говорит здесь все, что желает, и как хорошо подошла
подпись Рыцаря Печального Образа! Истинно скажу, вы, милость ваша, как есть
сам дьявол {Это похвала со стороны Санчо, так как сказать: "Sabe mas que
eldiablo" ("Вы знаете больше дьявола") -- в Испании весьма обычный оборот
речи и комплимент.}, и нет той вещи, которой вы бы не знали!
-- В моей профессии необходимо все знать, -- ответил Дон Кихот.
-- А теперь, -- сказал Санчо, -- пусть милость ваша напишет на другом
листке приказ о выдаче мне трех ослят, и подпишитесь так, чтоб можно было
сейчас узнать вашу подпись.
-- С удовольствием, -- ответил Дон Кихот и, написав записку, прочел ее,
а в ней заключалось следующее:
"Прошу вас, сеньора племянница, выдать подателю этой ассигновки,
оруженосцу моему Санчо Пансе, трех ослят из пяти, оставленных мною дома под
вашим присмотром; каковые три осленка приказываю вам выдать и уплатить ими
за стольких же других, полностью здесь полученных мною от него; а затем наши
счеты по этому письму -- получив от него расписку -- прошу считать
погашенными. Дано в ущельях Сьерра-Морены двадцать второго августа текущего
года".
-- Хорошо, -- сказал Санчо, -- а теперь, милость ваша, подпишитесь.
-- Мне не надо подписываться, -- ответил Дон Кихот, -- я только
поставлю свой росчерк {Rubrica -- росчерк, довершавший подпись в Испании;
ему придавали большое значение, предполагая, что его труднее подделать, чем
саму подпись, и потому он скреплял последнюю. Рубрика сама по себе считалась
и перед судом достаточной подписью под всякими документами.}, а это
равняется подписи, и было бы достаточно не только для трех, но и для трехсот
ослят.
-- Вполне полагаюсь на вашу милость, -- сказал Санчо. -- Отпустите меня
седлать Росинанта и приготовьтесь дать мне свое благословение, так как я
намерен ехать тотчас же, не глядя на безумные выходки, которые ваша милость
собирается проделать; а скажу я сеньоре Дульсинее, что видел их столько, что
ей большего и желать нельзя.
-- Но, по крайней мере, я хотел бы, Санчо, так как это необходимо, -- я
хотел бы, говорю я, чтобы ты увидел меня обнаженным и проделывающим дюжину
или две безумств, на что мне потребуется менее получаса; потому что, увидев
их собственными глазами, ты уже смело можешь клясться и относительно
остальных, которые пожелал бы прибавить, -- и, будь уверен, ты не наскажешь
их столько, сколько я намерен проделать их.
-- Ради бога, сеньор мой, не показывайтесь мне, ваша милость,
обнаженным, потому что я почувствую жалость и не смогу удержаться, чтоб не
разреветься, а голова у меня еще очень тяжела от слез, пролитых мною в
прошлую ночь из-за Серого, и я теперь больше не в силах плакать. Если же
ваша милость непременно желает, чтобы я видел некоторые из ваших безумств,
проделайте их одетый, но покороче и такие, которые вам покажутся самыми
уместными. Тем более что для меня ничего этого не требуется и, как я раньше
говорил, это только оттягивает мое возвращение с такими известиями, которых
ваша милость и желает, и заслуживает. А нет,-- пусть сеньора Дульсинея
остерегается, потому что, если она не ответит, как следует, -- торжественно
клянусь чем только могу, что вырву у нее ответ из ее внутренностей пинками и
тумаками; невозможно ведь стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий
рыцарь, как ваша милость, сошел бы с ума ни за что ни про что из-за
какой-то... Пусть сеньора Дульсинея не заставит меня договорить из-за какой,
не то, клянусь Богом, я ей сразу все выпалю прямо в лицо, да целыми
дюжинами, хотя бы и вся торговля пропала. На это я мастер; она меня плохо
знает, так как, ей-богу, если б знала меня, то стояла бы в струнке передо
мной.
-- Клянусь, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- ты, по-видимому, в здравом
уме не более, чем я.
-- Я не такой сумасшедший, как вы -- ответил Санчо, -- но вспыльчивее
вас. Однако, оставив это в стороне, скажите, что же вы будете есть, милость
ваша, пока я не вернусь? Будете ли вы выходить на дорогу, как Карденио, и
отнимать съестные припасы у пастухов?
-- Пусть эта забота не тревожит тебя, -- ответил Дон Кихот, -- потому
что, даже если б у меня и было что есть, я не ел бы ничего другого, кроме
трав и плодов, которыми этот луг и эти деревья могут снабдить меня, так как
вся красота моего предприятия состоит в том, чтобы не есть и подвергать себя
и другим суровым лишениям.
На это Санчо ответил:
-- Итак, прощайте; но знаете ли, ваша милость, чего я боюсь? Что на
возвратном пути не сумею отыскать место, где теперь оставляю вас: такая тут
глушь.
-- Запомни хорошенько все приметы, а я постараюсь не удаляться из этих
окрестностей, -- сказал Дон Кихот, -- и даже дам себе труд взобраться на
самые высокие утесы, чтобы смотреть оттуда, не увижу ли я тебя, когда ты
будешь возвращаться. Впрочем, самое верное средство, чтобы ты не заблудился
и разыскал меня, это -- срезать несколько ветвей дрока, растущего здесь в
изобилии, и разбрасывать его там и тут на своем пути, пока не выберешься на
равнину: эти ветки дрока послужат тебе межевыми вехами и приметами, чтобы ты
отыскал меня, когда вернешься, подражая этим клубку Тезея в лабиринте.
-- Я так и сделаю, -- ответил Санчо Панса и, срезав несколько ветвей
дрока, попросил благословения своего сеньора, и не без обильных слез с той и
другой стороны, они простились. Усевшись верхом на Росинанта, -- которого
Дон Кихот убедительно просил Санчо беречь и заботиться о нем, как о самом
себе, -- он поехал по направлению к равнине, бросая время от времени по
дороге ветки дрока, как ему советовал его господин. Так он и уехал, несмотря
на то что Дон Кихот все еще настаивал, чтобы он, по крайней мере, посмотрел
хоть на два его безумства.
Но не отъехал Санчо и ста шагов, как вернулся и сказал:
-- Мне кажется, сеньор, милость ваша говорила совершенно верно: для
того чтобы я мог, не обременяя своей совести, поклясться, что видел,
как вы проделывали безумства, мне бы следовало посмотреть по крайней мере на
одно из них, хотя я уже видел одно очень большое, -- то, что милость ваша
остается здесь.
-- Ведь говорил же я тебе, -- сказал Дон Кихот, -- подожди, Санчо, и
скорей, чем можно прочесть "Credo", я проделаю несколько безумств.
И, поспешно сняв с себя панталоны, он остался в одной лишь рубашке на
голом теле, и тотчас же, недолго думая, сделал два прыжка на воздухе и
столько же кувырканий головою вниз и ногами вверх, раскрыв при этом такие
вещи, что Санчо, чтобы не видеть их вторично, повернул Росинанта, вполне
удовлетворенный и довольный тем, что может теперь клясться, что его господин
сумасшедший. Итак, мы предоставим ему ехать своей дорогой до его
возвращения, а оно не заставило себя долго ждать.
-- Слушай же, -- сказал Дон Кихот,-- вот что я написал:
ПИСЬМО ДОН КИХОТА К ДУЛЬСИНЕЕ ТОБОССКОЙ
Неограниченная и Высочайшая сеньора!
Раненный острием разлуки, пронзенный до глубины сердца, шлет тебе,
сладчайшая Дульсинея Тобосская, пожелания здоровья тот, кто сам его не
имеет. Если твоя красота пренебрегает мною, если превосходство твое не на
радость мне, если цель твоего презрения -- усилить мои муки, хотя я и
достаточно закален в страданиях, у меня не хватит сил вынести этого горя,
которое, кроме того что оно очень велико, еще и очень продолжительно. Мой
добрый оруженосец Санчо подробно сообщит тебе, о неблагодарная красавица,
возлюбленная неприятельница моя, до какого состояния я дошел ради тебя. Если
ты соблаговолишь помочь мне -- я твой, если же нет -- поступай, как тебе
угодно будет, потому что, прекратив жизнь мою, я удовлетворю этим твою
жестокость и собственное мое желание. Твой до гроба
Рыцарь Печального Образа.
-- Клянусь жизнью отца моего,-- воскликнул Санчо, прослушав письмо,--
это самая возвышенная вещь, которую я когда-либо слышал. Черт возьми, как
хорошо ваша милость говорит здесь все, что желает, и как хорошо подошла
подпись Рыцаря Печального Образа! Истинно скажу, вы, милость ваша, как есть
сам дьявол {Это похвала со стороны Санчо, так как сказать: "Sabe mas que
eldiablo" ("Вы знаете больше дьявола") -- в Испании весьма обычный оборот
речи и комплимент.}, и нет той вещи, которой вы бы не знали!
-- В моей профессии необходимо все знать, -- ответил Дон Кихот.
-- А теперь, -- сказал Санчо, -- пусть милость ваша напишет на другом
листке приказ о выдаче мне трех ослят, и подпишитесь так, чтоб можно было
сейчас узнать вашу подпись.
-- С удовольствием, -- ответил Дон Кихот и, написав записку, прочел ее,
а в ней заключалось следующее:
"Прошу вас, сеньора племянница, выдать подателю этой ассигновки,
оруженосцу моему Санчо Пансе, трех ослят из пяти, оставленных мною дома под
вашим присмотром; каковые три осленка приказываю вам выдать и уплатить ими
за стольких же других, полностью здесь полученных мною от него; а затем наши
счеты по этому письму -- получив от него расписку -- прошу считать
погашенными. Дано в ущельях Сьерра-Морены двадцать второго августа текущего
года".
-- Хорошо, -- сказал Санчо, -- а теперь, милость ваша, подпишитесь.
-- Мне не надо подписываться, -- ответил Дон Кихот, -- я только
поставлю свой росчерк {Rubrica -- росчерк, довершавший подпись в Испании;
ему придавали большое значение, предполагая, что его труднее подделать, чем
саму подпись, и потому он скреплял последнюю. Рубрика сама по себе считалась
и перед судом достаточной подписью под всякими документами.}, а это
равняется подписи, и было бы достаточно не только для трех, но и для трехсот
ослят.
-- Вполне полагаюсь на вашу милость, -- сказал Санчо. -- Отпустите меня
седлать Росинанта и приготовьтесь дать мне свое благословение, так как я
намерен ехать тотчас же, не глядя на безумные выходки, которые ваша милость
собирается проделать; а скажу я сеньоре Дульсинее, что видел их столько, что
ей большего и желать нельзя.
-- Но, по крайней мере, я хотел бы, Санчо, так как это необходимо, -- я
хотел бы, говорю я, чтобы ты увидел меня обнаженным и проделывающим дюжину
или две безумств, на что мне потребуется менее получаса; потому что, увидев
их собственными глазами, ты уже смело можешь клясться и относительно
остальных, которые пожелал бы прибавить, -- и, будь уверен, ты не наскажешь
их столько, сколько я намерен проделать их.
-- Ради бога, сеньор мой, не показывайтесь мне, ваша милость,
обнаженным, потому что я почувствую жалость и не смогу удержаться, чтоб не
разреветься, а голова у меня еще очень тяжела от слез, пролитых мною в
прошлую ночь из-за Серого, и я теперь больше не в силах плакать. Если же
ваша милость непременно желает, чтобы я видел некоторые из ваших безумств,
проделайте их одетый, но покороче и такие, которые вам покажутся самыми
уместными. Тем более что для меня ничего этого не требуется и, как я раньше
говорил, это только оттягивает мое возвращение с такими известиями, которых
ваша милость и желает, и заслуживает. А нет,-- пусть сеньора Дульсинея
остерегается, потому что, если она не ответит, как следует, -- торжественно
клянусь чем только могу, что вырву у нее ответ из ее внутренностей пинками и
тумаками; невозможно ведь стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий
рыцарь, как ваша милость, сошел бы с ума ни за что ни про что из-за
какой-то... Пусть сеньора Дульсинея не заставит меня договорить из-за какой,
не то, клянусь Богом, я ей сразу все выпалю прямо в лицо, да целыми
дюжинами, хотя бы и вся торговля пропала. На это я мастер; она меня плохо
знает, так как, ей-богу, если б знала меня, то стояла бы в струнке передо
мной.
-- Клянусь, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- ты, по-видимому, в здравом
уме не более, чем я.
-- Я не такой сумасшедший, как вы -- ответил Санчо, -- но вспыльчивее
вас. Однако, оставив это в стороне, скажите, что же вы будете есть, милость
ваша, пока я не вернусь? Будете ли вы выходить на дорогу, как Карденио, и
отнимать съестные припасы у пастухов?
-- Пусть эта забота не тревожит тебя, -- ответил Дон Кихот, -- потому
что, даже если б у меня и было что есть, я не ел бы ничего другого, кроме
трав и плодов, которыми этот луг и эти деревья могут снабдить меня, так как
вся красота моего предприятия состоит в том, чтобы не есть и подвергать себя
и другим суровым лишениям.
На это Санчо ответил:
-- Итак, прощайте; но знаете ли, ваша милость, чего я боюсь? Что на
возвратном пути не сумею отыскать место, где теперь оставляю вас: такая тут
глушь.
-- Запомни хорошенько все приметы, а я постараюсь не удаляться из этих
окрестностей, -- сказал Дон Кихот, -- и даже дам себе труд взобраться на
самые высокие утесы, чтобы смотреть оттуда, не увижу ли я тебя, когда ты
будешь возвращаться. Впрочем, самое верное средство, чтобы ты не заблудился
и разыскал меня, это -- срезать несколько ветвей дрока, растущего здесь в
изобилии, и разбрасывать его там и тут на своем пути, пока не выберешься на
равнину: эти ветки дрока послужат тебе межевыми вехами и приметами, чтобы ты
отыскал меня, когда вернешься, подражая этим клубку Тезея в лабиринте.
-- Я так и сделаю, -- ответил Санчо Панса и, срезав несколько ветвей
дрока, попросил благословения своего сеньора, и не без обильных слез с той и
другой стороны, они простились. Усевшись верхом на Росинанта, -- которого
Дон Кихот убедительно просил Санчо беречь и заботиться о нем, как о самом
себе, -- он поехал по направлению к равнине, бросая время от времени по
дороге ветки дрока, как ему советовал его господин. Так он и уехал, несмотря
на то что Дон Кихот все еще настаивал, чтобы он, по крайней мере, посмотрел
хоть на два его безумства.
Но не отъехал Санчо и ста шагов, как вернулся и сказал:
-- Мне кажется, сеньор, милость ваша говорила совершенно верно: для
того чтобы я мог, не обременяя своей совести, поклясться, что видел,
как вы проделывали безумства, мне бы следовало посмотреть по крайней мере на
одно из них, хотя я уже видел одно очень большое, -- то, что милость ваша
остается здесь.
-- Ведь говорил же я тебе, -- сказал Дон Кихот, -- подожди, Санчо, и
скорей, чем можно прочесть "Credo", я проделаю несколько безумств.
И, поспешно сняв с себя панталоны, он остался в одной лишь рубашке на
голом теле, и тотчас же, недолго думая, сделал два прыжка на воздухе и
столько же кувырканий головою вниз и ногами вверх, раскрыв при этом такие
вещи, что Санчо, чтобы не видеть их вторично, повернул Росинанта, вполне
удовлетворенный и довольный тем, что может теперь клясться, что его господин
сумасшедший. Итак, мы предоставим ему ехать своей дорогой до его
возвращения, а оно не заставило себя долго ждать.

Глава XXVI Продолжение изящных проделок, совершенных Дон Кихотом в
качестве влюбленного в Сьерра-Морене
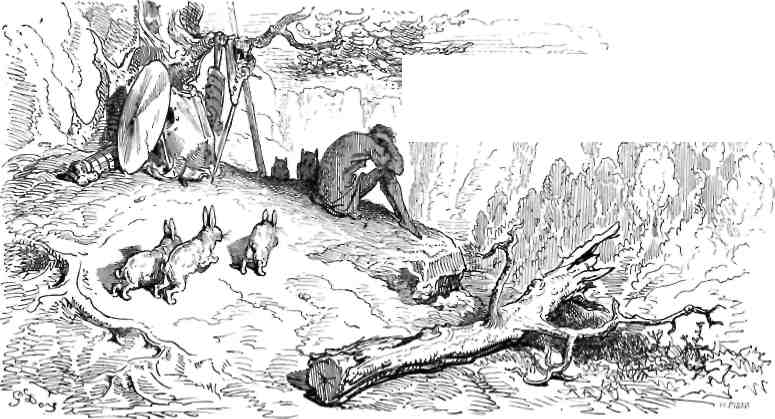 Возвращаясь к рассказу о том, что делал Рыцарь Печального Образа, когда
остался один, история повествует: лишь только Дон Кихот, полуобнаженный,
раздетый снизу и одетый сверху, кончил свои кувыркания и прыжки и увидел,
что Санчо уехал, не желая присутствовать при дальнейших его дурачествах, он
взобрался на вершину высокой скалы и здесь стал снова размышлять о том, о
чем он уже часто думал, не приходя, однако, к окончательному решению, а
именно: что для него было бы лучше и более подходящим делом, -- подражать ли
Ролдану в буйных его неистовствах, или же Амадису в его припадках грусти?
Рассуждая сам с собой, он говорил:
-- Если Ролдан был таким превосходным и доблестным рыцарем, как все
говорят, в этом нет ничего удивительного, потому что он был очарован, и
никто не мог убить его иначе, как только проткнув ему подошву ноги грошовой
булавкой, а он всегда носил башмаки с семью железными подошвами. Но хитрости
его не помогли ему против Бернардо дель Карпио, который, зная о них, задушил
его в своих объятиях в долине Ронсеваля. Оставим, однако, в стороне
рассуждение о его храбрости и перейдем к потере им рассудка, который он, как
достоверно известно, действительно потерял, убедившись из доказательств,
найденных им у источника, и из сведений, сообщенных ему пастухом, что
Анхелика провела там две или более сиесты в объятьях Медора -- юного,
курчавого мавра, пажа Аграманта. Если Ролдан поверил, что это правда и что
его дама так опозорила его, ничего особенного нет в том, что он сошел от
этого с ума. Но я, -- как же я могу подражать ему в его неистовствах, если у
меня нет такого же повода, как у него, проделывать их? Ведь моя Дульсинея
Тобосская -- я готов клясться в том, -- не видела во всю свою жизнь ни
одного мавра таким, каков он на самом деле, в национальной его одежде, и она
и поныне также непорочна, как и мать, которая ее родила; и я нанес бы ей
явное оскорбление, если б я, вообразив о ней что-либо иное, сошел бы с ума,
одержимый тем же родом помешательства, как и неистовый Ролдан. С другой
стороны, я вижу, что Амадис Галльский, не потеряв рассудка и не совершив
никаких неистовств, приобрел в качестве влюбленного большую славу, чем
кто-либо другой; а сделал он, судя по тому, что повествуется в его истории,
следующее: отверженный сеньорой Орианой, которая приказала ему не являться
ей на глаза, пока она не разрешит ему этого, он удалился на Пенья Побре и
там в обществе отшельника наплакался досыта, пока небо не послало ему
утешения среди его великой тревоги и беды. А если это правда -- как оно
действительно и есть, -- зачем я стану теперь раздеваться донага или
вырывать с корнями эти деревья, не сделавшие мне никакого зла, и для чего
стану мутить светлые воды этих ручейков, которые напоят меня, когда я
почувствую жажду? Да здравствует же память Амадиса, и пусть подражает ему во
всем, в чем может, Дон Кихот Ламанчский, про которого скажут то же, что было
сказано и о том, другом {Намек на Фаэтона, о котором это было сказано в
"Превращениях" Овидия наядами реки По в надгробной надписи.}: если он и не
совершил великих дел, то умер, пытаясь совершить их; и хотя моя Дульсинея
Тобосская не пренебрегла мною и не отвергла меня, довольно и того, как я уже
говорил, что я в разлуке с нею. Итак, скорей к делу: придите мне на память
подвиги Амадиса и научите меня, как мне начать подражать вам! Но я знаю, что
он больше всего молился и поручал себя Богу. Однако как мне быть с четками?
Их у меня нет.
Тогда он придумал способ смастерить четки: он оторвал большую полосу
холста от подола рубашки и связал из нее одиннадцать узлов, из которых один
узел был толще других; и это-то и служило ему четками на все время, которое
он там оставался, и на них он прочитал миллион "Ave Maria". Очень смущало
его и то, что он не находил там отшельника, который бы его исповедовал и мог
бы утешать его. Итак, он проводил время, гуляя по лужку, вырезая на коре
деревьев и вписывая в мелком песку немало стихов, все соответствующие его
грустному настроению, а некоторые из них, восхваляющие Дульсинею Тобосскую.
Но из этих стихотворений сохранились, и их можно было разобрать после того,
как отыскали Дон Кихота, лишь только следующие:
Деревья, травы и кусты,
Что здесь так стройно предо мною
Сплелися дружною семьею,
Полны могучей красоты,--
Я к вам сюда пришел с мольбою!
Прошу у вас участья я.
Мне душу горе угнетает,--
Но пусть оно вас не смущает.
В слезах здесь Дон Кихот, друзья,
О Дульсинее вспоминает
Тобосской.
Вот место то, в тиши лесной,
Где он неведомою силой
К разлуке вынужден постылой,
Грустит вдали от взоров той,
Что вечно будет сердцу милой.
Любовь тревогу лишь несет,
И очень злобно с ним играет,--
Бочонки слез здесь проливает
И беспрерывно Дон Кихот
О Дульсинее вспоминает
Тобосской.
Средь неприступных, диких скал
Найти он думал приключенья,
А только горе, и волненья,
И дни невзгоды он узнал
И проклинал свои мученья.
Амур его тут плетью бьет,
Он с ним не шутит, не играет...
В затылок больно ударяет;
И, весь в слезах, здесь Дон Кихот
О Дульсинее вспоминает
Тобосской.
Немало смеха возбудила в нашедших упомянутые стихи прибавка Тобосской к
имени Дульсинеи, потому что они догадывались, что, должно быть, Дон Кихот
воображал, если он назовет Дульсинею, не добавив "Тобосской", то не поймут
куплета; так оно и было, как он потом сам признался. Много еще других
стихотворений сочинил он, но -- как было уже сказано -- только эти три
строфы можно было разобрать, и только они были найдены в целости. Итак,
сочиняя стихи, вздыхая, взывая к лесным фавнам и сатирам, к нимфам вод и к
влажному, печальному эхо, прося их отозваться, утешить и выслушать его,
проводил Дон Кихот время, а также и в поисках трав, которыми он мог бы
поддерживать свое существование до возвращения Санчо. И если б последний
явился не через три дня, как это случилось, а через три недели, то Рыцарь
Печального Образа был бы так обезображен, что родившая его мать не узнала бы
его.
Однако оставим его вздыхать и сочинять стихи и расскажем лучше, что
случилось с Санчо Пансой во время посольства его. Выехав на большую дорогу,
он повернул по направлению к Тобосо и на следующий день добрался до
постоялого двора, где с ним приключилось несчастье с подбрасыванием на
одеяле. Едва заприметил он постоялый двор, как уже ему представилось, будто
он снова взлетает на воздух, и он не пожелал заезжать туда, хотя как раз
было время, когда он мог и должен был бы это сделать, потому что наступила
обеденная пора и ему очень хотелось отведать чего-нибудь горячего, так как
он уже столько дней сидел на одной лишь холодной пище. Эта потребность
заставила его подъехать ближе к постоялому двору, хотя он все еще был в
нерешительности, заезжать ли ему туда или нет. Как раз в это время из
постоялого двора вышли два человека, которые тотчас же узнали его, и один
сказал другому:
-- Посмотрите, сеньор лисенсиат, этот вот всадник не Санчо ли Панса,
который -- как нам говорила ключница нашего искателя приключений -- уехал
вместе с ее господином в качестве оруженосца?
-- Да, -- ответил лисенсиат, -- это он и есть, а под ним лошадь нашего
Дон Кихота.
Они не могли не узнать его, потому что это были священник и цирюльник
из его местечка, -- те самые, которые произвели суд и следствие над книгами
Дон Кихота и присудили их к сожжению. Окончательно убедившись в том, что это
Санчо Панса и Росинант, они подошли к нему, желая разузнать о Дон Кихоте, и
священник окликнул его по имени, говоря:
-- Друг Санчо Панса, где же остался господин ваш?
Санчо Панса тотчас же узнал их, но решил скрыть от них местопребывание
и состояние своего господина; итак, он ответил, что его господин занят в
одном месте одним делом, очень для него важным, а каким, он не может им
сказать, хотя бы за это лишился и обоих своих глаз.
-- Нет, нет, Санчо Панса, -- сказал цирюльник, -- если вы нам не
укажете, где ваш господин, мы подумаем -- как мы уже сейчас думаем, -- что
вы его убили и ограбили, потому что вы едете верхом на его лошади. Говорю
вам, немедля доставьте нам владельца этой лошади, или же вам придется иметь
дело с нами.
-- Незачем вам угрожать мне, потому что я не такой человек, чтобы
грабить или убивать кого бы то ни было, -- сказал Санчо. -- Пусть каждого
убивает его судьба или Бог, создавший его. Мой господин остался там, в этих
горах, где он, к великому своему удовольствию, исполняет наложенную им на
себя эпитимию.
И тотчас же Санчо, наскоро и не останавливаясь рассказал им о
состоянии, в котором он оставил своего господина, и о приключениях,
случившихся с ними, и о том, что он послан отвезти письмо сеньоре Дульсинее
Тобосской, -- а она дочь Лоренсо Корхуэло, в которую Дон Кихот влюблен по
уши.
Оба -- и священник и цирюльник -- были крайне изумлены всем тем, что
рассказал Санчо Панса, и, хотя они уже знали о помешательстве Дон Кихота и о
том, какого оно рода, тем не менее каждый раз, что слышали о нем, не могли
не изумляться снова; они попросили Санчо Пансу показать им письмо, которое
он вез сеньоре Дульсинее Тобосской. Санчо сказал им, что письмо это написано
в записной книжечке и что рыцарь велел дать переписать его на бумагу в
первом встречном селе. На это священник сказал, чтобы он передал ему письмо
и он перепишет его сам отличнейшим почерком. Санчо Панса сунул руку за
пазуху, отыскивая записную книжечку, но не нашел ее и не мог бы найти, если
б искал до сегодняшнего дня, так как она осталась у Дон Кихота, который не
отдал ее ему, а он забыл спросить ее. Видя, что он не находит книжки, Санчо
побледнел как смерть и стал поспешно ощупывать себе все тело; окончательно
убедившись, что ее действительно нет, он без дальнейшего промедления схватил
себя обеими руками за бороду и вырвал чуть ни половину ее, а затем быстро и
не останавливаясь нанес с полдюжины ударов себе по лицу и по носу, так что у
него брызнула кровь.
Увидав это, священник и цирюльник спросили его, что такое случилось с
ним, что он так жестоко себя казнит.
-- Что случилось! -- воскликнул Санчо. -- Случилось то, что в один миг
я потерял трех ослят, из которых каждый стоил целого замка.
-- Как так? -- спросил цирюльник.
-- Я потерял записную книжку, -- ответил Санчо, -- где было письмо к
Дульсинее, а также ассигновка, подписанная моим господином, в которой он
приказывал своей племяннице выдать мне трех ослят из числа четырех или пяти
бывших у него дома. -- И затем Санчо рассказал о пропаже Серого.
Священник утешил его, говоря, что, как только он найдет Дон Кихота, то
позаботится, чтобы он восстановил ассигновку и написал бы еще раз вексель,
но на листе бумаги, как это принято и в обычае, потому что векселя,
написанные в записных книжках, никогда не принимаются и по ним не
уплачивают. Это утешило Санчо, и он сказал: если так, то потеря письма
Дульсинее не очень его огорчает, потому что он знает его почти наизусть и
они с его слов могут записать его когда и где угодно.
-- Так перескажите его нам, Санчо,-- предложил цирюльник, -- а потом мы
его и напишем.
Санчо Панса стал чесать у себя в голове, чтобы припомнить письмо,
переступая с ноги на ногу, поглядывая то на землю, то на небо, и, обкусав
себе половину ногтя на одном пальце и продержав достаточно долго в ожидании
двух своих слушателей, наконец, после очень большой паузы, сказал: --
Клянусь Богом, сеньор лисенсиат, пусть черти побрали бы все, что я помню из
письма, хотя оно начиналось так: "Возвышенная и ограниченная сеньора"...
-- Верно, там не сказано "ограниченная", -- заметил цирюльник, -- а
стояло неограниченная или властительная сеньора.
-- Так оно и есть, -- согласился Санчо. -- Потом, если не ошибаюсь,
следовало, если не ошибаюсь: "Лишенный сна и раненый целует руки вашей
милости, неблагодарная и безвестная красота", и я не знаю, что он еще там
говорил о здоровье и болезни, которые посылает ей,-- и он в таком же роде
продолжал, пока не кончил словами: "Твой до гроба рыцарь Печального Образа".
Немало забавила священника и цирюльника прекрасная память Санчо Пансы,
и, очень расхваливая ее, они попросили его еще два раза повторить письмо,
чтобы и они могли запомнить его наизусть и, в свое время, записать. Три раза
повторил Санчо письмо и столько же раз повторил три тысячи других
нелепостей. Затем он рассказал и о прочих делах своего господина, но не
проронил ни слова о подбрасывании его на одеяле, случившемся с ним на этом
постоялом дворе, в который ему так не хотелось заезжать. Он сообщил им
также, что его господин -- лишь только он принесет ему благосклонный ответ
от сеньоры Дульсинеи Тобосской -- тотчас же примет все меры, чтобы сделаться
императором или по меньшей мере монархом, -- они так между собой условились;
сделаться же им рыцарю очень легко, приняв во внимание личную его храбрость
и силу руки его. Когда все это случится и его господин будет королем, он
женит его, Санчо, потому что к тому времени он окажется вдовцом, -- иначе
быть не может, -- и в жены он даст ему одну из девушек императрицы,
наследницу больших и богатых владений на материке, без островов и островков,
которых он теперь вовсе не желает. Санчо говорил это так спокойно, утирая
себе время от времени нос, и с таким полным отсутствием здравого смысла, что
священник и цирюльник снова пришли в изумление, думая, до чего сильно должно
было быть безумие Дон Кихота, если оно заразило мозги и этого бедного
человека. Они не пожелали давать себе труд вывести его из заблуждения, в
котором он находился, рассудив, что, так как совесть его от этого нимало не
пострадает, лучше оставить его в этом заблуждении, а для них будет забавнее
слушать его нелепости. Итак, они ему сказали, чтобы он молил Бога о здравии
своего господина, потому что очень вероятно и возможно, что с течением
времени его господин, как он говорит, сделается императором, или по меньшей
мере архиепископом, или другим, столь же почетным, сановником. На это Санчо
ответил:
-- Сеньоры, если бы судьба повернула дело так, что господину моему
пришло бы на ум сделаться не императором, а архиепископом, -- хотелось бы
мне знать, чем же странствующие архиепископы имеют обыкновение награждать
своих оруженосцев?
-- Они награждают их, -- ответил священник, -- каким-нибудь богатым
приходом или же местом ризничего с хорошим годовым окладом, не считая
пожертвований на церковь, которые вычисляются обыкновенно в столько же.
-- Но для этого, -- ответил Санчо,-- нужно, чтобы оруженосец
архиепископа не был женат или по крайней мере умел бы прислуживать за
обедней. Если же это так, горе мне, несчастному, потому что я и женат, и не
знаю первой буквы азбуки. Что станется со мной, если моему господину вдруг
вздумается сделаться архиепископом, а не императором, как это принято и в
обычае у странствующих рыцарей?
-- Не тревожьтесь, Санчо, друг,-- сказал цирюльник, -- мы попросим
вашего господина, посоветуем ему, и даже поставим на вид, как вопрос
совести, чтобы он сделался императором, а не архиепископом; да ему это и
будет легче по той причине, что у него больше храбрости, чем учености.
-- Так оно и мне казалось, -- ответил Санчо, -- хотя могу сказать, что
господин мой искусен во всем. Я же, со своей стороны, думаю вот что делать:
просить Господа Бога направить его туда, где он мог бы лучше всего
благоприятствовать себе самому, а мне оказать побольше милостей.
-- Вы говорите, как умный человек, -- сказал священник, -- и будете
поступать, как добрый христианин. Но теперь следует нам прежде всего
подумать, как освободить вашего господина от бесполезной эпитимии, которую
он, по вашим словам, совершает. А чтобы обсудить способ, как это сделать, и
поесть, потому что уже пора, -- хорошо было бы зайти нам на постоялый двор.
Санчо ответил, чтобы они шли туда, а он подождет их здесь, и потом
объяснит причину, отчего он не идет с ними и не следует ему идти; но он
просит их принести ему сюда чего-нибудь поесть, только горячего, также и
ячменя для Росинанта. Они пошли на постоялый двор, оставив его, и немного
спустя цирюльник принес ему поесть. Затем, после того как они долго
обдумывали вдвоем, как могли бы они достигнуть того, чего желали, священнику
пришла в голову мысль, вполне соответствующая причудам Дон Кихота и их
намерению. Он сказал цирюльнику, что придумал вот что: сам он переоденется
странствующей девушкой, а цирюльник пусть постарается, как сумеет,
изобразить оруженосца. В таком виде они отправятся туда, где находится Дон
Кихот, и священник, разыгрывая роль угнетенной и оскорбленной девушки,
попросит его о милости, в которой он, как доблестный странствующий рыцарь,
не может отказать. Милость же, о которой он попросит его, будет заключаться
в том, чтобы Дон Кихот следовал за девушкой туда, куда она его поведет для
исправления зла, нанесенного ей вероломным рыцарем; в то же время она
попросит его не требовать, чтобы она сняла с лица маску, и не расспрашивать
о ее делах, пока он не восстановит справедливости, нарушенной ее коварным
обидчиком. Священник нимало не сомневался, что Дон Кихот согласится
исполнить все, о чем бы его ни попросили под этим предлогом, и, таким
образом, им удастся извлечь его оттуда и доставить в его село, где они
попытаются найти какое-нибудь средство для излечения странного его
умопомешательства.
Возвращаясь к рассказу о том, что делал Рыцарь Печального Образа, когда
остался один, история повествует: лишь только Дон Кихот, полуобнаженный,
раздетый снизу и одетый сверху, кончил свои кувыркания и прыжки и увидел,
что Санчо уехал, не желая присутствовать при дальнейших его дурачествах, он
взобрался на вершину высокой скалы и здесь стал снова размышлять о том, о
чем он уже часто думал, не приходя, однако, к окончательному решению, а
именно: что для него было бы лучше и более подходящим делом, -- подражать ли
Ролдану в буйных его неистовствах, или же Амадису в его припадках грусти?
Рассуждая сам с собой, он говорил:
-- Если Ролдан был таким превосходным и доблестным рыцарем, как все
говорят, в этом нет ничего удивительного, потому что он был очарован, и
никто не мог убить его иначе, как только проткнув ему подошву ноги грошовой
булавкой, а он всегда носил башмаки с семью железными подошвами. Но хитрости
его не помогли ему против Бернардо дель Карпио, который, зная о них, задушил
его в своих объятиях в долине Ронсеваля. Оставим, однако, в стороне
рассуждение о его храбрости и перейдем к потере им рассудка, который он, как
достоверно известно, действительно потерял, убедившись из доказательств,
найденных им у источника, и из сведений, сообщенных ему пастухом, что
Анхелика провела там две или более сиесты в объятьях Медора -- юного,
курчавого мавра, пажа Аграманта. Если Ролдан поверил, что это правда и что
его дама так опозорила его, ничего особенного нет в том, что он сошел от
этого с ума. Но я, -- как же я могу подражать ему в его неистовствах, если у
меня нет такого же повода, как у него, проделывать их? Ведь моя Дульсинея
Тобосская -- я готов клясться в том, -- не видела во всю свою жизнь ни
одного мавра таким, каков он на самом деле, в национальной его одежде, и она
и поныне также непорочна, как и мать, которая ее родила; и я нанес бы ей
явное оскорбление, если б я, вообразив о ней что-либо иное, сошел бы с ума,
одержимый тем же родом помешательства, как и неистовый Ролдан. С другой
стороны, я вижу, что Амадис Галльский, не потеряв рассудка и не совершив
никаких неистовств, приобрел в качестве влюбленного большую славу, чем
кто-либо другой; а сделал он, судя по тому, что повествуется в его истории,
следующее: отверженный сеньорой Орианой, которая приказала ему не являться
ей на глаза, пока она не разрешит ему этого, он удалился на Пенья Побре и
там в обществе отшельника наплакался досыта, пока небо не послало ему
утешения среди его великой тревоги и беды. А если это правда -- как оно
действительно и есть, -- зачем я стану теперь раздеваться донага или
вырывать с корнями эти деревья, не сделавшие мне никакого зла, и для чего
стану мутить светлые воды этих ручейков, которые напоят меня, когда я
почувствую жажду? Да здравствует же память Амадиса, и пусть подражает ему во
всем, в чем может, Дон Кихот Ламанчский, про которого скажут то же, что было
сказано и о том, другом {Намек на Фаэтона, о котором это было сказано в
"Превращениях" Овидия наядами реки По в надгробной надписи.}: если он и не
совершил великих дел, то умер, пытаясь совершить их; и хотя моя Дульсинея
Тобосская не пренебрегла мною и не отвергла меня, довольно и того, как я уже
говорил, что я в разлуке с нею. Итак, скорей к делу: придите мне на память
подвиги Амадиса и научите меня, как мне начать подражать вам! Но я знаю, что
он больше всего молился и поручал себя Богу. Однако как мне быть с четками?
Их у меня нет.
Тогда он придумал способ смастерить четки: он оторвал большую полосу
холста от подола рубашки и связал из нее одиннадцать узлов, из которых один
узел был толще других; и это-то и служило ему четками на все время, которое
он там оставался, и на них он прочитал миллион "Ave Maria". Очень смущало
его и то, что он не находил там отшельника, который бы его исповедовал и мог
бы утешать его. Итак, он проводил время, гуляя по лужку, вырезая на коре
деревьев и вписывая в мелком песку немало стихов, все соответствующие его
грустному настроению, а некоторые из них, восхваляющие Дульсинею Тобосскую.
Но из этих стихотворений сохранились, и их можно было разобрать после того,
как отыскали Дон Кихота, лишь только следующие:
Деревья, травы и кусты,
Что здесь так стройно предо мною
Сплелися дружною семьею,
Полны могучей красоты,--
Я к вам сюда пришел с мольбою!
Прошу у вас участья я.
Мне душу горе угнетает,--
Но пусть оно вас не смущает.
В слезах здесь Дон Кихот, друзья,
О Дульсинее вспоминает
Тобосской.
Вот место то, в тиши лесной,
Где он неведомою силой
К разлуке вынужден постылой,
Грустит вдали от взоров той,
Что вечно будет сердцу милой.
Любовь тревогу лишь несет,
И очень злобно с ним играет,--
Бочонки слез здесь проливает
И беспрерывно Дон Кихот
О Дульсинее вспоминает
Тобосской.
Средь неприступных, диких скал
Найти он думал приключенья,
А только горе, и волненья,
И дни невзгоды он узнал
И проклинал свои мученья.
Амур его тут плетью бьет,
Он с ним не шутит, не играет...
В затылок больно ударяет;
И, весь в слезах, здесь Дон Кихот
О Дульсинее вспоминает
Тобосской.
Немало смеха возбудила в нашедших упомянутые стихи прибавка Тобосской к
имени Дульсинеи, потому что они догадывались, что, должно быть, Дон Кихот
воображал, если он назовет Дульсинею, не добавив "Тобосской", то не поймут
куплета; так оно и было, как он потом сам признался. Много еще других
стихотворений сочинил он, но -- как было уже сказано -- только эти три
строфы можно было разобрать, и только они были найдены в целости. Итак,
сочиняя стихи, вздыхая, взывая к лесным фавнам и сатирам, к нимфам вод и к
влажному, печальному эхо, прося их отозваться, утешить и выслушать его,
проводил Дон Кихот время, а также и в поисках трав, которыми он мог бы
поддерживать свое существование до возвращения Санчо. И если б последний
явился не через три дня, как это случилось, а через три недели, то Рыцарь
Печального Образа был бы так обезображен, что родившая его мать не узнала бы
его.
Однако оставим его вздыхать и сочинять стихи и расскажем лучше, что
случилось с Санчо Пансой во время посольства его. Выехав на большую дорогу,
он повернул по направлению к Тобосо и на следующий день добрался до
постоялого двора, где с ним приключилось несчастье с подбрасыванием на
одеяле. Едва заприметил он постоялый двор, как уже ему представилось, будто
он снова взлетает на воздух, и он не пожелал заезжать туда, хотя как раз
было время, когда он мог и должен был бы это сделать, потому что наступила
обеденная пора и ему очень хотелось отведать чего-нибудь горячего, так как
он уже столько дней сидел на одной лишь холодной пище. Эта потребность
заставила его подъехать ближе к постоялому двору, хотя он все еще был в
нерешительности, заезжать ли ему туда или нет. Как раз в это время из
постоялого двора вышли два человека, которые тотчас же узнали его, и один
сказал другому:
-- Посмотрите, сеньор лисенсиат, этот вот всадник не Санчо ли Панса,
который -- как нам говорила ключница нашего искателя приключений -- уехал
вместе с ее господином в качестве оруженосца?
-- Да, -- ответил лисенсиат, -- это он и есть, а под ним лошадь нашего
Дон Кихота.
Они не могли не узнать его, потому что это были священник и цирюльник
из его местечка, -- те самые, которые произвели суд и следствие над книгами
Дон Кихота и присудили их к сожжению. Окончательно убедившись в том, что это
Санчо Панса и Росинант, они подошли к нему, желая разузнать о Дон Кихоте, и
священник окликнул его по имени, говоря:
-- Друг Санчо Панса, где же остался господин ваш?
Санчо Панса тотчас же узнал их, но решил скрыть от них местопребывание
и состояние своего господина; итак, он ответил, что его господин занят в
одном месте одним делом, очень для него важным, а каким, он не может им
сказать, хотя бы за это лишился и обоих своих глаз.
-- Нет, нет, Санчо Панса, -- сказал цирюльник, -- если вы нам не
укажете, где ваш господин, мы подумаем -- как мы уже сейчас думаем, -- что
вы его убили и ограбили, потому что вы едете верхом на его лошади. Говорю
вам, немедля доставьте нам владельца этой лошади, или же вам придется иметь
дело с нами.
-- Незачем вам угрожать мне, потому что я не такой человек, чтобы
грабить или убивать кого бы то ни было, -- сказал Санчо. -- Пусть каждого
убивает его судьба или Бог, создавший его. Мой господин остался там, в этих
горах, где он, к великому своему удовольствию, исполняет наложенную им на
себя эпитимию.
И тотчас же Санчо, наскоро и не останавливаясь рассказал им о
состоянии, в котором он оставил своего господина, и о приключениях,
случившихся с ними, и о том, что он послан отвезти письмо сеньоре Дульсинее
Тобосской, -- а она дочь Лоренсо Корхуэло, в которую Дон Кихот влюблен по
уши.
Оба -- и священник и цирюльник -- были крайне изумлены всем тем, что
рассказал Санчо Панса, и, хотя они уже знали о помешательстве Дон Кихота и о
том, какого оно рода, тем не менее каждый раз, что слышали о нем, не могли
не изумляться снова; они попросили Санчо Пансу показать им письмо, которое
он вез сеньоре Дульсинее Тобосской. Санчо сказал им, что письмо это написано
в записной книжечке и что рыцарь велел дать переписать его на бумагу в
первом встречном селе. На это священник сказал, чтобы он передал ему письмо
и он перепишет его сам отличнейшим почерком. Санчо Панса сунул руку за
пазуху, отыскивая записную книжечку, но не нашел ее и не мог бы найти, если
б искал до сегодняшнего дня, так как она осталась у Дон Кихота, который не
отдал ее ему, а он забыл спросить ее. Видя, что он не находит книжки, Санчо
побледнел как смерть и стал поспешно ощупывать себе все тело; окончательно
убедившись, что ее действительно нет, он без дальнейшего промедления схватил
себя обеими руками за бороду и вырвал чуть ни половину ее, а затем быстро и
не останавливаясь нанес с полдюжины ударов себе по лицу и по носу, так что у
него брызнула кровь.
Увидав это, священник и цирюльник спросили его, что такое случилось с
ним, что он так жестоко себя казнит.
-- Что случилось! -- воскликнул Санчо. -- Случилось то, что в один миг
я потерял трех ослят, из которых каждый стоил целого замка.
-- Как так? -- спросил цирюльник.
-- Я потерял записную книжку, -- ответил Санчо, -- где было письмо к
Дульсинее, а также ассигновка, подписанная моим господином, в которой он
приказывал своей племяннице выдать мне трех ослят из числа четырех или пяти
бывших у него дома. -- И затем Санчо рассказал о пропаже Серого.
Священник утешил его, говоря, что, как только он найдет Дон Кихота, то
позаботится, чтобы он восстановил ассигновку и написал бы еще раз вексель,
но на листе бумаги, как это принято и в обычае, потому что векселя,
написанные в записных книжках, никогда не принимаются и по ним не
уплачивают. Это утешило Санчо, и он сказал: если так, то потеря письма
Дульсинее не очень его огорчает, потому что он знает его почти наизусть и
они с его слов могут записать его когда и где угодно.
-- Так перескажите его нам, Санчо,-- предложил цирюльник, -- а потом мы
его и напишем.
Санчо Панса стал чесать у себя в голове, чтобы припомнить письмо,
переступая с ноги на ногу, поглядывая то на землю, то на небо, и, обкусав
себе половину ногтя на одном пальце и продержав достаточно долго в ожидании
двух своих слушателей, наконец, после очень большой паузы, сказал: --
Клянусь Богом, сеньор лисенсиат, пусть черти побрали бы все, что я помню из
письма, хотя оно начиналось так: "Возвышенная и ограниченная сеньора"...
-- Верно, там не сказано "ограниченная", -- заметил цирюльник, -- а
стояло неограниченная или властительная сеньора.
-- Так оно и есть, -- согласился Санчо. -- Потом, если не ошибаюсь,
следовало, если не ошибаюсь: "Лишенный сна и раненый целует руки вашей
милости, неблагодарная и безвестная красота", и я не знаю, что он еще там
говорил о здоровье и болезни, которые посылает ей,-- и он в таком же роде
продолжал, пока не кончил словами: "Твой до гроба рыцарь Печального Образа".
Немало забавила священника и цирюльника прекрасная память Санчо Пансы,
и, очень расхваливая ее, они попросили его еще два раза повторить письмо,
чтобы и они могли запомнить его наизусть и, в свое время, записать. Три раза
повторил Санчо письмо и столько же раз повторил три тысячи других
нелепостей. Затем он рассказал и о прочих делах своего господина, но не
проронил ни слова о подбрасывании его на одеяле, случившемся с ним на этом
постоялом дворе, в который ему так не хотелось заезжать. Он сообщил им
также, что его господин -- лишь только он принесет ему благосклонный ответ
от сеньоры Дульсинеи Тобосской -- тотчас же примет все меры, чтобы сделаться
императором или по меньшей мере монархом, -- они так между собой условились;
сделаться же им рыцарю очень легко, приняв во внимание личную его храбрость
и силу руки его. Когда все это случится и его господин будет королем, он
женит его, Санчо, потому что к тому времени он окажется вдовцом, -- иначе
быть не может, -- и в жены он даст ему одну из девушек императрицы,
наследницу больших и богатых владений на материке, без островов и островков,
которых он теперь вовсе не желает. Санчо говорил это так спокойно, утирая
себе время от времени нос, и с таким полным отсутствием здравого смысла, что
священник и цирюльник снова пришли в изумление, думая, до чего сильно должно
было быть безумие Дон Кихота, если оно заразило мозги и этого бедного
человека. Они не пожелали давать себе труд вывести его из заблуждения, в
котором он находился, рассудив, что, так как совесть его от этого нимало не
пострадает, лучше оставить его в этом заблуждении, а для них будет забавнее
слушать его нелепости. Итак, они ему сказали, чтобы он молил Бога о здравии
своего господина, потому что очень вероятно и возможно, что с течением
времени его господин, как он говорит, сделается императором, или по меньшей
мере архиепископом, или другим, столь же почетным, сановником. На это Санчо
ответил:
-- Сеньоры, если бы судьба повернула дело так, что господину моему
пришло бы на ум сделаться не императором, а архиепископом, -- хотелось бы
мне знать, чем же странствующие архиепископы имеют обыкновение награждать
своих оруженосцев?
-- Они награждают их, -- ответил священник, -- каким-нибудь богатым
приходом или же местом ризничего с хорошим годовым окладом, не считая
пожертвований на церковь, которые вычисляются обыкновенно в столько же.
-- Но для этого, -- ответил Санчо,-- нужно, чтобы оруженосец
архиепископа не был женат или по крайней мере умел бы прислуживать за
обедней. Если же это так, горе мне, несчастному, потому что я и женат, и не
знаю первой буквы азбуки. Что станется со мной, если моему господину вдруг
вздумается сделаться архиепископом, а не императором, как это принято и в
обычае у странствующих рыцарей?
-- Не тревожьтесь, Санчо, друг,-- сказал цирюльник, -- мы попросим
вашего господина, посоветуем ему, и даже поставим на вид, как вопрос
совести, чтобы он сделался императором, а не архиепископом; да ему это и
будет легче по той причине, что у него больше храбрости, чем учености.
-- Так оно и мне казалось, -- ответил Санчо, -- хотя могу сказать, что
господин мой искусен во всем. Я же, со своей стороны, думаю вот что делать:
просить Господа Бога направить его туда, где он мог бы лучше всего
благоприятствовать себе самому, а мне оказать побольше милостей.
-- Вы говорите, как умный человек, -- сказал священник, -- и будете
поступать, как добрый христианин. Но теперь следует нам прежде всего
подумать, как освободить вашего господина от бесполезной эпитимии, которую
он, по вашим словам, совершает. А чтобы обсудить способ, как это сделать, и
поесть, потому что уже пора, -- хорошо было бы зайти нам на постоялый двор.
Санчо ответил, чтобы они шли туда, а он подождет их здесь, и потом
объяснит причину, отчего он не идет с ними и не следует ему идти; но он
просит их принести ему сюда чего-нибудь поесть, только горячего, также и
ячменя для Росинанта. Они пошли на постоялый двор, оставив его, и немного
спустя цирюльник принес ему поесть. Затем, после того как они долго
обдумывали вдвоем, как могли бы они достигнуть того, чего желали, священнику
пришла в голову мысль, вполне соответствующая причудам Дон Кихота и их
намерению. Он сказал цирюльнику, что придумал вот что: сам он переоденется
странствующей девушкой, а цирюльник пусть постарается, как сумеет,
изобразить оруженосца. В таком виде они отправятся туда, где находится Дон
Кихот, и священник, разыгрывая роль угнетенной и оскорбленной девушки,
попросит его о милости, в которой он, как доблестный странствующий рыцарь,
не может отказать. Милость же, о которой он попросит его, будет заключаться
в том, чтобы Дон Кихот следовал за девушкой туда, куда она его поведет для
исправления зла, нанесенного ей вероломным рыцарем; в то же время она
попросит его не требовать, чтобы она сняла с лица маску, и не расспрашивать
о ее делах, пока он не восстановит справедливости, нарушенной ее коварным
обидчиком. Священник нимало не сомневался, что Дон Кихот согласится
исполнить все, о чем бы его ни попросили под этим предлогом, и, таким
образом, им удастся извлечь его оттуда и доставить в его село, где они
попытаются найти какое-нибудь средство для излечения странного его
умопомешательства.

Глава XXVII О том, как священник и цирюльник выполнили свое намерение,
и о других вещах, заслуживающих быть рассказанными в этой великой истории
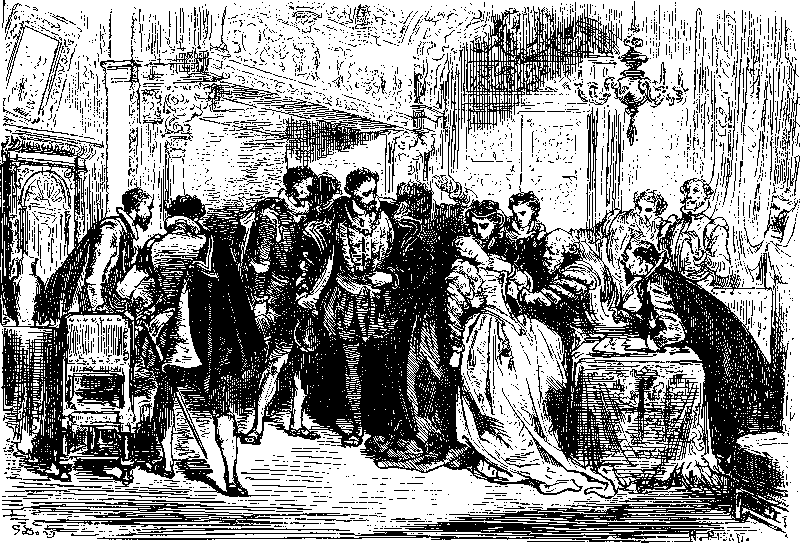 Выдумка священника не только не показалась цирюльнику плохой, а,
напротив, такой удачной, что они принялись тотчас же за ее осуществление.
Они попросили у хозяйки постоялого двора женское платье и женский головной
убор, в залог за это дали новый подрясник священника. Цирюльник смастерил
себе большую бороду из рыже-серого бычачьего хвоста, в который хозяин двора
имел обыкновение втыкать гребень. Хозяйка спросила, на что им понадобились
взятые ими вещи, и священник в кратких словах рассказал ей про
умопомешательство Дон Кихота и о том, что эти вещи необходимы им, чтобы
извлечь его из горных ущелий, где он теперь находится. Хозяин и хозяйка
сразу догадались, что этот сумасшедший -- недавний их гость, приготовлявший
у них бальзам, и господин оруженосца, которого подбрасывали вверх на одеяле,
и рассказали священнику все, что у них с ним произошло, не умолчав и о том,
о чем Санчо так старательно молчал. Затем хозяйка нарядила священника как
нельзя лучше. Она надела на него суконную юбку, украшенную полосками,
вырезанными зубчиками из черного бархата шириною в ладонь, и корсетик из
зеленого бархата с кантиками из белого атласа, который, так же как и юбка,
должно быть, были сшиты еще во времена короля Вамба {Общеупотребительное
выражение в Испании, указывающее на большую древность. Вамба был последним
из готских королей и царствовал в 672-682 гг.}. Священник не согласился
надеть на голову женский убор и покрыл ее шапочкой из тонкого стеганого
полотна, которую возил с собой, чтобы, ложась спать, надевать ее на ночь, а
лоб обвязал полоской черной тафты; из другой такой же полосы тафты сделал
маску, хорошо прикрывавшую лицо и бороду. Затем он нахлобучил себе на глаза
шляпу, которая была так велика, что могла служить ему зонтиком, и,
прикрывшись коротким плащом, он сел по-дамски на мула, а цирюльник взобрался
на своего, предварительно подвязав себе бороду, достигавшую ему до пояса,
частью рыжую, частью белую, потому что она, как мы уже говорили, была
состряпана из хвоста пегого быка. Они простились со всеми, а также и с
доброй Мариторнес, которая обещала -- хотя она и грешница -- помолиться по
четкам, чтобы Бог послал им успех в столь трудном христианском деле,
предпринятом ими. Но едва они выехали с постоялого двора, как священнику
пришло в голову, что он нехорошо поступил, переодевшись таким образом,
потому что, как бы он ни принимал близко к сердцу затеваемое ими дело, для
священнослужителя тем не менее крайне неприлично являться в подобных
нарядах. Сказав об этом цирюльнику, он попросил его поменяться с ним
платьем, так как тому более подходит взять на себя роль угнетенной,
нуждающейся в помощи девушки, а он, священник, будет оруженосцем, и, таким
образом, менее осквернит свой сан. Если же цирюльник не согласен, то он
твердо решил не делать ни шагу дальше, хотя бы сам черт унес Дон Кихота. Как
раз в это время подошел к ним Санчо и, увидав их обоих в таких нарядах, не
мог удержаться от смеха. Цирюльник согласился исполнить то, чего желал
священник, они поменялись ролями, и священник начал объяснять цирюльнику,
как ему следует держаться и с какими речами он должен обратиться к Дон
Кихоту, чтобы побудить его и заставить идти с ними
и бросить убежище, избранное им для бесполезного своего искуса.
Цирюльник ответил, что и без его уроков он сумеет провести свою роль. Но он
не захотел тотчас же переодеваться, а решил сделать это лишь тогда, когда
они приблизятся к месту, где находился Дон Кихот. Итак, он сложил женское
платье, а священник подвязал себе бороду, и они продолжали свой путь; дорогу
указывал Санчо, который сообщил им все приключившееся у них с сумасшедшим,
встреченным ими в горах, причем, однако, он умолчал о найденном ручном
чемоданчике и его содержимом, так как при всей своей простоте малый был
несколько алчный.
На следующий день они прибыли туда, где Санчо разбросал ветки дрока,
желая обозначить ими место, вблизи которого оставил своего господина. Увидав
эти ветки, он сказал своим спутникам, что здесь начинаются горы и теперь им
пора переодеться, если это нужно, чтобы освободить его господина, так как
они ему раньше объяснили, что поездка и переодевание их имеют чрезвычайное
значение в деле освобождения его господина от ужасной жизни, которую он себе
избрал, и строго-настрого велели ему не говорить Дон Кихоту о том, что он их
знает и кто они такие. Если же Дон Кихот его спросит -- а он наверное
спросит его, -- отдал ли он письмо Дульсинее, пусть отвечает, что отдал и
что она, не умея читать, дала ему устный ответ и велела передать рыцарю, что
приказывает ему под страхом немилости ее тотчас же ехать повидаться с нею;
это необычайно важно и для самого Санчо, потому что этим путем и тем, что
они имеют в виду сказать Дон Кихоту, они надеются вернуть его к лучшему для
него образу жизни и так подействовать на него, что он немедленно отправится
в путь, чтобы сделаться императором или монархом; а что касается возможности
сделаться ему архиепископом, этого нечего опасаться. Санчо все внимательно
выслушал, хорошенько запечатлел в своей памяти и благодарил за доброе их
намерение посоветовать его господину сделаться императором, а не
архиепископом; потому что Санчо уверен, что императоры могут оказать больше
милостей своим оруженосцам, чем странствующие архиепископы. Сказал он им
также, что ему следовало бы отправиться вперед к Дон Кихоту и сообщить
рыцарю ответ сеньоры Дульсинеи, так как, быть может, одного этого окажется
достаточно, чтобы извлечь его из того места; а в таком случае они были бы
избавлены от лишнего труда и беспокойства.
Предложение Санчо понравилось его спутникам, и они решили подождать,
пока он вернется и сообщит, нашел ли своего господина. Санчо въехал в горные
ущелья, оставив священника и цирюльника в лощине, через которую протекал
небольшой прозрачный ручеек в приятной прохладной тени нескольких скал и
росших на его берегах деревьев. Стоял один из самых жарких августовских
дней, когда зной в тех местностях особенно томителен, и было около трех
часов пополудни, все это придавало прохладной лощине еще больше прелести и
приглашало их дождаться здесь возвращения Санчо, что они и сделали. В то
время, как оба они отдыхали в тени, до слуха их донесся голос, который, хотя
ему не аккомпанировал никакой инструмент, звучал сладостно и нежно, что
очень их удивило, так как им казалось, что это вовсе не место, где можно
было бы услышать столь прекрасное пение; потому что, хотя и принято
говорить, будто в лесах и полях часто встречаются пастухи с дивным голосом,
на деле оказывается, что это скорее поэтическое увлечение, чем истина.
Удивление их еще более возросло, когда они убедились, что тот, кого они
слушают, поет стихи не простых пастухов-крестьян, а тонко образованной
знати, истину чего подтверждали следующие услышанные ими строки:
Что превратило жизнь мою в мученье?
Презренье.
Что доли злой усилило плачевность?
Ревность.
Сгубила радость всю какая мука?
Разлука.
Нет мне от горя избавленья,
Когда надежды светлый луч
Угас под гнетом черных туч
Разлуки, ревности, презренья.
Чьей подчинен я беспощадной власти?
Страсти.
Кем обречен идти глухой тропою?
Судьбою.
Кто вверг меня в пучину исступленья?
Провиденье.
Одна лишь смерть мне даст спасенье,
Когда несут мучений груз --
На гибель мне, -- вступив в союз,--
Злой рок, любовь и провиденье.
Смягчить судьбу какая может сила?
Могила.
Кто меньше всех в любви познал мытарства?
Коварство.
Конец где мукам горького раздумья?
В безумье.
К чему ж еще искать лекарство,
Чтоб раны сердца заживить,
Когда их может исцелить
Лишь смерть, безумье иль коварство?
Время дня, уединение, голос и искусство певца вызвали восхищение и
удивление у обоих слушателей; они сидели не двигаясь в надежде, не услышат
ли еще что-нибудь. Но, видя, что молчание длится, решили идти искать певца,
владеющего таким прекрасным голосом, а едва они собрались это сделать, как
их остановил тот же голос, снова коснувшийся их слуха и певший следующий
сонет:
О дружба -- вознеслась давно в селенья рая
На легких крыльях ты, нам, в юдоли земной,
Оставив призрак свой. В блаженстве утопая,
Сыны Эдема там беседуют с тобой.
Оттуда сквозь покров небес на нас взирая,
Подчас являешь нам ты дивный образ свой,
Лучами добрых дел вся радостно сияя --
Но истребляет их коварство злой рукой.
Сойди, о дружба, к нам скорей с высот эфира,
С коварства маску ты сорви на благо мира:
Чтоб злоба и вражда не управляли им.
Сойди и не дозволь, чтоб призраком твоим
В обман вводила б ложь довериесвятое
И мрак бы поглотил пространство все земное.
Пение закончилось глубоким вздохом, и оба стали опять внимательно
ждать, не услышат ли они еще чего-нибудь. Но убедившись, что пение уступило
место рыданиям и разрывающим душу стонам, они решили узнать, кто тот
несчастный, который пел так сладко и страдал так горько. Идти им пришлось
недолго: обогнув угол скалы, они увидели человека такого роста и наружности,
какие описал им Санчо
Панса, рассказывая историю Карденио; и этот человек, увидав их, не
испугался, а продолжал спокойно сидеть, опустив голову на грудь, как бы
глубоко задумавшись, не поднимая на них глаз, и только беглым взглядом
окинул их, когда они так неожиданно приблизились к нему. Священник, хорошо
владевший словом (и уже слышавший о его несчастии, так как узнал его по
приметам, сообщенным Санчо), подошел к нему и в кратких, но красноречивых
выражениях стал просить и убеждать его отказаться от этого жалкого образа
жизни, чтобы совсем не лишиться здесь жизни, а это будет самое большое
несчастие из всех несчастий. Карденио был тогда как раз в здравом уме и не
находился под влиянием одного из тех припадков бешенства, которые так часто
овладевали им. Увидя этих двух людей в одежде столь необычной для посещавших
пустынные местности, он несколько удивился, и удивление его еще увеличилось,
когда он услышал, что они говорят о его деле как о вещи известной, потому
что слова, с которыми священник обратился к нему, давали ему это понять.
Итак, он ответил им следующее:
-- Я хорошо вижу, сеньоры, кто бы вы ни были, что небо, приходящее на
помощь добрым, а часто также и злым, посылает мне -- хотя я этого и не
заслуживаю -- в столь пустынной и отдаленной от всякого людского общения
местности лиц, которые яркими и убедительными доводами рисуют перед моими
глазами, как неразумно вести тот образ жизни, какой я веду, желая удалить
меня отсюда и поставить в лучшее положение. Но так как они не знают того,
что я знаю, именно что, убегая от здешнего зла, мне пришлось бы попасть в
еще большее зло, -- быть может, они считают меня за человека тупоумного или,
что еще хуже, за безумного. И неудивительно, если б оно так и было: ведь я и
сам понимаю, что мысль о моем несчастии столь сильно и разрушительно на меня
влияет, что часто, не будучи в состоянии избегнуть этого, я словно каменею и
теряю всякую способность понимать и чувствовать; я узнаю, насколько это
верно, когда мне об этом говорят и указывают следы того, что я наделал, пока
мною владел ужасный припадок. И мне ничего другого не остается, как только
бесплодно оплакивать и бесцельно проклинать свою судьбу и рассказывать в
оправдание моего безумия всем желающим слушать меня о тех причинах, которые
довели меня до теперешнего состояния; потому что умные люди, когда узнают о
причине, не станут удивляться следствиям, и если они не окажутся в силах
облегчить мое горе, то по крайней мере не будут винить меня, и
неудовольствие их, вызванное моими неистовыми выходками, обратится в
сострадание к моему несчастию. Если же вы, сеньоры, явились с таким же
намерением, с каким являлись и другие, прежде чем продолжать мудрые ваши
увещания, прошу вас, выслушайте историю моих страданий, которую вы не
знаете, и, может быть, выслушав ее, вы избавите себя от труда предлагать
утешение в горе, которое не допускает никакого утешения.
Священник и цирюльник, только и желавшие того, чтобы услышать из
собственных его уст о причине его горести, просили сообщить им, в чем дело,
обещая не предпринимать ничего, чтобы помочь ему или утешить его, за
исключением лишь того, что он сам пожелает. Затем несчастный Карденио
приступил к рассказу грустной своей истории почти в тех же выражениях и теми
же словами, как он рассказал ее Дон Кихоту и козопасу несколько дней тому
назад, когда из-за маэстро Элисабада и яростной защиты Дон Кихотом
чести рыцарства рассказ был прерван, что мы и сообщили в свое время. Но
теперь счастливой судьбе было угодно, чтобы припадок бешенства миновал
Карденио и он мог довести до конца свою историю. Итак, дойдя до места, когда
дон Фернандо нашел в книге "Амадисий Галльский" письмо Люсинды, Карденио
сказал, что он хорошо его помнит и что в нем заключалось следующее:
ЛЮСИНДА К КАРДЕНИО
"Каждый день открываю я в вас качества, заставляющие и принуждающие
меня все больше и больше ценить вас, и поэтому, если вы желаете, чтобы я
расплатилась за этот свой долг не на счет моей чести, вы этого легко могли
бы достигнуть. У меня есть отец, который вас знает, а меня нежно любит и, --
не насилуя моего чувства -- он исполнит разумное желание, которое вы вправе
иметь, если действительно так уважаете меня, как вы говорите и как я в том
уверена".
Письмо это побудило меня просить руки Люсинды, как я уже рассказывал, и
оно же укрепило дона Фернандо в мысли, что Люсинда -- одна из самых
рассудительных и умных женщин наших дней, а также зажгло в нем желание
погубить меня прежде, чем мои надежды будут осуществлены. Я сказал дону
Фернандо, что отец Люсинды ждет лишь одного, а именно чтобы мой отец просил
у него ее руки; но я не смел передать ему этого из опасения, что он не
согласится, не потому чтобы он мог возражать что-либо против положения,
добродетели, совершенства и красоты Люсинды или недостатка у нее качеств,
которые могли бы прославить любой род в Испании,-- а потому что, как я от
него же слышал, он не желает, чтобы я женился раньше, чем выяснится, что
герцог Рикардо сделает для меня. Словом, я сказал Фернандо, что у меня не
хватает мужества переговорить с моим отцом вследствие только что указанного
мною препятствия, а также и многих других причин, превращавших меня в труса,
-- а каких, я и сам не знал, исключая лишь то, что мне казалось невозможным,
чтобы мои желания когда-либо осуществились. На все это дон Фернандо ответил
мне, что берет на себя переговорить с моим отцом и побудить его обратиться к
отцу Люсинды. О тщеславный Мариус! О жестокий Каталина! О злобный Силла! О
коварный Галалон! О вероломный Велиндо! О мстительный Юлиан! О
корыстолюбивый Иуда! {Все имена наиболее известных злодеев и предателей в
романах и истории.} Предатель, жестокий, мстительный, вероломный, чем
провинился перед тобою я, несчастный, так искренно раскрывший тебе все тайны
и радости своего сердца? Какое оскорбление нанес я тебе? Какое слово сказал,
какие давал советы, которые не клонили бы к чести и выгоде твоей? Но на что
я жалуюсь, несчастный? Ведь известно: когда течение звезд ведет за собой
несчастия и они яростно и грозно низвергаются на нас свыше, -- никакая
земная сила не в состоянии остановить их, никакое человеческое искусство --
предотвратить. Кто мог бы подумать, что дон Фернандо, знаменитый кабальеро,
одаренный проницательным умом, обязанный мне за услуги, имеющий полную
возможность достигнуть везде всего, к чему бы ни стремилось его любовное
влечение, -- чтобы он горел желанием отнять у меня, как говорится,
единственную мою овечку, которая даже еще не совсем была моей?
Но оставим в стороне все эти рассуждения, как ненужные и бесполезные, и
вернемся к прерванной нити рассказа о моих несчастиях. Итак, говорю я, дону
Фернандо показалось, что мое присутствие мешает выполнению его коварного и
злого умысла, и потому он решил послать меня к старшему своему брату под
предлогом попросить у него денег, чтобы заплатить за шесть лошадей, которых
-- единственно только с целью устранить меня со своей дороги и удобнее
выполнить проклятое свое намерение -- он купил в тот самый день, когда
предложил мне переговорить с моим отцом, и тогда же потребовал, чтобы я
немедленно ехал к его брату за деньгами. Мог ли я предупредить это
предательство? Могло ли мне прийти в голову вообразить что-либо подобное?
Конечно, не могло; напротив, я с величайшей охотой согласился немедленно
ехать, довольный хорошей покупкой, сделанной им. В ту же ночь я говорил с
Люсиндой и рассказал ей, как мы решили с доном Фернандо и чтобы она крепко
надеялась на то, что наши добрые и справедливые желания непременно
исполнятся. Она, не подозревая, так же как и я, предательства дона Фернандо,
просила меня вернуться поскорей, высказывая уверенность, что осуществление
надежд наших уже близко, -- лишь только мой отец переговорит с ее отцом. Не
знаю, как это случилось, но, едва она это сказала, глаза ее наполнились
слезами, и ей точно узлом стянуло горло, так что она не была в силах
произнести ни слова, а хотелось ей сказать многое, как мне показалось. Я был
удивлен этим неожиданным волнением, прежде никогда не проявлявшимся в ней,
потому что всякий раз, когда, благодаря счастливой случайности или моим
стараниям, нам удавалось видеться, мы всегда говорили друг с другом весело и
радостно, не примешивая к нашим разговорам слез, вздохов, ревности,
подозрений или опасений. Во всякое время превозносил я свое счастье и
благодарил небо за то, что оно послало мне такую возлюбленную. Я восторгался
ее красотой и восхищался ее умом и добродетелями, а она в отплату восхваляла
во мне то, что ей, в качестве влюбленной, казалось достойным похвалы. Вместе
с тем мы рассказывали друг другу сто тысяч пустяковин, разные случаи из
жизни наших соседей и знакомых, и самое большее, до чего доходила моя
отвага: я брал почти насильно одну из ее прекрасных белых рук и подносил ее
к своим губам, насколько это допускала низкая решетка, разделявшая нас. Но в
ночь, которая предшествовала грустному дню моего отъезда, Люсинда плакала,
стонала, вздыхала и убежала, оставив меня исполненного смятения и страха и
испуганного при виде столь необычных и печальных проявлений скорби и
нежности в Люсинде. Но, чтобы не омрачить своих надежд, я приписал все это
сильной ее любви ко мне и горю, которое разлука причиняет истинно
влюбленным. Наконец я уехал, грустный и задумчивый, с сердцем, исполненным
тревоги и подозрения, хотя я сам и не знал, о чем я тревожусь и что
подозреваю, -- ясные признаки, предвещавшие печальные события и несчастье,
ожидавшее меня.
Выдумка священника не только не показалась цирюльнику плохой, а,
напротив, такой удачной, что они принялись тотчас же за ее осуществление.
Они попросили у хозяйки постоялого двора женское платье и женский головной
убор, в залог за это дали новый подрясник священника. Цирюльник смастерил
себе большую бороду из рыже-серого бычачьего хвоста, в который хозяин двора
имел обыкновение втыкать гребень. Хозяйка спросила, на что им понадобились
взятые ими вещи, и священник в кратких словах рассказал ей про
умопомешательство Дон Кихота и о том, что эти вещи необходимы им, чтобы
извлечь его из горных ущелий, где он теперь находится. Хозяин и хозяйка
сразу догадались, что этот сумасшедший -- недавний их гость, приготовлявший
у них бальзам, и господин оруженосца, которого подбрасывали вверх на одеяле,
и рассказали священнику все, что у них с ним произошло, не умолчав и о том,
о чем Санчо так старательно молчал. Затем хозяйка нарядила священника как
нельзя лучше. Она надела на него суконную юбку, украшенную полосками,
вырезанными зубчиками из черного бархата шириною в ладонь, и корсетик из
зеленого бархата с кантиками из белого атласа, который, так же как и юбка,
должно быть, были сшиты еще во времена короля Вамба {Общеупотребительное
выражение в Испании, указывающее на большую древность. Вамба был последним
из готских королей и царствовал в 672-682 гг.}. Священник не согласился
надеть на голову женский убор и покрыл ее шапочкой из тонкого стеганого
полотна, которую возил с собой, чтобы, ложась спать, надевать ее на ночь, а
лоб обвязал полоской черной тафты; из другой такой же полосы тафты сделал
маску, хорошо прикрывавшую лицо и бороду. Затем он нахлобучил себе на глаза
шляпу, которая была так велика, что могла служить ему зонтиком, и,
прикрывшись коротким плащом, он сел по-дамски на мула, а цирюльник взобрался
на своего, предварительно подвязав себе бороду, достигавшую ему до пояса,
частью рыжую, частью белую, потому что она, как мы уже говорили, была
состряпана из хвоста пегого быка. Они простились со всеми, а также и с
доброй Мариторнес, которая обещала -- хотя она и грешница -- помолиться по
четкам, чтобы Бог послал им успех в столь трудном христианском деле,
предпринятом ими. Но едва они выехали с постоялого двора, как священнику
пришло в голову, что он нехорошо поступил, переодевшись таким образом,
потому что, как бы он ни принимал близко к сердцу затеваемое ими дело, для
священнослужителя тем не менее крайне неприлично являться в подобных
нарядах. Сказав об этом цирюльнику, он попросил его поменяться с ним
платьем, так как тому более подходит взять на себя роль угнетенной,
нуждающейся в помощи девушки, а он, священник, будет оруженосцем, и, таким
образом, менее осквернит свой сан. Если же цирюльник не согласен, то он
твердо решил не делать ни шагу дальше, хотя бы сам черт унес Дон Кихота. Как
раз в это время подошел к ним Санчо и, увидав их обоих в таких нарядах, не
мог удержаться от смеха. Цирюльник согласился исполнить то, чего желал
священник, они поменялись ролями, и священник начал объяснять цирюльнику,
как ему следует держаться и с какими речами он должен обратиться к Дон
Кихоту, чтобы побудить его и заставить идти с ними
и бросить убежище, избранное им для бесполезного своего искуса.
Цирюльник ответил, что и без его уроков он сумеет провести свою роль. Но он
не захотел тотчас же переодеваться, а решил сделать это лишь тогда, когда
они приблизятся к месту, где находился Дон Кихот. Итак, он сложил женское
платье, а священник подвязал себе бороду, и они продолжали свой путь; дорогу
указывал Санчо, который сообщил им все приключившееся у них с сумасшедшим,
встреченным ими в горах, причем, однако, он умолчал о найденном ручном
чемоданчике и его содержимом, так как при всей своей простоте малый был
несколько алчный.
На следующий день они прибыли туда, где Санчо разбросал ветки дрока,
желая обозначить ими место, вблизи которого оставил своего господина. Увидав
эти ветки, он сказал своим спутникам, что здесь начинаются горы и теперь им
пора переодеться, если это нужно, чтобы освободить его господина, так как
они ему раньше объяснили, что поездка и переодевание их имеют чрезвычайное
значение в деле освобождения его господина от ужасной жизни, которую он себе
избрал, и строго-настрого велели ему не говорить Дон Кихоту о том, что он их
знает и кто они такие. Если же Дон Кихот его спросит -- а он наверное
спросит его, -- отдал ли он письмо Дульсинее, пусть отвечает, что отдал и
что она, не умея читать, дала ему устный ответ и велела передать рыцарю, что
приказывает ему под страхом немилости ее тотчас же ехать повидаться с нею;
это необычайно важно и для самого Санчо, потому что этим путем и тем, что
они имеют в виду сказать Дон Кихоту, они надеются вернуть его к лучшему для
него образу жизни и так подействовать на него, что он немедленно отправится
в путь, чтобы сделаться императором или монархом; а что касается возможности
сделаться ему архиепископом, этого нечего опасаться. Санчо все внимательно
выслушал, хорошенько запечатлел в своей памяти и благодарил за доброе их
намерение посоветовать его господину сделаться императором, а не
архиепископом; потому что Санчо уверен, что императоры могут оказать больше
милостей своим оруженосцам, чем странствующие архиепископы. Сказал он им
также, что ему следовало бы отправиться вперед к Дон Кихоту и сообщить
рыцарю ответ сеньоры Дульсинеи, так как, быть может, одного этого окажется
достаточно, чтобы извлечь его из того места; а в таком случае они были бы
избавлены от лишнего труда и беспокойства.
Предложение Санчо понравилось его спутникам, и они решили подождать,
пока он вернется и сообщит, нашел ли своего господина. Санчо въехал в горные
ущелья, оставив священника и цирюльника в лощине, через которую протекал
небольшой прозрачный ручеек в приятной прохладной тени нескольких скал и
росших на его берегах деревьев. Стоял один из самых жарких августовских
дней, когда зной в тех местностях особенно томителен, и было около трех
часов пополудни, все это придавало прохладной лощине еще больше прелести и
приглашало их дождаться здесь возвращения Санчо, что они и сделали. В то
время, как оба они отдыхали в тени, до слуха их донесся голос, который, хотя
ему не аккомпанировал никакой инструмент, звучал сладостно и нежно, что
очень их удивило, так как им казалось, что это вовсе не место, где можно
было бы услышать столь прекрасное пение; потому что, хотя и принято
говорить, будто в лесах и полях часто встречаются пастухи с дивным голосом,
на деле оказывается, что это скорее поэтическое увлечение, чем истина.
Удивление их еще более возросло, когда они убедились, что тот, кого они
слушают, поет стихи не простых пастухов-крестьян, а тонко образованной
знати, истину чего подтверждали следующие услышанные ими строки:
Что превратило жизнь мою в мученье?
Презренье.
Что доли злой усилило плачевность?
Ревность.
Сгубила радость всю какая мука?
Разлука.
Нет мне от горя избавленья,
Когда надежды светлый луч
Угас под гнетом черных туч
Разлуки, ревности, презренья.
Чьей подчинен я беспощадной власти?
Страсти.
Кем обречен идти глухой тропою?
Судьбою.
Кто вверг меня в пучину исступленья?
Провиденье.
Одна лишь смерть мне даст спасенье,
Когда несут мучений груз --
На гибель мне, -- вступив в союз,--
Злой рок, любовь и провиденье.
Смягчить судьбу какая может сила?
Могила.
Кто меньше всех в любви познал мытарства?
Коварство.
Конец где мукам горького раздумья?
В безумье.
К чему ж еще искать лекарство,
Чтоб раны сердца заживить,
Когда их может исцелить
Лишь смерть, безумье иль коварство?
Время дня, уединение, голос и искусство певца вызвали восхищение и
удивление у обоих слушателей; они сидели не двигаясь в надежде, не услышат
ли еще что-нибудь. Но, видя, что молчание длится, решили идти искать певца,
владеющего таким прекрасным голосом, а едва они собрались это сделать, как
их остановил тот же голос, снова коснувшийся их слуха и певший следующий
сонет:
О дружба -- вознеслась давно в селенья рая
На легких крыльях ты, нам, в юдоли земной,
Оставив призрак свой. В блаженстве утопая,
Сыны Эдема там беседуют с тобой.
Оттуда сквозь покров небес на нас взирая,
Подчас являешь нам ты дивный образ свой,
Лучами добрых дел вся радостно сияя --
Но истребляет их коварство злой рукой.
Сойди, о дружба, к нам скорей с высот эфира,
С коварства маску ты сорви на благо мира:
Чтоб злоба и вражда не управляли им.
Сойди и не дозволь, чтоб призраком твоим
В обман вводила б ложь довериесвятое
И мрак бы поглотил пространство все земное.
Пение закончилось глубоким вздохом, и оба стали опять внимательно
ждать, не услышат ли они еще чего-нибудь. Но убедившись, что пение уступило
место рыданиям и разрывающим душу стонам, они решили узнать, кто тот
несчастный, который пел так сладко и страдал так горько. Идти им пришлось
недолго: обогнув угол скалы, они увидели человека такого роста и наружности,
какие описал им Санчо
Панса, рассказывая историю Карденио; и этот человек, увидав их, не
испугался, а продолжал спокойно сидеть, опустив голову на грудь, как бы
глубоко задумавшись, не поднимая на них глаз, и только беглым взглядом
окинул их, когда они так неожиданно приблизились к нему. Священник, хорошо
владевший словом (и уже слышавший о его несчастии, так как узнал его по
приметам, сообщенным Санчо), подошел к нему и в кратких, но красноречивых
выражениях стал просить и убеждать его отказаться от этого жалкого образа
жизни, чтобы совсем не лишиться здесь жизни, а это будет самое большое
несчастие из всех несчастий. Карденио был тогда как раз в здравом уме и не
находился под влиянием одного из тех припадков бешенства, которые так часто
овладевали им. Увидя этих двух людей в одежде столь необычной для посещавших
пустынные местности, он несколько удивился, и удивление его еще увеличилось,
когда он услышал, что они говорят о его деле как о вещи известной, потому
что слова, с которыми священник обратился к нему, давали ему это понять.
Итак, он ответил им следующее:
-- Я хорошо вижу, сеньоры, кто бы вы ни были, что небо, приходящее на
помощь добрым, а часто также и злым, посылает мне -- хотя я этого и не
заслуживаю -- в столь пустынной и отдаленной от всякого людского общения
местности лиц, которые яркими и убедительными доводами рисуют перед моими
глазами, как неразумно вести тот образ жизни, какой я веду, желая удалить
меня отсюда и поставить в лучшее положение. Но так как они не знают того,
что я знаю, именно что, убегая от здешнего зла, мне пришлось бы попасть в
еще большее зло, -- быть может, они считают меня за человека тупоумного или,
что еще хуже, за безумного. И неудивительно, если б оно так и было: ведь я и
сам понимаю, что мысль о моем несчастии столь сильно и разрушительно на меня
влияет, что часто, не будучи в состоянии избегнуть этого, я словно каменею и
теряю всякую способность понимать и чувствовать; я узнаю, насколько это
верно, когда мне об этом говорят и указывают следы того, что я наделал, пока
мною владел ужасный припадок. И мне ничего другого не остается, как только
бесплодно оплакивать и бесцельно проклинать свою судьбу и рассказывать в
оправдание моего безумия всем желающим слушать меня о тех причинах, которые
довели меня до теперешнего состояния; потому что умные люди, когда узнают о
причине, не станут удивляться следствиям, и если они не окажутся в силах
облегчить мое горе, то по крайней мере не будут винить меня, и
неудовольствие их, вызванное моими неистовыми выходками, обратится в
сострадание к моему несчастию. Если же вы, сеньоры, явились с таким же
намерением, с каким являлись и другие, прежде чем продолжать мудрые ваши
увещания, прошу вас, выслушайте историю моих страданий, которую вы не
знаете, и, может быть, выслушав ее, вы избавите себя от труда предлагать
утешение в горе, которое не допускает никакого утешения.
Священник и цирюльник, только и желавшие того, чтобы услышать из
собственных его уст о причине его горести, просили сообщить им, в чем дело,
обещая не предпринимать ничего, чтобы помочь ему или утешить его, за
исключением лишь того, что он сам пожелает. Затем несчастный Карденио
приступил к рассказу грустной своей истории почти в тех же выражениях и теми
же словами, как он рассказал ее Дон Кихоту и козопасу несколько дней тому
назад, когда из-за маэстро Элисабада и яростной защиты Дон Кихотом
чести рыцарства рассказ был прерван, что мы и сообщили в свое время. Но
теперь счастливой судьбе было угодно, чтобы припадок бешенства миновал
Карденио и он мог довести до конца свою историю. Итак, дойдя до места, когда
дон Фернандо нашел в книге "Амадисий Галльский" письмо Люсинды, Карденио
сказал, что он хорошо его помнит и что в нем заключалось следующее:
ЛЮСИНДА К КАРДЕНИО
"Каждый день открываю я в вас качества, заставляющие и принуждающие
меня все больше и больше ценить вас, и поэтому, если вы желаете, чтобы я
расплатилась за этот свой долг не на счет моей чести, вы этого легко могли
бы достигнуть. У меня есть отец, который вас знает, а меня нежно любит и, --
не насилуя моего чувства -- он исполнит разумное желание, которое вы вправе
иметь, если действительно так уважаете меня, как вы говорите и как я в том
уверена".
Письмо это побудило меня просить руки Люсинды, как я уже рассказывал, и
оно же укрепило дона Фернандо в мысли, что Люсинда -- одна из самых
рассудительных и умных женщин наших дней, а также зажгло в нем желание
погубить меня прежде, чем мои надежды будут осуществлены. Я сказал дону
Фернандо, что отец Люсинды ждет лишь одного, а именно чтобы мой отец просил
у него ее руки; но я не смел передать ему этого из опасения, что он не
согласится, не потому чтобы он мог возражать что-либо против положения,
добродетели, совершенства и красоты Люсинды или недостатка у нее качеств,
которые могли бы прославить любой род в Испании,-- а потому что, как я от
него же слышал, он не желает, чтобы я женился раньше, чем выяснится, что
герцог Рикардо сделает для меня. Словом, я сказал Фернандо, что у меня не
хватает мужества переговорить с моим отцом вследствие только что указанного
мною препятствия, а также и многих других причин, превращавших меня в труса,
-- а каких, я и сам не знал, исключая лишь то, что мне казалось невозможным,
чтобы мои желания когда-либо осуществились. На все это дон Фернандо ответил
мне, что берет на себя переговорить с моим отцом и побудить его обратиться к
отцу Люсинды. О тщеславный Мариус! О жестокий Каталина! О злобный Силла! О
коварный Галалон! О вероломный Велиндо! О мстительный Юлиан! О
корыстолюбивый Иуда! {Все имена наиболее известных злодеев и предателей в
романах и истории.} Предатель, жестокий, мстительный, вероломный, чем
провинился перед тобою я, несчастный, так искренно раскрывший тебе все тайны
и радости своего сердца? Какое оскорбление нанес я тебе? Какое слово сказал,
какие давал советы, которые не клонили бы к чести и выгоде твоей? Но на что
я жалуюсь, несчастный? Ведь известно: когда течение звезд ведет за собой
несчастия и они яростно и грозно низвергаются на нас свыше, -- никакая
земная сила не в состоянии остановить их, никакое человеческое искусство --
предотвратить. Кто мог бы подумать, что дон Фернандо, знаменитый кабальеро,
одаренный проницательным умом, обязанный мне за услуги, имеющий полную
возможность достигнуть везде всего, к чему бы ни стремилось его любовное
влечение, -- чтобы он горел желанием отнять у меня, как говорится,
единственную мою овечку, которая даже еще не совсем была моей?
Но оставим в стороне все эти рассуждения, как ненужные и бесполезные, и
вернемся к прерванной нити рассказа о моих несчастиях. Итак, говорю я, дону
Фернандо показалось, что мое присутствие мешает выполнению его коварного и
злого умысла, и потому он решил послать меня к старшему своему брату под
предлогом попросить у него денег, чтобы заплатить за шесть лошадей, которых
-- единственно только с целью устранить меня со своей дороги и удобнее
выполнить проклятое свое намерение -- он купил в тот самый день, когда
предложил мне переговорить с моим отцом, и тогда же потребовал, чтобы я
немедленно ехал к его брату за деньгами. Мог ли я предупредить это
предательство? Могло ли мне прийти в голову вообразить что-либо подобное?
Конечно, не могло; напротив, я с величайшей охотой согласился немедленно
ехать, довольный хорошей покупкой, сделанной им. В ту же ночь я говорил с
Люсиндой и рассказал ей, как мы решили с доном Фернандо и чтобы она крепко
надеялась на то, что наши добрые и справедливые желания непременно
исполнятся. Она, не подозревая, так же как и я, предательства дона Фернандо,
просила меня вернуться поскорей, высказывая уверенность, что осуществление
надежд наших уже близко, -- лишь только мой отец переговорит с ее отцом. Не
знаю, как это случилось, но, едва она это сказала, глаза ее наполнились
слезами, и ей точно узлом стянуло горло, так что она не была в силах
произнести ни слова, а хотелось ей сказать многое, как мне показалось. Я был
удивлен этим неожиданным волнением, прежде никогда не проявлявшимся в ней,
потому что всякий раз, когда, благодаря счастливой случайности или моим
стараниям, нам удавалось видеться, мы всегда говорили друг с другом весело и
радостно, не примешивая к нашим разговорам слез, вздохов, ревности,
подозрений или опасений. Во всякое время превозносил я свое счастье и
благодарил небо за то, что оно послало мне такую возлюбленную. Я восторгался
ее красотой и восхищался ее умом и добродетелями, а она в отплату восхваляла
во мне то, что ей, в качестве влюбленной, казалось достойным похвалы. Вместе
с тем мы рассказывали друг другу сто тысяч пустяковин, разные случаи из
жизни наших соседей и знакомых, и самое большее, до чего доходила моя
отвага: я брал почти насильно одну из ее прекрасных белых рук и подносил ее
к своим губам, насколько это допускала низкая решетка, разделявшая нас. Но в
ночь, которая предшествовала грустному дню моего отъезда, Люсинда плакала,
стонала, вздыхала и убежала, оставив меня исполненного смятения и страха и
испуганного при виде столь необычных и печальных проявлений скорби и
нежности в Люсинде. Но, чтобы не омрачить своих надежд, я приписал все это
сильной ее любви ко мне и горю, которое разлука причиняет истинно
влюбленным. Наконец я уехал, грустный и задумчивый, с сердцем, исполненным
тревоги и подозрения, хотя я сам и не знал, о чем я тревожусь и что
подозреваю, -- ясные признаки, предвещавшие печальные события и несчастье,
ожидавшее меня.
 Я приехал в город, куда был послан, передал письмо брату дона Фернандо,
который хорошо принял меня, но нехорошо отпустил, потому что он велел мне, к
великому моему неудовольствию, подождать восемь дней и в таком месте, где бы
герцог, отец его, не мог меня видеть, так как брат его написал, чтобы он
прислал ему некоторую сумму денег без ведома их отца. Все это была выдумка
коварного дона Фернандо, потому что у брата его не было недостатка в
деньгах, с которыми он мог бы тотчас же отправить меня. Это приказание и
распоряжение побуждали меня к неповиновению, так как мне казалось
невозможным провести столько дней в разлуке с Люсиндой, тем более что я
оставил ее в столь горестном состоянии, о чем я уже вам рассказывал. Однако,
несмотря на это, я все же повиновался, как верный слуга, хотя и видел, что
поступаю так в ущерб собственному благополучию. Но на четвертый день после
моего приезда ко мне явился человек, разыскивавший меня; он передал мне
письмо, по адресу которого я тотчас же узнал, что оно от Люсинды, потому что
почерк был ее. Я распечатал письмо, испуганный и взволнованный, не
сомневаясь в том, что только крайне важная причина могла побудить ее писать
мне в мое отсутствие, потому что, когда я был в одном с нею городе, она
делала это очень редко. Прежде чем прочесть письмо, я спросил человека, кто
его дал ему и сколько времени он провел в дороге. В ответ он сказал мне,
что, когда ему случилось проходить в полдень по одной из улиц города, его
позвала из окна очень красивая сеньора и с глазами, полными слез, с
величайшею поспешностью сказала ему: "Брат, если вы христианин, каким вы
кажетесь, умоляю вас именем Бога, отнесите тотчас же и как можно скорее это
письмо в ту местность и тому лицу, как сказано на адресе, -- потому что и
местность и лицо всем известны, -- и, исполнив это, вы совершите дело,
угодное Богу; а чтобы у вас не было недостатка в средствах сделать это,
возьмите то, что завернуто здесь в платке". Говоря так, она бросила мне из
окна носовой платок, в котором были завязаны сто реалов и вот это золотое
кольцо, надетое у меня на пальце, а также письмо, которое я вам отдал. И
тотчас, не дожидаясь моего ответа, она отошла от окна, убедившись сначала,
что я поднял письмо и платок, а я знаками дал понять ей, что исполню ее
приказание. Итак, получив столь щедрое вознаграждение за труд доставить
письмо и узнав из адреса, что оно посылается вам, сеньор, потому что я очень
хорошо вас знаю, а также тронутый слезами прекрасной той сеньоры, я решил не
доверять дело никому другому, а идти самому и передать письмо вам в руки. В
шестнадцать часов -- с того времени, как она мне передала письмо, -- я
прошел весь путь, составляющий, как вам известно, восемнадцать миль.
Пока услужливый и неожиданный посланец рассказывал мне это, я был
словно прикован к его устам, и ноги до того у меня дрожали, что я едва
держался на них. Наконец я распечатал письмо и прочел следующее:
"Слово, данное вам доном Фернандо убедить вашего отца поговорить с
моим, он сдержал более к собственной выгоде, чем на пользу вам. Знайте,
сеньор, что он сватался ко мне, а мой отец, склоненный преимуществами,
которые, по его мнению, дон Фернандо имеет перед вами, согласился исполнить
его просьбу, и так серьезно, что уже через два дня назначен наш брак,
который должен состояться тайно и в такой тишине, что единственными
свидетелями его будут лишь небо и кое-кто из домашних. Можете представить
себе, в каком я состоянии. Решайте сами, следует ли вам приехать. Люблю ли я
вас или нет, покажет вам исход дела. Дай бог, чтобы письмо это попало в ваши
руки прежде, чем я буду вынуждена соединить свою руку с рукою того, кто так
плохо умеет держать данное им обещание!"
Вот, в общих чертах, содержание письма, которое тотчас же заставило
меня отправиться в путь, не дожидая ни ответа, ни денег, потому что, как я
понял тогда слишком ясно, не покупка лошадей, а намерение добиться своей
цели побудило дона Фернандо послать меня к своему брату. Гнев, охвативший
меня против дона Фернандо, вместе со страхом потерять сокровище, которое я
приобрел столькими годами ухаживанья и любви, придали мне крылья, и я летел
так, что уже на следующий день прибыл в свой город в наиболее подходящий час
и минуту, чтоб пойти говорить с Люсиндой. Я приехал тайком от всех и оставил
своего верхового мула в доме доброго человека, доставившего мне письмо.
Счастливой судьбе угодно было, чтобы я застал Люсинду стоящей как раз у
решетки -- свидетельницы нашей любви. Люсинда тотчас же узнала меня, а я
узнал ее, но не так встретили мы друг друга, как бы нам следовало, и ей, и
мне. Но кто во всем мире может похвалиться, что понял и разгадал сложную
природу и изменчивые мысли женщины? Наверно, никто. Итак, я говорю, лишь
только Люсинда увидела меня, она сказала: "Карденио, на мне подвенечное
платье; меня ждут в зале дон Фернандо -- предатель, мой корыстолюбивый отец
и другие, которые будут скорее свидетелями моей смерти, чем моего
бракосочетания. Не смущайся, друг, но постарайся присутствовать при этом
жертвоприношении. Гели я не смогу отвратить его словами, -- у меня спрятан,
кинжал, который защитит меня против более решительного насилия, положив
конец моей жизни и дав тебе первое знамение той любви, которую я питала и
питаю к тебе!"
Я ответил ей поспешно, не помня себя и опасаясь, что у меня не хватит
времени сделать это: "Пусть поступки твои, сеньора, докажут истину твоих
слов. Еcли у тебя есть кинжал для защиты твоей чести, у меня -- меч для
защиты твоей жизни или чтобы убить себя, если б судьба оказалась враждебной
нам".
Не думаю, чтобы она могла расслышать все мои слова, потому что ее
спешно позвали, так как жених уже ждал, и с этой минуты наступила ночь моей
печали, закатилось солнце моей радости, свет исчез из моих глаз, и сознание
покинуло меня. Я не имел сил войти в дом и не был в состоянии двинуться с
места; но, сознавая, как было важно мое присутствие для всего, что могло
сейчас произойти, я ободрился, насколько мог, и проник в дом, так как хорошо
знал все входы и выходы из него; кроме того, вследствие суматохи по случаю
тайного бракосочетания никто меня не заметил. Таким образом, мне удалось
пробраться в самый зал и спрятаться там в углублении окна, задрапированного
тяжелыми занавесами, так что меня никто не мог видеть; я же, напротив, через
отверстие занавеса мог видеть все, что происходило в зале. Кто мог бы
передать словами, как сильно билось мое сердце, пока я там стоял, какие
мысли мелькали у меня в уме, какие зарождались в нем соображения? Их было
столько, и они были такого рода, что нельзя и не следует их пересказывать.
Достаточно с вас знать, что жених вошел в зал в обычной своей одежде и без
всяких украшений. В качестве свидетеля у него был двоюродный брат Люсинды, и
во всем зале не было никого чужого, одни только домашние слуги. Немного
спустя и Люсинда вышла из уборной в сопровождении своей матери и двух
прислужниц, богато одетая и украшенная, как это требовалось ее положением и
красотой и как приличествовало той, которая могла служить образцом изящества
и благородной роскоши. Мое смущение и волнение не позволили мне рассмотреть
и обратить внимание на подробности ее наряда, я был в состоянии лишь
заметить цвета -- пурпуровый и белый -- и блеск драгоценных каменьев и
бриллиантов на головном ее уборе и на всем ее одеянии, но все это было
превзойдено редкостной красотой светло-золотистых ее волос, которые в
соединении с блеском драгоценных камней и при свете четырех факелов,
освещавших зал, еще ярче сверкали перед глазами. О воспоминание, смертельный
враг моего спокойствия! Зачем ты рисуешь теперь передо мной несравненную
красоту Люсинды, этого боготворимого мною недруга моего? Не лучше ли было бы
-- жестокое воспоминание -- вызвать и воскресить передо мной тогдашний ее
поступок, чтобы, возмущенный столь явным оскорблением, я стремился если уже
не к мести, то по крайней мере к тому, чтобы лишить себя жизни. Не
досадуйте, сеньоры, слушая эти мои отступления: ведь горе мое не из тех,
которое может или должно бы быть рассказано последовательно и кратко, так
как малейшее обстоятельство в нем кажется мне заслуживающим продолжительного
разъяснения.
На это священник ответил, что рассказ его не только не наскучил им, а,
напротив, они были рады узнать подробности, которые он им сообщил, так как
эти подробности не следовало обходить молчанием и они заслуживают такого же
внимания, как и главные события рассказа.
-- Итак, я говорю, -- продолжал Карденио, -- когда все собрались в
зале, вошел приходский священник и, взяв за руку Люсинду и дона Фернандо,
исполняя то, что от него требовал церковный обряд, спросил: "Согласны ли вы,
сеньора Люсинда, взять дона Фернандо, присутствующего здесь, своим законным
супругом, как это повелевает святая наша матерь церковь?" При этом его
вопросе я просунул голову и шею из-за занавеса и со смущенным сердцем, весь
превратившись в слух, готовился внять словам Люсинды, ожидая от ее ответа
смертного себе приговора или дарования мне жизни. О, если б я в это
мгновение имел смелость выйти вперед и крикнуть громким голосом: "Ах,
Люсинда, Люсинда, подумай о том, что ты делаешь, помни свой долг
относительно меня, не забывай, что ты моя и не можешь быть ничьей иной.
Знай, что лишь только ты скажешь да, в тот же миг наступит и конец моей
жизни. А ты, предатель дон Фернандо, похититель моего счастья, смерть моей
жизни,-- чего желаешь, чего требуешь? Прими в соображение, что ты не можешь,
как христианин, добиться цели твоих желаний, потому что Люсинда мне жена, а
я ей муж". О, безумный я! Теперь, в разлуке и вдали от опасности, говорю я о
том, что я должен был сделать и чего не сделал. Теперь, когда я дал похитить
драгоценное мое сокровище, я проклинаю похитителя, которому я тогда мог бы
отомстить, если бы у меня хватило столько же решимости для мести, сколько ее
оказывается для жалоб! Словом, тогда я был трус и глупец, и потому что за
важность, если я теперь умираю, покрытый стыдом, томясь раскаянием и впав в
безумие!
Священник ждал ответа Люсинды, которая довольно долго медлила дать его,
и, когда я воображал, что она вынимает кинжал для защиты своей чести, или же
откроет уста, чтобы сказать всю правду и сделать признание в мою пользу, --
я услышал, что она слабым, угасающим голосом проговорила: "Да, желаю". То же
сказал и дон Фернандо; он передал ей кольцо, после чего они были соединены
неразрывными узами. Жених подошел к невесте поцеловать ее, но она,
схватившись за сердце, упала без чувств на руки матери.
Мне остается теперь лишь рассказать, что произошло со мной, когда,
услыхав это да, я увидел, что мои надежды осмеяны, все слова и обещания
Люсинды оказались ложью и счастье, которое я в этот миг потерял, потеряно
мною безвозвратно! Я чувствовал себя совершенно беспомощным; мне казалось,
что небо меня отвергло, земля-кормилица объявила своим врагом, отказывая мне
в воздухе для дыхания и вздохов, во влаге для слез в моих глазах, и только
огонь пылал во мне сильнее, так что я весь горел от бешенства и ревности
{Это место и несколько других в истории Карденио -- образчики особого
высокопарного, введенного Гонгорой слога, называемого cultismo, который как
раз начинал тогда входить в моду в Испании.}.
Когда Люсинда упала в обморок, все страшно взволновались, и мать
поспешила расстегнуть ей платье, чтобы она могла дышать свободнее, и тогда
на груди у нее увидела сложенную бумажку, которую дон Фернандо тотчас же
схватил и, отойдя в сторону, прочел при свете одного из горевших факелов.
Кончив читать, он сел на стул, подперев щеку рукой, как человек глубоко
задумавшийся, не обращая ни малейшего внимания на попытки окружающих
привести в чувство супругу его, лежащую в обмороке.
Увидав, что все в доме в таком смятении, я решился выйти из углубления
окна, не заботясь о том, увидят ли меня или нет; готовый, если бы меня
увидели, на такой отчаянный поступок, из которого весь мир узнал бы о
справедливом негодовании, переполнившем мою душу и требовавшем кары
предателю дону Фернандо и вероломству лежавшей в обмороке изменницы. Но
судьба, оберегавшая меня, должно быть, для еще больших несчастий, -- если
только возможно, чтоб существовали еще большие несчастия, -- устроила так,
что во мне в ту минуту взял верх рассудок, которого я затем лишился. Итак,
не желая отомстить злейшим моим врагам (что мне в то время очень легко было
сделать, потому что они и не подозревали о моем присутствии), я решил
обратить месть на самого себя, обрушить на собственную голову кару, которую
заслуживали они, и, быть может, еще более суровую, чем та, с какою я бы
обрушился на них, если б убил их тогда, потому что внезапная смерть быстро
прекращает страдания, а медленная беспрерывно убивает своими мучениями, не
прекращая жизни. Словом, я вышел из этого дома и отправился к человеку, у
которого я оставил мула, велел ему оседлать его и, не простившись, сел
верхом и покинул город, не смея, подобно Лоту, повернуть голову, чтобы
оглянуться назад. Когда я очутился наедине с собой в открытом поле, где меня
окружала ночная тьма и тишина ее словно приглашала излить свое горе, я, не
думая о том и не опасаясь, что меня могут услышать или узнать, возвысил
голос свой и дал волю своему языку разразиться целым потоком проклятий
против Фернандо и Люсинды, точно я мог таким образом отомстить им за
оскорбление, нанесенное ими мне. Я называл Люсинду жестокой, неблагодарной,
лицемерной и бездушной, а больше всего корыстолюбивой, так как богатство
врага моего ослепило ее любовь, отняло ее у меня и передало тому, кого
счастье осыпало своими дарами более милостиво и щедро. Но и среди потока
проклятий и укоров я оправдывал ее, говоря, что неудивительно, если молодая
девушка, запертая в четырех стенах родительского дома, привыкшая и
приученная к беспрекословному повиновению им, согласилась уступить желаниям
родителей, так как они предлагали ей в мужья знатного кабальеро и еще такого
богатого и образованного; ведь если бы она отвергла его, можно было бы
заподозрить, не потеряла ли она рассудок, или же не отдала ли свою любовь
кому-либо другому, -- обстоятельство, которое так сильно повредило бы ее
чести и доброму имени. Но затем я сейчас же снова говорил себе: если бы она
объявила, что я ее супруг, -- ее родители увидели бы, что выбор ее не так
уже плох, чтобы нельзя было извинить его, так как до предложения дона
Фернандо они сами не могли бы желать -- если желания их оставались в
разумных границах -- лучшего мужа для своей дочери, чем я; и она легко могла
бы прежде, чем подвергать себя крайней и неотступной опасности отдать руку
свою другому, объявить во всеуслышание, что рука ее принадлежит уже мне, и
тогда я бы вышел и подтвердил бы все, что бы она ни придумала в подобном
случае. Наконец я пришел к такому заключению: малая любовь, слабый разум,
сильное честолюбие и стремление к почестям побудили ее забыть обещания,
которыми она обольстила меня, питая и поддерживая во мне пламенные надежды и
чистые желания.
С такими восклицаниями и в таком смущенном душевном состоянии ехал я
весь остаток ночи и очутился на рассвете у входа в эту горную цепь, среди
которой я затем без пути и дороги блуждал еще целых три дня, пока не
остановился на лугу, не знаю в какую сторону расположенном от этих гор, и
там я спросил у пастухов: где самое пустынное и дикое место горной цепи? Они
указали мне в эту сторону; тотчас же направился я сюда с намерением лишить
себя здесь жизни; а когда я очутился среди этой пустынной, суровой
местности, мул мой пал от утомления и голода или же -- как я скорее думаю
чтобы освободиться от столь бесполезной, как я, ноши, обременявшей его. Я
остался пеший, изнеможенный, мучимый голодом; и не было никого, и я не думал
искать кого-либо, кто бы мне помог. Таким образом пролежал я, не знаю
сколько времени, растянувшись на земле. Наконец я встал, уже не чувствуя
голода, и увидел подле себя нескольких козопасов, которые, без сомнения, и
удовлетворили мои потребности, потому что они сообщили мне, в каком
состоянии нашли меня и какое я наговорил множество нелепостей и
несообразностей, ясно доказывавших, что я сошел с ума. С тех пор я сам
чувствую, что не всегда владею рассудком, и иногда он у меня так слаб и
расстроен, что я делаю тысячи безумств: раздираю на себе одежду, громко
кричу в этих пустынных местах, проклинаю свою судьбу и тщетно повторяю
возлюбленное имя врага моего -- Люсинды, причем я тогда не имею иного
намерения и иного желания, как только покончить со своею жизнью в этих
воплях. Когда я прихожу в себя, я бываю так утомлен и разбит, что едва могу
двигаться. Обычное мое жилище -- дупло пробкового дерева, достаточно
обширное, чтобы я мог укрыть в нем несчастное это тело. Пастухи и козопасы,
посещающие эти горы, движимые состраданием, снабжают меня пищей и кладут ее
для меня на тропинках и на скалах, где, как они думают, я случайно могу
пройти и найти ее. Таким образом, даже и тогда, когда во мне меркнет разум,
природный инстинкт заставляет меня узнавать пищу и пробуждает во мне желание
отыскивать ее и охоту потребить ее. Иногда, встретив меня в здравом уме, они
говорят мне, что я выхожу на дорогу и силой отнимаю пищу, хотя мне и дают ее
добровольно, у пастухов, которые несут из деревни припасы на овечьи дворы и
закуты. Таким образом провожу я мою жалкую, несчастную жизнь, пока небу не
будет угодно положить ей конец или же лишить меня памяти, чтоб я забыл о
красоте и измене Люсинды и о вероломстве дона Фернандо. Если небо ниспошлет
мне это, не лишив меня жизни, я направлю мысли свои на что-нибудь лучшее;
если же нет, мне не остается ничего другого, как только воссылать к нему
молитву о бесконечном милосердии для моей души, потому что я не чувствую в
себе ни мужества, ни силы, чтобы исторгнуть тело мое из той крайней
опасности, в которую я сам, по доброй своей воле ввергаю его.
Вот, сеньоры, горькая повесть моих несчастий. Скажите, такова ли она,
что ее можно было бы передать с меньшим волнением, чем выказано мною; и не
трудитесь уговаривать меня или советовать мне то, что, как подсказывает вам
разум, могло бы служить мне для облегчения,-- потому что все это принесло бы
мне так же мало пользы, как и лекарство, прописанное знаменитым врачом
больному, который не желает принимать его. Я не желаю здоровья без Люсинды,
и так как ей угодно принадлежать другому, когда она принадлежала или должна
была бы принадлежать мне, то и мне угодно принадлежать несчастию, хотя я и
мог бы обладать счастьем. Она непостоянством своим хотела упрочить мою
гибель; а я, стремясь к своей гибели, хочу удовлетворить ее желание; и пусть
служит уроком для всех в будущем, что одному мне недоставало того, что у
всех несчастных имеется в избытке, для которых обыкновенно служит утешением
невозможность утешиться, а для меня она -- причина еще больших страданий и
мук, так как я даже не могу надеяться, чтобы они прекратились с моею
смертью.
Этими словами Карденио закончил длинную свою речь и настолько же
горестную, насколько и полную страстной любви историю. Священник только что
собрался сказать ему несколько слов в утешение, но его остановил
дошедший до его слуха голос, который жалостливым тоном проговорил то, что
будет передано в четвертой части нашего рассказа, так как на этом месте
мудрый и рассудительный историк Сид Амет бен-Енхели заканчивает третью.
Я приехал в город, куда был послан, передал письмо брату дона Фернандо,
который хорошо принял меня, но нехорошо отпустил, потому что он велел мне, к
великому моему неудовольствию, подождать восемь дней и в таком месте, где бы
герцог, отец его, не мог меня видеть, так как брат его написал, чтобы он
прислал ему некоторую сумму денег без ведома их отца. Все это была выдумка
коварного дона Фернандо, потому что у брата его не было недостатка в
деньгах, с которыми он мог бы тотчас же отправить меня. Это приказание и
распоряжение побуждали меня к неповиновению, так как мне казалось
невозможным провести столько дней в разлуке с Люсиндой, тем более что я
оставил ее в столь горестном состоянии, о чем я уже вам рассказывал. Однако,
несмотря на это, я все же повиновался, как верный слуга, хотя и видел, что
поступаю так в ущерб собственному благополучию. Но на четвертый день после
моего приезда ко мне явился человек, разыскивавший меня; он передал мне
письмо, по адресу которого я тотчас же узнал, что оно от Люсинды, потому что
почерк был ее. Я распечатал письмо, испуганный и взволнованный, не
сомневаясь в том, что только крайне важная причина могла побудить ее писать
мне в мое отсутствие, потому что, когда я был в одном с нею городе, она
делала это очень редко. Прежде чем прочесть письмо, я спросил человека, кто
его дал ему и сколько времени он провел в дороге. В ответ он сказал мне,
что, когда ему случилось проходить в полдень по одной из улиц города, его
позвала из окна очень красивая сеньора и с глазами, полными слез, с
величайшею поспешностью сказала ему: "Брат, если вы христианин, каким вы
кажетесь, умоляю вас именем Бога, отнесите тотчас же и как можно скорее это
письмо в ту местность и тому лицу, как сказано на адресе, -- потому что и
местность и лицо всем известны, -- и, исполнив это, вы совершите дело,
угодное Богу; а чтобы у вас не было недостатка в средствах сделать это,
возьмите то, что завернуто здесь в платке". Говоря так, она бросила мне из
окна носовой платок, в котором были завязаны сто реалов и вот это золотое
кольцо, надетое у меня на пальце, а также письмо, которое я вам отдал. И
тотчас, не дожидаясь моего ответа, она отошла от окна, убедившись сначала,
что я поднял письмо и платок, а я знаками дал понять ей, что исполню ее
приказание. Итак, получив столь щедрое вознаграждение за труд доставить
письмо и узнав из адреса, что оно посылается вам, сеньор, потому что я очень
хорошо вас знаю, а также тронутый слезами прекрасной той сеньоры, я решил не
доверять дело никому другому, а идти самому и передать письмо вам в руки. В
шестнадцать часов -- с того времени, как она мне передала письмо, -- я
прошел весь путь, составляющий, как вам известно, восемнадцать миль.
Пока услужливый и неожиданный посланец рассказывал мне это, я был
словно прикован к его устам, и ноги до того у меня дрожали, что я едва
держался на них. Наконец я распечатал письмо и прочел следующее:
"Слово, данное вам доном Фернандо убедить вашего отца поговорить с
моим, он сдержал более к собственной выгоде, чем на пользу вам. Знайте,
сеньор, что он сватался ко мне, а мой отец, склоненный преимуществами,
которые, по его мнению, дон Фернандо имеет перед вами, согласился исполнить
его просьбу, и так серьезно, что уже через два дня назначен наш брак,
который должен состояться тайно и в такой тишине, что единственными
свидетелями его будут лишь небо и кое-кто из домашних. Можете представить
себе, в каком я состоянии. Решайте сами, следует ли вам приехать. Люблю ли я
вас или нет, покажет вам исход дела. Дай бог, чтобы письмо это попало в ваши
руки прежде, чем я буду вынуждена соединить свою руку с рукою того, кто так
плохо умеет держать данное им обещание!"
Вот, в общих чертах, содержание письма, которое тотчас же заставило
меня отправиться в путь, не дожидая ни ответа, ни денег, потому что, как я
понял тогда слишком ясно, не покупка лошадей, а намерение добиться своей
цели побудило дона Фернандо послать меня к своему брату. Гнев, охвативший
меня против дона Фернандо, вместе со страхом потерять сокровище, которое я
приобрел столькими годами ухаживанья и любви, придали мне крылья, и я летел
так, что уже на следующий день прибыл в свой город в наиболее подходящий час
и минуту, чтоб пойти говорить с Люсиндой. Я приехал тайком от всех и оставил
своего верхового мула в доме доброго человека, доставившего мне письмо.
Счастливой судьбе угодно было, чтобы я застал Люсинду стоящей как раз у
решетки -- свидетельницы нашей любви. Люсинда тотчас же узнала меня, а я
узнал ее, но не так встретили мы друг друга, как бы нам следовало, и ей, и
мне. Но кто во всем мире может похвалиться, что понял и разгадал сложную
природу и изменчивые мысли женщины? Наверно, никто. Итак, я говорю, лишь
только Люсинда увидела меня, она сказала: "Карденио, на мне подвенечное
платье; меня ждут в зале дон Фернандо -- предатель, мой корыстолюбивый отец
и другие, которые будут скорее свидетелями моей смерти, чем моего
бракосочетания. Не смущайся, друг, но постарайся присутствовать при этом
жертвоприношении. Гели я не смогу отвратить его словами, -- у меня спрятан,
кинжал, который защитит меня против более решительного насилия, положив
конец моей жизни и дав тебе первое знамение той любви, которую я питала и
питаю к тебе!"
Я ответил ей поспешно, не помня себя и опасаясь, что у меня не хватит
времени сделать это: "Пусть поступки твои, сеньора, докажут истину твоих
слов. Еcли у тебя есть кинжал для защиты твоей чести, у меня -- меч для
защиты твоей жизни или чтобы убить себя, если б судьба оказалась враждебной
нам".
Не думаю, чтобы она могла расслышать все мои слова, потому что ее
спешно позвали, так как жених уже ждал, и с этой минуты наступила ночь моей
печали, закатилось солнце моей радости, свет исчез из моих глаз, и сознание
покинуло меня. Я не имел сил войти в дом и не был в состоянии двинуться с
места; но, сознавая, как было важно мое присутствие для всего, что могло
сейчас произойти, я ободрился, насколько мог, и проник в дом, так как хорошо
знал все входы и выходы из него; кроме того, вследствие суматохи по случаю
тайного бракосочетания никто меня не заметил. Таким образом, мне удалось
пробраться в самый зал и спрятаться там в углублении окна, задрапированного
тяжелыми занавесами, так что меня никто не мог видеть; я же, напротив, через
отверстие занавеса мог видеть все, что происходило в зале. Кто мог бы
передать словами, как сильно билось мое сердце, пока я там стоял, какие
мысли мелькали у меня в уме, какие зарождались в нем соображения? Их было
столько, и они были такого рода, что нельзя и не следует их пересказывать.
Достаточно с вас знать, что жених вошел в зал в обычной своей одежде и без
всяких украшений. В качестве свидетеля у него был двоюродный брат Люсинды, и
во всем зале не было никого чужого, одни только домашние слуги. Немного
спустя и Люсинда вышла из уборной в сопровождении своей матери и двух
прислужниц, богато одетая и украшенная, как это требовалось ее положением и
красотой и как приличествовало той, которая могла служить образцом изящества
и благородной роскоши. Мое смущение и волнение не позволили мне рассмотреть
и обратить внимание на подробности ее наряда, я был в состоянии лишь
заметить цвета -- пурпуровый и белый -- и блеск драгоценных каменьев и
бриллиантов на головном ее уборе и на всем ее одеянии, но все это было
превзойдено редкостной красотой светло-золотистых ее волос, которые в
соединении с блеском драгоценных камней и при свете четырех факелов,
освещавших зал, еще ярче сверкали перед глазами. О воспоминание, смертельный
враг моего спокойствия! Зачем ты рисуешь теперь передо мной несравненную
красоту Люсинды, этого боготворимого мною недруга моего? Не лучше ли было бы
-- жестокое воспоминание -- вызвать и воскресить передо мной тогдашний ее
поступок, чтобы, возмущенный столь явным оскорблением, я стремился если уже
не к мести, то по крайней мере к тому, чтобы лишить себя жизни. Не
досадуйте, сеньоры, слушая эти мои отступления: ведь горе мое не из тех,
которое может или должно бы быть рассказано последовательно и кратко, так
как малейшее обстоятельство в нем кажется мне заслуживающим продолжительного
разъяснения.
На это священник ответил, что рассказ его не только не наскучил им, а,
напротив, они были рады узнать подробности, которые он им сообщил, так как
эти подробности не следовало обходить молчанием и они заслуживают такого же
внимания, как и главные события рассказа.
-- Итак, я говорю, -- продолжал Карденио, -- когда все собрались в
зале, вошел приходский священник и, взяв за руку Люсинду и дона Фернандо,
исполняя то, что от него требовал церковный обряд, спросил: "Согласны ли вы,
сеньора Люсинда, взять дона Фернандо, присутствующего здесь, своим законным
супругом, как это повелевает святая наша матерь церковь?" При этом его
вопросе я просунул голову и шею из-за занавеса и со смущенным сердцем, весь
превратившись в слух, готовился внять словам Люсинды, ожидая от ее ответа
смертного себе приговора или дарования мне жизни. О, если б я в это
мгновение имел смелость выйти вперед и крикнуть громким голосом: "Ах,
Люсинда, Люсинда, подумай о том, что ты делаешь, помни свой долг
относительно меня, не забывай, что ты моя и не можешь быть ничьей иной.
Знай, что лишь только ты скажешь да, в тот же миг наступит и конец моей
жизни. А ты, предатель дон Фернандо, похититель моего счастья, смерть моей
жизни,-- чего желаешь, чего требуешь? Прими в соображение, что ты не можешь,
как христианин, добиться цели твоих желаний, потому что Люсинда мне жена, а
я ей муж". О, безумный я! Теперь, в разлуке и вдали от опасности, говорю я о
том, что я должен был сделать и чего не сделал. Теперь, когда я дал похитить
драгоценное мое сокровище, я проклинаю похитителя, которому я тогда мог бы
отомстить, если бы у меня хватило столько же решимости для мести, сколько ее
оказывается для жалоб! Словом, тогда я был трус и глупец, и потому что за
важность, если я теперь умираю, покрытый стыдом, томясь раскаянием и впав в
безумие!
Священник ждал ответа Люсинды, которая довольно долго медлила дать его,
и, когда я воображал, что она вынимает кинжал для защиты своей чести, или же
откроет уста, чтобы сказать всю правду и сделать признание в мою пользу, --
я услышал, что она слабым, угасающим голосом проговорила: "Да, желаю". То же
сказал и дон Фернандо; он передал ей кольцо, после чего они были соединены
неразрывными узами. Жених подошел к невесте поцеловать ее, но она,
схватившись за сердце, упала без чувств на руки матери.
Мне остается теперь лишь рассказать, что произошло со мной, когда,
услыхав это да, я увидел, что мои надежды осмеяны, все слова и обещания
Люсинды оказались ложью и счастье, которое я в этот миг потерял, потеряно
мною безвозвратно! Я чувствовал себя совершенно беспомощным; мне казалось,
что небо меня отвергло, земля-кормилица объявила своим врагом, отказывая мне
в воздухе для дыхания и вздохов, во влаге для слез в моих глазах, и только
огонь пылал во мне сильнее, так что я весь горел от бешенства и ревности
{Это место и несколько других в истории Карденио -- образчики особого
высокопарного, введенного Гонгорой слога, называемого cultismo, который как
раз начинал тогда входить в моду в Испании.}.
Когда Люсинда упала в обморок, все страшно взволновались, и мать
поспешила расстегнуть ей платье, чтобы она могла дышать свободнее, и тогда
на груди у нее увидела сложенную бумажку, которую дон Фернандо тотчас же
схватил и, отойдя в сторону, прочел при свете одного из горевших факелов.
Кончив читать, он сел на стул, подперев щеку рукой, как человек глубоко
задумавшийся, не обращая ни малейшего внимания на попытки окружающих
привести в чувство супругу его, лежащую в обмороке.
Увидав, что все в доме в таком смятении, я решился выйти из углубления
окна, не заботясь о том, увидят ли меня или нет; готовый, если бы меня
увидели, на такой отчаянный поступок, из которого весь мир узнал бы о
справедливом негодовании, переполнившем мою душу и требовавшем кары
предателю дону Фернандо и вероломству лежавшей в обмороке изменницы. Но
судьба, оберегавшая меня, должно быть, для еще больших несчастий, -- если
только возможно, чтоб существовали еще большие несчастия, -- устроила так,
что во мне в ту минуту взял верх рассудок, которого я затем лишился. Итак,
не желая отомстить злейшим моим врагам (что мне в то время очень легко было
сделать, потому что они и не подозревали о моем присутствии), я решил
обратить месть на самого себя, обрушить на собственную голову кару, которую
заслуживали они, и, быть может, еще более суровую, чем та, с какою я бы
обрушился на них, если б убил их тогда, потому что внезапная смерть быстро
прекращает страдания, а медленная беспрерывно убивает своими мучениями, не
прекращая жизни. Словом, я вышел из этого дома и отправился к человеку, у
которого я оставил мула, велел ему оседлать его и, не простившись, сел
верхом и покинул город, не смея, подобно Лоту, повернуть голову, чтобы
оглянуться назад. Когда я очутился наедине с собой в открытом поле, где меня
окружала ночная тьма и тишина ее словно приглашала излить свое горе, я, не
думая о том и не опасаясь, что меня могут услышать или узнать, возвысил
голос свой и дал волю своему языку разразиться целым потоком проклятий
против Фернандо и Люсинды, точно я мог таким образом отомстить им за
оскорбление, нанесенное ими мне. Я называл Люсинду жестокой, неблагодарной,
лицемерной и бездушной, а больше всего корыстолюбивой, так как богатство
врага моего ослепило ее любовь, отняло ее у меня и передало тому, кого
счастье осыпало своими дарами более милостиво и щедро. Но и среди потока
проклятий и укоров я оправдывал ее, говоря, что неудивительно, если молодая
девушка, запертая в четырех стенах родительского дома, привыкшая и
приученная к беспрекословному повиновению им, согласилась уступить желаниям
родителей, так как они предлагали ей в мужья знатного кабальеро и еще такого
богатого и образованного; ведь если бы она отвергла его, можно было бы
заподозрить, не потеряла ли она рассудок, или же не отдала ли свою любовь
кому-либо другому, -- обстоятельство, которое так сильно повредило бы ее
чести и доброму имени. Но затем я сейчас же снова говорил себе: если бы она
объявила, что я ее супруг, -- ее родители увидели бы, что выбор ее не так
уже плох, чтобы нельзя было извинить его, так как до предложения дона
Фернандо они сами не могли бы желать -- если желания их оставались в
разумных границах -- лучшего мужа для своей дочери, чем я; и она легко могла
бы прежде, чем подвергать себя крайней и неотступной опасности отдать руку
свою другому, объявить во всеуслышание, что рука ее принадлежит уже мне, и
тогда я бы вышел и подтвердил бы все, что бы она ни придумала в подобном
случае. Наконец я пришел к такому заключению: малая любовь, слабый разум,
сильное честолюбие и стремление к почестям побудили ее забыть обещания,
которыми она обольстила меня, питая и поддерживая во мне пламенные надежды и
чистые желания.
С такими восклицаниями и в таком смущенном душевном состоянии ехал я
весь остаток ночи и очутился на рассвете у входа в эту горную цепь, среди
которой я затем без пути и дороги блуждал еще целых три дня, пока не
остановился на лугу, не знаю в какую сторону расположенном от этих гор, и
там я спросил у пастухов: где самое пустынное и дикое место горной цепи? Они
указали мне в эту сторону; тотчас же направился я сюда с намерением лишить
себя здесь жизни; а когда я очутился среди этой пустынной, суровой
местности, мул мой пал от утомления и голода или же -- как я скорее думаю
чтобы освободиться от столь бесполезной, как я, ноши, обременявшей его. Я
остался пеший, изнеможенный, мучимый голодом; и не было никого, и я не думал
искать кого-либо, кто бы мне помог. Таким образом пролежал я, не знаю
сколько времени, растянувшись на земле. Наконец я встал, уже не чувствуя
голода, и увидел подле себя нескольких козопасов, которые, без сомнения, и
удовлетворили мои потребности, потому что они сообщили мне, в каком
состоянии нашли меня и какое я наговорил множество нелепостей и
несообразностей, ясно доказывавших, что я сошел с ума. С тех пор я сам
чувствую, что не всегда владею рассудком, и иногда он у меня так слаб и
расстроен, что я делаю тысячи безумств: раздираю на себе одежду, громко
кричу в этих пустынных местах, проклинаю свою судьбу и тщетно повторяю
возлюбленное имя врага моего -- Люсинды, причем я тогда не имею иного
намерения и иного желания, как только покончить со своею жизнью в этих
воплях. Когда я прихожу в себя, я бываю так утомлен и разбит, что едва могу
двигаться. Обычное мое жилище -- дупло пробкового дерева, достаточно
обширное, чтобы я мог укрыть в нем несчастное это тело. Пастухи и козопасы,
посещающие эти горы, движимые состраданием, снабжают меня пищей и кладут ее
для меня на тропинках и на скалах, где, как они думают, я случайно могу
пройти и найти ее. Таким образом, даже и тогда, когда во мне меркнет разум,
природный инстинкт заставляет меня узнавать пищу и пробуждает во мне желание
отыскивать ее и охоту потребить ее. Иногда, встретив меня в здравом уме, они
говорят мне, что я выхожу на дорогу и силой отнимаю пищу, хотя мне и дают ее
добровольно, у пастухов, которые несут из деревни припасы на овечьи дворы и
закуты. Таким образом провожу я мою жалкую, несчастную жизнь, пока небу не
будет угодно положить ей конец или же лишить меня памяти, чтоб я забыл о
красоте и измене Люсинды и о вероломстве дона Фернандо. Если небо ниспошлет
мне это, не лишив меня жизни, я направлю мысли свои на что-нибудь лучшее;
если же нет, мне не остается ничего другого, как только воссылать к нему
молитву о бесконечном милосердии для моей души, потому что я не чувствую в
себе ни мужества, ни силы, чтобы исторгнуть тело мое из той крайней
опасности, в которую я сам, по доброй своей воле ввергаю его.
Вот, сеньоры, горькая повесть моих несчастий. Скажите, такова ли она,
что ее можно было бы передать с меньшим волнением, чем выказано мною; и не
трудитесь уговаривать меня или советовать мне то, что, как подсказывает вам
разум, могло бы служить мне для облегчения,-- потому что все это принесло бы
мне так же мало пользы, как и лекарство, прописанное знаменитым врачом
больному, который не желает принимать его. Я не желаю здоровья без Люсинды,
и так как ей угодно принадлежать другому, когда она принадлежала или должна
была бы принадлежать мне, то и мне угодно принадлежать несчастию, хотя я и
мог бы обладать счастьем. Она непостоянством своим хотела упрочить мою
гибель; а я, стремясь к своей гибели, хочу удовлетворить ее желание; и пусть
служит уроком для всех в будущем, что одному мне недоставало того, что у
всех несчастных имеется в избытке, для которых обыкновенно служит утешением
невозможность утешиться, а для меня она -- причина еще больших страданий и
мук, так как я даже не могу надеяться, чтобы они прекратились с моею
смертью.
Этими словами Карденио закончил длинную свою речь и настолько же
горестную, насколько и полную страстной любви историю. Священник только что
собрался сказать ему несколько слов в утешение, но его остановил
дошедший до его слуха голос, который жалостливым тоном проговорил то, что
будет передано в четвертой части нашего рассказа, так как на этом месте
мудрый и рассудительный историк Сид Амет бен-Енхели заканчивает третью.

Глава XXVIII Неожиданное и приятное приключение, случившееся со
священником и цирюльником в той же Сьерра-Морене
 Счастливейшие и благословенные времена были те, когда наиотважнейший из
рыцарей -- Дон Кихот Ламанчский -- явился на свет божий; так как благодаря
его прекрасному намерению воскресить и вернуть уже исчезнувший и почти
похороненный орден странствующего рыцарства, мы наслаждаемся в наше столь
бедное веселыми развлечениями время не только прелестью правдивой истории
самого Дон Кихота, но также и вставными в нее эпизодами и рассказами,
которые частью так же занимательны, искусны и правдивы, как и сама его
история; последняя же, взявшись снова за свою расчесанную, скрученную,
намотанную нить, повествует нам, что когда священник только что собрался
утешать Карденио, ему помешал дошедший до его слуха голос, грустно и уныло,
говоривший следующее:
-- О боже! Неужели я нашел наконец место, могущее служить скрытой от
всех глаз могилой для тягостного бремени этого тела, которое мне против воли
приходится еще нести? Да, так оно и есть, если только уединение, которое мне
сулят эти горы, не обман. О, я несчастная! Эти скалы и кустарники, дающие
мне возможность свободно изливать свое горе перед лицом неба, куда мне
приятнее в теперешнем моем настроении, чем общество каких бы то ни было
человеческих существ, потому что нет никого на земле, от кого можно было бы
ждать совета в сомнениях, облегчения в горе и помощи в несчастьях!
Все эти слова священник и бывшие с ним услышали и поняли, а так как им
казалось -- и действительно оно так и было, -- что произнес их кто-то
вблизи, они встали, намереваясь отыскать говорившего. Не успели они пройти
двадцати шагов, как увидели за углом скалы юношу в крестьянской одежде,
сидевшего под тенью ясеня, но лица его не могли разглядеть, потому что он
сидел с опущенной головой и мыл себе ноги в протекавшем там ручье. Они
подошли к нему так тихо, что он их не заметил; к тому же он был весь
поглощен мытьем своих ног, таких, что они казались двумя кусками белого
хрусталя, родившегося среди других камней ручейка. Их поразила белизна и
красота этих ног, которые, как им казалось, не были созданы для того, чтобы
попирать глыбы земли или ходить за плугом и волами, как на то указывала
одежда юноши. Убедившись, что тот их не заметил, священник, шедший впереди,
сделал знак остальным, чтобы они присели и спрятались за лежавшими кругом
обломками скал, что они и сделали, внимательно следя оттуда за всеми
движениями юноши. Он был одет в короткий серый плащ с капюшоном и разрезами
на боках, туго перехваченный у пояса белым полотенцем, в панталонах и
гамашах, тоже из серого сукна, на голове у него была серая суконная шапка.
Гамаши он отвернул до половины голени, которая по белизне казалась чистейшим
алебастром. Окончив мытье прекрасных своих ног, юноша тотчас же вытер их
тонким платком, который он вынул из-под своей шапки. Делая это, он приподнял
голову, и наблюдавшие за ним имели случай увидеть лицо такой несравненной
красоты, что Карденио шепнул на ухо священнику: "Так как это не Люсинда, то
наверное не человеческое существо, а божественное". Юноша снял шапку, и
когда он тряхнул головой, у него рассыпались по плечам волосы, которым могли
бы позавидовать солнечные лучи. Тогда священник и его спутники поняли, что
тот, кого они считали за крестьянского юношу, был женщиной, изящной и самой
прекрасной из всех, которых когда-либо видели священник, цирюльник и даже и
Карденио, если б только последний не видел и не знал Люсинды, так как он
потом уверял, что с ее красотой могла соперничать только красота Люсинды.
Длинные золотистые волосы не только покрывали ее плечи, но их было так
много и в таком изобилии, что они скрывали ее всю, и из-под них были видны
одни только ноги. Вместо гребня она стала расправлять себе волосы руками,
причем, если ее ноги в воде показались им кусками хрусталя, ее руки в
волосах казалась им кусками самого белого затвердевшего снега. Все это
вызвало в трех зрителях, наблюдавших за нею, еще большее восхищение и
большее желание узнать, кто она такая, поэтому они решились подойти к ней.
Но при движении, сделанном ими, когда они поднялись на ноги, красивая
девушка приподняла голову и, откинув обеими руками упавшие ей на глаза
волосы, посмотрела на тех, кто произвел шелест. Едва она увидела их, как
вскочила и, не давая себе времени надеть башмаки или привести в порядок
волосы, торопливо схватила лежавший подле нее узелок и, исполненная смущения
и испуга, хотела бежать. Но не успела она сделать и шести шагов, как упала
на землю, потому что нежные ее ноги не в состоянии были стерпеть боль,
причиняемую острыми камнями. Увидав это, те трое подбежали к ней, и
священник первый сказал ей: "Остановитесь, сеньора, кто бы вы ни были, так
как мы все -- которых вы здесь видите -- имеем лишь одно намерение --
служить вам. Итак, у вас нет причины обращаться в столь поспешное бегство: и
ноги ваши не в состоянии вынести его, и мы не можем согласиться на все это.
-- Изумленная и смущенная, она не ответила ни слова.
Счастливейшие и благословенные времена были те, когда наиотважнейший из
рыцарей -- Дон Кихот Ламанчский -- явился на свет божий; так как благодаря
его прекрасному намерению воскресить и вернуть уже исчезнувший и почти
похороненный орден странствующего рыцарства, мы наслаждаемся в наше столь
бедное веселыми развлечениями время не только прелестью правдивой истории
самого Дон Кихота, но также и вставными в нее эпизодами и рассказами,
которые частью так же занимательны, искусны и правдивы, как и сама его
история; последняя же, взявшись снова за свою расчесанную, скрученную,
намотанную нить, повествует нам, что когда священник только что собрался
утешать Карденио, ему помешал дошедший до его слуха голос, грустно и уныло,
говоривший следующее:
-- О боже! Неужели я нашел наконец место, могущее служить скрытой от
всех глаз могилой для тягостного бремени этого тела, которое мне против воли
приходится еще нести? Да, так оно и есть, если только уединение, которое мне
сулят эти горы, не обман. О, я несчастная! Эти скалы и кустарники, дающие
мне возможность свободно изливать свое горе перед лицом неба, куда мне
приятнее в теперешнем моем настроении, чем общество каких бы то ни было
человеческих существ, потому что нет никого на земле, от кого можно было бы
ждать совета в сомнениях, облегчения в горе и помощи в несчастьях!
Все эти слова священник и бывшие с ним услышали и поняли, а так как им
казалось -- и действительно оно так и было, -- что произнес их кто-то
вблизи, они встали, намереваясь отыскать говорившего. Не успели они пройти
двадцати шагов, как увидели за углом скалы юношу в крестьянской одежде,
сидевшего под тенью ясеня, но лица его не могли разглядеть, потому что он
сидел с опущенной головой и мыл себе ноги в протекавшем там ручье. Они
подошли к нему так тихо, что он их не заметил; к тому же он был весь
поглощен мытьем своих ног, таких, что они казались двумя кусками белого
хрусталя, родившегося среди других камней ручейка. Их поразила белизна и
красота этих ног, которые, как им казалось, не были созданы для того, чтобы
попирать глыбы земли или ходить за плугом и волами, как на то указывала
одежда юноши. Убедившись, что тот их не заметил, священник, шедший впереди,
сделал знак остальным, чтобы они присели и спрятались за лежавшими кругом
обломками скал, что они и сделали, внимательно следя оттуда за всеми
движениями юноши. Он был одет в короткий серый плащ с капюшоном и разрезами
на боках, туго перехваченный у пояса белым полотенцем, в панталонах и
гамашах, тоже из серого сукна, на голове у него была серая суконная шапка.
Гамаши он отвернул до половины голени, которая по белизне казалась чистейшим
алебастром. Окончив мытье прекрасных своих ног, юноша тотчас же вытер их
тонким платком, который он вынул из-под своей шапки. Делая это, он приподнял
голову, и наблюдавшие за ним имели случай увидеть лицо такой несравненной
красоты, что Карденио шепнул на ухо священнику: "Так как это не Люсинда, то
наверное не человеческое существо, а божественное". Юноша снял шапку, и
когда он тряхнул головой, у него рассыпались по плечам волосы, которым могли
бы позавидовать солнечные лучи. Тогда священник и его спутники поняли, что
тот, кого они считали за крестьянского юношу, был женщиной, изящной и самой
прекрасной из всех, которых когда-либо видели священник, цирюльник и даже и
Карденио, если б только последний не видел и не знал Люсинды, так как он
потом уверял, что с ее красотой могла соперничать только красота Люсинды.
Длинные золотистые волосы не только покрывали ее плечи, но их было так
много и в таком изобилии, что они скрывали ее всю, и из-под них были видны
одни только ноги. Вместо гребня она стала расправлять себе волосы руками,
причем, если ее ноги в воде показались им кусками хрусталя, ее руки в
волосах казалась им кусками самого белого затвердевшего снега. Все это
вызвало в трех зрителях, наблюдавших за нею, еще большее восхищение и
большее желание узнать, кто она такая, поэтому они решились подойти к ней.
Но при движении, сделанном ими, когда они поднялись на ноги, красивая
девушка приподняла голову и, откинув обеими руками упавшие ей на глаза
волосы, посмотрела на тех, кто произвел шелест. Едва она увидела их, как
вскочила и, не давая себе времени надеть башмаки или привести в порядок
волосы, торопливо схватила лежавший подле нее узелок и, исполненная смущения
и испуга, хотела бежать. Но не успела она сделать и шести шагов, как упала
на землю, потому что нежные ее ноги не в состоянии были стерпеть боль,
причиняемую острыми камнями. Увидав это, те трое подбежали к ней, и
священник первый сказал ей: "Остановитесь, сеньора, кто бы вы ни были, так
как мы все -- которых вы здесь видите -- имеем лишь одно намерение --
служить вам. Итак, у вас нет причины обращаться в столь поспешное бегство: и
ноги ваши не в состоянии вынести его, и мы не можем согласиться на все это.
-- Изумленная и смущенная, она не ответила ни слова.
 Тогда они еще ближе подошли к ней, и священник, взяв ее за руку сказал:
-- То, что ваша одежда, сеньора, скрывает от нас, ваши волосы выдали
нам. Без сомнения, немаловажные причины побудили вас нарядить вашу красоту в
такую недостойную ее одежду и привели вас в эту пустынную местность, где мы
имели счастье встретить вас, если и не для того чтобы облегчить ваши
страдания, то по крайней мере для того, чтобы дать вам совет: потому что
никакое несчастье не может привести в такое уныние и дойти до такого предела
-- пока еще не угасла жизнь, -- чтобы тот, кто терпит бедствие, отказался бы
выслушать даже совет, данный ему с добрым намерением. Так что, сеньора моя,
или сеньор мой, или чем бы вы ни желали быть, отбросьте страх, вызванный в
вас нашим появлением, и расскажите нам о вашей счастливой или несчастной
судьбе, так как во всех нас вместе и в каждом в отдельности вы найдете
участие к вам в вашем горе.
Пока священник говорил таким образом, переодетая девушка стояла как
вкопанная и глядела на всех, не шевельнув губами и не произнеся ни слова,
совершенно точно деревенский парень, которому неожиданно показывают
редкостные и никогда им не виданные вещи. Но после того как священник
вторично обратился к ней, продолжая убеждать ее все в том же направлении,
она глубоко вздохнула и прервала наконец свое молчание:
-- Если уединение этих гор не было в состоянии скрыть меня от
посторонних взоров, а распустившиеся мои волосы не дозволяют языку моему
сказать ложь, напрасно стала бы я теперь снова притворяться в том, чему вы
могли бы поверить скорее из вежливости, чем по каким-либо другим
соображениям. Раз это так, сеньоры, позвольте мне прежде всего поблагодарить
вас за сделанное мне вами предложение, обязывающее меня исполнить все то, о
чем вы меня просите; хотя я и боюсь, что рассказ о моих несчастиях рядом с
состраданием вызовет в вас и огорчение, так как у вас не найдется ни
средства помочь моему горю, ни утешения, чтобы облегчить его; но тем не
менее, опасаясь, что честь моя может пострадать в ваших глазах, раз вы уже
открыли, что я женщина и видите меня молодую, одну и в такой одежде --
обстоятельства, которые все вместе взятые и каждое в отдельности, могли бы
запятнать любую женскую репутацию, -- мне приходится сказать вам то, о чем
бы я хотела лучше умолчать, если б могла.
Все это она, оказавшаяся столь красивой женщиной, проговорила без
запинки, так убедительно и таким нежным голосом, что слушатели ее были не
менее восхищены изяществом ее речи, чем ее красотой. Они опять стали
предлагать ей свои услуги и повторили просьбу исполнить обещанное, после
чего она, не заставляя себя дольше просить, очень скромно обулась, привела в
порядок волосы и уселась на камне, вокруг которого расположились трое ее
слушателей. Сделав усилие над собой, чтобы удержать слезы, набегавшие ей на
глаза, она спокойным и внятным голосом принялась рассказывать историю своей
жизни.
-- Здесь, в Андалузии, есть местечко, от которого один герцог получил
свой титул, что делает его одним из тех, кого называют в Испании грандами
{Испанским грандом делался в былые времена в Испании без дальнейших
церемоний или заслуг дворянин, которому король скажет: "Cubraos", т. е.
"Наденьте шляпу на голову". При Сервантесе и в настоящее время все гранды
равны, но первоначально они делились на три разряда: надевавшие шляпу на
голову в присутствии короля, прежде чем король говорил с ними, надевавшие ее
после того и остававшиеся с непокрытой головой до тех пор, пока он не
заговорит с ними и они не ответят ему.}. У него два сына: старший, наследник
его титула и, по-видимому, также и добрых его качеств, а младший, наследник
чего не знаю, разве только предательства Велидо и низости Галалона {Велидо и
Галалон -- два величайших предателя и изменника, часто фигурирующие в
испанских романах.}. Родители мои -- вассалы этого герцога; по происхождению
они простолюдины, но так богаты, что если бы их родовитость равнялась их
состоянию, то им не оставалось бы ничего большего желать и я не имела бы
причины опасаться увидеть себя в том грустном положении, в котором я теперь
нахожусь, так как, быть может, мое несчастье вытекает именно из скромности
происхождения моих родителей. Правда, происхождение их не столь низкое,
чтобы можно было стыдиться его, но и не столь высокое, чтобы я могла изгнать
из своей головы мысль, будто несчастье мое коренится в том, что мы не
родовитые дворяне. Коротко говоря, родители мои -- земледельцы, люди
простые, без всякой примеси дурной крови и, как принято говорить, христиане
древнего закала {Т. е. без примеси мавританской или еврейской крови.}, но
они такие богачи, что их богатство и роскошный образ жизни мало-помалу
приобретают им звание идальго и даже кабальеро {Идальго -- означало в
Испании дворянина, человека благородного происхождения, каково бы ни было
занимаемое им положение; а кабальеро -- человека, хорошо поставленного как
по рождению, так и по занимаемому им положению. В старинные времена идальго
пользовались в Испании разными привилегиями и льготами. Теперь идальгия
потеряла всякое значение, но все считаются кабальеросами.}, хотя они ценили
выше всякого богатства и знатности то, что я их дочь. Так как я была
единственной их наследницей -- других детей у них не было, -- а они были
крайне нежными родителями, то я и росла самой балованной из всех балованных
дочерей в мире. Я была зеркалом, в котором они видели себя самих, поддержкой
их старости, целью, к которой одновременно с надеждой на милосердие неба
стремились все их желания, а с этими последними, так как я знала, что они
хороши, вполне совпадали и мои желания. Властвуя над расположением и душой
моих родителей, я точно так же властвовала и над их имуществом. Слуг наших
увольняла и нанимала я; счеты и отчеты того, что сеялось и собиралось,
проходили чрез мои руки; маслобойни, виноградные давильни, крупный и мелкий
скот, пчелиные улья, -- словом, все, что могло принадлежать и принадлежало
такому богатому земледельцу, каким был мой отец, находилось под моим
наблюдением. Я была управительницей и хозяйкой и, заботясь обо всем с
большим рвением, доставляла родителям моим такое удовольствие, что я не могу
достаточно нахвалиться этим. Свободные часы, остававшиеся у меня после того,
как я сделаю все нужные распоряжения по хозяйству старшим надсмотрщикам,
пастухам и поденщикам, я проводила в занятиях, которые столь же свойственны,
как и необходимы для молодых девушек, например, за шитьем, плетением кружев,
а нередко и за веретеном. И если иногда я оставляла эти занятия, чтобы
усладить мои мысли, я прибегала к чтению какой-нибудь назидательной книги
или к игре на арфе, потому что опыт показал мне, что музыка успокаивает
взволнованную душу и дает отдых утомленному уму. Вот та жизнь, которую я
вела в доме моих родителей, и если я так подробно рассказала вам о ней, то
сделала это не из чванства и не из желания дать вам понять, что я богата, --
а чтобы вы видели, как без вины с моей стороны я из столь счастливого
положения попала в плачевное состояние, в котором нахожусь теперь. Дело в
том, что, проводя жизнь среди стольких занятий и в таком уединении, что его
можно было бы сравнить с монастырским затворничеством, я думала, что никто,
кроме домашних, не видит меня, потому что в те дни, когда я ходила к обедне,
я всегда это делала ранним утром и не иначе как в сопровождении матери и
нескольких служанок, до того закутанная и закрытая густою вуалью, что глаза
мои едва могли видеть лишь тот клочок земли, на который я ступала ногами.
Тем не менее глаза любви, или, вернее, праздности, -- еще более
проницательные, чем глаза рыси, -- выследили меня: за мной стал ухаживать
дон Фернандо; так назывался младший сын герцога, о котором я вам говорила.
Едва та, что рассказывала свою историю, произнесла имя дона Фернандо, как
вдруг Карденио переменился в лице, и капли холодного пота, вызванные сильным
волнением, выступили у него на лбу, так что священник и цирюльник, взглянув
на него, стали опасаться, чтобы с ним не случился один из тех припадков
бешенства, которые, как они слышали, по временам бывали у него. Но Карденио,
весь дрожа и видимо волнуясь, продолжал молчать, пристально устремив глаза
на крестьянскую девушку, так как он уже догадывался, кто она такая. Не
замечая волнения Карденио, она продолжала свой рассказ, говоря:
-- Едва дон Фернандо увидел меня, как он тотчас же -- судя по тому, что
он потом говорил, -- запылал ко мне страстною любовью, о чем не замедлили
свидетельствовать и его поступки. Но чтобы поскорее кончить повесть о моих
злоключениях, обойду лучше молчанием хитрости, к которым прибегал дон
Фернандо, чтобы открыть мне свою любовь. Он подкупил всю нашу прислугу,
давал и предлагал моим родственникам подарки и вознаграждения. Днем на нашей
улице шли беспрерывные празднества и увеселения, ночью никто не мог уснуть
из-за серенад; записки, которые, не знаю каким образом, попадали в мои руки,
были бесчисленны и наполнены объяснениями и предложениями любви,
заключавшими в себе больше обещаний и клятв, чем было в них букв. Но все это
не только не смягчало меня, а, наоборот, скорее ожесточало так, как будто он
мне был смертельным врагом, и все его старания подчинить меня своим желаниям
имели лишь обратное действие. Не потому чтобы он сам или его ухаживания мне
не нравились, напротив, я чувствовала какое-то, не знаю, особенное
удовольствие, видя, что столь знатный кабальеро так сильно любит и ценит
меня, и я не оскорблялась, читая в его письмах похвалы себе, потому что в
этом отношении, я думаю, что нам, женщинам, как бы мы ни были некрасивы,
всегда приятно слышать, что нас называют красивыми; но от происков дона
Фернандо меня охраняла моя скромность и беспрестанные советы моих родителей,
слишком ясно видевших намерения дона Фернандо, так как и сам он не давал
себе труда скрывать их перед кем бы то ни было. Мои родители говорили мне,
что поручают и доверяют свою честь и доброе имя только лишь моей добродетели
и правдивости и просили меня принять во внимание неравенство между мной и
доном Фернандо, из чего я могу видеть, что намерения его, хотя бы он и
уверял в противном, направлены больше к его удовольствию, чем к моей пользе,
и, если я желаю каким бы то ни было образом положить конец оскорбительному
его ухаживанью за мной, они готовы выдать меня тотчас же замуж, по моему
выбору, за одного из самых почетных лиц из нашего местечка или же из
окрестностей, так как они в праве рассчитывать на все при большом их
состоянии и моей доброй славе. Эти положительные обещания моих родителей и
уверенность в полной справедливости их слов еще более укрепила меня в моей
решимости, так что я ни разу не ответила дону Фернандо ни малейшим словом,
из которого он мог бы вывести хотя бы самую отдаленную надежду на исполнение
своих желаний. Все эти предосторожности с моей стороны, которые он, должно
быть, принял за пренебрежение, только еще более разожгли его чувственные
вожделения,-- иначе я не могу назвать любовь, которую он мне выказывал и о
которой, если бы она была тем, чем должна была быть, вы ничего не узнали бы
теперь, потому что у меня не было бы повода рассказывать вам о ней. Словом,
дон Фернандо узнал, что мои родители собираются выдать меня замуж с целью
отнять у него всякую надежду обладать мною или же, по крайней мере, дать мне
еще больше защитников, чтобы оберегать меня. Это известие или предположение
вызвали, с его стороны, поступок, о котором вы сейчас услышите. Однажды
ночью, когда я находилась в своей спальне только с девушкой, прислуживавшей
мне, двери были крепко заперты на замок из опасения, чтобы вследствие
небрежности честь моя не подверглась бы какой-либо опасности, -- не знаю и
не могу себе представить, как, среди всех этих предосторожностей, вдруг в
уединении и тишине моего убежища, дон Фернандо очутился передо мной. Вид его
так меня смутил, что в моих глазах померк свет, язык мой онемел, я не была в
состоянии крикнуть, хотя, думаю, что он и не допустил бы меня сделать это,
так как он поспешно бросился ко мне и, схватив в свои объятья, -- потому
что, повторяю, у меня не было сил защищаться, до того я была смущена, --
начал убеждать меня такими доводами, что я понять не могу, как возможно,
чтобы ложь обладала столь великим искусством и сумела придать им облик
правды. Вместе с этим изменник подтверждал свои слова слезами и свои
намерения вздохами. Я, бедняжка, выросшая в родительском доме одна,
совершенно неопытная в подобного рода делах, стала, не знаю каким образом,
принимать за истину все эти лживые уверения, но не в такой степени, чтобы
его слезы и вздохи вызвали во мне какое-либо иное чувство, кроме чувства
простого сострадания. Итак, несколько оправившись от первого потрясения и
испуга, я кое-как собралась с духом и с большим мужеством, чем сама ожидала,
сказала:
-- Сеньор, если бы, подобно тому как теперь ты держишь меня в объятьях,
я находилась в когтях у разъяренного льва и знала, что могу освободиться от
них, сделав или сказав что-либо в ущерб моей чести, -- мне так же невозможно
было бы сказать и сделать это, как невозможно, чтобы прошлое перестало быть
им; итак, если ты обхватил мое тело своими руками, я крепко обхватила душу
свою добрыми намерениями, а насколько они разнятся от твоих, ты увидишь,
если вздумаешь пустить в ход силу для достижения твоих желаний.
Я твоя вассалка, но не твоя раба. Знатность твоего рода не дает и не
может дать тебе власть бесчестить или оскорблять скромность моего рода; и я
себя -- простолюдинку и крестьянку -- ценю не ниже тебя, знаменитого
дворянина и кабальеро. Силой ты со мной ничего не достигнешь, богатство твое
не имеет для меня значения, слова твои не могут меня обмануть, вздохи и
слезы не могут тронуть. Если бы я хотя что-нибудь из всего, только что
перечисленного мною, нашла в том, кого родители мои предложили бы мне в
мужья, я свою волю согласовала бы с его волей и никогда не уклонилась бы от
нее, так что, сохранив свою честь, я даже и против влечения сердца
добровольно отдала бы ему то, чего ты, сеньор, желал бы добиться теперь
силой. Все это я говорю, чтобы ты и не думал получить что-либо от меня иначе
как в качестве законного моего супруга.
-- Если все препятствие только в этом, прекраснейшая Доротеа (так зовут
меня несчастную), -- сказал вероломный кабальеро, -- смотри, вот тебе рука
моя, что я буду твоим, а в свидетели этой истины я призываю небо, от
которого ничто не может быть скрыто, и этот образ Пресвятой Девы, стоящий
здесь у тебя.
Когда Карденио услышал, что ее зовут Доротеей, он опять вздрогнул и
окончательно убедился в справедливости первоначальной своей догадки, но, не
желая прерывать рассказа, чтобы увидеть, чем кончится то, что он почти уже
знал, он сказал только:
-- Как, сеньора, тебя зовут Доротеей? Я слышал о другой девушке,
которую звали также, и несчастная судьба ее была, кажется, похожа на твою
судьбу. Но продолжай, придет время, и я расскажу тебе вещи, которые возбудят
в тебе в такой же мере изумление, как и сострадание.
Эти слова Карденио обратили внимание Доротеи, так же как и его
странная, вся изорванная одежда, и она попросила его, если ему что-либо
известно о ее делах, тотчас же сообщить ей, потому что единственно хорошее,
оставленное ей судьбой, -- это мужество перенести всякое несчастие, какое бы
на нее ни обрушилось, в уверенности, что ничего такого не может случиться,
что хоть сколько-нибудь усилило бы ее теперешнее горе.
-- Я бы не преминул сказать тебе, сеньора, то, что я думаю, -- ответил
Карденио, -- если бы был уверен, что мое предположение истинно, но пока к
этому у меня нет оснований, да тебе и не столь важно знать о том.
-- Будь что будет, -- ответила Доротеа, -- а в моем рассказе было то,
что дон Фернандо взял икону, бывшую у меня в спальне, и поставил ее перед
нами в свидетели нашего брака и в самых пламенных выражениях, самыми
торжественными клятвами дал мне слово сделаться моим мужем, хотя я, прежде
чем он успел договорить, просила его хорошенько обдумать, что он делает, и
помнить о гневе его отца, когда тот узнает, что его сын женился на простой
крестьянке, своей вассалке; я говорила ему, чтобы он не допускал себя
ослепляться моей красотой, такой, какая она есть, потому что она
недостаточно велика, чтобы служить оправданием его заблуждению. Если же он
желает сделать мне хоть сколько-нибудь добра, ради любви, которую ко мне
питает, пусть предоставит судьбе устроить меня соответственно моему
положению, потому что такие неравные браки никогда не бывают счастливы, и
увлечение, с которого они начинаются, продолжается недолго. Все, только что
сказанное, я говорила ему и тогда, и еще многое другое, чего теперь не
помню. Но все мои доводы и убеждения не могли отклонить его от принятого им
решения, подобно тому как человек, не имеющий в виду платить, не
останавливается ни перед какими затруднениями, чтобы заключить сделку.
Затем, быстро обсудив все это в уме, я сказала себе: "Не я буду первой,
которая путем брака перешла из скромного положения на высокую общественную
ступень, и дон Фернандо будет не первым, которого красота или -- что еще
вернее -- слепая любовь отодвинула избрать себе в подруги жизни девушку,
ниже его по происхождению. Но так как я своим согласием не внесу ничего
нового ни в мир, ни в обычаи, не лучше ли будет не отказываться мне от
чести, которую судьба преподносит мне, и, если бы даже страсть дона Фернандо
длилась лишь до той поры, пока его желание не получило удовлетворения, все
же я буду перед Богом его женой. Если ж, наоборот, я с презрением оттолкну
его теперь, он, насколько я вижу, в состоянии, презрев свой долг, прибегнуть
к силе, и тогда я окажусь обесчещенной и ни у кого не найду оправдания в
вине, которую всякий припишет мне, не зная, насколько я невинно попала в
такое положение, потому что какие доводы будут достаточны, чтоб убедить моих
родителей и других в том, что этот кабальеро вошел в мою спальню без моего
согласия? Все эти вопросы и ответы мгновенно пронеслись в уме, но более
всего побудили и склонили меня к тому, что случилось и что, хотя я этого не
думала, оказалось моею гибелью; клятвы дона Фернандо, свидетели, которых он
призывал, слезы, проливаемые им, и, наконец, изящная и привлекательная его
наружность, -- и все это, в соединении с столь многими признаками истинной
любви, могло бы победить и всякое другое, столь же свободное и неопытное
сердце, каким было мое. Я позвала свою служанку, чтобы она присоединила
свидетельство свое на земле к свидетельству небес. Дон Фернандо повторил и
подтвердил в ее присутствии свои клятвы, призывая в свидетели, кроме
прежних, еще новых святых, а на свою голову обрушивал тысячи проклятий, если
он не исполнит того, что обещает мне. Снова глаза его наполнились слезами,
вздохи усилились, он еще крепче сжал меня в своих объятьях, из которых все
время не выпускал меня; и, после того как из комнаты вышла моя девушка, я
перестала ею быть, а он сделался клятвопреступником и изменником.
Тогда они еще ближе подошли к ней, и священник, взяв ее за руку сказал:
-- То, что ваша одежда, сеньора, скрывает от нас, ваши волосы выдали
нам. Без сомнения, немаловажные причины побудили вас нарядить вашу красоту в
такую недостойную ее одежду и привели вас в эту пустынную местность, где мы
имели счастье встретить вас, если и не для того чтобы облегчить ваши
страдания, то по крайней мере для того, чтобы дать вам совет: потому что
никакое несчастье не может привести в такое уныние и дойти до такого предела
-- пока еще не угасла жизнь, -- чтобы тот, кто терпит бедствие, отказался бы
выслушать даже совет, данный ему с добрым намерением. Так что, сеньора моя,
или сеньор мой, или чем бы вы ни желали быть, отбросьте страх, вызванный в
вас нашим появлением, и расскажите нам о вашей счастливой или несчастной
судьбе, так как во всех нас вместе и в каждом в отдельности вы найдете
участие к вам в вашем горе.
Пока священник говорил таким образом, переодетая девушка стояла как
вкопанная и глядела на всех, не шевельнув губами и не произнеся ни слова,
совершенно точно деревенский парень, которому неожиданно показывают
редкостные и никогда им не виданные вещи. Но после того как священник
вторично обратился к ней, продолжая убеждать ее все в том же направлении,
она глубоко вздохнула и прервала наконец свое молчание:
-- Если уединение этих гор не было в состоянии скрыть меня от
посторонних взоров, а распустившиеся мои волосы не дозволяют языку моему
сказать ложь, напрасно стала бы я теперь снова притворяться в том, чему вы
могли бы поверить скорее из вежливости, чем по каким-либо другим
соображениям. Раз это так, сеньоры, позвольте мне прежде всего поблагодарить
вас за сделанное мне вами предложение, обязывающее меня исполнить все то, о
чем вы меня просите; хотя я и боюсь, что рассказ о моих несчастиях рядом с
состраданием вызовет в вас и огорчение, так как у вас не найдется ни
средства помочь моему горю, ни утешения, чтобы облегчить его; но тем не
менее, опасаясь, что честь моя может пострадать в ваших глазах, раз вы уже
открыли, что я женщина и видите меня молодую, одну и в такой одежде --
обстоятельства, которые все вместе взятые и каждое в отдельности, могли бы
запятнать любую женскую репутацию, -- мне приходится сказать вам то, о чем
бы я хотела лучше умолчать, если б могла.
Все это она, оказавшаяся столь красивой женщиной, проговорила без
запинки, так убедительно и таким нежным голосом, что слушатели ее были не
менее восхищены изяществом ее речи, чем ее красотой. Они опять стали
предлагать ей свои услуги и повторили просьбу исполнить обещанное, после
чего она, не заставляя себя дольше просить, очень скромно обулась, привела в
порядок волосы и уселась на камне, вокруг которого расположились трое ее
слушателей. Сделав усилие над собой, чтобы удержать слезы, набегавшие ей на
глаза, она спокойным и внятным голосом принялась рассказывать историю своей
жизни.
-- Здесь, в Андалузии, есть местечко, от которого один герцог получил
свой титул, что делает его одним из тех, кого называют в Испании грандами
{Испанским грандом делался в былые времена в Испании без дальнейших
церемоний или заслуг дворянин, которому король скажет: "Cubraos", т. е.
"Наденьте шляпу на голову". При Сервантесе и в настоящее время все гранды
равны, но первоначально они делились на три разряда: надевавшие шляпу на
голову в присутствии короля, прежде чем король говорил с ними, надевавшие ее
после того и остававшиеся с непокрытой головой до тех пор, пока он не
заговорит с ними и они не ответят ему.}. У него два сына: старший, наследник
его титула и, по-видимому, также и добрых его качеств, а младший, наследник
чего не знаю, разве только предательства Велидо и низости Галалона {Велидо и
Галалон -- два величайших предателя и изменника, часто фигурирующие в
испанских романах.}. Родители мои -- вассалы этого герцога; по происхождению
они простолюдины, но так богаты, что если бы их родовитость равнялась их
состоянию, то им не оставалось бы ничего большего желать и я не имела бы
причины опасаться увидеть себя в том грустном положении, в котором я теперь
нахожусь, так как, быть может, мое несчастье вытекает именно из скромности
происхождения моих родителей. Правда, происхождение их не столь низкое,
чтобы можно было стыдиться его, но и не столь высокое, чтобы я могла изгнать
из своей головы мысль, будто несчастье мое коренится в том, что мы не
родовитые дворяне. Коротко говоря, родители мои -- земледельцы, люди
простые, без всякой примеси дурной крови и, как принято говорить, христиане
древнего закала {Т. е. без примеси мавританской или еврейской крови.}, но
они такие богачи, что их богатство и роскошный образ жизни мало-помалу
приобретают им звание идальго и даже кабальеро {Идальго -- означало в
Испании дворянина, человека благородного происхождения, каково бы ни было
занимаемое им положение; а кабальеро -- человека, хорошо поставленного как
по рождению, так и по занимаемому им положению. В старинные времена идальго
пользовались в Испании разными привилегиями и льготами. Теперь идальгия
потеряла всякое значение, но все считаются кабальеросами.}, хотя они ценили
выше всякого богатства и знатности то, что я их дочь. Так как я была
единственной их наследницей -- других детей у них не было, -- а они были
крайне нежными родителями, то я и росла самой балованной из всех балованных
дочерей в мире. Я была зеркалом, в котором они видели себя самих, поддержкой
их старости, целью, к которой одновременно с надеждой на милосердие неба
стремились все их желания, а с этими последними, так как я знала, что они
хороши, вполне совпадали и мои желания. Властвуя над расположением и душой
моих родителей, я точно так же властвовала и над их имуществом. Слуг наших
увольняла и нанимала я; счеты и отчеты того, что сеялось и собиралось,
проходили чрез мои руки; маслобойни, виноградные давильни, крупный и мелкий
скот, пчелиные улья, -- словом, все, что могло принадлежать и принадлежало
такому богатому земледельцу, каким был мой отец, находилось под моим
наблюдением. Я была управительницей и хозяйкой и, заботясь обо всем с
большим рвением, доставляла родителям моим такое удовольствие, что я не могу
достаточно нахвалиться этим. Свободные часы, остававшиеся у меня после того,
как я сделаю все нужные распоряжения по хозяйству старшим надсмотрщикам,
пастухам и поденщикам, я проводила в занятиях, которые столь же свойственны,
как и необходимы для молодых девушек, например, за шитьем, плетением кружев,
а нередко и за веретеном. И если иногда я оставляла эти занятия, чтобы
усладить мои мысли, я прибегала к чтению какой-нибудь назидательной книги
или к игре на арфе, потому что опыт показал мне, что музыка успокаивает
взволнованную душу и дает отдых утомленному уму. Вот та жизнь, которую я
вела в доме моих родителей, и если я так подробно рассказала вам о ней, то
сделала это не из чванства и не из желания дать вам понять, что я богата, --
а чтобы вы видели, как без вины с моей стороны я из столь счастливого
положения попала в плачевное состояние, в котором нахожусь теперь. Дело в
том, что, проводя жизнь среди стольких занятий и в таком уединении, что его
можно было бы сравнить с монастырским затворничеством, я думала, что никто,
кроме домашних, не видит меня, потому что в те дни, когда я ходила к обедне,
я всегда это делала ранним утром и не иначе как в сопровождении матери и
нескольких служанок, до того закутанная и закрытая густою вуалью, что глаза
мои едва могли видеть лишь тот клочок земли, на который я ступала ногами.
Тем не менее глаза любви, или, вернее, праздности, -- еще более
проницательные, чем глаза рыси, -- выследили меня: за мной стал ухаживать
дон Фернандо; так назывался младший сын герцога, о котором я вам говорила.
Едва та, что рассказывала свою историю, произнесла имя дона Фернандо, как
вдруг Карденио переменился в лице, и капли холодного пота, вызванные сильным
волнением, выступили у него на лбу, так что священник и цирюльник, взглянув
на него, стали опасаться, чтобы с ним не случился один из тех припадков
бешенства, которые, как они слышали, по временам бывали у него. Но Карденио,
весь дрожа и видимо волнуясь, продолжал молчать, пристально устремив глаза
на крестьянскую девушку, так как он уже догадывался, кто она такая. Не
замечая волнения Карденио, она продолжала свой рассказ, говоря:
-- Едва дон Фернандо увидел меня, как он тотчас же -- судя по тому, что
он потом говорил, -- запылал ко мне страстною любовью, о чем не замедлили
свидетельствовать и его поступки. Но чтобы поскорее кончить повесть о моих
злоключениях, обойду лучше молчанием хитрости, к которым прибегал дон
Фернандо, чтобы открыть мне свою любовь. Он подкупил всю нашу прислугу,
давал и предлагал моим родственникам подарки и вознаграждения. Днем на нашей
улице шли беспрерывные празднества и увеселения, ночью никто не мог уснуть
из-за серенад; записки, которые, не знаю каким образом, попадали в мои руки,
были бесчисленны и наполнены объяснениями и предложениями любви,
заключавшими в себе больше обещаний и клятв, чем было в них букв. Но все это
не только не смягчало меня, а, наоборот, скорее ожесточало так, как будто он
мне был смертельным врагом, и все его старания подчинить меня своим желаниям
имели лишь обратное действие. Не потому чтобы он сам или его ухаживания мне
не нравились, напротив, я чувствовала какое-то, не знаю, особенное
удовольствие, видя, что столь знатный кабальеро так сильно любит и ценит
меня, и я не оскорблялась, читая в его письмах похвалы себе, потому что в
этом отношении, я думаю, что нам, женщинам, как бы мы ни были некрасивы,
всегда приятно слышать, что нас называют красивыми; но от происков дона
Фернандо меня охраняла моя скромность и беспрестанные советы моих родителей,
слишком ясно видевших намерения дона Фернандо, так как и сам он не давал
себе труда скрывать их перед кем бы то ни было. Мои родители говорили мне,
что поручают и доверяют свою честь и доброе имя только лишь моей добродетели
и правдивости и просили меня принять во внимание неравенство между мной и
доном Фернандо, из чего я могу видеть, что намерения его, хотя бы он и
уверял в противном, направлены больше к его удовольствию, чем к моей пользе,
и, если я желаю каким бы то ни было образом положить конец оскорбительному
его ухаживанью за мной, они готовы выдать меня тотчас же замуж, по моему
выбору, за одного из самых почетных лиц из нашего местечка или же из
окрестностей, так как они в праве рассчитывать на все при большом их
состоянии и моей доброй славе. Эти положительные обещания моих родителей и
уверенность в полной справедливости их слов еще более укрепила меня в моей
решимости, так что я ни разу не ответила дону Фернандо ни малейшим словом,
из которого он мог бы вывести хотя бы самую отдаленную надежду на исполнение
своих желаний. Все эти предосторожности с моей стороны, которые он, должно
быть, принял за пренебрежение, только еще более разожгли его чувственные
вожделения,-- иначе я не могу назвать любовь, которую он мне выказывал и о
которой, если бы она была тем, чем должна была быть, вы ничего не узнали бы
теперь, потому что у меня не было бы повода рассказывать вам о ней. Словом,
дон Фернандо узнал, что мои родители собираются выдать меня замуж с целью
отнять у него всякую надежду обладать мною или же, по крайней мере, дать мне
еще больше защитников, чтобы оберегать меня. Это известие или предположение
вызвали, с его стороны, поступок, о котором вы сейчас услышите. Однажды
ночью, когда я находилась в своей спальне только с девушкой, прислуживавшей
мне, двери были крепко заперты на замок из опасения, чтобы вследствие
небрежности честь моя не подверглась бы какой-либо опасности, -- не знаю и
не могу себе представить, как, среди всех этих предосторожностей, вдруг в
уединении и тишине моего убежища, дон Фернандо очутился передо мной. Вид его
так меня смутил, что в моих глазах померк свет, язык мой онемел, я не была в
состоянии крикнуть, хотя, думаю, что он и не допустил бы меня сделать это,
так как он поспешно бросился ко мне и, схватив в свои объятья, -- потому
что, повторяю, у меня не было сил защищаться, до того я была смущена, --
начал убеждать меня такими доводами, что я понять не могу, как возможно,
чтобы ложь обладала столь великим искусством и сумела придать им облик
правды. Вместе с этим изменник подтверждал свои слова слезами и свои
намерения вздохами. Я, бедняжка, выросшая в родительском доме одна,
совершенно неопытная в подобного рода делах, стала, не знаю каким образом,
принимать за истину все эти лживые уверения, но не в такой степени, чтобы
его слезы и вздохи вызвали во мне какое-либо иное чувство, кроме чувства
простого сострадания. Итак, несколько оправившись от первого потрясения и
испуга, я кое-как собралась с духом и с большим мужеством, чем сама ожидала,
сказала:
-- Сеньор, если бы, подобно тому как теперь ты держишь меня в объятьях,
я находилась в когтях у разъяренного льва и знала, что могу освободиться от
них, сделав или сказав что-либо в ущерб моей чести, -- мне так же невозможно
было бы сказать и сделать это, как невозможно, чтобы прошлое перестало быть
им; итак, если ты обхватил мое тело своими руками, я крепко обхватила душу
свою добрыми намерениями, а насколько они разнятся от твоих, ты увидишь,
если вздумаешь пустить в ход силу для достижения твоих желаний.
Я твоя вассалка, но не твоя раба. Знатность твоего рода не дает и не
может дать тебе власть бесчестить или оскорблять скромность моего рода; и я
себя -- простолюдинку и крестьянку -- ценю не ниже тебя, знаменитого
дворянина и кабальеро. Силой ты со мной ничего не достигнешь, богатство твое
не имеет для меня значения, слова твои не могут меня обмануть, вздохи и
слезы не могут тронуть. Если бы я хотя что-нибудь из всего, только что
перечисленного мною, нашла в том, кого родители мои предложили бы мне в
мужья, я свою волю согласовала бы с его волей и никогда не уклонилась бы от
нее, так что, сохранив свою честь, я даже и против влечения сердца
добровольно отдала бы ему то, чего ты, сеньор, желал бы добиться теперь
силой. Все это я говорю, чтобы ты и не думал получить что-либо от меня иначе
как в качестве законного моего супруга.
-- Если все препятствие только в этом, прекраснейшая Доротеа (так зовут
меня несчастную), -- сказал вероломный кабальеро, -- смотри, вот тебе рука
моя, что я буду твоим, а в свидетели этой истины я призываю небо, от
которого ничто не может быть скрыто, и этот образ Пресвятой Девы, стоящий
здесь у тебя.
Когда Карденио услышал, что ее зовут Доротеей, он опять вздрогнул и
окончательно убедился в справедливости первоначальной своей догадки, но, не
желая прерывать рассказа, чтобы увидеть, чем кончится то, что он почти уже
знал, он сказал только:
-- Как, сеньора, тебя зовут Доротеей? Я слышал о другой девушке,
которую звали также, и несчастная судьба ее была, кажется, похожа на твою
судьбу. Но продолжай, придет время, и я расскажу тебе вещи, которые возбудят
в тебе в такой же мере изумление, как и сострадание.
Эти слова Карденио обратили внимание Доротеи, так же как и его
странная, вся изорванная одежда, и она попросила его, если ему что-либо
известно о ее делах, тотчас же сообщить ей, потому что единственно хорошее,
оставленное ей судьбой, -- это мужество перенести всякое несчастие, какое бы
на нее ни обрушилось, в уверенности, что ничего такого не может случиться,
что хоть сколько-нибудь усилило бы ее теперешнее горе.
-- Я бы не преминул сказать тебе, сеньора, то, что я думаю, -- ответил
Карденио, -- если бы был уверен, что мое предположение истинно, но пока к
этому у меня нет оснований, да тебе и не столь важно знать о том.
-- Будь что будет, -- ответила Доротеа, -- а в моем рассказе было то,
что дон Фернандо взял икону, бывшую у меня в спальне, и поставил ее перед
нами в свидетели нашего брака и в самых пламенных выражениях, самыми
торжественными клятвами дал мне слово сделаться моим мужем, хотя я, прежде
чем он успел договорить, просила его хорошенько обдумать, что он делает, и
помнить о гневе его отца, когда тот узнает, что его сын женился на простой
крестьянке, своей вассалке; я говорила ему, чтобы он не допускал себя
ослепляться моей красотой, такой, какая она есть, потому что она
недостаточно велика, чтобы служить оправданием его заблуждению. Если же он
желает сделать мне хоть сколько-нибудь добра, ради любви, которую ко мне
питает, пусть предоставит судьбе устроить меня соответственно моему
положению, потому что такие неравные браки никогда не бывают счастливы, и
увлечение, с которого они начинаются, продолжается недолго. Все, только что
сказанное, я говорила ему и тогда, и еще многое другое, чего теперь не
помню. Но все мои доводы и убеждения не могли отклонить его от принятого им
решения, подобно тому как человек, не имеющий в виду платить, не
останавливается ни перед какими затруднениями, чтобы заключить сделку.
Затем, быстро обсудив все это в уме, я сказала себе: "Не я буду первой,
которая путем брака перешла из скромного положения на высокую общественную
ступень, и дон Фернандо будет не первым, которого красота или -- что еще
вернее -- слепая любовь отодвинула избрать себе в подруги жизни девушку,
ниже его по происхождению. Но так как я своим согласием не внесу ничего
нового ни в мир, ни в обычаи, не лучше ли будет не отказываться мне от
чести, которую судьба преподносит мне, и, если бы даже страсть дона Фернандо
длилась лишь до той поры, пока его желание не получило удовлетворения, все
же я буду перед Богом его женой. Если ж, наоборот, я с презрением оттолкну
его теперь, он, насколько я вижу, в состоянии, презрев свой долг, прибегнуть
к силе, и тогда я окажусь обесчещенной и ни у кого не найду оправдания в
вине, которую всякий припишет мне, не зная, насколько я невинно попала в
такое положение, потому что какие доводы будут достаточны, чтоб убедить моих
родителей и других в том, что этот кабальеро вошел в мою спальню без моего
согласия? Все эти вопросы и ответы мгновенно пронеслись в уме, но более
всего побудили и склонили меня к тому, что случилось и что, хотя я этого не
думала, оказалось моею гибелью; клятвы дона Фернандо, свидетели, которых он
призывал, слезы, проливаемые им, и, наконец, изящная и привлекательная его
наружность, -- и все это, в соединении с столь многими признаками истинной
любви, могло бы победить и всякое другое, столь же свободное и неопытное
сердце, каким было мое. Я позвала свою служанку, чтобы она присоединила
свидетельство свое на земле к свидетельству небес. Дон Фернандо повторил и
подтвердил в ее присутствии свои клятвы, призывая в свидетели, кроме
прежних, еще новых святых, а на свою голову обрушивал тысячи проклятий, если
он не исполнит того, что обещает мне. Снова глаза его наполнились слезами,
вздохи усилились, он еще крепче сжал меня в своих объятьях, из которых все
время не выпускал меня; и, после того как из комнаты вышла моя девушка, я
перестала ею быть, а он сделался клятвопреступником и изменником.
 День, последовавший за ночью моего несчастья, не настал, однако, так
скоро, как, мне думается, того желал дон Фернандо, потому что, удовлетворив
свое вожделение, нет большего желания, как удалиться оттуда, где это
произошло. Говорю так оттого, что дон Фернандо поторопился расстаться со
мной, и с помощью той же служанки, которая провела его в мою комнату, он еще
до рассвета очутился на улице. Прощаясь со мной, хотя уже менее горячо и
страстно, чем когда пришел, дон Фернандо сказал, чтобы я не сомневалась в
его верности и в непреложности и истине его клятв, и для большего
подтверждения своего слова, он снял с пальца дорогое кольцо и надел его на
мой палец. После того он ушел, а я осталась, -- не знаю, печальная ли или
веселая, -- знаю только, что я была задумчива, смущена и почти вне себя от
неожиданного события и что у меня не хватило духа или же я забыла выбранить
мою служанку за предательство, в котором она оказалась повинной, спрятав
дона Фернандо у меня в спальне; я еще сама не знала, было ли то, что
случилось, моим счастьем или несчастьем. Прощаясь с доном Фернандо, я
сказала, что теперь, когда я принадлежу ему, он может тем же способом и в
другие ночи видеться со мной до тех пор, пока не пожелает огласить
случившееся. Но дон Фернандо пришел только лишь в следующую ночь и больше
уже не являлся, и я не могла его видеть ни на улице, ни в церкви в течение
более чем месяца, тщетно домогаясь встретиться с ним, хотя я знала, что он в
городе и часто бывает на охоте, -- одно из любимых его занятий. Те дни и
часы, -- хорошо знаю я, как тяжки и горьки были они для меня, и хорошо знаю,
что тогда же я стала сомневаться и терять веру в дона Фернандо, знаю также,
что моя служанка услышала в те дни упреки за свою дерзость, которых до тех
пор не слышала от меня, и знаю еще, каких усилий мне стоило сдерживать слезы
и казаться веселой, чтобы не дать родителям моим повода спрашивать о причине
моего огорчения и не быть вынужденной отвечать им ложью. Но все это внезапно
кончилось, когда случилось то, что уничтожило во мне всякую сдержанность и
всякие соображения о чести и осторожности, что истощило мое терпение и
принудило вырваться наружу все мои тайные мысли; а случилось то, что вскоре
прошел в нашем местечке слух, будто дон Фернандо женился в соседнем городе
на девушке необычайной красоты и очень знатного рода, хотя и не настолько
богатой, чтобы по своему приданому она могла рассчитывать на такую блестящую
для себя партию. Говорили, что зовут ее Люсиндой и рассказывали об
удивительных обстоятельствах, приключившихся во время ее венчания.
Услыхав имя Люсинды, Карденио только пожал плечами, закусил губы,
нахмурил брови, и из глаз его полились ручьи слез. Но это не остановило
Доротею, и она продолжала свой рассказ, говоря:
-- Печальная эта новость дошла до моего слуха, но сердце мое вместо
того, чтобы застыть от ужаса, загорелось таким бешенством и гневом, что я
едва не выбежала на улицу, возглашая громким криком об измене и низости,
жертвой которой я сделалась. Но я сдержала временно свое бешенство,
решившись на то, что и привела в исполнение в туже ночь, именно: я надела на
себя вот эту одежду, которую мне дал один из младших пастухов, служивших у
моего отца, открыла ему все мое несчастие и просила его проводить до города,
где, как я слышала, находился мой враг. Хотя и не одобряя моего
безрассудства и порицая мое решение, но убедившись, что я не отступлю от
своего намерения, пастух предложил идти со мной, как он выразился, до края
света.
Тотчас же уложила я в полотняную наволочку женское платье, некоторые
драгоценности и немного денег на всякий случай и в ночной тишине, не сказав
ничего вероломной своей служанке, покинула родительский дом, сопровождаемая
моим слугой и многими тяжкими мыслями. Я направилась в город пешком,
окрыленная желанием прибыть туда если не с целью расстроить то, что я
считала уже совершившимся, но, по крайней мере, чтобы спросить дона
Фернандо, как у него хватило духа на такой поступок? Через два с половиною
дня я дошла, куда желала, и, входя в город, спросила, где живут родители
Люсинды, и первый встречный, к которому я обратилась с этим вопросом,
сообщил больше, чем я желала слышать. Он показал мне дом родителей Люсинды и
рассказал все, что случилось во время венчания их дочери, -- событие, до
того общеизвестное в городе, что на перекрестках улиц толпами собираются
поболтать об этом. Рассказал он, будто в ту ночь, когда дон Фернандо был
обвенчан с Люсиндой, после того, как она произнесла да, выражавшее ее
согласие сделаться его женой, она упала в глубокий обморок, а когда жених
подошел к ней расшнуровать ей платье, чтобы она могла лучше дышать, он нашел
письмо, написанное собственноручно Люсиндой, в котором она говорила и
объявляла, что не может быть женой дона Фернандо, потому что она уже жена
Карденио -- очень знатного кабальеро из того же города, как сообщил мне тот
человек, и если она дала свое согласие дону Фернандо, то лишь только потому,
чтобы не выйти из должного повиновения своим родителям. Наконец он еще
сообщил, что в письме заключались и слова, дававшие ясно понять, что она
имеет намерение убить себя тотчас же после венчания, и приводила также и
причины, вынуждавшие ее к самоубийству. Все это, говорят, подтвердил и
кинжал, найденный, не знаю, где-то у нее в платье. Когда дон Фернандо все
это увидел, он, думая, что Люсинда обманула его, унизила и насмеялась над
ним, бросился к ней прежде, чем она очнулась от обморока, и тем же найденным
у нее кинжалом хотел заколоть ее и сделал бы это, если б ее родители и
другие присутствовавшие не удержали его. Кроме того, рассказывали еще, что
дон Фернандо тотчас же уехал, а Люсинда пришла в себя от своего обморока
только на следующий день и объявила отцу и матери, что она действительно
жена того Карденио, о котором я вам говорила. И еще я узнала, что Карденио
будто бы присутствовал при венчании Люсинды и, увидав ее повенчанной -- чему
бы он никогда не поверил, -- в отчаянии бежал из города, оставив письмо, в
котором выяснял, какое оскорбление нанесла ему Люсинда, и что теперь он
уходит туда, где ни один людской глаз не увидит его. Все это было известно
всем, и все в городе говорили об этом и еще больше заговорили, когда
разнеслась весть, что Люсинда исчезла из родительского дома и из города и ее
нигде не могли найти, вследствие чего отец и мать ее чуть не сошли с ума, и
не знали, каким путем и способом разыскать ее. Все эти известия вновь
воскресили мои надежды, и я сочла лучше для себя не найти дона Фернандо, чем
найти его женатым, так как мне казалось, что еще не совсем закрыта дверь к
моему спасению, и я мечтала: быть может, небо поставило это препятствие
второму браку дона Фернандо, чтобы напомнить ему о его обязанностях к
первому браку и заставить подумать о том, что он христианин и скорее должен
принять во внимание благо своей души, чем земные расчеты. Все эти мысли
вращались в моем уме, и я себя утешала, не находя утешения, и грезила
отдаленными и обманчивыми надеждами, чтобы поддержать жизнь, к которой
теперь чувствую отвращение. Когда я еще была в городе, не зная, что делать,
так как я не находила дона Фернандо, вдруг до слуха моего достигло
объявление через уличного глашатая, в котором обещалась значительная награда
тому, кто меня найдет, и с точностью описывались мой возраст и бывшая на мне
одежда; и я слышала, что говорили, будто слуга, находившийся со мною,
похитил меня из родительского дома. Это поразило меня прямо в сердце, так
как я увидела, до чего опорочена моя репутация: мало того что я ее уронила
своим бегством, но еще прибавляли, с кем я бежала, -- с человеком, столь
низко поставленным и столь недостойным моего выбора. Как только я услышала
это уличное объявление, тотчас же покинула я город с моим слугой, уже
начинавшим выказывать некоторые признаки колебания в обещанной им мне
верности, и в ту же ночь, опасаясь быть узнанными, мы с ним пробрались в
самую глубь этих гор. Но как принято говорить: одна беда ведет другую, и
конец одного несчастья обыкновенно бывает началом другого, еще большего. Так
случилось и со мной, потому что добрый мой слуга, верный и преданный до тех
пор, лишь только увидел меня в таком уединении, возбужденный скорее
собственною низостью, чем моей красотой, захотел воспользоваться случаем,
который, по его мнению, представляла ему эта пустыня; и, забыв стыд, а еще
больше страх божий и уважение ко мне, стал домогаться моей любви, но,
увидав, что я отвечаю на его бесчестные предложения строгими и справедливыми
укорами, он бросил упрашивания, которыми сначала надеялся достигнуть своего,
и прибег к силе. Однако справедливое небо, которое редко или же никогда не
отказывает в помощи и покровительстве добрым намерениям, благоприятствовало
и моим, так что я со слабыми своими силами без большого труда столкнула
негодяя в пропасть, где и оставила его, не знаю, живого или мертвого. И
тотчас же, быстрее, чем, казалось, испуг и утомление могли мне позволить, я
углубилась дальше в эти горы без всякой иной мысли и иного намерения, как
только скрыться в них и бежать от моего отца и всех тех, кто был послан им
разыскивать меня.
День, последовавший за ночью моего несчастья, не настал, однако, так
скоро, как, мне думается, того желал дон Фернандо, потому что, удовлетворив
свое вожделение, нет большего желания, как удалиться оттуда, где это
произошло. Говорю так оттого, что дон Фернандо поторопился расстаться со
мной, и с помощью той же служанки, которая провела его в мою комнату, он еще
до рассвета очутился на улице. Прощаясь со мной, хотя уже менее горячо и
страстно, чем когда пришел, дон Фернандо сказал, чтобы я не сомневалась в
его верности и в непреложности и истине его клятв, и для большего
подтверждения своего слова, он снял с пальца дорогое кольцо и надел его на
мой палец. После того он ушел, а я осталась, -- не знаю, печальная ли или
веселая, -- знаю только, что я была задумчива, смущена и почти вне себя от
неожиданного события и что у меня не хватило духа или же я забыла выбранить
мою служанку за предательство, в котором она оказалась повинной, спрятав
дона Фернандо у меня в спальне; я еще сама не знала, было ли то, что
случилось, моим счастьем или несчастьем. Прощаясь с доном Фернандо, я
сказала, что теперь, когда я принадлежу ему, он может тем же способом и в
другие ночи видеться со мной до тех пор, пока не пожелает огласить
случившееся. Но дон Фернандо пришел только лишь в следующую ночь и больше
уже не являлся, и я не могла его видеть ни на улице, ни в церкви в течение
более чем месяца, тщетно домогаясь встретиться с ним, хотя я знала, что он в
городе и часто бывает на охоте, -- одно из любимых его занятий. Те дни и
часы, -- хорошо знаю я, как тяжки и горьки были они для меня, и хорошо знаю,
что тогда же я стала сомневаться и терять веру в дона Фернандо, знаю также,
что моя служанка услышала в те дни упреки за свою дерзость, которых до тех
пор не слышала от меня, и знаю еще, каких усилий мне стоило сдерживать слезы
и казаться веселой, чтобы не дать родителям моим повода спрашивать о причине
моего огорчения и не быть вынужденной отвечать им ложью. Но все это внезапно
кончилось, когда случилось то, что уничтожило во мне всякую сдержанность и
всякие соображения о чести и осторожности, что истощило мое терпение и
принудило вырваться наружу все мои тайные мысли; а случилось то, что вскоре
прошел в нашем местечке слух, будто дон Фернандо женился в соседнем городе
на девушке необычайной красоты и очень знатного рода, хотя и не настолько
богатой, чтобы по своему приданому она могла рассчитывать на такую блестящую
для себя партию. Говорили, что зовут ее Люсиндой и рассказывали об
удивительных обстоятельствах, приключившихся во время ее венчания.
Услыхав имя Люсинды, Карденио только пожал плечами, закусил губы,
нахмурил брови, и из глаз его полились ручьи слез. Но это не остановило
Доротею, и она продолжала свой рассказ, говоря:
-- Печальная эта новость дошла до моего слуха, но сердце мое вместо
того, чтобы застыть от ужаса, загорелось таким бешенством и гневом, что я
едва не выбежала на улицу, возглашая громким криком об измене и низости,
жертвой которой я сделалась. Но я сдержала временно свое бешенство,
решившись на то, что и привела в исполнение в туже ночь, именно: я надела на
себя вот эту одежду, которую мне дал один из младших пастухов, служивших у
моего отца, открыла ему все мое несчастие и просила его проводить до города,
где, как я слышала, находился мой враг. Хотя и не одобряя моего
безрассудства и порицая мое решение, но убедившись, что я не отступлю от
своего намерения, пастух предложил идти со мной, как он выразился, до края
света.
Тотчас же уложила я в полотняную наволочку женское платье, некоторые
драгоценности и немного денег на всякий случай и в ночной тишине, не сказав
ничего вероломной своей служанке, покинула родительский дом, сопровождаемая
моим слугой и многими тяжкими мыслями. Я направилась в город пешком,
окрыленная желанием прибыть туда если не с целью расстроить то, что я
считала уже совершившимся, но, по крайней мере, чтобы спросить дона
Фернандо, как у него хватило духа на такой поступок? Через два с половиною
дня я дошла, куда желала, и, входя в город, спросила, где живут родители
Люсинды, и первый встречный, к которому я обратилась с этим вопросом,
сообщил больше, чем я желала слышать. Он показал мне дом родителей Люсинды и
рассказал все, что случилось во время венчания их дочери, -- событие, до
того общеизвестное в городе, что на перекрестках улиц толпами собираются
поболтать об этом. Рассказал он, будто в ту ночь, когда дон Фернандо был
обвенчан с Люсиндой, после того, как она произнесла да, выражавшее ее
согласие сделаться его женой, она упала в глубокий обморок, а когда жених
подошел к ней расшнуровать ей платье, чтобы она могла лучше дышать, он нашел
письмо, написанное собственноручно Люсиндой, в котором она говорила и
объявляла, что не может быть женой дона Фернандо, потому что она уже жена
Карденио -- очень знатного кабальеро из того же города, как сообщил мне тот
человек, и если она дала свое согласие дону Фернандо, то лишь только потому,
чтобы не выйти из должного повиновения своим родителям. Наконец он еще
сообщил, что в письме заключались и слова, дававшие ясно понять, что она
имеет намерение убить себя тотчас же после венчания, и приводила также и
причины, вынуждавшие ее к самоубийству. Все это, говорят, подтвердил и
кинжал, найденный, не знаю, где-то у нее в платье. Когда дон Фернандо все
это увидел, он, думая, что Люсинда обманула его, унизила и насмеялась над
ним, бросился к ней прежде, чем она очнулась от обморока, и тем же найденным
у нее кинжалом хотел заколоть ее и сделал бы это, если б ее родители и
другие присутствовавшие не удержали его. Кроме того, рассказывали еще, что
дон Фернандо тотчас же уехал, а Люсинда пришла в себя от своего обморока
только на следующий день и объявила отцу и матери, что она действительно
жена того Карденио, о котором я вам говорила. И еще я узнала, что Карденио
будто бы присутствовал при венчании Люсинды и, увидав ее повенчанной -- чему
бы он никогда не поверил, -- в отчаянии бежал из города, оставив письмо, в
котором выяснял, какое оскорбление нанесла ему Люсинда, и что теперь он
уходит туда, где ни один людской глаз не увидит его. Все это было известно
всем, и все в городе говорили об этом и еще больше заговорили, когда
разнеслась весть, что Люсинда исчезла из родительского дома и из города и ее
нигде не могли найти, вследствие чего отец и мать ее чуть не сошли с ума, и
не знали, каким путем и способом разыскать ее. Все эти известия вновь
воскресили мои надежды, и я сочла лучше для себя не найти дона Фернандо, чем
найти его женатым, так как мне казалось, что еще не совсем закрыта дверь к
моему спасению, и я мечтала: быть может, небо поставило это препятствие
второму браку дона Фернандо, чтобы напомнить ему о его обязанностях к
первому браку и заставить подумать о том, что он христианин и скорее должен
принять во внимание благо своей души, чем земные расчеты. Все эти мысли
вращались в моем уме, и я себя утешала, не находя утешения, и грезила
отдаленными и обманчивыми надеждами, чтобы поддержать жизнь, к которой
теперь чувствую отвращение. Когда я еще была в городе, не зная, что делать,
так как я не находила дона Фернандо, вдруг до слуха моего достигло
объявление через уличного глашатая, в котором обещалась значительная награда
тому, кто меня найдет, и с точностью описывались мой возраст и бывшая на мне
одежда; и я слышала, что говорили, будто слуга, находившийся со мною,
похитил меня из родительского дома. Это поразило меня прямо в сердце, так
как я увидела, до чего опорочена моя репутация: мало того что я ее уронила
своим бегством, но еще прибавляли, с кем я бежала, -- с человеком, столь
низко поставленным и столь недостойным моего выбора. Как только я услышала
это уличное объявление, тотчас же покинула я город с моим слугой, уже
начинавшим выказывать некоторые признаки колебания в обещанной им мне
верности, и в ту же ночь, опасаясь быть узнанными, мы с ним пробрались в
самую глубь этих гор. Но как принято говорить: одна беда ведет другую, и
конец одного несчастья обыкновенно бывает началом другого, еще большего. Так
случилось и со мной, потому что добрый мой слуга, верный и преданный до тех
пор, лишь только увидел меня в таком уединении, возбужденный скорее
собственною низостью, чем моей красотой, захотел воспользоваться случаем,
который, по его мнению, представляла ему эта пустыня; и, забыв стыд, а еще
больше страх божий и уважение ко мне, стал домогаться моей любви, но,
увидав, что я отвечаю на его бесчестные предложения строгими и справедливыми
укорами, он бросил упрашивания, которыми сначала надеялся достигнуть своего,
и прибег к силе. Однако справедливое небо, которое редко или же никогда не
отказывает в помощи и покровительстве добрым намерениям, благоприятствовало
и моим, так что я со слабыми своими силами без большого труда столкнула
негодяя в пропасть, где и оставила его, не знаю, живого или мертвого. И
тотчас же, быстрее, чем, казалось, испуг и утомление могли мне позволить, я
углубилась дальше в эти горы без всякой иной мысли и иного намерения, как
только скрыться в них и бежать от моего отца и всех тех, кто был послан им
разыскивать меня.
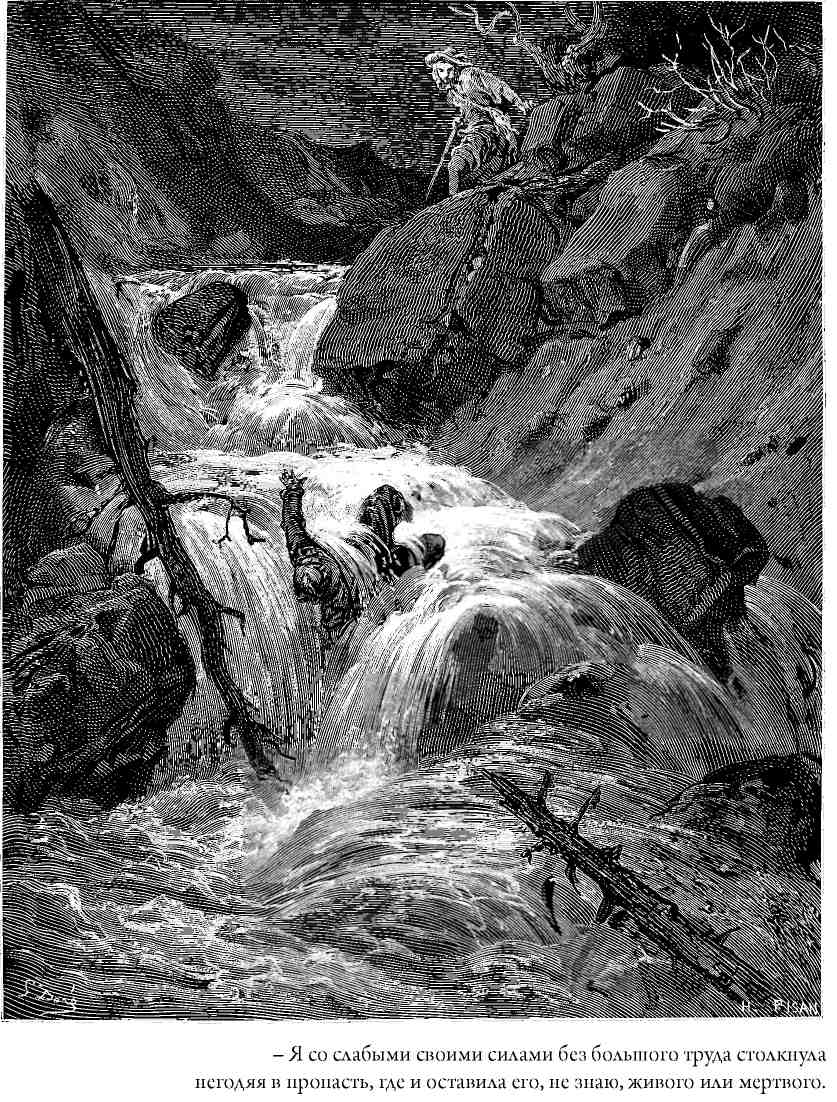 Не знаю, сколько месяцев пробыла я здесь, в этих горах, где я встретила
пастуха, который взял меня работником к себе в деревню, расположенную в
глуби этой горной цепи, и я все это время служила у него подпаском, стараясь
постоянно находиться в поле, чтобы скрыть эти волосы, которые сегодня так
неожиданно выдали меня. Но вся моя осторожность и мои старания ни к чему не
привели, так как хозяин мой, не знаю каким образом, проведал, что я не
мужчина, и в нем зародилась та же гнусная мысль, что и у моего слуги. И так
как судьба не всегда посылает рядом с бедой средство избежать ее, я не нашла
ни пропасти, ни обрыва, с которого могла бы сбросить хозяина и покончить с
ним, как покончила с моим слугой, -- поэтому я сочла за более удобное уйти
от него и снова скрыться среди этой пустынной местности, чем испытать над
ним силу или действие моих доводов. Итак, я вернулась опять сюда, в эту
лесную глушь, отыскивать место, где без всякой помехи я могла бы вздохами и
слезами просить небо сжалиться над моим несчастием и дать мне возможность и
средства избавиться от него или же расстаться с жизнью в этом пустынном
уединении, так чтобы не осталось даже и памяти о той несчастной, которая без
всякой своей вины подала повод к толкам и злословию о ней на родине и в
других странах.
Не знаю, сколько месяцев пробыла я здесь, в этих горах, где я встретила
пастуха, который взял меня работником к себе в деревню, расположенную в
глуби этой горной цепи, и я все это время служила у него подпаском, стараясь
постоянно находиться в поле, чтобы скрыть эти волосы, которые сегодня так
неожиданно выдали меня. Но вся моя осторожность и мои старания ни к чему не
привели, так как хозяин мой, не знаю каким образом, проведал, что я не
мужчина, и в нем зародилась та же гнусная мысль, что и у моего слуги. И так
как судьба не всегда посылает рядом с бедой средство избежать ее, я не нашла
ни пропасти, ни обрыва, с которого могла бы сбросить хозяина и покончить с
ним, как покончила с моим слугой, -- поэтому я сочла за более удобное уйти
от него и снова скрыться среди этой пустынной местности, чем испытать над
ним силу или действие моих доводов. Итак, я вернулась опять сюда, в эту
лесную глушь, отыскивать место, где без всякой помехи я могла бы вздохами и
слезами просить небо сжалиться над моим несчастием и дать мне возможность и
средства избавиться от него или же расстаться с жизнью в этом пустынном
уединении, так чтобы не осталось даже и памяти о той несчастной, которая без
всякой своей вины подала повод к толкам и злословию о ней на родине и в
других странах.

Глава XXIX, в которой рассказывается о забавной уловке и хитрости,
предпринятых с целью освободить влюбленного нашего рыцаря от столь суровой эпитимии, наложенной им на себя
 -- Вот, сеньоры, правдивая история моей трагедии. Смотрите и судите
теперь, имели ли вздохи, достигшие до вашего слуха, слова, которым вы
внимали, слезы, что лились из моих глаз, достаточную причину проявиться еще
в большем изобилии? Вникнув в свойство моего несчастья, вы увидите, что
всякое утешение бесполезно, так как помочь моему горю невозможно. Прошу вас
только об одном (и вы это легко можете и должны сделать): посоветуйте, где
мне проводить жизнь так, чтобы не лишиться ее от страха и опасения быть
найденной теми, которые меня ищут, хотя я и знаю: великая любовь, питаемая
ко мне моими родителями, мне порукой того, что они приняли бы меня как
нельзя лучше, но так ужасен стыд, овладевающий мною при одной мысли явиться
перед ними не такой, как они предполагают, что я скорее предпочла быть
изгнанной с их глаз навсегда, чем смотреть им в лицо, думая, что мое лицо
покажется им чуждым той скромности, которую они были вправе ожидать от меня.
Сказав это, Доротеа замолчала, и ее лицо залилось краской, ясно
обнаруживающей боль и стыд ее души. А слушавшие ее рассказ почувствовали,
что их души наполнились в равной мере состраданием к ней и удивлением перед
ее несчастием, и как раз в то время, как священник хотел сказать ей
несколько слов утешения и дать ей добрый совет, Карденио предупредил его,
говоря:
-- Как, сеньора, значит, это ты прекрасная Доротеа, единственная дочь
богатого Кленардо?
Доротеа изумилась, услыхав имя своего отца, и, видя, до чего невзрачен
тот, кто произнес его -- потому что Карденио, как уже говорилось, был весьма
плохо одет, -- она сказала:
-- А кто же вы, брат, что знаете имя моего отца? Ведь я до сих пор --
насколько мне помнится, -- рассказывая вам о моем несчастии, ни разу не
упоминала имени моего отца.
-- Я, сеньора, -- ответил Карденио,-- тот несчастный, которого, судя по
вашему рассказу, Люсинда объявила своим мужем. Я злополучный Карденио, и
низкое поведение того, кто и вас поставил в теперешнее ваше положение,
довело меня до состояния, в каком вы меня видите: оборванного, нагого,
лишенного всякой человеческой помощи и, что еще хуже, лишенного разума,
потому что я обладаю им только в те короткие промежутки, когда небу угодно
даровать его мне. Я тот, Доротеа, который присутствовал при наглом
вероломстве дона Фернандо и ожидал, пока не услышал, как Люсинда произнесла
свое да, выражая им согласие сделаться женой дона Фернандо. Я тот, который
не имел мужества остаться и посмотреть, чем кончится ее обморок и какое
произведет действие записка, найденная у нее на груди, так как душа моя не
имела сил вынести сразу столько несчастий. Итак, потеряв терпение, я покинул
дом, оставил письмо моему хозяину с просьбой передать его в руки Люсинды и
бежал в эти пустынные и дикие места с намерением покончить здесь счеты с
жизнью, которую я с той минуты возненавидел, как смертельного врага. Но
судьбе не было угодно отнять ее у меня; она удовольствовалась тем, что
отняла у меня разум, быть может, с целью приберечь меня для счастья
встретиться с вами; потому что, если все, что вы сейчас рассказали, истина
-- а я не сомневаюсь в том, -- возможно, что небо еще готовит для обоих нас
лучший выход, чем мы думали, из наших страданий, так как, предположив, что
Люсинда не может выйти замуж за дона Фернандо, потому что она моя, о чем она
во всеуслышание объявила, а дон Фернандо не может жениться на ней, так как
он -- ваш, мы вполне можем надеяться, что небеса вернут нам наше, потому что
оно еще существует, никем не присвоено и не уничтожено. А так как мы
обладаем этим утешением, порожденным не какой-нибудь отдаленной надеждой и
основанным не на пустых мечтах, то умоляю вас, сеньора, придите в чистых
ваших мыслях к другому решению, как и я, со своей стороны, намерен это
сделать, сообразуя его с ожидающей нас лучшей участью. Клянусь вам честью
рыцаря и христианина, я не покину вас до тех пор, пока не увижу вас женой
дона Фернандо, и, если я не сумею этого достигнуть убеждениями, заставив его
осознать свой долг перед вами, я прибегну к праву, которое мне дает мое
звание рыцаря, и вызову его на поединок, потребовав у него ответа за
оскорбление, нанесенное вам, забыв об оскорблениях, нанесенных им мне,
мщение за которые предоставляю небу, чтобы на земле встать на защиту вашего
дела.
Доротеа была поражена удивлением, слушая речь Карденио, и, не зная, как
лучше благодарить его за великодушное предложение, хотела уже наклониться к
его ногам и поцеловать их {Целовать ноги -- в те далекие времена было в
Испании обычным приемом для выражения признательности за благодеяния.}, но
Карденио этого не допустил. Лисенсиат ответил за обоих; он одобрил
благородное решение Карденио и в особенности просил, советовал и убеждал их
вместе с ним ехать в его село, где они могут запастись нужными им вещами, и
там они примут меры к отысканию дона Фернандо или к возвращению Доротеи к ее
родителям или вообще сделают то, что им покажется наиболее подходящим.
Карденио и Доротеа поблагодарили священника и приняли предложение добрых его
услуг. Цирюльник, все время сидевший молча и в недоумении, тоже выступил
теперь с небольшою речью и с не менее любезным, чем священник, предложением
служить им, в чем только может. Вместе с тем он вкратце сообщил им и
причину, приведшую обоих их сюда, и рассказал о странном помешательстве Дон
Кихота и о том, что они поджидают здесь его оруженосца, который отправился
разыскивать его. Карденио вспомнил как сквозь сон свою ссору с Дон Кихотом и
передал им о ней, но не мог сказать, что было причиной их спора.
В это время они услышали крик и поняли, что это Санчо Панса, который,
не найдя их на том месте, где он их оставил, стал во все горло звать их. Они
пошли ему навстречу и спросили о Дон Кихоте, а он ответил, что застал его
полунагим, в одной рубахе, исхудалого, желтого, полумертвого от голода и
вздыхающего по своей сеньоре Дульсинее. Но, хотя Санчо и сообщил рыцарю, что
она приказывает ему покинуть эти места и явиться к ней в Тобосо, где ждет
его, Дон Кихот ответил, что решил не являться перед ее красотой до тех пор,
пока не совершит подвигов, которые сделают его достойным ее благосклонности.
Если же это будет продолжаться таким образом, господину его, добавил Санчо,
грозит опасность не только не сделаться императором, каким он обязан быть,
но даже и архиепископом, -- что уже самое меньшее, чем он мог быть; итак,
пусть они обсудят, что им предпринять, чтобы удалить его из той местности.
Лисенсиат успокоил Санчо, говоря, что они непременно извлекут Дон Кихота
оттуда, хотя бы и против его воли, и затем рассказал Карденио и Доротее,
какое средство они придумали, чтобы излечить Дон Кихота, или же, по крайней
мере, чтобы увести его домой. На это Доротеа ответила, что она лучше
цирюльника изобразит ищущую защиты девушку, тем более что у нее при себе
есть платье, в котором все у нее как нельзя более выйдет естественно. Пусть
только предоставят ей, и она разыграет свою роль, как следует, тем более что
она прочла множество рыцарских книг и хорошо знакома с языком, каким говорят
угнетенные девушки, обращаясь с просьбой о защите к странствующим рыцарям.
-- В таком случае нам ничего больше не остается, как тотчас же
приступить к делу, -- сказал священник, -- и, без сомнения, счастливая
судьба благоприятствует мне, потому что вам, сеньоры, она столь неожиданно
открывает дверь для вашего спасения, а нам облегчила нашу задачу чрез ваше
посредство.
Доротеа тотчас же достала из своего узла целый костюм из тонкой и
богатой шерстяной материи, а также коротенькую накидку из другой красивой
зеленой ткани и, вынув из небольшого ящичка ожерелье и другие драгоценности,
быстро вырядилась так, что имела теперь вид знатной и богатой дамы. Она
сказала, что взяла все это и еще кое-что из дома на случай, если бы оно ей
понадобилось, но такого случая не представлялось до сих пор. Все были
очарованы ее необычайной грацией, изяществом, красотой и сочли дона Фернандо
за человека с весьма плохим вкусом, так как он мог отвергнуть столь
восхитительную особу.
Но больше всех изумлялся Санчо Панса, которому (и совершенно
основательно) казалось, что он никогда в жизни не видел такого прелестного
создания. Поэтому он с величайшею поспешностью просил священника сказать
ему: кто эта прекрасная сеньора и что ей нужно в этих пустынных местах?
-- Прекрасная эта сеньора, Санчо, брат, -- ответил священник, --
попросту говоря, наследница по прямой мужской линии могучего королевства
Микомикон, и явилась она сюда разыскивать вашего господина и просить его об
одной милости, именно: чтобы он отомстил за обиду и оскорбление, нанесенное
ей одним злым великаном, а молва о Дон Кихоте, как о доблестном рыцаре,
распространенная по всему свету, привлекла сюда принцессу из Гвинеи, откуда
она приехала.
-- Счастливые поиски и счастливая находка, -- сказал тогда Санчо Панса,
-- и тем более если моему господину удастся исправить то зло и отомстить за
то оскорбление, убив того сына блудницы, того великана, о котором говорит
ваша милость; и, по чести, убить-то он его убьет, если встретит, только бы
он не был привидением, потому что над привидениями у моего господина нет
никакой власти. Но об одной вещи между прочими вещами буду умолять вашу
милость, сеньор лисенсиат, а именно: чтобы господин мой не вздумал сделаться
архиепископом -- чего я так боюсь, -- посоветуйте ему, ваша милость, тотчас
же обвенчаться с этой принцессой; таким образом его нельзя будет посвятить в
сан архиепископа, и он легко добудет себе императорскую корону, а я --
исполнение моих желаний. Все это я про себя хорошенько обсудил и понял, что
для меня неподходящее дело, если мой господин будет архиепископом, потому
что я не гожусь для церкви, так как женат. А бегать хлопотать о разрешении
мне заведовать церковным приходом, имея -- как я имею -- жену и детей, этому
не предвиделось бы никогда конца. Так что, сеньор, вся загвоздка в том,
чтобы мой господин тотчас же женился на этой сеньоре, имя которой я еще не
знаю и потому не могу и назвать ее по имени.
-- Зовут ее, -- ответил священник,-- принцессой Микомикона, потому что,
раз ее королевство называется Микомикон, ясно, что и она должна называться
так же.
-- В этом нет сомнения, -- ответил Санчо, -- так как я знаю многих,
которые свое прозвище и фамилию брали по той местности, где они родились,
называясь
Педро де Алкала, Хуан де Убеда, Диего де Вальядолид; и такой же обычай,
должно быть, и там, в Гвинее: чтобы королевы назывались по своим
королевствам.
-- Должно быть, оно так и есть,-- сказал священник. -- Что же касается
женитьбы вашего господина, я приложу все старания помочь этому делу.
Санчо остался настолько же доволен ответом священника, насколько
последний был удивлен его простотой и тем, до чего крепко укоренились в его
воображении те же самые нелепости, как и у его господина, потому что Санчо
нимало не сомневался, что Дон Кихот действительно сделается императором.
Между тем Доротеа села на мула священника, а цирюльник приладил себе
бороду из бычачьего хвоста; и они велели Санчо провести их туда, где
находится Дон Кихот, предупредив его, чтобы он не говорил, что знает
лисенсиата или цирюльника, так как именно от того, чтобы он не узнал их, и
зависит возможность господину его сделаться императором. Ни священник, ни
Карденио не пожелали отправиться с ними, Карденио -- чтобы не напомнить Дон
Кихоту его ссоры с ним, священник -- потому что его присутствие пока еще не
было необходимо; итак, они пустили их вперед, сами же медленно пошли за ними
пешком. Священник счел нужным объяснить Доротее, как ей поступать, но она
просила не беспокоиться, потому что все будет точь-в-точь сделано, как это
требуется и описано в рыцарских книгах. Они проехали около трех четвертей
мили, когда заметили Дон Кихота среди лабиринта скал, уже одетого, но не в
доспехах. Лишь только Доротеа увидела его и узнала от Санчо, что это Дон
Кихот, она ударила бичом свою парадную лошадь, а за ней поспешил и бородатый
брадобрей. Подъехав к Дон Кихоту, оруженосец принцессы соскочил с мула и
подошел к Доротее, чтобы принять ее на руки, а она, с величайшею ловкостью
сойдя с седла, бросилась на колени перед Дон Кихотом; он хотел поднять ее,
но она, не вставая, обратилась к нему со следующими словами:
-- Я до тех пор не встану, о доблестный и могущественный рыцарь, пока
вы по доброте и великодушию своему не окажете мне милости, которая покроет
вашу особу славой и честью и послужит на пользу самой безутешной и
угнетенной девушке, какую только освещало когда-либо солнце. И если
действительно доблесть сильной вашей руки соответствует молве о бессмертной
вашей славе, вы обязаны оказать помощь несчастной, явившейся сюда из столь
далеких стран и привлеченной блеском вашего имени, в надежде найти у вас
защиту в своих несчастиях.
-- Вот, сеньоры, правдивая история моей трагедии. Смотрите и судите
теперь, имели ли вздохи, достигшие до вашего слуха, слова, которым вы
внимали, слезы, что лились из моих глаз, достаточную причину проявиться еще
в большем изобилии? Вникнув в свойство моего несчастья, вы увидите, что
всякое утешение бесполезно, так как помочь моему горю невозможно. Прошу вас
только об одном (и вы это легко можете и должны сделать): посоветуйте, где
мне проводить жизнь так, чтобы не лишиться ее от страха и опасения быть
найденной теми, которые меня ищут, хотя я и знаю: великая любовь, питаемая
ко мне моими родителями, мне порукой того, что они приняли бы меня как
нельзя лучше, но так ужасен стыд, овладевающий мною при одной мысли явиться
перед ними не такой, как они предполагают, что я скорее предпочла быть
изгнанной с их глаз навсегда, чем смотреть им в лицо, думая, что мое лицо
покажется им чуждым той скромности, которую они были вправе ожидать от меня.
Сказав это, Доротеа замолчала, и ее лицо залилось краской, ясно
обнаруживающей боль и стыд ее души. А слушавшие ее рассказ почувствовали,
что их души наполнились в равной мере состраданием к ней и удивлением перед
ее несчастием, и как раз в то время, как священник хотел сказать ей
несколько слов утешения и дать ей добрый совет, Карденио предупредил его,
говоря:
-- Как, сеньора, значит, это ты прекрасная Доротеа, единственная дочь
богатого Кленардо?
Доротеа изумилась, услыхав имя своего отца, и, видя, до чего невзрачен
тот, кто произнес его -- потому что Карденио, как уже говорилось, был весьма
плохо одет, -- она сказала:
-- А кто же вы, брат, что знаете имя моего отца? Ведь я до сих пор --
насколько мне помнится, -- рассказывая вам о моем несчастии, ни разу не
упоминала имени моего отца.
-- Я, сеньора, -- ответил Карденио,-- тот несчастный, которого, судя по
вашему рассказу, Люсинда объявила своим мужем. Я злополучный Карденио, и
низкое поведение того, кто и вас поставил в теперешнее ваше положение,
довело меня до состояния, в каком вы меня видите: оборванного, нагого,
лишенного всякой человеческой помощи и, что еще хуже, лишенного разума,
потому что я обладаю им только в те короткие промежутки, когда небу угодно
даровать его мне. Я тот, Доротеа, который присутствовал при наглом
вероломстве дона Фернандо и ожидал, пока не услышал, как Люсинда произнесла
свое да, выражая им согласие сделаться женой дона Фернандо. Я тот, который
не имел мужества остаться и посмотреть, чем кончится ее обморок и какое
произведет действие записка, найденная у нее на груди, так как душа моя не
имела сил вынести сразу столько несчастий. Итак, потеряв терпение, я покинул
дом, оставил письмо моему хозяину с просьбой передать его в руки Люсинды и
бежал в эти пустынные и дикие места с намерением покончить здесь счеты с
жизнью, которую я с той минуты возненавидел, как смертельного врага. Но
судьбе не было угодно отнять ее у меня; она удовольствовалась тем, что
отняла у меня разум, быть может, с целью приберечь меня для счастья
встретиться с вами; потому что, если все, что вы сейчас рассказали, истина
-- а я не сомневаюсь в том, -- возможно, что небо еще готовит для обоих нас
лучший выход, чем мы думали, из наших страданий, так как, предположив, что
Люсинда не может выйти замуж за дона Фернандо, потому что она моя, о чем она
во всеуслышание объявила, а дон Фернандо не может жениться на ней, так как
он -- ваш, мы вполне можем надеяться, что небеса вернут нам наше, потому что
оно еще существует, никем не присвоено и не уничтожено. А так как мы
обладаем этим утешением, порожденным не какой-нибудь отдаленной надеждой и
основанным не на пустых мечтах, то умоляю вас, сеньора, придите в чистых
ваших мыслях к другому решению, как и я, со своей стороны, намерен это
сделать, сообразуя его с ожидающей нас лучшей участью. Клянусь вам честью
рыцаря и христианина, я не покину вас до тех пор, пока не увижу вас женой
дона Фернандо, и, если я не сумею этого достигнуть убеждениями, заставив его
осознать свой долг перед вами, я прибегну к праву, которое мне дает мое
звание рыцаря, и вызову его на поединок, потребовав у него ответа за
оскорбление, нанесенное вам, забыв об оскорблениях, нанесенных им мне,
мщение за которые предоставляю небу, чтобы на земле встать на защиту вашего
дела.
Доротеа была поражена удивлением, слушая речь Карденио, и, не зная, как
лучше благодарить его за великодушное предложение, хотела уже наклониться к
его ногам и поцеловать их {Целовать ноги -- в те далекие времена было в
Испании обычным приемом для выражения признательности за благодеяния.}, но
Карденио этого не допустил. Лисенсиат ответил за обоих; он одобрил
благородное решение Карденио и в особенности просил, советовал и убеждал их
вместе с ним ехать в его село, где они могут запастись нужными им вещами, и
там они примут меры к отысканию дона Фернандо или к возвращению Доротеи к ее
родителям или вообще сделают то, что им покажется наиболее подходящим.
Карденио и Доротеа поблагодарили священника и приняли предложение добрых его
услуг. Цирюльник, все время сидевший молча и в недоумении, тоже выступил
теперь с небольшою речью и с не менее любезным, чем священник, предложением
служить им, в чем только может. Вместе с тем он вкратце сообщил им и
причину, приведшую обоих их сюда, и рассказал о странном помешательстве Дон
Кихота и о том, что они поджидают здесь его оруженосца, который отправился
разыскивать его. Карденио вспомнил как сквозь сон свою ссору с Дон Кихотом и
передал им о ней, но не мог сказать, что было причиной их спора.
В это время они услышали крик и поняли, что это Санчо Панса, который,
не найдя их на том месте, где он их оставил, стал во все горло звать их. Они
пошли ему навстречу и спросили о Дон Кихоте, а он ответил, что застал его
полунагим, в одной рубахе, исхудалого, желтого, полумертвого от голода и
вздыхающего по своей сеньоре Дульсинее. Но, хотя Санчо и сообщил рыцарю, что
она приказывает ему покинуть эти места и явиться к ней в Тобосо, где ждет
его, Дон Кихот ответил, что решил не являться перед ее красотой до тех пор,
пока не совершит подвигов, которые сделают его достойным ее благосклонности.
Если же это будет продолжаться таким образом, господину его, добавил Санчо,
грозит опасность не только не сделаться императором, каким он обязан быть,
но даже и архиепископом, -- что уже самое меньшее, чем он мог быть; итак,
пусть они обсудят, что им предпринять, чтобы удалить его из той местности.
Лисенсиат успокоил Санчо, говоря, что они непременно извлекут Дон Кихота
оттуда, хотя бы и против его воли, и затем рассказал Карденио и Доротее,
какое средство они придумали, чтобы излечить Дон Кихота, или же, по крайней
мере, чтобы увести его домой. На это Доротеа ответила, что она лучше
цирюльника изобразит ищущую защиты девушку, тем более что у нее при себе
есть платье, в котором все у нее как нельзя более выйдет естественно. Пусть
только предоставят ей, и она разыграет свою роль, как следует, тем более что
она прочла множество рыцарских книг и хорошо знакома с языком, каким говорят
угнетенные девушки, обращаясь с просьбой о защите к странствующим рыцарям.
-- В таком случае нам ничего больше не остается, как тотчас же
приступить к делу, -- сказал священник, -- и, без сомнения, счастливая
судьба благоприятствует мне, потому что вам, сеньоры, она столь неожиданно
открывает дверь для вашего спасения, а нам облегчила нашу задачу чрез ваше
посредство.
Доротеа тотчас же достала из своего узла целый костюм из тонкой и
богатой шерстяной материи, а также коротенькую накидку из другой красивой
зеленой ткани и, вынув из небольшого ящичка ожерелье и другие драгоценности,
быстро вырядилась так, что имела теперь вид знатной и богатой дамы. Она
сказала, что взяла все это и еще кое-что из дома на случай, если бы оно ей
понадобилось, но такого случая не представлялось до сих пор. Все были
очарованы ее необычайной грацией, изяществом, красотой и сочли дона Фернандо
за человека с весьма плохим вкусом, так как он мог отвергнуть столь
восхитительную особу.
Но больше всех изумлялся Санчо Панса, которому (и совершенно
основательно) казалось, что он никогда в жизни не видел такого прелестного
создания. Поэтому он с величайшею поспешностью просил священника сказать
ему: кто эта прекрасная сеньора и что ей нужно в этих пустынных местах?
-- Прекрасная эта сеньора, Санчо, брат, -- ответил священник, --
попросту говоря, наследница по прямой мужской линии могучего королевства
Микомикон, и явилась она сюда разыскивать вашего господина и просить его об
одной милости, именно: чтобы он отомстил за обиду и оскорбление, нанесенное
ей одним злым великаном, а молва о Дон Кихоте, как о доблестном рыцаре,
распространенная по всему свету, привлекла сюда принцессу из Гвинеи, откуда
она приехала.
-- Счастливые поиски и счастливая находка, -- сказал тогда Санчо Панса,
-- и тем более если моему господину удастся исправить то зло и отомстить за
то оскорбление, убив того сына блудницы, того великана, о котором говорит
ваша милость; и, по чести, убить-то он его убьет, если встретит, только бы
он не был привидением, потому что над привидениями у моего господина нет
никакой власти. Но об одной вещи между прочими вещами буду умолять вашу
милость, сеньор лисенсиат, а именно: чтобы господин мой не вздумал сделаться
архиепископом -- чего я так боюсь, -- посоветуйте ему, ваша милость, тотчас
же обвенчаться с этой принцессой; таким образом его нельзя будет посвятить в
сан архиепископа, и он легко добудет себе императорскую корону, а я --
исполнение моих желаний. Все это я про себя хорошенько обсудил и понял, что
для меня неподходящее дело, если мой господин будет архиепископом, потому
что я не гожусь для церкви, так как женат. А бегать хлопотать о разрешении
мне заведовать церковным приходом, имея -- как я имею -- жену и детей, этому
не предвиделось бы никогда конца. Так что, сеньор, вся загвоздка в том,
чтобы мой господин тотчас же женился на этой сеньоре, имя которой я еще не
знаю и потому не могу и назвать ее по имени.
-- Зовут ее, -- ответил священник,-- принцессой Микомикона, потому что,
раз ее королевство называется Микомикон, ясно, что и она должна называться
так же.
-- В этом нет сомнения, -- ответил Санчо, -- так как я знаю многих,
которые свое прозвище и фамилию брали по той местности, где они родились,
называясь
Педро де Алкала, Хуан де Убеда, Диего де Вальядолид; и такой же обычай,
должно быть, и там, в Гвинее: чтобы королевы назывались по своим
королевствам.
-- Должно быть, оно так и есть,-- сказал священник. -- Что же касается
женитьбы вашего господина, я приложу все старания помочь этому делу.
Санчо остался настолько же доволен ответом священника, насколько
последний был удивлен его простотой и тем, до чего крепко укоренились в его
воображении те же самые нелепости, как и у его господина, потому что Санчо
нимало не сомневался, что Дон Кихот действительно сделается императором.
Между тем Доротеа села на мула священника, а цирюльник приладил себе
бороду из бычачьего хвоста; и они велели Санчо провести их туда, где
находится Дон Кихот, предупредив его, чтобы он не говорил, что знает
лисенсиата или цирюльника, так как именно от того, чтобы он не узнал их, и
зависит возможность господину его сделаться императором. Ни священник, ни
Карденио не пожелали отправиться с ними, Карденио -- чтобы не напомнить Дон
Кихоту его ссоры с ним, священник -- потому что его присутствие пока еще не
было необходимо; итак, они пустили их вперед, сами же медленно пошли за ними
пешком. Священник счел нужным объяснить Доротее, как ей поступать, но она
просила не беспокоиться, потому что все будет точь-в-точь сделано, как это
требуется и описано в рыцарских книгах. Они проехали около трех четвертей
мили, когда заметили Дон Кихота среди лабиринта скал, уже одетого, но не в
доспехах. Лишь только Доротеа увидела его и узнала от Санчо, что это Дон
Кихот, она ударила бичом свою парадную лошадь, а за ней поспешил и бородатый
брадобрей. Подъехав к Дон Кихоту, оруженосец принцессы соскочил с мула и
подошел к Доротее, чтобы принять ее на руки, а она, с величайшею ловкостью
сойдя с седла, бросилась на колени перед Дон Кихотом; он хотел поднять ее,
но она, не вставая, обратилась к нему со следующими словами:
-- Я до тех пор не встану, о доблестный и могущественный рыцарь, пока
вы по доброте и великодушию своему не окажете мне милости, которая покроет
вашу особу славой и честью и послужит на пользу самой безутешной и
угнетенной девушке, какую только освещало когда-либо солнце. И если
действительно доблесть сильной вашей руки соответствует молве о бессмертной
вашей славе, вы обязаны оказать помощь несчастной, явившейся сюда из столь
далеких стран и привлеченной блеском вашего имени, в надежде найти у вас
защиту в своих несчастиях.
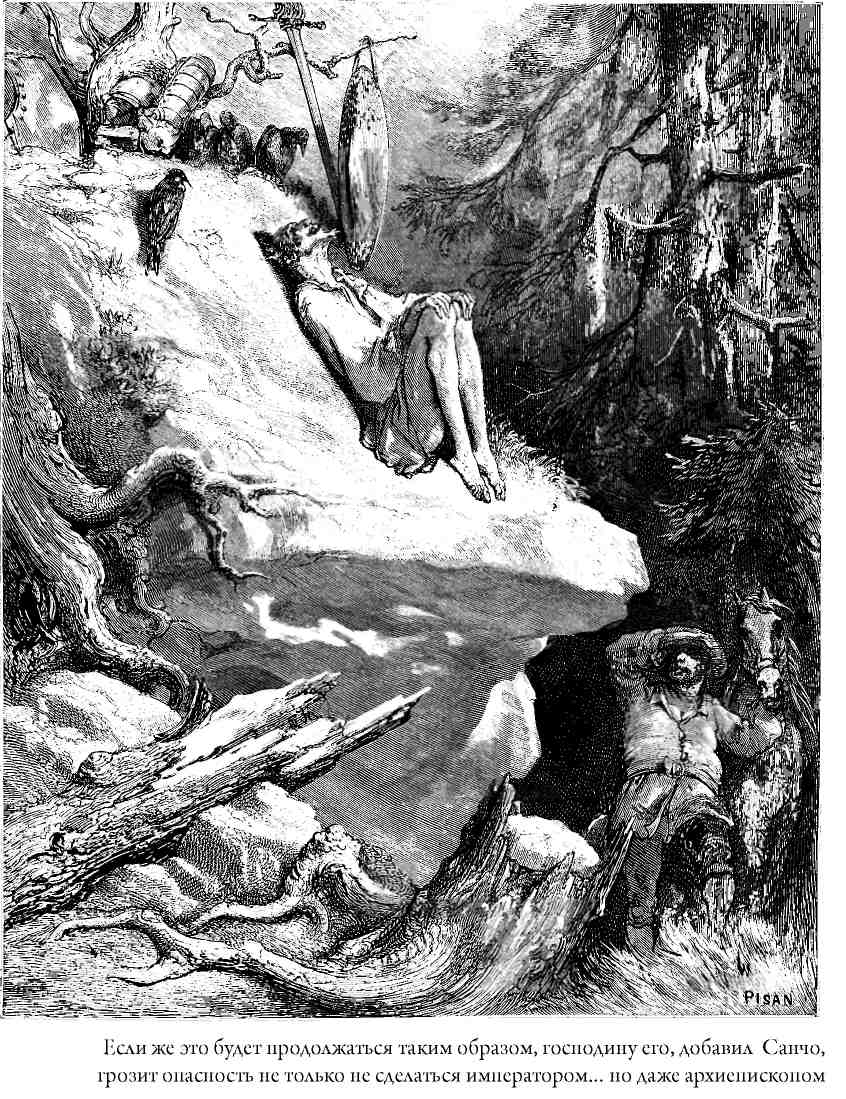 -- Не отвечу вам ни слова, прекрасная сеньора, -- сказал Дон Кихот, --
и не хочу слышать ничего о вашем деле, пока вы не встанете с колен.
-- Я не встану до тех пор, сеньор,-- ответила горюющая девушка, -- пока
вы со свойственным вам великодушием не пообещаете оказать мне милость, о
которой я прошу.
-- Обещаю вам оказать и даровать ее, -- ответил Дон Кихот, -- если
только это не послужит ко вреду или к ущербу моего отечества и той, которая
владеет ключом от моего сердца и моей свободы.
-- Она не послужит ни ко вреду, ни к ущербу всего того, о чем вы
упомянули, мой добрый сеньор, -- ответила горюющая девушка.
В это время Санчо Панса подошел к своему господину и тихонько шепнул
ему на ухо:
-- Сеньор, милость ваша может спокойно обещать ей то, о чем она просит,
потому что это пустяки -- всего только убить громадного великана; а та,
которая об этом просит -- могучая принцесса Микомикона, королева великого
королевства Микомикон в Эфиопии.
-- Кто бы она ни была, -- ответил Дон Кихот, -- я поступлю так, как мне
предписывает долг и подсказывает совесть в согласии с рыцарскими правилами,
которые я исповедую.
И, обращаясь к девушке, он добавил:
-- Прошу вас, высочайшая красота, соблаговолите встать, так как я дарую
милость, которую вам угодно будет просить у меня.
-- Она заключается в том, -- сказала девушка, -- чтобы вы, великодушный
рыцарь, тотчас же последовали за мной, куда я вас поведу, и обещали не
предпринимать другого дела и не искать другого приключения, пока не
отомстите изменнику, который, попирая все божеские и человеческие законы,
отнял у меня мое королевство.
-- Повторяю, -- ответил Дон Кихот, -- что я исполню вашу просьбу, и
потому можете, сеньора, с сегодняшнего дня изгнать из своей души печаль,
терзающую ее, и можете новой силой и огнем оживить гаснущую вашу надежду,
так как с помощью божьей и моей руки вы скоро вернетесь в свое королевство и
воссядете на престоле древнего и великого вашего государства вопреки и назло
всем негодяям, которые пожелали бы воспротивиться этому. А теперь приступим
к делу, потому что в замедлении, как говорят, кроется обыкновенно опасность.
Горюющая девушка с большим упорством усиливалась поцеловать у Дон
Кихота руки, но он, бывший во всем истым и учтивым рыцарем, ни за что не
допустил этого; напротив, он заставил ее встать, поцеловал ее очень учтиво и
любезно и приказал Санчо подтянуть подпругу у Росинанта и подать ему его
доспехи. Санчо снял доспехи, которые, как трофеи, висели на дереве, и,
подтянув подпругу Росинанта, в одну минуту одел в доспехи своего господина,
а этот последний, видя себя вооруженным, воскликнул:
-- Едем отсюда, во имя бога, на защиту этой великой сеньоры!
-- Не отвечу вам ни слова, прекрасная сеньора, -- сказал Дон Кихот, --
и не хочу слышать ничего о вашем деле, пока вы не встанете с колен.
-- Я не встану до тех пор, сеньор,-- ответила горюющая девушка, -- пока
вы со свойственным вам великодушием не пообещаете оказать мне милость, о
которой я прошу.
-- Обещаю вам оказать и даровать ее, -- ответил Дон Кихот, -- если
только это не послужит ко вреду или к ущербу моего отечества и той, которая
владеет ключом от моего сердца и моей свободы.
-- Она не послужит ни ко вреду, ни к ущербу всего того, о чем вы
упомянули, мой добрый сеньор, -- ответила горюющая девушка.
В это время Санчо Панса подошел к своему господину и тихонько шепнул
ему на ухо:
-- Сеньор, милость ваша может спокойно обещать ей то, о чем она просит,
потому что это пустяки -- всего только убить громадного великана; а та,
которая об этом просит -- могучая принцесса Микомикона, королева великого
королевства Микомикон в Эфиопии.
-- Кто бы она ни была, -- ответил Дон Кихот, -- я поступлю так, как мне
предписывает долг и подсказывает совесть в согласии с рыцарскими правилами,
которые я исповедую.
И, обращаясь к девушке, он добавил:
-- Прошу вас, высочайшая красота, соблаговолите встать, так как я дарую
милость, которую вам угодно будет просить у меня.
-- Она заключается в том, -- сказала девушка, -- чтобы вы, великодушный
рыцарь, тотчас же последовали за мной, куда я вас поведу, и обещали не
предпринимать другого дела и не искать другого приключения, пока не
отомстите изменнику, который, попирая все божеские и человеческие законы,
отнял у меня мое королевство.
-- Повторяю, -- ответил Дон Кихот, -- что я исполню вашу просьбу, и
потому можете, сеньора, с сегодняшнего дня изгнать из своей души печаль,
терзающую ее, и можете новой силой и огнем оживить гаснущую вашу надежду,
так как с помощью божьей и моей руки вы скоро вернетесь в свое королевство и
воссядете на престоле древнего и великого вашего государства вопреки и назло
всем негодяям, которые пожелали бы воспротивиться этому. А теперь приступим
к делу, потому что в замедлении, как говорят, кроется обыкновенно опасность.
Горюющая девушка с большим упорством усиливалась поцеловать у Дон
Кихота руки, но он, бывший во всем истым и учтивым рыцарем, ни за что не
допустил этого; напротив, он заставил ее встать, поцеловал ее очень учтиво и
любезно и приказал Санчо подтянуть подпругу у Росинанта и подать ему его
доспехи. Санчо снял доспехи, которые, как трофеи, висели на дереве, и,
подтянув подпругу Росинанта, в одну минуту одел в доспехи своего господина,
а этот последний, видя себя вооруженным, воскликнул:
-- Едем отсюда, во имя бога, на защиту этой великой сеньоры!
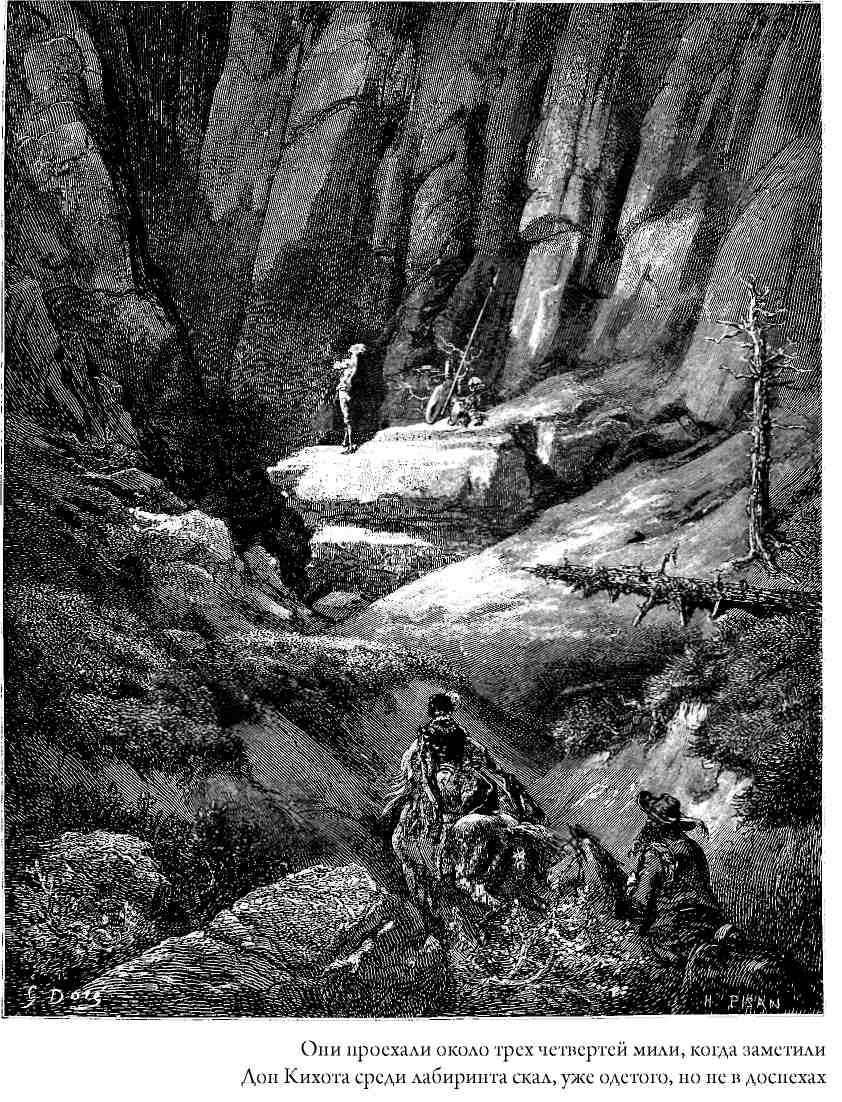 Цирюльник все еще стоял на коленях и с трудом сдерживал свой смех и
придерживал бороду, так как, если бы борода упала, следствием этого могло бы
быть расстройство всего их плана. Но, увидав, что просимая милость уже
дарована, а также и ту поспешность, с которой Дон Кихот готовился исполнить
свое обещание, цирюльник поднялся, взял свою сеньору за другую руку и вместе
с рыцарем усадил ее на мула. Тотчас же и Дон Кихот сел на Росинанта,
цирюльник устроился на своем верховом животном, а Санчо пришлось идти
пешком, что снова возбудило в нем горе о пропаже Серого, отсутствие которого
давало себя знать. Однако все это он перенес терпеливо, уверенный в том, что
его господин теперь уже на пути сделаться императором, так как он нимало не
сомневался, что Дон Кихот женится на принцессе и будет по меньшей мере
королем страны Микомикон. Одно лишь печалило Санчо: мысль, что королевство
это в стране негров и что будущие его подданные -- чернокожие. Но против
этого он тотчас же нашел хорошее средство в своем воображении и сказал себе:
"Что за беда, если мои подданные будут неграми? Ничего другого не остается,
как только нагрузить ими корабли и привезти в Испанию, где я могу их продать
и где мне заплатят за них наличными деньгами, а на эти деньги я куплю себе
какой-нибудь титул или должность и затем проживу всю свою жизнь припеваючи.
Иное дело, если проспать свое счастье и не обладать ни умом, ни ловкостью
для оборудования дел и продажи в мгновение ока тысяч десяти или тридцати
подданных. Клянусь Богом, они у меня прекрасно полетят, маленькие с большими
-- или как там придется, -- и, как бы они ни были черны, я их превращу в
белых или в желтых {Т. е. в серебро и золото.}. Еще бы, не дурак же я!"
Занятый этими мыслями, он шел такой довольный и радостный, что даже забыл о
тягости путешествовать пешком.
Священник и Карденио наблюдали все происходившее, спрятавшись за
кустами, и не знали, каким образом присоединиться к остальной компании. Но
священник, человек очень находчивый, тотчас же придумал, что сделать для
достижения желаемого: ножницами, которые он имел при себе в футляре, он с
величайшею быстротой остриг бороду Карденио, надел на него свою серую епанчу
и дал ему длинный черный плащ без воротника, оставшись сам в камзоле и
панталонах, и Карденио сделался так непохож на прежнего, что не узнал бы
себя, если бы посмотрелся в зеркало. Покончив с переодеванием, священник и
Карденио -- хотя остальные за это время и успели порядочно уйти вперед --
без труда добрались раньше их до большой дороги, потому что кустарники и
бугры в этой местности мешали двигаться верховым так же быстро, как это
могли делать пешеходы. Словом, они вскоре очутились в долине и встали у
выхода из гор; а лишь только показался Дон Кихот и его спутники, священник,
довольно долго и пристально вглядываясь в рыцаря, делал вид, будто он
мало-помалу начинает узнавать его, и, после того как он довольно долго
рассматривал его таким образом, он бросился к нему с распростертыми
объятиями и громко воскликнул:
Цирюльник все еще стоял на коленях и с трудом сдерживал свой смех и
придерживал бороду, так как, если бы борода упала, следствием этого могло бы
быть расстройство всего их плана. Но, увидав, что просимая милость уже
дарована, а также и ту поспешность, с которой Дон Кихот готовился исполнить
свое обещание, цирюльник поднялся, взял свою сеньору за другую руку и вместе
с рыцарем усадил ее на мула. Тотчас же и Дон Кихот сел на Росинанта,
цирюльник устроился на своем верховом животном, а Санчо пришлось идти
пешком, что снова возбудило в нем горе о пропаже Серого, отсутствие которого
давало себя знать. Однако все это он перенес терпеливо, уверенный в том, что
его господин теперь уже на пути сделаться императором, так как он нимало не
сомневался, что Дон Кихот женится на принцессе и будет по меньшей мере
королем страны Микомикон. Одно лишь печалило Санчо: мысль, что королевство
это в стране негров и что будущие его подданные -- чернокожие. Но против
этого он тотчас же нашел хорошее средство в своем воображении и сказал себе:
"Что за беда, если мои подданные будут неграми? Ничего другого не остается,
как только нагрузить ими корабли и привезти в Испанию, где я могу их продать
и где мне заплатят за них наличными деньгами, а на эти деньги я куплю себе
какой-нибудь титул или должность и затем проживу всю свою жизнь припеваючи.
Иное дело, если проспать свое счастье и не обладать ни умом, ни ловкостью
для оборудования дел и продажи в мгновение ока тысяч десяти или тридцати
подданных. Клянусь Богом, они у меня прекрасно полетят, маленькие с большими
-- или как там придется, -- и, как бы они ни были черны, я их превращу в
белых или в желтых {Т. е. в серебро и золото.}. Еще бы, не дурак же я!"
Занятый этими мыслями, он шел такой довольный и радостный, что даже забыл о
тягости путешествовать пешком.
Священник и Карденио наблюдали все происходившее, спрятавшись за
кустами, и не знали, каким образом присоединиться к остальной компании. Но
священник, человек очень находчивый, тотчас же придумал, что сделать для
достижения желаемого: ножницами, которые он имел при себе в футляре, он с
величайшею быстротой остриг бороду Карденио, надел на него свою серую епанчу
и дал ему длинный черный плащ без воротника, оставшись сам в камзоле и
панталонах, и Карденио сделался так непохож на прежнего, что не узнал бы
себя, если бы посмотрелся в зеркало. Покончив с переодеванием, священник и
Карденио -- хотя остальные за это время и успели порядочно уйти вперед --
без труда добрались раньше их до большой дороги, потому что кустарники и
бугры в этой местности мешали двигаться верховым так же быстро, как это
могли делать пешеходы. Словом, они вскоре очутились в долине и встали у
выхода из гор; а лишь только показался Дон Кихот и его спутники, священник,
довольно долго и пристально вглядываясь в рыцаря, делал вид, будто он
мало-помалу начинает узнавать его, и, после того как он довольно долго
рассматривал его таким образом, он бросился к нему с распростертыми
объятиями и громко воскликнул:
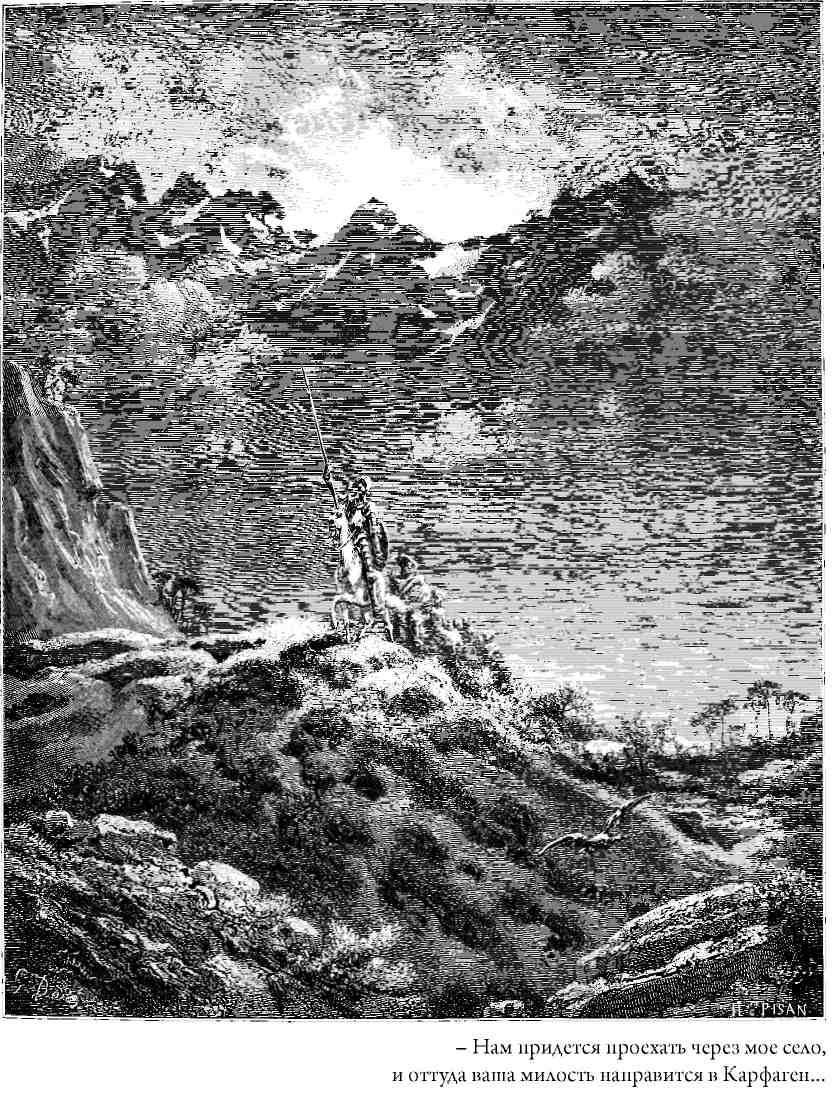 -- В счастливый час встретил я зеркало рыцарства, доброго моего земляка
Дон Кихота Ламанчского, цвет и сливки учтивости, защитника и покровителя
угнетенных и квинтэссенцию всех странствующих рыцарей. -- И, говоря это, он
обнимал левое колено Дон Кихота.
Пораженный тем, что говорил и делал этот человек, рыцарь стал
внимательно всматриваться в него и наконец узнал. Он был изумлен, встретив
его здесь, и делал большие усилия, чтобы сойти с лошади. Но священник не
допустил этого, на что Дон Кихот сказал:
-- Дайте мне сойти, милость ваша сеньор лисенсиат, так как не годится,
чтобы я сидел верхом, когда столь почтенная особа, как ваша милость, идет
пешком.
-- Я никоим образом не соглашусь на это, -- сказал священник. --
Оставайтесь сидеть верхом, ваше величие, потому что, сидя верхом, вы
совершаете самые великие дела и подвиги, когда-либо виданные в наш век. Что
же касается меня -- иерея, хотя и недостойного, -- с меня достаточно
поместиться на муле позади кого-нибудь из этих сеньоров, сопровождающих вашу
милость, если это им не в тягость; и я даже сочту, что еду верхом на коне
Пегасе, или же на той зебре, или могучем боевом коне, на котором ездил
знаменитый мавр Мусараке, до сих пор еще лежащий очарованным на большом
холме Сулема, недалеко от великого Комплута {Холм Сулема на левом берегу
реки Энарес, как раз против города Алькала, который и есть gran Compluto,
называемый так от римского Complutum.}.
-- Об этом я не подумал, сеньор мой лисенсиат, -- ответил Дон Кихот, --
и уверен, что сеньора принцесса будет настолько любезна, что из доброго
чувства ко мне прикажет своему оруженосцу уступить место на седле вашей
милости, а сам он сядет позади, если только мул вынесет это.
-- Думаю, что он вынесет, -- сказала принцесса, -- и знаю также, мне не
понадобится приказывать моему сеньору оруженосцу уступить свое место, так
как он настолько учтив и благовоспитан, что и сам не допустит, чтобы
духовное лицо шло пешком, когда может ехать верхом.
-- Совершенно верно, -- ответил цирюльник и быстро слез с мула,
предлагая занять место на седле священнику, что тот и сделал, не заставляя
себя долго просить. Но, к несчастию, когда цирюльник хотел взобраться на
круп мула, последний, который, по правде говоря, был наемный, -- а этим
вполне сказано, что он был плохой, -- вскинул задние ноги и раза два так
сильно ударил ими в воздухе, что, если б он попал в грудь или в голову маэсе
Николасу, тот послал бы к черту все поиски Дон Кихота. Но и это брыканье
мула напугало его, и он упал, нимало не заботясь о своей бороде, которая
свалилась на землю. Почувствовав, что он без бороды, цирюльник ничего
другого не мог придумать, как только прикрыть лицо обеими руками и крикнуть,
что он выбил себе коренные зубы. Дон Кихот, увидав большой пук бороды без
челюстей и без крови, лежащий отдельно от лица упавшего оруженосца,
воскликнул:
-- Какживбог, это великое чудо! Ему отшибло и оторвало с лица бороду,
точно ее нарочно сбрили!
Священник, видя, что его выдумке грозит опасность быть раскрытой,
тотчас же подбежал к бороде, поднял ее и бросился к маэсе Николасу, все еще
продолжавшему кричать, и мигом, прижав его голову к своей груди, прикрепил
ему бороду, над которой пробормотал несколько слов, говоря, что это
вернейшее заклинание для приращения бород, в чем они сейчас и убедятся. Как
только он прикрепил бороду, он отошел и оруженосец оказался таким же
бородатым и здоровым, каким он был и до того. Это чрезвычайно удивило Дон
Кихота, и он попросил священника, когда у него будет свободное время,
научить его этому заклинанию, потому что он предполагает, что целебные
свойства его простираются дальше приращивания бороды: не подлежит сомнению,
что, раз вырвана вся борода, значит, повреждено и ранено и тело, а если
заклинание исцеляет все это, то действие его не ограничивается одной
бородой.
-- Совершенно верно, -- ответил священник и обещал научить рыцаря
заклинанию при первом удобном случае.
-- В счастливый час встретил я зеркало рыцарства, доброго моего земляка
Дон Кихота Ламанчского, цвет и сливки учтивости, защитника и покровителя
угнетенных и квинтэссенцию всех странствующих рыцарей. -- И, говоря это, он
обнимал левое колено Дон Кихота.
Пораженный тем, что говорил и делал этот человек, рыцарь стал
внимательно всматриваться в него и наконец узнал. Он был изумлен, встретив
его здесь, и делал большие усилия, чтобы сойти с лошади. Но священник не
допустил этого, на что Дон Кихот сказал:
-- Дайте мне сойти, милость ваша сеньор лисенсиат, так как не годится,
чтобы я сидел верхом, когда столь почтенная особа, как ваша милость, идет
пешком.
-- Я никоим образом не соглашусь на это, -- сказал священник. --
Оставайтесь сидеть верхом, ваше величие, потому что, сидя верхом, вы
совершаете самые великие дела и подвиги, когда-либо виданные в наш век. Что
же касается меня -- иерея, хотя и недостойного, -- с меня достаточно
поместиться на муле позади кого-нибудь из этих сеньоров, сопровождающих вашу
милость, если это им не в тягость; и я даже сочту, что еду верхом на коне
Пегасе, или же на той зебре, или могучем боевом коне, на котором ездил
знаменитый мавр Мусараке, до сих пор еще лежащий очарованным на большом
холме Сулема, недалеко от великого Комплута {Холм Сулема на левом берегу
реки Энарес, как раз против города Алькала, который и есть gran Compluto,
называемый так от римского Complutum.}.
-- Об этом я не подумал, сеньор мой лисенсиат, -- ответил Дон Кихот, --
и уверен, что сеньора принцесса будет настолько любезна, что из доброго
чувства ко мне прикажет своему оруженосцу уступить место на седле вашей
милости, а сам он сядет позади, если только мул вынесет это.
-- Думаю, что он вынесет, -- сказала принцесса, -- и знаю также, мне не
понадобится приказывать моему сеньору оруженосцу уступить свое место, так
как он настолько учтив и благовоспитан, что и сам не допустит, чтобы
духовное лицо шло пешком, когда может ехать верхом.
-- Совершенно верно, -- ответил цирюльник и быстро слез с мула,
предлагая занять место на седле священнику, что тот и сделал, не заставляя
себя долго просить. Но, к несчастию, когда цирюльник хотел взобраться на
круп мула, последний, который, по правде говоря, был наемный, -- а этим
вполне сказано, что он был плохой, -- вскинул задние ноги и раза два так
сильно ударил ими в воздухе, что, если б он попал в грудь или в голову маэсе
Николасу, тот послал бы к черту все поиски Дон Кихота. Но и это брыканье
мула напугало его, и он упал, нимало не заботясь о своей бороде, которая
свалилась на землю. Почувствовав, что он без бороды, цирюльник ничего
другого не мог придумать, как только прикрыть лицо обеими руками и крикнуть,
что он выбил себе коренные зубы. Дон Кихот, увидав большой пук бороды без
челюстей и без крови, лежащий отдельно от лица упавшего оруженосца,
воскликнул:
-- Какживбог, это великое чудо! Ему отшибло и оторвало с лица бороду,
точно ее нарочно сбрили!
Священник, видя, что его выдумке грозит опасность быть раскрытой,
тотчас же подбежал к бороде, поднял ее и бросился к маэсе Николасу, все еще
продолжавшему кричать, и мигом, прижав его голову к своей груди, прикрепил
ему бороду, над которой пробормотал несколько слов, говоря, что это
вернейшее заклинание для приращения бород, в чем они сейчас и убедятся. Как
только он прикрепил бороду, он отошел и оруженосец оказался таким же
бородатым и здоровым, каким он был и до того. Это чрезвычайно удивило Дон
Кихота, и он попросил священника, когда у него будет свободное время,
научить его этому заклинанию, потому что он предполагает, что целебные
свойства его простираются дальше приращивания бороды: не подлежит сомнению,
что, раз вырвана вся борода, значит, повреждено и ранено и тело, а если
заклинание исцеляет все это, то действие его не ограничивается одной
бородой.
-- Совершенно верно, -- ответил священник и обещал научить рыцаря
заклинанию при первом удобном случае.
 Затем решили, что священник поедет первый на муле, а после него будут
садиться поочередно остальные трое, пока не доберутся до постоялого двора,
который, по-видимому, отстоял около двух миль оттуда. Когда они двинулись
вперед, -- причем трое ехали верхом, именно Дон Кихот, принцесса и
священник, а трое шли пешком, то есть Карденио, цирюльник и Санчо Панса, --
Дон Кихот сказал девушке:
-- Ваше величество, сеньора моя, теперь ведите нас, куда вам будет
угодно.
Но прежде чем она успела ответить, лисенсиат спросил ее:
-- В какое королевство намерена вести нас ваша милость? Не в
королевство ли Микомикон? Должно быть, что так и есть, или же я плохой
знаток в королевствах.
Она, все схватывавшая налету, поняла, что ей следует ответить
утвердительно, и потому сказала:
-- Да, сеньор, путь мой лежит в королевство Микомикон.
-- Если это так, -- объявил священник, -- то нам придется проехать
через мое село, и оттуда ваша милость направится в Карфаген, где, при удаче,
вы тотчас же можете сесть на корабль, и, если
будет попутный ветер, спокойное море и не случится бури, вы несколько
менее чем в девять лет можете добраться до большого озера Неона -- я хочу
сказать Меотис, -- которое лежит дней на сто с лишком пути от королевства
вашего величества.
-- Милость ваша ошибается, сеньор мой, -- сказала принцесса, -- еще нет
и двух лет, как я уехала оттуда, и могу вас уверить, все время погода стояла
прескверная, а тем не менее мне удалось увидеть того, кого я так сильно
желала видеть, -- именно доблестного сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о
славе которого дошла до моего слуха, едва я вступила в Испанию, и эта-то
молва и побудила меня разыскать его, чтобы поручить себя его великодушию и
доверить справедливое мое дело мужеству его непобедимой руки.
-- Довольно, прекратите ваши восхваления, -- сказал тогда Дон Кихот, --
я враг всякого рода лести, и хотя это не лесть, все же такие речи оскорбляют
мои целомудренные уши. Одно могу сказать вам, сеньора моя -- обладаю ли я
мужеством или не обладаю им, -- то, которое есть у меня или которого нет у
меня, я всецело употреблю на служение вам, готовый даже жертвовать за вас
жизнью. Теперь же, оставив это до поры до времени, попрошу сеньора
лисенсиата сказать мне, какая причина привела его в эту пустынную местность
совершенно одного, без слуг и одетого налегке, что крайне изумляет меня.
-- Отвечу вам на это в кратких словах, -- возразил священник. -- Знайте
же, милость ваша, сеньор Дон Кихот, что я и маэсе Николас, наш друг и наш
цирюльник, мы отправились в Севилью за получением денег, которые один мой
родственник, пробывший долгие годы в Индии, прислал мне, сумма была немалая,
так как превышала шестьдесят тысяч песос {Pesos ensayados -- испанская
монета, имевшая в те времена вес (peso) ровно в унцию серебра, a ensayado
означает "прошедшая через испытание и найденная полновесной".}, да к тому же
и полновесных, что составит чуть ли не еще столько же. А когда мы вчера
проходили близ этой местности, на нас напало четверо разбойников и обобрали
нас вплоть до бороды, так что цирюльник счел нужным приладить себе
поддельную бороду, -- а вот этого молодого человека (и он указал на
Карденио), который идет вместе с нами, они ограбили вторично. И самое лучшее
во всей истории то, что, как ходят в окрестности слухи, напавшие на нас
разбойники были галерные невольники, которых, как они говорят, освободил
почти на этом самом месте человек, обладавший таким мужеством, что он один,
вопреки комиссару и стражникам, отпустил всех их на волю. Нет сомнения, что
он, должно быть, сумасшедший, или такой же большой негодяй, как и они, или,
наконец, человек без души и совести, если он мог пустить волка среди овец,
лисицу -- среди кур и мух -- на мед. Он захотел попрать правосудие, восстать
против своего короля и законного повелителя, так как он нарушил справедливые
его приказания, он захотел, говорю я, отнять у галер ее ноги {Т. е. ее
гребцов -- галерных невольников.} и встревожил Святую эрмандаду, уже долгие
годы отдыхавшую; словом, он совершил поступок, из-за которого может
погибнуть душа и ничего не выиграет тело.
Санчо рассказал священнику и цирюльнику приключение с галерными
невольниками, совершенное его господином с такой для него славой, и поэтому
священник, упоминая об этом событии, сильно сгустил краски, чтобы
посмотреть, что сделает или скажет Дон Кихот, который при каждом его слове
менялся в лице и не смел признаться, что он был освободителем этих добрых
людей.
-- Вот они-то, -- продолжал священник, -- и ограбили нас; и да простит
Бог в своем милосердии того, кто помешал подвергнуть их заслуженному ими
наказанию.
Затем решили, что священник поедет первый на муле, а после него будут
садиться поочередно остальные трое, пока не доберутся до постоялого двора,
который, по-видимому, отстоял около двух миль оттуда. Когда они двинулись
вперед, -- причем трое ехали верхом, именно Дон Кихот, принцесса и
священник, а трое шли пешком, то есть Карденио, цирюльник и Санчо Панса, --
Дон Кихот сказал девушке:
-- Ваше величество, сеньора моя, теперь ведите нас, куда вам будет
угодно.
Но прежде чем она успела ответить, лисенсиат спросил ее:
-- В какое королевство намерена вести нас ваша милость? Не в
королевство ли Микомикон? Должно быть, что так и есть, или же я плохой
знаток в королевствах.
Она, все схватывавшая налету, поняла, что ей следует ответить
утвердительно, и потому сказала:
-- Да, сеньор, путь мой лежит в королевство Микомикон.
-- Если это так, -- объявил священник, -- то нам придется проехать
через мое село, и оттуда ваша милость направится в Карфаген, где, при удаче,
вы тотчас же можете сесть на корабль, и, если
будет попутный ветер, спокойное море и не случится бури, вы несколько
менее чем в девять лет можете добраться до большого озера Неона -- я хочу
сказать Меотис, -- которое лежит дней на сто с лишком пути от королевства
вашего величества.
-- Милость ваша ошибается, сеньор мой, -- сказала принцесса, -- еще нет
и двух лет, как я уехала оттуда, и могу вас уверить, все время погода стояла
прескверная, а тем не менее мне удалось увидеть того, кого я так сильно
желала видеть, -- именно доблестного сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о
славе которого дошла до моего слуха, едва я вступила в Испанию, и эта-то
молва и побудила меня разыскать его, чтобы поручить себя его великодушию и
доверить справедливое мое дело мужеству его непобедимой руки.
-- Довольно, прекратите ваши восхваления, -- сказал тогда Дон Кихот, --
я враг всякого рода лести, и хотя это не лесть, все же такие речи оскорбляют
мои целомудренные уши. Одно могу сказать вам, сеньора моя -- обладаю ли я
мужеством или не обладаю им, -- то, которое есть у меня или которого нет у
меня, я всецело употреблю на служение вам, готовый даже жертвовать за вас
жизнью. Теперь же, оставив это до поры до времени, попрошу сеньора
лисенсиата сказать мне, какая причина привела его в эту пустынную местность
совершенно одного, без слуг и одетого налегке, что крайне изумляет меня.
-- Отвечу вам на это в кратких словах, -- возразил священник. -- Знайте
же, милость ваша, сеньор Дон Кихот, что я и маэсе Николас, наш друг и наш
цирюльник, мы отправились в Севилью за получением денег, которые один мой
родственник, пробывший долгие годы в Индии, прислал мне, сумма была немалая,
так как превышала шестьдесят тысяч песос {Pesos ensayados -- испанская
монета, имевшая в те времена вес (peso) ровно в унцию серебра, a ensayado
означает "прошедшая через испытание и найденная полновесной".}, да к тому же
и полновесных, что составит чуть ли не еще столько же. А когда мы вчера
проходили близ этой местности, на нас напало четверо разбойников и обобрали
нас вплоть до бороды, так что цирюльник счел нужным приладить себе
поддельную бороду, -- а вот этого молодого человека (и он указал на
Карденио), который идет вместе с нами, они ограбили вторично. И самое лучшее
во всей истории то, что, как ходят в окрестности слухи, напавшие на нас
разбойники были галерные невольники, которых, как они говорят, освободил
почти на этом самом месте человек, обладавший таким мужеством, что он один,
вопреки комиссару и стражникам, отпустил всех их на волю. Нет сомнения, что
он, должно быть, сумасшедший, или такой же большой негодяй, как и они, или,
наконец, человек без души и совести, если он мог пустить волка среди овец,
лисицу -- среди кур и мух -- на мед. Он захотел попрать правосудие, восстать
против своего короля и законного повелителя, так как он нарушил справедливые
его приказания, он захотел, говорю я, отнять у галер ее ноги {Т. е. ее
гребцов -- галерных невольников.} и встревожил Святую эрмандаду, уже долгие
годы отдыхавшую; словом, он совершил поступок, из-за которого может
погибнуть душа и ничего не выиграет тело.
Санчо рассказал священнику и цирюльнику приключение с галерными
невольниками, совершенное его господином с такой для него славой, и поэтому
священник, упоминая об этом событии, сильно сгустил краски, чтобы
посмотреть, что сделает или скажет Дон Кихот, который при каждом его слове
менялся в лице и не смел признаться, что он был освободителем этих добрых
людей.
-- Вот они-то, -- продолжал священник, -- и ограбили нас; и да простит
Бог в своем милосердии того, кто помешал подвергнуть их заслуженному ими
наказанию.

Глава XXX, в которой рассказывается о находчивости прекрасной Доротеи и о
других забавных и увеселительных вещах
 Едва священник кончил, как Санчо сказал:
-- По чести говоря, сеньор лисенсиат, тот, кто совершил этот подвиг,
был господин мой, хотя я, со своей стороны, перед тем и говорил ему и
предупреждал его, чтобы он обдумал то, что делает, и что грех отпускать их
на свободу, потому что все, которые отправляются на галеры, -- величайшие
негодяи. -- Глупец, -- сказал тогда Дон Кихот, -- странствующим рыцарям не
подобает и не приличествует исследовать, за преступления ли или за
добродетели идут таким образом и терпят такие муки скорбные, закованные и
угнетенные, встречаемые ими на дорогах. Единственная забота рыцарей --
помочь им, как нуждающимся в помощи, устремив глаза на их страдания, а не на
дурные их поступки. Я наткнулся на цепь огорченных, несчастных людей и
поступил с ними, как этого требовал священный мой долг, а до остального мне
нет дела. И если кому это не понравилось -- сохраняя всякое уважение к
священному сану и к почтенной особе сеньора лисенсиата,-- я скажу, что он
мало понимает в задачах рыцарства и лжет, как сын блудницы и низкий человек,
что я во всем объеме и докажу ему моим мечом.
Сказав это, он укрепился на стременах и надвинул до бровей шишак,
потому что цирюльничий таз, который, по его мнению, был шлемом Мамбрино, он
привесил к передней луке седла до того времени, когда окажется возможным
отдать исправить его после повреждения, причиненного ему каторжниками.
Доротеа, остроумная и живая, уже хорошо поняв странные причуды Дон
Кихота и то, что все, за исключением лишь Санчо Пансы, подшучивают над ним,
не захотела отстать от других и, видя, что он так взбешен, сказала ему:
-- Сеньор рыцарь, пусть милость ваша вспомнит данное мне обещание,
согласно которому вы не можете вступится ни в какое другое приключение, как
бы оно ни было безотлагательно. Успокойте взволнованное ваше сердце, милость
ваша, так как, если бы сеньор лисенсиат знал, что каторжники были
освобождены этой непобедимой рукой, он дал бы трижды зашить себе рот и даже
трижды прикусил бы себе язык прежде, чем сказать слово, которое бы клонило к
осуждению вас.
-- Да, клянусь в этом, -- сказал священник, -- и сверх того я даже
вырвал бы себе ус {Католическое духовенство, теперь гладко выбритое, во
времена Сервантеса носило и усы, и маленькие бородки.}.
-- Я замолчу, сеньора моя, -- сказал Дон Кихот, -- сдержу справедливый
гнев, уже пробудившийся в моей груди, и буду ехать мирно и спокойно, пока не
совершу того, что обещал вам. Но в награду за мое доброе намерение, я умоляю
вас, скажите мне -- если это не затруднит вас, -- какое ваше горе и кто те
люди, сколько их и какого они звания, которым я должен воздать за вас
заслуженное ими, полное и достойное отмщение?
-- Охотно сделаю это, -- ответила Доротеа, -- если только вам не
наскучит слушать о горестях и несчастиях.
-- Не наскучит, сеньора моя, -- сказал Дон Кихот.
-- В таком случае, -- ответила Доротеа, -- прошу у вас внимания,
милости ваши.
Не успела она сказать это, как уже Карденио и цирюльник очутились рядом
с ней, желая послушать, как будет сочинять свою историю остроумная
Доротеа; то же самое сделал и Санчо, столь же заблуждающийся на ее счет, как
и его господин. А она, хорошенько усевшись на седле, кашлянув и произведя
еще некоторые другие жесты в виде предисловия, заговорила очень мило
следующим образом:
-- Прежде всего, сеньоры, вашим милостям следует знать, что меня
зовут...
Здесь она запнулась немного, потому что забыла имя, данное ей
священником; но он поспешил ей на помощь, догадавшись, что, собственно,
затрудняет ее, и воскликнул:
-- Неудивительно, сеньора моя, что ваше величие смущается и приходит в
замешательство, рассказывая о своих злоключениях; ведь несчастия часто
бывают такого рода, что отнимают память у тех, на кого они обрушиваются, и
люди забывают даже собственное свое имя, как это и случилось с вашим
высочеством, забывшим, что вас, законную наследницу великого королевства
Микомикон зовут принцесса Микомикона. Приняв к сведению это напоминание,
ваше величие легко может восстановить в омраченной своей памяти все, что вам
угодно рассказать нам.
-- Это совершенно верно, -- ответила девушка, -- и я думаю, что впредь
мне уже не понадобится больше никаких указаний, так как я сама доведу
правдивую свою историю до благополучного конца. Итак, вот она. Король, мой
отец, которого звали Тинакрио Мудрый, был очень сведущ в искусстве,
называемом магией, и благодаря своей науке он узнал, что королева, моя мать,
по имени Харамилья, должна умереть раньше него, и вскоре затем и ему самому
придется проститься с жизнью, а я останусь круглой сиротой, без отца и
матери. Но, говорил он, его не столько огорчало это, сколько пугали
достоверные сведения, что огромный великан, владетель большого острова,
почти пограничного с нашим королевством, по имени Пандафиландо Мрачный Взор
(потому что достоверно известно, что хотя у него глаза на месте и правильно
расположены, однако он всегда глядит вкось, как будто он косой, и делает это
нарочно, из злобы, чтобы нагнать страх и ужас на тех, на кого он смотрит),
итак, я говорю, отец мой знал, что великан этот, прослышав о моем сиротстве,
ворвется с большой военной силой в мое королевство и отнимет у меня все, не
оставив даже маленькой деревеньки, где бы я нашла себе убежище; но что я
могу избегнуть всего этого разорения и несчастия, если соглашусь выйти замуж
за него, хотя, насколько мой отец мог предвидеть, он был уверен, что я
никогда не соглашусь на такой неравный брак. И в этом он был совершенно
прав, потому что мне никогда и в мысль не приходило выйти замуж за этого
великана, но и ни за какого другого, как бы он ни был велик и огромен. Отец
сказал мне также, что после того, как он умрет, и я увижу, что Пандафиландо
начинает вторгаться в мое королевство, я не должна защищаться, так как это
привело бы к моей гибели, а добровольно, без всякого сопротивления должна
предоставить ему завладеть королевством, если я желаю предотвратить резню и
полное истребление моих добрых и верных подданных, потому что мне было бы
невозможно защищаться против дьявольского могущества великана; и чтобы
тотчас же с некоторыми из моих приближенных я отправилась в Испанию, где
обрету помощь своему горю, встретившись со странствующим рыцарем, слава
которого распространится в то время по всему этому государству, и будет он
называться -- если я хорошо припоминаю -- дон Асоте или дон Гиготе.
-- Дон Кихот, сказал он, должно быть, -- воскликнул тогда Санчо
Панса,-- или же иным своим именем: Рыцарь Печального Образа.
-- Совершенно верно, -- подтвердила Доротеа, -- и, кроме того, он еще
говорил, что тот рыцарь высокого роста, сухощав лицом, а с правой стороны
под левым плечом или поблизости у плеча у него темное родимое пятно с
несколькими волосиками наподобие кабаньей щетины.
Услыхав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:
-- Иди сюда, Санчо, сын, помоги мне раздеться, -- я желаю видеть, тот
ли я рыцарь, о котором пророчествовал мудрый король.
-- Но зачем же ваша милость желает раздеваться? -- спросила Доротеа.
-- Чтобы посмотреть, есть ли у меня то родимое пятно, о котором говорил
вам отец, -- ответил Дон Кихот.
-- Для этого незачем раздеваться,-- сказал Санчо, -- так как я знаю,
что у вашей милости есть родимое пятно в таком роде посреди спинного хребта,
а это признак, что вы человек сильный.
-- Этого достаточно, -- сказала Доротеа, -- потому что между друзьями
не следует обращать внимание на мелочи, и на плече ли родимое пятно, или на
спине, -- это неважно; довольно того, что есть родимое пятно, и пусть оно
будет себе где угодно, ведь тело везде одно и то же. Несомненно, добрый мой
отец был прав во всем, и я не ошиблась, обратившись к сеньору Дон Кихоту,
потому что он и есть тот, о котором мне говорил мой отец, так как приметы
его лица совпадают с приметами великой славы этого рыцаря не только в
Испании, но и во всей Ламанче. И действительно, едва я высадилась в Осуне,
как уже столько наслышалась о его подвигах, что сердце тотчас же подсказало
мне: это тот и есть, кого я приехала искать.
-- Но как же, сеньора моя, -- спросил Дон Кихот, -- ваша милость могла
высадиться в Осуне, когда это не морская гавань?
Прежде чем Доротеа успела ответить, священник предупредил ее, говоря:
-- Должно быть, сеньора принцесса хотела сказать, что после того как
она высадилась в Малаге, первое место, где она услышала вести о вашей
милости, было в Осуне.
-- Именно это я и хотела сказать,-- подтвердила Доротеа.
-- Дело выяснилось, -- объявил священник, -- и потому не угодно ли
вашему величеству продолжать.
-- Продолжать мне, собственно, нечего, -- ответила Доротеа, -- могу
только добавить, что наконец судьба оказалась ко мне так благосклонна: я
нашла сеньора Дон Кихота и теперь уже мысленно вижу и считаю себя королевой
и повелительницей всего моего государства, с тех пор как он, по своей
учтивости и великодушию, обещал мне оказать милость идти со мною всюду, куда
бы я ни повела его, а поведу я его только навстречу Пандафиландо Мрачному
Взору, чтобы он убил его и вернул мне то, что против всякой справедливости
было захвачено им, и все это должно исполниться точь-в-точь, как предсказал
Тинакрио Мудрый, мой добрый отец. Он также распорядился и написал
халдейскими или греческими буквами, -- не знаю, так как не умею их читать,
-- что, если этот рыцарь его пророчества, отрубив голову великана, пожелал
бы жениться на мне, я тотчас же без всякого возражения должна согласиться
стать законной его женой и вручить ему обладание моим королевством
одновременно с обладанием моей особой.
-- Что ты скажешь на это, Санчо, друг, -- спросил тогда Дон Кихот. --
Слышал ли ты, о чем речь? Не говорил ли я тебе этого? Видишь, у нас уже есть
и королевство, чтобы управлять им, и королева, чтобы жениться на ней.
-- Клянусь, что это так, -- сказал Санчо, -- и был бы сыном блудницы
тот, кто не женился бы сейчас, лишь только перережет горло сеньору
Пандафиландо! Плоха, что ли, у нас королева? Желал бы я, чтоб в такие, как
она, превратились все блохи в моей постели!
И, говоря это, он сделал прыжка два в воздухе с признаками величайшего
удовольствия, после чего схватил за узду мула Доротеи, остановил его и
бросился перед нею на колени, умоляя позволить ему поцеловать ее руки в знак
того, что он ее признает своей королевой и повелительницей. Кто из
присутствующих мог бы удержаться от смеха при виде безумия господина и
простоватости его слуги? Доротеа дала Санчо поцеловать свои руки и обещала
ему сделать его знатным сеньором в своем королевстве, когда небу угодно
будет дозволить ей снова овладеть и пользоваться им. Санчо поблагодарил ее в
таких выражениях, что опять возбудил общий смех.
-- Вот, сеньоры, -- продолжала Доротеа, -- моя история; мне остается
только добавить, что из всей свиты, вывезенной мной из моего королевства, у
меня никого не осталось, кроме вот этого бородатого оруженосца, так как все
остальные потонули во время страшной бури, разразившейся над нами уже в виду
гавани. Он и я, мы добрались до берега на двух досках точно чудом, да и вся
моя жизнь, как вы могли заметить, полна чудес и тайн. Если же я, рассказывая
о ней, зашла в чем-либо дальше или же не была столь точной, как бы
следовало, припишите вину тому, о чем сеньор лисенсиат упоминал в начале
моего рассказа, именно: что беспрерывные и необычайные страдания отнимают
память у людей, их испытывающих.
-- Они не отнимут памяти у меня, о возвышенная и доблестная сеньора,--
воскликнул Дон Кихот, -- какие бы страдания я ни испытал на службе у вас и
как бы они ни были велики и неслыханны! Итак, я снова подтверждаю данное вам
мое обещание исполнить вашу просьбу и клянусь идти за вами на край света,
пока не встречусь лицом к лицу с свирепым вашим врагом, которому с помощью
божией и моей сильной руки я намерен отрубить гордую голову острием этого...
не могу сказать хорошего, меча благодаря Хинесу де Пасамонте, который унес
мой.
Последние слова он пробормотал сквозь зубы и продолжал, говоря:
-- А после того как я отрублю ему голову и верну вам мирное обладание
вашим государством, вы можете свободно располагать своей особой, как только
вам заблагорассудится, потому что, до тех пор пока сердце мое в плену, воля
порабощена и разум подчинен той... не скажу ничего больше, -- мне невозможно
допустить даже и мысль о женитьбе хотя бы на самой птице феникс.
Санчо был так возмущен последними словами, сказанными его господином
относительно его нежелания жениться, что он, возвысив голос в величайшем
гневе воскликнул:
-- Клянусь и божусь, сеньор Дон Кихот, что вы, милость ваша, не в
здравом уме! Как так? Неужели возможно, чтобы милость ваша колебалась,
жениться ли ей или нет на столь знатной принцессе, как вот эта? Думаете ли
вы, что судьба на каждом перекрестке преподнесет вам такое счастие, какое
она теперь вам пре-
подносит? Или, по-вашему, быть может, сеньора Дульсинея красивее?
Конечно, нет, она и вполовину не так красива, и я готов сказать, что ей не
дойти даже до края башмаков той, которая здесь, перед нами. Плохая же
надежда у меня получить графство, которое я ожидаю, если ваша милость
отправится искать лакомства на дне моря {Pedir cotufasen elgolfo --
испанская поговорка, означающая "искать невозможного": cotufas -- нечто
вроде шишек, или нароста, осоки, годной для еды, которую в Валенсии считают
лакомством и из которой делают народное питье, называемое horchata.}.
Женитесь, женитесь тотчас же ради самого сатаны и берите это королевство,
которое так, ни за что, ни про что само лезет вам в руки, а будучи королем,
сделайте меня маркизом или генерал-губернатором, а остальное хоть бы черт
тогда побрал!
Дон Кихот, услыхав такие кощунства против своей сеньоры Дульсинеи, не
мог стерпеть этого и, не говоря ни слова, не разжимая рта, поднял копье и
нанес им такие два удара своему оруженосцу, от которых тот свалился на
землю, и, если б Доротеа не крикнула, чтобы он перестал его бить, он наверно
уложил бы его на месте.
-- Воображаете ли вы, низкий негодяй, -- обратился он к нему немного
погодя, -- что я вам всегда позволю хватать меня за самое чувствительное
место и вы то и дело будете грешить, а я то и дело буду прощать вам? Не
думайте этого, распроклятый подлец, так как, без сомнения, ты подлец, если у
тебя повернулся язык против несравненной Дульсинеи; и разве вы не знаете,
олух, бродяга, мошенник, что, если б не доблесть, которую она сообщает моей
руке, у меня не было бы силы убить и блоху? Скажите мне, насмешник со
змеиным жалом, как вы полагаете, кто завоевал это королевство, отрубил
голову великану и сделал вас маркизом (потому что все это я считаю уже делом
решенным и совершившимся), если не могущество Дульсинеи, избравшей мою руку
орудием своих подвигов? Она во мне сражается и побеждает мною, и я живу и
дышу ею, и в ней вся жизнь моя и существование мое. О сын блудницы, негодяй,
как вы неблагодарны, если, видя, что вас подняли из праха и сделали знатным
вельможей, вы за такое благодеяние платите, злословя ту, которая оказала вам
его!
Санчо не был в столь плохом состоянии, чтобы не мог слышать всего, что
говорит его господин, и, поднявшись довольно проворно, он укрылся позади
парадного коня Доротеи и оттуда обратился к господину своему, говоря:
-- Скажите мне, сеньор, если милость ваша решила не жениться на этой
могучей принцессе, ясно, что в таком случае королевство не будет вашим, а
если оно не будет вашим, какие же вы мне можете оказать милости? На это-то
именно я и жалуюсь: женитесь раз и навсегда на этой королеве, теперь, пока
она у нас здесь, точно упавшая к нам с неба, а потом можете вернуться к
сеньоре Дульсинее, так как, должно быть, были же на свете короли, имевшие
любовниц. Что же касается вопроса о красоте, в это я не вмешиваюсь, потому
что, по правде говоря, обе они кажутся мне красивыми, хотя я никогда не
видел сеньоры Дульсинеи.
-- Как? Ты ее не видел, кощунствующий предатель? -- воскликнул Дон
Кихот. -- Не ты ли только что привез мне от нее известие?
-- Я говорю, что не видел ее на таком досуге, -- ответил Санчо, --
чтобы я мог рассмотреть ее красоту и хорошие качества по частям и в
отдельности, но так, в общем, она показалась мне очень хороша.
-- Теперь я прощаю тебя, -- сказал Дон Кихот, -- и ты прости мне обиду,
которую я тебе нанес, потому что над первыми своими порывами человек не
властен.
-- Это я вижу, -- ответил Санчо, -- вот так и во мне желание поговорить
является всегда первым порывом, и я не могу удержаться, чтобы хоть время от
времени не высказать того, что мне подвернется на язык.
-- Тем не менее, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- в будущем думай о том,
что ты говоришь, так как повадился кувшин по воду ходить... Больше ничего не
скажу.
-- Что ж, -- ответил Санчо, -- на небе Бог, и Он видит все проделки и
рассудит, кто больше грешит: я ли, говоря нехорошо, или ваша милость,
поступая дурно.
-- Довольно, -- сказала Доротеа,-- идите, Санчо, поцелуйте руку своему
господину, попросите у него прощения, и отныне и впредь будьте осторожнее в
ваших похвалах и в порицаниях, и не говорите дурно об этой сеньоре Тобосо,
которую я не знаю, но всегда готова служить ей, и уповайте на Бога, что от
вас не уйдет владение, где вам можно будет жить, как принцу.
Санчо подошел, опустив голову к своему господину и попросил у него
руку, которую тот и протянул ему с большим достоинством, и, после того как
Санчо ее поцеловал, рыцарь благословил его и сказал, что им надо пройти
немного вперед, так как он хочет кое о чем спросить его и должен
переговорить с ним об очень важных вещах. Санчо так и сделал, и оба они
прошли некоторое расстояние, и тогда Дон Кихот сказал:
-- С тех пор как ты вернулся, у меня не было ни времени, ни случая
расспросить тебя о многих подробностях посольства, порученного мною тебе, и
об ответе, который ты мне привез; и теперь, когда судьба предоставила нам
время и место, не отказывай мне в счастии, которое ты можешь доставить мне
своими добрыми вестями.
-- Пусть ваша милость спрашивает, что желает, -- ответил Санчо, -- и я
дам точный ответ обо всем: и как приехал, и как уехал; но умоляю милость
вашу, сеньор мой, не будьте впредь столь мстительны.
-- Отчего ты это говоришь, Санчо? -- спросил Дон Кихот.
-- Говорю это оттого, -- ответил он, -- что только что полученные мною
удары скорее относились к ссоре, возбужденной между нами дьяволом прошлой
ночью, чем к тому, что я сказал против сеньоры Дульсинеи, которую я люблю и
чту, как святые мощи -- хотя в ней и нет ничего святого, -- только потому,
что она принадлежит вашей милости.
-- Оставь эти разговоры, Санчо, заклинаю тебя твоею жизнью, -- сказал
Дон Кихот, -- они возбуждают во мне досаду. Тогда я простил тебя, но ты
хорошо знаешь, что принято говорить: за новый грех -- новое покаяние.
-----
Пока это происходило, они увидели, что по той же дороге, как и они,
едет человек верхом на осле, и, когда он подъехал ближе, он показался им
цыганом; но Санчо Панса, глаза и душа которого устремлялись за ослом, где бы
он ни увидел его, едва заметил того человека, как в нем узнал Хинеса де
Пасамонте. От цыгана, словно от нитки до клубка, он добрался и до своего
осла и нимало не ошибся, так как именно на его Сером и ехал Пасамонте,
который, чтобы его не узнали и желая продать осла, оделся цыганом, а язык их
и многие другие он знал так же хорошо, как и свой родной. Санчо увидел его и
узнал, и едва он его увидел и узнал, как громким голосом крикнул ему: "А,
вор Хинесильо, оставь мое сокровище, отдай мне мою жизнь, не впутывайся в
мою отраду; отдай моего осла, отдай мне мое счастье; беги, сын блудницы,
убирайся, вор, и верни то, что не принадлежит тебе!". Не было нужды тратить
столько слов и ругательств, так как при первом же Хинес спрыгнул на землю,
и, бросившись бежать быстрою рысью, казавшеюся скачкой, он в одну минуту
удалился и исчез из глаз. Санчо подошел к своему Серому и, обнимая его,
сказал: "Как тебе жилось, радость моя, дорогой мой Серый, мой добрый
товарищ?". И вместе с тем, он целовал и ласкал его, точно это был человек;
осел молчал и давал Санчо целовать себя и ласкать, не отвечая ему ни слова.
Все остальные подошли к Санчо и поздравляли его с находкой Серого, особенно
Дон Кихот, который ему сказал, что, тем не менее он не возьмет назад своего
приказа на выдачу трех ослят. Санчо поблагодарил его за это {Этот эпизод был
вставлен во втором издании "Дон Кихота".}.
-----
Пока оба они были заняты этими разговорами, священник сказал Доротее,
что она действовала очень умно как относительно содержания своего рассказа,
так и относительно краткости его и сходства с рыцарскими книгами. Она
ответила, что часто развлекалась чтением их, но не знала, где находятся
провинции и морские гавани, и потому наугад сказала, что высадилась в Осуне.
-- Я это так и понял, -- ответил священник, -- и потому сейчас же
поспешил сказать то, что я сказал, чем все и уладилось. Но не странно ли
видеть, с какою легкостью этот несчастный идальго верит всем подобным
выдумкам и лжи только потому, что на них отпечаток слога и характера
нелепостей, заключающихся в его книгах?
-- Конечно, это странно, -- сказал Карденио, -- и это столь редкостное
и неслыханное явление, что, я не знаю, если б кто захотел изобрести и
сочинить нечто такое, имел ли бы он настолько острый ум, чтобы успешно
справиться с подобной задачей?
-- Тут есть еще одно обстоятельство, -- сказал священник, -- именно:
оставив в стороне нелепости, которые этот добрый идальго говорит, когда
коснутся области его безумия, если завести с ним речь о других вещах, он
рассуждает как нельзя более правильно и выказывает ясный и трезвый ум, так
что, лишь бы не затрагивали его рыцарства, всякий счел бы его за вполне
здравомыслящего человека.
Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал свой и сказал Санчо:
-- Предадим забвению {Echemospelillos a la mar, -- букв, "бросим
волосики в море": испанское выражение, употребляемое теми, кто поссорился и
помирился.}, друг Панса, все наши размолвки, и скажи мне теперь, откинув
всякую злобу и досаду, где, как и когда увидел ты Дульсинеию? Что она
делала? Что ты сказал ей? Что она тебе ответила? Какое было выражение ее
лица, когда она читала мое письмо? Кто переписал его тебе? Скажи мне все,
что, по-твоему, в данном случае заслуживает быть рассказанным, о чем следует
спросить и на что ответить, ничего не прибавляя и не сочиняя, чтобы
доставить мне удовольствие, и тем менее не урезывая ничего, чтобы не лишить
меня его.
-- Сеньор, -- ответил Санчо, -- если уж говорить правду, письма мне
никто не переписывал, потому что у меня и не было никакого письма.
-- Оно так и есть, как ты говоришь,-- сказал Дон Кихот, -- и я нашел у
себя спустя два дня после твоего отъезда записную книжечку, в которой я
написал письмо, и был очень огорчен, так как не знал, что ты сделаешь, когда
увидишь, что у тебя нет письма. Я думал, что ты сейчас же вернешься, как
только заметишь, что его нет у тебя.
-- Я бы это и сделал, -- сказал Санчо, -- если бы не запомнил письма
наизусть, когда ваша милость читала мне его, так что я пересказал его
пономарю, который с моих слов записал его точка в точку, говоря, что хотя он
и читал много окружных посланий об отлучении от церкви, но во всю свою жизнь
не видел и не читал такого милого письма, как это.
-- И ты его все еще помнишь наизусть Санчо? -- спросил Дон Кихот.
-- Нет, сеньор, -- ответил Санчо,-- потому что, пересказав его пономарю
и видя, что оно больше не нужно, я допустил себя забыть его. Единственное,
что я еще помню, это "ограниченная" я хотел сказать "неограниченная
повелительница", и конец: "Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа", а в
промежутке я вставил больше трехсот: "душа моя, жизнь моя и очи мои".
Едва священник кончил, как Санчо сказал:
-- По чести говоря, сеньор лисенсиат, тот, кто совершил этот подвиг,
был господин мой, хотя я, со своей стороны, перед тем и говорил ему и
предупреждал его, чтобы он обдумал то, что делает, и что грех отпускать их
на свободу, потому что все, которые отправляются на галеры, -- величайшие
негодяи. -- Глупец, -- сказал тогда Дон Кихот, -- странствующим рыцарям не
подобает и не приличествует исследовать, за преступления ли или за
добродетели идут таким образом и терпят такие муки скорбные, закованные и
угнетенные, встречаемые ими на дорогах. Единственная забота рыцарей --
помочь им, как нуждающимся в помощи, устремив глаза на их страдания, а не на
дурные их поступки. Я наткнулся на цепь огорченных, несчастных людей и
поступил с ними, как этого требовал священный мой долг, а до остального мне
нет дела. И если кому это не понравилось -- сохраняя всякое уважение к
священному сану и к почтенной особе сеньора лисенсиата,-- я скажу, что он
мало понимает в задачах рыцарства и лжет, как сын блудницы и низкий человек,
что я во всем объеме и докажу ему моим мечом.
Сказав это, он укрепился на стременах и надвинул до бровей шишак,
потому что цирюльничий таз, который, по его мнению, был шлемом Мамбрино, он
привесил к передней луке седла до того времени, когда окажется возможным
отдать исправить его после повреждения, причиненного ему каторжниками.
Доротеа, остроумная и живая, уже хорошо поняв странные причуды Дон
Кихота и то, что все, за исключением лишь Санчо Пансы, подшучивают над ним,
не захотела отстать от других и, видя, что он так взбешен, сказала ему:
-- Сеньор рыцарь, пусть милость ваша вспомнит данное мне обещание,
согласно которому вы не можете вступится ни в какое другое приключение, как
бы оно ни было безотлагательно. Успокойте взволнованное ваше сердце, милость
ваша, так как, если бы сеньор лисенсиат знал, что каторжники были
освобождены этой непобедимой рукой, он дал бы трижды зашить себе рот и даже
трижды прикусил бы себе язык прежде, чем сказать слово, которое бы клонило к
осуждению вас.
-- Да, клянусь в этом, -- сказал священник, -- и сверх того я даже
вырвал бы себе ус {Католическое духовенство, теперь гладко выбритое, во
времена Сервантеса носило и усы, и маленькие бородки.}.
-- Я замолчу, сеньора моя, -- сказал Дон Кихот, -- сдержу справедливый
гнев, уже пробудившийся в моей груди, и буду ехать мирно и спокойно, пока не
совершу того, что обещал вам. Но в награду за мое доброе намерение, я умоляю
вас, скажите мне -- если это не затруднит вас, -- какое ваше горе и кто те
люди, сколько их и какого они звания, которым я должен воздать за вас
заслуженное ими, полное и достойное отмщение?
-- Охотно сделаю это, -- ответила Доротеа, -- если только вам не
наскучит слушать о горестях и несчастиях.
-- Не наскучит, сеньора моя, -- сказал Дон Кихот.
-- В таком случае, -- ответила Доротеа, -- прошу у вас внимания,
милости ваши.
Не успела она сказать это, как уже Карденио и цирюльник очутились рядом
с ней, желая послушать, как будет сочинять свою историю остроумная
Доротеа; то же самое сделал и Санчо, столь же заблуждающийся на ее счет, как
и его господин. А она, хорошенько усевшись на седле, кашлянув и произведя
еще некоторые другие жесты в виде предисловия, заговорила очень мило
следующим образом:
-- Прежде всего, сеньоры, вашим милостям следует знать, что меня
зовут...
Здесь она запнулась немного, потому что забыла имя, данное ей
священником; но он поспешил ей на помощь, догадавшись, что, собственно,
затрудняет ее, и воскликнул:
-- Неудивительно, сеньора моя, что ваше величие смущается и приходит в
замешательство, рассказывая о своих злоключениях; ведь несчастия часто
бывают такого рода, что отнимают память у тех, на кого они обрушиваются, и
люди забывают даже собственное свое имя, как это и случилось с вашим
высочеством, забывшим, что вас, законную наследницу великого королевства
Микомикон зовут принцесса Микомикона. Приняв к сведению это напоминание,
ваше величие легко может восстановить в омраченной своей памяти все, что вам
угодно рассказать нам.
-- Это совершенно верно, -- ответила девушка, -- и я думаю, что впредь
мне уже не понадобится больше никаких указаний, так как я сама доведу
правдивую свою историю до благополучного конца. Итак, вот она. Король, мой
отец, которого звали Тинакрио Мудрый, был очень сведущ в искусстве,
называемом магией, и благодаря своей науке он узнал, что королева, моя мать,
по имени Харамилья, должна умереть раньше него, и вскоре затем и ему самому
придется проститься с жизнью, а я останусь круглой сиротой, без отца и
матери. Но, говорил он, его не столько огорчало это, сколько пугали
достоверные сведения, что огромный великан, владетель большого острова,
почти пограничного с нашим королевством, по имени Пандафиландо Мрачный Взор
(потому что достоверно известно, что хотя у него глаза на месте и правильно
расположены, однако он всегда глядит вкось, как будто он косой, и делает это
нарочно, из злобы, чтобы нагнать страх и ужас на тех, на кого он смотрит),
итак, я говорю, отец мой знал, что великан этот, прослышав о моем сиротстве,
ворвется с большой военной силой в мое королевство и отнимет у меня все, не
оставив даже маленькой деревеньки, где бы я нашла себе убежище; но что я
могу избегнуть всего этого разорения и несчастия, если соглашусь выйти замуж
за него, хотя, насколько мой отец мог предвидеть, он был уверен, что я
никогда не соглашусь на такой неравный брак. И в этом он был совершенно
прав, потому что мне никогда и в мысль не приходило выйти замуж за этого
великана, но и ни за какого другого, как бы он ни был велик и огромен. Отец
сказал мне также, что после того, как он умрет, и я увижу, что Пандафиландо
начинает вторгаться в мое королевство, я не должна защищаться, так как это
привело бы к моей гибели, а добровольно, без всякого сопротивления должна
предоставить ему завладеть королевством, если я желаю предотвратить резню и
полное истребление моих добрых и верных подданных, потому что мне было бы
невозможно защищаться против дьявольского могущества великана; и чтобы
тотчас же с некоторыми из моих приближенных я отправилась в Испанию, где
обрету помощь своему горю, встретившись со странствующим рыцарем, слава
которого распространится в то время по всему этому государству, и будет он
называться -- если я хорошо припоминаю -- дон Асоте или дон Гиготе.
-- Дон Кихот, сказал он, должно быть, -- воскликнул тогда Санчо
Панса,-- или же иным своим именем: Рыцарь Печального Образа.
-- Совершенно верно, -- подтвердила Доротеа, -- и, кроме того, он еще
говорил, что тот рыцарь высокого роста, сухощав лицом, а с правой стороны
под левым плечом или поблизости у плеча у него темное родимое пятно с
несколькими волосиками наподобие кабаньей щетины.
Услыхав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:
-- Иди сюда, Санчо, сын, помоги мне раздеться, -- я желаю видеть, тот
ли я рыцарь, о котором пророчествовал мудрый король.
-- Но зачем же ваша милость желает раздеваться? -- спросила Доротеа.
-- Чтобы посмотреть, есть ли у меня то родимое пятно, о котором говорил
вам отец, -- ответил Дон Кихот.
-- Для этого незачем раздеваться,-- сказал Санчо, -- так как я знаю,
что у вашей милости есть родимое пятно в таком роде посреди спинного хребта,
а это признак, что вы человек сильный.
-- Этого достаточно, -- сказала Доротеа, -- потому что между друзьями
не следует обращать внимание на мелочи, и на плече ли родимое пятно, или на
спине, -- это неважно; довольно того, что есть родимое пятно, и пусть оно
будет себе где угодно, ведь тело везде одно и то же. Несомненно, добрый мой
отец был прав во всем, и я не ошиблась, обратившись к сеньору Дон Кихоту,
потому что он и есть тот, о котором мне говорил мой отец, так как приметы
его лица совпадают с приметами великой славы этого рыцаря не только в
Испании, но и во всей Ламанче. И действительно, едва я высадилась в Осуне,
как уже столько наслышалась о его подвигах, что сердце тотчас же подсказало
мне: это тот и есть, кого я приехала искать.
-- Но как же, сеньора моя, -- спросил Дон Кихот, -- ваша милость могла
высадиться в Осуне, когда это не морская гавань?
Прежде чем Доротеа успела ответить, священник предупредил ее, говоря:
-- Должно быть, сеньора принцесса хотела сказать, что после того как
она высадилась в Малаге, первое место, где она услышала вести о вашей
милости, было в Осуне.
-- Именно это я и хотела сказать,-- подтвердила Доротеа.
-- Дело выяснилось, -- объявил священник, -- и потому не угодно ли
вашему величеству продолжать.
-- Продолжать мне, собственно, нечего, -- ответила Доротеа, -- могу
только добавить, что наконец судьба оказалась ко мне так благосклонна: я
нашла сеньора Дон Кихота и теперь уже мысленно вижу и считаю себя королевой
и повелительницей всего моего государства, с тех пор как он, по своей
учтивости и великодушию, обещал мне оказать милость идти со мною всюду, куда
бы я ни повела его, а поведу я его только навстречу Пандафиландо Мрачному
Взору, чтобы он убил его и вернул мне то, что против всякой справедливости
было захвачено им, и все это должно исполниться точь-в-точь, как предсказал
Тинакрио Мудрый, мой добрый отец. Он также распорядился и написал
халдейскими или греческими буквами, -- не знаю, так как не умею их читать,
-- что, если этот рыцарь его пророчества, отрубив голову великана, пожелал
бы жениться на мне, я тотчас же без всякого возражения должна согласиться
стать законной его женой и вручить ему обладание моим королевством
одновременно с обладанием моей особой.
-- Что ты скажешь на это, Санчо, друг, -- спросил тогда Дон Кихот. --
Слышал ли ты, о чем речь? Не говорил ли я тебе этого? Видишь, у нас уже есть
и королевство, чтобы управлять им, и королева, чтобы жениться на ней.
-- Клянусь, что это так, -- сказал Санчо, -- и был бы сыном блудницы
тот, кто не женился бы сейчас, лишь только перережет горло сеньору
Пандафиландо! Плоха, что ли, у нас королева? Желал бы я, чтоб в такие, как
она, превратились все блохи в моей постели!
И, говоря это, он сделал прыжка два в воздухе с признаками величайшего
удовольствия, после чего схватил за узду мула Доротеи, остановил его и
бросился перед нею на колени, умоляя позволить ему поцеловать ее руки в знак
того, что он ее признает своей королевой и повелительницей. Кто из
присутствующих мог бы удержаться от смеха при виде безумия господина и
простоватости его слуги? Доротеа дала Санчо поцеловать свои руки и обещала
ему сделать его знатным сеньором в своем королевстве, когда небу угодно
будет дозволить ей снова овладеть и пользоваться им. Санчо поблагодарил ее в
таких выражениях, что опять возбудил общий смех.
-- Вот, сеньоры, -- продолжала Доротеа, -- моя история; мне остается
только добавить, что из всей свиты, вывезенной мной из моего королевства, у
меня никого не осталось, кроме вот этого бородатого оруженосца, так как все
остальные потонули во время страшной бури, разразившейся над нами уже в виду
гавани. Он и я, мы добрались до берега на двух досках точно чудом, да и вся
моя жизнь, как вы могли заметить, полна чудес и тайн. Если же я, рассказывая
о ней, зашла в чем-либо дальше или же не была столь точной, как бы
следовало, припишите вину тому, о чем сеньор лисенсиат упоминал в начале
моего рассказа, именно: что беспрерывные и необычайные страдания отнимают
память у людей, их испытывающих.
-- Они не отнимут памяти у меня, о возвышенная и доблестная сеньора,--
воскликнул Дон Кихот, -- какие бы страдания я ни испытал на службе у вас и
как бы они ни были велики и неслыханны! Итак, я снова подтверждаю данное вам
мое обещание исполнить вашу просьбу и клянусь идти за вами на край света,
пока не встречусь лицом к лицу с свирепым вашим врагом, которому с помощью
божией и моей сильной руки я намерен отрубить гордую голову острием этого...
не могу сказать хорошего, меча благодаря Хинесу де Пасамонте, который унес
мой.
Последние слова он пробормотал сквозь зубы и продолжал, говоря:
-- А после того как я отрублю ему голову и верну вам мирное обладание
вашим государством, вы можете свободно располагать своей особой, как только
вам заблагорассудится, потому что, до тех пор пока сердце мое в плену, воля
порабощена и разум подчинен той... не скажу ничего больше, -- мне невозможно
допустить даже и мысль о женитьбе хотя бы на самой птице феникс.
Санчо был так возмущен последними словами, сказанными его господином
относительно его нежелания жениться, что он, возвысив голос в величайшем
гневе воскликнул:
-- Клянусь и божусь, сеньор Дон Кихот, что вы, милость ваша, не в
здравом уме! Как так? Неужели возможно, чтобы милость ваша колебалась,
жениться ли ей или нет на столь знатной принцессе, как вот эта? Думаете ли
вы, что судьба на каждом перекрестке преподнесет вам такое счастие, какое
она теперь вам пре-
подносит? Или, по-вашему, быть может, сеньора Дульсинея красивее?
Конечно, нет, она и вполовину не так красива, и я готов сказать, что ей не
дойти даже до края башмаков той, которая здесь, перед нами. Плохая же
надежда у меня получить графство, которое я ожидаю, если ваша милость
отправится искать лакомства на дне моря {Pedir cotufasen elgolfo --
испанская поговорка, означающая "искать невозможного": cotufas -- нечто
вроде шишек, или нароста, осоки, годной для еды, которую в Валенсии считают
лакомством и из которой делают народное питье, называемое horchata.}.
Женитесь, женитесь тотчас же ради самого сатаны и берите это королевство,
которое так, ни за что, ни про что само лезет вам в руки, а будучи королем,
сделайте меня маркизом или генерал-губернатором, а остальное хоть бы черт
тогда побрал!
Дон Кихот, услыхав такие кощунства против своей сеньоры Дульсинеи, не
мог стерпеть этого и, не говоря ни слова, не разжимая рта, поднял копье и
нанес им такие два удара своему оруженосцу, от которых тот свалился на
землю, и, если б Доротеа не крикнула, чтобы он перестал его бить, он наверно
уложил бы его на месте.
-- Воображаете ли вы, низкий негодяй, -- обратился он к нему немного
погодя, -- что я вам всегда позволю хватать меня за самое чувствительное
место и вы то и дело будете грешить, а я то и дело буду прощать вам? Не
думайте этого, распроклятый подлец, так как, без сомнения, ты подлец, если у
тебя повернулся язык против несравненной Дульсинеи; и разве вы не знаете,
олух, бродяга, мошенник, что, если б не доблесть, которую она сообщает моей
руке, у меня не было бы силы убить и блоху? Скажите мне, насмешник со
змеиным жалом, как вы полагаете, кто завоевал это королевство, отрубил
голову великану и сделал вас маркизом (потому что все это я считаю уже делом
решенным и совершившимся), если не могущество Дульсинеи, избравшей мою руку
орудием своих подвигов? Она во мне сражается и побеждает мною, и я живу и
дышу ею, и в ней вся жизнь моя и существование мое. О сын блудницы, негодяй,
как вы неблагодарны, если, видя, что вас подняли из праха и сделали знатным
вельможей, вы за такое благодеяние платите, злословя ту, которая оказала вам
его!
Санчо не был в столь плохом состоянии, чтобы не мог слышать всего, что
говорит его господин, и, поднявшись довольно проворно, он укрылся позади
парадного коня Доротеи и оттуда обратился к господину своему, говоря:
-- Скажите мне, сеньор, если милость ваша решила не жениться на этой
могучей принцессе, ясно, что в таком случае королевство не будет вашим, а
если оно не будет вашим, какие же вы мне можете оказать милости? На это-то
именно я и жалуюсь: женитесь раз и навсегда на этой королеве, теперь, пока
она у нас здесь, точно упавшая к нам с неба, а потом можете вернуться к
сеньоре Дульсинее, так как, должно быть, были же на свете короли, имевшие
любовниц. Что же касается вопроса о красоте, в это я не вмешиваюсь, потому
что, по правде говоря, обе они кажутся мне красивыми, хотя я никогда не
видел сеньоры Дульсинеи.
-- Как? Ты ее не видел, кощунствующий предатель? -- воскликнул Дон
Кихот. -- Не ты ли только что привез мне от нее известие?
-- Я говорю, что не видел ее на таком досуге, -- ответил Санчо, --
чтобы я мог рассмотреть ее красоту и хорошие качества по частям и в
отдельности, но так, в общем, она показалась мне очень хороша.
-- Теперь я прощаю тебя, -- сказал Дон Кихот, -- и ты прости мне обиду,
которую я тебе нанес, потому что над первыми своими порывами человек не
властен.
-- Это я вижу, -- ответил Санчо, -- вот так и во мне желание поговорить
является всегда первым порывом, и я не могу удержаться, чтобы хоть время от
времени не высказать того, что мне подвернется на язык.
-- Тем не менее, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- в будущем думай о том,
что ты говоришь, так как повадился кувшин по воду ходить... Больше ничего не
скажу.
-- Что ж, -- ответил Санчо, -- на небе Бог, и Он видит все проделки и
рассудит, кто больше грешит: я ли, говоря нехорошо, или ваша милость,
поступая дурно.
-- Довольно, -- сказала Доротеа,-- идите, Санчо, поцелуйте руку своему
господину, попросите у него прощения, и отныне и впредь будьте осторожнее в
ваших похвалах и в порицаниях, и не говорите дурно об этой сеньоре Тобосо,
которую я не знаю, но всегда готова служить ей, и уповайте на Бога, что от
вас не уйдет владение, где вам можно будет жить, как принцу.
Санчо подошел, опустив голову к своему господину и попросил у него
руку, которую тот и протянул ему с большим достоинством, и, после того как
Санчо ее поцеловал, рыцарь благословил его и сказал, что им надо пройти
немного вперед, так как он хочет кое о чем спросить его и должен
переговорить с ним об очень важных вещах. Санчо так и сделал, и оба они
прошли некоторое расстояние, и тогда Дон Кихот сказал:
-- С тех пор как ты вернулся, у меня не было ни времени, ни случая
расспросить тебя о многих подробностях посольства, порученного мною тебе, и
об ответе, который ты мне привез; и теперь, когда судьба предоставила нам
время и место, не отказывай мне в счастии, которое ты можешь доставить мне
своими добрыми вестями.
-- Пусть ваша милость спрашивает, что желает, -- ответил Санчо, -- и я
дам точный ответ обо всем: и как приехал, и как уехал; но умоляю милость
вашу, сеньор мой, не будьте впредь столь мстительны.
-- Отчего ты это говоришь, Санчо? -- спросил Дон Кихот.
-- Говорю это оттого, -- ответил он, -- что только что полученные мною
удары скорее относились к ссоре, возбужденной между нами дьяволом прошлой
ночью, чем к тому, что я сказал против сеньоры Дульсинеи, которую я люблю и
чту, как святые мощи -- хотя в ней и нет ничего святого, -- только потому,
что она принадлежит вашей милости.
-- Оставь эти разговоры, Санчо, заклинаю тебя твоею жизнью, -- сказал
Дон Кихот, -- они возбуждают во мне досаду. Тогда я простил тебя, но ты
хорошо знаешь, что принято говорить: за новый грех -- новое покаяние.
-----
Пока это происходило, они увидели, что по той же дороге, как и они,
едет человек верхом на осле, и, когда он подъехал ближе, он показался им
цыганом; но Санчо Панса, глаза и душа которого устремлялись за ослом, где бы
он ни увидел его, едва заметил того человека, как в нем узнал Хинеса де
Пасамонте. От цыгана, словно от нитки до клубка, он добрался и до своего
осла и нимало не ошибся, так как именно на его Сером и ехал Пасамонте,
который, чтобы его не узнали и желая продать осла, оделся цыганом, а язык их
и многие другие он знал так же хорошо, как и свой родной. Санчо увидел его и
узнал, и едва он его увидел и узнал, как громким голосом крикнул ему: "А,
вор Хинесильо, оставь мое сокровище, отдай мне мою жизнь, не впутывайся в
мою отраду; отдай моего осла, отдай мне мое счастье; беги, сын блудницы,
убирайся, вор, и верни то, что не принадлежит тебе!". Не было нужды тратить
столько слов и ругательств, так как при первом же Хинес спрыгнул на землю,
и, бросившись бежать быстрою рысью, казавшеюся скачкой, он в одну минуту
удалился и исчез из глаз. Санчо подошел к своему Серому и, обнимая его,
сказал: "Как тебе жилось, радость моя, дорогой мой Серый, мой добрый
товарищ?". И вместе с тем, он целовал и ласкал его, точно это был человек;
осел молчал и давал Санчо целовать себя и ласкать, не отвечая ему ни слова.
Все остальные подошли к Санчо и поздравляли его с находкой Серого, особенно
Дон Кихот, который ему сказал, что, тем не менее он не возьмет назад своего
приказа на выдачу трех ослят. Санчо поблагодарил его за это {Этот эпизод был
вставлен во втором издании "Дон Кихота".}.
-----
Пока оба они были заняты этими разговорами, священник сказал Доротее,
что она действовала очень умно как относительно содержания своего рассказа,
так и относительно краткости его и сходства с рыцарскими книгами. Она
ответила, что часто развлекалась чтением их, но не знала, где находятся
провинции и морские гавани, и потому наугад сказала, что высадилась в Осуне.
-- Я это так и понял, -- ответил священник, -- и потому сейчас же
поспешил сказать то, что я сказал, чем все и уладилось. Но не странно ли
видеть, с какою легкостью этот несчастный идальго верит всем подобным
выдумкам и лжи только потому, что на них отпечаток слога и характера
нелепостей, заключающихся в его книгах?
-- Конечно, это странно, -- сказал Карденио, -- и это столь редкостное
и неслыханное явление, что, я не знаю, если б кто захотел изобрести и
сочинить нечто такое, имел ли бы он настолько острый ум, чтобы успешно
справиться с подобной задачей?
-- Тут есть еще одно обстоятельство, -- сказал священник, -- именно:
оставив в стороне нелепости, которые этот добрый идальго говорит, когда
коснутся области его безумия, если завести с ним речь о других вещах, он
рассуждает как нельзя более правильно и выказывает ясный и трезвый ум, так
что, лишь бы не затрагивали его рыцарства, всякий счел бы его за вполне
здравомыслящего человека.
Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал свой и сказал Санчо:
-- Предадим забвению {Echemospelillos a la mar, -- букв, "бросим
волосики в море": испанское выражение, употребляемое теми, кто поссорился и
помирился.}, друг Панса, все наши размолвки, и скажи мне теперь, откинув
всякую злобу и досаду, где, как и когда увидел ты Дульсинеию? Что она
делала? Что ты сказал ей? Что она тебе ответила? Какое было выражение ее
лица, когда она читала мое письмо? Кто переписал его тебе? Скажи мне все,
что, по-твоему, в данном случае заслуживает быть рассказанным, о чем следует
спросить и на что ответить, ничего не прибавляя и не сочиняя, чтобы
доставить мне удовольствие, и тем менее не урезывая ничего, чтобы не лишить
меня его.
-- Сеньор, -- ответил Санчо, -- если уж говорить правду, письма мне
никто не переписывал, потому что у меня и не было никакого письма.
-- Оно так и есть, как ты говоришь,-- сказал Дон Кихот, -- и я нашел у
себя спустя два дня после твоего отъезда записную книжечку, в которой я
написал письмо, и был очень огорчен, так как не знал, что ты сделаешь, когда
увидишь, что у тебя нет письма. Я думал, что ты сейчас же вернешься, как
только заметишь, что его нет у тебя.
-- Я бы это и сделал, -- сказал Санчо, -- если бы не запомнил письма
наизусть, когда ваша милость читала мне его, так что я пересказал его
пономарю, который с моих слов записал его точка в точку, говоря, что хотя он
и читал много окружных посланий об отлучении от церкви, но во всю свою жизнь
не видел и не читал такого милого письма, как это.
-- И ты его все еще помнишь наизусть Санчо? -- спросил Дон Кихот.
-- Нет, сеньор, -- ответил Санчо,-- потому что, пересказав его пономарю
и видя, что оно больше не нужно, я допустил себя забыть его. Единственное,
что я еще помню, это "ограниченная" я хотел сказать "неограниченная
повелительница", и конец: "Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа", а в
промежутке я вставил больше трехсот: "душа моя, жизнь моя и очи мои".

Глава XXXI О приятном разговоре, происходившем между Дон Кихотом и его
оруженосцем Санчо Пансой, а также и о других событиях
 -- Все это недурно, -- сказал Дон Кихот, -- продолжай. Ты приехал; что
же делала эта королева красоты? Верно, ты ее застал нанизывающей жемчуг или
вышивающей золотыми нитками какой-нибудь девиз для плененного ею рыцаря?
-- Нет, -- ответил Санчо, -- я не застал ее за этим делом, а она
просеивала два четверика пшеницы на заднем дворе своего дома.
-- В таком случае, -- возразил Дон Кихот, -- считай, что зерна той
пшеницы, к которым прикасалась ее рука, были жемчугом; заметил ли ты, друг,
какого была сорта та пшеница -- белого цвета или темно-коричневого?
-- Ни белого, ни коричневого, а красноватого, -- ответил Санчо {Trigo
candeal, trechel, rubion (белый, темно-коричневый и красноватый) -- эти три
сорта пшеницы возделывались в Испании.}.
-- Уверяю тебя, -- сказал Дон Кихот, -- что из этого сорта пшеницы,
просеянной ее руками, без сомнения, выйдет самый лучший белый хлеб. Но
продолжай. Когда ты передал ей мое письмо, поцеловала она его? Положила ли
себе на голову? {Положить письмо себе на голову прежде, чем читать его,
считалось в то время оказанием высшей почести написавшему письмо, а
поцеловать его было, как и теперь, знаком любви.} Сделала ли что-либо
достойное такого послания? Или что же она сделала?
-- Когда я подошел к ней, чтобы передать ей письмо, -- ответил Санчо,
-- я ее застал в самом разгаре работы; она просеbвала порядочную кучу
пшеницы, бывшей у нее в решете, и сказала мне: "Положите, друг, письмо на
тот мешок, потому что я не могу прочесть его раньше, чем кончу просевать
все, что у меня тут в решете".
-- Умная сеньора! -- сказал Дон Кихот. -- Она должна была так
поступить, чтобы потом на досуге прочесть письмо и насладиться им.
Продолжай, Санчо. А в то время, как она была занята своим делом, какой вы с
нею вели разговор? Что она спрашивала тебя обо мне? А ты, что ты ей ответил?
Кончай и расскажи мне все как есть, до последней мелочи.
-- Она ничего у меня не спрашивала, но я ей сказал, каким образом
милость ваша, желая служить ей, совершаете эпитимию, обнаженный от пояса
вверх, поселившись среди этих гор, точно дикарь, где вы спите на земле, не
едите хлеба со скатерти, не чешете себе бороды и все только плачете и
проклинаете свою судьбу.
-- Сказав, что я проклинаю свою судьбу, ты плохо сказал, -- заметил Дон
Кихот, -- потому что, наоборот, я благословляю свою судьбу и буду
благословлять ее до конца моих дней за то, что она удостоила меня счастья
любить такую высокую сеньору, как Дульсинея Тобосская.
-- Такая она высокая, -- сказал Санчо, -- что, ей-богу, она выше меня
более чем на ладонь.
-- Как так Санчо? -- спросил Дон Кихот. -- Разве ты мерился с нею?
-- Я мерился с нею вот каким образом, -- ответил Санчо, -- когда я ей
помогал взвалить мешок пшеницы на осла, мы встали очень близко друг к другу,
и я не мог не видеть, что она выше меня на добрую пядь.
-- Не подлежит сомнению, -- сказал Дон Кихот, -- что этот ее высокий
рост соединен с тысячей миллионов душевных прелестей, украшающих ее. Но одну
вещь, Санчо, ты не можешь отрицать: когда ты к ней приблизился, наверное ты
почувствовал какое-то необычайное благоухание, тончайший аромат, что-то
такое, не знаю что, до того сладостное, что я не могу подобрать этому
названия, -- я говорю, благовоние или испарение, как будто ты вошел в
магазин самого лучшего перчаточника {В магазинах перчаточников действительно
было очень сильное благоухание в те времена, потому что все перчатки были
надушены.}.
-- Могу сказать лишь то, -- ответил Санчо, -- что я почувствовал запах,
смахивающий на нечто прелое, мужское, верно, оттого, что она от усиленного
движения вспотела и очень обильно.
-- Вовсе не то, -- сказал Дон Кихот,-- а должно быть, у тебя был
насморк и ты слышал собственный свой запах, потому что я-то хорошо знаю, чем
благоухает эта роза среди шипов, эта лилия полей, эта разжиженная амбра.
-- Все может быть, -- ответил Санчо, -- потому что часто от меня
исходит тот же запах, который, как мне тогда показалось, исходил от ее
милости, сеньоры Дульсинеи. Но в этом нет ничего удивительного, так как один
черт похож на другого.
-- Ну, продолжай, -- сказал Дон Кихот, -- она просеяла зерно и послала
его на мельницу; что же сделала она, когда прочла мое письмо?
-- Письма, -- ответил Санчо, -- она не читала, потому что сказала, что
не умеет ни читать, ни писать; вместо того она его разорвала на мелкие
кусочки, говоря, что не желает дать прочесть его кому бы то ни было, чтобы в
селе не узнали ее тайн, и что с нее довольно и устной моей передачи о любви
вашей милости к ней и о необычайной эпитимии, которую вы совершаете ради
нее. В заключение она мне велела сказать вашей милости, что целует вам руки
и лучше желала бы видеть вас, чем писать вам. Итак, она умоляет вас и
приказывает по получении настоящего ответа уехать из этой поросшей вереском,
дикой местности, перестать делать нелепости и тотчас же отправляться по
дороге в Тобосо, если другое, более важное, дело не помешает, потому что у
нее сильнейшее желание повидать вашу милость. Она очень смеялась, когда я ей
сказал, что вас прозвали Рыцарем Печального Образа. Я спросил ее, был ли у
нее бискаец? Она ответила, что был и что он прекрасный человек. Спросил я
также о галерных невольниках, но она сказала, что до сих пор никого из них
не видела.
-- Пока все идет хорошо, -- заявил Дон Кихот, -- но скажи, какую
драгоценность подарила она тебе на прощание за те известия, которые ты ей
принес от меня? Ведь у странствующих рыцарей и их дам общепринятый старинный
обычай -- дарить оруженосцам, прислужникам или карликам, которые приносят
известия рыцарям от их дам и дамам от их рыцарей, какую-нибудь драгоценность
в награду за исполненное ими поручение.
-- Очень может быть, что это так и есть, -- сказал Санчо, -- и я считаю
этот обычай превосходным, но, должно быть, придерживались его лишь в былые
времена, а теперь, как видно, в обычае дарить только кусок хлеба с сыром,
потому что именно это дала мне сеньора Дульсинея через палисад двора, когда
я прощался с нею. К тому же и сыр по всем признакам был только овечий.
-- Она щедра бесконечно, -- сказал Дон Кихот, -- и если она не подарила
тебе драгоценной, золотой вещицы, то, без сомнения, потому только, что у нее
ничего не нашлось под рукой, чтобы дать тебе. Но куличи хороши и после Пасхи
{Buenas son mangas despuИs depascua -- испанская поговорка (в буквальном
переводе: "Рукава пригодятся и после Пасхи"), означающая, что подарок
доставляет удовольствие, хотя будет получен и позже.}; я повидаюсь с ней, и
все будет исправлено. Знаешь ли, Санчо, что меня удивляет? По-моему, ты туда
и обратно будто слетал по воздуху, так как ты употребил лишь немногим более
трех дней на путешествие в Тобосо и назад, а отсюда туда более тридцати
миль. Из этого я заключаю, что мудрый волшебник, который заботится о моих
делах и считается моим другом,-- потому что, несомненно, он у меня есть и
должен быть, иначе я не был бы хорошим странствующим рыцарем, -- говорю, что
подобный волшебник, должно быть, и помог путешествовать тебе незаметно для
тебя самого, так как среди мудрецов бывают такие, которые берут
странствующего рыцаря, спящего в постели, и он, не зная, как и каким
образом, просыпается на следующий день более чем за тысячи миль от того
места, где он ложился спать. Если б этого не было, то странствующие рыцари
не могли бы помогать друг другу в минуту опасности, как они это делают на
каждом шагу; например, бывает, что один сражается в горах Армении с
драконом, или со страшным чудовищем, или с другим рыцарем; он уже побежден в
битве и близок к смерти, как вдруг, когда он этого менее всего ожидает,
показывается вдали, на облаке или на огненной колеснице, другой рыцарь, друг
его, который только что перед тем был в Англии, и он помогает ему и спасает
его от смерти; а ночью он снова у себя дома и ужинает с величайшим
аппетитом, хотя обыкновенно от одного места до другого не менее чем две или
три тысячи миль. И все это совершается благодаря лишь искусству и мудрости
добрых волшебников, охраняющих храбрых рыцарей. Так что, друг Санчо, мне
нетрудно поверить, что ты в такой короткий срок проехал отсюда в Тобосо и
вернулся оттуда, потому что, как я уже говорил, должно быть, какой-нибудь
дружески расположенный мудрец нес тебя на крыльях по воздуху, так что ты
этого не заметил.
-- Возможно, что оно так и было,-- сказал Санчо, -- потому что, по
чести, Росинант бежал, точно осел у цыган, с ртутью в ушах {В числе
проделок, приписываемых цыганам, они будто бы вливают в уши мулам и ослам --
особенно когда продают их -- ртуть, чтобы животные бежали скорее.}.
-- Не только с ртутью, -- сказал Дон Кихот, -- но еще и с целым
легионом демонов, а это такой народ, который и сам путешествует, и, не
утомляя, заставляет и других путешествовать, сколько им вздумается. Но,
оставив это в стороне, как, по-твоему, должен я поступить теперь
относительно приказания моей сеньоры явиться повидаться с нею? Хотя я и
хорошо понимаю, что обязан покориться ее воле, но также вижу, что не могу
этого сделать вследствие обещания, данного мною принцессе, которая едет с
нами, и рыцарский закон принуждает меня исполнить свое слово прежде, чем
свое удовольствие. С одной стороны, меня преследует и увлекает желание
видеть мою сеньору, с другой -- возбуждает и зовет данное мною обещание и та
слава, которою я могу покрыть себя в этом предприятии. Но вот что я намерен
сделать: как можно быстрее ехать, чтобы поскорее добраться туда, где
находится этот великан; а по приезде я отрублю ему голову и верну принцессе
мирное обладание ее королевством, после чего немедленно поспешу обратно,
чтобы увидеть свет, который озаряет все мои чувства, и затем представить ей,
сеньоре моей, свои оправдания; она одобрит мое промедление, так как
убедится, что все совершается к возвеличению ее славы и известности, потому
что то, что я достиг, достигаю и достигну оружием в этой жизни, вытекает
всецело лишь из благорасположения ее ко мне и из того, что я принадлежу ей.
-- Ах, -- воскликнул Санчо, -- до чего голова вашей милости полна
небылиц! Но скажите мне, сеньор, неужто милость ваша намерена совершить это
путешествие ни за что ни про что и оттолкнуть от себя и упустить такую
богатую и знатную женитьбу, как эту, где в приданое дают королевство,
имеющее, как я слышал, более двадцати тысяч миль в окружности, изобилующее
всякими предметами, необходимыми для поддержания человеческого
существования, и более обширного, чем Португалия и Кастилия вместе взятые?
Замолчите, ради бога, устыдитесь того, что вы сказали, послушайтесь моего
совета, простите меня и венчайтесь тотчас же в первом местечке, где окажется
священник, -- а если нет, здесь перед нами наш лисенсиат, который оборудует
это дело, что твой жемчуг. Подумайте, ведь я уже в таких летах, что могу
дать совет, и тот, который я теперь вам даю, самый что ни на есть
подходящий, потому что воробей в руках лучше ястреба на лету, и кто, имея
хорошее, дурное выбирает, за дурное пускай на себя лишь пеняет.
-- Слушай, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- если ты даешь мне совет
жениться только для того, чтобы я тотчас же сделался королем, убив великана,
и имел возможность оказать тебе милость и дать обещанное, то довожу до
твоего сведения, что, и не женившись, я легко сумею исполнить твое желание,
так как, прежде чем вступить в бой, я условлюсь, что, если я выйду из него
победителем, хотя бы я и не женился на принцессе, она должна мне уделить
часть королевства, с тем, чтобы я мог передать ее кому захочу; а получив эту
часть, кому же могу я передать ее, как не тебе?
-- Это ясно, -- ответил Санчо, -- пусть только ваша милость постарается
выбрать такую часть королевства, которая была бы поближе к морю, чтобы в
случае, если там образ жизни мне не понравится, я мог усадить моих черных
подданных на корабли и поступить с ними, как я уже раньше говорил. И пусть
ваша милость не дает себе труда ехать теперь же повидаться с сеньорой
Дульсинеей, а отправляйтесь убивать великана, и покончим с этим делом, так
как, клянусь Богом, мне сдается, что оно принесет нам большую честь и
большую выгоду.
-- Говорю тебе, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- что ты можешь положиться
на меня, и я последую твоему совету относительно того, чтобы сначала ехать с
принцессой, прежде чем отправиться повидаться с Дульсинеей, но предупреждаю,
чтобы ты никому не говорил ни слова -- даже и тем, которые нас сопровождают,
-- о том, что мы здесь с тобой обсудили и решили, так как, если Дульсинея
столь сдержанна и не хочет, чтобы знали о ее чувствах, было бы нехорошо,
чтобы я или кто другой обнаружил их.
-- Если это так, -- сказал Санчо,-- почему же ваша милость посылает
всех, кого победила рука ваша, представляться сеньоре Дульсинее, -- ведь
этим вы подписываете имя ваше в том, что она вам нравится и вы ее
возлюбленный? И так как вы принуждаете тех, кто к ней является, падать на
колени в ее присутствии и говорить, что они пришли от вашей милости выразить
ей свою покорность, каким же образом можно скрыть ваши взаимные чувства?
-- О, как ты глуп и прост! -- сказал Дон Кихот. -- Разве ты не видишь,
Санчо, что все это служит лишь к большему ее возвеличению? Ты должен знать,
что в наших рыцарских обычаях считается великой честью для дамы иметь многих
странствующих рыцарей, которые ей служат, причем мысли их не простираются
дальше желания служить ей единственно ради нее самой, не ожидая иной награды
за свои многочисленные и благородные стремления, кроме согласия ее признать
их своими рыцарями.
-- Такого рода любовью, -- сказал Санчо, -- как я слышал в проповедях,
следовало бы любить Бога ради Него Самого, а не оттого, что нас побуждает к
этому надежда на блаженство или страх наказания. Хотя я желал бы любить Его
и служить Ему за то, что Он в состоянии сделать.
-- Черт бы побрал тебя, деревенщину! -- воскликнул Дон Кихот. -- Какие
ты иногда умные речи говоришь! Можно бы подумать, что ты проходил курс наук.
-- А по чести говоря, я не умею и читать, -- ответил Санчо.
В это время маэсе Николас крикнул им подождать их немного, так как они
желают остановиться и напиться воды из небольшого источника, бывшего вблизи.
Дон Кихот остановился, к великому удовольствию Санчо, который уже устал так
много лгать и боялся, чтобы его господин не поймал его на каком-нибудь
слове, потому что, хотя он и знал, что Дульсинея -- крестьянка из села
Тобосо, но никогда в жизни не видел ее. Между тем Карденио переоделся в
платье, бывшее на Доротее, когда они ее нашли, и хотя оно и не было особенно
хорошо, но все же куда лучше того, которое он снял с себя. Они спешились у
источника и утолили, правда, очень скудно, испытываемый ими сильный голод
тою провизией, которою священник запасся на постоялом дворе. Пока они
занимались этим, случилось, что мимо них по дороге прошел мальчик; он с
большим вниманием стал всматриваться в тех, которые расположились у
источника, и минуту спустя подбежал к Дон Кихоту и, целуя ему ноги, громко
заплакал, говоря:
-- Ах, сеньор мой! Милость ваша не узнает меня? Вглядитесь хорошенько,
я тот мальчик, Андрес, которого ваша милость отвязала от дуба, когда я был
привязан к нему.
Дон Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился ко всем
присутствовавшим, говоря:
-- Чтобы вы, сеньоры, могли видеть, как важно для всего мира
существование странствующих рыцарей, которые уничтожают несправедливости и
обиды, совершаемые злыми и наглыми людьми, живущими на свете, знайте,
милости ваши, что несколько дней тому назад, проходя мимо одного леса, я
услышал крики и жалобные стоны, которые, по-видимому, испускал огорченный и
нуждающийся в помощи человек. Тотчас же я поспешил, движимый долгом, к тому
месту, откуда, как мне казалось, неслись жалобные крики, и увидел
привязанным к дубу вот этого мальчика, стоящего перед вами, чему я душевно
рад, потому что он будет свидетелем и не даст мне ни в чем солгать. Я
говорю, он был привязан к дубу, обнаженный с пояса до шеи, и крестьянин, его
хозяин -- как я потом узнал, -- нещадно бил его ремнем от вожжей своей
кобылы. Лишь только я увидел это, я спросил у него причину столь жестокого
наказания. Грубиян ответил, что он стегает мальчика, так как тот его слуга,
и неисправности, в которых он повинен, происходят скорее от плутовства, чем
от простоты; на что этот ребенок сказал: "Сеньор, он бьет меня лишь за то,
что я спросил у него свое жалованье". Хозяин ответил, не знаю какими
объяснениями и оправданиями, которые, хотя я и слышал их, но не принял во
внимание. Словом, я велел ему отвязать мальчика и заставил крестьянина дать
клятву, что он возьмет его с собой и заплатит ему реал за реалом весь свой
долг, да еще надушенными деньгами. Так ли все это было, сын Андрес? Заметил
ли ты, как властно я приказывал ему и с каким смирением он обещал исполнить
то, что я ему предписал, указал и потребовал от него? Отвечай; не смущайся и
не сомневайся ни в чем. Расскажи этим сеньорам все, что случилось, чтобы они
могли понять и убедиться, как велика польза, говорю я, от пребывания
странствующих рыцарей на больших дорогах.
-- Все, что ваша милость сказала,-- полнейшая истина, -- ответил
мальчик,-- но дело кончилось как раз обратно тому, что ваша милость
воображает.
-- Как обратно? -- спросил Дон Кихот. -- Неужели тот негодяй не
заплатил тебе?
-- Не только не заплатил, -- ответил мальчик, -- но, едва ваша милость
выехала из лесу и мы остались наедине с ним, он опять привязал меня к тому
же дубу и снова нанес мне столько ударов ремнем, что содрал с живого меня
кожу, как со святого Варфоломея, и при каждом ударе, которым стегал меня, он
отпускал шутку или насмешку, потешаясь над вашею милостью, и, если б я не
чувствовал такой сильной боли, я бы смеялся над тем, что он говорил. Словом,
он так со мной расправился, что я до сих пор лежал в больнице и лечился от
побоев, нанесенных мне этим злым крестьянином. А виною всему вы, ваша
милость, потому что, если б вы ехали своею дорогой и не явились бы туда,
куда вас не звали, или не вмешивались бы в чужие дела, мой хозяин, угостив
меня одною или двумя дюжинами ударов, удовольствовался бы этим и тотчас же
отвязал бы и заплатил бы, что должен. Но так как ваша милость оскорбила его
без всякой нужды и наговорила ему столько неприятностей, в нем разгорелся
гнев, и раз он не мог отомстить вам, то, лишь только он увидел, что мы
остались одни, вся туча разразилась надо мной, да так, что, мне кажется, я
во всю мою жизнь уже не буду снова человеком.
-- Ошибка заключалась в том, -- сказал Дон Кихот, -- что я уехал; этого
не следовало делать, пока он не заплатил тебе, так как долгий опыт должен
был научить меня, что низкий человек не сдержит данного им слова, если
увидит, что ему невыгодно сдержать его. Но ведь ты помнишь, Андрес, что я
клялся, если он тебе не заплатит, разыскать его, -- и я разыщу, хотя бы он
скрывался во чреве кита.
-- Это правда, -- сказал Андрес, -- но пользы не вышло из этого.
-- Увидишь теперь, выйдет ли из этого польза, -- воскликнул Дон Кихот
и, говоря это, поспешно встал и велел Санчо взнуздать Росинанта, который
пасся на лугу, пока они ели.
Доротеа спросила Дон Кихота, что он намерен делать. Он ответил, что
намерен разыскать того низкого человека, чтобы наказать его за гнусное
поведение и заставить его заплатить Андресу до последнего мараведиса
наперекор и назло всем негодяям в мире. Доротеа напомнила ему, что,
сообразуясь с данным ей обещанием, он не может заняться каким-либо иным
предприятием, пока ее дело не будет доведено до конца, и так как это ему
известно лучше, чем всем другим, то пусть он успокоит сердце свое до
возвращения из ее королевства.
-- Вы правы, -- ответил Дон Кихот,-- и потому Андресу волей-неволей
придется потерпеть до моего возвращения,
как вы, сеньора, сказали; но я еще раз клянусь и снова обещаю не
успокоиться до тех пор, пока не отомщу за него и не заставлю ему заплатить.
-- Не верю я в эти клятвы, -- сказал Андрес, -- и всякой мести в мире
предпочел бы, чтобы у меня было с чем добраться теперь до Севильи. Дайте
мне, если у вас найдется, что-нибудь поесть и взять с собой; и оставайтесь с
богом вы, милость ваша, и все странствующие рыцари, которые в наказание себе
пусть так же хорошо странствуют, как я это делаю из-за них.
Санчо взял из своих припасов кусок хлеба и кусок сыра и, давая их
мальчику, сказал:
-- Берите, брат Андрес, так как всякий из нас имеет долю в вашем
несчастье.
-- Какая же ваша доля в нем? -- спросил Андрес.
-- Вот в этой доле хлеба и сыра, которые я вам даю, -- ответил Санчо,
-- потому что, бог знает, понадобится ли она мне или нет, так как я должен
сказать вам, друг, что мы, оруженосцы странствующих рыцарей, подвержены
великому голоду и злоключениям и еще и другим вещам, которые лучше
чувствуются, чем говорятся.
Андрес взял хлеб и сыр, и видя, что никто больше ничего ему не дает,
опустил голову и пошел, как говорится, своею дорогой. Однако, уходя, он
сказал Дон Кихоту:
-- Прошу вас, ради самого бога, сеньор странствующий рыцарь, если вы
меня в другой раз встретите, даже если б вы видели, что меня рубят на куски,
-- не вступайтесь за меня, не помогайте мне, но предоставьте меня моим
несчастиям, потому что, как бы они ни были велики, еще больше будут те, что
произойдут для меня от помощи вашей милости, и будьте вы прокляты Богом
вместе со всеми странствующими рыцарями, когда-либо жившими в мире.
Дон Кихот собирался встать, чтобы наказать мальчика, но тот бросился
бежать так быстро, что никто не отважился догонять его. Дон Кихот был
страшно смущен рассказом Андреса, и остальные должны были делать большие
усилия над собой, чтобы не рассмеяться и не привести его в полнейшее
замешательство.
-- Все это недурно, -- сказал Дон Кихот, -- продолжай. Ты приехал; что
же делала эта королева красоты? Верно, ты ее застал нанизывающей жемчуг или
вышивающей золотыми нитками какой-нибудь девиз для плененного ею рыцаря?
-- Нет, -- ответил Санчо, -- я не застал ее за этим делом, а она
просеивала два четверика пшеницы на заднем дворе своего дома.
-- В таком случае, -- возразил Дон Кихот, -- считай, что зерна той
пшеницы, к которым прикасалась ее рука, были жемчугом; заметил ли ты, друг,
какого была сорта та пшеница -- белого цвета или темно-коричневого?
-- Ни белого, ни коричневого, а красноватого, -- ответил Санчо {Trigo
candeal, trechel, rubion (белый, темно-коричневый и красноватый) -- эти три
сорта пшеницы возделывались в Испании.}.
-- Уверяю тебя, -- сказал Дон Кихот, -- что из этого сорта пшеницы,
просеянной ее руками, без сомнения, выйдет самый лучший белый хлеб. Но
продолжай. Когда ты передал ей мое письмо, поцеловала она его? Положила ли
себе на голову? {Положить письмо себе на голову прежде, чем читать его,
считалось в то время оказанием высшей почести написавшему письмо, а
поцеловать его было, как и теперь, знаком любви.} Сделала ли что-либо
достойное такого послания? Или что же она сделала?
-- Когда я подошел к ней, чтобы передать ей письмо, -- ответил Санчо,
-- я ее застал в самом разгаре работы; она просеbвала порядочную кучу
пшеницы, бывшей у нее в решете, и сказала мне: "Положите, друг, письмо на
тот мешок, потому что я не могу прочесть его раньше, чем кончу просевать
все, что у меня тут в решете".
-- Умная сеньора! -- сказал Дон Кихот. -- Она должна была так
поступить, чтобы потом на досуге прочесть письмо и насладиться им.
Продолжай, Санчо. А в то время, как она была занята своим делом, какой вы с
нею вели разговор? Что она спрашивала тебя обо мне? А ты, что ты ей ответил?
Кончай и расскажи мне все как есть, до последней мелочи.
-- Она ничего у меня не спрашивала, но я ей сказал, каким образом
милость ваша, желая служить ей, совершаете эпитимию, обнаженный от пояса
вверх, поселившись среди этих гор, точно дикарь, где вы спите на земле, не
едите хлеба со скатерти, не чешете себе бороды и все только плачете и
проклинаете свою судьбу.
-- Сказав, что я проклинаю свою судьбу, ты плохо сказал, -- заметил Дон
Кихот, -- потому что, наоборот, я благословляю свою судьбу и буду
благословлять ее до конца моих дней за то, что она удостоила меня счастья
любить такую высокую сеньору, как Дульсинея Тобосская.
-- Такая она высокая, -- сказал Санчо, -- что, ей-богу, она выше меня
более чем на ладонь.
-- Как так Санчо? -- спросил Дон Кихот. -- Разве ты мерился с нею?
-- Я мерился с нею вот каким образом, -- ответил Санчо, -- когда я ей
помогал взвалить мешок пшеницы на осла, мы встали очень близко друг к другу,
и я не мог не видеть, что она выше меня на добрую пядь.
-- Не подлежит сомнению, -- сказал Дон Кихот, -- что этот ее высокий
рост соединен с тысячей миллионов душевных прелестей, украшающих ее. Но одну
вещь, Санчо, ты не можешь отрицать: когда ты к ней приблизился, наверное ты
почувствовал какое-то необычайное благоухание, тончайший аромат, что-то
такое, не знаю что, до того сладостное, что я не могу подобрать этому
названия, -- я говорю, благовоние или испарение, как будто ты вошел в
магазин самого лучшего перчаточника {В магазинах перчаточников действительно
было очень сильное благоухание в те времена, потому что все перчатки были
надушены.}.
-- Могу сказать лишь то, -- ответил Санчо, -- что я почувствовал запах,
смахивающий на нечто прелое, мужское, верно, оттого, что она от усиленного
движения вспотела и очень обильно.
-- Вовсе не то, -- сказал Дон Кихот,-- а должно быть, у тебя был
насморк и ты слышал собственный свой запах, потому что я-то хорошо знаю, чем
благоухает эта роза среди шипов, эта лилия полей, эта разжиженная амбра.
-- Все может быть, -- ответил Санчо, -- потому что часто от меня
исходит тот же запах, который, как мне тогда показалось, исходил от ее
милости, сеньоры Дульсинеи. Но в этом нет ничего удивительного, так как один
черт похож на другого.
-- Ну, продолжай, -- сказал Дон Кихот, -- она просеяла зерно и послала
его на мельницу; что же сделала она, когда прочла мое письмо?
-- Письма, -- ответил Санчо, -- она не читала, потому что сказала, что
не умеет ни читать, ни писать; вместо того она его разорвала на мелкие
кусочки, говоря, что не желает дать прочесть его кому бы то ни было, чтобы в
селе не узнали ее тайн, и что с нее довольно и устной моей передачи о любви
вашей милости к ней и о необычайной эпитимии, которую вы совершаете ради
нее. В заключение она мне велела сказать вашей милости, что целует вам руки
и лучше желала бы видеть вас, чем писать вам. Итак, она умоляет вас и
приказывает по получении настоящего ответа уехать из этой поросшей вереском,
дикой местности, перестать делать нелепости и тотчас же отправляться по
дороге в Тобосо, если другое, более важное, дело не помешает, потому что у
нее сильнейшее желание повидать вашу милость. Она очень смеялась, когда я ей
сказал, что вас прозвали Рыцарем Печального Образа. Я спросил ее, был ли у
нее бискаец? Она ответила, что был и что он прекрасный человек. Спросил я
также о галерных невольниках, но она сказала, что до сих пор никого из них
не видела.
-- Пока все идет хорошо, -- заявил Дон Кихот, -- но скажи, какую
драгоценность подарила она тебе на прощание за те известия, которые ты ей
принес от меня? Ведь у странствующих рыцарей и их дам общепринятый старинный
обычай -- дарить оруженосцам, прислужникам или карликам, которые приносят
известия рыцарям от их дам и дамам от их рыцарей, какую-нибудь драгоценность
в награду за исполненное ими поручение.
-- Очень может быть, что это так и есть, -- сказал Санчо, -- и я считаю
этот обычай превосходным, но, должно быть, придерживались его лишь в былые
времена, а теперь, как видно, в обычае дарить только кусок хлеба с сыром,
потому что именно это дала мне сеньора Дульсинея через палисад двора, когда
я прощался с нею. К тому же и сыр по всем признакам был только овечий.
-- Она щедра бесконечно, -- сказал Дон Кихот, -- и если она не подарила
тебе драгоценной, золотой вещицы, то, без сомнения, потому только, что у нее
ничего не нашлось под рукой, чтобы дать тебе. Но куличи хороши и после Пасхи
{Buenas son mangas despuИs depascua -- испанская поговорка (в буквальном
переводе: "Рукава пригодятся и после Пасхи"), означающая, что подарок
доставляет удовольствие, хотя будет получен и позже.}; я повидаюсь с ней, и
все будет исправлено. Знаешь ли, Санчо, что меня удивляет? По-моему, ты туда
и обратно будто слетал по воздуху, так как ты употребил лишь немногим более
трех дней на путешествие в Тобосо и назад, а отсюда туда более тридцати
миль. Из этого я заключаю, что мудрый волшебник, который заботится о моих
делах и считается моим другом,-- потому что, несомненно, он у меня есть и
должен быть, иначе я не был бы хорошим странствующим рыцарем, -- говорю, что
подобный волшебник, должно быть, и помог путешествовать тебе незаметно для
тебя самого, так как среди мудрецов бывают такие, которые берут
странствующего рыцаря, спящего в постели, и он, не зная, как и каким
образом, просыпается на следующий день более чем за тысячи миль от того
места, где он ложился спать. Если б этого не было, то странствующие рыцари
не могли бы помогать друг другу в минуту опасности, как они это делают на
каждом шагу; например, бывает, что один сражается в горах Армении с
драконом, или со страшным чудовищем, или с другим рыцарем; он уже побежден в
битве и близок к смерти, как вдруг, когда он этого менее всего ожидает,
показывается вдали, на облаке или на огненной колеснице, другой рыцарь, друг
его, который только что перед тем был в Англии, и он помогает ему и спасает
его от смерти; а ночью он снова у себя дома и ужинает с величайшим
аппетитом, хотя обыкновенно от одного места до другого не менее чем две или
три тысячи миль. И все это совершается благодаря лишь искусству и мудрости
добрых волшебников, охраняющих храбрых рыцарей. Так что, друг Санчо, мне
нетрудно поверить, что ты в такой короткий срок проехал отсюда в Тобосо и
вернулся оттуда, потому что, как я уже говорил, должно быть, какой-нибудь
дружески расположенный мудрец нес тебя на крыльях по воздуху, так что ты
этого не заметил.
-- Возможно, что оно так и было,-- сказал Санчо, -- потому что, по
чести, Росинант бежал, точно осел у цыган, с ртутью в ушах {В числе
проделок, приписываемых цыганам, они будто бы вливают в уши мулам и ослам --
особенно когда продают их -- ртуть, чтобы животные бежали скорее.}.
-- Не только с ртутью, -- сказал Дон Кихот, -- но еще и с целым
легионом демонов, а это такой народ, который и сам путешествует, и, не
утомляя, заставляет и других путешествовать, сколько им вздумается. Но,
оставив это в стороне, как, по-твоему, должен я поступить теперь
относительно приказания моей сеньоры явиться повидаться с нею? Хотя я и
хорошо понимаю, что обязан покориться ее воле, но также вижу, что не могу
этого сделать вследствие обещания, данного мною принцессе, которая едет с
нами, и рыцарский закон принуждает меня исполнить свое слово прежде, чем
свое удовольствие. С одной стороны, меня преследует и увлекает желание
видеть мою сеньору, с другой -- возбуждает и зовет данное мною обещание и та
слава, которою я могу покрыть себя в этом предприятии. Но вот что я намерен
сделать: как можно быстрее ехать, чтобы поскорее добраться туда, где
находится этот великан; а по приезде я отрублю ему голову и верну принцессе
мирное обладание ее королевством, после чего немедленно поспешу обратно,
чтобы увидеть свет, который озаряет все мои чувства, и затем представить ей,
сеньоре моей, свои оправдания; она одобрит мое промедление, так как
убедится, что все совершается к возвеличению ее славы и известности, потому
что то, что я достиг, достигаю и достигну оружием в этой жизни, вытекает
всецело лишь из благорасположения ее ко мне и из того, что я принадлежу ей.
-- Ах, -- воскликнул Санчо, -- до чего голова вашей милости полна
небылиц! Но скажите мне, сеньор, неужто милость ваша намерена совершить это
путешествие ни за что ни про что и оттолкнуть от себя и упустить такую
богатую и знатную женитьбу, как эту, где в приданое дают королевство,
имеющее, как я слышал, более двадцати тысяч миль в окружности, изобилующее
всякими предметами, необходимыми для поддержания человеческого
существования, и более обширного, чем Португалия и Кастилия вместе взятые?
Замолчите, ради бога, устыдитесь того, что вы сказали, послушайтесь моего
совета, простите меня и венчайтесь тотчас же в первом местечке, где окажется
священник, -- а если нет, здесь перед нами наш лисенсиат, который оборудует
это дело, что твой жемчуг. Подумайте, ведь я уже в таких летах, что могу
дать совет, и тот, который я теперь вам даю, самый что ни на есть
подходящий, потому что воробей в руках лучше ястреба на лету, и кто, имея
хорошее, дурное выбирает, за дурное пускай на себя лишь пеняет.
-- Слушай, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- если ты даешь мне совет
жениться только для того, чтобы я тотчас же сделался королем, убив великана,
и имел возможность оказать тебе милость и дать обещанное, то довожу до
твоего сведения, что, и не женившись, я легко сумею исполнить твое желание,
так как, прежде чем вступить в бой, я условлюсь, что, если я выйду из него
победителем, хотя бы я и не женился на принцессе, она должна мне уделить
часть королевства, с тем, чтобы я мог передать ее кому захочу; а получив эту
часть, кому же могу я передать ее, как не тебе?
-- Это ясно, -- ответил Санчо, -- пусть только ваша милость постарается
выбрать такую часть королевства, которая была бы поближе к морю, чтобы в
случае, если там образ жизни мне не понравится, я мог усадить моих черных
подданных на корабли и поступить с ними, как я уже раньше говорил. И пусть
ваша милость не дает себе труда ехать теперь же повидаться с сеньорой
Дульсинеей, а отправляйтесь убивать великана, и покончим с этим делом, так
как, клянусь Богом, мне сдается, что оно принесет нам большую честь и
большую выгоду.
-- Говорю тебе, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- что ты можешь положиться
на меня, и я последую твоему совету относительно того, чтобы сначала ехать с
принцессой, прежде чем отправиться повидаться с Дульсинеей, но предупреждаю,
чтобы ты никому не говорил ни слова -- даже и тем, которые нас сопровождают,
-- о том, что мы здесь с тобой обсудили и решили, так как, если Дульсинея
столь сдержанна и не хочет, чтобы знали о ее чувствах, было бы нехорошо,
чтобы я или кто другой обнаружил их.
-- Если это так, -- сказал Санчо,-- почему же ваша милость посылает
всех, кого победила рука ваша, представляться сеньоре Дульсинее, -- ведь
этим вы подписываете имя ваше в том, что она вам нравится и вы ее
возлюбленный? И так как вы принуждаете тех, кто к ней является, падать на
колени в ее присутствии и говорить, что они пришли от вашей милости выразить
ей свою покорность, каким же образом можно скрыть ваши взаимные чувства?
-- О, как ты глуп и прост! -- сказал Дон Кихот. -- Разве ты не видишь,
Санчо, что все это служит лишь к большему ее возвеличению? Ты должен знать,
что в наших рыцарских обычаях считается великой честью для дамы иметь многих
странствующих рыцарей, которые ей служат, причем мысли их не простираются
дальше желания служить ей единственно ради нее самой, не ожидая иной награды
за свои многочисленные и благородные стремления, кроме согласия ее признать
их своими рыцарями.
-- Такого рода любовью, -- сказал Санчо, -- как я слышал в проповедях,
следовало бы любить Бога ради Него Самого, а не оттого, что нас побуждает к
этому надежда на блаженство или страх наказания. Хотя я желал бы любить Его
и служить Ему за то, что Он в состоянии сделать.
-- Черт бы побрал тебя, деревенщину! -- воскликнул Дон Кихот. -- Какие
ты иногда умные речи говоришь! Можно бы подумать, что ты проходил курс наук.
-- А по чести говоря, я не умею и читать, -- ответил Санчо.
В это время маэсе Николас крикнул им подождать их немного, так как они
желают остановиться и напиться воды из небольшого источника, бывшего вблизи.
Дон Кихот остановился, к великому удовольствию Санчо, который уже устал так
много лгать и боялся, чтобы его господин не поймал его на каком-нибудь
слове, потому что, хотя он и знал, что Дульсинея -- крестьянка из села
Тобосо, но никогда в жизни не видел ее. Между тем Карденио переоделся в
платье, бывшее на Доротее, когда они ее нашли, и хотя оно и не было особенно
хорошо, но все же куда лучше того, которое он снял с себя. Они спешились у
источника и утолили, правда, очень скудно, испытываемый ими сильный голод
тою провизией, которою священник запасся на постоялом дворе. Пока они
занимались этим, случилось, что мимо них по дороге прошел мальчик; он с
большим вниманием стал всматриваться в тех, которые расположились у
источника, и минуту спустя подбежал к Дон Кихоту и, целуя ему ноги, громко
заплакал, говоря:
-- Ах, сеньор мой! Милость ваша не узнает меня? Вглядитесь хорошенько,
я тот мальчик, Андрес, которого ваша милость отвязала от дуба, когда я был
привязан к нему.
Дон Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился ко всем
присутствовавшим, говоря:
-- Чтобы вы, сеньоры, могли видеть, как важно для всего мира
существование странствующих рыцарей, которые уничтожают несправедливости и
обиды, совершаемые злыми и наглыми людьми, живущими на свете, знайте,
милости ваши, что несколько дней тому назад, проходя мимо одного леса, я
услышал крики и жалобные стоны, которые, по-видимому, испускал огорченный и
нуждающийся в помощи человек. Тотчас же я поспешил, движимый долгом, к тому
месту, откуда, как мне казалось, неслись жалобные крики, и увидел
привязанным к дубу вот этого мальчика, стоящего перед вами, чему я душевно
рад, потому что он будет свидетелем и не даст мне ни в чем солгать. Я
говорю, он был привязан к дубу, обнаженный с пояса до шеи, и крестьянин, его
хозяин -- как я потом узнал, -- нещадно бил его ремнем от вожжей своей
кобылы. Лишь только я увидел это, я спросил у него причину столь жестокого
наказания. Грубиян ответил, что он стегает мальчика, так как тот его слуга,
и неисправности, в которых он повинен, происходят скорее от плутовства, чем
от простоты; на что этот ребенок сказал: "Сеньор, он бьет меня лишь за то,
что я спросил у него свое жалованье". Хозяин ответил, не знаю какими
объяснениями и оправданиями, которые, хотя я и слышал их, но не принял во
внимание. Словом, я велел ему отвязать мальчика и заставил крестьянина дать
клятву, что он возьмет его с собой и заплатит ему реал за реалом весь свой
долг, да еще надушенными деньгами. Так ли все это было, сын Андрес? Заметил
ли ты, как властно я приказывал ему и с каким смирением он обещал исполнить
то, что я ему предписал, указал и потребовал от него? Отвечай; не смущайся и
не сомневайся ни в чем. Расскажи этим сеньорам все, что случилось, чтобы они
могли понять и убедиться, как велика польза, говорю я, от пребывания
странствующих рыцарей на больших дорогах.
-- Все, что ваша милость сказала,-- полнейшая истина, -- ответил
мальчик,-- но дело кончилось как раз обратно тому, что ваша милость
воображает.
-- Как обратно? -- спросил Дон Кихот. -- Неужели тот негодяй не
заплатил тебе?
-- Не только не заплатил, -- ответил мальчик, -- но, едва ваша милость
выехала из лесу и мы остались наедине с ним, он опять привязал меня к тому
же дубу и снова нанес мне столько ударов ремнем, что содрал с живого меня
кожу, как со святого Варфоломея, и при каждом ударе, которым стегал меня, он
отпускал шутку или насмешку, потешаясь над вашею милостью, и, если б я не
чувствовал такой сильной боли, я бы смеялся над тем, что он говорил. Словом,
он так со мной расправился, что я до сих пор лежал в больнице и лечился от
побоев, нанесенных мне этим злым крестьянином. А виною всему вы, ваша
милость, потому что, если б вы ехали своею дорогой и не явились бы туда,
куда вас не звали, или не вмешивались бы в чужие дела, мой хозяин, угостив
меня одною или двумя дюжинами ударов, удовольствовался бы этим и тотчас же
отвязал бы и заплатил бы, что должен. Но так как ваша милость оскорбила его
без всякой нужды и наговорила ему столько неприятностей, в нем разгорелся
гнев, и раз он не мог отомстить вам, то, лишь только он увидел, что мы
остались одни, вся туча разразилась надо мной, да так, что, мне кажется, я
во всю мою жизнь уже не буду снова человеком.
-- Ошибка заключалась в том, -- сказал Дон Кихот, -- что я уехал; этого
не следовало делать, пока он не заплатил тебе, так как долгий опыт должен
был научить меня, что низкий человек не сдержит данного им слова, если
увидит, что ему невыгодно сдержать его. Но ведь ты помнишь, Андрес, что я
клялся, если он тебе не заплатит, разыскать его, -- и я разыщу, хотя бы он
скрывался во чреве кита.
-- Это правда, -- сказал Андрес, -- но пользы не вышло из этого.
-- Увидишь теперь, выйдет ли из этого польза, -- воскликнул Дон Кихот
и, говоря это, поспешно встал и велел Санчо взнуздать Росинанта, который
пасся на лугу, пока они ели.
Доротеа спросила Дон Кихота, что он намерен делать. Он ответил, что
намерен разыскать того низкого человека, чтобы наказать его за гнусное
поведение и заставить его заплатить Андресу до последнего мараведиса
наперекор и назло всем негодяям в мире. Доротеа напомнила ему, что,
сообразуясь с данным ей обещанием, он не может заняться каким-либо иным
предприятием, пока ее дело не будет доведено до конца, и так как это ему
известно лучше, чем всем другим, то пусть он успокоит сердце свое до
возвращения из ее королевства.
-- Вы правы, -- ответил Дон Кихот,-- и потому Андресу волей-неволей
придется потерпеть до моего возвращения,
как вы, сеньора, сказали; но я еще раз клянусь и снова обещаю не
успокоиться до тех пор, пока не отомщу за него и не заставлю ему заплатить.
-- Не верю я в эти клятвы, -- сказал Андрес, -- и всякой мести в мире
предпочел бы, чтобы у меня было с чем добраться теперь до Севильи. Дайте
мне, если у вас найдется, что-нибудь поесть и взять с собой; и оставайтесь с
богом вы, милость ваша, и все странствующие рыцари, которые в наказание себе
пусть так же хорошо странствуют, как я это делаю из-за них.
Санчо взял из своих припасов кусок хлеба и кусок сыра и, давая их
мальчику, сказал:
-- Берите, брат Андрес, так как всякий из нас имеет долю в вашем
несчастье.
-- Какая же ваша доля в нем? -- спросил Андрес.
-- Вот в этой доле хлеба и сыра, которые я вам даю, -- ответил Санчо,
-- потому что, бог знает, понадобится ли она мне или нет, так как я должен
сказать вам, друг, что мы, оруженосцы странствующих рыцарей, подвержены
великому голоду и злоключениям и еще и другим вещам, которые лучше
чувствуются, чем говорятся.
Андрес взял хлеб и сыр, и видя, что никто больше ничего ему не дает,
опустил голову и пошел, как говорится, своею дорогой. Однако, уходя, он
сказал Дон Кихоту:
-- Прошу вас, ради самого бога, сеньор странствующий рыцарь, если вы
меня в другой раз встретите, даже если б вы видели, что меня рубят на куски,
-- не вступайтесь за меня, не помогайте мне, но предоставьте меня моим
несчастиям, потому что, как бы они ни были велики, еще больше будут те, что
произойдут для меня от помощи вашей милости, и будьте вы прокляты Богом
вместе со всеми странствующими рыцарями, когда-либо жившими в мире.
Дон Кихот собирался встать, чтобы наказать мальчика, но тот бросился
бежать так быстро, что никто не отважился догонять его. Дон Кихот был
страшно смущен рассказом Андреса, и остальные должны были делать большие
усилия над собой, чтобы не рассмеяться и не привести его в полнейшее
замешательство.

Глава XXXII, в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом
дворе со спутниками Дон Кихота
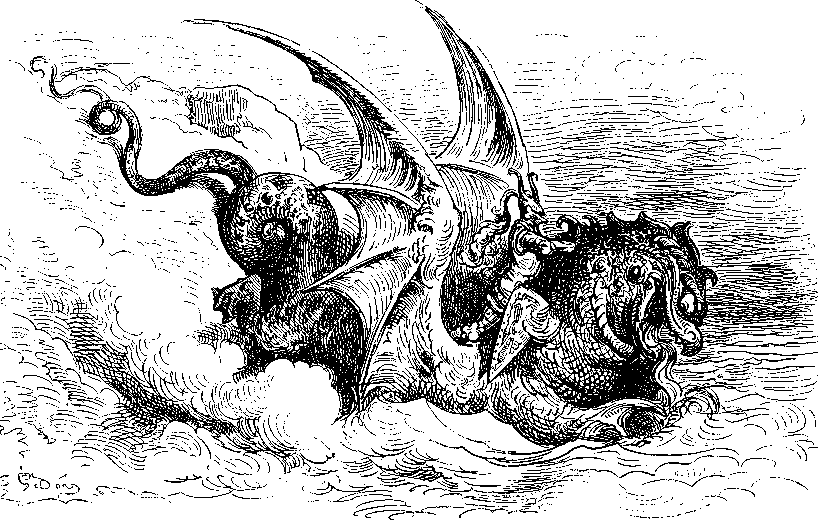 Кончив изысканный свои обед, они тотчас же оседлали лошадей и мулов и,
не встретив на пути ничего, о чем бы стоило рассказывать, на следующий же
день прибыли на постоялый двор, наводивший такой страх и ужас на Санчо
Пансу, и хотя он не желал входить туда, но не мог этого избегнуть. Хозяин и
хозяйка двора, их дочь и Мариторнес, увидав Дон Кихота и Санчо, вышли к ним
навстречу с изъявлениями большой радости, которые рыцарь принял с важным
видом, но одобрительно, и сказал им, чтобы они приготовили ему постель
получше той, на которой он в прошлый раз спал. Хозяйка на это ответила: если
он лучше заплатит, чем в прошлый раз, она даст ему постель годную для
принца. Дон Кихот обещал заплатить; итак, они приготовили ему сносную
постель на том же чердаке, как и прошлый раз, и он тотчас же лег, потому что
был очень утомлен и разбит душой и телом. Не успел он хорошенько запереть
дверь, как хозяйка подбежала к цирюльнику и, схватив его за бороду,
крикнула:
-- Клянусь знамением креста, не дам вам больше пользоваться хвостом
вместо бороды, вы должны мне вернуть мой хвост, а то мужнин валяется на
полу, просто срам; я говорю о его гребне, который обыкновенно я втыкала в
мой хороший хвост.
Цирюльник не желал отдавать, хотя она все сильнее тянула за свой хвост,
пока лисенсиат не сказал, чтобы он отдал его, так как нет больше надобности
прибегать к этой хитрости, потому что он может теперь открыться и явиться в
настоящем своем виде, сказав Дон Кихоту, что, когда воры -- галерные
невольники -- ограбили его, он спасся бегством на этот постоялый двор. Если
же рыцарь спросит об оруженосце принцессы, ему скажут: она послала его
вперед известить живущих в королевстве о том, что и сама она на пути туда и
с нею вместе и общий их освободитель. После этого цирюльник добровольно
отдал хвост хозяйке двора, и вместе с тем ей были возвращены и остальные
предметы, которые она давала им для освобождения Дон Кихота.
Всех бывших на постоялом дворе поразила красота Доротеи, а также и
привлекательная наружность пастуха Карденио. Священник позаботился, чтобы им
принесли поесть, что найдется на постоялом дворе, и в надежде на лучшую
плату хозяин поспешно приготовил им очень сносный обед. Во все это время Дон
Кихот спал, и было решено не будить его, так как для него теперь сон был
полезнее еды. За обедом они в присутствии хозяина, его жены, дочери,
Мариторнес и всех проезжих вели разговор о странном помешательстве Дон
Кихота и состоянии, в котором они его нашли. Хозяйка рассказала им, что
произошло с рыцарем и погонщиком мулов на чердаке, и, оглянувшись, нет ли
здесь случайно Санчо, и видя, что его нет, сообщила о подбрасывании его на
одеяле, чем очень позабавила всех. Когда же священник сказал, что чтение
рыцарских книг омрачило рассудок Дон Кихота, хозяин воскликнул:
-- Не знаю, как это может быть, потому что, говоря по правде, насколько
я понимаю, нет лучшего чтения на свете, и у меня здесь две или три подобные
книги наряду с другими сочинениями, и действительно они вдохнули в меня
новую жизнь, и не только в меня, но и во многих других, потому что по
праздникам во время жатвы у меня собирается много жнецов, и всегда среди них
есть кто-нибудь, который умеет читать. Он и берет в руки одну из этих книг,
а мы -- человек тридцать и более -- садимся вокруг него и слушаем с великим
наслаждением, предохраняющим нас от тысячи седин. По крайней мере, про себя
могу сказать, что, когда я слышу о тех ужасных и бешеных ударах, которые
наносят рыцари, меня берет желание поступить точно так же, и я готов был бы
слушать это чтение день и ночь.
-- И я того же мнения, -- вставила хозяйка, -- потому что никогда в
доме не бывает так спокойно, как в то время, когда вы слушаете чтение: вы
так углублены в него, что тогда лишь забываете браниться со мной.
-- Это правда, -- сказала Мариторнес, -- и, ей-богу, я тоже с большим
удовольствием слушаю все эти вещи, которые так занимательны; особенно же,
когда рассказывают, как сеньора обнимается со своим рыцарем под апельсиновым
деревом, а дуэнья, поставленная сторожить их, чуть не умирает от зависти и
испуга, говорю, что все это сладко как мед.
-- А вы, молодая сеньора, что вы скажете? -- спросил священник,
обращаясь к хозяйской дочери.
-- Не знаю, клянусь жизнью, сеньор, -- ответила она, -- я слушаю также
их чтение, и, говоря по правде, хотя и не понимаю ничего, но мне приятно
слушать. Только мне нравятся не удары, доставляющие такое удовольствие моему
отцу, а жалобы рыцарей, когда они в разлуке со своими дамами, и, право, иной
раз я плачу от сострадания к ним.
-- Значит, вы бы их утешили, милая девушка, -- сказала Доротеа, -- если
б они плакали из-за вас.
-- Не знаю, что бы я сделала, -- ответила девушка, -- знаю только,
некоторые из сеньор такие жестокие, что рыцари называют их тиграми, львами и
тысячей других отвратительных имен. И, Иисусе, не могу понять, что это за
бездушные и бессовестные создания, которые, только чтобы не взглянуть на
уважаемого всеми человека, допускают, чтобы он умер или сошел с ума; я не
знаю также, к чему столько жеманства; если они это делают из скромности,
пусть выходят за них замуж, потому что те ничего другого и не желают.
-- Молчи, дитя, -- сказала хозяйка,-- по-видимому, ты знаешь немало об
этих вещах, -- а девушке не годится ни знать, ни говорить так много.
-- Но этот сеньор спрашивал меня, и я не могла не ответить ему, --
возразила девушка.
-- Ну, хорошо, -- сказал священник, -- а теперь принесите мне те книги,
сеньор хозяин, -- я желал бы взглянуть на них.
-- С удовольствием, -- ответил хозяин и пошел к себе в комнату, откуда
он принес старый небольшой ручной чемодан, запертый замком с цепочкой, и,
открыв чемодан, он вынул из него три большие книги и несколько рукописей,
написанных четким, красивым почерком. Раскрыв первую книгу, священник
увидел, что это "Дон Сиронхилио Фракийский", вторая книга оказалась
"Феликсмарте де Иркания", третья "История великого капитана Гонсало
Эрнандеса Кордуанского вместе с жизнеописанием Диего Гарсиа де Паредес".
Как только священник прочел заглавия первых двух книг, он обратился к
цирюльнику и сказал:
-- Нам здесь недостает ключницы моего друга и его племянницы.
-- Обойдемся и без них, -- ответил цирюльник, -- так как я и сам могу
бросить книги во двор или в камин, а, по правде говоря, в нем пылает славный
огонь.
-- Как, милость ваша желает сжечь мои книги? -- спросил хозяин двора.
-- Только эти две, -- сказал священник, -- "Дона Сиронхилио" и
"Феликсмарте".
-- Разве книги мои, -- спросил хозяин, -- еретики или флегматики, что
вы хотите их сжечь?
-- Схизматики, хотели вы, верно, сказать, а не флегматики, -- поправил
его цирюльник.
-- Так оно и есть, -- ответил хозяин,-- но если уж вы хотите сжечь
какую-нибудь из книг, пусть это будет "Великий Капитан" или этот "Диего
Гарсиа"; потому что я дал бы скорее сжечь сына своего, чем допустить, чтобы
сожгли одну из тех двух книг.
-- Брат мой, -- сказал священник,-- эти две книги лживы и полны
нелепостей и вздоров, а книга о великом капитане истинная история и
заключает в себе описание деяний Гонсало Эрнандеса Кордуанского, который за
многие и великие подвиги свои заслужил быть прозванным всем светом "великим
капитаном", -- громкое и славное прозвище, полученное им одним. А Диего
Гарсиа де Паредес был знатный рыцарь, родом из города Трухильо, в
Эстремадуре, очень доблестный воин, отличавшийся такой природной физической
силой, что одним пальцем останавливал мельничное колесо на всем ходу; и,
стоя с боевым палашом в руке при входе на мост, он задержал целое
бесчисленное войско, не давая перейти ему через мост, и совершил еще и
другие тому подобные дела, так что, если б он не сам их рассказал и не
описал со скромностью рыцаря и летописца собственных своих подвигов, а
написал бы о них кто-нибудь другой, свободный и беспристрастный, они
заставили бы забыть подвиги Гектора, Ахилла и Роланда.
Кончив изысканный свои обед, они тотчас же оседлали лошадей и мулов и,
не встретив на пути ничего, о чем бы стоило рассказывать, на следующий же
день прибыли на постоялый двор, наводивший такой страх и ужас на Санчо
Пансу, и хотя он не желал входить туда, но не мог этого избегнуть. Хозяин и
хозяйка двора, их дочь и Мариторнес, увидав Дон Кихота и Санчо, вышли к ним
навстречу с изъявлениями большой радости, которые рыцарь принял с важным
видом, но одобрительно, и сказал им, чтобы они приготовили ему постель
получше той, на которой он в прошлый раз спал. Хозяйка на это ответила: если
он лучше заплатит, чем в прошлый раз, она даст ему постель годную для
принца. Дон Кихот обещал заплатить; итак, они приготовили ему сносную
постель на том же чердаке, как и прошлый раз, и он тотчас же лег, потому что
был очень утомлен и разбит душой и телом. Не успел он хорошенько запереть
дверь, как хозяйка подбежала к цирюльнику и, схватив его за бороду,
крикнула:
-- Клянусь знамением креста, не дам вам больше пользоваться хвостом
вместо бороды, вы должны мне вернуть мой хвост, а то мужнин валяется на
полу, просто срам; я говорю о его гребне, который обыкновенно я втыкала в
мой хороший хвост.
Цирюльник не желал отдавать, хотя она все сильнее тянула за свой хвост,
пока лисенсиат не сказал, чтобы он отдал его, так как нет больше надобности
прибегать к этой хитрости, потому что он может теперь открыться и явиться в
настоящем своем виде, сказав Дон Кихоту, что, когда воры -- галерные
невольники -- ограбили его, он спасся бегством на этот постоялый двор. Если
же рыцарь спросит об оруженосце принцессы, ему скажут: она послала его
вперед известить живущих в королевстве о том, что и сама она на пути туда и
с нею вместе и общий их освободитель. После этого цирюльник добровольно
отдал хвост хозяйке двора, и вместе с тем ей были возвращены и остальные
предметы, которые она давала им для освобождения Дон Кихота.
Всех бывших на постоялом дворе поразила красота Доротеи, а также и
привлекательная наружность пастуха Карденио. Священник позаботился, чтобы им
принесли поесть, что найдется на постоялом дворе, и в надежде на лучшую
плату хозяин поспешно приготовил им очень сносный обед. Во все это время Дон
Кихот спал, и было решено не будить его, так как для него теперь сон был
полезнее еды. За обедом они в присутствии хозяина, его жены, дочери,
Мариторнес и всех проезжих вели разговор о странном помешательстве Дон
Кихота и состоянии, в котором они его нашли. Хозяйка рассказала им, что
произошло с рыцарем и погонщиком мулов на чердаке, и, оглянувшись, нет ли
здесь случайно Санчо, и видя, что его нет, сообщила о подбрасывании его на
одеяле, чем очень позабавила всех. Когда же священник сказал, что чтение
рыцарских книг омрачило рассудок Дон Кихота, хозяин воскликнул:
-- Не знаю, как это может быть, потому что, говоря по правде, насколько
я понимаю, нет лучшего чтения на свете, и у меня здесь две или три подобные
книги наряду с другими сочинениями, и действительно они вдохнули в меня
новую жизнь, и не только в меня, но и во многих других, потому что по
праздникам во время жатвы у меня собирается много жнецов, и всегда среди них
есть кто-нибудь, который умеет читать. Он и берет в руки одну из этих книг,
а мы -- человек тридцать и более -- садимся вокруг него и слушаем с великим
наслаждением, предохраняющим нас от тысячи седин. По крайней мере, про себя
могу сказать, что, когда я слышу о тех ужасных и бешеных ударах, которые
наносят рыцари, меня берет желание поступить точно так же, и я готов был бы
слушать это чтение день и ночь.
-- И я того же мнения, -- вставила хозяйка, -- потому что никогда в
доме не бывает так спокойно, как в то время, когда вы слушаете чтение: вы
так углублены в него, что тогда лишь забываете браниться со мной.
-- Это правда, -- сказала Мариторнес, -- и, ей-богу, я тоже с большим
удовольствием слушаю все эти вещи, которые так занимательны; особенно же,
когда рассказывают, как сеньора обнимается со своим рыцарем под апельсиновым
деревом, а дуэнья, поставленная сторожить их, чуть не умирает от зависти и
испуга, говорю, что все это сладко как мед.
-- А вы, молодая сеньора, что вы скажете? -- спросил священник,
обращаясь к хозяйской дочери.
-- Не знаю, клянусь жизнью, сеньор, -- ответила она, -- я слушаю также
их чтение, и, говоря по правде, хотя и не понимаю ничего, но мне приятно
слушать. Только мне нравятся не удары, доставляющие такое удовольствие моему
отцу, а жалобы рыцарей, когда они в разлуке со своими дамами, и, право, иной
раз я плачу от сострадания к ним.
-- Значит, вы бы их утешили, милая девушка, -- сказала Доротеа, -- если
б они плакали из-за вас.
-- Не знаю, что бы я сделала, -- ответила девушка, -- знаю только,
некоторые из сеньор такие жестокие, что рыцари называют их тиграми, львами и
тысячей других отвратительных имен. И, Иисусе, не могу понять, что это за
бездушные и бессовестные создания, которые, только чтобы не взглянуть на
уважаемого всеми человека, допускают, чтобы он умер или сошел с ума; я не
знаю также, к чему столько жеманства; если они это делают из скромности,
пусть выходят за них замуж, потому что те ничего другого и не желают.
-- Молчи, дитя, -- сказала хозяйка,-- по-видимому, ты знаешь немало об
этих вещах, -- а девушке не годится ни знать, ни говорить так много.
-- Но этот сеньор спрашивал меня, и я не могла не ответить ему, --
возразила девушка.
-- Ну, хорошо, -- сказал священник, -- а теперь принесите мне те книги,
сеньор хозяин, -- я желал бы взглянуть на них.
-- С удовольствием, -- ответил хозяин и пошел к себе в комнату, откуда
он принес старый небольшой ручной чемодан, запертый замком с цепочкой, и,
открыв чемодан, он вынул из него три большие книги и несколько рукописей,
написанных четким, красивым почерком. Раскрыв первую книгу, священник
увидел, что это "Дон Сиронхилио Фракийский", вторая книга оказалась
"Феликсмарте де Иркания", третья "История великого капитана Гонсало
Эрнандеса Кордуанского вместе с жизнеописанием Диего Гарсиа де Паредес".
Как только священник прочел заглавия первых двух книг, он обратился к
цирюльнику и сказал:
-- Нам здесь недостает ключницы моего друга и его племянницы.
-- Обойдемся и без них, -- ответил цирюльник, -- так как я и сам могу
бросить книги во двор или в камин, а, по правде говоря, в нем пылает славный
огонь.
-- Как, милость ваша желает сжечь мои книги? -- спросил хозяин двора.
-- Только эти две, -- сказал священник, -- "Дона Сиронхилио" и
"Феликсмарте".
-- Разве книги мои, -- спросил хозяин, -- еретики или флегматики, что
вы хотите их сжечь?
-- Схизматики, хотели вы, верно, сказать, а не флегматики, -- поправил
его цирюльник.
-- Так оно и есть, -- ответил хозяин,-- но если уж вы хотите сжечь
какую-нибудь из книг, пусть это будет "Великий Капитан" или этот "Диего
Гарсиа"; потому что я дал бы скорее сжечь сына своего, чем допустить, чтобы
сожгли одну из тех двух книг.
-- Брат мой, -- сказал священник,-- эти две книги лживы и полны
нелепостей и вздоров, а книга о великом капитане истинная история и
заключает в себе описание деяний Гонсало Эрнандеса Кордуанского, который за
многие и великие подвиги свои заслужил быть прозванным всем светом "великим
капитаном", -- громкое и славное прозвище, полученное им одним. А Диего
Гарсиа де Паредес был знатный рыцарь, родом из города Трухильо, в
Эстремадуре, очень доблестный воин, отличавшийся такой природной физической
силой, что одним пальцем останавливал мельничное колесо на всем ходу; и,
стоя с боевым палашом в руке при входе на мост, он задержал целое
бесчисленное войско, не давая перейти ему через мост, и совершил еще и
другие тому подобные дела, так что, если б он не сам их рассказал и не
описал со скромностью рыцаря и летописца собственных своих подвигов, а
написал бы о них кто-нибудь другой, свободный и беспристрастный, они
заставили бы забыть подвиги Гектора, Ахилла и Роланда.
 -- Скажите-ка об этом моему отцу! -- объявил хозяин. -- Нашли чему
удивляться -- остановить мельничное колесо! Клянусь Богом, милости вашей
следовало бы прочесть то, что я читал о Феликсмарте де Иркания, который
одним ударом меча рассек пополам пять великанов, точно они были сделаны из
бобов, подобно маленьким монашкам, которыми забавляются дети {Намек на
забаву детей тех времен, которые рассекали бобовый стручок таким образом,
что часть его свешивалась, наподобие монашеского клобука, а из другой
выходило нечто вроде головы монаха.}; а в другой раз он напал на могучую и
многочисленную армию, состоявшую из более чем миллиона шестисот тысяч
солдат, вооруженных с ног до головы, и всех их обратил в бегство, как стадо
баранов. И что скажете вы о добрейшем Сиронхилио Фракийском, который был
такой доблестный и мужественный, как это видно из книги о нем, где
рассказывается, что, когда однажды он плыл по реке, из глубины воды
показался огненный змей; а он, увидав его, бросился к нему, сел верхом на
его чешуйчатых плечах и обеими руками зажал ему горло с такою силой, что
змей, боясь быть задушенным, не нашел другого средства для своего спасения,
как опуститься на дно реки, увлекая за собою рыцаря, который ни за что не
хотел выпустить его. И когда они очутились на дне реки, рыцарь увидел себя в
таких прекрасных дворцах и садах, что чудо, и тотчас же змей обратился в
древнего старика, наговорившего ему таких вещей, каких никто никогда еще не
слышал. Поверьте, сеньор, если бы вы услышали это, вы сошли бы с ума от
удовольствия; и две фиги за вашего великого капитана и за этого Диего
Гарсиа, о котором вы говорите.
Услыхав это, Доротеа сказала потихоньку Карденио:
-- Немногого недостает нашему хозяину, чтобы он явился под пару Дон
Кихоту.
-- И мне это тоже кажется, -- ответил Карденио, -- так как, судя по его
словам, он уверен, что все, о чем рассказывается в его книгах, действительно
случилось, точь-в-точь, как в них описано, и разубедить его, что это не так,
не удалось бы даже босоногим монахам.
-- Заметьте, брат, -- заговорил снова священник, -- что никогда не было
ни Феликсмарте, ни дона Сиронхилио Фракийского, ни других подобных им
рыцарей, о которых повествуется в рыцарских книгах, так как все в них лишь
выдумка и измышление праздных умов, сочинявших такие книги с целью, на
которую вы указали, именно для времяпровождения, как это и делают, читая,
ваши жнецы, потому что, клянусь вам, на самом деле никогда на свете не было
таких рыцарей и никогда в мире не случалось таких подвигов и нелепостей.
-- Этою костью подманивайте другую собаку, -- ответил хозяин, --
думаете ли вы, что я не сумею сосчитать до пяти и не знаю, где мне жмет
башмак? Пусть ваша милость не старается кормить меня кашкой, потому что,
клянусь Богом, я вовсе не младенец. Нечего сказать, выдумала милость ваша
уверять меня, будто все, что говорится в тех хороших книгах,-- нелепость и
ложь, когда они напечатаны с разрешения господ членов королевского совета, а
это не такого рода люди, которые позволили бы печатать сплошную кипу лжи и
столько сражений и очарований, от которых можно лишиться рассудка.
-- Я уже говорил вам, друг, -- ответил священник, -- что это делается
для развлечения праздных наших мыслей; и подобно тому, как в благоустроенных
государствах дозволяется игра в шахматы, в мяч и в бильярд {Juegos de pelota
y da trucos -- игры не совсем тождественные, но имеющие сходство с игрой в
мяч и на бильярде.}, чтобы занять тех, которые не хотят, не должны или не
могут работать, точно также дозволяют печатать и издавать подобного рода
книги в уверенности -- как оно на самом деле и есть, -- что никто не может
быть столь невежественным, чтобы принять какую-либо из этих книг за истинную
историю. И если бы теперь мне было бы дозволено и мои слушатели желали бы
этого, я многое мог бы сказать по поводу того, что должны заключать в себе
рыцарские книги, чтобы считаться хорошими и доставить пользу, а иным, быть
может, даже и удовольствие. Но надеюсь, настанет время, когда мне можно
будет сообщить мое мнение лицу, которое будет в состоянии помочь делу. А
пока, сеньор хозяин, верьте тому, что я вам сказал; возьмите ваши книги,
решайте сами, что в них ложь, что истина, и пусть они пойдут вам на пользу;
дай только бог, чтобы вы не захромали на ту же ногу, на которую хромает ваш
гость Дон Кихот!
-- Скажите-ка об этом моему отцу! -- объявил хозяин. -- Нашли чему
удивляться -- остановить мельничное колесо! Клянусь Богом, милости вашей
следовало бы прочесть то, что я читал о Феликсмарте де Иркания, который
одним ударом меча рассек пополам пять великанов, точно они были сделаны из
бобов, подобно маленьким монашкам, которыми забавляются дети {Намек на
забаву детей тех времен, которые рассекали бобовый стручок таким образом,
что часть его свешивалась, наподобие монашеского клобука, а из другой
выходило нечто вроде головы монаха.}; а в другой раз он напал на могучую и
многочисленную армию, состоявшую из более чем миллиона шестисот тысяч
солдат, вооруженных с ног до головы, и всех их обратил в бегство, как стадо
баранов. И что скажете вы о добрейшем Сиронхилио Фракийском, который был
такой доблестный и мужественный, как это видно из книги о нем, где
рассказывается, что, когда однажды он плыл по реке, из глубины воды
показался огненный змей; а он, увидав его, бросился к нему, сел верхом на
его чешуйчатых плечах и обеими руками зажал ему горло с такою силой, что
змей, боясь быть задушенным, не нашел другого средства для своего спасения,
как опуститься на дно реки, увлекая за собою рыцаря, который ни за что не
хотел выпустить его. И когда они очутились на дне реки, рыцарь увидел себя в
таких прекрасных дворцах и садах, что чудо, и тотчас же змей обратился в
древнего старика, наговорившего ему таких вещей, каких никто никогда еще не
слышал. Поверьте, сеньор, если бы вы услышали это, вы сошли бы с ума от
удовольствия; и две фиги за вашего великого капитана и за этого Диего
Гарсиа, о котором вы говорите.
Услыхав это, Доротеа сказала потихоньку Карденио:
-- Немногого недостает нашему хозяину, чтобы он явился под пару Дон
Кихоту.
-- И мне это тоже кажется, -- ответил Карденио, -- так как, судя по его
словам, он уверен, что все, о чем рассказывается в его книгах, действительно
случилось, точь-в-точь, как в них описано, и разубедить его, что это не так,
не удалось бы даже босоногим монахам.
-- Заметьте, брат, -- заговорил снова священник, -- что никогда не было
ни Феликсмарте, ни дона Сиронхилио Фракийского, ни других подобных им
рыцарей, о которых повествуется в рыцарских книгах, так как все в них лишь
выдумка и измышление праздных умов, сочинявших такие книги с целью, на
которую вы указали, именно для времяпровождения, как это и делают, читая,
ваши жнецы, потому что, клянусь вам, на самом деле никогда на свете не было
таких рыцарей и никогда в мире не случалось таких подвигов и нелепостей.
-- Этою костью подманивайте другую собаку, -- ответил хозяин, --
думаете ли вы, что я не сумею сосчитать до пяти и не знаю, где мне жмет
башмак? Пусть ваша милость не старается кормить меня кашкой, потому что,
клянусь Богом, я вовсе не младенец. Нечего сказать, выдумала милость ваша
уверять меня, будто все, что говорится в тех хороших книгах,-- нелепость и
ложь, когда они напечатаны с разрешения господ членов королевского совета, а
это не такого рода люди, которые позволили бы печатать сплошную кипу лжи и
столько сражений и очарований, от которых можно лишиться рассудка.
-- Я уже говорил вам, друг, -- ответил священник, -- что это делается
для развлечения праздных наших мыслей; и подобно тому, как в благоустроенных
государствах дозволяется игра в шахматы, в мяч и в бильярд {Juegos de pelota
y da trucos -- игры не совсем тождественные, но имеющие сходство с игрой в
мяч и на бильярде.}, чтобы занять тех, которые не хотят, не должны или не
могут работать, точно также дозволяют печатать и издавать подобного рода
книги в уверенности -- как оно на самом деле и есть, -- что никто не может
быть столь невежественным, чтобы принять какую-либо из этих книг за истинную
историю. И если бы теперь мне было бы дозволено и мои слушатели желали бы
этого, я многое мог бы сказать по поводу того, что должны заключать в себе
рыцарские книги, чтобы считаться хорошими и доставить пользу, а иным, быть
может, даже и удовольствие. Но надеюсь, настанет время, когда мне можно
будет сообщить мое мнение лицу, которое будет в состоянии помочь делу. А
пока, сеньор хозяин, верьте тому, что я вам сказал; возьмите ваши книги,
решайте сами, что в них ложь, что истина, и пусть они пойдут вам на пользу;
дай только бог, чтобы вы не захромали на ту же ногу, на которую хромает ваш
гость Дон Кихот!
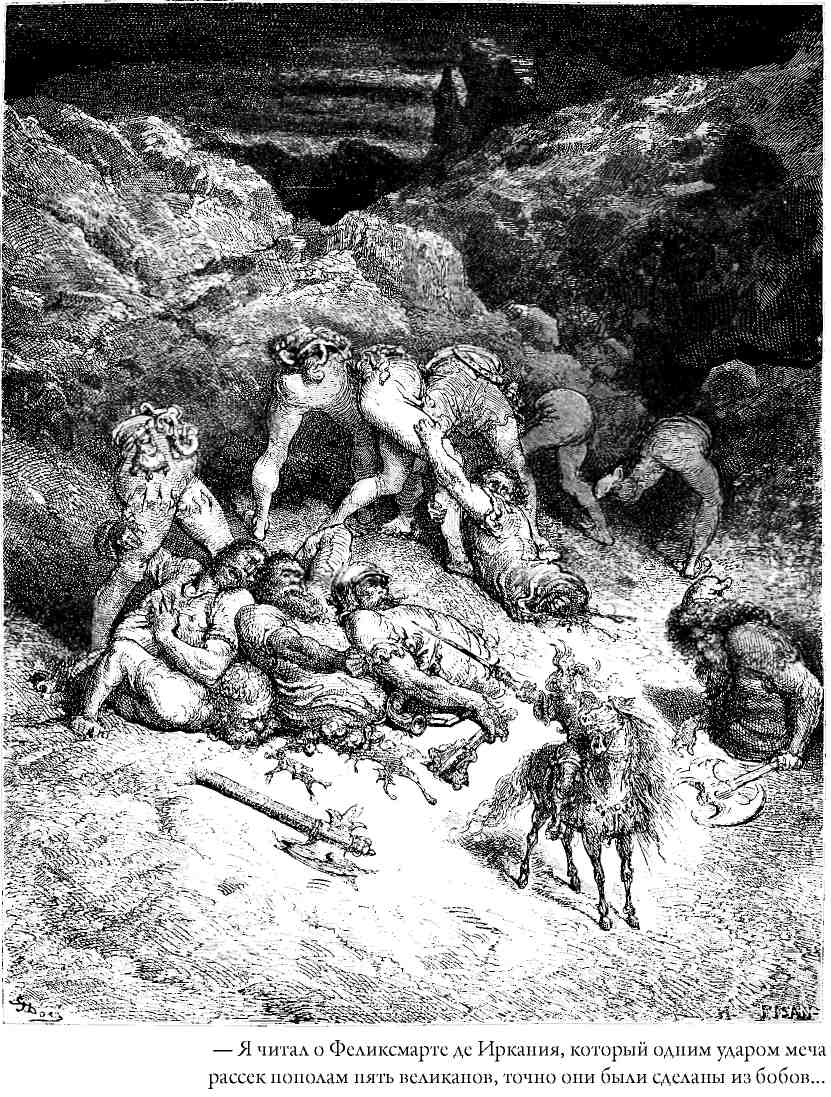 -- Ну уж нет, -- ответил хозяин, -- я не буду таким безумным, чтобы
сделаться странствующим рыцарем, ведь я хорошо вижу, что теперь не в обычае
то, что было обычаем в те времена, когда, как говорят, эти знаменитые рыцари
странствовали по свету.
Среди этого разговора Санчо вошел в комнату и очень смутился и
призадумался, услышав, что странствующие рыцари теперь уже не в обычае и все
рыцарские книги нелепость и ложь; он вознамерился в сердце своем дождаться,
чем кончится путешествие, и если оно не окажется столь счастливым, как он
надеялся, в таком случае он бросит своего господина и вернется к жене и
детям и к обычным своим занятиям.
Хозяин собрался унести свой чемоданчик и книги, но священник остановил
его, говоря:
-- Подождите, я хотел бы посмотреть, что это за бумаги, написанные
таким хорошим почерком?
Хозяин вынул их и дал на просмотр священнику, который увидел, что
рукопись состоит из восьми исписанных листов и на первой странице
проставлено крупными буквами заглавие: "Повесть о Безрассудно-любопытном".
Священник прочел про себя три или четыре строки и сказал:
-- Право, заглавие этой повести кажется мне недурным, и мне пришла
охота прочесть ее всю.
На это хозяин двора ответил:
-- Ваше преподобие хорошо сделает, прочитав ее, так как я должен вам
сказать, что некоторым проезжим, читавшим ее здесь, она доставила большое
удовольствие, и они настойчиво просили ее у меня, но я не дал, рассчитывая
возвратить ее тому, кто оставил здесь забытый им чемоданчик с этими книгами
и бумагами, так как может случиться, что собственник их когда-нибудь
вернется сюда. И хотя я знаю, что буду скучать без этих книг, но, клянусь
честью, я возвращу их, потому что, пусть я и содержатель постоялого двора,
но все же я христианин.
-- Вы вполне правы, друг мой, -- сказал священник, -- тем не менее
позвольте мне списать эту повесть, если она мне понравится.
-- С величайшей охотой, -- ответил хозяин.
Пока они так вдвоем разговаривали, Карденио взял повесть и стал читать
ее; она понравилась ему так же, как и священнику, и он попросил его прочесть
ее вслух, чтобы все могли слышать.
-- Я бы прочел ее -- сказал священник, -- но не лучше ли употребить
время на сон, чем на чтение.
-- Для меня, -- объявила Доротеа,-- было бы достаточным отдыхом
провести время, слушая чтение какого-нибудь рассказа, потому что я еще
слишком взволнована, чтобы заснуть, хотя бы и настала для этого пора.
-- В таком случае, -- сказал священник, -- я прочту повесть хотя бы из
одного лишь любопытства, а может быть, она доставит нам и удовольствие.
Маэсе Николас попросил его о том же, также как и Санчо. Увидав это и
приняв во внимание, что он доставит всем им удовольствие и сам его получит,
священник сказал:
-- Если это так, слушайте все внимательно, потому что повесть
начинается следующим образом.
-- Ну уж нет, -- ответил хозяин, -- я не буду таким безумным, чтобы
сделаться странствующим рыцарем, ведь я хорошо вижу, что теперь не в обычае
то, что было обычаем в те времена, когда, как говорят, эти знаменитые рыцари
странствовали по свету.
Среди этого разговора Санчо вошел в комнату и очень смутился и
призадумался, услышав, что странствующие рыцари теперь уже не в обычае и все
рыцарские книги нелепость и ложь; он вознамерился в сердце своем дождаться,
чем кончится путешествие, и если оно не окажется столь счастливым, как он
надеялся, в таком случае он бросит своего господина и вернется к жене и
детям и к обычным своим занятиям.
Хозяин собрался унести свой чемоданчик и книги, но священник остановил
его, говоря:
-- Подождите, я хотел бы посмотреть, что это за бумаги, написанные
таким хорошим почерком?
Хозяин вынул их и дал на просмотр священнику, который увидел, что
рукопись состоит из восьми исписанных листов и на первой странице
проставлено крупными буквами заглавие: "Повесть о Безрассудно-любопытном".
Священник прочел про себя три или четыре строки и сказал:
-- Право, заглавие этой повести кажется мне недурным, и мне пришла
охота прочесть ее всю.
На это хозяин двора ответил:
-- Ваше преподобие хорошо сделает, прочитав ее, так как я должен вам
сказать, что некоторым проезжим, читавшим ее здесь, она доставила большое
удовольствие, и они настойчиво просили ее у меня, но я не дал, рассчитывая
возвратить ее тому, кто оставил здесь забытый им чемоданчик с этими книгами
и бумагами, так как может случиться, что собственник их когда-нибудь
вернется сюда. И хотя я знаю, что буду скучать без этих книг, но, клянусь
честью, я возвращу их, потому что, пусть я и содержатель постоялого двора,
но все же я христианин.
-- Вы вполне правы, друг мой, -- сказал священник, -- тем не менее
позвольте мне списать эту повесть, если она мне понравится.
-- С величайшей охотой, -- ответил хозяин.
Пока они так вдвоем разговаривали, Карденио взял повесть и стал читать
ее; она понравилась ему так же, как и священнику, и он попросил его прочесть
ее вслух, чтобы все могли слышать.
-- Я бы прочел ее -- сказал священник, -- но не лучше ли употребить
время на сон, чем на чтение.
-- Для меня, -- объявила Доротеа,-- было бы достаточным отдыхом
провести время, слушая чтение какого-нибудь рассказа, потому что я еще
слишком взволнована, чтобы заснуть, хотя бы и настала для этого пора.
-- В таком случае, -- сказал священник, -- я прочту повесть хотя бы из
одного лишь любопытства, а может быть, она доставит нам и удовольствие.
Маэсе Николас попросил его о том же, также как и Санчо. Увидав это и
приняв во внимание, что он доставит всем им удовольствие и сам его получит,
священник сказал:
-- Если это так, слушайте все внимательно, потому что повесть
начинается следующим образом.

Глава XXXIII, в которой рассказывается повесть о Безрассудно-любопытном
Во Флоренции, богатом и знаменитом городе Италии, и в провинции,
именуемой Тосканой, жили Ансельмо и Лотарио, два богатых и родовитых
кабальеро, связанные такой тесной дружбой, что все, кто только их знал,
называли их по преимуществу и для отличия лишь два друга. Они были холосты,
молоды, одинаковых лет и одинаковых привычек; все это было достаточною
причиной, чтобы их обоих соединяла взаимная тесная дружба. Правда, Ансельмо
был несколько более склонен к развлечениям любви, чем Лотарио, который
предпочитал удовольствия охоты; но при случае Ансельмо изменял своим вкусам,
чтобы следовать наклонностям Лотарио, а Лотарио жертвовал своими
удовольствиями, чтобы разделить удовольствия Ансельмо, и таким образом их
желания были всегда так согласованы, что никакие хорошо проверенные часы не
могли идти более равномерно. Ансельмо безумно влюбился в знатную и красивую
девушку, жившую в том же городе, дочь столь почтенных родителей и которая
сама по себе была столь достойна, что с одобрения своего друга Лотарио, без
которого он ничего не предпринимал, Ансельмо решился просить ее себе в жены
у ее родителей и привел свое намерение в исполнение. Послом Ансельмо явился
Лотарио, и он устроил дело, к полнейшему удовольствию своего друга, так что
тот через короткое время сделался обладателем предмета своих желаний. И
Камилла была так довольна, выйдя замуж за Ансельмо, что не переставала
возносить благодарение небу и Лотарио, при посредстве которого это счастие
выпало ей на долю. Первые дни после свадьбы -- как это обыкновенно бывает --
прошли очень весело, и Лотарио продолжал посещать дом своего друга Ансельмо,
стараясь чем только мог выказывать ему внимание, развлекать и занимать его.
Но когда свадебные дни прошли и поток посетителей и поздравлений уменьшился,
Лотарио намеренно стал все реже и реже бывать в доме Ансельмо, так как ему
казалось -- и всякому благоразумному человеку на его месте казалось бы то же
самое, -- что не следует бывать так часто в доме женатых друзей и посещать
их как в то время, когда они были еще холостыми, потому что, хотя настоящая
и истинная дружба не может и не должна быть ни в чем подозреваема, тем не
менее честь женатого человека так щепетильна, что, по-видимому, ее могут
оскорбить даже братья мужа, а тем более его друзья.
Ансельмо заметил отдаление Лотарио и горько жаловался на это, говоря,
что если бы он знал, что женитьба его явится причиной нарушения прежнего
тесного их сближения, он никогда не женился бы, и если за единодушие,
существовавшее между ними, когда он еще не был женатым, они заслужили столь
сладостное название два друга, он не допустит, чтобы без всякой иной
причины, как только из желания Лотарио быть чрезмерно щепетильным, они
лишились бы столь приятного и знаменитого прозвища. Поэтому, он его умоляет
-- если только употребление подобного выражения между ними допустимо --
считать себя по-прежнему хозяином в его доме и приходить и уходить, как в
былое время в уверенности, что у Камиллы нет другого желания и другой воли,
кроме желания и воли ее мужа, и, зная как горячо они любят друг друга, она
очень смущена, видя в нем такую уклончивость. На эти и многие другие доводы,
приведенные Ансельмо с целью уговорить Лотарио посещать по-прежнему его дом,
Лотарио ответил так умно, благоразумно и убедительно, что Ансельмо остался
доволен решением друга, и они условились, чтобы Лотарио обедал у Ансельмо
два раза в неделю, а также и по праздникам. Но Лотарио решил делать лишь то,
что он найдет наиболее совместимым с честью своего друга, доброе имя
которого было ему дороже его собственного. Он говорил -- и говорил
основательно, -- что женатый человек, которому небо уделило красивую жену,
должен столько же остерегаться и того, каких он друзей вводит к себе в дом,
как и обращать внимание на подруг, с которыми его жена водит знакомство,
потому что то, чего нельзя сделать и устроить на площади, в церквах, на
гуляньях и богомольях (все такие вещи, в которых не всегда мужья могут
отказывать своим женам), устраивается и налаживается в доме подруги или
родственницы, пользующейся наибольшим доверием. Лотарио говорил также, что
женатым людям, каждому из них, надо бы иметь друга, который указывал бы на
оплошности в их поведении, так как нередко бывает, что вследствие сильной
любви мужа к жене он или сам не замечает, или, боясь ее огорчить, не говорит
ей, что она делает, или воздерживается делать те или иные вещи, совершение
которых или воздерживание от которых может обратиться ему в честь или в
нарекание; и вот в подобных случаях, будучи предупрежден другом, он легко
мог бы найти средство всему пособить. Но где же отыскать такого умного,
преданного и верного друга, какого желал Лотарио? Я, право, этого не знаю:
один лишь Лотарио был им, он, который с такою заботливостью и
предусмотрительностью следил за честью друга и старался урезать, сбавить и
сократить условленные дни для посещения его дома, чтобы свободный доступ
такого богатого, родовитого и знатного молодого человека, одаренного, как он
о себе думал, многими выдающимися качествами, в дом такой красивой женщины,
как Камилла, не показался бы подозрительным праздной толпе и пронырливым,
недоброжелательным взорам; потому что, хотя добродетели Камиллы и ее
достоинства могли наложить узду на всякий злоречивый язык, Лотарио не хотел,
чтобы даже пылинка сомнения упала на доброе ее имя и на доброе имя его
друга. Вот почему большинство условленных дней он проводил в занятиях и
посвящал делам, которые выдавал за неотложные, так что при свидании друзей
большая часть времени проходила в жалобах с одной стороны и в оправданиях --
с другой.
Случилось затем, что однажды, когда они вдвоем прогуливались на лугу за
городом, Ансельмо обратился к Лотарио со следующими словами:
-- Друг Лотарио, ты, конечно, думаешь, что за милости, которые оказал
мне Бог, создав меня сыном таких родителей, какими были мои, и осыпав меня
щедрой рукой как дарами, которые называют природными, так и дарами счастья,
я не в состоянии ответить благодарностью, равной полученному мною
благодеянию, в особенности же тому благодеянию, что Бог тебя дал мне другом,
а Камиллу -- женой, -- два сокровища, которые я ценю, если не в той мере,
как должен, то в той, как могу. Однако, обладая всеми благами, заключающими
в себе суть земного благополучия и которыми люди обыкновенно довольствуются
и не могут не довольствоваться, я впал в уныние и чувствую себя самым
неудовлетворенным человеком во всей обширной вселенной. Дело в том, что не
знаю уже сколько дней, меня мучит и тревожит такое странное и необычайное
желание, что я сам себе дивлюсь и наедине с собою обвиняю себя, браню и
стараюсь заглушить и схоронить это желание от собственных моих мыслей; и мне
до того тяжело открыть тебе эту тайну, точно я должен объявить о ней всему
свету; но так как в конце концов она должна обнаружиться, я желаю доверить
ее тайным архивам твоей души, убежденный, что вследствие этого и рвения, с
которым ты, как истинный друг мой, постараешься мне помочь, я скоро
освобожусь от причиняемых мне ею страданий, и радость моя благодаря твоим
заботам достигнет той степени, до которой дошло мое томление благодаря моему
безумию.
Лотарио был смущен словами Ансельмо и не знал, к чему клонит столь
долгое вступление и предисловие; хотя он и перебирал в своем уме, какое бы
желание могло так мучить его друга, все же он оставался далеко позади
истины; и, чтоб поскорее избавиться от тревоги, вызванной недоумением, он
сказал Ансельмо, что старания его искать окольные пути, чтоб открыть ему
сокровенные свои мысли, -- явное оскорбление их горячей дружбы, так как он
может быть всегда уверен получить от друга или совет для отвлечения от них,
или же поддержку для осуществления их.
-- Ты прав, -- ответил Ансельмо,-- и в этой уверенности я сообщаю тебе,
друг Лотарио, что меня мучит сомнение, действительно ли так добродетельна и
совершенна моя жена Камилла, как я это думаю, а мне нельзя удостовериться в
этом иначе, как только подвергнув ее испытанию, которое доказало бы
неподдельность ее добродетели, как огонь доказывает неподдельность золота.
Ведь я, о друг мой, держусь того мнения, что женщина истинно добродетельна
лишь постольку, поскольку она подвергалась или не подвергалась соблазну, и
только та сильна, которая не поддалась ни обещаниям, ни подаркам, ни слезам,
ни беспрерывной докучливости упорных поклонников. Потому что, -- добавил
Ансельмо, -- как восхвалять женщину за то, что она добродетельна, если никто
не соблазнял ее не быть добродетельной? Какая же заслуга, если сдержанна и
скромна та, которой не представился случай вести себя легкомысленно, или
знающая, что у нее такого рода муж, который, застигни он ее на первом
проступке, тотчас же убьет ее? Итак, ту, которая добродетельна ради страха
или за неимением благоприятного случая, я не могу уважать наравне с
женщиной, вышедшей из всех искушений и преследований, заслужив венец победы.
По этим и многим другим причинам, которые я бы мог привести тебе, чтоб
подкрепить свое мнение, я желаю, чтобы жена моя Камилла прошла через эти
испытания, чтобы она окрепла и очистилась в огне соблазна и ухаживаний
человека, достойного добиваться ее любви. И если она, как я надеюсь, выйдет
из этой битвы с пальмой в руках, я буду считать счастие мое не имеющим себе
равного и буду вправе сказать, что чаша моих желаний переполнена и что мне
на долю досталась та редкостная жена, про которую мудрец говорит: кто найдет
ее! А если бы случилось обратное тому, что я думаю, удовольствие видеть,
насколько мнение мое оказалось верным, поможет мне безропотно перенести
страдание, причиненное столь дорого купленным опытом. И предположив, что ни
одно из твоих возражений против моего намерения не убедит меня и не отвратит
от приведения его в исполнение, -- я просил бы тебя, о друг Лотарио,
согласиться быть орудием осуществления столь пылкого моего желания; и я сам
доставлю тебе случай это сделать, ничего не упустив из всего, что я найду
нужным для ухаживания за женщиной добродетельной, скромной, бескорыстной и
всеми уважаемой. Побуждает меня, между прочим, доверить тебе столь трудное
предприятие такая мысль: если Камилла окажется побежденной, ты не доведешь
своей победы до последнего и крайнего предела, а зайдешь лишь настолько
далеко, что будет сочтено как бы совершившимся то, что могло быть совершено.
Таким образом, и я буду оскорблен не более как только лишь в намерении, и
бесчестие мое будет похоронено в добродетели твоего молчания, а оно -- я это
хорошо знаю -- во всем, что касается меня, будет вечным, как безмолвие
смерти. Итак, если ты желаешь, чтобы я жил жизнью, заслуживающею этого
названия, ты должен немедленно вступить в эту любовную битву не равнодушно и
лениво, а со всем рвением и пылом, требуемым моим намерением и с
преданностью, которую дружба наша обеспечивает мне.
Вот те доводы, которые Ансельмо привел Лотарио, слушавшему их так
внимательно, что, кроме нескольких слов, приведенных нами, он не раскрыл
рта, пока Ансельмо не кончил. Увидав, что тот ничего больше не говорит,
Лотарио, после того как он довольно долго всматривался в него, словно в
предмет, никогда еще не виданный им, вызывающий в нем удивление и ужас,
сказал:
-- Я не могу поверить, о друг Ансельмо, что только что слышанное мною
не более как шутка; потому что, если бы я думал, что ты говоришь серьезно, я
не дал бы тебе продолжать и прервал бы длинную твою речь, перестав тебя
слушать. Мне кажется, что, по-видимому, или ты меня не знаешь, или я тебя не
знаю. Но нет, я хорошо знаю, что ты Ансельмо, и ты знаешь, что я Лотарио.
Беда лишь в том, что мне приходится думать: ты не тот Ансельмо, каким был, а
тебе, вероятно, вообразилось, будто я не тот Лотарио, каким я должен быть;
потому что вещи, сказанные мне тобою, не такого рода, какие мой друг
Ансельмо мог бы сказать, и те, которые ты требуешь от меня, не такого рода,
какие можно было бы требовать от Лотарио, которого ты знаешь. Ведь истинные
друзья должны испытывать своих друзей и пользоваться их дружбой, как говорит
поэт, usque ad aras {Вплоть до алтарей (лат.) -- это говорит Плутарх в речи
Перикла к другу.}, это значит: они не должны пользоваться дружбой для дел,
противных Богу. И если так думал о дружбе язычник, еще более приличествовало
бы думать так христианину, знающему, что нет той человеческой дружбы, ради
которой можно было бы жертвовать дружбой с небом. Если же друг переходит
далеко за должные границы и пренебрегает своими обязанностями к небу для
выполнения обязанностей дружбы, то этого не следует делать ради пустяшных и
неважных вещей, а только ради таких, в которых затронута честь и жизнь.
Теперь скажи мне, Ансельмо, какая из этих двух вещей у тебя в опасности,
чтобы я отважился в угоду тебе совершить столь отвратительное дело, как то,
которое ты требуешь от меня? Ни честь, ни жизнь твоя не в опасности, а
напротив, ты -- насколько я тебя понял -- желаешь, чтоб я постарался и
приложил все усилия свои лишить тебя и жизни, и чести, а также и себя
самого, потому что, отнимая у тебя честь, ясно, что я отниму у тебя и жизнь,
так как человек, лишившийся чести, хуже мертвого. Если же я -- как ты этого
требуешь -- сделаюсь орудием столь великого для тебя несчастия, разве таким
образом я не окажусь обесчещенным, а следовательно, и лишенным жизни?
Выслушай меня, друг Ансельмо, и имей терпение не отвечать, пока я не скажу
всего, что мне придет на ум относительно твоего неотступного желания, так
как времени у нас хватит на то, чтобы ты мне возражал, а я бы тебя слушал.
-- Хорошо, я согласен, -- сказал Ансельмо, -- говори, что желаешь.
И Лотарио продолжал, говоря:
-- Мне кажется, Ансельмо, что состояние твоего ума такое же, какое
свойственно маврам, которых нельзя убедить в заблуждениях их вероучения ни
выдержками из Св. Писания, ни доводами, основанными на заключениях разума
или на догматах веры; а надо привести им осязаемые, легкие, понятные,
несомненные и убедительные примеры с математическими доказательствами,
которых нельзя отрицать, как, например, когда мы говорим: если от двух
равных величин отнять равные же части, то и остатки будут равны. И если они
этого не поймут на словах, как на самом деле оно и бывает, то нужно показать
им наглядно -- руками, -- и поставить перед глазами, но и при всем этом
никто не может убедить их в истинах нашей святой религии. И такой же способ
и образ действия мне придется употребить теперь с тобой, потому что желание,
родившееся в тебе, столь изумительно и столь далеко от всего, имеющего хоть
тень разумности, что я считаю потерянным время, которое пришлось бы
потратить, убеждая тебя в твоем безрассудстве, так как пока я не хочу
называть его другим именем. И даже я склонен предоставить тебя твоему
ослеплению в наказание за твое безрассудное желание, но дружба, которую я к
тебе чувствую, не позволяет мне так сурово поступить с тобой и обязывает не
покидать тебя в опасности, явно грозящей тебе гибелью. А чтобы ты лучше
понял это, -- скажи мне, Ансельмо, ты ли говорил, чтобы я соблазнил
целомудренную, искушал бы добродетельную, подкупил бы бескорыстную и
преследовал ухаживаниями благоразумную? Да, ты говорил мне это. Но раз ты
знаешь, что у тебя скромная, добродетельная, бескорыстная и благоразумная
жена, чего тебе еще надо? И если ты думаешь, что из всех моих нападений она
выйдет победительницей -- как, без сомнения, это и случится, -- какими же
лучшими титулами собираешься ты потом наградить ее, которых бы она не имела
уже теперь? Или же сделается ли она лучше потом, сравнительно с тем, что она
теперь? Одно из двух: или ты не считаешь ее такой, как говоришь; или же сам
не знаешь, чего хочешь. Если ты не считаешь ее такой, как говоришь, зачем же
ты желаешь испытывать ее, а не обращаешься с нею -- с дурной женщиной, --
как тебе придет на ум? Если же она так добродетельна, как ты думаешь, то
нелепо производить испытания над несомненной истиной, потому что и после
испытания ценность ее не возвысится, а останется прежней. Итак, вывод ясный:
предпринимать дело, из которого может произойти скорей вред, чем польза,
свойственно лишь неосторожным и безрассудным людям, тем более если они
желают взяться за то, к чему никто их не принуждает и не приневоливает, и
уже издали видно, что браться за такое дело -- чистейшее безумие. Трудные
подвиги предпринимаются или для Бога, или для мира, или для обоих вместе. Те
подвиги, что предпринимаются для Бога, совершались святыми, стремившимися
жить жизнью ангелов в человеческой плоти. Те подвиги, что предпринимаются
для мира, совершаются людьми, которые не страшатся переплывать безбрежные
моря и пребывать в чужих странах и среди чужеземных народов, чтобы
приобрести богатства или то, что называют дарами счастья. Те подвиги, что
совершаются и для Бога и для мира, -- это подвиги храбрых солдат, которые,
едва они увидят в неприятельском валу отверстие, сделанное хотя бы лишь
одним пушечным ядром, отбросив всякий страх, не колеблясь и не взвешивая
явно угрожающей им опасности, приподнятые на крыльях желания сразиться за
свою веру, народ и короля, отважно бросаются в самую середину тысячи
перекрестных смертей, ожидающих их. Вот те подвиги, которые обыкновенно
предпринимаются, и предпринять их доставляет честь, славу и выгоду, хотя они
и полны трудностей и опасностей. Но то дело, о котором ты говорил и которое
ты желаешь предпринять и привести в исполнение, не приобретет тебе ни славы
перед Богом, ни богатства, ни известности среди людей, потому что, если ты
добьешься успеха в задуманном тобой деле, от этого ты не сделаешься ни
счастливее, ни богаче, ни более уважаемым, чем теперь. Если же случится
обратное тому, на что ты надеешься, ты ввергнешь себя в самое большое горе,
какое только можно вообразить себе, потому что тебе не будет тогда легче от
мысли, что никто не знает о случившемся с тобой несчастье, так как чтоб
мучиться и убиваться достаточно и того, что ты сам будешь знать о нем. В
подтверждение этой истины приведу тебе строфу знаменитого поэта Луиджи
Тансило {Луиджи Тансило -- неаполитанский поэт. Он написал свою поэму будто
бы ради того, чтобы загладить грех своей молодости -- сочиненную им
непристойную поэму, озаглавленную "Il Vendemmiatore" -- "Собиратель
винограда".}, помещенную в конце первой части его "Слез Святого Петра", в
которой говорится следующее:
Растет печаль, растет и стыд глубокий
В душе Петра, лишь новый день настал.
Был он один, -- и все ж укор жестокий
Вонзился в грудь за то, что в грех он впал:
Томит того, в ком дух живет высокий,
Не страх, что грех его пред миром явным стал,
Нет, пред самим собой он от стыда сгорает,--
Хоть о грехе его одно лишь небо знает.
Также и ты не облегчишь тайной своего горя; напротив, ты беспрерывно
будешь плакать если не слезами, льющимися из глаз, то кровавыми слезами
сердца, какими плакал тот простодушный доктор, о котором рассказывает наш
поэт, будто он сделал опыт с волшебной вазой, от которого осторожный
Рейнальдос {Ссылка на рассказ в 42-й и 43-й песнях "Orlando Furioso"
("Неистового Роланда") Ариосто, где говорится об опыте с волшебной вазой.},
одаренный большим благоразумием, отказался; и хотя это только поэтический
вымысел, в нем скрыто, однако, нравственное указание, заслуживающее того,
чтобы его отметили, поняли и подражали ему. А тем более то, что я сейчас
намерен тебе сказать, окончательно должно убедить тебя, до чего велика
ошибка, которую ты желаешь совершить. Скажи мне, Ансельмо, если бы небо или
счастливая судьба сделали тебя обладателем и законным собственником
великолепного алмаза, красотой и свойствами которого все видевшие его
ювелиры были бы вполне удовлетворены и в один голос и с общего согласия
признали бы, что по качествам, чистоте воды и блеску он достигает высшего
совершенства, мыслимого для подобного рода драгоценного камня, и если бы ты
и сам думал то же, не зная ничего противного тому, -- благоразумно ли было
бы, если бы у тебя явилось желание взять этот алмаз, положить его между
молотом и наковальней и ударами, нанесенными изо всей силы, испытать,
действительно ли он так крепок и прекрасен, как говорят? А тем более еще
если бы ты это желание привел в исполнение, потому что, даже допустив, что
камень выдержал бы столь нелепое испытание, разве ценность или красота его
от этого увеличилась бы? А если бы он разбился -- что тоже могло бы
случиться, -- не все ли было бы потеряно? Конечно, да, и весь мир считал бы
собственника алмаза глупцом. Так прими же во внимание, Ансельмо, друг, что и
Камилла -- прекраснейший алмаз как в твоей оценке, так и в оценке других, и
неблагоразумно подвергать его возможности разбиться, потому что, если б он и
остался цел, его ценность от этого нимало не возвысилась бы; а если б
Камилла поддалась и не устояла, подумай, как бы ты жил без нее, и как
справедливо пришлось бы тебе укорять себя за то, что ты был причиной ее и
собственной своей гибели. Не забывай, что в мире нет той драгоценности,
стоимость которой могла бы сравниться с добродетельной и целомудренной
женщиной, и что честь женщин зиждется на добром мнении, которое имеют о них.
А так как доброе мнение о твоей жене таково, что честь ее стоит на самой
высшей ступени, как ты сам знаешь, почему же ты хочешь подвергать сомнению
эту истину? Знай, друг, что женщина -- несовершенное существо и не только не
следует ставить на ее пути преграды, о которые она может споткнуться и
упасть, но скорее нужно было бы удалить и отбросить с ее дороги всякие камни
преткновения, чтобы она без затруднения и легко могла бы достигнуть
совершенства, которого ей недостает и которое состоит в том, чтобы она была
добродетельной. Естествоиспытатели рассказывают нам о горностае, --
маленьком зверьке, мех которого отличается необыкновенной белизной,-- что
когда охотники хотят его поймать, они прибегают к следующей уловке. Зная
места, где он обыкновенно пробегает и где он должен пройти, они обмазывают
их грязью и потом спугивают его и гонят до того места, и, как только
горностай приблизится к грязи, он останавливается и дает себя взять и
захватить, лишь бы только не пройти по грязи и не запачкать свою
незапятнанную белизну, которую он ценит выше свободы и жизни. Добродетельная
и целомудренная женщина -- горностай, и белее и чище снега добродетель
целомудрия, и кто не желает, чтобы она ее потеряла, а, напротив, сохранила
бы и сберегла, тот должен поступать с ней иначе, чем поступают с горностаем:
на ее пути не следует бросать грязи подарков и услуг докучливых поклонников,
потому что, быть может -- и даже без всякого "быть может", -- она не одарена
такой добродетелью и силой, чтобы быть в состоянии попирать ногами эти
затруднения и перешагнуть через них. Поэтому необходимо их устранять с ее
пути и ставить перед ее глазами чистоту добродетели и красоту, заключающуюся
в доброй славе. Добродетельная женщина подобна также зеркалу из чистого и
блестящего хрусталя; но оно может быть запятнано и может потускнеть от
всякого дыхания, коснувшегося его. С целомудренной женщиной надо обращаться,
как со святыней, -- боготворить ее и не дотрагиваться до нее. Нужно охранять
и ценить добродетельную женщину, как охраняют и ценят прекрасный сад, полный
цветов и роз, собственник которого не позволяет, чтоб гуляли в его саду или
дотрагивались до цветов; достаточно и того, если издали и через железную
решетку наслаждаются благоуханием и красотой его. В заключение скажу тебе
стихи, которые я только что вспомнил -- слышал я их в одной современной
комедии -- и которые кажутся мне весьма подходящими к тому, о чем у нас идет
речь. Один осторожный старик советовал другому -- отцу молодой девушки --
присматривать за нею, охранять ее и держать взаперти; а в числе других
доводов он приводит и следующие:
Если женщина похожа
На стекло, то добиваться
Ей судьба иль нет, сломаться,--
Неумно и непригоже.
Столь хрупка она, что, право,
Подвергать неосторожно
Ломке то, что невозможно
Починить, -- плоха забава.
Так велось и так ведется,--
Нравы стали не иными:
Где Данаи[1], там над ними
Ливень золота польется.
[1] Даная, как известно из мифологии, была молодая царевна, к которой в
комнату, сделанную из меди, вседержитель Зевс проник в виде золотого дождя.
Все, что я говорил тебе до сих пор, Ансельмо, касалось только одного
тебя; теперь же следует тебе выслушать и кое-что из того, что касается меня;
и если я буду слишком многоречив, прости меня, потому что лабиринт, в
который ты попал и из которого желаешь, чтоб я вывел тебя, требует этого. Ты
считаешь меня своим другом и желаешь лишить чести, то есть сделать вещь,
противную всякой дружбе, и ты не только пытаешься это сделать, но еще
хочешь, чтобы и я отнял у тебя честь. Что ты хочешь лишить меня чести, ясно,
потому что, когда Камилла увидит, что я ухаживаю за нею, как ты этого
желаешь, она, несомненно, сочтет меня человеком бесчестным и
безнравственным, так как я намереваюсь делать и делаю вещь, столь
противоречащую всему, к чему обязывает меня мой долг перед самим собой и
перед дружбой к тебе. А что ты требуешь, чтобы я отнял у тебя честь, не
подлежит сомнению, -- ведь как только Камилла увидит, что я домогаюсь ее,
она должна будет подумать, не заметил ли я в ней какого-нибудь легкомыслия,
давшего мне смелость открыть ей мои низкие намерения; а раз она сочтет себя
обесчещенной, ее бесчестие, так как ты принадлежишь ей, коснется и тебя.
Отсюда и происходит то, что так часто бывает, а именно: мужа неверной жены
-- хотя бы он ничего и не знал и не подавал повода своей жене быть не тем,
чем она должна быть, и даже не в его власти было предотвратить свое
несчастье заботливостью и осторожностью, -- тем не менее, называют и именуют
позорной и унизительной кличкой, и те, которые знают о дурном поведении его
жены, смотрят на него некоторым образом глазами презрения, вместо того чтобы
смотреть глазами сострадания, хотя они и видят, что не по его вине, а по
желанию недостойной его подруги он попал в такое несчастие. Но я хочу
объяснить тебе причину, почему по справедливости считается обесчещенным муж
дурной жены, хотя он и не знает об ее измене, не виноват в том, не принимал
участия и не подавал повода; и не скучай, слушая меня, потому что все это
пойдет на пользу тебе. Когда Бог создал первого нашего праотца в земном раю,
Он -- по словам Священного Писания -- погрузил Адама в сон и, пока тот спал,
вынул у него из левого бока ребро, из которого создал нашу праматерь Еву.
Лишь только Адам проснулся и увидел ее, он воскликнул: "Это плоть от плоти
моей и кость от костей моих". И Бог сказал: "Оставит человек отца и мать, и
будут два в плоть едину". Тогда же и было учреждено святое таинство брака, и
узы его таковы, что порвать их может одна лишь смерть. Сила и свойство
чудотворного этого таинства так велики, что оно двух различных людей
обращает в единую плоть, а в счастливом браке достигается и более того, --
потому что, хотя у них две души, но имеется одна лишь воля. Из всего этого
следует, что, так как плоть жены едина с плотью мужа, то и пятно, падающее
на жену, или проступки, в которых она повинна, переходят и на плоть ее мужа,
хотя бы -- как я уже говорил -- он и не подавал никакого повода для такого
зла. Подобно тому как боль ноги или другой какой части человеческого тела
ощущается всем телом, состоящим из одной и той же плоти, и голова чувствует
ушиб щиколки, не быв причиной этого ушиба, так и муж разделяет бесчестие
своей жены, составляя с
нею одно целое. А так как честь и бесчестье на свете зарождаются и
берут начало от плоти и крови -- а проступки изменившей мужу жены такого же
рода, -- то и неизбежно, что часть ее позора падает и на мужа и он считается
обесчещенным, хотя ничего и не знал о том. Подумай также, о Ансельмо, какой
ты подвергаешь себя опасности своим желанием смутить покой, в котором
пребывает добродетельная твоя жена! Подумай, из-за какого суетного и
безрассудного любопытства ты хочешь разбудить страсти, которые теперь еще
мирно дремлют у целомудренной твоей супруги! Прими в соображение: выиграть
ты можешь лишь очень мало, а проиграть так много, что я умолчу об этом,
потому что у меня не хватает слов исчислить величину твоего проигрыша. Если
же всего, что я сказал, недостаточно для того, чтоб отвратить тебя от твоего
дурного намерения, ищи другое орудие своего бесчестия и несчастия, так так я
отказываюсь им быть, хотя бы я и потерял из-за этого твою дружбу, а это
самая большая потеря, которую я могу вообразить себе.
Сказав это, добродетельный и благоразумный Лотарио умолк, а Ансельмо
так смутился и так задумался, что долгое время ничего не мог ответить. Но
наконец он сказал:
-- Ты видел, друг Лотарио, с каким вниманием я слушал все, что ты нашел
нужным сказать мне, и из твоих доводов, примеров и сравнений я убедился как
в большом твоем уме, так и в высочайшей степени истинной дружбы, достигнутой
тобой, и вместе с тем я и сам вижу и сознаю, что, если не последую твоему
совету, а поставлю на своем, я уклонюсь от добра и пойду навстречу злу. Имея
в виду все это, ты должен принять во внимание, что я в настоящее время
страдаю болезнью, которою страдают некоторые женщины, одолеваемые страстным
желанием есть землю, известку, уголь и еще другие худшие вещи,
отвратительные на вид, а тем более на вкус. Поэтому надо прибегнуть для
излечения моего к какому-нибудь искусственному средству, и этого можно легко
достичь, если ты только начнешь, хотя бы лишь слабо и притворно, ухаживать
за Камиллой, которая ведь не может быть такой хрупкой, чтобы ее добродетель
сдалась при первом же нападении. Одним этим началом я готов
удовольствоваться, а ты исполнишь то, к чему тебя обязывает наша дружба, --
не только вернув мне жизнь, но и доказав, что честь моя осталась при мне. И
ты обязан это сделать уже по единственной той причине, что, раз я решил и
бесповоротно решил произвести этот опыт, ты не должен допустить, чтоб я
открыл мое безумие кому-либо другому, чем я мог бы подвергнуть опасности мою
честь, которую ты так стараешься уберечь. И если твоя, пока ты будешь
ухаживать за Камиллой, несколько пострадает в ее глазах, то важность
невелика или даже это и совсем неважно, потому что, вскоре -- лишь только мы
убедимся, что Камилла столь совершенна, как мы надеемся, -- ты можешь
открыть ей всю правду относительно нашей хитрости, чем и вернешь себе
прежнее ее уважение к тебе. Итак, ввиду того что ты рискуешь столь малым, а
доставишь мне так много удовольствия, рискуя столь малым, не отказывайся
исполнить мою просьбу, как бы ни были велики затруднения, которые еще могут
представиться тебе, потому что -- как я уже говорил, -- если ты только
начнешь дело, я буду считать его завершенным.
Увидав твердую решимость Ансельмо и не зная, какие еще представить ему
примеры или какие еще привести доводы, чтоб убедить его отказаться от своего
намерения, Лотарио, услыхав его угрозу открыть другому свой дурной умысел --
во избежание большего зла -- решил сделать ему удовольствие и исполнить то,
о чем Ансельмо его просил, намереваясь и имея в виду повести дело так,
чтобы, не смутив чувств Камиллы, удовлетворить Ансельмо. Поэтому в ответ он
попросил его никому другому не сообщать о своем намерении, так как он берет
на себя это предприятие и приступит к нему, лишь только пожелает его друг.
Ансельмо нежно и с любовью расцеловал его и так благодарил за его согласие,
точно он получил величайшее благодеяние. Они условились со следующего же дня
приступить к делу, и Ансельмо обещал доставить Лотарио случай и время
поговорить наедине с Камиллой, а также дать ему деньги и драгоценности на
подарки и подношения ей. Он посоветовал ему устраивать ей серенады и писать
в честь ее стихи, а если он не желает взять на себя труд сочинять их,
Ансельмо сам это сделает. Лотарио согласился на все, хотя с совершенно иным
намерением, чем думал его друг; и, уговорившись таким образом, они вернулись
в дом к Ансельмо, где нашли Камиллу, ждавшую с тревогой и волнением
возвращения мужа, так как на этот раз он вернулся позже обыкновенного.
Лотарио ушел домой, а Ансельмо остался у себя, настолько же довольный,
насколько Лотарио был озабочен, не зная, что предпринять, чтоб с честью
выпутаться из этого безрассудного дела. Но в туже ночь он придумал средство,
как провести Ансельмо, не оскорбив Камиллу. На другой день он пошел обедать
к своему другу и был хорошо принят Камиллой, которая, зная доброе
расположение к нему своего мужа, радушно приветствовала и угощала его. Когда
кончили обедать и убрали со стола, Ансельмо сказал Лотарио, чтобы он
оставался с Камиллой, так как ему надо уйти из дому по безотлагательному
делу, и вернется он через полтора часа. Камилла просила мужа не уходить, а
Лотарио предложил сопровождать его, но Ансельмо не согласился и еще
настойчивее стал упрашивать Лотарио остаться его ждать, потому что ему нужно
переговорить с ним об очень важной вещи. И Камилле он также сказал, чтобы до
возвращения его она не оставляла Лотарио одного. Словом, он сумел так хорошо
представить необходимость -- основательную или неосновательную -- отлучиться
из дому, что никому и в голову не пришло бы, что все это вымысел.
Ансельмо ушел, а Камилла и Лотарио остались в столовой наедине, потому
что прислуга тоже отправилась обедать. Таким образом, Лотарио очутился --
как этого желал его друг -- на поле битвы лицом к лицу с неприятелем,
который одной лишь красотой своей мог бы победить целый эскадрон вооруженных
рыцарей. Судите же сами, имел ли причину Лотарио опасаться его. Но он ничего
другого не сделал, как только облокотился на ручку кресла, положил щеку на
ладонь и, попросив у Камиллы извинение за свою невежливость, сказал, что
желал бы немного отдохнуть, пока не вернется Ансельмо. Камилла ответила, что
он может удобнее отдохнуть на подушках {В те времена дамы в Испании сидели
не на стульях, исключая за обедом и в торжественных случаях, а на подушках,
разложенных на полу, в специально устроенной для этой цели части комнаты,
несколько приподнятой над уровнем остального пола и покрытой циновками или
коврами. Такое место называлось эстрадой (estrado).}, чем в кресле, и
просила его идти туда и лечь. Лотарио отказался и остался спать, где был,
пока не вернулся Ансельмо, который, застав Камиллу в ее комнате, а Лотарио
спящим, подумал, что его отсутствие длилось так долго, что у них обоих
хватило времени наговориться и даже поспать. С нетерпением ждал он, когда
проснется Лотарио, чтобы уйти с ним из дому и спросить его, как ему повезло.
Все случилось, как он желал. Лотарио проснулся, тотчас же они оба вышли
из дому; и Ансельмо спросил друга о том, что ему хотелось знать. Лотарио
ответил, будто ему не показалось благоразумным в первый же раз открыться
вполне Камилле и потому он ограничился лишь восхвалением ее красоты, сказав,
что во всем городе только и разговору, что о ее прелестях и уме, а это --
как он думает -- хорошее начало, чтобы мало-помалу заручиться ее
благосклонностью и расположить ее слушать его с удовольствием и в следующий
раз; он прибегнул к той же уловке, которой пользуется злой дух, когда он
хочет обольстить того, кто постоянно на страже над собой, потому что тогда
он, будучи ангелом тьмы, превращается в ангела света и, приняв прекрасный
облик, только под конец обнаруживает, кто он такой, и успевает в своем
намерении, если его обман не был раскрыт в самом начале. Все это очень
понравилось Ансельмо, и он сказал, что ежедневно будет доставлять Лотарио
такой же удобный случай оставаться наедине с Камиллой, хотя и не станет
уходить из дому, а будет заниматься там же столь неотложными делами, что
Камилла ни за что не заметит его хитрости. После того прошло несколько дней,
в течение которых Лотарио ничего не сказал Камилле, а между тем уверял
Ансельмо, что он говорит с нею, но не может добиться от нее хотя бы
малейшего доказательства ее готовности на что-либо дурное или хотя бы тени
какой-либо надежды; напротив того, добавил он, она грозит сказать все мужу,
если он не откажется от дурного своего умысла.
-- Это хорошо, -- сказал Ансельмо,-- до сих пор Камилла устояла против
слов, надо посмотреть, устоит ли она против дел. Я принесу тебе завтра две
тысячи червонцев, чтобы ты предложил их ей и даже подарил бы, и еще столько
же червонцев, чтобы ты купил драгоценностей обольстить ее ими; потому что
женщины, и особенно красивые женщины -- как бы они ни были целомудренны, --
увлекаются нарядами и роскошью. Если же Камилла устоит и против этого
соблазна, я сочту себя удовлетворенным и больше не стану докучать тебе.
Лотарио ответил, что раз он начал это предприятие, то доведет его до
конца, но уверен, что выйдет из него разбитый и побежденный. На следующий же
день он получил четыре тысячи червонцев и с ними вместе и четыре тысячи
затруднений, так как не знал, что еще ему придумать, чтобы опять солгать. В
конце концов он решил сказать Ансельмо, что Камилла так же недоступна
обещаниям и подаркам, как и словам, и потому незачем дольше утруждать себя,
так как это лишь даром потраченное время. Но судьба распорядилась иначе и
устроила так, что Ансельмо, оставив Лотарио и Камиллу наедине, как он это
делал и в другие разы, заперся в соседней комнате и сквозь замочную скважину
смотрел и слушал, что произойдет между ними, но увидел, что в течение более
получаса Лотарио не сказал Камилле ни слова, и не сказал бы ни слова, если б
оставался там целый век; из чего он вывел заключение, что все, переданное
ему его другом об ответах Камиллы, было лишь вымыслом и ложью. А чтоб
убедиться, действительно ли это так, он, выйдя из комнаты, отозвал Лотарио в
сторону, и спросил его, какие вести он может ему сообщить и в каком
настроении Камилла. Лотарио ответил, что он решил не продолжать дальше этого
дела, потому что Камилла оттолкнула его крайне резко и сурово и у него не
хватает мужества сказать ей еще что бы то ни было.
-- Ах, Лотарио, Лотарио, -- воскликнул Ансельмо. -- Как плохо
исполняешь ты свои обязанности относительно меня и как злоупотребляешь столь
великим моим доверием к тебе! Я сейчас наблюдал через замочную скважину и
видел, что ты ни слова не сказал Камилле, из чего я заключаю, что ты до сих
пор вообще ничего ей не говорил. Если это так -- а, без сомнения, оно так и
есть, -- зачем же ты обманываешь меня или зачем ты хочешь своею хитростью
лишить меня возможности найти другие способы для исполнения моего желания?
Ансельмо не сказал ничего больше, но и того, что он сказал, было
достаточно, чтобы смутить и устыдить Лотарио, который счел чуть ли не за
бесчестие то, что он был уличен во лжи, и он поклялся Ансельмо приложить все
старания с этой минуты, чтобы вполне удовлетворить его и больше не
обманывать; в этом он легко может убедиться, если полюбопытствует
подсматривать за ним, хотя теперь уже и нет надобности другу его брать на
себя этот труд, так как рвение, которое он выкажет, чтобы удовлетворить его,
рассеет вскоре всякое подозрение на его счет. Ансельмо поверил ему, и, чтобы
доставить Лотарио случай более верный и свободный от всякой помехи, он решил
уехать из дому на неделю к одному из своих приятелей, жившему в деревне
вблизи города, с которым он условился, чтобы тот безотлагательно прислал за
ним и он бы имел перед Камиллой оправдание для своего отъезда. Несчастный,
неосторожный Ансельмо, -- что ты делаешь, что ты затеваешь, что готовишь
себе?! Подумай о том, что ты сам на себя восстаешь, замышляя собственное
свое бесчестие, готовя собственную свою гибель! Твоя жена Камилла
добродетельна; спокойно и мирно обладаешь ты ею; никто не является помехой
твоему счастию; мысли ее не переступают за стены ее дома; ты ее небо на
земле, ты цель ее желаний, венец ее радостей; мерило, которым она мерит свою
волю, согласуй ее во всем с твоею волей и волею небес! Если рудник ее чести,
красоты, целомудрия и скромности без всякого труда доставляет тебе все
богатства, которые заключаются в нем и какие только ты можешь пожелать,
зачем же ты хочешь копать глубже землю и искать новых рудниковых жил с
новыми и неведомыми сокровищами, подвергая себя опасности, что все рушится,
так как поддерживается лишь слабыми устоями хрупкой женской природы?
Вспомни, что тому, кто ищет невозможного, справедливо может быть отказано и
в возможном, как один поэт выразил это лучше в следующих строках:
Желал я: смерть пусть жизнь приносит,
Недуг -- здоровье мне дает,
Печаль пусть радость в душу вносит,
В цепях -- свобода настает,
В измене -- преданность блеснет.
Но купно с небом злой мой рок
За то, что я стремился ложно,
Мне строгий приговор изрек:
"Искал ты все, что невозможно,--
И не получишь то, что можно".
На другой день Ансельмо уехал в деревню, сказав Камилле, что во время
его отсутствия он поручил Лотарио смотреть за домом и обедать вместе с нею,
и пусть она обращается с его другом, словно с ним самим. Камилла, как умная
и добродетельная женщина, огорчилась таким приказанием мужа и просила его
принять во внимание, что неприлично, чтобы во время его отсутствия кто-либо
другой занимал его кресло за столом; если же он так распорядился из
недоверия к ее умению управлять домом, пусть на этот раз испытает ее, и он
увидит на опыте, что она способна справиться и не с такими еще заботами.
Ансельмо возразил ей, что таково его желание, а ей остается только склонить
голову и повиноваться; Камилла сказала, что она так и сделает, хотя и против
своей воли. Ансельмо уехал, а на следующий день Лотарио переселился к нему в
дом. Камилла приняла его дружески и приветливо; но устроилась так, чтобы
Лотарио никогда не мог оставаться с ней наедине, потому что она всегда была
окружена прислугой, в особенности подле нее неотлучно находилась горничная
по имени Леонела, которую она очень любила, так как они детьми росли вместе
в родительском доме Камиллы; а когда она вышла замуж за Ансельмо, то взяла
Леонелу с собой. В первые три дня Лотарио ничего ей не говорил, хотя бы и
мог это сделать, когда, убрав скатерть со стола, люди уходили наскоро
пообедать, как это им приказала Камилла, а Леонеле она велела обедать раньше
и не отходить от нее. Однако девушка, увлекавшаяся иными вещами,
доставлявшими ей удовольствие, и которой эти часы и этот благоприятный
случай как раз были на руку, чтобы заняться своими делами, не всегда
исполняла приказание своей госпожи; напротив, она оставляла их одних, точно
это ей было приказано. Но скромный вид Камиллы, серьезность ее лица и ее
выдержанность были таковы, что налагали узду на язык Лотарио.
Однако благодетельное влияние добродетелей Камиллы, сковавших уста
Лотарио, послужили им обоим скорей во вред, так как, пока язык Лотарио
бездействовал, мысли его работали, и он мог на досуге одно за другим
рассмотреть все совершенства достоинств и красоты, которыми обладала
Камилла, достаточные, чтобы воспламенить любовью мраморную статую, а не
только человеческое сердце. Все время, пока бы он мог говорить с ней,
Лотарио смотрел на нее и думал, как достойна она быть любимой, и эта мысль
стала мало-помалу оттеснять добрые его чувства к Ансельмо. Тысячу раз
собирался он покинуть город и уехать туда, где бы Ансельмо никогда не увидел
его, а он не увидел бы Камиллы. Но теперь ему уже мешало и удерживало его
наслаждение, испытываемое им, когда он смотрел на Камиллу. Он делал усилие и
боролся с самим собой, чтобы подавить и заглушить в себе удовольствие,
доставляемое ему лицезрением ее. Оставаясь один, он упрекал себя за свое
безумие и обвинял за то, что он дурной друг и дурной христианин; мысленно
сравнивал он себя с Ансельмо и делал сопоставления между ним и собой, но
кончал всегда одним лишь выводом: что безумие и доверчивость Ансельмо
заслуживают больше порицания, чем неверность его, Лотарио, и что если бы он
мог найти такие же оправдания перед Богом, как перед людьми в том, что он
намеревается сделать, то не боялся бы кары за свою вину. Словом, красота и
совершенства Камиллы, совместно с благоприятным случаем -- а его неразумный
муж сам дал ему в руки, -- преодолели наконец всю честность Лотарио. Не
обращая внимания ни на что, кроме того, куда его влекло его удовольствие, по
прошествии трех дней после отъезда Ансельмо, в течение которых не переставал
бороться с собой, стараясь противостоять своим желаниям, он стал ухаживать
за Камиллой и объяснился ей в любви с такой страстностью и пылом, что она
была крайне изумлена, но не могла сделать ничего другого, как только встала
со своего места и ушла к себе в комнату, не ответив ему ни слова.
Однако холодность ее не угасила в Лотарио надежды, всегда зарождающейся
вместе с любовью, и Камилла только еще больше выиграла в его глазах. А она,
открыв в Лотарио то, чего никогда не подозревала, не знала, как ей быть; но,
считая неприличным и небезопасным для себя дать ему опять возможность и
случай говорить с ней таким образом, она решила послать в ту же ночь -- что
она и сделала -- одного из своих служителей к Ансельмо с письмом, в котором
писала ему следующее.

Глава XXXIV, в которой продолжается рассказ о Безрассудно-любопытном
 Если войску, как говорят, плохо без главнокомандующего, а крепости --
без коменданта, куда хуже, говорю я, молодой замужней женщине без мужа,
разве только отъезд его вызван самыми важными причинами. Мне без вас так
плохо, и так невыносимо ваше отсутствие, что, в случае если вы не вернетесь
скоро, я должна буду уехать из дому и искать приюта у моих родителей, хотя
бы пришлось бросить дом ваш без призора, потому что тот сторож, которого вы
оставили -- если только он здесь в этой должности, -- заботится, как мне
кажется, больше о своем удовольствии, чем о том, что вас касается. А так как
вы человек умный, мне вам нечего больше говорить и было бы нехорошо, если бы
я еще что-нибудь добавила.
Письмо это Ансельмо получил, и он увидел из него, что Лотарио приступил
к делу и что, должно быть, Камилла ответила ему так, как он того желал. В
высшей степени довольный этим известием, он на словах послал сказать
Камилле, чтобы она ни в каком случае не меняла бы местожительства, потому
что он вернется очень скоро. Этот ответ Ансельмо изумил Камиллу и привел ее
в еще большее замешательство, так как ей нельзя было оставаться дома, а еще
менее можно было уехать к родителям, потому что, оставаясь, она подвергала
опасности свою честь, а уезжая, ослушивалась приказаний своего мужа. Наконец
она решила сделать то, что было наихудшим для нее: остаться дома и не
избегать общества Лотарио, чтобы не дать повода для пересудов среди
прислуги; и она уже сожалела о том, что писала мужу, боясь, не подумает ли
он, что Лотарио заметил в ней вольности, побудившие его отнестись к ней без
должного уважения. Но твердо уверенная в своей добродетели, она, положившись
на Бога и добрые свои намерения, решила дать молчаливый отпор всему, что
Лотарио мог бы ей сказать, и вместе с тем не извещать мужа ни о чем больше,
чтобы не вовлечь его в ссору и неприятности. Она даже стала придумывать, как
бы ей лучше оправдать Лотарио перед Ансельмо, когда он спросит у нее о
причине, побудившей ее написать письмо. С этими намерениями, более
почтенными, чем рассудительными или достигающими своей цели, она на
следующий день выслушала Лотарио, который в этот раз приступил к делу так
страстно, что поколебал твердость Камиллы и ей нужно было призвать на помощь
всю свою добродетель, чтобы в глазах ее не выразилось то нежное сострадание,
которое слезы и слова Лотарио пробудили в ее груди. Все это Лотарио
подметил, и все это еще более воспламенило его. Наконец он нашел нужным, --
пользуясь временем и случаем, представленным ему отсутствием Ансельмо, --
еще теснее обложить осажденную им крепость и потому повел атаку на ее
самолюбие, восхваляя ее красоту, так как нет вещи, которая столь быстро
ниспровергала и разрушала бы укрепленные башни тщеславия красивой женщины,
как это самое тщеславие, когда им вооружится язык лести. И действительно,
Лотарио подвел так рьяно и такими орудиями подкоп под скалу ее добродетели,
что если б Камилла была из бронзы, и то она не могла бы устоять. Лотарио
плакал, умолял, обещал, льстил, настаивал и притворялся с таким чувством, с
такими проявлениями искренности, что преодолел скромность Камиллы и
торжествовал победу, которой менее всего ожидал и более всего желал. Камилла
уступила, Камилла сдалась. Но что же удивительного в том, если и дружба
Лотарио не устояла? Вот наглядный пример, показывающий нам, что любовную
страсть можно победить только бегством, и никто не должен вступать в борьбу
с столь могучим врагом, так как нужны божественные силы, чтобы победить в
таких случаях человеческие силы.
Только одна Леонела знала об увлечении своей госпожи, потому что два
вероломных друга и новых любовника не могли скрыть этого от нее. Лотарио
решил не говорить Камилле о выдумке Ансельмо и о том, как сам он доставил
ему случай добиться успеха, -- чтобы не уронить этим своей любви в ее глазах
и она не подумала, что он только так, мимоходом, без внутреннего побуждения,
домогался ее. Несколько дней спустя Ансельмо вернулся домой и не заметил,
чего недостает у него здесь, а недоставало того, что он менее всего умел
беречь, но чем он больше всего дорожил. Тотчас-же отправился он к Лотарио и
застал его дома. Они обняли друг друга, и Ансельмо спросил, какие он даст
ему известия: о жизни ли или о смерти.
-- Известия, которые я могу тебе дать, о друг Ансельмо, -- сказал
Лотарио, -- те, что жена твоя достойна служить примером и образцом всем
хорошим женщинам. Слова, которые я ей говорил, унес ветер; мои обещания она
встретила с презрением, подарки не приняла, а над притворными моими слезами
громко смеялась. Словом, являясь совершенством в смысле красоты, Камилла
вместе с тем и сокровищница, в которой хранится целомудрие и в которой
обитают благоразумие, скромность и все добродетели, делающие честную женщину
достойной высших похвал и величайшего счастия. Возьми назад свои деньги,
друг; вот они, мне не пришлось даже дотронуться до них, так как добродетель
Камиллы не сдается на столь низкие вещи, как обещания и подарки.
Довольствуйся этим, Ансельмо, не стремись к новым испытаниям сверх уже
сделанных и, так как тебе удалось пройти с сухими ногами по морю трудностей
и подозрений, в которое нас повергают и могут повергнуть женщины, не
пускайся опять в глубокую пучину новых беспокойств и не испытывай с другим
кормчим прочность и силу того корабля, который небо послало тебе, чтобы
переправляться с ним по житейскому морю, а считай, что ты вошел в безопасную
гавань, укрепись в ней на якорях приятного размышления и оставайся так, пока
не придут требовать у тебя тот долг, от уплаты которого не освобождает
никакая знатность происхождения или дворянская грамота.
Ансельмо был донельзя обрадован словами Лотарио и так им верил, словно
изречениям какого-нибудь оракула. Но тем не менее он просил его не
отказываться от начатого предприятия хотя бы ради одного только любопытства
и времяпровождения, не прибегая уже к столь настойчивым мерам, как он это
делал до сих пор. Он желает только одного: чтобы Лотарио в честь Камиллы,
под именем Хлори, сочинил несколько хвалебных стихотворений. Со своей
стороны, он сообщит Камилле, что друг его влюблен в одну даму, которую он
называет именем Хлори, чтобы иметь возможность воспевать ее с должным
уважением к ее добродетели. Если же Лотарио не хочет дать себе труд сочинять
эти стихи, он предлагает сам написать их вместо него.
-- Этого не нужно -- сказал Лотарио, -- потому что музы не так уже
враждебно относятся ко мне, чтобы время от времени не посещать меня.
Расскажи Камилле то, что ты сейчас придумал о моей мнимой любви; стихи же я
сам напишу, и если они не будут так хороши, как заслуживал бы предмет их, по
крайней мере, они будут настолько хороши, насколько это окажется в моих
силах.
Таким образом безрассудный муж сговорился с вероломным другом, и,
вернувшись домой, Ансельмо спросил Камиллу о том, о чем, к ее удивлению, он
до сих пор еще не спрашивал ее, а именно: он пожелал узнать причину, почему
она ему написала письмо, которое он получил от нее. Камилла ответила, что ей
показалось, будто Лотарио смотрит на нее несколько более развязно, чем когда
Ансельмо был дома, но теперь она этого не думает и уверена, что это ей
только так показалось, потому что Лотарио избегает случаев видеться с ней и
оставаться наедине. Ансельмо ответил, что она может вполне отбросить всякое
подозрение, так как ему известно, что Лотарио влюблен в знатную сеньору из
их же города, которую он воспевает под именем Хлори; а если бы он и не был
влюблен, ей нечего опасаться ввиду правдивости Лотарио и великой дружбы,
связывающей его с Ансельмо. Если бы Лотарио не уведомил вскоре Камиллу о
том, что его любовь к Хлори вымышлена и что он рассказал о ней Ансельмо
только для того, чтобы иметь возможность время от времени воспевать Камиллу,
она, без сомнения, попала бы в приводящие в отчаяние сети ревности, но так
как она была вовремя предупреждена, тревога эта прошла над нею, только
слегка задев ее.
На следующий же день, когда все втроем сидели за столом, Ансельмо
попросил Лотарио продекламировать некоторые из стихотворений, написанных им
в честь возлюбленной его Хлори, и так как Камилла ее не знает, он смело
может прочесть все, что пожелает.
-- Даже если бы она и знала ее, -- ответил Лотарио, -- я бы ничего не
скрыл, потому что, когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и упрекает
ее в жестокости, он этим не бросает ни малейшей тени на ее доброе имя. Но
будь что будет, могу лишь сказать, что вчера я написал сонет на
неблагодарность этой Хлори, и вот он:
СОНЕТ
Когда весь мир, в сон сладкий погруженный,
В ночной тиши покоится вокруг,
Несчастный я, навек тобой плененный,
Шлю небу плач и стон мой, милый друг!
Когда заря взойдет и позлаченный
Востока край весь запылает вдруг,--
Вновь слезы лью, тоскою удрученный,
И вновь кляну жестокий свой недуг.
Когда с высот надзвездных к нам роняет
Светило дня свой жаркий луч, -- больней
Тогда душа томится и страдает;
А ночь сойдет -- тоска еще сильней.
И вижу я -- к молитвам небо глухо,
И к ним вовек не склонит Хлори слуха!
Сонет очень понравился Камилле, но еще более -- Ансельмо, который
хвалил стихи и сказал, что сеньора, не отвечающая на такое искреннее
чувство, чрезмерно жестокая, а Камилла спросила:
-- Разве все то, что говорят влюбленные поэты, правда?
-- Как поэты, они не всегда говорят правду, -- ответил Лотарио, -- но
как влюбленные, они так же медлят признаться в своем чувстве, как и
правдивы.
-- В этом не может быть сомнения,-- сказал Ансельмо, чтобы подтвердить
и поддержать мнение Лотарио в глазах Камиллы, столь же не обращавшей вни-
мания на хитрости Ансельмо, как и влюбленной уже в Лотарио. Итак,
находя удовольствие во всем, что исходило от него, и к тому же уверенная,
что его чувства и стихи обращены к ней и она-то и есть настоящая Хлори.
Камилла просила его, если он знает еще какой-нибудь сонет или другие стихи,
сказать их.
-- Я знаю еще один сонет, -- ответил Лотарио, -- но не думаю, чтобы он
был так же хорош, как первый, или точнее говоря, я думаю, что первый не был
так плох, как этот; но судите об этом сами, потому что вот он:
СОНЕТ
Да, смерть моя близка, и если вновь моленья
Отвергнешь ты мои, -- она еще верней:
У ног твоих умру, но в смертное мгновенье
Боготворить тебя я буду лишь сильней!
Когда уйду в страну я мрака и забвенья,
Утрачу славу, честь, мечты все юных дней,--
Но сберегу в душе твое изображенье,
Прекрасный облик твой, запечатленный в ней!
Святыней я хранил его в дни испытанья
И не могли любовь мою к тебе сломить
Отпор суровый твой и все мои страданья.
О, горе, чья судьба по океану плыть
В неведомой дали, где в мраке бурной ночи
Ни гавань, ни маяк, а гибель смотрит в очи!
Ансельмо похвалил также и второй сонет, как хвалил и первый, и таким
образом он продолжал добавлять звено к звену в той цепи, которою он опутывал
и сковывал свой позор; потому что, когда Лотарио больше всего бесчестил его,
он больше всего уверял друга, что честь его возносится все выше, и таким
образом с каждою ступенью, по которой Камилла спускалась до глубины своего
унижения, она во мнении мужа своего все более и более поднималась к вершине
добродетели и доброй славы. Между тем случилось так, что однажды, когда
Камилла осталась наедине с своей горничной, она ей сказала:
-- Мне совестно, друг Леонела, подумать, как мало я умела ценить себя,
и даже не заставила Лотарио долгим ожиданием купить полное обладание тем,
что я отдала ему так скоро по собственной доброй воле. Боюсь, он
презрительно отнесется к моей податливости или моему легкомыслию, не
принимая в расчет стремительности, с которой он меня взял, лишив тем
возможности сопротивляться ему.
-- Не тревожься этим, сеньора моя,-- ответила Леонела, -- так как нет
основания и причины, чтобы ценность вещи уменьшилась, если ее дают скоро,
лишь бы только то, что дают, было само по себе хорошо и ценно; а даже
принято говорить, что тот, кто дает скоро, дает вдвое.
-- Но также принято говорить, -- ответила Камилла, -- что то, что стоит
мало, мало и ценится.
-- Это не относится к тебе,-- ответила Леонела, -- потому что любовь,
как я слышала, иногда летает, а иногда ходит; с этим она быстро бежит, с тем
идет медленно; некоторых охлаждает, иных воспламеняет; одного ранит, другого
убивает; не успеет она вступить на поприще своих желаний,
как в то же мгновение уже и завершает его, добившись цели; утром
обыкновенно она начнет осаду крепости, а к вечеру уже овладевает ею, потому
что нет силы, которая могла бы противостоять ей. И раз это так, что же
пугает тебя или чего же ты боишься, если то же самое, должно быть, случилось
и с Лотарио, так как средством покорить вас любовь избрала отсутствие моего
господина? И оказалось необходимым, чтобы в его отсутствие произошло то, что
решила любовь раньше, чем Ансельмо имел время вернуться, так как при нем
дело не было бы доведено до конца, потому что у любви нет лучшего помощника
для выполнения ее желаний, как случаи, и она пользуется им во всех своих
делах, особенно же вначале. Все это я знаю очень хорошо, больше по
собственному опыту, чем понаслышке, и когда-нибудь я расскажу тебе об этом,
сеньора, -- ведь и я тоже из плоти, и в жилах у меня молодая кровь. А сверх
того, сеньора Камилла, ты ведь уступила и отдалась не прежде того, как
увидела в глазах, во вздохах, объяснениях, обещаниях и подарках Лотарио всю
его душу, узнав из нее и из его прекрасных качеств, насколько он достоин,
чтобы его любили. Если же это так, не давай робким и щепетильным мыслям
овладевать твоим воображением и будь уверена, что Лотарио так же высоко
ценит тебя, как ты ценишь его. Живи, счастливая и довольная тем, что, если
ты уже попалась в сети любви, тот, кто тебя поймал в них, исполнен чести и
достоинств и у него не только есть четыре буквы, которые, как говорят,
должны отличать всякого хорошего влюбленного {Эти четыре буквы -- четыре S,
именно: Sabio, Solo, Solicite, Secreto (умный, единственный, заботливый,
сдержанный на словах), намек на несколько строчек из поэмы друга Сервантеса
Люиса Бараона де Сото "Слезы Анжелики", в которых эти качества
перечисляются.}, но и целая азбука. А нет, -- послушай -- и убедишься, что я
знаю ее наизусть. Он -- как я вижу и могу судить о том -- ангелоподобный,
богатый, великодушный, добрый, гордый, единственный, жизнерадостный,
искренний, красивый, любящий, мужественный, нежный, остроумный,
признательный, рассудительный, скромный, талантливый, участливый,
франтоватый, холостой, целомудренный, честный, шустрый, щедрый; ф не идет к
нему, потому что это буква грубая; э не нужно, так как уже было е; а я
{Азбука Леонелы не может быть буквально переведена на русский язык из-за
несходства русской азбуки с латинской, а только приблизительно.} --
ревнитель твоей чести.
Если войску, как говорят, плохо без главнокомандующего, а крепости --
без коменданта, куда хуже, говорю я, молодой замужней женщине без мужа,
разве только отъезд его вызван самыми важными причинами. Мне без вас так
плохо, и так невыносимо ваше отсутствие, что, в случае если вы не вернетесь
скоро, я должна буду уехать из дому и искать приюта у моих родителей, хотя
бы пришлось бросить дом ваш без призора, потому что тот сторож, которого вы
оставили -- если только он здесь в этой должности, -- заботится, как мне
кажется, больше о своем удовольствии, чем о том, что вас касается. А так как
вы человек умный, мне вам нечего больше говорить и было бы нехорошо, если бы
я еще что-нибудь добавила.
Письмо это Ансельмо получил, и он увидел из него, что Лотарио приступил
к делу и что, должно быть, Камилла ответила ему так, как он того желал. В
высшей степени довольный этим известием, он на словах послал сказать
Камилле, чтобы она ни в каком случае не меняла бы местожительства, потому
что он вернется очень скоро. Этот ответ Ансельмо изумил Камиллу и привел ее
в еще большее замешательство, так как ей нельзя было оставаться дома, а еще
менее можно было уехать к родителям, потому что, оставаясь, она подвергала
опасности свою честь, а уезжая, ослушивалась приказаний своего мужа. Наконец
она решила сделать то, что было наихудшим для нее: остаться дома и не
избегать общества Лотарио, чтобы не дать повода для пересудов среди
прислуги; и она уже сожалела о том, что писала мужу, боясь, не подумает ли
он, что Лотарио заметил в ней вольности, побудившие его отнестись к ней без
должного уважения. Но твердо уверенная в своей добродетели, она, положившись
на Бога и добрые свои намерения, решила дать молчаливый отпор всему, что
Лотарио мог бы ей сказать, и вместе с тем не извещать мужа ни о чем больше,
чтобы не вовлечь его в ссору и неприятности. Она даже стала придумывать, как
бы ей лучше оправдать Лотарио перед Ансельмо, когда он спросит у нее о
причине, побудившей ее написать письмо. С этими намерениями, более
почтенными, чем рассудительными или достигающими своей цели, она на
следующий день выслушала Лотарио, который в этот раз приступил к делу так
страстно, что поколебал твердость Камиллы и ей нужно было призвать на помощь
всю свою добродетель, чтобы в глазах ее не выразилось то нежное сострадание,
которое слезы и слова Лотарио пробудили в ее груди. Все это Лотарио
подметил, и все это еще более воспламенило его. Наконец он нашел нужным, --
пользуясь временем и случаем, представленным ему отсутствием Ансельмо, --
еще теснее обложить осажденную им крепость и потому повел атаку на ее
самолюбие, восхваляя ее красоту, так как нет вещи, которая столь быстро
ниспровергала и разрушала бы укрепленные башни тщеславия красивой женщины,
как это самое тщеславие, когда им вооружится язык лести. И действительно,
Лотарио подвел так рьяно и такими орудиями подкоп под скалу ее добродетели,
что если б Камилла была из бронзы, и то она не могла бы устоять. Лотарио
плакал, умолял, обещал, льстил, настаивал и притворялся с таким чувством, с
такими проявлениями искренности, что преодолел скромность Камиллы и
торжествовал победу, которой менее всего ожидал и более всего желал. Камилла
уступила, Камилла сдалась. Но что же удивительного в том, если и дружба
Лотарио не устояла? Вот наглядный пример, показывающий нам, что любовную
страсть можно победить только бегством, и никто не должен вступать в борьбу
с столь могучим врагом, так как нужны божественные силы, чтобы победить в
таких случаях человеческие силы.
Только одна Леонела знала об увлечении своей госпожи, потому что два
вероломных друга и новых любовника не могли скрыть этого от нее. Лотарио
решил не говорить Камилле о выдумке Ансельмо и о том, как сам он доставил
ему случай добиться успеха, -- чтобы не уронить этим своей любви в ее глазах
и она не подумала, что он только так, мимоходом, без внутреннего побуждения,
домогался ее. Несколько дней спустя Ансельмо вернулся домой и не заметил,
чего недостает у него здесь, а недоставало того, что он менее всего умел
беречь, но чем он больше всего дорожил. Тотчас-же отправился он к Лотарио и
застал его дома. Они обняли друг друга, и Ансельмо спросил, какие он даст
ему известия: о жизни ли или о смерти.
-- Известия, которые я могу тебе дать, о друг Ансельмо, -- сказал
Лотарио, -- те, что жена твоя достойна служить примером и образцом всем
хорошим женщинам. Слова, которые я ей говорил, унес ветер; мои обещания она
встретила с презрением, подарки не приняла, а над притворными моими слезами
громко смеялась. Словом, являясь совершенством в смысле красоты, Камилла
вместе с тем и сокровищница, в которой хранится целомудрие и в которой
обитают благоразумие, скромность и все добродетели, делающие честную женщину
достойной высших похвал и величайшего счастия. Возьми назад свои деньги,
друг; вот они, мне не пришлось даже дотронуться до них, так как добродетель
Камиллы не сдается на столь низкие вещи, как обещания и подарки.
Довольствуйся этим, Ансельмо, не стремись к новым испытаниям сверх уже
сделанных и, так как тебе удалось пройти с сухими ногами по морю трудностей
и подозрений, в которое нас повергают и могут повергнуть женщины, не
пускайся опять в глубокую пучину новых беспокойств и не испытывай с другим
кормчим прочность и силу того корабля, который небо послало тебе, чтобы
переправляться с ним по житейскому морю, а считай, что ты вошел в безопасную
гавань, укрепись в ней на якорях приятного размышления и оставайся так, пока
не придут требовать у тебя тот долг, от уплаты которого не освобождает
никакая знатность происхождения или дворянская грамота.
Ансельмо был донельзя обрадован словами Лотарио и так им верил, словно
изречениям какого-нибудь оракула. Но тем не менее он просил его не
отказываться от начатого предприятия хотя бы ради одного только любопытства
и времяпровождения, не прибегая уже к столь настойчивым мерам, как он это
делал до сих пор. Он желает только одного: чтобы Лотарио в честь Камиллы,
под именем Хлори, сочинил несколько хвалебных стихотворений. Со своей
стороны, он сообщит Камилле, что друг его влюблен в одну даму, которую он
называет именем Хлори, чтобы иметь возможность воспевать ее с должным
уважением к ее добродетели. Если же Лотарио не хочет дать себе труд сочинять
эти стихи, он предлагает сам написать их вместо него.
-- Этого не нужно -- сказал Лотарио, -- потому что музы не так уже
враждебно относятся ко мне, чтобы время от времени не посещать меня.
Расскажи Камилле то, что ты сейчас придумал о моей мнимой любви; стихи же я
сам напишу, и если они не будут так хороши, как заслуживал бы предмет их, по
крайней мере, они будут настолько хороши, насколько это окажется в моих
силах.
Таким образом безрассудный муж сговорился с вероломным другом, и,
вернувшись домой, Ансельмо спросил Камиллу о том, о чем, к ее удивлению, он
до сих пор еще не спрашивал ее, а именно: он пожелал узнать причину, почему
она ему написала письмо, которое он получил от нее. Камилла ответила, что ей
показалось, будто Лотарио смотрит на нее несколько более развязно, чем когда
Ансельмо был дома, но теперь она этого не думает и уверена, что это ей
только так показалось, потому что Лотарио избегает случаев видеться с ней и
оставаться наедине. Ансельмо ответил, что она может вполне отбросить всякое
подозрение, так как ему известно, что Лотарио влюблен в знатную сеньору из
их же города, которую он воспевает под именем Хлори; а если бы он и не был
влюблен, ей нечего опасаться ввиду правдивости Лотарио и великой дружбы,
связывающей его с Ансельмо. Если бы Лотарио не уведомил вскоре Камиллу о
том, что его любовь к Хлори вымышлена и что он рассказал о ней Ансельмо
только для того, чтобы иметь возможность время от времени воспевать Камиллу,
она, без сомнения, попала бы в приводящие в отчаяние сети ревности, но так
как она была вовремя предупреждена, тревога эта прошла над нею, только
слегка задев ее.
На следующий же день, когда все втроем сидели за столом, Ансельмо
попросил Лотарио продекламировать некоторые из стихотворений, написанных им
в честь возлюбленной его Хлори, и так как Камилла ее не знает, он смело
может прочесть все, что пожелает.
-- Даже если бы она и знала ее, -- ответил Лотарио, -- я бы ничего не
скрыл, потому что, когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и упрекает
ее в жестокости, он этим не бросает ни малейшей тени на ее доброе имя. Но
будь что будет, могу лишь сказать, что вчера я написал сонет на
неблагодарность этой Хлори, и вот он:
СОНЕТ
Когда весь мир, в сон сладкий погруженный,
В ночной тиши покоится вокруг,
Несчастный я, навек тобой плененный,
Шлю небу плач и стон мой, милый друг!
Когда заря взойдет и позлаченный
Востока край весь запылает вдруг,--
Вновь слезы лью, тоскою удрученный,
И вновь кляну жестокий свой недуг.
Когда с высот надзвездных к нам роняет
Светило дня свой жаркий луч, -- больней
Тогда душа томится и страдает;
А ночь сойдет -- тоска еще сильней.
И вижу я -- к молитвам небо глухо,
И к ним вовек не склонит Хлори слуха!
Сонет очень понравился Камилле, но еще более -- Ансельмо, который
хвалил стихи и сказал, что сеньора, не отвечающая на такое искреннее
чувство, чрезмерно жестокая, а Камилла спросила:
-- Разве все то, что говорят влюбленные поэты, правда?
-- Как поэты, они не всегда говорят правду, -- ответил Лотарио, -- но
как влюбленные, они так же медлят признаться в своем чувстве, как и
правдивы.
-- В этом не может быть сомнения,-- сказал Ансельмо, чтобы подтвердить
и поддержать мнение Лотарио в глазах Камиллы, столь же не обращавшей вни-
мания на хитрости Ансельмо, как и влюбленной уже в Лотарио. Итак,
находя удовольствие во всем, что исходило от него, и к тому же уверенная,
что его чувства и стихи обращены к ней и она-то и есть настоящая Хлори.
Камилла просила его, если он знает еще какой-нибудь сонет или другие стихи,
сказать их.
-- Я знаю еще один сонет, -- ответил Лотарио, -- но не думаю, чтобы он
был так же хорош, как первый, или точнее говоря, я думаю, что первый не был
так плох, как этот; но судите об этом сами, потому что вот он:
СОНЕТ
Да, смерть моя близка, и если вновь моленья
Отвергнешь ты мои, -- она еще верней:
У ног твоих умру, но в смертное мгновенье
Боготворить тебя я буду лишь сильней!
Когда уйду в страну я мрака и забвенья,
Утрачу славу, честь, мечты все юных дней,--
Но сберегу в душе твое изображенье,
Прекрасный облик твой, запечатленный в ней!
Святыней я хранил его в дни испытанья
И не могли любовь мою к тебе сломить
Отпор суровый твой и все мои страданья.
О, горе, чья судьба по океану плыть
В неведомой дали, где в мраке бурной ночи
Ни гавань, ни маяк, а гибель смотрит в очи!
Ансельмо похвалил также и второй сонет, как хвалил и первый, и таким
образом он продолжал добавлять звено к звену в той цепи, которою он опутывал
и сковывал свой позор; потому что, когда Лотарио больше всего бесчестил его,
он больше всего уверял друга, что честь его возносится все выше, и таким
образом с каждою ступенью, по которой Камилла спускалась до глубины своего
унижения, она во мнении мужа своего все более и более поднималась к вершине
добродетели и доброй славы. Между тем случилось так, что однажды, когда
Камилла осталась наедине с своей горничной, она ей сказала:
-- Мне совестно, друг Леонела, подумать, как мало я умела ценить себя,
и даже не заставила Лотарио долгим ожиданием купить полное обладание тем,
что я отдала ему так скоро по собственной доброй воле. Боюсь, он
презрительно отнесется к моей податливости или моему легкомыслию, не
принимая в расчет стремительности, с которой он меня взял, лишив тем
возможности сопротивляться ему.
-- Не тревожься этим, сеньора моя,-- ответила Леонела, -- так как нет
основания и причины, чтобы ценность вещи уменьшилась, если ее дают скоро,
лишь бы только то, что дают, было само по себе хорошо и ценно; а даже
принято говорить, что тот, кто дает скоро, дает вдвое.
-- Но также принято говорить, -- ответила Камилла, -- что то, что стоит
мало, мало и ценится.
-- Это не относится к тебе,-- ответила Леонела, -- потому что любовь,
как я слышала, иногда летает, а иногда ходит; с этим она быстро бежит, с тем
идет медленно; некоторых охлаждает, иных воспламеняет; одного ранит, другого
убивает; не успеет она вступить на поприще своих желаний,
как в то же мгновение уже и завершает его, добившись цели; утром
обыкновенно она начнет осаду крепости, а к вечеру уже овладевает ею, потому
что нет силы, которая могла бы противостоять ей. И раз это так, что же
пугает тебя или чего же ты боишься, если то же самое, должно быть, случилось
и с Лотарио, так как средством покорить вас любовь избрала отсутствие моего
господина? И оказалось необходимым, чтобы в его отсутствие произошло то, что
решила любовь раньше, чем Ансельмо имел время вернуться, так как при нем
дело не было бы доведено до конца, потому что у любви нет лучшего помощника
для выполнения ее желаний, как случаи, и она пользуется им во всех своих
делах, особенно же вначале. Все это я знаю очень хорошо, больше по
собственному опыту, чем понаслышке, и когда-нибудь я расскажу тебе об этом,
сеньора, -- ведь и я тоже из плоти, и в жилах у меня молодая кровь. А сверх
того, сеньора Камилла, ты ведь уступила и отдалась не прежде того, как
увидела в глазах, во вздохах, объяснениях, обещаниях и подарках Лотарио всю
его душу, узнав из нее и из его прекрасных качеств, насколько он достоин,
чтобы его любили. Если же это так, не давай робким и щепетильным мыслям
овладевать твоим воображением и будь уверена, что Лотарио так же высоко
ценит тебя, как ты ценишь его. Живи, счастливая и довольная тем, что, если
ты уже попалась в сети любви, тот, кто тебя поймал в них, исполнен чести и
достоинств и у него не только есть четыре буквы, которые, как говорят,
должны отличать всякого хорошего влюбленного {Эти четыре буквы -- четыре S,
именно: Sabio, Solo, Solicite, Secreto (умный, единственный, заботливый,
сдержанный на словах), намек на несколько строчек из поэмы друга Сервантеса
Люиса Бараона де Сото "Слезы Анжелики", в которых эти качества
перечисляются.}, но и целая азбука. А нет, -- послушай -- и убедишься, что я
знаю ее наизусть. Он -- как я вижу и могу судить о том -- ангелоподобный,
богатый, великодушный, добрый, гордый, единственный, жизнерадостный,
искренний, красивый, любящий, мужественный, нежный, остроумный,
признательный, рассудительный, скромный, талантливый, участливый,
франтоватый, холостой, целомудренный, честный, шустрый, щедрый; ф не идет к
нему, потому что это буква грубая; э не нужно, так как уже было е; а я
{Азбука Леонелы не может быть буквально переведена на русский язык из-за
несходства русской азбуки с латинской, а только приблизительно.} --
ревнитель твоей чести.
 Камилла рассмеялась над азбукой своей прислужницы и нашла, что Леонела
более опытна в любовных делах, чем говорит. Та призналась в этом, открыв
Камилле, что у нее есть ухаживатель, один молодой человек, хорошего
происхождения, из их же города. Это очень смутило Камиллу; ее пугала мысль,
чтобы этим путем честь ее не подверглась опасности. Она стала расспрашивать
Леонелу, зашли ли они дальше разговоров, на что та без всякого стыда и с
величайшею развязностью ответила, что, конечно, зашли; ведь вещь известная,
что проступки барынь вызывают нахальство в их служанках, и лишь только те
заметят, что госпожи их споткнулись, им ничего не значит самим захромать, и
так, чтобы все об этом узнали. Камилла не могла сделать ничего другого, как
только попросить Леонелу не говорить тому, кого она называла своим
любовником, о ее деле и вести и свое собственное в такой тайне, чтобы ни
Ансельмо, ни Лотарио ничего не узнали о нем. Леонела ответила, что она это и
сделает; но сдержала свое обещание таким образом, что оправдала опасения
Камиллы лишиться через нее своего доброго имени. Безчестная и дерзкая
Леонела после того, как узнала, что поведение ее сеньоры не такое, какое
было раньше, осмелилась ввести в дом и держать здесь своего любовника,
уверенная, что, если бы ее госпожа и увидела его, она не решится выдать ее,
так как в числе дурных последствий, которые, между прочим, влекут за собой
грехи барынь, они делаются рабынями собственных своих служанок и вынуждены
покрывать их безнравственность и низость. То же случилось и с Камиллой. Не
раз, а несколько раз видела она, что Леонела принимает своего любовника в
одной из комнат ее дома, и не только не осмеливалась бранить ее за это, а
даже сама давала ей возможность прятать его и устраняла все препятствия с ее
дороги, чтобы он не попался на глаза Ансельмо. Однако она не могла
предотвратить того, чтобы Лотарио однажды не увидел его выходящим из ее дома
на рассвете. Не зная, кто это такой, он сначала подумал, уж не привидение ли
это, но, увидав, как оно шагает, заботливо и осторожно прикрываясь и
закутываясь плащом, Лотарио бросил свою глупую мысль и остановился на
другой, которая привела бы их всех к гибели, если бы Камилла не нашла
средства помочь беде. Лотарио и в голову не приходило, что человек, которого
он видел выходящим в столь необычайный час из дома Ансельмо, явился туда для
Леонелы; он даже вообще забыл, что существует на свете какая-то Леонела, и
подумал, что Камилла, так легко и с такою готовностью отдавшись ему,
поступила так же и с другим. Вот те последствия, которые, между прочим,
влечет за собой порочность дурной женщины; ее чести перестает доверять даже
и тот, мольбам и упрашиваниям которого она уступила, и он воображает, что
она еще с большею легкостью, чем ему, отдастся другим, и всякому подозрению
в этом направлении он готов слепо верить. Весь здравый смысл Лотарио,
казалось, в ту минуту изменил ему, и все благоразумные мысли исчезли из его
головы, потому что, нимало не задумываясь над тем, поступает ли хорошо или
дурно, тотчас же, прежде чем Ансельмо встал, он, весь горя нетерпением,
ослепленный бешеною ревностью, терзавшей ему душу, умирая от желания
отомстить Камилле, которая ничем его не оскорбила, помчался к Ансельмо и
сказал ему:
-- Знай, Ансельмо, что уже давно я боролся с собой и изо всех сил
сдерживался, чтобы не открыть тебе того, что уже невозможно и несправедливо
дольше скрывать от тебя. Знай же, что крепость Камиллы сдалась и что она
готова подчиниться всему, что бы я ни пожелал. Если же я до сих пор медлил
открыть тебе эту горькую истину, то лишь потому, что хотел убедиться,
легкомысленная ли это прихоть с ее стороны, или же она поступает так, чтобы
испытать меня и убедиться в серьезности любви, которую я ей, с твоего
позволения, выказывал. Я думал также, что, если б она была такою, какою
должна быть и какой мы оба считали ее, в таком случае она сама сообщила бы
тебе о моих преследованиях. Но видя, что она медлит это сделать, я прихожу к
заключению, что обещание, которое она мне дала, серьезно, именно: в
следующий твой отъезд из дому, она придет ко мне на свидание в уборную, где
хранятся твои драгоценности (и действительно, Камилла обыкновенно виделась с
ним там). Но я бы не хотел, чтобы ты поспешно бросился мстить; ведь грех
содеян пока только лишь мысленно, и могло бы случится, что в промежутке до
времени его совершения Камилла переменит свое намерение и почувствует
раскаяние. Так как ты до сих пор во всем или же отчасти следовал всегда моим
советам, прими во внимание и следуй и тому, который я сейчас тебе дам, чтобы
ты, не ошибаясь и зрело обсудив, мог бы поступить так, как найдешь наиболее
для себя подходящим. Сделай вид, что уезжаешь на два или на три дня из дому,
как это уже не раз бывало, а между тем спрячься в своей уборной, где
благодаря драпировкам, которые там находятся, и другим вещам, ты можешь
легко укрыться. Тогда ты увидишь своими собственными глазами, как я моими,
что у Камиллы на уме. И если б это оказалось проступком, которого можно
скорее опасаться, чем ждать его, ты за нанесенное тебе бесчестие сумеешь
отомстить тайно, осторожно и умно.
Ансельмо был изумлен, смущен и поражен словами Лотарио, потому что
слышал их как раз в то время, когда меньше всего ожидал их услышать,
уверенный в том, что Камилла вышла победительницей из притворных ухаживаний
за нею Лотарио, вследствие чего он стал уже наслаждаться славой ее победы.
Долго молчал он, неподвижно устремив глаза на пол, и наконец сказал:
-- Ты поступил, Лотарио, как я вправе был ждать от твоей дружбы. Во
всем я должен следовать твоему совету; делай, что хочешь и храни эту тайну,
как этого требует столь неожиданное событие.
Лотарио обещал это сделать, но, уходя от него, глубоко раскаялся в том,
что сказал, -- поняв, как глупо он поступил, так как и сам мог бы отомстить
Камилле иным, менее жестоким и бесчестным способом. Он проклинал свое
безумие, укорял себя за стремительность решения и не знал, к какому средству
прибегнуть, чтобы исправить то, что он сделал, или найти какой-нибудь
разумный исход. Наконец, он решил сказать обо всем Камилле, и, так как
всегда мог найти случай это сделать, он в тот же день отправился к ней и
застал ее одну. Увидев, что она может свободно говорить с ним, она сказала
ему:
-- Знайте, друг Лотарио, у меня на сердце тревога, которая так его
гнетет, что, кажется, оно готово разорваться в груди у меня и было бы чудо,
если б это не случилось; потому что бесстыдство Леонелы дошло до того, что
она каждую ночь здесь в доме принимает своего любовника и остается с ним до
рассвета в ущерб доброму моему имени, так как всякий, кто увидел бы его
выходящим в столь необычные часы из дома, мог бы подумать обо мне все что
угодно. И особенно мне досадно, что я не могу ни наказать, ни побранить ее,
так как то обстоятельство, что она знает о моих с вами отношениях, налагает
узду на мой язык и принуждает меня хранить молчание о ее связи. Но я боюсь,
чтобы из всего этого не вышла бы какая-нибудь беда.
Сначала, когда Камилла так заговорила, Лотарио подумал, что это
хитрость с целью ввести его в заблуждение и уверить, будто человек, которого
он видел выходящим из ее дома, приходил к Леонеле, а не к ней. Но увидав,
что она плачет, огорчена и ищет у него помощи, он ей поверил; а поверив,
окончательно смутился и раскаялся в своем опрометчивом поступке. Тем не
менее он просил Камиллу не тревожиться, так как он найдет средство обуздать
наглость Леонелы. Затем он признался ей в том, что он сказал Ансельмо,
подстрекаемый ярым бешенством ревности, и в том, как они оба условились, что
Ансельмо спрячется в уборной, чтобы воочию убедиться в неверности к нему
Камиллы. Вместе с тем Лотарио попросил у нее прощения за свое безумие и
совета, как все исправить и благополучно выбраться из столь запутанного
лабиринта, в который завлекло их его неблагоразумие. Камилла сильно
встревожилась, услыхав сказанное ей Лотарио, и, раздосадованная, принялась
осыпать его многими и справедливыми упреками, укоряя за дурные о ней мысли и
за столь глупое и злое решение, к которому он пришел. Но так как от природы
у женщины и в дурном, и в хорошем более находчивый ум, чем у мужчины, --
хотя она и уступает ему, когда дело коснется обдуманного рассуждения, -- то
Камилла тотчас же нашла средство исправить это, по-видимому, столь
непоправимое дело. Она сказала Лотарио, чтобы он уговорил Ансельмо на
следующий же день спрятаться там, где они условились, потому что из этого
обстоятельства она думает извлечь ту выгоду, чтобы с этих пор они могли без
малейшего опасения и страха наслаждаться друг другом. Не открыв ему вполне
своего плана, она только предупредила его, чтобы он позаботился, когда
Ансельмо будет спрятан, прийти тотчас же, лишь только позовет Леонела, и на
все, что Камилла ему скажет, пусть он отвечает так, как ответил бы, если б
не знал, что Ансельмо подслушивает. Лотарио настаивал на более подробном
объяснении ее намерения, чтобы он мог точнее исполнить все то, что окажется
нужным.
-- Повторяю, -- ответила Камилла, -- вам не о чем больше заботиться,
как только отвечать мне на то, о чем я вас буду спрашивать.
Камилла не желала объяснить ему заранее, что, собственно, она имеет в
виду, боясь, что он не захочет следовать ее плану, который казался ей таким
хорошим, но придумает и отыщет другие, а они могут быть не столь удачными. С
этим и ушел Лотарио; а на следующий день, Ансельмо под предлогом посещения
своего приятеля в деревне уехал из дому, но тотчас же вернулся и спрятался в
уборной, а это он мог сделать тем удобнее, что Камилла и Леонела нарочно
предоставили ему благоприятный случай. Спрятавшись, Ансельмо терзался тем
страшным душевным волнением, которое -- как легко можно представить себе --
должен испытывать тот, кто ожидает видеть собственными глазами смертельный
удар, нанесенный его чести, потому что он готовился через несколько
мгновений лишиться высшего блага, которым, как он думал, он обладает в лице
своей возлюбленной Камиллы. Вполне уверенные и твердо зная, что Ансельмо уже
спрятался, Камилла и Леонела вошли в уборную, и не успела Камилла
переступить порог, как она, глубоко вздохнув, сказала:
-- Ах, Леонела, друг, не лучше ли прежде, чем я приведу в исполнение
то, о чем я не желала, чтобы ты узнала, из опасения, как бы ты мне не
помешала, -- не лучше ли было бы взять тебе кинжал Ансельмо, который я
спрашивала у тебя, и пронзить им гнусное мое сердце. Но не делай этого,
потому что не было бы справедливо, чтобы я несла наказание за чужую вину.
Мне прежде всего хотелось бы знать, что такое видели во мне дерзкие и
бесстыжие глаза Лотарио, что могло дать ему смелость открыться в столь
низком желании, как то, которое он мне открыл на позор своему другу и к
моему бесчестию. Подойди к окну, Леонела, и позови его, потому что, без
сомнения, он уже ждет на улице, надеясь привести в исполнение гнусное свое
намерение, -- но раньше этого я приведу в исполнение мое, столько же
жестокое, как и благородное решение.
-- Ах, сеньора моя, -- ответила ловкая и хорошо наученная Леонела, --
что же ты хочешь делать с этим кинжалом? Не хочешь ли, быть может, лишить
себя жизни или же отнять ее у Лотарио? И то и другое, если оно у тебя на
уме, привело бы лишь к потере доброго твоего имени и доброй твоей славы.
Лучше бы тебе затаить обиду и не дозволять злому этому человеку войти к нам
в дом и найти нас здесь одних. Подумай, сеньора, ведь мы слабые женщины, а
он мужчина, да и предприимчивый, а так как он придет с дурной целью, быть
может, ослепленный страстью, прежде чем ты приведешь в исполнение свое
намерение, он сделает то, что для тебя было бы хуже, чем отнять у тебя
жизнь. Горе сеньору моему Ансельмо, что он дал этому нахалу такую власть у
себя в доме! Но если ты убьешь его, сеньора,-- а я думаю, ты намерена это
сделать, -- как потом нам быть с ним, с мертвым?
-- Как нам быть, друг мой? -- переспросила Камилла. -- Мы его оставим,
и пусть Ансельмо похоронит его, потому что, по справедливости, нельзя лишить
его удовлетворения взять на себя труд закопать в землю собственный свой
позор. Зови Лотарио, спеши, так как все время, что я медлю заслуженною
местью за нанесенное мне оскорбление, мне кажется нарушением верности,
которой я обязана моему супругу.
Все это слышал Ансельмо, и с каждым словом, сказанным Камиллой, мысли
его более и более перестраивались; когда же он услышал, что она решила убить
Лотарио, он хотел открыться и выйти из своей засады, чтобы помешать этому;
но его удержало желание посмотреть, чем кончится столь смелое и похвальное
решение, и он был намерен выйти вовремя, чтобы предотвратить совершение
этого поступка. Но тут с Камиллой случился глубокий обморок, и Леонела,
уложив ее на кровать, которая там стояла, начала горько плакать, говоря:
-- Ах, несчастная я, если мне суждено испытать такое горе, что здесь,
на руках у меня, умрет цвет благонравия в мире, венец добрых женщин, образец
целомудрия! -- К этому она добавила другие тому подобные вещи, так что
всякий, кто ее слышал, счел бы ее за самую огорченную и преданную горничную
в мире, а сеньору ее -- за новую, гонимую судьбой Пенелопу. Но Камилла скоро
оправилась от своего обморока и, придя в себя, сказала:
-- Что ж ты, Леонела, не идешь звать самого вернейшего друга из друзей,
которых когда-либо освещало солнце или ночь покрывала своим мраком? Скорей
беги, спеши, иди, чтобы из-за твоего промедления не угас огонь моего гнева и
справедливая месть, к которой я стремлюсь, не разрешилась одними лишь
угрозами и проклятиями.
-- Иду звать его, сеньора моя, -- ответила Леонела, -- но прежде ты
должна дать мне этот кинжал, чтобы в отсутствие мое ты не сделала вещи,
из-за которой пришлось бы всю свою жизнь проливать слезы тем, кто тебя
любит.
-- Будь спокойна, друг мой Леонела, я этого не сделаю, -- ответила
Камилла,-- потому что, какой бы я ни казалась в твоих глазах безрассудной и
опрометчивой, отстаивая свою честь, все же я не доведу своего безрассудства
и опрометчивости до такой степени, как та Лукреция, о которой говорят, что
она лишила себя жизни, не совершив никакого проступка и не убив
предварительно того, кто был виновником ее несчастия. Я умру, если мне
суждено умереть, но не иначе как получив удовлетворение и отомстив тому,
из-за которого я должна была прийти сюда плакать над дерзостями его,
возникшими без всякой моей вины.
Леонела заставила себя долго просить, прежде чем она пошла звать
Лотарио; но наконец она ушла, а в ожидании ее возвращения Камилла, делая
вид, что разговаривает сама с собой, сказала:
-- Господи, помоги мне! Не умнее ли было бы, если б я отослала Лотарио,
как это делала уже много раз, чем давать ему повод, как это делаю теперь,
считать меня бесчестной и дурной женщиной, хотя бы лишь до того времени,
когда мне можно будет вывести его из его заблуждения. Без сомнения, это было
бы лучше, но я не была бы отомщена, и честь моего мужа осталась бы
неудовлетворенной, если б он так легко и таким гладким путем мог уйти
оттуда, куда его завлекли низкие его желания. Пусть же изменник заплатит
жизнью за свое бесстыдное посягательство, и пусть узнает мир -- если б ему
когда-либо довелось узнать об этом, -- что Камилла не только сохранила
верность супругу своему, но отомстила тому, кто дерзнул оскорбить его честь.
Тем не менее я думаю, было бы лучше обо всем сказать Ансельмо; хотя я ему
уже намекала об этом в письме, которое писала ему в деревню... Если же он
тогда не поспешил принять меры против зла, на которое я указывала, это,
по-видимому, произошло вследствие того, что по доверчивости и доброте своей
он не хотел и не мог понять, чтобы в груди столь преданного ему друга могли
таиться такие оскорбительные для чести его замыслы! И я сама долгое время не
верила тому и не поверила бы никогда, если б он в своей наглости не дошел до
того, что обнаружил предо мною низкие свои поползновения подарками,
широковещательными обещаниями и неотступными слезами. Но зачем я говорю
теперь все это? Разве смелое решение нуждается в каких-либо оправданиях?
Конечно, нет! Итак, прочь изменников! Ко мне, мщение! Пусть войдет сюда
вероломный, пусть явится, приблизится, умрет, погибнет, -- и пусть будет что
будет! Чистой была я отдана во власть тому, кого небо назначило мне в
супруги, и чистой должна я расстаться с ним, даже если б мне пришлось
омыться в моей безвинной крови и в преступной крови самого вероломного из
друзей, которых когда-либо видел свет.
И, говоря это, она ходила по комнате с обнаженным кинжалом такими
необычайными и странными шагами и с такими жестами, что казалось, лишилась
рассудка и походила скорее на бешеного убийцу, чем на нежную женщину.
Ансельмо, стоявший за драпировкой, за которою он спрятался, видел все
это и был крайне изумлен, а то, что он видел и слышал, казалось ему вполне
достаточным, чтобы рассеять даже более сильные подозрения, чем его, и он уже
желал, чтобы Лотарио не явился и испытание не было доведено до конца,
опасаясь, как бы не приключилось какое-нибудь неожиданное несчастие. Он
хотел было показаться и выйти, чтобы обнять жену и все ей объяснить, но
удержался, увидев, что Леонела вошла в комнату, ведя за руку Лотарио. Лишь
только Камилла его увидела, она провела перед собой на полу кинжалом большую
черту и сказала:
-- Лотарио, заметь себе то, что я сейчас скажу: если ты осмелишься
перейти через вот эту черту или хотя бы приблизиться к ней, -- в тот же миг,
как я увижу, что ты собираешься это сделать, я вонжу себе в сердце этот
кинжал, который держу в руках; прежде чем отвечать мне хоть слово, ты еще
должен выслушать меня и потом уже можешь говорить, что найдешь нужным.
Во-первых, Лотарио, я желаю, чтобы ты мне сказал: знаешь ли ты мужа моего
Ансельмо и какого ты о нем мнения, и во-вторых, затем спрашиваю тебя, знаешь
ли ты меня? Ответь на это, не смущаясь и недолго задумываясь, что мне
ответить, так как не очень затруднительно то, о чем я тебя спрашиваю.
Лотарио не был так неопытен, чтобы не догадаться с первой же минуты,
когда Камилла сказала ему, чтобы он спрятал Ансельмо в уборной, что она,
собственно, имела в виду, и поэтому он так ловко и хорошо сообразовался с ее
намерениями, что они оба разыграли эту ложь лучше самой истины. Он ответил
Камилле следующее:
-- Не думал я, прекрасная Камилла, что ты позвала меня, чтобы
спрашивать о вещах, столь далеких от намерения, с которым я сюда пришел.
Если ты это делаешь, чтобы отсрочить обещанную мне милость, тебе следовало
бы поступать таким образом раньше, так как ожидание желанного блага тем
мучительнее, чем ближе надежда овладеть им. Но чтобы ты не говорила, что я
не отвечаю на твои вопросы, скажу, что знаю твоего супруга Ансельмо и мы
дружны с ним с самых нежных лет; не хочу ничего говорить о нашей дружбе,
столь хорошо известной тебе, чтобы самому не свидетельствовать о том
оскорблении, которое нанести ему вынуждает меня любовь, это могучее
оправдание самых величайших заблуждений. И тебя я знаю, и обладание тобою
ставлю столь же высоко, как это делает и Ансельмо. Если б это не было так,
я, будучи тем, что я есть, не пошел бы из-за меньших чар, чем твои, против
своего долга, против священных законов истинной дружбы, теперь из-за столь
могучего врага, как любовь, нарушенных и попранных мной.
-- Если ты сознаешься в этом, -- ответила Камилла, -- смертельный враг
всего, что по справедливости заслуживает любви, -- с каким же лицом
осмеливаешься ты явиться перед той, о которой ты знаешь, что она зеркало, в
которое смотрится тот, о ком ты не должен был бы забывать, чтобы видеть, как
мало причины у тебя оскорблять его! Но, ах, я несчастная! Я догадываюсь, что
тебя побудило отнестись с таким неуважением к самому себе. Верно,
какое-нибудь легкомыслие мое, потому что назвать это нескромностью я не
хочу, так как оно не могло произойти из обдуманного решения, а лишь только
из какой-нибудь неосторожности, незаметно совершаемой женщинами, когда они
уверены в том, что им нечего остерегаться. А если это не так, скажи, о
изменник: когда я отвечала на просьбы твои словом или знаком, которые могли
бы возбудить в тебе хоть тень надежды на достижение твоих низких желаний?
Когда твои слова любви не были строго и презрительно отвергнуты мною? Когда
придавала я веру твоим многочисленным обещаниям или принимала еще более
часто предлагаемые мне тобою подарки? Но, так как мне кажется, что никто не
может долго упорствовать в любовном искательстве, если его не поддерживает
надежда, я готова приписать себе вину твоей дерзости, потому что, без
сомнения, какая-нибудь неосторожность с моей стороны питала столько времени
твои предосудительные старания, и поэтому я хочу наказать себя и обрушить на
себя кару, которую заслуживает твоя вина. А чтобы ты, видя, насколько я
жестоко отношусь к себе, понял, что мне нельзя иначе отнестись и к тебе, я
решила позвать тебя сюда, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую я хочу
принести опозоренной чести моего благородного супруга, оскорбленного тобою
как нельзя более преднамеренно, а также оскорбленного и мною по
неосторожности, состоявшей в том, что я не сумела избежать случая, если
только он действительно представился, который поощрил в тебе дурные твои
намерения. Повторяю: подозрение, что какая-нибудь неосмотрительность с моей
стороны пробудила в тебе твои безумные мысли, более всего меня мучит, и за
это я главным образом желаю покарать себя собственными руками, потому что,
если б это сделал другой палач, может быть, вина моя стала бы еще более
гласной... Но прежде, чем я это сделаю, я хочу, убивая себя, убить и увлечь
с собой и того, чья смерть может вполне удовлетворить жажду мести, к которой
я стремлюсь и на которую надеюсь, считая ее -- где бы она ни была выполнена
-- за кару, обрушенную беспристрастным и неподкупным правосудием на того,
кто довел меня до столь отчаянного шага.
И, говоря эти слова, она с неимоверной силой и быстротой бросилась на
Лотарио с обнаженным кинжалом с таким, казалось, пылким желанием вонзить ему
в грудь этот кинжал, что даже у него самого явилось сомнение, притворно ли
это с ее стороны или нет, и он был вынужден пустить в ход всю свою силу и
ловкость, чтобы помешать Камилле ранить его. Она сумела так живо разыграть
этот странный подлог и обман, что, желая придать ему окраску истины,
вздумала оттенить его собственною своею кровью, так как, увидав, что ей
нельзя, или притворяясь, что ей нельзя нанести удар Лотарио, она
воскликнула:
-- Если судьбе не угодно полностью удовлетворить мое справедливое
желание, по крайней мере она не настолько могущественна, чтоб помешать мне
удовлетворить его хоть отчасти.
И, сделав усилие, чтоб вырвать из рук Лотарио кинжал, который он крепко
держал, она замахнулась им и, направив острие его себе в такое место, где
нельзя было нанести глубокой раны, слегка вонзила его повыше левой ключицы,
близ плеча, и тотчас же упала на пол, как бы лишившись чувств.
Лотарио и Леонела были донельзя удивлены и смущенны этим происшествием,
все еще сомневаясь в истине его. Увидя Камиллу, лежавшую на полу и
обливающуюся кровью, Лотарио кинулся к ней, испуганный, тяжело дыша, чтобы
выдернуть кинжал, но когда он увидел, до чего незначительна ранка, страх его
исчез и он опять изумился уму, хладнокровию и ловкости прекрасной Камиллы.
Чтобы, со своей стороны, достойно разыграть роль, приходившуюся на его долю,
он разразился продолжительным и полным скорби сетованием над телом Камиллы,
точно она была уже мертвая, осыпая проклятиями не только самого себя, но и
того, кто был причиной всего случившегося. Зная, что его слушает его друг
Ансельмо, он говорил такие вещи, что всякий, слышавший их, больше пожалел бы
о нем, чем даже о Камилле, хотя бы и считал ее мертвой. Леонела подняла
Камиллу и положила на кровать, умоляя Лотарио пойти привести кого-нибудь,
кто бы мог тайно лечить ее; а также она спросила совета и мнения его, что
сказать Ансельмо об этой ране ее госпожи, если б он случайно вернулся
прежде, чем она вылечится. Лотарио ответил, пусть говорят что хотят, так как
он теперь не в состоянии дать какой-либо полезный совет. Он только велел ей
поскорее остановить кровь, потому что сам он решил уйти туда, где люди
больше не увидят его. С видом величайшего огорчения и волнения вышел он из
дому и, очутившись один, вдали от всяких взоров, не переставал креститься,
изумляясь искусству Камиллы и ловкости Леонелы. Он подумал, до чего, должно
быть, теперь Ансельмо уверен в том, что его жена вторая Порция {Действующее
лицо в драме Шекспира "Венецианский купец".}, и ему хотелось поскорее с ним
увидеться, чтобы вместе отпраздновать обман и истину, так искусно
переплетенные вместе, что этого нельзя было бы лучше вообразить себе.
Леонела, как сказано, остановила своей сеньоре кровь, которой оказалось
не больше, чем требовалось, чтобы придать ее обману правдоподобный вид, и,
обмыв вином рану, она перевязала ее, как сумела, говоря такие речи, пока она
перевязывала ее, что если б им не предшествовали другие, они одни могли бы
убедить Ансельмо в том, что его Камилла -- образец целомудрия. К словам
Леонелы присоединились и слова Камиллы, называвшей себя трусливой и
малодушной, потому что у нее не хватило мужества как раз в то время, когда
мужество ей было наиболее необходимо, чтобы лишить себя жизни, ставшей ей
столь ненавистной. Она спросила у своей прислужницы совета, говорить ей или
нет обо всем случившемся дорогому своему супругу, но та посоветовала лучше
не говорить ему, так как, сделав это, она поставит его в необходимость
отомстить Лотарио, а отомстить ему нельзя иначе, как подвергая и себя
опасности, а хорошая жена не должна давать своему мужу повода для ссор,
напротив, она должна их предупреждать, сколько возможно. Камилла ответила,
что совет Леонелы кажется ей очень благоразумным и она ему последует; но во
всяком случае надо придумать, что сказать Ансельмо относительно этой раны,
которую он непременно увидит; на это Леонела отозвалась, что она даже и в
шутку не умеет лгать.
-- А я-то, сестра, -- ответила Камилла, -- разве я сумею? Никогда я не
решусь ни сочинить, ни поддержать ложь, хотя бы это стоило мне жизни. Если
же мы не в силах выпутаться из этого дела, не лучше ли нам сказать голую
правду, чем быть пойманными во лжи?
-- Не тревожься, сеньора, -- ответила Леонела, -- до завтра я подумаю,
что нам сказать, а, быть может, оттого что рана на таком месте, удастся
прикрыть ее так, чтобы Ансельмо не увидел ее, и авось благосклонное небо
окажет нам помощь в столь справедливых и честных наших желаниях. Успокойся,
сеньора моя, и постарайся прийти в себя, чтобы господин мой не застал тебя
столь взволнованной. Остальное же предоставь моим заботам и Господу Богу,
Который никогда не отказывает в своем покровительстве добрым намерениям.
Ансельмо слушал и смотрел с величайшим вниманием на представление
трагедии гибели его чести, -- трагедии, которую действующие в ней лица
разыгрывали со столь удивительной и искренней страстью, что казалось, они
действительно превратились в тех лиц, которыми они прикидывались. С
нетерпением ждал Ансельмо ночи, чтобы уйти из дому повидаться с добрым своим
другом Лотарио и вместе с ним порадоваться драгоценной жемчужине, найденной
им в столь ярко обнаружившейся верности его супруги. Две женщины постарались
доставить ему как можно скорее случай и возможность выйти из дому, и,
воспользовавшись этой возможностью, он тотчас же побежал к Лотарио и, застав
его, так горячо принялся обнимать его, наговорил ему столько о своем счастии
и осыпал Камиллу такими похвалами, что всего этого передать нельзя. Лотарио
слушал, но не был в состоянии выказать какие-либо признаки радости, потому
что не мог не вспомнить, как ужасно обманул своего друга и как несправедливо
оскорбил его. Хотя Ансельмо и видел, что Лотарио не радуется, но подумал,
верно, это происходит оттого, что Камилла ранена, и тому причиной был
Лотарио. Поэтому он между прочим сказал ему, чтоб он не огорчался
случившимся с Камиллой, так как ее рана, несомненно, очень легкая, потому
что госпожа и служанка сговорились скрыть ее от него, следовательно,
опасаться нечего, и пусть же он веселится и радуется вместе с ним, так как
благодаря помощи и рвению его он достиг величайшего счастия, какого лишь мог
себе желать, и решил отныне не иметь других развлечений, как только писание
хвалебных стихов в честь Камиллы, чтобы увековечить ее в памяти грядущих
веков. Лотарио похвалил его доброе намерение и сказал, что и он, со своей
стороны, поможет ему воздвигнуть столь великолепное здание. Таким образом
Ансельмо оказался столь отменно обманутым человеком, какой только мог быть в
мире. Он сам ввел за руку к себе в дом того, кого считал орудием своей
славы, между тем как он был похитителем его чести, -- а Камилла принимала
Лотарио с выражением неудовольствия на лице, но со смеющимся сердцем. Этот
обман длился еще некоторое время, пока по прошествии немногих месяцев колесо
судьбы не повернулось и злое дело, скрытое с таким искусством, не выступило
наружу, а Ансельмо пришлось заплатить жизнью за безрассудное свое
любопытство.
Камилла рассмеялась над азбукой своей прислужницы и нашла, что Леонела
более опытна в любовных делах, чем говорит. Та призналась в этом, открыв
Камилле, что у нее есть ухаживатель, один молодой человек, хорошего
происхождения, из их же города. Это очень смутило Камиллу; ее пугала мысль,
чтобы этим путем честь ее не подверглась опасности. Она стала расспрашивать
Леонелу, зашли ли они дальше разговоров, на что та без всякого стыда и с
величайшею развязностью ответила, что, конечно, зашли; ведь вещь известная,
что проступки барынь вызывают нахальство в их служанках, и лишь только те
заметят, что госпожи их споткнулись, им ничего не значит самим захромать, и
так, чтобы все об этом узнали. Камилла не могла сделать ничего другого, как
только попросить Леонелу не говорить тому, кого она называла своим
любовником, о ее деле и вести и свое собственное в такой тайне, чтобы ни
Ансельмо, ни Лотарио ничего не узнали о нем. Леонела ответила, что она это и
сделает; но сдержала свое обещание таким образом, что оправдала опасения
Камиллы лишиться через нее своего доброго имени. Безчестная и дерзкая
Леонела после того, как узнала, что поведение ее сеньоры не такое, какое
было раньше, осмелилась ввести в дом и держать здесь своего любовника,
уверенная, что, если бы ее госпожа и увидела его, она не решится выдать ее,
так как в числе дурных последствий, которые, между прочим, влекут за собой
грехи барынь, они делаются рабынями собственных своих служанок и вынуждены
покрывать их безнравственность и низость. То же случилось и с Камиллой. Не
раз, а несколько раз видела она, что Леонела принимает своего любовника в
одной из комнат ее дома, и не только не осмеливалась бранить ее за это, а
даже сама давала ей возможность прятать его и устраняла все препятствия с ее
дороги, чтобы он не попался на глаза Ансельмо. Однако она не могла
предотвратить того, чтобы Лотарио однажды не увидел его выходящим из ее дома
на рассвете. Не зная, кто это такой, он сначала подумал, уж не привидение ли
это, но, увидав, как оно шагает, заботливо и осторожно прикрываясь и
закутываясь плащом, Лотарио бросил свою глупую мысль и остановился на
другой, которая привела бы их всех к гибели, если бы Камилла не нашла
средства помочь беде. Лотарио и в голову не приходило, что человек, которого
он видел выходящим в столь необычайный час из дома Ансельмо, явился туда для
Леонелы; он даже вообще забыл, что существует на свете какая-то Леонела, и
подумал, что Камилла, так легко и с такою готовностью отдавшись ему,
поступила так же и с другим. Вот те последствия, которые, между прочим,
влечет за собой порочность дурной женщины; ее чести перестает доверять даже
и тот, мольбам и упрашиваниям которого она уступила, и он воображает, что
она еще с большею легкостью, чем ему, отдастся другим, и всякому подозрению
в этом направлении он готов слепо верить. Весь здравый смысл Лотарио,
казалось, в ту минуту изменил ему, и все благоразумные мысли исчезли из его
головы, потому что, нимало не задумываясь над тем, поступает ли хорошо или
дурно, тотчас же, прежде чем Ансельмо встал, он, весь горя нетерпением,
ослепленный бешеною ревностью, терзавшей ему душу, умирая от желания
отомстить Камилле, которая ничем его не оскорбила, помчался к Ансельмо и
сказал ему:
-- Знай, Ансельмо, что уже давно я боролся с собой и изо всех сил
сдерживался, чтобы не открыть тебе того, что уже невозможно и несправедливо
дольше скрывать от тебя. Знай же, что крепость Камиллы сдалась и что она
готова подчиниться всему, что бы я ни пожелал. Если же я до сих пор медлил
открыть тебе эту горькую истину, то лишь потому, что хотел убедиться,
легкомысленная ли это прихоть с ее стороны, или же она поступает так, чтобы
испытать меня и убедиться в серьезности любви, которую я ей, с твоего
позволения, выказывал. Я думал также, что, если б она была такою, какою
должна быть и какой мы оба считали ее, в таком случае она сама сообщила бы
тебе о моих преследованиях. Но видя, что она медлит это сделать, я прихожу к
заключению, что обещание, которое она мне дала, серьезно, именно: в
следующий твой отъезд из дому, она придет ко мне на свидание в уборную, где
хранятся твои драгоценности (и действительно, Камилла обыкновенно виделась с
ним там). Но я бы не хотел, чтобы ты поспешно бросился мстить; ведь грех
содеян пока только лишь мысленно, и могло бы случится, что в промежутке до
времени его совершения Камилла переменит свое намерение и почувствует
раскаяние. Так как ты до сих пор во всем или же отчасти следовал всегда моим
советам, прими во внимание и следуй и тому, который я сейчас тебе дам, чтобы
ты, не ошибаясь и зрело обсудив, мог бы поступить так, как найдешь наиболее
для себя подходящим. Сделай вид, что уезжаешь на два или на три дня из дому,
как это уже не раз бывало, а между тем спрячься в своей уборной, где
благодаря драпировкам, которые там находятся, и другим вещам, ты можешь
легко укрыться. Тогда ты увидишь своими собственными глазами, как я моими,
что у Камиллы на уме. И если б это оказалось проступком, которого можно
скорее опасаться, чем ждать его, ты за нанесенное тебе бесчестие сумеешь
отомстить тайно, осторожно и умно.
Ансельмо был изумлен, смущен и поражен словами Лотарио, потому что
слышал их как раз в то время, когда меньше всего ожидал их услышать,
уверенный в том, что Камилла вышла победительницей из притворных ухаживаний
за нею Лотарио, вследствие чего он стал уже наслаждаться славой ее победы.
Долго молчал он, неподвижно устремив глаза на пол, и наконец сказал:
-- Ты поступил, Лотарио, как я вправе был ждать от твоей дружбы. Во
всем я должен следовать твоему совету; делай, что хочешь и храни эту тайну,
как этого требует столь неожиданное событие.
Лотарио обещал это сделать, но, уходя от него, глубоко раскаялся в том,
что сказал, -- поняв, как глупо он поступил, так как и сам мог бы отомстить
Камилле иным, менее жестоким и бесчестным способом. Он проклинал свое
безумие, укорял себя за стремительность решения и не знал, к какому средству
прибегнуть, чтобы исправить то, что он сделал, или найти какой-нибудь
разумный исход. Наконец, он решил сказать обо всем Камилле, и, так как
всегда мог найти случай это сделать, он в тот же день отправился к ней и
застал ее одну. Увидев, что она может свободно говорить с ним, она сказала
ему:
-- Знайте, друг Лотарио, у меня на сердце тревога, которая так его
гнетет, что, кажется, оно готово разорваться в груди у меня и было бы чудо,
если б это не случилось; потому что бесстыдство Леонелы дошло до того, что
она каждую ночь здесь в доме принимает своего любовника и остается с ним до
рассвета в ущерб доброму моему имени, так как всякий, кто увидел бы его
выходящим в столь необычные часы из дома, мог бы подумать обо мне все что
угодно. И особенно мне досадно, что я не могу ни наказать, ни побранить ее,
так как то обстоятельство, что она знает о моих с вами отношениях, налагает
узду на мой язык и принуждает меня хранить молчание о ее связи. Но я боюсь,
чтобы из всего этого не вышла бы какая-нибудь беда.
Сначала, когда Камилла так заговорила, Лотарио подумал, что это
хитрость с целью ввести его в заблуждение и уверить, будто человек, которого
он видел выходящим из ее дома, приходил к Леонеле, а не к ней. Но увидав,
что она плачет, огорчена и ищет у него помощи, он ей поверил; а поверив,
окончательно смутился и раскаялся в своем опрометчивом поступке. Тем не
менее он просил Камиллу не тревожиться, так как он найдет средство обуздать
наглость Леонелы. Затем он признался ей в том, что он сказал Ансельмо,
подстрекаемый ярым бешенством ревности, и в том, как они оба условились, что
Ансельмо спрячется в уборной, чтобы воочию убедиться в неверности к нему
Камиллы. Вместе с тем Лотарио попросил у нее прощения за свое безумие и
совета, как все исправить и благополучно выбраться из столь запутанного
лабиринта, в который завлекло их его неблагоразумие. Камилла сильно
встревожилась, услыхав сказанное ей Лотарио, и, раздосадованная, принялась
осыпать его многими и справедливыми упреками, укоряя за дурные о ней мысли и
за столь глупое и злое решение, к которому он пришел. Но так как от природы
у женщины и в дурном, и в хорошем более находчивый ум, чем у мужчины, --
хотя она и уступает ему, когда дело коснется обдуманного рассуждения, -- то
Камилла тотчас же нашла средство исправить это, по-видимому, столь
непоправимое дело. Она сказала Лотарио, чтобы он уговорил Ансельмо на
следующий же день спрятаться там, где они условились, потому что из этого
обстоятельства она думает извлечь ту выгоду, чтобы с этих пор они могли без
малейшего опасения и страха наслаждаться друг другом. Не открыв ему вполне
своего плана, она только предупредила его, чтобы он позаботился, когда
Ансельмо будет спрятан, прийти тотчас же, лишь только позовет Леонела, и на
все, что Камилла ему скажет, пусть он отвечает так, как ответил бы, если б
не знал, что Ансельмо подслушивает. Лотарио настаивал на более подробном
объяснении ее намерения, чтобы он мог точнее исполнить все то, что окажется
нужным.
-- Повторяю, -- ответила Камилла, -- вам не о чем больше заботиться,
как только отвечать мне на то, о чем я вас буду спрашивать.
Камилла не желала объяснить ему заранее, что, собственно, она имеет в
виду, боясь, что он не захочет следовать ее плану, который казался ей таким
хорошим, но придумает и отыщет другие, а они могут быть не столь удачными. С
этим и ушел Лотарио; а на следующий день, Ансельмо под предлогом посещения
своего приятеля в деревне уехал из дому, но тотчас же вернулся и спрятался в
уборной, а это он мог сделать тем удобнее, что Камилла и Леонела нарочно
предоставили ему благоприятный случай. Спрятавшись, Ансельмо терзался тем
страшным душевным волнением, которое -- как легко можно представить себе --
должен испытывать тот, кто ожидает видеть собственными глазами смертельный
удар, нанесенный его чести, потому что он готовился через несколько
мгновений лишиться высшего блага, которым, как он думал, он обладает в лице
своей возлюбленной Камиллы. Вполне уверенные и твердо зная, что Ансельмо уже
спрятался, Камилла и Леонела вошли в уборную, и не успела Камилла
переступить порог, как она, глубоко вздохнув, сказала:
-- Ах, Леонела, друг, не лучше ли прежде, чем я приведу в исполнение
то, о чем я не желала, чтобы ты узнала, из опасения, как бы ты мне не
помешала, -- не лучше ли было бы взять тебе кинжал Ансельмо, который я
спрашивала у тебя, и пронзить им гнусное мое сердце. Но не делай этого,
потому что не было бы справедливо, чтобы я несла наказание за чужую вину.
Мне прежде всего хотелось бы знать, что такое видели во мне дерзкие и
бесстыжие глаза Лотарио, что могло дать ему смелость открыться в столь
низком желании, как то, которое он мне открыл на позор своему другу и к
моему бесчестию. Подойди к окну, Леонела, и позови его, потому что, без
сомнения, он уже ждет на улице, надеясь привести в исполнение гнусное свое
намерение, -- но раньше этого я приведу в исполнение мое, столько же
жестокое, как и благородное решение.
-- Ах, сеньора моя, -- ответила ловкая и хорошо наученная Леонела, --
что же ты хочешь делать с этим кинжалом? Не хочешь ли, быть может, лишить
себя жизни или же отнять ее у Лотарио? И то и другое, если оно у тебя на
уме, привело бы лишь к потере доброго твоего имени и доброй твоей славы.
Лучше бы тебе затаить обиду и не дозволять злому этому человеку войти к нам
в дом и найти нас здесь одних. Подумай, сеньора, ведь мы слабые женщины, а
он мужчина, да и предприимчивый, а так как он придет с дурной целью, быть
может, ослепленный страстью, прежде чем ты приведешь в исполнение свое
намерение, он сделает то, что для тебя было бы хуже, чем отнять у тебя
жизнь. Горе сеньору моему Ансельмо, что он дал этому нахалу такую власть у
себя в доме! Но если ты убьешь его, сеньора,-- а я думаю, ты намерена это
сделать, -- как потом нам быть с ним, с мертвым?
-- Как нам быть, друг мой? -- переспросила Камилла. -- Мы его оставим,
и пусть Ансельмо похоронит его, потому что, по справедливости, нельзя лишить
его удовлетворения взять на себя труд закопать в землю собственный свой
позор. Зови Лотарио, спеши, так как все время, что я медлю заслуженною
местью за нанесенное мне оскорбление, мне кажется нарушением верности,
которой я обязана моему супругу.
Все это слышал Ансельмо, и с каждым словом, сказанным Камиллой, мысли
его более и более перестраивались; когда же он услышал, что она решила убить
Лотарио, он хотел открыться и выйти из своей засады, чтобы помешать этому;
но его удержало желание посмотреть, чем кончится столь смелое и похвальное
решение, и он был намерен выйти вовремя, чтобы предотвратить совершение
этого поступка. Но тут с Камиллой случился глубокий обморок, и Леонела,
уложив ее на кровать, которая там стояла, начала горько плакать, говоря:
-- Ах, несчастная я, если мне суждено испытать такое горе, что здесь,
на руках у меня, умрет цвет благонравия в мире, венец добрых женщин, образец
целомудрия! -- К этому она добавила другие тому подобные вещи, так что
всякий, кто ее слышал, счел бы ее за самую огорченную и преданную горничную
в мире, а сеньору ее -- за новую, гонимую судьбой Пенелопу. Но Камилла скоро
оправилась от своего обморока и, придя в себя, сказала:
-- Что ж ты, Леонела, не идешь звать самого вернейшего друга из друзей,
которых когда-либо освещало солнце или ночь покрывала своим мраком? Скорей
беги, спеши, иди, чтобы из-за твоего промедления не угас огонь моего гнева и
справедливая месть, к которой я стремлюсь, не разрешилась одними лишь
угрозами и проклятиями.
-- Иду звать его, сеньора моя, -- ответила Леонела, -- но прежде ты
должна дать мне этот кинжал, чтобы в отсутствие мое ты не сделала вещи,
из-за которой пришлось бы всю свою жизнь проливать слезы тем, кто тебя
любит.
-- Будь спокойна, друг мой Леонела, я этого не сделаю, -- ответила
Камилла,-- потому что, какой бы я ни казалась в твоих глазах безрассудной и
опрометчивой, отстаивая свою честь, все же я не доведу своего безрассудства
и опрометчивости до такой степени, как та Лукреция, о которой говорят, что
она лишила себя жизни, не совершив никакого проступка и не убив
предварительно того, кто был виновником ее несчастия. Я умру, если мне
суждено умереть, но не иначе как получив удовлетворение и отомстив тому,
из-за которого я должна была прийти сюда плакать над дерзостями его,
возникшими без всякой моей вины.
Леонела заставила себя долго просить, прежде чем она пошла звать
Лотарио; но наконец она ушла, а в ожидании ее возвращения Камилла, делая
вид, что разговаривает сама с собой, сказала:
-- Господи, помоги мне! Не умнее ли было бы, если б я отослала Лотарио,
как это делала уже много раз, чем давать ему повод, как это делаю теперь,
считать меня бесчестной и дурной женщиной, хотя бы лишь до того времени,
когда мне можно будет вывести его из его заблуждения. Без сомнения, это было
бы лучше, но я не была бы отомщена, и честь моего мужа осталась бы
неудовлетворенной, если б он так легко и таким гладким путем мог уйти
оттуда, куда его завлекли низкие его желания. Пусть же изменник заплатит
жизнью за свое бесстыдное посягательство, и пусть узнает мир -- если б ему
когда-либо довелось узнать об этом, -- что Камилла не только сохранила
верность супругу своему, но отомстила тому, кто дерзнул оскорбить его честь.
Тем не менее я думаю, было бы лучше обо всем сказать Ансельмо; хотя я ему
уже намекала об этом в письме, которое писала ему в деревню... Если же он
тогда не поспешил принять меры против зла, на которое я указывала, это,
по-видимому, произошло вследствие того, что по доверчивости и доброте своей
он не хотел и не мог понять, чтобы в груди столь преданного ему друга могли
таиться такие оскорбительные для чести его замыслы! И я сама долгое время не
верила тому и не поверила бы никогда, если б он в своей наглости не дошел до
того, что обнаружил предо мною низкие свои поползновения подарками,
широковещательными обещаниями и неотступными слезами. Но зачем я говорю
теперь все это? Разве смелое решение нуждается в каких-либо оправданиях?
Конечно, нет! Итак, прочь изменников! Ко мне, мщение! Пусть войдет сюда
вероломный, пусть явится, приблизится, умрет, погибнет, -- и пусть будет что
будет! Чистой была я отдана во власть тому, кого небо назначило мне в
супруги, и чистой должна я расстаться с ним, даже если б мне пришлось
омыться в моей безвинной крови и в преступной крови самого вероломного из
друзей, которых когда-либо видел свет.
И, говоря это, она ходила по комнате с обнаженным кинжалом такими
необычайными и странными шагами и с такими жестами, что казалось, лишилась
рассудка и походила скорее на бешеного убийцу, чем на нежную женщину.
Ансельмо, стоявший за драпировкой, за которою он спрятался, видел все
это и был крайне изумлен, а то, что он видел и слышал, казалось ему вполне
достаточным, чтобы рассеять даже более сильные подозрения, чем его, и он уже
желал, чтобы Лотарио не явился и испытание не было доведено до конца,
опасаясь, как бы не приключилось какое-нибудь неожиданное несчастие. Он
хотел было показаться и выйти, чтобы обнять жену и все ей объяснить, но
удержался, увидев, что Леонела вошла в комнату, ведя за руку Лотарио. Лишь
только Камилла его увидела, она провела перед собой на полу кинжалом большую
черту и сказала:
-- Лотарио, заметь себе то, что я сейчас скажу: если ты осмелишься
перейти через вот эту черту или хотя бы приблизиться к ней, -- в тот же миг,
как я увижу, что ты собираешься это сделать, я вонжу себе в сердце этот
кинжал, который держу в руках; прежде чем отвечать мне хоть слово, ты еще
должен выслушать меня и потом уже можешь говорить, что найдешь нужным.
Во-первых, Лотарио, я желаю, чтобы ты мне сказал: знаешь ли ты мужа моего
Ансельмо и какого ты о нем мнения, и во-вторых, затем спрашиваю тебя, знаешь
ли ты меня? Ответь на это, не смущаясь и недолго задумываясь, что мне
ответить, так как не очень затруднительно то, о чем я тебя спрашиваю.
Лотарио не был так неопытен, чтобы не догадаться с первой же минуты,
когда Камилла сказала ему, чтобы он спрятал Ансельмо в уборной, что она,
собственно, имела в виду, и поэтому он так ловко и хорошо сообразовался с ее
намерениями, что они оба разыграли эту ложь лучше самой истины. Он ответил
Камилле следующее:
-- Не думал я, прекрасная Камилла, что ты позвала меня, чтобы
спрашивать о вещах, столь далеких от намерения, с которым я сюда пришел.
Если ты это делаешь, чтобы отсрочить обещанную мне милость, тебе следовало
бы поступать таким образом раньше, так как ожидание желанного блага тем
мучительнее, чем ближе надежда овладеть им. Но чтобы ты не говорила, что я
не отвечаю на твои вопросы, скажу, что знаю твоего супруга Ансельмо и мы
дружны с ним с самых нежных лет; не хочу ничего говорить о нашей дружбе,
столь хорошо известной тебе, чтобы самому не свидетельствовать о том
оскорблении, которое нанести ему вынуждает меня любовь, это могучее
оправдание самых величайших заблуждений. И тебя я знаю, и обладание тобою
ставлю столь же высоко, как это делает и Ансельмо. Если б это не было так,
я, будучи тем, что я есть, не пошел бы из-за меньших чар, чем твои, против
своего долга, против священных законов истинной дружбы, теперь из-за столь
могучего врага, как любовь, нарушенных и попранных мной.
-- Если ты сознаешься в этом, -- ответила Камилла, -- смертельный враг
всего, что по справедливости заслуживает любви, -- с каким же лицом
осмеливаешься ты явиться перед той, о которой ты знаешь, что она зеркало, в
которое смотрится тот, о ком ты не должен был бы забывать, чтобы видеть, как
мало причины у тебя оскорблять его! Но, ах, я несчастная! Я догадываюсь, что
тебя побудило отнестись с таким неуважением к самому себе. Верно,
какое-нибудь легкомыслие мое, потому что назвать это нескромностью я не
хочу, так как оно не могло произойти из обдуманного решения, а лишь только
из какой-нибудь неосторожности, незаметно совершаемой женщинами, когда они
уверены в том, что им нечего остерегаться. А если это не так, скажи, о
изменник: когда я отвечала на просьбы твои словом или знаком, которые могли
бы возбудить в тебе хоть тень надежды на достижение твоих низких желаний?
Когда твои слова любви не были строго и презрительно отвергнуты мною? Когда
придавала я веру твоим многочисленным обещаниям или принимала еще более
часто предлагаемые мне тобою подарки? Но, так как мне кажется, что никто не
может долго упорствовать в любовном искательстве, если его не поддерживает
надежда, я готова приписать себе вину твоей дерзости, потому что, без
сомнения, какая-нибудь неосторожность с моей стороны питала столько времени
твои предосудительные старания, и поэтому я хочу наказать себя и обрушить на
себя кару, которую заслуживает твоя вина. А чтобы ты, видя, насколько я
жестоко отношусь к себе, понял, что мне нельзя иначе отнестись и к тебе, я
решила позвать тебя сюда, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую я хочу
принести опозоренной чести моего благородного супруга, оскорбленного тобою
как нельзя более преднамеренно, а также оскорбленного и мною по
неосторожности, состоявшей в том, что я не сумела избежать случая, если
только он действительно представился, который поощрил в тебе дурные твои
намерения. Повторяю: подозрение, что какая-нибудь неосмотрительность с моей
стороны пробудила в тебе твои безумные мысли, более всего меня мучит, и за
это я главным образом желаю покарать себя собственными руками, потому что,
если б это сделал другой палач, может быть, вина моя стала бы еще более
гласной... Но прежде, чем я это сделаю, я хочу, убивая себя, убить и увлечь
с собой и того, чья смерть может вполне удовлетворить жажду мести, к которой
я стремлюсь и на которую надеюсь, считая ее -- где бы она ни была выполнена
-- за кару, обрушенную беспристрастным и неподкупным правосудием на того,
кто довел меня до столь отчаянного шага.
И, говоря эти слова, она с неимоверной силой и быстротой бросилась на
Лотарио с обнаженным кинжалом с таким, казалось, пылким желанием вонзить ему
в грудь этот кинжал, что даже у него самого явилось сомнение, притворно ли
это с ее стороны или нет, и он был вынужден пустить в ход всю свою силу и
ловкость, чтобы помешать Камилле ранить его. Она сумела так живо разыграть
этот странный подлог и обман, что, желая придать ему окраску истины,
вздумала оттенить его собственною своею кровью, так как, увидав, что ей
нельзя, или притворяясь, что ей нельзя нанести удар Лотарио, она
воскликнула:
-- Если судьбе не угодно полностью удовлетворить мое справедливое
желание, по крайней мере она не настолько могущественна, чтоб помешать мне
удовлетворить его хоть отчасти.
И, сделав усилие, чтоб вырвать из рук Лотарио кинжал, который он крепко
держал, она замахнулась им и, направив острие его себе в такое место, где
нельзя было нанести глубокой раны, слегка вонзила его повыше левой ключицы,
близ плеча, и тотчас же упала на пол, как бы лишившись чувств.
Лотарио и Леонела были донельзя удивлены и смущенны этим происшествием,
все еще сомневаясь в истине его. Увидя Камиллу, лежавшую на полу и
обливающуюся кровью, Лотарио кинулся к ней, испуганный, тяжело дыша, чтобы
выдернуть кинжал, но когда он увидел, до чего незначительна ранка, страх его
исчез и он опять изумился уму, хладнокровию и ловкости прекрасной Камиллы.
Чтобы, со своей стороны, достойно разыграть роль, приходившуюся на его долю,
он разразился продолжительным и полным скорби сетованием над телом Камиллы,
точно она была уже мертвая, осыпая проклятиями не только самого себя, но и
того, кто был причиной всего случившегося. Зная, что его слушает его друг
Ансельмо, он говорил такие вещи, что всякий, слышавший их, больше пожалел бы
о нем, чем даже о Камилле, хотя бы и считал ее мертвой. Леонела подняла
Камиллу и положила на кровать, умоляя Лотарио пойти привести кого-нибудь,
кто бы мог тайно лечить ее; а также она спросила совета и мнения его, что
сказать Ансельмо об этой ране ее госпожи, если б он случайно вернулся
прежде, чем она вылечится. Лотарио ответил, пусть говорят что хотят, так как
он теперь не в состоянии дать какой-либо полезный совет. Он только велел ей
поскорее остановить кровь, потому что сам он решил уйти туда, где люди
больше не увидят его. С видом величайшего огорчения и волнения вышел он из
дому и, очутившись один, вдали от всяких взоров, не переставал креститься,
изумляясь искусству Камиллы и ловкости Леонелы. Он подумал, до чего, должно
быть, теперь Ансельмо уверен в том, что его жена вторая Порция {Действующее
лицо в драме Шекспира "Венецианский купец".}, и ему хотелось поскорее с ним
увидеться, чтобы вместе отпраздновать обман и истину, так искусно
переплетенные вместе, что этого нельзя было бы лучше вообразить себе.
Леонела, как сказано, остановила своей сеньоре кровь, которой оказалось
не больше, чем требовалось, чтобы придать ее обману правдоподобный вид, и,
обмыв вином рану, она перевязала ее, как сумела, говоря такие речи, пока она
перевязывала ее, что если б им не предшествовали другие, они одни могли бы
убедить Ансельмо в том, что его Камилла -- образец целомудрия. К словам
Леонелы присоединились и слова Камиллы, называвшей себя трусливой и
малодушной, потому что у нее не хватило мужества как раз в то время, когда
мужество ей было наиболее необходимо, чтобы лишить себя жизни, ставшей ей
столь ненавистной. Она спросила у своей прислужницы совета, говорить ей или
нет обо всем случившемся дорогому своему супругу, но та посоветовала лучше
не говорить ему, так как, сделав это, она поставит его в необходимость
отомстить Лотарио, а отомстить ему нельзя иначе, как подвергая и себя
опасности, а хорошая жена не должна давать своему мужу повода для ссор,
напротив, она должна их предупреждать, сколько возможно. Камилла ответила,
что совет Леонелы кажется ей очень благоразумным и она ему последует; но во
всяком случае надо придумать, что сказать Ансельмо относительно этой раны,
которую он непременно увидит; на это Леонела отозвалась, что она даже и в
шутку не умеет лгать.
-- А я-то, сестра, -- ответила Камилла, -- разве я сумею? Никогда я не
решусь ни сочинить, ни поддержать ложь, хотя бы это стоило мне жизни. Если
же мы не в силах выпутаться из этого дела, не лучше ли нам сказать голую
правду, чем быть пойманными во лжи?
-- Не тревожься, сеньора, -- ответила Леонела, -- до завтра я подумаю,
что нам сказать, а, быть может, оттого что рана на таком месте, удастся
прикрыть ее так, чтобы Ансельмо не увидел ее, и авось благосклонное небо
окажет нам помощь в столь справедливых и честных наших желаниях. Успокойся,
сеньора моя, и постарайся прийти в себя, чтобы господин мой не застал тебя
столь взволнованной. Остальное же предоставь моим заботам и Господу Богу,
Который никогда не отказывает в своем покровительстве добрым намерениям.
Ансельмо слушал и смотрел с величайшим вниманием на представление
трагедии гибели его чести, -- трагедии, которую действующие в ней лица
разыгрывали со столь удивительной и искренней страстью, что казалось, они
действительно превратились в тех лиц, которыми они прикидывались. С
нетерпением ждал Ансельмо ночи, чтобы уйти из дому повидаться с добрым своим
другом Лотарио и вместе с ним порадоваться драгоценной жемчужине, найденной
им в столь ярко обнаружившейся верности его супруги. Две женщины постарались
доставить ему как можно скорее случай и возможность выйти из дому, и,
воспользовавшись этой возможностью, он тотчас же побежал к Лотарио и, застав
его, так горячо принялся обнимать его, наговорил ему столько о своем счастии
и осыпал Камиллу такими похвалами, что всего этого передать нельзя. Лотарио
слушал, но не был в состоянии выказать какие-либо признаки радости, потому
что не мог не вспомнить, как ужасно обманул своего друга и как несправедливо
оскорбил его. Хотя Ансельмо и видел, что Лотарио не радуется, но подумал,
верно, это происходит оттого, что Камилла ранена, и тому причиной был
Лотарио. Поэтому он между прочим сказал ему, чтоб он не огорчался
случившимся с Камиллой, так как ее рана, несомненно, очень легкая, потому
что госпожа и служанка сговорились скрыть ее от него, следовательно,
опасаться нечего, и пусть же он веселится и радуется вместе с ним, так как
благодаря помощи и рвению его он достиг величайшего счастия, какого лишь мог
себе желать, и решил отныне не иметь других развлечений, как только писание
хвалебных стихов в честь Камиллы, чтобы увековечить ее в памяти грядущих
веков. Лотарио похвалил его доброе намерение и сказал, что и он, со своей
стороны, поможет ему воздвигнуть столь великолепное здание. Таким образом
Ансельмо оказался столь отменно обманутым человеком, какой только мог быть в
мире. Он сам ввел за руку к себе в дом того, кого считал орудием своей
славы, между тем как он был похитителем его чести, -- а Камилла принимала
Лотарио с выражением неудовольствия на лице, но со смеющимся сердцем. Этот
обман длился еще некоторое время, пока по прошествии немногих месяцев колесо
судьбы не повернулось и злое дело, скрытое с таким искусством, не выступило
наружу, а Ансельмо пришлось заплатить жизнью за безрассудное свое
любопытство.

Глава XXXV, в которой рассказывается о жестокой и необычайной битве
Дон Кихота с несколькими бурдюками красного вина и оканчивается повесть
о Безрассудно-любопытном
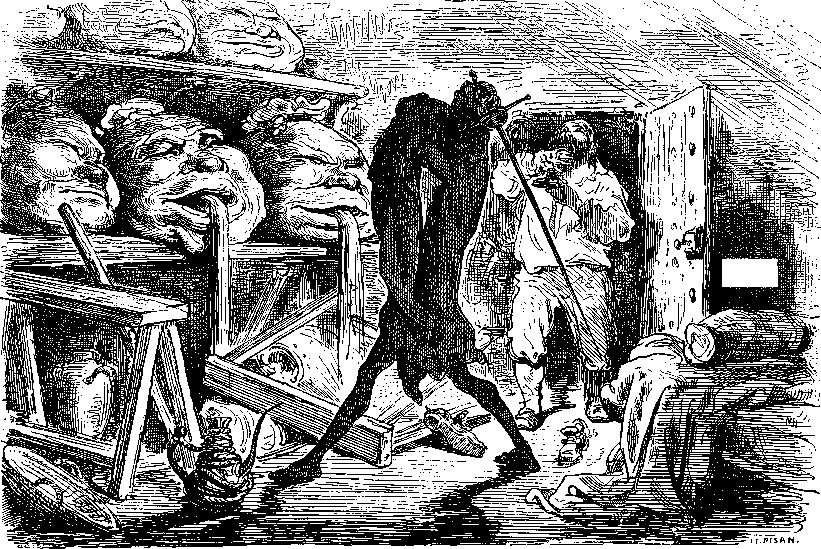 Оставалось дочитать еще немного в повести, как вдруг из каморки, в
которой покоился Дон Кихот, выбежал страшно оторопевший Санчо Панса и громко
закричал:
-- Скорей, сеньоры, бегите и помогите моему господину, вступившему в
самую сильную и ожесточенную битву, которую когда-либо видели мои глаза!
Клянусь Богом, он нанес такой удар мечом великану, врагу сеньоры принцессы
Микомиконы, что отрезал ему голову от туловища чисто-начисто, как репу.
-- Что вы говорите, брат, -- сказал священник, оставив недочитанным
конец повести, -- в уме ли вы, Санчо? Как могло случиться, черт возьми, то,
что вы говорите, когда великан отсюда за две тысячи миль?
Но в эту минуту они услышали сильный шум в комнате и крик Дон Кихота:
-- Стой, вор, злодей, трус! Теперь ты не уйдешь из моих рук, и твой
палаш не поможет тебе.
И казалось, Дон Кихот наносил сильные удары мечом в стену.
-- Незачем вам тут стоять и слушать, -- сказал Санчо, -- а надо скорей
идти и разнять дерущихся или же помочь моему господину, хотя теперь этого и
не требуется, так как, без всякого сомнения, великан уже лежит мертвый и
дает теперь отчет Богу за прожитую им и дурную его жизнь, потому что я
видел, как текла кровь по полу, а отрезанная голова, упавшая в сторону, была
величиной с большой бурдюк вина.
-- Пусть меня убьют, -- сказал тогда хозяин постоялого двора, -- если
Дон Кихот или дон Черт не проткнул один из бурдюков с красным вином, которые
стояли у изголовья его кровати, а разлитое вино, должно быть, показалось
кровью этому доброму человеку.
Тотчас же бросился он в комнату, а за ним и все остальные. Здесь они
увидели Дон Кихота в самом странном в мире наряде. На нем была одна лишь
рубашка не столь широкая спереди, чтобы вполне прикрыть ему бедра, сзади же
еще на шесть дюймов короче. Ноги его были длинные, худые, волосатые и не
весьма чистые; на голове виднелась красная грязная шапочка, принадлежавшая
хозяину двора. Вокруг левой руки было обвернуто одеяло, против которого
Санчо питал злобу, и он хорошо знал, почему {Это было то одеяло, в котором
подбрасывали Санчо вверх, как рассказано в главе XVII.}, а в правой руке он
держал обнаженные меч, которым наносил удары во все стороны, сопровождая их
восклицаниями как будто он и в самом деле сражался с каким-нибудь великаном.
Но лучше всего то, что глаза его были закрыты, так как он спал, и ему
снилось, что он вступил в битву с великаном. Его воображение было так упорно
устремлено на приключение, которое он собирался довести до конца, что ему
приснилось, будто он уже прибыл в королевство Микомикон и вступил в битву со
своим врагом; и он нанес столько ударов бурдюкам, в мыслях своих нанося их
великану, что вся комната была залита вином. Увидав это, хозяин двора пришел
в величайшую ярость бросился на Дон Кихота со сжатыми кулаками и начал так
его бить, что, если бы Карденио и священник не удержали его сражение с
великаном тут же бы окончилось. Тем не менее бедный рыцарь проснулся лишь
тогда, когда цирюльник принес из колодца большой котелок холодной воды и
окатил его сразу с головы до ног, а это хотя и разбудило Дон Кихота, но он
не очувствовался еще настолько, чтобы сообразить, в каком он виде. Заметив,
как он легко и скудно одет, Доротеа не захотела войти смотреть на битву
своего защитника с ее врагом. А Санчо между тем отыскивал голову великана по
всему полу и, не найдя ее, сказал:
-- Я уже знаю, что все в этом доме очаровано, потому что в прошлый раз
на этом самом месте, где я теперь стою, мне надавали множество пинков и
ударов, и я не знал, кто дает их мне, и никого не видел; теперь же не могу
найти головы, хотя и видел собственными глазами, как она была отрублена и
кровь текла из тела, точно из фонтана.
-- О какой крови и о каком фонтане говоришь ты, враг Бога и его святых?
-- воскликнул хозяин двора. -- Разве ты не видишь, вор, что эта кровь и этот
фонтан -- не что иное, как прорванные бурдюки и красное вино, затопившее
комнату? Желал бы я видеть плывущей в ад душу того, кто проткнул мои
бурдюки!
-- Ничего не знаю, -- ответил Санчо, -- знаю только: я буду так
несчастлив, если не найду этой головы, что мое графство растает, как соль в
воде.
И Санчо, бодрствующий, был хуже своего господина спящего, -- так сильно
овладели им обещания, данные ему Дон Кихотом. Хозяин двора пришел в ярость
при виде хладнокровия оруженосца и беды, натворенной его господином, и
клялся: не быть уже тому, что случилось в прошлый раз, когда они уехали,
ничего не заплатив; теперь никакие привилегии их рыцарства не избавят их от
уплаты за все, что они должны, и даже за то, что могут стоить пластыри,
которые придется наложить на прорванные бурдюки. Священник держал за руки
Дон Кихота, который, думая, что он уже завершил взятое им на себя дело и
находится в присутствии принцессы Микомиконы, опустился на колени перед
священником и сказал:
-- Ваше величество высокородная и достойная прославления сеньора,
отныне и впредь вы можете жить в полной безопасности, так как презренное это
существо уже не в состоянии нанести вам какого-либо зла; и я также с
сегодняшнего дня освободился от данного вам слова, потому что с помощию
всевышнего Бога и благодаря поддержке той, которою я живу и дышу, мне
удалось так хорошо исполнить свое обещание.
-- Не говорил ли и я то же самое? -- сказал Санчо, услыхав это. -- Ведь
я же не был пьян; посмотрите, не посолил ли уже впрок мой господин великана;
с быками все благополучно {Ciertosson los toros -- выражение, взятое из
corrida, т. е. боя быков; оно должно означать "сомневаться нечего", "дело
верное".}, и мое графство не уйдет от меня.
Кто мог бы удержаться от смеха при виде безумия обоих -- и господина и
слуги? Все смеялись, исключая хозяина двора, который посылал себя к черту.
Наконец цирюльник, Карденио и священник с немалым трудом добились того, что
уложили в постель Дон Кихота, а он тотчас и заснул с признаками величайшего
утомления. Они оставили его спать и вышли к дверям постоялого двора утешать
Санчо Пансу в том, что он не нашел головы великана, хотя еще большего труда
стоило им успокоить хозяина двора, который был в отчаянии от внезапной
гибели своих бурдюков, а хозяйка громко вопила:
-- В несчастную минуту и в недобрый час явился ко мне в дом этот
странствующий рыцарь. Желала бы я, чтобы никогда мои глаза не видели его,
который так дорого обошелся мне! В прошлый раз он уехал, не заплатив за
ночлег и ужин для него и для оруженосца, за солому и ячмень для лошади и для
осла, говоря, что он рыцарь -- искатель приключений, -- да пошлет бог
злоключения ему и всем искателям приключений, сколько бы их ни было на
свете! -- и он не обязан платить за что бы то ни было, так, будто бы, это
написано в правилах странствующего рыцарства. А теперь из-за него пришел вот
тот сеньор, унес у меня мой хвост и возвратил мне его общипанным, с убытком
больше чем на полреала, так как он уже не может служить для того, для чего
предназначает его мой муж; в заключение и дополнение всего у меня протыкают
бурдюки и проливают мое вино, хоть бы видеть мне пролитой его кровь! Но
пусть он себе не воображает -- клянусь прахом моего отца и душой моей
матери, -- на этот раз они заплатят мне все до последнего гроша, или же меня
не будут звать, как меня зовут, и я не буду дочерью того, чья я дочь.
Эти и тому подобные причитания хозяйка двора выкрикивала в величайшем
гневе, причем ей вторила добрая ее служанка Мариторнес. Хозяйская же дочь
молчала и только время от времени улыбалась. Священник водворил спокойствие,
обещав хозяевам уплатить, насколько может, за все их убытки, и за бурдюки, и
за вино, и в особенности за повреждение хвоста, который они так высоко
ценят. Доротеа утешила Санчо Пансу, сказав: лишь только подтвердится, что
его господин действительно отрубил голову великану, она, вступив в мирное
владение своим королевством, обещает дать ему лучшее из графств в ее
государстве. Санчо утешился этим и уговаривал принцессу не сомневаться в
том, что он действительно видел голову великана, и как дальнейшее
доказательство привел еще, что борода у него доходила до пояса; а если не
находят голову, то потому только, что все, совершающееся в этом доме,
происходит путем волшебства, как он в этом убедился прошлый раз, когда
останавливался здесь. Доротеа ответила, что и она так думает и пусть он не
тревожится, потому что все пойдет хорошо и устроится к полному его
удовольствию.
Когда все успокоились, священник пожелал дочитать повесть, так как он
видел, что там осталось немного. Карденио, Доротеа и все остальные просили
его докончить; и, чтобы доставить удовольствие им всем, а также и самому
себе, он продолжал читать рассказ, в котором говорилось следующее.
Вполне убедившись в добродетели Камиллы, Ансельмо с того времени повел
беззаботную и счастливую жизнь. Камилла намеренно встречала Лотарио с
суровым лицом, чтобы Ансельмо думал о ее чувстве к Лотарио противоположное
тому, что было в действительности, и, желая еще больше подкрепить его в этом
мнении, Лотарио просил разрешения не бывать у него в доме, так как
неудовольствие, доставляемое Камилле его посещениями, чересчур очевидно. Но
обманутый Ансельмо настоял, чтобы друг его не делал этого, и таким образом
он на тысячи ладов являлся творцом собственного своего бесчестия, воображая
при этом, что он создал свое счастие. Между тем нахальство Леонелы,
видевшей, что никто не мешает ее связи, выросло до того, что она, не обращая
ни на что внимания, дала полную волю своей страсти, уверенная, что ее
сеньора не только покроет ее, а даже и укажет ей средство, как с наибольшею
безопасностью приводить в исполнение ее любовные затеи. Наконец однажды
ночью Ансельмо услышал шаги в комнате Леонелы, и, когда он захотел войти,
чтобы посмотреть, кто там ходит, он почувствовал, что дверь держат; это
обстоятельство еще более усилило его решимость открыть дверь, и он так
сильно налег на нее, что она распахнулась, и в ту минуту, когда он вошел, он
увидел, что какой-то человек выпрыгнул из окна на улицу. Бросившись поспешно
за ним, чтобы настичь его или узнать, кто он такой, Ансельмо не мог сделать
ни того, ни другого, потому что Леонела ухватилась за него, говоря:
-- Успокойся, сеньор, не сердись и не преследуй того, кто выпрыгнул из
окна: это дело касается меня и даже очень близко, потому что это мой супруг.
Ансельмо не поверил ей и, ослепленный гневом, выхватил кинжал, угрожая
им Леонеле и требуя, чтобы она сказала ему всю истину, а если нет -- он
убьет ее. В страхе, сама не зная, что она говорит, Леонела воскликнула:
-- Не убивай меня, сеньор, я сообщу тебе вещи столь важные, что ты не
можешь и вообразить их себе.
-- Говори сейчас же, -- сказал Ансельмо, -- а нет, -- готовься умереть.
-- Сейчас мне это невозможно, -- ответила Леонела, -- я слишком
смущена; оставь меня до завтра: тогда ты услышишь от меня такие новости,
которые изумят тебя; и не сомневайся, что тот, кто выпрыгнул из окна, --
молодой человек здешнего города, давший мне слово жениться на мне.
Эти уверения успокоили Ансельмо, и он согласился ждать до срока, о
котором просила его Леонела, так как ему и в голову не приходило, что он
может услышать дурное о Камилле, будучи уверен и убежден в ее добродетели.
Итак, он вышел из комнаты и запер в ней Леонелу, говоря ей, что не выпустит
ее оттуда до тех пор, пока она не скажет ему все, что обещала сказать.
Тотчас же отправился он к Камилле, сообщить ей -- как он это и сделал -- все
то, что случилось с ее девушкой, и обещание, данное ею, рассказать ему
какие-то необычайно важные вещи. Смутилась ли Камилла или нет,-- говорить об
этом незачем; страх и ужас, охватившие ее, были так велики, что она,
уверенная (и не без основания) в том, что Леонела расскажет Ансельмо все, ей
известное об ее измене, не имела мужества выждать, окажется ли ее подозрение
верным или нет, и в ту же ночь -- лишь только увидела, что Ансельмо
заснул,-- собрала лучшие драгоценности, бывшие у нее, а также немного денег,
и никем не замеченная, ушла из дому и отправилась к Лотарио, которому
рассказала все, что случилось, умоляя его или укрыть ее в безопасном месте,
или же бежать с нею вдвоем туда, где бы гнев Ансельмо не мог их настигнуть.
Замешательство, в которое Камилла привела Лотарио, было так велико, что он
не мог ответить ей ни слова и еще менее сообразить, на что ему решиться.
Наконец он предложил Камилле отвезти ее в монастырь, в котором сестра его
была игуменьей. Камилла согласилась, и с поспешностью, требуемой
обстоятельствами, Лотарио отвез ее туда и оставил в монастыре, сам же тотчас
же покинул город, не сообщив никому о своем отъезде.
Когда рассвело, Ансельмо, не заметив, что Камиллы нет около него,
побуждаемый желанием узнать, что ему скажет Леонела, встал и пошел туда, где
он ее запер. Открыв дверь, он вошел в комнату, но уже не нашел в ней
Леонелы, а увидел за окном лишь несколько связанных вместе простынь --
доказательство и знак того, что она спустилась по ним из окна и убежала.
Тотчас же он, сильно раздосадованный, вернулся сообщить об этом Камилле, но,
не найдя ее ни в постели, ни во всем доме, был страшно поражен. Он спросил о
ней домашнюю прислугу, однако никто не мог сообщить ему что-либо на его
расспросы. Случайно, в то время как он искал Камиллу, он увидел, что сундуки
ее раскрыты и там не хватает большей части ее драгоценностей. Тут он
окончательно понял свое несчастие и что не Леонела была тому причиной; и
тогда он, так и не кончив одеваться, печальный и задумчивый, поспешил к
другу своему Лотарио, чтобы сообщить ему о своем несчастии. Но когда он его
не застал, а прислуга сказала ему, что Лотарио в эту ночь скрылся из дому,
взяв с собой все свои деньги, он чуть не сошел с ума. В довершение всего,
когда он вернулся домой, он не нашел здесь никого из всех своих слуг и
служанок, дом его стоял пустой и покинутый. Он не знал, что думать, что
говорить, что делать, и мало-помалу ум у него стал мутиться. Размышляя, он
увидел себя, лишенного в одно мгновение жены, друга и слуг, покинутого, как
ему казалось, небом, расстилавшимся над ним, а главное, лишенного чести,
потому что в бегстве Камиллы он видел свою гибель. Наконец долгое время
спустя он решил ехать в деревню к приятелю, у которого он жил, когда сам
подал тот повод, от которого и возникло все его несчастие. Заперев двери
своего дома, он сел верхом на лошадь и со стесненным сердцем пустился в
путь; но едва проехал полдороги, как, подавленный своими мыслями, он был
вынужден сойти с лошади и привязав ее к дереву, упал у ствола его на землю,
испуская горькие и жалобные стоны. Здесь он пролежал почти до наступления
ночи, когда увидел человека, едущего верхом из города. Поклонившись ему, он
спросил: какие новости во Флоренции? Горожанин ответил:
-- Самые что ни на есть странные, каких уже давно не было слышно,
потому что везде рассказывают, будто Лотарио, -- этот столь преданный друг
Ансельмо-богатого, который жил близ Сан-Хуана, -- увез этою ночью Камиллу,
жену Ансельмо, и сам Ансельмо тоже исчез. Все это узнали от горничной
Камиллы, задержанной сегодня ночью по приказанию губернатора, когда она
спускалась на простынях из окна в доме Ансельмо. Не могу вам в точности
передать, как все это случилось, знаю только, что весь город поражен этим
событием, потому что никто не мог ожидать подобного поступка от столь нежной
и задушевной дружбы этих двух молодых людей, -- дружбы, бывшей, как говорят,
такой необычайной, что Лотарио и Ансельмо не звали иначе, как только два
друга.
-- Знают ли, быть может -- спросил Ансельмо, -- по какой дороге бежали
Камилла и Лотарио?
-- Ничего не знают, -- ответил горожанин, -- хотя губернатор и принял
все меры, чтобы разыскать их.
-- Поезжайте с богом, сеньор, -- пожелал Ансельмо.
-- Оставайтесь с ним, -- ответил горожанин и поехал своей дорогой.
Эти ужасные новости довели Ансельмо до такого состояния, что он не
только чуть не сошел с ума, ной едва не покончил с собой. Наконец он
поднялся с трудом и добрался до дому своего приятеля, который еще ничего не
знал о его несчастье. Но когда он увидел его, такого бледного, изможденного,
изменившегося в лице,-- он понял, что какое-то страшное горе угнетает его.
Ансельмо пожелал тотчас же лечь в постель и попросил дать ему письменные
принадлежности. Так и сделали, оставив его в постели одного, потому что он
этого хотел, а также он желал, чтобы заперли двери. Когда он остался один,
мысль о его несчастии до того мучительно овладела всем его существом, что он
не устоял против своего горя и ясно понял: наступает конец его жизни. Итак,
он решил дать отчет о причине своей странной смерти и начал писать, но,
прежде чем он успел докончить изложение того, что хотел, дыхание его
прервалось, и он погиб жертвой горя, причиненного ему его безрассудным
любопытством. Когда хозяин дома увидел, что уже поздно, а Ансельмо все еще
никого не зовет, он решился войти к нему узнать, не сделалось ли ему хуже, и
нашел его лежащего ничком, -- одна половина тела в постели, а другая на
письменном столе, на котором находился также и открытый, исписанный лист
бумаги, а в руке он еще держал перо. Хозяин подошел к нему, окликнул его,
взял за руку, но, видя, что он не отвечает и уже холодный, понял, что он
умер. Изумленный и крайне огорченный, он позвал своих слуг, чтобы сообщить
им о несчастье, постигшем Ансельмо, и, наконец, он прочел бумагу, которая,
как он признал, была написана рукой Ансельмо, а в ней заключалось следующее:
"Глупое и безрассудное желание отняло у меня жизнь. Если известие о
моей смерти дойдет до слуха Камиллы, пусть она знает, что я простил ей,
потому что она не была обязана делать чудеса и я не должен был требовать от
нее, чтобы она их делала. А так как я сам виновник своего бесчестия, то нет
причин, чтобы..."
На этом месте обрывалось письмо Ансельмо, из чего можно было заключить,
что не успел он кончить своей фразы, как уже кончилась жизнь его. На
следующий день приятель Ансельмо уведомил о его смерти родственников его,
которые уже знали о несчастье, случившемся с ним, и о том, в каком монастыре
скрывается Камилла. Она чуть было не последовала за своим супругом в этом
для всех неизбежном путешествии не вследствие известия о его смерти, а
вследствие того, что она узнала о своем отсутствующем друге. Говорят, что
хотя она и овдовела, но не хотела покинуть монастырь, а еще менее --
постричься в монахини, пока (спустя короткое время) не получила известия о
том, что Ло-тарио убит в сражении, данном маршалом Лотреком великому
капитану Гонса-ло Фернандесу Кордовскому в королевстве Неаполитанском, куда
отправился поздно раскаявшийся друг Ансельмо. Как только Камилла узнала об
этом, она
постриглась и вскоре затем рассталась с жизнью под жестоким гнетом
печали и горя. Таков был конец всех их, проистекший из столь безрассудного
начала.
-- Мне нравится эта повесть, -- сказал священник, -- но я не могу
убедить себя, чтоб это была правда; если же это вымысел, автор неудачно его
придумал, так как нельзя себе представить, чтобы нашелся столь глупый муж,
который захотел бы сделать такой опасный опыт, какой сделал Ансельмо. Гели
бы случай этот произошел между любовником и его дамой, -- это можно было бы
еще допустить; но между мужем и женой, -- тут есть нечто едва ли возможное;
что же касается изложения рассказа, я его нахожу удовлетворительным.
Оставалось дочитать еще немного в повести, как вдруг из каморки, в
которой покоился Дон Кихот, выбежал страшно оторопевший Санчо Панса и громко
закричал:
-- Скорей, сеньоры, бегите и помогите моему господину, вступившему в
самую сильную и ожесточенную битву, которую когда-либо видели мои глаза!
Клянусь Богом, он нанес такой удар мечом великану, врагу сеньоры принцессы
Микомиконы, что отрезал ему голову от туловища чисто-начисто, как репу.
-- Что вы говорите, брат, -- сказал священник, оставив недочитанным
конец повести, -- в уме ли вы, Санчо? Как могло случиться, черт возьми, то,
что вы говорите, когда великан отсюда за две тысячи миль?
Но в эту минуту они услышали сильный шум в комнате и крик Дон Кихота:
-- Стой, вор, злодей, трус! Теперь ты не уйдешь из моих рук, и твой
палаш не поможет тебе.
И казалось, Дон Кихот наносил сильные удары мечом в стену.
-- Незачем вам тут стоять и слушать, -- сказал Санчо, -- а надо скорей
идти и разнять дерущихся или же помочь моему господину, хотя теперь этого и
не требуется, так как, без всякого сомнения, великан уже лежит мертвый и
дает теперь отчет Богу за прожитую им и дурную его жизнь, потому что я
видел, как текла кровь по полу, а отрезанная голова, упавшая в сторону, была
величиной с большой бурдюк вина.
-- Пусть меня убьют, -- сказал тогда хозяин постоялого двора, -- если
Дон Кихот или дон Черт не проткнул один из бурдюков с красным вином, которые
стояли у изголовья его кровати, а разлитое вино, должно быть, показалось
кровью этому доброму человеку.
Тотчас же бросился он в комнату, а за ним и все остальные. Здесь они
увидели Дон Кихота в самом странном в мире наряде. На нем была одна лишь
рубашка не столь широкая спереди, чтобы вполне прикрыть ему бедра, сзади же
еще на шесть дюймов короче. Ноги его были длинные, худые, волосатые и не
весьма чистые; на голове виднелась красная грязная шапочка, принадлежавшая
хозяину двора. Вокруг левой руки было обвернуто одеяло, против которого
Санчо питал злобу, и он хорошо знал, почему {Это было то одеяло, в котором
подбрасывали Санчо вверх, как рассказано в главе XVII.}, а в правой руке он
держал обнаженные меч, которым наносил удары во все стороны, сопровождая их
восклицаниями как будто он и в самом деле сражался с каким-нибудь великаном.
Но лучше всего то, что глаза его были закрыты, так как он спал, и ему
снилось, что он вступил в битву с великаном. Его воображение было так упорно
устремлено на приключение, которое он собирался довести до конца, что ему
приснилось, будто он уже прибыл в королевство Микомикон и вступил в битву со
своим врагом; и он нанес столько ударов бурдюкам, в мыслях своих нанося их
великану, что вся комната была залита вином. Увидав это, хозяин двора пришел
в величайшую ярость бросился на Дон Кихота со сжатыми кулаками и начал так
его бить, что, если бы Карденио и священник не удержали его сражение с
великаном тут же бы окончилось. Тем не менее бедный рыцарь проснулся лишь
тогда, когда цирюльник принес из колодца большой котелок холодной воды и
окатил его сразу с головы до ног, а это хотя и разбудило Дон Кихота, но он
не очувствовался еще настолько, чтобы сообразить, в каком он виде. Заметив,
как он легко и скудно одет, Доротеа не захотела войти смотреть на битву
своего защитника с ее врагом. А Санчо между тем отыскивал голову великана по
всему полу и, не найдя ее, сказал:
-- Я уже знаю, что все в этом доме очаровано, потому что в прошлый раз
на этом самом месте, где я теперь стою, мне надавали множество пинков и
ударов, и я не знал, кто дает их мне, и никого не видел; теперь же не могу
найти головы, хотя и видел собственными глазами, как она была отрублена и
кровь текла из тела, точно из фонтана.
-- О какой крови и о каком фонтане говоришь ты, враг Бога и его святых?
-- воскликнул хозяин двора. -- Разве ты не видишь, вор, что эта кровь и этот
фонтан -- не что иное, как прорванные бурдюки и красное вино, затопившее
комнату? Желал бы я видеть плывущей в ад душу того, кто проткнул мои
бурдюки!
-- Ничего не знаю, -- ответил Санчо, -- знаю только: я буду так
несчастлив, если не найду этой головы, что мое графство растает, как соль в
воде.
И Санчо, бодрствующий, был хуже своего господина спящего, -- так сильно
овладели им обещания, данные ему Дон Кихотом. Хозяин двора пришел в ярость
при виде хладнокровия оруженосца и беды, натворенной его господином, и
клялся: не быть уже тому, что случилось в прошлый раз, когда они уехали,
ничего не заплатив; теперь никакие привилегии их рыцарства не избавят их от
уплаты за все, что они должны, и даже за то, что могут стоить пластыри,
которые придется наложить на прорванные бурдюки. Священник держал за руки
Дон Кихота, который, думая, что он уже завершил взятое им на себя дело и
находится в присутствии принцессы Микомиконы, опустился на колени перед
священником и сказал:
-- Ваше величество высокородная и достойная прославления сеньора,
отныне и впредь вы можете жить в полной безопасности, так как презренное это
существо уже не в состоянии нанести вам какого-либо зла; и я также с
сегодняшнего дня освободился от данного вам слова, потому что с помощию
всевышнего Бога и благодаря поддержке той, которою я живу и дышу, мне
удалось так хорошо исполнить свое обещание.
-- Не говорил ли и я то же самое? -- сказал Санчо, услыхав это. -- Ведь
я же не был пьян; посмотрите, не посолил ли уже впрок мой господин великана;
с быками все благополучно {Ciertosson los toros -- выражение, взятое из
corrida, т. е. боя быков; оно должно означать "сомневаться нечего", "дело
верное".}, и мое графство не уйдет от меня.
Кто мог бы удержаться от смеха при виде безумия обоих -- и господина и
слуги? Все смеялись, исключая хозяина двора, который посылал себя к черту.
Наконец цирюльник, Карденио и священник с немалым трудом добились того, что
уложили в постель Дон Кихота, а он тотчас и заснул с признаками величайшего
утомления. Они оставили его спать и вышли к дверям постоялого двора утешать
Санчо Пансу в том, что он не нашел головы великана, хотя еще большего труда
стоило им успокоить хозяина двора, который был в отчаянии от внезапной
гибели своих бурдюков, а хозяйка громко вопила:
-- В несчастную минуту и в недобрый час явился ко мне в дом этот
странствующий рыцарь. Желала бы я, чтобы никогда мои глаза не видели его,
который так дорого обошелся мне! В прошлый раз он уехал, не заплатив за
ночлег и ужин для него и для оруженосца, за солому и ячмень для лошади и для
осла, говоря, что он рыцарь -- искатель приключений, -- да пошлет бог
злоключения ему и всем искателям приключений, сколько бы их ни было на
свете! -- и он не обязан платить за что бы то ни было, так, будто бы, это
написано в правилах странствующего рыцарства. А теперь из-за него пришел вот
тот сеньор, унес у меня мой хвост и возвратил мне его общипанным, с убытком
больше чем на полреала, так как он уже не может служить для того, для чего
предназначает его мой муж; в заключение и дополнение всего у меня протыкают
бурдюки и проливают мое вино, хоть бы видеть мне пролитой его кровь! Но
пусть он себе не воображает -- клянусь прахом моего отца и душой моей
матери, -- на этот раз они заплатят мне все до последнего гроша, или же меня
не будут звать, как меня зовут, и я не буду дочерью того, чья я дочь.
Эти и тому подобные причитания хозяйка двора выкрикивала в величайшем
гневе, причем ей вторила добрая ее служанка Мариторнес. Хозяйская же дочь
молчала и только время от времени улыбалась. Священник водворил спокойствие,
обещав хозяевам уплатить, насколько может, за все их убытки, и за бурдюки, и
за вино, и в особенности за повреждение хвоста, который они так высоко
ценят. Доротеа утешила Санчо Пансу, сказав: лишь только подтвердится, что
его господин действительно отрубил голову великану, она, вступив в мирное
владение своим королевством, обещает дать ему лучшее из графств в ее
государстве. Санчо утешился этим и уговаривал принцессу не сомневаться в
том, что он действительно видел голову великана, и как дальнейшее
доказательство привел еще, что борода у него доходила до пояса; а если не
находят голову, то потому только, что все, совершающееся в этом доме,
происходит путем волшебства, как он в этом убедился прошлый раз, когда
останавливался здесь. Доротеа ответила, что и она так думает и пусть он не
тревожится, потому что все пойдет хорошо и устроится к полному его
удовольствию.
Когда все успокоились, священник пожелал дочитать повесть, так как он
видел, что там осталось немного. Карденио, Доротеа и все остальные просили
его докончить; и, чтобы доставить удовольствие им всем, а также и самому
себе, он продолжал читать рассказ, в котором говорилось следующее.
Вполне убедившись в добродетели Камиллы, Ансельмо с того времени повел
беззаботную и счастливую жизнь. Камилла намеренно встречала Лотарио с
суровым лицом, чтобы Ансельмо думал о ее чувстве к Лотарио противоположное
тому, что было в действительности, и, желая еще больше подкрепить его в этом
мнении, Лотарио просил разрешения не бывать у него в доме, так как
неудовольствие, доставляемое Камилле его посещениями, чересчур очевидно. Но
обманутый Ансельмо настоял, чтобы друг его не делал этого, и таким образом
он на тысячи ладов являлся творцом собственного своего бесчестия, воображая
при этом, что он создал свое счастие. Между тем нахальство Леонелы,
видевшей, что никто не мешает ее связи, выросло до того, что она, не обращая
ни на что внимания, дала полную волю своей страсти, уверенная, что ее
сеньора не только покроет ее, а даже и укажет ей средство, как с наибольшею
безопасностью приводить в исполнение ее любовные затеи. Наконец однажды
ночью Ансельмо услышал шаги в комнате Леонелы, и, когда он захотел войти,
чтобы посмотреть, кто там ходит, он почувствовал, что дверь держат; это
обстоятельство еще более усилило его решимость открыть дверь, и он так
сильно налег на нее, что она распахнулась, и в ту минуту, когда он вошел, он
увидел, что какой-то человек выпрыгнул из окна на улицу. Бросившись поспешно
за ним, чтобы настичь его или узнать, кто он такой, Ансельмо не мог сделать
ни того, ни другого, потому что Леонела ухватилась за него, говоря:
-- Успокойся, сеньор, не сердись и не преследуй того, кто выпрыгнул из
окна: это дело касается меня и даже очень близко, потому что это мой супруг.
Ансельмо не поверил ей и, ослепленный гневом, выхватил кинжал, угрожая
им Леонеле и требуя, чтобы она сказала ему всю истину, а если нет -- он
убьет ее. В страхе, сама не зная, что она говорит, Леонела воскликнула:
-- Не убивай меня, сеньор, я сообщу тебе вещи столь важные, что ты не
можешь и вообразить их себе.
-- Говори сейчас же, -- сказал Ансельмо, -- а нет, -- готовься умереть.
-- Сейчас мне это невозможно, -- ответила Леонела, -- я слишком
смущена; оставь меня до завтра: тогда ты услышишь от меня такие новости,
которые изумят тебя; и не сомневайся, что тот, кто выпрыгнул из окна, --
молодой человек здешнего города, давший мне слово жениться на мне.
Эти уверения успокоили Ансельмо, и он согласился ждать до срока, о
котором просила его Леонела, так как ему и в голову не приходило, что он
может услышать дурное о Камилле, будучи уверен и убежден в ее добродетели.
Итак, он вышел из комнаты и запер в ней Леонелу, говоря ей, что не выпустит
ее оттуда до тех пор, пока она не скажет ему все, что обещала сказать.
Тотчас же отправился он к Камилле, сообщить ей -- как он это и сделал -- все
то, что случилось с ее девушкой, и обещание, данное ею, рассказать ему
какие-то необычайно важные вещи. Смутилась ли Камилла или нет,-- говорить об
этом незачем; страх и ужас, охватившие ее, были так велики, что она,
уверенная (и не без основания) в том, что Леонела расскажет Ансельмо все, ей
известное об ее измене, не имела мужества выждать, окажется ли ее подозрение
верным или нет, и в ту же ночь -- лишь только увидела, что Ансельмо
заснул,-- собрала лучшие драгоценности, бывшие у нее, а также немного денег,
и никем не замеченная, ушла из дому и отправилась к Лотарио, которому
рассказала все, что случилось, умоляя его или укрыть ее в безопасном месте,
или же бежать с нею вдвоем туда, где бы гнев Ансельмо не мог их настигнуть.
Замешательство, в которое Камилла привела Лотарио, было так велико, что он
не мог ответить ей ни слова и еще менее сообразить, на что ему решиться.
Наконец он предложил Камилле отвезти ее в монастырь, в котором сестра его
была игуменьей. Камилла согласилась, и с поспешностью, требуемой
обстоятельствами, Лотарио отвез ее туда и оставил в монастыре, сам же тотчас
же покинул город, не сообщив никому о своем отъезде.
Когда рассвело, Ансельмо, не заметив, что Камиллы нет около него,
побуждаемый желанием узнать, что ему скажет Леонела, встал и пошел туда, где
он ее запер. Открыв дверь, он вошел в комнату, но уже не нашел в ней
Леонелы, а увидел за окном лишь несколько связанных вместе простынь --
доказательство и знак того, что она спустилась по ним из окна и убежала.
Тотчас же он, сильно раздосадованный, вернулся сообщить об этом Камилле, но,
не найдя ее ни в постели, ни во всем доме, был страшно поражен. Он спросил о
ней домашнюю прислугу, однако никто не мог сообщить ему что-либо на его
расспросы. Случайно, в то время как он искал Камиллу, он увидел, что сундуки
ее раскрыты и там не хватает большей части ее драгоценностей. Тут он
окончательно понял свое несчастие и что не Леонела была тому причиной; и
тогда он, так и не кончив одеваться, печальный и задумчивый, поспешил к
другу своему Лотарио, чтобы сообщить ему о своем несчастии. Но когда он его
не застал, а прислуга сказала ему, что Лотарио в эту ночь скрылся из дому,
взяв с собой все свои деньги, он чуть не сошел с ума. В довершение всего,
когда он вернулся домой, он не нашел здесь никого из всех своих слуг и
служанок, дом его стоял пустой и покинутый. Он не знал, что думать, что
говорить, что делать, и мало-помалу ум у него стал мутиться. Размышляя, он
увидел себя, лишенного в одно мгновение жены, друга и слуг, покинутого, как
ему казалось, небом, расстилавшимся над ним, а главное, лишенного чести,
потому что в бегстве Камиллы он видел свою гибель. Наконец долгое время
спустя он решил ехать в деревню к приятелю, у которого он жил, когда сам
подал тот повод, от которого и возникло все его несчастие. Заперев двери
своего дома, он сел верхом на лошадь и со стесненным сердцем пустился в
путь; но едва проехал полдороги, как, подавленный своими мыслями, он был
вынужден сойти с лошади и привязав ее к дереву, упал у ствола его на землю,
испуская горькие и жалобные стоны. Здесь он пролежал почти до наступления
ночи, когда увидел человека, едущего верхом из города. Поклонившись ему, он
спросил: какие новости во Флоренции? Горожанин ответил:
-- Самые что ни на есть странные, каких уже давно не было слышно,
потому что везде рассказывают, будто Лотарио, -- этот столь преданный друг
Ансельмо-богатого, который жил близ Сан-Хуана, -- увез этою ночью Камиллу,
жену Ансельмо, и сам Ансельмо тоже исчез. Все это узнали от горничной
Камиллы, задержанной сегодня ночью по приказанию губернатора, когда она
спускалась на простынях из окна в доме Ансельмо. Не могу вам в точности
передать, как все это случилось, знаю только, что весь город поражен этим
событием, потому что никто не мог ожидать подобного поступка от столь нежной
и задушевной дружбы этих двух молодых людей, -- дружбы, бывшей, как говорят,
такой необычайной, что Лотарио и Ансельмо не звали иначе, как только два
друга.
-- Знают ли, быть может -- спросил Ансельмо, -- по какой дороге бежали
Камилла и Лотарио?
-- Ничего не знают, -- ответил горожанин, -- хотя губернатор и принял
все меры, чтобы разыскать их.
-- Поезжайте с богом, сеньор, -- пожелал Ансельмо.
-- Оставайтесь с ним, -- ответил горожанин и поехал своей дорогой.
Эти ужасные новости довели Ансельмо до такого состояния, что он не
только чуть не сошел с ума, ной едва не покончил с собой. Наконец он
поднялся с трудом и добрался до дому своего приятеля, который еще ничего не
знал о его несчастье. Но когда он увидел его, такого бледного, изможденного,
изменившегося в лице,-- он понял, что какое-то страшное горе угнетает его.
Ансельмо пожелал тотчас же лечь в постель и попросил дать ему письменные
принадлежности. Так и сделали, оставив его в постели одного, потому что он
этого хотел, а также он желал, чтобы заперли двери. Когда он остался один,
мысль о его несчастии до того мучительно овладела всем его существом, что он
не устоял против своего горя и ясно понял: наступает конец его жизни. Итак,
он решил дать отчет о причине своей странной смерти и начал писать, но,
прежде чем он успел докончить изложение того, что хотел, дыхание его
прервалось, и он погиб жертвой горя, причиненного ему его безрассудным
любопытством. Когда хозяин дома увидел, что уже поздно, а Ансельмо все еще
никого не зовет, он решился войти к нему узнать, не сделалось ли ему хуже, и
нашел его лежащего ничком, -- одна половина тела в постели, а другая на
письменном столе, на котором находился также и открытый, исписанный лист
бумаги, а в руке он еще держал перо. Хозяин подошел к нему, окликнул его,
взял за руку, но, видя, что он не отвечает и уже холодный, понял, что он
умер. Изумленный и крайне огорченный, он позвал своих слуг, чтобы сообщить
им о несчастье, постигшем Ансельмо, и, наконец, он прочел бумагу, которая,
как он признал, была написана рукой Ансельмо, а в ней заключалось следующее:
"Глупое и безрассудное желание отняло у меня жизнь. Если известие о
моей смерти дойдет до слуха Камиллы, пусть она знает, что я простил ей,
потому что она не была обязана делать чудеса и я не должен был требовать от
нее, чтобы она их делала. А так как я сам виновник своего бесчестия, то нет
причин, чтобы..."
На этом месте обрывалось письмо Ансельмо, из чего можно было заключить,
что не успел он кончить своей фразы, как уже кончилась жизнь его. На
следующий день приятель Ансельмо уведомил о его смерти родственников его,
которые уже знали о несчастье, случившемся с ним, и о том, в каком монастыре
скрывается Камилла. Она чуть было не последовала за своим супругом в этом
для всех неизбежном путешествии не вследствие известия о его смерти, а
вследствие того, что она узнала о своем отсутствующем друге. Говорят, что
хотя она и овдовела, но не хотела покинуть монастырь, а еще менее --
постричься в монахини, пока (спустя короткое время) не получила известия о
том, что Ло-тарио убит в сражении, данном маршалом Лотреком великому
капитану Гонса-ло Фернандесу Кордовскому в королевстве Неаполитанском, куда
отправился поздно раскаявшийся друг Ансельмо. Как только Камилла узнала об
этом, она
постриглась и вскоре затем рассталась с жизнью под жестоким гнетом
печали и горя. Таков был конец всех их, проистекший из столь безрассудного
начала.
-- Мне нравится эта повесть, -- сказал священник, -- но я не могу
убедить себя, чтоб это была правда; если же это вымысел, автор неудачно его
придумал, так как нельзя себе представить, чтобы нашелся столь глупый муж,
который захотел бы сделать такой опасный опыт, какой сделал Ансельмо. Гели
бы случай этот произошел между любовником и его дамой, -- это можно было бы
еще допустить; но между мужем и женой, -- тут есть нечто едва ли возможное;
что же касается изложения рассказа, я его нахожу удовлетворительным.

Глава XXXVI, в которой рассказывается о других редкостных событиях,
случившихся на постоялом дворе
 В это время хозяин, стоявший у дверей постоялого двора, сказал:
-- Вот подъезжает компания отборных гостей; если они остановятся здесь,
gaudeamus tenemus {Будем радоваться (лат.).}.
-- Что это за люди? -- спросил Карденио.
-- Четверо верховых, -- ответил хозяин, -- и едут они на коротких
стременах, с копьями и щитами в руках, и все с черными масками на лицах {В
те времена, путешествуя, мужчины и женщины носили обыкновенно маски из
тонкой и шелковой материи для защиты лица от солнца, пыли и ветра.}, а среди
них -- женщина, вся в белом, на дамском седле, тоже с маской на лице, и еще
двое пеших слуг.
-- Они очень близко? -- спросил священник.
-- Так близко, -- ответил хозяин,-- что уже подъезжают.
Услыхав это, Доротеа закрыла себе лицо, а Карденио ушел в комнату Дон
Кихота, и едва они успели это сделать, как к постоялому двору подъехали те,
о которых говорил хозяин. Четверо всадников, с виду стройные и изящные,
спешились и подошли к даме, чтобы снять ее с седла; а один из них, взяв ее
на руки, посадил на стул, стоявший у входа в комнату Дон Кихота, куда
скрылся Карденио. Во все это время ни сеньора и никто из ее спутников не
сняли с себя масок и не произнесли ни слова; только, садясь на стул, женщина
испустила глубокий вздох и уронила руки, как больной и теряющий сознание
человек. Между тем слуги отвели лошадей в конюшню. Увидав это, священник,
желая знать, какие это явились люди в такой одежде и столь молчаливые, пошел
вслед за слугами и спросил одного из них о том, что ему хотелось знать.
Слуга ответил:
-- По чести, сеньор, я не сумею вам сказать, что это за люди. Знаю
только, что они, по-видимому, знатные сеньоры, и в особенности тот, который
снял с лошади даму. Говорю это потому, что все остальные относятся к нему с
уважением и делают все, что он желает и приказывает.
-- А сеньора? Кто она такая?-- спросил священник.
-- И этого не могу вам сказать,-- ответил слуга, -- потому что всю
дорогу я не видел ее лица; хотя слышал много раз, как глубоко она вздыхала и
издавала такие стоны, что казалось, с каждым из них она готова испустить
дух. Неудивительно, если мы не знаем больше того, что я сейчас вам сказал,
так как мой товарищ и я, мы не более двух дней сопровождаем этих господ:
когда мы встретили их по дороге, они попросили и уговорили нас идти с ними
до Андалу-зии, предложив хорошо нам заплатить.
-- Слышали ли вы, как зовут кого-нибудь из них? -- спросил священник.
-- Нет, не слышали, -- ответил слуга, -- так как все они едут столь
молчаливо, что это просто удивление, и раздаются только лишь вздохи и
всхлипывания бедной сеньоры, возбуждающие в нас жалость, и мы твердо
уверены, что куда бы ее ни везли, ее везут насильно. Насколько можно судить
по ее одежде, она монахиня или скоро сделается ею,-- последнее еще
вероятнее. Быть может, именно потому, что ей против воли приходится идти в
монастырь, она и едет такая грустная и печальная.
-- Все может быть, -- сказал священник и, оставив их, вернулся туда,
где была Доротеа, которая, услыхав, что
дама в маске вздыхает, движимая врожденным ей состраданием, подошла к
ней и сказала:
-- Что с вами, сеньора моя? Что болит у вас? Может быть, это нечто
такое, что женщины привыкли и умеют облегчать; в таком случае от всей души
предлагаю вам мои услуги.
На эти слова огорченная сеньора ответила молчанием и, хотя Доротеа еще
настойчивее возобновила предложение своих услуг, дама тем не менее
продолжала безмолвствовать, пока наконец замаскированный кабальеро -- тот, о
котором слуга говорил, что все остальные повинуются ему, -- не подошел и не
сказал Доротее:
-- Не трудитесь, сеньора, предлагать что бы то ни было этой женщине,
так как не в ее обычаях быть благодарной за то, что для нее делают, и не
старайтесь добиться от нее ответа, если не желаете услышать из ее уст
какую-нибудь ложь.
-- Никогда я не говорила лжи, -- воскликнула в это мгновение та,
которая до тех пор молчала, -- напротив, оттого что я всегда была правдива и
чужда лживых уверток, я и навлекла на себя столь великое мое не счастие.
Призываю вас самих свидетельствовать об этом, потому что именно моя
искренняя правдивость делает вас вероломным и лжецом.
Карденио ясно и отчетливо услышал эти слова, находясь вблизи той,
которая их произнесла, потому что его отделяла от нее лишь дверь комнаты Дон
Кихота, и, как только он услышал эти слова, он громко вскрикнул:
-- Помоги мне боже! Что я слышу? Чей голос дошел до моего слуха?
При этом восклицании сеньора в маске вздрогнула, повернула голову и, не
видя, кто говорит, встала, направляясь в соседнюю комнату. Но заметив этого,
ее спутник остановил ее и не дал ей сделать ни шагу. От волнения и
внезапного движения маска из тафты упала с ее лица и обнаружила изумительную
и необычайную красоту его, хотя оно было бледное и выражало испуг, так как,
словно что-то отыскивая, глаза ее обращались во все стороны с такою
стремительностью, которая придавала ей вид сумасшедшей. Эти проявления горя
вызвали у Доротеи и всех, кто смотрел на нее, величайшую к ней жалость, хотя
никто и не знал причины столь странного ее поведения. Ее спутник крепко
схватил ее за плечи и был так занят этим делом, что не мог удержать маску из
тафты, падавшую с его лица, и она действительно упала. Доротеа, обнимавшая
сеньору, увидела, подняв глаза, что тот, который тоже ее держит в своих
объятиях, был ее супруг -- дон Фернандо. Едва она узнала его, как из самой
глубины ее груди вырвался продолжительный и жалостный стон, она упала
навзничь, лишившись чувств, а если б около нее не оказался цирюльник,
подхвативший ее на руки, она грохнулась бы на пол. Тотчас же бросился к ней
священник и снял с нее вуаль, чтобы обрызгать ее водой, а лишь только он
открыл ей лицо, дон Фернандо -- потому что это он держал за плечи ту другую
-- узнал Доротею и словно обмер. Тем не менее он не выпустил из рук Люсинды,
которая старалась вырваться из его объятий, узнав по голосу Карденио, как и
он узнал ее по голосу. Услыхав стон Доротеи, когда она упала в обморок,
Карденио, думая, что это Люсинда, выбежал в испуге из комнаты Дон Кихота, и
первое, что он увидел, был дон Фернандо, державший в объятиях Люсинду Дон
Фернандо тотчас же узнал Карденио, и все трое -- Люсинда, Карденио и Доротеа
-- стояли в безмолвном изумлении, почти не понимая, что с ними случилось.
Все они молчали и смотрели друг на друга: Доротеа на дона Фернандо, дон
Фернандо на Карденио, Карденио на Люсинду, Люсинда на Карденио. Первая,
прервавшая общее молчание, была Люсинда, которая обратилась к дону Фернандо
со следующими словами:
-- Оставьте меня, сеньор дон Фернандо, хотя бы только из чувства
собственного достоинства, если не по другим причинам, и дайте мне прильнуть
к ограде, для которой я плющ, к опоре, от которой ни ваша докучливость, ни
угрозы, ни обещания, ни подарки не могли оторвать меня. Вы видите теперь,
какими неожиданными и для нас таинственными путями небо привело меня к моему
истинному супругу, и вам хорошо известно ценой тысячи тяжелых испытаний, что
только одна смерть в состоянии изгладить его из моей памяти. Пусть же столь
громогласное объяснение мое превратит (если вы ни на что другое не способны)
вашу любовь ко мне в бешенство и расположение ваше -- в гнев. Отнимите у
меня жизнь, так как, потеряв ее на глазах моего дорогого супруга, я буду
считать, что прожила недаром. Быть может, смерть моя убедит его в том, что я
сохранила ему верность до последнего трепетания жизни.
Между тем Доротеа очнулась от своего обморока и слышала все, что
говорила Люсинда, из слов которой она узнала, кто она такая.
Но, видя, что дон Фернандо не выпускает Люсинду из своих объятий и не
отвечает на ее просьбу, она собрала все свои силы, встала и, опустившись на
колени перед доном Фернандо, проливая ручьи горьких и очаровательных слез,
заговорила таким образом:
-- Если, сеньор мой, лучи этого омраченного солнца, которое ты держишь
в своих объятиях, не ослепили и не затмили твои глаза, ты увидел уже теперь,
что перед тобой на коленях стоит несчастная, пока тебе это будет угодно, и
горестная Доротеа. Я -- та смиренная крестьянка, которую ты по своей доброте
или же из прихоти захотел поднять на такую высоту, чтобы она могла назваться
твоей. Я та, которая, огражденная пределами невинности, вела счастливую
жизнь, пока на призыв твоего неотступного ухаживания и твоей, казалось,
искренней и сильной страсти не раскрыла дверей своего уединения и не
передала тебе ключей от своей свободы -- дар, принятый тобой со столь малой
признательностью, ясным доказательством чему служит то, что я была вынуждена
очутиться здесь, в этом месте, где тебе пришлось встретиться со мной, а мне
увидеть тебя в том положении, в каком я тебя вижу. Но тем не менее я не
желала бы, чтоб ты вообразил, будто я пришла сюда путем моего бесчестия, так
как привели меня сюда только горе и скорбь о том, что я забыта тобой. Ты
желал, чтоб я была твоей, и желал это так рьяно, что, если б теперь ты и
захотел, чтоб этого не было, невозможно тебе перестать быть моим. Прими во
внимание, сеньор мой, что безграничная любовь моя к тебе может служить
вознаграждением за красоту и знатность той, ради которой ты покинул меня. Ты
не можешь принадлежать Люсинде, потому что ты мой, и она не может быть
твоей, потому что она принадлежит Карденио. Тебе -- подумай о том --
окажется легче принудить себя полюбить ту, которая тебя боготворит, чем
заставить ту, которая тебя ненавидит, полюбить тебя. Ты воспользовался моею
опрометчивостью, ввел в искушение мою добродетель, мое происхождение было
небезызвестно тебе, и ты хорошо знаешь, как уступила я твоим желаниям; нет
ни причины, ни повода ссылаться тебе на какой-либо обман; и раз это так, как
оно и есть, и ты христианин и рыцарь, зачем же ты окольным путем стольких
уверток откладываешь довести до конца мое счастие, положив ему начало? И
если ты не хочешь, чтобы я была тем, что я есть, -- твоей истинной и
законной женой, -- по крайней мере, люби меня и возьми к себе рабыней; лишь
бы только быть в твоей власти -- и это я сочту за счастье и блаженство. Не
допускай, покинув и отказавшись от меня, чтоб на всех перекрестках говорили
и распространялись слухи о моем бесчестии; не уготовь такой печальной
старости моим родителям, -- это было бы плохой наградой за верную службу,
которую они, как добрые вассалы, всегда несли твоим родителям. И если тебе
кажется, что ты унизишь кровь свою, смешав ее с моею, подумай о том, как
мало или и вовсе нет знатных родов на свете, которые не шли бы тем же путем,
и не происхождение женщины принимается в рассечет в славных родах; тем более
что истинное благородство заключается в добродетели, и если ее не хватает у
тебя, раз ты отказываешь в том, что мне принадлежит по справедливости, у
меня окажется больше прав на благородство, чем у тебя. Наконец, сеньор,
скажу в заключение: желаешь ли ты или не желаешь, я твоя жена, свидетелями
чего слова твои, которые не должны и не могут быть лживы, если ты гордишься
тем, за что пренебрегаешь мною; свидетелями будут и подпись твоя, и небо,
которое ты сам призывал удостоверить данное тобою обещание. Но даже если б
все эти свидетели молчали, не молчала бы твоя совесть, голос которой, ни для
кого не слышный, раздавался бы громко среди веселий твоих, повторяя ту
истину, которую я сказала тебе, и нарушая лучшие твои удовольствия и
радости.
Эти и тому подобные доводы привела огорченная Доротеа с таким глубоким
чувством и с такими горькими слезами, что даже у спутников дона Фернандо,
как и у остальных присутствующих, навернулись слезы. Дон Фернандо слушал ее,
не отвечая ни слова, пока она не умолкла и не разразилась такими рыданиями и
вздохами, что нужно было бы иметь железное сердце, чтобы не тронуться
выражением такого горя. Люсинда смотрела на Доротею, чувствуя не менее
сострадания к ее несчастию, чем удивления ее умом и красотой. Ей хотелось
подойти к ней и сказать несколько слов утешения, но она не могла
освободиться из рук дона Фернандо, который все еще крепко держал ее. После
того как он довольно долго и пристально смотрел на Доротею, он, исполненный
смущения и раскаяния, раскрыл руки и, отпустив Люсинду, сказал:
-- Ты победила, прекрасная Доротеа, ты победила, так как невозможно,
чтобы у кого-нибудь хватило духа отрицать столько истин, подкрепляющих одна
другую!
В состоянии изнеможения, в котором находилась Люсинда, она чуть было не
упала, когда ее отпустил дон Фернандо, но Карденио, бывши вблизи, так как он
стоял за плечами дона Фернандо, чтобы тот не видел его, отбросив всякий
страх и готовый на всякую опасность, кинулся к Люсинде, чтобы поддержать ее,
и, приняв ее в свои объятия, сказал:
-- Если милосердному небу угодно и оно желает, чтобы ты нашла некоторое
успокоение, неизменная, верная и прекрасная сеньора моя, нигде, думается
мне, не найдешь ты его более надежным, чем в этих объятиях, которые теперь
раскрылись для тебя, как они раскрывались и в те дни, когда еще судьбе
угодно было, чтоб я мог называть тебя своей.
При этих словах Люсинда подняла глаза на Карденио и, начав с того, что
узнала его по голосу, теперь удостоверившись зрением, что это он, почти вне
себя и не обращая внимания ни на какие приличия, обвила руками его шею и,
прильнув лицом к его лицу, сказала:
-- Да, вы, сеньор мой, вы -- истинный повелитель этой вашей пленницы,
сколько бы враждебная судьба ни противодействовала тому, и сколько ни
обрушивалось бы угроз на эту жизнь, поддерживаемую только вашей жизнью.
Это было странное зрелище для дона Фернандо и для всех присутствующих,
изумленных столь непредвиденным происшествием. Доротее показалось, что дон
Фернандо побледнел и имеет намерение мстить Карденио, так как она видела,
что он сделал движение рукой, будто хочет взяться за рукоять меча. Лишь
только у нее мелькнула эта мысль, она с неимоверной быстротой обняла его
колени, целуя их и прижимаясь к ним так крепко, что он не мог двинуться, и,
не прерывая своих слез, сказала ему.
-- Что намерен ты делать при этом столь неожиданном событии, ты,
единственное мое убежище? У ног твоих твоя супруга, а та, которую ты желал
бы, чтобы она была ею, в объятиях своего мужа. Подумай, хорошо ли, или
возможно ли тебе разрушить то, что небо устроило, или приличествует ли тебе
желать возвысить до себя и поставить на одном уровне с собой ту, которая,
презрев всякие препятствия, полагаясь на свою правоту и постоянство, на
глазах у тебя орошает слезами любви лицо и грудь своего истинного супруга?
Прошу тебя ради Бога и умоляю ради собственного твоего достоинства, пусть
это заявление, сделанное во всеуслышание, не только не воспламенит твоего
гнева, а, напротив, так укротит его, что ты спокойно и мирно, без всякого
препятствия со своей стороны, дозволишь этим двум влюбленным наслаждаться
спокойствием и миром все время, пока небу будет угодно даровать их им. Этим
ты докажешь великодушие твоего возвышенного, благородного сердца, и свет
увидит, что над тобою имеет больше власти разум, чем страсти.
В это время хозяин, стоявший у дверей постоялого двора, сказал:
-- Вот подъезжает компания отборных гостей; если они остановятся здесь,
gaudeamus tenemus {Будем радоваться (лат.).}.
-- Что это за люди? -- спросил Карденио.
-- Четверо верховых, -- ответил хозяин, -- и едут они на коротких
стременах, с копьями и щитами в руках, и все с черными масками на лицах {В
те времена, путешествуя, мужчины и женщины носили обыкновенно маски из
тонкой и шелковой материи для защиты лица от солнца, пыли и ветра.}, а среди
них -- женщина, вся в белом, на дамском седле, тоже с маской на лице, и еще
двое пеших слуг.
-- Они очень близко? -- спросил священник.
-- Так близко, -- ответил хозяин,-- что уже подъезжают.
Услыхав это, Доротеа закрыла себе лицо, а Карденио ушел в комнату Дон
Кихота, и едва они успели это сделать, как к постоялому двору подъехали те,
о которых говорил хозяин. Четверо всадников, с виду стройные и изящные,
спешились и подошли к даме, чтобы снять ее с седла; а один из них, взяв ее
на руки, посадил на стул, стоявший у входа в комнату Дон Кихота, куда
скрылся Карденио. Во все это время ни сеньора и никто из ее спутников не
сняли с себя масок и не произнесли ни слова; только, садясь на стул, женщина
испустила глубокий вздох и уронила руки, как больной и теряющий сознание
человек. Между тем слуги отвели лошадей в конюшню. Увидав это, священник,
желая знать, какие это явились люди в такой одежде и столь молчаливые, пошел
вслед за слугами и спросил одного из них о том, что ему хотелось знать.
Слуга ответил:
-- По чести, сеньор, я не сумею вам сказать, что это за люди. Знаю
только, что они, по-видимому, знатные сеньоры, и в особенности тот, который
снял с лошади даму. Говорю это потому, что все остальные относятся к нему с
уважением и делают все, что он желает и приказывает.
-- А сеньора? Кто она такая?-- спросил священник.
-- И этого не могу вам сказать,-- ответил слуга, -- потому что всю
дорогу я не видел ее лица; хотя слышал много раз, как глубоко она вздыхала и
издавала такие стоны, что казалось, с каждым из них она готова испустить
дух. Неудивительно, если мы не знаем больше того, что я сейчас вам сказал,
так как мой товарищ и я, мы не более двух дней сопровождаем этих господ:
когда мы встретили их по дороге, они попросили и уговорили нас идти с ними
до Андалу-зии, предложив хорошо нам заплатить.
-- Слышали ли вы, как зовут кого-нибудь из них? -- спросил священник.
-- Нет, не слышали, -- ответил слуга, -- так как все они едут столь
молчаливо, что это просто удивление, и раздаются только лишь вздохи и
всхлипывания бедной сеньоры, возбуждающие в нас жалость, и мы твердо
уверены, что куда бы ее ни везли, ее везут насильно. Насколько можно судить
по ее одежде, она монахиня или скоро сделается ею,-- последнее еще
вероятнее. Быть может, именно потому, что ей против воли приходится идти в
монастырь, она и едет такая грустная и печальная.
-- Все может быть, -- сказал священник и, оставив их, вернулся туда,
где была Доротеа, которая, услыхав, что
дама в маске вздыхает, движимая врожденным ей состраданием, подошла к
ней и сказала:
-- Что с вами, сеньора моя? Что болит у вас? Может быть, это нечто
такое, что женщины привыкли и умеют облегчать; в таком случае от всей души
предлагаю вам мои услуги.
На эти слова огорченная сеньора ответила молчанием и, хотя Доротеа еще
настойчивее возобновила предложение своих услуг, дама тем не менее
продолжала безмолвствовать, пока наконец замаскированный кабальеро -- тот, о
котором слуга говорил, что все остальные повинуются ему, -- не подошел и не
сказал Доротее:
-- Не трудитесь, сеньора, предлагать что бы то ни было этой женщине,
так как не в ее обычаях быть благодарной за то, что для нее делают, и не
старайтесь добиться от нее ответа, если не желаете услышать из ее уст
какую-нибудь ложь.
-- Никогда я не говорила лжи, -- воскликнула в это мгновение та,
которая до тех пор молчала, -- напротив, оттого что я всегда была правдива и
чужда лживых уверток, я и навлекла на себя столь великое мое не счастие.
Призываю вас самих свидетельствовать об этом, потому что именно моя
искренняя правдивость делает вас вероломным и лжецом.
Карденио ясно и отчетливо услышал эти слова, находясь вблизи той,
которая их произнесла, потому что его отделяла от нее лишь дверь комнаты Дон
Кихота, и, как только он услышал эти слова, он громко вскрикнул:
-- Помоги мне боже! Что я слышу? Чей голос дошел до моего слуха?
При этом восклицании сеньора в маске вздрогнула, повернула голову и, не
видя, кто говорит, встала, направляясь в соседнюю комнату. Но заметив этого,
ее спутник остановил ее и не дал ей сделать ни шагу. От волнения и
внезапного движения маска из тафты упала с ее лица и обнаружила изумительную
и необычайную красоту его, хотя оно было бледное и выражало испуг, так как,
словно что-то отыскивая, глаза ее обращались во все стороны с такою
стремительностью, которая придавала ей вид сумасшедшей. Эти проявления горя
вызвали у Доротеи и всех, кто смотрел на нее, величайшую к ней жалость, хотя
никто и не знал причины столь странного ее поведения. Ее спутник крепко
схватил ее за плечи и был так занят этим делом, что не мог удержать маску из
тафты, падавшую с его лица, и она действительно упала. Доротеа, обнимавшая
сеньору, увидела, подняв глаза, что тот, который тоже ее держит в своих
объятиях, был ее супруг -- дон Фернандо. Едва она узнала его, как из самой
глубины ее груди вырвался продолжительный и жалостный стон, она упала
навзничь, лишившись чувств, а если б около нее не оказался цирюльник,
подхвативший ее на руки, она грохнулась бы на пол. Тотчас же бросился к ней
священник и снял с нее вуаль, чтобы обрызгать ее водой, а лишь только он
открыл ей лицо, дон Фернандо -- потому что это он держал за плечи ту другую
-- узнал Доротею и словно обмер. Тем не менее он не выпустил из рук Люсинды,
которая старалась вырваться из его объятий, узнав по голосу Карденио, как и
он узнал ее по голосу. Услыхав стон Доротеи, когда она упала в обморок,
Карденио, думая, что это Люсинда, выбежал в испуге из комнаты Дон Кихота, и
первое, что он увидел, был дон Фернандо, державший в объятиях Люсинду Дон
Фернандо тотчас же узнал Карденио, и все трое -- Люсинда, Карденио и Доротеа
-- стояли в безмолвном изумлении, почти не понимая, что с ними случилось.
Все они молчали и смотрели друг на друга: Доротеа на дона Фернандо, дон
Фернандо на Карденио, Карденио на Люсинду, Люсинда на Карденио. Первая,
прервавшая общее молчание, была Люсинда, которая обратилась к дону Фернандо
со следующими словами:
-- Оставьте меня, сеньор дон Фернандо, хотя бы только из чувства
собственного достоинства, если не по другим причинам, и дайте мне прильнуть
к ограде, для которой я плющ, к опоре, от которой ни ваша докучливость, ни
угрозы, ни обещания, ни подарки не могли оторвать меня. Вы видите теперь,
какими неожиданными и для нас таинственными путями небо привело меня к моему
истинному супругу, и вам хорошо известно ценой тысячи тяжелых испытаний, что
только одна смерть в состоянии изгладить его из моей памяти. Пусть же столь
громогласное объяснение мое превратит (если вы ни на что другое не способны)
вашу любовь ко мне в бешенство и расположение ваше -- в гнев. Отнимите у
меня жизнь, так как, потеряв ее на глазах моего дорогого супруга, я буду
считать, что прожила недаром. Быть может, смерть моя убедит его в том, что я
сохранила ему верность до последнего трепетания жизни.
Между тем Доротеа очнулась от своего обморока и слышала все, что
говорила Люсинда, из слов которой она узнала, кто она такая.
Но, видя, что дон Фернандо не выпускает Люсинду из своих объятий и не
отвечает на ее просьбу, она собрала все свои силы, встала и, опустившись на
колени перед доном Фернандо, проливая ручьи горьких и очаровательных слез,
заговорила таким образом:
-- Если, сеньор мой, лучи этого омраченного солнца, которое ты держишь
в своих объятиях, не ослепили и не затмили твои глаза, ты увидел уже теперь,
что перед тобой на коленях стоит несчастная, пока тебе это будет угодно, и
горестная Доротеа. Я -- та смиренная крестьянка, которую ты по своей доброте
или же из прихоти захотел поднять на такую высоту, чтобы она могла назваться
твоей. Я та, которая, огражденная пределами невинности, вела счастливую
жизнь, пока на призыв твоего неотступного ухаживания и твоей, казалось,
искренней и сильной страсти не раскрыла дверей своего уединения и не
передала тебе ключей от своей свободы -- дар, принятый тобой со столь малой
признательностью, ясным доказательством чему служит то, что я была вынуждена
очутиться здесь, в этом месте, где тебе пришлось встретиться со мной, а мне
увидеть тебя в том положении, в каком я тебя вижу. Но тем не менее я не
желала бы, чтоб ты вообразил, будто я пришла сюда путем моего бесчестия, так
как привели меня сюда только горе и скорбь о том, что я забыта тобой. Ты
желал, чтоб я была твоей, и желал это так рьяно, что, если б теперь ты и
захотел, чтоб этого не было, невозможно тебе перестать быть моим. Прими во
внимание, сеньор мой, что безграничная любовь моя к тебе может служить
вознаграждением за красоту и знатность той, ради которой ты покинул меня. Ты
не можешь принадлежать Люсинде, потому что ты мой, и она не может быть
твоей, потому что она принадлежит Карденио. Тебе -- подумай о том --
окажется легче принудить себя полюбить ту, которая тебя боготворит, чем
заставить ту, которая тебя ненавидит, полюбить тебя. Ты воспользовался моею
опрометчивостью, ввел в искушение мою добродетель, мое происхождение было
небезызвестно тебе, и ты хорошо знаешь, как уступила я твоим желаниям; нет
ни причины, ни повода ссылаться тебе на какой-либо обман; и раз это так, как
оно и есть, и ты христианин и рыцарь, зачем же ты окольным путем стольких
уверток откладываешь довести до конца мое счастие, положив ему начало? И
если ты не хочешь, чтобы я была тем, что я есть, -- твоей истинной и
законной женой, -- по крайней мере, люби меня и возьми к себе рабыней; лишь
бы только быть в твоей власти -- и это я сочту за счастье и блаженство. Не
допускай, покинув и отказавшись от меня, чтоб на всех перекрестках говорили
и распространялись слухи о моем бесчестии; не уготовь такой печальной
старости моим родителям, -- это было бы плохой наградой за верную службу,
которую они, как добрые вассалы, всегда несли твоим родителям. И если тебе
кажется, что ты унизишь кровь свою, смешав ее с моею, подумай о том, как
мало или и вовсе нет знатных родов на свете, которые не шли бы тем же путем,
и не происхождение женщины принимается в рассечет в славных родах; тем более
что истинное благородство заключается в добродетели, и если ее не хватает у
тебя, раз ты отказываешь в том, что мне принадлежит по справедливости, у
меня окажется больше прав на благородство, чем у тебя. Наконец, сеньор,
скажу в заключение: желаешь ли ты или не желаешь, я твоя жена, свидетелями
чего слова твои, которые не должны и не могут быть лживы, если ты гордишься
тем, за что пренебрегаешь мною; свидетелями будут и подпись твоя, и небо,
которое ты сам призывал удостоверить данное тобою обещание. Но даже если б
все эти свидетели молчали, не молчала бы твоя совесть, голос которой, ни для
кого не слышный, раздавался бы громко среди веселий твоих, повторяя ту
истину, которую я сказала тебе, и нарушая лучшие твои удовольствия и
радости.
Эти и тому подобные доводы привела огорченная Доротеа с таким глубоким
чувством и с такими горькими слезами, что даже у спутников дона Фернандо,
как и у остальных присутствующих, навернулись слезы. Дон Фернандо слушал ее,
не отвечая ни слова, пока она не умолкла и не разразилась такими рыданиями и
вздохами, что нужно было бы иметь железное сердце, чтобы не тронуться
выражением такого горя. Люсинда смотрела на Доротею, чувствуя не менее
сострадания к ее несчастию, чем удивления ее умом и красотой. Ей хотелось
подойти к ней и сказать несколько слов утешения, но она не могла
освободиться из рук дона Фернандо, который все еще крепко держал ее. После
того как он довольно долго и пристально смотрел на Доротею, он, исполненный
смущения и раскаяния, раскрыл руки и, отпустив Люсинду, сказал:
-- Ты победила, прекрасная Доротеа, ты победила, так как невозможно,
чтобы у кого-нибудь хватило духа отрицать столько истин, подкрепляющих одна
другую!
В состоянии изнеможения, в котором находилась Люсинда, она чуть было не
упала, когда ее отпустил дон Фернандо, но Карденио, бывши вблизи, так как он
стоял за плечами дона Фернандо, чтобы тот не видел его, отбросив всякий
страх и готовый на всякую опасность, кинулся к Люсинде, чтобы поддержать ее,
и, приняв ее в свои объятия, сказал:
-- Если милосердному небу угодно и оно желает, чтобы ты нашла некоторое
успокоение, неизменная, верная и прекрасная сеньора моя, нигде, думается
мне, не найдешь ты его более надежным, чем в этих объятиях, которые теперь
раскрылись для тебя, как они раскрывались и в те дни, когда еще судьбе
угодно было, чтоб я мог называть тебя своей.
При этих словах Люсинда подняла глаза на Карденио и, начав с того, что
узнала его по голосу, теперь удостоверившись зрением, что это он, почти вне
себя и не обращая внимания ни на какие приличия, обвила руками его шею и,
прильнув лицом к его лицу, сказала:
-- Да, вы, сеньор мой, вы -- истинный повелитель этой вашей пленницы,
сколько бы враждебная судьба ни противодействовала тому, и сколько ни
обрушивалось бы угроз на эту жизнь, поддерживаемую только вашей жизнью.
Это было странное зрелище для дона Фернандо и для всех присутствующих,
изумленных столь непредвиденным происшествием. Доротее показалось, что дон
Фернандо побледнел и имеет намерение мстить Карденио, так как она видела,
что он сделал движение рукой, будто хочет взяться за рукоять меча. Лишь
только у нее мелькнула эта мысль, она с неимоверной быстротой обняла его
колени, целуя их и прижимаясь к ним так крепко, что он не мог двинуться, и,
не прерывая своих слез, сказала ему.
-- Что намерен ты делать при этом столь неожиданном событии, ты,
единственное мое убежище? У ног твоих твоя супруга, а та, которую ты желал
бы, чтобы она была ею, в объятиях своего мужа. Подумай, хорошо ли, или
возможно ли тебе разрушить то, что небо устроило, или приличествует ли тебе
желать возвысить до себя и поставить на одном уровне с собой ту, которая,
презрев всякие препятствия, полагаясь на свою правоту и постоянство, на
глазах у тебя орошает слезами любви лицо и грудь своего истинного супруга?
Прошу тебя ради Бога и умоляю ради собственного твоего достоинства, пусть
это заявление, сделанное во всеуслышание, не только не воспламенит твоего
гнева, а, напротив, так укротит его, что ты спокойно и мирно, без всякого
препятствия со своей стороны, дозволишь этим двум влюбленным наслаждаться
спокойствием и миром все время, пока небу будет угодно даровать их им. Этим
ты докажешь великодушие твоего возвышенного, благородного сердца, и свет
увидит, что над тобою имеет больше власти разум, чем страсти.
 Пока Доротеа говорила это, Карде -- нио, хотя он и держал в своих
объятиях Люсинду, не спускал глаз с дона Фернандо, решив защищаться, если
увидит, что тот делает какое-либо угрожающее движение, и оказывать
сопротивление всем, кто бы ни напал на него, даже если бы это и стоило ему
жизни. Но в это время к дону Фернандо подошли его друзья, а также священник
и цирюльник, присутствовавшие при всем происходившем, не исключая и доброго
Санчо Пансу, и все они окружили дона Фернандо, умоляя его не оставить без
внимания слез Доротеи, и если то, что она говорила, -- правда -- в чем они
не сомневаются, -- не допустить, чтобы она обманулась в справедливых своих
надеждах. Пусть он подумает и о том, что не случайно -- как могло бы
казаться, -- а по особому предопределению неба все они встретились в таком
месте, где меньше всего можно было ожидать этого, и не упускал бы из виду,
добавил священник, что только смерть может разлучить Люсинду с Карденио и,
хотя бы их разлучило острие меча, они сочли бы свою смерть счастливой. В
непоправимых же случаях верх мудрости в том, чтобы, преодолевая и побеждая
самого себя, выказать великодушное сердце, дав по собственной доброй воле
двум этим влюбленным разрешение наслаждаться счастьем, которое небо уже
даровало им. Пусть вместе с тем он бросит взгляд также на красоту Доротеи и
увидит, что в этом отношении лишь очень немногие, или, вернее, ни одна
женщина в мире, не может сравниться с нею, а тем более превзойти ее, и что к
ее красоте присоединяется еще скромность и беспредельная любовь к нему. А
главное, пусть он вспомнит, если гордится тем, что он рыцарь и христианин:
он не может не сдержать данного им слова, -- а сдержав его, исполнит свой
долг перед лицом Бога и заслужит одобрение благомыслящих людей, которые
знают и хорошо понимают, что исключительное право красоты -- хотя бы ею была
одарена личность самого скромного происхождения, если только она соединена с
целомудрием, -- возвыситься до какого угодно звания и положения без
малейшего уничижения для того, кто ее возвысил до себя и уравнял с собою; и
если исполняются могущественные требования страсти, лишь бы в них не
замешался грех, -- нельзя обвинять того, кто им подчиняется.
Словом, они к этим доводам добавили еще и другие, и их было столько,
что мужественное сердце дона Фернандо, все же питавшееся благородной кровью,
смягчилось и признало победу над собой истины, которую он не мог отрицать,
хотя бы и желал. В доказательство того, что он сдался и уступил доброму
совету, с которым к нему обратились, он наклонился к Доротее и, поцеловав
ее, сказал:
-- Встаньте, сеньора моя, так как нехорошо, чтобы лежала у ног моих та,
которую я ношу в своем сердце, и если я до сих пор не дал доказательств
того, что говорю, быть может, это случилось по велению неба, чтобы, увидев
постоянство, с которым вы меня любите, я сумел ценить вас, как вы того
заслуживаете. Все, чего я у вас прошу, -- не укоряйте меня за мои дурные
поступки и мое пренебрежение к вам, потому что та же могучая сила и причина,
побудившая меня сделать вас своей, вынудила меня стараться не быть вашим. А
что это правда, -- обернитесь и взгляните в глаза теперь уже счастливой
Люсинды, и в них вы найдете извинение всех моих заблуждений. А так как она
нашла и достигла того, чего желала, и я нашел в вас исполнение моих желаний,
-- пусть она живет спокойная и довольная долгие и счастливые годы со своим
Карденио, как я буду молить небо дозволить мне прожить их с моей Доротеей.
С этими словами он опять поцеловал ее и прижался лицом к ее лицу с
такой искренней нежностью, что ему стоило большого труда сдержаться, чтобы
слезы не явились несомненным признаком его любви и раскаяния. Но Карденио и
Люсинда не сдержали своих слез, так же как этого не сделали и почти все
присутствовавшие, которые стали их проливать в таком изобилии, одни радуясь
своему счастью, другие -- чужому, что могло казаться, будто на них
обрушилось какое-нибудь великое и тяжелое горе. Даже и Санчо Панса -- и тот
плакал, хотя он потом и говорил, что заплакал, только убедившись, что
Доротеа не оказалась, как он это думал, королевой Микомикона, от которой он
ждал столько милостей. Еще некоторое время продолжалось вместе со слезами
общее изумление, и затем Карденио и Люсинда подошли к дону Фернандо,
опустились перед ним на колени и благодарили его за оказанную им милость в
таких утонченно любезных выражениях, что дон Фернандо не знал, что ответить
им; итак, он поднял их и поцеловал с большой учтивостью и нежностью. После
того он попросил Доротею рассказать ему, как она очутилась здесь, так далеко
от своего родительского дома. В коротких и удачно подобранных выражениях
сообщила она ему все то, что перед тем рассказала Карденио. Дону Фернандо и
его спутникам рассказ ее очень понравился, и они были бы готовы еще долго
слушать ее, так увлекательно умела Доротеа передать повесть своих страданий.
Когда же она кончила, дон Фернандо сообщил случившееся с ним после того, как
он нашел на груди Люсинды письмо, в котором она объявляла, что она жена
Карденио и не может быть его женой. Он сказал, что хотел тогда убить ее и
сделал бы это, если бы ее родители не удержали его, а затем он ушел из их
дома, смущенный и рассерженный, решив отомстить при более удобном случае. На
следующий день он узнал, что Люсинда исчезла из родительского дома и что
никому не известно, куда она бежала. Наконец через несколько месяцев дошли
до его сведения, что она находится в монастыре и желает остаться там всю
жизнь, если ей не удастся провести ее с Карденио. Как только он узнал об
этом, он сговорился с тремя кабальеросами и отправился с ними в монастырь,
где находилась Люсинда, но не захотел говорить с ней, опасаясь, что, если
узнают о его приезде, монастырь будут лучше охранять. Итак, дождавшись дня,
когда дверь в монастырь оказалась открытой, он поставил двух своих товарищей
сторожить у этих дверей, а с третьим вошел в монастырь, отыскивая Люсинду,
которую застал в монастырском коридоре разговаривающей с монахиней. Он
схватил ее, не дав ей времени сопротивляться, и отвел в такое место, где
можно было запастись всем необходимым, чтобы увезти ее дальше. Все это они
могли проделать в полной безопасности, потому что монастырь стоял в поле,
вдали от города. Рассказал он также, что Люсинда, лишь только увидела себя в
его власти, упала в обморок, а когда пришла в себя, только и делала, что
плакала, стонала, не произнося ни слова; и таким образом, сопровождаемые
молчанием и слезами, они добрались до этого постоялого двора, что означало
для него, как оказалось, добраться до небес, где все земные невзгоды
прекращаются и всем им наступает конец.
Пока Доротеа говорила это, Карде -- нио, хотя он и держал в своих
объятиях Люсинду, не спускал глаз с дона Фернандо, решив защищаться, если
увидит, что тот делает какое-либо угрожающее движение, и оказывать
сопротивление всем, кто бы ни напал на него, даже если бы это и стоило ему
жизни. Но в это время к дону Фернандо подошли его друзья, а также священник
и цирюльник, присутствовавшие при всем происходившем, не исключая и доброго
Санчо Пансу, и все они окружили дона Фернандо, умоляя его не оставить без
внимания слез Доротеи, и если то, что она говорила, -- правда -- в чем они
не сомневаются, -- не допустить, чтобы она обманулась в справедливых своих
надеждах. Пусть он подумает и о том, что не случайно -- как могло бы
казаться, -- а по особому предопределению неба все они встретились в таком
месте, где меньше всего можно было ожидать этого, и не упускал бы из виду,
добавил священник, что только смерть может разлучить Люсинду с Карденио и,
хотя бы их разлучило острие меча, они сочли бы свою смерть счастливой. В
непоправимых же случаях верх мудрости в том, чтобы, преодолевая и побеждая
самого себя, выказать великодушное сердце, дав по собственной доброй воле
двум этим влюбленным разрешение наслаждаться счастьем, которое небо уже
даровало им. Пусть вместе с тем он бросит взгляд также на красоту Доротеи и
увидит, что в этом отношении лишь очень немногие, или, вернее, ни одна
женщина в мире, не может сравниться с нею, а тем более превзойти ее, и что к
ее красоте присоединяется еще скромность и беспредельная любовь к нему. А
главное, пусть он вспомнит, если гордится тем, что он рыцарь и христианин:
он не может не сдержать данного им слова, -- а сдержав его, исполнит свой
долг перед лицом Бога и заслужит одобрение благомыслящих людей, которые
знают и хорошо понимают, что исключительное право красоты -- хотя бы ею была
одарена личность самого скромного происхождения, если только она соединена с
целомудрием, -- возвыситься до какого угодно звания и положения без
малейшего уничижения для того, кто ее возвысил до себя и уравнял с собою; и
если исполняются могущественные требования страсти, лишь бы в них не
замешался грех, -- нельзя обвинять того, кто им подчиняется.
Словом, они к этим доводам добавили еще и другие, и их было столько,
что мужественное сердце дона Фернандо, все же питавшееся благородной кровью,
смягчилось и признало победу над собой истины, которую он не мог отрицать,
хотя бы и желал. В доказательство того, что он сдался и уступил доброму
совету, с которым к нему обратились, он наклонился к Доротее и, поцеловав
ее, сказал:
-- Встаньте, сеньора моя, так как нехорошо, чтобы лежала у ног моих та,
которую я ношу в своем сердце, и если я до сих пор не дал доказательств
того, что говорю, быть может, это случилось по велению неба, чтобы, увидев
постоянство, с которым вы меня любите, я сумел ценить вас, как вы того
заслуживаете. Все, чего я у вас прошу, -- не укоряйте меня за мои дурные
поступки и мое пренебрежение к вам, потому что та же могучая сила и причина,
побудившая меня сделать вас своей, вынудила меня стараться не быть вашим. А
что это правда, -- обернитесь и взгляните в глаза теперь уже счастливой
Люсинды, и в них вы найдете извинение всех моих заблуждений. А так как она
нашла и достигла того, чего желала, и я нашел в вас исполнение моих желаний,
-- пусть она живет спокойная и довольная долгие и счастливые годы со своим
Карденио, как я буду молить небо дозволить мне прожить их с моей Доротеей.
С этими словами он опять поцеловал ее и прижался лицом к ее лицу с
такой искренней нежностью, что ему стоило большого труда сдержаться, чтобы
слезы не явились несомненным признаком его любви и раскаяния. Но Карденио и
Люсинда не сдержали своих слез, так же как этого не сделали и почти все
присутствовавшие, которые стали их проливать в таком изобилии, одни радуясь
своему счастью, другие -- чужому, что могло казаться, будто на них
обрушилось какое-нибудь великое и тяжелое горе. Даже и Санчо Панса -- и тот
плакал, хотя он потом и говорил, что заплакал, только убедившись, что
Доротеа не оказалась, как он это думал, королевой Микомикона, от которой он
ждал столько милостей. Еще некоторое время продолжалось вместе со слезами
общее изумление, и затем Карденио и Люсинда подошли к дону Фернандо,
опустились перед ним на колени и благодарили его за оказанную им милость в
таких утонченно любезных выражениях, что дон Фернандо не знал, что ответить
им; итак, он поднял их и поцеловал с большой учтивостью и нежностью. После
того он попросил Доротею рассказать ему, как она очутилась здесь, так далеко
от своего родительского дома. В коротких и удачно подобранных выражениях
сообщила она ему все то, что перед тем рассказала Карденио. Дону Фернандо и
его спутникам рассказ ее очень понравился, и они были бы готовы еще долго
слушать ее, так увлекательно умела Доротеа передать повесть своих страданий.
Когда же она кончила, дон Фернандо сообщил случившееся с ним после того, как
он нашел на груди Люсинды письмо, в котором она объявляла, что она жена
Карденио и не может быть его женой. Он сказал, что хотел тогда убить ее и
сделал бы это, если бы ее родители не удержали его, а затем он ушел из их
дома, смущенный и рассерженный, решив отомстить при более удобном случае. На
следующий день он узнал, что Люсинда исчезла из родительского дома и что
никому не известно, куда она бежала. Наконец через несколько месяцев дошли
до его сведения, что она находится в монастыре и желает остаться там всю
жизнь, если ей не удастся провести ее с Карденио. Как только он узнал об
этом, он сговорился с тремя кабальеросами и отправился с ними в монастырь,
где находилась Люсинда, но не захотел говорить с ней, опасаясь, что, если
узнают о его приезде, монастырь будут лучше охранять. Итак, дождавшись дня,
когда дверь в монастырь оказалась открытой, он поставил двух своих товарищей
сторожить у этих дверей, а с третьим вошел в монастырь, отыскивая Люсинду,
которую застал в монастырском коридоре разговаривающей с монахиней. Он
схватил ее, не дав ей времени сопротивляться, и отвел в такое место, где
можно было запастись всем необходимым, чтобы увезти ее дальше. Все это они
могли проделать в полной безопасности, потому что монастырь стоял в поле,
вдали от города. Рассказал он также, что Люсинда, лишь только увидела себя в
его власти, упала в обморок, а когда пришла в себя, только и делала, что
плакала, стонала, не произнося ни слова; и таким образом, сопровождаемые
молчанием и слезами, они добрались до этого постоялого двора, что означало
для него, как оказалось, добраться до небес, где все земные невзгоды
прекращаются и всем им наступает конец.

Глава XXXVII, в которой продолжается история знаменитой принцессы
Микомиконы и говорится о других забавных приключениях
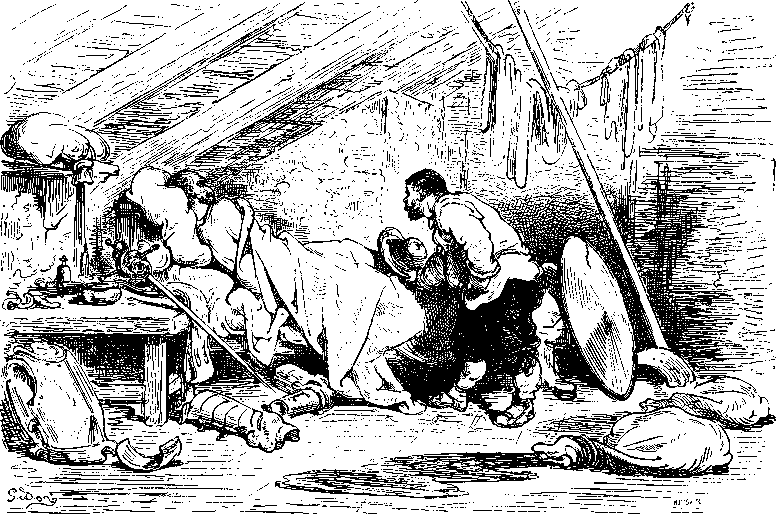 Все это слышал Санчо с немалой болью в душе, видя, что надежды его на
получение графского или иного почетного титула исчезают и обращаются в дым и
что прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, а великан -- в
дона Фернандо, в то время как его господин покоится сладким сном, совершенно
не заботясь о происходящем вокруг него. Доротеа все еще не могла поверить,
что выпавшее на ее долю счастье не приснилось ей. Подобные же мысли осаждали
ум Карденио, и Люсинда была в таком же настроении, а дон Фернандо благодарил
небо за оказанную ему милость и за то, что оно извлекло его из запутанного
лабиринта, где он чуть было не потерял честь и душу. Словом, все
находившиеся на постоялом дворе были довольны и рады счастливому исходу
столь трудных и казавшихся безнадежными обстоятельств. Священник, как
человек умный, осветил все случившееся, как следовало, и поздравил каждого с
достигнутым им счастьем; но более всех радовалась и торжествовала хозяйка
постоялого двора, потому что Карденио и священник обещали ей заплатить за
весь понесенный ущерб и все убытки, причиненные ей Дон Кихотом. Один только
Санчо, как уже сказано, был огорчен, опечален и несчастлив. Итак, он с
унылым видом вошел к своему господину, который только что проснулся, и
сказал:
-- Сеньор Печального Образа, ваша милость может теперь спать сколько
угодно, не заботясь о том, чтобы убить великана и вернуть принцессе ее
королевство, потому что все уже сделано и совершено.
-- Охотно верю этому, -- ответил Дон Кихот, -- так как у меня с
великаном была самая чудовищная и ожесточенная схватка, какая навряд ли еще
произойдет в моей жизни, и от одного удара наотмашь -- кряк -- голова его
полетела на пол, и столько хлынуло крови, что ручьи ее текли по земле, точно
вода.
-- Точно красное вино, следовало бы лучше сказать вашей милости, --
ответил Санчо, -- потому что вам надо знать, если это еще неизвестно вашей
милости, что убитый великан -- проткнутый бурдюк, кровь -- три ведра
красного вина в его утробе, а отрубленная голова -- блудница, которая меня
родила, -- и пусть все это вместе поберет сатана!
-- Что ты говоришь, сумасшедший,-- возразил Дон Кихот, -- в рассудке ли
ты?
-- Пусть милость ваша встанет, -- сказал Санчо, -- и увидит, какую
прекрасную историю вы натворили и сколько нам придется заплатить; и увидит
королеву, превращенную в обыкновенную даму по имени Доротеа, и другие
происшествия, которые, если вы окунетесь в них, изумят вас.
-- Ничто в таком роде не изумит меня, -- сказал Дон Кихот, -- потому
что, если ты хорошо припомнишь, еще и в прошлый раз, когда мы здесь
останавливались, я говорил тебе, что все случившееся здесь -- волшебство, и
не было бы ничего особенного, если бы и теперь повторилось то же.
-- Всему этому я поверил бы, -- сказал Санчо, -- если б и подбрасывание
меня вверх на одеяле оказалось в том же роде, но оно не оказалось им, оно
было в действительности и взаправду, и я видел, что хозяин -- который и
теперь здесь -- держал один конец одеяла и подбрасывал меня к небу весело и
оживленно, со столь же громким смехом, как и большой силой; а там, где можно
узнать людей, я считаю, хотя я и грешный и глупый человек, что нет никакого
волшебства, а только много синяков и очень много незадачи.
-- Ну, хорошо,-- сказал Дон Кихот,-- бог этому поможет, а ты дай мне
одеться, и я выйду отсюда, так как желаю видеть те происшествия и
превращения, о которых ты говорил.
Санчо подал ему платье, а в то время, как он одевался, священник
рассказал дону Фернандо и остальным о безумии рыцаря и о той хитрости, к
которой они прибегли, чтоб сманить его с Репа Pobre, где он воображал, что
находится из-за пренебрежения к нему его дамы. Священник рассказал им также
почти все приключения, о которых сообщил Санчо Панса, и они изумлялись и
смеялись немало, потому что им, как и всем другим, казалось, что это самый
странный род помешательства, какой только может овладеть расстроенным
мозгом. Священник сказал также, что ввиду счастливого события, случившегося
с сеньорой Доротеей, приходится отложить дальнейшее выполнение их прежнего
плана и надо придумать и изобрести что-нибудь другое, чтобы можно было
увезти Дон Кихота домой, в село. Карденио посоветовал продолжать начатое,
причем Люсинда могла бы взять на себя и разыграть роль Доротеи.
-- Нет, -- сказал дон Фернандо,-- этого не надо, потому что я желаю,
чтобы Доротеа сама довела до конца свою выдумку; и, если село этого доброго
рыцаря не очень далеко отсюда, мне доставит большое удовольствие
содействовать его излечению.
-- Оно не более чем в двух дней пути отсюда.
-- Если б оно было и дальше, я бы и туда с радостью поехал, лишь бы
сделать столь доброе дело.
В это время вошел Дон Кихот, вооруженный всеми своими доспехами, со
шлемом Мамбрино на голове, хотя и изогнутым, со щитом, продетым на руку, и
опираясь на свой шест или копье.
Дона Фернандо и остальных удивила столь странная фигура Дон Кихота, и,
глядя на его лицо -- длинное, сухое и желтое, -- на все эти не
соответствующие друг другу части его вооружения и на его полную достоинства
осанку, они молча ждали, что он скажет. А он с величайшим спокойствием и
серьезностью, устремив глаза на прекрасную Доротею, обратился к ней с такою
речью:
-- Я извещен, прелестная сеньора, этим моим оруженосцем, что ваше
величие унижено и звание ваше уничтожено, так как из королевы и знатной
особы вы обратились в простую девушку. Если это случилось по распоряжению
короля-чернокнижника, -- вашего отца, опасавшегося, что я не окажу вам
необходимой и должной помощи, -- я скажу, что он не знал и не знает и
половины обедни и был мало сведущ в рыцарских историях, потому что если бы
он их читал так внимательно и продолжительно, как я читал и изучал их, то на
каждом шагу видел бы, как другие, еще менее известные, чем я, рыцари
совершали куда более трудные подвиги. Ведь нет ничего особенного в том, чтоб
убить великанчика, каким бы он ни был надменным, так как несколько часов
тому назад я вступил с ним в бой и... лучше замолчу, чтобы мне не сказали,
что я лгу; но время -- разоблачитель всего на свете -- заговорит, когда
менее всего будем ждать этого.
-- Вы вступили в бой с двумя бурдюками вина, а не с великаном, --
сказал тогда хозяин двора; но дон Фернандо велел ему молчать и ни в каком
случае не прерывать речи Дон Кихота, который продолжал таким образом:
-- Словом, я говорю, возвышенная и лишенная наследства сеньора, что
если по причине, на которую я указал, отец ваш произвел эту метаморфозу с
вашей особой, не придавайте этому никакого значения, потому что на свете нет
той опасности, через которую не проложил бы себе путь мой меч, и с помощью
его я низвергну вашего врага и возложу вам на голову корону вашего
королевства.
Ничего больше не сказал Дон Кихот и ждал, что ему ответит принцесса, а
она, уже зная о решении дона Фернандо, чтобы она продолжала играть свою
роль, пока не довезут Дон Кихота до его села, ответила с большой важностью и
непринужденностью:
-- Кто бы вам ни сказал, доблестный Рыцарь Печального Образа, будто я
изменилась и преобразилась по своему существу, сказал вам неправду, потому
что я и сегодня остаюсь тем же, чем была вчера. Действительно, некоторые
события произвели во мне перемену, так как они дали мне лучшее из всего, что
я могла бы желать себе, но, несмотря на это, я не перестала быть такой,
какой была и раньше, и придерживаться тех же намерений, какие у меня всегда
были, -- прибегнуть к доблести вашей храброй и непобедимой руки. Так что,
сеньор, пусть милость ваша вернет моему отцу, от которого я произошла на
свет, его честь и считает его человеком рассудительным и сведущим, потому
что, благодаря своей науке, он нашел такой легкий и верный путь помочь мне в
моей беде. Если бы не вы, сеньор, я думаю, что никогда бы я не достигла
счастья, которого я достигла, а что сказанное мною верно, в этом могу
сослаться на свидетельство всех присутствующих здесь. Нам остается только
отправиться завтра утром в путь, так как сегодня нельзя было бы ехать
далеко. Что же касается счастливого окончания дела, на которое я надеюсь, я
полагаюсь на Бога и на ваше мужественное сердце.
Вот что сказала умная Доротеа, и Дон Кихот, выслушав ее, обернулся к
Санчо и с видом сильнейшего негодования объявил ему:
-- Теперь я скажу тебе, Санчуэло, что ты самый большой плутище во всей
Испании. Скажи, вор, бродяга, не ты ли говорил мне сейчас, будто эта
принцесса превратилась в простую девушку по имени Доротеа, и голова, которую
я, как думал, отрубил у великана, -- та блудница, что родила тебя, и другие
тому подобные нелепости, приведшие меня в величайшее смущение, когда-либо
испытанное мною в жизни? Но клянусь (и он поднял глаза к небу и стиснул
зубы), я готов так разгромить тебя, что от этого поумнели бы отныне и впредь
все лгуны оруженосцы, сколько бы их ни было у странствующих рыцарей!
-- Успокойтесь, милость ваша сеньор мой, -- ответил Санчо, -- очень
возможно, что я ошибся относительно превращения сеньоры принцессы
Микомиконы. Что же касается головы великана или, по крайней мере, прорванных
бурдюков и того, что кровь была красное вино, я не ошибаюсь, клянусь Богом,
потому что бурдюки стоят прорванные у изголовья постели вашей милости, а в
комнате целое озеро красного вина. Если же нет, вы узнаете это, когда вам
прийдется жарить яйца в масле {Al freir de loi huevos lo vera --
общеупотребительное испанское выражение, означающее: "Вы это увидите, когда
придется расплачиваться за это".}, я хочу сказать, вы это увидите, когда его
милость, сеньор хозяин здешнего постоялого двора, представит вам счет за
убытки. Что же до остального, то есть что сеньора королева осталась тем, чем
была, я всей душою этому рад, потому что и я получу свою долю, как и всякий
соседский сын {Испанская поговорка.}.
-- Теперь говорю тебе, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- что ты глуп;
прости меня, и довольно.
-- Довольно, -- подтвердил дон Фернандо, -- и ни слова больше об этом;
а так как сеньора принцесса говорит, что нам следует ехать завтра, потому
что сегодня уже слишком поздно, -- мы так и сделаем. Эту же ночь можно будет
провести в приятной беседе до наступления дня, когда мы все поедем
сопровождать сеньора Дон Кихота, так как желаем быть свидетелями доблестных
и неслыханных подвигов, которые ему предстоит совершить, исполняя взятое им
на себя великое предприятие.
-- Этим мне следовало бы служить вам и сопровождать вас, -- ответил Дон
Кихот. -- Очень вам признателен за оказанную мне милость и за ваше доброе
мнение обо мне, которое постараюсь оправдать или заплачу за него жизнью и
даже больше жизни, если б имел что-либо большее.
Еще многими любезностями и предложениями услуг обменялись Дон Кихот и
дон Фернандо; но всему этому положил конец путешественник, который как раз в
то время вошел на постоялый двор. Судя по одежде, он казался христианином,
только что вернувшимся из страны мавров, так как на нем было нечто вроде
кафтана из голубого сукна с короткими фалдами, полурукавами и без воротника,
панталоны из голубого полотна и шапка такого же цвета {Обычный костюм
пленных христиан, находившихся в неволе в Берберии.}. Ноги были обуты в
полусапоги цвета фиников, а мавританский короткий меч висел на перевязи,
обхватывающей ему грудь. Позади него, верхом на осле, ехала женщина, одетая
по-мавритански, с закутанным лицом и покрывалом на голове, сверх которого
была надета маленькая шапочка из золотой парчи, а длинная мавританская
мантия падала с ее плеч до ног. Мужчина был высокого роста, стройный, в
возрасте немного более сорока лет, со смуглым лицом, длинными усами и
окладистой бородой, словом, вид его был таков, что, будь он лучше одет, его
можно было бы принять за человека знатного и весьма хорошего происхождения.
Войдя, он спросил отдельную комнату и, по-видимому, огорчился, когда ему
сообщили, что такой нет на постоялом дворе, а затем, подойдя к той, которая
по одежде казалась мавританкой, он снял ее с осла. Люсинда, Доротеа,
хозяйка, ее дочь и Мариторнес, привлеченные новым и никогда не виденным ими
костюмом, окружили мавританку; а Доротеа, которая всегда была любезная,
учтивая и догадливая, заметив, что оба, и она и ее спутник, огорчены
отсутствием отдельной комнаты, сказала:
-- Не смущайтесь, сеньора, тем, что здесь нет никаких удобств: это
свойство всех постоялых дворов; но тем не менее если вам угодно будет
поместиться с нами (указывая на Люсинду), -- быть может, за все ваше
путешествие вы не встретите столь радушного приема.
Сеньора, закутанная покрывалом, ничего не ответила, а только встала со
своего места и, скрестив руки на груди, наклонила голову и все туловище в
знак благодарности. Из ее молчания они заключили, что, без сомнения, она
мавританка и не умеет говорить на христианском языке. В это время вошел
пленник, который до тех пор был занят другими делами, и, видя, что все
окружили приехавшую с ним, а она на их вопросы ничего не отвечает, сказал:
-- Сеньоры мои, эта девушка почти не понимает нашего языка и говорит
только на своем родном языке, поэтому она не отвечала и не может ответить на
то, что у нее спрашивали.
-- Мы не спрашиваем у нее ничего,-- ответила Люсинда, -- а только
предлагаем ей на эту ночь свое общество и часть комнаты, в которой мы
устроимся и где она найдет все удобства, возможные в здешнем помещении, с
тем доброжелательством, которое обязывает нас служить всем иностранцам,
нуждающимся в наших услугах, в особенности же если нуждается в них женщина.
-- За нее и за себя, -- ответил пленник, -- целую вам руки, сеньора
моя, и, как и подобает, высоко ценю предлагаемую вами милость, которая при
данных обстоятельствах и со стороны таких лиц, какими вы кажетесь,
несомненно, весьма велика.
-- Скажите мне, сеньор, -- спросила Доротеа, -- эта девушка христианка
или мавританка? {Мавры были мусульманами.} Так как одежда ее и молчание
заставляют нас предполагать, что она то, чем бы мы не желали, чтобы она
была.
-- По одежде и происхождению она мавританка, но душой -- величайшая
христианка, потому что она исполнена сильнейшего желания сделаться ею.
-- Значит, она еще не крещена? -- спросила Люсинда.
-- Не было времени для этого, -- сказал пленник. -- С тех пор как она
покинула Алжир, свою родину и местожительство, она не была еще в столь
близкой опасности смерти, которая бы вынудила крестить ее прежде, чем она
ознакомится со всеми обрядами, знать которые предписывается нашей святою
матерью церковью. Но если Богу будет угодно, вскоре она примет крещение с
торжественностью, подобающею ее званию, более высокому, чем может казаться
по ее и моей одежде.
Этими словами он возбудил во всех слушавших его желание узнать, кто
такие мавританка и пленник, -- но никто не хотел спрашивать его об этом
тогда же, хорошо понимая, что теперь им следует скорее доставить отдых, чем
расспрашивать об их жизни. Доротеа взяла мавританку за руку и, усадив ее
рядом с собой, попросила снять покрывало. Мавританка взглянула на пленника,
как бы спрашивая его: что они говорят и что ей надо делать? Он сказал ей на
арабском языке, что ее просят снять с лица покрывало и она может исполнить
эту просьбу. Итак, она сняла вуаль и открыла лицо, до того прелестное, что
Доротеа нашла ее красивее Люсинды, а Люсинда -- красивее Доротеи, и все
присутствовавшие признали: если бы кто-либо мог по красоте сравниться с ними
обеими, то только мавританка, а некоторые даже ставили ее в иных частностях
выше их. Но так как красота обладает прерогативой и особым преимуществом
побеждать сердца и привлекать симпатии, тотчас же все почувствовали желание
служить очаровательной мавританке и как-нибудь обласкать ее. Дон Фернандо
спросил пленника, как зовут мавританку, и тот ответил, что имя ее Лела
Сораида. Лишь только она услышала это, тотчас же она поняла, о чем спросили
христианина, и поспешно, с милой резвостью воскликнула: -- Нет, нет Сораида,
-- Мария, Мария, -- давая им понять, что ее зовут Мария, а не Сораида. Слова
ее и горячность, с которой она произнесла их, тронули некоторых до слез, в
особенности женщин, которые по природе нежны и сострадательны. Люсинда
поцеловала ее с искренней любовью и сказала: -- Да, да, Мария, Мария. -- А
на это мавританка ответила: -- Да, да, Мария -- Сораида macange {Macange --
на искаженном разговорном наречии Берберии означает: "нет, никоим
образом".}, -- что должно означать нет.
Между тем настала ночь, и по распоряжению тех, которые сопровождали
дона Фернандо, хозяин двора употребил все заботы и усилия, чтобы как можно
лучше приготовить ужин, а когда настало время, все уселись за длинный стол,
какие бывают в людских, потому что на постоялом дворе не было ни круглого,
ни квадратного стола. На верхнем конце и самом почетном месте усадили --
хотя он и отказывался -- Дон Кихота, пожелавшего, чтобы рядом с ним села,
так как он ее покровитель, сеньора Микомикона, затем сели Люсинда и Сораида,
а против них -- дон Фернандо с Карденио, потом пленник и остальные
кабальеросы, а рядом с дамами -- священник и цирюльник. Итак, они принялись
весело ужинать, и их веселье еще более возросло, когда они увидели, что Дон
Кихот, перестав есть и движимый подобного же рода вдохновением, как то,
которое его побудило произнести столь длинную речь за ужином с козопасами,
обратился к ним со следующими словами:
-- Поистине, сеньоры мои, если хорошенько рассудить, великие и
неслыханные вещи видят те, кто принадлежит к ордену странствующего
рыцарства. А если нет, кто из живущих на свете, войдя теперь в дверь этого
замка и увидев нас, как мы здесь сидим, принял бы и счел нас за то, что мы
есть на самом деле? Кто мог бы сказать, что эта сеньора, сидящая рядом со
мной, -- великая королева, как это всем нам известно, и что я тот Рыцарь
Печального Образа, слава которого всюду провозглашается молвой? Не подлежит
теперь уже сомнению, что это искусство и занятие превосходит все остальные,
изобретенные людьми, и тем выше надо его ставить, чем большим опасностям оно
подвержено. Прочь от меня те, которые скажут, что словесные науки выше
оружия, так как я им объявляю, кто бы они ни были, что они не знают, что
говорят. Довод, который такие люди обыкновенно приводят и на который они
более всего опираются, тот, что умственный труд выше физического труда и в
военном деле упражняется только тело, как будто это занятие такое же, как и
труд крючника, для которого исключительно требуется одна лишь физическая
сила; или как будто в то, что мы, занимающиеся им, называем военным делом,
не включены также и подвиги мужества, для выполнения которых требуется
большой ум; или как будто военачальнику, на попечении которого находится
целая армия или защита осажденного города, не надо работать так же духом,
как и телом. А если нет, посмотрим, можно ли путем одной лишь физической
силы угадать и проникнуть в намерения неприятеля, в его планы и военные
хитрости и избегнуть и предупредить затруднения и неминуемые опасности, --
все это действия рассудка, в которых тело не принимает участия. А раз это
так, и оружие тоже, как и словесные науки, требует ума, посмотрим, какой из
этих двух умов больше работает: ум ли ученого или военного, -- а это можно
узнать по тому, к какому итогу и цели каждый из них стремится, так как то
намерение следует ценить выше, которое поставило себе более благородную
цель. Предмет и цель словесных наук -- я не говорю здесь о богословских
науках, конечная цель которых -- направлять и вести души к небу, потому что
с такой бесконечной целью, как эта, нельзя сравнить никакой другой, -- я
говорю о человеческих науках {О словесных науках и вообще всяком знании,
исключая богословие.}, цель которых -- упорядочить воздаятельное правосудие
и дать всякому то, что ему надлежит, вводить хорошие законы и следить за их
исполнением, -- цель, несомненно, великодушная, возвышенная и достойная
великой похвалы, но не столь великой, как подобающая оружию, предмет и
конечная цель которого -- мир, то есть величайшее благо, какого только могут
пожелать себе люди в этой жизни. Вот почему первая благая весть, дошедшая до
земли и до людей, была та, которую принесли ангелы в ночь, ставшую для нас
днем, когда они пели в небесах: "Слава в вышних Богу; и на землю мир, в
человецех благоволение". И привет, которому лучший из учителей земли и неба
научил Своих учеников и избранников, был, когда они входят в какой-нибудь
дом, сказать: "Мир дому сему". Много раз Он и Сам им говорил: "Мир мой даю
вам, мир Мой оставляю вам; мир да будет с вами" -- истинное сокровище и
драгоценность, данные и завещанные такой рукой; сокровище, без которого ни
на небе, ни на земле не может существовать счастья! Этот мир и есть истинная
цель войны, а война и оружие -- одно и то же. Итак, допустив эту истину, что
цель войны -- мир, и что цель эта стоит выше цели, к которой стремятся
словесные науки, сравним теперь физические тяготы ученого с тяготами того,
кто посвятил себя военному делу, и посмотрим, чьи тяжелее.
Дон Кихот произнес свою речь таким образом и в столь соответственных
выражениях, что никто из слушавших его тогда не мог принять его за
сумасшедшего, а напротив, так как большинство из них были рыцари, причастные
к военному делу, они слушали его с большим удовольствием, а он продолжал
следующим образом:
-- Итак, говорю я, лишения учащегося или студента следующие: прежде
всего бедность, не потому чтобы все студенты были бедны, а потому что я
хотел взять худший из случаев, -- а сказав, что студент испытывает бедность,
мне кажется, что я все сказал о тяжелой его доле, потому что кто беден, нет
у того ничего хорошего. Эта бедность донимает студента разными путями: то
голодом, то холодом, то наготой, то всем этим вместе взятым; но все же она
не доходит до такой степени, чтобы он не ел вовсе, хотя бы ему и пришлось
есть несколько позже, чем полагается, и едой его были бы остатки со стола
богатых, или бы он испытывал верх студенческой бедности, -- то, что они
между собой называют "хождением на суп" {Andar alasopa ("ходить на суп") --
так назывался довольно распространенный обычай бедных студентов во времена
Сервантеса ждать выдаваемую им похлебку у ворот монастырей. Таких студентов
называли сопистами.}. Для них всегда найдется где-нибудь у соседей жаровня с
горящими углями или камин, у которого они могут, если и не вполне согреться,
когда им холодно, то, по крайней мере, хоть несколько отогреться, и,
наконец, ночью они спят под кровом. Не хочу касаться других мелочей, как
например: недостатка рубашек, отсутствия изобилия башмаков, скудости и
обветшалости одежды, а также не коснусь я и склонности их чрезмерно
объедаться, когда счастливый случай пошлет им какую-нибудь пирушку. По этому
пути, который я описал, -- трудному и суровому пути, -- спотыкаясь здесь,
падая там, опять поднимаясь и вновь падая, достигают они той ступени, к
которой стремятся. А раз они достигнули своего, то мы видим, как многие,
которые, пройдя через эти Сирты и эти Сциллы и Харибды, точно их несла на
крыльях своих благосклонная к ним судьба, я говорю, что мы видим, как они
повелевали и управляли миром из своего кресла, променяв голод на сытость,
холод -- на приятную свежесть, наготу -- на роскошные наряды, сон на
циновках -- на сладкий отдых на голландских простынях и парче, -- награда,
справедливо заслуженная их добродетелью. Но если их лишения сравнить и
сопоставить с лишениями, испытываемыми сражающимся воином, то они останутся
далеко позади них, как я сейчас объясню вам.
Все это слышал Санчо с немалой болью в душе, видя, что надежды его на
получение графского или иного почетного титула исчезают и обращаются в дым и
что прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, а великан -- в
дона Фернандо, в то время как его господин покоится сладким сном, совершенно
не заботясь о происходящем вокруг него. Доротеа все еще не могла поверить,
что выпавшее на ее долю счастье не приснилось ей. Подобные же мысли осаждали
ум Карденио, и Люсинда была в таком же настроении, а дон Фернандо благодарил
небо за оказанную ему милость и за то, что оно извлекло его из запутанного
лабиринта, где он чуть было не потерял честь и душу. Словом, все
находившиеся на постоялом дворе были довольны и рады счастливому исходу
столь трудных и казавшихся безнадежными обстоятельств. Священник, как
человек умный, осветил все случившееся, как следовало, и поздравил каждого с
достигнутым им счастьем; но более всех радовалась и торжествовала хозяйка
постоялого двора, потому что Карденио и священник обещали ей заплатить за
весь понесенный ущерб и все убытки, причиненные ей Дон Кихотом. Один только
Санчо, как уже сказано, был огорчен, опечален и несчастлив. Итак, он с
унылым видом вошел к своему господину, который только что проснулся, и
сказал:
-- Сеньор Печального Образа, ваша милость может теперь спать сколько
угодно, не заботясь о том, чтобы убить великана и вернуть принцессе ее
королевство, потому что все уже сделано и совершено.
-- Охотно верю этому, -- ответил Дон Кихот, -- так как у меня с
великаном была самая чудовищная и ожесточенная схватка, какая навряд ли еще
произойдет в моей жизни, и от одного удара наотмашь -- кряк -- голова его
полетела на пол, и столько хлынуло крови, что ручьи ее текли по земле, точно
вода.
-- Точно красное вино, следовало бы лучше сказать вашей милости, --
ответил Санчо, -- потому что вам надо знать, если это еще неизвестно вашей
милости, что убитый великан -- проткнутый бурдюк, кровь -- три ведра
красного вина в его утробе, а отрубленная голова -- блудница, которая меня
родила, -- и пусть все это вместе поберет сатана!
-- Что ты говоришь, сумасшедший,-- возразил Дон Кихот, -- в рассудке ли
ты?
-- Пусть милость ваша встанет, -- сказал Санчо, -- и увидит, какую
прекрасную историю вы натворили и сколько нам придется заплатить; и увидит
королеву, превращенную в обыкновенную даму по имени Доротеа, и другие
происшествия, которые, если вы окунетесь в них, изумят вас.
-- Ничто в таком роде не изумит меня, -- сказал Дон Кихот, -- потому
что, если ты хорошо припомнишь, еще и в прошлый раз, когда мы здесь
останавливались, я говорил тебе, что все случившееся здесь -- волшебство, и
не было бы ничего особенного, если бы и теперь повторилось то же.
-- Всему этому я поверил бы, -- сказал Санчо, -- если б и подбрасывание
меня вверх на одеяле оказалось в том же роде, но оно не оказалось им, оно
было в действительности и взаправду, и я видел, что хозяин -- который и
теперь здесь -- держал один конец одеяла и подбрасывал меня к небу весело и
оживленно, со столь же громким смехом, как и большой силой; а там, где можно
узнать людей, я считаю, хотя я и грешный и глупый человек, что нет никакого
волшебства, а только много синяков и очень много незадачи.
-- Ну, хорошо,-- сказал Дон Кихот,-- бог этому поможет, а ты дай мне
одеться, и я выйду отсюда, так как желаю видеть те происшествия и
превращения, о которых ты говорил.
Санчо подал ему платье, а в то время, как он одевался, священник
рассказал дону Фернандо и остальным о безумии рыцаря и о той хитрости, к
которой они прибегли, чтоб сманить его с Репа Pobre, где он воображал, что
находится из-за пренебрежения к нему его дамы. Священник рассказал им также
почти все приключения, о которых сообщил Санчо Панса, и они изумлялись и
смеялись немало, потому что им, как и всем другим, казалось, что это самый
странный род помешательства, какой только может овладеть расстроенным
мозгом. Священник сказал также, что ввиду счастливого события, случившегося
с сеньорой Доротеей, приходится отложить дальнейшее выполнение их прежнего
плана и надо придумать и изобрести что-нибудь другое, чтобы можно было
увезти Дон Кихота домой, в село. Карденио посоветовал продолжать начатое,
причем Люсинда могла бы взять на себя и разыграть роль Доротеи.
-- Нет, -- сказал дон Фернандо,-- этого не надо, потому что я желаю,
чтобы Доротеа сама довела до конца свою выдумку; и, если село этого доброго
рыцаря не очень далеко отсюда, мне доставит большое удовольствие
содействовать его излечению.
-- Оно не более чем в двух дней пути отсюда.
-- Если б оно было и дальше, я бы и туда с радостью поехал, лишь бы
сделать столь доброе дело.
В это время вошел Дон Кихот, вооруженный всеми своими доспехами, со
шлемом Мамбрино на голове, хотя и изогнутым, со щитом, продетым на руку, и
опираясь на свой шест или копье.
Дона Фернандо и остальных удивила столь странная фигура Дон Кихота, и,
глядя на его лицо -- длинное, сухое и желтое, -- на все эти не
соответствующие друг другу части его вооружения и на его полную достоинства
осанку, они молча ждали, что он скажет. А он с величайшим спокойствием и
серьезностью, устремив глаза на прекрасную Доротею, обратился к ней с такою
речью:
-- Я извещен, прелестная сеньора, этим моим оруженосцем, что ваше
величие унижено и звание ваше уничтожено, так как из королевы и знатной
особы вы обратились в простую девушку. Если это случилось по распоряжению
короля-чернокнижника, -- вашего отца, опасавшегося, что я не окажу вам
необходимой и должной помощи, -- я скажу, что он не знал и не знает и
половины обедни и был мало сведущ в рыцарских историях, потому что если бы
он их читал так внимательно и продолжительно, как я читал и изучал их, то на
каждом шагу видел бы, как другие, еще менее известные, чем я, рыцари
совершали куда более трудные подвиги. Ведь нет ничего особенного в том, чтоб
убить великанчика, каким бы он ни был надменным, так как несколько часов
тому назад я вступил с ним в бой и... лучше замолчу, чтобы мне не сказали,
что я лгу; но время -- разоблачитель всего на свете -- заговорит, когда
менее всего будем ждать этого.
-- Вы вступили в бой с двумя бурдюками вина, а не с великаном, --
сказал тогда хозяин двора; но дон Фернандо велел ему молчать и ни в каком
случае не прерывать речи Дон Кихота, который продолжал таким образом:
-- Словом, я говорю, возвышенная и лишенная наследства сеньора, что
если по причине, на которую я указал, отец ваш произвел эту метаморфозу с
вашей особой, не придавайте этому никакого значения, потому что на свете нет
той опасности, через которую не проложил бы себе путь мой меч, и с помощью
его я низвергну вашего врага и возложу вам на голову корону вашего
королевства.
Ничего больше не сказал Дон Кихот и ждал, что ему ответит принцесса, а
она, уже зная о решении дона Фернандо, чтобы она продолжала играть свою
роль, пока не довезут Дон Кихота до его села, ответила с большой важностью и
непринужденностью:
-- Кто бы вам ни сказал, доблестный Рыцарь Печального Образа, будто я
изменилась и преобразилась по своему существу, сказал вам неправду, потому
что я и сегодня остаюсь тем же, чем была вчера. Действительно, некоторые
события произвели во мне перемену, так как они дали мне лучшее из всего, что
я могла бы желать себе, но, несмотря на это, я не перестала быть такой,
какой была и раньше, и придерживаться тех же намерений, какие у меня всегда
были, -- прибегнуть к доблести вашей храброй и непобедимой руки. Так что,
сеньор, пусть милость ваша вернет моему отцу, от которого я произошла на
свет, его честь и считает его человеком рассудительным и сведущим, потому
что, благодаря своей науке, он нашел такой легкий и верный путь помочь мне в
моей беде. Если бы не вы, сеньор, я думаю, что никогда бы я не достигла
счастья, которого я достигла, а что сказанное мною верно, в этом могу
сослаться на свидетельство всех присутствующих здесь. Нам остается только
отправиться завтра утром в путь, так как сегодня нельзя было бы ехать
далеко. Что же касается счастливого окончания дела, на которое я надеюсь, я
полагаюсь на Бога и на ваше мужественное сердце.
Вот что сказала умная Доротеа, и Дон Кихот, выслушав ее, обернулся к
Санчо и с видом сильнейшего негодования объявил ему:
-- Теперь я скажу тебе, Санчуэло, что ты самый большой плутище во всей
Испании. Скажи, вор, бродяга, не ты ли говорил мне сейчас, будто эта
принцесса превратилась в простую девушку по имени Доротеа, и голова, которую
я, как думал, отрубил у великана, -- та блудница, что родила тебя, и другие
тому подобные нелепости, приведшие меня в величайшее смущение, когда-либо
испытанное мною в жизни? Но клянусь (и он поднял глаза к небу и стиснул
зубы), я готов так разгромить тебя, что от этого поумнели бы отныне и впредь
все лгуны оруженосцы, сколько бы их ни было у странствующих рыцарей!
-- Успокойтесь, милость ваша сеньор мой, -- ответил Санчо, -- очень
возможно, что я ошибся относительно превращения сеньоры принцессы
Микомиконы. Что же касается головы великана или, по крайней мере, прорванных
бурдюков и того, что кровь была красное вино, я не ошибаюсь, клянусь Богом,
потому что бурдюки стоят прорванные у изголовья постели вашей милости, а в
комнате целое озеро красного вина. Если же нет, вы узнаете это, когда вам
прийдется жарить яйца в масле {Al freir de loi huevos lo vera --
общеупотребительное испанское выражение, означающее: "Вы это увидите, когда
придется расплачиваться за это".}, я хочу сказать, вы это увидите, когда его
милость, сеньор хозяин здешнего постоялого двора, представит вам счет за
убытки. Что же до остального, то есть что сеньора королева осталась тем, чем
была, я всей душою этому рад, потому что и я получу свою долю, как и всякий
соседский сын {Испанская поговорка.}.
-- Теперь говорю тебе, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- что ты глуп;
прости меня, и довольно.
-- Довольно, -- подтвердил дон Фернандо, -- и ни слова больше об этом;
а так как сеньора принцесса говорит, что нам следует ехать завтра, потому
что сегодня уже слишком поздно, -- мы так и сделаем. Эту же ночь можно будет
провести в приятной беседе до наступления дня, когда мы все поедем
сопровождать сеньора Дон Кихота, так как желаем быть свидетелями доблестных
и неслыханных подвигов, которые ему предстоит совершить, исполняя взятое им
на себя великое предприятие.
-- Этим мне следовало бы служить вам и сопровождать вас, -- ответил Дон
Кихот. -- Очень вам признателен за оказанную мне милость и за ваше доброе
мнение обо мне, которое постараюсь оправдать или заплачу за него жизнью и
даже больше жизни, если б имел что-либо большее.
Еще многими любезностями и предложениями услуг обменялись Дон Кихот и
дон Фернандо; но всему этому положил конец путешественник, который как раз в
то время вошел на постоялый двор. Судя по одежде, он казался христианином,
только что вернувшимся из страны мавров, так как на нем было нечто вроде
кафтана из голубого сукна с короткими фалдами, полурукавами и без воротника,
панталоны из голубого полотна и шапка такого же цвета {Обычный костюм
пленных христиан, находившихся в неволе в Берберии.}. Ноги были обуты в
полусапоги цвета фиников, а мавританский короткий меч висел на перевязи,
обхватывающей ему грудь. Позади него, верхом на осле, ехала женщина, одетая
по-мавритански, с закутанным лицом и покрывалом на голове, сверх которого
была надета маленькая шапочка из золотой парчи, а длинная мавританская
мантия падала с ее плеч до ног. Мужчина был высокого роста, стройный, в
возрасте немного более сорока лет, со смуглым лицом, длинными усами и
окладистой бородой, словом, вид его был таков, что, будь он лучше одет, его
можно было бы принять за человека знатного и весьма хорошего происхождения.
Войдя, он спросил отдельную комнату и, по-видимому, огорчился, когда ему
сообщили, что такой нет на постоялом дворе, а затем, подойдя к той, которая
по одежде казалась мавританкой, он снял ее с осла. Люсинда, Доротеа,
хозяйка, ее дочь и Мариторнес, привлеченные новым и никогда не виденным ими
костюмом, окружили мавританку; а Доротеа, которая всегда была любезная,
учтивая и догадливая, заметив, что оба, и она и ее спутник, огорчены
отсутствием отдельной комнаты, сказала:
-- Не смущайтесь, сеньора, тем, что здесь нет никаких удобств: это
свойство всех постоялых дворов; но тем не менее если вам угодно будет
поместиться с нами (указывая на Люсинду), -- быть может, за все ваше
путешествие вы не встретите столь радушного приема.
Сеньора, закутанная покрывалом, ничего не ответила, а только встала со
своего места и, скрестив руки на груди, наклонила голову и все туловище в
знак благодарности. Из ее молчания они заключили, что, без сомнения, она
мавританка и не умеет говорить на христианском языке. В это время вошел
пленник, который до тех пор был занят другими делами, и, видя, что все
окружили приехавшую с ним, а она на их вопросы ничего не отвечает, сказал:
-- Сеньоры мои, эта девушка почти не понимает нашего языка и говорит
только на своем родном языке, поэтому она не отвечала и не может ответить на
то, что у нее спрашивали.
-- Мы не спрашиваем у нее ничего,-- ответила Люсинда, -- а только
предлагаем ей на эту ночь свое общество и часть комнаты, в которой мы
устроимся и где она найдет все удобства, возможные в здешнем помещении, с
тем доброжелательством, которое обязывает нас служить всем иностранцам,
нуждающимся в наших услугах, в особенности же если нуждается в них женщина.
-- За нее и за себя, -- ответил пленник, -- целую вам руки, сеньора
моя, и, как и подобает, высоко ценю предлагаемую вами милость, которая при
данных обстоятельствах и со стороны таких лиц, какими вы кажетесь,
несомненно, весьма велика.
-- Скажите мне, сеньор, -- спросила Доротеа, -- эта девушка христианка
или мавританка? {Мавры были мусульманами.} Так как одежда ее и молчание
заставляют нас предполагать, что она то, чем бы мы не желали, чтобы она
была.
-- По одежде и происхождению она мавританка, но душой -- величайшая
христианка, потому что она исполнена сильнейшего желания сделаться ею.
-- Значит, она еще не крещена? -- спросила Люсинда.
-- Не было времени для этого, -- сказал пленник. -- С тех пор как она
покинула Алжир, свою родину и местожительство, она не была еще в столь
близкой опасности смерти, которая бы вынудила крестить ее прежде, чем она
ознакомится со всеми обрядами, знать которые предписывается нашей святою
матерью церковью. Но если Богу будет угодно, вскоре она примет крещение с
торжественностью, подобающею ее званию, более высокому, чем может казаться
по ее и моей одежде.
Этими словами он возбудил во всех слушавших его желание узнать, кто
такие мавританка и пленник, -- но никто не хотел спрашивать его об этом
тогда же, хорошо понимая, что теперь им следует скорее доставить отдых, чем
расспрашивать об их жизни. Доротеа взяла мавританку за руку и, усадив ее
рядом с собой, попросила снять покрывало. Мавританка взглянула на пленника,
как бы спрашивая его: что они говорят и что ей надо делать? Он сказал ей на
арабском языке, что ее просят снять с лица покрывало и она может исполнить
эту просьбу. Итак, она сняла вуаль и открыла лицо, до того прелестное, что
Доротеа нашла ее красивее Люсинды, а Люсинда -- красивее Доротеи, и все
присутствовавшие признали: если бы кто-либо мог по красоте сравниться с ними
обеими, то только мавританка, а некоторые даже ставили ее в иных частностях
выше их. Но так как красота обладает прерогативой и особым преимуществом
побеждать сердца и привлекать симпатии, тотчас же все почувствовали желание
служить очаровательной мавританке и как-нибудь обласкать ее. Дон Фернандо
спросил пленника, как зовут мавританку, и тот ответил, что имя ее Лела
Сораида. Лишь только она услышала это, тотчас же она поняла, о чем спросили
христианина, и поспешно, с милой резвостью воскликнула: -- Нет, нет Сораида,
-- Мария, Мария, -- давая им понять, что ее зовут Мария, а не Сораида. Слова
ее и горячность, с которой она произнесла их, тронули некоторых до слез, в
особенности женщин, которые по природе нежны и сострадательны. Люсинда
поцеловала ее с искренней любовью и сказала: -- Да, да, Мария, Мария. -- А
на это мавританка ответила: -- Да, да, Мария -- Сораида macange {Macange --
на искаженном разговорном наречии Берберии означает: "нет, никоим
образом".}, -- что должно означать нет.
Между тем настала ночь, и по распоряжению тех, которые сопровождали
дона Фернандо, хозяин двора употребил все заботы и усилия, чтобы как можно
лучше приготовить ужин, а когда настало время, все уселись за длинный стол,
какие бывают в людских, потому что на постоялом дворе не было ни круглого,
ни квадратного стола. На верхнем конце и самом почетном месте усадили --
хотя он и отказывался -- Дон Кихота, пожелавшего, чтобы рядом с ним села,
так как он ее покровитель, сеньора Микомикона, затем сели Люсинда и Сораида,
а против них -- дон Фернандо с Карденио, потом пленник и остальные
кабальеросы, а рядом с дамами -- священник и цирюльник. Итак, они принялись
весело ужинать, и их веселье еще более возросло, когда они увидели, что Дон
Кихот, перестав есть и движимый подобного же рода вдохновением, как то,
которое его побудило произнести столь длинную речь за ужином с козопасами,
обратился к ним со следующими словами:
-- Поистине, сеньоры мои, если хорошенько рассудить, великие и
неслыханные вещи видят те, кто принадлежит к ордену странствующего
рыцарства. А если нет, кто из живущих на свете, войдя теперь в дверь этого
замка и увидев нас, как мы здесь сидим, принял бы и счел нас за то, что мы
есть на самом деле? Кто мог бы сказать, что эта сеньора, сидящая рядом со
мной, -- великая королева, как это всем нам известно, и что я тот Рыцарь
Печального Образа, слава которого всюду провозглашается молвой? Не подлежит
теперь уже сомнению, что это искусство и занятие превосходит все остальные,
изобретенные людьми, и тем выше надо его ставить, чем большим опасностям оно
подвержено. Прочь от меня те, которые скажут, что словесные науки выше
оружия, так как я им объявляю, кто бы они ни были, что они не знают, что
говорят. Довод, который такие люди обыкновенно приводят и на который они
более всего опираются, тот, что умственный труд выше физического труда и в
военном деле упражняется только тело, как будто это занятие такое же, как и
труд крючника, для которого исключительно требуется одна лишь физическая
сила; или как будто в то, что мы, занимающиеся им, называем военным делом,
не включены также и подвиги мужества, для выполнения которых требуется
большой ум; или как будто военачальнику, на попечении которого находится
целая армия или защита осажденного города, не надо работать так же духом,
как и телом. А если нет, посмотрим, можно ли путем одной лишь физической
силы угадать и проникнуть в намерения неприятеля, в его планы и военные
хитрости и избегнуть и предупредить затруднения и неминуемые опасности, --
все это действия рассудка, в которых тело не принимает участия. А раз это
так, и оружие тоже, как и словесные науки, требует ума, посмотрим, какой из
этих двух умов больше работает: ум ли ученого или военного, -- а это можно
узнать по тому, к какому итогу и цели каждый из них стремится, так как то
намерение следует ценить выше, которое поставило себе более благородную
цель. Предмет и цель словесных наук -- я не говорю здесь о богословских
науках, конечная цель которых -- направлять и вести души к небу, потому что
с такой бесконечной целью, как эта, нельзя сравнить никакой другой, -- я
говорю о человеческих науках {О словесных науках и вообще всяком знании,
исключая богословие.}, цель которых -- упорядочить воздаятельное правосудие
и дать всякому то, что ему надлежит, вводить хорошие законы и следить за их
исполнением, -- цель, несомненно, великодушная, возвышенная и достойная
великой похвалы, но не столь великой, как подобающая оружию, предмет и
конечная цель которого -- мир, то есть величайшее благо, какого только могут
пожелать себе люди в этой жизни. Вот почему первая благая весть, дошедшая до
земли и до людей, была та, которую принесли ангелы в ночь, ставшую для нас
днем, когда они пели в небесах: "Слава в вышних Богу; и на землю мир, в
человецех благоволение". И привет, которому лучший из учителей земли и неба
научил Своих учеников и избранников, был, когда они входят в какой-нибудь
дом, сказать: "Мир дому сему". Много раз Он и Сам им говорил: "Мир мой даю
вам, мир Мой оставляю вам; мир да будет с вами" -- истинное сокровище и
драгоценность, данные и завещанные такой рукой; сокровище, без которого ни
на небе, ни на земле не может существовать счастья! Этот мир и есть истинная
цель войны, а война и оружие -- одно и то же. Итак, допустив эту истину, что
цель войны -- мир, и что цель эта стоит выше цели, к которой стремятся
словесные науки, сравним теперь физические тяготы ученого с тяготами того,
кто посвятил себя военному делу, и посмотрим, чьи тяжелее.
Дон Кихот произнес свою речь таким образом и в столь соответственных
выражениях, что никто из слушавших его тогда не мог принять его за
сумасшедшего, а напротив, так как большинство из них были рыцари, причастные
к военному делу, они слушали его с большим удовольствием, а он продолжал
следующим образом:
-- Итак, говорю я, лишения учащегося или студента следующие: прежде
всего бедность, не потому чтобы все студенты были бедны, а потому что я
хотел взять худший из случаев, -- а сказав, что студент испытывает бедность,
мне кажется, что я все сказал о тяжелой его доле, потому что кто беден, нет
у того ничего хорошего. Эта бедность донимает студента разными путями: то
голодом, то холодом, то наготой, то всем этим вместе взятым; но все же она
не доходит до такой степени, чтобы он не ел вовсе, хотя бы ему и пришлось
есть несколько позже, чем полагается, и едой его были бы остатки со стола
богатых, или бы он испытывал верх студенческой бедности, -- то, что они
между собой называют "хождением на суп" {Andar alasopa ("ходить на суп") --
так назывался довольно распространенный обычай бедных студентов во времена
Сервантеса ждать выдаваемую им похлебку у ворот монастырей. Таких студентов
называли сопистами.}. Для них всегда найдется где-нибудь у соседей жаровня с
горящими углями или камин, у которого они могут, если и не вполне согреться,
когда им холодно, то, по крайней мере, хоть несколько отогреться, и,
наконец, ночью они спят под кровом. Не хочу касаться других мелочей, как
например: недостатка рубашек, отсутствия изобилия башмаков, скудости и
обветшалости одежды, а также не коснусь я и склонности их чрезмерно
объедаться, когда счастливый случай пошлет им какую-нибудь пирушку. По этому
пути, который я описал, -- трудному и суровому пути, -- спотыкаясь здесь,
падая там, опять поднимаясь и вновь падая, достигают они той ступени, к
которой стремятся. А раз они достигнули своего, то мы видим, как многие,
которые, пройдя через эти Сирты и эти Сциллы и Харибды, точно их несла на
крыльях своих благосклонная к ним судьба, я говорю, что мы видим, как они
повелевали и управляли миром из своего кресла, променяв голод на сытость,
холод -- на приятную свежесть, наготу -- на роскошные наряды, сон на
циновках -- на сладкий отдых на голландских простынях и парче, -- награда,
справедливо заслуженная их добродетелью. Но если их лишения сравнить и
сопоставить с лишениями, испытываемыми сражающимся воином, то они останутся
далеко позади них, как я сейчас объясню вам.

Глава XXXVIII, в которой приведена любопытная речь, произнесенная Дон
Кихотом по поводу оружия и словесных наук
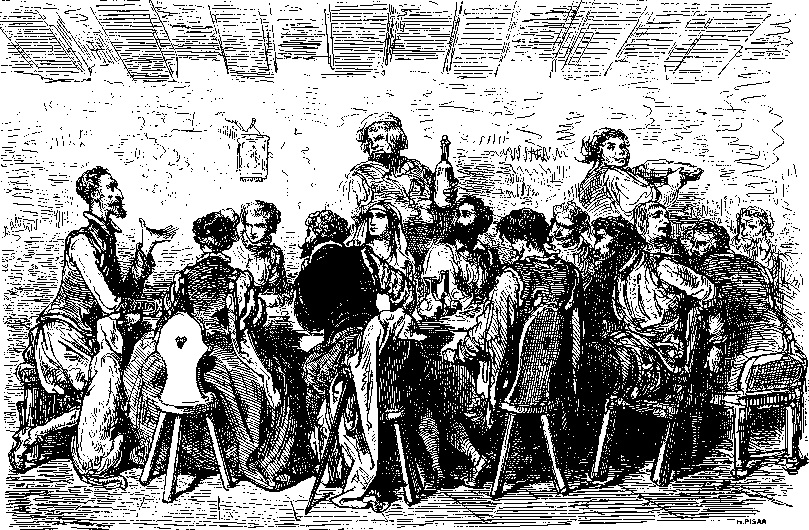 Продолжая свою речь, Дон Кихот сказал:
-- Так как, говоря о студенте, мы начали с бедности и ее проявлений,
посмотрим теперь, богаче ли солдат, и мы увидим, что в самой бедности никто
не беднее его, потому что он должен довольствоваться одним лишь несчастным
своим жалованием, выплачиваемым поздно или никогда, или же тем, что он
награбит собственными руками с немалой опасностью для жизни и совести своей.
При этом нагота его доходит иногда до того, что изрубленная куртка служит
ему и парадной одеждой и рубашкой, и, находясь в открытом поле среди зимы,
он защищен от непогоды и стужи одним лишь дыханием своего рта, а так как оно
выходит из пустого места, то я считаю достоверным, что оно должно выходить
холодным, вопреки законам природы. Но, думаете вы, пусть он подождет, пока
наступит ночь, чтобы отдохнуть от всех этих неудобств в приготовленной для
него постели; а она никогда не грешит тем, что узка, разве только по
собственной его вине, потому что он может себе отмерить сколько хочет футов
на земле и ворочаться здесь во все свое удовольствие, не боясь измять
простынь. И вот, после всего этого, наступает для него день и час получить
высшую степень в своем искусстве: наступает день сражения, когда ему наденут
на голову докторскую шапку с кисточкой {Borla -- букв. "кисточка", которая
прикреплялась к университетской шапке и служила знаком докторской ученой
степени.}, сделанную из корпии, чтобы вылечить рану от пули, которая, быть
может, прошла у него через виски или же искалечила ему ногу или руку {Никто
лучше Сервантеса, знавшего все это по собственному опыту, не мог и не имел
права говорить о лишениях солдата и тяжелом его положении, особенно тяжелом
в Испании в царствование Филиппа II и его сына.}. Если же и этого не
случилось и милосердное небо сохранило его живым и невредимым, он, вернее
всего, останется таким же бедняком, каким был и прежде, и потребуется, чтобы
одно сражение следовало за другим, одна битва за другой, и он из всех из них
выходил победителем для того, чтобы несколько улучшилось его положение; а
такие чудеса встречаются редко. Но скажите-ка мне, сеньоры, если вы
когда-нибудь об этом думали, насколько число награжденных за военные
действия меньше сравнительно с погибшими от них? Без сомнения, вы ответите
мне, что между ними не может быть сравнения, -- так как нельзя и исчислить
мертвых, а награжденных живых можно сосчитать тремя цифрами {Т. е. менее
тысячи.}.
Совершенно обратное мы видим среди прошедших курс наук {letrados --
люди, прошедшие курс науки, адвокаты, должностные лица, доктора и т. д.},
так как благодаря жалованию -- я не хочу сказать побочным доходам {В
оригинале: defaldas, que no quiero decir de mangas -- букв.: "благодаря
полам одежды, я не хочу сказать рукавам"; Faldas противопоставляется здесь
mangas: первое должно означать определенное жалованье, второе -- подношения,
взятки. Во времена Сервантеса, когда подкуп был всеобщим явлением среди
должностных лиц, было в обычае класть эту взятку в рукава их официальной
одежды, а эти рукава делались в то время необычайно широкими.} -- они имеют,
чем содержать себя; следовательно, хотя труд солдата и больше,
вознаграждение его куда меньше. На это мне могут возразить, что легче
вознаградить две тысячи ученых, чем тридцать тысяч солдат, потому что первые
вознаграждаются должностями, которые силою вещей могут быть заняты только
людьми их звания, в то время как солдаты могут быть вознаграждены не иначе
как из средств сеньора, которому они служат; и эта-то невозможность еще
больше подтверждает доводы, приводимые мною. Однако оставим это в стороне,
так как это лабиринт, из которого трудно выбраться, и вернемся к
превосходству оружия над словесными науками, -- вопросу, до сих пор еще не
решенному, судя по доводам, которые каждая из сторон приводит в свою пользу.
Кроме тех, о которых я уже упоминал, словесные науки еще говорят, что без
них и оружие не могло бы существовать, потому что и война тоже имеет свои
законы и подчинена им, а законы входят в область словесных наук и людей
пера. На это оружие отвечает, что без него не могли бы существовать и
законы, так как оружием ограждаются государства, поддерживаются королевства,
охраняются города, достигается безопасность дорог и очищаются моря от
пиратов, и в конце концов, если б не оружие, государства, королевства,
монархии, города, сухопутные дороги и моря были бы обречены на жертвы смутам
и жестокостям, которые ведет за собой война на то время, пока она
продолжается и свободно пользуется своими правами и своею властью. К тому же
истина доказанная: все, что стоит дороже, и ценится и должно цениться выше.
Чтобы отличиться и выдвинуться в словесных науках, приходится платить за это
временем, бессонными ночами, голодом, наготой, головокружениями, несварением
желудка и другими тому подобными вещами, о которых я уже отчасти упоминал.
Но если кто желает, пройдя по всем ступеням, сделаться хорошим солдатом, ему
придется претерпеть то же, что и студенту, только в еще гораздо больших
размерах, так что не может быть между ними и сравнения, потому что на каждом
шагу солдат подвергается опасности лишиться жизни. Какой же страх перед
нуждой или бедностью, постигнувший студента и мучащий его, может сравниться
с тем, который овладевает солдатом, находящимся в осажденной крепости, когда
он, стоя на посту или на часах где-нибудь в равелине или на бастионе,
слышит, что неприятель подводит мину по направлению того места, где он
находится, но ни в каком случае не смеет ни на шаг уйти оттуда или бежать от
опасности, которая ему так близко угрожает. Единственное, что он может
сделать, -- это дать знать о том, что происходит, своему начальнику, чтобы
тот поправил дело какой-нибудь контрминой, а сам он должен стоять спокойно в
страхе и ожидании, что вот-вот его без крыльев занесет под облака и он
низринется в бездну против своей воли. А если и эта опасность кажется
незначительной, посмотрим, равняется ли ей или превосходит ее та, когда две
враждебные галеры, встретившись в безбрежном море, сцепляются на абордаж,
оставив солдату не более пространства, как только доску в два фута на носу
корабля; и тем не менее видя перед собой столько угрожающих ему послов
смерти, сколько на неприятельском корабле установлено пушек, отстоящих от
его тела на длину копья, и зная, что при первом неверном шаге ему придется
посетить глубокие недра Нептуна, тем не менее с бесстрашным сердцем,
движимый одушевляющим его велением чести, он решается быть мишенью всех этих
огнестрельных орудий и пытается перейти по узкому проходу на неприятельский
корабль. И вот что заслуживает еще большего удивления: едва один упал туда,
откуда ему уже нельзя будет подняться до конца мира, как уже другой занял
его место; и если и этот упадет в море, которое, как враг, стережет его, за
ним последуют еще и еще, один за другим, не давая даже времени умереть
предыдущим, -- величайшая доблесть и отвага, которую только мыслимо проявить
во всех опасностях войны. Хвала благословенным векам, не знавшим ужасающей
ярости этих дьявольских артиллерийских орудий, изобретатель которых,
думается мне, получает в аду награду за сатанинское свое изобретение,
являющееся причиной того, что гнусная и трусливая рука отнимает жизнь у
доблестного рыцаря; и того, что неведомо как и откуда, среди отваги и
мужества, воодушевляющих и воспламеняющих груди храбрецов, пронесется
шальная пуля, пущенная, быть может, тем, который бежал и испугался блеска
огня при выстреле из проклятой машины, и эта пуля в одно мгновение
уничтожает и пресекает мысли и жизнь того, кто заслуживал бы наслаждаться ею
еще долгие и долгие годы. Вот почему, вспомнив об этом, я готов сказать:
душа моя болит при мысли, что я избрал себе профессию странствующего рыцаря
в столь отвратительный век, как тот, в котором мы теперь живем; так как,
хотя никакая опасность не страшит меня, тем не менее мне жутко думать, что
порох и свинец могут отнять у меня случай прославиться и сделаться известным
на всем пространстве земного шара доблестью руки моей и острием меча моего.
Но пусть совершится то, что будет угодно небу, потому что настолько выше
поставят меня, -- если я достигну того, к чему стремлюсь, -- насколько
большим опасностям я подвергался сравнительно с опасностями, которым
подвергались странствующие рыцари прошлых веков.
Всю эту длинную тираду Дон Кихот произнес, пока остальные ели, не кладя
себе ни куска в рот, несмотря на то, что Санчо Панса несколько раз напоминал
ему, чтобы он ужинал, так как и после успеет сказать все, что пожелает. Тех,
которые слушали его, охватило снова сострадание при виде человека,
обладавшего, как казалось, таким светлым умом, умеющего так хорошо
рассуждать обо всех предметах, но терявшего бесповоротно рассудок, лишь
только дело касалось его черного как смоль проклятого рыцарства. Священник
заявил ему, что он совершенно прав во всем, что говорил в пользу оружия, и
что сам он -- священник -- хотя и учился и имеет ученую степень, но держится
того же мнения. Кончили ужинать, сняли со стола, и пока хозяйка, ее дочь и
Мариторнес приводили в порядок чердак Дон Кихота Ламанчского, где решили
уложить спать на эту ночь одних только женщин, -- дон Фернандо попросил
пленника рассказать им историю своей жизни, которая не может не быть
интересной и занимательной, судя уже по тому, что он приехал сюда в обществе
Сораиды. На это пленник ответил, что очень охотно сделает то, о чем его
просят, но опасается лишь одного: его повесть такого рода, что вряд ли может
доставить им удовольствие, которое он желал бы доставить; тем не менее,
подчиняясь их воле, он готов приступить к рассказу. Священник и остальные
поблагодарили его и возобновили свои просьбы, а он, видя, что столь многие
упрашивают его, сказал, что нет надобности в упрашивании там, где имеют
власть требовать.
-- Итак, -- добавил он, -- будьте внимательны, сеньоры, и вы услышите
правдивую историю, с которою, быть может, не сравниться вымыслам,
обыкновенно столь старательно и искусно сочиняемым.
После этих его слов, все уселись, храня глубокое молчание; а он, видя,
что они молчат и ждут его рассказа, приятным и спокойным голосом начал так.
Продолжая свою речь, Дон Кихот сказал:
-- Так как, говоря о студенте, мы начали с бедности и ее проявлений,
посмотрим теперь, богаче ли солдат, и мы увидим, что в самой бедности никто
не беднее его, потому что он должен довольствоваться одним лишь несчастным
своим жалованием, выплачиваемым поздно или никогда, или же тем, что он
награбит собственными руками с немалой опасностью для жизни и совести своей.
При этом нагота его доходит иногда до того, что изрубленная куртка служит
ему и парадной одеждой и рубашкой, и, находясь в открытом поле среди зимы,
он защищен от непогоды и стужи одним лишь дыханием своего рта, а так как оно
выходит из пустого места, то я считаю достоверным, что оно должно выходить
холодным, вопреки законам природы. Но, думаете вы, пусть он подождет, пока
наступит ночь, чтобы отдохнуть от всех этих неудобств в приготовленной для
него постели; а она никогда не грешит тем, что узка, разве только по
собственной его вине, потому что он может себе отмерить сколько хочет футов
на земле и ворочаться здесь во все свое удовольствие, не боясь измять
простынь. И вот, после всего этого, наступает для него день и час получить
высшую степень в своем искусстве: наступает день сражения, когда ему наденут
на голову докторскую шапку с кисточкой {Borla -- букв. "кисточка", которая
прикреплялась к университетской шапке и служила знаком докторской ученой
степени.}, сделанную из корпии, чтобы вылечить рану от пули, которая, быть
может, прошла у него через виски или же искалечила ему ногу или руку {Никто
лучше Сервантеса, знавшего все это по собственному опыту, не мог и не имел
права говорить о лишениях солдата и тяжелом его положении, особенно тяжелом
в Испании в царствование Филиппа II и его сына.}. Если же и этого не
случилось и милосердное небо сохранило его живым и невредимым, он, вернее
всего, останется таким же бедняком, каким был и прежде, и потребуется, чтобы
одно сражение следовало за другим, одна битва за другой, и он из всех из них
выходил победителем для того, чтобы несколько улучшилось его положение; а
такие чудеса встречаются редко. Но скажите-ка мне, сеньоры, если вы
когда-нибудь об этом думали, насколько число награжденных за военные
действия меньше сравнительно с погибшими от них? Без сомнения, вы ответите
мне, что между ними не может быть сравнения, -- так как нельзя и исчислить
мертвых, а награжденных живых можно сосчитать тремя цифрами {Т. е. менее
тысячи.}.
Совершенно обратное мы видим среди прошедших курс наук {letrados --
люди, прошедшие курс науки, адвокаты, должностные лица, доктора и т. д.},
так как благодаря жалованию -- я не хочу сказать побочным доходам {В
оригинале: defaldas, que no quiero decir de mangas -- букв.: "благодаря
полам одежды, я не хочу сказать рукавам"; Faldas противопоставляется здесь
mangas: первое должно означать определенное жалованье, второе -- подношения,
взятки. Во времена Сервантеса, когда подкуп был всеобщим явлением среди
должностных лиц, было в обычае класть эту взятку в рукава их официальной
одежды, а эти рукава делались в то время необычайно широкими.} -- они имеют,
чем содержать себя; следовательно, хотя труд солдата и больше,
вознаграждение его куда меньше. На это мне могут возразить, что легче
вознаградить две тысячи ученых, чем тридцать тысяч солдат, потому что первые
вознаграждаются должностями, которые силою вещей могут быть заняты только
людьми их звания, в то время как солдаты могут быть вознаграждены не иначе
как из средств сеньора, которому они служат; и эта-то невозможность еще
больше подтверждает доводы, приводимые мною. Однако оставим это в стороне,
так как это лабиринт, из которого трудно выбраться, и вернемся к
превосходству оружия над словесными науками, -- вопросу, до сих пор еще не
решенному, судя по доводам, которые каждая из сторон приводит в свою пользу.
Кроме тех, о которых я уже упоминал, словесные науки еще говорят, что без
них и оружие не могло бы существовать, потому что и война тоже имеет свои
законы и подчинена им, а законы входят в область словесных наук и людей
пера. На это оружие отвечает, что без него не могли бы существовать и
законы, так как оружием ограждаются государства, поддерживаются королевства,
охраняются города, достигается безопасность дорог и очищаются моря от
пиратов, и в конце концов, если б не оружие, государства, королевства,
монархии, города, сухопутные дороги и моря были бы обречены на жертвы смутам
и жестокостям, которые ведет за собой война на то время, пока она
продолжается и свободно пользуется своими правами и своею властью. К тому же
истина доказанная: все, что стоит дороже, и ценится и должно цениться выше.
Чтобы отличиться и выдвинуться в словесных науках, приходится платить за это
временем, бессонными ночами, голодом, наготой, головокружениями, несварением
желудка и другими тому подобными вещами, о которых я уже отчасти упоминал.
Но если кто желает, пройдя по всем ступеням, сделаться хорошим солдатом, ему
придется претерпеть то же, что и студенту, только в еще гораздо больших
размерах, так что не может быть между ними и сравнения, потому что на каждом
шагу солдат подвергается опасности лишиться жизни. Какой же страх перед
нуждой или бедностью, постигнувший студента и мучащий его, может сравниться
с тем, который овладевает солдатом, находящимся в осажденной крепости, когда
он, стоя на посту или на часах где-нибудь в равелине или на бастионе,
слышит, что неприятель подводит мину по направлению того места, где он
находится, но ни в каком случае не смеет ни на шаг уйти оттуда или бежать от
опасности, которая ему так близко угрожает. Единственное, что он может
сделать, -- это дать знать о том, что происходит, своему начальнику, чтобы
тот поправил дело какой-нибудь контрминой, а сам он должен стоять спокойно в
страхе и ожидании, что вот-вот его без крыльев занесет под облака и он
низринется в бездну против своей воли. А если и эта опасность кажется
незначительной, посмотрим, равняется ли ей или превосходит ее та, когда две
враждебные галеры, встретившись в безбрежном море, сцепляются на абордаж,
оставив солдату не более пространства, как только доску в два фута на носу
корабля; и тем не менее видя перед собой столько угрожающих ему послов
смерти, сколько на неприятельском корабле установлено пушек, отстоящих от
его тела на длину копья, и зная, что при первом неверном шаге ему придется
посетить глубокие недра Нептуна, тем не менее с бесстрашным сердцем,
движимый одушевляющим его велением чести, он решается быть мишенью всех этих
огнестрельных орудий и пытается перейти по узкому проходу на неприятельский
корабль. И вот что заслуживает еще большего удивления: едва один упал туда,
откуда ему уже нельзя будет подняться до конца мира, как уже другой занял
его место; и если и этот упадет в море, которое, как враг, стережет его, за
ним последуют еще и еще, один за другим, не давая даже времени умереть
предыдущим, -- величайшая доблесть и отвага, которую только мыслимо проявить
во всех опасностях войны. Хвала благословенным векам, не знавшим ужасающей
ярости этих дьявольских артиллерийских орудий, изобретатель которых,
думается мне, получает в аду награду за сатанинское свое изобретение,
являющееся причиной того, что гнусная и трусливая рука отнимает жизнь у
доблестного рыцаря; и того, что неведомо как и откуда, среди отваги и
мужества, воодушевляющих и воспламеняющих груди храбрецов, пронесется
шальная пуля, пущенная, быть может, тем, который бежал и испугался блеска
огня при выстреле из проклятой машины, и эта пуля в одно мгновение
уничтожает и пресекает мысли и жизнь того, кто заслуживал бы наслаждаться ею
еще долгие и долгие годы. Вот почему, вспомнив об этом, я готов сказать:
душа моя болит при мысли, что я избрал себе профессию странствующего рыцаря
в столь отвратительный век, как тот, в котором мы теперь живем; так как,
хотя никакая опасность не страшит меня, тем не менее мне жутко думать, что
порох и свинец могут отнять у меня случай прославиться и сделаться известным
на всем пространстве земного шара доблестью руки моей и острием меча моего.
Но пусть совершится то, что будет угодно небу, потому что настолько выше
поставят меня, -- если я достигну того, к чему стремлюсь, -- насколько
большим опасностям я подвергался сравнительно с опасностями, которым
подвергались странствующие рыцари прошлых веков.
Всю эту длинную тираду Дон Кихот произнес, пока остальные ели, не кладя
себе ни куска в рот, несмотря на то, что Санчо Панса несколько раз напоминал
ему, чтобы он ужинал, так как и после успеет сказать все, что пожелает. Тех,
которые слушали его, охватило снова сострадание при виде человека,
обладавшего, как казалось, таким светлым умом, умеющего так хорошо
рассуждать обо всех предметах, но терявшего бесповоротно рассудок, лишь
только дело касалось его черного как смоль проклятого рыцарства. Священник
заявил ему, что он совершенно прав во всем, что говорил в пользу оружия, и
что сам он -- священник -- хотя и учился и имеет ученую степень, но держится
того же мнения. Кончили ужинать, сняли со стола, и пока хозяйка, ее дочь и
Мариторнес приводили в порядок чердак Дон Кихота Ламанчского, где решили
уложить спать на эту ночь одних только женщин, -- дон Фернандо попросил
пленника рассказать им историю своей жизни, которая не может не быть
интересной и занимательной, судя уже по тому, что он приехал сюда в обществе
Сораиды. На это пленник ответил, что очень охотно сделает то, о чем его
просят, но опасается лишь одного: его повесть такого рода, что вряд ли может
доставить им удовольствие, которое он желал бы доставить; тем не менее,
подчиняясь их воле, он готов приступить к рассказу. Священник и остальные
поблагодарили его и возобновили свои просьбы, а он, видя, что столь многие
упрашивают его, сказал, что нет надобности в упрашивании там, где имеют
власть требовать.
-- Итак, -- добавил он, -- будьте внимательны, сеньоры, и вы услышите
правдивую историю, с которою, быть может, не сравниться вымыслам,
обыкновенно столь старательно и искусно сочиняемым.
После этих его слов, все уселись, храня глубокое молчание; а он, видя,
что они молчат и ждут его рассказа, приятным и спокойным голосом начал так.
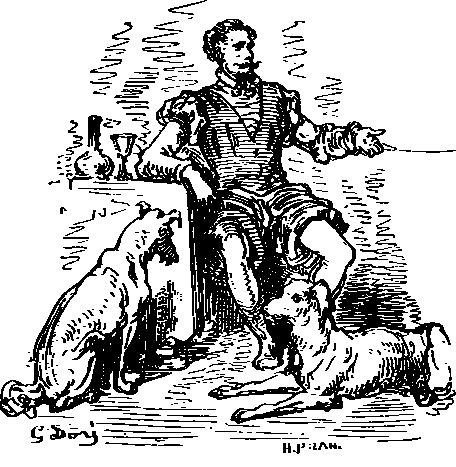
Глава XXXIX, в которой пленник рассказывает о своей жизни и приключениях
 В одном местечке в Леонских горах получил начало свое наш род, к
которому более щедрой и благосклонной оказалась природа, чем счастье, хотя
среди бедноты тех мест отец мой все еще слыл за богача и действительно был
бы им, если бы он в той же степени умел сберечь свое состояние, как он
расточал его. А эта его склонность быть щедрым и расточительным происходила
оттого, что в молодости он был солдатом, так как солдатское звание -- школа,
в которой скупой делается щедрым, а щедрый -- расточительным, и если и
найдется несколько солдат-скряг, то это словно чудовища, встречающиеся очень
редко. Мой отец перешел границы щедрости и зашел в область расточительности,
-- вещь, не приносящая пользы женатому человеку, имеющему детей, которым
предстоит наследовать его имя и состояние. У моего отца детей было трое, все
сыновья, и все в возрасте, когда уже можно избрать себе род деятельности.
Итак, отец, видя -- как он сам говорил, -- что он не в состоянии сдержать
своих наклонностей, решил лишить себя повода и возможности быть
расточительным и мотом, то есть он решил отказаться от своего состояния, а
без состояния и сам Александр {Александр Македонский.} должен был бы стать
бережливым.
Поэтому однажды, позвав нас всех трех к себе в комнату, он обратился к
нам приблизительно со следующими словами:
-- Сыновья, чтобы сказать вам, что я люблю вас, достаточно знать и
сказать, что вы мои дети; а чтобы понять, как плохо я вас люблю, достаточно
знать, что я не умею жить так, чтобы сберечь ваше состояние. Но чтобы вы
отныне и впредь увидели, что я люблю вас, как отец, и не желаю разорить вас,
словно отчим, я намерен сделать одну вещь, которую давно уже обдумывал и
после зрелого размышления решил привести в исполнение. Вы в таком теперь
возрасте, что вам необходимо подумать о выборе себе деятельности или по
крайней мере такого рода занятия, которое в зрелых летах может доставить вам
и честь, и выгоду. Я надумал вот что: разделить мое состояние на четыре
части; из них три отдать вам,-- каждому ту, которая ему принадлежит, не
делая между вами никакой разницы; четвертую же часть оставлю себе, чтобы
жить и поддерживать существование мое в течение того остатка дней, которое
небу будет угодно послать мне. Но мне бы хотелось, чтобы каждый из вас,
получив во владение принадлежащую ему долю имущества, избрал бы одну из тех
дорог, которую я вам укажу. У нас в Испании есть пословица, по-моему очень
справедливая, как, впрочем, и все пословицы, так как они краткие изречения,
извлеченные из долгого и мудрого опыта, а та, которую я подразумеваю,
гласит: "Церковь, или море, или королевский дворец", то есть, чтобы сказать
яснее: кто желает преуспеть и быть богатым, пусть идет в духовное звание,
или пустится в море, занимаясь торговлей, или же поступит на службу к королю
в его дворце, потому что говорится: "Лучше крохи короля, чем милости
сеньора". Говорю это потому, что я желал бы, и такова моя воля, чтобы один
из вас посвятил себя словесным наукам, другой -- торговле, а третий служил
бы королю на войне, так как попасть к нему на службу во дворец трудно, а
война хотя и не обогащает, зато может дать известность и славу. Через неделю
я каждому из вас выплачу его часть наличными деньгами, не обсчитав никого ни
на грош, как вы это и увидите на деле. А теперь скажите мне: согласны ли вы
принять мое предложение и следовать моему совету?
Мне, как старшему, отец велел первому ответить, и я попросил его не
отказываться от своего состояния и тратить его, как ему вздумается, так как
мы молоды и сумеем сами кой-что приобрести себе, и в заключение я сказал,
что готов подчиниться его желанию, избрать военную карьеру и служить в ней
Богу и моему королю. Второй брат, сделав отцу те же предложения, как и я,
решил ехать в Индию, взяв свою долю, и заняться там торговлей. Младший брат
-- и, как мне кажется, самый рассудительный -- сказал, что он желает
вступить в духовное звание или же отправиться кончать начатый им курс наук в
Саламанке.
Когда мы таким образом условились и каждый избрал себе свой род
деятельности, отец поцеловал всех нас и в тот короткий срок, который был
назначен им, исполнил то, что обещал, и вручил каждому из нас его часть,
составлявшую, как я хорошо помню, три тысячи червонцев, потому что один наш
дядя купил все имение, чтобы оно не вышло из нашего рода, заплатив за него
наличными. В тот же день мы все трое простились с добрым нашим отцом, и, так
как мне казалось бесчеловечным оставить его, уже старого человека, со столь
маленькими средствами, я уговорил его взять из моих трех тысяч две тысячи
червонцев, потому что оставшейся тысячи было вполне достаточно, чтобы
снабдить меня всем необходимым для солдата. Мои два брата, следуя моему
примеру, тоже отдали отцу каждый по тысяче червонцев, так что у него
оказалось четыре тысячи червонцев наличными деньгами сверх трех тысяч
стоимости его части имения, которую он не захотел продать и оставил за
собой. Итак, говорю я, мы простились с ним и с нашим дядей, о котором я
упоминал, не без волнения и слез с той и другой стороны; и они поручили нам
при всяком удобном случае извещать их о благоприятных или неблагоприятных
событиях нашей жизни. Обещав сделать это, расцеловавшись с ними и получив их
благословение, один из нас отправился в Саламанку, другой -- в Севилью, а я
-- в Аликанте, где, как я узнал, находился генуэсский корабль, грузившийся
там шерстью для Генуи.
Теперь будет двадцать два года, как я покинул дом моего отца, и в
течение всего этого времени хотя я и написал несколько писем, но не получил
никаких известий ни об отце, ни о моих братьях. То, что случилось со мной за
это время, я расскажу вам в кратких словах. Сел я на корабль в Аликанте и
после благополучного плавания прибыл в Геную, а оттуда уехал в Милан, где
запасся оружием и военной одеждой. Из Милана я решил ехать в Пьемонт, чтобы
поступить там в солдаты, но по дороге в Александрию-делла-Палья {В те
времена это была -- да и теперь еще остается -- сильная крепость на реке
Танаро, возведенная в XII в. гвельфами и прозванная гибеллинами в насмешку
de la Paglia -- "Соломенная".} до меня дошло сведение, что знаменитый герцог
Альба отправляется во Фландрию. Тогда я изменил намерение, поступил к нему
на службу, участвовал в данных им сражениях, присутствовал при смерти графов
Эгмонта и Горна и достиг чина прапорщика под командой одного знаменитого
капитана из Гадалахары, которого звали Диего де Урбина. Через некоторое
время после того, как я прибыл во Фландрию, было здесь получено известие о
союзе, который блаженной памяти его святейшество папа Пий V заключил с
Венецией и с Испанией против общего врага их -- турок, флот которых около
этого времени овладел знаменитым островом Кипр, находившимся под
владычеством венецианцев, -- злополучная и плачевная потеря! Стало известно,
что главнокомандующим союзных войск будет светлейший дон Хуан Австрийский,
побочный брат нашего доброго короля дона Филиппа II; носились также и слухи
о необычайно грандиозных военных приготовлениях, которые будто бы
производились. Все это возбуждало и разжигало во мне стремление и желание
участвовать в предстоявшем походе. И хотя у меня была надежда и даже почти
полная уверенность, что при первом же случае я буду произведен в капитаны, я
решил бросить все и отправиться, как я это и сделал, в Италию. Счастливой
моей судьбе было угодно, чтобы сеньор дон Хуан Австрийский как раз приехал
тогда в Геную, откуда он отправился в Неаполь для соединения с венецианским
флотом, что он затем и сделал в Мессине. Итак, скажу вам, что мне пришлось
участвовать в том знаменитом сражении {Морское сражение при Лепанто, в
котором участвовал и сам Сервантес.}, будучи уже пехотным капитаном, а
достигнул я почетного этого чина скорей благодаря счастливой судьбе, чем
вследствие моих заслуг. И в тот день, который оказался столь счастливым для
всего христианства, потому что весь свет и все народы были выведены из
заблуждения, в котором они пребывали, думая, что турки непобедимы на море,
-- в этот день, говорю я, когда гордость и надменность Оттоманов была
сломлена, среди стольких счастливых, находившихся там (потому что еще
счастливее были убитые христиане, чем оставшиеся в живых), один я был
несчастный, так как, вместо того чтобы надеяться -- если б это происходило в
дни римлян -- быть увенчанным каким-нибудь флотским венком, я увидел себя в
ту ночь, следовавшую за таким славным днем, с оковами на ногах и с кандалами
на руках.
Случилось это следующим образом: когда алжирский король Эль-Учали,
отважный и счастливый корсар, напал на главную мальтийскую галеру и
восторжествовал над нею, так что в живых там остались лишь только три рыцаря
и те тяжелораненые, -- на помощь ей поспешила главная галера Хуана Андреа,
на которой находился и я со своим отрядом. Исполняя то, что мне повелевал
долг мой, я вскочил на неприятельскую галеру, которая, вырвавшись от нашей,
взявшей ее на абордаж, помешала моим солдатам следовать за мной, вследствие
чего я очутился один среди врагов, справиться с которыми я не мог, ввиду
того что их было так много. Наконец они побороли меня, всего покрытого
ранами; и как вы, сеньоры, верно, уже слышали, Эль-Учали удалось спастись со
всей своей эскадрой, я же остался пленником в его власти, один печальный
среди стольких веселых, один в плену среди стольких свободных, потому что в
тот день пятнадцать тысяч христианских невольников, бывших гребцами в
турецком флоте, получили желанную свободу. Меня увезли в Константинополь,
где султан Селим назначил моего господина морским главнокомандующим за то,
что он исполнил свой долг в сражении, взяв в доказательство своего мужества
знамя Мальтийского ордена. В следующем году, именно в 1572-м, я был при
Наварине и греб на главной турецкой галере с тремя фонарями {Три фонаря на
корме были в те времена отличительным знаком корабля, на котором находился
главнокомандующий флотом.}. И я видел здесь и заметил, что тогда был упущен
случай захватить в порту весь турецкий флот, так как бывшие в нем левантинцы
и янычары, уверенные, что на них нападут в самом порту, уже держали наготове
свою одежду и пассамаки -- это их башмаки, -- чтобы бежать тотчас на берег,
не ожидая сражения, так велик был страх, внушенный им нашим флотом. Однако
небо распорядилось иначе, -- не вследствие небрежности или беззаботности
генерала, который командовал нашими, а за грехи всего христианства и потому,
что Богу угодно и Он дозволяет, чтобы всегда у нас были палачи, карающие
нас. Итак, Эль-Учали укрылся в Модоне -- а это остров вблизи Наварина,-- и,
высадив здесь своих людей на берег, он укрепил вход в гавань и оставался
себе там спокойно, пока сеньор дон Хуан не удалился. В этой экспедиции была
захвачена галера под названием "Добыча", капитаном которой был один из
сыновей знаменитого корсара Барбаруссы. Взяла ее главная неаполитанская
галера по имени "Волчица", а ею командовал тот перун войны, отец солдат,
счастливый и непобедимый капитан, имя которого Алваро де Басан, маркиз де
Санта-Крус, и я не могу воздержаться, чтобы не рассказать, каким образом
произошло то, что "Добыча" сделалась нашей добычей. Сын Барбаруссы был так
жесток и так дурно обращался со своими пленниками, что, как только сидевшие
за веслами гребцы увидели приближающуюся к ним и настигающую их галеру
"Волчица", они все сразу бросили весла, схватили своего капитана, стоявшего
на заднем баке и кричавшего им, чтобы они сильнее гребли, и, бросая его со
скамьи на скамью, с кормы на нос, так его искусали, что едва он очутился за
мачтою, как уже душа его очутилась в аду; до того велика была -- как я уже
говорил -- жестокость, с которой он с ними обращался, и ненависть их к нему.
В одном местечке в Леонских горах получил начало свое наш род, к
которому более щедрой и благосклонной оказалась природа, чем счастье, хотя
среди бедноты тех мест отец мой все еще слыл за богача и действительно был
бы им, если бы он в той же степени умел сберечь свое состояние, как он
расточал его. А эта его склонность быть щедрым и расточительным происходила
оттого, что в молодости он был солдатом, так как солдатское звание -- школа,
в которой скупой делается щедрым, а щедрый -- расточительным, и если и
найдется несколько солдат-скряг, то это словно чудовища, встречающиеся очень
редко. Мой отец перешел границы щедрости и зашел в область расточительности,
-- вещь, не приносящая пользы женатому человеку, имеющему детей, которым
предстоит наследовать его имя и состояние. У моего отца детей было трое, все
сыновья, и все в возрасте, когда уже можно избрать себе род деятельности.
Итак, отец, видя -- как он сам говорил, -- что он не в состоянии сдержать
своих наклонностей, решил лишить себя повода и возможности быть
расточительным и мотом, то есть он решил отказаться от своего состояния, а
без состояния и сам Александр {Александр Македонский.} должен был бы стать
бережливым.
Поэтому однажды, позвав нас всех трех к себе в комнату, он обратился к
нам приблизительно со следующими словами:
-- Сыновья, чтобы сказать вам, что я люблю вас, достаточно знать и
сказать, что вы мои дети; а чтобы понять, как плохо я вас люблю, достаточно
знать, что я не умею жить так, чтобы сберечь ваше состояние. Но чтобы вы
отныне и впредь увидели, что я люблю вас, как отец, и не желаю разорить вас,
словно отчим, я намерен сделать одну вещь, которую давно уже обдумывал и
после зрелого размышления решил привести в исполнение. Вы в таком теперь
возрасте, что вам необходимо подумать о выборе себе деятельности или по
крайней мере такого рода занятия, которое в зрелых летах может доставить вам
и честь, и выгоду. Я надумал вот что: разделить мое состояние на четыре
части; из них три отдать вам,-- каждому ту, которая ему принадлежит, не
делая между вами никакой разницы; четвертую же часть оставлю себе, чтобы
жить и поддерживать существование мое в течение того остатка дней, которое
небу будет угодно послать мне. Но мне бы хотелось, чтобы каждый из вас,
получив во владение принадлежащую ему долю имущества, избрал бы одну из тех
дорог, которую я вам укажу. У нас в Испании есть пословица, по-моему очень
справедливая, как, впрочем, и все пословицы, так как они краткие изречения,
извлеченные из долгого и мудрого опыта, а та, которую я подразумеваю,
гласит: "Церковь, или море, или королевский дворец", то есть, чтобы сказать
яснее: кто желает преуспеть и быть богатым, пусть идет в духовное звание,
или пустится в море, занимаясь торговлей, или же поступит на службу к королю
в его дворце, потому что говорится: "Лучше крохи короля, чем милости
сеньора". Говорю это потому, что я желал бы, и такова моя воля, чтобы один
из вас посвятил себя словесным наукам, другой -- торговле, а третий служил
бы королю на войне, так как попасть к нему на службу во дворец трудно, а
война хотя и не обогащает, зато может дать известность и славу. Через неделю
я каждому из вас выплачу его часть наличными деньгами, не обсчитав никого ни
на грош, как вы это и увидите на деле. А теперь скажите мне: согласны ли вы
принять мое предложение и следовать моему совету?
Мне, как старшему, отец велел первому ответить, и я попросил его не
отказываться от своего состояния и тратить его, как ему вздумается, так как
мы молоды и сумеем сами кой-что приобрести себе, и в заключение я сказал,
что готов подчиниться его желанию, избрать военную карьеру и служить в ней
Богу и моему королю. Второй брат, сделав отцу те же предложения, как и я,
решил ехать в Индию, взяв свою долю, и заняться там торговлей. Младший брат
-- и, как мне кажется, самый рассудительный -- сказал, что он желает
вступить в духовное звание или же отправиться кончать начатый им курс наук в
Саламанке.
Когда мы таким образом условились и каждый избрал себе свой род
деятельности, отец поцеловал всех нас и в тот короткий срок, который был
назначен им, исполнил то, что обещал, и вручил каждому из нас его часть,
составлявшую, как я хорошо помню, три тысячи червонцев, потому что один наш
дядя купил все имение, чтобы оно не вышло из нашего рода, заплатив за него
наличными. В тот же день мы все трое простились с добрым нашим отцом, и, так
как мне казалось бесчеловечным оставить его, уже старого человека, со столь
маленькими средствами, я уговорил его взять из моих трех тысяч две тысячи
червонцев, потому что оставшейся тысячи было вполне достаточно, чтобы
снабдить меня всем необходимым для солдата. Мои два брата, следуя моему
примеру, тоже отдали отцу каждый по тысяче червонцев, так что у него
оказалось четыре тысячи червонцев наличными деньгами сверх трех тысяч
стоимости его части имения, которую он не захотел продать и оставил за
собой. Итак, говорю я, мы простились с ним и с нашим дядей, о котором я
упоминал, не без волнения и слез с той и другой стороны; и они поручили нам
при всяком удобном случае извещать их о благоприятных или неблагоприятных
событиях нашей жизни. Обещав сделать это, расцеловавшись с ними и получив их
благословение, один из нас отправился в Саламанку, другой -- в Севилью, а я
-- в Аликанте, где, как я узнал, находился генуэсский корабль, грузившийся
там шерстью для Генуи.
Теперь будет двадцать два года, как я покинул дом моего отца, и в
течение всего этого времени хотя я и написал несколько писем, но не получил
никаких известий ни об отце, ни о моих братьях. То, что случилось со мной за
это время, я расскажу вам в кратких словах. Сел я на корабль в Аликанте и
после благополучного плавания прибыл в Геную, а оттуда уехал в Милан, где
запасся оружием и военной одеждой. Из Милана я решил ехать в Пьемонт, чтобы
поступить там в солдаты, но по дороге в Александрию-делла-Палья {В те
времена это была -- да и теперь еще остается -- сильная крепость на реке
Танаро, возведенная в XII в. гвельфами и прозванная гибеллинами в насмешку
de la Paglia -- "Соломенная".} до меня дошло сведение, что знаменитый герцог
Альба отправляется во Фландрию. Тогда я изменил намерение, поступил к нему
на службу, участвовал в данных им сражениях, присутствовал при смерти графов
Эгмонта и Горна и достиг чина прапорщика под командой одного знаменитого
капитана из Гадалахары, которого звали Диего де Урбина. Через некоторое
время после того, как я прибыл во Фландрию, было здесь получено известие о
союзе, который блаженной памяти его святейшество папа Пий V заключил с
Венецией и с Испанией против общего врага их -- турок, флот которых около
этого времени овладел знаменитым островом Кипр, находившимся под
владычеством венецианцев, -- злополучная и плачевная потеря! Стало известно,
что главнокомандующим союзных войск будет светлейший дон Хуан Австрийский,
побочный брат нашего доброго короля дона Филиппа II; носились также и слухи
о необычайно грандиозных военных приготовлениях, которые будто бы
производились. Все это возбуждало и разжигало во мне стремление и желание
участвовать в предстоявшем походе. И хотя у меня была надежда и даже почти
полная уверенность, что при первом же случае я буду произведен в капитаны, я
решил бросить все и отправиться, как я это и сделал, в Италию. Счастливой
моей судьбе было угодно, чтобы сеньор дон Хуан Австрийский как раз приехал
тогда в Геную, откуда он отправился в Неаполь для соединения с венецианским
флотом, что он затем и сделал в Мессине. Итак, скажу вам, что мне пришлось
участвовать в том знаменитом сражении {Морское сражение при Лепанто, в
котором участвовал и сам Сервантес.}, будучи уже пехотным капитаном, а
достигнул я почетного этого чина скорей благодаря счастливой судьбе, чем
вследствие моих заслуг. И в тот день, который оказался столь счастливым для
всего христианства, потому что весь свет и все народы были выведены из
заблуждения, в котором они пребывали, думая, что турки непобедимы на море,
-- в этот день, говорю я, когда гордость и надменность Оттоманов была
сломлена, среди стольких счастливых, находившихся там (потому что еще
счастливее были убитые христиане, чем оставшиеся в живых), один я был
несчастный, так как, вместо того чтобы надеяться -- если б это происходило в
дни римлян -- быть увенчанным каким-нибудь флотским венком, я увидел себя в
ту ночь, следовавшую за таким славным днем, с оковами на ногах и с кандалами
на руках.
Случилось это следующим образом: когда алжирский король Эль-Учали,
отважный и счастливый корсар, напал на главную мальтийскую галеру и
восторжествовал над нею, так что в живых там остались лишь только три рыцаря
и те тяжелораненые, -- на помощь ей поспешила главная галера Хуана Андреа,
на которой находился и я со своим отрядом. Исполняя то, что мне повелевал
долг мой, я вскочил на неприятельскую галеру, которая, вырвавшись от нашей,
взявшей ее на абордаж, помешала моим солдатам следовать за мной, вследствие
чего я очутился один среди врагов, справиться с которыми я не мог, ввиду
того что их было так много. Наконец они побороли меня, всего покрытого
ранами; и как вы, сеньоры, верно, уже слышали, Эль-Учали удалось спастись со
всей своей эскадрой, я же остался пленником в его власти, один печальный
среди стольких веселых, один в плену среди стольких свободных, потому что в
тот день пятнадцать тысяч христианских невольников, бывших гребцами в
турецком флоте, получили желанную свободу. Меня увезли в Константинополь,
где султан Селим назначил моего господина морским главнокомандующим за то,
что он исполнил свой долг в сражении, взяв в доказательство своего мужества
знамя Мальтийского ордена. В следующем году, именно в 1572-м, я был при
Наварине и греб на главной турецкой галере с тремя фонарями {Три фонаря на
корме были в те времена отличительным знаком корабля, на котором находился
главнокомандующий флотом.}. И я видел здесь и заметил, что тогда был упущен
случай захватить в порту весь турецкий флот, так как бывшие в нем левантинцы
и янычары, уверенные, что на них нападут в самом порту, уже держали наготове
свою одежду и пассамаки -- это их башмаки, -- чтобы бежать тотчас на берег,
не ожидая сражения, так велик был страх, внушенный им нашим флотом. Однако
небо распорядилось иначе, -- не вследствие небрежности или беззаботности
генерала, который командовал нашими, а за грехи всего христианства и потому,
что Богу угодно и Он дозволяет, чтобы всегда у нас были палачи, карающие
нас. Итак, Эль-Учали укрылся в Модоне -- а это остров вблизи Наварина,-- и,
высадив здесь своих людей на берег, он укрепил вход в гавань и оставался
себе там спокойно, пока сеньор дон Хуан не удалился. В этой экспедиции была
захвачена галера под названием "Добыча", капитаном которой был один из
сыновей знаменитого корсара Барбаруссы. Взяла ее главная неаполитанская
галера по имени "Волчица", а ею командовал тот перун войны, отец солдат,
счастливый и непобедимый капитан, имя которого Алваро де Басан, маркиз де
Санта-Крус, и я не могу воздержаться, чтобы не рассказать, каким образом
произошло то, что "Добыча" сделалась нашей добычей. Сын Барбаруссы был так
жесток и так дурно обращался со своими пленниками, что, как только сидевшие
за веслами гребцы увидели приближающуюся к ним и настигающую их галеру
"Волчица", они все сразу бросили весла, схватили своего капитана, стоявшего
на заднем баке и кричавшего им, чтобы они сильнее гребли, и, бросая его со
скамьи на скамью, с кормы на нос, так его искусали, что едва он очутился за
мачтою, как уже душа его очутилась в аду; до того велика была -- как я уже
говорил -- жестокость, с которой он с ними обращался, и ненависть их к нему.
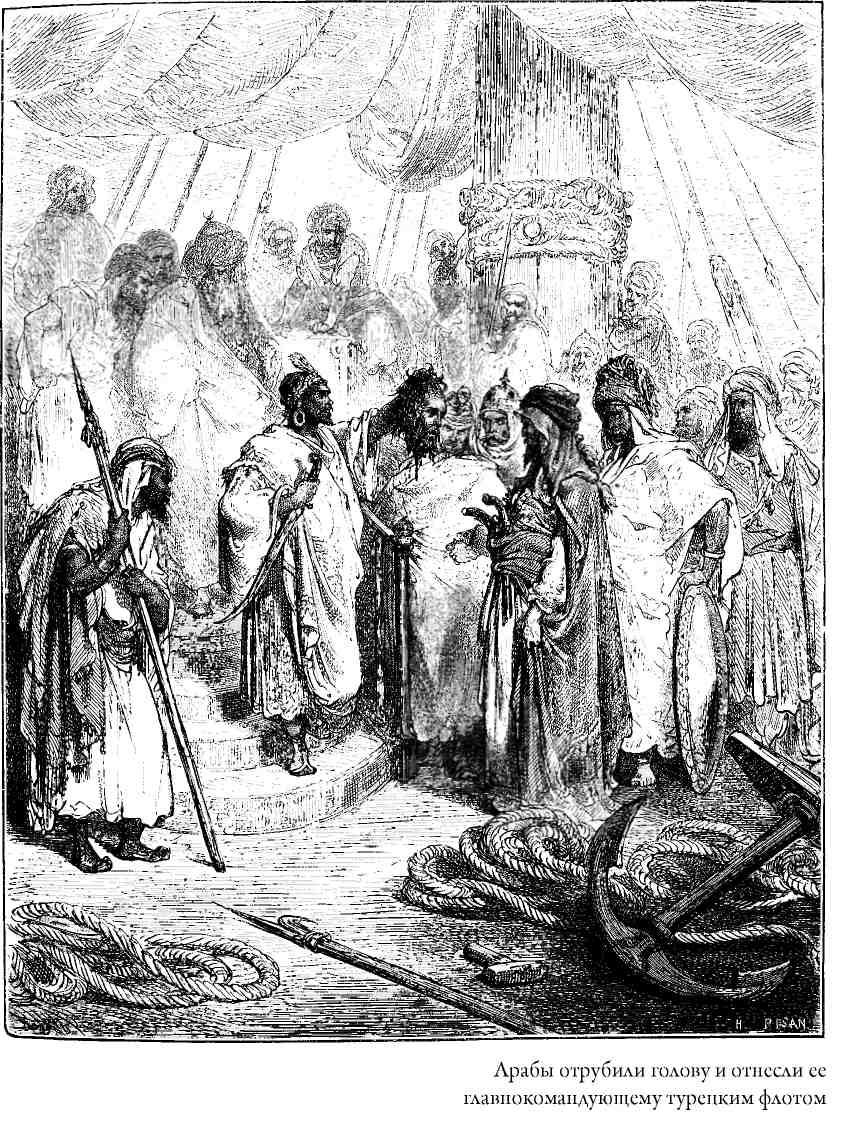 Мы вернулись в Константинополь и в следующем году, который был 1573-й,
узнали, что дон Хуан Австрийский завоевал Тунис, отняв у турок это
королевство, и отдал его Мулею Амету, -- разрушив все надежды возвратить
себе престол Мулея Амиды {Мулей Амет, или Магомет, и Мулей Амида были братья
-- сыновья Мулея Ассана, которому Карл V вернул тунисский престол, отнятый у
него Кейредином Барбаруссой. Тунис был завоеван турками в 1570 г., а в 1573
г. дон Хуан (в этом походе участвовал и Сервантес) взял город снова и
посадил на тунисский престол Мулея Амета, сместив Мулея Амиду, не
пользовавшегося любовью народа.}, самого жестокого и храброго мавра,
когда-либо жившего на свете. Потеря Туниса была очень чувствительна для
султана, и с лукавством, свойственным всем членам его династии, он заключил
мир с венецианцами, которые еще больше его желали мира; а в следующем, 1574
году, турки напали на Голету и на форт вблизи Туниса, оставленный наполовину
недостроенным доном Хуаном. В то время как все эти события происходили, я
продолжал грести на галере, без всякой надежды достичь свободы, -- по
крайней мере, я не надеялся получить ее путем выкупа, так как решил не
сообщать отцу моему известия о моем несчастии.
Наконец пала Голета, пал и форт, так как осаждать эти два укрепления
было собрано наемных турецких солдат семьдесят пять тысяч и более четырехсот
тысяч мавров и арабов со всей Африки, и эта громадная рать была снабжена
таким большим количеством военных припасов и орудий и таким множеством
саперов, что своими руками и брошенными горстями земли они могли бы покрыть
всю Голету и форт. Первой пала Голета, считавшаяся до тех пор неприступной
крепостью, и пала она не по вине своих защитников, сделавших для защиты ее
все, что они должны были и могли сделать, а благодаря легкости, с которою,
как показал опыт, можно было возводить траншеи в этой песчаной пустыне.
Обыкновенно находят воду на глубине двух футов, турки же не нашли ее и на
глубине двух саженей. Итак, с помощью множества мешков, набитых песком, они
возвели настолько высокие апроши, что они господствовали над крепостными
стенами, и, так как турки стреляли с высоты, командовавшей над крепостью,
осажденные не могли защищаться и упорствовать в своей защите. По тогдашнему
общему мнению, нашим не следовало запираться в Голете и лучше было бы ждать
врага в поле при высадке. Но те, которые так рассуждали, говорили
необдуманно, доказывая свою неопытность в подобного рода делах, потому что,
если и в Голете, и в форте было едва семь тысяч солдат, как же такое
незначительное количество, хотя бы самых отважных храбрецов, могло выступить
в открытое поле и взять верх над громадными силами неприятеля? И как можно
удержать за собой твердыню, не получающую ниоткуда подкрепления, тем более
когда ее осаждают враги, столь многочисленные и упорные и находящиеся в
собственной своей стране? Впрочем, многие, а также и я, придерживались того
мнения, что небо оказало особенную милость и благоволение Испании, допустив,
чтобы турки уничтожили это гнездо и приют беззаконий, ненасытную эту моль и
губку, всасывающую такое множество денег, которые здесь тратились без всякой
пользы, -- разве только для того, чтобы сохранить воспоминание о взятии этой
крепости счастливейшей памяти непобедимым Карлом V, как будто для
увековечения этой памяти, -- что уже и есть, и будет, -- нуждались в этих
камнях.
И форт тоже пал, но туркам пришлось брать его пядь за пядью, так как
защищавшие его солдаты сражались так храбро и упорно, что за время двадцати
двух штурмов, которые им пришлось выдержать, они убили более двадцати пяти
тысяч неприятелей, а из трехсот защитников форта, оставшихся в живых и
взятых в плен, все оказались ранеными, -- яркое и блестящее доказательство
их отваги и доблести и того, как они хорошо защищали и отстаивали крепость.
Сдался на капитуляцию маленький форт, или башня, стоявшая среди лагуны и
находившаяся под начальствованием дона Хуана Саногера, валенсийского
кабальеро и знаменитого воина. Был взят в плен и комендант Голеты дон Педро
Пуэртокарреро, сделавший все, что было возможно, для защиты крепости и так
близко принявший к сердцу падение ее, что он умер с горя по дороге в
Константинополь, куда его вели пленником. Также был взят в плен и комендант
форта по имени Габрио Сервелон, миланский кабальеро, знаменитый инженер и
доблестный воин. В двух этих крепостях погибло немало людей, пользовавшихся
известностью, и в числе их также и некто Паган Андреа де Ориа, рыцарь ордена
Святого Иоанна, -- человек великодушный, что он и доказал необычайной
щедростью к брату своему, знаменитому Хуану Андpea де Ориа {Паган де Ориа,
вступив в орден Святого Иоанна де Калатрава, отдал все свои обширные родовые
имения младшему своему брату, Хуану Андреа.}. Смерть его была еще более
достойна сожаления, оттого что он был убит несколькими арабами, которым он
доверился, когда уже видел, что форт погиб; они предложили провести его в
мавританской одежде в Табарка -- маленькую гавань, или стоянку,
принадлежавшую на том побережье генуэзцам, которые занимаются ловлей
кораллов. Арабы отрубили ему голову и отнесли ее главнокомандующему турецким
флотом, который оправдал на них нашу кастильскую пословицу: "Хотя бы измена
и была на руку, но изменник ненавистен", -- потому что, говорят, генерал
велел повесить тех, которые принесли ему подарок, за то, что они не
доставили рыцаря живым. В числе христиан, взятых в плен в форте, был также и
некто по имени Педро де Агиляр, родом не знаю из какого местечка Андалузии,
прапорщик крепостного гарнизона, превосходный солдат и человек редкого ума,
в особенности же необычайно даровитый в том, что называют поэзией. Говорю
это потому, что его судьба привела его на мою галеру, на одну скамью со
мной, и сделала его невольником моего же хозяина; и прежде чем мы оставили
форт, этот кабальеро сочинил два сонета вроде эпитафий: один -- посвященный
Голете, другой -- форту; и, право, охотно прочел бы их вам, так как я знаю
их наизусть и думаю, что они доставят вам скорее удовольствие, чем
утомление.
Когда пленник назвал дона Педро де Агиляра, дон Фернандо переглянулся
со своими товарищами и все трое улыбнулись; когда же он упомянул о сонетах,
один из кабальеро сказал:
-- Прежде чем продолжать, умоляю вашу милость, скажите мне, что сталось
с этим доном Педро де Агиляром, о котором вы упомянули?
-- Я знаю лишь то, -- ответил пленник, -- что по прошествии двух лет,
которые он пробыл в Константинополе, он в одежде арнаута бежал с греческим
шпионом, а затем мне неизвестно, вернул ли он или нет себе свободу; хотя я
думаю, что вернул, потому что год спустя я видел того грека в
Константинополе, но не мог его спросить, удачно ли было их путешествие.
-- Удачно, -- ответил кабальеро, -- потому что этот дон Педро мой брат,
и он теперь у нас на родине, здоров, богат, женат и имеет трех детей.
-- Да будет благословен Бог, -- воскликнул пленник, -- за великую
милость, которую он ему оказал, так как, по моему мнению, нет в мире
счастья, равного возвращению утраченной свободы!
-- Я знаю также, -- продолжал рыцарь, -- и сонеты, сочиненные моим
братом.
-- В таком случае скажите их нам, милость ваша, -- попросил пленник, --
потому что вы сумеете это сделать лучше, чем я.
-- С удовольствием, -- ответил кабальеро. -- В сонете, посвященном
Голете, говорится следующее.
Мы вернулись в Константинополь и в следующем году, который был 1573-й,
узнали, что дон Хуан Австрийский завоевал Тунис, отняв у турок это
королевство, и отдал его Мулею Амету, -- разрушив все надежды возвратить
себе престол Мулея Амиды {Мулей Амет, или Магомет, и Мулей Амида были братья
-- сыновья Мулея Ассана, которому Карл V вернул тунисский престол, отнятый у
него Кейредином Барбаруссой. Тунис был завоеван турками в 1570 г., а в 1573
г. дон Хуан (в этом походе участвовал и Сервантес) взял город снова и
посадил на тунисский престол Мулея Амета, сместив Мулея Амиду, не
пользовавшегося любовью народа.}, самого жестокого и храброго мавра,
когда-либо жившего на свете. Потеря Туниса была очень чувствительна для
султана, и с лукавством, свойственным всем членам его династии, он заключил
мир с венецианцами, которые еще больше его желали мира; а в следующем, 1574
году, турки напали на Голету и на форт вблизи Туниса, оставленный наполовину
недостроенным доном Хуаном. В то время как все эти события происходили, я
продолжал грести на галере, без всякой надежды достичь свободы, -- по
крайней мере, я не надеялся получить ее путем выкупа, так как решил не
сообщать отцу моему известия о моем несчастии.
Наконец пала Голета, пал и форт, так как осаждать эти два укрепления
было собрано наемных турецких солдат семьдесят пять тысяч и более четырехсот
тысяч мавров и арабов со всей Африки, и эта громадная рать была снабжена
таким большим количеством военных припасов и орудий и таким множеством
саперов, что своими руками и брошенными горстями земли они могли бы покрыть
всю Голету и форт. Первой пала Голета, считавшаяся до тех пор неприступной
крепостью, и пала она не по вине своих защитников, сделавших для защиты ее
все, что они должны были и могли сделать, а благодаря легкости, с которою,
как показал опыт, можно было возводить траншеи в этой песчаной пустыне.
Обыкновенно находят воду на глубине двух футов, турки же не нашли ее и на
глубине двух саженей. Итак, с помощью множества мешков, набитых песком, они
возвели настолько высокие апроши, что они господствовали над крепостными
стенами, и, так как турки стреляли с высоты, командовавшей над крепостью,
осажденные не могли защищаться и упорствовать в своей защите. По тогдашнему
общему мнению, нашим не следовало запираться в Голете и лучше было бы ждать
врага в поле при высадке. Но те, которые так рассуждали, говорили
необдуманно, доказывая свою неопытность в подобного рода делах, потому что,
если и в Голете, и в форте было едва семь тысяч солдат, как же такое
незначительное количество, хотя бы самых отважных храбрецов, могло выступить
в открытое поле и взять верх над громадными силами неприятеля? И как можно
удержать за собой твердыню, не получающую ниоткуда подкрепления, тем более
когда ее осаждают враги, столь многочисленные и упорные и находящиеся в
собственной своей стране? Впрочем, многие, а также и я, придерживались того
мнения, что небо оказало особенную милость и благоволение Испании, допустив,
чтобы турки уничтожили это гнездо и приют беззаконий, ненасытную эту моль и
губку, всасывающую такое множество денег, которые здесь тратились без всякой
пользы, -- разве только для того, чтобы сохранить воспоминание о взятии этой
крепости счастливейшей памяти непобедимым Карлом V, как будто для
увековечения этой памяти, -- что уже и есть, и будет, -- нуждались в этих
камнях.
И форт тоже пал, но туркам пришлось брать его пядь за пядью, так как
защищавшие его солдаты сражались так храбро и упорно, что за время двадцати
двух штурмов, которые им пришлось выдержать, они убили более двадцати пяти
тысяч неприятелей, а из трехсот защитников форта, оставшихся в живых и
взятых в плен, все оказались ранеными, -- яркое и блестящее доказательство
их отваги и доблести и того, как они хорошо защищали и отстаивали крепость.
Сдался на капитуляцию маленький форт, или башня, стоявшая среди лагуны и
находившаяся под начальствованием дона Хуана Саногера, валенсийского
кабальеро и знаменитого воина. Был взят в плен и комендант Голеты дон Педро
Пуэртокарреро, сделавший все, что было возможно, для защиты крепости и так
близко принявший к сердцу падение ее, что он умер с горя по дороге в
Константинополь, куда его вели пленником. Также был взят в плен и комендант
форта по имени Габрио Сервелон, миланский кабальеро, знаменитый инженер и
доблестный воин. В двух этих крепостях погибло немало людей, пользовавшихся
известностью, и в числе их также и некто Паган Андреа де Ориа, рыцарь ордена
Святого Иоанна, -- человек великодушный, что он и доказал необычайной
щедростью к брату своему, знаменитому Хуану Андpea де Ориа {Паган де Ориа,
вступив в орден Святого Иоанна де Калатрава, отдал все свои обширные родовые
имения младшему своему брату, Хуану Андреа.}. Смерть его была еще более
достойна сожаления, оттого что он был убит несколькими арабами, которым он
доверился, когда уже видел, что форт погиб; они предложили провести его в
мавританской одежде в Табарка -- маленькую гавань, или стоянку,
принадлежавшую на том побережье генуэзцам, которые занимаются ловлей
кораллов. Арабы отрубили ему голову и отнесли ее главнокомандующему турецким
флотом, который оправдал на них нашу кастильскую пословицу: "Хотя бы измена
и была на руку, но изменник ненавистен", -- потому что, говорят, генерал
велел повесить тех, которые принесли ему подарок, за то, что они не
доставили рыцаря живым. В числе христиан, взятых в плен в форте, был также и
некто по имени Педро де Агиляр, родом не знаю из какого местечка Андалузии,
прапорщик крепостного гарнизона, превосходный солдат и человек редкого ума,
в особенности же необычайно даровитый в том, что называют поэзией. Говорю
это потому, что его судьба привела его на мою галеру, на одну скамью со
мной, и сделала его невольником моего же хозяина; и прежде чем мы оставили
форт, этот кабальеро сочинил два сонета вроде эпитафий: один -- посвященный
Голете, другой -- форту; и, право, охотно прочел бы их вам, так как я знаю
их наизусть и думаю, что они доставят вам скорее удовольствие, чем
утомление.
Когда пленник назвал дона Педро де Агиляра, дон Фернандо переглянулся
со своими товарищами и все трое улыбнулись; когда же он упомянул о сонетах,
один из кабальеро сказал:
-- Прежде чем продолжать, умоляю вашу милость, скажите мне, что сталось
с этим доном Педро де Агиляром, о котором вы упомянули?
-- Я знаю лишь то, -- ответил пленник, -- что по прошествии двух лет,
которые он пробыл в Константинополе, он в одежде арнаута бежал с греческим
шпионом, а затем мне неизвестно, вернул ли он или нет себе свободу; хотя я
думаю, что вернул, потому что год спустя я видел того грека в
Константинополе, но не мог его спросить, удачно ли было их путешествие.
-- Удачно, -- ответил кабальеро, -- потому что этот дон Педро мой брат,
и он теперь у нас на родине, здоров, богат, женат и имеет трех детей.
-- Да будет благословен Бог, -- воскликнул пленник, -- за великую
милость, которую он ему оказал, так как, по моему мнению, нет в мире
счастья, равного возвращению утраченной свободы!
-- Я знаю также, -- продолжал рыцарь, -- и сонеты, сочиненные моим
братом.
-- В таком случае скажите их нам, милость ваша, -- попросил пленник, --
потому что вы сумеете это сделать лучше, чем я.
-- С удовольствием, -- ответил кабальеро. -- В сонете, посвященном
Голете, говорится следующее.

Глава XL, в которой продолжается история пленника
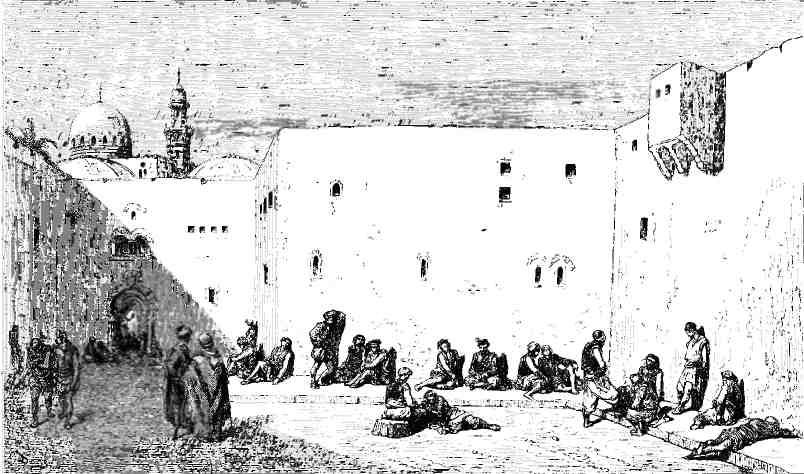 СОНЕТ
За свой подвиг святой, души славных бойцов,
Вы от жизни земной и от дольнего тления
Вознеслись в горний край и блаженства селенья,
Отряхнув, словно прах, свой телесный покров.
Пыл геройский в груди, все вы шли на врагов,
На несметных врагов в боевом упоенье,
Кровью их и своей обагряя в сраженье
Воды дальних морей и равнины песков.
И не мужество вам -- силы вам изменили,
Побежденные, вы хоть и пали в бою,
Но победным венком вы себя осенили.
За кровавую смерть и за гибель свою
На земле славу вы и бессмертье стяжали,
В небесах светлый рай и блаженство познали.
-- В таком же самом виде и я знаю этот сонет, -- сказал пленник.
-- А в сонете, посвященном форту,-- продолжал кабальеро, -- если я
хорошо помню его, говорится следующее:
СОНЕТ
От этих диких мест и дальних берегов,
От павших этих стен, где всюду разрушенье,
В мир горний отойдя, нашли успокоенье
Для душ своих святых три тысячи бойцов.
Сражались все они с безумьем храбрецов,--
В душе горел огонь, в груди пылало мщенье,
Но было тщетно все: проиграно сраженье!
Легли они в бою, и верх взял сонм врагов.
Как много было тут и крови, и страданий!
Как здешние места в былые времена[1]
И в наши дни полны больных воспоминаний!
Но чистых душ таких, суровая страна,
Ты к небу никогда еще не отсылала,
Столь доблестных людей вовеки не видала!
[1] Это намек на битвы в этой местности, вблизи Карфагена, в древние
времена,
Сонеты показались недурными, и пленник был очень обрадован новостями,
которые ему сообщили о его товарище, затем он продолжал свой рассказ,
говоря:
-- После взятия Голеты и форта, турки велели снести Голету; что же
касается форта, он был в таком состоянии, что там нечего было разрушать.
Чтобы скорее и с меньшим трудом достигнуть цели, турки минировали Голету с
трех сторон, но никак не могли взорвать то, что, по-видимому, должно было
быть наименее крепким, именно старые стены; а все то, что еще устояло из
новых фортификационных работ, которые возвел эль-Фратин {Прозвище Джакомо
Палеаро, итальянского инженера, бывшего на службе у Карла V.}, очень легко
было уничтожено. Словом, флот турецкий вернулся в Константинополь,
торжествующий и победоносный. Несколько месяцев спустя умер мой господин
Учали, которого обыкновенно называли Учали Фартакс, что на турецком языке
означает "шелудивый ренегат", потому что в действительности он был болен
паршой. У турок в обычае давать прозвища по какому-нибудь личному недостатку
или качеству человека; и делают они это потому, что у них всего лишь четыре
родовых имени потомков дома Оттоманов, -- а остальные, как я уже говорил,
получают фамилию и прозвища по своим телесным недостаткам или душевным
качествам. Этот больной паршой просидел у весел невольником султана целых
четырнадцать лет. Когда ему уже было за тридцать четыре года, он сделался
ренегатом по злобе на одного турка, давшего ему пощечину, в то время как он
греб веслами, и, чтоб иметь возможность отомстить ему, он отрекся от своей
веры. Но доблесть его была так велика, что он, -- не прибегая к низким путям
и средствам, благодаря которым обыкновенно возвышаются любимцы султана, --
сделался алжирским королем, и затем главнокомандующим флота, а это третья
почетная должность в турецком государстве {Первые две должности: великий
визирь и шейк-уль-ислам.}. Родом он был калабриец, человек добрый и
нравственный и обращался со своими невольниками, которых под конец у него
было три тысячи, с большой человечностью. После его смерти их распределили,
как он указал в своем завещании, между султаном (который тоже наследует
после всякого умершего и получает часть, как и остальные дети покойного) и
его ренегатами. Я достался одному венецианскому ренегату, который был взят в
плен Учали, будучи юнгой на корабле, и Учали так полюбил его, что он у него
был одним из самых балованных его мальчиков; но потом он сделался одним из
наиболее жестоких ренегатов, каких когда-либо видели. Его звали Ассан Ага;
он очень разбогател и достиг звания алжирского короля. С ним уехал и я из
Константинополя в Алжир, чувствуя некоторое удовольствие при мысли, что я
ближе к Испании, не потому, чтобы имел в виду написать кому-либо о своей
тяжкой доле, а потому, что хотелось посмотреть, не будет ли мне более
благоприятствовать счастье в Алжире, чем в Константинополе, где я на тысячи
ладов делал попытки бежать, но все неудачно. В Алжире я надеялся найти
другие средства достигнуть того, чего я так сильно желал, потому что меня
никогда не покидала надежда добыть себе свободу. И если в том, что я
изобретал, придумывал и приводил в исполнение, успех не отвечал моим
ожиданиям, я, не впадая в уныние, тотчас же изыскивал и придумывал новую
надежду, которая меня поддерживала, как бы она ни была мала и слаба. Так
проводил я время, заключенный в тюрьме, или помещении, которое турки
называют баньо {Bagnio (баньо) -- нечто вроде бараков или здания для
христианских невольников. По-видимому, в стенах баньо им предоставлялась
довольно большая свобода, у них было там нечто вроде часовен и алтарей, где
зажигали свечи и пр. и где они могли молиться по обрядам христианской
религии. Дозволялись им также и всякие развлечения: декламация стихов,
разыгрывание комедий и т. п.}, где они запирают христианских пленников, как
принадлежащих королю, так и составляющих собственность некоторых частных
лиц, а также и так называемых пленников альмасена {Almacen -- магазин,
склад.}, или, говоря иными словами, пленников городского совета. Эти
последние употребляются для общественных работ, предпринимаемых городом, и
для других занятий. Такого рода пленникам трудно получить свободу, ввиду
того что они принадлежат обществу, не имеют отдельного хозяина и не с кем
условливаться относительно их выкупа, хотя бы они и могли представить его. В
баньо, как я уже говорил, посылают обыкновенно
своих невольников и некоторые частные лица, в особенности если они
подлежат выкупу, потому что их там хорошо содержат и надежно охраняют до
получения за них денег. Также и невольники короля, подлежащие выкупу, не
посылаются с остальной командой на работы, исключая тех случаев, когда их
выкуп запаздывает. Тогда, чтобы побудить их настойчивее писать о присылке
денег, их вместе с остальными невольниками посылают на работы и заставляют
носить дрова, что вовсе не легкий труд. Меня тоже причислили к подлежащим
выкупу, так как узнали, что я капитан; и хотя я и говорил о незначительности
своих средств и неимении состояния, это нисколько не помогло, и я был
занесен в список кабальеро и лиц, подлежащих выкупу. На меня надели цепи,
скорее в знак ожидаемого выкупа, чем для более надежной охраны, и таким
образом я проводил жизнь в этом баньо со многими другими кабальеро и
знатными людьми, которых обделили и держали здесь для выкупа. Хотя по
временам, или, вернее, почти всегда, нас донимал голод и нагота, но еще
большим мученьем для нас было видеть и слышать на каждом шагу никогда не
виданные и не слыханные жестокости, которые мой господин учинял над
христианами. Не проходило дня, чтобы он не приказывал одного повесить,
другого -- посадить на кол, третьему -- отрезать уши; и все по весьма
незначительным причинам, а часто и без всякой причины, так что и турки уже
понимали, что он это делает лишь ради своего удовольствия и только потому,
что по натуре своей он палач рода человеческого. Единственный, кому повезло
с ним, был испанский солдат по имени Сааведра {Т. е. сам Сервантес.},
которого -- хотя тот и наделал таких дел, что останутся в памяти тех людей
долгие годы, и все с целью добыть себе свободу, -- Ассан Ага ни разу не
ударил, никогда не приказывал бить и не сказал ему дурного слова; а между
тем за самую маленькую из многих его провинностей, мы все боялись, что его
посадят на кол, и он сам не раз боялся этого. Если б время дозволило мне, я
рассказал бы вам теперь кое-что из того, что делал этот солдат, и это куда
больше заняло и удивило бы вас, чем моя собственная история.
Итак, говорю я, на двор нашей тюрьмы выходили окна дома одного богатого
и знатного мавра, которые обыкновенно в мавританских домах скорее похожи на
бойницы или амбразуры, чем на окна, но даже и они были прикрыты частыми и
плотными решетчатыми жалюзи. Однажды случилось так, что, находясь с тремя
другими моими товарищами на террасе {Т. е. на плоской крыше.}[ ]нашей тюрьмы,
где мы для времяпровождения делали попытки прыгать с нашими цепями, будучи
одни (так как остальные пленные христиане ушли на работу), я случайно поднял
глаза и увидел, что из одного из этих маленьких решетчатых окошечек, о
которых я говорил, показалась тростниковая палка, а на конце ее был привязан
носовой платок. Палкой махали и двигали вниз и вверх, как бы давая нам знак
подойти и взять ее. Мы заметили это, и один из бывших со мной подошел, чтобы
посмотреть, опустят ли ее или что с нею сделают. Но лишь только он
приблизился, палку приподняли вверх и замахали ею из стороны в сторону,
подобно тому как качают головой, желая сказать нет. Христианин отошел --
палку снова опустили и стали делать те же движения, как и раньше. Другой из
моих товарищей пошел к палке -- с ним случилось то же, что и с первым.
Наконец, пошел третий, и с ним повторилось опять то же, что и с первыми
двумя. Когда я увидал это, и мне захотелось испытать свое счастье; и лишь
только я встал под палкой, ее опустили и она упала в баньо к моим ногам.
Тотчас же я поспешил отвязать платок и увидел, что на платке был завязан
узел, а в узле оказалось десять си-анисов -- это монеты низкопробного
золота, обращающиеся у мавров и стоящие каждая десять испанских реалов. Был
ли я доволен находкой, об этом нечего и говорить, так как радость моя была
столь же велика, как было велико изумление при мысли, откуда мог к нам
явиться такой подарок и в особенности мне, потому что из того, что палка не
захотела опуститься ни для кого, кроме меня, было очевидно, что эта милость
предназначалась мне. Я взял драгоценные свои деньги, сломал тростниковую
палку, вернулся на террасу, взглянул на окошечко и увидел, как из него
высунулась необычайно белая рука, которая открыла и быстро закрыла окно. Из
этого мы поняли или вообразили себе, что какая-нибудь женщина, живущая в том
доме, по-видимому, оказала нам это благодеяние. И в знак нашей благодарности
мы, по обычаю мавров, сделали селям, наклонив головы, перегнув туловище и
положив руки на грудь. Немного спустя из того же окна показался маленький
крест, сделанный из тростника, но тотчас же и скрылся. Этот знак убедил нас,
что в доме, должно быть, живет пленная христианка и это она
облагодетельствовала нас. Однако белизна руки и запястья на ней
противоречили такому предположению, и у нас явилась мысль, не христианская
ли это ренегатка, одна из тех, которых так часто хозяева их берут в законные
жены и даже считают это за счастье, так как они ставят их выше женщин своего
народа.
Но во всех этих предположениях мы оказались далекими от истины; итак, с
этого дня все развлечение наше состояло в том, что мы не сводили глаз с
окна, в котором появилась палка, засиявшая для нас светлой звездой. Однако
прошли добрых две недели, в течение которых мы не видели ни тростниковой
палки, ни руки и никакого другого знака. И хотя за это время мы прилагали
все старания, чтобы узнать, кто живет в том доме и нет ли там христианской
ренегатки, -- никто не мог нам ничего сообщить, исключая того, что это дом
знатного и богатого мавра по имени Ахи-Морато, бывшего алкайда Ла-Паты
{По-видимому, La Pata, или Bata, -- крепость в двух милях от города Оран.},
-- должность, считающаяся у турок очень почетной. Но когда мы всего менее
думали о том, что снова на нас польется дождь сианисов, мы вдруг увидели
палку с привязанным к ней платком, а в платке -- опять сверток, только
побольше прежнего. Случилось это в то время, когда баньо, как и в первый
раз, был безлюден и пуст. Мы повторили прежний опыт: каждый из трех моих
товарищей -- те же, как и в тот раз, -- подходил к палке прежде меня, но
никому, кроме меня, она не была отдана, потому что, едва я подошел, как
палка упала. Я развязал узел и нашел в нем сорок испанских червонцев, а
также письмо, написанное по-арабски, и в конце его был поставлен большой
крест. Поцеловав крест, я взял червонцы, вернулся на террасу, мы все сделали
наш селям; рука появилась снова, я подал знак, что прочту письмо; окно
закрылось. Мы были удивлены и обрадованы этим происшествием; но никто из нас
не понимал по-арабски, желание же наше узнать, что написано в письме, было
очень велико, а еще больше было затруднение найти, кого-нибудь, кто бы
прочел его нам. Наконец я решил довериться одному ренегату, уроженцу Мурсии,
который открыто признавал себя моим большим другом, и с ним мы еще раньше
обменялись залогами, обязывавшими его хранить всякую тайну, которую ему
доверяли; потому что некоторые ренегаты имеют обыкновение, когда они
намереваются вернуться в христианскую страну, запасаться свидетельствами от
знатных пленников, в которых те в форме, какая окажется возможной,
удостоверяют, что такой-то ренегат -- человек хороший, делал всегда добро
христианам и желает бежать при первом представившемся случае. Некоторые
достают себе подобного рода свидетельства с хорошими намерениями; другие же
пользуются ими на тот случай и с тем умыслом -- когда они отправляются
грабить в христианские страны, -- чтобы, потерпев кораблекрушение или попав
в плен, они могли бы предъявить эти свидетельства и сказать, что по ним
можно судить о руководившем ими намерении, именно желании остаться в
христианской стране, и только с этой целью они сопровождали турок в их
набеге. Таким образом, они спасаются от угрожающего им первого взрыва гнева
и примиряются без неприятностей для себя с Церковью, а при ближайшей
возможности возвращаются снова в Берберию, чтобы опять сделаться тем же, чем
были раньше. Иные же, как я уже говорил, из пользующихся такого рода
бумагами достают их действительно с искренним намерением и остаются навсегда
в христианских странах. К числу таких ренегатов принадлежал и мой приятель,
имевший от всех наших товарищей свидетельства, в которых мы ручались за него
всем, чем могли. Если бы мавры нашли на нем эти бумаги, они бы не преминули
сжечь его живым. Мне было известно, что он хорошо знает арабский язык и не
только говорит на нем, но и пишет. Однако, прежде чем вполне ему открыться,
я его попросил прочесть записку, которую будто бы случайно нашел в одной из
дыр в полу моего помещения. Он развернул бумагу и долго всматривался в нее,
разбирая и бормоча сквозь зубы. Я спросил его, понимает ли он письмо, и он
ответил, что очень хорошо, а если я желаю, чтобы он перевел мне его слово в
слово, пусть ему дадут чернила и перо, чтобы он лучше мог это сделать. Мы
тотчас же принесли ему то, что он просил, и он перевел понемногу и, когда
кончил, сказал:
-- Все написанное по-испански есть буквальный перевод того, что
заключает в себе письмо, но я должен предупредить вас, что везде, где стоит:
"Лела Мариен", это означает "Пресвятая Дева Мария".
Мы прочли письмо, и оно заключало в себе следующее:
"Когда я была еще ребенком, у моего отца жила невольница, которая
научила меня на моем языке христианской молитве и много рассказывала мне о
Леле Мариен. Христианка умерла, и я знаю, что она пошла не в огонь, а к
Аллаху, потому что после того я видела ее два раза и она мне сказала, чтобы
я отправилась в страну христиан, и там я увижу Лелу Мариен, которая очень
меня любит. Не знаю, как попасть туда. Многих христиан видела я из этого
окна, но никто не показался мне рыцарем, кроме тебя. Я очень красива и
молода, у меня много денег, и я могу взять их с собой. Подумай, не сумеешь
ли ты устроить так, чтоб нам с тобой уехать, и ты будешь там моим мужем,
если желаешь: а не желаешь, мне все равно, потому что Лела Мариен пошлет
кого-нибудь, кто женится на мне. Я сама написала это; смотри, кому дашь
читать. Не доверяйся никому из мавров, так как все они обманщики. Меня это
очень огорчает, и я желала бы, чтобы ты никому не открывался, потому что,
если отец мой узнает про письмо, он тотчас же бросит меня в колодец и
прикроет каменьями. К тростниковой палке я привязала нитку: прикрепи к ней
ответ твой. Если у тебя не найдется никого, кто бы мог писать по-арабски, --
ответь мне по-испански, и Лела Мариен устроит так, что я пойму тебя. Да
хранит тебя Она, Аллах и этот крест, который я целую много раз, как тому
научила меня невольница".
СОНЕТ
За свой подвиг святой, души славных бойцов,
Вы от жизни земной и от дольнего тления
Вознеслись в горний край и блаженства селенья,
Отряхнув, словно прах, свой телесный покров.
Пыл геройский в груди, все вы шли на врагов,
На несметных врагов в боевом упоенье,
Кровью их и своей обагряя в сраженье
Воды дальних морей и равнины песков.
И не мужество вам -- силы вам изменили,
Побежденные, вы хоть и пали в бою,
Но победным венком вы себя осенили.
За кровавую смерть и за гибель свою
На земле славу вы и бессмертье стяжали,
В небесах светлый рай и блаженство познали.
-- В таком же самом виде и я знаю этот сонет, -- сказал пленник.
-- А в сонете, посвященном форту,-- продолжал кабальеро, -- если я
хорошо помню его, говорится следующее:
СОНЕТ
От этих диких мест и дальних берегов,
От павших этих стен, где всюду разрушенье,
В мир горний отойдя, нашли успокоенье
Для душ своих святых три тысячи бойцов.
Сражались все они с безумьем храбрецов,--
В душе горел огонь, в груди пылало мщенье,
Но было тщетно все: проиграно сраженье!
Легли они в бою, и верх взял сонм врагов.
Как много было тут и крови, и страданий!
Как здешние места в былые времена[1]
И в наши дни полны больных воспоминаний!
Но чистых душ таких, суровая страна,
Ты к небу никогда еще не отсылала,
Столь доблестных людей вовеки не видала!
[1] Это намек на битвы в этой местности, вблизи Карфагена, в древние
времена,
Сонеты показались недурными, и пленник был очень обрадован новостями,
которые ему сообщили о его товарище, затем он продолжал свой рассказ,
говоря:
-- После взятия Голеты и форта, турки велели снести Голету; что же
касается форта, он был в таком состоянии, что там нечего было разрушать.
Чтобы скорее и с меньшим трудом достигнуть цели, турки минировали Голету с
трех сторон, но никак не могли взорвать то, что, по-видимому, должно было
быть наименее крепким, именно старые стены; а все то, что еще устояло из
новых фортификационных работ, которые возвел эль-Фратин {Прозвище Джакомо
Палеаро, итальянского инженера, бывшего на службе у Карла V.}, очень легко
было уничтожено. Словом, флот турецкий вернулся в Константинополь,
торжествующий и победоносный. Несколько месяцев спустя умер мой господин
Учали, которого обыкновенно называли Учали Фартакс, что на турецком языке
означает "шелудивый ренегат", потому что в действительности он был болен
паршой. У турок в обычае давать прозвища по какому-нибудь личному недостатку
или качеству человека; и делают они это потому, что у них всего лишь четыре
родовых имени потомков дома Оттоманов, -- а остальные, как я уже говорил,
получают фамилию и прозвища по своим телесным недостаткам или душевным
качествам. Этот больной паршой просидел у весел невольником султана целых
четырнадцать лет. Когда ему уже было за тридцать четыре года, он сделался
ренегатом по злобе на одного турка, давшего ему пощечину, в то время как он
греб веслами, и, чтоб иметь возможность отомстить ему, он отрекся от своей
веры. Но доблесть его была так велика, что он, -- не прибегая к низким путям
и средствам, благодаря которым обыкновенно возвышаются любимцы султана, --
сделался алжирским королем, и затем главнокомандующим флота, а это третья
почетная должность в турецком государстве {Первые две должности: великий
визирь и шейк-уль-ислам.}. Родом он был калабриец, человек добрый и
нравственный и обращался со своими невольниками, которых под конец у него
было три тысячи, с большой человечностью. После его смерти их распределили,
как он указал в своем завещании, между султаном (который тоже наследует
после всякого умершего и получает часть, как и остальные дети покойного) и
его ренегатами. Я достался одному венецианскому ренегату, который был взят в
плен Учали, будучи юнгой на корабле, и Учали так полюбил его, что он у него
был одним из самых балованных его мальчиков; но потом он сделался одним из
наиболее жестоких ренегатов, каких когда-либо видели. Его звали Ассан Ага;
он очень разбогател и достиг звания алжирского короля. С ним уехал и я из
Константинополя в Алжир, чувствуя некоторое удовольствие при мысли, что я
ближе к Испании, не потому, чтобы имел в виду написать кому-либо о своей
тяжкой доле, а потому, что хотелось посмотреть, не будет ли мне более
благоприятствовать счастье в Алжире, чем в Константинополе, где я на тысячи
ладов делал попытки бежать, но все неудачно. В Алжире я надеялся найти
другие средства достигнуть того, чего я так сильно желал, потому что меня
никогда не покидала надежда добыть себе свободу. И если в том, что я
изобретал, придумывал и приводил в исполнение, успех не отвечал моим
ожиданиям, я, не впадая в уныние, тотчас же изыскивал и придумывал новую
надежду, которая меня поддерживала, как бы она ни была мала и слаба. Так
проводил я время, заключенный в тюрьме, или помещении, которое турки
называют баньо {Bagnio (баньо) -- нечто вроде бараков или здания для
христианских невольников. По-видимому, в стенах баньо им предоставлялась
довольно большая свобода, у них было там нечто вроде часовен и алтарей, где
зажигали свечи и пр. и где они могли молиться по обрядам христианской
религии. Дозволялись им также и всякие развлечения: декламация стихов,
разыгрывание комедий и т. п.}, где они запирают христианских пленников, как
принадлежащих королю, так и составляющих собственность некоторых частных
лиц, а также и так называемых пленников альмасена {Almacen -- магазин,
склад.}, или, говоря иными словами, пленников городского совета. Эти
последние употребляются для общественных работ, предпринимаемых городом, и
для других занятий. Такого рода пленникам трудно получить свободу, ввиду
того что они принадлежат обществу, не имеют отдельного хозяина и не с кем
условливаться относительно их выкупа, хотя бы они и могли представить его. В
баньо, как я уже говорил, посылают обыкновенно
своих невольников и некоторые частные лица, в особенности если они
подлежат выкупу, потому что их там хорошо содержат и надежно охраняют до
получения за них денег. Также и невольники короля, подлежащие выкупу, не
посылаются с остальной командой на работы, исключая тех случаев, когда их
выкуп запаздывает. Тогда, чтобы побудить их настойчивее писать о присылке
денег, их вместе с остальными невольниками посылают на работы и заставляют
носить дрова, что вовсе не легкий труд. Меня тоже причислили к подлежащим
выкупу, так как узнали, что я капитан; и хотя я и говорил о незначительности
своих средств и неимении состояния, это нисколько не помогло, и я был
занесен в список кабальеро и лиц, подлежащих выкупу. На меня надели цепи,
скорее в знак ожидаемого выкупа, чем для более надежной охраны, и таким
образом я проводил жизнь в этом баньо со многими другими кабальеро и
знатными людьми, которых обделили и держали здесь для выкупа. Хотя по
временам, или, вернее, почти всегда, нас донимал голод и нагота, но еще
большим мученьем для нас было видеть и слышать на каждом шагу никогда не
виданные и не слыханные жестокости, которые мой господин учинял над
христианами. Не проходило дня, чтобы он не приказывал одного повесить,
другого -- посадить на кол, третьему -- отрезать уши; и все по весьма
незначительным причинам, а часто и без всякой причины, так что и турки уже
понимали, что он это делает лишь ради своего удовольствия и только потому,
что по натуре своей он палач рода человеческого. Единственный, кому повезло
с ним, был испанский солдат по имени Сааведра {Т. е. сам Сервантес.},
которого -- хотя тот и наделал таких дел, что останутся в памяти тех людей
долгие годы, и все с целью добыть себе свободу, -- Ассан Ага ни разу не
ударил, никогда не приказывал бить и не сказал ему дурного слова; а между
тем за самую маленькую из многих его провинностей, мы все боялись, что его
посадят на кол, и он сам не раз боялся этого. Если б время дозволило мне, я
рассказал бы вам теперь кое-что из того, что делал этот солдат, и это куда
больше заняло и удивило бы вас, чем моя собственная история.
Итак, говорю я, на двор нашей тюрьмы выходили окна дома одного богатого
и знатного мавра, которые обыкновенно в мавританских домах скорее похожи на
бойницы или амбразуры, чем на окна, но даже и они были прикрыты частыми и
плотными решетчатыми жалюзи. Однажды случилось так, что, находясь с тремя
другими моими товарищами на террасе {Т. е. на плоской крыше.}[ ]нашей тюрьмы,
где мы для времяпровождения делали попытки прыгать с нашими цепями, будучи
одни (так как остальные пленные христиане ушли на работу), я случайно поднял
глаза и увидел, что из одного из этих маленьких решетчатых окошечек, о
которых я говорил, показалась тростниковая палка, а на конце ее был привязан
носовой платок. Палкой махали и двигали вниз и вверх, как бы давая нам знак
подойти и взять ее. Мы заметили это, и один из бывших со мной подошел, чтобы
посмотреть, опустят ли ее или что с нею сделают. Но лишь только он
приблизился, палку приподняли вверх и замахали ею из стороны в сторону,
подобно тому как качают головой, желая сказать нет. Христианин отошел --
палку снова опустили и стали делать те же движения, как и раньше. Другой из
моих товарищей пошел к палке -- с ним случилось то же, что и с первым.
Наконец, пошел третий, и с ним повторилось опять то же, что и с первыми
двумя. Когда я увидал это, и мне захотелось испытать свое счастье; и лишь
только я встал под палкой, ее опустили и она упала в баньо к моим ногам.
Тотчас же я поспешил отвязать платок и увидел, что на платке был завязан
узел, а в узле оказалось десять си-анисов -- это монеты низкопробного
золота, обращающиеся у мавров и стоящие каждая десять испанских реалов. Был
ли я доволен находкой, об этом нечего и говорить, так как радость моя была
столь же велика, как было велико изумление при мысли, откуда мог к нам
явиться такой подарок и в особенности мне, потому что из того, что палка не
захотела опуститься ни для кого, кроме меня, было очевидно, что эта милость
предназначалась мне. Я взял драгоценные свои деньги, сломал тростниковую
палку, вернулся на террасу, взглянул на окошечко и увидел, как из него
высунулась необычайно белая рука, которая открыла и быстро закрыла окно. Из
этого мы поняли или вообразили себе, что какая-нибудь женщина, живущая в том
доме, по-видимому, оказала нам это благодеяние. И в знак нашей благодарности
мы, по обычаю мавров, сделали селям, наклонив головы, перегнув туловище и
положив руки на грудь. Немного спустя из того же окна показался маленький
крест, сделанный из тростника, но тотчас же и скрылся. Этот знак убедил нас,
что в доме, должно быть, живет пленная христианка и это она
облагодетельствовала нас. Однако белизна руки и запястья на ней
противоречили такому предположению, и у нас явилась мысль, не христианская
ли это ренегатка, одна из тех, которых так часто хозяева их берут в законные
жены и даже считают это за счастье, так как они ставят их выше женщин своего
народа.
Но во всех этих предположениях мы оказались далекими от истины; итак, с
этого дня все развлечение наше состояло в том, что мы не сводили глаз с
окна, в котором появилась палка, засиявшая для нас светлой звездой. Однако
прошли добрых две недели, в течение которых мы не видели ни тростниковой
палки, ни руки и никакого другого знака. И хотя за это время мы прилагали
все старания, чтобы узнать, кто живет в том доме и нет ли там христианской
ренегатки, -- никто не мог нам ничего сообщить, исключая того, что это дом
знатного и богатого мавра по имени Ахи-Морато, бывшего алкайда Ла-Паты
{По-видимому, La Pata, или Bata, -- крепость в двух милях от города Оран.},
-- должность, считающаяся у турок очень почетной. Но когда мы всего менее
думали о том, что снова на нас польется дождь сианисов, мы вдруг увидели
палку с привязанным к ней платком, а в платке -- опять сверток, только
побольше прежнего. Случилось это в то время, когда баньо, как и в первый
раз, был безлюден и пуст. Мы повторили прежний опыт: каждый из трех моих
товарищей -- те же, как и в тот раз, -- подходил к палке прежде меня, но
никому, кроме меня, она не была отдана, потому что, едва я подошел, как
палка упала. Я развязал узел и нашел в нем сорок испанских червонцев, а
также письмо, написанное по-арабски, и в конце его был поставлен большой
крест. Поцеловав крест, я взял червонцы, вернулся на террасу, мы все сделали
наш селям; рука появилась снова, я подал знак, что прочту письмо; окно
закрылось. Мы были удивлены и обрадованы этим происшествием; но никто из нас
не понимал по-арабски, желание же наше узнать, что написано в письме, было
очень велико, а еще больше было затруднение найти, кого-нибудь, кто бы
прочел его нам. Наконец я решил довериться одному ренегату, уроженцу Мурсии,
который открыто признавал себя моим большим другом, и с ним мы еще раньше
обменялись залогами, обязывавшими его хранить всякую тайну, которую ему
доверяли; потому что некоторые ренегаты имеют обыкновение, когда они
намереваются вернуться в христианскую страну, запасаться свидетельствами от
знатных пленников, в которых те в форме, какая окажется возможной,
удостоверяют, что такой-то ренегат -- человек хороший, делал всегда добро
христианам и желает бежать при первом представившемся случае. Некоторые
достают себе подобного рода свидетельства с хорошими намерениями; другие же
пользуются ими на тот случай и с тем умыслом -- когда они отправляются
грабить в христианские страны, -- чтобы, потерпев кораблекрушение или попав
в плен, они могли бы предъявить эти свидетельства и сказать, что по ним
можно судить о руководившем ими намерении, именно желании остаться в
христианской стране, и только с этой целью они сопровождали турок в их
набеге. Таким образом, они спасаются от угрожающего им первого взрыва гнева
и примиряются без неприятностей для себя с Церковью, а при ближайшей
возможности возвращаются снова в Берберию, чтобы опять сделаться тем же, чем
были раньше. Иные же, как я уже говорил, из пользующихся такого рода
бумагами достают их действительно с искренним намерением и остаются навсегда
в христианских странах. К числу таких ренегатов принадлежал и мой приятель,
имевший от всех наших товарищей свидетельства, в которых мы ручались за него
всем, чем могли. Если бы мавры нашли на нем эти бумаги, они бы не преминули
сжечь его живым. Мне было известно, что он хорошо знает арабский язык и не
только говорит на нем, но и пишет. Однако, прежде чем вполне ему открыться,
я его попросил прочесть записку, которую будто бы случайно нашел в одной из
дыр в полу моего помещения. Он развернул бумагу и долго всматривался в нее,
разбирая и бормоча сквозь зубы. Я спросил его, понимает ли он письмо, и он
ответил, что очень хорошо, а если я желаю, чтобы он перевел мне его слово в
слово, пусть ему дадут чернила и перо, чтобы он лучше мог это сделать. Мы
тотчас же принесли ему то, что он просил, и он перевел понемногу и, когда
кончил, сказал:
-- Все написанное по-испански есть буквальный перевод того, что
заключает в себе письмо, но я должен предупредить вас, что везде, где стоит:
"Лела Мариен", это означает "Пресвятая Дева Мария".
Мы прочли письмо, и оно заключало в себе следующее:
"Когда я была еще ребенком, у моего отца жила невольница, которая
научила меня на моем языке христианской молитве и много рассказывала мне о
Леле Мариен. Христианка умерла, и я знаю, что она пошла не в огонь, а к
Аллаху, потому что после того я видела ее два раза и она мне сказала, чтобы
я отправилась в страну христиан, и там я увижу Лелу Мариен, которая очень
меня любит. Не знаю, как попасть туда. Многих христиан видела я из этого
окна, но никто не показался мне рыцарем, кроме тебя. Я очень красива и
молода, у меня много денег, и я могу взять их с собой. Подумай, не сумеешь
ли ты устроить так, чтоб нам с тобой уехать, и ты будешь там моим мужем,
если желаешь: а не желаешь, мне все равно, потому что Лела Мариен пошлет
кого-нибудь, кто женится на мне. Я сама написала это; смотри, кому дашь
читать. Не доверяйся никому из мавров, так как все они обманщики. Меня это
очень огорчает, и я желала бы, чтобы ты никому не открывался, потому что,
если отец мой узнает про письмо, он тотчас же бросит меня в колодец и
прикроет каменьями. К тростниковой палке я привязала нитку: прикрепи к ней
ответ твой. Если у тебя не найдется никого, кто бы мог писать по-арабски, --
ответь мне по-испански, и Лела Мариен устроит так, что я пойму тебя. Да
хранит тебя Она, Аллах и этот крест, который я целую много раз, как тому
научила меня невольница".
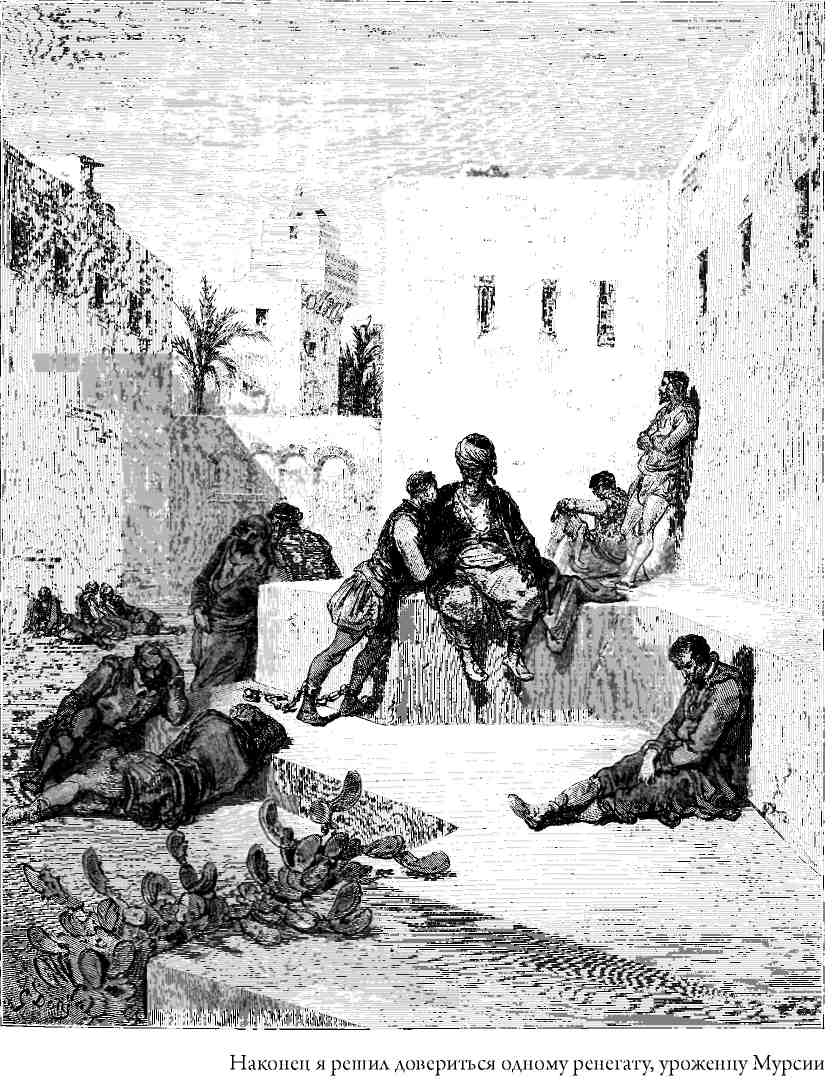 -- Рассудите, сеньоры, имели ли мы причину удивляться и радоваться
тому, что было написано в этом письме? И действительно, наше изумление и
радость были так велики, что ренегат тотчас же догадался, что письмо найдено
не случайно, а написано одному из нас, и потому он нас просил, если он верно
предполагает, довериться ему и все ему сказать, так как он, чтобы добыть нам
свободу, готов подвергнуть опасности свою жизнь. Говоря это, он вынул
хранившееся у него на груди металлическое распятие и, обливаясь слезами,
поклялся именем изображенного на этом кресте Бога, в которого он, хотя и
грешник, и дурной человек, искренно и беспредельно верит, хранить в строгой
тайне то, что мы пожелали бы сообщить ему, потому что он думает и почти
уверен, что через посредство той, которая написала эти строки и он, и все мы
получим свободу и он добьется того, чего так сильно желает, -- возможности
вернуться в лоно святой матери церкви, от которой он, как гнилой член,
отделен и отторгнут за свое невежество и свою греховность. Ренегат говорил
это, проливая такие обильные слезы и с признаками такого сильного раскаяния,
что мы все единодушно согласились и решили сказать ему правду и дали ему обо
всем подробный отчет, ничего не утаив от него. Мы показали ему окошечко, из
которого появлялась тростниковая палка, и он отметил себе тот дом и обещал
приложить особое и величайшее старание узнать, кто там живет. Вместе с тем
мы решили, что было бы хорошо тотчас же ответить на письмо мавританки, раз у
нас есть, кто может это сделать; и ренегат написал то, что я ему диктовал и
теперь повторю вам слово в слово, так как из всех существенных подробностей
случившегося со мной события ни одна не изгладилась из моей памяти и не
изгладится, пока я буду жив. Словом, мы ответили мавританке следующее:
"Да хранит тебя истинный Аллах, сеньора моя, а также благодатная
Марией, которая есть истинная Матерь Божия; это Она вложила в сердце твое
желание уехать в христианские страны, потому что любит тебя. Попроси Ее, не
будет ли Ей угодно научить тебя, как привести в исполнение Ее приказание:
Она такая добрая, что сделает это. От моего имени и от имени всех тех
христиан, которые здесь со мной, обещаю сделать для тебя все, что только в
наших силах, и даже умереть за тебя. Не оставь написать мне и сообщить, что
ты думаешь делать, и я всегда тебе отвечу, потому что великий Аллах послал
нам пленного христианина, который так хорошо умеет говорить и писать на
твоем языке, как ты это видишь из этих строк. Поэтому можешь без всяких
опасений извещать нас обо всем, о чем желаешь. Относительно же твоих слов,
что, если б ты уехала в христианские страны, ты сделалась бы моей женой, --
это обещаю тебе, как добрый христианин, и знай, что христиане лучше
исполняют свои обещания, чем мавры. Да хранят тебя, моя сеньора, Аллах и
Мариен, Мать Его".
Письмо было написано и запечатано, но мне пришлось ждать еще два дня,
пока баньо не опустел, как обыкновенно, и тотчас же я отправился к обычному
месту на маленькой террасе посмотреть, не появится ли тростниковая палка, --
что и не замедлило случиться. Как только я ее заметил, хотя и не мог видеть,
кто ее держит, я показал письмо, желая дать понять, чтоб привязали нитку; но
она уже оказалась привязанной; и я прикрепил к ней письмо, и вскоре затем
появилась снова наша звезда с белым знаменем мира -- с привязанным на палке
платочком. Палка упала; я ее поднял и нашел в платке серебряными и золотыми
монетами более пятидесяти червонцев, которые в пятьдесят раз увеличили нашу
радость и укрепили в нас надежду добыть себе свободу. В ту же ночь вернулся
наш ренегат и сообщил, что, по собранным им сведениям, в том доме
действительно живет мавр, о котором нам говорили, зовут его Ахи-Мора-то; он
в высшей степени богат и имеет единственную дочь, наследницу всего его
состояния. По общему мнению, в городе она самая красивая женщина во всей
Берберии и многие из вице-королей, приезжавших сюда, просили ее себе в жены,
но она не пожелала выйти замуж. Он еще узнал, что у нее была невольница --
христианка, теперь уже умершая, и все это согласовалось с тем, что было
написано в письме. Мы стали тотчас совещаться с ренегатом, какой бы
придумать план, чтобы увезти мавританку и всем нам вернуться в христианские
земли. Наконец было решено, что мы подождем второго письма Сораиды, -- так
звали ту, которая теперь хочет называться Марией, -- так как мы хорошо
понимали, что никто другой и только она одна может указать нам выход из всех
наших затруднений.
Когда мы пришли к этому решению, ренегат просил нас не тревожиться,
потому что он расстанется с жизнью или добудет нам свободу. Четыре дня баньо
был полон народа, вследствие чего палка не появлялась целых четыре дня, но
по истечении этого времени, когда баньо, по обыкновению, опустел, она
появилась с очень пузатым платком, обещавшим счастливейшие роды. Когда палка
вместе с платком спустились ко мне, я нашел в свертке письмо и сто червонцев
одним золотом, а не другими монетами. Ренегат был тут же, мы дали ему
прочесть письмо, когда вернулись в свое помещение, и он сказал, что оно
заключает в себе следующее:
"Не знаю, сеньор мой, как устроить, чтобы нам уехать в Испанию, и Лела
Мариен мне этого не сказала, хотя я просила ее о том. Можно будет вот что
сделать: я дам вам через это окно множество денег золотом; выкупите себя ими
-- вы и ваши друзья, -- и пусть кто-нибудь из вас поедет в христианские
страны, купит там барку и вернется за остальными. Меня он найдет в саду
моего отца, у ворот Бабасона {Babazon, или "Ворота скорби", названые так
потому, что здесь совершались казни. В настоящее время южные ворота Алжира,
близ морского берега, известны под тем же названием.}, близ морского берега,
где я проведу все лето с моим отцом и моими слугами. Оттуда вы можете ночью
похитить меня, ничего не опасаясь, и отвести на барку. Смотри, не забывай,
что ты должен быть моим мужем, потому что иначе я попрошу Мариен наказать
тебя. Если ты никому не можешь доверить ехать за баркой, выкупи себя и
поезжай сам; я знаю, ты скорей всякого другого вернешься, так как ты рыцарь
и христианин. Постарайся узнать, где наш сад; а когда я увижу, что ты будешь
прохаживаться по террасе, я буду знать, что в баньо никого нет, и дам тебе
много денег. Аллах да хранит тебя, сеньор мой".
Вот что заключало в себе второе письмо и что там говорилось. Услыхав в
чем дело, каждый из нас выразил желание выкупиться, обещая поехать и
вернуться со всевозможной точностью; и я тоже вызвался сделать это. Но всему
воспротивился ренегат, говоря, что он ни в каком случае не согласится, чтобы
кто-нибудь из нас один выкупился на свободу, пока мы не выкупимся все
вместе, так как опыт научил его, как плохо освободившиеся исполняют
обещания, данные ими в плену. Не раз знатные пленники прибегали к тому же
способу: выкупят кого-нибудь и посылают с деньгами в Валенсию или на
Майорку, чтобы оснастить там барку и вернуться за теми, кто его выкупил. Но
никогда эти посланцы не возвращались, так как полученная свобода и опасение
снова ее потерять изглаживали из их памяти взятые ими на себя обязательства.
Чтобы подтвердить сказанное им, он в кратких словах сообщил нам случай,
только что происшедший с несколькими христианскими кабальеро, -- один из
самых странных случаев, когда либо приключавшихся в этих местностях, где на
каждом шагу происходят изумительные и достойные удивления вещи. В заключение
ренегат сказал, что то, что можно и следует сделать, -- это отдать ему
предназначавшиеся для выкупа пленного христианина деньги, чтобы он купил в
Алжире барку под предлогом, что сделается купцом и будет вести торговлю с
Тетуаном и всем побережьем. А когда он будет собственником барки, он легко
найдет способ вывести нас всех из баньо и уехать с нами в море, тем более
если еще мавританка, как она говорила, даст денег на выкуп всех, потому что,
как только мы получим свободу, нет ничего легче, чем сесть на корабль хотя
бы среди белого дня. Наибольшее затруднение в том, что мавры не позволяют
никому из ренегатов покупать или держать барку, а только большие корабли для
морских разбоев, так как боятся, что купивший барку -- в особенности испанец
-- делает это, имея в виду бежать в христианскую землю. Впрочем, он устранит
это препятствие тем, что войдет в долю с каким-нибудь мавром-тагарином
{Тагаринами называли мавров, приехавших с границы, т. е. из Арагонии; thagr
в переводе с арабского значит "граница".} как в покупке с ним барки, так и
прибылей с товаров; и под этим прикрытием барка будет в его власти, после
чего он считает, что все будет достижимо. Хотя мне и моим товарищам казалось
предпочтительнее послать за баркой на Майорку, как говорила мавританка, но
мы не смели противоречить ренегату, боясь, что, если мы не согласимся
принять его предложение, он нас выдаст, подвергнет опасности лишиться жизни
и обнаружит наше соглашение с Сораидой, за жизнь которой мы все отдали бы
нашу. Итак, мы решили предать судьбу свою в руки Божьи и ренегата. В то же
время был послан ответ Сораиде, в котором мы сообщали ей, что сделаем все,
что она нам советует, потому что она так хорошо придумала, точно Лела Марией
все ей подсказала; от нее одной зависит, отложить ли это дело или же тотчас
приняться за выполнение его. Я подтвердил ей снова, что сделаюсь ее мужем,
после чего на следующий же день, когда баньо оказался пустым, она
посредством палки и платка дала нам в несколько приемов две тысячи червонцев
золотом и письмо, в котором сообщала, что в первую хума, т. е. пятницу, она
уезжает в сад своего отца, но до отъезда даст нам еще больше денег; в случае
же если и это окажется недостаточным, пусть мы сообщим ей, и она нам даст
столько, сколько мы пожелаем, так как у ее отца так много денег, что он
ничего не заметит, тем более что все ключи в ее руках.
Мы дали ренегату пятьсот червонцев на покупку барки, а за восемьсот
выкупился я, дав деньги одному купцу из Валенсии, который в то время был в
Алжире. Он выкупил меня у короля на слово и взял к себе, обещав с первым же
кораблем, который придет из Валенсии, внести за меня выкуп, потому что если
б он сейчас внес деньги, то возбудил бы в короле подозрение, не была ли эта
сумма уже давно в Алжире, а купец скрыл ее, пустив в оборот. Словом, мой
господин был такой подозрительный, что я ни в каком случае не решился бы
тотчас же выплатить ему деньги. В четверг, накануне той пятницы, когда
прекрасная Сораида должна была ехать в сад, она дала нам еще тысячу
червонцев и сообщила о своем отъезде, прося меня, если я выкуплюсь, сейчас
же разыскать сад ее отца и, во всяком случае, придумать удобный предлог для
того, чтобы пойти туда и повидаться с ней. Я ответил ей в кратких словах,
что так и сделаю и чтобы она не забыла поручить нас Леле Мариен во всех
молитвах, которым научила ее пленная христианка. Сделав это, мы приняли меры
внести выкуп и за остальных трех товарищей, с тем чтоб облегчить им выход из
баньо, а также чтобы они, видя меня выкупленным, а себя нет, хотя и имеются
для этого деньги, не встревожились бы и дьявол не подсказал им сделать
что-либо во вред Сораиде, так как, хотя я и хорошо знал, что это за люди, и
мог быть вполне спокоен на их счет, тем не менее я не желал подвергать все
дело риску. Поэтому я выкупил их тем же способом, как и себя, передав все
деньги купцу, чтобы он с уверенностью и спокойно мог бы поручиться за нас,
хотя мы не открыли ему ни нашего заговора, ни нашей тайны вследствие
опасности, которую это могло бы повлечь за собой.
-- Рассудите, сеньоры, имели ли мы причину удивляться и радоваться
тому, что было написано в этом письме? И действительно, наше изумление и
радость были так велики, что ренегат тотчас же догадался, что письмо найдено
не случайно, а написано одному из нас, и потому он нас просил, если он верно
предполагает, довериться ему и все ему сказать, так как он, чтобы добыть нам
свободу, готов подвергнуть опасности свою жизнь. Говоря это, он вынул
хранившееся у него на груди металлическое распятие и, обливаясь слезами,
поклялся именем изображенного на этом кресте Бога, в которого он, хотя и
грешник, и дурной человек, искренно и беспредельно верит, хранить в строгой
тайне то, что мы пожелали бы сообщить ему, потому что он думает и почти
уверен, что через посредство той, которая написала эти строки и он, и все мы
получим свободу и он добьется того, чего так сильно желает, -- возможности
вернуться в лоно святой матери церкви, от которой он, как гнилой член,
отделен и отторгнут за свое невежество и свою греховность. Ренегат говорил
это, проливая такие обильные слезы и с признаками такого сильного раскаяния,
что мы все единодушно согласились и решили сказать ему правду и дали ему обо
всем подробный отчет, ничего не утаив от него. Мы показали ему окошечко, из
которого появлялась тростниковая палка, и он отметил себе тот дом и обещал
приложить особое и величайшее старание узнать, кто там живет. Вместе с тем
мы решили, что было бы хорошо тотчас же ответить на письмо мавританки, раз у
нас есть, кто может это сделать; и ренегат написал то, что я ему диктовал и
теперь повторю вам слово в слово, так как из всех существенных подробностей
случившегося со мной события ни одна не изгладилась из моей памяти и не
изгладится, пока я буду жив. Словом, мы ответили мавританке следующее:
"Да хранит тебя истинный Аллах, сеньора моя, а также благодатная
Марией, которая есть истинная Матерь Божия; это Она вложила в сердце твое
желание уехать в христианские страны, потому что любит тебя. Попроси Ее, не
будет ли Ей угодно научить тебя, как привести в исполнение Ее приказание:
Она такая добрая, что сделает это. От моего имени и от имени всех тех
христиан, которые здесь со мной, обещаю сделать для тебя все, что только в
наших силах, и даже умереть за тебя. Не оставь написать мне и сообщить, что
ты думаешь делать, и я всегда тебе отвечу, потому что великий Аллах послал
нам пленного христианина, который так хорошо умеет говорить и писать на
твоем языке, как ты это видишь из этих строк. Поэтому можешь без всяких
опасений извещать нас обо всем, о чем желаешь. Относительно же твоих слов,
что, если б ты уехала в христианские страны, ты сделалась бы моей женой, --
это обещаю тебе, как добрый христианин, и знай, что христиане лучше
исполняют свои обещания, чем мавры. Да хранят тебя, моя сеньора, Аллах и
Мариен, Мать Его".
Письмо было написано и запечатано, но мне пришлось ждать еще два дня,
пока баньо не опустел, как обыкновенно, и тотчас же я отправился к обычному
месту на маленькой террасе посмотреть, не появится ли тростниковая палка, --
что и не замедлило случиться. Как только я ее заметил, хотя и не мог видеть,
кто ее держит, я показал письмо, желая дать понять, чтоб привязали нитку; но
она уже оказалась привязанной; и я прикрепил к ней письмо, и вскоре затем
появилась снова наша звезда с белым знаменем мира -- с привязанным на палке
платочком. Палка упала; я ее поднял и нашел в платке серебряными и золотыми
монетами более пятидесяти червонцев, которые в пятьдесят раз увеличили нашу
радость и укрепили в нас надежду добыть себе свободу. В ту же ночь вернулся
наш ренегат и сообщил, что, по собранным им сведениям, в том доме
действительно живет мавр, о котором нам говорили, зовут его Ахи-Мора-то; он
в высшей степени богат и имеет единственную дочь, наследницу всего его
состояния. По общему мнению, в городе она самая красивая женщина во всей
Берберии и многие из вице-королей, приезжавших сюда, просили ее себе в жены,
но она не пожелала выйти замуж. Он еще узнал, что у нее была невольница --
христианка, теперь уже умершая, и все это согласовалось с тем, что было
написано в письме. Мы стали тотчас совещаться с ренегатом, какой бы
придумать план, чтобы увезти мавританку и всем нам вернуться в христианские
земли. Наконец было решено, что мы подождем второго письма Сораиды, -- так
звали ту, которая теперь хочет называться Марией, -- так как мы хорошо
понимали, что никто другой и только она одна может указать нам выход из всех
наших затруднений.
Когда мы пришли к этому решению, ренегат просил нас не тревожиться,
потому что он расстанется с жизнью или добудет нам свободу. Четыре дня баньо
был полон народа, вследствие чего палка не появлялась целых четыре дня, но
по истечении этого времени, когда баньо, по обыкновению, опустел, она
появилась с очень пузатым платком, обещавшим счастливейшие роды. Когда палка
вместе с платком спустились ко мне, я нашел в свертке письмо и сто червонцев
одним золотом, а не другими монетами. Ренегат был тут же, мы дали ему
прочесть письмо, когда вернулись в свое помещение, и он сказал, что оно
заключает в себе следующее:
"Не знаю, сеньор мой, как устроить, чтобы нам уехать в Испанию, и Лела
Мариен мне этого не сказала, хотя я просила ее о том. Можно будет вот что
сделать: я дам вам через это окно множество денег золотом; выкупите себя ими
-- вы и ваши друзья, -- и пусть кто-нибудь из вас поедет в христианские
страны, купит там барку и вернется за остальными. Меня он найдет в саду
моего отца, у ворот Бабасона {Babazon, или "Ворота скорби", названые так
потому, что здесь совершались казни. В настоящее время южные ворота Алжира,
близ морского берега, известны под тем же названием.}, близ морского берега,
где я проведу все лето с моим отцом и моими слугами. Оттуда вы можете ночью
похитить меня, ничего не опасаясь, и отвести на барку. Смотри, не забывай,
что ты должен быть моим мужем, потому что иначе я попрошу Мариен наказать
тебя. Если ты никому не можешь доверить ехать за баркой, выкупи себя и
поезжай сам; я знаю, ты скорей всякого другого вернешься, так как ты рыцарь
и христианин. Постарайся узнать, где наш сад; а когда я увижу, что ты будешь
прохаживаться по террасе, я буду знать, что в баньо никого нет, и дам тебе
много денег. Аллах да хранит тебя, сеньор мой".
Вот что заключало в себе второе письмо и что там говорилось. Услыхав в
чем дело, каждый из нас выразил желание выкупиться, обещая поехать и
вернуться со всевозможной точностью; и я тоже вызвался сделать это. Но всему
воспротивился ренегат, говоря, что он ни в каком случае не согласится, чтобы
кто-нибудь из нас один выкупился на свободу, пока мы не выкупимся все
вместе, так как опыт научил его, как плохо освободившиеся исполняют
обещания, данные ими в плену. Не раз знатные пленники прибегали к тому же
способу: выкупят кого-нибудь и посылают с деньгами в Валенсию или на
Майорку, чтобы оснастить там барку и вернуться за теми, кто его выкупил. Но
никогда эти посланцы не возвращались, так как полученная свобода и опасение
снова ее потерять изглаживали из их памяти взятые ими на себя обязательства.
Чтобы подтвердить сказанное им, он в кратких словах сообщил нам случай,
только что происшедший с несколькими христианскими кабальеро, -- один из
самых странных случаев, когда либо приключавшихся в этих местностях, где на
каждом шагу происходят изумительные и достойные удивления вещи. В заключение
ренегат сказал, что то, что можно и следует сделать, -- это отдать ему
предназначавшиеся для выкупа пленного христианина деньги, чтобы он купил в
Алжире барку под предлогом, что сделается купцом и будет вести торговлю с
Тетуаном и всем побережьем. А когда он будет собственником барки, он легко
найдет способ вывести нас всех из баньо и уехать с нами в море, тем более
если еще мавританка, как она говорила, даст денег на выкуп всех, потому что,
как только мы получим свободу, нет ничего легче, чем сесть на корабль хотя
бы среди белого дня. Наибольшее затруднение в том, что мавры не позволяют
никому из ренегатов покупать или держать барку, а только большие корабли для
морских разбоев, так как боятся, что купивший барку -- в особенности испанец
-- делает это, имея в виду бежать в христианскую землю. Впрочем, он устранит
это препятствие тем, что войдет в долю с каким-нибудь мавром-тагарином
{Тагаринами называли мавров, приехавших с границы, т. е. из Арагонии; thagr
в переводе с арабского значит "граница".} как в покупке с ним барки, так и
прибылей с товаров; и под этим прикрытием барка будет в его власти, после
чего он считает, что все будет достижимо. Хотя мне и моим товарищам казалось
предпочтительнее послать за баркой на Майорку, как говорила мавританка, но
мы не смели противоречить ренегату, боясь, что, если мы не согласимся
принять его предложение, он нас выдаст, подвергнет опасности лишиться жизни
и обнаружит наше соглашение с Сораидой, за жизнь которой мы все отдали бы
нашу. Итак, мы решили предать судьбу свою в руки Божьи и ренегата. В то же
время был послан ответ Сораиде, в котором мы сообщали ей, что сделаем все,
что она нам советует, потому что она так хорошо придумала, точно Лела Марией
все ей подсказала; от нее одной зависит, отложить ли это дело или же тотчас
приняться за выполнение его. Я подтвердил ей снова, что сделаюсь ее мужем,
после чего на следующий же день, когда баньо оказался пустым, она
посредством палки и платка дала нам в несколько приемов две тысячи червонцев
золотом и письмо, в котором сообщала, что в первую хума, т. е. пятницу, она
уезжает в сад своего отца, но до отъезда даст нам еще больше денег; в случае
же если и это окажется недостаточным, пусть мы сообщим ей, и она нам даст
столько, сколько мы пожелаем, так как у ее отца так много денег, что он
ничего не заметит, тем более что все ключи в ее руках.
Мы дали ренегату пятьсот червонцев на покупку барки, а за восемьсот
выкупился я, дав деньги одному купцу из Валенсии, который в то время был в
Алжире. Он выкупил меня у короля на слово и взял к себе, обещав с первым же
кораблем, который придет из Валенсии, внести за меня выкуп, потому что если
б он сейчас внес деньги, то возбудил бы в короле подозрение, не была ли эта
сумма уже давно в Алжире, а купец скрыл ее, пустив в оборот. Словом, мой
господин был такой подозрительный, что я ни в каком случае не решился бы
тотчас же выплатить ему деньги. В четверг, накануне той пятницы, когда
прекрасная Сораида должна была ехать в сад, она дала нам еще тысячу
червонцев и сообщила о своем отъезде, прося меня, если я выкуплюсь, сейчас
же разыскать сад ее отца и, во всяком случае, придумать удобный предлог для
того, чтобы пойти туда и повидаться с ней. Я ответил ей в кратких словах,
что так и сделаю и чтобы она не забыла поручить нас Леле Мариен во всех
молитвах, которым научила ее пленная христианка. Сделав это, мы приняли меры
внести выкуп и за остальных трех товарищей, с тем чтоб облегчить им выход из
баньо, а также чтобы они, видя меня выкупленным, а себя нет, хотя и имеются
для этого деньги, не встревожились бы и дьявол не подсказал им сделать
что-либо во вред Сораиде, так как, хотя я и хорошо знал, что это за люди, и
мог быть вполне спокоен на их счет, тем не менее я не желал подвергать все
дело риску. Поэтому я выкупил их тем же способом, как и себя, передав все
деньги купцу, чтобы он с уверенностью и спокойно мог бы поручиться за нас,
хотя мы не открыли ему ни нашего заговора, ни нашей тайны вследствие
опасности, которую это могло бы повлечь за собой.

Глава XLI, в которой пленник продолжает свой рассказ
 Не прошло и двух недель, как уже наш ренегат купил очень хорошую барку,
которая могла вместить более тридцати человек. Чтобы дело было вернее и
чтобы придать ему подобающую окраску, он решил сделать, и действительно
сделал путешествие в местечко, называемое Сархел, отстоящее от Алжира на
тридцать миль по направлению к Орану, где ведется большая торговля сушеными
винными ягодами. Два или три раза совершил он эту поездку в обществе уже
упомянутого мавра-тагарина. В Берберии называют тагаринами арагонских
мавров, а гренадских -- мудехарес, в королевстве же Фец мудехарес называются
елчес, и тамошний король предпочтительно другим берет их на войну. Итак,
говорю, всякий раз, как ренегат отплывал в своей барке, он бросал якорь в
маленькой бухте, находившейся на расстоянии не более двух выстрелов из лука
от сада, в котором ждала Сораида; ренегат располагался здесь умышленно с
своими гребцами, молодыми маврами, творя молитву {Zola -- молитва, которую
добрый магометанин, где бы он ни находился, творит пять раз на дню.} или
разыгрывая в шутку то, что он собирался сделать в действительности; итак, он
отправлялся в сад Сораиды и просил дать фруктов, а отец ее, не зная его,
давал ему их. И хотя он и желал говорить с Сораидой -- как он потом мне
сообщил -- и сказать ей, что он тот, кому я приказал отвезти ее в
христианскую землю, и пусть она будет спокойна и довольна, -- никогда ему
это не удавалось, потому что мавританки не показываются ни мавру, ни турку,
разве только отец или муж прикажет им это. С христианскими же пленниками им
позволяют разговаривать и быть в общении часто даже более, чем следовало бы.
Да я бы и огорчился, если бы ему удалось говорить с нею, потому что, быть
может, она встревожилась бы, услыхав о своем деле из уст ренегата. Но Бог
распорядился иначе и не дал нашему ренегату возможности привести в
исполнение свое доброе намерение. А увидав, с какой безопасностью он ездит в
Сархел, взад и вперед, и может бросать якорь, когда, как и где ему угодно, и
что тагарин, его компаньон, не имеет другой воли, кроме руководимой им, что
я уже выкуплен, и остается только найти нескольких христиан, чтобы грести на
веслах, -- он просил меня подумать, кого я еще хочу взять с собой, кроме уже
выкупленных, и уговориться с ними ехать в ближайшую пятницу, которую он
назначил для нашего отъезда. Ввиду этого я переговорил с двенадцатью
испанцами -- все прекрасные гребцы и люди, которые могли свободно покинуть
город. Нелегко было найти их именно в это время, потому что как раз двадцать
кораблей ушли крейсировать в море и увезли с собой всех гребцов. И этих тоже
не было бы, если бы их хозяин отправился на пиратство, а не остался дома,
чтобы кончить постройку галиота, находившегося на верфи. Я ничего не сказал
моим гребцам, кроме того, что в следующую пятницу вечером они должны выйти
из города поодиночке, втихомолку, направляясь к саду Ахи-Морато, и там ждать
меня, пока я не приду. Каждому в отдельности дал я это приказание,
предупредив, в случае если бы они увидели там еще других христиан, не
говорить им ничего, исключая того, что я приказал ждать в этом месте.
Когда я сделал это распоряжение, мне оставалось еще сделать нечто
другое и самое важное для меня, а именно: известить Сораиду, в каком
положении находится наше предприятие, чтоб она была подготовлена, поджидала
нас и не испугалась, если б мы появились неожиданно и раньше того времени,
когда, по ее расчетам, могла прибыть барка с христианами. Итак, я решил идти
в сад и посмотреть, не удастся ли мне поговорить с нею. Под предлогом, что
мне нужно собрать некоторые травы, я пошел туда накануне дня, назначенного
для нашего отъезда. Первый, кого я встретил в саду, был отец Сораиды,
заговоривший со мной на языке, на котором мавры говорят с пленными во всей
Берберии, даже в Константинополе. Этот язык не мавританский, не кастильский
и не какого-либо другого народа, а смесь разных языков, но которую мы
понимаем {Так называемая lingua franca, состоящая главным образом из
испанских и итальянских слов, и теперь еще употребляемая на Берберийском
побережье.}. Итак, говорю я, он на этом языке спросил меня, что я ищу в его
саду и чей я слуга. В ответ я сообщил, будто я невольник арнаута Мами
(сказал я это, зная, что Мами был ему близким другом) и ищу разных трав для
салата. Затем он спросил, на выкупе ли я или нет и сколько мой господин
просит за меня. Пока мы так разговаривали, из беседки вышла прекрасная
Сораида, давно уже заметившая меня, и, так как мавританки нимало не
стесняются показываться христианам и не избегают их -- как я уже говорил, --
она не затруднилась подойти туда, где я стоял с ее отцом, и даже отец ее,
видя, что она замедлила шаг, сам позвал ее и велел ей приблизиться. Было бы
излишним, если бы я стал описывать красоту, изящество, богатый и роскошный
наряд, в котором возлюбленная моя Сораида явилась тогда передо мной. Одно
скажу, что вокруг ее прелестной шеи, в ее ушах и косах было больше жемчуга,
чем волос на ее голове. На щиколотках ног, обнаженных по мавританскому
обычаю, у нее были надеты два каркаха (так называются по-мавритански кольца
или браслеты для ног) из чистейшего золота, украшенные таким множеством
бриллиантов, что отец ее -- как она мне потом говорила -- ценил их в десять
тысяч доблас {Мавританская старинная золотая монета, почти равная испанскому
червонцу.}, а те, которые она носила на кистях рук, стоили не меньше того.
Жемчуга на ней было в изобилии, и самого лучшего, так как украшаться
жемчугом -- крупным и мелким -- считается у мавританок наибольшею роскошью и
изысканностью. Поэтому у мавров больше жемчужин и мелкого жемчуга, чем у
всех остальных народов, а отец Сораиды славился тем, что имел их множество и
наилучших в Алжире, а также и тем, что у него было двести тысяч испанских
червонцев, и владела всем этим та, которая теперь моя владычица. Была ли она
во всех этих украшениях прекрасна или нет, можно судить по тому, что
осталось от ее красоты после столь многих ее страданий. Какова же должна
была быть эта красота в ее счастливые дни! Ведь известно, что у некоторых
женщин красота в зависимости от времени и дня и вследствие некоторых
обстоятельств увеличивается или уменьшается; и естественно, что душевные
волнения возвышают или понижают ее, хотя чаще всего они ее разрушают.
Словом, говорю я, Сораида предстала тогда предо мной в таком роскошном
наряде и до того восхитительная, что, по крайней мере, мне она показалась
самой прекрасной из всех женщин, которых я когда-либо видел в жизни, и,
сверх того, когда я принял в соображение еще все, чем я был ей обязан, она
представилась мне богиней, сошедшей на землю для моего счастья и спасения.
Лишь только она подошла к нам, отец сказал ей на своем языке, что я
невольник его друга, арнаута Мами, и пришел набрать зелени для салата. Она
заговорила со мной на той смеси языков, о которой я уже упоминал, спросила:
кабальеро ли я и по какой причине не выкуплен? В ответ я сказал, что уже
внес за себя выкуп и по величине его она может судить о том, как высоко
ценил меня мои бывший господин, потому что мне пришлось уплатить ему тысячу
пятьсот солтанис {Soltanis -- от "султан", как испанский реал -- от rey
("король"): золотая монета стоимостью 36 реалов, т. е. немногим больше, чем
испанский escudo, или червонец.}. На это она ответила:
-- Поистине, если б ты принадлежал моему отцу, я уговорила бы его не
возвращать тебе свободы, хотя бы даже за тебя давали вдвое больше, так как
вы, христиане, всегда лжете в том, что говорите, и представляетесь бедными,
чтобы обмануть мавров.
-- Может быть, это и так, сеньора,-- ответил я, -- но, говоря по
правде, я поступил честно с моим господином, и поступаю, и буду так
поступать со всеми на свете.
-- А когда ты уезжаешь? -- спросила Сораида.
-- Думаю, что завтра, -- ответил я,-- так как здесь французский
корабль, который завтра поднимет паруса, и я намерен ехать на нем.
-- Не лучше ли было бы, -- возразила Сораида, -- подождать, чтобы
пришли корабли из Испании и ехать с испанцами, а не с французами, которые не
друзья ваши?
-- Нет, -- ответил я, -- хотя, если действительно придет сюда, как о
том идет слух, корабль из Испании, я бы его подождал; но все же вернее, что
я поеду завтра, так как мое желание увидеть родину и тех, кого я люблю,
столь сильно, что я не в состоянии ждать другого удобного случая, как бы он
ни был хорош, если б пришлось из-за этого отложить мой отъезд.
-- Должно быть, ты женат у себя на родине, -- сказала Сораида, -- и
потому тебе так хочется ехать повидаться с твоей женой?
-- Нет, -- ответил я. -- Я не женат, но дал слово жениться, когда
вернусь на родину.
-- Красива та дама, которой ты дал слово жениться? -- спросила Сораида.
-- Так красива, -- ответил я, -- что, для того чтобы восхвалить ее
красоту и сказать тебе правду, могу лишь сообщить, что она очень похожа на
тебя.
Над этими словами отец Сораиды от души рассмеялся и сказал:
-- Клянусь Аллахом, христианин, твоя невеста должна быть необыкновенно
красива, если она похожа на мою дочь, которая считается первой красавицей во
всем королевстве. Посмотри на нее хорошенько, и ты увидишь, говорю ли я
правду или нет.
В большей части этого разговора отец Сораиды служил нам переводчиком,
как лучше знавший языки, потому что, хотя Сораида и сама говорила на том
ломаном языке, который, как сказано, был в употреблении там, все же она чаще
объяснялась знаками, чем словами.
Пока мы вели эти и другие разговоры, прибежал мавр и громко крикнул,
что через изгородь сада перескочили четыре турка и рвут фрукты, хотя они еще
не созрели. Старик испугался, а также и Сораида, потому что страх перед
турками у мавров почти всеобщий и как бы прирожденный, в особенности страх
перед солдатами, которые до того дерзки и пользуются такой властью над
подчиненными им маврами, что обращаются с ними хуже, чем если бы они были их
рабы. Итак, говорю я, отец сказал Сораиде:
-- Дочь, иди в дом и запрись там, пока я пойду объясняться с этими
собаками; а ты, христианин, собирай свои травы и уходи себе, в добрый час!
Пусть Аллах возвратит тебя благополучно на твою родину.
Я поклонился ему, и он ушел искать турок, оставив меня наедине с
Сораидой, которая сделала вид, что идет туда, куда ей велел отец, но едва он
успел скрыться за деревьями сада, как она повернулась ко мне с глазами,
полными слез, и сказала:
-- Тамехи христианин, тамехи? (Что означает: "Ты уезжаешь, христианин,
уезжаешь"?)
Я ответил ей:
-- Да, сеньора, уезжаю, но ни в каком случае не без тебя. В первую хуму
{Пятница -- воскресный день у мусульман.} жди меня и не пугайся, когда
увидишь нас, потому что мы, вне всякого сомнения, уедем в христианские
страны.
Я сказал это таким образом, что теперь она хорошо поняла весь разговор,
который произошел между нами, и, обняв рукой меня за шею, она дрожащими
шагами пошла по направлению к дому. Судьбе угодно было, -- и нам могло бы
прийтись очень плохо, если б небо не распорядилось иначе, -- чтобы в то
время, когда мы шли таким образом и в такой позе, -- она, как я говорил,
охватив рукой мою шею,-- ее отец, который уже возвращался, выпроводив турок
из сада, увидел нас и мы тоже заметили, что он нас увидел. Но Сораида, умная
и находчивая, не отняла руки от моей шеи, напротив, еще больше прижалась ко
мне, положила голову мне на грудь, согнула немного колени, -- с явными и
очевидными признаками, что ей делается дурно. С своей стороны, и я сделал
вид, будто против воли поддерживаю ее. Отец Сораиды поспешно бросился к тому
месту, где мы стояли, и, увидав дочь в таком положении, спросил ее, что с
нею. Но так как она ничего не ответила, он сказал:
-- Верно, ее испугало появление этих собак, и она упала в обморок.
Он взял ее из моих объятий и прижал к своей груди, а она, глубоко
вздохнув, с невысохшими еще от слез глазами стала говорить:
-- Амехи, христианин, амехи! (То есть: "Уходи, христианин, уходи! ")
На это отец ее ответил:
-- Нет нужды, дочь, чтобы христианин ушел: он не сделал тебе никакого
зла; а турки уж ушли. Не пугайся же; тебе нет ни малейшей причины
тревожиться, потому что турки, как я уже говорил тебе, ушли по моей просьбе
той же дорогой, какой пришли.
-- Это они, сеньор, напугали ее, как ты предполагал, -- сказал я ее
отцу, -- но, раз она желает, чтобы я ушел, я не хочу огорчать ее. Оставайся
с миром, и, с твоего разрешения, я вернусь, если понадобится, в этот сад
рвать зелень, потому что, по словам моего господина, нигде нет лучшей зелени
для салата, как здесь.
-- Приходи всякий раз, как захочешь, -- ответил Ахи-Морато, -- моя дочь
говорила так не потому, что она недовольна тобой или кем-либо из христиан, а
только, желая сказать, чтоб турки ушли, она вместо того сказала, чтоб ты
ушел, или же, быть может, потому что тебе уже пора собирать свои травы.
После этого я простился с ними обоими, и она, у которой, казалось, как
бы разрывалось сердце, ушла с отцом. Я же под предлогом, что ищу травы,
хорошенько и нимало не стесняясь, обошел весь сад и тщательно осмотрел все
входы и выходы, охранение дома и все, что могло пойти нам на пользу при
выполнении нашего предприятия.
Сделав это, я вернулся и сообщил обо всем, что произошло, ренегату и
моим товарищам, и едва мог дождаться часа, когда без всяких опасений буду
наслаждаться счастьем, которое судьба мне посылала в лице прекрасной и
очаровательной Сораиды. Время шло, и наконец настал столь сильно желанный
день и час, и, так как все точно исполнили план и распоряжения, к которым мы
пришли после долгого обсуждения и зрелого размышления, все и удалось нам как
нельзя лучше. В пятницу, на другой день после моего разговора в саду с
Сораидой, ренегат наш с наступлением ночи бросил якорь почти против того
места, где жила прекраснейшая Сораида. Христиане были предупреждены и
спрятались в окрестностях сада. Все они с беспокойством и волнением ждали
меня, сгорая от нетерпения напасть на барку, стоявшую у них перед глазами,
так как они не знали об уговоре ренегата с нами и думали, что им придется с
оружием в руках добыть и завоевать себе свободу, отняв жизнь у мавров,
бывших на барке. Поэтому, лишь только я и мои товарищи показались, все
остальные, которые были спрятаны, увидав нас, вышли и подошли к нам. Это
было уже в ту пору, когда городские ворота были заперты и во всей
окрестности не было видно ни души. Лишь только мы все соединились, мы стали
обсуждать, что лучше: идти ли нам прежде за Сораидой или же сначала овладеть
маврами багаринос {Bagarinos -- так называли мавров, зарабатывавших себе
хлеб, нанимаясь гребцами на галеры.}, сидевшими у весел на барке. Пока мы
совещались об этом, к нам подошел ренегат и спросил, отчего мы медлим, ведь
теперь как раз время, так как все его мавры ничего не подозревают и
большинство из них спит. Мы сказали ему, в чем у нас задержка, и он ответил,
что самое важное -- овладеть баркой, и это можно сделать с величайшей
легкостью, не подвергая себя никакой опасности. А потом уже мы можем идти за
Сораидой. Совет этот понравился всем нам, и, таким образом, не медля больше,
мы под предводительством ренегата подошли к барке, и он первый, вскочив в
нее, выхватил свой палаш и крикнул на арабском языке: "Пусть никто не
двинется с места, если желает остаться в живых!" Между тем уже почти все
христиане вошли на барку. Мавры, не принадлежавшие к числу отважных, когда
услышали, что так говорит их арраэс {Armez -- капитан алжирского судна.},
страшно перепугались, и ни один из них не взялся за оружие, которого,
впрочем, у них было мало или почти не было; они молча дали христианам
связать себе руки, а те сделали это очень быстро, угрожая маврам, если
только они возвысят голос, тотчас же всех перерубить.
Не прошло и двух недель, как уже наш ренегат купил очень хорошую барку,
которая могла вместить более тридцати человек. Чтобы дело было вернее и
чтобы придать ему подобающую окраску, он решил сделать, и действительно
сделал путешествие в местечко, называемое Сархел, отстоящее от Алжира на
тридцать миль по направлению к Орану, где ведется большая торговля сушеными
винными ягодами. Два или три раза совершил он эту поездку в обществе уже
упомянутого мавра-тагарина. В Берберии называют тагаринами арагонских
мавров, а гренадских -- мудехарес, в королевстве же Фец мудехарес называются
елчес, и тамошний король предпочтительно другим берет их на войну. Итак,
говорю, всякий раз, как ренегат отплывал в своей барке, он бросал якорь в
маленькой бухте, находившейся на расстоянии не более двух выстрелов из лука
от сада, в котором ждала Сораида; ренегат располагался здесь умышленно с
своими гребцами, молодыми маврами, творя молитву {Zola -- молитва, которую
добрый магометанин, где бы он ни находился, творит пять раз на дню.} или
разыгрывая в шутку то, что он собирался сделать в действительности; итак, он
отправлялся в сад Сораиды и просил дать фруктов, а отец ее, не зная его,
давал ему их. И хотя он и желал говорить с Сораидой -- как он потом мне
сообщил -- и сказать ей, что он тот, кому я приказал отвезти ее в
христианскую землю, и пусть она будет спокойна и довольна, -- никогда ему
это не удавалось, потому что мавританки не показываются ни мавру, ни турку,
разве только отец или муж прикажет им это. С христианскими же пленниками им
позволяют разговаривать и быть в общении часто даже более, чем следовало бы.
Да я бы и огорчился, если бы ему удалось говорить с нею, потому что, быть
может, она встревожилась бы, услыхав о своем деле из уст ренегата. Но Бог
распорядился иначе и не дал нашему ренегату возможности привести в
исполнение свое доброе намерение. А увидав, с какой безопасностью он ездит в
Сархел, взад и вперед, и может бросать якорь, когда, как и где ему угодно, и
что тагарин, его компаньон, не имеет другой воли, кроме руководимой им, что
я уже выкуплен, и остается только найти нескольких христиан, чтобы грести на
веслах, -- он просил меня подумать, кого я еще хочу взять с собой, кроме уже
выкупленных, и уговориться с ними ехать в ближайшую пятницу, которую он
назначил для нашего отъезда. Ввиду этого я переговорил с двенадцатью
испанцами -- все прекрасные гребцы и люди, которые могли свободно покинуть
город. Нелегко было найти их именно в это время, потому что как раз двадцать
кораблей ушли крейсировать в море и увезли с собой всех гребцов. И этих тоже
не было бы, если бы их хозяин отправился на пиратство, а не остался дома,
чтобы кончить постройку галиота, находившегося на верфи. Я ничего не сказал
моим гребцам, кроме того, что в следующую пятницу вечером они должны выйти
из города поодиночке, втихомолку, направляясь к саду Ахи-Морато, и там ждать
меня, пока я не приду. Каждому в отдельности дал я это приказание,
предупредив, в случае если бы они увидели там еще других христиан, не
говорить им ничего, исключая того, что я приказал ждать в этом месте.
Когда я сделал это распоряжение, мне оставалось еще сделать нечто
другое и самое важное для меня, а именно: известить Сораиду, в каком
положении находится наше предприятие, чтоб она была подготовлена, поджидала
нас и не испугалась, если б мы появились неожиданно и раньше того времени,
когда, по ее расчетам, могла прибыть барка с христианами. Итак, я решил идти
в сад и посмотреть, не удастся ли мне поговорить с нею. Под предлогом, что
мне нужно собрать некоторые травы, я пошел туда накануне дня, назначенного
для нашего отъезда. Первый, кого я встретил в саду, был отец Сораиды,
заговоривший со мной на языке, на котором мавры говорят с пленными во всей
Берберии, даже в Константинополе. Этот язык не мавританский, не кастильский
и не какого-либо другого народа, а смесь разных языков, но которую мы
понимаем {Так называемая lingua franca, состоящая главным образом из
испанских и итальянских слов, и теперь еще употребляемая на Берберийском
побережье.}. Итак, говорю я, он на этом языке спросил меня, что я ищу в его
саду и чей я слуга. В ответ я сообщил, будто я невольник арнаута Мами
(сказал я это, зная, что Мами был ему близким другом) и ищу разных трав для
салата. Затем он спросил, на выкупе ли я или нет и сколько мой господин
просит за меня. Пока мы так разговаривали, из беседки вышла прекрасная
Сораида, давно уже заметившая меня, и, так как мавританки нимало не
стесняются показываться христианам и не избегают их -- как я уже говорил, --
она не затруднилась подойти туда, где я стоял с ее отцом, и даже отец ее,
видя, что она замедлила шаг, сам позвал ее и велел ей приблизиться. Было бы
излишним, если бы я стал описывать красоту, изящество, богатый и роскошный
наряд, в котором возлюбленная моя Сораида явилась тогда передо мной. Одно
скажу, что вокруг ее прелестной шеи, в ее ушах и косах было больше жемчуга,
чем волос на ее голове. На щиколотках ног, обнаженных по мавританскому
обычаю, у нее были надеты два каркаха (так называются по-мавритански кольца
или браслеты для ног) из чистейшего золота, украшенные таким множеством
бриллиантов, что отец ее -- как она мне потом говорила -- ценил их в десять
тысяч доблас {Мавританская старинная золотая монета, почти равная испанскому
червонцу.}, а те, которые она носила на кистях рук, стоили не меньше того.
Жемчуга на ней было в изобилии, и самого лучшего, так как украшаться
жемчугом -- крупным и мелким -- считается у мавританок наибольшею роскошью и
изысканностью. Поэтому у мавров больше жемчужин и мелкого жемчуга, чем у
всех остальных народов, а отец Сораиды славился тем, что имел их множество и
наилучших в Алжире, а также и тем, что у него было двести тысяч испанских
червонцев, и владела всем этим та, которая теперь моя владычица. Была ли она
во всех этих украшениях прекрасна или нет, можно судить по тому, что
осталось от ее красоты после столь многих ее страданий. Какова же должна
была быть эта красота в ее счастливые дни! Ведь известно, что у некоторых
женщин красота в зависимости от времени и дня и вследствие некоторых
обстоятельств увеличивается или уменьшается; и естественно, что душевные
волнения возвышают или понижают ее, хотя чаще всего они ее разрушают.
Словом, говорю я, Сораида предстала тогда предо мной в таком роскошном
наряде и до того восхитительная, что, по крайней мере, мне она показалась
самой прекрасной из всех женщин, которых я когда-либо видел в жизни, и,
сверх того, когда я принял в соображение еще все, чем я был ей обязан, она
представилась мне богиней, сошедшей на землю для моего счастья и спасения.
Лишь только она подошла к нам, отец сказал ей на своем языке, что я
невольник его друга, арнаута Мами, и пришел набрать зелени для салата. Она
заговорила со мной на той смеси языков, о которой я уже упоминал, спросила:
кабальеро ли я и по какой причине не выкуплен? В ответ я сказал, что уже
внес за себя выкуп и по величине его она может судить о том, как высоко
ценил меня мои бывший господин, потому что мне пришлось уплатить ему тысячу
пятьсот солтанис {Soltanis -- от "султан", как испанский реал -- от rey
("король"): золотая монета стоимостью 36 реалов, т. е. немногим больше, чем
испанский escudo, или червонец.}. На это она ответила:
-- Поистине, если б ты принадлежал моему отцу, я уговорила бы его не
возвращать тебе свободы, хотя бы даже за тебя давали вдвое больше, так как
вы, христиане, всегда лжете в том, что говорите, и представляетесь бедными,
чтобы обмануть мавров.
-- Может быть, это и так, сеньора,-- ответил я, -- но, говоря по
правде, я поступил честно с моим господином, и поступаю, и буду так
поступать со всеми на свете.
-- А когда ты уезжаешь? -- спросила Сораида.
-- Думаю, что завтра, -- ответил я,-- так как здесь французский
корабль, который завтра поднимет паруса, и я намерен ехать на нем.
-- Не лучше ли было бы, -- возразила Сораида, -- подождать, чтобы
пришли корабли из Испании и ехать с испанцами, а не с французами, которые не
друзья ваши?
-- Нет, -- ответил я, -- хотя, если действительно придет сюда, как о
том идет слух, корабль из Испании, я бы его подождал; но все же вернее, что
я поеду завтра, так как мое желание увидеть родину и тех, кого я люблю,
столь сильно, что я не в состоянии ждать другого удобного случая, как бы он
ни был хорош, если б пришлось из-за этого отложить мой отъезд.
-- Должно быть, ты женат у себя на родине, -- сказала Сораида, -- и
потому тебе так хочется ехать повидаться с твоей женой?
-- Нет, -- ответил я. -- Я не женат, но дал слово жениться, когда
вернусь на родину.
-- Красива та дама, которой ты дал слово жениться? -- спросила Сораида.
-- Так красива, -- ответил я, -- что, для того чтобы восхвалить ее
красоту и сказать тебе правду, могу лишь сообщить, что она очень похожа на
тебя.
Над этими словами отец Сораиды от души рассмеялся и сказал:
-- Клянусь Аллахом, христианин, твоя невеста должна быть необыкновенно
красива, если она похожа на мою дочь, которая считается первой красавицей во
всем королевстве. Посмотри на нее хорошенько, и ты увидишь, говорю ли я
правду или нет.
В большей части этого разговора отец Сораиды служил нам переводчиком,
как лучше знавший языки, потому что, хотя Сораида и сама говорила на том
ломаном языке, который, как сказано, был в употреблении там, все же она чаще
объяснялась знаками, чем словами.
Пока мы вели эти и другие разговоры, прибежал мавр и громко крикнул,
что через изгородь сада перескочили четыре турка и рвут фрукты, хотя они еще
не созрели. Старик испугался, а также и Сораида, потому что страх перед
турками у мавров почти всеобщий и как бы прирожденный, в особенности страх
перед солдатами, которые до того дерзки и пользуются такой властью над
подчиненными им маврами, что обращаются с ними хуже, чем если бы они были их
рабы. Итак, говорю я, отец сказал Сораиде:
-- Дочь, иди в дом и запрись там, пока я пойду объясняться с этими
собаками; а ты, христианин, собирай свои травы и уходи себе, в добрый час!
Пусть Аллах возвратит тебя благополучно на твою родину.
Я поклонился ему, и он ушел искать турок, оставив меня наедине с
Сораидой, которая сделала вид, что идет туда, куда ей велел отец, но едва он
успел скрыться за деревьями сада, как она повернулась ко мне с глазами,
полными слез, и сказала:
-- Тамехи христианин, тамехи? (Что означает: "Ты уезжаешь, христианин,
уезжаешь"?)
Я ответил ей:
-- Да, сеньора, уезжаю, но ни в каком случае не без тебя. В первую хуму
{Пятница -- воскресный день у мусульман.} жди меня и не пугайся, когда
увидишь нас, потому что мы, вне всякого сомнения, уедем в христианские
страны.
Я сказал это таким образом, что теперь она хорошо поняла весь разговор,
который произошел между нами, и, обняв рукой меня за шею, она дрожащими
шагами пошла по направлению к дому. Судьбе угодно было, -- и нам могло бы
прийтись очень плохо, если б небо не распорядилось иначе, -- чтобы в то
время, когда мы шли таким образом и в такой позе, -- она, как я говорил,
охватив рукой мою шею,-- ее отец, который уже возвращался, выпроводив турок
из сада, увидел нас и мы тоже заметили, что он нас увидел. Но Сораида, умная
и находчивая, не отняла руки от моей шеи, напротив, еще больше прижалась ко
мне, положила голову мне на грудь, согнула немного колени, -- с явными и
очевидными признаками, что ей делается дурно. С своей стороны, и я сделал
вид, будто против воли поддерживаю ее. Отец Сораиды поспешно бросился к тому
месту, где мы стояли, и, увидав дочь в таком положении, спросил ее, что с
нею. Но так как она ничего не ответила, он сказал:
-- Верно, ее испугало появление этих собак, и она упала в обморок.
Он взял ее из моих объятий и прижал к своей груди, а она, глубоко
вздохнув, с невысохшими еще от слез глазами стала говорить:
-- Амехи, христианин, амехи! (То есть: "Уходи, христианин, уходи! ")
На это отец ее ответил:
-- Нет нужды, дочь, чтобы христианин ушел: он не сделал тебе никакого
зла; а турки уж ушли. Не пугайся же; тебе нет ни малейшей причины
тревожиться, потому что турки, как я уже говорил тебе, ушли по моей просьбе
той же дорогой, какой пришли.
-- Это они, сеньор, напугали ее, как ты предполагал, -- сказал я ее
отцу, -- но, раз она желает, чтобы я ушел, я не хочу огорчать ее. Оставайся
с миром, и, с твоего разрешения, я вернусь, если понадобится, в этот сад
рвать зелень, потому что, по словам моего господина, нигде нет лучшей зелени
для салата, как здесь.
-- Приходи всякий раз, как захочешь, -- ответил Ахи-Морато, -- моя дочь
говорила так не потому, что она недовольна тобой или кем-либо из христиан, а
только, желая сказать, чтоб турки ушли, она вместо того сказала, чтоб ты
ушел, или же, быть может, потому что тебе уже пора собирать свои травы.
После этого я простился с ними обоими, и она, у которой, казалось, как
бы разрывалось сердце, ушла с отцом. Я же под предлогом, что ищу травы,
хорошенько и нимало не стесняясь, обошел весь сад и тщательно осмотрел все
входы и выходы, охранение дома и все, что могло пойти нам на пользу при
выполнении нашего предприятия.
Сделав это, я вернулся и сообщил обо всем, что произошло, ренегату и
моим товарищам, и едва мог дождаться часа, когда без всяких опасений буду
наслаждаться счастьем, которое судьба мне посылала в лице прекрасной и
очаровательной Сораиды. Время шло, и наконец настал столь сильно желанный
день и час, и, так как все точно исполнили план и распоряжения, к которым мы
пришли после долгого обсуждения и зрелого размышления, все и удалось нам как
нельзя лучше. В пятницу, на другой день после моего разговора в саду с
Сораидой, ренегат наш с наступлением ночи бросил якорь почти против того
места, где жила прекраснейшая Сораида. Христиане были предупреждены и
спрятались в окрестностях сада. Все они с беспокойством и волнением ждали
меня, сгорая от нетерпения напасть на барку, стоявшую у них перед глазами,
так как они не знали об уговоре ренегата с нами и думали, что им придется с
оружием в руках добыть и завоевать себе свободу, отняв жизнь у мавров,
бывших на барке. Поэтому, лишь только я и мои товарищи показались, все
остальные, которые были спрятаны, увидав нас, вышли и подошли к нам. Это
было уже в ту пору, когда городские ворота были заперты и во всей
окрестности не было видно ни души. Лишь только мы все соединились, мы стали
обсуждать, что лучше: идти ли нам прежде за Сораидой или же сначала овладеть
маврами багаринос {Bagarinos -- так называли мавров, зарабатывавших себе
хлеб, нанимаясь гребцами на галеры.}, сидевшими у весел на барке. Пока мы
совещались об этом, к нам подошел ренегат и спросил, отчего мы медлим, ведь
теперь как раз время, так как все его мавры ничего не подозревают и
большинство из них спит. Мы сказали ему, в чем у нас задержка, и он ответил,
что самое важное -- овладеть баркой, и это можно сделать с величайшей
легкостью, не подвергая себя никакой опасности. А потом уже мы можем идти за
Сораидой. Совет этот понравился всем нам, и, таким образом, не медля больше,
мы под предводительством ренегата подошли к барке, и он первый, вскочив в
нее, выхватил свой палаш и крикнул на арабском языке: "Пусть никто не
двинется с места, если желает остаться в живых!" Между тем уже почти все
христиане вошли на барку. Мавры, не принадлежавшие к числу отважных, когда
услышали, что так говорит их арраэс {Armez -- капитан алжирского судна.},
страшно перепугались, и ни один из них не взялся за оружие, которого,
впрочем, у них было мало или почти не было; они молча дали христианам
связать себе руки, а те сделали это очень быстро, угрожая маврам, если
только они возвысят голос, тотчас же всех перерубить.
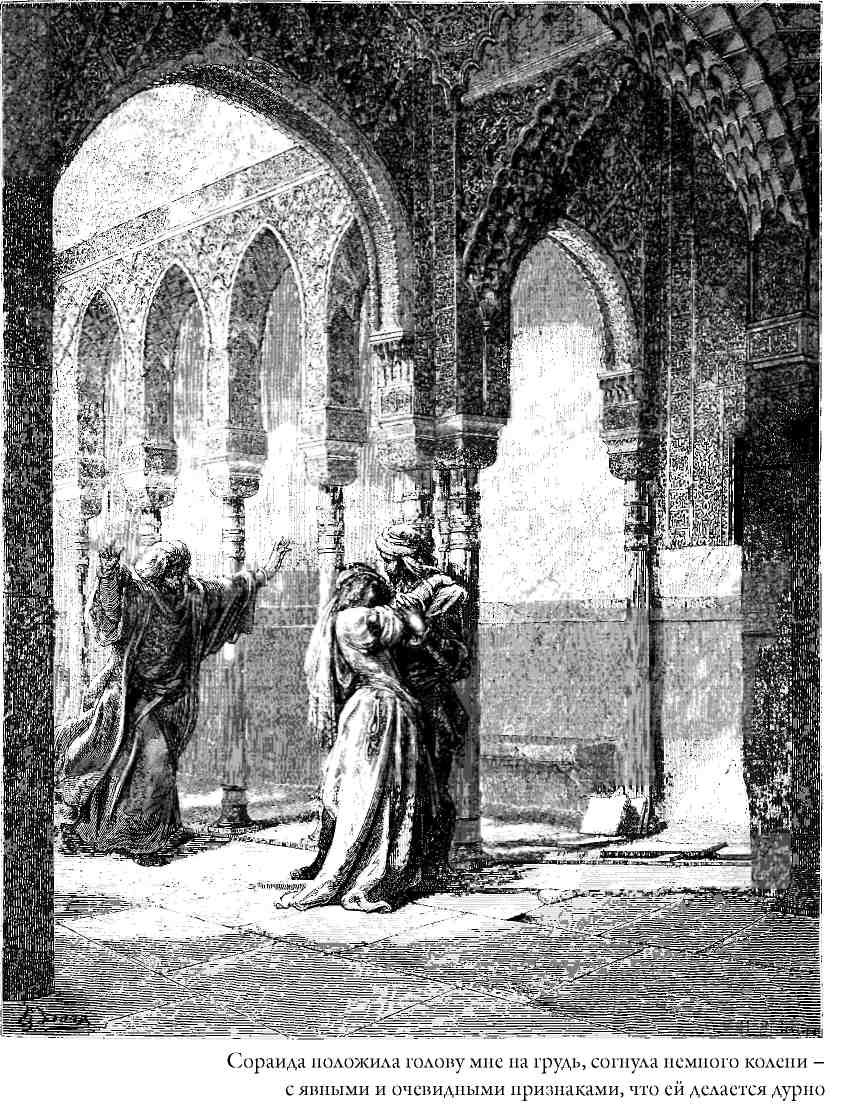 После того, оставив половину наших сторожить на барке, мы, остальные, с
ренегатом во главе, пошли к саду Ахи-Морато, и счастливой судьбе было
угодно, чтобы калитка, когда мы подошли к ней, так легко отворилась, будто и
вовсе не была заперта. Таким образом, молча и в полной тишине, никем не
замеченные, дошли мы до дому. Прекраснейшая Со-раида ждала нас у окна и как
только услышала, что идут люди, спросила тихим голосом, не назаряне ли мы,
желая сказать или спросить, не христиане ли мы. Я ей ответил, что да и чтобы
она сошла вниз. Когда она узнала меня, она не колебалась ни минуты, а, не
ответив ни слова, тотчас же поспешила вниз, открыла дверь и явилась перед
нами такой красивой и роскошно одетой, что я не могу даже пытаться описать
это. Как только я увидел ее, я взял одну из ее рук и стал целовать ее;
ренегат последовал моему примеру, также как и два товарища мои; остальные
же, хотя и не знали о причине, сделали то же, что и мы, так что, казалось,
мы все благодарим и признаем ее владычицей нашего освобождения. Ренегат
спросил Сораиду на арабском языке: в саду ли ее отец? Она ответила, что да и
что он спит.
-- Нужно будет разбудить его, -- сказал ренегат, -- и увезти с собой,
как и все ценное из этого прекрасного сада.
-- Нет, -- ответила она, -- моего отца нельзя никоим образом коснуться,
а в этом доме нет ничего ценного, за исключением того, что я беру с собой, а
беру я столько, что все вы будете богаты и довольны. Подождите немного и
увидите.
С этими словами она вошла опять в дом, говоря, что очень скоро вернется
и чтобы мы стояли и не производили шума. Я спросил ренегата, о чем он с нею
разговаривал, и, когда он сообщил, я сказал ему, что, во всяком случае, надо
делать только лишь то, что желает Сораида. Она вернулась как раз в это
время, обремененная небольшим сундучком, наполненным таким множеством
червонцев, что она с трудом несла его. Между тем, к несчастью, проснулся
отец ее, и, услыхав какой-то шум в саду, он выглянул из окна, тотчас же
увидел, что все бывшие в саду -- христиане, и стал дико и яростно кричать
по-арабски:
-- Христиане, христиане! Воры, воры!
После того, оставив половину наших сторожить на барке, мы, остальные, с
ренегатом во главе, пошли к саду Ахи-Морато, и счастливой судьбе было
угодно, чтобы калитка, когда мы подошли к ней, так легко отворилась, будто и
вовсе не была заперта. Таким образом, молча и в полной тишине, никем не
замеченные, дошли мы до дому. Прекраснейшая Со-раида ждала нас у окна и как
только услышала, что идут люди, спросила тихим голосом, не назаряне ли мы,
желая сказать или спросить, не христиане ли мы. Я ей ответил, что да и чтобы
она сошла вниз. Когда она узнала меня, она не колебалась ни минуты, а, не
ответив ни слова, тотчас же поспешила вниз, открыла дверь и явилась перед
нами такой красивой и роскошно одетой, что я не могу даже пытаться описать
это. Как только я увидел ее, я взял одну из ее рук и стал целовать ее;
ренегат последовал моему примеру, также как и два товарища мои; остальные
же, хотя и не знали о причине, сделали то же, что и мы, так что, казалось,
мы все благодарим и признаем ее владычицей нашего освобождения. Ренегат
спросил Сораиду на арабском языке: в саду ли ее отец? Она ответила, что да и
что он спит.
-- Нужно будет разбудить его, -- сказал ренегат, -- и увезти с собой,
как и все ценное из этого прекрасного сада.
-- Нет, -- ответила она, -- моего отца нельзя никоим образом коснуться,
а в этом доме нет ничего ценного, за исключением того, что я беру с собой, а
беру я столько, что все вы будете богаты и довольны. Подождите немного и
увидите.
С этими словами она вошла опять в дом, говоря, что очень скоро вернется
и чтобы мы стояли и не производили шума. Я спросил ренегата, о чем он с нею
разговаривал, и, когда он сообщил, я сказал ему, что, во всяком случае, надо
делать только лишь то, что желает Сораида. Она вернулась как раз в это
время, обремененная небольшим сундучком, наполненным таким множеством
червонцев, что она с трудом несла его. Между тем, к несчастью, проснулся
отец ее, и, услыхав какой-то шум в саду, он выглянул из окна, тотчас же
увидел, что все бывшие в саду -- христиане, и стал дико и яростно кричать
по-арабски:
-- Христиане, христиане! Воры, воры!
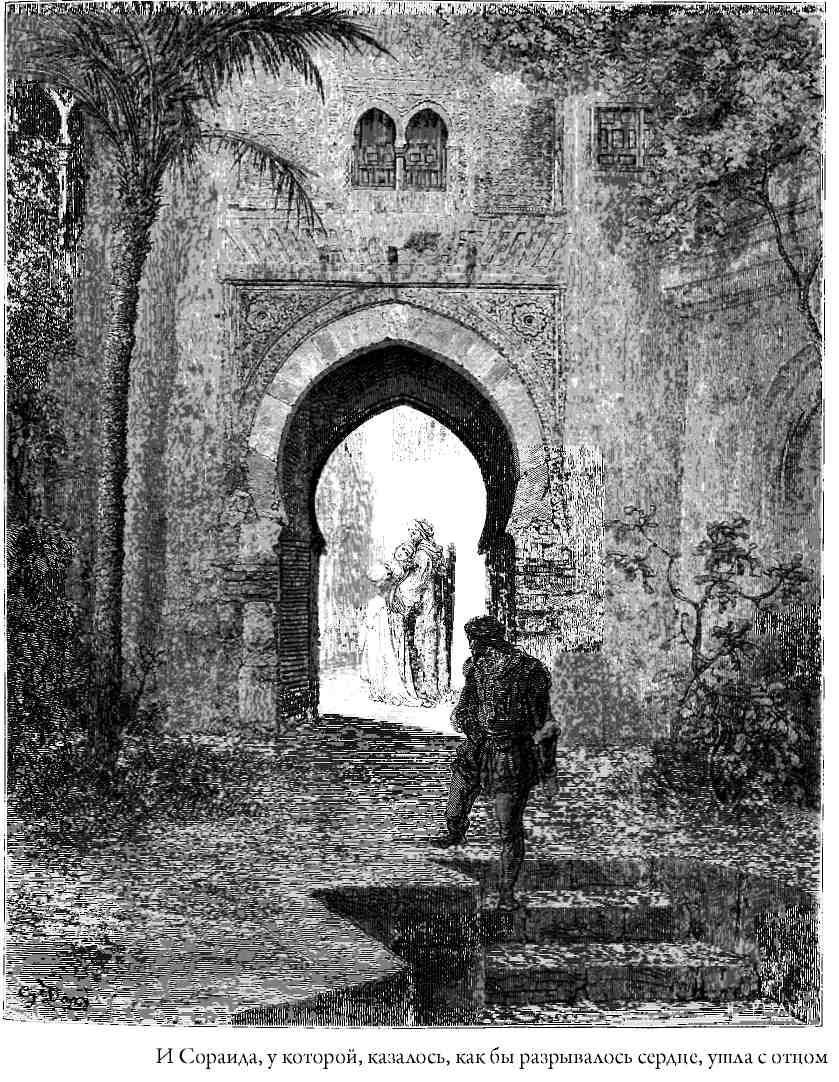 Крики эти привели нас в величайший испуг и смятение; но ренегат, видя
угрожавшую нам опасность и понимая, до какой степени важно кончить эту часть
нашего предприятия, прежде чем произойдет переполох, с величайшей
поспешностью поднялся туда, где находился Ахи-Морато; вместе с ним побежали
и некоторые из наших. Я же не мог оставить Сораиду, которая, почти без
чувств, упала мне на руки. Говоря кратко, те, что поднялись наверх, так
быстро справились со своим делом, что через минуту они уже привели
Ахи-Морато -- со связанными руками, и платком, засунутым ему в рот, не
дававшем ему произнести ни слова,-- угрожая, если он издаст хоть один звук,
лишить его жизни. Когда дочь увидела его, она закрыла глаза, чтоб не
смотреть на отца, а он пришел в ужас, не подозревая, что она добровольно
отдалась нам в руки; но так как ноги были нам тогда всего нужнее, мы как
можно скорее и осторожнее, поспешили на нашу барку, где те, которые там
оставались, нетерпеливо нас ждали, опасаясь, не случилось ли с нами беды.
Едва прошло два часа после наступления ночи, как мы уже все сидели в барке,
где отцу Сораиды развязали руки и вынули платок изо рта, а ренегат опять
предупредил его, чтобы он не произносил ни слова, угрожая в противном случае
убить его. Когда Ахи-Морато увидел тут же свою дочь, он начал тяжко
вздыхать, особенно заметив, что я крепко держу ее в своих объятиях, а она
остается спокойной: не защищается, не сопротивляется, не старается вырваться
от меня. Тем не менее он молчал, боясь, чтобы столь часто повторяемые
ренегатом угрозы не были приведены в исполнение. Лишь только Со-раида
увидела себя в барке, а также и то, что мы взялись за весла, чтобы спустить
их на воду, а отец ее и остальные мавры остаются связанными, она велела
ренегату передать мне ее просьбу: оказать такую милость и отпустить мавров,
а также вернуть свободу ее отцу, потому что она скорее бросится в море, чем
будет свидетельницей, как отца, который так нежно любил ее, у нее на глазах
и по ее вине увозят в плен. Ренегат передал мне ее слова, и я ответил, что с
удовольствием согласен исполнить ее просьбу; но этому воспротивился ренегат,
говоря, что не следует этого делать, так как, если мы вернем им теперь
свободу, они тотчас же переполошат всю окрестность, поднимут тревогу в
городе и добьются того, что за нами пошлют в погоню несколько легких
фрегатов, отрежут нам путь на суше и на море, и нам окажется невозможным
спастись; единственное, что можно будет сделать, -- это выпустить их на
свободу, когда мы причалим к ближайшему христианскому берегу. С этим мнением
все мы согласились, и Сораида, когда ей объяснили причины, почему нельзя
сейчас же исполнить ее желание, удовлетворилась им; и тотчас в радостном
безмолвии и с веселой поспешностью все наши сильные гребцы взялись за весла
и, поручая себя Богу, мы направились к островам Майорки -- ближайшей
христианской земле. Но так как дул небольшой северный ветер и море было
неспокойно, то нельзя было держать курс на Майорку, и мы были вынуждены
плыть вдоль берега, по направлению к Орану, весьма огорченные этим, так как
мы опасались, что нас увидят из местечка Сархел, находящегося на берегу, в
шестидесяти милях от Алжира. Мы боялись также встретить в этих местах
какой-нибудь галиот из тех, которые обыкновенно проходят здесь с товарами из
Тетуана; хотя каждый из нас в отдельности и все мы вместе держались мнения,
что, если нам встретится торговый галиот, -- лишь бы только он не оказался
корсарским судном, -- это не только не повлечет за собой нашей гибели, а,
быть может, мы еще овладеем судном, на котором с большей безопасностью для
себя доведем до конца свое путешествие. Все время, пока мы шли на веслах,
Сораида лежала, спрятав голову в мои руки, чтобы не видеть отца, и я слышал,
как она призывала нам на помощь Лелу Мариен. Сделали мы, должно быть, около
тридцати миль, когда рассвело и мы оказались от земли на расстоянии трех
выстрелов из кремневого ружья, но все кругом было совершенно пустынно, и
некому было заметить нас. Тем не менее, работая веслами изо всех сил, мы
направились в открытое море, теперь уже несколько утихнувшее. После того как
мы прошли около двух миль, было отдано приказание людям разделиться на
четыре смены и поочередно грести, чтоб иметь возможность подкрепить свои
силы едой, так как на барке был обильный запас провизии. Однако гребцы
отказались от этого, говоря, что теперь не время отдыхать и пусть уж лучше
те, которые не гребут, покормят их, потому что они ни в каком случае не
желают выпускать весел из рук. Так и было сделано. Но тут поднялся свежий
ветер, и мы были вынуждены бросить весла, натянуть паруса и взять
направление к Орану, потому что не было возможности держаться другого курса.
Все это было сделано с величайшей быстротой, и таким образом, под парусами,
мы шли больше восьми миль в час, опасаясь лишь одного: встречи с корсарским
кораблем. Связанных мавров накормили, и ренегат утешил их, сообщив им, что
их не оставят в плену, а при первом же удобном случае они получат свободу.
То же было сказано и отцу Сораиды, который ответил:
-- Всего другого я мог бы ждать от вашего великодушия и вашей
правдивости, о христиане, но чтобы вы дали мне свободу, -- не думайте, будто
я так прост, что могу поверить этому. Никогда не подвергали бы вы себя
опасности отнять ее у меня, чтобы так скоро вернуть ее, в особенности зная,
кто я такой и какую большую выгоду для себя вы можете извлечь за мою
свободу. Эту выгоду -- если вы определите ее размеры -- вы получите, и я
предлагаю вам и готов уплатить все, что бы вы ни пожелали, за меня и за эту
несчастную дочь мою или хотя за нее одну, так как она самая большая и лучшая
часть моей души.
Крики эти привели нас в величайший испуг и смятение; но ренегат, видя
угрожавшую нам опасность и понимая, до какой степени важно кончить эту часть
нашего предприятия, прежде чем произойдет переполох, с величайшей
поспешностью поднялся туда, где находился Ахи-Морато; вместе с ним побежали
и некоторые из наших. Я же не мог оставить Сораиду, которая, почти без
чувств, упала мне на руки. Говоря кратко, те, что поднялись наверх, так
быстро справились со своим делом, что через минуту они уже привели
Ахи-Морато -- со связанными руками, и платком, засунутым ему в рот, не
дававшем ему произнести ни слова,-- угрожая, если он издаст хоть один звук,
лишить его жизни. Когда дочь увидела его, она закрыла глаза, чтоб не
смотреть на отца, а он пришел в ужас, не подозревая, что она добровольно
отдалась нам в руки; но так как ноги были нам тогда всего нужнее, мы как
можно скорее и осторожнее, поспешили на нашу барку, где те, которые там
оставались, нетерпеливо нас ждали, опасаясь, не случилось ли с нами беды.
Едва прошло два часа после наступления ночи, как мы уже все сидели в барке,
где отцу Сораиды развязали руки и вынули платок изо рта, а ренегат опять
предупредил его, чтобы он не произносил ни слова, угрожая в противном случае
убить его. Когда Ахи-Морато увидел тут же свою дочь, он начал тяжко
вздыхать, особенно заметив, что я крепко держу ее в своих объятиях, а она
остается спокойной: не защищается, не сопротивляется, не старается вырваться
от меня. Тем не менее он молчал, боясь, чтобы столь часто повторяемые
ренегатом угрозы не были приведены в исполнение. Лишь только Со-раида
увидела себя в барке, а также и то, что мы взялись за весла, чтобы спустить
их на воду, а отец ее и остальные мавры остаются связанными, она велела
ренегату передать мне ее просьбу: оказать такую милость и отпустить мавров,
а также вернуть свободу ее отцу, потому что она скорее бросится в море, чем
будет свидетельницей, как отца, который так нежно любил ее, у нее на глазах
и по ее вине увозят в плен. Ренегат передал мне ее слова, и я ответил, что с
удовольствием согласен исполнить ее просьбу; но этому воспротивился ренегат,
говоря, что не следует этого делать, так как, если мы вернем им теперь
свободу, они тотчас же переполошат всю окрестность, поднимут тревогу в
городе и добьются того, что за нами пошлют в погоню несколько легких
фрегатов, отрежут нам путь на суше и на море, и нам окажется невозможным
спастись; единственное, что можно будет сделать, -- это выпустить их на
свободу, когда мы причалим к ближайшему христианскому берегу. С этим мнением
все мы согласились, и Сораида, когда ей объяснили причины, почему нельзя
сейчас же исполнить ее желание, удовлетворилась им; и тотчас в радостном
безмолвии и с веселой поспешностью все наши сильные гребцы взялись за весла
и, поручая себя Богу, мы направились к островам Майорки -- ближайшей
христианской земле. Но так как дул небольшой северный ветер и море было
неспокойно, то нельзя было держать курс на Майорку, и мы были вынуждены
плыть вдоль берега, по направлению к Орану, весьма огорченные этим, так как
мы опасались, что нас увидят из местечка Сархел, находящегося на берегу, в
шестидесяти милях от Алжира. Мы боялись также встретить в этих местах
какой-нибудь галиот из тех, которые обыкновенно проходят здесь с товарами из
Тетуана; хотя каждый из нас в отдельности и все мы вместе держались мнения,
что, если нам встретится торговый галиот, -- лишь бы только он не оказался
корсарским судном, -- это не только не повлечет за собой нашей гибели, а,
быть может, мы еще овладеем судном, на котором с большей безопасностью для
себя доведем до конца свое путешествие. Все время, пока мы шли на веслах,
Сораида лежала, спрятав голову в мои руки, чтобы не видеть отца, и я слышал,
как она призывала нам на помощь Лелу Мариен. Сделали мы, должно быть, около
тридцати миль, когда рассвело и мы оказались от земли на расстоянии трех
выстрелов из кремневого ружья, но все кругом было совершенно пустынно, и
некому было заметить нас. Тем не менее, работая веслами изо всех сил, мы
направились в открытое море, теперь уже несколько утихнувшее. После того как
мы прошли около двух миль, было отдано приказание людям разделиться на
четыре смены и поочередно грести, чтоб иметь возможность подкрепить свои
силы едой, так как на барке был обильный запас провизии. Однако гребцы
отказались от этого, говоря, что теперь не время отдыхать и пусть уж лучше
те, которые не гребут, покормят их, потому что они ни в каком случае не
желают выпускать весел из рук. Так и было сделано. Но тут поднялся свежий
ветер, и мы были вынуждены бросить весла, натянуть паруса и взять
направление к Орану, потому что не было возможности держаться другого курса.
Все это было сделано с величайшей быстротой, и таким образом, под парусами,
мы шли больше восьми миль в час, опасаясь лишь одного: встречи с корсарским
кораблем. Связанных мавров накормили, и ренегат утешил их, сообщив им, что
их не оставят в плену, а при первом же удобном случае они получат свободу.
То же было сказано и отцу Сораиды, который ответил:
-- Всего другого я мог бы ждать от вашего великодушия и вашей
правдивости, о христиане, но чтобы вы дали мне свободу, -- не думайте, будто
я так прост, что могу поверить этому. Никогда не подвергали бы вы себя
опасности отнять ее у меня, чтобы так скоро вернуть ее, в особенности зная,
кто я такой и какую большую выгоду для себя вы можете извлечь за мою
свободу. Эту выгоду -- если вы определите ее размеры -- вы получите, и я
предлагаю вам и готов уплатить все, что бы вы ни пожелали, за меня и за эту
несчастную дочь мою или хотя за нее одну, так как она самая большая и лучшая
часть моей души.
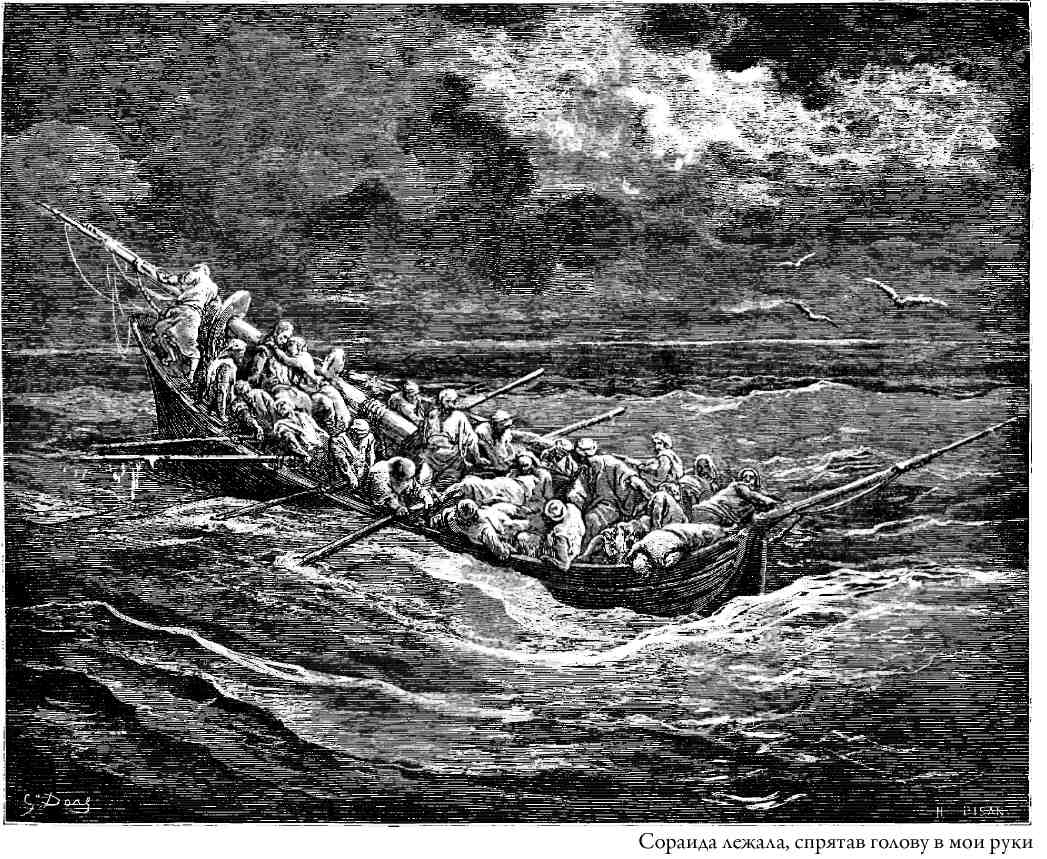 Говоря это, он так горько заплакал, что возбудил во всех нас
сострадание и вынудил Сораиду взглянуть на него. Увидев его слезы, она была
до того растрогана, что, поднявшись -- она лежала у моих ног, -- подошла к
отцу, обняла его, прильнула щекой к его щеке, и оба они залились столь
горючими слезами, что многие из нас тоже последовали их примеру. Но когда
отец ее увидел, что на ней такой роскошный наряд и так много драгоценностей,
он сказал ей на своем языке:
-- Что это значит, дочь моя? Вчера ночью, прежде чем с нами случилось
ужасное наше несчастие, я видел тебя в твоем обычном домашнем платье, а
теперь, когда ты не имела времени переодеться и я не принес тебе радостной
вести, которую ты бы могла праздновать, наряжаясь и украшаясь, я вижу на
тебе самые роскошные одежды, какие я умел и мог дать тебе в то время, когда
счастье более благоприятствовало нам? Ответь мне, потому что это меня
приводит в большее изумление и смущение, чем даже самое несчастие, которое
обрушилось на меня.
Все, что говорил мавр своей дочери, ренегат переводил нам, а она не
отвечала ни слова. Но когда он увидел в углу барки сундучок, в котором дочь
его обыкновенно хранила свои драгоценности и который, как он хорошо помнил,
был оставлен им в Алжире и не перевезен в загородный сад, он еще более
изумился и спросил ее, каким образом попал в наши руки этот сундучок и что
находится в нем. На это ренегат, не дожидаясь, что ответит ему Сораида,
сказал:
-- Не трудись, сеньор, спрашивать дочь свою Сораиду о столь многом,
потому что, сообщив тебе одну вещь, я отвечу на все твои вопросы. Итак,
знай, что она христианка и была пилой, распилившей наши цепи, и
избавительницей нашей из плена. Находится она здесь по доброй своей воле,
столь же довольная, как я думаю, видеть себя в этом положении, как тот, кто
из мрака перешел в свет, от смерти к жизни, от мук к блаженству.
-- Правда ли то, что он говорит, дочь моя? -- спросил мавр.
-- Правда, -- ответила Сораида.
-- Правда ли, -- продолжал старик,-- что ты христианка и предала отца
своего в руки врагов его?
На это Сораида ответила:
-- Правда, что я христианка, но нет, не по моей вине попал ты в свое
теперешнее положение, потому что никогда мое желание не заходило так далеко,
чтобы бросить тебя или сделать тебе зло, а только чтобы сделать добро себе.
-- Какое же ты сделала добро себе, дочь моя? -- спросил мавр.
-- Об этом, -- ответила она, -- узнай у Лелы Марией. Она лучше сумеет
ответить, чем я.
Едва мавр услышал эти слова, как с неимоверной быстротой кинулся
стремглав в море, где бы он непременно утонул, если бы широкое и
обременительное платье, надетое на нем, не поддержало его некоторое время на
воде. Сораида крикнула, чтобы его спасли, и мы все немедленно бросились к
нему на помощь и, схватив его за верхнее одеяние, вытащили из воды
наполовину захлебнувшегося и потерявшего сознание. Это привело в такое
огорчение Сораиду, что она зарыдала над ним самыми горькими и неутешными
слезами, как над мертвым. Мы повернули его лицом вниз, из него вышло много
воды, и через два часа он наконец пришел в себя. Между тем ветер снова
переменился, нас понесло течением к земле, пришлось грести изо всех сил,
чтобы не прибило нас к ней; но счастливой судьбе нашей было угодно, чтобы мы
вошли в бухту, образуемую небольшим мысом, или косой, которую мавры называют
Cava Rumia, что на нашем языке означает "злая христианская женщина". У
мавров есть предание, будто в этом месте похоронена Кава {Местная легенда о
Kava Rumia, не имеющая никакого отношения к Florinda la Cava, или La Cava,
злополучной дочери графа Юлиана, которая была причиной завоевания Испании
маврами, тоже оказалась лишенной всякой исторической основы. Теперь
доказано, что этот памятник -- не что иное, как мавзолей мавританского
короля Иуба II и жены его Клеопатры, дочери царя Антония и знаменитой
египетской королевы. Видевшие этот памятник говорят, что он даже более
величественен, чем египетские пирамиды.}, которая была причиной утраты
Испании, и по-арабски кава -- значит "злая женщина", грумиа -- "христианка".
Они даже считают за дурное предзнаменование приставать здесь и бросать
якорь, когда вынуждены к тому крайней необходимостью, без которой они этого
никогда не делают. Но для нас это место было не убежищем злой женщины, а
верной гаванью нашего спасенья, -- до того разбушевалось море. Мы поставили
на берегу часовых и, не выпуская ни на минуту весел из рук, принялись есть
то, чем запасся ренегат, и от всей души молили Бога и Пресвятую Деву помочь
нам и оказать свое покровительство, чтобы мы могли счастливым концом
увенчать столь счастливое начало нашего предприятия. По настоятельной
просьбе Сораиды было решено высадить здесь на берег ее отца и остальных, все
еще связанных, мавров, потому что у нее уже не хватало сил и ее нежное
сердце не могло более выносить зрелище связанного отца и пленных земляков.
Мы обещали сделать это перед самым нашим отъездом, так как не представляло
ни малейшей опасности выпустить их на берег в этом пустынном и безлюдном
месте. Молитвы наши не были столь тщетными, чтобы небо не услышало их,
потому что ветер переменился на пользу нам и море утихло, приглашая весело
продолжать начатое нами путешествие. Увидав это, мы развязали мавров и
спустили их одного за другим на берег к великому их изумлению. Когда же
очередь дошла до отца Сораиды, который уже совершенно пришел в себя, он
сказал:
-- Как думаете вы, христиане, почему злая эта женщина радуется тому,
что вы мне даете свободу? Думаете ли вы, что она радуется из сострадания ко
мне? Конечно, нет, а только потому, что мое присутствие могло ей быть
помехой в осуществлении ее дурных намерений. Не думайте также, что ее
побудила переменить веру мысль, будто ваша вера лучше нашей; она сделала
это, зная, что в вашей стране можно свободнее предаваться разврату, чем в
нашей. И, обращаясь к Сораиде, в то время как я и другой христианин крепко
держали его за руки, чтобы он не совершил какого-нибудь отчаянного поступка,
он воскликнул:
-- О гнусное создание и введенная в обман девушка! Куда идешь ты,
ослепленная и безумная, отдавшись во власть этих собак, наших естественных
врагов? Да будет проклят час, когда ты была зачата! Да будут прокляты
подарки и роскошь, в которых я взрастил тебя!
Видя, что он не очень скоро собирается кончить, я поспешил высадить его
на берег; он и оттуда продолжал громко выкрикивать жалобы и проклятия,
призывая Магомета, чтобы он просил Аллаха погубить, истребить и уничтожить
нас. Когда же мы отплыли, распустив паруса, и не могли слышать слов его, мы
еще видели его действия, именно: он вырывал себе бороду, рвал волосы на
голове, катался по земле, а раз он сделал такое усилие и так громко возвысил
голос, что мы еще услышали следующие его слова:
-- Вернись, возлюбленная дочь, вернись! Сойди на берег! Я все тебе
прощаю! Отдай деньги этим людям, потому что они уже присвоили их себе, и
вернись утешить несчастного отца, который в этой печальной пустыне лишится
жизни, если ты его покинешь.
Все это слышала Сораида, и все это она глубоко чувствовала и
оплакивала, но ничего не могла сказать и ответить, как только следующее:
-- Дай-то Аллах, отец мой, чтоб Лела Марией, ради которой я сделалась
христианкой, утешила тебя в твоем горе. Аллаху известно, что я не могла
иначе поступить, как поступила, и что эти христиане ничем не обязаны мне за
мое доброе к ним расположение, потому что, хотя бы я и пожелала не ехать
вместе с ними и остаться дома, мне это было бы невозможно, так велико было
стремление моей души привести в исполнение дело, которое мне кажется столь
же добрым, как тебе, возлюбленный отец, оно кажется дурным.
Она говорила это, когда отец ее не мог уже ее слышать, и мы не видели
его больше; итак, утешая Сораиду, мы продолжали свое путешествие, которое
попутный ветер нам очень облегчал, и мы уже наделялись на следующий день
утром добраться до берегов Испании. Но так как счастье редко или же никогда
не бывает полным и ясным, а его сопровождает или за ним следует какое-нибудь
горе, нарушающее или смущающее его, так и теперь, по воле судьбы нашей или,
быть может, благодаря проклятиям, которые мавр послал вслед своей дочери
(потому что их всегда нужно опасаться, от какого бы отца они ни исходили),
вдруг, говорю я, плывя около трех часов ночи в открытом море с распущенными
парусами и сложенными веслами, потому что попутный ветер избавлял нас от
необходимости работать ими, мы увидели при свете ярко сиявшей луны круглое
судно. Оно, натянув все паруса и несколько отклоняясь от ветра в сторону,
шло наперерез нам и уже было так близко, что нам пришлось спустить парус,
чтобы не столкнуться с ним, а они должны были налечь на руль, чтобы дать нам
дорогу. С палубы встретившегося нам корабля нас спросили, кто мы, куда идем
и откуда. Но, так как вопросы были сделаны на французском языке, наш ренегат
сказал:
-- Не отвечайте никто, потому что, несомненно, это французские корсары,
которые всех грабят.
Говоря это, он так горько заплакал, что возбудил во всех нас
сострадание и вынудил Сораиду взглянуть на него. Увидев его слезы, она была
до того растрогана, что, поднявшись -- она лежала у моих ног, -- подошла к
отцу, обняла его, прильнула щекой к его щеке, и оба они залились столь
горючими слезами, что многие из нас тоже последовали их примеру. Но когда
отец ее увидел, что на ней такой роскошный наряд и так много драгоценностей,
он сказал ей на своем языке:
-- Что это значит, дочь моя? Вчера ночью, прежде чем с нами случилось
ужасное наше несчастие, я видел тебя в твоем обычном домашнем платье, а
теперь, когда ты не имела времени переодеться и я не принес тебе радостной
вести, которую ты бы могла праздновать, наряжаясь и украшаясь, я вижу на
тебе самые роскошные одежды, какие я умел и мог дать тебе в то время, когда
счастье более благоприятствовало нам? Ответь мне, потому что это меня
приводит в большее изумление и смущение, чем даже самое несчастие, которое
обрушилось на меня.
Все, что говорил мавр своей дочери, ренегат переводил нам, а она не
отвечала ни слова. Но когда он увидел в углу барки сундучок, в котором дочь
его обыкновенно хранила свои драгоценности и который, как он хорошо помнил,
был оставлен им в Алжире и не перевезен в загородный сад, он еще более
изумился и спросил ее, каким образом попал в наши руки этот сундучок и что
находится в нем. На это ренегат, не дожидаясь, что ответит ему Сораида,
сказал:
-- Не трудись, сеньор, спрашивать дочь свою Сораиду о столь многом,
потому что, сообщив тебе одну вещь, я отвечу на все твои вопросы. Итак,
знай, что она христианка и была пилой, распилившей наши цепи, и
избавительницей нашей из плена. Находится она здесь по доброй своей воле,
столь же довольная, как я думаю, видеть себя в этом положении, как тот, кто
из мрака перешел в свет, от смерти к жизни, от мук к блаженству.
-- Правда ли то, что он говорит, дочь моя? -- спросил мавр.
-- Правда, -- ответила Сораида.
-- Правда ли, -- продолжал старик,-- что ты христианка и предала отца
своего в руки врагов его?
На это Сораида ответила:
-- Правда, что я христианка, но нет, не по моей вине попал ты в свое
теперешнее положение, потому что никогда мое желание не заходило так далеко,
чтобы бросить тебя или сделать тебе зло, а только чтобы сделать добро себе.
-- Какое же ты сделала добро себе, дочь моя? -- спросил мавр.
-- Об этом, -- ответила она, -- узнай у Лелы Марией. Она лучше сумеет
ответить, чем я.
Едва мавр услышал эти слова, как с неимоверной быстротой кинулся
стремглав в море, где бы он непременно утонул, если бы широкое и
обременительное платье, надетое на нем, не поддержало его некоторое время на
воде. Сораида крикнула, чтобы его спасли, и мы все немедленно бросились к
нему на помощь и, схватив его за верхнее одеяние, вытащили из воды
наполовину захлебнувшегося и потерявшего сознание. Это привело в такое
огорчение Сораиду, что она зарыдала над ним самыми горькими и неутешными
слезами, как над мертвым. Мы повернули его лицом вниз, из него вышло много
воды, и через два часа он наконец пришел в себя. Между тем ветер снова
переменился, нас понесло течением к земле, пришлось грести изо всех сил,
чтобы не прибило нас к ней; но счастливой судьбе нашей было угодно, чтобы мы
вошли в бухту, образуемую небольшим мысом, или косой, которую мавры называют
Cava Rumia, что на нашем языке означает "злая христианская женщина". У
мавров есть предание, будто в этом месте похоронена Кава {Местная легенда о
Kava Rumia, не имеющая никакого отношения к Florinda la Cava, или La Cava,
злополучной дочери графа Юлиана, которая была причиной завоевания Испании
маврами, тоже оказалась лишенной всякой исторической основы. Теперь
доказано, что этот памятник -- не что иное, как мавзолей мавританского
короля Иуба II и жены его Клеопатры, дочери царя Антония и знаменитой
египетской королевы. Видевшие этот памятник говорят, что он даже более
величественен, чем египетские пирамиды.}, которая была причиной утраты
Испании, и по-арабски кава -- значит "злая женщина", грумиа -- "христианка".
Они даже считают за дурное предзнаменование приставать здесь и бросать
якорь, когда вынуждены к тому крайней необходимостью, без которой они этого
никогда не делают. Но для нас это место было не убежищем злой женщины, а
верной гаванью нашего спасенья, -- до того разбушевалось море. Мы поставили
на берегу часовых и, не выпуская ни на минуту весел из рук, принялись есть
то, чем запасся ренегат, и от всей души молили Бога и Пресвятую Деву помочь
нам и оказать свое покровительство, чтобы мы могли счастливым концом
увенчать столь счастливое начало нашего предприятия. По настоятельной
просьбе Сораиды было решено высадить здесь на берег ее отца и остальных, все
еще связанных, мавров, потому что у нее уже не хватало сил и ее нежное
сердце не могло более выносить зрелище связанного отца и пленных земляков.
Мы обещали сделать это перед самым нашим отъездом, так как не представляло
ни малейшей опасности выпустить их на берег в этом пустынном и безлюдном
месте. Молитвы наши не были столь тщетными, чтобы небо не услышало их,
потому что ветер переменился на пользу нам и море утихло, приглашая весело
продолжать начатое нами путешествие. Увидав это, мы развязали мавров и
спустили их одного за другим на берег к великому их изумлению. Когда же
очередь дошла до отца Сораиды, который уже совершенно пришел в себя, он
сказал:
-- Как думаете вы, христиане, почему злая эта женщина радуется тому,
что вы мне даете свободу? Думаете ли вы, что она радуется из сострадания ко
мне? Конечно, нет, а только потому, что мое присутствие могло ей быть
помехой в осуществлении ее дурных намерений. Не думайте также, что ее
побудила переменить веру мысль, будто ваша вера лучше нашей; она сделала
это, зная, что в вашей стране можно свободнее предаваться разврату, чем в
нашей. И, обращаясь к Сораиде, в то время как я и другой христианин крепко
держали его за руки, чтобы он не совершил какого-нибудь отчаянного поступка,
он воскликнул:
-- О гнусное создание и введенная в обман девушка! Куда идешь ты,
ослепленная и безумная, отдавшись во власть этих собак, наших естественных
врагов? Да будет проклят час, когда ты была зачата! Да будут прокляты
подарки и роскошь, в которых я взрастил тебя!
Видя, что он не очень скоро собирается кончить, я поспешил высадить его
на берег; он и оттуда продолжал громко выкрикивать жалобы и проклятия,
призывая Магомета, чтобы он просил Аллаха погубить, истребить и уничтожить
нас. Когда же мы отплыли, распустив паруса, и не могли слышать слов его, мы
еще видели его действия, именно: он вырывал себе бороду, рвал волосы на
голове, катался по земле, а раз он сделал такое усилие и так громко возвысил
голос, что мы еще услышали следующие его слова:
-- Вернись, возлюбленная дочь, вернись! Сойди на берег! Я все тебе
прощаю! Отдай деньги этим людям, потому что они уже присвоили их себе, и
вернись утешить несчастного отца, который в этой печальной пустыне лишится
жизни, если ты его покинешь.
Все это слышала Сораида, и все это она глубоко чувствовала и
оплакивала, но ничего не могла сказать и ответить, как только следующее:
-- Дай-то Аллах, отец мой, чтоб Лела Марией, ради которой я сделалась
христианкой, утешила тебя в твоем горе. Аллаху известно, что я не могла
иначе поступить, как поступила, и что эти христиане ничем не обязаны мне за
мое доброе к ним расположение, потому что, хотя бы я и пожелала не ехать
вместе с ними и остаться дома, мне это было бы невозможно, так велико было
стремление моей души привести в исполнение дело, которое мне кажется столь
же добрым, как тебе, возлюбленный отец, оно кажется дурным.
Она говорила это, когда отец ее не мог уже ее слышать, и мы не видели
его больше; итак, утешая Сораиду, мы продолжали свое путешествие, которое
попутный ветер нам очень облегчал, и мы уже наделялись на следующий день
утром добраться до берегов Испании. Но так как счастье редко или же никогда
не бывает полным и ясным, а его сопровождает или за ним следует какое-нибудь
горе, нарушающее или смущающее его, так и теперь, по воле судьбы нашей или,
быть может, благодаря проклятиям, которые мавр послал вслед своей дочери
(потому что их всегда нужно опасаться, от какого бы отца они ни исходили),
вдруг, говорю я, плывя около трех часов ночи в открытом море с распущенными
парусами и сложенными веслами, потому что попутный ветер избавлял нас от
необходимости работать ими, мы увидели при свете ярко сиявшей луны круглое
судно. Оно, натянув все паруса и несколько отклоняясь от ветра в сторону,
шло наперерез нам и уже было так близко, что нам пришлось спустить парус,
чтобы не столкнуться с ним, а они должны были налечь на руль, чтобы дать нам
дорогу. С палубы встретившегося нам корабля нас спросили, кто мы, куда идем
и откуда. Но, так как вопросы были сделаны на французском языке, наш ренегат
сказал:
-- Не отвечайте никто, потому что, несомненно, это французские корсары,
которые всех грабят.
 Вследствие такого предупреждения, никто не ответил ни слова, но едва мы
прошли несколько вперед, оставив под ветром тот корабль, как вдруг они
выстрелили из двух пушек, заряженных, как казалось, цепями, потому что одним
выстрелом срезало нашу мачту, которая и упала вместе с парусами в море, и в
то же мгновенье раздался второй выстрел, и пуля ударила в середину нашей
барки и пробила в ней большую дыру, не причинив другого вреда. Видя, что мы
идем ко дну, мы стали громко звать на помощь и просить находящихся на
корабле взять нас к себе, так как мы тонем. Тотчас же они убрали паруса и
спустили шлюпку, или лодку, в которую вошло около дюжины французов, хорошо
вооруженных аркебузами с зажженными фитилями, и таким образом они подъехали
к нам; но, увидев, что нас так мало и что барка наша тонет, они нас взяли к
себе в лодку, говоря, что это случилось с нами вследствие нашей
невежливости, за то, что мы не ответили им. Ренегат наш взял сундучок с
богатствами Сораиды и бросил его в море, так что никто не заметил этого.
Наконец мы все перебрались на корабль к французам, которые, расспросив
нас обо всем, что они желали узнать, дочиста обобрали нас, точно они были
смертельные наши враги; и у Сораиды отняли все, даже до застежек, которые у
нее были на ногах; но меня не столько огорчало, что они таким образом
обидели Сораиду, как мучил страх, что, сняв с нее богатые и роскошные ее
украшения, они лишат ее наиболее драгоценного сокровища, и которое она сама
ценила выше всего. Однако вожделение этих людей не идет дальше денег, и
алчность их никогда не насыщается ими и на этот раз дошла до того, что они
сняли бы с нас даже нашу невольничью одежду, если б могли извлечь из нее
какую-нибудь пользу. Некоторые из корсаров высказали мнение, что всех нас
следовало бы, завернув в парус, бросить в море, потому что они имели
намерение вести торговлю в некоторых испанских гаванях, выдавая себя за
бретонцев, и, если бы они привезли нас туда живыми, их грабеж открылся бы и
они подвергнулись бы за него наказанию. Но капитан, именно и обобравший мою
возлюбленную Сораиду, объявил, что он довольствуется полученной им добычей и
не желает заходить ни в какой испанский порт, а направится к Гибралтарскому
проливу, который он думает пройти ночью или когда окажется возможным, и
возвратится в Ла-Рошель, откуда они отплыли. Итак, они согласились дать нам
шлюпку со своего корабля, а также и все нужное для короткого путешествия,
предстоявшего нам; это они и сделали на следующий же день уже в виду
испанского берега, взглянув на который, мы совершенно забыли все наши
огорчения и лишения, точно и не испытывали их, -- так велико счастье вернуть
себе утраченную свободу!
Вследствие такого предупреждения, никто не ответил ни слова, но едва мы
прошли несколько вперед, оставив под ветром тот корабль, как вдруг они
выстрелили из двух пушек, заряженных, как казалось, цепями, потому что одним
выстрелом срезало нашу мачту, которая и упала вместе с парусами в море, и в
то же мгновенье раздался второй выстрел, и пуля ударила в середину нашей
барки и пробила в ней большую дыру, не причинив другого вреда. Видя, что мы
идем ко дну, мы стали громко звать на помощь и просить находящихся на
корабле взять нас к себе, так как мы тонем. Тотчас же они убрали паруса и
спустили шлюпку, или лодку, в которую вошло около дюжины французов, хорошо
вооруженных аркебузами с зажженными фитилями, и таким образом они подъехали
к нам; но, увидев, что нас так мало и что барка наша тонет, они нас взяли к
себе в лодку, говоря, что это случилось с нами вследствие нашей
невежливости, за то, что мы не ответили им. Ренегат наш взял сундучок с
богатствами Сораиды и бросил его в море, так что никто не заметил этого.
Наконец мы все перебрались на корабль к французам, которые, расспросив
нас обо всем, что они желали узнать, дочиста обобрали нас, точно они были
смертельные наши враги; и у Сораиды отняли все, даже до застежек, которые у
нее были на ногах; но меня не столько огорчало, что они таким образом
обидели Сораиду, как мучил страх, что, сняв с нее богатые и роскошные ее
украшения, они лишат ее наиболее драгоценного сокровища, и которое она сама
ценила выше всего. Однако вожделение этих людей не идет дальше денег, и
алчность их никогда не насыщается ими и на этот раз дошла до того, что они
сняли бы с нас даже нашу невольничью одежду, если б могли извлечь из нее
какую-нибудь пользу. Некоторые из корсаров высказали мнение, что всех нас
следовало бы, завернув в парус, бросить в море, потому что они имели
намерение вести торговлю в некоторых испанских гаванях, выдавая себя за
бретонцев, и, если бы они привезли нас туда живыми, их грабеж открылся бы и
они подвергнулись бы за него наказанию. Но капитан, именно и обобравший мою
возлюбленную Сораиду, объявил, что он довольствуется полученной им добычей и
не желает заходить ни в какой испанский порт, а направится к Гибралтарскому
проливу, который он думает пройти ночью или когда окажется возможным, и
возвратится в Ла-Рошель, откуда они отплыли. Итак, они согласились дать нам
шлюпку со своего корабля, а также и все нужное для короткого путешествия,
предстоявшего нам; это они и сделали на следующий же день уже в виду
испанского берега, взглянув на который, мы совершенно забыли все наши
огорчения и лишения, точно и не испытывали их, -- так велико счастье вернуть
себе утраченную свободу!
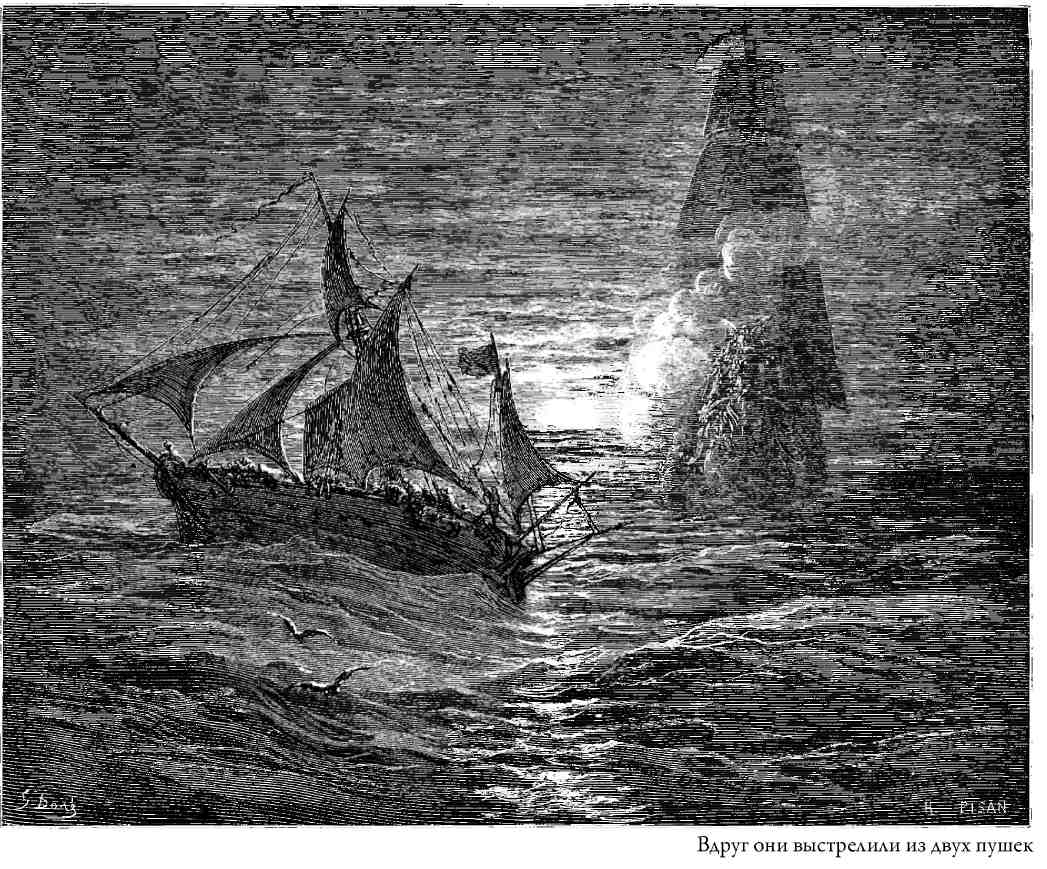 Было около полудня, когда они нас посадили в шлюпку, дали нам с собой
два бочонка воды и немного сухарей, а капитан, движимый, не знаю каким
порывом сострадания, в то время как прекрасная Сораида садилась в шлюпку,
дал ей еще около сорока червонцев и не позволил своим людям снять с нее
мавританское платье, которое вы теперь на ней видите. Мы вошли в шлюпку,
поблагодарив их за добро, которое они нам оказали, и выражая им скорее
признательность, чем злобу. Они ушли в открытое море по направлению к
проливу; мы же, не устремляя взоров ни на какую другую путеводную звезду,
кроме земли, лежавшей перед нами, так усиленно принялись грести туда и
подошли при заходе солнца так близко, что уже надеялись высадиться на берег
еще до полного наступления ночи. Но так как луна не светила, небо было
темное и мы не знали местности, где находились, то нам казалось
неблагоразумным тотчас же выходить на берег. Впрочем, некоторые из наших
держались иного мнения, говоря, что следует пристать даже в том случае, если
бы берег оказался голой скалой, удаленной от всякого человеческого жилья;
таким образом мы избегнем угрожающей нам опасности встретиться с корсарскими
кораблями из Тетуана, которые проводят ночь в Берберии, а на рассвете
оказываются уже у берегов Испании, обыкновенно захватывают здесь добычу и
затем возвращаются спать к себе домой. Но из двух противоположных мнений
было принято то, чтобы мало-помалу подойти к берегу и, если море будет
спокойно и допустит это, высадиться там, где окажется возможным. Так мы и
сделали. Около полуночи подошли мы к подножию громадной и высочайшей горы,
настолько отстоящей от берега, что оставалось маленькое пространство для
того, чтобы удобно высадиться. Мы врезались лодкой в песок, вышли на берег,
поцеловали землю и со слезами сильнейшей радости благодарили Бога, Господа
нашего, за безмерное милосердие, явленное Им во время нашего путешествия. Из
лодки мы вынесли находившиеся там съестные припасы, вытащили ее на берег и
поднялись довольно высоко на гору; но даже и там мы все еще не могли
хорошенько успокоиться и поверить, что земля, на которой мы стоим, --
христианская земля. Рассвело позднее, как мне казалось, чем мы желали бы. Мы
наконец взобрались до вершины горы, чтоб посмотреть, не увидим ли оттуда
деревню или какие-нибудь пастушьи хижины; но сколько мы ни напрягали зрение,
ничего не видели: ни деревни, ни человека, ни тропинки, ни дороги. После
того мы решили идти дальше, вглубь местности, так как не могло быть, чтобы
нам не встретился вскоре кто-нибудь, кто бы дал нам сведения о том, где мы
находимся. Больше всего огорчался я тем, что Сораида принуждена идти пешком
по этим острым скалам, потому что хотя я иногда и брал ее себе на плечи, но
мое утомление утомляло ее больше, чем отдых освежал ее; итак, она решительно
отказалась, чтоб я давал себе этот труд, и с большим терпением и веселым
лицом шла пешком, а я вел ее все время за руку.
Должно быть, мы прошли немного меньше четверти мили, как вдруг до
нашего слуха донесся звук бубенчиков,-- ясный признак того, что где-нибудь
вблизи пасется стадо. Внимательно оглядываясь кругом, не покажется ли оно,
мы увидели мальчика-пастуха, сидевшего под пробковым деревом, где он с
большим спокойствием и беззаботностью строгал своим ножом палочку. Мы
позвали его, и он, быстро вскочив на ноги, увидел, как мы потом узнали,
первыми ренегата и Сораиду, а так как на них была мавританская одежда, то
он, думая, что все мавры Берберии гонятся за ним, с изумительной быстротой
бросился бежать и повернул в лес, крича самым что ни на есть пронзительным
голосом:
-- Мавры, мавры в стране! Мавры, мавры! К оружию, к оружию!
Эти крики привели нас в большое смущение, и мы не знали, что делать. Но
рассудив, что крики пастуха переполошат всю местность и конная береговая
стража {Стража эта была вооружена в те времена копьями и щитами и сидела на
конях по-арабски, налегке.} скоро явится узнать, в чем дело, мы решили,
чтобы ренегат снял с себя турецкое платье и облекся в невольничью куртку
{Gilecuelco -- довольно длинная, обхватывающая талию куртка с короткими и
разрезными до локтей рукавами, открытая спереди.}, которую ему тотчас же
предложил один из наших, хотя сам остался в рубахе. Таким образом, поручив
себя Богу, мы пошли по той же дороге, по которой, как мы видели, убежал
пастух, все время ожидая, что вот-вот нам встретится конная береговая
стража. И мы не ошиблись в своих предположениях. Не прошло и двух часов,
как, выйдя из чащи леса в долину, мы увидели около пятидесяти всадников,
которые быстро, коротким галопом, неслись на нас. Лишь только мы их
заметили, мы остановились, поджидая их, а когда они подъехали и вместо
мавров, которых искали, встретили лишь несколько бедных христиан, они
смутились, и один из них спросил нас, были ли мы причиной того, что пастух
звал к оружию. Я ответил утвердительно и только что собрался рассказать о
своих приключениях, о том, кто мы и откуда, как один из христиан, бывших с
нами, узнал всадника, который обратился к нам с вопросом, и, не дав мне
сказать ни слова больше, воскликнул:
-- Благодарение Богу, сеньоры, за то, что Он нас привел в такое хорошее
место, потому что, если я не ошибаюсь, земля, на которой мы стоим, --
Велес-Малага {Город около восемнадцати миль к востоку от Малаги, у подножия
Сьерра-де-Аламы.}, и если годы, проведенные мною в неволе, не отняли у меня
памяти, мне кажется, что вы, сеньор, спрашивающий нас, кто мы такие, --
Педро де Бустаманте, мой дядя.
Едва пленный христианин произнес эти слова, как всадник соскочил с
лошади и бросился обнимать юношу, говоря:
-- Племянник души моей и жизни моей! Я узнаю тебя, а мы-то уже тебя
оплакивали, считая мертвым, я и сестра моя, твоя мать и все твои родные,
которые еще живы, так как Богу угодно было сохранить им жизнь, чтобы они
могли насладиться радостью свиданья с тобой. Мы уже знали, что ты в Алжире,
а по признакам и приметам твоей одежды и одежды всей вашей компании я вижу,
что вы спаслись каким-то чудом.
-- Оно так и есть, -- ответил юноша, и у нас будет достаточно времени
все это рассказать вам.
Как только всадники узнали, что мы христианские пленники, они сошли с
коней, и каждый из них предлагал нам свою лошадь, чтобы довезти нас до
города Велес-Малага, отстоявшего оттуда мили на полторы. Некоторые из
верховых отправились к тому месту, где, как мы указали, была оставлена нами
лодка, чтобы отвезти ее в город. Другие же посадили нас на круп лошадей
позади себя, а Сораида села позади дяди-христианина. Все население города
вышло нам навстречу, так как некоторые, приехавшие раньше, распространили
весть о нашем прибытии. Они не удивлялись видеть ни освобожденных христиан,
ни пленных мавров, потому что все жители этого побережья привыкли к зрелищу
тех и других, а удивлялись они красоте Сораиды, которая в то время и при тех
обстоятельствах достигла высшего своего блеска как вследствие движения в
дороге, так и от радости, что она уже в стране христианской и ничего ей
больше не угрожает; а это вызвало на ее лице такие краски, что, если меня
только не ввела тогда в заблуждение любовь, я решился бы сказать, что во
всем мире нельзя было найти более прекрасного существа; по крайней мере, я
такого никогда не видел.
Мы прямо пошли в церковь, чтобы благодарить Бога за оказанную Им нам
милость. И лишь только Сораида вошла туда, она сказала, что видит здесь
лица, похожие на лицо Лелы Мариен. Мы объяснили, что все это ее изображения,
и ренегат постарался как можно лучше растолковать мавританке, что такое
значат иконы, а также и то, что ей следует их благоговейно чтить, как
изображения той самой Лелы Мариен, которая говорила с нею. Обладая тонким
умом и способностью быстро и легко все схватывать и воспринимать, Сораида
сразу же поняла то, что ей было сказано относительно икон. Из церкви нас
увели и разместили в городе по разным домам, а христианин, приехавший с
нами, взял ренегата, Сораиду и меня в дом к своим родителям, которые имели
средний достаток и приняли нас также радушно, как и собственного сына. Мы
пробыли в Велесе шесть дней, после чего ренегат, собрав все нужные ему
сведения, уехал в город Гренаду, чтобы там через посредство святой
инквизиции вернуться в святейшее лоно церкви. Остальные же освобожденные
христиане уехали, каждый куда ему казалось лучше. Только мы и остались,
Сораида и я, с одними лишь теми червонцами, которыми учтивость француза
наделила Сораиду. Часть этих денег я употребил на покупку животного, на
котором она едет верхом, и служил ей до сих пор отцом и стремянным, но не
супругом. Мы теперь отправляемся дальше, намереваясь узнать, жив ли мой отец
и посчастливилось ли кому-нибудь из моих братьев больше моего; хотя, раз
небо сделало меня спутником Сораиде, мне кажется, что никакое другое
счастье, как бы оно ни было велико, не может быть столь драгоценным для
меня, как это. Терпение, с каким Сораида переносит неудобства, которые
влечет за собой бедность, и выражаемое ею желание сделаться как можно скорее
христианкой так велики и искренны, что наполняют меня восхищением и
побуждают служить ей всю жизнь; но радость, испытываемая мной при мысли, что
я принадлежу ей, а она -- мне, нарушается и портится тем, что я не знаю,
найду ли я на моей родине уголок, где бы я мог приютить ее, и не внесли ли
время и смерть такие изменения в жизнь и дела моего отца и братьев, что, в
случае если их бы не оказалось в живых, я едва ли найду кого-нибудь, кто бы
меня знал. Больше мне нечего, сеньоры, сообщить вам о моей истории и
предоставляю доброму вашему усмотрению судить о том, нашли ли вы ее
занимательной и приятной. О себе же могу сказать, что желал бы ее рассказать
короче, хотя опасение наскучить вам заставило меня умолчать о многих
подробностях.
Было около полудня, когда они нас посадили в шлюпку, дали нам с собой
два бочонка воды и немного сухарей, а капитан, движимый, не знаю каким
порывом сострадания, в то время как прекрасная Сораида садилась в шлюпку,
дал ей еще около сорока червонцев и не позволил своим людям снять с нее
мавританское платье, которое вы теперь на ней видите. Мы вошли в шлюпку,
поблагодарив их за добро, которое они нам оказали, и выражая им скорее
признательность, чем злобу. Они ушли в открытое море по направлению к
проливу; мы же, не устремляя взоров ни на какую другую путеводную звезду,
кроме земли, лежавшей перед нами, так усиленно принялись грести туда и
подошли при заходе солнца так близко, что уже надеялись высадиться на берег
еще до полного наступления ночи. Но так как луна не светила, небо было
темное и мы не знали местности, где находились, то нам казалось
неблагоразумным тотчас же выходить на берег. Впрочем, некоторые из наших
держались иного мнения, говоря, что следует пристать даже в том случае, если
бы берег оказался голой скалой, удаленной от всякого человеческого жилья;
таким образом мы избегнем угрожающей нам опасности встретиться с корсарскими
кораблями из Тетуана, которые проводят ночь в Берберии, а на рассвете
оказываются уже у берегов Испании, обыкновенно захватывают здесь добычу и
затем возвращаются спать к себе домой. Но из двух противоположных мнений
было принято то, чтобы мало-помалу подойти к берегу и, если море будет
спокойно и допустит это, высадиться там, где окажется возможным. Так мы и
сделали. Около полуночи подошли мы к подножию громадной и высочайшей горы,
настолько отстоящей от берега, что оставалось маленькое пространство для
того, чтобы удобно высадиться. Мы врезались лодкой в песок, вышли на берег,
поцеловали землю и со слезами сильнейшей радости благодарили Бога, Господа
нашего, за безмерное милосердие, явленное Им во время нашего путешествия. Из
лодки мы вынесли находившиеся там съестные припасы, вытащили ее на берег и
поднялись довольно высоко на гору; но даже и там мы все еще не могли
хорошенько успокоиться и поверить, что земля, на которой мы стоим, --
христианская земля. Рассвело позднее, как мне казалось, чем мы желали бы. Мы
наконец взобрались до вершины горы, чтоб посмотреть, не увидим ли оттуда
деревню или какие-нибудь пастушьи хижины; но сколько мы ни напрягали зрение,
ничего не видели: ни деревни, ни человека, ни тропинки, ни дороги. После
того мы решили идти дальше, вглубь местности, так как не могло быть, чтобы
нам не встретился вскоре кто-нибудь, кто бы дал нам сведения о том, где мы
находимся. Больше всего огорчался я тем, что Сораида принуждена идти пешком
по этим острым скалам, потому что хотя я иногда и брал ее себе на плечи, но
мое утомление утомляло ее больше, чем отдых освежал ее; итак, она решительно
отказалась, чтоб я давал себе этот труд, и с большим терпением и веселым
лицом шла пешком, а я вел ее все время за руку.
Должно быть, мы прошли немного меньше четверти мили, как вдруг до
нашего слуха донесся звук бубенчиков,-- ясный признак того, что где-нибудь
вблизи пасется стадо. Внимательно оглядываясь кругом, не покажется ли оно,
мы увидели мальчика-пастуха, сидевшего под пробковым деревом, где он с
большим спокойствием и беззаботностью строгал своим ножом палочку. Мы
позвали его, и он, быстро вскочив на ноги, увидел, как мы потом узнали,
первыми ренегата и Сораиду, а так как на них была мавританская одежда, то
он, думая, что все мавры Берберии гонятся за ним, с изумительной быстротой
бросился бежать и повернул в лес, крича самым что ни на есть пронзительным
голосом:
-- Мавры, мавры в стране! Мавры, мавры! К оружию, к оружию!
Эти крики привели нас в большое смущение, и мы не знали, что делать. Но
рассудив, что крики пастуха переполошат всю местность и конная береговая
стража {Стража эта была вооружена в те времена копьями и щитами и сидела на
конях по-арабски, налегке.} скоро явится узнать, в чем дело, мы решили,
чтобы ренегат снял с себя турецкое платье и облекся в невольничью куртку
{Gilecuelco -- довольно длинная, обхватывающая талию куртка с короткими и
разрезными до локтей рукавами, открытая спереди.}, которую ему тотчас же
предложил один из наших, хотя сам остался в рубахе. Таким образом, поручив
себя Богу, мы пошли по той же дороге, по которой, как мы видели, убежал
пастух, все время ожидая, что вот-вот нам встретится конная береговая
стража. И мы не ошиблись в своих предположениях. Не прошло и двух часов,
как, выйдя из чащи леса в долину, мы увидели около пятидесяти всадников,
которые быстро, коротким галопом, неслись на нас. Лишь только мы их
заметили, мы остановились, поджидая их, а когда они подъехали и вместо
мавров, которых искали, встретили лишь несколько бедных христиан, они
смутились, и один из них спросил нас, были ли мы причиной того, что пастух
звал к оружию. Я ответил утвердительно и только что собрался рассказать о
своих приключениях, о том, кто мы и откуда, как один из христиан, бывших с
нами, узнал всадника, который обратился к нам с вопросом, и, не дав мне
сказать ни слова больше, воскликнул:
-- Благодарение Богу, сеньоры, за то, что Он нас привел в такое хорошее
место, потому что, если я не ошибаюсь, земля, на которой мы стоим, --
Велес-Малага {Город около восемнадцати миль к востоку от Малаги, у подножия
Сьерра-де-Аламы.}, и если годы, проведенные мною в неволе, не отняли у меня
памяти, мне кажется, что вы, сеньор, спрашивающий нас, кто мы такие, --
Педро де Бустаманте, мой дядя.
Едва пленный христианин произнес эти слова, как всадник соскочил с
лошади и бросился обнимать юношу, говоря:
-- Племянник души моей и жизни моей! Я узнаю тебя, а мы-то уже тебя
оплакивали, считая мертвым, я и сестра моя, твоя мать и все твои родные,
которые еще живы, так как Богу угодно было сохранить им жизнь, чтобы они
могли насладиться радостью свиданья с тобой. Мы уже знали, что ты в Алжире,
а по признакам и приметам твоей одежды и одежды всей вашей компании я вижу,
что вы спаслись каким-то чудом.
-- Оно так и есть, -- ответил юноша, и у нас будет достаточно времени
все это рассказать вам.
Как только всадники узнали, что мы христианские пленники, они сошли с
коней, и каждый из них предлагал нам свою лошадь, чтобы довезти нас до
города Велес-Малага, отстоявшего оттуда мили на полторы. Некоторые из
верховых отправились к тому месту, где, как мы указали, была оставлена нами
лодка, чтобы отвезти ее в город. Другие же посадили нас на круп лошадей
позади себя, а Сораида села позади дяди-христианина. Все население города
вышло нам навстречу, так как некоторые, приехавшие раньше, распространили
весть о нашем прибытии. Они не удивлялись видеть ни освобожденных христиан,
ни пленных мавров, потому что все жители этого побережья привыкли к зрелищу
тех и других, а удивлялись они красоте Сораиды, которая в то время и при тех
обстоятельствах достигла высшего своего блеска как вследствие движения в
дороге, так и от радости, что она уже в стране христианской и ничего ей
больше не угрожает; а это вызвало на ее лице такие краски, что, если меня
только не ввела тогда в заблуждение любовь, я решился бы сказать, что во
всем мире нельзя было найти более прекрасного существа; по крайней мере, я
такого никогда не видел.
Мы прямо пошли в церковь, чтобы благодарить Бога за оказанную Им нам
милость. И лишь только Сораида вошла туда, она сказала, что видит здесь
лица, похожие на лицо Лелы Мариен. Мы объяснили, что все это ее изображения,
и ренегат постарался как можно лучше растолковать мавританке, что такое
значат иконы, а также и то, что ей следует их благоговейно чтить, как
изображения той самой Лелы Мариен, которая говорила с нею. Обладая тонким
умом и способностью быстро и легко все схватывать и воспринимать, Сораида
сразу же поняла то, что ей было сказано относительно икон. Из церкви нас
увели и разместили в городе по разным домам, а христианин, приехавший с
нами, взял ренегата, Сораиду и меня в дом к своим родителям, которые имели
средний достаток и приняли нас также радушно, как и собственного сына. Мы
пробыли в Велесе шесть дней, после чего ренегат, собрав все нужные ему
сведения, уехал в город Гренаду, чтобы там через посредство святой
инквизиции вернуться в святейшее лоно церкви. Остальные же освобожденные
христиане уехали, каждый куда ему казалось лучше. Только мы и остались,
Сораида и я, с одними лишь теми червонцами, которыми учтивость француза
наделила Сораиду. Часть этих денег я употребил на покупку животного, на
котором она едет верхом, и служил ей до сих пор отцом и стремянным, но не
супругом. Мы теперь отправляемся дальше, намереваясь узнать, жив ли мой отец
и посчастливилось ли кому-нибудь из моих братьев больше моего; хотя, раз
небо сделало меня спутником Сораиде, мне кажется, что никакое другое
счастье, как бы оно ни было велико, не может быть столь драгоценным для
меня, как это. Терпение, с каким Сораида переносит неудобства, которые
влечет за собой бедность, и выражаемое ею желание сделаться как можно скорее
христианкой так велики и искренны, что наполняют меня восхищением и
побуждают служить ей всю жизнь; но радость, испытываемая мной при мысли, что
я принадлежу ей, а она -- мне, нарушается и портится тем, что я не знаю,
найду ли я на моей родине уголок, где бы я мог приютить ее, и не внесли ли
время и смерть такие изменения в жизнь и дела моего отца и братьев, что, в
случае если их бы не оказалось в живых, я едва ли найду кого-нибудь, кто бы
меня знал. Больше мне нечего, сеньоры, сообщить вам о моей истории и
предоставляю доброму вашему усмотрению судить о том, нашли ли вы ее
занимательной и приятной. О себе же могу сказать, что желал бы ее рассказать
короче, хотя опасение наскучить вам заставило меня умолчать о многих
подробностях.
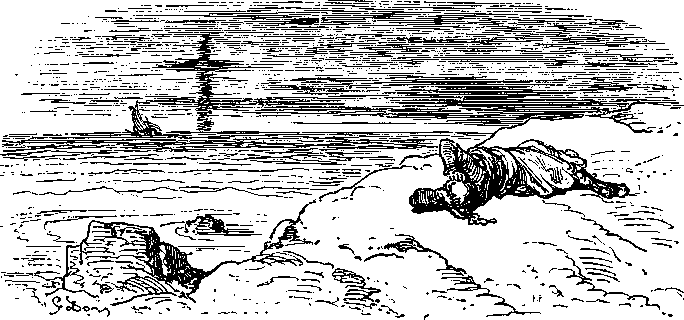
Глава XLII, в которой сообщается о том, что еще произошло на постоялом
дворе, и о многих других вещах, заслуживающих быть рассказанными
 Закончив этими словами свой рассказ, пленник умолк, а дон Фернандо
сказал ему:
-- Могу вас уверить, сеньор капитан, умение, с которым вы рассказали
эту удивительную историю, равняется новизне и занимательности сообщенных
вами событий. Все тут в высшей степени любопытно, необыкновенно и полно
неожиданностей, изумляющих и поражающих слушателей. Удовольствие,
доставленное вашим рассказом, так велико, что если б утро следующего дня
застало нас еще за тем же занятием, мы были бы рады начать слушать вас
сызнова.
Сказав это, дон Фернандо и все остальные предложили капитану свои
услуги во всем, что в их силах, и в таких искренних и задушевных словах и
выражениях, что он не мог не поверить доброму их расположению. В особенности
же дон Фернандо обещал ему, если он согласится с ним ехать, уговорить своего
брата маркиза быть крестным отцом Сораиды, а он, со своей стороны, снабдит
его всем нужным, чтобы он мог вернуться к себе на родину с подобающими ему
приличием и достоинством. Пленник поблагодарил всех в самых учтивых
выражениях, но не пожелал принять ни одного из их великодушных предложений.
Между тем уже наступила ночь, и, когда совершенно стемнело, к
постоялому двору подъехала карета, а за нею несколько верховых,
потребовавших ночлега. В ответ хозяйка сказала, что на всем постоялом дворе
нет и пяди незанятого места.
-- Как бы то ни было, -- объявил один из верховых, -- но место должно
найтись для сеньора судьи {Oidor, т. е. слушающий -- название судьи в
Испании; audiencia -- так называется суд, в котором он заседает.}, который
прибыл сюда.
Узнав о звании гостя, хозяйка смутилась и сказала:
-- Сеньор, дело в том, что у меня нет постели. Если же его милость,
сеньор судья, везет с собой постель, -- как должно быть это и есть, -- то
пусть он пожалует в добрый час, потому что и муж мой, и я, мы готовы
уступить нашу собственную комнату, чтобы милость его могла устроиться в ней
на ночь.
-- Пусть будет так, в добрый час,-- сказал стремянный.
Но в это время уже вышел из кареты человек, одежда которого тотчас же
выдавала его звание и занимаемую им должность, потому что бывшее на нем
длинное одеяние с круглыми развевающимися рукавами показывало, что он судья,
или оидор, как сказал слуга. Он вел под руку молодую девушку, на вид лет
шестнадцати, одетую по-дорожному, но такую веселую, нарядную и красивую, что
она всех привела в восторг. Если б на постоялом дворе не было Доротеи,
Люсинды и Сораиды, можно было бы подумать, что другую такую красоту, как
красота девушки, трудно было бы отыскать.
Дон Кихот находился тут же, когда приехали судья и молодая девушка, и
как только он их увидел, он сказал:
-- Милость ваша, вы можете спокойно войти и расположиться в этом замке,
потому что, хотя тут и тесно, и неудобно, но нет той тесноты и неудобства в
мире, где бы не нашлось места для оружия и для наук, и тем более если
спутницей и предводительницей их является красота, как мы это видим в
настоящем случае, когда наука в вашем лице является сопровождаемая
прекрасной этой девушкой, перед которой не только должны распахнуться и
открыться двери замков, но и расступиться скалы и сгладиться и склониться
горы, чтобы оказать ей прием. Войдите, милость ваша, говорю я, в этот рай,
так как вы найдете здесь звезды и солнца, чтобы сопутствовать небу, которое
милость ваша привела с собой. Здесь вы найдете оружие на всей его высоте и
красоту во всем ее блеске.
Судья, удивленный речью Дон Кихота, стал пристально рассматривать его и
был столь же изумлен его наружностью, как и словами его. Но прежде чем
нашелся, что ответить ему, он впал в новое удивление, когда увидел перед
собой Люсинду, Доротею и Сораиду, которые, услыхав о приезде новых гостей и
узнав от хозяйки о красоте молодой девушки, пришли посмотреть на нее и
встретить ее. Дон Фернандо, Карденио и священник приветствовали судью более
просто и учтиво, чем Дон Кихот. Сеньор судья вошел в дом смущенный как тем,
что он видел, так и тем, что слышал, а красавицы, бывшие на постоялом дворе,
приветствовали прекрасную девушку. Судья вскоре же разглядел, что все
присутствующие здесь были люди хорошего общества и только фигура, лицо и
манеры Дон Кихота продолжали приводить его в замешательство. После общего
взаимного обмена любезностей и обсуждения удобств постоялого двора пришли
снова к прежнему решению, именно чтобы женщины заняли уже упомянутое
помещение на чердаке, а мужчины оставались вне его, как бы для охраны их.
Судья был очень доволен тем, что его дочь -- так как та девушка была его
дочерью -- поместится с этими сеньорами, и она охотно это сделала; с частью
скудной постели хозяина и половины той, которую привез с собой судья, дамы
устроились на эту ночь лучше, чем думали.
Пленник, который лишь только увидел судью, почувствовал, что у него
сильно забилось сердце при блеснувшей у него в голове мысли, не его ли это
брат, спросил одного из приехавших с ним слуг, как зовут его господина и не
знает ли он, откуда тот родом. Слуга ответил, что его сеньор -- лисенсиат
Хуан Педро де Виэдма и, насколько ему известно, он родом из местечка в
Леонских горах. Эти сведения и то, что он сам видел, окончательно убедили
капитана, что судья -- тот его брат, который по совету отца посвятил себя
изучению словесных наук. Взволнованный и радостный, он отозвал в сторону
дона Фернандо, Карденио и священника и рассказал о случившемся, утверждая,
что этот судья -- его брат. Слуга сообщил ему, что сеньор его едет в Индию,
на должность судьи в Мексике, и, кроме того, что эта молодая девушка -- дочь
судьи, родив которую, мать ее умерла, а отец стал очень богат вследствие
приданого жены, которое вместе с дочерью осталось у него в доме. Капитан
спросил совета, как ему быть: открыться ли сразу брату, или не лучше ли
сначала разузнать, как он его примет, если он ему откроется; не устыдится
ли, видя его в такой бедности, или же встретит с сердечным участием.
-- Предоставьте устроить это испытание мне, -- сказал священник, -- тем
более что нет причины сомневаться в том, чтобы ваш брат, сеньор капитан, не
принял вас самым радушным образом, так как благоразумие и достоинство,
проявляющиеся в его обращении, не дают права считать его ни надменным, ни
неблагородным, или думать, будто он не сумеет, как следует, отнестись к
превратностям судьбы.
-- Тем не менее, -- сказал капитан,-- я бы желал открыться ему не
сразу, а каким-нибудь окольным путем.
-- Говорю вам, -- ответил священник, -- я так поведу дело, что все мы
останемся довольны.
Между тем подали ужинать, и все сели за стол, исключая лишь пленника и
дам, которые ужинали отдельно, в своей комнате. Среди ужина священник
сказал:
-- С такой же фамилией, как и ваша, сеньор судья, был у меня товарищ в
Константинополе, где я провел несколько лет в плену, и товарищ этот -- один
из самых доблестных солдат и капитанов во всей испанской пехоте, но он был
настолько же несчастлив, насколько отважен и храбр.
-- А как звали этого капитана, сеньор мой? -- спросил судья.
-- Звали его, -- ответил священник,-- Руи Перес де Виэдма, и родом он
был из местечка в Леонских горах. Передавал он мне об одном обстоятельстве,
случившемся у него с отцом и братьями, и если бы не сообщил мне о том
человек столь правдивый, как он, я счел бы все это за одну из тех басен,
которые старухи рассказывают зимой, сидя у огня. Он говорил мне, будто его
отец разделил свое состояние между тремя своими сыновьями, причем дал им
некоторые советы, более мудрые, чем изречения Катона. Могу вам сказать, что
совет, которому последовал мой товарищ, когда он ушел на войну, оказался для
него столь удачным, что он через несколько лет благодаря своей храбрости и
отваге без всякой другой поддержки, кроме собственных заслуг, возвысился до
чина пехотного капитана и видел уже впереди себя надежду и прямую дорогу
сделаться вскоре фельд-мейстером {Maestro de campo -- чин выше полкового
командира, так как под командой его было tercio, т. е. два или три полка
пехоты.}. Но судьба вооружилась против него, так как именно там, где он мог
надеяться на счастье и найти его, оно ему изменило, и он все потерял,
потеряв свободу в тот достопамятный день, когда многие приобрели ее, -- в
день сражения при Лепанто. Я был взят в плен в Голете и уже потом, после
разных приключений, мы сделались товарищами в Константинополе. Оттуда он
уехал в Алжир, где, как я знаю, с ним случилось одно из самых странных
приключений, какие только бывали на свете.
Священник, продолжая таким образом, рассказал вкратце все то, что
случилось с Сораидой и капитаном. Судья следил за его рассказом с таким
напряженным вниманием, с каким никогда не следил за показаниями в суде.
Священник довел свой рассказ только до того места, когда французы ограбили
ехавших в лодке христиан, оставив его товарища и прекрасную мавританку в
крайней нужде и бедности. Дальше же будто бы он ничего не слышал о них и не
знает, добрались ли они до Испании, или же французы увезли их во Францию.
Все, что говорил священник, слушал и капитан, стоявший вблизи и
наблюдавший за всеми движениями своего брата. А этот последний, видя, что
священник дошел до конца своего рассказа, глубоко вздохнул и с глазами,
полными слез, воскликнул:
-- О сеньор! Если б вы знали, какие вы мне сообщили вести и как они
глубоко взволновали меня, так что я вынужден обнаружить это слезами,
которые, несмотря на все мое уменье сдерживаться, против воли выступают на
моих глазах. Этот столь доблестный капитан, о котором вы говорите, -- мой
старший брат, и он -- более мужественный и одаренный более высокими
стремлениями, чем я и младший наш брат, -- избрал себе почетное и славное
военное поприще, а это и была одна из трех дорог, указанных нам нашим отцом,
как вам рассказал ваш товарищ, а вам это показалось басней. Я избрал себе
научное поприще, и на нем Бог и труды мои довели меня до положения, в
котором вы меня видите. Младший мой брат живет в Перу и так богат, что
деньгами, которые он выслал мне и моему отцу, он не только вернул полученную
им долю наследства, но дал нам еще столько, что отец мой мог удовлетворить
присущую ему склонность к щедрости, а я мог окончить университетский курс в
более приличной обстановке и с большими удобствами и мог дойти до положения,
в котором вы меня видите. Отец мой еще жив, но умирает от желания узнать,
что сталось с его старшим сыном, и просит Бога в непрерывных молитвах о том,
чтобы смерть не закрыла ему глаза раньше, чем он увидит в живых сына.
Удивляюсь, как мой брат, всегда такой благоразумный, не позаботился в
затруднениях и огорчениях своих или же в счастливых событиях дать знать о
них отцу. Если бы он или кто-нибудь из нас, узнали о случившемся с ним, не
было бы надобности ждать чуда с палкой, чтобы внести за него выкуп. Теперь
меня мучит одна лишь мысль: вернули ли французы ему свободу, или не убили ли
его, чтобы скрыть свой грабеж? Вследствие этого я буду продолжать
путешествие не с той радостью, с какой я его начал, а с горем и печалью. О
добрый мой брат, как бы я хотел знать, где ты теперь, чтобы отыскать тебя и
спасти от страданий хотя бы ценой своих собственных! О, если б кто-нибудь
принес нашему старику отцу известие о том, что ты жив, хотя и находишься в
самых глубоких подземных темницах Берберии, так как и оттуда могли бы тебя
выручить богатства его, мои и брата моего! О прекрасная и великодушная
Сораида! Кто вознаградит тебя за то добро, которое ты оказала моему брату?
Кто будет присутствовать при возрождении твоей души и при этой свадьбе,
которая всем нам доставила бы такое удовольствие!
Такие и тому подобные речи говорил судья и был до такой степени
взволнован известиями, полученными им о брате, что все слушавшие его
старались выразить ему сочувствие к его горю. Священник, видя, как хорошо
ему удался его план и исполнилось то, чего желал капитан, решил не томить
дольше присутствующих, и потому, встав из-за стола и войдя в комнату, где
была Сораида, взял ее за руку, а за ней последовали Люсинда, Доротеа и дочь
судьи. Капитан все еще стоял, выжидая, что хочет сделать священник, а этот
последний, взяв и его также другой рукой, с ними обоими подошел туда, где
был судья и остальные кабальеросы, и сказал:
-- Осушите ваши слезы, сеньор оидор, и да исполнится желание ваше во
всем его объеме, так как перед вами дорогой ваш брат и милая ваша невестка;
взгляните: это вот капитан Виедма, а это -- прекрасная мавританка, оказавшая
ему столько добра; французские корсары, о которых я говорил, довели их до
такого стесненного положения, чтобы вы могли обнаружить великодушие вашего
благородного сердца.
Капитан бросился целовать брата, но тот положил ему обе ладони на
плечи, чтобы на некотором расстоянии лучше разглядеть его, и лишь только он
его узнал, так крепко прижал его к груди, проливая такие нежные и радостные
слезы, что большинство присутствовавших не могли не прослезиться вместе с
ним. Слова, которые говорили друг другу братья, чувства, которые они
испытывали,-- их едва можно вообразить себе, а тем более нельзя их описать.
То они вкратце давали друг другу отчет о своих приключениях, то обменивались
выражениями самой сердечной привязанности, то судья обнимал Сораиду, то
предлагал ей все свое состояние, то заставлял дочь свою целоваться с ней; то
прекрасная христианка, то прекраснейшая мавританка снова вызывали у всех
слезы. Дон Кихот все время стоял, не говоря ни слова, и внимательно следил
за этими столь удивительными событиями, приписывая их химерам странствующего
рыцарства. Наконец они условились, чтобы капитан с Сораидой и с братом
вернулись в Севилью и известили отца о том, что его сын найден и на свободе,
чтобы он мог присутствовать на свадьбе и на крещении Сораиды, потому что
судья не имел возможности отложить свое путешествие, так как он получил
известие, что флот отойдет из Севильи в Новую Испанию через месяц, а
упустить этот случай было бы для него крайне неудобно.
Словом, все были веселы и довольны, радуясь счастью, выпавшему на долю
пленнику; и так как почти две трети ночи прошли, то решили разойтись и
отправиться спать до утра. Дон Кихот предложил стоять на страже у замка,
чтобы какой-нибудь великан или другой разнузданный негодяй не вздумал бы
напасть на них, прельстившись великим сокровищем красоты, которое вмещал в
себе этот замок. Дон Кихота поблагодарили за сделанное им предложение все
те, которые его знали, а судье сообщили о странных его причудах, что очень
позабавило его. Один только Санчо был в отчаянии оттого, что так долго
медлят идти спать, и один он устроился лучше всех, растянувшись на сбруе
своего осла, которая обошлась ему так дорого, как мы это увидим ниже. Дамы
отправились к себе в комнату; остальные же устроились как могли, а Дон Кихот
вышел из постоялого двора, чтобы встать на стражу перед замком, как он
обещал. Случилось, однако, что незадолго до появления зари до слуха дам
донесся такой мелодичный и прекрасный голос, что заставил всех их
внимательно прислушаться, особенно же Доротею, которая не могла заснуть, а
рядом с ней спала Клара де Виэдма,-- так звали дочь судьи. Никто не мог
представить себе, кто так прекрасно поет, и был слышен один только голос,
без аккомпанемента какого бы то ни было инструмента. То им казалось, что
поют на дворе, то словно в конюшне, и, пока сеньоры, недоумевая, внимательно
слушали пение, Карденио подошел к дверям комнаты и сказал:
-- Кто не спит, слушайте: и вы услышите голос погонщика мулов, который
чарует своим пением.
-- Мы слушаем его, сеньор, -- ответила Доротеа, и после этого Карденио
ушел, а Доротеа напрягла все свое внимание и разобрала, что пели следующее.
Закончив этими словами свой рассказ, пленник умолк, а дон Фернандо
сказал ему:
-- Могу вас уверить, сеньор капитан, умение, с которым вы рассказали
эту удивительную историю, равняется новизне и занимательности сообщенных
вами событий. Все тут в высшей степени любопытно, необыкновенно и полно
неожиданностей, изумляющих и поражающих слушателей. Удовольствие,
доставленное вашим рассказом, так велико, что если б утро следующего дня
застало нас еще за тем же занятием, мы были бы рады начать слушать вас
сызнова.
Сказав это, дон Фернандо и все остальные предложили капитану свои
услуги во всем, что в их силах, и в таких искренних и задушевных словах и
выражениях, что он не мог не поверить доброму их расположению. В особенности
же дон Фернандо обещал ему, если он согласится с ним ехать, уговорить своего
брата маркиза быть крестным отцом Сораиды, а он, со своей стороны, снабдит
его всем нужным, чтобы он мог вернуться к себе на родину с подобающими ему
приличием и достоинством. Пленник поблагодарил всех в самых учтивых
выражениях, но не пожелал принять ни одного из их великодушных предложений.
Между тем уже наступила ночь, и, когда совершенно стемнело, к
постоялому двору подъехала карета, а за нею несколько верховых,
потребовавших ночлега. В ответ хозяйка сказала, что на всем постоялом дворе
нет и пяди незанятого места.
-- Как бы то ни было, -- объявил один из верховых, -- но место должно
найтись для сеньора судьи {Oidor, т. е. слушающий -- название судьи в
Испании; audiencia -- так называется суд, в котором он заседает.}, который
прибыл сюда.
Узнав о звании гостя, хозяйка смутилась и сказала:
-- Сеньор, дело в том, что у меня нет постели. Если же его милость,
сеньор судья, везет с собой постель, -- как должно быть это и есть, -- то
пусть он пожалует в добрый час, потому что и муж мой, и я, мы готовы
уступить нашу собственную комнату, чтобы милость его могла устроиться в ней
на ночь.
-- Пусть будет так, в добрый час,-- сказал стремянный.
Но в это время уже вышел из кареты человек, одежда которого тотчас же
выдавала его звание и занимаемую им должность, потому что бывшее на нем
длинное одеяние с круглыми развевающимися рукавами показывало, что он судья,
или оидор, как сказал слуга. Он вел под руку молодую девушку, на вид лет
шестнадцати, одетую по-дорожному, но такую веселую, нарядную и красивую, что
она всех привела в восторг. Если б на постоялом дворе не было Доротеи,
Люсинды и Сораиды, можно было бы подумать, что другую такую красоту, как
красота девушки, трудно было бы отыскать.
Дон Кихот находился тут же, когда приехали судья и молодая девушка, и
как только он их увидел, он сказал:
-- Милость ваша, вы можете спокойно войти и расположиться в этом замке,
потому что, хотя тут и тесно, и неудобно, но нет той тесноты и неудобства в
мире, где бы не нашлось места для оружия и для наук, и тем более если
спутницей и предводительницей их является красота, как мы это видим в
настоящем случае, когда наука в вашем лице является сопровождаемая
прекрасной этой девушкой, перед которой не только должны распахнуться и
открыться двери замков, но и расступиться скалы и сгладиться и склониться
горы, чтобы оказать ей прием. Войдите, милость ваша, говорю я, в этот рай,
так как вы найдете здесь звезды и солнца, чтобы сопутствовать небу, которое
милость ваша привела с собой. Здесь вы найдете оружие на всей его высоте и
красоту во всем ее блеске.
Судья, удивленный речью Дон Кихота, стал пристально рассматривать его и
был столь же изумлен его наружностью, как и словами его. Но прежде чем
нашелся, что ответить ему, он впал в новое удивление, когда увидел перед
собой Люсинду, Доротею и Сораиду, которые, услыхав о приезде новых гостей и
узнав от хозяйки о красоте молодой девушки, пришли посмотреть на нее и
встретить ее. Дон Фернандо, Карденио и священник приветствовали судью более
просто и учтиво, чем Дон Кихот. Сеньор судья вошел в дом смущенный как тем,
что он видел, так и тем, что слышал, а красавицы, бывшие на постоялом дворе,
приветствовали прекрасную девушку. Судья вскоре же разглядел, что все
присутствующие здесь были люди хорошего общества и только фигура, лицо и
манеры Дон Кихота продолжали приводить его в замешательство. После общего
взаимного обмена любезностей и обсуждения удобств постоялого двора пришли
снова к прежнему решению, именно чтобы женщины заняли уже упомянутое
помещение на чердаке, а мужчины оставались вне его, как бы для охраны их.
Судья был очень доволен тем, что его дочь -- так как та девушка была его
дочерью -- поместится с этими сеньорами, и она охотно это сделала; с частью
скудной постели хозяина и половины той, которую привез с собой судья, дамы
устроились на эту ночь лучше, чем думали.
Пленник, который лишь только увидел судью, почувствовал, что у него
сильно забилось сердце при блеснувшей у него в голове мысли, не его ли это
брат, спросил одного из приехавших с ним слуг, как зовут его господина и не
знает ли он, откуда тот родом. Слуга ответил, что его сеньор -- лисенсиат
Хуан Педро де Виэдма и, насколько ему известно, он родом из местечка в
Леонских горах. Эти сведения и то, что он сам видел, окончательно убедили
капитана, что судья -- тот его брат, который по совету отца посвятил себя
изучению словесных наук. Взволнованный и радостный, он отозвал в сторону
дона Фернандо, Карденио и священника и рассказал о случившемся, утверждая,
что этот судья -- его брат. Слуга сообщил ему, что сеньор его едет в Индию,
на должность судьи в Мексике, и, кроме того, что эта молодая девушка -- дочь
судьи, родив которую, мать ее умерла, а отец стал очень богат вследствие
приданого жены, которое вместе с дочерью осталось у него в доме. Капитан
спросил совета, как ему быть: открыться ли сразу брату, или не лучше ли
сначала разузнать, как он его примет, если он ему откроется; не устыдится
ли, видя его в такой бедности, или же встретит с сердечным участием.
-- Предоставьте устроить это испытание мне, -- сказал священник, -- тем
более что нет причины сомневаться в том, чтобы ваш брат, сеньор капитан, не
принял вас самым радушным образом, так как благоразумие и достоинство,
проявляющиеся в его обращении, не дают права считать его ни надменным, ни
неблагородным, или думать, будто он не сумеет, как следует, отнестись к
превратностям судьбы.
-- Тем не менее, -- сказал капитан,-- я бы желал открыться ему не
сразу, а каким-нибудь окольным путем.
-- Говорю вам, -- ответил священник, -- я так поведу дело, что все мы
останемся довольны.
Между тем подали ужинать, и все сели за стол, исключая лишь пленника и
дам, которые ужинали отдельно, в своей комнате. Среди ужина священник
сказал:
-- С такой же фамилией, как и ваша, сеньор судья, был у меня товарищ в
Константинополе, где я провел несколько лет в плену, и товарищ этот -- один
из самых доблестных солдат и капитанов во всей испанской пехоте, но он был
настолько же несчастлив, насколько отважен и храбр.
-- А как звали этого капитана, сеньор мой? -- спросил судья.
-- Звали его, -- ответил священник,-- Руи Перес де Виэдма, и родом он
был из местечка в Леонских горах. Передавал он мне об одном обстоятельстве,
случившемся у него с отцом и братьями, и если бы не сообщил мне о том
человек столь правдивый, как он, я счел бы все это за одну из тех басен,
которые старухи рассказывают зимой, сидя у огня. Он говорил мне, будто его
отец разделил свое состояние между тремя своими сыновьями, причем дал им
некоторые советы, более мудрые, чем изречения Катона. Могу вам сказать, что
совет, которому последовал мой товарищ, когда он ушел на войну, оказался для
него столь удачным, что он через несколько лет благодаря своей храбрости и
отваге без всякой другой поддержки, кроме собственных заслуг, возвысился до
чина пехотного капитана и видел уже впереди себя надежду и прямую дорогу
сделаться вскоре фельд-мейстером {Maestro de campo -- чин выше полкового
командира, так как под командой его было tercio, т. е. два или три полка
пехоты.}. Но судьба вооружилась против него, так как именно там, где он мог
надеяться на счастье и найти его, оно ему изменило, и он все потерял,
потеряв свободу в тот достопамятный день, когда многие приобрели ее, -- в
день сражения при Лепанто. Я был взят в плен в Голете и уже потом, после
разных приключений, мы сделались товарищами в Константинополе. Оттуда он
уехал в Алжир, где, как я знаю, с ним случилось одно из самых странных
приключений, какие только бывали на свете.
Священник, продолжая таким образом, рассказал вкратце все то, что
случилось с Сораидой и капитаном. Судья следил за его рассказом с таким
напряженным вниманием, с каким никогда не следил за показаниями в суде.
Священник довел свой рассказ только до того места, когда французы ограбили
ехавших в лодке христиан, оставив его товарища и прекрасную мавританку в
крайней нужде и бедности. Дальше же будто бы он ничего не слышал о них и не
знает, добрались ли они до Испании, или же французы увезли их во Францию.
Все, что говорил священник, слушал и капитан, стоявший вблизи и
наблюдавший за всеми движениями своего брата. А этот последний, видя, что
священник дошел до конца своего рассказа, глубоко вздохнул и с глазами,
полными слез, воскликнул:
-- О сеньор! Если б вы знали, какие вы мне сообщили вести и как они
глубоко взволновали меня, так что я вынужден обнаружить это слезами,
которые, несмотря на все мое уменье сдерживаться, против воли выступают на
моих глазах. Этот столь доблестный капитан, о котором вы говорите, -- мой
старший брат, и он -- более мужественный и одаренный более высокими
стремлениями, чем я и младший наш брат, -- избрал себе почетное и славное
военное поприще, а это и была одна из трех дорог, указанных нам нашим отцом,
как вам рассказал ваш товарищ, а вам это показалось басней. Я избрал себе
научное поприще, и на нем Бог и труды мои довели меня до положения, в
котором вы меня видите. Младший мой брат живет в Перу и так богат, что
деньгами, которые он выслал мне и моему отцу, он не только вернул полученную
им долю наследства, но дал нам еще столько, что отец мой мог удовлетворить
присущую ему склонность к щедрости, а я мог окончить университетский курс в
более приличной обстановке и с большими удобствами и мог дойти до положения,
в котором вы меня видите. Отец мой еще жив, но умирает от желания узнать,
что сталось с его старшим сыном, и просит Бога в непрерывных молитвах о том,
чтобы смерть не закрыла ему глаза раньше, чем он увидит в живых сына.
Удивляюсь, как мой брат, всегда такой благоразумный, не позаботился в
затруднениях и огорчениях своих или же в счастливых событиях дать знать о
них отцу. Если бы он или кто-нибудь из нас, узнали о случившемся с ним, не
было бы надобности ждать чуда с палкой, чтобы внести за него выкуп. Теперь
меня мучит одна лишь мысль: вернули ли французы ему свободу, или не убили ли
его, чтобы скрыть свой грабеж? Вследствие этого я буду продолжать
путешествие не с той радостью, с какой я его начал, а с горем и печалью. О
добрый мой брат, как бы я хотел знать, где ты теперь, чтобы отыскать тебя и
спасти от страданий хотя бы ценой своих собственных! О, если б кто-нибудь
принес нашему старику отцу известие о том, что ты жив, хотя и находишься в
самых глубоких подземных темницах Берберии, так как и оттуда могли бы тебя
выручить богатства его, мои и брата моего! О прекрасная и великодушная
Сораида! Кто вознаградит тебя за то добро, которое ты оказала моему брату?
Кто будет присутствовать при возрождении твоей души и при этой свадьбе,
которая всем нам доставила бы такое удовольствие!
Такие и тому подобные речи говорил судья и был до такой степени
взволнован известиями, полученными им о брате, что все слушавшие его
старались выразить ему сочувствие к его горю. Священник, видя, как хорошо
ему удался его план и исполнилось то, чего желал капитан, решил не томить
дольше присутствующих, и потому, встав из-за стола и войдя в комнату, где
была Сораида, взял ее за руку, а за ней последовали Люсинда, Доротеа и дочь
судьи. Капитан все еще стоял, выжидая, что хочет сделать священник, а этот
последний, взяв и его также другой рукой, с ними обоими подошел туда, где
был судья и остальные кабальеросы, и сказал:
-- Осушите ваши слезы, сеньор оидор, и да исполнится желание ваше во
всем его объеме, так как перед вами дорогой ваш брат и милая ваша невестка;
взгляните: это вот капитан Виедма, а это -- прекрасная мавританка, оказавшая
ему столько добра; французские корсары, о которых я говорил, довели их до
такого стесненного положения, чтобы вы могли обнаружить великодушие вашего
благородного сердца.
Капитан бросился целовать брата, но тот положил ему обе ладони на
плечи, чтобы на некотором расстоянии лучше разглядеть его, и лишь только он
его узнал, так крепко прижал его к груди, проливая такие нежные и радостные
слезы, что большинство присутствовавших не могли не прослезиться вместе с
ним. Слова, которые говорили друг другу братья, чувства, которые они
испытывали,-- их едва можно вообразить себе, а тем более нельзя их описать.
То они вкратце давали друг другу отчет о своих приключениях, то обменивались
выражениями самой сердечной привязанности, то судья обнимал Сораиду, то
предлагал ей все свое состояние, то заставлял дочь свою целоваться с ней; то
прекрасная христианка, то прекраснейшая мавританка снова вызывали у всех
слезы. Дон Кихот все время стоял, не говоря ни слова, и внимательно следил
за этими столь удивительными событиями, приписывая их химерам странствующего
рыцарства. Наконец они условились, чтобы капитан с Сораидой и с братом
вернулись в Севилью и известили отца о том, что его сын найден и на свободе,
чтобы он мог присутствовать на свадьбе и на крещении Сораиды, потому что
судья не имел возможности отложить свое путешествие, так как он получил
известие, что флот отойдет из Севильи в Новую Испанию через месяц, а
упустить этот случай было бы для него крайне неудобно.
Словом, все были веселы и довольны, радуясь счастью, выпавшему на долю
пленнику; и так как почти две трети ночи прошли, то решили разойтись и
отправиться спать до утра. Дон Кихот предложил стоять на страже у замка,
чтобы какой-нибудь великан или другой разнузданный негодяй не вздумал бы
напасть на них, прельстившись великим сокровищем красоты, которое вмещал в
себе этот замок. Дон Кихота поблагодарили за сделанное им предложение все
те, которые его знали, а судье сообщили о странных его причудах, что очень
позабавило его. Один только Санчо был в отчаянии оттого, что так долго
медлят идти спать, и один он устроился лучше всех, растянувшись на сбруе
своего осла, которая обошлась ему так дорого, как мы это увидим ниже. Дамы
отправились к себе в комнату; остальные же устроились как могли, а Дон Кихот
вышел из постоялого двора, чтобы встать на стражу перед замком, как он
обещал. Случилось, однако, что незадолго до появления зари до слуха дам
донесся такой мелодичный и прекрасный голос, что заставил всех их
внимательно прислушаться, особенно же Доротею, которая не могла заснуть, а
рядом с ней спала Клара де Виэдма,-- так звали дочь судьи. Никто не мог
представить себе, кто так прекрасно поет, и был слышен один только голос,
без аккомпанемента какого бы то ни было инструмента. То им казалось, что
поют на дворе, то словно в конюшне, и, пока сеньоры, недоумевая, внимательно
слушали пение, Карденио подошел к дверям комнаты и сказал:
-- Кто не спит, слушайте: и вы услышите голос погонщика мулов, который
чарует своим пением.
-- Мы слушаем его, сеньор, -- ответила Доротеа, и после этого Карденио
ушел, а Доротеа напрягла все свое внимание и разобрала, что пели следующее.

Глава XLIII, в которой рассказывается занимательная история молодого
погонщика мулов и другие странные происшествия, случившиеся на постоялом дворе
 Когда тот, кто пел, дошел до этого места, Доротее пришло на мысль, что
было бы жаль, если бы Клара не услышала прекрасного этого голоса. Итак,
толкая ее тихонько, она разбудила ее, сказав:
-- Прости меня, дитя, что я тебя разбудила, но сделала я это, чтобы ты
насладилась лучшим голосом, который, быть может, ты когда-либо слышала в
своей жизни.
Клара проснулась и спросонья не поняла сначала, что ей говорила
Доротеа, и переспросила ее, в чем дело. Та повторила свои слова, после чего
Клара стала внимательно прислушиваться, но едва услышала она две строчки,
спетые певцом, как ее охватила такая странная дрожь, словно с ней
приключился сильнейший припадок перемежающейся лихорадки, и, крепко обняв
Доротею, она сказала:
По любви волнам безбрежным,
Мореход любви, плыву я,
Но не светит мне надежда,
Что могу войти я в гавань.
Путь держу я за звездою,
Что мне издали сияет
Лучезарней и прекрасней,
Чем все звезды Паливуро[1].
Но ведет куда, не знаю,
Та звезда, -- плыву в смятенье:
Беззаботный, полн заботы,
Устремясь к ней всей душою.
Недоступность без предела,
Благонравье через меру --
Облака те, что скрывают
Блеск звезды от алчных взоров.
О звезда! Твоим сияньем
Лишь одним живу, дышу я.
И в тот миг, как ты погаснешь,
В тот же самый миг умру я!..
[1] Кормчий Энея в "Энеиде" Вергилия.
-- Ах, сеньора моей души и моей жизни, зачем вы разбудили меня? Самое
большое счастье, которое теперь судьба могла бы послать мне, было бы закрыть
глаза и уши, чтоб я не видела и не слышала этого несчастного певца.
-- Что ты говоришь, дитя? Подумай: тот, кто поет, как мне говорили, --
погонщик мулов.
-- Нет, он не погонщик мулов, -- ответила Клара, -- а обладатель сел и
местечек, и тем местом, которым он владеет в моем сердце, он владеет так
прочно, что если сам не откажется от него, оно останется за ним навеки.
Доротеа была изумлена страстной речью молодой девушки, так как ей
казалось, что слова эти далеко опередили то, что можно было бы ожидать от ее
столь юных лет, и потому она сказала:
-- Вы так говорите, сеньора Клара, что я не могу вас понять. Выразитесь
яснее и объясните мне, что вы хотели сказать вашими словами о сердце, селах
и местечках и о том певце, голос которого вас так смутил? Впрочем, не
говорите мне ничего теперь, потому что я не хотела бы, занявшись вашими
тревогами, лишиться удовольствия еще раз услышать того, кто так прекрасно
поет. Мне кажется, он запел новую песню и на новый мотив.
-- В добрый час, -- ответила Клара и, чтобы не слышать пения, заткнула
себе уши руками, что тоже очень удивило Доротею. Но, обратив внимание свое
на пение, она услышала следующее:
Надежда сладкая моя!
Когда, преграды все свергая пред собою,
Отвага юная твоя
Ведет тебя тобой начертанной тропою,
Не унывай, -- хотя б кругом
Грозила смерть и над тобой гремел бы гром!
Не тот, кто в неге утопал,
Иль кто главу клонил пугливо в день ненастья,
Восторг победы узнавал,--
Не тот вкусил, не тот и мог изведать счастье,
С судьбой бороться кто не смел,
Чей пленный дух в ленивой, сонной дреме млел.
Любовь права, что покупать
Дары свои ценой высокой заставляет:
Все то, на чем ее печать,--
Богатый клад, наш лучший клад собой являет!
Ведь издавна все знают: то,
Что стоит дешево -- и ценится в ничто.
Устойчивость в любви порой
Берет там верх, где всем казалось невозможно,
И я в борьбе с моей судьбой
Чрез грозный ряд препятствий твердо, непреложно,
И безбоязненно пройду,--
И небо на земле, надеюсь, обрету!
Тут голос умолк, и Клара принялась опять всхлипывать и вздыхать. Все
это разжигало желание Доротеи узнать причину столь сладостного пения и столь
горьких слез; итак, она снова спросила Клару, что хотела та рассказать ей
перед тем. Из опасения, чтобы ее не услышала Люсинда, Клара крепко прижалась
к Доротее, и, приблизив губы свои к ее уху так, чтобы быть уверенной, что
никто другой не услышит ее, она сказала:
-- Тот, кто поет, сеньора моя, -- сын одного кабальеро родом из
Арагонского королевства, владетель двух поместий, а жил он напротив дома
моего отца в столице, и хотя мой отец и занавешивал всегда зимою окна наши
полотном, а летом закрывал створчатыми ставнями, но не знаю, как и когда
этот кабальеро, еще ходивший учиться, увидел меня. Было ли это в церкви или
в другом месте, не могу сказать, но как бы то ни было он влюбился в меня и
дал мне это понять из окон своего дома таким обилием знаков и слез, что я
должна была поверить ему и даже полюбить его, хотя и не знала, чего он хочет
от меня. В числе знаков, которые он мне делал, он часто соединял одну руку с
другой, давая мне этим понять, что желал бы жениться на мне. Хотя я и была
бы очень рада, если б это случилось, но, ввиду того что я была одна, без
матери, я не знала, с кем мне посоветоваться; итак, я оставляла все, как оно
было, не выказывая ему другого благорасположения, кроме того, что в
отсутствие моего и его отца я приподнимала немного занавес или открывала
ставни, так что он мог видеть меня всю, а это приводило его в такой восторг,
что, казалось, он чуть ли не сходит с ума. Между тем подошло время отъезда
моего отца, о чем он узнал, но не от меня, так как я не имела возможности
говорить с ним, и он, как я потом слышала, заболел с горя. Поэтому я не
могла его видеть в день нашего отъезда, чтобы проститься с ним хотя бы
только взглядом. Но после двухдневного путешествия при входе на постоялый
двор в одном селе, отстоящем отсюда на день езды, я вдруг увидела его у
ворот в одежде погонщика мулов, и он сумел так хорошо переодеться, что если
б я не носила в душе его образа, то не могла бы узнать его. Узнав его, я
очень удивилась и обрадовалась, а он взглянул на меня тайком от моего отца,
от которого всегда прячется, когда проходит мимо нас по дороге и на
постоялых дворах, где мы останавливаемся. Но так как я знаю, кто он такой, и
вижу, что из любви ко мне он идет пешком и так утомляется, я умираю от
огорчения, и куда он -- туда и глаза мои. Не знаю, какие у него намерения и
как он убежал от своего отца, который необычайно любит его, потому что он
единственный его наследник и потому что он заслуживает этого, как вы сами,
милость ваша, убедитесь, когда увидите его. Еще могу сказать вам, что все,
что он поет, он берет из своей головы, потому что, я слышала, он очень
ученый и, кроме того, поэт; и вот еще что: всякий раз, как я его вижу или
когда слышу, как он поет, я вся дрожу и всегда ужасно боюсь, чтоб мой отец
не узнал его и наши чувства не стали бы ему известны. Во всю жизнь я не
сказала ему ни слова, но тем не менее люблю его так, что не могу жить без
него. Вот, сеньора моя, все, что я имела вам сообщить об этом певце, голос
которого вас так очаровал. Уже по одному этому вы можете судить, что он не
погонщик мулов, как вы сказали, а властитель душ и местечек, как говорила я.
-- Успокойтесь, сеньора донья Клара, -- сказала тогда Доротеа, целуя ее
тысячу раз. -- Успокойтесь, говорю я, и ждите, когда настанет утро, и тогда
я с помощью божьей надеюсь так устроить ваши дела, что они будут доведены до
счастливого конца, вполне заслуженного добрым их началом.
-- Ах, сеньора! -- сказала донья Клара. -- На какой счастливый конец
можно надеяться, если отец его до того знатен и богат, что не взял бы меня,
пожалуй, и в служанки к своему сыну, а не то что в жены. Выйти же замуж
тайком от моего отца -- этого я не сделаю ни за что на свете и желала бы
только одного: чтобы тот молодой человек вернулся к себе и оставил меня.
Быть может, не видя его, и на таком большом расстоянии, какое поставит между
нами путешествие, которое мы предприняли, теперешнее горе мое облегчится,
хотя я знаю, что это придуманное мною лекарство, о котором я говорю, не
очень-то мне поможет. Не понимаю, что за дьявол это устроил или каким путем
вошла в меня эта моя любовь, раз я еще так молода и он такой юный,-- потому
что в самом деле, я думаю, мы с ним одного возраста, а мне еще нет
шестнадцати лет и отец говорит, что они исполнятся лишь в День святого
Михаила.
Доротеа не могла удержаться от смеха, слушая, как совсем по-детски
говорила донья Клара, и она сказала ей:
-- Давайте уснем, сеньора, на короткое время, которое, как я думаю, еще
осталось от ночи, а Бог пошлет нам утро, и тогда все обернется хорошо, или
же руки мои окажутся плохи.
После этих слов обе заснули, и на постоялом дворе воцарилась глубокая
тишина. Не спали только хозяйская дочь и Мариторнес, ее служанка, так как
они знали о причудах, которыми грешил Дон Кихот, а также и о том, что он
стоит на страже у ворот постоялого двора верхом на коне и во всем
вооружении; и они сговорились сыграть с ним какую-нибудь шутку или, по
крайней мере, хоть несколько развлечься, слушая его нелепости.
Дело в том, что на постоялом дворе не было ни одного окна, которое
выходило бы в поле, исключая отверстия в чердачном помещении для соломы, из
которого ее выбрасывали. У этого-то отверстия встали две полудевы {Semi
doncellas -- в том смысле, что из двух одна лишь девушка, так как Мариторнес
ею не была.} и увидели, что Дон Кихот сидит верхом на лошади, опираясь на
свое копье и испуская время от времени столь глубокие и тяжкие вздохи, что,
казалось, с каждым из них у него разрывается сердце. Одновременно с этим они
услышали, что он говорит нежным, мягким и страстным голосом:
-- О моя сеньора, Дульсинея Тобосская! Венец всякой красоты, цвет и
блеск ума, вместилище изящества, сокровищница добродетели, словом,
олицетворение всего самого достойного, благородного и восхитительного, что
лишь существует на свете! Чем занята теперь милость твоя? Не обращены ли,
быть может, твои мысли на плененного тобою рыцаря, который, только чтобы
служить тебе, подвергается по доброй своей воле столь великим опасностям?
Дай мне весть о ней, о ты, светящая с тремя лицами! {Луна.} Быть может, ты с
завистью смотришь на ее лицо в то время как, прогуливаясь по какой-нибудь
галерее своих роскошных дворцов или прислонившись грудью к одному из
балконов, она обдумывает, каким образом ей, не роняя своей добродетели и
своего величия, облегчить муку, которую из-за нее терпит мое наболевшее
сердце, какою радостью уврачует она мои страданья, заменит спокойствием
тревоги мои, словом, как вернет меня от смерти к жизни и какую награду даст
мне за верную службу ей? И ты, солнце, которое, должно быть, уже торопишься
седлать своих коней, чтобы рано встать и пойти взглянуть на мою
повелительницу, умоляю тебя, лишь только ты ее увидишь, передай ей мой
привет! Но, увидав ее и передав мой привет, берегись поцеловать ее в лицо,
иначе я приревную тебя к ней сильнее, чем ты ревновал ту быстроногую и
неблагодарную {Т. е. Дафну -- по мифологии.}, что заставила тебя так много
бегать и потеть в долинах Фессалии или на берегах Пенея, уж не помню, где ты
тогда бегал, сгорая от любви и ревности.
Дон Кихот дошел до этого места своего столь грустного
разглагольствования, когда хозяйская дочь тихонько позвала его и шепнула:
-- Сеньор мой, подойдите-ка сюда, если вашей милости будет угодно.
На этот голос и обращение Дон Кихот повернул голову и при свете луны,
сиявшей в то время во всем своем блеске, увидел, что его зовут из отверстия
чердачного помещения, но отверстие это показалось ему окном, да еще с
золоченой решеткой, как этому и следовало быть в столь богатом замке, каким
ему казался постоялый двор. В ту же минуту его безумному воображению
представилось, что снова, как и в прошлый раз, красивая девушка, дочь
владетельницы замка, побежденная любовью, старается увлечь его, и с этой
мыслью -- чтобы не показаться невежливым и неблагодарным -- он повернул
Росинанта, подъехал ближе к чердачному отверстию и, лишь только увидел двух
девушек, сказал:
-- Жалею вас, прекрасная сеньора, что вы любовные свои помыслы обратили
туда, где невозможно вам найти такой ответ, какой заслуживали бы великие
ваши достоинства и ваше изящество. Но вы не должны винить в этом
злополучного странствующего рыцаря, которого любовь лишила возможности
отдать свое расположение другой, кроме той, которая с первого же мгновения,
как только его глаза увидели ее, сделалась неограниченной владычицей его
души. Простите же мне, благородная сеньора, удалитесь к себе в комнату и
будьте так добры не обнаруживать мне дальше ваших желаний, чтобы не
заставить меня казаться вам еще более неблагодарным. Если из-за любви,
которую вы ко мне питаете, вы найдете во мне что-либо другое, чем бы я мог
вас удовлетворить, -- только бы это не была ответная любовь, требуйте от
меня всего, и я клянусь сладкой моей отсутствующей неприятельницей
немедленно исполнить вашу просьбу, хотя бы вы просили у меня локон с головы
горгоны Медузы, у которой вместо волос были змеи, или даже солнечные лучи,
собранные в склянку.
-- Моей сеньоре ничего этого не нужно, господин кабальеро, -- сказала
тогда Мариторнес.
-- Что же нужно вашей сеньоре, рассудительная дуэнья? -- спросил Дон
Кихот.
-- Только одну из ваших прекрасных рук, -- ответила Мариторнес, --
чтобы она хоть этим успокоила страстное желание, приведшее ее сюда, к окну,
с такой опасностью для ее чести, так как, если бы отец ее узнал о том, он по
меньшей мере отрезал бы ей ухо.
-- Посмотрел бы я, -- ответил Дон Кихот, -- но пусть он поостережется
это делать, если не желает, чтобы его постиг самый гибельный конец,
когда-либо выпадавший в мире на долю отца за то, что он позволил себе
наложить руку на нежные члены своей влюбленной дочери!
Мариторнес не сомневалась, что Дон Кихот даст руку, которую она у него
просила, и, решив в своем уме, что она сделает с нею, спустилась с чердака и
побежала в конюшню, где взяла недоуздок осла Санчо Пансы и поспешно
вернулась на чердак, как раз в то время, когда Дон Кихот встал ногами на
седло Росинанта, чтобы достать до решетчатого окна, где, как он воображал,
находится раненная им в сердце девушка, и, протягивая ей руку, сказал:
-- Берите, сеньора, эту руку, или, вернее говоря, этот бич всех злодеев
в мире. Берите эту руку, говорю я, к которой не прикасалась еще никакая
женская рука и даже рука той, что владеет всем моим существом. Даю я вам мою
руку не для того, чтобы вы ее целовали, а чтоб посмотрели на сплетение ее
сухожилий, на твердость мускулов, на широту и развитие вен и из всего этого
могли бы вывести заключение, какая сила должна быть в этой руке.
-- Сейчас увидим это, -- сказала Мариторнес и, сделав мертвую петлю на
недоуздке, набросила ее ему на кисть руки и, отойдя от отверстия, привязала
другой конец ремня как можно крепче к засову чердачной двери.
Дон Кихот, почувствовав жесткую веревку вокруг кисти своей руки,
сказал:
-- Ваша милость, вы, кажется, скорее скоблите, чем гладите мою руку. Не
обращайтесь так дурно с нею; не она вина того зла, которое моя воля
причиняет вам. Нехорошо также, что вы на столь маленькую частицу обрушиваете
весь свой гнев. Подумайте и о том, что, кто истинно любит, не мстит так
жестоко.
Но уже некому было слушать все эти укоры Дон Кихота, потому что, лишь
только Мариторнес привязала его, она и другая девушка убежали, умирая со
смеху, оставив его привязанным таким образом, что он никак не мог
освободиться. Стоял он, как было сказано, на спине Росинанта, просунув всю
руку в отверстие помещения для соломы, с кистью руки крепко привязанной к
засову дверей, чувствуя величайший страх и тревогу при мысли, что, если
Росинант двинется в ту или другую сторону, ему придется повиснуть на руке;
итак, Дон Кихот не смел шевельнуться, хотя терпеливый и спокойный нрав
Росинанта давал право надеяться на то, что он простоит не двигаясь целое
столетие. Когда же рыцарь увидел, что он привязан и дамы уже ушли, он
вообразил, что все это дело волшебства, как и в прошлый раз, когда в том же
самом замке его избил очарованный мавр -- погонщик мулов; и он про себя
проклинал свое неразумие и неосторожность, так как, зная, что ему пришлось
плохо в этом замке в первый раз, он решился заехать сюда вторично, между тем
как у странствующих рыцарей правило: если они взялись за приключение и оно
им не удалось, считать это знаком того, что оно предназначено не для них, а
для других рыцарей и им нет надобности браться за него вторично. Тем не
менее Дон Кихот тянул свою руку, чтобы посмотреть, нельзя ли ее освободить,
но она была так хорошо привязана, что все его попытки оказались тщетными.
Правда и то, что он тянул осторожно из опасения, чтобы Росинант не двинулся,
и хотя ему очень хотелось опуститься и сесть в седло, но волей-неволей он
должен был продолжать стоять или оторвать себе руку. То он мечтал для себя о
мече Амадиса, против которого были бессильны всякие очарования; то проклинал
злую свою судьбу; то разрисовывал себе в ярких красках утрату, которую
потерпит мир от отсутствия его за то время, пока он очарован, а что он им
был, в этом он нимало не сомневался. То он снова вспоминал о возлюбленной
своей Дульсинее Тобосской, то он звал доброго своего оруженосца Санчо Пансу,
который, погруженный в сон, растянувшись на вьючном седле своего осла, не
помнил в ту минуту и о матери, которая его родила; то он призывал себе на
помощь волшебников Лиргандео и Алкифа; то молил о поддержке добрую свою
приятельницу Урганду, и, наконец, его застало утро в таком отчаянии и упадке
духа, что он ревел, как бык, потеряв надежду избавиться даже и днем от своей
муки, потому что считал ее вечной, а себя очарованным, в чем еще больше
убеждало его то, что Росинант во все время даже не шевельнулся. Он был
уверен, что ему и его лошади придется, не пивши, не евши и не спавши,
простоять таким образом до тех пор, пока не минует это дурное влияние
созвездий или же пока другой, более мудрый волшебник не снимет с них
очарования.
Когда тот, кто пел, дошел до этого места, Доротее пришло на мысль, что
было бы жаль, если бы Клара не услышала прекрасного этого голоса. Итак,
толкая ее тихонько, она разбудила ее, сказав:
-- Прости меня, дитя, что я тебя разбудила, но сделала я это, чтобы ты
насладилась лучшим голосом, который, быть может, ты когда-либо слышала в
своей жизни.
Клара проснулась и спросонья не поняла сначала, что ей говорила
Доротеа, и переспросила ее, в чем дело. Та повторила свои слова, после чего
Клара стала внимательно прислушиваться, но едва услышала она две строчки,
спетые певцом, как ее охватила такая странная дрожь, словно с ней
приключился сильнейший припадок перемежающейся лихорадки, и, крепко обняв
Доротею, она сказала:
По любви волнам безбрежным,
Мореход любви, плыву я,
Но не светит мне надежда,
Что могу войти я в гавань.
Путь держу я за звездою,
Что мне издали сияет
Лучезарней и прекрасней,
Чем все звезды Паливуро[1].
Но ведет куда, не знаю,
Та звезда, -- плыву в смятенье:
Беззаботный, полн заботы,
Устремясь к ней всей душою.
Недоступность без предела,
Благонравье через меру --
Облака те, что скрывают
Блеск звезды от алчных взоров.
О звезда! Твоим сияньем
Лишь одним живу, дышу я.
И в тот миг, как ты погаснешь,
В тот же самый миг умру я!..
[1] Кормчий Энея в "Энеиде" Вергилия.
-- Ах, сеньора моей души и моей жизни, зачем вы разбудили меня? Самое
большое счастье, которое теперь судьба могла бы послать мне, было бы закрыть
глаза и уши, чтоб я не видела и не слышала этого несчастного певца.
-- Что ты говоришь, дитя? Подумай: тот, кто поет, как мне говорили, --
погонщик мулов.
-- Нет, он не погонщик мулов, -- ответила Клара, -- а обладатель сел и
местечек, и тем местом, которым он владеет в моем сердце, он владеет так
прочно, что если сам не откажется от него, оно останется за ним навеки.
Доротеа была изумлена страстной речью молодой девушки, так как ей
казалось, что слова эти далеко опередили то, что можно было бы ожидать от ее
столь юных лет, и потому она сказала:
-- Вы так говорите, сеньора Клара, что я не могу вас понять. Выразитесь
яснее и объясните мне, что вы хотели сказать вашими словами о сердце, селах
и местечках и о том певце, голос которого вас так смутил? Впрочем, не
говорите мне ничего теперь, потому что я не хотела бы, занявшись вашими
тревогами, лишиться удовольствия еще раз услышать того, кто так прекрасно
поет. Мне кажется, он запел новую песню и на новый мотив.
-- В добрый час, -- ответила Клара и, чтобы не слышать пения, заткнула
себе уши руками, что тоже очень удивило Доротею. Но, обратив внимание свое
на пение, она услышала следующее:
Надежда сладкая моя!
Когда, преграды все свергая пред собою,
Отвага юная твоя
Ведет тебя тобой начертанной тропою,
Не унывай, -- хотя б кругом
Грозила смерть и над тобой гремел бы гром!
Не тот, кто в неге утопал,
Иль кто главу клонил пугливо в день ненастья,
Восторг победы узнавал,--
Не тот вкусил, не тот и мог изведать счастье,
С судьбой бороться кто не смел,
Чей пленный дух в ленивой, сонной дреме млел.
Любовь права, что покупать
Дары свои ценой высокой заставляет:
Все то, на чем ее печать,--
Богатый клад, наш лучший клад собой являет!
Ведь издавна все знают: то,
Что стоит дешево -- и ценится в ничто.
Устойчивость в любви порой
Берет там верх, где всем казалось невозможно,
И я в борьбе с моей судьбой
Чрез грозный ряд препятствий твердо, непреложно,
И безбоязненно пройду,--
И небо на земле, надеюсь, обрету!
Тут голос умолк, и Клара принялась опять всхлипывать и вздыхать. Все
это разжигало желание Доротеи узнать причину столь сладостного пения и столь
горьких слез; итак, она снова спросила Клару, что хотела та рассказать ей
перед тем. Из опасения, чтобы ее не услышала Люсинда, Клара крепко прижалась
к Доротее, и, приблизив губы свои к ее уху так, чтобы быть уверенной, что
никто другой не услышит ее, она сказала:
-- Тот, кто поет, сеньора моя, -- сын одного кабальеро родом из
Арагонского королевства, владетель двух поместий, а жил он напротив дома
моего отца в столице, и хотя мой отец и занавешивал всегда зимою окна наши
полотном, а летом закрывал створчатыми ставнями, но не знаю, как и когда
этот кабальеро, еще ходивший учиться, увидел меня. Было ли это в церкви или
в другом месте, не могу сказать, но как бы то ни было он влюбился в меня и
дал мне это понять из окон своего дома таким обилием знаков и слез, что я
должна была поверить ему и даже полюбить его, хотя и не знала, чего он хочет
от меня. В числе знаков, которые он мне делал, он часто соединял одну руку с
другой, давая мне этим понять, что желал бы жениться на мне. Хотя я и была
бы очень рада, если б это случилось, но, ввиду того что я была одна, без
матери, я не знала, с кем мне посоветоваться; итак, я оставляла все, как оно
было, не выказывая ему другого благорасположения, кроме того, что в
отсутствие моего и его отца я приподнимала немного занавес или открывала
ставни, так что он мог видеть меня всю, а это приводило его в такой восторг,
что, казалось, он чуть ли не сходит с ума. Между тем подошло время отъезда
моего отца, о чем он узнал, но не от меня, так как я не имела возможности
говорить с ним, и он, как я потом слышала, заболел с горя. Поэтому я не
могла его видеть в день нашего отъезда, чтобы проститься с ним хотя бы
только взглядом. Но после двухдневного путешествия при входе на постоялый
двор в одном селе, отстоящем отсюда на день езды, я вдруг увидела его у
ворот в одежде погонщика мулов, и он сумел так хорошо переодеться, что если
б я не носила в душе его образа, то не могла бы узнать его. Узнав его, я
очень удивилась и обрадовалась, а он взглянул на меня тайком от моего отца,
от которого всегда прячется, когда проходит мимо нас по дороге и на
постоялых дворах, где мы останавливаемся. Но так как я знаю, кто он такой, и
вижу, что из любви ко мне он идет пешком и так утомляется, я умираю от
огорчения, и куда он -- туда и глаза мои. Не знаю, какие у него намерения и
как он убежал от своего отца, который необычайно любит его, потому что он
единственный его наследник и потому что он заслуживает этого, как вы сами,
милость ваша, убедитесь, когда увидите его. Еще могу сказать вам, что все,
что он поет, он берет из своей головы, потому что, я слышала, он очень
ученый и, кроме того, поэт; и вот еще что: всякий раз, как я его вижу или
когда слышу, как он поет, я вся дрожу и всегда ужасно боюсь, чтоб мой отец
не узнал его и наши чувства не стали бы ему известны. Во всю жизнь я не
сказала ему ни слова, но тем не менее люблю его так, что не могу жить без
него. Вот, сеньора моя, все, что я имела вам сообщить об этом певце, голос
которого вас так очаровал. Уже по одному этому вы можете судить, что он не
погонщик мулов, как вы сказали, а властитель душ и местечек, как говорила я.
-- Успокойтесь, сеньора донья Клара, -- сказала тогда Доротеа, целуя ее
тысячу раз. -- Успокойтесь, говорю я, и ждите, когда настанет утро, и тогда
я с помощью божьей надеюсь так устроить ваши дела, что они будут доведены до
счастливого конца, вполне заслуженного добрым их началом.
-- Ах, сеньора! -- сказала донья Клара. -- На какой счастливый конец
можно надеяться, если отец его до того знатен и богат, что не взял бы меня,
пожалуй, и в служанки к своему сыну, а не то что в жены. Выйти же замуж
тайком от моего отца -- этого я не сделаю ни за что на свете и желала бы
только одного: чтобы тот молодой человек вернулся к себе и оставил меня.
Быть может, не видя его, и на таком большом расстоянии, какое поставит между
нами путешествие, которое мы предприняли, теперешнее горе мое облегчится,
хотя я знаю, что это придуманное мною лекарство, о котором я говорю, не
очень-то мне поможет. Не понимаю, что за дьявол это устроил или каким путем
вошла в меня эта моя любовь, раз я еще так молода и он такой юный,-- потому
что в самом деле, я думаю, мы с ним одного возраста, а мне еще нет
шестнадцати лет и отец говорит, что они исполнятся лишь в День святого
Михаила.
Доротеа не могла удержаться от смеха, слушая, как совсем по-детски
говорила донья Клара, и она сказала ей:
-- Давайте уснем, сеньора, на короткое время, которое, как я думаю, еще
осталось от ночи, а Бог пошлет нам утро, и тогда все обернется хорошо, или
же руки мои окажутся плохи.
После этих слов обе заснули, и на постоялом дворе воцарилась глубокая
тишина. Не спали только хозяйская дочь и Мариторнес, ее служанка, так как
они знали о причудах, которыми грешил Дон Кихот, а также и о том, что он
стоит на страже у ворот постоялого двора верхом на коне и во всем
вооружении; и они сговорились сыграть с ним какую-нибудь шутку или, по
крайней мере, хоть несколько развлечься, слушая его нелепости.
Дело в том, что на постоялом дворе не было ни одного окна, которое
выходило бы в поле, исключая отверстия в чердачном помещении для соломы, из
которого ее выбрасывали. У этого-то отверстия встали две полудевы {Semi
doncellas -- в том смысле, что из двух одна лишь девушка, так как Мариторнес
ею не была.} и увидели, что Дон Кихот сидит верхом на лошади, опираясь на
свое копье и испуская время от времени столь глубокие и тяжкие вздохи, что,
казалось, с каждым из них у него разрывается сердце. Одновременно с этим они
услышали, что он говорит нежным, мягким и страстным голосом:
-- О моя сеньора, Дульсинея Тобосская! Венец всякой красоты, цвет и
блеск ума, вместилище изящества, сокровищница добродетели, словом,
олицетворение всего самого достойного, благородного и восхитительного, что
лишь существует на свете! Чем занята теперь милость твоя? Не обращены ли,
быть может, твои мысли на плененного тобою рыцаря, который, только чтобы
служить тебе, подвергается по доброй своей воле столь великим опасностям?
Дай мне весть о ней, о ты, светящая с тремя лицами! {Луна.} Быть может, ты с
завистью смотришь на ее лицо в то время как, прогуливаясь по какой-нибудь
галерее своих роскошных дворцов или прислонившись грудью к одному из
балконов, она обдумывает, каким образом ей, не роняя своей добродетели и
своего величия, облегчить муку, которую из-за нее терпит мое наболевшее
сердце, какою радостью уврачует она мои страданья, заменит спокойствием
тревоги мои, словом, как вернет меня от смерти к жизни и какую награду даст
мне за верную службу ей? И ты, солнце, которое, должно быть, уже торопишься
седлать своих коней, чтобы рано встать и пойти взглянуть на мою
повелительницу, умоляю тебя, лишь только ты ее увидишь, передай ей мой
привет! Но, увидав ее и передав мой привет, берегись поцеловать ее в лицо,
иначе я приревную тебя к ней сильнее, чем ты ревновал ту быстроногую и
неблагодарную {Т. е. Дафну -- по мифологии.}, что заставила тебя так много
бегать и потеть в долинах Фессалии или на берегах Пенея, уж не помню, где ты
тогда бегал, сгорая от любви и ревности.
Дон Кихот дошел до этого места своего столь грустного
разглагольствования, когда хозяйская дочь тихонько позвала его и шепнула:
-- Сеньор мой, подойдите-ка сюда, если вашей милости будет угодно.
На этот голос и обращение Дон Кихот повернул голову и при свете луны,
сиявшей в то время во всем своем блеске, увидел, что его зовут из отверстия
чердачного помещения, но отверстие это показалось ему окном, да еще с
золоченой решеткой, как этому и следовало быть в столь богатом замке, каким
ему казался постоялый двор. В ту же минуту его безумному воображению
представилось, что снова, как и в прошлый раз, красивая девушка, дочь
владетельницы замка, побежденная любовью, старается увлечь его, и с этой
мыслью -- чтобы не показаться невежливым и неблагодарным -- он повернул
Росинанта, подъехал ближе к чердачному отверстию и, лишь только увидел двух
девушек, сказал:
-- Жалею вас, прекрасная сеньора, что вы любовные свои помыслы обратили
туда, где невозможно вам найти такой ответ, какой заслуживали бы великие
ваши достоинства и ваше изящество. Но вы не должны винить в этом
злополучного странствующего рыцаря, которого любовь лишила возможности
отдать свое расположение другой, кроме той, которая с первого же мгновения,
как только его глаза увидели ее, сделалась неограниченной владычицей его
души. Простите же мне, благородная сеньора, удалитесь к себе в комнату и
будьте так добры не обнаруживать мне дальше ваших желаний, чтобы не
заставить меня казаться вам еще более неблагодарным. Если из-за любви,
которую вы ко мне питаете, вы найдете во мне что-либо другое, чем бы я мог
вас удовлетворить, -- только бы это не была ответная любовь, требуйте от
меня всего, и я клянусь сладкой моей отсутствующей неприятельницей
немедленно исполнить вашу просьбу, хотя бы вы просили у меня локон с головы
горгоны Медузы, у которой вместо волос были змеи, или даже солнечные лучи,
собранные в склянку.
-- Моей сеньоре ничего этого не нужно, господин кабальеро, -- сказала
тогда Мариторнес.
-- Что же нужно вашей сеньоре, рассудительная дуэнья? -- спросил Дон
Кихот.
-- Только одну из ваших прекрасных рук, -- ответила Мариторнес, --
чтобы она хоть этим успокоила страстное желание, приведшее ее сюда, к окну,
с такой опасностью для ее чести, так как, если бы отец ее узнал о том, он по
меньшей мере отрезал бы ей ухо.
-- Посмотрел бы я, -- ответил Дон Кихот, -- но пусть он поостережется
это делать, если не желает, чтобы его постиг самый гибельный конец,
когда-либо выпадавший в мире на долю отца за то, что он позволил себе
наложить руку на нежные члены своей влюбленной дочери!
Мариторнес не сомневалась, что Дон Кихот даст руку, которую она у него
просила, и, решив в своем уме, что она сделает с нею, спустилась с чердака и
побежала в конюшню, где взяла недоуздок осла Санчо Пансы и поспешно
вернулась на чердак, как раз в то время, когда Дон Кихот встал ногами на
седло Росинанта, чтобы достать до решетчатого окна, где, как он воображал,
находится раненная им в сердце девушка, и, протягивая ей руку, сказал:
-- Берите, сеньора, эту руку, или, вернее говоря, этот бич всех злодеев
в мире. Берите эту руку, говорю я, к которой не прикасалась еще никакая
женская рука и даже рука той, что владеет всем моим существом. Даю я вам мою
руку не для того, чтобы вы ее целовали, а чтоб посмотрели на сплетение ее
сухожилий, на твердость мускулов, на широту и развитие вен и из всего этого
могли бы вывести заключение, какая сила должна быть в этой руке.
-- Сейчас увидим это, -- сказала Мариторнес и, сделав мертвую петлю на
недоуздке, набросила ее ему на кисть руки и, отойдя от отверстия, привязала
другой конец ремня как можно крепче к засову чердачной двери.
Дон Кихот, почувствовав жесткую веревку вокруг кисти своей руки,
сказал:
-- Ваша милость, вы, кажется, скорее скоблите, чем гладите мою руку. Не
обращайтесь так дурно с нею; не она вина того зла, которое моя воля
причиняет вам. Нехорошо также, что вы на столь маленькую частицу обрушиваете
весь свой гнев. Подумайте и о том, что, кто истинно любит, не мстит так
жестоко.
Но уже некому было слушать все эти укоры Дон Кихота, потому что, лишь
только Мариторнес привязала его, она и другая девушка убежали, умирая со
смеху, оставив его привязанным таким образом, что он никак не мог
освободиться. Стоял он, как было сказано, на спине Росинанта, просунув всю
руку в отверстие помещения для соломы, с кистью руки крепко привязанной к
засову дверей, чувствуя величайший страх и тревогу при мысли, что, если
Росинант двинется в ту или другую сторону, ему придется повиснуть на руке;
итак, Дон Кихот не смел шевельнуться, хотя терпеливый и спокойный нрав
Росинанта давал право надеяться на то, что он простоит не двигаясь целое
столетие. Когда же рыцарь увидел, что он привязан и дамы уже ушли, он
вообразил, что все это дело волшебства, как и в прошлый раз, когда в том же
самом замке его избил очарованный мавр -- погонщик мулов; и он про себя
проклинал свое неразумие и неосторожность, так как, зная, что ему пришлось
плохо в этом замке в первый раз, он решился заехать сюда вторично, между тем
как у странствующих рыцарей правило: если они взялись за приключение и оно
им не удалось, считать это знаком того, что оно предназначено не для них, а
для других рыцарей и им нет надобности браться за него вторично. Тем не
менее Дон Кихот тянул свою руку, чтобы посмотреть, нельзя ли ее освободить,
но она была так хорошо привязана, что все его попытки оказались тщетными.
Правда и то, что он тянул осторожно из опасения, чтобы Росинант не двинулся,
и хотя ему очень хотелось опуститься и сесть в седло, но волей-неволей он
должен был продолжать стоять или оторвать себе руку. То он мечтал для себя о
мече Амадиса, против которого были бессильны всякие очарования; то проклинал
злую свою судьбу; то разрисовывал себе в ярких красках утрату, которую
потерпит мир от отсутствия его за то время, пока он очарован, а что он им
был, в этом он нимало не сомневался. То он снова вспоминал о возлюбленной
своей Дульсинее Тобосской, то он звал доброго своего оруженосца Санчо Пансу,
который, погруженный в сон, растянувшись на вьючном седле своего осла, не
помнил в ту минуту и о матери, которая его родила; то он призывал себе на
помощь волшебников Лиргандео и Алкифа; то молил о поддержке добрую свою
приятельницу Урганду, и, наконец, его застало утро в таком отчаянии и упадке
духа, что он ревел, как бык, потеряв надежду избавиться даже и днем от своей
муки, потому что считал ее вечной, а себя очарованным, в чем еще больше
убеждало его то, что Росинант во все время даже не шевельнулся. Он был
уверен, что ему и его лошади придется, не пивши, не евши и не спавши,
простоять таким образом до тех пор, пока не минует это дурное влияние
созвездий или же пока другой, более мудрый волшебник не снимет с них
очарования.
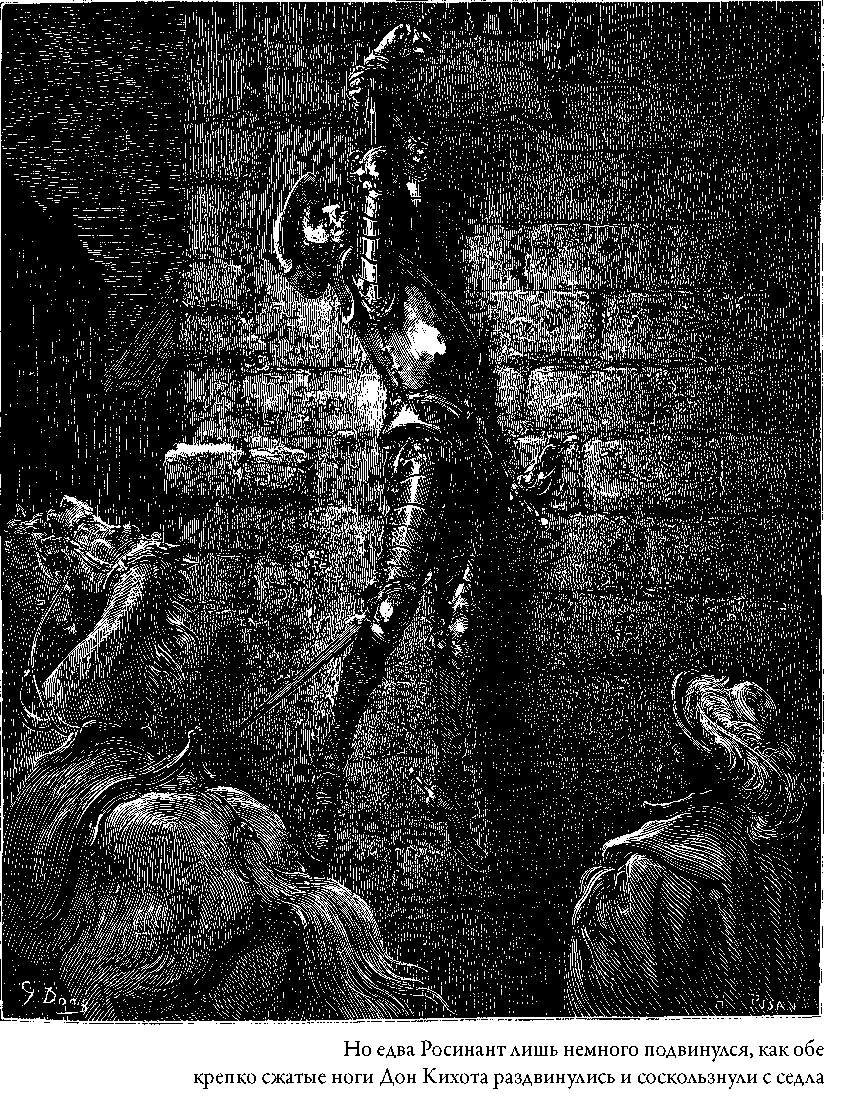 Но он весьма ошибся в своем предположении, потому что едва стало
рассветать, как к постоялому двору подъехало четверо всадников, хорошо
снаряженных и вооруженных, с винтовками на седельной луке. Они стали сильно
стучать в запертые ворота постоялого двора, и Дон Кихот, увидав это со своей
вышки, где он не переставал считать себя стоящим на страже, крикнул громким,
надменным голосом:
-- Рыцари и оруженосцы или кто бы вы ни были! Вы не имеете права
стучать в ворота этого замка, так как достаточно ясно, что в такие часы те,
которые находятся в замке, или спят, или же не имеют обыкновения открывать
ворота крепости прежде, чем солнце не обольет своими лучами всю землю.
Отъезжайте дальше и подождите, когда окончательно рассветет, и тогда увидим,
надо ли или нет открыть вам ворота.
-- Какой, к черту, это замок или какая это крепость, -- сказал один из
всадников, -- чтобы мы должны были соблюдать такие церемонии? Если вы хозяин
постоялого двора, то велите открыть нам. Мы проезжие и желаем только одного
-- покормить наших лошадей и ехать дальше, так как мы торопимся.
-- Неужели вы, рыцари, полагаете, что я похож на хозяина постоялого
двора? -- спросил Дон Кихот.
-- Не знаю, на кого вы похожи, но знаю, что вы говорите вздор, называя
этот постоялый двор замком.
-- Это замок, -- сказал Дон Кихот,-- и один из лучших во всей
провинции, и в этом замке находятся люди, которые держали скипетр в руках и
имели корону на голове.
-- Лучше было бы наоборот, -- сказал путешественник, -- скипетром по
голове и корона на руке {Он намекает на преступников, которым выжигали на
руке клеймо в виде короны.}. Должно быть -- если на то пошло дело, -- здесь
остановилась какая-нибудь труппа актеров, а у них часто бывают эти короны и
скипетры, о которых вы говорите, потому что на таком маленьком постоялом
дворе, где к тому же царит еще полная тишина, как здесь, я не поверю, чтобы
останавливались люди, достойные короны и скипетра.
-- Вы мало знаете свет, -- возразил Дон Кихот, -- так как вам ничего
неизвестно о приключениях, обыкновенно случающихся со странствующими
рыцарями.
Спутникам того, который задавал вопросы Дон Кихоту, прискучил их
разговор; поэтому они снова стали стучать с величайшей яростью, так что все
бывшие на постоялом дворе проснулись, а также и хозяин, который встал, чтобы
пойти узнать, кто там стучит.
Между тем случилось, что одно из верховых животных, на которых приехали
четверо стучавшихся в ворота, подошло обнюхать Росинанта, который с
грустно-задумчивым видом и с опущенными ушами держал, не шелохнувшись, на
своей спине вытянувшегося во весь рост господина своего. Но так как Росинант
хотя и казался из дерева, а все же был из плоти и костей, у него не хватило
сил оставаться непреклонным, и, в свою очередь, он стал обнюхивать того, кто
подошел к нему с этой лаской. Но едва он лишь немного подвинулся, как обе
крепко сжатые ноги Дон Кихота раздвинулись и соскользнули с седла, и он упал
бы на землю, если б не повис на руке. А это причинило ему такую боль, что он
подумал: или ему режут кисть, или же отрывают всю руку до плеча, потому что,
хотя он и повис так близко от земли, что чуть ли не касался ее кончиками
ног, но это обстоятельство служило лишь к ухудшению его положения, так как,
чувствуя, как мало ему остается, чтобы встать всей ступней на землю, он
напрягался и вытягивался изо всех сил, чтобы достать до земли, подобно тем,
которые подвергаются пытке гарруча {Garrucha -- одна из судебных пыток в
Испании, состоявшая в том, что обвиняемый подвешивался на ремнях на одной
руке, иногда на одной ноге, очень близко к земле и оставался в таком
положении столько времени, сколько назначал суд, пока от него не добивались
признания.}: поставленные так, будто касаются земли, они, не касаясь ее в
действительности, сами увеличивают свои страдания, так как напрягают все
силы вытянуться, обманутые льстящей им надеждой, что еще немного, -- и они
достанут до земли.
Но он весьма ошибся в своем предположении, потому что едва стало
рассветать, как к постоялому двору подъехало четверо всадников, хорошо
снаряженных и вооруженных, с винтовками на седельной луке. Они стали сильно
стучать в запертые ворота постоялого двора, и Дон Кихот, увидав это со своей
вышки, где он не переставал считать себя стоящим на страже, крикнул громким,
надменным голосом:
-- Рыцари и оруженосцы или кто бы вы ни были! Вы не имеете права
стучать в ворота этого замка, так как достаточно ясно, что в такие часы те,
которые находятся в замке, или спят, или же не имеют обыкновения открывать
ворота крепости прежде, чем солнце не обольет своими лучами всю землю.
Отъезжайте дальше и подождите, когда окончательно рассветет, и тогда увидим,
надо ли или нет открыть вам ворота.
-- Какой, к черту, это замок или какая это крепость, -- сказал один из
всадников, -- чтобы мы должны были соблюдать такие церемонии? Если вы хозяин
постоялого двора, то велите открыть нам. Мы проезжие и желаем только одного
-- покормить наших лошадей и ехать дальше, так как мы торопимся.
-- Неужели вы, рыцари, полагаете, что я похож на хозяина постоялого
двора? -- спросил Дон Кихот.
-- Не знаю, на кого вы похожи, но знаю, что вы говорите вздор, называя
этот постоялый двор замком.
-- Это замок, -- сказал Дон Кихот,-- и один из лучших во всей
провинции, и в этом замке находятся люди, которые держали скипетр в руках и
имели корону на голове.
-- Лучше было бы наоборот, -- сказал путешественник, -- скипетром по
голове и корона на руке {Он намекает на преступников, которым выжигали на
руке клеймо в виде короны.}. Должно быть -- если на то пошло дело, -- здесь
остановилась какая-нибудь труппа актеров, а у них часто бывают эти короны и
скипетры, о которых вы говорите, потому что на таком маленьком постоялом
дворе, где к тому же царит еще полная тишина, как здесь, я не поверю, чтобы
останавливались люди, достойные короны и скипетра.
-- Вы мало знаете свет, -- возразил Дон Кихот, -- так как вам ничего
неизвестно о приключениях, обыкновенно случающихся со странствующими
рыцарями.
Спутникам того, который задавал вопросы Дон Кихоту, прискучил их
разговор; поэтому они снова стали стучать с величайшей яростью, так что все
бывшие на постоялом дворе проснулись, а также и хозяин, который встал, чтобы
пойти узнать, кто там стучит.
Между тем случилось, что одно из верховых животных, на которых приехали
четверо стучавшихся в ворота, подошло обнюхать Росинанта, который с
грустно-задумчивым видом и с опущенными ушами держал, не шелохнувшись, на
своей спине вытянувшегося во весь рост господина своего. Но так как Росинант
хотя и казался из дерева, а все же был из плоти и костей, у него не хватило
сил оставаться непреклонным, и, в свою очередь, он стал обнюхивать того, кто
подошел к нему с этой лаской. Но едва он лишь немного подвинулся, как обе
крепко сжатые ноги Дон Кихота раздвинулись и соскользнули с седла, и он упал
бы на землю, если б не повис на руке. А это причинило ему такую боль, что он
подумал: или ему режут кисть, или же отрывают всю руку до плеча, потому что,
хотя он и повис так близко от земли, что чуть ли не касался ее кончиками
ног, но это обстоятельство служило лишь к ухудшению его положения, так как,
чувствуя, как мало ему остается, чтобы встать всей ступней на землю, он
напрягался и вытягивался изо всех сил, чтобы достать до земли, подобно тем,
которые подвергаются пытке гарруча {Garrucha -- одна из судебных пыток в
Испании, состоявшая в том, что обвиняемый подвешивался на ремнях на одной
руке, иногда на одной ноге, очень близко к земле и оставался в таком
положении столько времени, сколько назначал суд, пока от него не добивались
признания.}: поставленные так, будто касаются земли, они, не касаясь ее в
действительности, сами увеличивают свои страдания, так как напрягают все
силы вытянуться, обманутые льстящей им надеждой, что еще немного, -- и они
достанут до земли.

Глава XLIV, в которой продолжаются неслыханные приключения на постоялом дворе
 Действительно, Дон Кихот поднял такой крик, что хозяин, поспешно открыв
ворота постоялого двора, в испуге выбежал посмотреть, кто это так громко
кричит, и бывшие за воротами сделали то же самое. Мариторнес, тоже
проснувшаяся от этих криков, догадалась, в чем дело, бросилась на чердак,
где хранилась солома и так, что никто этого не заметил, отвязала недоуздок,
державший Дон Кихота, который тотчас же и свалился на землю на глазах
хозяина и приезжих. Все подбежали к нему спросить, что такое с ним, отчего
он так громко кричал. А Дон Кихот, не говоря ни слова, снял веревку с кисти
руки и, встав на ноги, взобрался на Росинанта, прикрылся щитом, взял
наперевес копье и, отъехав на довольно далекое расстояние, вернулся коротким
галопом, говоря:
-- Всякого, кто бы ни сказал, что я по справедливости был очарован --
лишь бы сеньора принцесса Микомикона дала мне на то разрешение, -- я назову
лжецом, потребую к ответу и вызову на поединок!
Вновь прибывшие путешественники были изумлены словами Дон Кихота, но
хозяин вывел их из этого изумления, объяснив им, кто такой Дон Кихот и что
незачем обращать на него внимание, так как он не в своем уме. Приезжие
спросили хозяина, не заходил ли случайно сюда юноша лет пятнадцати, одетый
погонщиком мулов, с такими и такими-то приметами, и описали все приметы
влюбленного в донью Клару. В ответ хозяин сказал, что на постоялом дворе у
него теперь очень много народу, поэтому он не помнит, видел он или нет того,
о ком они спрашивают; а один из верховых, увидав карету, в которой приехал
судья, сказал:
-- Он непременно должен быть здесь, потому что вот карета, за которой,
как нам сообщали, он идет вслед. Один из нас пусть останется здесь, у ворот,
а остальные войдут на постоялый двор и поищут его. И даже было бы хорошо,
если б один из нас обошел кругом весь постоялый двор, чтоб он не мог уйти со
двора через забор.
-- Давайте так и сделаем, -- сказал один из приезжих. И двое вошли во
двор, один остался у дверей, а четвертый стал ходить вокруг постоялого
двора. Все это видел хозяин, но не мог понять, что означают эти предпринятые
ими меры, хотя он и подумал, не ищут ли того юношу, приметы которого они ему
сообщили.
Между тем уже совсем рассвело, и поэтому, а также из-за шума,
произведенного Дон Кихотом, все проснулись и стали подыматься, особенно же
донья Клара и Доротеа, так как -- одна от волнения, что ее возлюбленный так
близко, а другая из желанья посмотреть на него -- очень плохо спали эту
ночь. Дон Кихот, видя, что никто из четырех приезжих не обращает на него
внимания и не отвечает на сделанный им вызов, изнемогал и неистовствовал от
досады и бешенства, и, если б он мог найти в уставе своего рыцарства, что
странствующему рыцарю дозволяется начать и предпринять другое приключение,
когда он дал слово и обещание не предпринимать ничего, пока не доведет до
конца раньше обещанного, он напал бы на всех четырех и против их воли
заставил бы их дать ему ответ. Но так как он считал несоответствующим и
неприличным для себя начинать новое предприятие, прежде чем он не вернет
Микомиконе ее королевства, ему не оставалось ничего другого, как только
молчать и спокойно ждать, чем кончатся поиски тех приезжих. Один из них
нашел юношу, которого искал, крепко спавшего рядом с погонщиком мулов и
нимало не воображавшего, что его могут искать и тем менее еще -- найти.
Человек тот схватил его за руку, говоря:
-- Несомненно, сеньор дон Люис, одежда, которая на вас, подходит как
нельзя больше к вашему званию, и постель, на которой я вас вижу, -- к той
заботливости, с какою мать ваша воспитала вас.
Юноша, протирая себе заспанные глаза, пристально взглянул на того, кто
держал его, и скоро признал в нем слугу своего отца, и это так сильно его
испугало, что он долгое время не мог или не хотел выговорить ни слова, а
слуга продолжал:
-- Теперь вам остается одно лишь, сеньор дон Люис: взять в руки
терпенье и вместе с нами отправиться домой, если только ваша милость не
желает, чтобы ваш отец и мой господин отправился на тот свет, так как ничего
другого нельзя ждать от того горя, которое причинило ему ваше отсутствие.
-- Но как же отец мой узнал, -- спросил дон Люис, -- что я ушел по этой
дороге и в этой одежде?
-- Студент, которому вы рассказали о своих намерениях, -- ответил
слуга,-- сообщил о них вашему отцу. Сделал он это из чувства сострадания к
горю нашего господина, когда вас не могли нигде найти. Итак, отец ваш послал
за вами четырех верховых, и вот мы все здесь, к вашим услугам, более
довольные, чем можно вообразить себе, успешным выполнением поручения, так
как мы, вернувшись домой, приведем вас на глаза тому, кто так сильно вас
любит.
-- Случится лишь то, что я пожелаю или что будет угодно небу, --
ответил дон Люис.
-- Что можете вы пожелать или что может быть угодно небу, за
исключением того, что вы согласитесь вернуться домой, -- так как ничто
другое немыслимо. Погонщик мулов, рядом с которым лежал дон Люис, слышал
весь этот разговор и, встав, пошел сообщить обо всем, что случилось, дону
Фернандо, Карденио и остальным, а они уже были одеты. Он сообщил им также,
что тот человек называет юношу доном, и передал весь разговор, происшедший
между ними, и то, что слуга настаивает, чтобы он вернулся домой к отцу, а
юноша отказывается. Все это вместе с тем, что им уже было известно о нем,
именно прекрасный голос, которым небо одарило его, вызвало в них сильное
желание подробнее узнать, кто он такой, а также оказать ему поддержку, если
б против него захотели употребить силу. Поэтому они отправились туда, где
молодой человек еще разговаривал и спорил со своим слугою. Между тем вышла
из комнаты Доротеа, а за ней сильно смущенная донья Клара. Отозвав в сторону
Карденио, Доротеа в кратких словах рассказала ему историю певца и доньи
Клары, а он сообщил ей о том, что случилось: о приезде слуг, посланных отцом
юноши разыскивать его. Сказал он это не так тихо, чтоб донья Клара не могла
услышать его слов, и они так взволновали ее, что, если б Доротеа не успела
поддержать ее, она упала бы прямо на пол. Карденио просил Доротею вернуться
с Кларой к себе в комнату, а он постарается все уладить; они так и сделали.
Все четверо слуг, посланных отыскивать Дона Люиса, вошли уже теперь на
постоялый двор и, окружив юношу, настаивали, чтобы он тотчас же, не медля ни
минуты, вернулся домой утешить своего отца. Но он ответил, что никоим
образом не может вернуться, пока не покончит с одним делом, от которого
зависит его честь, жизнь и душа. Слуги стали теснить его, говоря, что ни за
что не вернутся домой без него
и отвезут его туда по доброй его воле или силой.
-- Этого вы не сделаете, -- возразил дон Люис, -- если не хотите увезти
меня мертвым, хотя, как бы вы ни увезли меня, все равно вы лишите меня
жизни.
В это время подошли уже на ссору большинство находившихся на постоялом
дворе, в особенности же Карденио, дон Фернандо, его товарищи, судья,
священник, цирюльник и Дон Кихот, которому казалось, что нет больше нужды
стеречь замок. Карденио, знавший уже историю юноши, спросил тех, которые
желали увезти его, что побуждает их увозить с собой этого молодого человека
против его желания.
-- Нас побуждает к тому, -- ответил один из четырех, -- желание вернуть
жизнь его отцу, которому -- вследствие отсутствия этого кабальеро -- грозит
опасность потерять ее.
На это дон Люис сказал:
-- Считаю излишним, чтобы здесь распространялись о моих делах; я
свободен и вернусь, если пожелаю, а если нет,-- никто из вас не может
принудить меня к тому силой.
-- Вашу милость принудит к тому благоразумие, -- сказал слуга, -- если
же у вашей милости его недостаточно, у нас хватит его настолько, чтобы
исполнить то, для чего мы сюда приехали, и что велит нам наш долг.
-- Давайте исследуем это дело основательно, -- сказал судья.
Но слуга, знавший его, потому что он был их соседом по дому, ответил:
-- Разве, милость ваша сеньор оидор, вы не узнаете этого кабальеро,
сына вашего соседа, бежавшего из дома своего отца в одежде, столь
неприличествующей его званию, как вы это сами можете видеть?
Судья взглянул тогда на юношу внимательнее и, узнав, обнял его и
сказал:
-- Что это за ребяческие выходки, дон Люис? Или же какие столь важные
причины могли заставить вас путешествовать таким образом и в платье, столь
мало подходящем к вашему общественному положению?
Слезы выступили на глазах у юноши, и он не мог ответить ни слова. Судья
велел четырем слугам подождать, сказав им, что все устроится хорошо, и, взяв
за руку дона Люиса, отошел с ним в сторону и спросил его, почему он
предпринял путешествие сюда.
В то время как судья предлагал ему этот и другие вопросы, у ворот
постоялого двора раздались громкие крики, а причина их была та, что двое
приезжих, которые провели ночь на постоялом дворе, видя, что все заняты
желанием узнать, что такое ищут четверо слуг, возымели намерение уйти, не
заплатив за ночлег. Однако хозяин, следивший с гораздо большим вниманием за
своими делами, чем за чужими, задержал их, когда они выходили из ворот,
потребовал с них платы за постой и поносил их нечестное намерение такими
словами, что побудил их ответить ему кулаками; и они принялись за это дело
так усердно, что бедный хозяин был вынужден закричать и просить о помощи.
Хозяйка и ее дочь не видели никого незанятого, кто мог бы им помочь, кроме
Дон Кихота, и потому хозяйская дочь сказала ему:
-- Помогите, ваша милость, сеньор рыцарь, доблестью, дарованной вам
Богом, моему бедному отцу, которого двое злых людей молотят, как сноп хлеба.
На это Дон Кихот очень хладнокровно и с большим спокойствием ответил:
-- Прекрасная девушка, ваша просьба не может быть в настоящее время
принята во внимание, потому что мне воспрещено пускаться в новые
приключения, пока я не доведу до конца одно, исполнить которое я обязался
данным мною словом. Но, чтобы услужить вам, я смогу сделать то, что сейчас
скажу: бегите и передайте вашему отцу, чтобы он выдерживал это сражение
насколько возможно и ни в каком случае не давал бы себя победить, пока я не
испрошу разрешения у принцессы Микомиконы помочь ему в его затруднительном
положении, и, если она даст мне это разрешение, будьте уверены, что я выведу
его из беды.
-- Ах, грешная я! -- воскликнула Мариторнес, стоявшая тут же. Прежде
чем ваша милость получит разрешение, о котором вы говорите, господин мой
окажется уже на том свете!
-- Дозвольте мне только, сеньора, получить разрешение, о котором я
говорю, -- ответил Дон Кихот, -- а когда я его получу, не столь важно, если
ваш господин и окажется на том свете, потому что я и оттуда достану его
наперекор всему миру, если б он воспротивился тому, или же по меньшей мере я
так отомщу за вас тем, которые отправили его туда, что вы останетесь вполне
довольны.
Не сказав больше ни слова, он подошел к Доротее, опустился перед нею на
колени и попросил ее в выражениях рыцарских и отважных, не угодно ли будет
ее величию дать ему разрешение оказать помощь и поддержку начальнику этой
крепости, попавшему в великую беду. Принцесса охотно дала ему просимое
разрешение, и он тотчас же, продев щит на руку, взялся за меч и поспешил к
воротам, где двое постояльцев все еще наносили побои хозяину. Но лишь только
Дон Кихот дошел туда, он вдруг остановился и стоял в недоумении, хотя
Мариторнес и хозяйка спрашивали, отчего он медлит и пусть же скорей окажет
помощь их господину и мужу.
-- Я медлю оттого, -- сказал Дон Кихот, -- что мне не дозволено
обнажать меч против оруженосного люда; но позовите сюда моего оруженосца
Санчо, -- ему подобает и приличествует эта защита и мщение.
Это происходило у ворот постоялого двора, где пинки и кулачные удары
так и сыпались, и все в ущерб хозяину и к величайшему гневу Мариторнес,
хозяйки и ее дочери, приходивших в отчаяние при виде трусости Дон Кихота и
печального положения, в котором оказался их муж, господин и отец.
Но оставим их там, потому что найдется, кто ему поможет, а нет -- пусть
молчит и терпит тот, кто отваживается на большее, чем позволяют ему его
силы, и отойдем на пятьдесят шагов назад послушать, что ответил дон Люис
судье, когда тот отвел его в сторону, спрашивая о причине его путешествия
пешком и в столь жалкой одежде. На это юноша схватил его руки и крепко сжал,
словно в знак того, что сильное горе давит ему сердце, и, проливая обильные
слезы проговорил:
-- Сеньор мой, я могу сказать вам только одно: с той минуты, когда по
воле неба и благодаря нашему соседству я увидел сеньору донью Клару, вашу
дочь и мою повелительницу, с той же минуты она сделалась неограниченной
властительницей над моей волей, и если ваша воля, истинный отец и сеньор
мой, не воспротивится тому, сегодня же она сделается моей супругой. Для нее
покинул я дом отца моего, для нее надел я это платье, чтобы следовать за нею
всюду, как стрела направляется к своей цели или как мореход стремится за
путеводной звездой. Она не знает о моих желаниях более того, что могли
поведать ей иногда издали глаза мои, полные слез. Вам, сеньор, известно о
богатстве и знатности моих родителей и то, что я единственный их наследник.
Если вы думаете, что это достаточные преимущества, чтобы вы могли решиться
вполне осчастливить меня, то примите меня тотчас же своим сыном, потому что,
хотя бы даже мой отец, побуждаемый иными намерениями, отнесся бы
неблагосклонно к тому счастию, которое я сумел себе отыскать, всемогущее
время обладает большею властью переделывать и изменять события, чем
человеческая воля.
Сказав это, влюбленный юноша умолк, а судья, слушавший его, был
поражен, смущен и удивлен как остроумным способом, каким дон Люис открыл ему
свои чувства, так и тем положением, в котором он сам очутился, не зная, как
ему поступить в столь неожиданных для него обстоятельствах. Поэтому он
ничего другого не ответил, как только просил его пока успокоиться и убедить
своих слуг не увозить его сегодня, чтобы иметь время хорошенько обсудить,
что в интересах всех было бы лучше всего сделать. Дон Люис поцеловал ему
руки насильно и даже оросил их слезами, что могло бы смягчить и мраморное
сердце, а не только сердце судьи, который, как умный человек, сразу понял,
насколько этот брак был бы хорош для его дочери, хотя он и желал бы, если б
оказалось возможным, осуществить его с согласия отца дона-Люиса, а этот
последний, как он знал, имел в виду доставить сыну высокое общественное
положение.
Между тем двое проезжих уже помирились с хозяином, так как они скорее
благодаря увещеваниям и добрым словам Дон Кихота, чем вследствие угроз,
заплатили хозяину все, что он требовал от них. Слуги дона Люиса ждали, чем
кончится разговор его с судьей и к какому решению придет молодой их
господин, как вдруг дьявол, который никогда не спит, повел дело таким
образом, что в это самое время на постоялый двор зашел цирюльник, у которого
Дон Кихот отнял шлем Мамбрино, а Санчо Панса -- сбрую его осла, обменяв ее
на сбрую своего Серого. В то время как цирюльник отводил осла своего в
конюшню, он здесь увидел Санчо Пансу, чинившего вьючное седло. Лишь только
он увидел это седло, тотчас же он узнал его и отважно бросился на Санчо,
говоря:
-- А! Дон вор, попались вы мне в руки! Давайте-ка сюда мой таз и мое
вьючное седло со всей сбруей, которую вы у меня украли!
Санчо, видя, что на него так неожиданно напали, и услыхав обращенные к
нему бранные слова, одной рукой схватился за седло, а другой нанес
цирюльнику такой удар, что кровь потекла у него изо рта. Но, несмотря на
это, цирюльник все же не выпустил из рук свою добычу и, крепко держа седло,
закричал таким громким голосом, что все бывшие на постоялом дворе прибежали
на этот шум и ссору.
-- Сюда! Во имя короля и правосудия! -- кричал цирюльник. -- Я желаю
вернуть себе свою собственность, а этот вор, этот грабитель на больших
дорогах хочет убить меня!
-- Ты лжешь, -- ответил Санчо, -- я не грабитель на больших дорогах,
потому что мой господин, Дон Кихот, взял добычу эту в честном бою.
Дон Кихот, присутствовавший тут же, был очень доволен, видя, как хорошо
защищается и нападает его оруженосец, и с этого времени и впредь он стал
считать его человеком храбрым и решил в сердце своем, при первом же
представившемся случае посвятить его в рыцари, так как ему казалось, что он
не осрамит рыцарское звание. В числе остальных доводов в свою защиту
цирюльник во время ссоры, между прочим, сказал:
-- Сеньоры, это вьючное седло так же несомненно мое, как и смерть,
должником которой я состою перед Богом, и я знаю этот вьюк так хорошо, как
если бы я сам его родил, и вот и осел мой в конюшне, который не даст мне
солгать. А не верите -- прикиньте к нему седло, и если оно не придется как
вылитое, пусть я буду подлецом на всю жизнь. И еще вот что: в тот же самый
день, когда у меня отняли вьюк, у меня отняли также и новый медный таз, ни
разу не бывший в употреблении и стоивший добрых полчервонца.
Тут Дон Кихот не мог дольше сдержаться, чтобы не ответить, и, встав
между двумя спорившими и разделив их, положил седло на землю, чтобы все
могли видеть его, пока не выяснится истина, и сказал:
-- Все вы, милости ваши, видите несомненное и очевидное заблуждение, в
которое впал этот добрый оруженосец, так как он называет тазом то, что было,
есть и будет шлемом Мамбрино, который я у него отнял в честном бою и
обладателем которого сделался законным и дозволенным путем. Что же касается
вьючного седла, я в это не вмешиваюсь; и относительно его могу сказать
только то, что мой оруженосец Санчо просил у меня позволения снять сбрую с
коня побежденного этого труса и украсить им своего коня. Я дал ему просимое
разрешение, и он взял сбрую. Что же касается того, что сбруя превратилась во
вьючное седло, не могу указать другой причины, кроме столь обычной, а
именно: такого рода превращения часто случаются в делах рыцарства. А для
подтверждения сказанного беги, Санчо, сын, и принеси сюда шлем, который
добрый этот человек считает тазом.
-- Ей-богу, сеньор, -- сказал Санчо,-- если у нас нет другого
доказательства нашего мнения, чем то, на которое указывает ваша милость, то
шлем Малино {Санчо говорит Малино вместо Мамбрино.}[ ]такой же таз, как и
сбруя этого доброго человека -- вьючное седло.
-- Делай то, что я тебе приказываю, -- ответил Дон Кихот, ведь не все
же вещи в этом замке находятся во власти волшебства.
Санчо пошел за тазом, принес его, и, как только Дон Кихот его увидел,
он взял таз в руки и сказал:
-- Посмотрите, ваши милости, с какими глазами мог этот оруженосец
уверять, будто это вот таз для бритья, а не шлем, как я говорил? Клянусь
рыцарским орденом, к которому принадлежу: это тот самый шлем, который я у
него отнял, и я ничего к нему не прибавлял и не убавлял.
-- В этом не может быть сомнения,-- сказал Санчо, -- так как с тех пор,
что мой господин завоевал этот шлем, он надевал его в одном лишь сражении,
когда освободил несчастных колодников, и не будь тогда у него этого
таза-шлема, ему пришлось бы плохо, потому что в той схватке не было
недостатка в бросании каменьями.
Действительно, Дон Кихот поднял такой крик, что хозяин, поспешно открыв
ворота постоялого двора, в испуге выбежал посмотреть, кто это так громко
кричит, и бывшие за воротами сделали то же самое. Мариторнес, тоже
проснувшаяся от этих криков, догадалась, в чем дело, бросилась на чердак,
где хранилась солома и так, что никто этого не заметил, отвязала недоуздок,
державший Дон Кихота, который тотчас же и свалился на землю на глазах
хозяина и приезжих. Все подбежали к нему спросить, что такое с ним, отчего
он так громко кричал. А Дон Кихот, не говоря ни слова, снял веревку с кисти
руки и, встав на ноги, взобрался на Росинанта, прикрылся щитом, взял
наперевес копье и, отъехав на довольно далекое расстояние, вернулся коротким
галопом, говоря:
-- Всякого, кто бы ни сказал, что я по справедливости был очарован --
лишь бы сеньора принцесса Микомикона дала мне на то разрешение, -- я назову
лжецом, потребую к ответу и вызову на поединок!
Вновь прибывшие путешественники были изумлены словами Дон Кихота, но
хозяин вывел их из этого изумления, объяснив им, кто такой Дон Кихот и что
незачем обращать на него внимание, так как он не в своем уме. Приезжие
спросили хозяина, не заходил ли случайно сюда юноша лет пятнадцати, одетый
погонщиком мулов, с такими и такими-то приметами, и описали все приметы
влюбленного в донью Клару. В ответ хозяин сказал, что на постоялом дворе у
него теперь очень много народу, поэтому он не помнит, видел он или нет того,
о ком они спрашивают; а один из верховых, увидав карету, в которой приехал
судья, сказал:
-- Он непременно должен быть здесь, потому что вот карета, за которой,
как нам сообщали, он идет вслед. Один из нас пусть останется здесь, у ворот,
а остальные войдут на постоялый двор и поищут его. И даже было бы хорошо,
если б один из нас обошел кругом весь постоялый двор, чтоб он не мог уйти со
двора через забор.
-- Давайте так и сделаем, -- сказал один из приезжих. И двое вошли во
двор, один остался у дверей, а четвертый стал ходить вокруг постоялого
двора. Все это видел хозяин, но не мог понять, что означают эти предпринятые
ими меры, хотя он и подумал, не ищут ли того юношу, приметы которого они ему
сообщили.
Между тем уже совсем рассвело, и поэтому, а также из-за шума,
произведенного Дон Кихотом, все проснулись и стали подыматься, особенно же
донья Клара и Доротеа, так как -- одна от волнения, что ее возлюбленный так
близко, а другая из желанья посмотреть на него -- очень плохо спали эту
ночь. Дон Кихот, видя, что никто из четырех приезжих не обращает на него
внимания и не отвечает на сделанный им вызов, изнемогал и неистовствовал от
досады и бешенства, и, если б он мог найти в уставе своего рыцарства, что
странствующему рыцарю дозволяется начать и предпринять другое приключение,
когда он дал слово и обещание не предпринимать ничего, пока не доведет до
конца раньше обещанного, он напал бы на всех четырех и против их воли
заставил бы их дать ему ответ. Но так как он считал несоответствующим и
неприличным для себя начинать новое предприятие, прежде чем он не вернет
Микомиконе ее королевства, ему не оставалось ничего другого, как только
молчать и спокойно ждать, чем кончатся поиски тех приезжих. Один из них
нашел юношу, которого искал, крепко спавшего рядом с погонщиком мулов и
нимало не воображавшего, что его могут искать и тем менее еще -- найти.
Человек тот схватил его за руку, говоря:
-- Несомненно, сеньор дон Люис, одежда, которая на вас, подходит как
нельзя больше к вашему званию, и постель, на которой я вас вижу, -- к той
заботливости, с какою мать ваша воспитала вас.
Юноша, протирая себе заспанные глаза, пристально взглянул на того, кто
держал его, и скоро признал в нем слугу своего отца, и это так сильно его
испугало, что он долгое время не мог или не хотел выговорить ни слова, а
слуга продолжал:
-- Теперь вам остается одно лишь, сеньор дон Люис: взять в руки
терпенье и вместе с нами отправиться домой, если только ваша милость не
желает, чтобы ваш отец и мой господин отправился на тот свет, так как ничего
другого нельзя ждать от того горя, которое причинило ему ваше отсутствие.
-- Но как же отец мой узнал, -- спросил дон Люис, -- что я ушел по этой
дороге и в этой одежде?
-- Студент, которому вы рассказали о своих намерениях, -- ответил
слуга,-- сообщил о них вашему отцу. Сделал он это из чувства сострадания к
горю нашего господина, когда вас не могли нигде найти. Итак, отец ваш послал
за вами четырех верховых, и вот мы все здесь, к вашим услугам, более
довольные, чем можно вообразить себе, успешным выполнением поручения, так
как мы, вернувшись домой, приведем вас на глаза тому, кто так сильно вас
любит.
-- Случится лишь то, что я пожелаю или что будет угодно небу, --
ответил дон Люис.
-- Что можете вы пожелать или что может быть угодно небу, за
исключением того, что вы согласитесь вернуться домой, -- так как ничто
другое немыслимо. Погонщик мулов, рядом с которым лежал дон Люис, слышал
весь этот разговор и, встав, пошел сообщить обо всем, что случилось, дону
Фернандо, Карденио и остальным, а они уже были одеты. Он сообщил им также,
что тот человек называет юношу доном, и передал весь разговор, происшедший
между ними, и то, что слуга настаивает, чтобы он вернулся домой к отцу, а
юноша отказывается. Все это вместе с тем, что им уже было известно о нем,
именно прекрасный голос, которым небо одарило его, вызвало в них сильное
желание подробнее узнать, кто он такой, а также оказать ему поддержку, если
б против него захотели употребить силу. Поэтому они отправились туда, где
молодой человек еще разговаривал и спорил со своим слугою. Между тем вышла
из комнаты Доротеа, а за ней сильно смущенная донья Клара. Отозвав в сторону
Карденио, Доротеа в кратких словах рассказала ему историю певца и доньи
Клары, а он сообщил ей о том, что случилось: о приезде слуг, посланных отцом
юноши разыскивать его. Сказал он это не так тихо, чтоб донья Клара не могла
услышать его слов, и они так взволновали ее, что, если б Доротеа не успела
поддержать ее, она упала бы прямо на пол. Карденио просил Доротею вернуться
с Кларой к себе в комнату, а он постарается все уладить; они так и сделали.
Все четверо слуг, посланных отыскивать Дона Люиса, вошли уже теперь на
постоялый двор и, окружив юношу, настаивали, чтобы он тотчас же, не медля ни
минуты, вернулся домой утешить своего отца. Но он ответил, что никоим
образом не может вернуться, пока не покончит с одним делом, от которого
зависит его честь, жизнь и душа. Слуги стали теснить его, говоря, что ни за
что не вернутся домой без него
и отвезут его туда по доброй его воле или силой.
-- Этого вы не сделаете, -- возразил дон Люис, -- если не хотите увезти
меня мертвым, хотя, как бы вы ни увезли меня, все равно вы лишите меня
жизни.
В это время подошли уже на ссору большинство находившихся на постоялом
дворе, в особенности же Карденио, дон Фернандо, его товарищи, судья,
священник, цирюльник и Дон Кихот, которому казалось, что нет больше нужды
стеречь замок. Карденио, знавший уже историю юноши, спросил тех, которые
желали увезти его, что побуждает их увозить с собой этого молодого человека
против его желания.
-- Нас побуждает к тому, -- ответил один из четырех, -- желание вернуть
жизнь его отцу, которому -- вследствие отсутствия этого кабальеро -- грозит
опасность потерять ее.
На это дон Люис сказал:
-- Считаю излишним, чтобы здесь распространялись о моих делах; я
свободен и вернусь, если пожелаю, а если нет,-- никто из вас не может
принудить меня к тому силой.
-- Вашу милость принудит к тому благоразумие, -- сказал слуга, -- если
же у вашей милости его недостаточно, у нас хватит его настолько, чтобы
исполнить то, для чего мы сюда приехали, и что велит нам наш долг.
-- Давайте исследуем это дело основательно, -- сказал судья.
Но слуга, знавший его, потому что он был их соседом по дому, ответил:
-- Разве, милость ваша сеньор оидор, вы не узнаете этого кабальеро,
сына вашего соседа, бежавшего из дома своего отца в одежде, столь
неприличествующей его званию, как вы это сами можете видеть?
Судья взглянул тогда на юношу внимательнее и, узнав, обнял его и
сказал:
-- Что это за ребяческие выходки, дон Люис? Или же какие столь важные
причины могли заставить вас путешествовать таким образом и в платье, столь
мало подходящем к вашему общественному положению?
Слезы выступили на глазах у юноши, и он не мог ответить ни слова. Судья
велел четырем слугам подождать, сказав им, что все устроится хорошо, и, взяв
за руку дона Люиса, отошел с ним в сторону и спросил его, почему он
предпринял путешествие сюда.
В то время как судья предлагал ему этот и другие вопросы, у ворот
постоялого двора раздались громкие крики, а причина их была та, что двое
приезжих, которые провели ночь на постоялом дворе, видя, что все заняты
желанием узнать, что такое ищут четверо слуг, возымели намерение уйти, не
заплатив за ночлег. Однако хозяин, следивший с гораздо большим вниманием за
своими делами, чем за чужими, задержал их, когда они выходили из ворот,
потребовал с них платы за постой и поносил их нечестное намерение такими
словами, что побудил их ответить ему кулаками; и они принялись за это дело
так усердно, что бедный хозяин был вынужден закричать и просить о помощи.
Хозяйка и ее дочь не видели никого незанятого, кто мог бы им помочь, кроме
Дон Кихота, и потому хозяйская дочь сказала ему:
-- Помогите, ваша милость, сеньор рыцарь, доблестью, дарованной вам
Богом, моему бедному отцу, которого двое злых людей молотят, как сноп хлеба.
На это Дон Кихот очень хладнокровно и с большим спокойствием ответил:
-- Прекрасная девушка, ваша просьба не может быть в настоящее время
принята во внимание, потому что мне воспрещено пускаться в новые
приключения, пока я не доведу до конца одно, исполнить которое я обязался
данным мною словом. Но, чтобы услужить вам, я смогу сделать то, что сейчас
скажу: бегите и передайте вашему отцу, чтобы он выдерживал это сражение
насколько возможно и ни в каком случае не давал бы себя победить, пока я не
испрошу разрешения у принцессы Микомиконы помочь ему в его затруднительном
положении, и, если она даст мне это разрешение, будьте уверены, что я выведу
его из беды.
-- Ах, грешная я! -- воскликнула Мариторнес, стоявшая тут же. Прежде
чем ваша милость получит разрешение, о котором вы говорите, господин мой
окажется уже на том свете!
-- Дозвольте мне только, сеньора, получить разрешение, о котором я
говорю, -- ответил Дон Кихот, -- а когда я его получу, не столь важно, если
ваш господин и окажется на том свете, потому что я и оттуда достану его
наперекор всему миру, если б он воспротивился тому, или же по меньшей мере я
так отомщу за вас тем, которые отправили его туда, что вы останетесь вполне
довольны.
Не сказав больше ни слова, он подошел к Доротее, опустился перед нею на
колени и попросил ее в выражениях рыцарских и отважных, не угодно ли будет
ее величию дать ему разрешение оказать помощь и поддержку начальнику этой
крепости, попавшему в великую беду. Принцесса охотно дала ему просимое
разрешение, и он тотчас же, продев щит на руку, взялся за меч и поспешил к
воротам, где двое постояльцев все еще наносили побои хозяину. Но лишь только
Дон Кихот дошел туда, он вдруг остановился и стоял в недоумении, хотя
Мариторнес и хозяйка спрашивали, отчего он медлит и пусть же скорей окажет
помощь их господину и мужу.
-- Я медлю оттого, -- сказал Дон Кихот, -- что мне не дозволено
обнажать меч против оруженосного люда; но позовите сюда моего оруженосца
Санчо, -- ему подобает и приличествует эта защита и мщение.
Это происходило у ворот постоялого двора, где пинки и кулачные удары
так и сыпались, и все в ущерб хозяину и к величайшему гневу Мариторнес,
хозяйки и ее дочери, приходивших в отчаяние при виде трусости Дон Кихота и
печального положения, в котором оказался их муж, господин и отец.
Но оставим их там, потому что найдется, кто ему поможет, а нет -- пусть
молчит и терпит тот, кто отваживается на большее, чем позволяют ему его
силы, и отойдем на пятьдесят шагов назад послушать, что ответил дон Люис
судье, когда тот отвел его в сторону, спрашивая о причине его путешествия
пешком и в столь жалкой одежде. На это юноша схватил его руки и крепко сжал,
словно в знак того, что сильное горе давит ему сердце, и, проливая обильные
слезы проговорил:
-- Сеньор мой, я могу сказать вам только одно: с той минуты, когда по
воле неба и благодаря нашему соседству я увидел сеньору донью Клару, вашу
дочь и мою повелительницу, с той же минуты она сделалась неограниченной
властительницей над моей волей, и если ваша воля, истинный отец и сеньор
мой, не воспротивится тому, сегодня же она сделается моей супругой. Для нее
покинул я дом отца моего, для нее надел я это платье, чтобы следовать за нею
всюду, как стрела направляется к своей цели или как мореход стремится за
путеводной звездой. Она не знает о моих желаниях более того, что могли
поведать ей иногда издали глаза мои, полные слез. Вам, сеньор, известно о
богатстве и знатности моих родителей и то, что я единственный их наследник.
Если вы думаете, что это достаточные преимущества, чтобы вы могли решиться
вполне осчастливить меня, то примите меня тотчас же своим сыном, потому что,
хотя бы даже мой отец, побуждаемый иными намерениями, отнесся бы
неблагосклонно к тому счастию, которое я сумел себе отыскать, всемогущее
время обладает большею властью переделывать и изменять события, чем
человеческая воля.
Сказав это, влюбленный юноша умолк, а судья, слушавший его, был
поражен, смущен и удивлен как остроумным способом, каким дон Люис открыл ему
свои чувства, так и тем положением, в котором он сам очутился, не зная, как
ему поступить в столь неожиданных для него обстоятельствах. Поэтому он
ничего другого не ответил, как только просил его пока успокоиться и убедить
своих слуг не увозить его сегодня, чтобы иметь время хорошенько обсудить,
что в интересах всех было бы лучше всего сделать. Дон Люис поцеловал ему
руки насильно и даже оросил их слезами, что могло бы смягчить и мраморное
сердце, а не только сердце судьи, который, как умный человек, сразу понял,
насколько этот брак был бы хорош для его дочери, хотя он и желал бы, если б
оказалось возможным, осуществить его с согласия отца дона-Люиса, а этот
последний, как он знал, имел в виду доставить сыну высокое общественное
положение.
Между тем двое проезжих уже помирились с хозяином, так как они скорее
благодаря увещеваниям и добрым словам Дон Кихота, чем вследствие угроз,
заплатили хозяину все, что он требовал от них. Слуги дона Люиса ждали, чем
кончится разговор его с судьей и к какому решению придет молодой их
господин, как вдруг дьявол, который никогда не спит, повел дело таким
образом, что в это самое время на постоялый двор зашел цирюльник, у которого
Дон Кихот отнял шлем Мамбрино, а Санчо Панса -- сбрую его осла, обменяв ее
на сбрую своего Серого. В то время как цирюльник отводил осла своего в
конюшню, он здесь увидел Санчо Пансу, чинившего вьючное седло. Лишь только
он увидел это седло, тотчас же он узнал его и отважно бросился на Санчо,
говоря:
-- А! Дон вор, попались вы мне в руки! Давайте-ка сюда мой таз и мое
вьючное седло со всей сбруей, которую вы у меня украли!
Санчо, видя, что на него так неожиданно напали, и услыхав обращенные к
нему бранные слова, одной рукой схватился за седло, а другой нанес
цирюльнику такой удар, что кровь потекла у него изо рта. Но, несмотря на
это, цирюльник все же не выпустил из рук свою добычу и, крепко держа седло,
закричал таким громким голосом, что все бывшие на постоялом дворе прибежали
на этот шум и ссору.
-- Сюда! Во имя короля и правосудия! -- кричал цирюльник. -- Я желаю
вернуть себе свою собственность, а этот вор, этот грабитель на больших
дорогах хочет убить меня!
-- Ты лжешь, -- ответил Санчо, -- я не грабитель на больших дорогах,
потому что мой господин, Дон Кихот, взял добычу эту в честном бою.
Дон Кихот, присутствовавший тут же, был очень доволен, видя, как хорошо
защищается и нападает его оруженосец, и с этого времени и впредь он стал
считать его человеком храбрым и решил в сердце своем, при первом же
представившемся случае посвятить его в рыцари, так как ему казалось, что он
не осрамит рыцарское звание. В числе остальных доводов в свою защиту
цирюльник во время ссоры, между прочим, сказал:
-- Сеньоры, это вьючное седло так же несомненно мое, как и смерть,
должником которой я состою перед Богом, и я знаю этот вьюк так хорошо, как
если бы я сам его родил, и вот и осел мой в конюшне, который не даст мне
солгать. А не верите -- прикиньте к нему седло, и если оно не придется как
вылитое, пусть я буду подлецом на всю жизнь. И еще вот что: в тот же самый
день, когда у меня отняли вьюк, у меня отняли также и новый медный таз, ни
разу не бывший в употреблении и стоивший добрых полчервонца.
Тут Дон Кихот не мог дольше сдержаться, чтобы не ответить, и, встав
между двумя спорившими и разделив их, положил седло на землю, чтобы все
могли видеть его, пока не выяснится истина, и сказал:
-- Все вы, милости ваши, видите несомненное и очевидное заблуждение, в
которое впал этот добрый оруженосец, так как он называет тазом то, что было,
есть и будет шлемом Мамбрино, который я у него отнял в честном бою и
обладателем которого сделался законным и дозволенным путем. Что же касается
вьючного седла, я в это не вмешиваюсь; и относительно его могу сказать
только то, что мой оруженосец Санчо просил у меня позволения снять сбрую с
коня побежденного этого труса и украсить им своего коня. Я дал ему просимое
разрешение, и он взял сбрую. Что же касается того, что сбруя превратилась во
вьючное седло, не могу указать другой причины, кроме столь обычной, а
именно: такого рода превращения часто случаются в делах рыцарства. А для
подтверждения сказанного беги, Санчо, сын, и принеси сюда шлем, который
добрый этот человек считает тазом.
-- Ей-богу, сеньор, -- сказал Санчо,-- если у нас нет другого
доказательства нашего мнения, чем то, на которое указывает ваша милость, то
шлем Малино {Санчо говорит Малино вместо Мамбрино.}[ ]такой же таз, как и
сбруя этого доброго человека -- вьючное седло.
-- Делай то, что я тебе приказываю, -- ответил Дон Кихот, ведь не все
же вещи в этом замке находятся во власти волшебства.
Санчо пошел за тазом, принес его, и, как только Дон Кихот его увидел,
он взял таз в руки и сказал:
-- Посмотрите, ваши милости, с какими глазами мог этот оруженосец
уверять, будто это вот таз для бритья, а не шлем, как я говорил? Клянусь
рыцарским орденом, к которому принадлежу: это тот самый шлем, который я у
него отнял, и я ничего к нему не прибавлял и не убавлял.
-- В этом не может быть сомнения,-- сказал Санчо, -- так как с тех пор,
что мой господин завоевал этот шлем, он надевал его в одном лишь сражении,
когда освободил несчастных колодников, и не будь тогда у него этого
таза-шлема, ему пришлось бы плохо, потому что в той схватке не было
недостатка в бросании каменьями.

Глава XLV, в которой окончательно разъясняются сомнения по поводу шлема
Мамбрино и вьючного седла, а также рассказывается и о других истинных происшествиях
 -- Что скажете вы теперь, милости ваши сеньоры, -- воскликнул
цирюльник, -- на то, что эти высокородные господа утверждают и даже
настаивают, будто бы это не таз для бритья, а шлем?
-- Тому, кто станет утверждать противное, -- сказал Дон Кихот, -- я
докажу, что он лжет, если он рыцарь; а если он оруженосец, -- что он тысячу
раз лжет!
Наш цирюльник, который тоже присутствовал при всем этом, хорошо зная
причуды Дон Кихота, захотел поощрить его сумасбродство и провести дальше
шутку, чтобы заставить всех смеяться, и потому, обращаясь к чужому
цирюльнику, он сказал:
-- Сеньор цирюльник, или кто бы вы ни были, знайте, что и я тоже
принадлежу к вашей профессии, более
двадцати лет имею свидетельство о сдаче экзамена и отлично знаком со
всеми до одного инструментами цирюльничьего ремесла; сверх того, я был в
моей молодости одно время солдатом и знаю также, что такое шлем, что такое
шишак, и шлем с забралом, и другие вещи, относящиеся к военному делу, именно
к разного рода солдатскому оружию, и скажу, с вашего позволения, -- всегда
готовый подчиниться более вескому мнению,-- что вот эта вещь, находящаяся
тут перед нами и которую добрый тот сеньор держит в руках, не только не
цирюльничий таз, но так же далека от того, чтобы им быть, как черное далеко
от белого и правда от лжи. Вместе с тем я скажу, что хотя это и шлем, но не
полный шлем.
-- Действительно, это не полный шлем, -- объявил Дон Кихот, -- потому
что тут недостает половины его, именно всего забрала.
-- Совершенно верно, -- сказал священник, который уже понял намерение
своего приятеля цирюльника; то же самое подтвердил Карденио, дон Фернандо и
его товарищи; и даже судья -- если б дело с доном Люисом не погрузило его в
такое раздумье, -- со своей стороны, поддержал бы эту шутку; но серьезные
мысли, занимавшие его, до того им овладели, что он очень мало или вовсе не
обратил внимания на все затеи.
-- Помоги мне господи! -- воскликнул тогда одураченный цирюльник. --
Возможно ли, чтоб столько почтенных людей утверждали, что это не таз, а
шлем? Это такого рода вещь, которая могла бы привести в изумление целый
университет, как бы он ни был умен. Ну, хорошо, если вот этот таз -- шлем, и
вьючное седло тоже должно быть конской сбруей, как сказал этот сеньор.
-- Мне оно кажется вьючным седлом, -- сказал Дон Кихот, -- но я уже
говорил, что в это я не вмешиваюсь.
-- Вьючное ли это седло или конская сбруя, -- заявил священник, -- этот
вопрос мы предоставляем решить Дон Кихоту, так как в рыцарских делах эти
сеньоры и я, мы должны уступить ему пальму первенства.
-- Клянусь Богом, сеньоры мои,-- сказал Дон Кихот, -- столько и такие
странные вещи приключились со мной в этом замке оба раза, когда я здесь
останавливался, что я не отваживаюсь с уверенностью отвечать на какой бы то
ни было вопрос относительно того, что в нем находится, так как я думаю, что
все происходящее здесь совершается путем волшебства. В первый раз
очарованный мавр, пребывающий здесь, очень досаждал мне, и Санчо также
досталось немало от некоторых из его свиты, а сегодня ночью я почти два часа
провисел на этой руке, не понимая, как и каким образом я попал в такую беду.
И поэтому вмешиваться в столь затруднительное дело и высказать о нем свое
мнение значило бы подвергнуться опасности произнести опрометчивое суждение.
Относительно того, что здесь говорилось, будто вот это таз, а не шлем, я уже
ответил; что же касается решения вопроса, вьючное ли это седло или конская
сбруя, я не осмеливаюсь высказать окончательного мнения, но предоставляю это
благоусмотрению милостей ваших. Быть может, оттого что вы не посвящены в
рыцари, как я посвящен, волшебства этого замка не коснутся вас и вы,
сохранив свободное разумение, будете в состоянии судить о происходящих здесь
вещах, каковы они на самом деле и в действительности, а не так, как они мне
представляются.
-- Нет сомнения, -- ответил на это дон Фернандо, -- сеньор Дон Кихот
сейчас очень хорошо сказал, что решение этого вопроса принадлежит нам; и,
чтобы все было более обосновано, я отберу тайно голоса этих сеньоров, а о
том, что выйдет из этого, дам полный и ясный отчет.
Для всех, знакомых с причудами Дон Кихота, все происходившее казалось в
высшей степени смешным; те же, которым ничего не было известно, сочли это за
величайшую нелепость в мире, особенно же четверо слуг дона Люиса, не менее
их и сам дон Люис, а также еще и трое приезжих, случайно зашедших на
постоялый двор и с виду походивших на куадрильеро {Куадрильеросы --
должностные лица Св. эрмандады; узнавались по тому, что были вооружены
самострелами; они были уполномочены совершать быстрый суд над разбойниками и
грабителями на больших дорогах, пойманных на месте преступления.}, какими
они на самом деле и были. Но тот, кто больше всех пришел в отчаяние, был
цирюльник, таз для бритья которого тут же на глазах у него превратился в
шлем Мамбрино и который не сомневался, что и вьючному седлу его предстоит
превратиться в богатую конскую сбрую. И те и другие смеялись, видя, как дон
Фернандо обходит всех и отбирает голоса, говоря им на ухо, чтобы они
тихонько сказали ему мнение свое, вьючное ли седло или конская сбруя та
драгоценность, о которой было столько препирательств; затем, собрав голоса у
всех, знавших Дон Кихота, он громко заявил:
-- Дело в том, добрый человек, что я уже устал собирать столько мнений,
так как вижу, у кого бы я ни спросил о том,
0 чем желаю узнать, все отвечают мне, что нелепо говорить, будто это
вьючное седло осла, а не конская сбруя, да еще с породистого коня. Итак, вам
придется вооружиться терпением, потому что наперекор вам и вашему ослу это
конская сбруя, а не вьючное седло и вы очень дурно повели свое дело и
потеряли его.
-- Пусть я потеряю и царствие небесное, -- сказал бедный цирюльник, --
если вы все, милости ваши, не ошибаетесь; так же верно, как душа моя
предстанет перед судом Божьим, верно и то, что это вьючное седло, а не
конская сбруя; но законы клонят туда и так далее {Alia van leyes do quieren
Reyes -- "Законы клонят туда, куда желают короли", старинная испанская
пословица, сложившаяся, судя по преданию, во времена короля Алфонса VI
(1085--1109).}, -- больше ничего не скажу; и, право же, я не пьян, так как
сегодня воздержался если не от греха, то от того, чтобы взять что-либо в
рот.
Глупые речи цирюльника вызвали не меньше смеха, чем нелепости Дон
Кихота, который теперь заявил:
-- Здесь нечего больше делать, пусть каждый возьмет то, что ему
принадлежит, и, что кому Бог послал, святой Петр благословит.
Один из четырех слуг сказал:
-- Если это не преднамеренная шутка, никак не могу понять, чтобы люди,
столь рассудительные или кажущиеся ими, как все здесь присутствующие,
осмелились бы говорить и утверждать, что это вот не таз, а то вот не вьючное
седло. Но так как я вижу, что они это и утверждают, и говорят, мне ясно: тут
какая-то тайна в этом упорном настаивании на утверждении, столь
противоречащем тому, чему нас учит сама действительность и опыт; и поэтому
клянусь тем-то (и он отпустил очень крепкое словечко), что никто из всех
живущих на свете не мог бы убедить меня, будто это не цирюльничий таз, а то
не вьючное седло осла.
-- Оно могло бы оказаться седлом ослицы, -- сказал священник.
-- Пусть себе, -- ответил слуга,-- не в этом дело, а в том, вьючное ли
это седло или нет, как вы, ваши милости, утверждаете.
Услыхав это, один из только что прибывших куадрильеро, который
присутствовал при этом споре и переговорах, воскликнул, исполненный гнева и
досады:
-- Так же верно, что это вьючное седло, как и мой отец -- мне отец, и
тот, кто сказал или скажет что-либо иное, должно быть, пьян.
-- Ты лжешь, как последний негодяй, -- крикнул Дон Кихот и, подняв
копье, которое он никогда не выпускал из рук, нанес им по голове куадрильеро
такой удар, что, если б тот не увернулся, он уложил бы его на месте. Копье
разлетелось вдребезги, ударившись о землю; остальные же куадрильеросы, видя,
как плохо обходятся с их товарищем, стали громко звать на помощь Святую
эрмандаду. Хозяин, принадлежавший тоже к этому братству, немедленно побежал
за своим жезлом и мечом и встал рядом со своими товарищами. Слуги дона Люиса
окружили молодого своего сеньора, чтобы он не убежал, воспользовавшись
наставшей суматохой. Цирюльник, видя, что весь дом в таком переполохе, снова
схватился за свой вьюк, то же сделал и Санчо. Дон Кихот обнажил меч и
бросился на куадрильеро; дон Люис приказал своим слугам оставить его и
поспешить на помощь к Дон Кихоту, Карденио и дону Фернандо, которые все
приняли сторону Дон Кихота. Священник кричал, хозяйка вопила, дочь ее
вздыхала, Мариторнес плакала, Доротеа смутилась, Люсинда испугалась, а донья
Клара упала в обморок. Цирюльник бил Санчо, Санчо тузил цирюльника; дон
Люис, которого один из его слуг осмелился схватить за руку, чтобы он не
убежал, нанес слуге такой удар кулаком, что рот у того наполнился кровью;
судья взял его под свою защиту. Один из куадрильеро очутился под ногами у
дона Фернандо, который, не стесняясь, измерял ими все его тело в свое
удовольствие; хозяин стал снова громко звать на помощь Святую эрмандаду, так
что весь постоялый двор превратился в плач, крик, вопль, тревогу, испуг,
ужас, бедствие, тумаки, пинки, удары палками и ногами и кровопролитие. Среди
этого хаоса, шума и сумятицы Дон Кихоту пришла вдруг в голову мысль, что он
окунулся в распри и раздор в лагере Аграманта {Распря в лагере короля
Аграманта, предводителя языческой армии при осаде Парижа, описана в XXVII
песни "Неистового Роланда" Ариосто.}, и поэтому он голосом, прогремевшим по
всему постоялому двору, крикнул:
-- Остановитесь все! Положите оружие, успокойтесь и выслушайте меня,
если только дорожите жизнью!
Услыхав этот громкий возглас, все утихли, и Дон Кихот продолжал:
-- Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот очарован и что, должно
быть, легион демонов обитает в нем? В подтверждение сказанному я бы желал,
чтобы вы собственными глазами своими убедились, что сюда перенесена и
поселилась среди нас распря, бывшая в лагере Аграманта. Смотрите, как там
сражаются из-за меча, здесь -- из-за коня, тут -- из-за орла, дальше --
из-за шлема, и все мы сражаемся, и все не понимаем друг друга. Поэтому идите
сюда, ваша милость, сеньор судья, и вы, милость ваша, сеньор священник,
пусть один из вас изобразит собой короля Аграманта, а другой -- короля
Собрино, и восстановите среди нас мир; так как, клянусь именем всемогущего
Бога, великое преступление, чтобы столько знатных людей, сколько нас здесь,
убивали друг друга из-за таких ничего не стоящих причин.
Куадрильеросы, которые не понимали фразеологии Дон Кихота и видели, что
с ними так сурово обошлись дон Фернандо, Карденио и их товарищи, не захотели
успокоиться; цирюльникже был на все готов, так как во время схватки ему
вырвали бороду и порвали его вьючное седло; Санчо, как верный слуга, при
первом же слове своего господина тотчас же повиновался ему; четверо слуг
дона Люиса тоже оставались спокойны, убедившись, как им мало пользы от
обратного, и лишь один хозяин упорно настаивал, что следует наказать
дерзость этого сумасшедшего, который на каждом шагу вносит переполох в его
постоялый двор. Наконец шум улегся, и вьючное седло так и осталось, в
воображении Дон Кихота до дня Страшного суда конской сбруей, таз -- шлемом и
постоялый двор -- замком.
Теперь, когда был восстановлен мир, и все снова стали друзьями
благодаря увещеваниям судьи и священника, слуги дона Люиса принялись опять
настаивать, чтобы он немедленно ехал с ними домой, а пока он вел с ними
переговоры, судья посоветовался с доном Фернандо, Карденио и священником,
как ему лучше поступить в данном случае, и сообщил им все, что дон Люис
сказал ему. Наконец было решено, что дон Фернандо откроет слугам дона Люиса,
кто он, и сообщит о своем желании, чтобы дон Люис ехал вместе с ним в
Андалузию, где юноша будет принят его братом-маркизом с тем вниманием и
уважением, которые он заслуживает, так как всем известно о решении Дона
Люиса не возвращаться теперь на глаза к своему отцу, хотя бы его и разорвали
на куски. Узнав об общественном положении дона Фернандо и о решении дона
Люиса, слуги так условились между собой: трое из них вернутся домой
рассказать обо всем, что произошло отцу, четвертый же останется служить дону
Люису и будет находиться при нем, пока они все не вернутся за ним или не
узнают, как им прикажет поступить его отец. Таким образом, благодаря
авторитету Аграманта и мудрости короля Собрино {Благодаря значению короля
Аграманта и советам короля Собрино был наконец восстановлен мир в лагере
осаждающих ("Неистовый Роланд", песнь XXVII).}, улеглась эта вереница ссор;
но заклятый враг согласия и противник мира {Т. е. дьявол.}, увидав, как он
посрамлен и осмеян и как мало он извлек выгоды из всего этого лабиринта
смут, в который он завлек их, решил еще раз приложить свою руку и вызвать
новые ссоры и распри. Дело в том, что куадрильеросы, узнав о звании людей, с
которыми у них вышло столкновение, успокоились и устранились от ссоры, так
как хорошо понимали, что, каков бы ни был исход битвы, все равно в проигрыше
остались бы они. Но один из куадрильеро, тот самый, которого топтал и бил
дон Фернандо, вспомнил, что в числе приказов об аресте некоторых
преступников, которые он имел при себе, был также и приказ о Дон Кихоте,
которого Святая эрмандада велела арестовать за то, что он освободил галерных
невольников, как Санчо столь основательно и опасался того. Вспомнив о
приказе, куадрильеро захотел убедиться, подходят ли приметы к Дон Кихоту, и,
вынув из-за пазухи пергаментный сверток, нашел в нем то, что искал, и,
принявшись медленно читать его -- так как он не был искусным грамотеем, --
при каждом слове, которое читал, смотрел на Дон Кихота и, сравнивая приметы
приказа с наружностью рыцаря, убедился, что, несомненно, бумага относится
именно к Дон Кихоту. Лишь только он убедился в этом, как, свернув пергамент,
взял в левую руку приказ, а правой схватил за шиворот Дон Кихота с такой
силой, что тот едва мог дышать, причем куадрильеро громко закричал:
-- На помощь! Во имя Святой эрмандады! И чтобы вы видели, что я не
шучу, прочтите приказ, которым повелевается арестовать этого разбойника на
больших дорогах.
Священник взял приказ и убедился, что куадрильеро говорит правду и что
приметы подходят к Дон Кихоту, который, видя, как плохо обходится с ним этот
низкий негодяй, вспыхнул страшным гневом и изо всех сил обеими руками
схватил куадрильеро за горло так, что, если бы товарищи того не поспели к
нему на помощь, он расстался бы с жизнью прежде, чем Дон Кихот выпустил из
рук свою добычу. Хозяин, который был обязан содействовать своим товарищам по
должности, тотчас же бросился к ним на помощь. Хозяйка, увидав, что ее муж
опять ввязался в ссору, принялась снова кричать, и ей вторили дочь ее и
Мариторнес, прося помощи у неба и у всех, кто там был. Санчо, глядя на то,
что происходит, сказал:
-- Клянусь Богом! Правда то, что господин мой говорит о волшебстве в
этом замке, так как нельзя прожить в нем и часу спокойно.
Дон Фернандо разнял куадрильеро и Дон Кихота и, к обоюдному их
удовольствию, разжал им руки, которыми один крепко ухватился за ворот
камзола, а другой -- за горло своего противника. Но тем не менее
куадрильеросы не переставали требовать своей добычи и содействия
присутствующих, чтобы те связали его и передали бы в их руки, как к тому
обязывает служба, королю и Святой эрмандаде, именем которой они снова просят
о поддержке и помощи для ареста этого грабителя и разбойника по проселочным
и большим дорогам. Дон Кихот рассмеялся, услышав эти слова, и с величайшим
спокойствием сказал:
-- Идите-ка сюда, грязный и подлый люд! Разбоем на больших дорогах
называете вы дать свободу закованным в кандалы, выпустить на волю
заключенных, помочь несчастным, поднять павших, поддержать нуждающихся? Ах,
гнусные люди, заслуживающие своим низменным, жалким пониманием, чтобы небо
скрыло от вас доблесть, заключающуюся в странствующем рыцарстве, и не дало
уразуметь грех и невежество, в которых вы коснеете, не благоговея перед
тенью, а тем более перед действительным присутствием странствующего рыцаря!
Идите-ка сюда вы, братья по воровству, а не члены братства, грабители на
больших дорогах с разрешения Святой эрмандады; скажите мне: кто тот неуч,
подписавший приказ об аресте такого рыцаря, как я? Кто он, не знавший, что
странствующие рыцари не подлежат никаким судебным учреждениям, что их закон
-- меч, их привилегия -- доблесть, их уставы -- собственная их воля? Кто тот
тупоумный, спрашиваю я опять, не ведавший, что нет той дворянской грамоты,
которая давала бы такие права и льготы, какие приобретает странствующий
рыцарь в тот день, когда его посвящают и он вступает в трудное отправление
рыцарских обязанностей? Какой странствующий рыцарь платил подать, налоги,
сбор на булавки королевы {Сбор по случаю бракосочетания короля.}, дань
королю, таможенные пошлины и речной сбор? Какой портной предъявлял ему счет
за шитье платья? Какой кастелян, приняв в свой замок, заставил его платить
за постой? Какой король не приглашал его за свой стол? Какая девушка не
влюблялась в него и не отдавалась ему на полную волю и власть? И, наконец,
какой был, есть и будет странствующий рыцарь на свете, у которого не хватит
отваги и пылу дать четыреста палочных ударов четыремстам куадрильеро, если
они встанут на его дороге?
-- Что скажете вы теперь, милости ваши сеньоры, -- воскликнул
цирюльник, -- на то, что эти высокородные господа утверждают и даже
настаивают, будто бы это не таз для бритья, а шлем?
-- Тому, кто станет утверждать противное, -- сказал Дон Кихот, -- я
докажу, что он лжет, если он рыцарь; а если он оруженосец, -- что он тысячу
раз лжет!
Наш цирюльник, который тоже присутствовал при всем этом, хорошо зная
причуды Дон Кихота, захотел поощрить его сумасбродство и провести дальше
шутку, чтобы заставить всех смеяться, и потому, обращаясь к чужому
цирюльнику, он сказал:
-- Сеньор цирюльник, или кто бы вы ни были, знайте, что и я тоже
принадлежу к вашей профессии, более
двадцати лет имею свидетельство о сдаче экзамена и отлично знаком со
всеми до одного инструментами цирюльничьего ремесла; сверх того, я был в
моей молодости одно время солдатом и знаю также, что такое шлем, что такое
шишак, и шлем с забралом, и другие вещи, относящиеся к военному делу, именно
к разного рода солдатскому оружию, и скажу, с вашего позволения, -- всегда
готовый подчиниться более вескому мнению,-- что вот эта вещь, находящаяся
тут перед нами и которую добрый тот сеньор держит в руках, не только не
цирюльничий таз, но так же далека от того, чтобы им быть, как черное далеко
от белого и правда от лжи. Вместе с тем я скажу, что хотя это и шлем, но не
полный шлем.
-- Действительно, это не полный шлем, -- объявил Дон Кихот, -- потому
что тут недостает половины его, именно всего забрала.
-- Совершенно верно, -- сказал священник, который уже понял намерение
своего приятеля цирюльника; то же самое подтвердил Карденио, дон Фернандо и
его товарищи; и даже судья -- если б дело с доном Люисом не погрузило его в
такое раздумье, -- со своей стороны, поддержал бы эту шутку; но серьезные
мысли, занимавшие его, до того им овладели, что он очень мало или вовсе не
обратил внимания на все затеи.
-- Помоги мне господи! -- воскликнул тогда одураченный цирюльник. --
Возможно ли, чтоб столько почтенных людей утверждали, что это не таз, а
шлем? Это такого рода вещь, которая могла бы привести в изумление целый
университет, как бы он ни был умен. Ну, хорошо, если вот этот таз -- шлем, и
вьючное седло тоже должно быть конской сбруей, как сказал этот сеньор.
-- Мне оно кажется вьючным седлом, -- сказал Дон Кихот, -- но я уже
говорил, что в это я не вмешиваюсь.
-- Вьючное ли это седло или конская сбруя, -- заявил священник, -- этот
вопрос мы предоставляем решить Дон Кихоту, так как в рыцарских делах эти
сеньоры и я, мы должны уступить ему пальму первенства.
-- Клянусь Богом, сеньоры мои,-- сказал Дон Кихот, -- столько и такие
странные вещи приключились со мной в этом замке оба раза, когда я здесь
останавливался, что я не отваживаюсь с уверенностью отвечать на какой бы то
ни было вопрос относительно того, что в нем находится, так как я думаю, что
все происходящее здесь совершается путем волшебства. В первый раз
очарованный мавр, пребывающий здесь, очень досаждал мне, и Санчо также
досталось немало от некоторых из его свиты, а сегодня ночью я почти два часа
провисел на этой руке, не понимая, как и каким образом я попал в такую беду.
И поэтому вмешиваться в столь затруднительное дело и высказать о нем свое
мнение значило бы подвергнуться опасности произнести опрометчивое суждение.
Относительно того, что здесь говорилось, будто вот это таз, а не шлем, я уже
ответил; что же касается решения вопроса, вьючное ли это седло или конская
сбруя, я не осмеливаюсь высказать окончательного мнения, но предоставляю это
благоусмотрению милостей ваших. Быть может, оттого что вы не посвящены в
рыцари, как я посвящен, волшебства этого замка не коснутся вас и вы,
сохранив свободное разумение, будете в состоянии судить о происходящих здесь
вещах, каковы они на самом деле и в действительности, а не так, как они мне
представляются.
-- Нет сомнения, -- ответил на это дон Фернандо, -- сеньор Дон Кихот
сейчас очень хорошо сказал, что решение этого вопроса принадлежит нам; и,
чтобы все было более обосновано, я отберу тайно голоса этих сеньоров, а о
том, что выйдет из этого, дам полный и ясный отчет.
Для всех, знакомых с причудами Дон Кихота, все происходившее казалось в
высшей степени смешным; те же, которым ничего не было известно, сочли это за
величайшую нелепость в мире, особенно же четверо слуг дона Люиса, не менее
их и сам дон Люис, а также еще и трое приезжих, случайно зашедших на
постоялый двор и с виду походивших на куадрильеро {Куадрильеросы --
должностные лица Св. эрмандады; узнавались по тому, что были вооружены
самострелами; они были уполномочены совершать быстрый суд над разбойниками и
грабителями на больших дорогах, пойманных на месте преступления.}, какими
они на самом деле и были. Но тот, кто больше всех пришел в отчаяние, был
цирюльник, таз для бритья которого тут же на глазах у него превратился в
шлем Мамбрино и который не сомневался, что и вьючному седлу его предстоит
превратиться в богатую конскую сбрую. И те и другие смеялись, видя, как дон
Фернандо обходит всех и отбирает голоса, говоря им на ухо, чтобы они
тихонько сказали ему мнение свое, вьючное ли седло или конская сбруя та
драгоценность, о которой было столько препирательств; затем, собрав голоса у
всех, знавших Дон Кихота, он громко заявил:
-- Дело в том, добрый человек, что я уже устал собирать столько мнений,
так как вижу, у кого бы я ни спросил о том,
0 чем желаю узнать, все отвечают мне, что нелепо говорить, будто это
вьючное седло осла, а не конская сбруя, да еще с породистого коня. Итак, вам
придется вооружиться терпением, потому что наперекор вам и вашему ослу это
конская сбруя, а не вьючное седло и вы очень дурно повели свое дело и
потеряли его.
-- Пусть я потеряю и царствие небесное, -- сказал бедный цирюльник, --
если вы все, милости ваши, не ошибаетесь; так же верно, как душа моя
предстанет перед судом Божьим, верно и то, что это вьючное седло, а не
конская сбруя; но законы клонят туда и так далее {Alia van leyes do quieren
Reyes -- "Законы клонят туда, куда желают короли", старинная испанская
пословица, сложившаяся, судя по преданию, во времена короля Алфонса VI
(1085--1109).}, -- больше ничего не скажу; и, право же, я не пьян, так как
сегодня воздержался если не от греха, то от того, чтобы взять что-либо в
рот.
Глупые речи цирюльника вызвали не меньше смеха, чем нелепости Дон
Кихота, который теперь заявил:
-- Здесь нечего больше делать, пусть каждый возьмет то, что ему
принадлежит, и, что кому Бог послал, святой Петр благословит.
Один из четырех слуг сказал:
-- Если это не преднамеренная шутка, никак не могу понять, чтобы люди,
столь рассудительные или кажущиеся ими, как все здесь присутствующие,
осмелились бы говорить и утверждать, что это вот не таз, а то вот не вьючное
седло. Но так как я вижу, что они это и утверждают, и говорят, мне ясно: тут
какая-то тайна в этом упорном настаивании на утверждении, столь
противоречащем тому, чему нас учит сама действительность и опыт; и поэтому
клянусь тем-то (и он отпустил очень крепкое словечко), что никто из всех
живущих на свете не мог бы убедить меня, будто это не цирюльничий таз, а то
не вьючное седло осла.
-- Оно могло бы оказаться седлом ослицы, -- сказал священник.
-- Пусть себе, -- ответил слуга,-- не в этом дело, а в том, вьючное ли
это седло или нет, как вы, ваши милости, утверждаете.
Услыхав это, один из только что прибывших куадрильеро, который
присутствовал при этом споре и переговорах, воскликнул, исполненный гнева и
досады:
-- Так же верно, что это вьючное седло, как и мой отец -- мне отец, и
тот, кто сказал или скажет что-либо иное, должно быть, пьян.
-- Ты лжешь, как последний негодяй, -- крикнул Дон Кихот и, подняв
копье, которое он никогда не выпускал из рук, нанес им по голове куадрильеро
такой удар, что, если б тот не увернулся, он уложил бы его на месте. Копье
разлетелось вдребезги, ударившись о землю; остальные же куадрильеросы, видя,
как плохо обходятся с их товарищем, стали громко звать на помощь Святую
эрмандаду. Хозяин, принадлежавший тоже к этому братству, немедленно побежал
за своим жезлом и мечом и встал рядом со своими товарищами. Слуги дона Люиса
окружили молодого своего сеньора, чтобы он не убежал, воспользовавшись
наставшей суматохой. Цирюльник, видя, что весь дом в таком переполохе, снова
схватился за свой вьюк, то же сделал и Санчо. Дон Кихот обнажил меч и
бросился на куадрильеро; дон Люис приказал своим слугам оставить его и
поспешить на помощь к Дон Кихоту, Карденио и дону Фернандо, которые все
приняли сторону Дон Кихота. Священник кричал, хозяйка вопила, дочь ее
вздыхала, Мариторнес плакала, Доротеа смутилась, Люсинда испугалась, а донья
Клара упала в обморок. Цирюльник бил Санчо, Санчо тузил цирюльника; дон
Люис, которого один из его слуг осмелился схватить за руку, чтобы он не
убежал, нанес слуге такой удар кулаком, что рот у того наполнился кровью;
судья взял его под свою защиту. Один из куадрильеро очутился под ногами у
дона Фернандо, который, не стесняясь, измерял ими все его тело в свое
удовольствие; хозяин стал снова громко звать на помощь Святую эрмандаду, так
что весь постоялый двор превратился в плач, крик, вопль, тревогу, испуг,
ужас, бедствие, тумаки, пинки, удары палками и ногами и кровопролитие. Среди
этого хаоса, шума и сумятицы Дон Кихоту пришла вдруг в голову мысль, что он
окунулся в распри и раздор в лагере Аграманта {Распря в лагере короля
Аграманта, предводителя языческой армии при осаде Парижа, описана в XXVII
песни "Неистового Роланда" Ариосто.}, и поэтому он голосом, прогремевшим по
всему постоялому двору, крикнул:
-- Остановитесь все! Положите оружие, успокойтесь и выслушайте меня,
если только дорожите жизнью!
Услыхав этот громкий возглас, все утихли, и Дон Кихот продолжал:
-- Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот очарован и что, должно
быть, легион демонов обитает в нем? В подтверждение сказанному я бы желал,
чтобы вы собственными глазами своими убедились, что сюда перенесена и
поселилась среди нас распря, бывшая в лагере Аграманта. Смотрите, как там
сражаются из-за меча, здесь -- из-за коня, тут -- из-за орла, дальше --
из-за шлема, и все мы сражаемся, и все не понимаем друг друга. Поэтому идите
сюда, ваша милость, сеньор судья, и вы, милость ваша, сеньор священник,
пусть один из вас изобразит собой короля Аграманта, а другой -- короля
Собрино, и восстановите среди нас мир; так как, клянусь именем всемогущего
Бога, великое преступление, чтобы столько знатных людей, сколько нас здесь,
убивали друг друга из-за таких ничего не стоящих причин.
Куадрильеросы, которые не понимали фразеологии Дон Кихота и видели, что
с ними так сурово обошлись дон Фернандо, Карденио и их товарищи, не захотели
успокоиться; цирюльникже был на все готов, так как во время схватки ему
вырвали бороду и порвали его вьючное седло; Санчо, как верный слуга, при
первом же слове своего господина тотчас же повиновался ему; четверо слуг
дона Люиса тоже оставались спокойны, убедившись, как им мало пользы от
обратного, и лишь один хозяин упорно настаивал, что следует наказать
дерзость этого сумасшедшего, который на каждом шагу вносит переполох в его
постоялый двор. Наконец шум улегся, и вьючное седло так и осталось, в
воображении Дон Кихота до дня Страшного суда конской сбруей, таз -- шлемом и
постоялый двор -- замком.
Теперь, когда был восстановлен мир, и все снова стали друзьями
благодаря увещеваниям судьи и священника, слуги дона Люиса принялись опять
настаивать, чтобы он немедленно ехал с ними домой, а пока он вел с ними
переговоры, судья посоветовался с доном Фернандо, Карденио и священником,
как ему лучше поступить в данном случае, и сообщил им все, что дон Люис
сказал ему. Наконец было решено, что дон Фернандо откроет слугам дона Люиса,
кто он, и сообщит о своем желании, чтобы дон Люис ехал вместе с ним в
Андалузию, где юноша будет принят его братом-маркизом с тем вниманием и
уважением, которые он заслуживает, так как всем известно о решении Дона
Люиса не возвращаться теперь на глаза к своему отцу, хотя бы его и разорвали
на куски. Узнав об общественном положении дона Фернандо и о решении дона
Люиса, слуги так условились между собой: трое из них вернутся домой
рассказать обо всем, что произошло отцу, четвертый же останется служить дону
Люису и будет находиться при нем, пока они все не вернутся за ним или не
узнают, как им прикажет поступить его отец. Таким образом, благодаря
авторитету Аграманта и мудрости короля Собрино {Благодаря значению короля
Аграманта и советам короля Собрино был наконец восстановлен мир в лагере
осаждающих ("Неистовый Роланд", песнь XXVII).}, улеглась эта вереница ссор;
но заклятый враг согласия и противник мира {Т. е. дьявол.}, увидав, как он
посрамлен и осмеян и как мало он извлек выгоды из всего этого лабиринта
смут, в который он завлек их, решил еще раз приложить свою руку и вызвать
новые ссоры и распри. Дело в том, что куадрильеросы, узнав о звании людей, с
которыми у них вышло столкновение, успокоились и устранились от ссоры, так
как хорошо понимали, что, каков бы ни был исход битвы, все равно в проигрыше
остались бы они. Но один из куадрильеро, тот самый, которого топтал и бил
дон Фернандо, вспомнил, что в числе приказов об аресте некоторых
преступников, которые он имел при себе, был также и приказ о Дон Кихоте,
которого Святая эрмандада велела арестовать за то, что он освободил галерных
невольников, как Санчо столь основательно и опасался того. Вспомнив о
приказе, куадрильеро захотел убедиться, подходят ли приметы к Дон Кихоту, и,
вынув из-за пазухи пергаментный сверток, нашел в нем то, что искал, и,
принявшись медленно читать его -- так как он не был искусным грамотеем, --
при каждом слове, которое читал, смотрел на Дон Кихота и, сравнивая приметы
приказа с наружностью рыцаря, убедился, что, несомненно, бумага относится
именно к Дон Кихоту. Лишь только он убедился в этом, как, свернув пергамент,
взял в левую руку приказ, а правой схватил за шиворот Дон Кихота с такой
силой, что тот едва мог дышать, причем куадрильеро громко закричал:
-- На помощь! Во имя Святой эрмандады! И чтобы вы видели, что я не
шучу, прочтите приказ, которым повелевается арестовать этого разбойника на
больших дорогах.
Священник взял приказ и убедился, что куадрильеро говорит правду и что
приметы подходят к Дон Кихоту, который, видя, как плохо обходится с ним этот
низкий негодяй, вспыхнул страшным гневом и изо всех сил обеими руками
схватил куадрильеро за горло так, что, если бы товарищи того не поспели к
нему на помощь, он расстался бы с жизнью прежде, чем Дон Кихот выпустил из
рук свою добычу. Хозяин, который был обязан содействовать своим товарищам по
должности, тотчас же бросился к ним на помощь. Хозяйка, увидав, что ее муж
опять ввязался в ссору, принялась снова кричать, и ей вторили дочь ее и
Мариторнес, прося помощи у неба и у всех, кто там был. Санчо, глядя на то,
что происходит, сказал:
-- Клянусь Богом! Правда то, что господин мой говорит о волшебстве в
этом замке, так как нельзя прожить в нем и часу спокойно.
Дон Фернандо разнял куадрильеро и Дон Кихота и, к обоюдному их
удовольствию, разжал им руки, которыми один крепко ухватился за ворот
камзола, а другой -- за горло своего противника. Но тем не менее
куадрильеросы не переставали требовать своей добычи и содействия
присутствующих, чтобы те связали его и передали бы в их руки, как к тому
обязывает служба, королю и Святой эрмандаде, именем которой они снова просят
о поддержке и помощи для ареста этого грабителя и разбойника по проселочным
и большим дорогам. Дон Кихот рассмеялся, услышав эти слова, и с величайшим
спокойствием сказал:
-- Идите-ка сюда, грязный и подлый люд! Разбоем на больших дорогах
называете вы дать свободу закованным в кандалы, выпустить на волю
заключенных, помочь несчастным, поднять павших, поддержать нуждающихся? Ах,
гнусные люди, заслуживающие своим низменным, жалким пониманием, чтобы небо
скрыло от вас доблесть, заключающуюся в странствующем рыцарстве, и не дало
уразуметь грех и невежество, в которых вы коснеете, не благоговея перед
тенью, а тем более перед действительным присутствием странствующего рыцаря!
Идите-ка сюда вы, братья по воровству, а не члены братства, грабители на
больших дорогах с разрешения Святой эрмандады; скажите мне: кто тот неуч,
подписавший приказ об аресте такого рыцаря, как я? Кто он, не знавший, что
странствующие рыцари не подлежат никаким судебным учреждениям, что их закон
-- меч, их привилегия -- доблесть, их уставы -- собственная их воля? Кто тот
тупоумный, спрашиваю я опять, не ведавший, что нет той дворянской грамоты,
которая давала бы такие права и льготы, какие приобретает странствующий
рыцарь в тот день, когда его посвящают и он вступает в трудное отправление
рыцарских обязанностей? Какой странствующий рыцарь платил подать, налоги,
сбор на булавки королевы {Сбор по случаю бракосочетания короля.}, дань
королю, таможенные пошлины и речной сбор? Какой портной предъявлял ему счет
за шитье платья? Какой кастелян, приняв в свой замок, заставил его платить
за постой? Какой король не приглашал его за свой стол? Какая девушка не
влюблялась в него и не отдавалась ему на полную волю и власть? И, наконец,
какой был, есть и будет странствующий рыцарь на свете, у которого не хватит
отваги и пылу дать четыреста палочных ударов четыремстам куадрильеро, если
они встанут на его дороге?
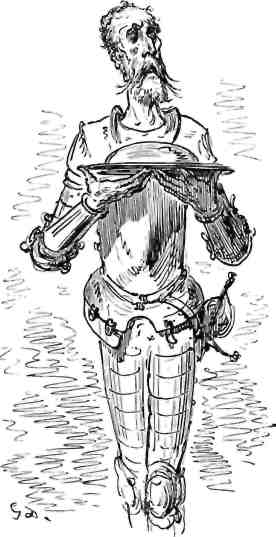
Глава XLVIо замечательном приключении с куадрильеросами и о великой
ярости нашего доброго рыцаря Дон Кихота
 Пока Дон Кихот это говорил, священник старался убедить куадрильеросов,
что рыцарь не в своем уме, как они сами видят из его слов и поступков, и
незачем продолжать дело, потому что, если они и арестуют его и уведут с
собой, им тотчас же пришлось бы его выпустить, как сумасшедшего.
Куадрильеро, имевший приказ об аресте, возразил, что судить о безумии Дон
Кихота не его дело, а он обязан исполнять приказание своего начальника, и
после того, как он арестует Дон Кихота, пусть себе выпускают его хоть триста
раз.
-- Тем не менее, -- настаивал священник, -- на этот раз вы не должны
его брать, и он и не даст себя взять, насколько я его знаю.
Словом, священник сумел столько наговорить им, а Дон Кихот сумел
натворить столько безумств, что куадрильеросы были бы более безумны, чем он,
если бы не поняли, чего недостает Дон Кихоту; итак, они сочли за лучшее
оставить его в покое и даже согласились быть посредниками в примирении
цирюльника и Санчо Пансы, которые все еще с большим ожесточением продолжали
свою ссору. В качестве служителей правосудия куадрильеросы уладили дело
третейским судом, и обе стороны если и не вполне, по крайней мере кой в чем
были удовлетворены, так как они обменялись вьючными седлами, но не
подпругами и недоуздками. Что же касается шлема Мамбрино, священник
втихомолку -- так, чтобы Дон Кихот не знал, -- заплатил цирюльнику за его
таз восемь реалов, и тот дал ему расписку в получении этих денег с
обязательством ничего больше не вымогать за таз отныне и вовеки, аминь.
После того как эти две ссоры -- самые крупные и значительные -- были
улажены, оставалось только добиться согласия слуг дона Люиса на то, чтобы
трое из них вернулись домой, а один сопровождал дона Люиса туда, куда дон
Фернандо пожелает увезти его. А так как в угоду влюбленным и храбрым, бывшим
на постоялом дворе, благоприятствующие им звезды и смягчившаяся судьба уже
начали ломать копья и устранять все затруднения, судьба пожелала завершить
дело и увенчать его счастливым концом, потому что слуги дона Люиса
согласились исполнить его желание, а это так обрадовало донью Клару, что
всякий, кто взглянул бы тогда ей в лицо, увидел бы, как душа ее ликует. Что
касается Сораиды, хотя она и не вполне понимала происшествия, при которых
она присутствовала, но радовалась и огорчалась судя по тому, что она
подмечала и уловляла на лицах остальных, особенно же на лице своего испанца,
с которого она не сводила глаз и к которому стремилась вся ее душа. Хозяин
постоялого двора, от внимания которого не ускользнули вознаграждение за
убыток и подарок, которые цирюльник получил от священника, предъявил ему
счет Дон Кихота, требуя также и уплату за прорванные бурдюки и пролитое
вино, причем клялся, что не выпустит из постоялого двора ни Росинанта, ни
осла Санчо до тех пор, пока не получит по счету до последнего гроша.
Умиротворил всех священник, а заплатил за все дон Фернандо, хотя и
судья с полнейшей готовностью предлагал это сделать. И, таким образом, все
остались довольны и успокоились, и постоялый двор не напоминал уже собой
раздора в лагере Аграманта, как сказал Дон Кихот, а настоящую тишину и мир
времен Октавиана {Pax Octaviana, или счастливую эпоху императора Августа,
который в свое царствование имел возможность трижды запирать храм Януса.}.
Все это, по общему мнению, было достигнуто благодаря добрым намерениям и
выдающемуся красноречию священника и необычайной щедрости дона Фернандо.
Когда Дон Кихот увидел, что он свободен и избавлен от стольких ссор,
как собственных, так и своего оруженосца, он подумал, что теперь хорошо было
бы продолжать начатое путешествие и довести до конца великое приключение,
совершить которое он был призван и избран. Итак, он с быстрой решимостью
опустился на колени перед Доротеей, которая, однако, не позволила ему
сказать ни слова, пока он не поднимется; повинуясь ей, он встал и сказал:
-- Прекрасная сеньора, общеизвестная пословица говорит, что скорость и
рвение -- источник удачи, и во многих очень важных обстоятельствах опыт
показал, что рвение уполномоченного доводит даже сомнительное дело до
благополучного конца. Нигде, однако, истина эта не подтверждается столь
блистательно, как в военном деле, где быстрота и натиск предупреждают
замыслы неприятеля и одерживают победу прежде, чем противник успеет принять
меры для своей защиты. Все это я говорю потому, высочайшая и драгоценная
сеньора, что, как мне кажется, дальнейшее пребывание наше в этом замке
бесполезно и даже может нам принести такой ущерб, что впоследствии он будет
очень чувствителен для нас. Кто знает, может быть, до сведения вашего
врага-великана через тайных и ловких шпионов дошло уже известие о том, что я
еду истребить его, и промедление наше даст ему удобный случай укрепиться в
каком-нибудь неприступном замке или крепости, против которых все мои
старания и сила неутомимой руки моей могут оказаться бесполезными. Поэтому,
сеньора, предупредим нашей быстротой, как я уже говорил, замыслы врага и
отправимся немедленно в путь на добрую удачу, достижение которой в той
полной мере, какую желает ваше величество, зависит от встречи моей --
которую не следует откладывать -- лицом к лицу с вашим противником.
Дон Кихот умолк, не сказал больше ничего, и стал спокойно ждать ответа
прекрасной инфанты, а она, с величественным видом и подражая слогу Дон
Кихота, сказала следующее:
-- Благодарю вас, сеньор кабальеро, за выказанное вами доброе желание
помочь мне в моем великом горе, что вполне приличествует рыцарю, призвание и
обязанность которого -- оказывать поддержку сиротам и обездоленным; и дай-то
небо, чтобы ваше и мое желание исполнилось для того, чтобы вы видели, что
есть на свете признательные женщины! Что же касается нашего отъезда, пусть
он состоится тотчас же, так как у меня нет другой воли, кроме вашей.
Располагайте мною, как вам будет угодно и как вы найдете нужным; потому что
та, которая вручила вам защиту своей особы и препоручила вашим рукам
восстановление ее в ее владениях, не может желать идти против того, что
повелевает вам ваша мудрость.
-- Именем Бога клянусь, -- сказал Дон Кихот, -- если таким образом
передо мной смиряется сеньора, я не хочу терять случая возвысить ее и
возвести на наследственный ее престол. Пусть же отъезд наш совершится
немедленно, так как меня пришпоривает желание и намерение скорей отправиться
в путь, потому что принято говорить: в промедлении --
опасность. И раз небо не создавало и ад не видел никого, кто мог бы
испугать меня или заставить струсить, -- седлай, Санчо, Росинанта, взнуздай
своего осла, иноходца королевы, простимся с владельцем замка, с этими
сеньорами и тотчас же едем отсюда.
Санчо, бывший тут же, сказал, качая головой:
-- Ах, сеньор, сеньор, насколько еще хуже в деревеньке, чем о том
звонят,-- будь сказано с позволения почтенных чепцов!
-- Что может быть худого в какой бы то ни было деревне или же в городах
всего света, о чем могли бы звонить на посрамление мне, негодяй ты этакий?
-- Если ваша милость сердится, -- ответил Санчо, -- я замолчу и не
скажу того, что как хороший оруженосец обязан и как добрый слуга я должен
сказать своему господину.
-- Говори что хочешь, -- ответил Дон Кихот, -- если твои слова не
клонят к тому, чтобы внушить мне страх, так как, если ты боишься, ты
поступаешь сообразно с тем, что ты такое, и если я не боюсь, я поступаю
сообразно с тем, что я такое.
-- Вовсе не то, грешник я перед Богом! -- ответил Санчо. -- А мне
известно и я наверное знаю, что эта сеньора, которая называет себя королевой
великого королевства Микомикон, королева не больше чем моя мать, так как,
если бы она была тем, за что выдает себя, не стала бы она куда ни поверни
голову и в каждом углу стукаться носом с никем из здешнего общества.
Доротеа покраснела при этих словах Санчо, так как, действительно, ее
супруг, дон Фернандо, тайком от других время от времени собирал с ее уст
часть награды, заслуженной его любовью (это-то и видел Санчо, которому
подобная развязность казалась скорей приличествующей даме легкого поведения,
чем королеве великого королевства), и она не могла и не хотела ничего
ответить Санчо, но предоставила ему продолжать свою речь, что он и сделал
следующим образом:
-- Говорю это, сеньор, потому, что, если в конце концов, после того как
мы пропутешествуем по большим дорогам и всяким тропинкам, проводя плохо ночи
и еще хуже дни, тот, который уже здесь, на постоялом дворе, приятно
развлекается, явится и соберет плоды наших трудов, незачем мне торопиться
седлать Росинанта, вьючить осла и взнуздывать иноходца, а было бы лучше нам
оставаться спокойно, и пусть каждая блудница прядет свою пряжу, и мы будем
обедать.
О великий Боже! Каким ужасным гневом разгорелся Дон Кихот, когда
услышал грубые слова своего оруженосца! Гнев его был так велик, что он
прерывающимся голосом и заплетающимся языком, бросая пламя из глаз,
воскликнул:
-- О! Низкий негодяй, неосмотрительный, неучтивый, пошлый, злоязычный,
наглый невежда, хулитель и клеветник! Такие слова дерзнул ты сказать в моем
присутствии и в присутствии знатных этих сеньор и такие гнусности и дерзости
осмелился представить себе в своем грязном воображении? С глаз моих долой,
чудище природы, склад лжи, скопище обманов, сточная труба мошенничества,
изобретатель мерзостей, распространитель нелепостей, враг должного уважения
к особам королевского дома, с глаз моих долой и не показывайся мне никогда
под страхом моего гнева!
И говоря это, он высоко поднял брови, надул щеки, сверкнул во все
стороны глазами и изо всех сил топнул по земле правой ногой -- все признаки
кипевшего внутри него гнева. Эти бешеные слова и движения Дон Кихота так
смутили и напугали Санчо, что он был бы рад, если бы в ту минуту земля
разверзлась под ним и поглотила бы его; и, не зная, что ему делать, он
повернул спину и удалился с глаз разгневанного своего господина. Но умная
Доротеа, так хорошо понимавшая причуды Дон Кихота, желая смягчить его гнев,
обратилась к нему со следующими словами:
-- Не волнуйтесь, сеньор Рыцарь Печального Образа, из-за вздора,
сказанного вашим добрым оруженосцем, потому что, быть может, он говорил его
не без причины. Приняв во внимание его здравый смысл и христианскую совесть,
нельзя допустить, чтобы он мог лжесвидетельствовать против кого бы то ни
было. Итак, надо думать, нимало в том не сомневаясь, что раз в этом замке --
судя по тому, что вы, сеньор рыцарь, говорили, -- все происходит и
совершается путем волшебства, возможно, говорю я, что и Санчо, обманутый
этим дьявольским наваждением, действительно видел то, что, по его словам, он
видел и что так оскорбительно для моей чести!
-- Клянусь всемогущим Богом, -- ответил на это Дон Кихот, -- ваше
величество попало как раз в точку. Несомненно, какое-нибудь злое видение
предстало перед глазами этого грешника Санчо и было причиной, что он видел
то, что невозможно было видеть не иначе как только путем волшебства; потому
что мне самому хорошо известна доброта и простосердечие этого несчастного,
который неспособен оклеветать кого бы то ни было.
-- Оно так и есть и так и будет, -- сказал дон Фернандо, -- поэтому,
милость ваша, сеньор Дон Кихот, вы должны простить Санчо и вернуть его снова
в лоно вашей благосклонности, sicut erat un principlet {Как это было раньше
(лат.).}, прежде чем эти видения отняли у него здравый рассудок.
Дон Кихот ответил, что он прощает его, и священник пошел за Санчо,
который явился очень смиренный и, встав на колени перед своим господином,
попросил дать ему руку, что тот и сделал, позволив ему поцеловать ее, после
чего рыцарь дал Санчо свое благословение, говоря:
-- Теперь, Санчо, сын, ты окончательно убедился, насколько правда то, о
чем я уже часто тебе говорил, именно: в этом замке все совершается путем
волшебства.
-- И я этому верю, -- сказал Санчо,-- исключая подбрасывание на одеяле,
которое действительно произошло обычным путем.
-- Не верь этому, -- ответил Дон Кихот, -- потому что, если б это было
так, я отомстил бы за тебя тогда и даже и теперь; но ни тогда, ни теперь я
не мог этого сделать и не видел, кому отомстить за нанесенную тебе обиду.
Все пожелали знать, что это за история с подбрасыванием на одеяле, и
хозяин постоялого двора рассказал им в точности все, касавшееся воздушных
полетов Санчо Пансы, над чем они много смеялись, а Санчо сильно бы смутился,
если бы его господин не стал снова уверять, что все было лишь волшебство,
хотя простота Санчо никогда не доходила до того, чтобы он не считал
несомненной и доказанной истиной, без всякой примеси обмана, что его
подбрасывали на одеяле люди из плоти и костей, а не призраки, которые ему
пригрезились или вообразились, как это думал и утверждал его господин.
Прошло уже два дня с тех пор, как все это знатное общество собралось на
постоялом дворе, и, так как им казалось, что уже пора уезжать, они стали
придумывать способ, как бы освободить дона Фернандо и Доротею от труда
сопровождать Дон Кихота до его деревни ради выдумки возвращения королеве
Микомиконе ее престола и дать возможность священнику и цирюльнику увезти
его, как они желали, чтобы постараться излечить его от безумия. И вот что
они придумали. Они вошли в соглашение с крестьянином, случайно проезжавшим
мимо постоялого двора с возом, запряженным волами, повезти Дон Кихота таким
образом: из деревянных прутьев они сделали нечто вроде клетки, достаточно
просторной, чтобы Дон Кихот мог удобно поместиться в ней, и затем дон
Фернандо, его товарищи, слуги дона Люиса и куадрильеросы вместе с хозяином
-- все под руководством и по распоряжению священника -- закрыли себе лицо
масками, нарядились кто так, кто иначе, чтобы они могли показаться Дон
Кихоту совсем другими людьми, чем те, которых он видел раньше в замке.
Сделав это в полнейшей тишине, они вошли туда, где Дон Кихот лежал и спал,
отдыхая от перенесенных им волнений. Подойдя к нему, спокойно спавшему и
нимало не ожидавшему подобного рода нападения, они крепко связали ему руки и
ноги, так что, когда он в смятении проснулся, он не мог ни шевельнуться, ни
сделать что-либо другое, как только удивляться и изумляться, видя перед
собою столько странных лиц. Тотчас же у него родилась мысль, которую вечно
деятельное и расстроенное его воображение постоянно подсказывало ему: он
подумал, что все эти фигуры -- призраки очарованного замка и, без сомнения,
сам он также очарован, так как не может ни двинуться, ни защищаться, --
словом все случилось так, как и предполагал священник, придумавший эту
проделку. Из всех присутствовавших один Санчо был в своем уме и в своем
виде, и, хотя очень немногого недоставало, чтобы и он разделил недуг своего
господина, тем не менее он не преминул узнать, кто все эти ряженые, но не
смел раскрыть рта, пока не увидит, чем кончится плен и нападение на его
господина, который тоже не говорил ни слова, ожидая развязки случившейся с
ним беды.
А развязка была та, что в комнату внесли клетку, посадили Дон Кихота в
нее и так крепко заколотили решетку гвоздями, что нельзя было ее оторвать
даже в два приема. Тотчас же подняли клетку на плечи, и, когда они выходили
из комнаты, послышался страшный голос, насколько сумел изобразить его таким
цирюльник -- не с вьючным седлом, а тот, другой, -- который сказал:
-- О Рыцарь Печального Образа! Не огорчайся заточением, в котором
находишься, -- так должно было случиться, чтобы скорей завершилось
приключение, на которое тебя подвигнула великая твоя отвага. Завершится же
оно тогда, когда яростный лев Ламанчи и белая голубка Тобосы будут соединены
воедино, после того, как они смиренно склонят гордые свои выи под сладкое
ярмо брака и из этого неслыханного союза произойдут на свет божий
мужественные львята, которые будут подражать мощным когтям доблестного
своего отца, и это случится раньше, чем преследователь убегающей нимфы в
своем быстром и естественном течении дважды посетит сияющие светила {Т. е.
созвездия, а преследующий бегущую нимфу -- бог Аполлон, или бог солнца.}. И
ты, о благороднейший и самый покорный из оруженосцев, когда-либо имевших на
перевязи меч, на подбородке бороду и обоняние в носу, не тревожься и не
смущайся, видя, как на глазах у тебя уносят цвет странствующего рыцарства,
потому что скоро, если только ваятелю вселенной будет угодно, ты себя у
видишь так высоко вознесенным и возвеличенным, что сам себя не узнаешь, а
также будут приведены в исполнение обещания, данные тебе твоим добрым
господином. И я заверяю тебя от имени, мудрой Ментиронианы {От глагола
"mentir" -- "лгать".}, что и жалованье ты свое получишь, как это и увидишь
на деле. Шествуй по следам доблестного, но очарованного рыцаря, потому что
необходимо тебе идти туда, где вам обоим надлежит быть. А так как мне больше
ничего не дозволено сказать, -- оставайтесь с богом, я же вернусь туда, куда
знаю.
Оканчивая пророчество, голос зазвенел так высоко и потом спустился
таким нежным переливом, что даже соучастники шутки чуть было не поверили,
что то, что они слышат, -- правда. Дон Кихот был утешен сделанным ему
пророчеством, так как он тотчас же проник в смысл его и понял, что ему
обещано соединиться законным и святым браком с его возлюбленной Дульсинеей
Тобосской, из счастливой утробы которой выйдут львята, сыновья его, для
вековечной славы Ламанчи. Искренно и твердо поверив этому, он возвысил голос
и, испустив глубокий вздох, сказал:
-- О ты, кто бы ты ни был, предсказавший мне столь великое счастье,
умоляю тебя, попроси от моего имени мудрого чародея, который заботится о
моих делах, чтобы он не дал мне погибнуть в той тюрьме, в которой меня
теперь увозят, прежде чем исполнятся столь радостные и несравненные
обещания, как те, которые я здесь слышал. Лишь бы только они исполнились, --
я сочту за блаженство страдания моей тюрьмы, за отраду -- цепи, надетые на
меня, и эти доски, на которые меня кладут, покажутся мне не жестким полем
сражения, а мягкою постелью и счастливым брачным ложем. Что же касается
утешения моего оруженосца Санчо Пансы, я верю в его честность и доброе ко
мне отношение,-- он меня не покинет ни в счастии, ни в несчастии, потому
что, если б даже моя или его злая судьба помешала мне дать ему в дар остров
или что-либо другое равной же ценности, по крайней мере его жалование не
уйдет от него, так как в моем завещании, уже написанном мной, я точно
определяю, сколько ему следует уплатить не соответственно его многочисленным
и добрым услугам, а по моим средствам.
Пока Дон Кихот это говорил, священник старался убедить куадрильеросов,
что рыцарь не в своем уме, как они сами видят из его слов и поступков, и
незачем продолжать дело, потому что, если они и арестуют его и уведут с
собой, им тотчас же пришлось бы его выпустить, как сумасшедшего.
Куадрильеро, имевший приказ об аресте, возразил, что судить о безумии Дон
Кихота не его дело, а он обязан исполнять приказание своего начальника, и
после того, как он арестует Дон Кихота, пусть себе выпускают его хоть триста
раз.
-- Тем не менее, -- настаивал священник, -- на этот раз вы не должны
его брать, и он и не даст себя взять, насколько я его знаю.
Словом, священник сумел столько наговорить им, а Дон Кихот сумел
натворить столько безумств, что куадрильеросы были бы более безумны, чем он,
если бы не поняли, чего недостает Дон Кихоту; итак, они сочли за лучшее
оставить его в покое и даже согласились быть посредниками в примирении
цирюльника и Санчо Пансы, которые все еще с большим ожесточением продолжали
свою ссору. В качестве служителей правосудия куадрильеросы уладили дело
третейским судом, и обе стороны если и не вполне, по крайней мере кой в чем
были удовлетворены, так как они обменялись вьючными седлами, но не
подпругами и недоуздками. Что же касается шлема Мамбрино, священник
втихомолку -- так, чтобы Дон Кихот не знал, -- заплатил цирюльнику за его
таз восемь реалов, и тот дал ему расписку в получении этих денег с
обязательством ничего больше не вымогать за таз отныне и вовеки, аминь.
После того как эти две ссоры -- самые крупные и значительные -- были
улажены, оставалось только добиться согласия слуг дона Люиса на то, чтобы
трое из них вернулись домой, а один сопровождал дона Люиса туда, куда дон
Фернандо пожелает увезти его. А так как в угоду влюбленным и храбрым, бывшим
на постоялом дворе, благоприятствующие им звезды и смягчившаяся судьба уже
начали ломать копья и устранять все затруднения, судьба пожелала завершить
дело и увенчать его счастливым концом, потому что слуги дона Люиса
согласились исполнить его желание, а это так обрадовало донью Клару, что
всякий, кто взглянул бы тогда ей в лицо, увидел бы, как душа ее ликует. Что
касается Сораиды, хотя она и не вполне понимала происшествия, при которых
она присутствовала, но радовалась и огорчалась судя по тому, что она
подмечала и уловляла на лицах остальных, особенно же на лице своего испанца,
с которого она не сводила глаз и к которому стремилась вся ее душа. Хозяин
постоялого двора, от внимания которого не ускользнули вознаграждение за
убыток и подарок, которые цирюльник получил от священника, предъявил ему
счет Дон Кихота, требуя также и уплату за прорванные бурдюки и пролитое
вино, причем клялся, что не выпустит из постоялого двора ни Росинанта, ни
осла Санчо до тех пор, пока не получит по счету до последнего гроша.
Умиротворил всех священник, а заплатил за все дон Фернандо, хотя и
судья с полнейшей готовностью предлагал это сделать. И, таким образом, все
остались довольны и успокоились, и постоялый двор не напоминал уже собой
раздора в лагере Аграманта, как сказал Дон Кихот, а настоящую тишину и мир
времен Октавиана {Pax Octaviana, или счастливую эпоху императора Августа,
который в свое царствование имел возможность трижды запирать храм Януса.}.
Все это, по общему мнению, было достигнуто благодаря добрым намерениям и
выдающемуся красноречию священника и необычайной щедрости дона Фернандо.
Когда Дон Кихот увидел, что он свободен и избавлен от стольких ссор,
как собственных, так и своего оруженосца, он подумал, что теперь хорошо было
бы продолжать начатое путешествие и довести до конца великое приключение,
совершить которое он был призван и избран. Итак, он с быстрой решимостью
опустился на колени перед Доротеей, которая, однако, не позволила ему
сказать ни слова, пока он не поднимется; повинуясь ей, он встал и сказал:
-- Прекрасная сеньора, общеизвестная пословица говорит, что скорость и
рвение -- источник удачи, и во многих очень важных обстоятельствах опыт
показал, что рвение уполномоченного доводит даже сомнительное дело до
благополучного конца. Нигде, однако, истина эта не подтверждается столь
блистательно, как в военном деле, где быстрота и натиск предупреждают
замыслы неприятеля и одерживают победу прежде, чем противник успеет принять
меры для своей защиты. Все это я говорю потому, высочайшая и драгоценная
сеньора, что, как мне кажется, дальнейшее пребывание наше в этом замке
бесполезно и даже может нам принести такой ущерб, что впоследствии он будет
очень чувствителен для нас. Кто знает, может быть, до сведения вашего
врага-великана через тайных и ловких шпионов дошло уже известие о том, что я
еду истребить его, и промедление наше даст ему удобный случай укрепиться в
каком-нибудь неприступном замке или крепости, против которых все мои
старания и сила неутомимой руки моей могут оказаться бесполезными. Поэтому,
сеньора, предупредим нашей быстротой, как я уже говорил, замыслы врага и
отправимся немедленно в путь на добрую удачу, достижение которой в той
полной мере, какую желает ваше величество, зависит от встречи моей --
которую не следует откладывать -- лицом к лицу с вашим противником.
Дон Кихот умолк, не сказал больше ничего, и стал спокойно ждать ответа
прекрасной инфанты, а она, с величественным видом и подражая слогу Дон
Кихота, сказала следующее:
-- Благодарю вас, сеньор кабальеро, за выказанное вами доброе желание
помочь мне в моем великом горе, что вполне приличествует рыцарю, призвание и
обязанность которого -- оказывать поддержку сиротам и обездоленным; и дай-то
небо, чтобы ваше и мое желание исполнилось для того, чтобы вы видели, что
есть на свете признательные женщины! Что же касается нашего отъезда, пусть
он состоится тотчас же, так как у меня нет другой воли, кроме вашей.
Располагайте мною, как вам будет угодно и как вы найдете нужным; потому что
та, которая вручила вам защиту своей особы и препоручила вашим рукам
восстановление ее в ее владениях, не может желать идти против того, что
повелевает вам ваша мудрость.
-- Именем Бога клянусь, -- сказал Дон Кихот, -- если таким образом
передо мной смиряется сеньора, я не хочу терять случая возвысить ее и
возвести на наследственный ее престол. Пусть же отъезд наш совершится
немедленно, так как меня пришпоривает желание и намерение скорей отправиться
в путь, потому что принято говорить: в промедлении --
опасность. И раз небо не создавало и ад не видел никого, кто мог бы
испугать меня или заставить струсить, -- седлай, Санчо, Росинанта, взнуздай
своего осла, иноходца королевы, простимся с владельцем замка, с этими
сеньорами и тотчас же едем отсюда.
Санчо, бывший тут же, сказал, качая головой:
-- Ах, сеньор, сеньор, насколько еще хуже в деревеньке, чем о том
звонят,-- будь сказано с позволения почтенных чепцов!
-- Что может быть худого в какой бы то ни было деревне или же в городах
всего света, о чем могли бы звонить на посрамление мне, негодяй ты этакий?
-- Если ваша милость сердится, -- ответил Санчо, -- я замолчу и не
скажу того, что как хороший оруженосец обязан и как добрый слуга я должен
сказать своему господину.
-- Говори что хочешь, -- ответил Дон Кихот, -- если твои слова не
клонят к тому, чтобы внушить мне страх, так как, если ты боишься, ты
поступаешь сообразно с тем, что ты такое, и если я не боюсь, я поступаю
сообразно с тем, что я такое.
-- Вовсе не то, грешник я перед Богом! -- ответил Санчо. -- А мне
известно и я наверное знаю, что эта сеньора, которая называет себя королевой
великого королевства Микомикон, королева не больше чем моя мать, так как,
если бы она была тем, за что выдает себя, не стала бы она куда ни поверни
голову и в каждом углу стукаться носом с никем из здешнего общества.
Доротеа покраснела при этих словах Санчо, так как, действительно, ее
супруг, дон Фернандо, тайком от других время от времени собирал с ее уст
часть награды, заслуженной его любовью (это-то и видел Санчо, которому
подобная развязность казалась скорей приличествующей даме легкого поведения,
чем королеве великого королевства), и она не могла и не хотела ничего
ответить Санчо, но предоставила ему продолжать свою речь, что он и сделал
следующим образом:
-- Говорю это, сеньор, потому, что, если в конце концов, после того как
мы пропутешествуем по большим дорогам и всяким тропинкам, проводя плохо ночи
и еще хуже дни, тот, который уже здесь, на постоялом дворе, приятно
развлекается, явится и соберет плоды наших трудов, незачем мне торопиться
седлать Росинанта, вьючить осла и взнуздывать иноходца, а было бы лучше нам
оставаться спокойно, и пусть каждая блудница прядет свою пряжу, и мы будем
обедать.
О великий Боже! Каким ужасным гневом разгорелся Дон Кихот, когда
услышал грубые слова своего оруженосца! Гнев его был так велик, что он
прерывающимся голосом и заплетающимся языком, бросая пламя из глаз,
воскликнул:
-- О! Низкий негодяй, неосмотрительный, неучтивый, пошлый, злоязычный,
наглый невежда, хулитель и клеветник! Такие слова дерзнул ты сказать в моем
присутствии и в присутствии знатных этих сеньор и такие гнусности и дерзости
осмелился представить себе в своем грязном воображении? С глаз моих долой,
чудище природы, склад лжи, скопище обманов, сточная труба мошенничества,
изобретатель мерзостей, распространитель нелепостей, враг должного уважения
к особам королевского дома, с глаз моих долой и не показывайся мне никогда
под страхом моего гнева!
И говоря это, он высоко поднял брови, надул щеки, сверкнул во все
стороны глазами и изо всех сил топнул по земле правой ногой -- все признаки
кипевшего внутри него гнева. Эти бешеные слова и движения Дон Кихота так
смутили и напугали Санчо, что он был бы рад, если бы в ту минуту земля
разверзлась под ним и поглотила бы его; и, не зная, что ему делать, он
повернул спину и удалился с глаз разгневанного своего господина. Но умная
Доротеа, так хорошо понимавшая причуды Дон Кихота, желая смягчить его гнев,
обратилась к нему со следующими словами:
-- Не волнуйтесь, сеньор Рыцарь Печального Образа, из-за вздора,
сказанного вашим добрым оруженосцем, потому что, быть может, он говорил его
не без причины. Приняв во внимание его здравый смысл и христианскую совесть,
нельзя допустить, чтобы он мог лжесвидетельствовать против кого бы то ни
было. Итак, надо думать, нимало в том не сомневаясь, что раз в этом замке --
судя по тому, что вы, сеньор рыцарь, говорили, -- все происходит и
совершается путем волшебства, возможно, говорю я, что и Санчо, обманутый
этим дьявольским наваждением, действительно видел то, что, по его словам, он
видел и что так оскорбительно для моей чести!
-- Клянусь всемогущим Богом, -- ответил на это Дон Кихот, -- ваше
величество попало как раз в точку. Несомненно, какое-нибудь злое видение
предстало перед глазами этого грешника Санчо и было причиной, что он видел
то, что невозможно было видеть не иначе как только путем волшебства; потому
что мне самому хорошо известна доброта и простосердечие этого несчастного,
который неспособен оклеветать кого бы то ни было.
-- Оно так и есть и так и будет, -- сказал дон Фернандо, -- поэтому,
милость ваша, сеньор Дон Кихот, вы должны простить Санчо и вернуть его снова
в лоно вашей благосклонности, sicut erat un principlet {Как это было раньше
(лат.).}, прежде чем эти видения отняли у него здравый рассудок.
Дон Кихот ответил, что он прощает его, и священник пошел за Санчо,
который явился очень смиренный и, встав на колени перед своим господином,
попросил дать ему руку, что тот и сделал, позволив ему поцеловать ее, после
чего рыцарь дал Санчо свое благословение, говоря:
-- Теперь, Санчо, сын, ты окончательно убедился, насколько правда то, о
чем я уже часто тебе говорил, именно: в этом замке все совершается путем
волшебства.
-- И я этому верю, -- сказал Санчо,-- исключая подбрасывание на одеяле,
которое действительно произошло обычным путем.
-- Не верь этому, -- ответил Дон Кихот, -- потому что, если б это было
так, я отомстил бы за тебя тогда и даже и теперь; но ни тогда, ни теперь я
не мог этого сделать и не видел, кому отомстить за нанесенную тебе обиду.
Все пожелали знать, что это за история с подбрасыванием на одеяле, и
хозяин постоялого двора рассказал им в точности все, касавшееся воздушных
полетов Санчо Пансы, над чем они много смеялись, а Санчо сильно бы смутился,
если бы его господин не стал снова уверять, что все было лишь волшебство,
хотя простота Санчо никогда не доходила до того, чтобы он не считал
несомненной и доказанной истиной, без всякой примеси обмана, что его
подбрасывали на одеяле люди из плоти и костей, а не призраки, которые ему
пригрезились или вообразились, как это думал и утверждал его господин.
Прошло уже два дня с тех пор, как все это знатное общество собралось на
постоялом дворе, и, так как им казалось, что уже пора уезжать, они стали
придумывать способ, как бы освободить дона Фернандо и Доротею от труда
сопровождать Дон Кихота до его деревни ради выдумки возвращения королеве
Микомиконе ее престола и дать возможность священнику и цирюльнику увезти
его, как они желали, чтобы постараться излечить его от безумия. И вот что
они придумали. Они вошли в соглашение с крестьянином, случайно проезжавшим
мимо постоялого двора с возом, запряженным волами, повезти Дон Кихота таким
образом: из деревянных прутьев они сделали нечто вроде клетки, достаточно
просторной, чтобы Дон Кихот мог удобно поместиться в ней, и затем дон
Фернандо, его товарищи, слуги дона Люиса и куадрильеросы вместе с хозяином
-- все под руководством и по распоряжению священника -- закрыли себе лицо
масками, нарядились кто так, кто иначе, чтобы они могли показаться Дон
Кихоту совсем другими людьми, чем те, которых он видел раньше в замке.
Сделав это в полнейшей тишине, они вошли туда, где Дон Кихот лежал и спал,
отдыхая от перенесенных им волнений. Подойдя к нему, спокойно спавшему и
нимало не ожидавшему подобного рода нападения, они крепко связали ему руки и
ноги, так что, когда он в смятении проснулся, он не мог ни шевельнуться, ни
сделать что-либо другое, как только удивляться и изумляться, видя перед
собою столько странных лиц. Тотчас же у него родилась мысль, которую вечно
деятельное и расстроенное его воображение постоянно подсказывало ему: он
подумал, что все эти фигуры -- призраки очарованного замка и, без сомнения,
сам он также очарован, так как не может ни двинуться, ни защищаться, --
словом все случилось так, как и предполагал священник, придумавший эту
проделку. Из всех присутствовавших один Санчо был в своем уме и в своем
виде, и, хотя очень немногого недоставало, чтобы и он разделил недуг своего
господина, тем не менее он не преминул узнать, кто все эти ряженые, но не
смел раскрыть рта, пока не увидит, чем кончится плен и нападение на его
господина, который тоже не говорил ни слова, ожидая развязки случившейся с
ним беды.
А развязка была та, что в комнату внесли клетку, посадили Дон Кихота в
нее и так крепко заколотили решетку гвоздями, что нельзя было ее оторвать
даже в два приема. Тотчас же подняли клетку на плечи, и, когда они выходили
из комнаты, послышался страшный голос, насколько сумел изобразить его таким
цирюльник -- не с вьючным седлом, а тот, другой, -- который сказал:
-- О Рыцарь Печального Образа! Не огорчайся заточением, в котором
находишься, -- так должно было случиться, чтобы скорей завершилось
приключение, на которое тебя подвигнула великая твоя отвага. Завершится же
оно тогда, когда яростный лев Ламанчи и белая голубка Тобосы будут соединены
воедино, после того, как они смиренно склонят гордые свои выи под сладкое
ярмо брака и из этого неслыханного союза произойдут на свет божий
мужественные львята, которые будут подражать мощным когтям доблестного
своего отца, и это случится раньше, чем преследователь убегающей нимфы в
своем быстром и естественном течении дважды посетит сияющие светила {Т. е.
созвездия, а преследующий бегущую нимфу -- бог Аполлон, или бог солнца.}. И
ты, о благороднейший и самый покорный из оруженосцев, когда-либо имевших на
перевязи меч, на подбородке бороду и обоняние в носу, не тревожься и не
смущайся, видя, как на глазах у тебя уносят цвет странствующего рыцарства,
потому что скоро, если только ваятелю вселенной будет угодно, ты себя у
видишь так высоко вознесенным и возвеличенным, что сам себя не узнаешь, а
также будут приведены в исполнение обещания, данные тебе твоим добрым
господином. И я заверяю тебя от имени, мудрой Ментиронианы {От глагола
"mentir" -- "лгать".}, что и жалованье ты свое получишь, как это и увидишь
на деле. Шествуй по следам доблестного, но очарованного рыцаря, потому что
необходимо тебе идти туда, где вам обоим надлежит быть. А так как мне больше
ничего не дозволено сказать, -- оставайтесь с богом, я же вернусь туда, куда
знаю.
Оканчивая пророчество, голос зазвенел так высоко и потом спустился
таким нежным переливом, что даже соучастники шутки чуть было не поверили,
что то, что они слышат, -- правда. Дон Кихот был утешен сделанным ему
пророчеством, так как он тотчас же проник в смысл его и понял, что ему
обещано соединиться законным и святым браком с его возлюбленной Дульсинеей
Тобосской, из счастливой утробы которой выйдут львята, сыновья его, для
вековечной славы Ламанчи. Искренно и твердо поверив этому, он возвысил голос
и, испустив глубокий вздох, сказал:
-- О ты, кто бы ты ни был, предсказавший мне столь великое счастье,
умоляю тебя, попроси от моего имени мудрого чародея, который заботится о
моих делах, чтобы он не дал мне погибнуть в той тюрьме, в которой меня
теперь увозят, прежде чем исполнятся столь радостные и несравненные
обещания, как те, которые я здесь слышал. Лишь бы только они исполнились, --
я сочту за блаженство страдания моей тюрьмы, за отраду -- цепи, надетые на
меня, и эти доски, на которые меня кладут, покажутся мне не жестким полем
сражения, а мягкою постелью и счастливым брачным ложем. Что же касается
утешения моего оруженосца Санчо Пансы, я верю в его честность и доброе ко
мне отношение,-- он меня не покинет ни в счастии, ни в несчастии, потому
что, если б даже моя или его злая судьба помешала мне дать ему в дар остров
или что-либо другое равной же ценности, по крайней мере его жалование не
уйдет от него, так как в моем завещании, уже написанном мной, я точно
определяю, сколько ему следует уплатить не соответственно его многочисленным
и добрым услугам, а по моим средствам.
 Санчо Панса с большой почтительностью поклонился рыцарю и поцеловал обе
его руки, -- одну он не мог поцеловать, так как они были связаны вместе.
Тотчас же призраки подняли клетку на плечи и установили ее на повозку,
запряженную волами.
Санчо Панса с большой почтительностью поклонился рыцарю и поцеловал обе
его руки, -- одну он не мог поцеловать, так как они были связаны вместе.
Тотчас же призраки подняли клетку на плечи и установили ее на повозку,
запряженную волами.

Глава XLVII О странном способе, с помощью которого Дон Кихот был
очарован, и о других замечательных событиях
 Когда Дон Кихот увидел, что он посажен в клетку, а клетка поставлена на
повозку, он сказал:
-- Многие и очень значительные истории прочел я о странствующих
рыцарях, но никогда не читал, не видел и не слышал, чтобы очарованных
рыцарей возили таким образом и с такой медлительностью, как этого можно
ждать от ленивых и тяжелых на подъем волов. Очарованных рыцарей всегда мчали
по воздуху с неимоверной быстротой, окутанных темными облаками, или же на
огненной колеснице, или на каком-нибудь гипогрифе и другом подобном звере,
-- а что теперь меня везут на повозке, запряженной волами, это, как жив бог,
приводит меня в смущение!
Но, быть может, рыцарство и волшебства наших дней идут другим путем,
чем в былые времена, а также, может быть, подобно тому, как я на свете новый
рыцарь и первый, воскресивший уже забытую профессию странствующего
рыцарства, тоже недавно изобрели новый род волшебства и другие способы
возить очарованных. Что ты об этом думаешь, Санчо, сын?
-- Не знаю, что мне думать об этом,-- ответил Санчо, -- потому что я не
так начитан, как ваша милость в странствующих писаниях, но тем не менее я
готов утверждать и клясться, что все эти призраки, которые вертятся вокруг
нас, -- не очень-то добрые католики.
-- Католики? Отец мой! -- ответил Дон Кихот. -- Как могут они быть
католиками, если все они демоны, принявшие фантастические облики, чтоб
сделать мне зло и привести меня в такое положение? Если же ты желаешь
убедиться, что это правда, дотронься до них и пощупай их, и ты увидишь, что
у них нет тела, а только воздух, нет в них вещества, а только призрачность.
-- По чести, сеньор, -- ответил Санчо, -- я уже дотрагивался до них, и
вот тот дьявол, который так хлопочет около нас: у него твердое, крепкое тело
и есть еще другое свойство, совсем непохожее на то, которым, как я слышал,
отличаются демоны; потому что говорят, будто от всех от них несет серой и
другими скверными запахами, а этот на расстоянии полумили благоухает амброй.
Санчо говорил это о доне Фернандо, от которого, как от очень знатного
сеньора, действительно должно было пахнуть, как говорил Санчо.
-- Не удивляйся этому, Санчо, друг,-- ответил Дон Кихот, -- так как я
должен сказать тебе, что дьяволы многое знают, и хотя бы они и
распространяли кругом себя запах, от них ничем не пахнет, потому что они --
духи, а если от них и пахнет, то не может пахнуть чем-либо хорошим, а только
дурным и зловонным. Причина та, что, где бы они ни были, они с собою несут
ад и не могут найти никакого облегчения своим мукам, а так как благоуханье
-- вещь, доставляющая удовольствие и наслаждение, то и невозможно, чтобы от
них благоухало. Если же тебе показалось, что от того демона, о котором ты
говорил, несет амброй, -- или ты ошибаешься, или же он желает обмануть тебя,
чтобы ты его не принимал за демона.
Весь этот разговор слуга и господин вели между собой; и дон Фернандо и
Карденио, опасаясь, чтобы Санчо окончательно не раскрыл их выдумки -- к чему
он уже был очень близок, -- решили поспешить с отъездом. Итак, отозвав в
сторону хозяина постоялого двора, они велели ему оседлать Росинанта и осла
Санчо, что хозяин очень быстро и исполнил. А между тем священник уже
договорился с куадрильеро, чтобы те сопровождали их до села за известную
поденную плату. Карденио повесил к седлу Росинанта с одной стороны лук и
щит, с другой -- таз и приказал знаком Санчо сесть на осла и взять за повод
Росинанта; по обеим же сторонам повозки он поставил двух куадрильеросов с
винтовками. Но прежде чем процессия двинулась, вышла хозяйка постоялого
двора, ее дочь и Мариторнес, чтобы проститься с Дон Кихотом, притворяясь,
что они плачут с горя над его несчастием, -- а Дон Кихот сказал им:
-- Не плачьте, добрые мои сеньоры, такого рода несчастиям подвержены
все рыцари, следующие призванию, которому следую я, и, если б эти бедствия
не случились со мной, я не считал бы себя знаменитым странствующим рыцарем,
потому что с рыцарями малого имени и славы никогда не приключаются подобные
случаи, так как никто в мире не помнит о них. С доблестными же рыцарями это
бывает потому, что заслугам и мужеству их завидуют многие князья и иные
рыцари, которые стараются злыми путями погубить добрых. Но тем не менее
добродетель так могущественна, что она сама по себе, несмотря на все
чернокнижие, которое знал первый изобретатель его, Зороастр, выйдет
победительницей из всех затруднений и прольет свой свет над миром, как
проливает его солнце на небе. Простите мне, прекрасные сеньоры, если я по
оплошности своей причинил вам какое-либо неудовольствие, так как намеренно и
умышлено я никому никогда не причинял его; просите Бога, чтобы Он избавил
меня от этих оков, на которые осудил меня какой-нибудь злонамеренный
чародей, и, если я освобожусь от них, из моей памяти не изгладятся милости,
которые вы мне в этом замке оказывали, и я сумею отблагодарить, служить вам
и вознаградить за них, как они того стоят.
Когда Дон Кихот увидел, что он посажен в клетку, а клетка поставлена на
повозку, он сказал:
-- Многие и очень значительные истории прочел я о странствующих
рыцарях, но никогда не читал, не видел и не слышал, чтобы очарованных
рыцарей возили таким образом и с такой медлительностью, как этого можно
ждать от ленивых и тяжелых на подъем волов. Очарованных рыцарей всегда мчали
по воздуху с неимоверной быстротой, окутанных темными облаками, или же на
огненной колеснице, или на каком-нибудь гипогрифе и другом подобном звере,
-- а что теперь меня везут на повозке, запряженной волами, это, как жив бог,
приводит меня в смущение!
Но, быть может, рыцарство и волшебства наших дней идут другим путем,
чем в былые времена, а также, может быть, подобно тому, как я на свете новый
рыцарь и первый, воскресивший уже забытую профессию странствующего
рыцарства, тоже недавно изобрели новый род волшебства и другие способы
возить очарованных. Что ты об этом думаешь, Санчо, сын?
-- Не знаю, что мне думать об этом,-- ответил Санчо, -- потому что я не
так начитан, как ваша милость в странствующих писаниях, но тем не менее я
готов утверждать и клясться, что все эти призраки, которые вертятся вокруг
нас, -- не очень-то добрые католики.
-- Католики? Отец мой! -- ответил Дон Кихот. -- Как могут они быть
католиками, если все они демоны, принявшие фантастические облики, чтоб
сделать мне зло и привести меня в такое положение? Если же ты желаешь
убедиться, что это правда, дотронься до них и пощупай их, и ты увидишь, что
у них нет тела, а только воздух, нет в них вещества, а только призрачность.
-- По чести, сеньор, -- ответил Санчо, -- я уже дотрагивался до них, и
вот тот дьявол, который так хлопочет около нас: у него твердое, крепкое тело
и есть еще другое свойство, совсем непохожее на то, которым, как я слышал,
отличаются демоны; потому что говорят, будто от всех от них несет серой и
другими скверными запахами, а этот на расстоянии полумили благоухает амброй.
Санчо говорил это о доне Фернандо, от которого, как от очень знатного
сеньора, действительно должно было пахнуть, как говорил Санчо.
-- Не удивляйся этому, Санчо, друг,-- ответил Дон Кихот, -- так как я
должен сказать тебе, что дьяволы многое знают, и хотя бы они и
распространяли кругом себя запах, от них ничем не пахнет, потому что они --
духи, а если от них и пахнет, то не может пахнуть чем-либо хорошим, а только
дурным и зловонным. Причина та, что, где бы они ни были, они с собою несут
ад и не могут найти никакого облегчения своим мукам, а так как благоуханье
-- вещь, доставляющая удовольствие и наслаждение, то и невозможно, чтобы от
них благоухало. Если же тебе показалось, что от того демона, о котором ты
говорил, несет амброй, -- или ты ошибаешься, или же он желает обмануть тебя,
чтобы ты его не принимал за демона.
Весь этот разговор слуга и господин вели между собой; и дон Фернандо и
Карденио, опасаясь, чтобы Санчо окончательно не раскрыл их выдумки -- к чему
он уже был очень близок, -- решили поспешить с отъездом. Итак, отозвав в
сторону хозяина постоялого двора, они велели ему оседлать Росинанта и осла
Санчо, что хозяин очень быстро и исполнил. А между тем священник уже
договорился с куадрильеро, чтобы те сопровождали их до села за известную
поденную плату. Карденио повесил к седлу Росинанта с одной стороны лук и
щит, с другой -- таз и приказал знаком Санчо сесть на осла и взять за повод
Росинанта; по обеим же сторонам повозки он поставил двух куадрильеросов с
винтовками. Но прежде чем процессия двинулась, вышла хозяйка постоялого
двора, ее дочь и Мариторнес, чтобы проститься с Дон Кихотом, притворяясь,
что они плачут с горя над его несчастием, -- а Дон Кихот сказал им:
-- Не плачьте, добрые мои сеньоры, такого рода несчастиям подвержены
все рыцари, следующие призванию, которому следую я, и, если б эти бедствия
не случились со мной, я не считал бы себя знаменитым странствующим рыцарем,
потому что с рыцарями малого имени и славы никогда не приключаются подобные
случаи, так как никто в мире не помнит о них. С доблестными же рыцарями это
бывает потому, что заслугам и мужеству их завидуют многие князья и иные
рыцари, которые стараются злыми путями погубить добрых. Но тем не менее
добродетель так могущественна, что она сама по себе, несмотря на все
чернокнижие, которое знал первый изобретатель его, Зороастр, выйдет
победительницей из всех затруднений и прольет свой свет над миром, как
проливает его солнце на небе. Простите мне, прекрасные сеньоры, если я по
оплошности своей причинил вам какое-либо неудовольствие, так как намеренно и
умышлено я никому никогда не причинял его; просите Бога, чтобы Он избавил
меня от этих оков, на которые осудил меня какой-нибудь злонамеренный
чародей, и, если я освобожусь от них, из моей памяти не изгладятся милости,
которые вы мне в этом замке оказывали, и я сумею отблагодарить, служить вам
и вознаградить за них, как они того стоят.
 Пока этот разговор происходил между дамами замка и Дон Кихотом,
священник и цирюльник прощались с доном Фернандо и его товарищами, с
капитаном и его братом и со всеми столь довольными сеньорами, в особенности
с Доротеей и Люсиндой. Все обнимались друг с другом и обещали извещать о
том, что с ними случится, а дон Фернандо дал священнику адрес, куда ему
писать, чтобы узнать обо всем касающемся Дон Кихота, уверяя его, что нет
вещи, которая доставила бы ему большее удовольствие, чем эти сведения; со
своей стороны, он напишет священнику обо всем, что может ему доставить
удовольствие, -- как о своей свадьбе, так и о крестинах Сораиды, о судьбе
дона Люиса и о возвращении Люсинды к ее родителям. Священник обещал точно
исполнить то, о чем он его просил. Еще раз они обнялись друг с другом и еще
раз взаимно обменялись предложениями услуг. Хозяин подошел к священнику и
подал ему несколько исписанных листов, говоря, что он их нашел в подкладке
чемоданчика, где лежала "Повесть о Безрассудно-любопытном"; и так как
собственник чемоданчика больше не возвращался сюда, то пусть священник
возьмет все это себе, потому что он, хозяин, не умеет читать, и эти бумаги
ему не нужны. Священник поблагодарил, раскрыл рукопись и увидел в самом ее
начале слова: "Повесть о Ринконете и Кортадильо" {"Novella de Rinconete и
Cortadillo" -- одна из повестей самого Сервантеса в "Novelas Exemplares ",
впервые напечатанная им в 1613 г.}, из чего он понял, что это какой-нибудь
рассказ, и вывел заключение: если "Повесть о Безрассудно-любопытном" была
хороша, может, и эта будет такой же и, пожалуй, еще обе написаны одним и тем
же автором. Итак, он взял ее с собой, намереваясь при случае прочесть ее.
Затем он сел верхом, а также и его друг цирюльник, оба в масках, чтобы Дон
Кихот не узнал их сразу, и они поехали позади повозки, причем соблюдался
следующий порядок: впереди ехала повозка, которою правил ее собственник; по
сторонам ее шли, как уже было сказано, куадрильеросы со своими кремневыми
ружьями, тотчас же затем следовал Санчо на осле, ведя в поводу Росинанта; а
позади всех ехали священник и цирюльник на своих могучих мулах, с
прикрытыми, как уже было сказано, лицами и с серьезной и важной осанкой,
подвигаясь не быстрее того, чем это дозволял медлительный шаг волов. Дон
Кихот сидел в клетке со связанными руками, с вытянутыми ногами,
прислонившись спиной к решетке, такой молчаливый и кроткий, точно это был не
человек из плоти и крови, а каменное изваяние. Итак, безмолвно и медленно
проехали они около двух миль, пока не добрались до поляны, которая
показалась возчику удобным местом, чтобы здесь дать отдохнуть волам и
покормить их. Он сказал об этом священнику, но цирюльник посоветовал ехать
несколько дальше, так как он знал, что за холмом, который уже был виден
поблизости, есть другая долина, с более густой и лучшей травой, чем та, где
они хотят остановиться. Совет цирюльника был принят и они снова продолжали
свой путь.
В это время священник повернул голову и увидел, что за ними едет верхом
шесть или семь человек, хорошо одетых и снаряженных, которые быстро их
догнали, потому что они ехали не лениво и медленно, как шли волы, а верхом
на мулах каноников и с желанием поскорее добраться для сиесты на постоялый
двор, отстоявший меньше чем на милю оттуда. Быстрые догнали медленных, и те
и другие вежливо приветствовали друг друга, а один из подъехавших,
оказавшийся каноником из Толедо и господином всех, которые его сопровождали,
видя движущуюся в таком порядке процессию, состоявшую из повозки,
куадрильеросов, Санчо Пансы, Росинанта, священника, цирюльника и главным
образом Дон Кихота, сидевшего в клетке со связанными руками, не мог
удержаться, чтобы не спросить, вследствие чего везут таким образом этого
человека, хотя он уже догадался, увидав отличительные признаки
куадрильеросов, что, должно быть, это какой-нибудь окаянный грабитель с
больших дорог или же другого рода преступник, карать которого надлежало
Святой эрмандаде. Один из куадрильеросов, к которому он обратился с этим
вопросом, ответил следующим образом:
-- Сеньор, о том, почему везут таким образом этого кабальеро, спросите
его самого, так как мы этого не знаем.
Дон Кихот слышал разговор и сказал:
-- Быть может, вы, милости ваши, сеньоры рыцари, люди сведущие и
опытные в делах странствующего рыцарства, и если это так, я вам сообщу о
моих несчастиях, если же нет, -- мне незачем утомлять себя рассказом о них.
Между тем подъехали уже священник и цирюльник, и, увидав, что проезжие
вступили в разговор с Дон Кихотом Ламанчским, они поспешили так ответить,
чтобы их хитрость не была открыта. На вопрос Дон Кихота каноник сказал ему:
-- По правде говоря, брат, я больше знаю толк в рыцарских книгах, чем в
"Sumulas" Вильальпандо {"La Suma de las Sumulas" Гаспара Кардильо де
Вильальпандо, напечатанное в Алькале в 1557 г., было вто время
общераспространенным руководством по первым правилам логики.}, так что, если
суть в этом, вы можете спокойно сообщить мне все, что желаете.
-- В добрый час, -- ответил Дон Кихот, -- раз это так, сеньор
кабальеро, я желаю, чтобы вы знали, что меня везут в этой клетке,
очарованного вследствие зависти и обмана злых чародеев, так как добродетель
больше преследуется злыми, чем ее любят добрые. Я -- странствующий рыцарь, и
не из тех, чьи имена слава никогда не вспомнила, чтобы увековечить их в
своих летописях. Я из тех, что наперекор и назло самой зависти и всем магам,
сколько бы их ни произвела Персия, браминов -- Индия, и гинософистов --
Эфиопия, внесут свое имя в списки храма бессмертия, чтобы оно служило
примером и образцом для грядущих веков и странствующие рыцари знали бы, по
чьим стопам им надо идти, если они желают достигнуть вершины и почетного
апогея оружия.
-- Сеньор Дон Кихот Ламанчский говорит правду, -- сказал тогда
священник, -- потому что везут его очарованным в этой клетке не за его вину
или проступок, а вследствие злобы тех, кого добродетель раздражает, а
доблесть оскорбляет. Это, сеньор. Рыцарь Печального Образа -- если вы, быть
может, уже слышали о нем, -- доблестные подвиги и высокие деяния которого
будут вписаны на твердой бронзе и вековечном мраморе, сколько бы зависть ни
старалась неутомимо омрачить их, а зложелательство -- скрыть их.
Когда каноник услышал, что и пленный и находящийся на свободе говорят
таким языком, он чуть было не сотворил крестного знамения от изумления и не
мог понять, что это с ним приключилось, и изумление его разделяли и все
ехавшие с ним. Но тут Санчо Панса, который приблизился послушать разговор,
сказал, чтобы все разъяснить:
-- Сеньоры, понравится ли вам или не понравится то, что я скажу, но
дело в том, что господин мой Дон Кихот так же очарован, как и моя мать. Он в
полном рассудке, он ест и пьет и отправляет все свои нужды, как и остальные
люди и как он это делал вчера, прежде чем его посадили в клетку. А раз это
так, как же хотят заставить меня поверить, что он очарован? Ведь я слышал от
многих людей, что очарованные не едят, не спят и не разговаривают, а мой
господин -- если дать ему волю -- наговорил бы больше тридцати юристов. -- И
обернувшись, чтобы взглянуть на священника, он продолжал, говоря: -- Ах,
сеньор священник, сеньор священник! Думали ли вы, милость ваша, что я не
узнал вас? Или же что я не понимаю и не догадываюсь, к чему клонят эти новые
очарования? Так знайте же, что я вас узнал, как бы вы ни закрывали себе
лицо, и хорошо вас понимаю, как бы вы ни скрывали ваши хитрости. Одним
словом, где властвует зависть, там не может жить добродетель, и где
скупость, там не уживется щедрость. Проклят будь дьявол, -- и если бы не
ваше преподобие, мой господин был бы теперь женат на инфанте Микомиконе, а я
был бы по крайней мере графом, потому что меньшего я не мог бы ждать ни от
доброты моего сеньора Печального Образа, ни от значительности моих услуг. Но
я вижу теперь, правда то, что у нас здесь говорят, будто колесо судьбы
вертится быстрее мельничьего колеса, и те, что вчера были на верху величия,
сегодня лежат на земле. Я огорчен только из-за моих детей и моей жены: когда
они могли и должны были надеяться, что отец их войдет к ним в двери
губернатором или вице-королем какого-нибудь острова или королевства, они
увидят его входящим простым конюхом. Все это, сеньор священник, я сказал
только потому, чтобы побудить ваше преподобие посовеститься так дурно
обходиться с моим сеньором, и смотрите остерегайтесь, не потребовал бы у вас
в будущей жизни Бог отчета за это заточение моего господина и не обвинил бы
вас за то, что сеньор мой Дон Кихот был лишен возможности оказывать помощь и
делать добро в то время, когда он находился в заключенье.
-- Подправьте-ка мне эти лампы! {AdСbame esos candilos --
простонародное общеупотребительное выражение, означающее нечто вроде
"полно", "довольно".} -- сказал тогда цирюльник. -- Как, и вы тоже, Санчо,
член братства вашего господина? Как жив бог, мне сдается, что и вам придется
сесть заодно с ним в клетку и быть, как и он, очарованным, потому что вы
заразились его причудами и его рыцарством. Не в добрую минуту отяжелели вы
его обещаниями и не в добрый час вбили себе в голову остров, который вы так
сильно желаете.
-- Ничем я не отяжелел, -- ответил Санчо, -- и не такой я человек,
чтобы отяжелеть хотя бы от самого короля; хотя я и беден, я старый
христианин и никому ничего не должен; и если я желаю островов, другие желают
кой-чего другого, да еще похуже; и каждый -- сын своих дел; и, будучи
мужчиной, я могу сделаться папой, а тем более еще губернатором острова; к
тому же и господин мой может завоевать их столько, что не будет знать, кому
раздать их. Обратите внимание, как вы говорите, милость ваша, сеньор
цирюльник; потому что не вся сила в том, чтоб брить бороды, и есть разница
между одним и другим Петром. Говорю это, потому что все мы знаем друг друга
и мне незачем подбрасывать фальшивую игральную кость {Т. е. стараться
провести меня.}; а что касается этого очарования моего господина, правда
известна Богу, и пусть все остается как есть, потому что разворачивать еще
хуже.
Цирюльник не пожелал ответить Санчо, чтобы он простодушными своими
рассуждениями не обнаружил того, что цирюльник и священник так тщательно
старались скрыть. Побуждаемый тем же опасением, священник попросил каноника
проехать с ним немного вперед, и тогда он объяснит ему тайну посаженного в
клетку, а также расскажет и другие вещи, которые его позабавят.
Каноник так и сделал и, проехав с ним и со своими слугами вперед,
внимательно стал слушать все, что ему рассказывал о нравах, жизни, безумии и
привычках Дон Кихота священник, который вкратце сообщил ему о начале и
причине помешательства рыцаря, обо всех случившихся с ним приключениях до
того, как они его усадили в клетку, и об их намерении отвезти его на родину
и посмотреть, не найдется ли какое-нибудь средство для излечения его от его
умопомешательства. Каноник и его слуги снова изумились, слушая странную
историю Дон Кихота, а выслушав ее, каноник сказал:
-- Действительно, сеньор священник, и я, со своей стороны, нахожу, что
книги, называемые рыцарскими, приносят обществу вред, хотя я и сам,
побуждаемый скукой и дурным вкусом, прочел начало почти всех подобных книг,
имеющихся в печати, но никогда не мог решиться которую-нибудь из них
прочесть от начала до конца, потому что мне кажется, что все они более или
менее повторение одного и того же и что и в этой книге не больше
заключается, чем в той, и в той нет лучшего, чем в этой. По моему мнению,
этот род писания и сочинительства очень близко подходит к разряду басен,
называемых милезийскими {О милезийских баснях, положивших начало литературе
вымысла, ничего другого не известно, кроме того что они принадлежали к
разряду "веселых" вещей и что юмор их состоял в непристойности.}, которые
просто нелепые сказки, имеющие в виду только забавить, а не поучать, в
противоположность апологическим басням, которые одновременно и развлекают, и
поучают. И даже если главная цель этих книг -- забавлять, я не знаю, как они
могут достигнуть этого, будучи переполнены столькими и такими чудовищными
нелепостями. Наслаждение, воспринимаемое душой, должно ведь истекать из
красоты и соразмерности, которую мы видим и созерцаем во всем, что глаза или
воображение предъявляют нам; а то, что само в себе заключает безобразие или
несоразмерность, не может доставить нам никакого удовольствия. Но какая же
красота или какая же соразмерность частей с целым и целого с частями может
заключаться в книге или в рассказе, где юноша шестнадцати лет обрушивается
на великана вышиной с башню ударом меча и разрубает его на две половины,
точно он сделан из сахарного теста с миндалем? Или когда нам описывают
битву, говоря, что со стороны неприятеля -- миллион сражающихся, а против
них выступает один лишь герой рассказа, и мы волей-неволей, и как бы нам это
ни было трудно, должны верить, что этот рыцарь одержал победу единственно
лишь благодаря доблести своей руки? Или что можем мы сказать о той легкости,
с которою какая-нибудь королева или наследная императрица бросаются в
объятия странствующего и неведомого ей рыцаря? Какой ум -- если он только не
вполне груб и неразвит -- может удовольствоваться, читая, что высокая башня,
наполненная рыцарями, плывет по морю, как корабль с попутным ветром, и
сегодня ночует в Ломбардии, а завтра утром очутится во владениях священника
Иоанна Индейского {Столь распространенная в Средние века легенда об Иоанне
Индейском была предметом многих споров и исследований. Новейшая теория
отождествляет Иоанна с Veliu Taschi (XII в.), основателем империи Каракитая,
завоевавшего Восточный и Западный Туркестан, столица которого была в
Бала-Сагуне, недалеко от Ташкента.} или в какой-нибудь другой стране,
которую ни Птолемей никогда не открывал, ни Марко Поло не видел. И если мне
на это скажут, что те, которые сочиняют подобные книги, пишут их, выдавая за
вымысел и ложь, и потому не обязаны заботиться о точности и правде, я
отвечу, что ложь тем лучше, чем она более похожа на истину, и тем более
нравится, чем более заключает в себе возможного и вероятного. Вымышленные
рассказы должны подходить к пониманию тех, кто их читает, и быть написаны
так, чтоб, смягчая невозможное, сглаживая чрезмерное, делая доступным
возвышенное, они бы удивляли, интересовали, возбуждали и забавляли таким
образом, чтоб удивление и наслаждение шли рука об руку. А всего этого не
может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания
действительности, в чем именно и заключается совершенство писания. Я не
видел ни одной рыцарской книги с целым остовом вымысла и всеми его членами,
так чтобы середина соответствовала началу, а конец соответствовал началу и
середине, а составляют их из такого множества членов, что скорее кажется,
будто бы имеют намерение создать химеру или чудовище, чем стройный образ.
Сверх того, слог у них жесткий, описываемые подвиги невероятны, любовь
непристойна, любезность нагла, описания битв растянуты, разговоры вздорны,
путешествия нелепы и, наконец, далеки от всякого ума и художественности, и
поэтому они, как бесполезный люд, заслуживают быть изгнанными из
христианского государства.
Священник слушал каноника с большим вниманием, и он показался ему
человеком весьма рассудительным, который совершенно прав в том, что говорил.
Итак, он ему сказал, что, будучи одного с ним мнения и питая злобу к
рыцарским книгам, он сжег все принадлежавшие Дон Кихоту, а было их много; и
сообщил также об устроенном им над книгами следствии и о том, какие из них
он предал огню, каким даровал жизнь. Каноник немало смеялся над этим и
сказал:
-- Несмотря на все дурное, что он говорил о такого рода книгах, он
находит в них одну хорошую сторону, а именно сюжет, дающий возможность
талантливому человеку широко развернуться; здесь ему открывается обширное и
просторное поле, где без всякой помехи может свободно разгуливать перо,
описывая кораблекрушения, бури, состязания, сражения; рисуя доблестного
полководца, одаренного всеми нужными для этого качествами; показывая нам его
проницательным в предупреждении хитрости врагов, красноречивым оратором,
умеющим воспламенять или сдерживать своих солдат; мудрым на совете,
стремительным в исполнении, столь же стойким в обороне, как и в нападении;
изображая то плачевное и трагическое событие, то веселое и неожиданное
происшествие; тут прекраснейшую даму, добродетельную, умную и скромную; там
рыцаря-христианина, храброго и любезного; в одном месте бездушного, наглого
хвастуна, в другом -- учтивого принца, мужественного и мудрого; изображая
верность и преданность вассалов и возвышенность и великодушие сеньоров. Он
может явиться то астрологом, то прекрасным космографом, то музыкантом, то
государственным деятелем; а иногда, если пожелает, ему представится случай
выказать себя и чернокнижником. Он может изобразить хитрости Улисса,
благочестие Энея, доблести Ахилла, несчастия Гектора, измену Синона, дружбу
Эвриала, щедрость Александра, мужество Цезаря, милосердие и справедливость
Трояна, верность Зопира, мудрость Катона, -- словом, все те достоинства,
которые могут довершить образ выдающегося героя, то соединяя их в одном, то
распределяя между многими. И если это будет сделано приятным слогом, при
остроумном вымысле, который как можно ближе подходил бы к правде, автор,
несомненно, создаст ткань, составленную из разнообразных и прекрасных нитей,
и она, как только будет доведена до конца, явит такое совершенство и
красоту, что достигнет высшей цели, к какой стремятся в произведениях,
именно: одновременно и услаждать и поучать, как я уже говорил; потому что
простор, представляемый подобного рода писанием, дает возможность автору
выказать себя эпиком, лириком, трагиком, комиком и проявить себя во всех
областях, которые заключает в себе сладостное и привлекательное искусство
поэзии и красноречия; ведь эпос может также быть написан как прозой, так и
стихами.
Пока этот разговор происходил между дамами замка и Дон Кихотом,
священник и цирюльник прощались с доном Фернандо и его товарищами, с
капитаном и его братом и со всеми столь довольными сеньорами, в особенности
с Доротеей и Люсиндой. Все обнимались друг с другом и обещали извещать о
том, что с ними случится, а дон Фернандо дал священнику адрес, куда ему
писать, чтобы узнать обо всем касающемся Дон Кихота, уверяя его, что нет
вещи, которая доставила бы ему большее удовольствие, чем эти сведения; со
своей стороны, он напишет священнику обо всем, что может ему доставить
удовольствие, -- как о своей свадьбе, так и о крестинах Сораиды, о судьбе
дона Люиса и о возвращении Люсинды к ее родителям. Священник обещал точно
исполнить то, о чем он его просил. Еще раз они обнялись друг с другом и еще
раз взаимно обменялись предложениями услуг. Хозяин подошел к священнику и
подал ему несколько исписанных листов, говоря, что он их нашел в подкладке
чемоданчика, где лежала "Повесть о Безрассудно-любопытном"; и так как
собственник чемоданчика больше не возвращался сюда, то пусть священник
возьмет все это себе, потому что он, хозяин, не умеет читать, и эти бумаги
ему не нужны. Священник поблагодарил, раскрыл рукопись и увидел в самом ее
начале слова: "Повесть о Ринконете и Кортадильо" {"Novella de Rinconete и
Cortadillo" -- одна из повестей самого Сервантеса в "Novelas Exemplares ",
впервые напечатанная им в 1613 г.}, из чего он понял, что это какой-нибудь
рассказ, и вывел заключение: если "Повесть о Безрассудно-любопытном" была
хороша, может, и эта будет такой же и, пожалуй, еще обе написаны одним и тем
же автором. Итак, он взял ее с собой, намереваясь при случае прочесть ее.
Затем он сел верхом, а также и его друг цирюльник, оба в масках, чтобы Дон
Кихот не узнал их сразу, и они поехали позади повозки, причем соблюдался
следующий порядок: впереди ехала повозка, которою правил ее собственник; по
сторонам ее шли, как уже было сказано, куадрильеросы со своими кремневыми
ружьями, тотчас же затем следовал Санчо на осле, ведя в поводу Росинанта; а
позади всех ехали священник и цирюльник на своих могучих мулах, с
прикрытыми, как уже было сказано, лицами и с серьезной и важной осанкой,
подвигаясь не быстрее того, чем это дозволял медлительный шаг волов. Дон
Кихот сидел в клетке со связанными руками, с вытянутыми ногами,
прислонившись спиной к решетке, такой молчаливый и кроткий, точно это был не
человек из плоти и крови, а каменное изваяние. Итак, безмолвно и медленно
проехали они около двух миль, пока не добрались до поляны, которая
показалась возчику удобным местом, чтобы здесь дать отдохнуть волам и
покормить их. Он сказал об этом священнику, но цирюльник посоветовал ехать
несколько дальше, так как он знал, что за холмом, который уже был виден
поблизости, есть другая долина, с более густой и лучшей травой, чем та, где
они хотят остановиться. Совет цирюльника был принят и они снова продолжали
свой путь.
В это время священник повернул голову и увидел, что за ними едет верхом
шесть или семь человек, хорошо одетых и снаряженных, которые быстро их
догнали, потому что они ехали не лениво и медленно, как шли волы, а верхом
на мулах каноников и с желанием поскорее добраться для сиесты на постоялый
двор, отстоявший меньше чем на милю оттуда. Быстрые догнали медленных, и те
и другие вежливо приветствовали друг друга, а один из подъехавших,
оказавшийся каноником из Толедо и господином всех, которые его сопровождали,
видя движущуюся в таком порядке процессию, состоявшую из повозки,
куадрильеросов, Санчо Пансы, Росинанта, священника, цирюльника и главным
образом Дон Кихота, сидевшего в клетке со связанными руками, не мог
удержаться, чтобы не спросить, вследствие чего везут таким образом этого
человека, хотя он уже догадался, увидав отличительные признаки
куадрильеросов, что, должно быть, это какой-нибудь окаянный грабитель с
больших дорог или же другого рода преступник, карать которого надлежало
Святой эрмандаде. Один из куадрильеросов, к которому он обратился с этим
вопросом, ответил следующим образом:
-- Сеньор, о том, почему везут таким образом этого кабальеро, спросите
его самого, так как мы этого не знаем.
Дон Кихот слышал разговор и сказал:
-- Быть может, вы, милости ваши, сеньоры рыцари, люди сведущие и
опытные в делах странствующего рыцарства, и если это так, я вам сообщу о
моих несчастиях, если же нет, -- мне незачем утомлять себя рассказом о них.
Между тем подъехали уже священник и цирюльник, и, увидав, что проезжие
вступили в разговор с Дон Кихотом Ламанчским, они поспешили так ответить,
чтобы их хитрость не была открыта. На вопрос Дон Кихота каноник сказал ему:
-- По правде говоря, брат, я больше знаю толк в рыцарских книгах, чем в
"Sumulas" Вильальпандо {"La Suma de las Sumulas" Гаспара Кардильо де
Вильальпандо, напечатанное в Алькале в 1557 г., было вто время
общераспространенным руководством по первым правилам логики.}, так что, если
суть в этом, вы можете спокойно сообщить мне все, что желаете.
-- В добрый час, -- ответил Дон Кихот, -- раз это так, сеньор
кабальеро, я желаю, чтобы вы знали, что меня везут в этой клетке,
очарованного вследствие зависти и обмана злых чародеев, так как добродетель
больше преследуется злыми, чем ее любят добрые. Я -- странствующий рыцарь, и
не из тех, чьи имена слава никогда не вспомнила, чтобы увековечить их в
своих летописях. Я из тех, что наперекор и назло самой зависти и всем магам,
сколько бы их ни произвела Персия, браминов -- Индия, и гинософистов --
Эфиопия, внесут свое имя в списки храма бессмертия, чтобы оно служило
примером и образцом для грядущих веков и странствующие рыцари знали бы, по
чьим стопам им надо идти, если они желают достигнуть вершины и почетного
апогея оружия.
-- Сеньор Дон Кихот Ламанчский говорит правду, -- сказал тогда
священник, -- потому что везут его очарованным в этой клетке не за его вину
или проступок, а вследствие злобы тех, кого добродетель раздражает, а
доблесть оскорбляет. Это, сеньор. Рыцарь Печального Образа -- если вы, быть
может, уже слышали о нем, -- доблестные подвиги и высокие деяния которого
будут вписаны на твердой бронзе и вековечном мраморе, сколько бы зависть ни
старалась неутомимо омрачить их, а зложелательство -- скрыть их.
Когда каноник услышал, что и пленный и находящийся на свободе говорят
таким языком, он чуть было не сотворил крестного знамения от изумления и не
мог понять, что это с ним приключилось, и изумление его разделяли и все
ехавшие с ним. Но тут Санчо Панса, который приблизился послушать разговор,
сказал, чтобы все разъяснить:
-- Сеньоры, понравится ли вам или не понравится то, что я скажу, но
дело в том, что господин мой Дон Кихот так же очарован, как и моя мать. Он в
полном рассудке, он ест и пьет и отправляет все свои нужды, как и остальные
люди и как он это делал вчера, прежде чем его посадили в клетку. А раз это
так, как же хотят заставить меня поверить, что он очарован? Ведь я слышал от
многих людей, что очарованные не едят, не спят и не разговаривают, а мой
господин -- если дать ему волю -- наговорил бы больше тридцати юристов. -- И
обернувшись, чтобы взглянуть на священника, он продолжал, говоря: -- Ах,
сеньор священник, сеньор священник! Думали ли вы, милость ваша, что я не
узнал вас? Или же что я не понимаю и не догадываюсь, к чему клонят эти новые
очарования? Так знайте же, что я вас узнал, как бы вы ни закрывали себе
лицо, и хорошо вас понимаю, как бы вы ни скрывали ваши хитрости. Одним
словом, где властвует зависть, там не может жить добродетель, и где
скупость, там не уживется щедрость. Проклят будь дьявол, -- и если бы не
ваше преподобие, мой господин был бы теперь женат на инфанте Микомиконе, а я
был бы по крайней мере графом, потому что меньшего я не мог бы ждать ни от
доброты моего сеньора Печального Образа, ни от значительности моих услуг. Но
я вижу теперь, правда то, что у нас здесь говорят, будто колесо судьбы
вертится быстрее мельничьего колеса, и те, что вчера были на верху величия,
сегодня лежат на земле. Я огорчен только из-за моих детей и моей жены: когда
они могли и должны были надеяться, что отец их войдет к ним в двери
губернатором или вице-королем какого-нибудь острова или королевства, они
увидят его входящим простым конюхом. Все это, сеньор священник, я сказал
только потому, чтобы побудить ваше преподобие посовеститься так дурно
обходиться с моим сеньором, и смотрите остерегайтесь, не потребовал бы у вас
в будущей жизни Бог отчета за это заточение моего господина и не обвинил бы
вас за то, что сеньор мой Дон Кихот был лишен возможности оказывать помощь и
делать добро в то время, когда он находился в заключенье.
-- Подправьте-ка мне эти лампы! {AdСbame esos candilos --
простонародное общеупотребительное выражение, означающее нечто вроде
"полно", "довольно".} -- сказал тогда цирюльник. -- Как, и вы тоже, Санчо,
член братства вашего господина? Как жив бог, мне сдается, что и вам придется
сесть заодно с ним в клетку и быть, как и он, очарованным, потому что вы
заразились его причудами и его рыцарством. Не в добрую минуту отяжелели вы
его обещаниями и не в добрый час вбили себе в голову остров, который вы так
сильно желаете.
-- Ничем я не отяжелел, -- ответил Санчо, -- и не такой я человек,
чтобы отяжелеть хотя бы от самого короля; хотя я и беден, я старый
христианин и никому ничего не должен; и если я желаю островов, другие желают
кой-чего другого, да еще похуже; и каждый -- сын своих дел; и, будучи
мужчиной, я могу сделаться папой, а тем более еще губернатором острова; к
тому же и господин мой может завоевать их столько, что не будет знать, кому
раздать их. Обратите внимание, как вы говорите, милость ваша, сеньор
цирюльник; потому что не вся сила в том, чтоб брить бороды, и есть разница
между одним и другим Петром. Говорю это, потому что все мы знаем друг друга
и мне незачем подбрасывать фальшивую игральную кость {Т. е. стараться
провести меня.}; а что касается этого очарования моего господина, правда
известна Богу, и пусть все остается как есть, потому что разворачивать еще
хуже.
Цирюльник не пожелал ответить Санчо, чтобы он простодушными своими
рассуждениями не обнаружил того, что цирюльник и священник так тщательно
старались скрыть. Побуждаемый тем же опасением, священник попросил каноника
проехать с ним немного вперед, и тогда он объяснит ему тайну посаженного в
клетку, а также расскажет и другие вещи, которые его позабавят.
Каноник так и сделал и, проехав с ним и со своими слугами вперед,
внимательно стал слушать все, что ему рассказывал о нравах, жизни, безумии и
привычках Дон Кихота священник, который вкратце сообщил ему о начале и
причине помешательства рыцаря, обо всех случившихся с ним приключениях до
того, как они его усадили в клетку, и об их намерении отвезти его на родину
и посмотреть, не найдется ли какое-нибудь средство для излечения его от его
умопомешательства. Каноник и его слуги снова изумились, слушая странную
историю Дон Кихота, а выслушав ее, каноник сказал:
-- Действительно, сеньор священник, и я, со своей стороны, нахожу, что
книги, называемые рыцарскими, приносят обществу вред, хотя я и сам,
побуждаемый скукой и дурным вкусом, прочел начало почти всех подобных книг,
имеющихся в печати, но никогда не мог решиться которую-нибудь из них
прочесть от начала до конца, потому что мне кажется, что все они более или
менее повторение одного и того же и что и в этой книге не больше
заключается, чем в той, и в той нет лучшего, чем в этой. По моему мнению,
этот род писания и сочинительства очень близко подходит к разряду басен,
называемых милезийскими {О милезийских баснях, положивших начало литературе
вымысла, ничего другого не известно, кроме того что они принадлежали к
разряду "веселых" вещей и что юмор их состоял в непристойности.}, которые
просто нелепые сказки, имеющие в виду только забавить, а не поучать, в
противоположность апологическим басням, которые одновременно и развлекают, и
поучают. И даже если главная цель этих книг -- забавлять, я не знаю, как они
могут достигнуть этого, будучи переполнены столькими и такими чудовищными
нелепостями. Наслаждение, воспринимаемое душой, должно ведь истекать из
красоты и соразмерности, которую мы видим и созерцаем во всем, что глаза или
воображение предъявляют нам; а то, что само в себе заключает безобразие или
несоразмерность, не может доставить нам никакого удовольствия. Но какая же
красота или какая же соразмерность частей с целым и целого с частями может
заключаться в книге или в рассказе, где юноша шестнадцати лет обрушивается
на великана вышиной с башню ударом меча и разрубает его на две половины,
точно он сделан из сахарного теста с миндалем? Или когда нам описывают
битву, говоря, что со стороны неприятеля -- миллион сражающихся, а против
них выступает один лишь герой рассказа, и мы волей-неволей, и как бы нам это
ни было трудно, должны верить, что этот рыцарь одержал победу единственно
лишь благодаря доблести своей руки? Или что можем мы сказать о той легкости,
с которою какая-нибудь королева или наследная императрица бросаются в
объятия странствующего и неведомого ей рыцаря? Какой ум -- если он только не
вполне груб и неразвит -- может удовольствоваться, читая, что высокая башня,
наполненная рыцарями, плывет по морю, как корабль с попутным ветром, и
сегодня ночует в Ломбардии, а завтра утром очутится во владениях священника
Иоанна Индейского {Столь распространенная в Средние века легенда об Иоанне
Индейском была предметом многих споров и исследований. Новейшая теория
отождествляет Иоанна с Veliu Taschi (XII в.), основателем империи Каракитая,
завоевавшего Восточный и Западный Туркестан, столица которого была в
Бала-Сагуне, недалеко от Ташкента.} или в какой-нибудь другой стране,
которую ни Птолемей никогда не открывал, ни Марко Поло не видел. И если мне
на это скажут, что те, которые сочиняют подобные книги, пишут их, выдавая за
вымысел и ложь, и потому не обязаны заботиться о точности и правде, я
отвечу, что ложь тем лучше, чем она более похожа на истину, и тем более
нравится, чем более заключает в себе возможного и вероятного. Вымышленные
рассказы должны подходить к пониманию тех, кто их читает, и быть написаны
так, чтоб, смягчая невозможное, сглаживая чрезмерное, делая доступным
возвышенное, они бы удивляли, интересовали, возбуждали и забавляли таким
образом, чтоб удивление и наслаждение шли рука об руку. А всего этого не
может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания
действительности, в чем именно и заключается совершенство писания. Я не
видел ни одной рыцарской книги с целым остовом вымысла и всеми его членами,
так чтобы середина соответствовала началу, а конец соответствовал началу и
середине, а составляют их из такого множества членов, что скорее кажется,
будто бы имеют намерение создать химеру или чудовище, чем стройный образ.
Сверх того, слог у них жесткий, описываемые подвиги невероятны, любовь
непристойна, любезность нагла, описания битв растянуты, разговоры вздорны,
путешествия нелепы и, наконец, далеки от всякого ума и художественности, и
поэтому они, как бесполезный люд, заслуживают быть изгнанными из
христианского государства.
Священник слушал каноника с большим вниманием, и он показался ему
человеком весьма рассудительным, который совершенно прав в том, что говорил.
Итак, он ему сказал, что, будучи одного с ним мнения и питая злобу к
рыцарским книгам, он сжег все принадлежавшие Дон Кихоту, а было их много; и
сообщил также об устроенном им над книгами следствии и о том, какие из них
он предал огню, каким даровал жизнь. Каноник немало смеялся над этим и
сказал:
-- Несмотря на все дурное, что он говорил о такого рода книгах, он
находит в них одну хорошую сторону, а именно сюжет, дающий возможность
талантливому человеку широко развернуться; здесь ему открывается обширное и
просторное поле, где без всякой помехи может свободно разгуливать перо,
описывая кораблекрушения, бури, состязания, сражения; рисуя доблестного
полководца, одаренного всеми нужными для этого качествами; показывая нам его
проницательным в предупреждении хитрости врагов, красноречивым оратором,
умеющим воспламенять или сдерживать своих солдат; мудрым на совете,
стремительным в исполнении, столь же стойким в обороне, как и в нападении;
изображая то плачевное и трагическое событие, то веселое и неожиданное
происшествие; тут прекраснейшую даму, добродетельную, умную и скромную; там
рыцаря-христианина, храброго и любезного; в одном месте бездушного, наглого
хвастуна, в другом -- учтивого принца, мужественного и мудрого; изображая
верность и преданность вассалов и возвышенность и великодушие сеньоров. Он
может явиться то астрологом, то прекрасным космографом, то музыкантом, то
государственным деятелем; а иногда, если пожелает, ему представится случай
выказать себя и чернокнижником. Он может изобразить хитрости Улисса,
благочестие Энея, доблести Ахилла, несчастия Гектора, измену Синона, дружбу
Эвриала, щедрость Александра, мужество Цезаря, милосердие и справедливость
Трояна, верность Зопира, мудрость Катона, -- словом, все те достоинства,
которые могут довершить образ выдающегося героя, то соединяя их в одном, то
распределяя между многими. И если это будет сделано приятным слогом, при
остроумном вымысле, который как можно ближе подходил бы к правде, автор,
несомненно, создаст ткань, составленную из разнообразных и прекрасных нитей,
и она, как только будет доведена до конца, явит такое совершенство и
красоту, что достигнет высшей цели, к какой стремятся в произведениях,
именно: одновременно и услаждать и поучать, как я уже говорил; потому что
простор, представляемый подобного рода писанием, дает возможность автору
выказать себя эпиком, лириком, трагиком, комиком и проявить себя во всех
областях, которые заключает в себе сладостное и привлекательное искусство
поэзии и красноречия; ведь эпос может также быть написан как прозой, так и
стихами.
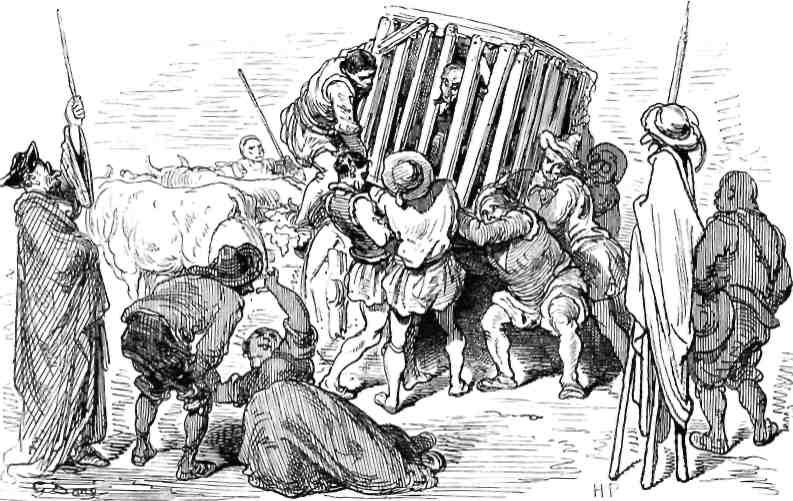
Глава XLVIII, в которой каноник продолжает высказываться по поводу
рыцарских книг и других тем, достойных острого его ума
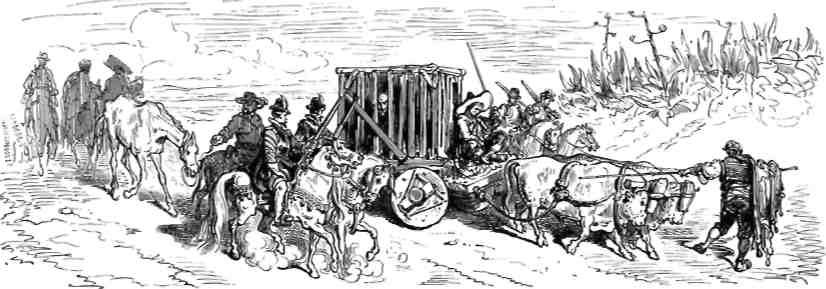 Так оно и есть, как говорит ваша милость сеньор каноник, -- сказал
священник, -- и поэтому заслуживают еще большего порицания те, кто до
настоящего времени сочиняли подобного рода книги, не принимая в соображение
ни здравого смысла, ни искусства и правил, которыми они могли бы
руководствоваться и прославиться в прозе, как прославились в стихах два
князя поэзии -- греческой и латинской.
-- Я, со своей стороны, -- возразил каноник, -- поддался однажды
искушению написать рыцарскую книгу, соблюдая в ней все условия, о которых я
только что упоминал, и, говоря по правде, я написал уже больше ста листов.
Желая испытать, отвечает ли написанное моей собственной оценке, я показал их
людям, страстно увлекающимся такого рода чтением, как ученым и умным, так и
другим -- невеждам, находящим удовольствие лишь в том, чтобы слышать
нелепости, -- и от всех я получил лестное для меня одобрение. Но тем не
менее я не продолжал писать, как потому, что мне это занятие казалось
неподходящим для моего звания, так и убедившись в том, что простаков куда
больше, чем умных, и хотя и лучше быть восхваленным немногими
рассудительными, чем осмеянным многими глупцами, все же я не хочу подвергать
себя сбивчивому суждению надменной толпы, которая по большей части именно и
читает подобного рода книги. Но то, что главным образом побудило меня
отложить эту работу и отказаться от мысли окончить ее, было одно мое
соображение по поводу пьес, которые ставятся у нас на сцене. Если, сказал я
себе, драматические произведения, которые теперь в моде, как основанные на
вымысле, так и исторические, все или большая их часть, -- общеизвестные
нелепости, вещи, не имеющие ни головы, ни ног, а тем не менее публика
слушает их с удовольствием, считая и признавая их хорошими, в то время как
они очень далеки от этого; и если авторы, сочиняющие их, и актеры, играющие
их, говорят, что они должны быть такими, потому что публика требует их
такими, а не иными; и что пьесы, в которых соблюдены все правила и
требования искусства, доставляют удовольствие лишь только трем-четырем
рассудительным людям, которые их поймут, все же остальные неспособны
вникнуть в них и уразуметь их достоинства, и что, со своей стороны, они
предпочитают заработать себе хлеб у многих, чем приобрести известность у
немногих; то же самое случилось бы и с моей книгой после того, как я спалил
бы себе брови, усиливаясь соблюдать вышеупомянутые правила, и оказался бы
похожим на портного из Кантильо {Elsastre del Cantillo queponiadesu
casaagujay hilo ("Портной из Кантильо, отдававший из дому иголки и нитки")
-- пословица, имеющая в виду тех, которые дают работу и материал, не имея
надежды на вознаграждение.}. И хотя я иногда и пытался убеждать актеров, что
они ошибаются, придерживаясь такого рода мнения и могли бы привлекать
гораздо больше публики и приобрели бы больше славы, если бы давали не
теперешние нелепые пьесы, а такие, которые удовлетворяли бы требованиям
искусства, но они так непоколебимо держатся своего мнения, и так срослись с
ним, что никакие доводы и даже сама очевидность не может заставить их
отказаться от него. Как-то однажды я сказал одному из этих упрямых людей:
"Послушайте, не помните ли вы, что несколько лет тому назад в Испании
давались три трагедии, написанные одним знаменитым нашим поэтом, и эти три
трагедии были таковы, что все слушавшие их, как умные, так и глупые, как
простонародье, так и знатные люди, были изумлены, обрадованы и восхищены, и
эти три пьесы дали больше денег актерам, чем тридцать лучших из написанных
после них?" "Ваша милость, -- ответил актер, о котором я говорю, --
подразумевает, без сомнения, "Изабеллу", "Филис" и "Александру V" {Эти три
пьесы написаны Леонардо де Архенсолой -- современником и другом Сервантеса
-- и не заслуживают тех чрезмерных похвал, которые им расточает Сервантес,
равно как и их автор не заслуживал дружбы Сервантеса, за которую он так
плохо отплатил ему.}. Они самые и есть, -- ответил я, -- и посмотрите,
соблюдены ли в них предписания искусства и помешало ли им это соблюдение
казаться тем, чем они были, и всем понравиться; так что виновата не публика,
требующая будто бы нелепостей, а те, которые не умеют изображать ничего
другого. Ведь нет же бессмыслицы ни в "Отомщенной неблагодарности" {Драма
Лопе де Вега.}, ни в "Нумансии" {Трагедия Сервантеса.}, ни в
"Купце-любовнике", ни в "Доброжелательной неприятельнице" {Первая
принадлежит перу Гаспара де Агиляра, вторая -- Франсиско де Тарреги.}, ни в
некоторых других драматических произведениях, написанных несколькими
даровитыми поэтами к чести и славе себе и к выгоде тех, которые играли их
пьесы". К этим моим доводам я добавил еще несколько других и, как мне
казалось, привел его в смущение, но не поколебал и не убедил настолько,
чтобы он отказался от ошибочного своего взгляда.
-- Вы, милость ваша сеньор каноник, -- сказал тогда священник, --
затронули вопрос, пробудивший во мне давнюю мою неприязнь к современным
драмам, не уступающую ненависти моей к рыцарским книгам. Ведь драма, по
мнению Тулио {Изречение Цицерона.}, должна быть зеркалом человеческой жизни,
образцом нравов и изображением истины, -- а теперешние модные драмы являются
зеркалом нелепости, образцом глупости и изображением разврата. Какая может
быть большая несообразность в предмете, о котором мы говорим, когда в первом
явлении первого акта выносят ребенка в пеленках, а во втором акте этот
ребенок уже мужчина с бородой? Какая большая несообразность, как изображение
старика -- храбрецом, юноши -- трусом, лакея -- красноречивым оратором, пажа
-- советником, короля -- поденщиком, принцессы -- судомойкой? А что скажу я
о соблюдении времени и места, когда могли или могут случиться изображаемые
действия, кроме того, что я видел драму, первый акт которой начинался в
Европе, второй происходил в Азии, третий кончался в Африке, и будь пьеса
четырехактная, то четвертый акт кончился бы в Америке, и таким образом драма
разыгралась бы в целых четырех странах света? Если же главная задача драмы
-- подражание действительности, возможно ли, чтобы она удовлетворяла даже и
посредственный ум, когда при изображении действия, происходящего во времена
Пипина и Карла Великого, героем пьесы является император Гераклий,
вступающий с крестом в Иерусалим и завоевывающий Гроб Господний, подобно
Готфриду Бульонскому, в то время как бесконечный ряд лет отделяет одно
событие от другого; или же, если пьеса построена на вымысле, вводить туда
историческую правду, перемешанную с отрывками происшествии, случившихся с
разными лицами в разное время, и все это без малейшей черты правдоподобия, а
с очевидными во всех смыслах непростительными ошибками? {В одной из драм
Лопе де Вега -- "La limpieza no manchada" ("Незапятнанная чистота") --
являются на сцену одновременно патриарх Иов, царь Давид, Иоанн Креститель и
Саламан-ский университет.}[ ]Самое же худшее здесь то, что находятся невежды,
которые говорят, будто это-то и есть совершенство в искусстве, а требовать
чего-либо другого -- значило бы искать только лакомств. Ну а если мы поведем
речь о духовных драмах? Каких чудес там не насочинено и сколько там
апокрифических, непонятных вещей, причем деяния одного святого приписываются
другому! И даже в светских драмах авторы позволяют себе творить чудеса не по
какой другой причине или другому соображению, кроме того что, по мнению их,
такие чудеса или странные явления, как они это называют, -- вещь очень
подходящая, чтобы невежественные люди могли изумляться и посещать театр. Все
это делается в ущерб истине, с презрением к истории и даже к позору
испанских драматургов, так как иностранцы, очень точно соблюдающие
сценические законы, считают нас неучами и варварами, смотря на нелепые и
бессмысленные драмы, которые мы сочиняем. Не было бы также достаточным
оправданием сказать, что главная цель, которую преследуют благоустроенные
общества, разрешая публичные представления, состоит в том, чтобы доставить
народу приличную забаву и отвлечь его от дурных наклонностей, иногда
порождаемых праздностью; а так как эта цель может быть достигнута всякой
пьесой, хороша ли она или дурна, то незачем устанавливать правила, ни
стеснять ими актеров и авторов, принуждая последних писать
Так оно и есть, как говорит ваша милость сеньор каноник, -- сказал
священник, -- и поэтому заслуживают еще большего порицания те, кто до
настоящего времени сочиняли подобного рода книги, не принимая в соображение
ни здравого смысла, ни искусства и правил, которыми они могли бы
руководствоваться и прославиться в прозе, как прославились в стихах два
князя поэзии -- греческой и латинской.
-- Я, со своей стороны, -- возразил каноник, -- поддался однажды
искушению написать рыцарскую книгу, соблюдая в ней все условия, о которых я
только что упоминал, и, говоря по правде, я написал уже больше ста листов.
Желая испытать, отвечает ли написанное моей собственной оценке, я показал их
людям, страстно увлекающимся такого рода чтением, как ученым и умным, так и
другим -- невеждам, находящим удовольствие лишь в том, чтобы слышать
нелепости, -- и от всех я получил лестное для меня одобрение. Но тем не
менее я не продолжал писать, как потому, что мне это занятие казалось
неподходящим для моего звания, так и убедившись в том, что простаков куда
больше, чем умных, и хотя и лучше быть восхваленным немногими
рассудительными, чем осмеянным многими глупцами, все же я не хочу подвергать
себя сбивчивому суждению надменной толпы, которая по большей части именно и
читает подобного рода книги. Но то, что главным образом побудило меня
отложить эту работу и отказаться от мысли окончить ее, было одно мое
соображение по поводу пьес, которые ставятся у нас на сцене. Если, сказал я
себе, драматические произведения, которые теперь в моде, как основанные на
вымысле, так и исторические, все или большая их часть, -- общеизвестные
нелепости, вещи, не имеющие ни головы, ни ног, а тем не менее публика
слушает их с удовольствием, считая и признавая их хорошими, в то время как
они очень далеки от этого; и если авторы, сочиняющие их, и актеры, играющие
их, говорят, что они должны быть такими, потому что публика требует их
такими, а не иными; и что пьесы, в которых соблюдены все правила и
требования искусства, доставляют удовольствие лишь только трем-четырем
рассудительным людям, которые их поймут, все же остальные неспособны
вникнуть в них и уразуметь их достоинства, и что, со своей стороны, они
предпочитают заработать себе хлеб у многих, чем приобрести известность у
немногих; то же самое случилось бы и с моей книгой после того, как я спалил
бы себе брови, усиливаясь соблюдать вышеупомянутые правила, и оказался бы
похожим на портного из Кантильо {Elsastre del Cantillo queponiadesu
casaagujay hilo ("Портной из Кантильо, отдававший из дому иголки и нитки")
-- пословица, имеющая в виду тех, которые дают работу и материал, не имея
надежды на вознаграждение.}. И хотя я иногда и пытался убеждать актеров, что
они ошибаются, придерживаясь такого рода мнения и могли бы привлекать
гораздо больше публики и приобрели бы больше славы, если бы давали не
теперешние нелепые пьесы, а такие, которые удовлетворяли бы требованиям
искусства, но они так непоколебимо держатся своего мнения, и так срослись с
ним, что никакие доводы и даже сама очевидность не может заставить их
отказаться от него. Как-то однажды я сказал одному из этих упрямых людей:
"Послушайте, не помните ли вы, что несколько лет тому назад в Испании
давались три трагедии, написанные одним знаменитым нашим поэтом, и эти три
трагедии были таковы, что все слушавшие их, как умные, так и глупые, как
простонародье, так и знатные люди, были изумлены, обрадованы и восхищены, и
эти три пьесы дали больше денег актерам, чем тридцать лучших из написанных
после них?" "Ваша милость, -- ответил актер, о котором я говорю, --
подразумевает, без сомнения, "Изабеллу", "Филис" и "Александру V" {Эти три
пьесы написаны Леонардо де Архенсолой -- современником и другом Сервантеса
-- и не заслуживают тех чрезмерных похвал, которые им расточает Сервантес,
равно как и их автор не заслуживал дружбы Сервантеса, за которую он так
плохо отплатил ему.}. Они самые и есть, -- ответил я, -- и посмотрите,
соблюдены ли в них предписания искусства и помешало ли им это соблюдение
казаться тем, чем они были, и всем понравиться; так что виновата не публика,
требующая будто бы нелепостей, а те, которые не умеют изображать ничего
другого. Ведь нет же бессмыслицы ни в "Отомщенной неблагодарности" {Драма
Лопе де Вега.}, ни в "Нумансии" {Трагедия Сервантеса.}, ни в
"Купце-любовнике", ни в "Доброжелательной неприятельнице" {Первая
принадлежит перу Гаспара де Агиляра, вторая -- Франсиско де Тарреги.}, ни в
некоторых других драматических произведениях, написанных несколькими
даровитыми поэтами к чести и славе себе и к выгоде тех, которые играли их
пьесы". К этим моим доводам я добавил еще несколько других и, как мне
казалось, привел его в смущение, но не поколебал и не убедил настолько,
чтобы он отказался от ошибочного своего взгляда.
-- Вы, милость ваша сеньор каноник, -- сказал тогда священник, --
затронули вопрос, пробудивший во мне давнюю мою неприязнь к современным
драмам, не уступающую ненависти моей к рыцарским книгам. Ведь драма, по
мнению Тулио {Изречение Цицерона.}, должна быть зеркалом человеческой жизни,
образцом нравов и изображением истины, -- а теперешние модные драмы являются
зеркалом нелепости, образцом глупости и изображением разврата. Какая может
быть большая несообразность в предмете, о котором мы говорим, когда в первом
явлении первого акта выносят ребенка в пеленках, а во втором акте этот
ребенок уже мужчина с бородой? Какая большая несообразность, как изображение
старика -- храбрецом, юноши -- трусом, лакея -- красноречивым оратором, пажа
-- советником, короля -- поденщиком, принцессы -- судомойкой? А что скажу я
о соблюдении времени и места, когда могли или могут случиться изображаемые
действия, кроме того, что я видел драму, первый акт которой начинался в
Европе, второй происходил в Азии, третий кончался в Африке, и будь пьеса
четырехактная, то четвертый акт кончился бы в Америке, и таким образом драма
разыгралась бы в целых четырех странах света? Если же главная задача драмы
-- подражание действительности, возможно ли, чтобы она удовлетворяла даже и
посредственный ум, когда при изображении действия, происходящего во времена
Пипина и Карла Великого, героем пьесы является император Гераклий,
вступающий с крестом в Иерусалим и завоевывающий Гроб Господний, подобно
Готфриду Бульонскому, в то время как бесконечный ряд лет отделяет одно
событие от другого; или же, если пьеса построена на вымысле, вводить туда
историческую правду, перемешанную с отрывками происшествии, случившихся с
разными лицами в разное время, и все это без малейшей черты правдоподобия, а
с очевидными во всех смыслах непростительными ошибками? {В одной из драм
Лопе де Вега -- "La limpieza no manchada" ("Незапятнанная чистота") --
являются на сцену одновременно патриарх Иов, царь Давид, Иоанн Креститель и
Саламан-ский университет.}[ ]Самое же худшее здесь то, что находятся невежды,
которые говорят, будто это-то и есть совершенство в искусстве, а требовать
чего-либо другого -- значило бы искать только лакомств. Ну а если мы поведем
речь о духовных драмах? Каких чудес там не насочинено и сколько там
апокрифических, непонятных вещей, причем деяния одного святого приписываются
другому! И даже в светских драмах авторы позволяют себе творить чудеса не по
какой другой причине или другому соображению, кроме того что, по мнению их,
такие чудеса или странные явления, как они это называют, -- вещь очень
подходящая, чтобы невежественные люди могли изумляться и посещать театр. Все
это делается в ущерб истине, с презрением к истории и даже к позору
испанских драматургов, так как иностранцы, очень точно соблюдающие
сценические законы, считают нас неучами и варварами, смотря на нелепые и
бессмысленные драмы, которые мы сочиняем. Не было бы также достаточным
оправданием сказать, что главная цель, которую преследуют благоустроенные
общества, разрешая публичные представления, состоит в том, чтобы доставить
народу приличную забаву и отвлечь его от дурных наклонностей, иногда
порождаемых праздностью; а так как эта цель может быть достигнута всякой
пьесой, хороша ли она или дурна, то незачем устанавливать правила, ни
стеснять ими актеров и авторов, принуждая последних писать
 466
TOM I
свои пьесы, как того требуют правила, потому что, как я уже говорил,
всякой пьесой, какая бы она ни была, достигается намеченная цель. На это я
ответил бы, что цель эта достигалась бы несравненно лучше хорошими пьесами,
чем плохими, потому что, присутствуя на представлении художественной и
хорошо написанной пьесы, зритель уходил бы из театра восхищенный шутками,
вразумленный истинами, подивившись событиям, поумнев от мудрых изречений,
предостереженный против коварства, наученный примерами, возмущенный
пороками, влюбленный в добродетель, потому что хорошая пьеса возбудит все
эти чувства в зрителе, как бы он ни был груб и непонятлив. И из всех
невозможностей самое невозможное то, чтобы драматическое произведение,
обладающее упомянутыми качествами, не забавляло, не нравилось, не
удовлетворяло и не восхищало зрителя гораздо больше пьес, лишенных этих
достоинств, как лишено их большинство сценических произведений, которые в
настоящее время даются у нас {Эта длинная речь, направленная против
современной драмы, по-видимому, сатирическая выходка Сервантеса против Лопе
де Вега. В своих же пьесах Сервантес не очень-то придерживался правил, а в
"El RufiАn dichoso" ("Счастливом негодяе") -- пьесе, написанной после "Дон
Кихота", но никогда не игранной, -- он очень энергично настаивает на
необходимости для современной драмы освободиться от "пут" столь тяжелых
правил.}. Не виноваты в этом и авторы, так как некоторые из них очень хорошо
понимают, в чем они заблуждаются, и превосходно знают, что им следовало бы
делать, но, вследствие того что пьесы обратились в товар для продажи, авторы
говорят, и говорят справедливо, что актеры не покупали бы пьес, раз они были
бы иного покроя и образца. Итак, поэт старается приноровиться к тому, что
требует актер, который платит ему за его произведения. А что это правда,
видно из многих бесконечных пьес, сочиненных счастливейшим из испанских
гениев с таким изяществом, с таким остроумием, такими великолепными стихами,
увлекательным языком, с таким глубоким чувством, наконец, отличающихся таким
красноречием и возвышенным слогом, что слава поэта распространилась по всему
миру {Счастливый гений -- конечно, Лопе де Вега, бывший тогда в апогее своей
славы и популярности. Слова Сервантеса, что не все пьесы Лопе --
совершенство (хотя пилюля эта достаточно подслащена восторженными
похвалами), показались почитателям Лопе преступлением. Именно эта глава "Дон
Кихота" была, быть может, одной из главных причин ненависти Лопе де Вега к
Сервантесу.}, и только потому, что он приноравливался к вкусам актеров, не
все его пьесы достигли, как некоторые из них, требуемой степени
совершенства. Другие драматурги, сочиняя свои произведения, обращают так
мало внимания на то, что они делают, что после представления актеры
вынуждены бежать и удалиться из страха подвергнуться карам, как это
случалось не раз, за изображение вещей, оскорбительных для королей или для
чести той или иной семьи. Все эти неудобства и многие другие, о которых я
умалчиваю, могли бы быть устранены, если бы было в столице лицо,
образованное и умное, которое рассматривало бы пьесы, предназначенные для
представления, -- и не только те, что даются в столице, но и все имеющие
быть игранными в Испании,-- так что без одобрения, печати и подписи такого
лица местная власть не могла бы разрешать никакой пьесы к представлению.
Таким образом, актеры заботились бы о посылке драматических произведений в
столицу, и после того могли бы совершенно спокойно играть, а драматурги
посвящали бы больше внимания и труда своим пьесам, помня, что они должны
подвергнуть их строгой критике знатока; таким образом, писались бы хорошие
пьесы и было бы наилучшим образом достигнуто то, что требуется от них: и
развлечение народа, и хорошая репутация испанских писателей, и выгода, и
безопасность актеров, и уничтожение заботы о карательных мероприятиях. А
если бы какому-нибудь другому лицу или хотя бы тому же самому поручили и
просмотр рыцарских книг, которые вновь сочиняются, не подлежит сомнению, что
некоторые из них могли бы достигнуть того совершенства, о котором говорила
ваша милость, и обогатить наш язык изящным и драгоценным сокровищем
красноречия, заставив старые книги меркнуть в блеске новых, которые бы
появились для достойного времяпровождения не только праздных людей, но и
самых занятых, потому что невозможно, чтобы лук оставался всегда натянутым,
и не может слабая человеческая природа поддержать себя без какого-нибудь
дозволенного развлечения.
Каноник и священник дошли до этого места своего разговора, когда
цирюльник, догоняя их, подъехал к ним и сказал:
-- Вот то место, сеньор, о котором я говорил, что нам хорошо будет
держать тут сиесту, а волы найдут здесь свежее и обильное пастбище.
-- Мне это тоже кажется, -- сказал священник и спросил каноника, что он
думает делать, а тот ответил, что желает остаться с ними, соблазненный
прекрасной долиной, развернувшейся перед их взорами. Итак, чтобы насладиться
этим видом, а также разговором со священником, к которому он уже чувствовал
расположение, и чтобы подробнее узнать о подвигах Дон Кихота, каноник
приказал нескольким из своих слуг отправиться на постоялый двор, бывший
недалеко оттуда, и принести поесть для всего общества, что там найдется, так
как он решил держать сиесту здесь после обеда. На это один из его слуг
ответил, что на их вьючном осле, высланном вперед и который теперь уже
должен находиться на постоялом дворе, достаточно съестных припасов, так что
не надо им ничего покупать, кроме ячменя для мулов.
-- Если это так, -- сказал каноник,-- отведите туда наших мулов и
приведите оттуда вьючного осла.
Пока это происходило, Санчо, видя, что он может говорить со своим
господином без постоянного присутствия священника и цирюльника, которых он
считал подозрительными людьми, подошел к клетке, где находился его господин,
и сказал:
-- Сеньор, для облегчения моей совести я должен вам сказать кой-что
касающееся вашего очарования, именно что те двое, которые едут с нами в
масках на лице, -- наш приходский священник и цирюльник; и я думаю, они
сговорились между собой увезти вас таким образом из одной лишь зависти к вам
за то, что ваша милость так сильно опередила их своими славными подвигами.
Если же допустить, что дело обстоит именно так, из этого следует, что вы не
очарованы, но обмануты и одурачены; в доказательство чего я бы желал
спросить у вас одну вещь, и если вы мне ответите так, как, думается мне, вы
должны ответить, то вы дотронетесь до этого обмана рукой и убедитесь, что не
в очарованье дело, а в том, что у вас в голове не все дома.
-- Спрашивай все что хочешь, сын Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- и я
удовлетворю тебя и отвечу на всякий твой вопрос. Относительно же твоих слов,
будто те двое, что едут с нами, -- священник и цирюльник, наши земляки и
знакомые, весьма возможно, что они кажутся ими, но чтобы они действительно и
на самом деле ими были, не верь этому ни в каком случае. Вот чему ты должен
верить и что понять: если они, как ты говоришь, кажутся ими, это, вероятно,
происходит оттого, что очаровавшие меня приняли их вид и подобие, так как
волшебникам очень легко принять внешность, которую они пожелали бы. А
приняли они внешность наших друзей, чтобы заставить тебя думать то, что ты
думаешь, и завести в дебри таких предположений, из которых ты уже не
выберешься, если бы и обладал клубком Тезея. Также могли они это сделать и
для того, чтобы поколебать меня в моих понятиях, и я не мог бы сообразить,
откуда на меня налетела эта беда, потому что если, с одной стороны, ты мне
говоришь, что меня сопровождают цирюльник и священник нашего села, а с
другой стороны, я вижу себя засаженного в клетку и знаю о себе, что никакой
человеческой силе, кроме сверхъестественной, не удалось бы засадить меня в
клетку, -- что хочешь ты, чтобы я говорил или думал, кроме того что способ
моего очарования превосходит все, что я читал во всех историях, в которых
речь идет о странствующих рыцарях, подвергшихся очарованиям? Итак, ты можешь
спокойно и уверенно изгнать из своей головы мысль, будто они те, кем они
тебе показались, потому что они так же мало то, что ты говорил, как я турок.
А относительно твоего желания что-то спросить у меня, говори, и я отвечу
тебе, хотя бы ты спрашивал меня до завтрашнего утра.
-- Помоги мне, Пресвятая Богородица, -- крикнул Санчо, возвысив голос,
-- возможно ли, чтобы милость ваша была такая крепкоголовая и так бы у вас
высох мозг, чтобы вы не видели, что сказанное мною -- чистейшая истина и что
в вашем заточении и несчастии больше участвует зложелательство, чем
волшебство? Но раз это так, я докажу вам как нельзя яснее, что вы не
очарованы. Скажите же мне -- и да избавит вас Бог от этой пытки, и приведет
вас в объятья сеньоры Дульсинеи, когда вы всего менее будете ожидать того...
-- Брось заклинать меня, -- сказал Дон Кихот, -- и спрашивай все что
хочешь; я уже говорил тебе, что отвечу со всей возможной точностью.
-- Об этом-то я и прошу вас, -- возразил Санчо, -- а хотел я узнать вот
что: скажите мне, ничего не прибавляя и ничего не убавляя, одну лишь истину,
как ее должны говорить и говорят те, что служат оружию, которому служит и
ваша милость под именем странствующих рыцарей.
-- Повторяю тебе, что я ни в чем не солгу, -- ответил Дон Кихот, --
кончай же спрашивать, так как, право, ты мне наскучил, Санчо, столькими
твоими увертками, упрашиваниями и предисловиями.
-- Я говорю, -- сказал Санчо, -- что уверен в доброте и правдивости
моего господина, и поэтому, раз мой вопрос относится к нашему делу, со всем
должным уважением спрашиваю: с тех пор как ваша милость сидит в клетке и,
как вы думаете, очарована в этой клетке, не приходило ли вам, быть может,
желание и охота сходить за большой или малой нуждой, как принято говорить?
-- Ничего не понимаю, что такое значит "ходить за нуждой", Санчо;
выражайся яснее, если ты желаешь, чтобы я мог точно ответить тебе.
-- Неужели же ваша милость не понимает, что значит ходить за большой
или малой нуждой? Ведь дети в школе знают это. Итак, слушайте, я хотел
спросить вас, не чувствовали ли вы желания сделать то, что никто другой не
может сделать вместо вас?
-- Да, да, теперь я понимаю, Санчо. Много раз уже приходило мне это
желание, и сейчас опять хочется; спаси меня от опасности, а то выйдет не
совсем чистоплотно.
466
TOM I
свои пьесы, как того требуют правила, потому что, как я уже говорил,
всякой пьесой, какая бы она ни была, достигается намеченная цель. На это я
ответил бы, что цель эта достигалась бы несравненно лучше хорошими пьесами,
чем плохими, потому что, присутствуя на представлении художественной и
хорошо написанной пьесы, зритель уходил бы из театра восхищенный шутками,
вразумленный истинами, подивившись событиям, поумнев от мудрых изречений,
предостереженный против коварства, наученный примерами, возмущенный
пороками, влюбленный в добродетель, потому что хорошая пьеса возбудит все
эти чувства в зрителе, как бы он ни был груб и непонятлив. И из всех
невозможностей самое невозможное то, чтобы драматическое произведение,
обладающее упомянутыми качествами, не забавляло, не нравилось, не
удовлетворяло и не восхищало зрителя гораздо больше пьес, лишенных этих
достоинств, как лишено их большинство сценических произведений, которые в
настоящее время даются у нас {Эта длинная речь, направленная против
современной драмы, по-видимому, сатирическая выходка Сервантеса против Лопе
де Вега. В своих же пьесах Сервантес не очень-то придерживался правил, а в
"El RufiАn dichoso" ("Счастливом негодяе") -- пьесе, написанной после "Дон
Кихота", но никогда не игранной, -- он очень энергично настаивает на
необходимости для современной драмы освободиться от "пут" столь тяжелых
правил.}. Не виноваты в этом и авторы, так как некоторые из них очень хорошо
понимают, в чем они заблуждаются, и превосходно знают, что им следовало бы
делать, но, вследствие того что пьесы обратились в товар для продажи, авторы
говорят, и говорят справедливо, что актеры не покупали бы пьес, раз они были
бы иного покроя и образца. Итак, поэт старается приноровиться к тому, что
требует актер, который платит ему за его произведения. А что это правда,
видно из многих бесконечных пьес, сочиненных счастливейшим из испанских
гениев с таким изяществом, с таким остроумием, такими великолепными стихами,
увлекательным языком, с таким глубоким чувством, наконец, отличающихся таким
красноречием и возвышенным слогом, что слава поэта распространилась по всему
миру {Счастливый гений -- конечно, Лопе де Вега, бывший тогда в апогее своей
славы и популярности. Слова Сервантеса, что не все пьесы Лопе --
совершенство (хотя пилюля эта достаточно подслащена восторженными
похвалами), показались почитателям Лопе преступлением. Именно эта глава "Дон
Кихота" была, быть может, одной из главных причин ненависти Лопе де Вега к
Сервантесу.}, и только потому, что он приноравливался к вкусам актеров, не
все его пьесы достигли, как некоторые из них, требуемой степени
совершенства. Другие драматурги, сочиняя свои произведения, обращают так
мало внимания на то, что они делают, что после представления актеры
вынуждены бежать и удалиться из страха подвергнуться карам, как это
случалось не раз, за изображение вещей, оскорбительных для королей или для
чести той или иной семьи. Все эти неудобства и многие другие, о которых я
умалчиваю, могли бы быть устранены, если бы было в столице лицо,
образованное и умное, которое рассматривало бы пьесы, предназначенные для
представления, -- и не только те, что даются в столице, но и все имеющие
быть игранными в Испании,-- так что без одобрения, печати и подписи такого
лица местная власть не могла бы разрешать никакой пьесы к представлению.
Таким образом, актеры заботились бы о посылке драматических произведений в
столицу, и после того могли бы совершенно спокойно играть, а драматурги
посвящали бы больше внимания и труда своим пьесам, помня, что они должны
подвергнуть их строгой критике знатока; таким образом, писались бы хорошие
пьесы и было бы наилучшим образом достигнуто то, что требуется от них: и
развлечение народа, и хорошая репутация испанских писателей, и выгода, и
безопасность актеров, и уничтожение заботы о карательных мероприятиях. А
если бы какому-нибудь другому лицу или хотя бы тому же самому поручили и
просмотр рыцарских книг, которые вновь сочиняются, не подлежит сомнению, что
некоторые из них могли бы достигнуть того совершенства, о котором говорила
ваша милость, и обогатить наш язык изящным и драгоценным сокровищем
красноречия, заставив старые книги меркнуть в блеске новых, которые бы
появились для достойного времяпровождения не только праздных людей, но и
самых занятых, потому что невозможно, чтобы лук оставался всегда натянутым,
и не может слабая человеческая природа поддержать себя без какого-нибудь
дозволенного развлечения.
Каноник и священник дошли до этого места своего разговора, когда
цирюльник, догоняя их, подъехал к ним и сказал:
-- Вот то место, сеньор, о котором я говорил, что нам хорошо будет
держать тут сиесту, а волы найдут здесь свежее и обильное пастбище.
-- Мне это тоже кажется, -- сказал священник и спросил каноника, что он
думает делать, а тот ответил, что желает остаться с ними, соблазненный
прекрасной долиной, развернувшейся перед их взорами. Итак, чтобы насладиться
этим видом, а также разговором со священником, к которому он уже чувствовал
расположение, и чтобы подробнее узнать о подвигах Дон Кихота, каноник
приказал нескольким из своих слуг отправиться на постоялый двор, бывший
недалеко оттуда, и принести поесть для всего общества, что там найдется, так
как он решил держать сиесту здесь после обеда. На это один из его слуг
ответил, что на их вьючном осле, высланном вперед и который теперь уже
должен находиться на постоялом дворе, достаточно съестных припасов, так что
не надо им ничего покупать, кроме ячменя для мулов.
-- Если это так, -- сказал каноник,-- отведите туда наших мулов и
приведите оттуда вьючного осла.
Пока это происходило, Санчо, видя, что он может говорить со своим
господином без постоянного присутствия священника и цирюльника, которых он
считал подозрительными людьми, подошел к клетке, где находился его господин,
и сказал:
-- Сеньор, для облегчения моей совести я должен вам сказать кой-что
касающееся вашего очарования, именно что те двое, которые едут с нами в
масках на лице, -- наш приходский священник и цирюльник; и я думаю, они
сговорились между собой увезти вас таким образом из одной лишь зависти к вам
за то, что ваша милость так сильно опередила их своими славными подвигами.
Если же допустить, что дело обстоит именно так, из этого следует, что вы не
очарованы, но обмануты и одурачены; в доказательство чего я бы желал
спросить у вас одну вещь, и если вы мне ответите так, как, думается мне, вы
должны ответить, то вы дотронетесь до этого обмана рукой и убедитесь, что не
в очарованье дело, а в том, что у вас в голове не все дома.
-- Спрашивай все что хочешь, сын Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- и я
удовлетворю тебя и отвечу на всякий твой вопрос. Относительно же твоих слов,
будто те двое, что едут с нами, -- священник и цирюльник, наши земляки и
знакомые, весьма возможно, что они кажутся ими, но чтобы они действительно и
на самом деле ими были, не верь этому ни в каком случае. Вот чему ты должен
верить и что понять: если они, как ты говоришь, кажутся ими, это, вероятно,
происходит оттого, что очаровавшие меня приняли их вид и подобие, так как
волшебникам очень легко принять внешность, которую они пожелали бы. А
приняли они внешность наших друзей, чтобы заставить тебя думать то, что ты
думаешь, и завести в дебри таких предположений, из которых ты уже не
выберешься, если бы и обладал клубком Тезея. Также могли они это сделать и
для того, чтобы поколебать меня в моих понятиях, и я не мог бы сообразить,
откуда на меня налетела эта беда, потому что если, с одной стороны, ты мне
говоришь, что меня сопровождают цирюльник и священник нашего села, а с
другой стороны, я вижу себя засаженного в клетку и знаю о себе, что никакой
человеческой силе, кроме сверхъестественной, не удалось бы засадить меня в
клетку, -- что хочешь ты, чтобы я говорил или думал, кроме того что способ
моего очарования превосходит все, что я читал во всех историях, в которых
речь идет о странствующих рыцарях, подвергшихся очарованиям? Итак, ты можешь
спокойно и уверенно изгнать из своей головы мысль, будто они те, кем они
тебе показались, потому что они так же мало то, что ты говорил, как я турок.
А относительно твоего желания что-то спросить у меня, говори, и я отвечу
тебе, хотя бы ты спрашивал меня до завтрашнего утра.
-- Помоги мне, Пресвятая Богородица, -- крикнул Санчо, возвысив голос,
-- возможно ли, чтобы милость ваша была такая крепкоголовая и так бы у вас
высох мозг, чтобы вы не видели, что сказанное мною -- чистейшая истина и что
в вашем заточении и несчастии больше участвует зложелательство, чем
волшебство? Но раз это так, я докажу вам как нельзя яснее, что вы не
очарованы. Скажите же мне -- и да избавит вас Бог от этой пытки, и приведет
вас в объятья сеньоры Дульсинеи, когда вы всего менее будете ожидать того...
-- Брось заклинать меня, -- сказал Дон Кихот, -- и спрашивай все что
хочешь; я уже говорил тебе, что отвечу со всей возможной точностью.
-- Об этом-то я и прошу вас, -- возразил Санчо, -- а хотел я узнать вот
что: скажите мне, ничего не прибавляя и ничего не убавляя, одну лишь истину,
как ее должны говорить и говорят те, что служат оружию, которому служит и
ваша милость под именем странствующих рыцарей.
-- Повторяю тебе, что я ни в чем не солгу, -- ответил Дон Кихот, --
кончай же спрашивать, так как, право, ты мне наскучил, Санчо, столькими
твоими увертками, упрашиваниями и предисловиями.
-- Я говорю, -- сказал Санчо, -- что уверен в доброте и правдивости
моего господина, и поэтому, раз мой вопрос относится к нашему делу, со всем
должным уважением спрашиваю: с тех пор как ваша милость сидит в клетке и,
как вы думаете, очарована в этой клетке, не приходило ли вам, быть может,
желание и охота сходить за большой или малой нуждой, как принято говорить?
-- Ничего не понимаю, что такое значит "ходить за нуждой", Санчо;
выражайся яснее, если ты желаешь, чтобы я мог точно ответить тебе.
-- Неужели же ваша милость не понимает, что значит ходить за большой
или малой нуждой? Ведь дети в школе знают это. Итак, слушайте, я хотел
спросить вас, не чувствовали ли вы желания сделать то, что никто другой не
может сделать вместо вас?
-- Да, да, теперь я понимаю, Санчо. Много раз уже приходило мне это
желание, и сейчас опять хочется; спаси меня от опасности, а то выйдет не
совсем чистоплотно.

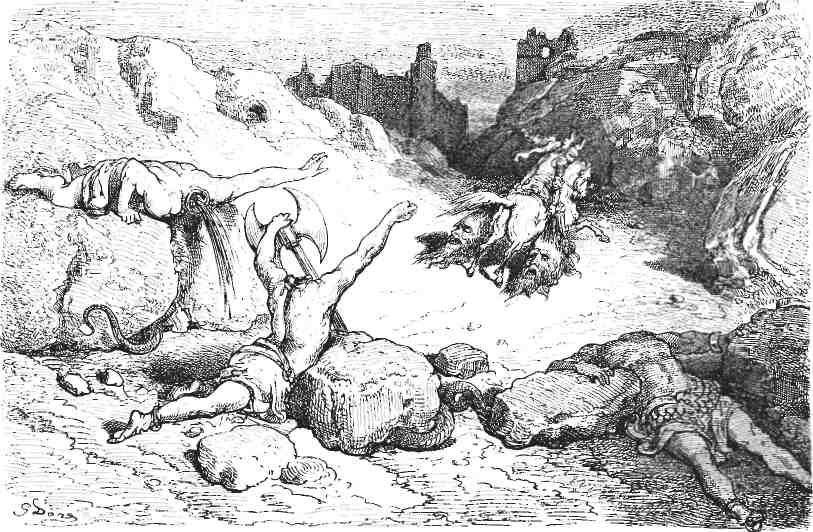
Глава XLIX, где сообщается о рассудительном разговоре, который Санчо
вел со своим господином Дон Кихотом
-- А! -- воскликнул Санчо. -- Теперь я вас поймал, это-то мне и
хотелось знать, как душу и жизнь. Итак, слушайте, сеньор, -- можете ли вы
отрицать, что, когда человеку не по себе, -- у нас принято говорить: не
знаю, что такое с этим или с тем-то; он не ест, не пьет, не спит, когда его
спрашивают, отвечает невпопад, -- право, он точно очарован. Из этого
следует, что те, которые не едят, не пьют, не спят и не справляют других
нужд, о которых я говорил, они-то и очарованы, а не те, у которых, как у
вашей милости, есть желания и которые пьют, когда им дают пить, едят, когда
что подвернется под руку, и отвечают на все вопросы, которые им предлагают.
-- Ты прав, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- но я уже говорил тебе, что
бывают разные способы очарования и, быть может, с течением времени все это
изменилось, и теперь в обычае, чтобы очарованные делали все то, что я делаю,
хотя прежде они этого и не делали; так что против обычаев данного времени
нельзя ничего сказать и нельзя делать из этого никаких выводов. Я знаю и
уверен в том, что я очарован, и этого достаточно для спокойствия моей
совести, а она бы измучила меня, если бы я думал, что я не очарован и
позволил засадить себя в эту клетку, как ленивец и трус, лишив помощи, какую
бы я мог оказать, тех многих нуждающихся и беззащитных, которые, должно
быть, в настоящее время имеют неотложную и крайнюю нужду в моей защите и
помощи.
-- Но тем не менее, -- возразил Санчо, -- я говорю, что для большей
безопасности и уверенности было бы хорошо, чтобы милость ваша попыталась
выйти из этой тюрьмы, а я изо всех моих сил постараюсь содействовать вам и
освободить вас из клетки; и попытайтесь снова сесть верхом на вашего доброго
Росинанта, который как будто тоже очарован, такой идет он грустный и
печальный. Сделав это, мы попытаем еще раз наше счастие, отправившись в
поиски за приключениями, и, если нам не повезет, всегда будет время
вернуться в клетку, в которую я вам обещаю честью верного и преданного
оруженосца сесть вместе с вашей милостью, если ваша милость была бы так
несчастлива или я так глуп, что мы не сумели бы добиться того, о чем я
говорю.
-- Я готов поступить так, как ты говоришь, Санчо, брат, -- ответил Дон
Кихот, -- и когда ты найдешь удобный случай устроить мое освобождение, во
всем буду слушаться тебя; только увидишь, Санчо, как ты ошибаешься в своем
суждении о моем несчастии.
В таких разговорах странствующий рыцарь и его злосчастный оруженосец
проводили время, пока не добрались до места, где уже их ждали спешившиеся
священник, каноник и цирюльник. Погонщик волов тотчас же выпряг своих
животных и пустил их пастись во всю их волю в этой зеленой и мирной долине,
свежесть которой приглашала насладиться ею не тех, что были заколдованы, как
Дон Кихот, а столь рассудительных и здравомыслящих, как его оруженосец,
который попросил священника позволить его господину выйти на время из
клетки, потому что, если его не выпустят, тюрьма его не останется такой
чистой, как того требует достоинство столь славного кабальеро, как его
господин. Священник понял, в чем дело, и ответил, что охотно исполнил бы
просьбу Санчо, если бы не боялся, что господин его, увидав себя на свободе,
опять примется за прежнее и может уйти туда, где уже никто его не найдет.
-- Я ручаюсь за то, что он не убежит, -- ответил Санчо.
-- И я тоже, и за все прочее, -- сказал каноник, -- в особенности если
он мне даст рыцарское слово не удаляться от нас без нашего согласия.
-- Даю вам слово, -- ответил Дон Кихот, который все это слышал, -- и
тем более что тот, который, как я, очарован, не имеет возможности
распоряжаться своей особой, как хочет, потому что во власти очаровавшего
устроить так, чтобы он целых три столетия не двинулся с места, а если б он
бежал, его словно вихрем вернут назад по воздуху; и раз это так, -- добавил
он, -- они могут спокойно выпустить его, тем более что это послужит всем им
на пользу, потому что, если его не выпустят, он во всеуслышание объявляет,
что не может удержаться, чтобы не оскорбить их обоняния, разве только они
подальше отойдут. Каноник взял его за руку, хотя обе они еще были связаны,
и, заручившись его обещанием и рыцарским словом, они выпустили его из
клетки, чему он очень обрадовался и был в восхищении, видя себя на свободе.
Первое, что он сделал, было потянуться всем телом, а потом он пошел туда,
где стоял Росинант, и, хлопнув его ладонью раза два по бокам, сказал:
-- Я еще надеюсь на Бога и Святую Его Матерь, цвет и зерцало коней, что
мы уже скоро увидимся с тобою, как оба мы того желаем, ты -- неся своего
господина на своем хребте, а я верхом на тебе, исполняя ту обязанность, для
которой Бог послал меня в мир.
И, говоря это, Дон Кихот удалился с Санчо в сторону, в уединенное
местечко, и вернулся оттуда очень облегченный и с более сильным желанием
привести в исполнение то, что ему советовал оруженосец. Каноник смотрел на
него и удивлялся странному роду его помешательства и тому, что в своих
вопросах и ответах он выказывал самый ясный ум, и лишь только тогда, когда
речь заходила о рыцарстве, он, как уже было сказано, терял стремена {Perder
los estribos -- фразеологизм: потерять опору в жизни, досадно переживать
неудачу.}. Итак, движимый состраданием, после того как все уселись на
зеленой траве, ожидая съестных припасов, каноник сказал Дон Кихоту:
-- Возможно ли, сеньор идальго, что чтение пустых и ничтожных рыцарских
книг так вами овладело, что перевернуло у вас рассудок и вы способны верить,
будто вы очарованы, и разным другим тому подобным вещам, столь же далеким от
истины, как ложь далека от того, чтоб быть правдой? И неужели же возможно,
чтоб нашелся такой человеческий ум, который вообразил бы себе, что на свете
действительно существовало несметное количество Амадисов, вся эта толпа
знаменитых рыцарей, все эти трапезундские императоры, эти Феликсмарте
Ирканские, эти иноходцы, эти странствующие девушки, эти змеи, драконы,
великаны, все эти неслыханные приключения, разнородные очарования, сражения,
чудовищные поединки, великолепные наряды, влюбленные принцессы, все эти
оруженосцы, ставшие графами, остроумные карлики, любовные письма,
ухаживания, доблестные женщины и, наконец, все это множество таких нелепых
вещей, какие заключаются в рыцарских книгах? О себе могу сказать, что, когда
я их читаю, пока мне не придет в голову, что все в них ложь и бессмыслица,
они доставляют мне некоторое удовольствие. Но как только я отдам себе отчет,
что они такое, я швыряю лучшие из них в стену и бросил бы их и в огонь, если
б он оказался у меня под рукой или поблизости, так как они вполне
заслуживают подобного наказания за то, что это лжецы и обманщики, далекие от
всех требований природы, а также и за то, что они основатели новых сект и
нового образа жизни и побуждают невежественную толпу говорить и считать
истиной все те нелепости, которые заключаются в этих книгах. И еще их
дерзость так велика, что они осмеливаются смущать умы просвещенных и
образованных идальго, как это ясно видно из того, что они сделали с вашей
милостью, которую довели до такого состояния, что оказалось необходимым
засадить вас в клетку и везти на повозке, запряженной волами, как возят
напоказ с места на место льва или тигра, зарабатывая этим деньги. Итак,
сеньор Дон Кихот, пожалейте самого себя, вернитесь в лоно здравого смысла,
научитесь пользоваться разумом, которым небу было угодно так щедро наделить
вас, употребите столь счастливое умственное дарование ваше на иное чтение,
которое послужило бы на пользу душе вашей и к увеличению доброй вашей славы.
Если тем не менее, побуждаемый прирожденной вам склонностию, вы все-таки
желали бы читать книги о великих подвигах и о рыцарстве, прочтите в
Священном Писании Книгу Судей, и вы найдете там возвышенные истины и столь
же правдивые, как и доблестные подвиги. В Португалии был Вириатус, в Риме --
Цезарь, в Карфагене -- Аннибал, в Греции -- Александр, в Кастилии -- граф
Фернан Гонсалес {Живший в X в. истинный основатель независимой Кастилии,
герой бесконечного числа баллад и легенд.}, в Валенсии -- Сид, в Андалузии
-- Гонсало Фернандес {"Великий капитан", знаменитый полководец.}, в Хересе
-- Гарсия Перес де Варгас {Знаменитый герой, прославившийся при осаде
Севильи.}, в Эстремадуре -- Диего Гарсиа де Паредес, в Толедо -- Гарсиласо
{Тоже известный полководец, рыцарь, отличившийся при взятии Гренады.}, в
Севилье -- дон Мануель де Леон {Знаменитый герой, прославившийся в битве под
Гренадой.}; и чтение о доблестных их подвигах может развлекать, поучать,
изумлять и восхищать самые возвышенные умы. Такое чтение было бы достойно
светлого разумения вашей милости, сеньор Дон Кихот, и благодаря ему вы
обогатились бы знанием истории, полюбили бы добродетель, научились бы
многому хорошему, привычки ваши улучшились бы, вы стали бы храбрым без
опрометчивости, осторожным без трусости, все это во славу Божью, на пользу
вам и в прославление Ламанчи, откуда, как мне говорили, ваша милость ведет
свой род и происхождение.
Дон Кихот с величайшим вниманием слушал речь каноника и, когда он
увидел, что тот кончил, посмотрел пристально на него некоторое время и затем
сказал:
-- Мне кажется, сеньор идальго, будто вы словами своими имели в виду
дать мне понять, что на свете никогда не было странствующих рыцарей, и что
все рыцарские книги лживы и обманчивы, бесполезны и вредны для общества, и я
худо поступал, читая их, еще хуже -- веря в них, и хуже всего -- подражая им
тем, что избрал себе столь трудную профессию странствующего рыцарства,
которому они учат. Кроме того, вы отрицаете, чтобы когда-либо на свете
существовали Амадисы Галльские или Греческие и все остальные рыцари,
которыми полны рыцарские книги.
-- Все это точь-в-точь, как ваша милость только что передала, -- сказал
каноник.
На это Дон Кихот ответил:
-- Ваша милость добавила еще, что рыцарские книги принесли мне большой
вред тем, что помутили мне рассудок и довели до клетки и еще что для меня
было бы полезнее исправиться, переменить род чтения и читать другие, более
правдивые, книги, которые лучше развлекают и вместе с тем поучают.
-- Совершенно верно, -- подтвердил каноник.
-- Но я, со своей стороны, -- возразил Дон Кихот, -- считаю, что
лишенный рассудка и очарованный -- вы, милость ваша, вы, который наговорили
столько хулы против вещи, признанной всем миром и известной за такую истину,
что тот, кто ее отрицает, как ваша милость ее отрицаете, заслуживал бы туже
кару, какой, по словам вашей милости вы подвергаете книги, когда вы их
читаете и они наводят на вас скуку. Потому что желать уверить кого-либо,
будто на свете не существовало Амадиса и всех остальных странствующих
рыцарей, которыми полны истории, -- все равно, что желать убедить, будто
солнце не светит, лед не охлаждает и земля нас не держит. Ведь какой же
разумный человек в мире был бы способен убедить другого, что все касающееся
инфанты Флорипес и Гюи Бургундского и Фиерабраса у моста Мантибльского,
случившееся во времена Карла Великого, неправда? Клянусь, что это так же
верно, как и то, что теперь день. Гели же это ложь, должно быть ложью и то,
что был Гектор, Ахилл, Троянская война, двенадцать пэров Франции, английский
король Артур, до сегодняшнего дня еще превращенный в ворона и возвращения
которого не переставая ждут в его королевстве. Тогда осмелятся также
сказать, что и история Гуарино Мескино, и сказание о поисках Святого Грааля
вымышлены и что любовь дона Тристана к королеве Изольде, как и любовь
Хиневры к Лансероту -- апокриф; а между тем есть люди, которые почти помнят,
что видели дуэнью Кинтаньону, бывшую лучшим виночерпием во всей
Великобритании, и это так верно, что я и сам помню, как моя бабушка с
отцовской стороны, увидав какую-нибудь дуэнью в почтенном головном уборе,
говорила мне: "Эта вот, внучек, похожа на дуэнью Кинтаньону", из чего я
заключаю, что, должно быть, она была знакома с ней или по крайней мере
видела случайно какой-нибудь ее портрет. И кто же мог бы отрицать
правдивость истории Пьера и красавицы Магалоны, когда до настоящего дня в
королевском арсенале можно видеть болт, которым доблестный Пьер управлял
деревянной лошадью, носившей его по воздуху, болт несколько больше дышла
кареты? Рядом с ним хранится и седло Бабиеки, а в Ронсевале -- рог Роланда,
величиной с большое бревно, и из всего этого приходится сделать вывод, что
были и двенадцать пэров, был и Пьер, был и Сид и другие подобные им рыцари
из тех, о которых люди говорят, что они отправляются в поиски за
приключениями. А если нет, пусть мне также скажут, будто неправда и то, что
странствующим рыцарем был храбрый лузитанец Хуан де Лерма, который поехал в
Бургундию и сражался в городе Рас со знаменитым сеньором де Шарни, которого
звали Мосен Пьер, а затем, в городе Базеле, -- с Мосеном Энрике де
Реместаном, и из обоих предприятий вышел победителем, покрыв себя славой и
почетом. А приключения и поединки в Бургундии храбрых испанцев Педро Барба и
Гутиерро Кихада (из рода которых я происхожу по прямой мужской линии),
победивших сыновей графа Сен-Поля? Отрицайте также и то, что дон Фернандо де
Гевара ездил искать приключений в Германию, где он сражался с Мисером Юрхе
-- рыцарем из Австрийского герцогского дома. Пусть скажут, что и турниры
Суэро де Киньонеса дель Пасо -- басни, так же как и предприятия Мосена Люиса
де Фальсеса против кастильского кабальеро дона Гонсало де Гусмана, и многие
другие подвиги, совершенные христианскими рыцарями Испании и иных стран и
которые настолько достоверны и истинны, что, повторяю, тот, кто их отрицает,
должен быть лишен всякого здравого смысла и сообразительности.
Каноник был изумлен, слушая эту смесь истины и лжи в речи Дон Кихота,
так же как и его сведениями во всем, что касалось и относилось до подвигов
странствующего рыцарства, и он возразил ему так:
-- Не могу отрицать, сеньор Дон Кихот, что есть некоторая доля правды в
том, что вы говорили, и в особенности в том, что касается испанских
странствующих рыцарей. Я согласен также допустить и существование двенадцати
пэров Франции, но не могу поверить, чтоб они совершили все те вещи, о
которых пишет архиепископ Турпин. Истинно лишь то, что это были рыцари,
избранные французскими королями, и их называли пэрами, потому что все они
были равны доблестию, мужеством и знатностью происхождения, или если этого и
не было, то, по крайней мере, должно было быть; и это был орден в роде
теперешних орденов Сантего или Калатравы, где также предполагается, что все
члены есть или должны быть рыцарями достойными, доблестными и знатного
происхождения; и как теперь говорят, рыцарь ордена Сан-Хулиана, или
Алькантары, в те времена говорили: рыцарь двенадцати пэров, потому что
всегда было двенадцать во всем равных рыцарей, которые избирались в этот
военный орден. В том, что существовал Сид, нет сомнения, а также и в том,
что существовал Бернардо дель Карпио, но чтобы они совершали приписываемые
им подвиги, это, я думаю, подлежит весьма большому сомнению. Что же касается
болта графа Пьера, о котором говорила ваша милость, будто он лежит рядом с
седлом Бабиеки в королевском арсенале, каюсь в своем грехе: я или так
невежествен, или так близорук, что хотя и видел седло, но не видел болта,
несмотря на то что он столь велик, как говорит ваша милость.
-- Тем не менее он там находится, и это несомненно, -- возразил Дон
Кихот, -- а как на дальнейшую примету указывают, что его держат в кожаном
чехле, чтоб он не заржавел.
-- Все может быть, -- ответил каноник, -- но клянусь моим духовным
саном, я не помню, чтоб когда-либо видел его. И даже если допустить, что он
там находится, это нимало не обязывает меня верить историям стольких
Амадисов, или же историям великого множества других рыцарей, о которых
повествуется в книгах, и не причина, чтобы человек, столь уважаемый,
одаренный такими достоинствами и таким светлым умом, как ваша милость,
поверил, что все эти удивительные нелепости, о которых рассказывается в
бессмысленных рыцарских книгах,-- истинные происшествия.


Глава L Об остроумном споре Дон Кихота с каноником и о других событиях
-- Вот так прекрасно, -- ответил Дон Кихот, -- книги, которые
печатаются с разрешения королей и с одобрения тех, кто поставлен
просматривать их, которые с таким наслаждением читают и которыми восхищаются
великие и малые, бедные и богатые, ученые и неучи, простонародье и люди
знатного происхождения, словом, всякого рода люди, какого бы они ни были
звания и положения, эти книги, по-вашему, -- ложь? А тем более еще, что они
носят на себе такой отпечаток правды, сообщая нам об отце, матери, родине, о
родственниках, о возрасте, местопребывании и деятельности шаг за шагом и
день за днем такого-то рыцаря или таких-то рыцарей? Молчите, милость ваша,
не произносите подобной хулы и поверьте, что, говоря так, я советую вам
поступить, как следует умному человеку; если же не верите, прочтите те
книги, и вы убедитесь, какое удовольствие доставит вам их чтение. Потому
что, скажите мне, есть ли большее наслаждение, как увидеть, скажем, к
примеру, тут сейчас раскинувшееся перед нашими глазами большое озеро смолы,
и кипит оно белым ключом, а в смоле плавает, пересекая друг другу дорогу,
множество змей, ужей, ящериц и других животных всех родов, ужасных и
свирепых, а из озера подымается глубоко печальный голос, и он говорит: "Кто
бы. ты ни был, рыцарь, ты, который смотришь на страшное озеро, если хочешь
достигнуть счастия, скрытого под этой черной водой, докажи мужество твоего
доблестного сердца и бросься в середину черной и воспламененной жидкости,--
так как, если ты этого не сделаешь, ты не удостоишься лицезреть великие
чудеса, скрытые и заключающиеся в семи замках семи фей, там, в глубине этих
черных волн"? И едва рыцарь услышит страшный этот голос, он, ни на миг не
рассуждая с собой и не размышляя об опасности, которой подвергается, даже не
освободившись от тяжелого своего вооружения, поручив себя Богу и своей
сеньоре, бросается в глубину кипящего озера, и, когда он менее всего ожидает
этого и не знает, что станется с ним, он очутится среди цветущих полей, с
которыми и елисейские никоим образом не могут сравниться. Здесь ему кажется,
что и небо более прозрачно, и солнце сияет новым блеском. Его глазам
представляется прекрасная роща, состоящая из таких зеленых и густолиственных
деревьев, что их зелень радует зрение, а слух наслаждается сладким,
необученным пением маленьких бесчисленных пестрых птичек, порхающих на
переплетенных ветках деревьев. Тут он видит ручеек, прохладные воды которого
кажутся ему жидким хрусталем и бегут по тонкому песку и белым камешкам,
похожим на просеянное сквозь решето золото и чистый жемчуг. Там он примечает
фонтан художественной работы из цветной яшмы и полированного мрамора, а
дальше усматривает другой, сложенный как бы попросту из мелких устричных
раковин и витых домиков улиток, белых и желтых, расположенных в каком-то
кажущемся беспорядке и перемешанных с кусочками блестящего хрусталя и
поддельных изумрудов, и все это являет такую пеструю соразмерность, что
искусство, подражающее здесь природе, по-видимому, торжествует над нею.
Дальше неожиданно открывается перед ним укрепленный замок или дивный дворец,
стены которого из кованого золота, зубцы на стенах -- из бриллиантов, ворота
-- из гиацинтов; словом, он так изумительно сооружен, что хотя материал, из
которого он выстроен, не более не менее как алмазы, карбункулы, рубины,
жемчуг, золото и изумруды, но искусство работы драгоценнее материала. А
когда налюбуешься всем этим, может ли быть более прекрасное зрелище, как
увидеть вереницу молодых девушек, выходящих из ворот замка, в таких
роскошных и ярких нарядах, что, если бы я стал их описывать, как это
делается в рыцарских историях, я никогда бы не кончил; и затем та, которая
кажется самой знатной из всех, берет за руку смелого рыцаря, бросившегося в
пылающее озеро, и, не говоря ни слова, ведет его в роскошный замок или
дворец, где его раздевают донага, как мать родила, купают в теплой воде,
тотчас же натирают всего благоуханными мазями и надевают на него сорочку из
тончайшего шелка, душистую и благовонную; после чего другая знатная девушка
подходит к нему и набрасывает на плечи мантию, которая по меньшей мере,
говорят, стоит целого города и даже большего. И что может быть прекраснее,
когда, как нам рассказывают, после всего этого его ведут в другой зал, где
он видит столы, накрытые с таким вкусом, что он удивлен и изумлен. А когда
ему льют на руки воду, перегнанную на амбре и душистых цветах, и усаживают
его в кресло из слоновой кости? А когда все молодые девушки служат ему,
храня чудесное молчание, и подают ему такие разнообразные и так вкусно
приготовленные блюда, что он не знает, к которому из них протянуть руку? А
затем какое удовольствие слушать музыку, пока он ест, не зная, кто играет и
откуда раздаются звуки? Наконец, когда обед кончен, со стола убрано и рыцарь
сидит, прислонившись к стенке кресла, может быть, ковыряя в зубах, как это в
обычае, вдруг в зал входит еще одна молодая девушка, прекраснее всех
остальных, и она садится рядом с рыцарем и начинает рассказывать ему, что
это за замок, как она в нем очарована и еще другие вещи, которые приводят
рыцаря в удивление, а читателя его истории -- в изумление. Не хочу дальше
распространяться об этом, так как и из сказанного можно вывести заключение,
что какое бы то ни было место в какой бы то ни было истории странствующего
рыцаря должно возбудить удовольствие и удивление во всяком читателе.
Поверьте мне, милость ваша, читайте, как я уже раньше говорил, эти книги, и
вы увидите, что они разгонят тоску, если бы вы ее чувствовали, и благотворно
подействуют на ваше расположение духа, если бы оно было дурным. Про себя
могу сказать: с тех пор как я странствующий рыцарь, я отважен, любезен,
щедр, благовоспитан, великодушен, участлив, смел, учтив, кроток, терпелив и
легко переношу: трудности, заточение, очарование. Хотя я еще так недавно
сидел запертый в клетке, подобно безумному, тем не менее надеюсь доблестью
руки моей -- если небо будет благоприятствовать мне и судьба не станет
противодействовать, -- через малое время сделаться королем какого-нибудь
королевства, где мне можно будет выказать признательность и щедрость,
которые сердце мое вмещает в себе, так как, по чести, сеньор, бедняк
бессилен проявить добродетель щедрости относительно кого бы то ни было, если
бы он и обладал ею в высочайшей степени; а признательность, которая
ограничивается только желанием, -- вещь мертвая, как мертва вера без дел.
Вот почему я бы хотел, чтоб судьба доставила мне скорее случай сделаться
императором, и я имел бы возможность выказать мои чувства, делая добро моим
друзьям, в особенности этому бедному Санчо Пансе -- моему оруженосцу,
который лучший из людей в мире, и я желал бы дать ему графство, как я это
уже давно обещал; только я боюсь, что у него не хватит уменья управлять
своими владениями.
Едва Санчо услышал последние слова, сказанные его господином, как он
воскликнул:
-- Постарайтесь всеми силами, милость ваша сеньор Дон Кихот, добыть мне
это графство, много раз уже обещанное вашею милостью и которое я так давно
жду, а я вам обещаю, что у меня хватит уменья управлять им. Если же его у
меня не хватило бы, то, как я слышал, на свете есть такие люди, которые
берут в аренду владения сеньоров и платят им столько-то в год и сами уже
заботятся об управлении, а сеньоры живут себе припеваючи {Se esta apierna
tendida -- букв. "сидит себе с вытянутыми ногами".} и тратят деньги, которые
им выплачивают, не заботясь ни о чем другом. Так сделаю и я и не стану
торговаться о большем или меньшем, а сейчас же отступлюсь от всего и буду
проедать, как герцог, свои доходы, а там хоть трава не расти.
-- Это, брат Санчо, -- сказал каноник, -- относится только к
пользованию доходами; что же касается отправления правосудия, заведывать
этим обязан собственник владения, для чего требуются понимание, здравый
смысл и особенно искреннее желание быть справедливым, потому что если этого
не окажется в начале, то дело пойдет плохо и в середине, и в конце, и Бог
имеет обыкновение помогать добрым намерениям простодушного, как и разрушать
злые умыслы коварного.
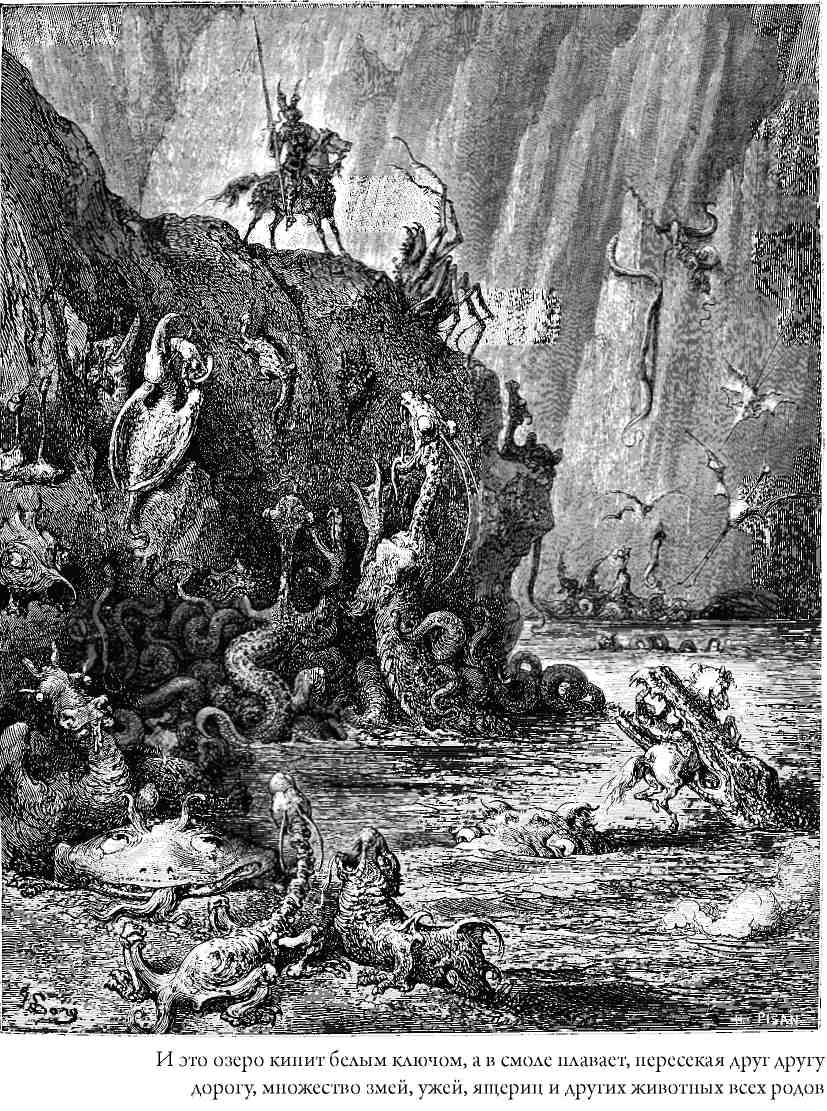 -- Не знаю я этих философий, -- ответил Санчо Панса, -- но знаю только,
что желал бы так скоро получить графство, как сумел бы управлять им, потому
что душа у меня не хуже, чем у всякого другого, а тела больше, чем у многих,
и я был бы настолько же королем в своем государстве, как и всякий другой --
в своем; и, будучи им, я делал бы то, что желаю; делая же то, что желаю, я
доставлял бы себе приятное и, доставляя себе приятное, был бы доволен; если
же кто доволен, ему нечего больше желать, и, если нечего желать, всему тут
конец; лишь бы только явились мои владения, а там с богом и да увидим мы
себя, как говорил один слепой другому.
-- Это не дурные "философии", как ты, Санчо, говоришь, -- заявил
каноник, -- но тем не менее можно было бы еще многое сказать по поводу
графств.
На это Дон Кихот возразил:
-- Не знаю, что еще можно было бы сказать; я руководствуюсь {В третьем
издании "Дон Кихота" (напечатанном в типографии Куэсты в 1608 г.) здесь
вставлен следующий эпизод: "только многими и различными примерами, которые
можно было бы привести среди рыцарей моей профессии, оказывавших --
сообразно с верными и отменными услугами, полученными от своих оруженосцев,
-- им великие милости, делая их державными властителями городов и островов,
а были и такие, чьи заслуги достигали столь высокой степени, что они имели
даже чаяние стать королями. Но к чему я трачу время на это, когда предо мной
столь знаменитый пример, данный великим и никогда достаточно не восхваленным
Амадисом, который..."} только примером великого Амадиса Галльского, который
оруженосца своего сделал графом Insula Firme; итак, я без всякого укора
совести могу сделать графом Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев,
когда-либо бывших у странствующего рыцаря.
Каноник был изумлен столь согласованными нелепостями, изложенными Дон
Кихотом, уменьем, с которым он изобразил приключение рыцаря озера,
впечатлением, произведенным на него умышленной ложью прочитанных им
книг, и, наконец, безрассудством Санчо, который так страстно ожидал
получения графства, обещанного ему его господином.
Между тем слуги каноника ходившие на постоялый двор, чтобы привести
оттуда вьючного мула, вернулись, и, когда они устроили стол из ковра и
зеленой травы луга, все уселись в тени нескольких деревьев и ели тут, чтоб
погонщик волов мог, как уже было сказано, воспользоваться удобствами этих
мест. В то время как они ели, вдруг послышался громкий шелест и звук
бубенчиков, раздавшийся среди терновника и густого кустарника, который рос
вблизи, и в ту же минуту они увидели, как оттуда выскочила премилая коза,
шерсть которой была испещрена черными, белыми и серыми пятнами. За нею шел
пастух, громко звавший ее и манивший обычными в таких случаях словами, чтобы
заставить ее остановиться или вернуться в стадо. Бродяга коза, испуганная и
оробевшая, подбежала к обедавшим, как бы прося у них защиты, и остановилась
здесь. Козопас подошел к ней, взял ее за рога и сказал ей, точно она была
одарена речью и пониманием:
-- Ах, беглянка, беглянка, пегенькая, пегенькая! Как сильно вы все эти
дни прихрамывали? Какие волки пугают вас, дочка? Не скажете ли вы мне, в чем
дело, красавица? Но что же это может быть, кроме того, что вы женского пола
и не можете оставаться спокойной? К черту ваши причуды и причуды всех тех,
кому вы подражаете! Вернитесь, вернитесь, дорогая, потому что, если и не
столь счастливая, по крайней мере, вы будете в безопасности у себя в загоне
или с вашими подругами; и если вы, которая должна присматривать за ними и
показывать им дорогу, блуждаете так без проводника и сбиваетесь с пути, что
же станется с ними?
-- Не знаю я этих философий, -- ответил Санчо Панса, -- но знаю только,
что желал бы так скоро получить графство, как сумел бы управлять им, потому
что душа у меня не хуже, чем у всякого другого, а тела больше, чем у многих,
и я был бы настолько же королем в своем государстве, как и всякий другой --
в своем; и, будучи им, я делал бы то, что желаю; делая же то, что желаю, я
доставлял бы себе приятное и, доставляя себе приятное, был бы доволен; если
же кто доволен, ему нечего больше желать, и, если нечего желать, всему тут
конец; лишь бы только явились мои владения, а там с богом и да увидим мы
себя, как говорил один слепой другому.
-- Это не дурные "философии", как ты, Санчо, говоришь, -- заявил
каноник, -- но тем не менее можно было бы еще многое сказать по поводу
графств.
На это Дон Кихот возразил:
-- Не знаю, что еще можно было бы сказать; я руководствуюсь {В третьем
издании "Дон Кихота" (напечатанном в типографии Куэсты в 1608 г.) здесь
вставлен следующий эпизод: "только многими и различными примерами, которые
можно было бы привести среди рыцарей моей профессии, оказывавших --
сообразно с верными и отменными услугами, полученными от своих оруженосцев,
-- им великие милости, делая их державными властителями городов и островов,
а были и такие, чьи заслуги достигали столь высокой степени, что они имели
даже чаяние стать королями. Но к чему я трачу время на это, когда предо мной
столь знаменитый пример, данный великим и никогда достаточно не восхваленным
Амадисом, который..."} только примером великого Амадиса Галльского, который
оруженосца своего сделал графом Insula Firme; итак, я без всякого укора
совести могу сделать графом Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев,
когда-либо бывших у странствующего рыцаря.
Каноник был изумлен столь согласованными нелепостями, изложенными Дон
Кихотом, уменьем, с которым он изобразил приключение рыцаря озера,
впечатлением, произведенным на него умышленной ложью прочитанных им
книг, и, наконец, безрассудством Санчо, который так страстно ожидал
получения графства, обещанного ему его господином.
Между тем слуги каноника ходившие на постоялый двор, чтобы привести
оттуда вьючного мула, вернулись, и, когда они устроили стол из ковра и
зеленой травы луга, все уселись в тени нескольких деревьев и ели тут, чтоб
погонщик волов мог, как уже было сказано, воспользоваться удобствами этих
мест. В то время как они ели, вдруг послышался громкий шелест и звук
бубенчиков, раздавшийся среди терновника и густого кустарника, который рос
вблизи, и в ту же минуту они увидели, как оттуда выскочила премилая коза,
шерсть которой была испещрена черными, белыми и серыми пятнами. За нею шел
пастух, громко звавший ее и манивший обычными в таких случаях словами, чтобы
заставить ее остановиться или вернуться в стадо. Бродяга коза, испуганная и
оробевшая, подбежала к обедавшим, как бы прося у них защиты, и остановилась
здесь. Козопас подошел к ней, взял ее за рога и сказал ей, точно она была
одарена речью и пониманием:
-- Ах, беглянка, беглянка, пегенькая, пегенькая! Как сильно вы все эти
дни прихрамывали? Какие волки пугают вас, дочка? Не скажете ли вы мне, в чем
дело, красавица? Но что же это может быть, кроме того, что вы женского пола
и не можете оставаться спокойной? К черту ваши причуды и причуды всех тех,
кому вы подражаете! Вернитесь, вернитесь, дорогая, потому что, если и не
столь счастливая, по крайней мере, вы будете в безопасности у себя в загоне
или с вашими подругами; и если вы, которая должна присматривать за ними и
показывать им дорогу, блуждаете так без проводника и сбиваетесь с пути, что
же станется с ними?
 Слова козопаса рассмешили тех, кто их слышал, в особенности же
каноника, который сказал:
-- Прошу вас, брат, жизнью вашей успокойтесь и не слишком торопитесь
отводить эту козу в стадо, потому что если она, как вы говорите, женского
пола, то будет следовать природным своим наклонностям, сколько бы вы ни
старались мешать ей. Возьмите вот этот кусок мяса, выпейте несколько глотков
вина, и ваш гнев смягчится, а коза между тем отдохнет.
Говоря это, каноник подал пастуху на кончике ножа кусок жареного
кролика. Козопас взял жаркое, поблагодарил, выпил вина, успокоился и сказал:
-- Я бы не хотел, чтобы вы, милости ваши, приняли меня за простака,
оттого что я так рассуждал с этим животным, потому что, по правде говоря, в
сказанных мною словах кроется некоторая тайна. Я хотя и крестьянин, но не
такой невежда, чтобы не знать, как надо разговаривать с людьми и как с
животными.
-- Этому я легко поверю, -- сказал священник, -- потому что знаю по
опыту, что горы воспитывают ученых, а в пастушечьих хижинах скрываются
философы.
-- Или же, по крайней мере, сеньор, -- ответил пастух, -- в них находят
пристанище люди, наученные опытом, и чтобы вы могли этому поверить и словно
осязать рукой -- хотя меня и не просили, а я как бы сам напрашиваюсь, --
если вам, сеньоры, не наскучит, и угодно будет на короткое время уделить мне
ваше внимание, я расскажу вам истинное происшествие, подтверждающее и то,
что говорил этот сеньор (он указал на священника), и мои слова.
На это Дон Кихот ответил:
-- Ввиду того что случай этот, как мне кажется, имеет нечто вроде
оттенка рыцарского приключения, я со своей стороны, брат, буду слушать вас
очень охотно, а равно и все эти сеньоры, так как они весьма рассудительные
люди и большие любители занимательных рассказов, которые удивляют,
очаровывают и развлекают, как, несомненно, я думаю, это выйдет и с вашим
рассказом. Итак, начинайте, друг, все мы слушаем вас.
-- Исключая меня, -- сказал Санчо,-- потому что я с этим паштетом
перейду туда, к ручейку, где намерен досыта наесться на три дня, так как я
слышал от моего господина Дон Кихота, что оруженосец странствующего рыцаря
должен есть, когда ему представится случай, до тех пор пока он больше не в
состоянии есть, по той причине, что они нередко попадают в такой дремучий
лес, откуда не удается выбраться раньше шести дней, и, если человек не был
сыт по горло или не имеет при себе сумки, наполненной съестными припасами,
он может остаться там, как это часто и бывает, превращенный в высохшую
мумию.
-- Ты прав, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- ступай себе куда хочешь и
ешь сколько можешь; что до меня, я уже сыт и мне недостает лишь одного --
дать пищу моей душе, что я и сделаю, слушая рассказ доброго этого человека.
-- И мы также дадим пищу душам нашим, -- сказал каноник и просил
козопаса приступить к обещанному рассказу.
Слова козопаса рассмешили тех, кто их слышал, в особенности же
каноника, который сказал:
-- Прошу вас, брат, жизнью вашей успокойтесь и не слишком торопитесь
отводить эту козу в стадо, потому что если она, как вы говорите, женского
пола, то будет следовать природным своим наклонностям, сколько бы вы ни
старались мешать ей. Возьмите вот этот кусок мяса, выпейте несколько глотков
вина, и ваш гнев смягчится, а коза между тем отдохнет.
Говоря это, каноник подал пастуху на кончике ножа кусок жареного
кролика. Козопас взял жаркое, поблагодарил, выпил вина, успокоился и сказал:
-- Я бы не хотел, чтобы вы, милости ваши, приняли меня за простака,
оттого что я так рассуждал с этим животным, потому что, по правде говоря, в
сказанных мною словах кроется некоторая тайна. Я хотя и крестьянин, но не
такой невежда, чтобы не знать, как надо разговаривать с людьми и как с
животными.
-- Этому я легко поверю, -- сказал священник, -- потому что знаю по
опыту, что горы воспитывают ученых, а в пастушечьих хижинах скрываются
философы.
-- Или же, по крайней мере, сеньор, -- ответил пастух, -- в них находят
пристанище люди, наученные опытом, и чтобы вы могли этому поверить и словно
осязать рукой -- хотя меня и не просили, а я как бы сам напрашиваюсь, --
если вам, сеньоры, не наскучит, и угодно будет на короткое время уделить мне
ваше внимание, я расскажу вам истинное происшествие, подтверждающее и то,
что говорил этот сеньор (он указал на священника), и мои слова.
На это Дон Кихот ответил:
-- Ввиду того что случай этот, как мне кажется, имеет нечто вроде
оттенка рыцарского приключения, я со своей стороны, брат, буду слушать вас
очень охотно, а равно и все эти сеньоры, так как они весьма рассудительные
люди и большие любители занимательных рассказов, которые удивляют,
очаровывают и развлекают, как, несомненно, я думаю, это выйдет и с вашим
рассказом. Итак, начинайте, друг, все мы слушаем вас.
-- Исключая меня, -- сказал Санчо,-- потому что я с этим паштетом
перейду туда, к ручейку, где намерен досыта наесться на три дня, так как я
слышал от моего господина Дон Кихота, что оруженосец странствующего рыцаря
должен есть, когда ему представится случай, до тех пор пока он больше не в
состоянии есть, по той причине, что они нередко попадают в такой дремучий
лес, откуда не удается выбраться раньше шести дней, и, если человек не был
сыт по горло или не имеет при себе сумки, наполненной съестными припасами,
он может остаться там, как это часто и бывает, превращенный в высохшую
мумию.
-- Ты прав, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- ступай себе куда хочешь и
ешь сколько можешь; что до меня, я уже сыт и мне недостает лишь одного --
дать пищу моей душе, что я и сделаю, слушая рассказ доброго этого человека.
-- И мы также дадим пищу душам нашим, -- сказал каноник и просил
козопаса приступить к обещанному рассказу.
 Пастух раза два похлопал по спине козу, которую он держал за рога,
говоря:
-- Ложись здесь, возле меня, легенькая, у нас еще довольно времени,
чтобы вернуться в нашу овчарню.
Казалось, что коза поняла его слова, потому что, когда ее господин сел,
она спокойно разлеглась около него, глядя ему в лицо, как бы выражая
этим, что внимательно слушает слова пастуха, который начал свою историю
таким образом.
Пастух раза два похлопал по спине козу, которую он держал за рога,
говоря:
-- Ложись здесь, возле меня, легенькая, у нас еще довольно времени,
чтобы вернуться в нашу овчарню.
Казалось, что коза поняла его слова, потому что, когда ее господин сел,
она спокойно разлеглась около него, глядя ему в лицо, как бы выражая
этим, что внимательно слушает слова пастуха, который начал свою историю
таким образом.


Глава LI, в которой сообщается о том, что рассказал козопас всем тем,
кто увозил Дон Кихота
В трех милях от этой долины есть деревня, хотя и маленькая, а одна из
самых богатых во всем округе, и там жил крестьянин, очень уважаемый, и до
такой степени, что, хотя всегда уважение идет вослед богатым, его уважали
больше за добродетели, которыми он обладал, чем за богатство, которое он
нажил. Но самое большое его счастье, как он говорил, состояло в том, что у
него была дочь -- девушка такой необычайной красоты, редкостного ума и
добродетели, что все, знавшие или видавшие ее, изумлялись неслыханным
совершенствам, которыми небо и природа так щедро оделили ее. Уже девочкой
была она красива, а с годами красота ее все более и более росла, и в
шестнадцать лет достигла высшей своей точки. Слава о необычайной красоте ее
стала распространяться по всем соседним деревням; что я говорю по соседним
деревням, -- эта слава проникла не только в отдаленные города, но даже
достигла и до дворцов королей и до слуха всевозможного рода людей, которые
стали наезжать отовсюду, чтобы посмотреть на нее, как смотрят на редкостную
вещь или на чудотворную икону. Отец берег ее, и сама она берегла себя,
потому что нет тех цепей, той стражи и замков, которые уберегли бы девушку
лучше, чем собственная ее скромность. Богатство отца и красота дочери
побуждали многих, как из того же местечка, так и приезжих, сватать ее себе в
жены. Но отец, которому надлежало распорядиться судьбой такого необычайного
сокровища, был смущен и не мог решить, кому передать его из бесчисленного
множества докучавших ему; и в числе этих столь многих одним из домогавшихся
ее был и я, и основывал свои надежды на верный и хороший успех на том, что
ее отец меня знал, так как я был родом из того же местечка, из уважаемой
семьи, в цветущем возрасте, имел большое состояние и не был обижен умом. С
такими же данными, как и я, сватался к ней еще и другой из нашего местечка,
что и было причиной колебаний и нерешительности ее отца, которому казалось,
что за кого бы из нас ни вышла его дочь -- она была бы хорошо пристроена.
Чтобы выйти из этого затруднения, он надумал сказать обо всем Леандре (так
называлась богатая, сделавшая меня таким бедняком), полагая, что, раз
достоинства обоих нас одинаковы, лучше всего предоставить любимой им дочери
право выбрать того, кто ей больше нравится, -- пример, заслуживающий
подражания всех родителей, имеющих в виду женить или выдать замуж своих
детей. Я не говорю, чтоб им давали выбирать из дурных и низких вещей, а
предлагали бы хорошие и из хороших предоставляли бы выбирать по их вкусу. Не
знаю, какой выбор сделала Леандра, знаю только, что отец ее отговаривался
перед нами обоими молодостью дочери и разными другими общими местами,
которые ни к чему не обязывали его, но и не освобождали нас. Звали моего
соперника Ансельмо, а меня зовут Эйхенио, -- чтоб вы были осведомлены об
именах действующих лиц этой трагедии, развязка которой еще не наступила,
хотя нетрудно предвидеть, что, должно быть, она будет злополучной.
Около этого времени в нашем местечке появился некто Висенте де ла Роса,
сын бедного крестьянина из нашей же деревни. Этот Висенте вернулся из Италии
и разных других стран, где он служил солдатом. Его взял из деревни нашей
мальчиком лет двенадцати капитан, проходивший тогда как раз со своим
отрядом, и по прошествии других двенадцати лет он вернулся молодым человеком
в щегольской, пестрой и разноцветной солдатской одежде, обвешанный тысячей
кусочков хрусталя и тоненькими стальными цепочками. Сегодня он надевал одно
украшение, завтра -- другое, но все они, хотя и блестели, были непрочны,
незначительного веса и еще меньшей стоимости. Крестьяне, которые по природе
склонны к злоречию, а когда безделье представляет им к тому случай, являются
воплощением злословия, подметили это и подвели точный счет его нарядам и
украшениям, из которого обнаружилось, что у него всего-навсего только три
костюма разных цветов с чулками и подвязками. Но он был так изобретателен с
ними и умел придавать им такое разнообразие, что, если б их не сосчитали,
нашлись бы люди, готовые поклясться, что видели у него больше десяти пар
платья и двадцати султанов из перьев. И не сочтите неуместным и лишним то,
что я так распространяюсь насчет его нарядов, потому что они сыграли
выдающуюся роль в этой истории. Он садился на скамейке под большим тополем
на площади села и увлекал всех нас рассказами о своих подвигах, так что мы
слушали его с открытыми ртами. Не было на всем свете страны, где бы он, по
его словам, не побывал, не было сражения, в котором он бы не участвовал. Он
убил больше мавров, чем их имеется в Марокко и Тунисе, и у него было будто
бы больше поединков, чем у Ганте и Луна, Диего Гарсиа де Паредеса и тысячи
других, которых он называл; и отовсюду он вышел победителем, не пролив ни
одной капли своей крови. А в другой раз он показывал нам знаки от ран, хотя
их и нельзя было разглядеть, и уверял нас, что это раны от ружейных пуль,
полученные им в разных стычках и сражениях. Наконец, он с невиданным
высокомерием говорил на vos {Т. е. он говорит вместо tu ("ты") vos ("вы") --
"на вы", во втором лице множественного числа, желая этим показать, что он
выше других.} с равными себе, даже с теми из них, которые были хорошо
знакомы с ним, и хвалился, что отец ему -- его рука, его происхождение --
его дела и что в качестве солдата он и самому королю ничем не обязан. К этим
его притязаниям присоединялось еще то, что он был немного музыкант и умел
извлекать из гитары звуки такого рода, что некоторые уверяли, будто она у
него говорит; но его таланты не ограничивались этим, потому что, сверх того,
он еще был и поэтом и на каждую пустяковину, случавшуюся в селе, сочинял
стихи в полторы мили длиной.
 И вот этого-то солдата, которого я вам описал, этого Висенте де ла
Роса, героя, щеголя, музыканта и поэта, Леандра часто видела и рассматривала
из окна своего дома, выходившего на площадь. Яркие блестки его наряда
пленили ее, сочиненные им стихи, которые он всегда сам раздавал в двух
десятках экземпляров, очаровали ее; до ее слуха дошли рассказы о подвигах,
которые он приписывал себе, -- словом, должно быть, дьявол так устроил, что
она влюбилась в него еще раньше, чем в нем зародилась самонадеянная мысль
домогаться ее. И так как из дел любви легче всех устраиваются те, на стороне
которых желания женщины, Леандра и Висенте сговорились без всяких
затруднений, и прежде чем у кого-либо из многочисленных ее поклонников
зародилось какое-либо подозрение о ее намерении, она привела его уже в
исполнение, покинув дом столь горячо любимого и чтимого ею отца -- матери у
нее не было -- и исчезнув из деревни вместе с солдатом, вышедшим из этого
предприятия с большим торжеством, чем из всех остальных, которыми он так
хвастал. Происшествие это изумило всю деревню и всех тех, до кого дошла
весть о нем. Я был поражен, Ансельмо вне себя, отец пришел в отчаяние,
родственники негодовали, правосудие встревожилось, куадрильеросы были
поставлены на ноги. Они осмотрели все дороги, обыскали леса, побывали везде,
где только было мыслимо; через три дня нашли безрассудную Леандру в горной
пещере в одной лишь сорочке, без того множества денег и драгоценностей,
которые она унесла с собой из дому. Ее привели к огорченному отцу и в его
присутствии расспрашивали о случившемся с нею, и она, не колеблясь,
созналась, что Висенте де ла Роса обманул ее и, дав ей слово жениться на
ней, уговорил покинуть отцовский дом, сказав, что повезет ее в самый богатый
и необычайный во всем мире город, именно в Неаполь. И она, поверив дурным
его советам и еще худшему обману, обобрала своего отца и доверилась солдату
в ту ночь, когда ее хватились; а он ее завел в дикую, гористую местность и
бросил в той пещере, где ее нашли. Она рассказала также, как солдат, не
лишив ее чести, отнял все, что у нее было, и потом оставил ее в этой пещере
и ушел, -- обстоятельство, которое снова всех изумило.
Трудно было поверить в воздержание молодого парня, но она утверждала
это так настойчиво, что в некоторой мере утешила неутешного своего отца,
который не очень огорчился похищенными у него богатствами, так как дочери
его оставили то сокровище, которое, раз оно утрачено, нет надежды когда-либо
вернуть назад. В тот самый день, когда Леандра была найдена, отец ее снова
скрыл ее от наших глаз и увез в монастырь в ближайший город, надеясь, что
время хоть отчасти изгладит дурную славу, которую его дочь навлекла на себя.
Юные годы Леандры послужили оправданием ее вины, по крайней мере, в мнении
тех, которым было безразлично, хороша ли она или дурна, а те, что знали,
насколько она умна и проницательна, не приписали ее греха неопытности, а
легкомыслию и прирожденной наклонности женщин, большая часть которых
обыкновенно бывает безрассудными и непостоянными.
И вот этого-то солдата, которого я вам описал, этого Висенте де ла
Роса, героя, щеголя, музыканта и поэта, Леандра часто видела и рассматривала
из окна своего дома, выходившего на площадь. Яркие блестки его наряда
пленили ее, сочиненные им стихи, которые он всегда сам раздавал в двух
десятках экземпляров, очаровали ее; до ее слуха дошли рассказы о подвигах,
которые он приписывал себе, -- словом, должно быть, дьявол так устроил, что
она влюбилась в него еще раньше, чем в нем зародилась самонадеянная мысль
домогаться ее. И так как из дел любви легче всех устраиваются те, на стороне
которых желания женщины, Леандра и Висенте сговорились без всяких
затруднений, и прежде чем у кого-либо из многочисленных ее поклонников
зародилось какое-либо подозрение о ее намерении, она привела его уже в
исполнение, покинув дом столь горячо любимого и чтимого ею отца -- матери у
нее не было -- и исчезнув из деревни вместе с солдатом, вышедшим из этого
предприятия с большим торжеством, чем из всех остальных, которыми он так
хвастал. Происшествие это изумило всю деревню и всех тех, до кого дошла
весть о нем. Я был поражен, Ансельмо вне себя, отец пришел в отчаяние,
родственники негодовали, правосудие встревожилось, куадрильеросы были
поставлены на ноги. Они осмотрели все дороги, обыскали леса, побывали везде,
где только было мыслимо; через три дня нашли безрассудную Леандру в горной
пещере в одной лишь сорочке, без того множества денег и драгоценностей,
которые она унесла с собой из дому. Ее привели к огорченному отцу и в его
присутствии расспрашивали о случившемся с нею, и она, не колеблясь,
созналась, что Висенте де ла Роса обманул ее и, дав ей слово жениться на
ней, уговорил покинуть отцовский дом, сказав, что повезет ее в самый богатый
и необычайный во всем мире город, именно в Неаполь. И она, поверив дурным
его советам и еще худшему обману, обобрала своего отца и доверилась солдату
в ту ночь, когда ее хватились; а он ее завел в дикую, гористую местность и
бросил в той пещере, где ее нашли. Она рассказала также, как солдат, не
лишив ее чести, отнял все, что у нее было, и потом оставил ее в этой пещере
и ушел, -- обстоятельство, которое снова всех изумило.
Трудно было поверить в воздержание молодого парня, но она утверждала
это так настойчиво, что в некоторой мере утешила неутешного своего отца,
который не очень огорчился похищенными у него богатствами, так как дочери
его оставили то сокровище, которое, раз оно утрачено, нет надежды когда-либо
вернуть назад. В тот самый день, когда Леандра была найдена, отец ее снова
скрыл ее от наших глаз и увез в монастырь в ближайший город, надеясь, что
время хоть отчасти изгладит дурную славу, которую его дочь навлекла на себя.
Юные годы Леандры послужили оправданием ее вины, по крайней мере, в мнении
тех, которым было безразлично, хороша ли она или дурна, а те, что знали,
насколько она умна и проницательна, не приписали ее греха неопытности, а
легкомыслию и прирожденной наклонности женщин, большая часть которых
обыкновенно бывает безрассудными и непостоянными.
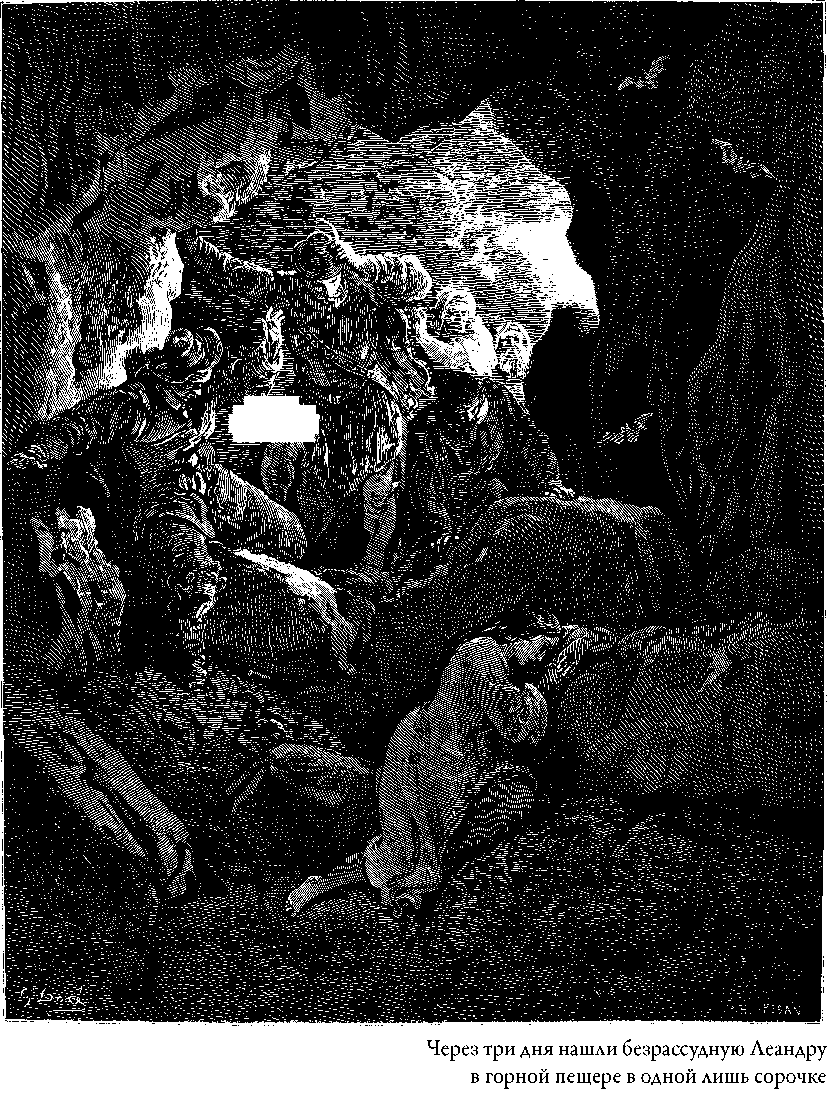 Когда засадили в монастырь Леандру, Ансельмо "ослеп", по крайней мере,
в том смысле, что он перестал видеть что-либо могущее доставить ему
удовольствие, и мои глаза померкли, не видя перед собой ни единого луча
света и радости в отсутствие Леандры. Наше горе усиливалось, терпение
истощалось, мы проклинали щегольство солдата и негодовали на отца Леандры за
недостаток предусмотрительности. Наконец Ансельмо и я, мы сговорились
покинуть деревню и уйти в эту вот долину, где он пасет большое стадо овец,
принадлежащее ему, а я -- не меньшее количество принадлежащих мне коз. Мы
проводим здесь с ним нашу жизнь, среди деревьев, давая свободный выход нашим
чувствам, и вместе поем то хвалу, то осуждение прекрасной Леандре, или же
каждый из нас вздыхает наедине, воссылая к небу свои жалобы. Подражая нашему
примеру, и многие другие поклонники Леандры явились в эти дикие горы и
предаются здесь тем же занятиям, как и мы. Их так много, что эта местность
превратилась в пастушескую Аркадию, до того здесь все полно пастухами и
овчарнями, и всюду раздается лишь имя прекрасной Леандры. Этот проклинает
ее, называя сумасбродной, непостоянной, бесчестной; тот бранит за
легкомыслие и ветреность; один извиняет и прощает ее, другой одновременно и
оправдывает и осуждает, один прославляет ее за красоту, другой возмущается
ее легкомыслием; наконец, все ее осуждают и все ее боготворят. Безумие их
доходит до того, что иной жалуется на ее пренебрежение, не сказав с ней
никогда ни слова, и даже некоторые оплакивают себя и терзаются бешенным
недугом ревности, к которому она не дала ни малейшего повода, так как я уже
говорил, что грех ее сделался известным раньше, чем желание совершить его.
Нет углубления в скале, ни берега ручейка, ни тени под деревом, где бы не
виднелся пастух, оглашающий воздух повестью о своих несчастьях. Эхо
повторяет всюду, где только оно может зародиться, имя Леандры. "Леандра" --
раздается в горах, "Леандра" -- журчат ручейки, и Леандра держит нас всех
сбитых с толку и очарованных, надеющихся без всякой надежды и боящихся, не
зная, чего мы боимся.
Среди этих безумных меньше всех выказывает здравого смысла, а на деле
имеет его больше всех мой соперник Ансельмо, который, имея много других
причин, чтобы жаловаться, жалуется только на разлуку и под звуки рабеля --
на нем он изумительно играет -- поет о грустной своей судьбе стихами,
обнаруживающими замечательный его поэтический талант. Я же иду по другой,
более легкой дороге, а на мой взгляд, самой верной, и браню легкомыслие
женщин, их непостоянство двоедушие, лживость их обещаний, коварное
вероломство и, наконец, неразумие, выказываемое ими при выборе того, на кого
устремляют они свои мысли и чувства. Это-то и был, сеньоры, повод к тем
словам и речам, с которыми я, идя сюда, обратился к своей козе, и о ней, так
как она женского пола, я не высокого мнения, хотя она и лучшая коза из всего
моего стада. Вот история, которую я вам обещал рассказать. Если же я
рассказал вам ее слишком пространно, то не буду скупиться и на то, чтобы
служить вам. Здесь, поблизости, моя овчарня, и там у меня свежее молоко,
вкуснейший сыр и спелые фрукты, столь же приятные на вид, как и на вкус.
Когда засадили в монастырь Леандру, Ансельмо "ослеп", по крайней мере,
в том смысле, что он перестал видеть что-либо могущее доставить ему
удовольствие, и мои глаза померкли, не видя перед собой ни единого луча
света и радости в отсутствие Леандры. Наше горе усиливалось, терпение
истощалось, мы проклинали щегольство солдата и негодовали на отца Леандры за
недостаток предусмотрительности. Наконец Ансельмо и я, мы сговорились
покинуть деревню и уйти в эту вот долину, где он пасет большое стадо овец,
принадлежащее ему, а я -- не меньшее количество принадлежащих мне коз. Мы
проводим здесь с ним нашу жизнь, среди деревьев, давая свободный выход нашим
чувствам, и вместе поем то хвалу, то осуждение прекрасной Леандре, или же
каждый из нас вздыхает наедине, воссылая к небу свои жалобы. Подражая нашему
примеру, и многие другие поклонники Леандры явились в эти дикие горы и
предаются здесь тем же занятиям, как и мы. Их так много, что эта местность
превратилась в пастушескую Аркадию, до того здесь все полно пастухами и
овчарнями, и всюду раздается лишь имя прекрасной Леандры. Этот проклинает
ее, называя сумасбродной, непостоянной, бесчестной; тот бранит за
легкомыслие и ветреность; один извиняет и прощает ее, другой одновременно и
оправдывает и осуждает, один прославляет ее за красоту, другой возмущается
ее легкомыслием; наконец, все ее осуждают и все ее боготворят. Безумие их
доходит до того, что иной жалуется на ее пренебрежение, не сказав с ней
никогда ни слова, и даже некоторые оплакивают себя и терзаются бешенным
недугом ревности, к которому она не дала ни малейшего повода, так как я уже
говорил, что грех ее сделался известным раньше, чем желание совершить его.
Нет углубления в скале, ни берега ручейка, ни тени под деревом, где бы не
виднелся пастух, оглашающий воздух повестью о своих несчастьях. Эхо
повторяет всюду, где только оно может зародиться, имя Леандры. "Леандра" --
раздается в горах, "Леандра" -- журчат ручейки, и Леандра держит нас всех
сбитых с толку и очарованных, надеющихся без всякой надежды и боящихся, не
зная, чего мы боимся.
Среди этих безумных меньше всех выказывает здравого смысла, а на деле
имеет его больше всех мой соперник Ансельмо, который, имея много других
причин, чтобы жаловаться, жалуется только на разлуку и под звуки рабеля --
на нем он изумительно играет -- поет о грустной своей судьбе стихами,
обнаруживающими замечательный его поэтический талант. Я же иду по другой,
более легкой дороге, а на мой взгляд, самой верной, и браню легкомыслие
женщин, их непостоянство двоедушие, лживость их обещаний, коварное
вероломство и, наконец, неразумие, выказываемое ими при выборе того, на кого
устремляют они свои мысли и чувства. Это-то и был, сеньоры, повод к тем
словам и речам, с которыми я, идя сюда, обратился к своей козе, и о ней, так
как она женского пола, я не высокого мнения, хотя она и лучшая коза из всего
моего стада. Вот история, которую я вам обещал рассказать. Если же я
рассказал вам ее слишком пространно, то не буду скупиться и на то, чтобы
служить вам. Здесь, поблизости, моя овчарня, и там у меня свежее молоко,
вкуснейший сыр и спелые фрукты, столь же приятные на вид, как и на вкус.


Глава LII О ссоре Дон Кихота с козопасом и о редкостном приключении с
бичующимися, счастливо завершенном рыцарем в поте своего лица
Рассказ пастуха очень понравился всем, кто его слышал, и особенно
канонику, который с чрезвычайным любопытством отметил манеру его изложения,
далеко не напоминавшую грубого козопаса, а скорее тонко образованного
человека, и сказал, что священник был прав, говоря, будто горы воспитывают
ученых. Все присутствовавшие предлагали свои услуги Эйхенио, но наиболее
щедрым в этом отношении оказался Дон Кихот, который сказал ему:
-- Конечно, брат козопас, если бы я только имел возможность предпринять
какое-нибудь приключение, не медля ни минуты отправился бы я в путь, чтобы
сделать вам приятное, а именно: освободить Леандру из монастыря (где, вне
всякого сомнения, ее удерживают против ее воли); сделал бы я это вопреки
игуменье и всем, кто пожелал бы воспрепятствовать мне. И я передал бы ее вам
в руки, чтоб вы могли поступить с ней сообразно с вашей волей и желанием,
соблюдая, однако, законы рыцарства, повелевающие не причинять никакой
девушке какого бы то ни было насилия. Но я надеюсь на Бога, нашего Господа,
что власть злобного чародея не столь велика, чтобы не восторжествовало над
нею могущество другого чародея, более благожелательного, и
тогда я обещаю вам свою защиту и поддержку, как к тому обязывает меня
мое призвание, состоящее в том, чтобы оказывать помощь слабым и
обездоленным. Козопас пристально взглянул на него и, увидав жалкую одежду и
странную наружность Дон Кихота, удивился и спросил цирюльника, сидевшего
рядом с ним:
-- Сеньор, кто этот человек, с такой фигурой и который говорит таким
образом?
-- Кто это может быть, -- ответил цирюльник, -- как не знаменитый Дон
Кихот Ламанчский, отомститель за обиженных, защитник угнетенных, опора
девушек, страх великанов и победитель в битвах?
-- Это напоминает мне, -- сказал козопас, -- то, что читаешь в книгах о
странствующих рыцарях, которые делали все, что ваша милость говорит об этом
человеке, хотя, насколько мне кажется, или милость ваша шутит, или же у
этого кабальеро, по-видимому, совсем пусто в голове.
-- Величайший вы негодяй! -- сказал тогда Дон Кихот. -- Вы-то и есть
пустоголовый и несостоятельный, а у меня голова такая полная, какой никогда
не была та блудница, сын блудницы, что произвела вас на свет!
Говоря таким образом, он схватил лежавший около него хлеб и так бешено
и удачно бросил его в лицо козопаса, что этим ударом приплюснул ему нос. Но
козопас, не признававший подобных шуток, видя, как с ним не в шутку плохо
обходятся, кинулся без всякого уважения к ковру, к скатерти и ко всем
обедавшим на Дон Кихота, схватил его обеими руками за горло и непременно
задушил бы, если бы Санчо Панса не подоспел как раз вовремя и, схватив его
за плечи, не отбросил бы навзничь на стол, ломая тарелки, разбивая стаканы и
разливая и разбрасывая все, что было на столе. Почувствовав себя свободным,
Дон Кихот опять бросился на козопаса, который с окровавленным лицом, избитый
и измолотый кулаками Санчо, ощупью искал на столе нож, чтоб произвести им
кровавую расправу. Но каноник и священник остановили его, а цирюльник
устроил так, что козопасу удалось подмять под себя Дон Кихота, на которого
он обрушился таким градом ударов, что лицо бедного рыцаря оказалось столь же
окровавленным, как и его собственное. Каноник и священник хохотали до упада,
куадрильеросы скакали от удовольствия, и все натравливали друг на друга
бойцов, как это делают с собаками, которые грызутся. Один лишь Санчо Панса
был в отчаянии, так как не мог вырваться из рук слуги каноника, державшего
его, чтобы он не бросился на помощь к своему господину. Наконец, в то время
когда все были веселы, исключая двух противников, терзавших друг друга, они
услышали такой печальный звук трубы, что он заставил их обернуть головы к
тому месту, откуда, казалось, неслись эти звуки. Но тот, кто больше всех
взволновался, услыхав их, был Дон Кихот; и, хотя он и лежал еще против своей
воли под козопасом и был порядочно избит, он сказал своему противнику:
-- Брат дьявол, -- так как невозможно, чтобы ты им не был, раз у тебя
оказалось достаточно мужества и силы, чтобы подчинить себе мою силу и мое
мужество, -- прошу тебя о перемирии на один лишь час, ввиду того что
печальный звук трубы, который донесся до нашего слуха призывает меня, как
мне кажется, к какому-нибудь новому приключению.
Козопас, уже утомившийся бить и быть битым, тотчас же бросил его, а Дон
Кихот поднялся и, повернув глаза в ту сторону, откуда раздавались звуки
трубы, увидел, что с холма спускается множество людей, одетых сверху донизу
в белое, по обычаю кающихся и бичующихся {Бичующиеся (disciplinantes) --
люди, которые в масках и в белых холщовых грубых одеждах устраивали
процессии за собственный счет или по найму. Они шли, бичуя себя веревками,
побужденные к тому религиозным рвением или же тщеславием. Но профессия эта
уже стала падать в общественном мнении во времена Сервантеса, хотя публичные
выступления наемных бичующихся по случаю траура или скорби были запрещены не
раньше как только столетие спустя.}. Случилось так, что облака в том году
отказались орошать своей влагой землю, и во всех местечках округа были
устроены процессии с молитвой и бичеванием, чтобы умолить Бога простереть
длань Своего милосердия и ниспослать дождь. С этой целью жители деревни,
лежавшей вблизи оттуда, шли процессией к почитаемой ими пустыне,
находившейся на склоне холмистой этой долины. При виде странной одежды
кающихся Дон Кихот, позабыв, сколько раз и раньше еще ему случалось видеть
то же самое, вообразил, что это какое-то приключение и только ему одному, в
качестве странствующего рыцаря, надлежит предпринять его. Еще больше
утвердило его в этой фантазии предположение, что статуя, которую они несли,
покрытую трауром, -- знатная сеньора, насильно увезенная бессовестными этими
негодяями и разбойниками. Лишь только эта мысль мелькнула в его уме, он
быстро бросился к Росинанту, который пасся вблизи, и, сняв висевшие на луке
седла узду и щит, тотчас же взнуздал свою лошадь и затем, спросив у Санчо
меч, вскочил на Росинанта и, прикрыв себя щитом, громким голосом крикнул
всем присутствовавшим:
-- Теперь, доблестное общество, вы увидите, как важно, чтобы в мире
были рыцари, давшие обет странствующего рыцарства; теперь, говорю я,
освобождение доброй этой сеньоры, которую везут там в плену, покажет вам,
нужно ли почитать странствующих рыцарей!
И, говоря это, он сжал икрами бока Росинанта, так как шпор у него не
было, и во весь галоп (в этой правдивой истории мы еще не видели, чтобы
Росинант когда-либо несся в карьер) поехал навстречу бичующимся, несмотря на
то что каноник, священник и цирюльник пытались остановить его. Это оказалось
невозможным, а также не могли остановить его и слова Санчо, кричавшего ему
вслед:
-- Куда вы едете, сеньор Дон Кихот? Какие демоны в груди у вас
побуждают вас идти против нашей католической веры? Обратите внимание, --
несчастный я! -- что это процессия бичующихся, а та сеньора, которую несут
на пьедестале,-- благословеннейшее изображение Беспорочной Божией Матери.
Подумайте, милость ваша, о том, что вы делаете, так как на этот раз, можно
сказать, это не то, что вы знаете! {Que no es lo que sabe. По-видимому, у
Санчо на уме поговорка: "Cadauno hace lo que sabe", т. е. всякий делает то,
что он хочет, намерен или привык делать, и он намекает, что на этот раз Дон
Кихот делает нечто, к чему он не привык или что он не намерен делать.}
Но Санчо тщетно утруждал себя, потому что его господин так сильно
стремился догнать привидения в белых саванах и освободить даму в трауре, что
ни слова не слышал, и хотя бы и слышал, все равно не вернулся бы, если б
даже сам король приказал ему это. Подъехав к процессии, он остановил
Росинанта, уже чувствовавшего желание немного отдохнуть, и угрожающим и
хриплым голосом крикнул:
-- Вы, которые закрываете себе лица, должно быть, оттого что вы злые,
остановитесь и выслушайте то, что я желаю вам сказать!
Первыми остановились те, которые несли статую, а один из четырех
священнослужителей, певших молебствие, увидав странную фигуру Дон Кихота,
худобу Росинанта и другие подробности, замеченные и открытые им в Дон
Кихоте, могущие вызвать смех, ответил ему:
-- Сеньор брат, если вы желаете сказать нам что-нибудь, говорите
поскорей, потому что эти братья идут, бичуя себя до крови, и мы не можем и
не должны останавливаться и выслушивать что бы то ни было, разве только это
так коротко, что можно сказать в двух словах.
-- Скажу и в одном, -- возразил Дон Кихот, -- и вот оно: тотчас же
немедленно освободите прекрасную эту сеньору, слезы и грустный вид которой
ясно доказывают, что вы увозите ее против ее воли и нанесли ей великое
оскорбление. Я, который родился на свет, чтобы исправлять такого рода обиды,
не позволю вам сделать ни шагу, пока вы не вернете ей желанную и заслуженную
ею свободу.
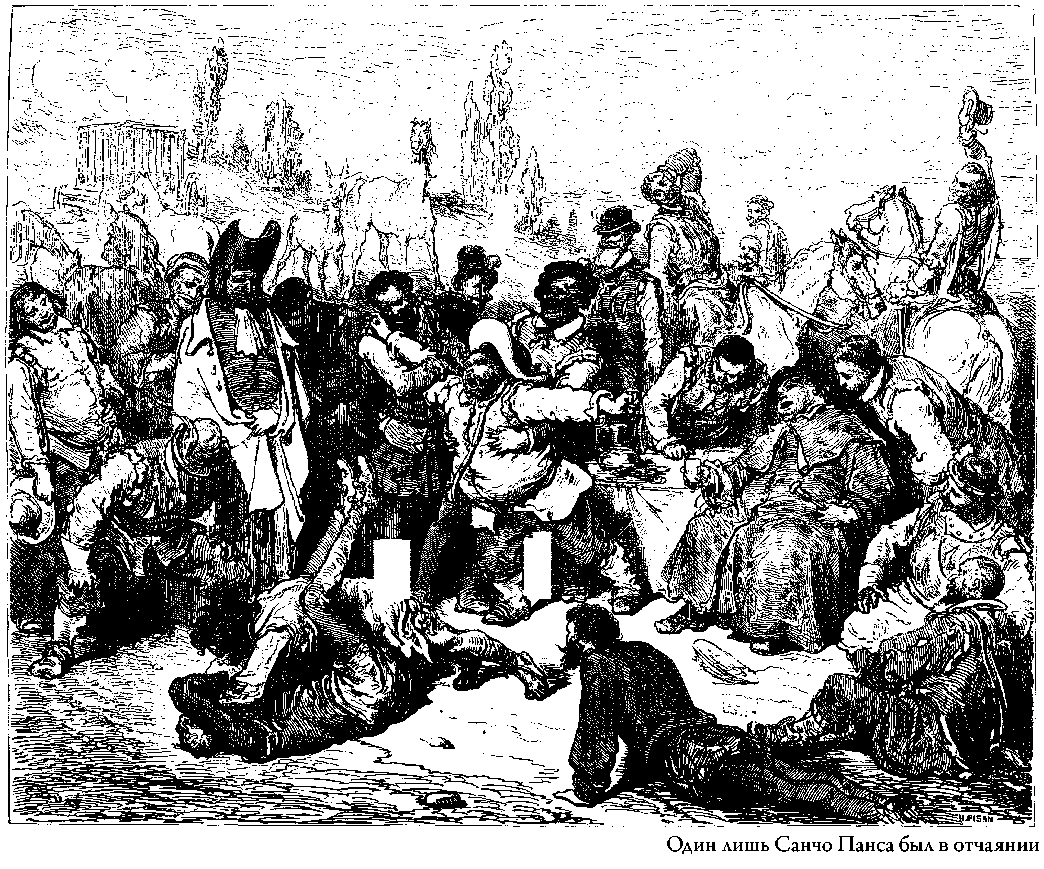 Из этих слов Дон Кихота все, слышавшие их, вывели заключение, что,
должно быть, он сумасшедший, и разразились громким смехом. Но этот смех был
точно порох, брошенный в пламя гнева Дон Кихота, потому что, не говоря ни
слова, он обнажил меч и бросился к носилкам. Один из тех, которые их несли,
оставив ношу товарищам, шагнул вперед навстречу Дон Кихоту, размахивая
вилообразной палкой, или шестом, которым он поддерживал носилки во время
остановок. По этому шесту и пришелся сильный удар, нанесенный Дон Кихотом и
разрубивший шест надвое; но обломком, оставшимся у него в руках, крестьянин
обрушил такой увесистый удар на плечо Дон Кихота, как раз с той стороны, где
был меч, и которое не могло быть защищено против крестьянской силы щитом,
что бедный Дон Кихот упал на землю в очень печальном состоянии. Санчо Панса,
бежавший чуть не задыхаясь за своим господином по пятам, увидав, что тот
упал, крикнул нападавшему на него, чтобы он не бил его больше, так как это
бедный очарованный рыцарь, который во всей своей жизни никому не сделал зла.
Но крестьянина остановил не крик Санчо, а то, что он увидел лежавшего
недвижимо на земле Дон Кихота и подумал, что он его убил, отчего поспешно
подоткнул под пояс длинное свое одеяние и бросился бежать по полю, как
олень. В это время подошли и все остальные из общества Дон Кихота к месту,
где он лежал; но участвовавшие в процессии, видя, что они бегут к ним, а с
ними и куадрильеросы со своими самострелами, боясь, чтобы не вышло чего
худого, собрались в кружок около статуи Божьей Матери и, надев на головы
капюшоны, держа крепко в руках бичи, а священники -- факелы, ждали
нападения, решив защищаться, и если окажется возможным, и напасть на своих
противников. Но судьба отнеслась к ним более благосклонно, чем они думали,
так как Санчо ничего другого не сделал, как только бросился на тело своего
господина и поднял над ним самый горький и уморительный в мире плач, думая,
что Дон Кихот умер. Нашего священника узнал другой священник, бывший в
процессии, и благодаря этому обстоятельству прекратились все опасения со
стороны обоих отрядов. Один священник сообщил в двух словах другому, кто
такой Дон Кихот; и они, так же как и вся толпа бичующихся, подошли
взглянуть, убит ли бедный кабальеро или нет, и услышали, что Санчо Панса, со
слезами на глазах, говорил:
-- О цвет рыцарства, от одного лишь удара дубиной кончивший поприще
столь хорошо потраченных тобою лет! О честь рода своего, гордость и слава
всей Ламанчи и даже всего мира, который, лишившись тебя, переполнится
злодеями, не опасающимися быть наказанными за свои преступления! О ты, более
щедрый, чем все Александры {Александр Македонский.}, так как всего за восемь
месяцев службы, ты дал мне лучший остров, который море опоясывает и
окружает! О ты, смиренный с надменными, горделивый со смиренными, отважный в
опасностях, терпеливо выносивший оскорбления, влюбленный без причины,
подражатель добрых, бич злых, враг всего низкого, -- словом, странствующий
рыцарь, так как этим все сказано, что только можно сказать!
Под вопли и рыдания Санчо Дон Кихот ожил, и первые слова, произнесенные
им, были следующие:
-- Тот, кто живет в разлуке с вами, сладчайшая Дульсинея, испытывает
большие страдания, чем эти! Помоги мне, Санчо, друг, сесть в очарованную
повозку, потому что я не в состоянии держаться на седле Росинанта, так как
все это плечо разбито у меня вдребезги.
-- Это я сделаю с величайшей охотой, сеньор мой, -- ответил Санчо,-- и
вернемтесь в мою деревню в обществе этих сеньоров, желающих вам добра, и там
мы обдумаем план нового выезда, который принес бы нам больше чести и выгоды.
Из этих слов Дон Кихота все, слышавшие их, вывели заключение, что,
должно быть, он сумасшедший, и разразились громким смехом. Но этот смех был
точно порох, брошенный в пламя гнева Дон Кихота, потому что, не говоря ни
слова, он обнажил меч и бросился к носилкам. Один из тех, которые их несли,
оставив ношу товарищам, шагнул вперед навстречу Дон Кихоту, размахивая
вилообразной палкой, или шестом, которым он поддерживал носилки во время
остановок. По этому шесту и пришелся сильный удар, нанесенный Дон Кихотом и
разрубивший шест надвое; но обломком, оставшимся у него в руках, крестьянин
обрушил такой увесистый удар на плечо Дон Кихота, как раз с той стороны, где
был меч, и которое не могло быть защищено против крестьянской силы щитом,
что бедный Дон Кихот упал на землю в очень печальном состоянии. Санчо Панса,
бежавший чуть не задыхаясь за своим господином по пятам, увидав, что тот
упал, крикнул нападавшему на него, чтобы он не бил его больше, так как это
бедный очарованный рыцарь, который во всей своей жизни никому не сделал зла.
Но крестьянина остановил не крик Санчо, а то, что он увидел лежавшего
недвижимо на земле Дон Кихота и подумал, что он его убил, отчего поспешно
подоткнул под пояс длинное свое одеяние и бросился бежать по полю, как
олень. В это время подошли и все остальные из общества Дон Кихота к месту,
где он лежал; но участвовавшие в процессии, видя, что они бегут к ним, а с
ними и куадрильеросы со своими самострелами, боясь, чтобы не вышло чего
худого, собрались в кружок около статуи Божьей Матери и, надев на головы
капюшоны, держа крепко в руках бичи, а священники -- факелы, ждали
нападения, решив защищаться, и если окажется возможным, и напасть на своих
противников. Но судьба отнеслась к ним более благосклонно, чем они думали,
так как Санчо ничего другого не сделал, как только бросился на тело своего
господина и поднял над ним самый горький и уморительный в мире плач, думая,
что Дон Кихот умер. Нашего священника узнал другой священник, бывший в
процессии, и благодаря этому обстоятельству прекратились все опасения со
стороны обоих отрядов. Один священник сообщил в двух словах другому, кто
такой Дон Кихот; и они, так же как и вся толпа бичующихся, подошли
взглянуть, убит ли бедный кабальеро или нет, и услышали, что Санчо Панса, со
слезами на глазах, говорил:
-- О цвет рыцарства, от одного лишь удара дубиной кончивший поприще
столь хорошо потраченных тобою лет! О честь рода своего, гордость и слава
всей Ламанчи и даже всего мира, который, лишившись тебя, переполнится
злодеями, не опасающимися быть наказанными за свои преступления! О ты, более
щедрый, чем все Александры {Александр Македонский.}, так как всего за восемь
месяцев службы, ты дал мне лучший остров, который море опоясывает и
окружает! О ты, смиренный с надменными, горделивый со смиренными, отважный в
опасностях, терпеливо выносивший оскорбления, влюбленный без причины,
подражатель добрых, бич злых, враг всего низкого, -- словом, странствующий
рыцарь, так как этим все сказано, что только можно сказать!
Под вопли и рыдания Санчо Дон Кихот ожил, и первые слова, произнесенные
им, были следующие:
-- Тот, кто живет в разлуке с вами, сладчайшая Дульсинея, испытывает
большие страдания, чем эти! Помоги мне, Санчо, друг, сесть в очарованную
повозку, потому что я не в состоянии держаться на седле Росинанта, так как
все это плечо разбито у меня вдребезги.
-- Это я сделаю с величайшей охотой, сеньор мой, -- ответил Санчо,-- и
вернемтесь в мою деревню в обществе этих сеньоров, желающих вам добра, и там
мы обдумаем план нового выезда, который принес бы нам больше чести и выгоды.
 -- Ты правильно рассудил, Санчо,-- ответил Дон Кихот, -- благоразумнее
всего дать пройти дурному влиянию созвездий, которое теперь тяготит над
нами.
Каноник, священник и цирюльник сказали, что рыцарь как нельзя лучше
поступит, если исполнит то, о чем сейчас говорил; итак, от души
позабавившись над простотой Санчо Пансы, они усадили Дон Кихота в повозку,
как он раньше ехал; процессия выстроилась снова и продолжала свой путь.
Козопас простился со всеми; куадрильеросы отказались идти дальше, и
священник заплатил им то, что было условлено; каноник попросил священника
сообщить ему, что случится с Дон Кихотом: излечится ли он от своего безумия
или останется болен, после чего он простился со священником и продолжал свое
путешествие. Наконец все распрощались, и каждый отправился своей дорогой,
оставив священника и цирюльника одних с Дон Кихотом, Санчо Пансой и добрым
Росинантом, который во всем, что ему пришлось пережить, выказал столько же
терпения, как и его господин.
Возчик запряг своих волов, усадил Дон Кихота на вязанку сена и с
обычною медлительностью поехал по дороге, которую ему указывал священник.
Через шесть дней они добрались до деревни рыцаря, куда въехали в полдень, да
еще в воскресенье, когда весь народ был на площади, через которую и проехала
повозка Дон Кихота. Все сбежались смотреть, что такое в повозке, но когда
они узнали своего земляка, то очень изумились, а один мальчик кинулся со
всех ног к ключнице и племяннице сообщить, что их дядя и господин едет худой
и желтый, растянувшись на связке сена в повозке, запряженной волами. Было
жалостно слышать крики, которыми разразились две добрые сеньоры, звуки
шлепков, какими они себя награждали, проклятия, срывавшиеся с их уст на
окаянные рыцарские книги, и все это возобновилось снова, когда Дон Кихот
въезжал в ворота своего дома.
Услыхав весть о приезде Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы,
знавшая уже теперь что муж ее служил у рыцаря оруженосцем, и лишь только она
увидела Санчо, первым делом спросила его, здоров ли осел. Санчо ответил, что
осел здоровее своего господина.
-- Да будет благодарение богу, -- возразила она, -- который оказал мне
такую великую милость; а теперь скажите мне, друг, какую выгоду извлекли вы
из вашей должности оруженосца? Какое платье привезли вы мне? Какие башмачки
вашим детям?
-- Ничего этого не привез я, жена,-- ответил Санчо, -- а привез другие
вещи, более ценные и значительные.
-- Очень рада этому, -- ответила жена, -- покажите-ка мне вещи, более
ценные и значительные, друг мой, потому что я желаю видеть их, чтобы
возрадовалось это сердце мое, которое было таким печальным и грустным в
долгие века вашего отсутствия.
-- Покажу их вам дома, жена, -- сказал Панса, -- теперь же
довольствуйтесь тем, что, если богу будет угодно и мы еще раз отправимся в
поиски за приключениями, вы увидите меня скоро графом или губернатором
острова, и не такого, как здесь, у нас, а лучшего, какой только можно найти.
-- Дай-то бог, муж мой, нам бы это очень пригодилось. Но скажи же мне,
что это такое насчет островов? Я не понимаю этого.
-- Мед не для ослиного рта, -- ответил Санчо, -- узнаешь все в свое
время, жена, и даже удивишься, когда твои вассалы будут тебя величать ваша
милость, сеньора.
-- Что это ты, Санчо, говоришь о величании сеньорой, островах и
вассалах? -- спросила Хуана Панса (так звали жену Санчо, хотя они и не были
сродни, но потому что в Ламанче обычай, чтобы жены принимали прозвище мужей
{Из этого следует, что в других областях Испании не было в обычае, чтобы
жены принимали фамилию мужей. Даже и теперь жена в дворянских семьях
сохраняет свое девичье имя, к которому присоединяется фамилия мужа уже в
виде добавления. Жена Санчо Пансы -- Мария -- Хуана-Тереса (имя Мария во
времена Сервантеса носили практически все женщины, поэтому часто оно вообще
не учитывалось) Гутиеррес (отчество) Каскахо (фамилия по отцу) Панса
(фамилия по мужу).}).
-- Не трудись, Хуана, узнать все так поспешно; довольно, что я говорю
тебе правду, и зашей себе рот. Могу сказать тебе только одно мимоходом: нет
более приятной вещи в мире, как хорошему человеку служить оруженосцем у
странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, что большая часть
встречающихся приключений выходят не такими, какие бы желал человек, потому
что из ста, которые встретятся, девяносто девять оказываются обыкновенно
неудачными и неблагоприятными. Знаю это по опыту, так как некоторые из них
кончились для меня бросанием вверх на одеяле, другие -- тем, что я был
избит; но все же вещь приятная -- поджидать приключения, проезжая по горам,
бродя по лесам, влезая на скалы, посещая замки и живя на постоялых дворах в
свое удовольствие, не платя ни одного мараведиса, черт возьми!
Пока этот разговор происходил между Санчо Пансой и женой его Хуаной
Панса, ключница и племянница Дон Кихота встретили его, раздели и уложили
на прежнюю его постель. Он смотрел на них искоса и не мог понять, где
он находится. Священник поручил племяннице как можно заботливее ухаживать за
своим дядей и хорошенько присматривать за ним, чтобы он еще раз не сбежал у
них; и затем рассказал все, что нужно было сделать, чтобы привезти его
домой. Тут обе женщины снова подняли крики, то осыпая проклятьями рыцарские
книги, то прося небо низвергнуть в глубину бездны авторов столь великого
множества лжи и нелепостей. Словом, они были смущены и напуганы мыслью, что
могут опять остаться без своего дяди и господина, лишь только он почувствует
себя немного лучше; и так оно и случилось, как они опасались.
Но автор этой истории, хотя и разыскивал с любознательностию и рвением
данные о подвигах, совершенных Дон Кихотом при третьем его выезде, не мог
найти сведений о них, по крайней мере в достоверных сочинениях. Только
предание сохранило в воспоминании жителей Ламанчи, что, выехав в третий раз
из дому, Дон Кихот направился в Сарагосу, где он появился в нескольких
знаменитых турнирах, происходивших в этом городе, и что здесь с ним
случились события, достойные его великого мужества и светлого ума. Наш автор
не мог бы ничего узнать о кончине и смерти Дон Кихота и так бы никогда и не
узнал ничего, если б не встретился благодаря счастливой случайности со
старым доктором, которому принадлежал свинцовый ящик, найденный им, по его
словам, под развалинами фундамента древнего скита, который перестраивали. В
этом ящике оказалось несколько пергаментов, исписанных готическим шрифтом,
но кастильскими стихами, в которых повествовалось о многих подвигах Дон
Кихота, воспевалась красота Дульсинеи Тобосской, вид Росинанта, верность
Санчо Пансы и похороны самого Дон Кихота с разными надгробными надписями и
похвальными стихами на его жизнь и нравы. Те из них, которые можно было
прочесть и разобрать, достойный доверия автор этой новой и никогда не
слыханной истории и приводит здесь. И этот автор просит тех, кто прочтут их,
-- в награду за бесконечный труд, вложенный им на исследование и пересмотр
всех ламанчских архивов для извлечения оттуда на свет божий упомянутых
стихотворений, -- об одном только: отнестись к ним с тем же доверием, с
каким рассудительные люди относятся к рыцарским книгам, так высоко ценимым в
мире. Этим он сочтет себя вполне вознагражденным и удовлетворенным и будет
поощрен искать и отыскивать другие истории, если не столь правдивые, по
крайней мере, столь же хорошо придуманные и занимательные.
Первые слова, написанные на пергаменте, найденном в свинцовом ящике
были следующие:
-- Ты правильно рассудил, Санчо,-- ответил Дон Кихот, -- благоразумнее
всего дать пройти дурному влиянию созвездий, которое теперь тяготит над
нами.
Каноник, священник и цирюльник сказали, что рыцарь как нельзя лучше
поступит, если исполнит то, о чем сейчас говорил; итак, от души
позабавившись над простотой Санчо Пансы, они усадили Дон Кихота в повозку,
как он раньше ехал; процессия выстроилась снова и продолжала свой путь.
Козопас простился со всеми; куадрильеросы отказались идти дальше, и
священник заплатил им то, что было условлено; каноник попросил священника
сообщить ему, что случится с Дон Кихотом: излечится ли он от своего безумия
или останется болен, после чего он простился со священником и продолжал свое
путешествие. Наконец все распрощались, и каждый отправился своей дорогой,
оставив священника и цирюльника одних с Дон Кихотом, Санчо Пансой и добрым
Росинантом, который во всем, что ему пришлось пережить, выказал столько же
терпения, как и его господин.
Возчик запряг своих волов, усадил Дон Кихота на вязанку сена и с
обычною медлительностью поехал по дороге, которую ему указывал священник.
Через шесть дней они добрались до деревни рыцаря, куда въехали в полдень, да
еще в воскресенье, когда весь народ был на площади, через которую и проехала
повозка Дон Кихота. Все сбежались смотреть, что такое в повозке, но когда
они узнали своего земляка, то очень изумились, а один мальчик кинулся со
всех ног к ключнице и племяннице сообщить, что их дядя и господин едет худой
и желтый, растянувшись на связке сена в повозке, запряженной волами. Было
жалостно слышать крики, которыми разразились две добрые сеньоры, звуки
шлепков, какими они себя награждали, проклятия, срывавшиеся с их уст на
окаянные рыцарские книги, и все это возобновилось снова, когда Дон Кихот
въезжал в ворота своего дома.
Услыхав весть о приезде Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы,
знавшая уже теперь что муж ее служил у рыцаря оруженосцем, и лишь только она
увидела Санчо, первым делом спросила его, здоров ли осел. Санчо ответил, что
осел здоровее своего господина.
-- Да будет благодарение богу, -- возразила она, -- который оказал мне
такую великую милость; а теперь скажите мне, друг, какую выгоду извлекли вы
из вашей должности оруженосца? Какое платье привезли вы мне? Какие башмачки
вашим детям?
-- Ничего этого не привез я, жена,-- ответил Санчо, -- а привез другие
вещи, более ценные и значительные.
-- Очень рада этому, -- ответила жена, -- покажите-ка мне вещи, более
ценные и значительные, друг мой, потому что я желаю видеть их, чтобы
возрадовалось это сердце мое, которое было таким печальным и грустным в
долгие века вашего отсутствия.
-- Покажу их вам дома, жена, -- сказал Панса, -- теперь же
довольствуйтесь тем, что, если богу будет угодно и мы еще раз отправимся в
поиски за приключениями, вы увидите меня скоро графом или губернатором
острова, и не такого, как здесь, у нас, а лучшего, какой только можно найти.
-- Дай-то бог, муж мой, нам бы это очень пригодилось. Но скажи же мне,
что это такое насчет островов? Я не понимаю этого.
-- Мед не для ослиного рта, -- ответил Санчо, -- узнаешь все в свое
время, жена, и даже удивишься, когда твои вассалы будут тебя величать ваша
милость, сеньора.
-- Что это ты, Санчо, говоришь о величании сеньорой, островах и
вассалах? -- спросила Хуана Панса (так звали жену Санчо, хотя они и не были
сродни, но потому что в Ламанче обычай, чтобы жены принимали прозвище мужей
{Из этого следует, что в других областях Испании не было в обычае, чтобы
жены принимали фамилию мужей. Даже и теперь жена в дворянских семьях
сохраняет свое девичье имя, к которому присоединяется фамилия мужа уже в
виде добавления. Жена Санчо Пансы -- Мария -- Хуана-Тереса (имя Мария во
времена Сервантеса носили практически все женщины, поэтому часто оно вообще
не учитывалось) Гутиеррес (отчество) Каскахо (фамилия по отцу) Панса
(фамилия по мужу).}).
-- Не трудись, Хуана, узнать все так поспешно; довольно, что я говорю
тебе правду, и зашей себе рот. Могу сказать тебе только одно мимоходом: нет
более приятной вещи в мире, как хорошему человеку служить оруженосцем у
странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, что большая часть
встречающихся приключений выходят не такими, какие бы желал человек, потому
что из ста, которые встретятся, девяносто девять оказываются обыкновенно
неудачными и неблагоприятными. Знаю это по опыту, так как некоторые из них
кончились для меня бросанием вверх на одеяле, другие -- тем, что я был
избит; но все же вещь приятная -- поджидать приключения, проезжая по горам,
бродя по лесам, влезая на скалы, посещая замки и живя на постоялых дворах в
свое удовольствие, не платя ни одного мараведиса, черт возьми!
Пока этот разговор происходил между Санчо Пансой и женой его Хуаной
Панса, ключница и племянница Дон Кихота встретили его, раздели и уложили
на прежнюю его постель. Он смотрел на них искоса и не мог понять, где
он находится. Священник поручил племяннице как можно заботливее ухаживать за
своим дядей и хорошенько присматривать за ним, чтобы он еще раз не сбежал у
них; и затем рассказал все, что нужно было сделать, чтобы привезти его
домой. Тут обе женщины снова подняли крики, то осыпая проклятьями рыцарские
книги, то прося небо низвергнуть в глубину бездны авторов столь великого
множества лжи и нелепостей. Словом, они были смущены и напуганы мыслью, что
могут опять остаться без своего дяди и господина, лишь только он почувствует
себя немного лучше; и так оно и случилось, как они опасались.
Но автор этой истории, хотя и разыскивал с любознательностию и рвением
данные о подвигах, совершенных Дон Кихотом при третьем его выезде, не мог
найти сведений о них, по крайней мере в достоверных сочинениях. Только
предание сохранило в воспоминании жителей Ламанчи, что, выехав в третий раз
из дому, Дон Кихот направился в Сарагосу, где он появился в нескольких
знаменитых турнирах, происходивших в этом городе, и что здесь с ним
случились события, достойные его великого мужества и светлого ума. Наш автор
не мог бы ничего узнать о кончине и смерти Дон Кихота и так бы никогда и не
узнал ничего, если б не встретился благодаря счастливой случайности со
старым доктором, которому принадлежал свинцовый ящик, найденный им, по его
словам, под развалинами фундамента древнего скита, который перестраивали. В
этом ящике оказалось несколько пергаментов, исписанных готическим шрифтом,
но кастильскими стихами, в которых повествовалось о многих подвигах Дон
Кихота, воспевалась красота Дульсинеи Тобосской, вид Росинанта, верность
Санчо Пансы и похороны самого Дон Кихота с разными надгробными надписями и
похвальными стихами на его жизнь и нравы. Те из них, которые можно было
прочесть и разобрать, достойный доверия автор этой новой и никогда не
слыханной истории и приводит здесь. И этот автор просит тех, кто прочтут их,
-- в награду за бесконечный труд, вложенный им на исследование и пересмотр
всех ламанчских архивов для извлечения оттуда на свет божий упомянутых
стихотворений, -- об одном только: отнестись к ним с тем же доверием, с
каким рассудительные люди относятся к рыцарским книгам, так высоко ценимым в
мире. Этим он сочтет себя вполне вознагражденным и удовлетворенным и будет
поощрен искать и отыскивать другие истории, если не столь правдивые, по
крайней мере, столь же хорошо придуманные и занимательные.
Первые слова, написанные на пергаменте, найденном в свинцовом ящике
были следующие:

ГЛАВА LII Академики Аргамасилльи, местечка в Ааманче, на жизнь и смерть
доблестного Дон Кихота Ааманчского, Hoc scripserunt[1] Мониконго[2],
академик Аргамасилльи, на гробнице Дон Кихота
[1] Так написали.
[2] Monkongo -- человек из Конго, как в те времена называли негров страны
Конго в Западной Африке.
ЭПИТАФИЯ
Безумец, что сумел Ламанчи в украшенье
Трофеев больше дать, чем Криту дал Язон,
Носилось в облаках высоко чье мышленье
(А лучше вширь и глубь его спускал бы он);
За доблесть кто руки и боевое рвенье
Был от Гаэты вплоть до Каты прославлен;
Кровавые стихи писал мечом в сраженье,
Ужаснейшей из муз навеки полонен;
Чья слава вознеслась над славой Амадисов,
Чей пыл так грозен был, любовь так велика,
Что он собой затмил венец всех Вельянисов,
На Галаора мог смотреть уж свысока,
И мчался как стрела на Росинанте в бой,
Лежит здесь недвижим, под каменной плитой.
Паниагадо[1], академик Аргамасилльи, in laudem[2] Дульсинеи Тобосской
[1] Paniaguado -- от "panyagua" ("хлеб и вода"); букв, тот, кому дают
пить и есть, т. е. застольник. Все эти нелепые имена академиков
Аргамасилльи, где не могло быть никакой академии,-- пародия на обычай тех
времен членов литературных обществ именоваться между собой разными
фантастическими прозвищами.
[2] Во славу (лат.).
СОНЕТ
Вот Дульсинея здесь; с лица черна, кругла,
Грудь высока, плотна; осанка -- загляденье;
Тобосскою она царицею была,
Пылал к ней Дон Кихот -- в ней видел рай, спасенье.
Из-за нее прошел (любовь его вела)
Монтьельским полем он; бродил до одуренья
По склонам Черных гор, пока не довела
Судьба в Аранхуэс его в изнеможенье:
Виною Росинанта тяжкая беда
Ламанчи даму ту и рыцаря сразила:
Их смерть похитила в цветущие года,
Причем она ее всей красоты лишила,
А он -- о славе чей гласят везде ваянья,--
Он не избег любви коварства и страданья.
Капричосо[1], умнейший академик Аргамасилльи, в похвалу Росинанту, коню
Дон Кихота Ламанчского
[1] Caprichoso -- чудной, искусный.
СОНЕТ
На тот алмазный трон, куда пятой кровавой
От века лишь вступал великий Марс один,
Свой стяг уж водрузил с отвагой величавой
Неистовый герой, Ламанчи паладин!
Повесил здесь он меч свой с тонкою оправой,
Непобедимый меч былых его годин,
Которым он колол, рубил все с новой славой,
Разил и побеждал строй вражеских дружин.
Пусть Галлия своим Амадисом гордится;
Потомками его и доблестью их дел,
Ей давших блеск побед, пусть Греция кичится,--
Ламанчи краше всех, завидней всех удел.
Беллоны[1] суд решил: венец лавровый ныне
Наденет Дон Кихот, -- и он его надел.
Пусть славы блеск его не меркнет уж отныне:
Ведь даже Росинанте дерзостным задором
Превысил во сто раз Баярда с Брильядором[2].
[1] Богиня войны.
[2] Баярдо -- конь Ринальдо де Монтальвана, Брильядоро -- конь Роланда.
Бурладор[1], академик Аргамасилльи, Санчо Пансе.
[3] Burlador -- насмешник, шутник.
СОНЕТ
Вот Санчо Панса здесь; хоть ростом он и мал,
Но духом он велик, и -- чудное явленье --
Такой, как он, клянусь, на свете не бывал
Оруженосец ввек, без лжи и измышленья!
Лишь чуточку одну -- и он бы графом стал.
Но козни злых людей, врагов его стремленья
Помехой были в том; век низкий воздвигал
Не только на него -- и на ослов гоненья.
И едет на осле (простите, если нет)
Оруженосец сей, столь кроткий и смиренный,
За рыцарем своим и Росинанту вслед.
О, суетность надежд людских! Покой блаженный
Сулят они порой и вдруг в одно мгновенье
Летят от нас, как дым, как тень, как сновиденье...
Качидьябло[1], академик Аргамасилльи, надпись на гробнице Дон Кихота
[1] Cachidiablo (леший, или одетый дьяволом, наполовину одного цвета,
наполовину другого, а также человек с дурными наклонностями) -- прозвище
знаменитого алжирского корсара в царствование Карла V.
ЭПИТАФИЯ
Здесь в могиле рыцарь спит:
Росинант и по стремнинам
Нес его, и по долинам;
Был он весь помят, избит.
Тут в земле еще зарыт
Санчо Панса беспримерный;
Он -- оруженосец верный --
Рядом с рыцарем лежит.
Тикиток[1], академик Аргамасильи, надпись на гробнице Дульсинеи
Тобосской
[1] Tiquitoc -- звукоподражание, вроде динь-динь. Tiquitoc -- звонарь.
Вечный отдых здесь нашла
Дульсинея; но могила
В прах и пепел превратила
Красоту ее чела.
Как стройна она была
И на даму походила,
Дон Кихота полонила,
Славу родине дала!
Вот те стихотворения, которые можно было разобрать: остальные же, с
буквами, источенными червями, были переданы академику, чтобы он по догадкам
выяснил их смысл. Есть сведения, что он и добился этого ценою многих
бессонных ночей и величайшего труда и что он намерен издать их в свет в
надежде на третий выезд Дон Кихота.
Forse altri cantera con miglior lettro[1].
[1] "Быть может, другие споют на более вдохновенной лире" (итал.) --
строка из "Неистового Роланда" Ариосто, которой поэт прощается с Анжеликой и
Медором после их свадьбы.
Популярность: 5, Last-modified: Wed, 24 Jul 2024 20:49:59 GmT
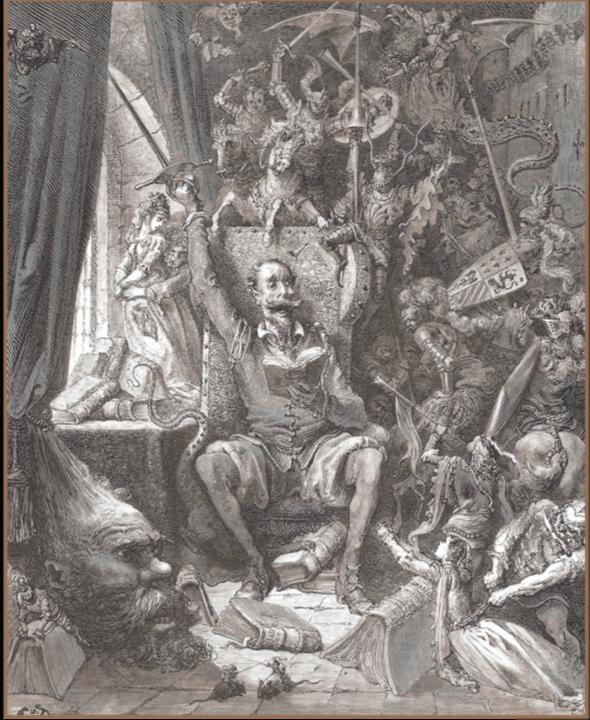 ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ
СОЧИНЕНИЕ МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА СААВЕДРА
ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ
СОЧИНЕНИЕ МИГЕЛЯ ДЕ СЕРВАНТЕСА СААВЕДРА
 Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ТОМ ПЕРВЫЙ
ПРОЛОГ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
ГЛАВА I, в которой идет речь об образе жизни и занятиях знаменитого
идальго Дон Кихота Ламанчского
ГЛАВА II, в которой речь о первом выезде изобретательного Дон Кихота из
родного местечка
ГЛАВА III, в которой рассказывается, к какому забавному способу
прибегнул Дон Кихот, чтобы быть посвященным в рыцари
ГЛАВА IV. Что случилось с нашим рыцарем, когда он уехал с постоялого
двора
ГЛАВА V. Продолжение рассказа о злоключениях нашего рыцаря
ГЛАВА VI. Об искусном и великом следствии, произведенном священником и
цирюльником в библиотеке нашего остроумного идальго
ГЛАВА VII. О втором выезде нашего доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского
ГЛАВА VIII. О великой удаче доблестного Дон Кихота в ужасающем и
невообразимом приключении с ветряными мельницами и о разных других событиях,
достойных сохраниться в памяти
ГЛАВА IX, в которой сообщается конец и исход изумительной битвы между
отважным бискайцем и храбрым ламанчцем
ГЛАВА X. Остроумные разговоры, которые вели Дон Кихот и его оруженосец
Санчо Панса
ГЛАВА XI. О том, что приключилось с Дон Кихотом у козопасов
ГЛАВА XII. О том, что рассказал козопас своим товарищам, бывшим с Дон
Кихотом
ГЛАВА XIII, в которой оканчивается рассказ о пастушке Марселе и
сообщается о других событиях
ГЛАВА XIV, в которой приводится исполненное отчаяния стихотворение
умершего пастуха и рассказываются и другие неожиданные события
ГЛАВА XV, в которой рассказывается о несчастном приключении,
случившемся с Дон Кихотом при встрече с несколькими злобными янгуэсами
ГЛАВА XVI. О том, что случилось с остроумно-изобретательным идальго на
постоялом дворе, который он принял за замок
ГЛАВА XVII. Дальнейшее повествование о бесчисленных невзгодах, которые
пришлось претерпеть мужественному Дон Кихоту и доброму его оруженосцу Санчо
Пансе на постоялом дворе, принятом рыцарем, к несчастью его, за замок
ГЛАВА XVIII, в которой передается о разговоре Санчо Пансы с его
господином Дон Кихотом и о других приключениях, заслуживающих быть
рассказанными
ГЛАВА XIX. О мудром разговоре, который Санчо вел со своим господином, о
приключении с мертвым телом и о других замечательных событиях
ГЛАВА XX. О невиданном и неслыханном приключении, доведенном до конца
храбрым Дон Кихотом Ламанчским с меньшей опасностью, чем приключение,
совершенное кем-либо из других прославленных на свете рыцарей
ГЛАВА XXI, в которой идет речь о славном приключении -- богатой добыче
шлема Мамбрино -- и других событиях, случившихся с непобедимым нашим рыцарем
ГЛАВА XXII. О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых
против их воли вели туда, куда у них не было желания идти
ГЛАВА XXIII. О том, что случилось со знаменитым Дон Кихотом в
Сьерра-Морене,-- одно из самых редкостных приключений, рассказанных в этой
правдивой истории
ГЛАВА XXIV, в которой продолжается приключение в Сьерра-Морене
ГЛАВА XXV, в которой рассказывается о странных вещах, приключившихся с
доблестным рыцарем Ламанчским в Сьерра-Морене, и о том, как он подражал
покаянию Бельтенеброса
ГЛАВА XXVI. Продолжение изящных проделок, совершенных Дон Кихотом в
качестве влюбленного в Сьерра-Морене
ГЛАВА XXVII. О том, как священник и цирюльник выполнили свое намерение,
и о других вещах, заслуживающих быть рассказанными в этой великой истории
ГЛАВА XXVIII. Неожиданное и приятное приключение, случившееся со
священником и цирюльником в той же Сьерра-Морене
ГЛАВА XXIX, в которой рассказывается о забавной уловке и хитрости,
предпринятых с целью освободить влюбленного нашего рыцаря от столь суровой
эпитимии, наложенной им на себя
ГЛАВА XXX, в которой рассказывается о находчивости прекрасной Доротеи и
о других забавных и увеселительных вещах
ГЛАВА XXXI. О приятном разговоре, происходившем между Дон Кихотом и его
оруженосцем Санчо Пансой, а также и о других событиях
ГЛАВА XXXII, в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом
дворе со спутниками Дон Кихота
ГЛАВА XXXIII, в которой рассказывается повесть о Безрассудно-любопытном
ГЛАВА XXXIV, в которой продолжается рассказ о Безрассудно-любопытном
ГЛАВА XXXV, в которой рассказывается о жестокой и необычайной битве Дон
Кихота с несколькими бурдюками красного вина и оканчивается повесть о
Безрассудно-любопытном
ГЛАВА XXXVI, в которой рассказывается о других редкостных событиях,
случившихся на постоялом дворе
ГЛАВА XXXVII, в которой продолжается история знаменитой принцессы
Микомиконы и говорится о других забавных приключениях
ГЛАВА XXXVIII, в которой приведена любопытная речь, произнесенная Дон
Кихотом по поводу оружия и словесных наук
ГЛАВА XXXIX, в которой пленник рассказывает о своей жизни и
приключениях
ГЛАВА XL, в которой продолжается история пленника
ГЛАВА XLI, в которой пленник продолжает свой рассказ
ГЛАВА XLII, в которой сообщается о том, что еще произошло на постоялом
дворе, и о многих других вещах, заслуживающих быть рассказанными
ГЛАВА XLIII, в которой рассказывается занимательная история молодого
погонщика мулов и другие странные происшествия, случившиеся на постоялом
дворе
ГЛАВА XLIV, в которой продолжаются неслыханные приключения на постоялом
дворе
ГЛАВА XLV, в которой окончательно разъясняются сомнения по поводу шлема
Мамбрино и вьючного седла, а также рассказывается и о других истинных
происшествиях
ГЛАВА XLVI, о замечательном приключении с куадрильеросами и о великой
ярости нашего доброго рыцаря Дон Кихота
ГЛАВА XLVII. О странном способе, с помощью которого Дон Кихот был
очарован, и о других замечательных событиях
ГЛАВА XLVIII, в которой каноник продолжает высказываться по поводу
рыцарских книг и других тем, достойных острого его ума
ГЛАВА XLIX, где сообщается о рассудительном разговоре, который Санчо
вел со своим господином Дон Кихотом
ГЛАВА L. Об остроумном споре Дон Кихота с каноником и о других событиях
ГЛАВА LI, в которой сообщается о том, что рассказал козопас всем тем,
кто увозил Дон Кихота
ГЛАВА LII. О ссоре Дон Кихота с козопасом и о редкостном приключении с
бичующимися, счастливо завершенном рыцарем в поте своего лица
Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
ТОМ ПЕРВЫЙ
ПРОЛОГ
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ
ГЛАВА I, в которой идет речь об образе жизни и занятиях знаменитого
идальго Дон Кихота Ламанчского
ГЛАВА II, в которой речь о первом выезде изобретательного Дон Кихота из
родного местечка
ГЛАВА III, в которой рассказывается, к какому забавному способу
прибегнул Дон Кихот, чтобы быть посвященным в рыцари
ГЛАВА IV. Что случилось с нашим рыцарем, когда он уехал с постоялого
двора
ГЛАВА V. Продолжение рассказа о злоключениях нашего рыцаря
ГЛАВА VI. Об искусном и великом следствии, произведенном священником и
цирюльником в библиотеке нашего остроумного идальго
ГЛАВА VII. О втором выезде нашего доброго рыцаря Дон Кихота Ламанчского
ГЛАВА VIII. О великой удаче доблестного Дон Кихота в ужасающем и
невообразимом приключении с ветряными мельницами и о разных других событиях,
достойных сохраниться в памяти
ГЛАВА IX, в которой сообщается конец и исход изумительной битвы между
отважным бискайцем и храбрым ламанчцем
ГЛАВА X. Остроумные разговоры, которые вели Дон Кихот и его оруженосец
Санчо Панса
ГЛАВА XI. О том, что приключилось с Дон Кихотом у козопасов
ГЛАВА XII. О том, что рассказал козопас своим товарищам, бывшим с Дон
Кихотом
ГЛАВА XIII, в которой оканчивается рассказ о пастушке Марселе и
сообщается о других событиях
ГЛАВА XIV, в которой приводится исполненное отчаяния стихотворение
умершего пастуха и рассказываются и другие неожиданные события
ГЛАВА XV, в которой рассказывается о несчастном приключении,
случившемся с Дон Кихотом при встрече с несколькими злобными янгуэсами
ГЛАВА XVI. О том, что случилось с остроумно-изобретательным идальго на
постоялом дворе, который он принял за замок
ГЛАВА XVII. Дальнейшее повествование о бесчисленных невзгодах, которые
пришлось претерпеть мужественному Дон Кихоту и доброму его оруженосцу Санчо
Пансе на постоялом дворе, принятом рыцарем, к несчастью его, за замок
ГЛАВА XVIII, в которой передается о разговоре Санчо Пансы с его
господином Дон Кихотом и о других приключениях, заслуживающих быть
рассказанными
ГЛАВА XIX. О мудром разговоре, который Санчо вел со своим господином, о
приключении с мертвым телом и о других замечательных событиях
ГЛАВА XX. О невиданном и неслыханном приключении, доведенном до конца
храбрым Дон Кихотом Ламанчским с меньшей опасностью, чем приключение,
совершенное кем-либо из других прославленных на свете рыцарей
ГЛАВА XXI, в которой идет речь о славном приключении -- богатой добыче
шлема Мамбрино -- и других событиях, случившихся с непобедимым нашим рыцарем
ГЛАВА XXII. О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых
против их воли вели туда, куда у них не было желания идти
ГЛАВА XXIII. О том, что случилось со знаменитым Дон Кихотом в
Сьерра-Морене,-- одно из самых редкостных приключений, рассказанных в этой
правдивой истории
ГЛАВА XXIV, в которой продолжается приключение в Сьерра-Морене
ГЛАВА XXV, в которой рассказывается о странных вещах, приключившихся с
доблестным рыцарем Ламанчским в Сьерра-Морене, и о том, как он подражал
покаянию Бельтенеброса
ГЛАВА XXVI. Продолжение изящных проделок, совершенных Дон Кихотом в
качестве влюбленного в Сьерра-Морене
ГЛАВА XXVII. О том, как священник и цирюльник выполнили свое намерение,
и о других вещах, заслуживающих быть рассказанными в этой великой истории
ГЛАВА XXVIII. Неожиданное и приятное приключение, случившееся со
священником и цирюльником в той же Сьерра-Морене
ГЛАВА XXIX, в которой рассказывается о забавной уловке и хитрости,
предпринятых с целью освободить влюбленного нашего рыцаря от столь суровой
эпитимии, наложенной им на себя
ГЛАВА XXX, в которой рассказывается о находчивости прекрасной Доротеи и
о других забавных и увеселительных вещах
ГЛАВА XXXI. О приятном разговоре, происходившем между Дон Кихотом и его
оруженосцем Санчо Пансой, а также и о других событиях
ГЛАВА XXXII, в которой рассказывается о том, что случилось на постоялом
дворе со спутниками Дон Кихота
ГЛАВА XXXIII, в которой рассказывается повесть о Безрассудно-любопытном
ГЛАВА XXXIV, в которой продолжается рассказ о Безрассудно-любопытном
ГЛАВА XXXV, в которой рассказывается о жестокой и необычайной битве Дон
Кихота с несколькими бурдюками красного вина и оканчивается повесть о
Безрассудно-любопытном
ГЛАВА XXXVI, в которой рассказывается о других редкостных событиях,
случившихся на постоялом дворе
ГЛАВА XXXVII, в которой продолжается история знаменитой принцессы
Микомиконы и говорится о других забавных приключениях
ГЛАВА XXXVIII, в которой приведена любопытная речь, произнесенная Дон
Кихотом по поводу оружия и словесных наук
ГЛАВА XXXIX, в которой пленник рассказывает о своей жизни и
приключениях
ГЛАВА XL, в которой продолжается история пленника
ГЛАВА XLI, в которой пленник продолжает свой рассказ
ГЛАВА XLII, в которой сообщается о том, что еще произошло на постоялом
дворе, и о многих других вещах, заслуживающих быть рассказанными
ГЛАВА XLIII, в которой рассказывается занимательная история молодого
погонщика мулов и другие странные происшествия, случившиеся на постоялом
дворе
ГЛАВА XLIV, в которой продолжаются неслыханные приключения на постоялом
дворе
ГЛАВА XLV, в которой окончательно разъясняются сомнения по поводу шлема
Мамбрино и вьючного седла, а также рассказывается и о других истинных
происшествиях
ГЛАВА XLVI, о замечательном приключении с куадрильеросами и о великой
ярости нашего доброго рыцаря Дон Кихота
ГЛАВА XLVII. О странном способе, с помощью которого Дон Кихот был
очарован, и о других замечательных событиях
ГЛАВА XLVIII, в которой каноник продолжает высказываться по поводу
рыцарских книг и других тем, достойных острого его ума
ГЛАВА XLIX, где сообщается о рассудительном разговоре, который Санчо
вел со своим господином Дон Кихотом
ГЛАВА L. Об остроумном споре Дон Кихота с каноником и о других событиях
ГЛАВА LI, в которой сообщается о том, что рассказал козопас всем тем,
кто увозил Дон Кихота
ГЛАВА LII. О ссоре Дон Кихота с козопасом и о редкостном приключении с
бичующимися, счастливо завершенном рыцарем в поте своего лица
 Праздный читатель, и без клятв можешь ты поверить, что я желал бы, чтоб
эта книга -- дитя ума моего -- была самой прекрасной, самой веселой и самой
рассудительной, какую только можно вообразить себе; но я не мог нарушить
закона природы, по которому каждый производит себе подобное. Итак, что же
был в состоянии произвести бесплодный и плохо возделанный ум мой, как не
историю сына худощавого, сухого, причудливого и исполненного разных мыслей,
никогда не приходивших в голову кому-либо другому, как это и подобает тому,
кто был зачат в темнице, где всякое беспокойство имеет свое местопребывание
и всякий печальный шум -- свое жилище. Тишина, мирное убежище, услада полей,
ясность неба, журчание источников, спокойствие духа значительно способствуют
тому, что наиболее бесплодные музы оказываются плодородными и дарят миру
такие произведения, которые преисполняют его изумлением и радостью. Может
случиться, что у отца есть сын некрасивый и неуклюжий и любовь накладывает
отцу на глаза повязку, так что он не видит недостатков сына, а скорей
считает их за выдающиеся качества и совершенства и рассказывает о них
друзьям своим как о проявлениях остроумия и дарования. Но я, который, хотя и
кажусь отцом, лишь только отчим Дон Кихоту {Подобно тому как во многих
рыцарских книгах авторы их часто говорили, что они переведены с греческого,
так и Сервантес намекает здесь на Сида Амета бен-Енхели, подложного
арабского автора, с которого, по его словам, он будто бы перевел на
испанский язык "Дон Кихота".}, не желаю ни плыть по течению обычая, ни
умолять, чуть ли не со слезами на глазах, как это делают другие, тебя,
дражайший читатель, чтобы ты простил или скрыл недостатки, которые ты увидел
бы в этом моем сыне. И, так как ты ему не друг и не родня, и в теле у тебя
имеется душа и свободная воля, как и у самого замечательного из людей, и ты
находишься у себя дома, где ты такой же сеньор, как и король над ввозными
пошлинами, и знаешь, что принято говорить: под моим плащом я убиваю короля
{Испанская пословица.} -- все это избавляет и освобождает тебя от всякой
почтительности и обязательства; итак, ты можешь сказать об этой истории все,
что о ней думаешь, не опасаясь, что за дурной отзыв тебя оклевещут, а за
хороший -- вознаградят.
Я только желал бы дать ее тебе очищенною и обнаженною, без украшения
предисловия и нескончаемого списка обычных сонетов, эпиграмм и похвальных
слов, которые обыкновенно помещаются в начале книги. Потому что могу тебе
сказать, что, хотя мне и стоило некоторого труда сочинить ее, самый большой
труд для меня был написать пролог, который ты читаешь. Много раз брал я в
руки перо, чтоб написать его и много раз бросал перо, не зная, что писать. И
вот однажды, когда я сидел в недоумении, разложив перед собой бумагу, с
пером за ухом, с локтями на столе, подпирая рукой щеку и придумывая, что бы
мне сказать, неожиданно вошел один из моих друзей, остроумный и
рассудительный, который, увидав меня погруженным в такую задумчивость,
спросил о причине, и я, не скрыв ее от него, сказал, что задумался над
сочинением пролога к истории "Дон Кихота", а это так сильно затрудняет меня,
что я не желаю ни писать пролога, ни даже издавать в свет повесть о подвигах
столь благородного рыцаря. -- Как же вы хотите, чтоб я не смущался при
мысли, что скажет древний законодатель, именуемый "публикой", когда он
увидит, что по истечении стольких лет, которые я спал в тишине забвения
{Сервантес издан свою "Галатею" в 1584 г. и затем в течение 21 года не
появлялся больше в печати.}, теперь, со всеми моими годами на плечах
{Сервантесу шел 58-й год, когда была издана первая часть "Дон Кихота".}, я
появляюсь с произведением, сухим, как ковыль, чуждым изобретательности,
неудовлетворительным по слогу, бедным по замыслу, лишенным эрудиции и всякой
учености, без выносок на полях и без примечаний в конце книги, зная, что
другие книги, -- хотя бы они были вымышленные и светские -- так переполнены
изречениями из Аристотеля, Платона и всей толпы философов, что они приводят
в изумление читателей, которые вследствие этого считают их авторов людьми
учеными, начитанными и красноречивыми. А тем более еще когда они делают
ссылки на Св. Писание! Тут волей-неволей сочтешь их за святых Фом Кемпийских
и других богословов, причем они соблюдают такой тонкий декорум, что,
изобразив в одной строке безумно влюбленного, в другой тотчас же произносят
маленькую христианскую проповедь, -- так что слушать или читать их -- одно
удовольствие и наслаждение. Всего этого будет лишена моя книга, потому что у
меня нет ни ссылок для полей, ни примечаний для конца книги, и еще менее
знаю я, каким следую в ней авторам, чтобы выставить, как все это делают, в
начале книги имена их по алфавиту, начиная с Аристотеля и до последней буквы
азбуки, поместив в список Зоила или Зевскиса, хотя первый был сочинителем
пасквилей, а второй -- живописцем. В моей книге не будет также и
вступительных сонетов, по крайней мере таких, авторы которых графы, маркизы,
герцоги, епископы, дамы или прославленные поэты, хотя, если б я попросил
стихов у двух или трех моих друзей-писателей, я знаю, что они дали бы мне
их, и таких, которые превзошли бы сонеты наиболее известных у нас в Испании
поэтов. Словом, сеньор и друг мой,-- продолжал я, -- я решил, что сеньор Дон
Кихот останется схороненным в архивах Ламанчи до тех пор, пока небо не
пошлет кого-нибудь, кто бы украсил его всем, чего ему недостает, так как сам
я не могу этому помочь по своей неспособности и недостатку учености и
потому, что от природы я слишком беспечен и ленив, чтобы идти отыскивать
авторов, которые говорят то, что я сумею сказать и без них. Вот откуда
проистекают волнение и недоумение, в которых вы застали меня, а причина для
такого настроения, как вы видите, достаточно веская.
Выслушав эти слова, мой друг ударил себя ладонью по лбу, разразился
продолжительным смехом и сказал:
-- Клянусь Богом, брат, теперь я окончательно излечился от заблуждения,
в котором находился все долгое время нашего с вами знакомства, считая вас
всегда за умного и рассудительного человека во всех ваших поступках! Но
теперь я вижу, что вы также далеки от этого, как небо от земли. Возможно ли,
чтобы такие пустяшные и столь легко устранимые вещи имели бы власть смущать
и затруднять такой зрелый ум, как ваш, привыкший преодолевать и побеждать
гораздо более серьезные затруднения? Верьте мне, это происходит не от
недостатка уменья, а от излишка лености и от скупости на слова. Желаете ли
вы убедиться в том, правду ли я говорю? Так выслушайте меня внимательно, и
вы увидите, как в мгновение ока я отстраню все затруднения и исправлю все
недочеты, которые, по вашим словам, вас пугают и отбивают у вас охоту издать
в свет историю вашего знаменитого Дон Кихота, красы и зеркала всего
странствующего рыцарства.
-- Скажите мне, -- ответил я, выслушав то, что он говорил, -- каким
образом думаете вы наполнить пустоту, которая меня тревожит, и привести в
ясность хаос моего смущения?
На это он ответил:
-- Что касается вашего затруднения относительно сонетов, эпиграмм и
хвалебных стихотворений, которых у вас нет для помещения в начале книги и
которые должны бы быть написаны знатными и титулованными особами, этому горю
легко помочь тем, что вы сами возьмете на себя труд сочинить их. А потом вы
можете их окрестить и поставить под ними имена, какие пожелаете, приписав их
священнику Иоанну Индийскому {В Средние века полагали, что это христианский
король и вместе с тем священник, царствовавший в восточной части Тибета, на
границе Китая.} или императору Трапезундскому, о которых, как я знаю,
имеются сведения, что они были знаменитые поэты. Но даже допустив, что они
не были ими и нашлись бы такие педанты и бакалавры, которые вздумали бы
куснуть вас сзади и стали бы отрицать то, что вы утверждаете, -- не
обращайте на них ни на грош внимания, потому что, если б они и уличили вас
во лжи, не отрежут же вам руку, которая написала ее? Что же касается выносок
на полях о тех книгах и авторах, из которых вы заимствовали изречения и
мысли, рассыпанные в вашем произведении, -- ничего большего не требуется,
как только вставить несколько подходящих изречений или латинских отрывков,
известных вам наизусть, или же по крайней мере такие, отыскать которые вам
не составит большого труда. Так, например, говоря о свободе и неволе,
вставьте:
Non bene pro toto libertas venditur auro[1].
[1] Нехорошо продавать свободу за какую бы то ни было цену (лат.) --
Эзоп, кн. III, басня 14.
И сейчас же на полях цитируйте Горация или того, кто это сказал. Если
же речь зайдет о могуществе смерти, тотчас же приведите строки:
Pallida mors aequo puisat pede pauperum tabernas Regumque turres[1].
[1] Бледная смерть одинаково стучится как в хижины бедняков, так и в
замки королей (лат.) -- Гораций, Carmen, кн. I, ода 4.
Если дело коснется дружбы и любви, которую Бог заповедал питать к
врагам, немедленно обратитесь к Св. Писанию, так как вы можете это сделать с
некоторою любознательностью, и привести, по меньшей мере, слова самого
Господа Бога: Ego autem dico vobis: diligite inimicos vostros {Я же говорю
вам: любите врагов ваших (лат.) -- Ев. Матф., 5:44.}. Если вы заговорите о
дурных помыслах, прибегайте к Евангелию: De corde exeunt cogitationes malae
{Из сердца исходят злые помыслы (лат.) -- Ев. Матф., 15:19.}. Если речь идет
о непостоянстве друзей, перед вами Катон {Не Катон, а Овидий. "Disticha"
Катона была книгой, бывшей в то время в очень большом ходу.}, предлагающий
свое двустишие:
Donec eris felix, multos numerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila, solus eris {Пока ты счастлив, ты
насчитываешь множество друзей, а наступят темные дни -- станешь одинок
(лат.).}.
С этими латинскими изречениями и другими тому подобными, вас сочтут, по
меньшей мере, за грамматика, а быть им приносит в наши дни немалую выгоду и
честь.
Относительно примечаний в конце книги вы, конечно, можете сделать
следующее. Если у вас зайдет речь о каком-нибудь великане, устройте так,
чтобы это был великан Голиаф, и благодаря одному этому -- что вам почти
ничего не стоит -- у вас окажется большое примечание, и вы можете написать:
Великий Голиас, или Голиаф, был филистимлянин, которого пастух Давид убил
большим камнем, пущенным из пращи, в долине Терпентина {Терпентино --
терпентинное дерево, очень распространенное в Палестине; некоторые же
критики думают, что Сервантес будто бы намекает здесь на какого-то
писателя.}, как о том повествуется в Книге Царств, в главе такой-то (которую
вы отыщете). Затем, чтобы выказать себя человеком ученым по словесным наукам
и космографии, постарайтесь, чтобы в вашей истории была упомянута река Тахо,
и тотчас же получится другое превосходное примечание, и вы напишете: Река
Тахо была названа так одним из королей Испании, истоки ее в таком-то месте,
впадает она в море-океан, омывая стены знаменитого города Лиссабона, и
полагают, что в ней имеется золотой песок и т. д.
Если речь зайдет о разбойниках, -- я сообщу вам историю Како, так как
знаю ее наизусть; если же вы будете говорить о женщинах легкого поведения,
-- перед вами епископ де Мондоньедо {Епископ де Мондоньедо -- известный
испанский писатель Антонио Гевара, летописец Карла V, в своих "Epistolas
Familiares", напечатанных в 1603г., приводит подробный, хотя и не очень
назидательный рассказ о трех знаменитых куртизанках древности: Ламии, Лаисе
и Флоре.}, у которого позаимствуйте Ламию, Лаису и Флору, и примечание это
придаст вам большой вес. Если же вы заговорите о жестоких женщинах, Овидий
снабдит вас Медеей; о волшебницах и чародейках -- у Гомера есть Калипсо, у
Виргилия -- Цирцея; о храбрых полководцах -- сам Юлий Цезарь предстанет
перед вами в своих "Комментариях", а Плутарх даст вам тысячи Александров.
Гели вы коснетесь любви, -- с двумя унциями знания итальянского языка вы
наткнетесь на Леона Эбрео {Леон Эбрео -- испанский еврей, из числа тех,
которые уехали в Италию вследствие королевского указа 1492 г., по профессии
врач, написал "Los Dialogos de amor", напечатанные лишь по-итальянски в 1572
г. в Венеции.}, который вам переполнит меру через край. А если вы не
захотите отправляться в чужие страны, у себя дома вы имеете Фонсека
{Христовал Фонсека -- августинский монах, написал "Del amor de Dios"; изд. в
Барселоне в 1594 г.} и его сочинение "О любви к Богу", заключающее в себе
все то, что вы и лучшие умы могли бы пожелать относительно подобного сюжета.
Словом, вы только потрудитесь назвать эти имена или же коснитесь в вашей
книге тех историй, о которых я сейчас говорил, и предоставьте мне труд
составить выноски и примечания. Ручаюсь вам, что я покрою ими все поля вашей
книги, а в конце ее включу четыре печатных листа примечаний.
Перейдем теперь к ссылкам на авторов, имеющихся в других книгах, но
которых недостает вашей книге. Средство помочь этому очень простое, потому
что надо лишь сделать одно: отыскать книгу, где все они перечислены, как вы
говорите, от А до Z {По-видимому, здесь намек на поэму Лопе де Вега
"Isidro", где алфавитный указатель авторов, на которых есть ссылки в книге,
достигает 277 имен.}. Вот этот-то самый алфавит имен и поместите в свою
книгу, потому что, хотя ложь и будет ясно видна, это неважно, так как вам не
было нужды пользоваться этими именами, а может быть, и найдется какой-нибудь
простодушный читатель, который поверит, что вы всеми ими воспользовались в
вашей простой и безыскусственной истории. И, если ни на что другое не
пригодится этот обширный каталог авторов, он, по крайней мере, послужит на
то, чтобы с первого же взгляда придать авторитетность вашей книге. К тому же
никто не станет проверять, действительно ли вы пользовались ими или нет, так
как это несущественно; тем более что, если я вас верно понял, эта ваша книга
и не нуждается ни в одной из тех вещей, которых, по вашим словам, недостает
ей, потому что вся она есть поношение рыцарских книг, о которых ни
Аристотель не имел понятия, ни св. Василий ничего не говорил, ни Цицерон
ничего не знал {На Аристотеля, св. Василия и Цицерона ссылается, между
прочим, Лопе де Вега в своей поэме "Isidro".}. К ее вымышленным нелепостям
не имеют никакого касательства ни точность истины, ни наблюдения астрологии,
и для нее не представляют значения ни геометрические измерения, ни
опровержения доводов, которыми пользуются риторики; книга ваша не стремится
проповедовать, смешивая человеческое с божественным, т. е. такого рода
смесь, в которую не должно облекаться никакое здравое христианское суждение.
Она стремится только воспользоваться подражанием действительности в том, что
в ней будет написано, и чем совершеннее будет подражание, тем лучше окажется
то, что написано. И так как это ваше сочинение имеет лишь в виду уничтожить
авторитет и влияние, которыми в мире и в народе пользуются рыцарские романы,
вам незачем нищенски вымаливать изречения у философов, тексты у Св. Писания,
вымысла у поэтов, красноречие у риториков, чудеса у святых, -- а
постарайтесь только, чтобы в выразительных, подходящих и хорошо
расставленных словах речь ваша и периоды вышли звучными и пленительными и во
всем, что для вас окажется возможным, вырисовывалось ваше намерение и ясно
выступали ваши мысли, не запутанные и не затемненные вами. Постарайтесь
также, чтобы, читая вашу историю, грустный был бы вынужден смеяться, веселый
-- еще более укрепился бы в своем приятном настроении, простоватый не
соскучился бы, умный удивился бы вымыслу, серьезный не пренебрег бы им, а
рассудительный похвалил бы. Словом, поставьте себе целью низвержение шаткого
здания рыцарских книг, которые столь многие ненавидят, а еще большее число
восхищается ими,-- и, если вам удастся достигнуть этого, вы достигнете
немалого.
В глубоком молчании слушал я то, что мне говорил мой друг, и его доводы
так сильно запечатлелись в моем уме, что, не оспаривая их, я тотчас их
одобрил и решил составить именно из них этот пролог, из которого ты, милый
читатель, увидишь проницательность моего друга, счастливую судьбу мою,
пославшую мне в самое нужное время такого советника, и собственное свое
облегчение, найдя столь искренней и бесхитростной историю знаменитого Дон
Кихота Ламанчского, который, по мнению всех жителей округа Монтьельской
равнины, был самым целомудренным влюбленным и самым доблестным рыцарем,
существовавшим за многие годы в тех окрестностях. Я не хочу подчеркивать
услугу, которую я тебе оказываю, познакомив тебя с таким выдающимся и
почтенным рыцарем; но я желал бы, чтобы ты почувствовал ко мне
признательность за знакомство с его оруженосцем, знаменитым Санчо Пансой, в
лице которого, как мне кажется, я сосредоточил все прелести оруженосцев,
рассеянные в длинной веренице суетных рыцарских книг.
Итак, дай бог тебе здоровья, и да не забудет Он и меня. Vale {Прощай,
будь здоров (лат.).}.
Праздный читатель, и без клятв можешь ты поверить, что я желал бы, чтоб
эта книга -- дитя ума моего -- была самой прекрасной, самой веселой и самой
рассудительной, какую только можно вообразить себе; но я не мог нарушить
закона природы, по которому каждый производит себе подобное. Итак, что же
был в состоянии произвести бесплодный и плохо возделанный ум мой, как не
историю сына худощавого, сухого, причудливого и исполненного разных мыслей,
никогда не приходивших в голову кому-либо другому, как это и подобает тому,
кто был зачат в темнице, где всякое беспокойство имеет свое местопребывание
и всякий печальный шум -- свое жилище. Тишина, мирное убежище, услада полей,
ясность неба, журчание источников, спокойствие духа значительно способствуют
тому, что наиболее бесплодные музы оказываются плодородными и дарят миру
такие произведения, которые преисполняют его изумлением и радостью. Может
случиться, что у отца есть сын некрасивый и неуклюжий и любовь накладывает
отцу на глаза повязку, так что он не видит недостатков сына, а скорей
считает их за выдающиеся качества и совершенства и рассказывает о них
друзьям своим как о проявлениях остроумия и дарования. Но я, который, хотя и
кажусь отцом, лишь только отчим Дон Кихоту {Подобно тому как во многих
рыцарских книгах авторы их часто говорили, что они переведены с греческого,
так и Сервантес намекает здесь на Сида Амета бен-Енхели, подложного
арабского автора, с которого, по его словам, он будто бы перевел на
испанский язык "Дон Кихота".}, не желаю ни плыть по течению обычая, ни
умолять, чуть ли не со слезами на глазах, как это делают другие, тебя,
дражайший читатель, чтобы ты простил или скрыл недостатки, которые ты увидел
бы в этом моем сыне. И, так как ты ему не друг и не родня, и в теле у тебя
имеется душа и свободная воля, как и у самого замечательного из людей, и ты
находишься у себя дома, где ты такой же сеньор, как и король над ввозными
пошлинами, и знаешь, что принято говорить: под моим плащом я убиваю короля
{Испанская пословица.} -- все это избавляет и освобождает тебя от всякой
почтительности и обязательства; итак, ты можешь сказать об этой истории все,
что о ней думаешь, не опасаясь, что за дурной отзыв тебя оклевещут, а за
хороший -- вознаградят.
Я только желал бы дать ее тебе очищенною и обнаженною, без украшения
предисловия и нескончаемого списка обычных сонетов, эпиграмм и похвальных
слов, которые обыкновенно помещаются в начале книги. Потому что могу тебе
сказать, что, хотя мне и стоило некоторого труда сочинить ее, самый большой
труд для меня был написать пролог, который ты читаешь. Много раз брал я в
руки перо, чтоб написать его и много раз бросал перо, не зная, что писать. И
вот однажды, когда я сидел в недоумении, разложив перед собой бумагу, с
пером за ухом, с локтями на столе, подпирая рукой щеку и придумывая, что бы
мне сказать, неожиданно вошел один из моих друзей, остроумный и
рассудительный, который, увидав меня погруженным в такую задумчивость,
спросил о причине, и я, не скрыв ее от него, сказал, что задумался над
сочинением пролога к истории "Дон Кихота", а это так сильно затрудняет меня,
что я не желаю ни писать пролога, ни даже издавать в свет повесть о подвигах
столь благородного рыцаря. -- Как же вы хотите, чтоб я не смущался при
мысли, что скажет древний законодатель, именуемый "публикой", когда он
увидит, что по истечении стольких лет, которые я спал в тишине забвения
{Сервантес издан свою "Галатею" в 1584 г. и затем в течение 21 года не
появлялся больше в печати.}, теперь, со всеми моими годами на плечах
{Сервантесу шел 58-й год, когда была издана первая часть "Дон Кихота".}, я
появляюсь с произведением, сухим, как ковыль, чуждым изобретательности,
неудовлетворительным по слогу, бедным по замыслу, лишенным эрудиции и всякой
учености, без выносок на полях и без примечаний в конце книги, зная, что
другие книги, -- хотя бы они были вымышленные и светские -- так переполнены
изречениями из Аристотеля, Платона и всей толпы философов, что они приводят
в изумление читателей, которые вследствие этого считают их авторов людьми
учеными, начитанными и красноречивыми. А тем более еще когда они делают
ссылки на Св. Писание! Тут волей-неволей сочтешь их за святых Фом Кемпийских
и других богословов, причем они соблюдают такой тонкий декорум, что,
изобразив в одной строке безумно влюбленного, в другой тотчас же произносят
маленькую христианскую проповедь, -- так что слушать или читать их -- одно
удовольствие и наслаждение. Всего этого будет лишена моя книга, потому что у
меня нет ни ссылок для полей, ни примечаний для конца книги, и еще менее
знаю я, каким следую в ней авторам, чтобы выставить, как все это делают, в
начале книги имена их по алфавиту, начиная с Аристотеля и до последней буквы
азбуки, поместив в список Зоила или Зевскиса, хотя первый был сочинителем
пасквилей, а второй -- живописцем. В моей книге не будет также и
вступительных сонетов, по крайней мере таких, авторы которых графы, маркизы,
герцоги, епископы, дамы или прославленные поэты, хотя, если б я попросил
стихов у двух или трех моих друзей-писателей, я знаю, что они дали бы мне
их, и таких, которые превзошли бы сонеты наиболее известных у нас в Испании
поэтов. Словом, сеньор и друг мой,-- продолжал я, -- я решил, что сеньор Дон
Кихот останется схороненным в архивах Ламанчи до тех пор, пока небо не
пошлет кого-нибудь, кто бы украсил его всем, чего ему недостает, так как сам
я не могу этому помочь по своей неспособности и недостатку учености и
потому, что от природы я слишком беспечен и ленив, чтобы идти отыскивать
авторов, которые говорят то, что я сумею сказать и без них. Вот откуда
проистекают волнение и недоумение, в которых вы застали меня, а причина для
такого настроения, как вы видите, достаточно веская.
Выслушав эти слова, мой друг ударил себя ладонью по лбу, разразился
продолжительным смехом и сказал:
-- Клянусь Богом, брат, теперь я окончательно излечился от заблуждения,
в котором находился все долгое время нашего с вами знакомства, считая вас
всегда за умного и рассудительного человека во всех ваших поступках! Но
теперь я вижу, что вы также далеки от этого, как небо от земли. Возможно ли,
чтобы такие пустяшные и столь легко устранимые вещи имели бы власть смущать
и затруднять такой зрелый ум, как ваш, привыкший преодолевать и побеждать
гораздо более серьезные затруднения? Верьте мне, это происходит не от
недостатка уменья, а от излишка лености и от скупости на слова. Желаете ли
вы убедиться в том, правду ли я говорю? Так выслушайте меня внимательно, и
вы увидите, как в мгновение ока я отстраню все затруднения и исправлю все
недочеты, которые, по вашим словам, вас пугают и отбивают у вас охоту издать
в свет историю вашего знаменитого Дон Кихота, красы и зеркала всего
странствующего рыцарства.
-- Скажите мне, -- ответил я, выслушав то, что он говорил, -- каким
образом думаете вы наполнить пустоту, которая меня тревожит, и привести в
ясность хаос моего смущения?
На это он ответил:
-- Что касается вашего затруднения относительно сонетов, эпиграмм и
хвалебных стихотворений, которых у вас нет для помещения в начале книги и
которые должны бы быть написаны знатными и титулованными особами, этому горю
легко помочь тем, что вы сами возьмете на себя труд сочинить их. А потом вы
можете их окрестить и поставить под ними имена, какие пожелаете, приписав их
священнику Иоанну Индийскому {В Средние века полагали, что это христианский
король и вместе с тем священник, царствовавший в восточной части Тибета, на
границе Китая.} или императору Трапезундскому, о которых, как я знаю,
имеются сведения, что они были знаменитые поэты. Но даже допустив, что они
не были ими и нашлись бы такие педанты и бакалавры, которые вздумали бы
куснуть вас сзади и стали бы отрицать то, что вы утверждаете, -- не
обращайте на них ни на грош внимания, потому что, если б они и уличили вас
во лжи, не отрежут же вам руку, которая написала ее? Что же касается выносок
на полях о тех книгах и авторах, из которых вы заимствовали изречения и
мысли, рассыпанные в вашем произведении, -- ничего большего не требуется,
как только вставить несколько подходящих изречений или латинских отрывков,
известных вам наизусть, или же по крайней мере такие, отыскать которые вам
не составит большого труда. Так, например, говоря о свободе и неволе,
вставьте:
Non bene pro toto libertas venditur auro[1].
[1] Нехорошо продавать свободу за какую бы то ни было цену (лат.) --
Эзоп, кн. III, басня 14.
И сейчас же на полях цитируйте Горация или того, кто это сказал. Если
же речь зайдет о могуществе смерти, тотчас же приведите строки:
Pallida mors aequo puisat pede pauperum tabernas Regumque turres[1].
[1] Бледная смерть одинаково стучится как в хижины бедняков, так и в
замки королей (лат.) -- Гораций, Carmen, кн. I, ода 4.
Если дело коснется дружбы и любви, которую Бог заповедал питать к
врагам, немедленно обратитесь к Св. Писанию, так как вы можете это сделать с
некоторою любознательностью, и привести, по меньшей мере, слова самого
Господа Бога: Ego autem dico vobis: diligite inimicos vostros {Я же говорю
вам: любите врагов ваших (лат.) -- Ев. Матф., 5:44.}. Если вы заговорите о
дурных помыслах, прибегайте к Евангелию: De corde exeunt cogitationes malae
{Из сердца исходят злые помыслы (лат.) -- Ев. Матф., 15:19.}. Если речь идет
о непостоянстве друзей, перед вами Катон {Не Катон, а Овидий. "Disticha"
Катона была книгой, бывшей в то время в очень большом ходу.}, предлагающий
свое двустишие:
Donec eris felix, multos numerabis amicos,
Tempora si fuerint nubila, solus eris {Пока ты счастлив, ты
насчитываешь множество друзей, а наступят темные дни -- станешь одинок
(лат.).}.
С этими латинскими изречениями и другими тому подобными, вас сочтут, по
меньшей мере, за грамматика, а быть им приносит в наши дни немалую выгоду и
честь.
Относительно примечаний в конце книги вы, конечно, можете сделать
следующее. Если у вас зайдет речь о каком-нибудь великане, устройте так,
чтобы это был великан Голиаф, и благодаря одному этому -- что вам почти
ничего не стоит -- у вас окажется большое примечание, и вы можете написать:
Великий Голиас, или Голиаф, был филистимлянин, которого пастух Давид убил
большим камнем, пущенным из пращи, в долине Терпентина {Терпентино --
терпентинное дерево, очень распространенное в Палестине; некоторые же
критики думают, что Сервантес будто бы намекает здесь на какого-то
писателя.}, как о том повествуется в Книге Царств, в главе такой-то (которую
вы отыщете). Затем, чтобы выказать себя человеком ученым по словесным наукам
и космографии, постарайтесь, чтобы в вашей истории была упомянута река Тахо,
и тотчас же получится другое превосходное примечание, и вы напишете: Река
Тахо была названа так одним из королей Испании, истоки ее в таком-то месте,
впадает она в море-океан, омывая стены знаменитого города Лиссабона, и
полагают, что в ней имеется золотой песок и т. д.
Если речь зайдет о разбойниках, -- я сообщу вам историю Како, так как
знаю ее наизусть; если же вы будете говорить о женщинах легкого поведения,
-- перед вами епископ де Мондоньедо {Епископ де Мондоньедо -- известный
испанский писатель Антонио Гевара, летописец Карла V, в своих "Epistolas
Familiares", напечатанных в 1603г., приводит подробный, хотя и не очень
назидательный рассказ о трех знаменитых куртизанках древности: Ламии, Лаисе
и Флоре.}, у которого позаимствуйте Ламию, Лаису и Флору, и примечание это
придаст вам большой вес. Если же вы заговорите о жестоких женщинах, Овидий
снабдит вас Медеей; о волшебницах и чародейках -- у Гомера есть Калипсо, у
Виргилия -- Цирцея; о храбрых полководцах -- сам Юлий Цезарь предстанет
перед вами в своих "Комментариях", а Плутарх даст вам тысячи Александров.
Гели вы коснетесь любви, -- с двумя унциями знания итальянского языка вы
наткнетесь на Леона Эбрео {Леон Эбрео -- испанский еврей, из числа тех,
которые уехали в Италию вследствие королевского указа 1492 г., по профессии
врач, написал "Los Dialogos de amor", напечатанные лишь по-итальянски в 1572
г. в Венеции.}, который вам переполнит меру через край. А если вы не
захотите отправляться в чужие страны, у себя дома вы имеете Фонсека
{Христовал Фонсека -- августинский монах, написал "Del amor de Dios"; изд. в
Барселоне в 1594 г.} и его сочинение "О любви к Богу", заключающее в себе
все то, что вы и лучшие умы могли бы пожелать относительно подобного сюжета.
Словом, вы только потрудитесь назвать эти имена или же коснитесь в вашей
книге тех историй, о которых я сейчас говорил, и предоставьте мне труд
составить выноски и примечания. Ручаюсь вам, что я покрою ими все поля вашей
книги, а в конце ее включу четыре печатных листа примечаний.
Перейдем теперь к ссылкам на авторов, имеющихся в других книгах, но
которых недостает вашей книге. Средство помочь этому очень простое, потому
что надо лишь сделать одно: отыскать книгу, где все они перечислены, как вы
говорите, от А до Z {По-видимому, здесь намек на поэму Лопе де Вега
"Isidro", где алфавитный указатель авторов, на которых есть ссылки в книге,
достигает 277 имен.}. Вот этот-то самый алфавит имен и поместите в свою
книгу, потому что, хотя ложь и будет ясно видна, это неважно, так как вам не
было нужды пользоваться этими именами, а может быть, и найдется какой-нибудь
простодушный читатель, который поверит, что вы всеми ими воспользовались в
вашей простой и безыскусственной истории. И, если ни на что другое не
пригодится этот обширный каталог авторов, он, по крайней мере, послужит на
то, чтобы с первого же взгляда придать авторитетность вашей книге. К тому же
никто не станет проверять, действительно ли вы пользовались ими или нет, так
как это несущественно; тем более что, если я вас верно понял, эта ваша книга
и не нуждается ни в одной из тех вещей, которых, по вашим словам, недостает
ей, потому что вся она есть поношение рыцарских книг, о которых ни
Аристотель не имел понятия, ни св. Василий ничего не говорил, ни Цицерон
ничего не знал {На Аристотеля, св. Василия и Цицерона ссылается, между
прочим, Лопе де Вега в своей поэме "Isidro".}. К ее вымышленным нелепостям
не имеют никакого касательства ни точность истины, ни наблюдения астрологии,
и для нее не представляют значения ни геометрические измерения, ни
опровержения доводов, которыми пользуются риторики; книга ваша не стремится
проповедовать, смешивая человеческое с божественным, т. е. такого рода
смесь, в которую не должно облекаться никакое здравое христианское суждение.
Она стремится только воспользоваться подражанием действительности в том, что
в ней будет написано, и чем совершеннее будет подражание, тем лучше окажется
то, что написано. И так как это ваше сочинение имеет лишь в виду уничтожить
авторитет и влияние, которыми в мире и в народе пользуются рыцарские романы,
вам незачем нищенски вымаливать изречения у философов, тексты у Св. Писания,
вымысла у поэтов, красноречие у риториков, чудеса у святых, -- а
постарайтесь только, чтобы в выразительных, подходящих и хорошо
расставленных словах речь ваша и периоды вышли звучными и пленительными и во
всем, что для вас окажется возможным, вырисовывалось ваше намерение и ясно
выступали ваши мысли, не запутанные и не затемненные вами. Постарайтесь
также, чтобы, читая вашу историю, грустный был бы вынужден смеяться, веселый
-- еще более укрепился бы в своем приятном настроении, простоватый не
соскучился бы, умный удивился бы вымыслу, серьезный не пренебрег бы им, а
рассудительный похвалил бы. Словом, поставьте себе целью низвержение шаткого
здания рыцарских книг, которые столь многие ненавидят, а еще большее число
восхищается ими,-- и, если вам удастся достигнуть этого, вы достигнете
немалого.
В глубоком молчании слушал я то, что мне говорил мой друг, и его доводы
так сильно запечатлелись в моем уме, что, не оспаривая их, я тотчас их
одобрил и решил составить именно из них этот пролог, из которого ты, милый
читатель, увидишь проницательность моего друга, счастливую судьбу мою,
пославшую мне в самое нужное время такого советника, и собственное свое
облегчение, найдя столь искренней и бесхитростной историю знаменитого Дон
Кихота Ламанчского, который, по мнению всех жителей округа Монтьельской
равнины, был самым целомудренным влюбленным и самым доблестным рыцарем,
существовавшим за многие годы в тех окрестностях. Я не хочу подчеркивать
услугу, которую я тебе оказываю, познакомив тебя с таким выдающимся и
почтенным рыцарем; но я желал бы, чтобы ты почувствовал ко мне
признательность за знакомство с его оруженосцем, знаменитым Санчо Пансой, в
лице которого, как мне кажется, я сосредоточил все прелести оруженосцев,
рассеянные в длинной веренице суетных рыцарских книг.
Итак, дай бог тебе здоровья, и да не забудет Он и меня. Vale {Прощай,
будь здоров (лат.).}.

 В одном местечке Ламанчи {Округ Новой Кастилии; название La Mancha
производят от арабского слова Манха, означающего "сухая земля".}, название
которого не желаю вспоминать, жил не так давно идальго {Идальго (исп.
Hidalgo, от hijo de algo -- "сын чего-то") -- дворянин.} из числа тех, что
имеют копье в козлах, старинный щит, тощую лошаденку и борзую собаку. Олла
{Испанское кушанье, приготовленное из разного рода овощей и мяса.},
состоящая больше из говядины, чем баранины {В те времена в Испании баранина
была дороже говядины.}, по вечерам чаще всего сальпикон {Холодное мясо,
приправленное уксусом, перцем, луком и солью.}, по субботам дуэлос и
кебрантос {Duelosу quebrantos -- буквально "огорчение и перелом". По
объяснению ученого-сервантиста Пеллисера, это название произошло из обычая
пастухов, существовавшего в некоторых местностях Ламанчи, приносить домой
хозяевам овец, свалившихся со скал или умерших от какого-либо другого
несчастного случая, из мяса которых делалась солонина. Блюдо это называлось
огорчение и перелом, намекая на чувство огорчения, вызываемое у хозяев
несчастием, приключившимся с их овцами, и перелом костей этих последних.
Вообще же это место очень трудно понять, так как некоторые отвергают и это
объяснение Пеллисера.}, по пятницам -- чечевица, по воскресеньям -- в виде
прибавки какой-нибудь голубенок, все это поглощало три четверти его дохода.
Остальная часть уходила на полукафтанье из хорошего черного сукна, бархатные
панталоны и такие же туфли для ношения в праздники и на платье из серого
полусукна, в которое он наряжался в будни. Он держал у себя в доме ключницу,
особу лет за сорок, племянницу, не достигнувшую еще и двадцати лет, и слугу
для домашних и полевых работ, который так же седлал лошадь, как и управлялся
садовым резаком. Нашему идальго было около пятидесяти лет; крепко сложенный,
сухощавый, с костлявым лицом, он вставал рано-ранехонько и был большим
любителем охоты. Звали его, как говорят, Кихада, или Кесада (так как в этом
существует некоторое разногласие у писавших о том авторах), хотя по весьма
правдоподобным догадкам можно заключить, что его звали Кехана. Но это
неважно для нашего рассказа: достаточно, чтобы мы, передавая его, не
отступали бы ни на йоту от истины. Итак, надо знать, что вышеупомянутый
идальго в те промежутки времени, когда он бывал не занят (а случалось это
большую часть года), отдавался чтению рыцарских книг с такой страстностью и
рвением, что почти совсем забывал об охоте и даже о своем хозяйстве. Его
любопытство и безрассудство в этом отношении дошли до того, что он продал
несколько участков пахотной земли, чтобы купить себе рыцарские книги, и
таким образом он собрал их в доме у себя столько, сколько мог достать. Из
всех книг ни одна не нравилась ему так, как сочинения Фелисиана де Сильвы
{Автор очень распространенного в то время романа: "Don Florisel de Niquea",
который в вымыслах своих перешел все пределы и был осмеян некоторыми
писателями еще до Сервантеса.}, потому что его проза и запутанные выражения
казались ему настоящими перлами, в особенности когда ему приходилось читать
объяснения в любви или письма с вызовами, где он часто встречал выражения в
таком роде: "Справедливость несправедливости, направленной против моей
справедливости, до того ослабила мое чувство справедливости, что я
справедливо жалуюсь на вашу красоту". Или же: "Высокие небеса, божественно
подкрепляющие вашу божественность красотою звезд, делают вас достойной того
достоинства, которого достойно ваше величие".
Над такими и тому подобными фразами бедный идальго терял рассудок. Он
не спал по ночам, стараясь понять их и вникнуть в сокровенный их смысл, до
которого не додумался бы и которого не постиг бы и сам Аристотель, если б
только для этого воскрес. Не очень-то нравились идальго раны, которые дон
Белианис {Один из героев рыцарских романов.} наносил и получал, потому что
ему представлялось, что, какие бы искусные врачи его ни лечили, все же на
его лице и всем теле должны были остаться бесчисленные рубцы и знаки. Но тем
не менее он хвалил автора за то, что он оканчивал книгу обещанием
бесконечного рассказа о нескончаемых приключениях, и не раз приходило ему
желание взяться самому за перо и буквально исполнить то, что там было
обещано. Без всякого сомнения, он это и сделал бы, и сделал бы успешно, если
б другие более значительные и настойчивые мысли не помешали ему.
Часто вступал он с деревенским священником (человеком образованным,
получившим ученую степень в Сигуэнсе) в споры о том, кто был лучшим рыцарем
-- Пальмерин ли Английский или Амадис Галльский? Но маэсе {Мастер.} Николас,
местный цирюльник, говорил, что им обоим далеко до рыцаря Феба, с которым,
если уж кто-нибудь и может сравниться, то лишь дон Галаор, брат Амадиса
Галльского, потому что он обладал всеми нужными для этого данными: он не был
таким щепетильным рыцарем и таким плаксой, как его брат; что же касается
храбрости, то в этом нимало не уступал ему.
Словом, наш идальго до того погрузился весь в чтение, что проводил над
книгами дни и ночи напролет, и, таким образом, от малого сна и беспрерывного
чтения мозг его так высох, что он лишился рассудка. Воображение его
наполнилось всем тем, что он читал в своих книгах: чародействами, ссорами,
сражениями, вызовами на поединок, ранами, ухаживаниями, любовными
приключениями, ревностью и невозможными нелепостями. В его голове так крепко
засела уверенность, что вся эта масса фантастических выдумок, которые он
читал, -- не что иное, как истина, что для него не существовало другой,
более достоверной, истории в мире. Он говорил, что Сид Руи Диас несомненно
храбрый рыцарь, но что его нельзя даже сравнить с рыцарем Пылающего Меча,
который одним взмахом положил на месте двух дерзких и чудовищных великанов;
Бернардо дель Карпио нравился ему несколько больше, потому что он в
Ронсевале убил очарованного Роланда, прибегнув к уловке Геркулеса, когда тот
задушил в своих объятиях Антея, сына Земли. Он отзывался очень хорошо о
великане Моргайте, так как, происходя из поколения гигантов, которые все
заносчивы и невежливы, он один был приветлив и благовоспитан. Но больше всех
нравился ему Рейнальдос де Монтальбан, особенно когда он выезжал из своего
замка и грабил все, что ему попадалось под руку, и когда он похитил за морем
истукана Магомета, весь литой из золота, -- как о том повествует его
история. А если б он мог дать хорошую встрепку изменнику Галалону! За это он
отдал бы и ключницу, которую держал, и даже свою племянницу в придачу.
Наконец, когда рассудок его окончательно помрачился, ему пришла в
голову самая изумительная мысль, никогда еще не осенявшая ни одного безумца
в мире, а именно: он решил, что ему не только следует, а даже необходимо --
как для собственной его славы, так и для благополучия государства --
сделаться странствующим рыцарем и верхом на коне в своих доспехах скитаться
по свету в поисках приключений, занимаясь тем, чем занимались, как он это
читал, странствующие рыцари, возмещая за всякого рода обиды, идя навстречу
всевозможным опасностям и случайностям, чтобы, преодолев их, покрыть свое
имя неувядаемой славой. В воображении своем бедняга уже видел себя
увенчанным, благодаря своей доблести, по меньшей мере короной Трапезундской
империи. В чаду таких приятных грез, увлеченный необычайным удовольствием,
которое они ему доставляли, он решил поскорее осуществить то, к чему он так
стремился.
Прежде всего он приступил к чистке доспехов, которые принадлежали еще
его прапрадедам и, изъеденные ржавчиной и плесенью, целые века оставались
позабытыми и заброшенными где-то в углу. Он вычистил и выпрямил их как мог
лучше, но заметил следующий большой недостаток: шлем был неполный,
недоставало забрала и нижней части шлема, -- это был простой шишак. Однако
изобретательный ум его сумел помочь беде, и он из картона смастерил нечто
вроде забрала, которое и прикрепил к шишаку так, что тот принял вид
настоящего рыцарского шлема. Правда, с целью испытать прочность забрала и
может ли он противостоять удару меча, он вынул свой меч, два раза ударил им
по шлему и первым же ударом мгновенно уничтожил то, что он мастерил целую
неделю. Не очень-то ему понравилась легкость, с которой он разнес вдребезги
свое изделие, и, чтобы предохранить себя от той же опасности в будущем, он
принялся делать новое забрало, прикрепив внутри его несколько железных
полосок, и остался доволен его прочностью. Не желая его вновь подвергать
испытанию, он решил, что оно вполне пригодно, и считал его прекраснейшим
забралом.
В одном местечке Ламанчи {Округ Новой Кастилии; название La Mancha
производят от арабского слова Манха, означающего "сухая земля".}, название
которого не желаю вспоминать, жил не так давно идальго {Идальго (исп.
Hidalgo, от hijo de algo -- "сын чего-то") -- дворянин.} из числа тех, что
имеют копье в козлах, старинный щит, тощую лошаденку и борзую собаку. Олла
{Испанское кушанье, приготовленное из разного рода овощей и мяса.},
состоящая больше из говядины, чем баранины {В те времена в Испании баранина
была дороже говядины.}, по вечерам чаще всего сальпикон {Холодное мясо,
приправленное уксусом, перцем, луком и солью.}, по субботам дуэлос и
кебрантос {Duelosу quebrantos -- буквально "огорчение и перелом". По
объяснению ученого-сервантиста Пеллисера, это название произошло из обычая
пастухов, существовавшего в некоторых местностях Ламанчи, приносить домой
хозяевам овец, свалившихся со скал или умерших от какого-либо другого
несчастного случая, из мяса которых делалась солонина. Блюдо это называлось
огорчение и перелом, намекая на чувство огорчения, вызываемое у хозяев
несчастием, приключившимся с их овцами, и перелом костей этих последних.
Вообще же это место очень трудно понять, так как некоторые отвергают и это
объяснение Пеллисера.}, по пятницам -- чечевица, по воскресеньям -- в виде
прибавки какой-нибудь голубенок, все это поглощало три четверти его дохода.
Остальная часть уходила на полукафтанье из хорошего черного сукна, бархатные
панталоны и такие же туфли для ношения в праздники и на платье из серого
полусукна, в которое он наряжался в будни. Он держал у себя в доме ключницу,
особу лет за сорок, племянницу, не достигнувшую еще и двадцати лет, и слугу
для домашних и полевых работ, который так же седлал лошадь, как и управлялся
садовым резаком. Нашему идальго было около пятидесяти лет; крепко сложенный,
сухощавый, с костлявым лицом, он вставал рано-ранехонько и был большим
любителем охоты. Звали его, как говорят, Кихада, или Кесада (так как в этом
существует некоторое разногласие у писавших о том авторах), хотя по весьма
правдоподобным догадкам можно заключить, что его звали Кехана. Но это
неважно для нашего рассказа: достаточно, чтобы мы, передавая его, не
отступали бы ни на йоту от истины. Итак, надо знать, что вышеупомянутый
идальго в те промежутки времени, когда он бывал не занят (а случалось это
большую часть года), отдавался чтению рыцарских книг с такой страстностью и
рвением, что почти совсем забывал об охоте и даже о своем хозяйстве. Его
любопытство и безрассудство в этом отношении дошли до того, что он продал
несколько участков пахотной земли, чтобы купить себе рыцарские книги, и
таким образом он собрал их в доме у себя столько, сколько мог достать. Из
всех книг ни одна не нравилась ему так, как сочинения Фелисиана де Сильвы
{Автор очень распространенного в то время романа: "Don Florisel de Niquea",
который в вымыслах своих перешел все пределы и был осмеян некоторыми
писателями еще до Сервантеса.}, потому что его проза и запутанные выражения
казались ему настоящими перлами, в особенности когда ему приходилось читать
объяснения в любви или письма с вызовами, где он часто встречал выражения в
таком роде: "Справедливость несправедливости, направленной против моей
справедливости, до того ослабила мое чувство справедливости, что я
справедливо жалуюсь на вашу красоту". Или же: "Высокие небеса, божественно
подкрепляющие вашу божественность красотою звезд, делают вас достойной того
достоинства, которого достойно ваше величие".
Над такими и тому подобными фразами бедный идальго терял рассудок. Он
не спал по ночам, стараясь понять их и вникнуть в сокровенный их смысл, до
которого не додумался бы и которого не постиг бы и сам Аристотель, если б
только для этого воскрес. Не очень-то нравились идальго раны, которые дон
Белианис {Один из героев рыцарских романов.} наносил и получал, потому что
ему представлялось, что, какие бы искусные врачи его ни лечили, все же на
его лице и всем теле должны были остаться бесчисленные рубцы и знаки. Но тем
не менее он хвалил автора за то, что он оканчивал книгу обещанием
бесконечного рассказа о нескончаемых приключениях, и не раз приходило ему
желание взяться самому за перо и буквально исполнить то, что там было
обещано. Без всякого сомнения, он это и сделал бы, и сделал бы успешно, если
б другие более значительные и настойчивые мысли не помешали ему.
Часто вступал он с деревенским священником (человеком образованным,
получившим ученую степень в Сигуэнсе) в споры о том, кто был лучшим рыцарем
-- Пальмерин ли Английский или Амадис Галльский? Но маэсе {Мастер.} Николас,
местный цирюльник, говорил, что им обоим далеко до рыцаря Феба, с которым,
если уж кто-нибудь и может сравниться, то лишь дон Галаор, брат Амадиса
Галльского, потому что он обладал всеми нужными для этого данными: он не был
таким щепетильным рыцарем и таким плаксой, как его брат; что же касается
храбрости, то в этом нимало не уступал ему.
Словом, наш идальго до того погрузился весь в чтение, что проводил над
книгами дни и ночи напролет, и, таким образом, от малого сна и беспрерывного
чтения мозг его так высох, что он лишился рассудка. Воображение его
наполнилось всем тем, что он читал в своих книгах: чародействами, ссорами,
сражениями, вызовами на поединок, ранами, ухаживаниями, любовными
приключениями, ревностью и невозможными нелепостями. В его голове так крепко
засела уверенность, что вся эта масса фантастических выдумок, которые он
читал, -- не что иное, как истина, что для него не существовало другой,
более достоверной, истории в мире. Он говорил, что Сид Руи Диас несомненно
храбрый рыцарь, но что его нельзя даже сравнить с рыцарем Пылающего Меча,
который одним взмахом положил на месте двух дерзких и чудовищных великанов;
Бернардо дель Карпио нравился ему несколько больше, потому что он в
Ронсевале убил очарованного Роланда, прибегнув к уловке Геркулеса, когда тот
задушил в своих объятиях Антея, сына Земли. Он отзывался очень хорошо о
великане Моргайте, так как, происходя из поколения гигантов, которые все
заносчивы и невежливы, он один был приветлив и благовоспитан. Но больше всех
нравился ему Рейнальдос де Монтальбан, особенно когда он выезжал из своего
замка и грабил все, что ему попадалось под руку, и когда он похитил за морем
истукана Магомета, весь литой из золота, -- как о том повествует его
история. А если б он мог дать хорошую встрепку изменнику Галалону! За это он
отдал бы и ключницу, которую держал, и даже свою племянницу в придачу.
Наконец, когда рассудок его окончательно помрачился, ему пришла в
голову самая изумительная мысль, никогда еще не осенявшая ни одного безумца
в мире, а именно: он решил, что ему не только следует, а даже необходимо --
как для собственной его славы, так и для благополучия государства --
сделаться странствующим рыцарем и верхом на коне в своих доспехах скитаться
по свету в поисках приключений, занимаясь тем, чем занимались, как он это
читал, странствующие рыцари, возмещая за всякого рода обиды, идя навстречу
всевозможным опасностям и случайностям, чтобы, преодолев их, покрыть свое
имя неувядаемой славой. В воображении своем бедняга уже видел себя
увенчанным, благодаря своей доблести, по меньшей мере короной Трапезундской
империи. В чаду таких приятных грез, увлеченный необычайным удовольствием,
которое они ему доставляли, он решил поскорее осуществить то, к чему он так
стремился.
Прежде всего он приступил к чистке доспехов, которые принадлежали еще
его прапрадедам и, изъеденные ржавчиной и плесенью, целые века оставались
позабытыми и заброшенными где-то в углу. Он вычистил и выпрямил их как мог
лучше, но заметил следующий большой недостаток: шлем был неполный,
недоставало забрала и нижней части шлема, -- это был простой шишак. Однако
изобретательный ум его сумел помочь беде, и он из картона смастерил нечто
вроде забрала, которое и прикрепил к шишаку так, что тот принял вид
настоящего рыцарского шлема. Правда, с целью испытать прочность забрала и
может ли он противостоять удару меча, он вынул свой меч, два раза ударил им
по шлему и первым же ударом мгновенно уничтожил то, что он мастерил целую
неделю. Не очень-то ему понравилась легкость, с которой он разнес вдребезги
свое изделие, и, чтобы предохранить себя от той же опасности в будущем, он
принялся делать новое забрало, прикрепив внутри его несколько железных
полосок, и остался доволен его прочностью. Не желая его вновь подвергать
испытанию, он решил, что оно вполне пригодно, и считал его прекраснейшим
забралом.
 Покончив с этим делом, он пошел взглянуть на свою клячу, и хотя у нее
на копытах было немало трещин, и, вообще, больше было пороков, чем даже у
лошади Гонелы {Шут герцога Феррарского, живший в XV веке; лошадь его была
знаменита своей худобой.}, которая "tantum pellis et ossa fuit" {Была лишь
кожа да кости (лат.).}, ему показалось, что ни Буцефал Александра
Македонского, ни Бабиека Сида не могут сравниться с его конем. Четыре дня
употребил он на то, чтобы придумать, какое ему дать имя, потому что, говорил
он себе, несправедливо, чтобы конь столь знаменитого рыцаря и сам по себе
такой хороший оставался без известного всем имени. Поэтому он старался
придумать такое, которое означало бы и то, что представляла из себя лошадь,
прежде чем она принадлежала странствующему рыцарю, и то, чем она стала
потом, так как было вполне справедливым, чтобы с переменой положения ее
господина и она переменила имя и получила бы громкое и блестящее название,
как это приличествовало новой профессии и тому ордену, в который вступил ее
господин. Итак, после того как он перебрал в своем уме массу имен, отвергнул
их, вновь придумал некоторые, опять их отвергнул и придумывал еще новые, он
наконец назвал лошадь свою Росинант {Слово, составленное из двух испанских
слов "rocin" ("кляча"), "antes" ("прежде и впереди").}, имя, показавшееся
ему возвышенным, звучным и означавшим то, чем лошадь была прежде, когда она
была клячей, и то, чем она стала теперь, сделавшись первой и лучшей из всех
кляч в мире.
Дав своему коню название, которое ему так нравилось, он пожелал также и
себе приискать имя, и в размышлениях над этим у него прошла еще неделя.
Наконец он решил назваться Дон Кихотом {Quijote -- в переводе с испанского
"набедренник".}, и это дало повод, как уже было сказано, авторам этой столь
правдивой истории утверждать, что, без сомнения, он, должно быть, назывался
Кихада, а не Кесада, как уверяют другие. Однако, вспомнив, что храбрый
Амадис не довольствовался одним именем Амадиса, а добавил к нему название
своего королевства и отечества, чтобы прославить его, и назвал себя Амадисом
Галльским, -- и он, как добрый рыцарь, пожелал добавить к своему имени имя
своего отечества и называться Дон Кихотом Ламанчским, чем, как ему казалось,
он во всеуслышание провозглашает свое происхождение и отечество и оказывает
честь родине, делая из ее имени свое прозвище. Вычистив оружие, смастерив из
шишака настоящий шлем с забралом, дав название своему коню, снабдив и себя
новым именем, он решил, что теперь ему недостает лишь одного: найти даму, в
которую бы он влюбился; потому что странствующий рыцарь без любви все равно
что дерево без листьев и без плодов и тело без души. Он сказал себе: "Если я
в наказание за мои грехи или же вследствие счастливой своей судьбы встречусь
в этих местностях с каким-нибудь великаном -- как это обыкновенно случается
со странствующими рыцарями -- и, схватившись с ним, сброшу его на землю, или
разрублю надвое, или, одержав над ним окончательную победу, заставлю его
сдаться, разве нехорошо было бы иметь, к кому бы я мог его послать
представиться, и чтобы он, войдя в комнату, упал бы на колени перед моей
нежной сеньорой и сказал бы смиренным и покорным голосом: "Я, сеньора,
великан Каракулиамбро, повелитель острова Мамендрания, которого победил в
поединке никогда в достаточной мере не восхваленный рыцарь Дон Кихот
Ламанчский, приказавший мне явиться к вашей милости, чтобы ваше величие
располагало мною по своему благоусмотрению"". О, как обрадовался наш добрый
кабальеро {Кабальеро -- рыцарь (исп.).}, когда он произнес эту речь, а еще
более, когда он придумал, кого ему избрать своей дамой. Дело в том, как
полагают, что в одном местечке, по соседству с его местечком, жила молодая
крестьянка, очень недурная собой, в которую он одно время был влюблен, хотя,
по слухам, она этого никогда не знала и не замечала этого. Звали ее Альдонса
Лоренсо, и ей-то ему показалось подходящим дать титул "владычицы его дум".
Отыскивая для нее имя, которое не очень бы отступало от ее имени, а
походило бы и приближалось бы к имени принцессы и знатной сеньоры, он назвал
ее Дульсинеей Тобосской, потому что она родом была из Тобосо, -- имя, по его
мнению, музыкальное, необычайно красивое и выразительное, как и имена,
придуманные им для себя и для своей лошади.
Покончив с этим делом, он пошел взглянуть на свою клячу, и хотя у нее
на копытах было немало трещин, и, вообще, больше было пороков, чем даже у
лошади Гонелы {Шут герцога Феррарского, живший в XV веке; лошадь его была
знаменита своей худобой.}, которая "tantum pellis et ossa fuit" {Была лишь
кожа да кости (лат.).}, ему показалось, что ни Буцефал Александра
Македонского, ни Бабиека Сида не могут сравниться с его конем. Четыре дня
употребил он на то, чтобы придумать, какое ему дать имя, потому что, говорил
он себе, несправедливо, чтобы конь столь знаменитого рыцаря и сам по себе
такой хороший оставался без известного всем имени. Поэтому он старался
придумать такое, которое означало бы и то, что представляла из себя лошадь,
прежде чем она принадлежала странствующему рыцарю, и то, чем она стала
потом, так как было вполне справедливым, чтобы с переменой положения ее
господина и она переменила имя и получила бы громкое и блестящее название,
как это приличествовало новой профессии и тому ордену, в который вступил ее
господин. Итак, после того как он перебрал в своем уме массу имен, отвергнул
их, вновь придумал некоторые, опять их отвергнул и придумывал еще новые, он
наконец назвал лошадь свою Росинант {Слово, составленное из двух испанских
слов "rocin" ("кляча"), "antes" ("прежде и впереди").}, имя, показавшееся
ему возвышенным, звучным и означавшим то, чем лошадь была прежде, когда она
была клячей, и то, чем она стала теперь, сделавшись первой и лучшей из всех
кляч в мире.
Дав своему коню название, которое ему так нравилось, он пожелал также и
себе приискать имя, и в размышлениях над этим у него прошла еще неделя.
Наконец он решил назваться Дон Кихотом {Quijote -- в переводе с испанского
"набедренник".}, и это дало повод, как уже было сказано, авторам этой столь
правдивой истории утверждать, что, без сомнения, он, должно быть, назывался
Кихада, а не Кесада, как уверяют другие. Однако, вспомнив, что храбрый
Амадис не довольствовался одним именем Амадиса, а добавил к нему название
своего королевства и отечества, чтобы прославить его, и назвал себя Амадисом
Галльским, -- и он, как добрый рыцарь, пожелал добавить к своему имени имя
своего отечества и называться Дон Кихотом Ламанчским, чем, как ему казалось,
он во всеуслышание провозглашает свое происхождение и отечество и оказывает
честь родине, делая из ее имени свое прозвище. Вычистив оружие, смастерив из
шишака настоящий шлем с забралом, дав название своему коню, снабдив и себя
новым именем, он решил, что теперь ему недостает лишь одного: найти даму, в
которую бы он влюбился; потому что странствующий рыцарь без любви все равно
что дерево без листьев и без плодов и тело без души. Он сказал себе: "Если я
в наказание за мои грехи или же вследствие счастливой своей судьбы встречусь
в этих местностях с каким-нибудь великаном -- как это обыкновенно случается
со странствующими рыцарями -- и, схватившись с ним, сброшу его на землю, или
разрублю надвое, или, одержав над ним окончательную победу, заставлю его
сдаться, разве нехорошо было бы иметь, к кому бы я мог его послать
представиться, и чтобы он, войдя в комнату, упал бы на колени перед моей
нежной сеньорой и сказал бы смиренным и покорным голосом: "Я, сеньора,
великан Каракулиамбро, повелитель острова Мамендрания, которого победил в
поединке никогда в достаточной мере не восхваленный рыцарь Дон Кихот
Ламанчский, приказавший мне явиться к вашей милости, чтобы ваше величие
располагало мною по своему благоусмотрению"". О, как обрадовался наш добрый
кабальеро {Кабальеро -- рыцарь (исп.).}, когда он произнес эту речь, а еще
более, когда он придумал, кого ему избрать своей дамой. Дело в том, как
полагают, что в одном местечке, по соседству с его местечком, жила молодая
крестьянка, очень недурная собой, в которую он одно время был влюблен, хотя,
по слухам, она этого никогда не знала и не замечала этого. Звали ее Альдонса
Лоренсо, и ей-то ему показалось подходящим дать титул "владычицы его дум".
Отыскивая для нее имя, которое не очень бы отступало от ее имени, а
походило бы и приближалось бы к имени принцессы и знатной сеньоры, он назвал
ее Дульсинеей Тобосской, потому что она родом была из Тобосо, -- имя, по его
мнению, музыкальное, необычайно красивое и выразительное, как и имена,
придуманные им для себя и для своей лошади.

 Окончив эти приготовления, наш идальго решил тотчас же привести в
исполнение задуманное им, так как его угнетала мысль, что промедление даст
себя чувствовать миру, приняв в расчет все те обиды, которые он думал
уничтожить, несправедливости -- исправить, злоупотребления -- искоренить,
ошибки -- загладить и долги -- уплатить. Не сообщив никому о своем намерении
и так, чтобы никто его не видел, однажды утром, еще до рассвета (так как это
был один из самых жарких июльских дней), он надел все свои доспехи, сел
верхом на Росинанта, опустил плохо прилаженное забрало, продел на руку щит,
взял свое копье и выехал из задней калитки двора в поле, донельзя довольный
и обрадованный тем, что ему так легко удалось положить начало доброму своему
желанию. Но едва он очутился в поле, как у него мелькнула страшная мысль, и
такая страшная, что она чуть было не заставила его отказаться от начатого
дела, именно он вспомнил, что еще не был посвящен в рыцари и что по
рыцарским законам он не может и не должен сражаться ни с кем из рыцарей.
Допустив же, что он был бы посвящен в рыцари, ему, как новичку, следовало бы
иметь лишь "белое" оружие, без девиза на щите, пока он не заслужит его
собственными подвигами. Эти мысли заставили его поколебаться в своем
намерении, но так как его безумие было сильнее всяких других доводов, он
решил просить первого, кто встретится ему, посвятить его в рыцари, в
подражание многим другим, которые поступили таким же образом, как он это
прочел в книгах, столь сильно завладевших им. Что же касается "белого"
оружия, он решил, когда окажется время, так основательно вычистить свои
доспехи, чтобы они стали белее горностая. Все это успокоило его, и он поехал
дальше, предоставив лошади своей идти, куда она пожелает, думая, что в этом
и состоит вся тайна приключений.
Продолжая путь свой, наш свежеиспеченный искатель приключений стал
рассуждать сам с собою, говоря: "Нет сомнения, что в будущие века, когда
правдивая история славных моих подвигов явится в свет, мудрец, который ее
напишет, повествуя о первом моем выезде на рассвете дня начнет свое описание
следующими словами: "Едва румяный Аполлон разбросал по лицу великой и
обширной земли золотые нити прекрасных своих волос, едва маленькие пестрые
птички с зубчатыми язычками приветствовали сладкой и нежной мелодией
появление розовой Авроры, которая, покинув мягкое ложе ревнивого супруга,
выглянула из всех дверей и балконов ламанчского горизонта и появилась перед
очами смертных, -- знаменитый рыцарь Дон Кихот Ламанчский, оставив праздные
свои пуховики, сел верхом на славного коня Росинанта и поехал по старинной,
всем хорошо известной Монтиельской долине"" (и в самом деле он ехал по этой
долине). И он продолжал, говоря: "Счастливое время и счастливый тот век,
когда появятся в свет славные подвиги мои, заслуживающие, чтобы их, на
память потомству, увековечили в бронзе, в мраморе и в живописи! О ты, мудрый
чародей, кто бы ты ни был, которому суждено будет стать летописцем
необычайной этой истории, прошу тебя, не забудь моего доброго Росинанта,
вечного моего товарища во всех моих дорогах и путях". Тотчас за тем он
добавил, как будто он в самом деле был влюблен: "О принцесса Дульсинея,
владычица этого плененного вами сердца! Как сильно вы меня обидели, отослав
со строгим приказанием не являться перед вашими светлыми очами. Сеньора,
удостойте вспомнить о беззаветно преданном вам сердце, которое из любви к
вам терпит столько мук".
Сказав это, он стал нанизывать еще другие нелепости наподобие тех,
которым он научился в своих книгах, стараясь, насколько мог, подражать их
слогу. При этом он ехал так медленно, а солнце поднялось так высоко и жгло
так сильно, что этого одного было бы достаточно, чтобы растопить все его
мозги, если б они еще были у него. Почти весь тот день он пространствовал,
но с ним не случилось ничего, о чем бы стоило рассказать. Это привело его в
отчаяние, так как он желал тотчас же встретиться с кем-нибудь, чтобы
испытать над ним доблесть своей сильной руки. Некоторые авторы говорят,
будто первое случившееся с ним приключение было приключение в ущелье Лаписе,
другие, что первым его приключением было сражение с ветряными мельницами. Но
в чем я мог удостовериться относительно этого вопроса и что нашел занесенным
в летописи Ламанчи, это то, что он весь день пространствовал и, когда стало
смеркаться, его лошадь и он сильно утомились и умирали с голоду. Оглядываясь
во все стороны, нет ли где замка или пастушьей хижины, где бы он мог
переночевать и удовлетворить великую свою нужду в отдыхе и еде, он увидел
недалеко от дороги, по которой ехал, постоялый двор, а ему показалось, будто
он видит звезду, которая ведет его не только в преддверие, но и в самый
чертог спасения. Он пришпорил лошадь и в то время, когда спускалась ночь,
добрался до постоялого двора.
У дверей стояли случайно две молодые женщины из тех, которых принято
называть "уличными". Они ехали в Севилью с погонщиками мулов и остановились
на ночь с ними на этом постоялом дворе. А так как нашему искателю
приключений все, что он думал, видел или воображал, представлялось подобным
тому, что совершалось и происходило в прочитанных им книгах, то лишь только
он увидел постоялый двор, ему представилось, что это замок с четырьмя
башнями со шпилями из блестящего серебра, с подъемным мостом и глубокими
рвами, -- словом, со всеми принадлежностями, как их обыкновенно описывают в
подобного рода замках. Он подъехал ближе к постоялому двору (который ему
казался замком) и в недалеком расстоянии от него придержал за поводья
Росинанта, ожидая, что на зубчатых стенах замка появится какой-нибудь карлик
и трубным звуком возвестит о прибытии рыцаря. Но так как он увидел, что
очень медлят и что Росинант спешит скорее попасть в конюшню, он подъехал
ближе к дверям постоялого двора и заметил стоявших здесь двух женщин
"легкого поведения", которых он принял за двух знатных барышень или же за
двух изящных дам, прогуливающихся перед воротами своего замка. Случайно в
это время свинопас, гнавший с пастбища стадо свиней (а их, не извиняясь, так
и называют), затрубил в рог, при звуках которого они собираются. Тотчас же
Дон Кихот вообразил, что исполнилось его желание, а именно что карлик дает
знать о его приезде. Итак, донельзя довольный, он подъехал к постоялому
двору и к дамам; а они, увидав человека, вооруженного таким образом -- со
щитом и с копьем, -- исполненные страха, бросились к дверям. Но Дон Кихот,
по бегству их догадавшийся об их испуге, приподняв картонное свое забрало и
открыв сухощавое, запыленное лицо, изящно приосанился и спокойным голосом
обратился к ним, говоря:
-- Не бегите, милости ваши, и не опасайтесь никаких неприятностей, так
как не в правилах и не в обычаях рыцарского ордена, к которому я принадлежу,
обижать кого бы то ни было, а тем более таких знатных девушек, как это
явствует из вашей наружности.
Женщины всматривались в рыцаря, стараясь разглядеть его лицо, скрытое
плохо поднятым забралом. Но когда они услышали, что их называют девушками,
что так противоречило их профессии, они не могли удержаться от громкого
взрыва смеха. Это рассердило Дон Кихота, и он сказал:
-- Осмотрительность очень идет к красоте, и к тому же весьма глупо
смеяться, когда повод вздорный. Но я говорю вам это не с целью вас обидеть
или же вызвать ваше неудовольствие, так как единственное мое желание --
служить вам.
Этот язык, непонятный тем сеньорам, и странный вид нашего рыцаря только
еще более усилили их смех, а в нем усилили досаду, и, может быть, дело
кончилось бы плохо, если б как раз в это время не появился хозяин постоялого
двора, человек очень миролюбивый, так как он был очень толстый.
Увидав безобразную фигуру рыцаря, вооруженного такими сборными
доспехами, какими были поводья, щит, копье и латы, он чуть было не
присоединился к двум девицам в изъявлении своего веселья. Но действительно
устрашенный этой массой военных снарядов, он решил говорить с ним вежливо и
потому сказал:
-- Сеньор кабальеро, если ваша милость ищет ночлега, то, за исключением
постели (так как на этом постоялом дворе нет постели), всем остальным могу
служить вам в большом изобилии.
Увидав покорность начальника крепости (таковым Дон Кихот счел хозяина
постоялого двора), рыцарь ответил:
-- Сеньор кастелян, я удовлетворюсь самым малым, так как мое оружие --
мне украшенье, а битва -- отдых мой {Отрывок из старинного испанского
романса.}.
Окончив эти приготовления, наш идальго решил тотчас же привести в
исполнение задуманное им, так как его угнетала мысль, что промедление даст
себя чувствовать миру, приняв в расчет все те обиды, которые он думал
уничтожить, несправедливости -- исправить, злоупотребления -- искоренить,
ошибки -- загладить и долги -- уплатить. Не сообщив никому о своем намерении
и так, чтобы никто его не видел, однажды утром, еще до рассвета (так как это
был один из самых жарких июльских дней), он надел все свои доспехи, сел
верхом на Росинанта, опустил плохо прилаженное забрало, продел на руку щит,
взял свое копье и выехал из задней калитки двора в поле, донельзя довольный
и обрадованный тем, что ему так легко удалось положить начало доброму своему
желанию. Но едва он очутился в поле, как у него мелькнула страшная мысль, и
такая страшная, что она чуть было не заставила его отказаться от начатого
дела, именно он вспомнил, что еще не был посвящен в рыцари и что по
рыцарским законам он не может и не должен сражаться ни с кем из рыцарей.
Допустив же, что он был бы посвящен в рыцари, ему, как новичку, следовало бы
иметь лишь "белое" оружие, без девиза на щите, пока он не заслужит его
собственными подвигами. Эти мысли заставили его поколебаться в своем
намерении, но так как его безумие было сильнее всяких других доводов, он
решил просить первого, кто встретится ему, посвятить его в рыцари, в
подражание многим другим, которые поступили таким же образом, как он это
прочел в книгах, столь сильно завладевших им. Что же касается "белого"
оружия, он решил, когда окажется время, так основательно вычистить свои
доспехи, чтобы они стали белее горностая. Все это успокоило его, и он поехал
дальше, предоставив лошади своей идти, куда она пожелает, думая, что в этом
и состоит вся тайна приключений.
Продолжая путь свой, наш свежеиспеченный искатель приключений стал
рассуждать сам с собою, говоря: "Нет сомнения, что в будущие века, когда
правдивая история славных моих подвигов явится в свет, мудрец, который ее
напишет, повествуя о первом моем выезде на рассвете дня начнет свое описание
следующими словами: "Едва румяный Аполлон разбросал по лицу великой и
обширной земли золотые нити прекрасных своих волос, едва маленькие пестрые
птички с зубчатыми язычками приветствовали сладкой и нежной мелодией
появление розовой Авроры, которая, покинув мягкое ложе ревнивого супруга,
выглянула из всех дверей и балконов ламанчского горизонта и появилась перед
очами смертных, -- знаменитый рыцарь Дон Кихот Ламанчский, оставив праздные
свои пуховики, сел верхом на славного коня Росинанта и поехал по старинной,
всем хорошо известной Монтиельской долине"" (и в самом деле он ехал по этой
долине). И он продолжал, говоря: "Счастливое время и счастливый тот век,
когда появятся в свет славные подвиги мои, заслуживающие, чтобы их, на
память потомству, увековечили в бронзе, в мраморе и в живописи! О ты, мудрый
чародей, кто бы ты ни был, которому суждено будет стать летописцем
необычайной этой истории, прошу тебя, не забудь моего доброго Росинанта,
вечного моего товарища во всех моих дорогах и путях". Тотчас за тем он
добавил, как будто он в самом деле был влюблен: "О принцесса Дульсинея,
владычица этого плененного вами сердца! Как сильно вы меня обидели, отослав
со строгим приказанием не являться перед вашими светлыми очами. Сеньора,
удостойте вспомнить о беззаветно преданном вам сердце, которое из любви к
вам терпит столько мук".
Сказав это, он стал нанизывать еще другие нелепости наподобие тех,
которым он научился в своих книгах, стараясь, насколько мог, подражать их
слогу. При этом он ехал так медленно, а солнце поднялось так высоко и жгло
так сильно, что этого одного было бы достаточно, чтобы растопить все его
мозги, если б они еще были у него. Почти весь тот день он пространствовал,
но с ним не случилось ничего, о чем бы стоило рассказать. Это привело его в
отчаяние, так как он желал тотчас же встретиться с кем-нибудь, чтобы
испытать над ним доблесть своей сильной руки. Некоторые авторы говорят,
будто первое случившееся с ним приключение было приключение в ущелье Лаписе,
другие, что первым его приключением было сражение с ветряными мельницами. Но
в чем я мог удостовериться относительно этого вопроса и что нашел занесенным
в летописи Ламанчи, это то, что он весь день пространствовал и, когда стало
смеркаться, его лошадь и он сильно утомились и умирали с голоду. Оглядываясь
во все стороны, нет ли где замка или пастушьей хижины, где бы он мог
переночевать и удовлетворить великую свою нужду в отдыхе и еде, он увидел
недалеко от дороги, по которой ехал, постоялый двор, а ему показалось, будто
он видит звезду, которая ведет его не только в преддверие, но и в самый
чертог спасения. Он пришпорил лошадь и в то время, когда спускалась ночь,
добрался до постоялого двора.
У дверей стояли случайно две молодые женщины из тех, которых принято
называть "уличными". Они ехали в Севилью с погонщиками мулов и остановились
на ночь с ними на этом постоялом дворе. А так как нашему искателю
приключений все, что он думал, видел или воображал, представлялось подобным
тому, что совершалось и происходило в прочитанных им книгах, то лишь только
он увидел постоялый двор, ему представилось, что это замок с четырьмя
башнями со шпилями из блестящего серебра, с подъемным мостом и глубокими
рвами, -- словом, со всеми принадлежностями, как их обыкновенно описывают в
подобного рода замках. Он подъехал ближе к постоялому двору (который ему
казался замком) и в недалеком расстоянии от него придержал за поводья
Росинанта, ожидая, что на зубчатых стенах замка появится какой-нибудь карлик
и трубным звуком возвестит о прибытии рыцаря. Но так как он увидел, что
очень медлят и что Росинант спешит скорее попасть в конюшню, он подъехал
ближе к дверям постоялого двора и заметил стоявших здесь двух женщин
"легкого поведения", которых он принял за двух знатных барышень или же за
двух изящных дам, прогуливающихся перед воротами своего замка. Случайно в
это время свинопас, гнавший с пастбища стадо свиней (а их, не извиняясь, так
и называют), затрубил в рог, при звуках которого они собираются. Тотчас же
Дон Кихот вообразил, что исполнилось его желание, а именно что карлик дает
знать о его приезде. Итак, донельзя довольный, он подъехал к постоялому
двору и к дамам; а они, увидав человека, вооруженного таким образом -- со
щитом и с копьем, -- исполненные страха, бросились к дверям. Но Дон Кихот,
по бегству их догадавшийся об их испуге, приподняв картонное свое забрало и
открыв сухощавое, запыленное лицо, изящно приосанился и спокойным голосом
обратился к ним, говоря:
-- Не бегите, милости ваши, и не опасайтесь никаких неприятностей, так
как не в правилах и не в обычаях рыцарского ордена, к которому я принадлежу,
обижать кого бы то ни было, а тем более таких знатных девушек, как это
явствует из вашей наружности.
Женщины всматривались в рыцаря, стараясь разглядеть его лицо, скрытое
плохо поднятым забралом. Но когда они услышали, что их называют девушками,
что так противоречило их профессии, они не могли удержаться от громкого
взрыва смеха. Это рассердило Дон Кихота, и он сказал:
-- Осмотрительность очень идет к красоте, и к тому же весьма глупо
смеяться, когда повод вздорный. Но я говорю вам это не с целью вас обидеть
или же вызвать ваше неудовольствие, так как единственное мое желание --
служить вам.
Этот язык, непонятный тем сеньорам, и странный вид нашего рыцаря только
еще более усилили их смех, а в нем усилили досаду, и, может быть, дело
кончилось бы плохо, если б как раз в это время не появился хозяин постоялого
двора, человек очень миролюбивый, так как он был очень толстый.
Увидав безобразную фигуру рыцаря, вооруженного такими сборными
доспехами, какими были поводья, щит, копье и латы, он чуть было не
присоединился к двум девицам в изъявлении своего веселья. Но действительно
устрашенный этой массой военных снарядов, он решил говорить с ним вежливо и
потому сказал:
-- Сеньор кабальеро, если ваша милость ищет ночлега, то, за исключением
постели (так как на этом постоялом дворе нет постели), всем остальным могу
служить вам в большом изобилии.
Увидав покорность начальника крепости (таковым Дон Кихот счел хозяина
постоялого двора), рыцарь ответил:
-- Сеньор кастелян, я удовлетворюсь самым малым, так как мое оружие --
мне украшенье, а битва -- отдых мой {Отрывок из старинного испанского
романса.}.
 Хозяин двора подумал, что рыцарь назвал его кастеляном, потому что
принял за продувного кастильца {Кастелян (castellan) означает по-испански
одновременно и "кастелян" и "кастилец", а sano de Castilla, на воровском
испанском диалекте означает "скрытый вор".}, хотя он был родом андалузец с
побережья Сан-Лукара {Любимый притон бродяг и мошенников в те времена.}, не
менее вор, чем Како, не менее шутник, чем студент или паж. Итак, он ответил
ему:
-- Судя по этому, ложем вашей милости должны быть твердые скалы, а сном
-- постоянное бодрствование {Следующие строки куплета, цитируемого Дон
Кихотом.}, и, если это так, вы можете сойти с коня в полной уверенности
найти в этой хижине случай и случаи бодрствовать целый год, а тем более одну
ночь.
Сказав это, он стал держать стремя Дон Кихоту, который слез с лошади с
большим трудом и усилием, как человек, целый день не имевший ни куска во
рту.
Тотчас же он попросил хозяина хорошенько позаботиться о его коне,
потому что это лучшее существо, евшее хлеб на земле. Хозяин взглянул на
лошадь, но она ему показалась не так хороша, как говорил Дон Кихот, и даже
вполовину не так хороша. Устроив ее в конюшне, он вернулся узнать, что ему
прикажет его гость, которого молодые женщины (уже помирившиеся с ним)
освобождали от его доспехов. Они сняли с него латы, нагрудник и наплечники,
но никак не могли освободить ему горло от нашейника, ни снять уродливое
забрало, которое было привязано зелеными шнурками. Приходилось разрезать их,
так как нельзя было развязать узлы, но Дон Кихот никоим образом не
соглашался на это и оставался всю ночь с шлемом на голове; это была самая
смешная и странная фигура, какую только можно представить себе. Когда с него
снимали доспехи, он, вообразив, что делавшие это две уличные женщины --
знатные сеньоры и владелицы замка, сказал им с большой любезностью:
Никогда так не служили
Дамы рыцарям отменно,
Как служили Дон Кихоту,
Когда выехал впервые
Из деревни он: за ним
Девы знатные ходили,
За конем его -- принцессы *,
* Дон Кихот применяет здесь к себе старинный испанский романс
Лансарота.
или за Росинантом, так как это, сеньоры мои, имя моего коня, а мое имя
-- Дон Кихот Ламанчский; но хотя я и не желал открыться вам раньше, чем это
сделали бы подвиги, совершенные мною вам на пользу, и, служа вам,
необходимость приметить к данному случаю старый романс Лансарота была
причиной того, что вы раньше времени узнали мое имя. Однако настанет пора,
когда вы, сеньоры, будете повелевать, а я исполню ваши повеления, и сила
руки моей докажет мое желание служить вам.
Молодые женщины, не привыкшие к таким витиеватым речам, не ответили ни
слова и только спросили его, не желает ли он поесть.
-- Я бы поел чего угодно, -- ответил Дон Кихот, -- потому что, как мне
кажется, я очень в этом нуждаюсь.
Случилось, что в тот день была пятница, и на всем постоялом дворе не
оказалось ничего, кроме порции рыбы, которую в Кастилии называют "аббатиком"
{В Испании все это местные шуточные названия для соленой трески.}, в
Андалузии "баккалавриком", в некоторых местностях "потоками", а в других
"форельчиками". Дон Кихота спросили, не желает ли его милость отведать
"форельчиков", а другой рыбы, которую можно было бы подать ему есть, нет.
-- Так как форельчиков много, -- сказал Дон Кихот, -- они могут сойти
за форель, потому что не все ли равно, дадут ли мне восемь реалов мелкой
монетой или же одну крупную монету в восемь реалов? Тем более что, может
быть, и форельчики нечто вроде телятины, которая вкуснее говядины, или же
вроде мяса молодого козленка, которое вкуснее мяса старого козла. Но будь
что будет, лишь бы мне давали поскорей, так как бремя и тяжесть оружия
нелегко выносить, не удовлетворив требований желудка.
Для прохлады накрыли на стол у дверей постоялого двора, и хозяин принес
порцию плохо вымоченной и еще хуже сваренной рыбы из рода трески и такого же
черного и заплесневелого хлеба, как и доспехи Дон Кихота. Удивительно смешно
было видеть, как он ел, потому что с надетым шлемом и приподнятым забралом
ему неудобно было что-либо класть себе в рот своими руками, если кто другой
не подавал ему, и одна из девиц оказывала ему эту услугу. А напоить его и
было, и осталось бы невозможным, если б хозяин двора не просверлил тростник,
один конец которого он сунул в рот Дон Кихота, а через другой вливал вино.
Рыцарь все это сносил терпеливо, чтобы только избежать необходимости
разрезать шнурки у шлема. Как раз в это время к постоялому двору случайно
подходил холостильщик свиней и, приблизившись, сыграл четыре или пять раз на
своей камышовой свирели. Это окончательно убедило Дон Кихота, что он
находится в рыцарском замке, что за его обедом играет музыка, что поданная
ему треска -- форель, а лежащий перед ним черный хлеб -- булка из лучшей
пшеничной муки, что две уличные женщины -- знатные дамы и что хозяин
постоялого двора -- кастелян замка, и поэтому он считал и свое решение, и
свой выезд вполне удачными. Но больше всего тревожила его мысль, что он еще
не посвящен в рыцари, так как ему казалось, что ему нельзя на законном
основании пуститься в какое бы то ни было приключение, прежде чем он не
вступит в рыцарский орден.
Хозяин двора подумал, что рыцарь назвал его кастеляном, потому что
принял за продувного кастильца {Кастелян (castellan) означает по-испански
одновременно и "кастелян" и "кастилец", а sano de Castilla, на воровском
испанском диалекте означает "скрытый вор".}, хотя он был родом андалузец с
побережья Сан-Лукара {Любимый притон бродяг и мошенников в те времена.}, не
менее вор, чем Како, не менее шутник, чем студент или паж. Итак, он ответил
ему:
-- Судя по этому, ложем вашей милости должны быть твердые скалы, а сном
-- постоянное бодрствование {Следующие строки куплета, цитируемого Дон
Кихотом.}, и, если это так, вы можете сойти с коня в полной уверенности
найти в этой хижине случай и случаи бодрствовать целый год, а тем более одну
ночь.
Сказав это, он стал держать стремя Дон Кихоту, который слез с лошади с
большим трудом и усилием, как человек, целый день не имевший ни куска во
рту.
Тотчас же он попросил хозяина хорошенько позаботиться о его коне,
потому что это лучшее существо, евшее хлеб на земле. Хозяин взглянул на
лошадь, но она ему показалась не так хороша, как говорил Дон Кихот, и даже
вполовину не так хороша. Устроив ее в конюшне, он вернулся узнать, что ему
прикажет его гость, которого молодые женщины (уже помирившиеся с ним)
освобождали от его доспехов. Они сняли с него латы, нагрудник и наплечники,
но никак не могли освободить ему горло от нашейника, ни снять уродливое
забрало, которое было привязано зелеными шнурками. Приходилось разрезать их,
так как нельзя было развязать узлы, но Дон Кихот никоим образом не
соглашался на это и оставался всю ночь с шлемом на голове; это была самая
смешная и странная фигура, какую только можно представить себе. Когда с него
снимали доспехи, он, вообразив, что делавшие это две уличные женщины --
знатные сеньоры и владелицы замка, сказал им с большой любезностью:
Никогда так не служили
Дамы рыцарям отменно,
Как служили Дон Кихоту,
Когда выехал впервые
Из деревни он: за ним
Девы знатные ходили,
За конем его -- принцессы *,
* Дон Кихот применяет здесь к себе старинный испанский романс
Лансарота.
или за Росинантом, так как это, сеньоры мои, имя моего коня, а мое имя
-- Дон Кихот Ламанчский; но хотя я и не желал открыться вам раньше, чем это
сделали бы подвиги, совершенные мною вам на пользу, и, служа вам,
необходимость приметить к данному случаю старый романс Лансарота была
причиной того, что вы раньше времени узнали мое имя. Однако настанет пора,
когда вы, сеньоры, будете повелевать, а я исполню ваши повеления, и сила
руки моей докажет мое желание служить вам.
Молодые женщины, не привыкшие к таким витиеватым речам, не ответили ни
слова и только спросили его, не желает ли он поесть.
-- Я бы поел чего угодно, -- ответил Дон Кихот, -- потому что, как мне
кажется, я очень в этом нуждаюсь.
Случилось, что в тот день была пятница, и на всем постоялом дворе не
оказалось ничего, кроме порции рыбы, которую в Кастилии называют "аббатиком"
{В Испании все это местные шуточные названия для соленой трески.}, в
Андалузии "баккалавриком", в некоторых местностях "потоками", а в других
"форельчиками". Дон Кихота спросили, не желает ли его милость отведать
"форельчиков", а другой рыбы, которую можно было бы подать ему есть, нет.
-- Так как форельчиков много, -- сказал Дон Кихот, -- они могут сойти
за форель, потому что не все ли равно, дадут ли мне восемь реалов мелкой
монетой или же одну крупную монету в восемь реалов? Тем более что, может
быть, и форельчики нечто вроде телятины, которая вкуснее говядины, или же
вроде мяса молодого козленка, которое вкуснее мяса старого козла. Но будь
что будет, лишь бы мне давали поскорей, так как бремя и тяжесть оружия
нелегко выносить, не удовлетворив требований желудка.
Для прохлады накрыли на стол у дверей постоялого двора, и хозяин принес
порцию плохо вымоченной и еще хуже сваренной рыбы из рода трески и такого же
черного и заплесневелого хлеба, как и доспехи Дон Кихота. Удивительно смешно
было видеть, как он ел, потому что с надетым шлемом и приподнятым забралом
ему неудобно было что-либо класть себе в рот своими руками, если кто другой
не подавал ему, и одна из девиц оказывала ему эту услугу. А напоить его и
было, и осталось бы невозможным, если б хозяин двора не просверлил тростник,
один конец которого он сунул в рот Дон Кихота, а через другой вливал вино.
Рыцарь все это сносил терпеливо, чтобы только избежать необходимости
разрезать шнурки у шлема. Как раз в это время к постоялому двору случайно
подходил холостильщик свиней и, приблизившись, сыграл четыре или пять раз на
своей камышовой свирели. Это окончательно убедило Дон Кихота, что он
находится в рыцарском замке, что за его обедом играет музыка, что поданная
ему треска -- форель, а лежащий перед ним черный хлеб -- булка из лучшей
пшеничной муки, что две уличные женщины -- знатные дамы и что хозяин
постоялого двора -- кастелян замка, и поэтому он считал и свое решение, и
свой выезд вполне удачными. Но больше всего тревожила его мысль, что он еще
не посвящен в рыцари, так как ему казалось, что ему нельзя на законном
основании пуститься в какое бы то ни было приключение, прежде чем он не
вступит в рыцарский орден.

 Удрученный мыслью о том, что он не посвящен в рыцари, Дон Кихот
поспешил покончить со скудным своим ужином, после чего позвал хозяина,
заперся с ним в конюшне и здесь бросился перед ним на колени, говоря: "Ни за
что не встану до тех пор, пока вы, храбрый рыцарь, любезно не соизволите
обещать мне то, о чем я хочу вас просить и что обратится вам в похвалу, а
человеческому роду на пользу".
Хозяин двора, увидав гостя у своих ног и услышав такие речи, был смущен
и смотрел на него с изумлением, не зная, что сказать или что делать, и
настаивал, чтобы он встал, но Дон Кихот ни за что не соглашался, пока
наконец хозяин не объявил, что исполнит то, о чем он просит.
-- Я меньшего и не ждал от великой щедрости вашей, сеньор мой, --
сказал Дон Кихот. -- Знайте же что просьба моя, на которую вы так
великодушно согласились, заключается в том, чтобы вы завтра посвятили меня в
рыцари; эту же ночь я простою на страже при оружии в часовне вашего замка.
Итак, завтра, как я сказал, исполнится мое желание, и мне можно будет, как
надлежит, отправиться искать по всем четырем частям света приключений на
пользу нуждающимся, что и составляет обязанность рыцарства и странствующих
рыцарей, подобных мне, чьи мысли устремлены на такого рода подвиги. Хозяин
двора, который, как сказано, был несколько плутоват и еще раньше подозревал,
что гость его не совсем в здравом рассудке, услыхав от него такие речи,
окончательно убедился в этом и, желая посмеяться, решил согласиться на его
причуду. Итак, он сказал, что рыцарь вполне прав в том, чего желает и
просит, и что намерение его как нельзя более естественно и приличествует
такому знаменитому рыцарю, каким он кажется, и о чем свидетельствует
отважная его наружность. И сам он, хозяин, в молодые годы также занимался
уважаемой рыцарской профессией, скитаясь по разным частям света в поисках за
приключениями, и не упустил случая побывать на Рыбном базаре в Малаге, на
Риоранских островах, в "Компасе" {Квартал в Севилье, где было множество
домов, в которых жили женщины легкого поведения.} Севильи, на площади
водопровода в Сеговии, в оливковой роще в Валенсии, на городском валу в
Гранаде, на побережье Сан-Лукара, на площади Потро в Кордове {Место в
Кордове, получившее свое название от статуи коня над фонтаном. Потро --
по-испански жеребец, молодая лошадь.}, во всех питейных домах Толедо {Все
эти местности были известны в то время как притоны воров и мазуриков.} и в
других тому подобных местах, где он упражнялся в быстроте ног и ловкости
рук, многих сделал кривыми, ласкал немало вдов, соблазнил не одну девушку,
обманул нескольких несовершеннолетних и, наконец, стал известен почти во
всех испанских судебных местах и присутствиях. В конце концов он удалился на
покой в этот свой замок, где живет на свои и чужие средства, принимая у себя
всех странствующих рыцарей, к какому бы званию и положению они ни
принадлежали, единственно из-за великой к ним любви и чтобы они в награду за
доброе его отношение делились с ним своим имуществом. Он сказал ему также,
что в этом его замке нет часовни, в которой рыцарь мог бы стоять на страже
оружия, так как старая часовня сломана, чтобы выстроить новую; но он знает,
что в случае необходимости не возбраняется стоять на страже оружия где бы то
ни было, и этою ночью он может это сделать во дворе замка. Завтра же утром,
если Богу угодно, все нужные церемонии будут выполнены, и он окажется
посвященным рыцарем, и таким рыцарем, что лучшего не может быть на свете.
Хозяин спросил, имеет ли он при себе деньги. Дон Кихот ответил, что не
имеет ни гроша, так как он нигде во всех историях о странствующих рыцарях не
читал, чтобы кто-нибудь из них держал при себе деньги. Хозяин возразил ему,
что он ошибается. Допустив даже, что в рыцарских историях ничего не
упомянуто о деньгах по той простой причине, что авторам этих историй
казалось излишним писать о такой самой по себе ясной и необходимой вещи, как
деньги и чистое белье, -- из этого не следует делать вывод, будто рыцари не
были снабжены и тем, и другим. Итак, пусть он считает достоверным и
бесспорным, что все странствующие рыцари (о которых говорит и
свидетельствует такое множество книг) носили при себе туго набитые кошельки
для непредвиденных случайностей, а также чистые рубашки и коробочки с мазью,
чтобы лечить полученные ими раны. Не всегда же в тех долинах и пустынях, где
они сражались и где им наносили раны, находился у них под рукой кто-нибудь,
кто мог бы их лечить; разве только у них был друг, какой-нибудь мудрый
волшебник, который тотчас же оказывал им помощь, послав на облаке молодую
девушку или карлика со склянкой, наполненной такой целебной водой, что
стоило лишь проглотить несколько капель, и мгновенно заживали все язвы и
раны, как будто никогда ничего и не было. Но не имея такого покровителя,
прежние странствующие рыцари считали необходимостью, чтобы их оруженосцы
были снабжены деньгами и другими полезными вещами, как, например, корпией и
мазью для лечения ран. А когда случалось, что рыцари не имели оруженосцев
(это бывало очень редко), они сами возили все нужное в небольших, почти
незаметных сумочках, прикрепленных сзади к седлу и имевших вид чего-то
другого, более ценного, так как, за исключением подобных случаев, возить с
собой сумки не очень-то было принято у странствующих рыцарей. Итак, он
советует ему (хотя мог бы приказать, как своему крестнику, которым он так
скоро сделается) с этого дня впредь никогда больше не пускаться в путь, не
имея при себе денег и всех вышеупомянутых запасов, и сам он увидит, как они
пригодятся ему тогда, когда он менее всего будет думать об этом.
Дон Кихот обещал в точности исполнить данный ему совет, после чего
сейчас же получил приказание держать стражу над оружием в большом дворе,
примыкавшем к постоялому двору. Он собрал все свои доспехи, положил их на
водопойное корыто, стоявшее близ колодца, и, продев на руку щит, взяв
копье, с изящной осанкой принялся ходить взад и вперед перед колодой.
Когда он начал свою прогулку, стало темнеть.
Хозяин рассказал всем бывшим на постоялом дворе о безумии постояльца, о
его страже над оружием и посвящении в рыцари, которое он ожидал. Все были
изумлены умопомешательством столь необычайного рода, отправились наблюдать
за ним издали и увидели, что он со спокойной осанкой то пройдется взад и
вперед, то остановится, опираясь на копье, и, устремив глаза на оружие,
долгое время не отрывает их от него. Ночь окончательно спустилась на землю,
но луна светила так ярко, что могла бы соперничать с той планетой, от
которой она заимствует свой свет. Таким образом, все, что делал новый
рыцарь, было хорошо видно всем.
Одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, понадобилось
напоить своих мулов и для этого приходилось снять с водопойной колоды
лежавшее на ней оружие Дон Кихота, а он, увидав, что погонщик подходит,
громким голосом сказал ему:
-- О, ты, кто бы ты ни был, дерзкий рыцарь, имеющий намерение
прикоснуться к оружию храбрейшего странствующего рыцаря, который когда-либо
опоясывался мечом, подумай о том, что делаешь, и не касайся оружия, если не
хочешь заплатить жизнью за свою дерзость!
Удрученный мыслью о том, что он не посвящен в рыцари, Дон Кихот
поспешил покончить со скудным своим ужином, после чего позвал хозяина,
заперся с ним в конюшне и здесь бросился перед ним на колени, говоря: "Ни за
что не встану до тех пор, пока вы, храбрый рыцарь, любезно не соизволите
обещать мне то, о чем я хочу вас просить и что обратится вам в похвалу, а
человеческому роду на пользу".
Хозяин двора, увидав гостя у своих ног и услышав такие речи, был смущен
и смотрел на него с изумлением, не зная, что сказать или что делать, и
настаивал, чтобы он встал, но Дон Кихот ни за что не соглашался, пока
наконец хозяин не объявил, что исполнит то, о чем он просит.
-- Я меньшего и не ждал от великой щедрости вашей, сеньор мой, --
сказал Дон Кихот. -- Знайте же что просьба моя, на которую вы так
великодушно согласились, заключается в том, чтобы вы завтра посвятили меня в
рыцари; эту же ночь я простою на страже при оружии в часовне вашего замка.
Итак, завтра, как я сказал, исполнится мое желание, и мне можно будет, как
надлежит, отправиться искать по всем четырем частям света приключений на
пользу нуждающимся, что и составляет обязанность рыцарства и странствующих
рыцарей, подобных мне, чьи мысли устремлены на такого рода подвиги. Хозяин
двора, который, как сказано, был несколько плутоват и еще раньше подозревал,
что гость его не совсем в здравом рассудке, услыхав от него такие речи,
окончательно убедился в этом и, желая посмеяться, решил согласиться на его
причуду. Итак, он сказал, что рыцарь вполне прав в том, чего желает и
просит, и что намерение его как нельзя более естественно и приличествует
такому знаменитому рыцарю, каким он кажется, и о чем свидетельствует
отважная его наружность. И сам он, хозяин, в молодые годы также занимался
уважаемой рыцарской профессией, скитаясь по разным частям света в поисках за
приключениями, и не упустил случая побывать на Рыбном базаре в Малаге, на
Риоранских островах, в "Компасе" {Квартал в Севилье, где было множество
домов, в которых жили женщины легкого поведения.} Севильи, на площади
водопровода в Сеговии, в оливковой роще в Валенсии, на городском валу в
Гранаде, на побережье Сан-Лукара, на площади Потро в Кордове {Место в
Кордове, получившее свое название от статуи коня над фонтаном. Потро --
по-испански жеребец, молодая лошадь.}, во всех питейных домах Толедо {Все
эти местности были известны в то время как притоны воров и мазуриков.} и в
других тому подобных местах, где он упражнялся в быстроте ног и ловкости
рук, многих сделал кривыми, ласкал немало вдов, соблазнил не одну девушку,
обманул нескольких несовершеннолетних и, наконец, стал известен почти во
всех испанских судебных местах и присутствиях. В конце концов он удалился на
покой в этот свой замок, где живет на свои и чужие средства, принимая у себя
всех странствующих рыцарей, к какому бы званию и положению они ни
принадлежали, единственно из-за великой к ним любви и чтобы они в награду за
доброе его отношение делились с ним своим имуществом. Он сказал ему также,
что в этом его замке нет часовни, в которой рыцарь мог бы стоять на страже
оружия, так как старая часовня сломана, чтобы выстроить новую; но он знает,
что в случае необходимости не возбраняется стоять на страже оружия где бы то
ни было, и этою ночью он может это сделать во дворе замка. Завтра же утром,
если Богу угодно, все нужные церемонии будут выполнены, и он окажется
посвященным рыцарем, и таким рыцарем, что лучшего не может быть на свете.
Хозяин спросил, имеет ли он при себе деньги. Дон Кихот ответил, что не
имеет ни гроша, так как он нигде во всех историях о странствующих рыцарях не
читал, чтобы кто-нибудь из них держал при себе деньги. Хозяин возразил ему,
что он ошибается. Допустив даже, что в рыцарских историях ничего не
упомянуто о деньгах по той простой причине, что авторам этих историй
казалось излишним писать о такой самой по себе ясной и необходимой вещи, как
деньги и чистое белье, -- из этого не следует делать вывод, будто рыцари не
были снабжены и тем, и другим. Итак, пусть он считает достоверным и
бесспорным, что все странствующие рыцари (о которых говорит и
свидетельствует такое множество книг) носили при себе туго набитые кошельки
для непредвиденных случайностей, а также чистые рубашки и коробочки с мазью,
чтобы лечить полученные ими раны. Не всегда же в тех долинах и пустынях, где
они сражались и где им наносили раны, находился у них под рукой кто-нибудь,
кто мог бы их лечить; разве только у них был друг, какой-нибудь мудрый
волшебник, который тотчас же оказывал им помощь, послав на облаке молодую
девушку или карлика со склянкой, наполненной такой целебной водой, что
стоило лишь проглотить несколько капель, и мгновенно заживали все язвы и
раны, как будто никогда ничего и не было. Но не имея такого покровителя,
прежние странствующие рыцари считали необходимостью, чтобы их оруженосцы
были снабжены деньгами и другими полезными вещами, как, например, корпией и
мазью для лечения ран. А когда случалось, что рыцари не имели оруженосцев
(это бывало очень редко), они сами возили все нужное в небольших, почти
незаметных сумочках, прикрепленных сзади к седлу и имевших вид чего-то
другого, более ценного, так как, за исключением подобных случаев, возить с
собой сумки не очень-то было принято у странствующих рыцарей. Итак, он
советует ему (хотя мог бы приказать, как своему крестнику, которым он так
скоро сделается) с этого дня впредь никогда больше не пускаться в путь, не
имея при себе денег и всех вышеупомянутых запасов, и сам он увидит, как они
пригодятся ему тогда, когда он менее всего будет думать об этом.
Дон Кихот обещал в точности исполнить данный ему совет, после чего
сейчас же получил приказание держать стражу над оружием в большом дворе,
примыкавшем к постоялому двору. Он собрал все свои доспехи, положил их на
водопойное корыто, стоявшее близ колодца, и, продев на руку щит, взяв
копье, с изящной осанкой принялся ходить взад и вперед перед колодой.
Когда он начал свою прогулку, стало темнеть.
Хозяин рассказал всем бывшим на постоялом дворе о безумии постояльца, о
его страже над оружием и посвящении в рыцари, которое он ожидал. Все были
изумлены умопомешательством столь необычайного рода, отправились наблюдать
за ним издали и увидели, что он со спокойной осанкой то пройдется взад и
вперед, то остановится, опираясь на копье, и, устремив глаза на оружие,
долгое время не отрывает их от него. Ночь окончательно спустилась на землю,
но луна светила так ярко, что могла бы соперничать с той планетой, от
которой она заимствует свой свет. Таким образом, все, что делал новый
рыцарь, было хорошо видно всем.
Одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, понадобилось
напоить своих мулов и для этого приходилось снять с водопойной колоды
лежавшее на ней оружие Дон Кихота, а он, увидав, что погонщик подходит,
громким голосом сказал ему:
-- О, ты, кто бы ты ни был, дерзкий рыцарь, имеющий намерение
прикоснуться к оружию храбрейшего странствующего рыцаря, который когда-либо
опоясывался мечом, подумай о том, что делаешь, и не касайся оружия, если не
хочешь заплатить жизнью за свою дерзость!
 Но погонщик мулов не обратил внимания на эти слова (а было бы лучше,
если бы он обратил, потому что это значило обратить внимание на свою
безопасность) и, схватив за ремни доспехи, далеко отшвырнул их от себя.
Увидев это, Дон Кихот поднял глаза к небу и, устремив мысли (как казалось) к
своей сеньоре Дульсинее, воскликнул:
-- Помогите мне, моя сеньора, в этой первой обиде, обрушившейся на
покоренное вами сердце! Не лишайте меня в этой первой опасности своей опоры
и своего покровительства!
Говоря эти и другие подобные слова, Дон Кихот бросил свой щит,
приподнял обеими руками копье и, ударив им со всей силы по голове погонщика
мулов, свалил его на землю в столь плачевном состоянии, что, если бы
последовал второй удар, ему не понадобился бы доктор, чтобы лечить его.
Сделав это, Дон Кихот собрал свои доспехи и снова стал прогуливаться так же
спокойно, как и до того. Немного спустя, ничего не зная о случившемся (так
как ошеломленный ударом погонщик лежал еще в беспамятстве), подошел другой
погонщик с тем же намерением напоить своих мулов. Только что он сбросил с
водопойной колоды доспехи, как Дон Кихот, не говоря ни слова и не призывая
никого на помощь, опять откинул щит, схватил обеими руками копье и нанес им
такой сильный удар по голове погонщика, что не копье сломалось, а голова
второго погонщика раскололась не на три, а на целых четыре части. На шум
сбежался весь народ, бывший на постоялом дворе, и среди них и хозяин. Увидав
это, Дон Кихот схватил щит и, обнажив меч, сказал:
-- О королева красоты, опора и сила моего ослабевшего сердца, теперь
настало время обратить очи твоего величия на плененного тобою рыцаря,
которому предстоит столь великое приключение!
Слова эти, как ему казалось, влили в него такую отвагу, что, если б
погонщики всего света напали на него, он не отступил бы ни на шаг. Товарищи
раненых, увидав их в столь плохом состоянии, стали издали осыпать градом
камней Дон Кихота, который, сколько мог, прикрывался щитом, не решаясь
отойти от водопойной колоды, чтобы доспехи не оставить без защиты. Хозяин
постоялого двора кричал, прося не трогать его, потому что он уже им говорил,
что это сумасшедший и в качестве сумасшедшего он будет выпущен на свободу,
хотя бы убил их всех. А Дон Кихот, со своей стороны, кричал еще громче,
называл их трусами и изменниками, а владельца замка низким и бесчестным
рыцарем, потому что с его согласия здесь так нагло обращаются со
странствующими рыцарями, и что если бы он уже был посвящен в рыцари, то
проучил бы его за его предательство.
-- Что же касается вас, низкая и грязная сволочь, вы для меня ничего не
значите. Стреляйте, бросайтесь на меня, оскорбляйте, сколько у вас хватит
сил, и увидите, какую получите награду за свою дерзость и глупость!
Он проговорил все это с таким пылом и такой отвагой, что вызвал сильный
страх в тех, которые на него нападали. И отчасти от этого, отчасти и
вследствие уговоров хозяина они перестали бросать в него каменьями, а он, со
своей стороны, позволив им убрать раненых, снова стал на страже оружия с
таким же спокойствием и хладнокровием, как и раньше.
Но хозяину постоялого двора не понравились эти шутки его постояльца, и
он решил сократить срок и тотчас же посвятить его в проклятый рыцарский
орден, прежде чем случится другое несчастие. Итак, подойдя к Дон Кихоту, он
оправдался, говоря, что дерзкий поступок низких этих людей был совершен без
его ведома, но что они были хорошо наказаны за свою самонадеянность. Он
сказал ему, как уже и раньше говорил, что в замке нет часовни, но для того,
что им еще предстоит сделать, она и не нужна. Ведь вся суть церемониала
посвящения в рыцари -- насколько у него об этом имеются сведения --
заключается в двух ударах мечом, один по затылку, другой по плечу, а это
может быть совершено хотя бы среди поля. Что же касается стражи над оружием,
он исполнил уже все, что следует, тем более что требуется всего два часа, а
он простоял целых четыре.
Дон Кихот поверил всему этому и сказал, что готов подчиниться ему во
всем и чтобы он кончал все как можно скорее, потому что, если еще раз на
него нападут, после того как он будет посвящен в рыцари, он решил не
оставить никого в живых в замке, исключая тех, кого укажет ему владелец
замка, из уважения к которому он их и пощадит.
Предупрежденный и испуганный этими словами кастелян тотчас же принес
книгу, в которую он вносил записи о ячмене и соломе, выдаваемых им
погонщикам мулов, и в сопровождении мальчика, несшего за ним огарок свечи, и
двух уже упомянутых девушек он подошел туда, где стоял Дон Кихот, велел ему
опуститься на колени и, читая из своей книги, как бы произнося набожную
молитву, среди чтения поднял руку и сильно ударил ею Дон Кихота но шее,
после чего нанес ему собственным его мечом увесистый удар по плечу,
продолжая что-то бормотать сквозь зубы, точно молясь. Сделав это, он
приказал одной из дам опоясать нового рыцаря мечом, что она и исполнила с
большой ловкостью и благоразумием, потому что требовалась не малая доля его,
чтоб удержаться от громкого взрыва смеха во время церемоний посвящения; но
подвиги, совершенные на глазах у всех новопосвященным рыцарем, сдержали
душивший их хохот.
Опоясывая Дон Кихота мечом, добрая сеньора сказала:
-- Дай бог счастья вашей милости и победу в сражениях.
Дон Кихот спросил, как ее зовут, чтоб отныне и впредь он знал, кому он
обязан оказанной ему услугой, потому что он намерен уделить и ей долю той
славы, которую он добудет мужественной рукой своей. Она ответила с большим
смирением, что ее зовут Ла Толоса и что она дочь чеботаря, уроженца Толедо,
живущего вблизи лавок Санчо Бьеная, и что, где бы она ни была, она всегда
готова служить ему и считать его своим сеньором. В ответ Дон Кихот просил ее
из расположения к нему, сделать ему милость присвоить себе титул "донья" {В
Испании частица "дон" -- титул дворян, а "донья" -- титул испанских дам.
Сервантес осмеивает здесь столь распространенную в его время страсть к
добавлению этих "дон" и "донья".} и называться "доньей Толосой", что она и
обещала сделать. Вторая дама прикрепила Дон Кихоту шпоры, и у нее с ним
произошел почти такой же разговор, как и с той, которая опоясала его мечом.
На вопрос, как ее зовут, она ответила, что зовут ее Ла Молинера и что она
дочь почтенного мельника из Антекера. Дон Кихот также и ее просил присвоить
себе титул "донья", предлагая и ей всякие свои услуги и милости.
Как только эти никогда еще не виданные церемонии посвящения были быстро
и поспешно окончены, Дон Кихот решил поскорей сесть на коня и отправиться в
поиски за приключениями. И, оседлав тотчас Росинанта, он сел на него, и,
обняв хозяина, наговорил ему столько удивительных вещей, благодаря его за
посвящение в рыцари, что передать их в точности невозможно. Хозяин, желавший
только одного, чтобы он поскорее уехал с постоялого двора, ответил ему в том
же выспреннем тоне, но более кратко и, не требуя от него платы за ночлег,
отпустил его с богом.
Но погонщик мулов не обратил внимания на эти слова (а было бы лучше,
если бы он обратил, потому что это значило обратить внимание на свою
безопасность) и, схватив за ремни доспехи, далеко отшвырнул их от себя.
Увидев это, Дон Кихот поднял глаза к небу и, устремив мысли (как казалось) к
своей сеньоре Дульсинее, воскликнул:
-- Помогите мне, моя сеньора, в этой первой обиде, обрушившейся на
покоренное вами сердце! Не лишайте меня в этой первой опасности своей опоры
и своего покровительства!
Говоря эти и другие подобные слова, Дон Кихот бросил свой щит,
приподнял обеими руками копье и, ударив им со всей силы по голове погонщика
мулов, свалил его на землю в столь плачевном состоянии, что, если бы
последовал второй удар, ему не понадобился бы доктор, чтобы лечить его.
Сделав это, Дон Кихот собрал свои доспехи и снова стал прогуливаться так же
спокойно, как и до того. Немного спустя, ничего не зная о случившемся (так
как ошеломленный ударом погонщик лежал еще в беспамятстве), подошел другой
погонщик с тем же намерением напоить своих мулов. Только что он сбросил с
водопойной колоды доспехи, как Дон Кихот, не говоря ни слова и не призывая
никого на помощь, опять откинул щит, схватил обеими руками копье и нанес им
такой сильный удар по голове погонщика, что не копье сломалось, а голова
второго погонщика раскололась не на три, а на целых четыре части. На шум
сбежался весь народ, бывший на постоялом дворе, и среди них и хозяин. Увидав
это, Дон Кихот схватил щит и, обнажив меч, сказал:
-- О королева красоты, опора и сила моего ослабевшего сердца, теперь
настало время обратить очи твоего величия на плененного тобою рыцаря,
которому предстоит столь великое приключение!
Слова эти, как ему казалось, влили в него такую отвагу, что, если б
погонщики всего света напали на него, он не отступил бы ни на шаг. Товарищи
раненых, увидав их в столь плохом состоянии, стали издали осыпать градом
камней Дон Кихота, который, сколько мог, прикрывался щитом, не решаясь
отойти от водопойной колоды, чтобы доспехи не оставить без защиты. Хозяин
постоялого двора кричал, прося не трогать его, потому что он уже им говорил,
что это сумасшедший и в качестве сумасшедшего он будет выпущен на свободу,
хотя бы убил их всех. А Дон Кихот, со своей стороны, кричал еще громче,
называл их трусами и изменниками, а владельца замка низким и бесчестным
рыцарем, потому что с его согласия здесь так нагло обращаются со
странствующими рыцарями, и что если бы он уже был посвящен в рыцари, то
проучил бы его за его предательство.
-- Что же касается вас, низкая и грязная сволочь, вы для меня ничего не
значите. Стреляйте, бросайтесь на меня, оскорбляйте, сколько у вас хватит
сил, и увидите, какую получите награду за свою дерзость и глупость!
Он проговорил все это с таким пылом и такой отвагой, что вызвал сильный
страх в тех, которые на него нападали. И отчасти от этого, отчасти и
вследствие уговоров хозяина они перестали бросать в него каменьями, а он, со
своей стороны, позволив им убрать раненых, снова стал на страже оружия с
таким же спокойствием и хладнокровием, как и раньше.
Но хозяину постоялого двора не понравились эти шутки его постояльца, и
он решил сократить срок и тотчас же посвятить его в проклятый рыцарский
орден, прежде чем случится другое несчастие. Итак, подойдя к Дон Кихоту, он
оправдался, говоря, что дерзкий поступок низких этих людей был совершен без
его ведома, но что они были хорошо наказаны за свою самонадеянность. Он
сказал ему, как уже и раньше говорил, что в замке нет часовни, но для того,
что им еще предстоит сделать, она и не нужна. Ведь вся суть церемониала
посвящения в рыцари -- насколько у него об этом имеются сведения --
заключается в двух ударах мечом, один по затылку, другой по плечу, а это
может быть совершено хотя бы среди поля. Что же касается стражи над оружием,
он исполнил уже все, что следует, тем более что требуется всего два часа, а
он простоял целых четыре.
Дон Кихот поверил всему этому и сказал, что готов подчиниться ему во
всем и чтобы он кончал все как можно скорее, потому что, если еще раз на
него нападут, после того как он будет посвящен в рыцари, он решил не
оставить никого в живых в замке, исключая тех, кого укажет ему владелец
замка, из уважения к которому он их и пощадит.
Предупрежденный и испуганный этими словами кастелян тотчас же принес
книгу, в которую он вносил записи о ячмене и соломе, выдаваемых им
погонщикам мулов, и в сопровождении мальчика, несшего за ним огарок свечи, и
двух уже упомянутых девушек он подошел туда, где стоял Дон Кихот, велел ему
опуститься на колени и, читая из своей книги, как бы произнося набожную
молитву, среди чтения поднял руку и сильно ударил ею Дон Кихота но шее,
после чего нанес ему собственным его мечом увесистый удар по плечу,
продолжая что-то бормотать сквозь зубы, точно молясь. Сделав это, он
приказал одной из дам опоясать нового рыцаря мечом, что она и исполнила с
большой ловкостью и благоразумием, потому что требовалась не малая доля его,
чтоб удержаться от громкого взрыва смеха во время церемоний посвящения; но
подвиги, совершенные на глазах у всех новопосвященным рыцарем, сдержали
душивший их хохот.
Опоясывая Дон Кихота мечом, добрая сеньора сказала:
-- Дай бог счастья вашей милости и победу в сражениях.
Дон Кихот спросил, как ее зовут, чтоб отныне и впредь он знал, кому он
обязан оказанной ему услугой, потому что он намерен уделить и ей долю той
славы, которую он добудет мужественной рукой своей. Она ответила с большим
смирением, что ее зовут Ла Толоса и что она дочь чеботаря, уроженца Толедо,
живущего вблизи лавок Санчо Бьеная, и что, где бы она ни была, она всегда
готова служить ему и считать его своим сеньором. В ответ Дон Кихот просил ее
из расположения к нему, сделать ему милость присвоить себе титул "донья" {В
Испании частица "дон" -- титул дворян, а "донья" -- титул испанских дам.
Сервантес осмеивает здесь столь распространенную в его время страсть к
добавлению этих "дон" и "донья".} и называться "доньей Толосой", что она и
обещала сделать. Вторая дама прикрепила Дон Кихоту шпоры, и у нее с ним
произошел почти такой же разговор, как и с той, которая опоясала его мечом.
На вопрос, как ее зовут, она ответила, что зовут ее Ла Молинера и что она
дочь почтенного мельника из Антекера. Дон Кихот также и ее просил присвоить
себе титул "донья", предлагая и ей всякие свои услуги и милости.
Как только эти никогда еще не виданные церемонии посвящения были быстро
и поспешно окончены, Дон Кихот решил поскорей сесть на коня и отправиться в
поиски за приключениями. И, оседлав тотчас Росинанта, он сел на него, и,
обняв хозяина, наговорил ему столько удивительных вещей, благодаря его за
посвящение в рыцари, что передать их в точности невозможно. Хозяин, желавший
только одного, чтобы он поскорее уехал с постоялого двора, ответил ему в том
же выспреннем тоне, но более кратко и, не требуя от него платы за ночлег,
отпустил его с богом.

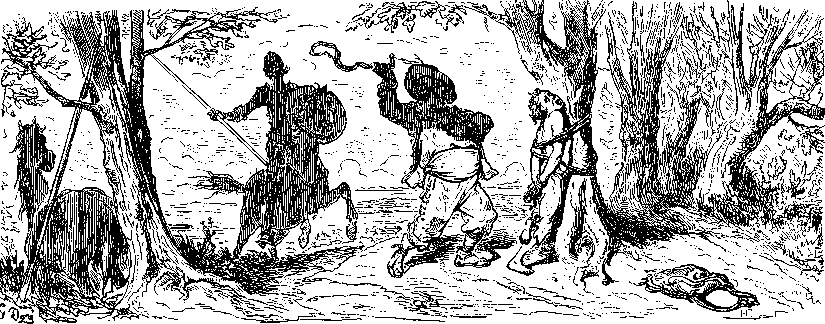 Начинало рассветать, когда Дон Кихот выехал с постоялого двора,
довольный, веселый и в таком восторге от мысли, что теперь он посвящен в
рыцари, что радость его чуть не брызгала из подпруги его лошади. Но,
вспомнив советы хозяина относительно столь необходимых для него запасов,
особенно денег и рубашек, он решил вернуться домой -- запастись всем этим, а
также и приискать себе оруженосца, рассчитывая на одного крестьянина, своего
соседа, человека бедного и обремененного семьей, но очень подходящего для
исполнения обязанностей оруженосца при странствующем рыцаре. С этой мыслью
он повернул на дорогу к себе в деревню Росинанта, который, как бы угадав, в
чем дело, быстро пустился бежать, точно его ноги не касались земли.
Недалеко отъехал Дон Кихот, как вдруг ему почудилось, что направо, из
чащи леса, бывшего вблизи, раздаются жалобные стоны, и он, едва заслышав их,
воскликнул: "Благодарю небо за милость, которую оно мне оказывает,
предоставляя мне так скоро случай исполнить обязанности моего звания и
пожать плоды добрых моих намерений. Эти крики, без сомнения, исходят от
несчастного или несчастной, нуждающихся в моей помощи и защите". И, дернув
за поводья Росинанта, он повернул его к тому месту, откуда, как ему
казалось, раздаются стоны. Не успел он въехать в лес, как на расстоянии
нескольких шагов увидел кобылу, привязанную к дубу, а к другому дубу был
привязан оголенный от пояса вверх мальчик лет пятнадцати, который кричал, --
и не без причины, потому что дюжий крестьянин нещадно бил его ремнем с
пряжкой. Каждый удар он сопровождал выговором и советом, говоря: "Держи язык
на привязи и смотри в оба".
И мальчик отвечал: "Не сделаю этого в другой раз, сеньор мой, клянусь
страстями Господними, не сделаю этого в другой раз, и обещаю отныне и впредь
хорошенько смотреть за стадом!".
Увидав то, что происходит, Дон Кихот гневным голосом воскликнул:
-- Недостойный рыцарь, не пристало вам нападать на того, кто не может
защищаться! Садитесь сейчас на своего коня, берите копье (так как у
крестьянина также оказалось копье, прислоненное к дубу, к которому привязана
была кобыла), и я докажу вам, что одни лишь трусы могут так поступать, как
вы.
При виде этой вооруженной с ног до головы фигуры, которая махала копьем
над его головой, крестьянин счел себя погибшим, и ответил ему по-хорошему:
-- Сеньор рыцарь, мальчик, которого я наказываю, мой слуга и пасет
стадо овец в этой местности. Но он так неисправен, что каждый день теряет по
овце. А когда я его наказываю за его небрежность и плутовство, он говорит,
что я это делаю из скупости, чтобы не заплатить жалованье, которое я ему
должен. Но клянусь Богом и душой, он лжет!
-- Лжет в моем присутствии, гнусный негодяй?! -- крикнул Дон Кихот. --
Клянусь солнцем, которое нам светит, я готов вас проколоть насквозь этим
копьем. Заплатите ему тотчас без всякого возражения, а нет -- клянусь Богом,
который правит нами, -- я тут же покончу с вами и мгновенно уничтожу вас.
Сейчас же отвяжите мальчика!
Крестьянин опустил голову и, не отвечая ни слова, отвязал своего слугу,
у которого Дон Кихот спросил, сколько хозяин должен ему. Мальчик сказал, что
он ему должен жалованье за девять месяцев по семи реалов {Real -- монета в
25 сантимов, или четверть франка.} в месяц.
Дон Кихот сосчитал, сколько это составит, и вышло шестьдесят три реала.
Тогда он сказал крестьянину, чтобы тот немедленно раскошелился, если не
хочет проститься с жизнью.
Трусливый крестьянин стал божиться местом, на котором он стоит, и
данной им клятвой (хотя он никакой клятвы не давал), что он меньше должен,
потому что следует вычесть и принять в расчет три пары башмаков, которые он
дал своему слуге, и один реал за два кровопускания, когда он был болен.
-- Все это хорошо, -- ответил Дон Кихот, -- но башмаки и кровопускание
пусть идут в счет за удары, которые вы без его вины нанесли ему; так как,
если он изорвал кожу башмаков, которые вы ему дали, вы изорвали ему кожу
тела; и если цирюльник пустил ему кровь, когда он был болен, вы пустили ему
кровь, когда он здоров. Итак, с этой стороны он ничего вам не должен.
-- К несчастью, сеньор рыцарь, -- ответил крестьянин, -- у меня нет
денег при себе. Пусть Андрес идет со мной, и я дома уплачу ему весь долг до
последнего реала.
-- Идти с ним! -- воскликнул мальчик. -- Боже сохрани! Нет, сеньор, ни
за что на свете, потому что если я останусь с ним глаз на глаз, он сдерет с
меня кожу, как со святого Варфоломея.
-- Этого он не сделает, -- ответил Дон Кихот. -- Довольно, что я
приказываю ему, чтобы он послушался, и, если он мне поклянется в том
рыцарским орденом, к которому он принадлежит, я отпущу его на свободу и
поручусь за уплату им долга.
-- Обратите внимание, ваша милость, сеньор, на то, что вы говорите, --
сказал мальчик, -- так как этот мой хозяин не рыцарь и не принадлежит ни к
какому рыцарскому ордену. Он Хуан Альдудо, богач, и живет в Кинтанаре.
-- Это неважно, -- ответил Дон Кихот, -- и Альдудосы могут быть
рыцарями, тем более что всякий -- сын своих дел.
-- Совершенно верно, -- согласился Андрес, -- но этот мой хозяин сын
каких же дел, если он отказывается платить мне жалованье за работу в поте
лица?
-- Я не отказываюсь, брат Андрес,-- сказал крестьянин, -- сделайте мне
удовольствие, пойдемте со мной, и я клянусь всеми рыцарскими орденами,
которые существуют на свете, что уплачу вам до последнего реала, да еще
деньгами, опрысканными духами.
Начинало рассветать, когда Дон Кихот выехал с постоялого двора,
довольный, веселый и в таком восторге от мысли, что теперь он посвящен в
рыцари, что радость его чуть не брызгала из подпруги его лошади. Но,
вспомнив советы хозяина относительно столь необходимых для него запасов,
особенно денег и рубашек, он решил вернуться домой -- запастись всем этим, а
также и приискать себе оруженосца, рассчитывая на одного крестьянина, своего
соседа, человека бедного и обремененного семьей, но очень подходящего для
исполнения обязанностей оруженосца при странствующем рыцаре. С этой мыслью
он повернул на дорогу к себе в деревню Росинанта, который, как бы угадав, в
чем дело, быстро пустился бежать, точно его ноги не касались земли.
Недалеко отъехал Дон Кихот, как вдруг ему почудилось, что направо, из
чащи леса, бывшего вблизи, раздаются жалобные стоны, и он, едва заслышав их,
воскликнул: "Благодарю небо за милость, которую оно мне оказывает,
предоставляя мне так скоро случай исполнить обязанности моего звания и
пожать плоды добрых моих намерений. Эти крики, без сомнения, исходят от
несчастного или несчастной, нуждающихся в моей помощи и защите". И, дернув
за поводья Росинанта, он повернул его к тому месту, откуда, как ему
казалось, раздаются стоны. Не успел он въехать в лес, как на расстоянии
нескольких шагов увидел кобылу, привязанную к дубу, а к другому дубу был
привязан оголенный от пояса вверх мальчик лет пятнадцати, который кричал, --
и не без причины, потому что дюжий крестьянин нещадно бил его ремнем с
пряжкой. Каждый удар он сопровождал выговором и советом, говоря: "Держи язык
на привязи и смотри в оба".
И мальчик отвечал: "Не сделаю этого в другой раз, сеньор мой, клянусь
страстями Господними, не сделаю этого в другой раз, и обещаю отныне и впредь
хорошенько смотреть за стадом!".
Увидав то, что происходит, Дон Кихот гневным голосом воскликнул:
-- Недостойный рыцарь, не пристало вам нападать на того, кто не может
защищаться! Садитесь сейчас на своего коня, берите копье (так как у
крестьянина также оказалось копье, прислоненное к дубу, к которому привязана
была кобыла), и я докажу вам, что одни лишь трусы могут так поступать, как
вы.
При виде этой вооруженной с ног до головы фигуры, которая махала копьем
над его головой, крестьянин счел себя погибшим, и ответил ему по-хорошему:
-- Сеньор рыцарь, мальчик, которого я наказываю, мой слуга и пасет
стадо овец в этой местности. Но он так неисправен, что каждый день теряет по
овце. А когда я его наказываю за его небрежность и плутовство, он говорит,
что я это делаю из скупости, чтобы не заплатить жалованье, которое я ему
должен. Но клянусь Богом и душой, он лжет!
-- Лжет в моем присутствии, гнусный негодяй?! -- крикнул Дон Кихот. --
Клянусь солнцем, которое нам светит, я готов вас проколоть насквозь этим
копьем. Заплатите ему тотчас без всякого возражения, а нет -- клянусь Богом,
который правит нами, -- я тут же покончу с вами и мгновенно уничтожу вас.
Сейчас же отвяжите мальчика!
Крестьянин опустил голову и, не отвечая ни слова, отвязал своего слугу,
у которого Дон Кихот спросил, сколько хозяин должен ему. Мальчик сказал, что
он ему должен жалованье за девять месяцев по семи реалов {Real -- монета в
25 сантимов, или четверть франка.} в месяц.
Дон Кихот сосчитал, сколько это составит, и вышло шестьдесят три реала.
Тогда он сказал крестьянину, чтобы тот немедленно раскошелился, если не
хочет проститься с жизнью.
Трусливый крестьянин стал божиться местом, на котором он стоит, и
данной им клятвой (хотя он никакой клятвы не давал), что он меньше должен,
потому что следует вычесть и принять в расчет три пары башмаков, которые он
дал своему слуге, и один реал за два кровопускания, когда он был болен.
-- Все это хорошо, -- ответил Дон Кихот, -- но башмаки и кровопускание
пусть идут в счет за удары, которые вы без его вины нанесли ему; так как,
если он изорвал кожу башмаков, которые вы ему дали, вы изорвали ему кожу
тела; и если цирюльник пустил ему кровь, когда он был болен, вы пустили ему
кровь, когда он здоров. Итак, с этой стороны он ничего вам не должен.
-- К несчастью, сеньор рыцарь, -- ответил крестьянин, -- у меня нет
денег при себе. Пусть Андрес идет со мной, и я дома уплачу ему весь долг до
последнего реала.
-- Идти с ним! -- воскликнул мальчик. -- Боже сохрани! Нет, сеньор, ни
за что на свете, потому что если я останусь с ним глаз на глаз, он сдерет с
меня кожу, как со святого Варфоломея.
-- Этого он не сделает, -- ответил Дон Кихот. -- Довольно, что я
приказываю ему, чтобы он послушался, и, если он мне поклянется в том
рыцарским орденом, к которому он принадлежит, я отпущу его на свободу и
поручусь за уплату им долга.
-- Обратите внимание, ваша милость, сеньор, на то, что вы говорите, --
сказал мальчик, -- так как этот мой хозяин не рыцарь и не принадлежит ни к
какому рыцарскому ордену. Он Хуан Альдудо, богач, и живет в Кинтанаре.
-- Это неважно, -- ответил Дон Кихот, -- и Альдудосы могут быть
рыцарями, тем более что всякий -- сын своих дел.
-- Совершенно верно, -- согласился Андрес, -- но этот мой хозяин сын
каких же дел, если он отказывается платить мне жалованье за работу в поте
лица?
-- Я не отказываюсь, брат Андрес,-- сказал крестьянин, -- сделайте мне
удовольствие, пойдемте со мной, и я клянусь всеми рыцарскими орденами,
которые существуют на свете, что уплачу вам до последнего реала, да еще
деньгами, опрысканными духами.
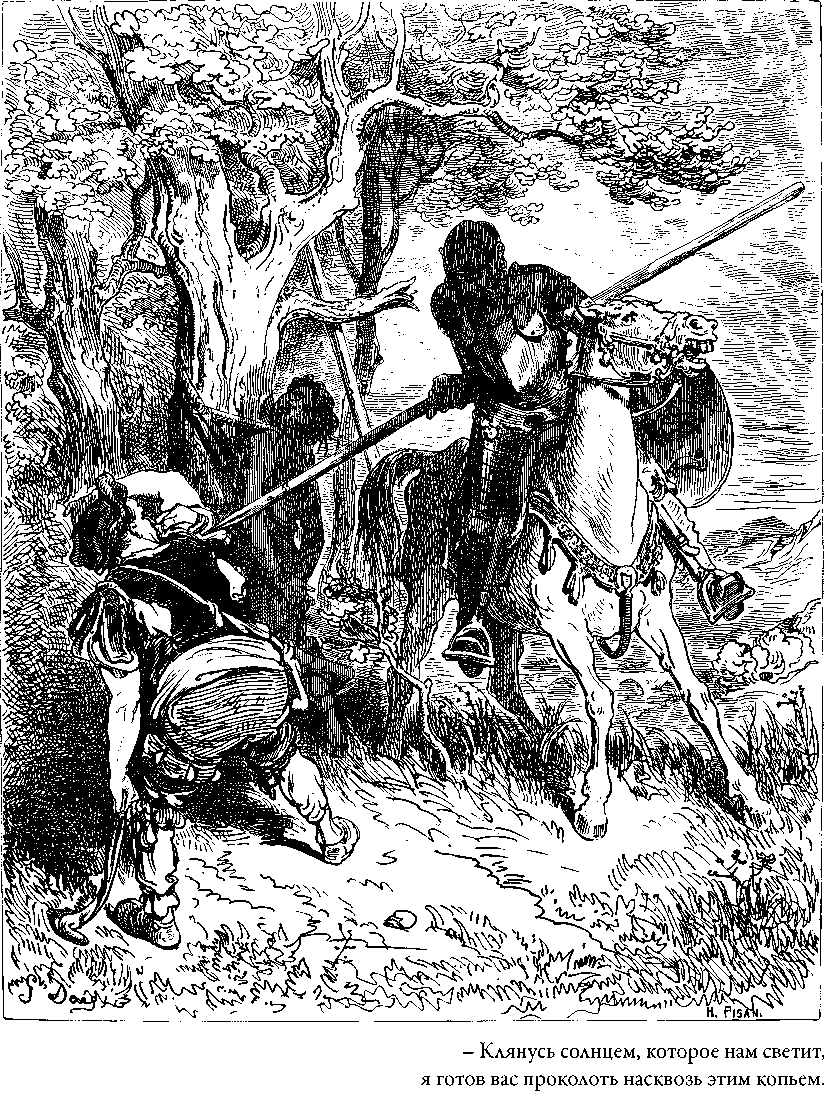 -- От опрыскивания духами освобождаю вас, -- сказал Дон Кихот, --
уплатите ему свой долг простыми реалами, этим я удовлетворюсь. Но смотрите,
исполните то, в чем клялись, а если нет, той же клятвой клянусь вам, что
разыщу и накажу вас и что найду вас, хотя бы вы скрывались лучше ящерицы. И
если вы желаете знать, кто вам приказывает это, -- чтобы еще более усилить
обязательство, принятое вами на себя, -- знайте, что я -- доблестный Дон
Кихот Ламанчский, защитник угнетенных и мститель за обиженных. Прощайте и не
забывайте того, что вы обещали и в чем клялись, под страхом объявленного вам
наказания.
С этими словами Дон Кихот пришпорил Росинанта и быстро исчез из глаз
присутствующих. Крестьянин смотрел ему вслед, и, когда он убедился, что
рыцарь выехал из леса и его больше не видать, он подошел к своему слуге,
Андресу, и сказал:
-- Ступайте-ка сюда, сын мой, я желаю уплатить вам все, что должен, как
тот защитник угнетенных мне приказывал.
-- Клянусь, -- ответил Андрес, -- вы хорошо сделаете, если исполните
приказание того доброго рыцаря, -- да здравствует он тысячу лет, столь
честный и справедливый судья! Но -- клянусь святым Роком! -- если вы не
заплатите мне, он вернется и сделает то, что сказал.
-- И я клянусь в том же, -- ответил крестьянин, -- однако из сильной к
вам любви желаю увеличить долг, чтобы увеличить и платеж.
С этими словами он схватил мальчика за руку, привязал его опять к дубу
и избил до полусмерти.
-- Зовите теперь, сеньор Андрес,-- сказал крестьянин, -- защитника
угнетенных, и посмотрим, как он возместит вам за эту обиду, хотя мне
думается, что я еще не довел ее до конца, так как чувствую желание содрать с
вас с живого кожу, как вы опасались.
Но наконец он отвязал его и предоставил ему свободу идти отыскивать
справедливого судью, чтобы тот привел в исполнение свой приговор.
Андрес ушел рассерженный, давая клятву разыскать храброго Дон Кихота
Ламанчского и рассказать ему в точности, что произошло, чтобы он отплатил за
все это семикратно. Тем не менее мальчик шел весь в слезах, а хозяин смеялся
ему вслед.
Вот каким образом защитил угнетенного доблестный Дон Кихот, который был
в восторге от случившегося, так как считал, что положил этим счастливое и
достойное начало своим рыцарским подвигам, и, очень довольный собой, ехал,
направляясь к себе в деревню, говоря вполголоса: "Ты действительно можешь
назвать себя счастливейшей из всех живущих теперь на земле или из всех
красавиц, прекрасная Дульсинея Тобосская, потому что тебе выпало на долю
держать в подчинении и покорности твоей воле и твоим желаниям столь храброго
и знаменитого рыцаря, каким есть и будет Дон Кихот Ламанчский. Он (как всем
известно) вчера лишь был посвящен в рыцари, а сегодня уже воздал должное за
самую великую обиду и оскорбление, какие могла изобрести несправедливость и
совершить жестокость. Сегодня он вырвал плеть из рук бездушного врага,
который так беспричинно истязал слабого ребенка".
В это время Дон Кихот подъехал к месту, где дорога расходилась на
четыре стороны, и тотчас же он вспомнил о перекрестках, на которых
странствующие рыцари обыкновенно останавливались, раздумывая, какую из дорог
им выбрать. Чтобы последовать их примеру, он тоже остановился на мгновение
и, после того как хорошенько подумал, отпустил поводья Росинанта и подчинил
свою волю воле коня, который не изменил своему первоначальному намерению и
направился к своей конюшне.
-- От опрыскивания духами освобождаю вас, -- сказал Дон Кихот, --
уплатите ему свой долг простыми реалами, этим я удовлетворюсь. Но смотрите,
исполните то, в чем клялись, а если нет, той же клятвой клянусь вам, что
разыщу и накажу вас и что найду вас, хотя бы вы скрывались лучше ящерицы. И
если вы желаете знать, кто вам приказывает это, -- чтобы еще более усилить
обязательство, принятое вами на себя, -- знайте, что я -- доблестный Дон
Кихот Ламанчский, защитник угнетенных и мститель за обиженных. Прощайте и не
забывайте того, что вы обещали и в чем клялись, под страхом объявленного вам
наказания.
С этими словами Дон Кихот пришпорил Росинанта и быстро исчез из глаз
присутствующих. Крестьянин смотрел ему вслед, и, когда он убедился, что
рыцарь выехал из леса и его больше не видать, он подошел к своему слуге,
Андресу, и сказал:
-- Ступайте-ка сюда, сын мой, я желаю уплатить вам все, что должен, как
тот защитник угнетенных мне приказывал.
-- Клянусь, -- ответил Андрес, -- вы хорошо сделаете, если исполните
приказание того доброго рыцаря, -- да здравствует он тысячу лет, столь
честный и справедливый судья! Но -- клянусь святым Роком! -- если вы не
заплатите мне, он вернется и сделает то, что сказал.
-- И я клянусь в том же, -- ответил крестьянин, -- однако из сильной к
вам любви желаю увеличить долг, чтобы увеличить и платеж.
С этими словами он схватил мальчика за руку, привязал его опять к дубу
и избил до полусмерти.
-- Зовите теперь, сеньор Андрес,-- сказал крестьянин, -- защитника
угнетенных, и посмотрим, как он возместит вам за эту обиду, хотя мне
думается, что я еще не довел ее до конца, так как чувствую желание содрать с
вас с живого кожу, как вы опасались.
Но наконец он отвязал его и предоставил ему свободу идти отыскивать
справедливого судью, чтобы тот привел в исполнение свой приговор.
Андрес ушел рассерженный, давая клятву разыскать храброго Дон Кихота
Ламанчского и рассказать ему в точности, что произошло, чтобы он отплатил за
все это семикратно. Тем не менее мальчик шел весь в слезах, а хозяин смеялся
ему вслед.
Вот каким образом защитил угнетенного доблестный Дон Кихот, который был
в восторге от случившегося, так как считал, что положил этим счастливое и
достойное начало своим рыцарским подвигам, и, очень довольный собой, ехал,
направляясь к себе в деревню, говоря вполголоса: "Ты действительно можешь
назвать себя счастливейшей из всех живущих теперь на земле или из всех
красавиц, прекрасная Дульсинея Тобосская, потому что тебе выпало на долю
держать в подчинении и покорности твоей воле и твоим желаниям столь храброго
и знаменитого рыцаря, каким есть и будет Дон Кихот Ламанчский. Он (как всем
известно) вчера лишь был посвящен в рыцари, а сегодня уже воздал должное за
самую великую обиду и оскорбление, какие могла изобрести несправедливость и
совершить жестокость. Сегодня он вырвал плеть из рук бездушного врага,
который так беспричинно истязал слабого ребенка".
В это время Дон Кихот подъехал к месту, где дорога расходилась на
четыре стороны, и тотчас же он вспомнил о перекрестках, на которых
странствующие рыцари обыкновенно останавливались, раздумывая, какую из дорог
им выбрать. Чтобы последовать их примеру, он тоже остановился на мгновение
и, после того как хорошенько подумал, отпустил поводья Росинанта и подчинил
свою волю воле коня, который не изменил своему первоначальному намерению и
направился к своей конюшне.
 Проехав приблизительно около двух миль, Дон Кихот увидел толпу
путешественников, которые, как потом оказалось, были купцами из Толедо,
ехавшими покупать шелк в Мурсию. Их было шестеро, и в руках они держали
зонтики. Сопровождали их четверо слуг верхом и трое погонщиков мулов пешком.
Едва Дон Кихот увидел их, он тотчас же вообразил, что это -- новое
приключение, и, чтобы во всем, что ему казалось возможным, подражать
подвигам, о которых он читал в своих книгах, он решил, что этот случай для
него самый подходящий. Итак, приняв гордую осанку и отважный вид, он
выпрямился на стременах, сжал в руке копье, прикрыл себе грудь щитом и,
остановившись посреди дороги, стал ждать, чтобы к нему подъехали
странствующие рыцари (он уже считал и принял их за таковых). Когда
путешественники приблизились настолько, что они могли его видеть и слышать,
Дон Кихот громким голосом и с вызывающим жестом воскликнул:
-- Остановитесь все, если вы все не признаете, что на целом свете нет
более прекрасной девушки, как императрица Ламанчи, несравненная Дульсинея
Тобосская!
Купцы остановились, услыхав эти слова и увидав странную фигуру того,
кто их произносил. И по фигуре, и по сказанному ею они тотчас же смекнули,
что имеют дело с сумасшедшим. Но им хотелось точнее узнать, в чем же состоит
признание, которое от них требуют, и поэтому один из купцов, большой шутник
и человек остроумный, сказал Дон Кихоту:
-- Господин рыцарь, мы не знаем той почтенной сеньоры, о которой вы
изволили говорить; покажите нам ее, и, если она действительно так прекрасна,
как вы утверждаете, мы по доброй воле и без всякого принуждения признаем
истину, которую вы требуете от нас.
-- Если бы я показал ее вам, -- возразил Дон Кихот, -- в чем была бы
заслуга, что вы признали бы столь неопровержимую истину? Суть дела в том,
чтобы, не видя ее, вы поверили, признали, подтвердили, клялись и стояли за
это. А если нет, сражайтесь со мной, чудовищные и надменные люди! Выйдете ли
вы на бой поодиночке, как этого требует рыцарский устав, или же все вместе,
по обычаю и дурной привычке людей вашего сорта, -- здесь я стою и жду вас,
зная, что справедливость на моей стороне.
-- Сеньор рыцарь,-- ответил купец,-- умоляю вашу милость от имени всех
этих принцев, которые тут перед вами, -- чтобы не отягощать нашу совесть
признанием того, чего мы никогда не видели и не слышали, тем более что
признание это клонит к обиде и ущербу всех императриц и королев Альгаррии
{Округ в Новой Кастилии, на левом берегу Энареса.} и Эстремадуры, -- не
будете ли вы столь добры, милость ваша, показать нам какой-нибудь портрет
той сеньоры, хотя бы величиной с пшеничное зерно, потому что и по нитке
можно добраться до клубка, -- и мы убедимся и удовлетворимся этим, а ваша
милость успокоится и останется довольной. И я даже думаю, что мы уже и
теперь на вашей стороне, так что, если бы по портрету ее и оказалось, что
она косит на один глаз, а из другого у нее истекают киноварь и сера, тем не
менее, желая угодить вашей милости, мы скажем в ее пользу все то, что вы
пожелаете.
-- Не истекает у нее, -- закричал, разгоревшись гневом, Дон Кихот, --
не истекает у нее то, что ты сказал, гнусная сволочь! А только благоухание
амбры и мускуса, и она не косая и не горбатая, а стройнее веретена Гадаррамы
{Гадаррама -- горная цепь на сев.-зап. от Мадрида, отделяющая Старую
Кастилию от Новой Кастилии и бассейн Дуро от бассейна реки Тахо. Веретеном
Гадаррамы, по-видимому, указывается на очень острые вершины этой горы.}. Но
вы заплатите мне за великую хулу, произнесенную вами против несравненной
красоты моей сеньоры!
Сказав это, Дон Кихот схватил копье и с таким гневом и бешенством
бросился на говорившего с ним, что дерзкому купцу пришлось бы плохо, если бы
по счастливому для него велению судьбы Росинант не споткнулся и не упал бы
на полпути. Росинант упал, и господин его покатился по полю на порядочное
расстояние, а когда он хотел подняться, он никак не мог, ему мешали копье,
щит, шпоры и шлем вместе с тяжестью старинных лат. И в то время как он
пытался встать и не мог, он говорил: "Не бегите, люди трусливые, люди
презренные; погодите, так как не по своей вине, а по вине моей лошади я лежу
здесь, растянувшись на земле".
Один из слуг, которые вели мулов, по-видимому, не очень-то
доброжелательный по природе, услыхав высокомерные речи упавшего с коня
бедняги, не мог удержаться, чтоб не прописать ему ответа на его спине. Он
подбежал к нему, схватил его копье, переломал на куски и одним из этих
кусков принялся так обрабатывать нашего Дон Кихота, что, несмотря на
защищавшие его латы, он измолол его, точно зерно на мельнице. Господа
кричали своему слуге, чтобы он перестал и оставил бы рыцаря, но погонщик был
так возбужден, что не захотел бросить игру, пока не истощится весь запас его
гнева. Подняв и остальные куски копья, он всех их переломал на ребрах
несчастного упавшего, который, несмотря на этот ураган сыпавшихся на него
ударов, не молчал, а угрожал небу и земле и разбойникам, за которых он
принял проезжих.
Наконец погонщик устал, и купцы продолжали свой путь, имея что
порассказать о бедном избитом рыцаре. А он, оставшись один, снова попытался
встать, но если он не мог этого сделать, когда был цел и невредим, как мог
бы он это сделать измятый и избитый? И все же он считал себя счастливым, так
как ему казалось, что это злоключение весьма обычное для странствующих
рыцарей, и он его приписал единственно падению своей лошади. Однако ему
невозможно было подняться, до того болело и ныло все его тело.
Проехав приблизительно около двух миль, Дон Кихот увидел толпу
путешественников, которые, как потом оказалось, были купцами из Толедо,
ехавшими покупать шелк в Мурсию. Их было шестеро, и в руках они держали
зонтики. Сопровождали их четверо слуг верхом и трое погонщиков мулов пешком.
Едва Дон Кихот увидел их, он тотчас же вообразил, что это -- новое
приключение, и, чтобы во всем, что ему казалось возможным, подражать
подвигам, о которых он читал в своих книгах, он решил, что этот случай для
него самый подходящий. Итак, приняв гордую осанку и отважный вид, он
выпрямился на стременах, сжал в руке копье, прикрыл себе грудь щитом и,
остановившись посреди дороги, стал ждать, чтобы к нему подъехали
странствующие рыцари (он уже считал и принял их за таковых). Когда
путешественники приблизились настолько, что они могли его видеть и слышать,
Дон Кихот громким голосом и с вызывающим жестом воскликнул:
-- Остановитесь все, если вы все не признаете, что на целом свете нет
более прекрасной девушки, как императрица Ламанчи, несравненная Дульсинея
Тобосская!
Купцы остановились, услыхав эти слова и увидав странную фигуру того,
кто их произносил. И по фигуре, и по сказанному ею они тотчас же смекнули,
что имеют дело с сумасшедшим. Но им хотелось точнее узнать, в чем же состоит
признание, которое от них требуют, и поэтому один из купцов, большой шутник
и человек остроумный, сказал Дон Кихоту:
-- Господин рыцарь, мы не знаем той почтенной сеньоры, о которой вы
изволили говорить; покажите нам ее, и, если она действительно так прекрасна,
как вы утверждаете, мы по доброй воле и без всякого принуждения признаем
истину, которую вы требуете от нас.
-- Если бы я показал ее вам, -- возразил Дон Кихот, -- в чем была бы
заслуга, что вы признали бы столь неопровержимую истину? Суть дела в том,
чтобы, не видя ее, вы поверили, признали, подтвердили, клялись и стояли за
это. А если нет, сражайтесь со мной, чудовищные и надменные люди! Выйдете ли
вы на бой поодиночке, как этого требует рыцарский устав, или же все вместе,
по обычаю и дурной привычке людей вашего сорта, -- здесь я стою и жду вас,
зная, что справедливость на моей стороне.
-- Сеньор рыцарь,-- ответил купец,-- умоляю вашу милость от имени всех
этих принцев, которые тут перед вами, -- чтобы не отягощать нашу совесть
признанием того, чего мы никогда не видели и не слышали, тем более что
признание это клонит к обиде и ущербу всех императриц и королев Альгаррии
{Округ в Новой Кастилии, на левом берегу Энареса.} и Эстремадуры, -- не
будете ли вы столь добры, милость ваша, показать нам какой-нибудь портрет
той сеньоры, хотя бы величиной с пшеничное зерно, потому что и по нитке
можно добраться до клубка, -- и мы убедимся и удовлетворимся этим, а ваша
милость успокоится и останется довольной. И я даже думаю, что мы уже и
теперь на вашей стороне, так что, если бы по портрету ее и оказалось, что
она косит на один глаз, а из другого у нее истекают киноварь и сера, тем не
менее, желая угодить вашей милости, мы скажем в ее пользу все то, что вы
пожелаете.
-- Не истекает у нее, -- закричал, разгоревшись гневом, Дон Кихот, --
не истекает у нее то, что ты сказал, гнусная сволочь! А только благоухание
амбры и мускуса, и она не косая и не горбатая, а стройнее веретена Гадаррамы
{Гадаррама -- горная цепь на сев.-зап. от Мадрида, отделяющая Старую
Кастилию от Новой Кастилии и бассейн Дуро от бассейна реки Тахо. Веретеном
Гадаррамы, по-видимому, указывается на очень острые вершины этой горы.}. Но
вы заплатите мне за великую хулу, произнесенную вами против несравненной
красоты моей сеньоры!
Сказав это, Дон Кихот схватил копье и с таким гневом и бешенством
бросился на говорившего с ним, что дерзкому купцу пришлось бы плохо, если бы
по счастливому для него велению судьбы Росинант не споткнулся и не упал бы
на полпути. Росинант упал, и господин его покатился по полю на порядочное
расстояние, а когда он хотел подняться, он никак не мог, ему мешали копье,
щит, шпоры и шлем вместе с тяжестью старинных лат. И в то время как он
пытался встать и не мог, он говорил: "Не бегите, люди трусливые, люди
презренные; погодите, так как не по своей вине, а по вине моей лошади я лежу
здесь, растянувшись на земле".
Один из слуг, которые вели мулов, по-видимому, не очень-то
доброжелательный по природе, услыхав высокомерные речи упавшего с коня
бедняги, не мог удержаться, чтоб не прописать ему ответа на его спине. Он
подбежал к нему, схватил его копье, переломал на куски и одним из этих
кусков принялся так обрабатывать нашего Дон Кихота, что, несмотря на
защищавшие его латы, он измолол его, точно зерно на мельнице. Господа
кричали своему слуге, чтобы он перестал и оставил бы рыцаря, но погонщик был
так возбужден, что не захотел бросить игру, пока не истощится весь запас его
гнева. Подняв и остальные куски копья, он всех их переломал на ребрах
несчастного упавшего, который, несмотря на этот ураган сыпавшихся на него
ударов, не молчал, а угрожал небу и земле и разбойникам, за которых он
принял проезжих.
Наконец погонщик устал, и купцы продолжали свой путь, имея что
порассказать о бедном избитом рыцаре. А он, оставшись один, снова попытался
встать, но если он не мог этого сделать, когда был цел и невредим, как мог
бы он это сделать измятый и избитый? И все же он считал себя счастливым, так
как ему казалось, что это злоключение весьма обычное для странствующих
рыцарей, и он его приписал единственно падению своей лошади. Однако ему
невозможно было подняться, до того болело и ныло все его тело.

 Дон Кихот, убедившись, что он в самом деле не может шевельнуться, решил
прибегнуть к обычному своему средству: припомнить то или иное событие из
прочитанного им в своих книгах. Безумие привело ему теперь на память
происшествие с Балдовиносом и маркизом Мантуанским, когда Карлото оставил
Балдовиноса раненым на горе, -- история, хорошо знакомая детям,
небезызвестная юношам, которою потешаются старики и даже верят ей, и при
всем том не более правдивая, чем чудеса Магомета. Эта-то история и
показалась Дон Кихоту как нельзя более подходящей к тому положению, в
котором он находился. Итак, он с признаками сильнейшего страдания стал
кататься на земле и чуть слышно повторял то, что будто бы говорил раненый
рыцарь в лесу:
-- Где же ты, моя сеньора,
Что тебе не жаль меня?
Про беду мою не знаешь,
Или ложь -- любовь твоя?
Таким образом он продолжал декламировать романс до строки:
О, мой дядя благородный,
Повелитель кровный мой...
Случаю было угодно, что, когда он дошел до этих строк, как раз проходил
мимо него крестьянин из того же местечка, как и он, -- его сосед,
возвращавшийся с мельницы, куда он только что свез пшеницу. Увидав лежащего
на земле человека, крестьянин подошел к нему и спросил, кто он и что с ним
случилось, что он издает такие жалобные стоны. Дон Кихот наверно подумал,
что это и есть маркиз Мантуанский, его дядя, и вместо ответа, продолжал
декламировать романс, в котором он давал ему отчет о своем несчастии и о
любовных похождениях императорского сына с его супругой, точь-в-точь как о
том поется в романсе. Крестьянин был изумлен, слушая эти нелепости, и, сняв
с него забрало, которое от ударов было уже изломано в куски, вытер ему лицо,
покрытое пылью; сделав это, крестьянин тотчас же узнал его и сказал:
-- Сеньор Кихана (так звали его, когда он был в здравом уме и еще не
превратился из мирного идальго в странствующего рыцаря), кто привел вашу
милость в такое состояние?
Но Дон Кихот продолжал декламировать свой романс в ответ на все
вопросы. Видя это, добрый человек снял как мог осторожнее с него латы и
наплечники, чтобы посмотреть, не ранен ли он, но нигде не нашел ни крови, ни
признаков ран. Кое-как ему удалось поднять рыцаря, и он с величайшим трудом
усадил его на своего осла, решив, что это более спокойный способ
передвижения. Он собрал все оружие, даже до обломков копья, сложил все это и
привязал на спину Росинанту, которого взял за повод, а осла -- за недоуздок
и таким образом направился к своему селу, с сокрушением слушая нелепости,
которые говорил Дон Кихот. Не менее приуныл и сам Дон Кихот; весь измятый и
избитый, он едва держался на осле и посылал время от времени к небу столь
глубокие вздохи, что крестьянин опять счел нужным спросить, что у него
болит. И казалось, точно дьявол помогал Дон Кихоту припоминать рассказы,
подходившие к теперешнему его положению, так как в эту минуту, забыв о
Балдовиносе, он вспомнил мавра Абиндараеса, которого Родриго де Нарваес --
начальник крепости Антекера -- взял в плен и увез к себе в замок. Поэтому,
когда крестьянин снова спросил его, как он себя чувствует и что у него
болит, Дон Кихот ответил ему теми самыми выражениями и словами, с какими
пленный Абиндараес обращается к Родриго Нарваесскому, точь-в-точь, как он
прочел эту историю в "Диане" Юор-хе де Монтемайоре, и так кстати пользовался
ею, что крестьянин посылал себя к черту, слушая эту кучу нелепостей, из
которых он заключил, что его сосед сошел с ума. Он торопился поскорей
добраться до своего города, чтобы избавиться от скуки, которую наводили на
него долгие разглагольствования Дон Кихота. В заключение рыцарь сказал:
-- Да будет известно вашей милости, сеньор дон Родриго де Нарваес, что
прекрасная Харифа, о которой я говорил вам, в настоящее время -- не кто
иная, как прелестная Дульсинея Тобосская, ради которой я совершил, совершаю
и буду совершать самые блестящие подвиги, какие когда-либо видел, видит или
увидит мир.
На это крестьянин ему ответил:
-- Прошу вас, сеньор, всмотритесь хорошенько в меня, бедного грешника,
-- я вовсе не дон Родриго де Нарваес и не маркиз Мантуанский, а просто Педро
Алонсо, ваш сосед, и ваша милость вовсе не Балдовинос и не Абиндараес, а
почтенный идальго, сеньор Кихана.
-- Я отлично знаю, кто я, -- ответил Дон Кихот, -- и знаю также, что
мог бы быть не только теми, кого я называл, но и всеми двенадцатью пэрами
Франции и девятью мужами славы {Девятью мужами славы называли трех
христианских королей: Артура, Карла Великого и Годфрида Бульонского, трех
евреев: Осию, Давида и Иуду Маккавея, и трех язычников: Александра, Гектора
и Юлия Цезаря.}, потому что подвиги мои превзойдут все их подвиги вместе
взятые и подвиги, совершенные каждым из них в отдельности.
В таких и тому подобных разговорах они в сумерки добрались до местечка;
но крестьянин подождал, пока не стемнело совсем, чтобы не видели избитого
идальго, едущего на осле.
Когда наконец ему показалось, что настало время, он въехал в село и
направился к дому Дон Кихота, где все было в большом переполохе. Там
находились деревенский священник и местный цирюльник, оба большие приятели
Дон Кихота. Обращаясь к ним, ключница громким голосом говорила:
-- Как вы думаете, ваша милость сеньор Педро Перес (так звали
священника), не приключилась ли беда с моим господином? Шесть дней уже, что
не видать ни его, ни его коня, ни щита его, ни копья, ни доспехов. О,
несчастная я! Мне кажется, -- и это также верно, как то, что я родилась,
чтобы умереть, -- проклятые эти его рыцарские книги, которые он постоянно
читает, омрачили его рассудок. Теперь я вспоминаю, что я не раз слышала, как
он сам с собой говорил, высказывая желание сделаться странствующим рыцарем и
искать приключения по всему свету. Пусть бы Сатана с Варравою унесли все эти
книги, погубившие самый тонкий ум, бывший во всей Ламанче!
Племянница говорила то же, и даже больше того:
-- Знайте, сеньор маэсе Николас (так звали цирюльника), не раз
случалось, что мой сеньор дядя читал эти бездушные, несчастные книги, не
отрываясь два дня и две ночи подряд, после чего он бросал книгу, хватал
шпагу и наносил удары в стены. Когда он был очень утомлен, он говорил, что
убил четырех великанов, подобных четырем башням, а пот, который лил с него
от усталости, он считал кровью из ран, полученных им в сражении, и тогда он
выпивал большой кувшин холодной воды и становился спокоен и здоров, говоря,
что вода эта -- драгоценное питье, принесенное ему мудрым Эскифом, могучим
волшебником и другом его. Но я сама виновата во всем, потому что не сообщила
вам раньше о безрассудствах моего сеньора дяди, чтобы вы могли ему помочь
прежде, чем он дошел до того состояния, в каком он теперь, и сожгли бы все
эти безбожные книги, а их у него много, и они вполне заслуживают того, чтобы
их сожгли, как сжигают еретиков.
-- Я согласен с вами, -- ответил священник, -- и, по чести говоря, не
далее как завтра книги эти будут преданы суду и приговорены к сожжению,
чтобы они не склонили тех, кто мог бы их прочесть, сделать то, что, должно
быть, сделал добрый мой друг.
Весь этот разговор слышали Дон Кихот и крестьянин, который теперь
окончательно понял болезнь своего соседа, и потому он громким голосом
сказал:
-- Впустите сеньора Балдовиноса и сеньора маркиза Мантуанского, который
возвращается тяжелораненый, и сеньора мавра Абиндараеса, взятого в плен и
привезенного храбрым Родриго Нарваесским, алькадом {Начальником.} крепости
Антекера!
На крик крестьянина все выбежали и, узнав, одни -- своего друга, другие
-- дядю и господина, который еще не слез с осла, потому что не был в силах,
бросились его обнимать.
Дон Кихот, убедившись, что он в самом деле не может шевельнуться, решил
прибегнуть к обычному своему средству: припомнить то или иное событие из
прочитанного им в своих книгах. Безумие привело ему теперь на память
происшествие с Балдовиносом и маркизом Мантуанским, когда Карлото оставил
Балдовиноса раненым на горе, -- история, хорошо знакомая детям,
небезызвестная юношам, которою потешаются старики и даже верят ей, и при
всем том не более правдивая, чем чудеса Магомета. Эта-то история и
показалась Дон Кихоту как нельзя более подходящей к тому положению, в
котором он находился. Итак, он с признаками сильнейшего страдания стал
кататься на земле и чуть слышно повторял то, что будто бы говорил раненый
рыцарь в лесу:
-- Где же ты, моя сеньора,
Что тебе не жаль меня?
Про беду мою не знаешь,
Или ложь -- любовь твоя?
Таким образом он продолжал декламировать романс до строки:
О, мой дядя благородный,
Повелитель кровный мой...
Случаю было угодно, что, когда он дошел до этих строк, как раз проходил
мимо него крестьянин из того же местечка, как и он, -- его сосед,
возвращавшийся с мельницы, куда он только что свез пшеницу. Увидав лежащего
на земле человека, крестьянин подошел к нему и спросил, кто он и что с ним
случилось, что он издает такие жалобные стоны. Дон Кихот наверно подумал,
что это и есть маркиз Мантуанский, его дядя, и вместо ответа, продолжал
декламировать романс, в котором он давал ему отчет о своем несчастии и о
любовных похождениях императорского сына с его супругой, точь-в-точь как о
том поется в романсе. Крестьянин был изумлен, слушая эти нелепости, и, сняв
с него забрало, которое от ударов было уже изломано в куски, вытер ему лицо,
покрытое пылью; сделав это, крестьянин тотчас же узнал его и сказал:
-- Сеньор Кихана (так звали его, когда он был в здравом уме и еще не
превратился из мирного идальго в странствующего рыцаря), кто привел вашу
милость в такое состояние?
Но Дон Кихот продолжал декламировать свой романс в ответ на все
вопросы. Видя это, добрый человек снял как мог осторожнее с него латы и
наплечники, чтобы посмотреть, не ранен ли он, но нигде не нашел ни крови, ни
признаков ран. Кое-как ему удалось поднять рыцаря, и он с величайшим трудом
усадил его на своего осла, решив, что это более спокойный способ
передвижения. Он собрал все оружие, даже до обломков копья, сложил все это и
привязал на спину Росинанту, которого взял за повод, а осла -- за недоуздок
и таким образом направился к своему селу, с сокрушением слушая нелепости,
которые говорил Дон Кихот. Не менее приуныл и сам Дон Кихот; весь измятый и
избитый, он едва держался на осле и посылал время от времени к небу столь
глубокие вздохи, что крестьянин опять счел нужным спросить, что у него
болит. И казалось, точно дьявол помогал Дон Кихоту припоминать рассказы,
подходившие к теперешнему его положению, так как в эту минуту, забыв о
Балдовиносе, он вспомнил мавра Абиндараеса, которого Родриго де Нарваес --
начальник крепости Антекера -- взял в плен и увез к себе в замок. Поэтому,
когда крестьянин снова спросил его, как он себя чувствует и что у него
болит, Дон Кихот ответил ему теми самыми выражениями и словами, с какими
пленный Абиндараес обращается к Родриго Нарваесскому, точь-в-точь, как он
прочел эту историю в "Диане" Юор-хе де Монтемайоре, и так кстати пользовался
ею, что крестьянин посылал себя к черту, слушая эту кучу нелепостей, из
которых он заключил, что его сосед сошел с ума. Он торопился поскорей
добраться до своего города, чтобы избавиться от скуки, которую наводили на
него долгие разглагольствования Дон Кихота. В заключение рыцарь сказал:
-- Да будет известно вашей милости, сеньор дон Родриго де Нарваес, что
прекрасная Харифа, о которой я говорил вам, в настоящее время -- не кто
иная, как прелестная Дульсинея Тобосская, ради которой я совершил, совершаю
и буду совершать самые блестящие подвиги, какие когда-либо видел, видит или
увидит мир.
На это крестьянин ему ответил:
-- Прошу вас, сеньор, всмотритесь хорошенько в меня, бедного грешника,
-- я вовсе не дон Родриго де Нарваес и не маркиз Мантуанский, а просто Педро
Алонсо, ваш сосед, и ваша милость вовсе не Балдовинос и не Абиндараес, а
почтенный идальго, сеньор Кихана.
-- Я отлично знаю, кто я, -- ответил Дон Кихот, -- и знаю также, что
мог бы быть не только теми, кого я называл, но и всеми двенадцатью пэрами
Франции и девятью мужами славы {Девятью мужами славы называли трех
христианских королей: Артура, Карла Великого и Годфрида Бульонского, трех
евреев: Осию, Давида и Иуду Маккавея, и трех язычников: Александра, Гектора
и Юлия Цезаря.}, потому что подвиги мои превзойдут все их подвиги вместе
взятые и подвиги, совершенные каждым из них в отдельности.
В таких и тому подобных разговорах они в сумерки добрались до местечка;
но крестьянин подождал, пока не стемнело совсем, чтобы не видели избитого
идальго, едущего на осле.
Когда наконец ему показалось, что настало время, он въехал в село и
направился к дому Дон Кихота, где все было в большом переполохе. Там
находились деревенский священник и местный цирюльник, оба большие приятели
Дон Кихота. Обращаясь к ним, ключница громким голосом говорила:
-- Как вы думаете, ваша милость сеньор Педро Перес (так звали
священника), не приключилась ли беда с моим господином? Шесть дней уже, что
не видать ни его, ни его коня, ни щита его, ни копья, ни доспехов. О,
несчастная я! Мне кажется, -- и это также верно, как то, что я родилась,
чтобы умереть, -- проклятые эти его рыцарские книги, которые он постоянно
читает, омрачили его рассудок. Теперь я вспоминаю, что я не раз слышала, как
он сам с собой говорил, высказывая желание сделаться странствующим рыцарем и
искать приключения по всему свету. Пусть бы Сатана с Варравою унесли все эти
книги, погубившие самый тонкий ум, бывший во всей Ламанче!
Племянница говорила то же, и даже больше того:
-- Знайте, сеньор маэсе Николас (так звали цирюльника), не раз
случалось, что мой сеньор дядя читал эти бездушные, несчастные книги, не
отрываясь два дня и две ночи подряд, после чего он бросал книгу, хватал
шпагу и наносил удары в стены. Когда он был очень утомлен, он говорил, что
убил четырех великанов, подобных четырем башням, а пот, который лил с него
от усталости, он считал кровью из ран, полученных им в сражении, и тогда он
выпивал большой кувшин холодной воды и становился спокоен и здоров, говоря,
что вода эта -- драгоценное питье, принесенное ему мудрым Эскифом, могучим
волшебником и другом его. Но я сама виновата во всем, потому что не сообщила
вам раньше о безрассудствах моего сеньора дяди, чтобы вы могли ему помочь
прежде, чем он дошел до того состояния, в каком он теперь, и сожгли бы все
эти безбожные книги, а их у него много, и они вполне заслуживают того, чтобы
их сожгли, как сжигают еретиков.
-- Я согласен с вами, -- ответил священник, -- и, по чести говоря, не
далее как завтра книги эти будут преданы суду и приговорены к сожжению,
чтобы они не склонили тех, кто мог бы их прочесть, сделать то, что, должно
быть, сделал добрый мой друг.
Весь этот разговор слышали Дон Кихот и крестьянин, который теперь
окончательно понял болезнь своего соседа, и потому он громким голосом
сказал:
-- Впустите сеньора Балдовиноса и сеньора маркиза Мантуанского, который
возвращается тяжелораненый, и сеньора мавра Абиндараеса, взятого в плен и
привезенного храбрым Родриго Нарваесским, алькадом {Начальником.} крепости
Антекера!
На крик крестьянина все выбежали и, узнав, одни -- своего друга, другие
-- дядю и господина, который еще не слез с осла, потому что не был в силах,
бросились его обнимать.
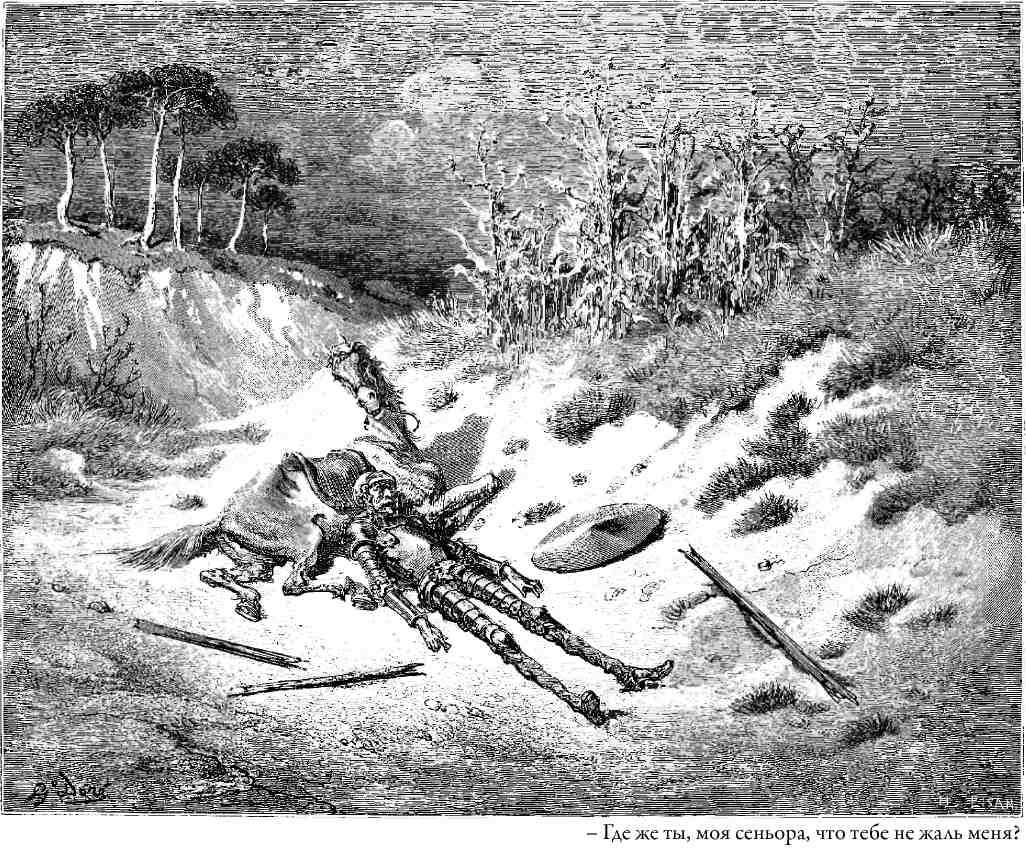 Но Дон Кихот сказал:
-- Подождите вы все. Я приехал тяжелораненый по вине моего коня.
Уложите меня в постель и позовите, если это окажется возможным, мудрую
Урганду чтобы она осмотрела мои раны и вылечила их.
-- Вот видите ли! -- сказала тогда ключница. К несчастью, сердце мое
верно подсказало мне, на какую ногу хромает мой господин. Войдите в добрый
час, ваша милость, и мы сами, не призывая этой ургады {На воровском
испанском языке -- "непотребная женщина".}, сумеем вылечить вас. Да будут
прокляты, говорю я еще раз и еще сто раз, эти рыцарские книги, которые
довели вашу милость до такого состояния!
Тотчас же уложили Дон Кихота в постель и, отыскивая раны, не нашли ни
одной, а он сказал, что расшибся вследствие жестокого падения вместе с
Росинантом, своим конем, сражаясь с десятью великанами, самыми чудовищными и
отважными, какие только можно встретить на поверхности земли.
-- Та-та-та, -- сказал священник,-- уже заплясали великаны? Клянусь
знамением креста, я всех их сожгу завтра до наступления ночи!
Дон Кихоту стали задавать тысячи вопросов, но он ни на один ничего не
ответил, только попросил принести ему поесть и дать ему спать, потому что
это наиболее необходимо для него. Так и сделали, и священник подробно
расспросил крестьянина, где и как он нашел Дон Кихота. Крестьянин рассказал
ему все, а также и нелепости, которые Дон Кихот ему говорил, когда он его
нашел и когда он его вез домой. Это еще более утвердило священника в его
решении сделать то, что он и сделал на следующий же день, зайдя
предварительно за своим другом, цирюльником маэсе Николасом, с которым и
отправился в дом к Дон Кихоту.
Но Дон Кихот сказал:
-- Подождите вы все. Я приехал тяжелораненый по вине моего коня.
Уложите меня в постель и позовите, если это окажется возможным, мудрую
Урганду чтобы она осмотрела мои раны и вылечила их.
-- Вот видите ли! -- сказала тогда ключница. К несчастью, сердце мое
верно подсказало мне, на какую ногу хромает мой господин. Войдите в добрый
час, ваша милость, и мы сами, не призывая этой ургады {На воровском
испанском языке -- "непотребная женщина".}, сумеем вылечить вас. Да будут
прокляты, говорю я еще раз и еще сто раз, эти рыцарские книги, которые
довели вашу милость до такого состояния!
Тотчас же уложили Дон Кихота в постель и, отыскивая раны, не нашли ни
одной, а он сказал, что расшибся вследствие жестокого падения вместе с
Росинантом, своим конем, сражаясь с десятью великанами, самыми чудовищными и
отважными, какие только можно встретить на поверхности земли.
-- Та-та-та, -- сказал священник,-- уже заплясали великаны? Клянусь
знамением креста, я всех их сожгу завтра до наступления ночи!
Дон Кихоту стали задавать тысячи вопросов, но он ни на один ничего не
ответил, только попросил принести ему поесть и дать ему спать, потому что
это наиболее необходимо для него. Так и сделали, и священник подробно
расспросил крестьянина, где и как он нашел Дон Кихота. Крестьянин рассказал
ему все, а также и нелепости, которые Дон Кихот ему говорил, когда он его
нашел и когда он его вез домой. Это еще более утвердило священника в его
решении сделать то, что он и сделал на следующий же день, зайдя
предварительно за своим другом, цирюльником маэсе Николасом, с которым и
отправился в дом к Дон Кихоту.


 Дон Кихот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключи от
комнаты, в которой находились книги -- виновники случившегося, -- и она с
величайшей охотой дала их ему. Все они вошли в комнату, в том числе и
ключница, и нашли более ста больших томов в очень хороших переплетах и
другие книги, меньшего формата. Как только ключница увидела их, она поспешно
выбежала из комнаты и тотчас же вернулась с чашей святой воды и пучком
иссопа {Иссоп считался издревле растением очищения и употреблялся при
изгнании бесов и нечистой силы.}.
-- Вот, ваша милость сеньор лисенсиат {Ученая степень.}, -- сказала
она, -- окропите святой водой комнату на случай, если бы тут оказался
кто-нибудь из множества волшебников, которыми полны эти книги, чтобы они не
околдовали нас в наказание за то, что мы желаем согнать их со свету.
Лисенсиат рассмеялся над простотой ключницы и велел цирюльнику передавать
ему одну за другой книги, чтоб посмотреть, о чем там речь, так как могут
найтись некоторые книги, не заслуживающие быть преданными огню.
-- Нет, -- сказала племянница, -- ни одной не надо щадить, все они
делали зло. Лучше было бы бросить их из окна во двор, свалить в кучу и
сжечь, а если нет, снести их на задний двор, там устроить костер, и тогда
дым не будет нас беспокоить.
То же самое сказала и ключница: так велико было желание обеих казнить
смертью этих невинных; но священник не согласился с ними и решил прочитать
по крайней мере хоть заглавия.
Первые книги, поданные ему маэсе Николасом, были четыре тома "Амадиса
Галльского", и священник сказал:
-- Это очень странное совпадение, потому что, как я слышал, "Амадис
Галльский" была первой из рыцарских книг, напечатанных в Испании, и все
остальные получили начало и происхождение из нее. Итак, мне кажется, что
этого Амадиса, как ересеначальника столь вредной секты, мы без всякого
снисхождения должны приговорить к сожжению.
-- Нет, сеньор, -- сказал цирюльник, -- я слышал также, что книга эта
-- лучшая из всех, сочиненных в этом роде, и потому, как единственную по
совершенству, ее следует помиловать.
-- Верно, -- сказал священник, -- и по этой причине ей даруется пока
жизнь. Посмотрим ту другую, которая рядом с ней.
-- Это, -- сказал цирюльник, -- "Подвиги Эспландиана", законного сына
Амадиса Галльского.
-- По чести говоря, -- ответил священник, -- сыну не могут быть
поставлены в оправдание достоинства отца; возьмите его, сеньора ключница,
откройте окно и выбросьте его во двор. Таким образом будет положено начало
костру, который мы собираемся устроить.
Ключница сделала это с большим удовольствием, и бедняга "Эспландиан"
полетел на задний двор, терпеливо ожидая угрожавшего ему сожжения.
-- Дальше! -- сказал священник.
-- Тут вот, -- отозвался цирюльник, -- "Амадис Греческий", и мне
кажется, что весь ряд на этой полке сродни "Амадису".
-- Пусть же все эти книги отправляются на задний двор, -- решил
священник, -- так как, за то, чтобы я мог сжечь королеву Пинтикиниестру и
пастуха Даринела с его эклогами и с чертовски запутанной болтовней их
автора, я вместе с ними сжег бы на костре и родного моего отца, если бы он
явился в облике странствующего рыцаря.
-- И я того же мнения, -- сказал цирюльник.
-- И я также,-- добавила племянница.
-- Еcли это так, -- сказала ключница, -- давайте их сюда, и пусть все
летят во двор.
Они передали ей книги, и так как их было немало, то, чтобы избавить
себя от беготни по лестнице, ключница бросила их во двор из окна.
-- А это что за бочка там? -- спросил священник.
-- Это, -- ответил цирюльник,-- "Дон Оливанте де Лаура".
-- Автор этой книги, -- сказал священник, -- вместе с тем и автор
"Цветочного сада", и право, я не мог бы решить, которое из этих двух его
сочинений более правдиво, или, точнее, менее лживо. Одно могу сказать, что
за свою напыщенность и нелепость "Оливанте" полетит во двор.
-- Следующая книга -- "Флорисмарте де Иркания", -- сообщил цирюльник.
-- Как, тут и сеньор Флорисмарте?-- спросил священник. -- По чести
говоря, ему придется тотчас же отправиться во двор, несмотря на его странное
рождение и фантастические приключения, так как сухой и жесткий слог его
ничего иного не заслуживает. Во двор его и еще вот эту книгу, сеньора
ключница!
-- С величайшим удовольствием,-- ответила та и живо исполнила данное ей
поручение.
-- Вот это -- "Рыцарь Платир",-- сказал цирюльник.
-- Старинная это книга, -- заметил священник, -- но я в ней не нахожу
ничего, заслуживающего пощады. Пусть она без возражения присоединится к
своим товарищам во дворе.
Так и было сделано. Раскрыли еще книгу, и заглавие ее оказалось "Рыцарь
Креста".
-- Ради такого святого заглавия,-- сказал священник, -- можно было бы
простить ей ее невежество, но говорят также: "Позади креста стоит дьявол" --
пусть же она отправляется в огонь!
Взяв другую книгу, цирюльник сказал:
-- Это "Зеркало рыцарства".
-- Я знаком с его милостью, -- объявил священник, -- тут речь идет о
сеньоре Рейнальдосе де Монтальбане с его друзьями и товарищами, мошенниками,
похуже Како, а также и о двенадцати пэрах Франции с правдивым историком
Турпином. По правде говоря, я стою за то, чтобы их осудить не более как на
вечное изгнание, хотя бы уже ради того, что на долю их выпала честь
вдохновить знаменитого Маттео Боярдо, из которого и христианский поэт
Людовико Ариосто заимствовал канву своей поэмы. Если я встречу здесь Ариосто
на другом, а не на родном его языке, то отнесусь к нему без всякого
уважения; если же на его родном языке, то я положу его себе на голову
{Ориентализм: добрый магометанин кладет себе на голову Коран в знак
благоговения.}.
-- У меня Ариосто на итальянском языке, но я его не понимаю, -- сказал
цирюльник.
-- Ничего хорошего не было бы, если б вы его и понимали, -- ответил
священник. -- И мы бы простили сеньора капитана {Дон Иеронимо Хименес де
Урреа -- очень плохой переводчик Ариосто на испанский язык.}, если бы он не
привез Ариосто к нам в Испанию и не сделал бы из него кастильца, потому что
этим он лишил его многих присущих ему достоинств. То же самое сделают и все
те, которые пожелали бы перевести стихотворные произведения на другой язык,
так как, сколько бы они ни старались, сколько бы ни выказывали искусства,
никогда им не достигнуть совершенства оригинала. Итак, говорю я, пусть эта
книга и все сочинения о событиях во Франции, которые еще здесь найдутся
{Речь идет о романах, относящихся к героям Карловингов.}, будут брошены на
дно сухого колодца и сложены там, пока мы после дальнейшего совещания не
решим, что с ними делать, -- исключая лишь "Бернардо дель Карпио", который,
наверное, есть здесь, и еще одной книги, озаглавленной "Ронсеваль". Как
только обе эти книги попадутся мне на глаза, я отдам их сейчас же сеньоре
ключнице, а из ее рук они без всякого промедления отправятся в огонь.
Со всем этим согласился и цирюльник и все сказанное священником одобрил
вполне, так как он его знал за доброго христианина и такого любителя истины,
который ни за что в мире не сказал бы неправды. Цирюльник раскрыл еще одну
книгу и увидел, что это "Пальмерин Оливы", а рядом лежала другая,
озаглавленная "Пальмерин Английский". Увидев эти две книги, лисенсиат
сказал:
-- Срубите поскорей эту оливу и сожгите ее так, чтоб от нее не осталось
и пепла. Английскую же пальму возьмите и сохраните, как единственную в своем
роде, и пусть для нее сделают такой же ларец, какой нашел Александр
Македонский в добыче, взятой у Дария, и предназначил для хранения
произведений Гомера. Книга эта, сеньор кум, интересна по двум причинам:
во-первых, потому что она сама по себе очень хороша, а во-вторых, автором
ее, как говорят, был мудрый португальский король. Все приключения в замке
Мирагарды превосходны и написаны с большим искусством, слог изящный и ясный,
а разговоры приноровлены, с пониманием и вкусом, к характеру действующих
лиц. Поэтому мне казалось бы -- если и вы, сеньор Николас, согласитесь со
мной, -- что следует освободить и эту книгу, и "Амадиса Галльского" от
сожжения, все же остальные без дальнейшего промедления предать огню!
-- Нет, сеньор кум, -- возразил цирюльник, -- потому что книга, которая
у меня как раз в руках, -- знаменитый "Дон Белианис".
-- Что касается его, -- ответил священник, -- то второй, третьей и
четвертой его части следовало бы дать небольшую дозу ревеня, чтобы очистить
их от излишка желчи; необходимо также выкинуть оттуда весь рассказ о храме
славы и другую, еще худшую, белиберду. В этих видах можно дать дону
Белианису отсрочку, как для проживающих за морем {Испанский закон
предоставлял всем, проживающим "за морем", известный срок, смотря по
расстоянию, чтобы приготовиться к защите.}, и -- смотря по тому, исправится
ли он или нет, -- оказать ему снисхождение, или же поступить с ним по всей
строгости закона. А пока возьмите его к себе на дом, кум, но никому не
давайте читать.
-- Прекрасно, -- ответил цирюльник, и не желая больше утруждать себя
пересмотром остальных рыцарских книг, он велел ключнице взять все большие
тома и бросить их из окна. Это было сказано не глупой и не глухой, а такой,
которая горела большим желанием сжечь эти книги, чем даже приняться за пряжу
самого широкого и тонкого в мире полотна, и потому она взяла сразу томов
восемь, чтобы бросить их из окна. Но она захватила слишком много, и одна из
книг выскользнула у нее из рук и упала к ногам цирюльника, который из
любопытства поднял ее и прочел заглавие: "История знаменитого рыцаря Тиранте
Белого".
-- Господи помоги! -- сказал громким голосом священник. Как, здесь и
"Тиранте Белый"! Дайте-ка мне его сюда, кум; я уверен, что нашел в нем клад
удовольствия и источник развлечения. Тут и храбрый рыцарь дон Кириэлейсон
{Господи помилуй нас.} де Монтальбан, и брат его Томас де Монтальбан, и
рыцарь Фонсека, и битва Тиранте с догом, и остроумные причуды девушки
Пласердемивида {Удовольствие моей жизни.}, и любовные интриги и плутни вдовы
Репосада {Спокойствие.}, и сеньора императрица, влюбленная в своего
наездника Ипполита. Истинно говорю вам, сеньор кум, относительно слога это
-- лучшая из всех книг в мире. Здесь рыцари едят и спят и умирают в своих
кроватях, перед смертью делают завещания, а также другие вещи, о которых нет
ни слова во всех остальных книгах того же рода. Тем не менее, говорю вам,
автор книги заслуживал бы, если б он намеренно написал столько безрассудств,
быть бессрочно сосланным на галеры. Возьмите его домой, прочтите, и вы
увидите, что я сказал правду.
-- Не сомневаюсь в том, -- ответил цирюльник. -- Но как нам поступить
вот с этими маленькими книжками, которые еще здесь остались?
-- Эти книжки, -- сказал священник, -- должно быть, не рыцарские
романы, а стихотворения.
Раскрыв одну из книг, он увидел, что это "Диана" {"Диана" -- пастушечья
повесть в стихах и прозе, впервые появившаяся в печати в 1545 г.}
Монтемайора, и сказал, полагая, что и все остальные в том же роде:
-- Книги эти не заслуживают быть присужденными, подобно другим, к
сожжению, потому что они не сделали и не сделают того вреда, какой принесли
рыцарские романы; это книги для времяпровождения, не причиняющие ущерба
никому.
-- Ах, сеньор, -- сказала племянница, -- лучше было бы, если б ваша
милость распорядилась сжечь и эти книги вместе с остальными, потому что
очень возможно, что мой дядя, выздоровев от рыцарской заразы и читая эти
книги, вздумает вдруг превратиться в пастуха и с песнями и музыкой будет
скитаться по лесам и полям или, что еще хуже, сделается поэтом, а это, как я
слышала, болезнь заразительная и неизлечимая.
-- Девушка говорит правду, -- сказал священник, -- и было бы хорошо
устранить с дороги нашего друга и этот камень преткновения, и эту опасность.
Но так как мы начали с "Дианы" Монтемайо-ра, я держусь мнения, чтобы не
сжигать ее, а лишь выкинуть все те места, в которых речь о мудрой Фелисии и
очарованной воде, и почти все главные стихотворения; затем в добрый час
оставим ей всю прозу, а также и честь быть родоначальницей подобных ей
произведений.
-- Следующая книга, -- сказал цирюльник, -- "Диана", называемая "Второй
Сальмантина", а эта вот тоже "Диана", но ее автор -- Хиль Поло.
-- Пусть произведение Сальмантина, -- сказал священник, -- отправится к
осужденным во двор и увеличит их число, а "Диану" Хиля Поло следует беречь,
как будто ее написал сам Аполлон. Но продолжайте, сеньор кум, нам надо
торопиться, ведь становится уже поздно.
-- Эта книга, -- сказал цирюльник, раскрывая еще одну -- "Десять книг
Фортуны любви", сочинение сардинского поэта Антонио Лофрасо.
-- Клянусь моим духовным званием, -- воскликнул священник, -- с тех
пор, как Аполлон -- Аполлон, музы -- музы, а поэты -- поэты, не было
написано более веселой и фантастической книги, чем эта. Она лучшая и
единственная в своем роде среди подобных ей, когда-либо появлявшихся на
свет, и тот, кто ее не читал, может быть уверен, что не читал никогда вещи,
написанной со вкусом. Дайте мне ее сюда, кум, я больше ценю эту находку, чем
если б мне подарили рясу из простой флорентийской материи {Все сказанное об
этой книге -- ирония.}.
Священник отложил книгу в сторону с видимым удовольствием, а цирюльник
продолжал осмотр, говоря:
-- Вот тут у нас еще "Иберийский пастух", "Нимфы Энереса" и "Излечение
от ревности".
-- Их и остается только передать в руки светской власти ключницы, --
сказал священник, -- и не спрашивайте меня почему, иначе мы никогда не
кончим.
-- А вот "Пастух Фелиды".
-- Это не пастух, -- сказал священник, -- а самый утонченный
царедворец. Сохраним его как драгоценность.
-- Большой этот том, -- продолжал цирюльник, -- озаглавлен
"Сокровищница стихотворений".
-- Если б их не было здесь так много, -- сказал священник, -- их ценили
бы больше. Необходимо прополоть эту книгу и пообчистить от некоторых плоских
и ничтожных вещей, встречающихся в ней среди истинно прекрасных. Сохраним ее
еще и оттого, что автор ее мой друг, а также и из уважения к другим более
возвышенным и героическим произведениям, которые он написал.
-- Вот эта книга -- "Песенник Лопеса Мальдонада", -- продолжал
цирюльник.
-- Автор этой книги также большой мне друг, -- сказал священник, -- и
когда он читает свои стихи, они приводят в восторг слушателей, а когда он их
поет, голос его такой сладостный, что он всех чарует. Его эклоги несколько
растянуты, но то, что хорошо, никогда не надоедает. Отложим и его к
избранным авторам. А это что за книга там, рядом с ним?
-- Это -- "Галатея" Мигеля Сервантеса, -- сказал цирюльник.
-- Много уже лет этот Сервантес мой большой друг, и я знаю, что он
более опытен в несчастии, чем в стихах. У него недурная изобретательность,
он что-то имеет в виду, но ничего не оканчивает. Надо подождать второй части
"Галатеи", обещанной им. Быть может, тогда он, исправившись, заслужит
полного прощения, в котором ему теперь отказывается. А пока что держите его
у себя в заточении, сеньор кум.
-- С удовольствием, -- ответил цирюльник. -- Здесь вот три книги
вместе: "Араукана" дона Алонсо де Эрсильи, "Аустриада" Хуана Руфо, судьи в
Кордове, и "Монсеррате" Христоваля де Вируэса, поэта из Валенсии {Эти три
книги считаются наиболее образцовыми произведениями испанской героической
поэзии.
}.
-- Эти три книги, -- сказал священник, -- лучшие из всех написанных
героическим метром на кастильском языке и могут соперничать с наиболее
знаменитыми произведениями в том же роде итальянских авторов. Будем же их
беречь, как самые роскошные поэтические алмазы, которыми обладает Испания.
Священник устал производить осмотр книгам и потому решил все оставшиеся
отдать целиком на сожжение, но цирюльник уже раскрыл одну из них,
озаглавленную "Слезы Анжелики".
-- Я бы сам пролил слезы, -- сказал священник, услыхав заглавие, --
если бы велел бросить в огонь и эту книгу, потому что ее автор был одним из
самых знаменитых поэтов не только Испании, но и всего мира, и необычайно
удачно перевел некоторые из басен Овидия.
Дон Кихот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключи от
комнаты, в которой находились книги -- виновники случившегося, -- и она с
величайшей охотой дала их ему. Все они вошли в комнату, в том числе и
ключница, и нашли более ста больших томов в очень хороших переплетах и
другие книги, меньшего формата. Как только ключница увидела их, она поспешно
выбежала из комнаты и тотчас же вернулась с чашей святой воды и пучком
иссопа {Иссоп считался издревле растением очищения и употреблялся при
изгнании бесов и нечистой силы.}.
-- Вот, ваша милость сеньор лисенсиат {Ученая степень.}, -- сказала
она, -- окропите святой водой комнату на случай, если бы тут оказался
кто-нибудь из множества волшебников, которыми полны эти книги, чтобы они не
околдовали нас в наказание за то, что мы желаем согнать их со свету.
Лисенсиат рассмеялся над простотой ключницы и велел цирюльнику передавать
ему одну за другой книги, чтоб посмотреть, о чем там речь, так как могут
найтись некоторые книги, не заслуживающие быть преданными огню.
-- Нет, -- сказала племянница, -- ни одной не надо щадить, все они
делали зло. Лучше было бы бросить их из окна во двор, свалить в кучу и
сжечь, а если нет, снести их на задний двор, там устроить костер, и тогда
дым не будет нас беспокоить.
То же самое сказала и ключница: так велико было желание обеих казнить
смертью этих невинных; но священник не согласился с ними и решил прочитать
по крайней мере хоть заглавия.
Первые книги, поданные ему маэсе Николасом, были четыре тома "Амадиса
Галльского", и священник сказал:
-- Это очень странное совпадение, потому что, как я слышал, "Амадис
Галльский" была первой из рыцарских книг, напечатанных в Испании, и все
остальные получили начало и происхождение из нее. Итак, мне кажется, что
этого Амадиса, как ересеначальника столь вредной секты, мы без всякого
снисхождения должны приговорить к сожжению.
-- Нет, сеньор, -- сказал цирюльник, -- я слышал также, что книга эта
-- лучшая из всех, сочиненных в этом роде, и потому, как единственную по
совершенству, ее следует помиловать.
-- Верно, -- сказал священник, -- и по этой причине ей даруется пока
жизнь. Посмотрим ту другую, которая рядом с ней.
-- Это, -- сказал цирюльник, -- "Подвиги Эспландиана", законного сына
Амадиса Галльского.
-- По чести говоря, -- ответил священник, -- сыну не могут быть
поставлены в оправдание достоинства отца; возьмите его, сеньора ключница,
откройте окно и выбросьте его во двор. Таким образом будет положено начало
костру, который мы собираемся устроить.
Ключница сделала это с большим удовольствием, и бедняга "Эспландиан"
полетел на задний двор, терпеливо ожидая угрожавшего ему сожжения.
-- Дальше! -- сказал священник.
-- Тут вот, -- отозвался цирюльник, -- "Амадис Греческий", и мне
кажется, что весь ряд на этой полке сродни "Амадису".
-- Пусть же все эти книги отправляются на задний двор, -- решил
священник, -- так как, за то, чтобы я мог сжечь королеву Пинтикиниестру и
пастуха Даринела с его эклогами и с чертовски запутанной болтовней их
автора, я вместе с ними сжег бы на костре и родного моего отца, если бы он
явился в облике странствующего рыцаря.
-- И я того же мнения, -- сказал цирюльник.
-- И я также,-- добавила племянница.
-- Еcли это так, -- сказала ключница, -- давайте их сюда, и пусть все
летят во двор.
Они передали ей книги, и так как их было немало, то, чтобы избавить
себя от беготни по лестнице, ключница бросила их во двор из окна.
-- А это что за бочка там? -- спросил священник.
-- Это, -- ответил цирюльник,-- "Дон Оливанте де Лаура".
-- Автор этой книги, -- сказал священник, -- вместе с тем и автор
"Цветочного сада", и право, я не мог бы решить, которое из этих двух его
сочинений более правдиво, или, точнее, менее лживо. Одно могу сказать, что
за свою напыщенность и нелепость "Оливанте" полетит во двор.
-- Следующая книга -- "Флорисмарте де Иркания", -- сообщил цирюльник.
-- Как, тут и сеньор Флорисмарте?-- спросил священник. -- По чести
говоря, ему придется тотчас же отправиться во двор, несмотря на его странное
рождение и фантастические приключения, так как сухой и жесткий слог его
ничего иного не заслуживает. Во двор его и еще вот эту книгу, сеньора
ключница!
-- С величайшим удовольствием,-- ответила та и живо исполнила данное ей
поручение.
-- Вот это -- "Рыцарь Платир",-- сказал цирюльник.
-- Старинная это книга, -- заметил священник, -- но я в ней не нахожу
ничего, заслуживающего пощады. Пусть она без возражения присоединится к
своим товарищам во дворе.
Так и было сделано. Раскрыли еще книгу, и заглавие ее оказалось "Рыцарь
Креста".
-- Ради такого святого заглавия,-- сказал священник, -- можно было бы
простить ей ее невежество, но говорят также: "Позади креста стоит дьявол" --
пусть же она отправляется в огонь!
Взяв другую книгу, цирюльник сказал:
-- Это "Зеркало рыцарства".
-- Я знаком с его милостью, -- объявил священник, -- тут речь идет о
сеньоре Рейнальдосе де Монтальбане с его друзьями и товарищами, мошенниками,
похуже Како, а также и о двенадцати пэрах Франции с правдивым историком
Турпином. По правде говоря, я стою за то, чтобы их осудить не более как на
вечное изгнание, хотя бы уже ради того, что на долю их выпала честь
вдохновить знаменитого Маттео Боярдо, из которого и христианский поэт
Людовико Ариосто заимствовал канву своей поэмы. Если я встречу здесь Ариосто
на другом, а не на родном его языке, то отнесусь к нему без всякого
уважения; если же на его родном языке, то я положу его себе на голову
{Ориентализм: добрый магометанин кладет себе на голову Коран в знак
благоговения.}.
-- У меня Ариосто на итальянском языке, но я его не понимаю, -- сказал
цирюльник.
-- Ничего хорошего не было бы, если б вы его и понимали, -- ответил
священник. -- И мы бы простили сеньора капитана {Дон Иеронимо Хименес де
Урреа -- очень плохой переводчик Ариосто на испанский язык.}, если бы он не
привез Ариосто к нам в Испанию и не сделал бы из него кастильца, потому что
этим он лишил его многих присущих ему достоинств. То же самое сделают и все
те, которые пожелали бы перевести стихотворные произведения на другой язык,
так как, сколько бы они ни старались, сколько бы ни выказывали искусства,
никогда им не достигнуть совершенства оригинала. Итак, говорю я, пусть эта
книга и все сочинения о событиях во Франции, которые еще здесь найдутся
{Речь идет о романах, относящихся к героям Карловингов.}, будут брошены на
дно сухого колодца и сложены там, пока мы после дальнейшего совещания не
решим, что с ними делать, -- исключая лишь "Бернардо дель Карпио", который,
наверное, есть здесь, и еще одной книги, озаглавленной "Ронсеваль". Как
только обе эти книги попадутся мне на глаза, я отдам их сейчас же сеньоре
ключнице, а из ее рук они без всякого промедления отправятся в огонь.
Со всем этим согласился и цирюльник и все сказанное священником одобрил
вполне, так как он его знал за доброго христианина и такого любителя истины,
который ни за что в мире не сказал бы неправды. Цирюльник раскрыл еще одну
книгу и увидел, что это "Пальмерин Оливы", а рядом лежала другая,
озаглавленная "Пальмерин Английский". Увидев эти две книги, лисенсиат
сказал:
-- Срубите поскорей эту оливу и сожгите ее так, чтоб от нее не осталось
и пепла. Английскую же пальму возьмите и сохраните, как единственную в своем
роде, и пусть для нее сделают такой же ларец, какой нашел Александр
Македонский в добыче, взятой у Дария, и предназначил для хранения
произведений Гомера. Книга эта, сеньор кум, интересна по двум причинам:
во-первых, потому что она сама по себе очень хороша, а во-вторых, автором
ее, как говорят, был мудрый португальский король. Все приключения в замке
Мирагарды превосходны и написаны с большим искусством, слог изящный и ясный,
а разговоры приноровлены, с пониманием и вкусом, к характеру действующих
лиц. Поэтому мне казалось бы -- если и вы, сеньор Николас, согласитесь со
мной, -- что следует освободить и эту книгу, и "Амадиса Галльского" от
сожжения, все же остальные без дальнейшего промедления предать огню!
-- Нет, сеньор кум, -- возразил цирюльник, -- потому что книга, которая
у меня как раз в руках, -- знаменитый "Дон Белианис".
-- Что касается его, -- ответил священник, -- то второй, третьей и
четвертой его части следовало бы дать небольшую дозу ревеня, чтобы очистить
их от излишка желчи; необходимо также выкинуть оттуда весь рассказ о храме
славы и другую, еще худшую, белиберду. В этих видах можно дать дону
Белианису отсрочку, как для проживающих за морем {Испанский закон
предоставлял всем, проживающим "за морем", известный срок, смотря по
расстоянию, чтобы приготовиться к защите.}, и -- смотря по тому, исправится
ли он или нет, -- оказать ему снисхождение, или же поступить с ним по всей
строгости закона. А пока возьмите его к себе на дом, кум, но никому не
давайте читать.
-- Прекрасно, -- ответил цирюльник, и не желая больше утруждать себя
пересмотром остальных рыцарских книг, он велел ключнице взять все большие
тома и бросить их из окна. Это было сказано не глупой и не глухой, а такой,
которая горела большим желанием сжечь эти книги, чем даже приняться за пряжу
самого широкого и тонкого в мире полотна, и потому она взяла сразу томов
восемь, чтобы бросить их из окна. Но она захватила слишком много, и одна из
книг выскользнула у нее из рук и упала к ногам цирюльника, который из
любопытства поднял ее и прочел заглавие: "История знаменитого рыцаря Тиранте
Белого".
-- Господи помоги! -- сказал громким голосом священник. Как, здесь и
"Тиранте Белый"! Дайте-ка мне его сюда, кум; я уверен, что нашел в нем клад
удовольствия и источник развлечения. Тут и храбрый рыцарь дон Кириэлейсон
{Господи помилуй нас.} де Монтальбан, и брат его Томас де Монтальбан, и
рыцарь Фонсека, и битва Тиранте с догом, и остроумные причуды девушки
Пласердемивида {Удовольствие моей жизни.}, и любовные интриги и плутни вдовы
Репосада {Спокойствие.}, и сеньора императрица, влюбленная в своего
наездника Ипполита. Истинно говорю вам, сеньор кум, относительно слога это
-- лучшая из всех книг в мире. Здесь рыцари едят и спят и умирают в своих
кроватях, перед смертью делают завещания, а также другие вещи, о которых нет
ни слова во всех остальных книгах того же рода. Тем не менее, говорю вам,
автор книги заслуживал бы, если б он намеренно написал столько безрассудств,
быть бессрочно сосланным на галеры. Возьмите его домой, прочтите, и вы
увидите, что я сказал правду.
-- Не сомневаюсь в том, -- ответил цирюльник. -- Но как нам поступить
вот с этими маленькими книжками, которые еще здесь остались?
-- Эти книжки, -- сказал священник, -- должно быть, не рыцарские
романы, а стихотворения.
Раскрыв одну из книг, он увидел, что это "Диана" {"Диана" -- пастушечья
повесть в стихах и прозе, впервые появившаяся в печати в 1545 г.}
Монтемайора, и сказал, полагая, что и все остальные в том же роде:
-- Книги эти не заслуживают быть присужденными, подобно другим, к
сожжению, потому что они не сделали и не сделают того вреда, какой принесли
рыцарские романы; это книги для времяпровождения, не причиняющие ущерба
никому.
-- Ах, сеньор, -- сказала племянница, -- лучше было бы, если б ваша
милость распорядилась сжечь и эти книги вместе с остальными, потому что
очень возможно, что мой дядя, выздоровев от рыцарской заразы и читая эти
книги, вздумает вдруг превратиться в пастуха и с песнями и музыкой будет
скитаться по лесам и полям или, что еще хуже, сделается поэтом, а это, как я
слышала, болезнь заразительная и неизлечимая.
-- Девушка говорит правду, -- сказал священник, -- и было бы хорошо
устранить с дороги нашего друга и этот камень преткновения, и эту опасность.
Но так как мы начали с "Дианы" Монтемайо-ра, я держусь мнения, чтобы не
сжигать ее, а лишь выкинуть все те места, в которых речь о мудрой Фелисии и
очарованной воде, и почти все главные стихотворения; затем в добрый час
оставим ей всю прозу, а также и честь быть родоначальницей подобных ей
произведений.
-- Следующая книга, -- сказал цирюльник, -- "Диана", называемая "Второй
Сальмантина", а эта вот тоже "Диана", но ее автор -- Хиль Поло.
-- Пусть произведение Сальмантина, -- сказал священник, -- отправится к
осужденным во двор и увеличит их число, а "Диану" Хиля Поло следует беречь,
как будто ее написал сам Аполлон. Но продолжайте, сеньор кум, нам надо
торопиться, ведь становится уже поздно.
-- Эта книга, -- сказал цирюльник, раскрывая еще одну -- "Десять книг
Фортуны любви", сочинение сардинского поэта Антонио Лофрасо.
-- Клянусь моим духовным званием, -- воскликнул священник, -- с тех
пор, как Аполлон -- Аполлон, музы -- музы, а поэты -- поэты, не было
написано более веселой и фантастической книги, чем эта. Она лучшая и
единственная в своем роде среди подобных ей, когда-либо появлявшихся на
свет, и тот, кто ее не читал, может быть уверен, что не читал никогда вещи,
написанной со вкусом. Дайте мне ее сюда, кум, я больше ценю эту находку, чем
если б мне подарили рясу из простой флорентийской материи {Все сказанное об
этой книге -- ирония.}.
Священник отложил книгу в сторону с видимым удовольствием, а цирюльник
продолжал осмотр, говоря:
-- Вот тут у нас еще "Иберийский пастух", "Нимфы Энереса" и "Излечение
от ревности".
-- Их и остается только передать в руки светской власти ключницы, --
сказал священник, -- и не спрашивайте меня почему, иначе мы никогда не
кончим.
-- А вот "Пастух Фелиды".
-- Это не пастух, -- сказал священник, -- а самый утонченный
царедворец. Сохраним его как драгоценность.
-- Большой этот том, -- продолжал цирюльник, -- озаглавлен
"Сокровищница стихотворений".
-- Если б их не было здесь так много, -- сказал священник, -- их ценили
бы больше. Необходимо прополоть эту книгу и пообчистить от некоторых плоских
и ничтожных вещей, встречающихся в ней среди истинно прекрасных. Сохраним ее
еще и оттого, что автор ее мой друг, а также и из уважения к другим более
возвышенным и героическим произведениям, которые он написал.
-- Вот эта книга -- "Песенник Лопеса Мальдонада", -- продолжал
цирюльник.
-- Автор этой книги также большой мне друг, -- сказал священник, -- и
когда он читает свои стихи, они приводят в восторг слушателей, а когда он их
поет, голос его такой сладостный, что он всех чарует. Его эклоги несколько
растянуты, но то, что хорошо, никогда не надоедает. Отложим и его к
избранным авторам. А это что за книга там, рядом с ним?
-- Это -- "Галатея" Мигеля Сервантеса, -- сказал цирюльник.
-- Много уже лет этот Сервантес мой большой друг, и я знаю, что он
более опытен в несчастии, чем в стихах. У него недурная изобретательность,
он что-то имеет в виду, но ничего не оканчивает. Надо подождать второй части
"Галатеи", обещанной им. Быть может, тогда он, исправившись, заслужит
полного прощения, в котором ему теперь отказывается. А пока что держите его
у себя в заточении, сеньор кум.
-- С удовольствием, -- ответил цирюльник. -- Здесь вот три книги
вместе: "Араукана" дона Алонсо де Эрсильи, "Аустриада" Хуана Руфо, судьи в
Кордове, и "Монсеррате" Христоваля де Вируэса, поэта из Валенсии {Эти три
книги считаются наиболее образцовыми произведениями испанской героической
поэзии.
}.
-- Эти три книги, -- сказал священник, -- лучшие из всех написанных
героическим метром на кастильском языке и могут соперничать с наиболее
знаменитыми произведениями в том же роде итальянских авторов. Будем же их
беречь, как самые роскошные поэтические алмазы, которыми обладает Испания.
Священник устал производить осмотр книгам и потому решил все оставшиеся
отдать целиком на сожжение, но цирюльник уже раскрыл одну из них,
озаглавленную "Слезы Анжелики".
-- Я бы сам пролил слезы, -- сказал священник, услыхав заглавие, --
если бы велел бросить в огонь и эту книгу, потому что ее автор был одним из
самых знаменитых поэтов не только Испании, но и всего мира, и необычайно
удачно перевел некоторые из басен Овидия.

 Они были еще заняты осмотром книг, как вдруг Дон Кихот громко закричал:
-- Сюда, сюда, доблестные рыцари! Здесь необходимо выказать силу и
отвагу вашу, потому что придворные берут верх в турнире.
На этот шум и крик все бросились в комнату к Дон Кихоту, и таким
образом был прерван осмотр еще оставшихся книг; поэтому, как полагают, в
огонь попали без суда и следствия "Каролеа" и "Лев Испанский" вместе с
подвигами императора дона Луиса де Авила, которые, без сомнения, находились
среди оставшихся книг, и, быть может, если бы священник их увидел, он не
вынес бы им такого строгого приговора.
Когда вошли в комнату к Дон Кихоту, он уже встал с постели и продолжал
кричать и говорить нелепости, размахивая мечом и рубя им во все стороны,
такой возбужденный, будто он вовсе и не спал. Его схватили и силой уложили
опять в постель, а когда он немного успокоился, то обратился к священнику,
говоря:
-- Конечно, сеньор архиепископ Турпин, нам, называющим себя двенадцатью
пэрами, должно быть стыдно, что мы без дальнейшего сопротивления уступаем
победу на турнире придворным рыцарям, после того как награды за первые
предшествующие три дня постоянно получали мы, странствующие рыцари.
-- Успокойтесь, сеньор кум, -- сказал священник, -- если Богу угодно,
все переменится, и то, что было проиграно сегодня, может быть выиграно
завтра. Теперь же позаботьтесь о вашем здоровье, потому что, как мне
кажется, вы, должно быть, чрезмерно утомлены, если еще сверх того не тяжело
ранены.
-- Нет, я не ранен, -- ответил Дон Кихот, -- а смят и избит, это не
подлежит сомнению, так как этот ублюдок дон Ролдан {Испанское имя Роланда.}
бил меня стволом дуба и сделал это лишь из зависти, потому что видел, что
один я могу соперничать с ним в доблести. Но пусть не зовут меня Рейнальдос
де Монтальбан, если он, несмотря на все его чары, не заплатит мне за это,
когда я встану с постели. А теперь пусть мне принесут поесть, так как я
знаю, что именно это мне всего нужнее, а заботу отомстить за себя пусть
предоставят мне самому.
Они исполнили его желание,-- дали ему поесть, и после того он опять
уснул, а они не могли не изумляться его безумию.
В эту же ночь ключница бросила в огонь и сожгла все книги, бывшие во
дворе и во всем доме, и, должно быть, были сожжены и такие, которые
заслуживали быть сохраненными на вечные времена в архивах, но этому помешала
их судьба и лень исследователя, и, таким образом, над ними оправдалась
пословица, что иногда праведники платятся за грешников.
Одним из средств, к которому священник и цирюльник еще прибегли для
лечения недуга своего приятеля, было запереть и заделать дверь в комнату,
где прежде хранились его книги, чтобы, когда он встанет с постели, он не
нашел бы их (быть может, с устранением причины прекратится и ее следствие),
а ему они решили сказать, что волшебник унес с собой все: и комнату, и
книги. Этот план был тотчас же приведен в исполнение.
Два дня спустя Дон Кихот встал, и первое, что он сделал, было пойти
посмотреть на свои книги. Но так как он не мог найти комнаты, где они у него
лежали, то и ходил туда и сюда, отыскивая ее. Он подходил к месту, где
прежде была дверь, ощупывал стену руками и смотрел во все стороны, не говоря
ни слова; а по прошествии довольно долгого времени он спросил ключницу: где
же комната с его книгами?
Ключница, которую уже научили, как ответить, сказала:
-- Какая комната? Или что еще там вы ищете, ваша милость? В этом доме
нет уже ни комнаты для книг, ни книг, потому что все это унес сам дьявол.
-- Не дьявол, -- поправила племянница, -- а волшебник, который явился
сюда на облаке однажды ночью после вашего отъезда и, сойдя с змея, на
котором он ехал верхом, вошел в комнату, и не знаю, что он там делал, но
вскоре он вылетел оттуда через крышу, и весь дом наполнился дымом. А когда
мы решились посмотреть, что он там наделал, мы не увидели ни комнаты, ни
книг. Только обе мы, и я, и ключница, хорошо помним, что, улетая, злой
старик громко крикнул, будто из-за тайной вражды, питаемой им к собственнику
этих книг и этой комнаты, он причинил ему ущерб, который обнаружится потом.
Он сказал также, что имя его мудрый Муньятон.
-- Вероятно, Фрестон, -- поправил Дон Кихот.
-- Не знаю, -- ответила ключница,-- зовут ли его Фристон или Фритон,
знаю только, что его имя кончается на "тон".
-- Так оно и есть, -- сказал Дон Кихот. -- Это -- мудрейший волшебник,
большой мой враг; он ненавидит меня за то, что мне со временем суждено --
как он из своих книг и мудрствований узнал -- вступить в единоборство с
одним рыцарем, которому он покровительствует, и тот рыцарь будет побежден
мной вопреки его желанию помешать этому, оттого он и старается делать мне
какие только может неприятности. Но я ему заявлял, что навряд ли ему удастся
воспротивиться тому или предотвратить то, что предназначено небом.
-- Кто сомневается в этом, -- сказала племянница. -- Но зачем же вы,
милость ваша, сеньор дядя, вмешиваетесь во все эти ссоры? Не лучше ли было
бы сидеть мирно дома и не искать по свету хлеба белее пшеничного, не говоря
уже о том, что многие идут стричь овец, а возвращаются сами остриженные.
-- О племянница моя, -- ответил Дон Кихот, -- как сильно ошибаешься ты
в своих расчетах: прежде чем меня остригут, я вырву бороды всем тем, которые
вздумали бы дотронуться до кончика хоть единого моего волоса.
Обе они, племянница и ключница, не решились больше возражать ему,
потому что видели, что в нем закипает гнев.
Случилось так, что он провел две недели очень спокойно дома, ничем не
обнаруживая желания повторить прежние свои нелепые выходки. В эти дни он с
двумя своими кумовьями -- со священником и цирюльником -- вел остроумнейшие
беседы относительно того, что миру, как он говорил, более всего нужны
странствующие рыцари и чтобы именно в его особе воскресло странствующее
рыцарство. Иногда священник противоречил Дон Кихоту, а иногда соглашался с
ним, так как если б он не прибегал к этой уловке, то не мог бы и образумить
его.
Между тем Дон Кихот осаждал своими просьбами одного крестьянина, своего
соседа, человека почтенного (если так можно назвать того, кто беден), но не
блистающего умом. Дон Кихот столько наговорил ему, столько наобещал, так
долго и много убеждал его, что бедный крестьянин наконец решился ехать с ним
и служить ему в качестве оруженосца. Между прочим, Дон Кихот говорил ему,
что ему следовало бы по собственной охоте сопровождать его, так как легко
может случиться, что ему встретится такого рода приключение, когда он во
мгновение ока приобретет какой-нибудь остров и назначит его там
губернатором.
Прельстившись этими и тому подобными обещаниями, Санчо Панса (так звали
крестьянина), оставив жену и детей, поступил на службу к своему соседу.
Тотчас же Дон Кихот стал приискивать деньги и, продав одно, заложив другое,
терпя во всем убытки, собрал довольно значительную сумму. Он запасся также и
круглым щитом, взяв его на время у одного из своих приятелей, и, починив как
можно лучше сломанный шлем, уведомил оруженосца своего, Санчо Пансу, о дне и
часе, когда он думает пуститься в путь, чтобы и он мог запастись всем
необходимым, и, главным образом, велел ему взять с собой сумки {Сумки, или
седельные вьюки, были в то время необходимой принадлежностью всех
путешественников в Испании, едущих верхом и пеших.}. Санчо сказал, что
возьмет их, а также рассчитывает взять с собой и своего осла, очень
хорошего, потому что он не привык ходить много пешком. Относительно осла Дон
Кихот несколько задумался, стараясь припомнить, сопровождал ли какого-нибудь
рыцаря оруженосец верхом на осле, и не мог припомнить ничего подобного. Тем
не менее он позволил Санчо взять осла и решил, лишь только подвернется
случай, снабдить его более почетным верховым животным, отняв коня у первого
дерзкого рыцаря, который ему встретится. Он запасся также рубашками и всем,
что мог, следуя совету, который ему дал хозяин постоялого двора.
Они были еще заняты осмотром книг, как вдруг Дон Кихот громко закричал:
-- Сюда, сюда, доблестные рыцари! Здесь необходимо выказать силу и
отвагу вашу, потому что придворные берут верх в турнире.
На этот шум и крик все бросились в комнату к Дон Кихоту, и таким
образом был прерван осмотр еще оставшихся книг; поэтому, как полагают, в
огонь попали без суда и следствия "Каролеа" и "Лев Испанский" вместе с
подвигами императора дона Луиса де Авила, которые, без сомнения, находились
среди оставшихся книг, и, быть может, если бы священник их увидел, он не
вынес бы им такого строгого приговора.
Когда вошли в комнату к Дон Кихоту, он уже встал с постели и продолжал
кричать и говорить нелепости, размахивая мечом и рубя им во все стороны,
такой возбужденный, будто он вовсе и не спал. Его схватили и силой уложили
опять в постель, а когда он немного успокоился, то обратился к священнику,
говоря:
-- Конечно, сеньор архиепископ Турпин, нам, называющим себя двенадцатью
пэрами, должно быть стыдно, что мы без дальнейшего сопротивления уступаем
победу на турнире придворным рыцарям, после того как награды за первые
предшествующие три дня постоянно получали мы, странствующие рыцари.
-- Успокойтесь, сеньор кум, -- сказал священник, -- если Богу угодно,
все переменится, и то, что было проиграно сегодня, может быть выиграно
завтра. Теперь же позаботьтесь о вашем здоровье, потому что, как мне
кажется, вы, должно быть, чрезмерно утомлены, если еще сверх того не тяжело
ранены.
-- Нет, я не ранен, -- ответил Дон Кихот, -- а смят и избит, это не
подлежит сомнению, так как этот ублюдок дон Ролдан {Испанское имя Роланда.}
бил меня стволом дуба и сделал это лишь из зависти, потому что видел, что
один я могу соперничать с ним в доблести. Но пусть не зовут меня Рейнальдос
де Монтальбан, если он, несмотря на все его чары, не заплатит мне за это,
когда я встану с постели. А теперь пусть мне принесут поесть, так как я
знаю, что именно это мне всего нужнее, а заботу отомстить за себя пусть
предоставят мне самому.
Они исполнили его желание,-- дали ему поесть, и после того он опять
уснул, а они не могли не изумляться его безумию.
В эту же ночь ключница бросила в огонь и сожгла все книги, бывшие во
дворе и во всем доме, и, должно быть, были сожжены и такие, которые
заслуживали быть сохраненными на вечные времена в архивах, но этому помешала
их судьба и лень исследователя, и, таким образом, над ними оправдалась
пословица, что иногда праведники платятся за грешников.
Одним из средств, к которому священник и цирюльник еще прибегли для
лечения недуга своего приятеля, было запереть и заделать дверь в комнату,
где прежде хранились его книги, чтобы, когда он встанет с постели, он не
нашел бы их (быть может, с устранением причины прекратится и ее следствие),
а ему они решили сказать, что волшебник унес с собой все: и комнату, и
книги. Этот план был тотчас же приведен в исполнение.
Два дня спустя Дон Кихот встал, и первое, что он сделал, было пойти
посмотреть на свои книги. Но так как он не мог найти комнаты, где они у него
лежали, то и ходил туда и сюда, отыскивая ее. Он подходил к месту, где
прежде была дверь, ощупывал стену руками и смотрел во все стороны, не говоря
ни слова; а по прошествии довольно долгого времени он спросил ключницу: где
же комната с его книгами?
Ключница, которую уже научили, как ответить, сказала:
-- Какая комната? Или что еще там вы ищете, ваша милость? В этом доме
нет уже ни комнаты для книг, ни книг, потому что все это унес сам дьявол.
-- Не дьявол, -- поправила племянница, -- а волшебник, который явился
сюда на облаке однажды ночью после вашего отъезда и, сойдя с змея, на
котором он ехал верхом, вошел в комнату, и не знаю, что он там делал, но
вскоре он вылетел оттуда через крышу, и весь дом наполнился дымом. А когда
мы решились посмотреть, что он там наделал, мы не увидели ни комнаты, ни
книг. Только обе мы, и я, и ключница, хорошо помним, что, улетая, злой
старик громко крикнул, будто из-за тайной вражды, питаемой им к собственнику
этих книг и этой комнаты, он причинил ему ущерб, который обнаружится потом.
Он сказал также, что имя его мудрый Муньятон.
-- Вероятно, Фрестон, -- поправил Дон Кихот.
-- Не знаю, -- ответила ключница,-- зовут ли его Фристон или Фритон,
знаю только, что его имя кончается на "тон".
-- Так оно и есть, -- сказал Дон Кихот. -- Это -- мудрейший волшебник,
большой мой враг; он ненавидит меня за то, что мне со временем суждено --
как он из своих книг и мудрствований узнал -- вступить в единоборство с
одним рыцарем, которому он покровительствует, и тот рыцарь будет побежден
мной вопреки его желанию помешать этому, оттого он и старается делать мне
какие только может неприятности. Но я ему заявлял, что навряд ли ему удастся
воспротивиться тому или предотвратить то, что предназначено небом.
-- Кто сомневается в этом, -- сказала племянница. -- Но зачем же вы,
милость ваша, сеньор дядя, вмешиваетесь во все эти ссоры? Не лучше ли было
бы сидеть мирно дома и не искать по свету хлеба белее пшеничного, не говоря
уже о том, что многие идут стричь овец, а возвращаются сами остриженные.
-- О племянница моя, -- ответил Дон Кихот, -- как сильно ошибаешься ты
в своих расчетах: прежде чем меня остригут, я вырву бороды всем тем, которые
вздумали бы дотронуться до кончика хоть единого моего волоса.
Обе они, племянница и ключница, не решились больше возражать ему,
потому что видели, что в нем закипает гнев.
Случилось так, что он провел две недели очень спокойно дома, ничем не
обнаруживая желания повторить прежние свои нелепые выходки. В эти дни он с
двумя своими кумовьями -- со священником и цирюльником -- вел остроумнейшие
беседы относительно того, что миру, как он говорил, более всего нужны
странствующие рыцари и чтобы именно в его особе воскресло странствующее
рыцарство. Иногда священник противоречил Дон Кихоту, а иногда соглашался с
ним, так как если б он не прибегал к этой уловке, то не мог бы и образумить
его.
Между тем Дон Кихот осаждал своими просьбами одного крестьянина, своего
соседа, человека почтенного (если так можно назвать того, кто беден), но не
блистающего умом. Дон Кихот столько наговорил ему, столько наобещал, так
долго и много убеждал его, что бедный крестьянин наконец решился ехать с ним
и служить ему в качестве оруженосца. Между прочим, Дон Кихот говорил ему,
что ему следовало бы по собственной охоте сопровождать его, так как легко
может случиться, что ему встретится такого рода приключение, когда он во
мгновение ока приобретет какой-нибудь остров и назначит его там
губернатором.
Прельстившись этими и тому подобными обещаниями, Санчо Панса (так звали
крестьянина), оставив жену и детей, поступил на службу к своему соседу.
Тотчас же Дон Кихот стал приискивать деньги и, продав одно, заложив другое,
терпя во всем убытки, собрал довольно значительную сумму. Он запасся также и
круглым щитом, взяв его на время у одного из своих приятелей, и, починив как
можно лучше сломанный шлем, уведомил оруженосца своего, Санчо Пансу, о дне и
часе, когда он думает пуститься в путь, чтобы и он мог запастись всем
необходимым, и, главным образом, велел ему взять с собой сумки {Сумки, или
седельные вьюки, были в то время необходимой принадлежностью всех
путешественников в Испании, едущих верхом и пеших.}. Санчо сказал, что
возьмет их, а также рассчитывает взять с собой и своего осла, очень
хорошего, потому что он не привык ходить много пешком. Относительно осла Дон
Кихот несколько задумался, стараясь припомнить, сопровождал ли какого-нибудь
рыцаря оруженосец верхом на осле, и не мог припомнить ничего подобного. Тем
не менее он позволил Санчо взять осла и решил, лишь только подвернется
случай, снабдить его более почетным верховым животным, отняв коня у первого
дерзкого рыцаря, который ему встретится. Он запасся также рубашками и всем,
что мог, следуя совету, который ему дал хозяин постоялого двора.
 Когда все это было сделано и устроено, Санчо Панса, не простившись с
женой и детьми, а Дон Кихот -- с племянницей и ключницей, однажды ночью
выехали из села так, что никто их не видел, и, не останавливаясь, ехали всю
ночь до рассвета, когда они могли быть уверены, что их нельзя уже найти,
если б даже и пытались искать их.
Санчо Панса ехал на своем осле, как патриарх, со своими сумками, со
своим бурдюком и с большим желанием увидеть себя поскорей губернатором
острова, обещанного ему господином. Случилось, что Дон Кихот избрал то же
направление и тот же путь, как и в первый свой выезд, а именно Монтьельскую
долину, по которой он ехал теперь с меньшим неудобством, чем в тот раз,
потому что было раннее утро и солнечные лучи, падая косвенно, не так
припекали.
Между тем Санчо Панса сказал своему господину:
-- Смотрите, милость ваша, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте
того, что вы мне обещали насчет острова, потому что я сумею управлять им,
как бы он ни был велик.
На это Дон Кихот ответил:
-- Ты должен знать, друг Санчо Панса, что среди старинных странствующих
рыцарей был очень распространен обычай назначать своих оруженосцев
губернаторами тех островов или королевств, которые они завоевывали; и я, со
своей стороны, решил не только придерживаться этого похвального обычая, но
даже пойти дальше в том же направлении, так как прежние рыцари иногда, и
даже, быть может, чаще всего, ждали, чтобы оруженосцы их состарились; и уже
после того, как они обессилели у них на службе, проводя плохо дни и еще хуже
ночи, они давали им какой-нибудь титул графа или по меньшей мере маркиза
того или иного местечка, или более или менее значительной области. Но если
ты и я, мы оба, останемся живы, весьма возможно, что меньше чем через неделю
я завоюю королевство, которому будут подчинены еще несколько других
королевств, как раз подходящих для того, чтобы короновать тебя королем
одного из них. И не считай это за диковину, потому что со странствующими
рыцарями приключаются такие неслыханные и невиданные вещи и случаи, что я
легко мог бы дать тебе даже больше того, что обещал.
-- Таким образом, -- ответил Санчо Панса, -- если б я сделался королем
благодаря какому-нибудь чуду из тех, о которых говорит ваша милость, по
меньшей мере Хуана Гутьерес, моя птаха, стала бы королевой, а дети мои --
инфантами?
-- Кто же сомневается в этом? -- ответил Дон Кихот.
-- Я сомневаюсь, -- возразил Санчо Панса, -- потому что я так думаю про
себя: если б даже Бог послал на землю дождь из королевских корон, все равно
ни одна из них не пришлась бы по голове Мари Гутьерес. Знайте, сеньор, что
как королева она не стоила бы и двух мараведисов; графиня подошла бы к ней
лучше, -- и тут еще помоги господи!
Когда все это было сделано и устроено, Санчо Панса, не простившись с
женой и детьми, а Дон Кихот -- с племянницей и ключницей, однажды ночью
выехали из села так, что никто их не видел, и, не останавливаясь, ехали всю
ночь до рассвета, когда они могли быть уверены, что их нельзя уже найти,
если б даже и пытались искать их.
Санчо Панса ехал на своем осле, как патриарх, со своими сумками, со
своим бурдюком и с большим желанием увидеть себя поскорей губернатором
острова, обещанного ему господином. Случилось, что Дон Кихот избрал то же
направление и тот же путь, как и в первый свой выезд, а именно Монтьельскую
долину, по которой он ехал теперь с меньшим неудобством, чем в тот раз,
потому что было раннее утро и солнечные лучи, падая косвенно, не так
припекали.
Между тем Санчо Панса сказал своему господину:
-- Смотрите, милость ваша, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте
того, что вы мне обещали насчет острова, потому что я сумею управлять им,
как бы он ни был велик.
На это Дон Кихот ответил:
-- Ты должен знать, друг Санчо Панса, что среди старинных странствующих
рыцарей был очень распространен обычай назначать своих оруженосцев
губернаторами тех островов или королевств, которые они завоевывали; и я, со
своей стороны, решил не только придерживаться этого похвального обычая, но
даже пойти дальше в том же направлении, так как прежние рыцари иногда, и
даже, быть может, чаще всего, ждали, чтобы оруженосцы их состарились; и уже
после того, как они обессилели у них на службе, проводя плохо дни и еще хуже
ночи, они давали им какой-нибудь титул графа или по меньшей мере маркиза
того или иного местечка, или более или менее значительной области. Но если
ты и я, мы оба, останемся живы, весьма возможно, что меньше чем через неделю
я завоюю королевство, которому будут подчинены еще несколько других
королевств, как раз подходящих для того, чтобы короновать тебя королем
одного из них. И не считай это за диковину, потому что со странствующими
рыцарями приключаются такие неслыханные и невиданные вещи и случаи, что я
легко мог бы дать тебе даже больше того, что обещал.
-- Таким образом, -- ответил Санчо Панса, -- если б я сделался королем
благодаря какому-нибудь чуду из тех, о которых говорит ваша милость, по
меньшей мере Хуана Гутьерес, моя птаха, стала бы королевой, а дети мои --
инфантами?
-- Кто же сомневается в этом? -- ответил Дон Кихот.
-- Я сомневаюсь, -- возразил Санчо Панса, -- потому что я так думаю про
себя: если б даже Бог послал на землю дождь из королевских корон, все равно
ни одна из них не пришлась бы по голове Мари Гутьерес. Знайте, сеньор, что
как королева она не стоила бы и двух мараведисов; графиня подошла бы к ней
лучше, -- и тут еще помоги господи!
 -- Предоставь все это Богу, Санчо, -- сказал Дон Кихот. -- Он даст ей
то, что всего лучше для нее; но ты не унижайся духом настолько, чтобы
удовлетвориться меньшим, чем генерал-губернаторством.
-- Этого я не сделаю, сеньор, -- ответил Санчо, -- тем более, что я
имею в вашей милости такого превосходного господина, который сумеет дать мне
все то, что мне будет и полезно, и под силу.
-- Предоставь все это Богу, Санчо, -- сказал Дон Кихот. -- Он даст ей
то, что всего лучше для нее; но ты не унижайся духом настолько, чтобы
удовлетвориться меньшим, чем генерал-губернаторством.
-- Этого я не сделаю, сеньор, -- ответил Санчо, -- тем более, что я
имею в вашей милости такого превосходного господина, который сумеет дать мне
все то, что мне будет и полезно, и под силу.

 В это время они увидели тридцать или сорок ветряных мельниц, бывших на
той равнине, и, как только Дон Кихот заметил их, он сказал своему
оруженосцу: -- Счастливая судьба устраивает наши дела даже лучше, чем мы
могли бы желать, так как, -- взгляни туда, друг Санчо Панса, -- видишь ты
тридцать или более чудовищных великанов, с которыми я намерен вступить в бой
и всех их лишить жизни? А добычей, отнятой у них, мы положим начало нашему
обогащению, потому что это справедливая война и великая заслуга перед Богом
-- искоренять столь дурное семя с лица земли.
-- Какие великаны? -- спросил Санчо Панса.
-- Вот те, которых ты там видишь,-- ответил его господин, -- с
громадными руками, у некоторых они длиною чуть-ли не в две мили.
-- Посмотрите хорошенько, милость ваша, -- ответил Санчо, -- то, что вы
там видите, это не великаны, а ветряные мельницы, и то, что вы считаете их
руками, -- мельничные крылья, которые поворачивает ветер, а они приводят в
движение жернова.
-- Сейчас видно, -- ответил Дон Кихот, -- что ты мало сведущ в деле
приключений. Это великаны, а если ты боишься, уходи отсюда и читай молитвы в
то время, как я вступлю с ними в неравный и жестокий бой.
С этими словами Дон Кихот пришпорил своего коня Росинанта, не обращая
внимания на крики, которыми его оруженосец Санчо предостерегал его, что, без
сомнения, это ветряные мельницы, а не великаны, на которых он собирается
напасть. Однако рыцарь был твердо убежден, что это великаны, и не слышал
криков Санчо, не видел и не различал, что такое перед ним, хотя уже подъехал
близко к мельницам, и громким голосом кричал им:
-- Не бегите, трусливые и низкие созданья, так как один лишь рыцарь
идет против вас.
В это время подул легкий ветер, и большие мельничные крылья стали
двигаться; увидав это, Дон Кихот воскликнул:
-- Хотя бы вы двигали еще большим числом рук, чем их было у великана
Бриарея, вы за это поплатитесь мне!
Говоря так, он всей душой поручил себя своей сеньоре Дульсинее, прося
ее помочь ему в опасности, и, прикрыв себя щитом, с копьем наперевес
устремился во весь галоп вперед и атаковал ближайшую мельницу. Но в ту
минуту, когда он вонзал копье в ее крыло, ветер так бешено повернул это
крыло, что копье разлетелось вдребезги, а всадник и конь были приподняты и с
размаху отброшены далеко в поле. Санчо Панса поспешил во всю прыть своего
осла на помощь к своему господину, и когда он подъехал к нему, то увидел,
что он не может шевельнуться, так сильно было его падение с Росинанта.
-- Помилуй нас, господи, -- сказал Санчо, -- не говорил ли я вашей
милости, чтобы вы подумали о том, что делаете, и что перед вами не что иное,
как ветряные мельницы, и не знать этого мог только тот, у кого в голове были
другие такие же ветряные мельницы.
-- Молчи, друг Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- военные дела более
других подвержены постоянным превращениям. Тем более что я думаю -- и оно
так и есть в действительности, -- мудрый Фрестон, похитивший у меня комнату
с книгами, превратил и этих великанов в ветряные мельницы, чтобы отнять у
меня славу победы над ними, -- такова ненависть его ко мне. Но в конце
концов восторжествует мой добрый меч над злыми его кознями.
-- Что Бог даст, то и будет, -- ответил Санчо Панса, помогая Дон Кихоту
подняться и усаживая его на Росинанта, у которого чуть ли не были вывихнуты
лопатки.
И, разговаривая о случившемся приключении, они поехали по дороге к
горному ущелью Лаписе, потому что там, как говорил Дон Кихот, им не могли не
встретиться многие и самые разнообразные приключения, так как немало народу
посещает это место. Рыцарь был сильно опечален утратой своего копья и,
говоря об этом со своим оруженосцем, сказал:
-- Помнится, я читал где-то, что испанский рыцарь по имени дон Диего
Перес де Варгас, потеряв в битве меч, отломил от дуба огромный сук и в тот
же день совершил с ним столько подвигов и разгромил столько мавров, что
получил прозвище Мачука {Machucar (исп.) -- громить, размозжить.}, и с этого
дня он, как и все его потомки, стали называться Варгас-и-Мачука. Я рассказал
тебе это потому, что и я намерен отломить от первого попавшегося дуба
подобный же здоровенный сук, и с ним думаю и надеюсь совершить такие
подвиги, что ты будешь считать за счастье удостоиться видеть их и быть
свидетелем дел, которым едва можно будет поверить.
В это время они увидели тридцать или сорок ветряных мельниц, бывших на
той равнине, и, как только Дон Кихот заметил их, он сказал своему
оруженосцу: -- Счастливая судьба устраивает наши дела даже лучше, чем мы
могли бы желать, так как, -- взгляни туда, друг Санчо Панса, -- видишь ты
тридцать или более чудовищных великанов, с которыми я намерен вступить в бой
и всех их лишить жизни? А добычей, отнятой у них, мы положим начало нашему
обогащению, потому что это справедливая война и великая заслуга перед Богом
-- искоренять столь дурное семя с лица земли.
-- Какие великаны? -- спросил Санчо Панса.
-- Вот те, которых ты там видишь,-- ответил его господин, -- с
громадными руками, у некоторых они длиною чуть-ли не в две мили.
-- Посмотрите хорошенько, милость ваша, -- ответил Санчо, -- то, что вы
там видите, это не великаны, а ветряные мельницы, и то, что вы считаете их
руками, -- мельничные крылья, которые поворачивает ветер, а они приводят в
движение жернова.
-- Сейчас видно, -- ответил Дон Кихот, -- что ты мало сведущ в деле
приключений. Это великаны, а если ты боишься, уходи отсюда и читай молитвы в
то время, как я вступлю с ними в неравный и жестокий бой.
С этими словами Дон Кихот пришпорил своего коня Росинанта, не обращая
внимания на крики, которыми его оруженосец Санчо предостерегал его, что, без
сомнения, это ветряные мельницы, а не великаны, на которых он собирается
напасть. Однако рыцарь был твердо убежден, что это великаны, и не слышал
криков Санчо, не видел и не различал, что такое перед ним, хотя уже подъехал
близко к мельницам, и громким голосом кричал им:
-- Не бегите, трусливые и низкие созданья, так как один лишь рыцарь
идет против вас.
В это время подул легкий ветер, и большие мельничные крылья стали
двигаться; увидав это, Дон Кихот воскликнул:
-- Хотя бы вы двигали еще большим числом рук, чем их было у великана
Бриарея, вы за это поплатитесь мне!
Говоря так, он всей душой поручил себя своей сеньоре Дульсинее, прося
ее помочь ему в опасности, и, прикрыв себя щитом, с копьем наперевес
устремился во весь галоп вперед и атаковал ближайшую мельницу. Но в ту
минуту, когда он вонзал копье в ее крыло, ветер так бешено повернул это
крыло, что копье разлетелось вдребезги, а всадник и конь были приподняты и с
размаху отброшены далеко в поле. Санчо Панса поспешил во всю прыть своего
осла на помощь к своему господину, и когда он подъехал к нему, то увидел,
что он не может шевельнуться, так сильно было его падение с Росинанта.
-- Помилуй нас, господи, -- сказал Санчо, -- не говорил ли я вашей
милости, чтобы вы подумали о том, что делаете, и что перед вами не что иное,
как ветряные мельницы, и не знать этого мог только тот, у кого в голове были
другие такие же ветряные мельницы.
-- Молчи, друг Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- военные дела более
других подвержены постоянным превращениям. Тем более что я думаю -- и оно
так и есть в действительности, -- мудрый Фрестон, похитивший у меня комнату
с книгами, превратил и этих великанов в ветряные мельницы, чтобы отнять у
меня славу победы над ними, -- такова ненависть его ко мне. Но в конце
концов восторжествует мой добрый меч над злыми его кознями.
-- Что Бог даст, то и будет, -- ответил Санчо Панса, помогая Дон Кихоту
подняться и усаживая его на Росинанта, у которого чуть ли не были вывихнуты
лопатки.
И, разговаривая о случившемся приключении, они поехали по дороге к
горному ущелью Лаписе, потому что там, как говорил Дон Кихот, им не могли не
встретиться многие и самые разнообразные приключения, так как немало народу
посещает это место. Рыцарь был сильно опечален утратой своего копья и,
говоря об этом со своим оруженосцем, сказал:
-- Помнится, я читал где-то, что испанский рыцарь по имени дон Диего
Перес де Варгас, потеряв в битве меч, отломил от дуба огромный сук и в тот
же день совершил с ним столько подвигов и разгромил столько мавров, что
получил прозвище Мачука {Machucar (исп.) -- громить, размозжить.}, и с этого
дня он, как и все его потомки, стали называться Варгас-и-Мачука. Я рассказал
тебе это потому, что и я намерен отломить от первого попавшегося дуба
подобный же здоровенный сук, и с ним думаю и надеюсь совершить такие
подвиги, что ты будешь считать за счастье удостоиться видеть их и быть
свидетелем дел, которым едва можно будет поверить.
 -- Дай-то бог, -- сказал Санчо, -- я верю всему, что говорит ваша
милость. Но выпрямитесь немного, а то кажется, будто вы свесились на один
бок; должно быть, это от ушиба во время падения.
-- Ты прав, -- ответил Дон Кихот,-- и если я не жалуюсь на боль, то
лишь потому, что странствующим рыцарям не позволено жаловаться на раны,
полученные ими, каковы бы они ни были, хотя бы даже кишки вывалились наружу.
-- Если это так, я ничего не могу возразить, -- ответил Санчо. -- Но
знает бог, что я был бы рад, чтобы ваша милость жаловалась, когда у вас
что-нибудь болит. О себе же могу сказать, что буду охать от малейшей боли,
если только запрещение жаловаться не распространяется и на оруженосцев
странствующих рыцарей.
Дон Кихот не мог не рассмеяться над простодушием своего оруженосца и
объяснил ему, что он может себе охать, сколько и когда захочет, основательно
или неосновательно, как ему вздумается, потому что до сих пор он не прочитал
в рыцарских уставах ничего противного этому.
Санчо напомнил ему, что наступило время закусить, но господин его
ответил, что не чувствует в этом потребности, а Санчо может есть, когда ему
захочется. Получив разрешение, оруженосец устроился как мог удобнее на своем
осле и, вынимая из сумок то, что у него было там припасено, ехал за своим
господином и ел в свое удовольствие. Время от времени он с таким
наслаждением прикладывался к бурдюку с вином, что самый упитанный шинкарь в
Малаге мог бы ему позавидовать. И пока он таким образом ехал, то и дело
пропуская себе в горло вино глоток за глотком, он уже не думал ни о каких
обещаниях господина своего и не считал за труд, а только за приятный отдых
поиски приключений, как бы опасны они ни были.
Эту ночь они провели под деревьями, и от одного из них Дон Кихот
отломал сухой сук, который почти мог служить ему копьем, и насадил на него
железное острие, снятое им с прежнего сломанного копья. Всю эту ночь Дон
Кихот провел без сна, думая о своей сеньоре Дульсинее, чтобы подражать тому,
что он прочел в своих книгах, когда рыцари проводили многие ночи в лесах и
пустынных местностях без сна, погруженные в воспоминания о своих дамах. Не
так провел эту ночь Санчо Панса, наполнив себе желудок, да притом и не
цикорной водой {Цикорная вода была в большом ходу в те времена в качестве
прохладительного напитка; особенно же она считалась полезной для печени.},
он беспросыпно проспал до утра, и его не разбудили бы -- если бы господин не
окликнул его -- ни солнечные лучи, ударявшие ему прямо в лицо, ни пение
птиц, которые в большом числе и очень радостно приветствовали появление
нового дня. Вставая, Санчо ощупал бурдюк и нашел его несколько более тощим,
чем накануне вечером, и сердце его опечалилось тем, что, как ему казалось,
не так скоро явится возможность пополнить эту убыль. Дон Кихот не пожелал
завтракать, потому что, как уже было сказано, он питался приятными
воспоминаниями. Они снова продолжали начатый путь к ущелью Лаписе и около
трех часов дня увидели издали это место.
-- Здесь, -- сказал тогда Дон Кихот, -- мы можем, брат Санчо Панса,
окунуть руки наши по локоть в то, что называют приключениями. Но обрати
внимание: хотя бы ты меня видел в величайшей опасности в мире, ты не должен
браться за меч, чтобы защитить меня, разве увидишь, что те, которые
нападают, -- сволочь и люди низкого звания, -- в таком случае ты можешь
помочь мне. Но если это рыцари, никоим образом тебе не дозволяется и не
разрешается рыцарскими законами вступаться за меня, пока ты не будешь
посвящен в рыцари.
-- Дай-то бог, -- сказал Санчо, -- я верю всему, что говорит ваша
милость. Но выпрямитесь немного, а то кажется, будто вы свесились на один
бок; должно быть, это от ушиба во время падения.
-- Ты прав, -- ответил Дон Кихот,-- и если я не жалуюсь на боль, то
лишь потому, что странствующим рыцарям не позволено жаловаться на раны,
полученные ими, каковы бы они ни были, хотя бы даже кишки вывалились наружу.
-- Если это так, я ничего не могу возразить, -- ответил Санчо. -- Но
знает бог, что я был бы рад, чтобы ваша милость жаловалась, когда у вас
что-нибудь болит. О себе же могу сказать, что буду охать от малейшей боли,
если только запрещение жаловаться не распространяется и на оруженосцев
странствующих рыцарей.
Дон Кихот не мог не рассмеяться над простодушием своего оруженосца и
объяснил ему, что он может себе охать, сколько и когда захочет, основательно
или неосновательно, как ему вздумается, потому что до сих пор он не прочитал
в рыцарских уставах ничего противного этому.
Санчо напомнил ему, что наступило время закусить, но господин его
ответил, что не чувствует в этом потребности, а Санчо может есть, когда ему
захочется. Получив разрешение, оруженосец устроился как мог удобнее на своем
осле и, вынимая из сумок то, что у него было там припасено, ехал за своим
господином и ел в свое удовольствие. Время от времени он с таким
наслаждением прикладывался к бурдюку с вином, что самый упитанный шинкарь в
Малаге мог бы ему позавидовать. И пока он таким образом ехал, то и дело
пропуская себе в горло вино глоток за глотком, он уже не думал ни о каких
обещаниях господина своего и не считал за труд, а только за приятный отдых
поиски приключений, как бы опасны они ни были.
Эту ночь они провели под деревьями, и от одного из них Дон Кихот
отломал сухой сук, который почти мог служить ему копьем, и насадил на него
железное острие, снятое им с прежнего сломанного копья. Всю эту ночь Дон
Кихот провел без сна, думая о своей сеньоре Дульсинее, чтобы подражать тому,
что он прочел в своих книгах, когда рыцари проводили многие ночи в лесах и
пустынных местностях без сна, погруженные в воспоминания о своих дамах. Не
так провел эту ночь Санчо Панса, наполнив себе желудок, да притом и не
цикорной водой {Цикорная вода была в большом ходу в те времена в качестве
прохладительного напитка; особенно же она считалась полезной для печени.},
он беспросыпно проспал до утра, и его не разбудили бы -- если бы господин не
окликнул его -- ни солнечные лучи, ударявшие ему прямо в лицо, ни пение
птиц, которые в большом числе и очень радостно приветствовали появление
нового дня. Вставая, Санчо ощупал бурдюк и нашел его несколько более тощим,
чем накануне вечером, и сердце его опечалилось тем, что, как ему казалось,
не так скоро явится возможность пополнить эту убыль. Дон Кихот не пожелал
завтракать, потому что, как уже было сказано, он питался приятными
воспоминаниями. Они снова продолжали начатый путь к ущелью Лаписе и около
трех часов дня увидели издали это место.
-- Здесь, -- сказал тогда Дон Кихот, -- мы можем, брат Санчо Панса,
окунуть руки наши по локоть в то, что называют приключениями. Но обрати
внимание: хотя бы ты меня видел в величайшей опасности в мире, ты не должен
браться за меч, чтобы защитить меня, разве увидишь, что те, которые
нападают, -- сволочь и люди низкого звания, -- в таком случае ты можешь
помочь мне. Но если это рыцари, никоим образом тебе не дозволяется и не
разрешается рыцарскими законами вступаться за меня, пока ты не будешь
посвящен в рыцари.
 -- Будьте покойны, сеньор, -- сказал Санчо, -- я точно исполню это
приказание вашей милости, тем более что сам по себе я миролюбив и враг
всякого вмешательства в чужие ссоры и распри. Что же касается защиты
собственной моей особы, не очень я обращу внимание на эти правила, так как
божественные и человеческие законы дозволяют, чтобы каждый защищался против
того, кто хочет его обидеть.
-- Совершенно согласен с тобой,-- ответил Дон Кихот, -- но в деле твоей
помощи мне против рыцарей тебе придется наложить узду на свою горячность.
-- Повторяю, что исполню ваше приказание и также свято сумею следовать
ему, как и предписанию о воскресном отдыхе.
В то время, как они так разговаривали, на дороге показались два монаха
бенедиктинского ордена верхом на двух дромадерах, так как мулы, на которых
они ехали, были немногим меньше дромадеров. На путешественниках были надеты
дорожные маски {Это были маски из картона со стеклами для глаз для защиты
лица от пыли и солнца.}, а в руках они держали зонтики. За ними ехала
карета, сопровождаемая четырьмя или пятью всадниками и двумя пешими
погонщиками мулов. В карете сидела, как впоследствии оказалось, одна сеньора
из Бискайи, ехавшая в Севилью, где находился ее муж, который был назначен в
Индию на весьма почетную должность. Монахи не сопровождали ее, а только
ехали по той же дороге, как и она.
Едва Дон Кихот завидел их, как тотчас же сказал своему оруженосцу:
-- Или я ошибаюсь, или это будет самое громкое приключение, какое
когда-либо видели, потому что эти черные фигуры, которые там появились,
должны быть и есть, без сомнения, волшебники; они везут в карете похищенную
ими принцессу, и мне всеми силами необходимо исправить это зло.
-- Дело это будет похуже ветряных мельниц, -- сказал Санчо. --
Слушайте, сеньор, ведь это монахи бенедиктинского ордена, а в карете, должно
быть, едут путешественники. Повторяю вам, обдумайте хорошенько, что делаете,
чтобы дьявол опять не попутал вас.
-- Я уже говорил тебе, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- что ты мало
смыслишь в приключениях. То, что я утверждаю, несомненно, и ты сейчас в этом
убедишься.
Говоря это, Дон Кихот поскакал вперед, остановился среди дороги, по
которой ехали монахи, и, когда ему показалось, что они настолько
приблизились, что могут расслышать его слова, он громким голосом крикнул им:
-- Чудовищное, дьявольское отродье, сейчас же освободите знатных
принцесс, которых вы против их воли везете в карете; если же нет,
приготовьтесь к немедленной смерти, как к достойной каре за ваши злодеяния!
Монахи попридержали поводья своих мулов и, изумленные как фигурой Дон
Кихота, так и его словами, ответили:
-- Сеньор рыцарь, мы вовсе не чудовища и не дьявольское отродье, а два
монаха бенедиктинского ордена. Следуем мы своей дорогой и не знаем, едут ли
или нет в той карете какие-нибудь похищенные принцессы.
-- Меня вы не обманете льстивыми словами, потому что я вас знаю,
вероломная сволочь! -- крикнул Дон Кихот и, не дожидаясь ответа, пришпорил
Росинанта и, размахнувшись копьем, устремился на первого монаха с таким
бешенством и яростью, что если б тот сам не соскочил с мула, то был бы
сброшен с седла и тяжело ранен, а может быть, и убит. Когда второй монах
увидел, как обошлись с его товарищем, он всадил пятки в бока своего доброго
мула и быстрее ветра помчался по долине.
Санчо Панса, увидав лежащего на земле монаха, быстро слез со своего
осла, бросился к упавшему и стал снимать с него одежду. В это время
подоспели двое слуг монахов и спросили его, зачем он раздевает их господина.
Санчо ответил, что это добыча, принадлежащая ему по праву победы, одержанной
его сеньором, Дон Кихотом. Слуги, не склонные к шуткам и ничего не
понимавшие, какая тут добыча и победа, увидав, что Дон Кихот отъехал и
разговаривает с сидящими в карете, набросились на Санчо, повалили его на
землю, вырвали ему бороду и так отколотили, что он лежал, растянувшись на
земле, без памяти и без дыхания. Что же касается упавшего монаха, он, не
медля ни минуты, взобрался снова на своего мула, весь дрожа, перепуганный, с
мертвенно бледным лицом, и, когда он очутился верхом, он поскакал вслед за
своим товарищем, который, отъехав на порядочное расстояние, поджидал его и
смотрел, чем кончится весь этот ужас; и не желая дожидаться конца
приключения, они продолжали свой путь, творя крестное знамение усерднее, чем
если бы дьявол сидел у них за плечами.
В это время Дон Кихот, как уже было сказано, разговаривал с дамой,
сидевшей в карете, говоря ей:
-- Ваша красота, сеньора моя, может теперь располагать собою, как ей
заблагорассудится, так как гордость похитителей ваших повержена в прах моей
сильной рукой. А чтобы избавить вас от труда узнавать имя вашего
освободителя, знайте, что я -- Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь,
искатель приключений и пленник несравненной и прекрасной доньи Дульси-неи
Тобосской. В благодарность за оказанную вам услугу я прошу вас только об
одном: чтобы вы вернулись в Тобосо, от моего имени представились сеньоре
Дульсинее и рассказали бы ей то, что я сделал для вашего освобождения.
Один из всадников, сопровождавших карету, родом бискаец, слышал, что
говорил Дон Кихот. Видя, что он не пускает карету ехать дальше, а требует,
чтобы она повернула тотчас же в Тобосо, бискаец подъехал к Дон Кихоту,
схватил его за копье и обратился к нему не то на плохом кастильском языке,
не то на еще худшем бискайском, говоря:
-- Уберись, рыцарь, ходи к черту! Клянусь Богом, создавшим меня, если
мешаешь проехать карете, я убью тебя так верно, как я бискаец.
Дон Кихот понял его и очень спокойно ответил ему:
-- Если б ты был рыцарь -- но ты не рыцарь, -- я бы уже наказал тебя за
твою глупость и дерзость, презренное создание.
На это бискаец ответил:
-- Я не рыцарь? Клянусь Богом, так же лжешь, как то, что ты христианин.
Брось копье, возьми в руки меч, и тотчас ты увидишь воду, которую несешь к
кошке {Llevar el goto alagua -- "нести кошку в воду", общеупотребительное
испанское выражение, когда речь идет о трудном и опасном предприятии.
Бискаец в своем гневе говорит эту фразу навыворот.}. Бискаец на суше,
идальго на море -- идальго к черту, и лжешь, если говоришь, что это
неправда.
-- Теперь вы увидите, сказал Аграхес {Фраза, вошедшая в поговорку в
Испании, взятая из "Амадиса". Аграхес был двоюродный брат Амадиса, всегда
угрожавший своим противникам, когда они его вызывали, словами: "Теперь вы
увидите!".Эти все местности были известны в то время как притоны воров и
мазуриков.}, -- ответил Дон Кихот и, бросив копье на землю, обнажил меч,
прикрылся щитом и устремился на бискайца с явным намерением лишить его
жизни.
Бискаец, видя это, хотел соскочить с мула, так как тот был плохой, из
наемных, и он не мог ему доверять, но не успел сделать ничего другого, как
только обнажить меч. К счастью своему, он находился близ кареты, откуда мог
взять подушку, которая заменила ему щит, и тотчас же противники ринулись
друг на друга, точно два смертельных врага. Остальные бывшие там пытались
примирить их, но не могли, потому что бискаец сказал на своем ломаном
наречии, что, если ему не дадут кончить сражения, он собственноручно убьет
свою госпожу и всякого, кто ему станет мешать. Дама, сидевшая в карете,
изумленная и испуганная тем, что видела, приказала кучеру отъехать немного в
сторону и стала издали смотреть на ужасную битву, в течение которой бискаец
нанес Дон Кихоту такой страшный удар по плечу, что, если б рыцарь не защитил
себя щитом, он был бы рассечен до пояса.
Почувствовав тяжесть этого чудовищного удара, Дон Кихот воскликнул
громким голосом:
-- О повелительница души моей, Дульсинея, цвет красоты! Помогите вашему
рыцарю, который, чтобы доставить удовлетворение великой вашей доброте,
находится в столь страшной опасности!
Сказать это, схватить меч, хорошенько прикрыться круглым щитом и
кинуться на бискайца -- было для него делом мгновения, так как он решил
поставить сразу все на карту и покончить битву одним ударом. Бискаец, видя,
что рыцарь так стремительно несется на него, понял всю отвагу его намерения
и, с своей стороны, решил поступить так же, как и Дон Кихот; итак, он ждал
его, хорошо прикрывшись подушкой, не имея возможности двинуть своего мула ни
в ту, ни в другую сторону, потому что страшно утомленное и непривычное к
подобным штукам животное стояло как вкопанное. Дон Кихот, как уже было
сказано, устремился на осторожного бискайца с поднятым мечом и с твердым
намерением разрубить его пополам, а бискаец, со своей стороны, ждал его тоже
с поднятым мечом и под прикрытием подушки вместо щита. Все присутствовавшие
стояли исполненные страха и ожидания, какой будет исход столь ужасных
ударов, которыми противники угрожали друг другу. Дама, сидевшая в карете, и
ее прислужница творили молитвы и давали тысячи обетов всем храмам с особо
почитаемыми иконами в Испании, только бы Бог спас и бискайца, и их самих от
угрожавшей им великой опасности.
Но горе в том, что как раз в эту минуту и на этом месте автор истории
оставляет битву нерешенной, оправдываясь тем, что он не нашел других
сообщений об этих подвигах Дон Кихота, кроме уже переданных. Правда, что
второй автор {Само собой разумеется, что этот второй автор -- тот же
Сервантес, придумавший фикцию о Сиде Амете бен-Енхели, арабском авторе "Дон
Кихота", лишь в подражание рыцарским книгам, авторство которых приписывалось
обыкновенно чужеземным источникам, большею частью восточным писателям.}
этого сочинения не захотел поверить, чтобы столь любопытная история могла
быть предана забвению или же чтобы умы Ламанчи были так мало любознательны,
что в ламанчских архивах или письменных столах не нашлись бы документы,
относящиеся к столь знаменитому рыцарю. Уверенный в этом, он не отчаивался
найти конец этой приятной истории, и, так как небо благоприятствовало ему,
он и нашел его, а каким образом, -- будет рассказано в следующей главе.
-- Будьте покойны, сеньор, -- сказал Санчо, -- я точно исполню это
приказание вашей милости, тем более что сам по себе я миролюбив и враг
всякого вмешательства в чужие ссоры и распри. Что же касается защиты
собственной моей особы, не очень я обращу внимание на эти правила, так как
божественные и человеческие законы дозволяют, чтобы каждый защищался против
того, кто хочет его обидеть.
-- Совершенно согласен с тобой,-- ответил Дон Кихот, -- но в деле твоей
помощи мне против рыцарей тебе придется наложить узду на свою горячность.
-- Повторяю, что исполню ваше приказание и также свято сумею следовать
ему, как и предписанию о воскресном отдыхе.
В то время, как они так разговаривали, на дороге показались два монаха
бенедиктинского ордена верхом на двух дромадерах, так как мулы, на которых
они ехали, были немногим меньше дромадеров. На путешественниках были надеты
дорожные маски {Это были маски из картона со стеклами для глаз для защиты
лица от пыли и солнца.}, а в руках они держали зонтики. За ними ехала
карета, сопровождаемая четырьмя или пятью всадниками и двумя пешими
погонщиками мулов. В карете сидела, как впоследствии оказалось, одна сеньора
из Бискайи, ехавшая в Севилью, где находился ее муж, который был назначен в
Индию на весьма почетную должность. Монахи не сопровождали ее, а только
ехали по той же дороге, как и она.
Едва Дон Кихот завидел их, как тотчас же сказал своему оруженосцу:
-- Или я ошибаюсь, или это будет самое громкое приключение, какое
когда-либо видели, потому что эти черные фигуры, которые там появились,
должны быть и есть, без сомнения, волшебники; они везут в карете похищенную
ими принцессу, и мне всеми силами необходимо исправить это зло.
-- Дело это будет похуже ветряных мельниц, -- сказал Санчо. --
Слушайте, сеньор, ведь это монахи бенедиктинского ордена, а в карете, должно
быть, едут путешественники. Повторяю вам, обдумайте хорошенько, что делаете,
чтобы дьявол опять не попутал вас.
-- Я уже говорил тебе, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- что ты мало
смыслишь в приключениях. То, что я утверждаю, несомненно, и ты сейчас в этом
убедишься.
Говоря это, Дон Кихот поскакал вперед, остановился среди дороги, по
которой ехали монахи, и, когда ему показалось, что они настолько
приблизились, что могут расслышать его слова, он громким голосом крикнул им:
-- Чудовищное, дьявольское отродье, сейчас же освободите знатных
принцесс, которых вы против их воли везете в карете; если же нет,
приготовьтесь к немедленной смерти, как к достойной каре за ваши злодеяния!
Монахи попридержали поводья своих мулов и, изумленные как фигурой Дон
Кихота, так и его словами, ответили:
-- Сеньор рыцарь, мы вовсе не чудовища и не дьявольское отродье, а два
монаха бенедиктинского ордена. Следуем мы своей дорогой и не знаем, едут ли
или нет в той карете какие-нибудь похищенные принцессы.
-- Меня вы не обманете льстивыми словами, потому что я вас знаю,
вероломная сволочь! -- крикнул Дон Кихот и, не дожидаясь ответа, пришпорил
Росинанта и, размахнувшись копьем, устремился на первого монаха с таким
бешенством и яростью, что если б тот сам не соскочил с мула, то был бы
сброшен с седла и тяжело ранен, а может быть, и убит. Когда второй монах
увидел, как обошлись с его товарищем, он всадил пятки в бока своего доброго
мула и быстрее ветра помчался по долине.
Санчо Панса, увидав лежащего на земле монаха, быстро слез со своего
осла, бросился к упавшему и стал снимать с него одежду. В это время
подоспели двое слуг монахов и спросили его, зачем он раздевает их господина.
Санчо ответил, что это добыча, принадлежащая ему по праву победы, одержанной
его сеньором, Дон Кихотом. Слуги, не склонные к шуткам и ничего не
понимавшие, какая тут добыча и победа, увидав, что Дон Кихот отъехал и
разговаривает с сидящими в карете, набросились на Санчо, повалили его на
землю, вырвали ему бороду и так отколотили, что он лежал, растянувшись на
земле, без памяти и без дыхания. Что же касается упавшего монаха, он, не
медля ни минуты, взобрался снова на своего мула, весь дрожа, перепуганный, с
мертвенно бледным лицом, и, когда он очутился верхом, он поскакал вслед за
своим товарищем, который, отъехав на порядочное расстояние, поджидал его и
смотрел, чем кончится весь этот ужас; и не желая дожидаться конца
приключения, они продолжали свой путь, творя крестное знамение усерднее, чем
если бы дьявол сидел у них за плечами.
В это время Дон Кихот, как уже было сказано, разговаривал с дамой,
сидевшей в карете, говоря ей:
-- Ваша красота, сеньора моя, может теперь располагать собою, как ей
заблагорассудится, так как гордость похитителей ваших повержена в прах моей
сильной рукой. А чтобы избавить вас от труда узнавать имя вашего
освободителя, знайте, что я -- Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь,
искатель приключений и пленник несравненной и прекрасной доньи Дульси-неи
Тобосской. В благодарность за оказанную вам услугу я прошу вас только об
одном: чтобы вы вернулись в Тобосо, от моего имени представились сеньоре
Дульсинее и рассказали бы ей то, что я сделал для вашего освобождения.
Один из всадников, сопровождавших карету, родом бискаец, слышал, что
говорил Дон Кихот. Видя, что он не пускает карету ехать дальше, а требует,
чтобы она повернула тотчас же в Тобосо, бискаец подъехал к Дон Кихоту,
схватил его за копье и обратился к нему не то на плохом кастильском языке,
не то на еще худшем бискайском, говоря:
-- Уберись, рыцарь, ходи к черту! Клянусь Богом, создавшим меня, если
мешаешь проехать карете, я убью тебя так верно, как я бискаец.
Дон Кихот понял его и очень спокойно ответил ему:
-- Если б ты был рыцарь -- но ты не рыцарь, -- я бы уже наказал тебя за
твою глупость и дерзость, презренное создание.
На это бискаец ответил:
-- Я не рыцарь? Клянусь Богом, так же лжешь, как то, что ты христианин.
Брось копье, возьми в руки меч, и тотчас ты увидишь воду, которую несешь к
кошке {Llevar el goto alagua -- "нести кошку в воду", общеупотребительное
испанское выражение, когда речь идет о трудном и опасном предприятии.
Бискаец в своем гневе говорит эту фразу навыворот.}. Бискаец на суше,
идальго на море -- идальго к черту, и лжешь, если говоришь, что это
неправда.
-- Теперь вы увидите, сказал Аграхес {Фраза, вошедшая в поговорку в
Испании, взятая из "Амадиса". Аграхес был двоюродный брат Амадиса, всегда
угрожавший своим противникам, когда они его вызывали, словами: "Теперь вы
увидите!".Эти все местности были известны в то время как притоны воров и
мазуриков.}, -- ответил Дон Кихот и, бросив копье на землю, обнажил меч,
прикрылся щитом и устремился на бискайца с явным намерением лишить его
жизни.
Бискаец, видя это, хотел соскочить с мула, так как тот был плохой, из
наемных, и он не мог ему доверять, но не успел сделать ничего другого, как
только обнажить меч. К счастью своему, он находился близ кареты, откуда мог
взять подушку, которая заменила ему щит, и тотчас же противники ринулись
друг на друга, точно два смертельных врага. Остальные бывшие там пытались
примирить их, но не могли, потому что бискаец сказал на своем ломаном
наречии, что, если ему не дадут кончить сражения, он собственноручно убьет
свою госпожу и всякого, кто ему станет мешать. Дама, сидевшая в карете,
изумленная и испуганная тем, что видела, приказала кучеру отъехать немного в
сторону и стала издали смотреть на ужасную битву, в течение которой бискаец
нанес Дон Кихоту такой страшный удар по плечу, что, если б рыцарь не защитил
себя щитом, он был бы рассечен до пояса.
Почувствовав тяжесть этого чудовищного удара, Дон Кихот воскликнул
громким голосом:
-- О повелительница души моей, Дульсинея, цвет красоты! Помогите вашему
рыцарю, который, чтобы доставить удовлетворение великой вашей доброте,
находится в столь страшной опасности!
Сказать это, схватить меч, хорошенько прикрыться круглым щитом и
кинуться на бискайца -- было для него делом мгновения, так как он решил
поставить сразу все на карту и покончить битву одним ударом. Бискаец, видя,
что рыцарь так стремительно несется на него, понял всю отвагу его намерения
и, с своей стороны, решил поступить так же, как и Дон Кихот; итак, он ждал
его, хорошо прикрывшись подушкой, не имея возможности двинуть своего мула ни
в ту, ни в другую сторону, потому что страшно утомленное и непривычное к
подобным штукам животное стояло как вкопанное. Дон Кихот, как уже было
сказано, устремился на осторожного бискайца с поднятым мечом и с твердым
намерением разрубить его пополам, а бискаец, со своей стороны, ждал его тоже
с поднятым мечом и под прикрытием подушки вместо щита. Все присутствовавшие
стояли исполненные страха и ожидания, какой будет исход столь ужасных
ударов, которыми противники угрожали друг другу. Дама, сидевшая в карете, и
ее прислужница творили молитвы и давали тысячи обетов всем храмам с особо
почитаемыми иконами в Испании, только бы Бог спас и бискайца, и их самих от
угрожавшей им великой опасности.
Но горе в том, что как раз в эту минуту и на этом месте автор истории
оставляет битву нерешенной, оправдываясь тем, что он не нашел других
сообщений об этих подвигах Дон Кихота, кроме уже переданных. Правда, что
второй автор {Само собой разумеется, что этот второй автор -- тот же
Сервантес, придумавший фикцию о Сиде Амете бен-Енхели, арабском авторе "Дон
Кихота", лишь в подражание рыцарским книгам, авторство которых приписывалось
обыкновенно чужеземным источникам, большею частью восточным писателям.}
этого сочинения не захотел поверить, чтобы столь любопытная история могла
быть предана забвению или же чтобы умы Ламанчи были так мало любознательны,
что в ламанчских архивах или письменных столах не нашлись бы документы,
относящиеся к столь знаменитому рыцарю. Уверенный в этом, он не отчаивался
найти конец этой приятной истории, и, так как небо благоприятствовало ему,
он и нашел его, а каким образом, -- будет рассказано в следующей главе.

 В предыдущей главе мы оставили мужественного бискайца и доблестного Дон
Кихота с высоко поднятыми, обнаженными мечами, готовых нанести друг другу
такие бешеные удары, что если б они действительно нанесли их, то по меньшей
мере разрубили бы друг друга сверху донизу и раскололи бы пополам, как
гранатовое яблоко; и в такую критическую минуту обрывается и остается
неоконченной интересная эта история, а ее автор не указывает нам, где можно
было бы найти то, чего недостает в ней.
Это меня очень огорчило, потому что удовольствие, с которым я прочел
столь немногое, превратилось в неудовольствие при мысли о том, какой мне
предстоит трудный путь, чтобы отыскать то многое, недостававшее, как мне
казалось, столь занимательному рассказу. Мне представлялось невероятным и
несоответствующим всем добрым обычаям, чтобы для такого храброго рыцаря не
нашелся мудрец, который взял бы на себя труд описать его неслыханные
подвиги, -- в чем никогда не было недостатка у странствующих рыцарей из тех,
о которых люди говорят, что они отправляются в поиски за своими
приключениями. Каждый из них всегда имел наготове одного или двух мудрецов,
которые не только описывали его деяния, но и воспроизводили малейшие его
помыслы и ребячества, как бы они ни были скрытыми; мне казалось невозможным,
чтобы такой доблестный рыцарь, как Дон Кихот, был бы столь несчастным и ему
недоставало бы того, что имели в изобилии Платир и ему подобные. Вот почему
я не допускал мысли, чтобы такая превосходная история могла остаться
недосказанной и неоконченной, и винил в этом лишь злобу всепожирающего и
всесокрушающего времени, которое ее скрыло или уничтожило. С другой стороны,
мне казалось, что если в числе книг Дон Кихота нашлись некоторые столь
современные, как "Излечение от ревности", "Эиаресские нимфы и пастухи", то и
его история также должна была быть современной, а в случае, если она не
написана, то хранится, вероятно, в памяти жителей его деревни и окрестных
деревень. Эта мысль тревожила меня и возбуждала желание доподлинно и
подробно узнать всю историю жизни и неслыханных подвигов нашего знаменитого
испанца Дон Кихота Ламанчского, светила и зеркала ламанчского рыцарства,
первого, в наш век и в эти столь бедственные времена посвятившего себя
трудам и обязанностям странствующих рыцарей и взявшего на себя исправлять
зло, помогать вдовам и защищать девушек из числа тех, которые верхом на
конях, с хлыстами в руках и со всей своей девственностью за плечами ездили с
горы на гору и из долины в долину; потому что в старинные времена бывали
девушки, которые -- если какой-нибудь подлец или негодяй с алебардой и
шишаком, или же чудовищный великан не изнасиловали их -- достигали
восьмидесятилетнего возраста и, не проспав во все это время ни одной ночи
под кровлей, сходили в могилу такими же непорочными, как и матери, родившие
их.
Итак, я говорю, что по этим и многим другим причинам наш доблестный Дон
Кихот заслуживает постоянных, достопамятных похвал; и даже мне не следует
отказывать в них за труд и старание, с которыми я разыскивал конец этой
занимательной истории; хотя я хорошо знаю, что, если б мне не помогли небо,
случай и счастливая моя звезда, мир был бы лишен времяпровождения и
удовольствия, какие может получить часа на два тот, кто со вниманием прочтет
эту историю. Вот каким образом я разыскал ее.
Однажды, когда я был в Алькана {Так называлась улица в Толедо, занятая
вся в конце XVI в. еврейскими лавками продавцов сукна и мелочных товаров.}[ ]в
Толедо, мне встретился мальчик, шедший к торговцу шелка, чтобы продать ему
старые бумаги и тетради. Так как я очень люблю читать, хотя бы даже рваные
бумаги, валяющиеся на улице, то, следуя этой природной своей склонности, я
взял одну из тетрадей, которые продавал мальчик, и увидел, что шрифт
арабский. И хотя я это и понял, но читать по-арабски не умел; поэтому я стал
смотреть, не пройдет ли какой-нибудь мориск {Морисками назывались потомки
мавров и арабов, которые остались в Испании после взятия Гренады и были
насильно обращены в католичество.}, говорящий по-испански, который бы мог
прочесть мне их. Не очень трудным оказалось найти такого переводчика, и даже
если б я искал его для другого, лучшего и более древнего, языка {Т. е.
еврейского. В прежние времена в Толедо было множество евреев.}, и то бы
нашел. Словом, судьба послала мне одного, которому я объяснил, в чем дело, и
передал ему в руки тетрадь. Он раскрыл ее в середине и, прочитав немного из
нее, стал смеяться. Я спросил его, отчего он смеется, и он ответил, что его
рассмешило примечание на полях рукописи. Когда я попросил его сообщить мне,
что там написано, он, все еще смеясь, сказал, что на полях здесь написано
вот что: "Та самая Дульсинея Тобосская, о которой столько раз упоминается в
этой истории, как говорят, умела искуснее остальных женщин Ааманчи солить
свинину". Когда я услыхал имя Дульсинеи Тобосской, я удивился и был поражен,
потому что тотчас же подумал, что в этих тетрадях заключается история Дон
Кихота. Побуждаемый этой мыслью, я торопил мориска скорей прочесть заглавие
рукописи; он сделал это немедленно и, переведя его с арабского на испанский
язык, прочитал следующее: "История Дон Кихота Ламанчского, написанная
арабским историком Сидом Аметом бен-Енхели". Нужна была большая
сдержанность, чтобы скрыть испытанную мною радость, когда до моего слуха
дошло заглавие рукописи, и, бросившись к торговцу шелком, я купил у мальчика
все тетради и бумаги за полреала; хотя если б он был проницательнее и знал
бы, как сильно я желал приобрести эти рукописи, то мог бы потребовать и
получить за них больше шести реалов. Тотчас же уединился я с мориском в
монастырские коридоры соборной церкви и попросил его перевести мне эти
тетради, все те, в которых шла речь о Дон Кихоте, ничего не выпуская и
ничего не добавляя, за что предложил ему вознаграждение, какое он пожелает.
Он удовольствовался двумя арробами {Испанская мера веса (от 25 до 36
фунтов).} изюма и двумя фанегами {Испанская мера зерна (4 четверика).}
пшеницы и обещал сделать перевод хорошо, точно и как можно скорей; но я,
чтобы еще более облегчить дело и не выпускать из рук столь ценной находки,
привел мориска к себе в дом, где он в полтора месяца с небольшим перевел
всю историю в том виде, как она здесь излагается.
В первой тетради была прекрасно нарисована битва Дон Кихота с
бискайцем: оба они были изображены в том положении, как сообщается в
истории, -- с поднятыми мечами, один, прикрываясь щитом, другой -- подушкой,
и мул бискайца был нарисован так живо, что уже издали можно было видеть, что
он наемный. У ног бискайца стояла надпись, гласившая: "Дон Санчо де
Аспеития" {Аспеития -- город в Бискайе, в котором родился Игнатий Лойола,
основатель иезуитского ордена.}, которая, без сомнения, должна была означать
его имя, а у ног Росинанта стояла другая надпись: "Дон Кихот". Росинант был
нарисован изумительно: такой длинный и вытянутый, такой исхудалый и тощий,
такой костлявый и чахоточный, что рисунок ясно показывал, как хорошо к нему
подходило и с какой проницательностью ему было дано имя Росинант. Рядом с
ним стоял Санчо Панса и держал за недоуздок своего осла, у ног которого
стояла надпись: "Санчо Санкас" {Пузо, брюхо.}. Судя по рисунку, у него,
по-видимому, был большой живот, короткое туловище и длинные ноги, почему,
должно быть, его называли Панса и Санкас {Длинная нога, или птичья лапа, в
особенности у голенастых или болотных птиц.}, так как под этими двумя
прозвищами он иногда появляется в этой истории. Можно было бы упомянуть еще
и о некоторых других мелочах, но все они незначительны и не имеют отношения
к правдивой передаче истории, а никакая передача не может считаться плохой,
лишь бы она была правдива.
Если же может возникнуть какое-нибудь возражение против истины этой
истории, то лишь только на том основании, что ее автор был араб, -- а люди
этой нации очень склонны ко лжи; хотя, ввиду того что они так враждебно
относятся к испанцам, скорей можно было бы предположить, что он кое-что
хорошее скрыл в своем рассказе, а не преувеличил. По крайней мере, мне так
кажется, потому что, когда он и мог бы и должен был бы употребить свое перо
на похвалу столь достойному рыцарю, он, по-видимому, намеренно молчит, --
поступок дурной, а намерение -- еще худшее, так как историки должны и
обязаны быть точными, правдивыми, вполне беспристрастными, и ни
корыстолюбие, ни страх, ни злоба, ни любовь не должны заставлять их свернуть
с пути истины; а мать истины есть история, -- соперница времени, хранилище
деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение в настоящем и
предостережение для будущего. Я знаю, что в этой нашей истории найдется все
то, чего можно желать от самой занимательной истории, а если оказалось бы,
что кой-чего хорошего недостает ей, вина в том падает, на мой взгляд, скорее
на ее автора-собаку, а не на избранный им сюжет. Словом, вторая часть
истории в переводе начиналась таким образом.
Острые, высоко поднятые мечи двух храбрых и разгневанных противников,
казалось, угрожали небу, земле и преисподней -- с такой отвагой и решимостью
стояли они друг против друга. Первый нанес удар желчный бискаец, и нанес его
с такой силой и с таким бешенством, что, если б меч его не повернулся у него
в руке, одного этого удара было бы достаточно, чтобы положить конец
страшному поединку и всем приключениям нашего рыцаря. Но счастливая судьба,
хранившая его для более великих дел, направила меч противника таким образом,
что хотя удар меча и попал ему по левому плечу, но не нанес иного вреда, как
только обезоружил всю эту сторону, сорвав с нее латы, и по пути унес
значительную часть шлема и половину уха; все это со страшным шумом рухнуло
на землю, и рыцарь оказался в очень плачевном положении. Великий Боже! Кто
был бы в состоянии как следует описать бешенство, переполнившее душу нашего
ламанчца, когда он увидел, как с ним обошлись! Но достаточно, если мы
скажем, что бешенство это дошло до того, что он приподнялся снова на
стременах и, еще крепче схватив меч обеими руками, так яростно бросился на
бискайца и нанес ему такой сильный удар по подушке и по голове, что,
несмотря на столь хорошее прикрытие, у бискайца -- словно на него упала гора
-- пошла кровь из носа, изо рта и ушей и казалось, он упадет с мула и, без
сомнения, он и упал бы, если бы не ухватился обеими руками за шею животного.
Тем не менее он потерял стремена, выпустил из рук поводья, и мул, испуганный
страшным ударом, понесся по полю, а после нескольких скачков повалился на
землю со своим всадником.
Дон Кихот смотрел на это очень спокойно, но когда он увидел, что
бискаец упал, то соскочил с коня, быстро приблизился к нему и, приставив
острие меча к его глазам, потребовал, чтобы он сдался, а нет, -- он отрубит
ему голову. Ошеломленный бискаец не был в силах ответить ни слова, и ему
пришлось бы плохо, настолько гнев ослеплял Дон Кихота, если б дамы, сидевшие
в карете и до тех пор следившие с величайшим ужасом за исходом битвы, не
поспешили к рыцарю, умоляя его оказать им милость и снисхождение и пощадить
жизнь их слуги. На это Дон Кихот с большой важностью и торжественностью
ответил им:
-- Конечно, прекрасные сеньоры, я очень рад исполнить то, о чем вы
просите, но только с одним условием и уговором, именно: рыцарь этот должен
мне обещать, что он отправится в город Тобосо и от моего имени представится
несравненной донье Дульсинее, чтобы она могла располагать им, как ей
заблагорассудится.
Испуганные и глубоко огорченные сеньоры, не входя в разбор того, что
требовал от них Дон Кихот, и не спрашивая, кто такая сеньора Дульсинея,
обещали, что оруженосец их исполнит в точности все, что он приказал ему.
-- Доверяя вашему слову, -- ответил Дон Кихот, -- я не сделаю ему
больше зла, хотя он этого вполне заслуживает.
В предыдущей главе мы оставили мужественного бискайца и доблестного Дон
Кихота с высоко поднятыми, обнаженными мечами, готовых нанести друг другу
такие бешеные удары, что если б они действительно нанесли их, то по меньшей
мере разрубили бы друг друга сверху донизу и раскололи бы пополам, как
гранатовое яблоко; и в такую критическую минуту обрывается и остается
неоконченной интересная эта история, а ее автор не указывает нам, где можно
было бы найти то, чего недостает в ней.
Это меня очень огорчило, потому что удовольствие, с которым я прочел
столь немногое, превратилось в неудовольствие при мысли о том, какой мне
предстоит трудный путь, чтобы отыскать то многое, недостававшее, как мне
казалось, столь занимательному рассказу. Мне представлялось невероятным и
несоответствующим всем добрым обычаям, чтобы для такого храброго рыцаря не
нашелся мудрец, который взял бы на себя труд описать его неслыханные
подвиги, -- в чем никогда не было недостатка у странствующих рыцарей из тех,
о которых люди говорят, что они отправляются в поиски за своими
приключениями. Каждый из них всегда имел наготове одного или двух мудрецов,
которые не только описывали его деяния, но и воспроизводили малейшие его
помыслы и ребячества, как бы они ни были скрытыми; мне казалось невозможным,
чтобы такой доблестный рыцарь, как Дон Кихот, был бы столь несчастным и ему
недоставало бы того, что имели в изобилии Платир и ему подобные. Вот почему
я не допускал мысли, чтобы такая превосходная история могла остаться
недосказанной и неоконченной, и винил в этом лишь злобу всепожирающего и
всесокрушающего времени, которое ее скрыло или уничтожило. С другой стороны,
мне казалось, что если в числе книг Дон Кихота нашлись некоторые столь
современные, как "Излечение от ревности", "Эиаресские нимфы и пастухи", то и
его история также должна была быть современной, а в случае, если она не
написана, то хранится, вероятно, в памяти жителей его деревни и окрестных
деревень. Эта мысль тревожила меня и возбуждала желание доподлинно и
подробно узнать всю историю жизни и неслыханных подвигов нашего знаменитого
испанца Дон Кихота Ламанчского, светила и зеркала ламанчского рыцарства,
первого, в наш век и в эти столь бедственные времена посвятившего себя
трудам и обязанностям странствующих рыцарей и взявшего на себя исправлять
зло, помогать вдовам и защищать девушек из числа тех, которые верхом на
конях, с хлыстами в руках и со всей своей девственностью за плечами ездили с
горы на гору и из долины в долину; потому что в старинные времена бывали
девушки, которые -- если какой-нибудь подлец или негодяй с алебардой и
шишаком, или же чудовищный великан не изнасиловали их -- достигали
восьмидесятилетнего возраста и, не проспав во все это время ни одной ночи
под кровлей, сходили в могилу такими же непорочными, как и матери, родившие
их.
Итак, я говорю, что по этим и многим другим причинам наш доблестный Дон
Кихот заслуживает постоянных, достопамятных похвал; и даже мне не следует
отказывать в них за труд и старание, с которыми я разыскивал конец этой
занимательной истории; хотя я хорошо знаю, что, если б мне не помогли небо,
случай и счастливая моя звезда, мир был бы лишен времяпровождения и
удовольствия, какие может получить часа на два тот, кто со вниманием прочтет
эту историю. Вот каким образом я разыскал ее.
Однажды, когда я был в Алькана {Так называлась улица в Толедо, занятая
вся в конце XVI в. еврейскими лавками продавцов сукна и мелочных товаров.}[ ]в
Толедо, мне встретился мальчик, шедший к торговцу шелка, чтобы продать ему
старые бумаги и тетради. Так как я очень люблю читать, хотя бы даже рваные
бумаги, валяющиеся на улице, то, следуя этой природной своей склонности, я
взял одну из тетрадей, которые продавал мальчик, и увидел, что шрифт
арабский. И хотя я это и понял, но читать по-арабски не умел; поэтому я стал
смотреть, не пройдет ли какой-нибудь мориск {Морисками назывались потомки
мавров и арабов, которые остались в Испании после взятия Гренады и были
насильно обращены в католичество.}, говорящий по-испански, который бы мог
прочесть мне их. Не очень трудным оказалось найти такого переводчика, и даже
если б я искал его для другого, лучшего и более древнего, языка {Т. е.
еврейского. В прежние времена в Толедо было множество евреев.}, и то бы
нашел. Словом, судьба послала мне одного, которому я объяснил, в чем дело, и
передал ему в руки тетрадь. Он раскрыл ее в середине и, прочитав немного из
нее, стал смеяться. Я спросил его, отчего он смеется, и он ответил, что его
рассмешило примечание на полях рукописи. Когда я попросил его сообщить мне,
что там написано, он, все еще смеясь, сказал, что на полях здесь написано
вот что: "Та самая Дульсинея Тобосская, о которой столько раз упоминается в
этой истории, как говорят, умела искуснее остальных женщин Ааманчи солить
свинину". Когда я услыхал имя Дульсинеи Тобосской, я удивился и был поражен,
потому что тотчас же подумал, что в этих тетрадях заключается история Дон
Кихота. Побуждаемый этой мыслью, я торопил мориска скорей прочесть заглавие
рукописи; он сделал это немедленно и, переведя его с арабского на испанский
язык, прочитал следующее: "История Дон Кихота Ламанчского, написанная
арабским историком Сидом Аметом бен-Енхели". Нужна была большая
сдержанность, чтобы скрыть испытанную мною радость, когда до моего слуха
дошло заглавие рукописи, и, бросившись к торговцу шелком, я купил у мальчика
все тетради и бумаги за полреала; хотя если б он был проницательнее и знал
бы, как сильно я желал приобрести эти рукописи, то мог бы потребовать и
получить за них больше шести реалов. Тотчас же уединился я с мориском в
монастырские коридоры соборной церкви и попросил его перевести мне эти
тетради, все те, в которых шла речь о Дон Кихоте, ничего не выпуская и
ничего не добавляя, за что предложил ему вознаграждение, какое он пожелает.
Он удовольствовался двумя арробами {Испанская мера веса (от 25 до 36
фунтов).} изюма и двумя фанегами {Испанская мера зерна (4 четверика).}
пшеницы и обещал сделать перевод хорошо, точно и как можно скорей; но я,
чтобы еще более облегчить дело и не выпускать из рук столь ценной находки,
привел мориска к себе в дом, где он в полтора месяца с небольшим перевел
всю историю в том виде, как она здесь излагается.
В первой тетради была прекрасно нарисована битва Дон Кихота с
бискайцем: оба они были изображены в том положении, как сообщается в
истории, -- с поднятыми мечами, один, прикрываясь щитом, другой -- подушкой,
и мул бискайца был нарисован так живо, что уже издали можно было видеть, что
он наемный. У ног бискайца стояла надпись, гласившая: "Дон Санчо де
Аспеития" {Аспеития -- город в Бискайе, в котором родился Игнатий Лойола,
основатель иезуитского ордена.}, которая, без сомнения, должна была означать
его имя, а у ног Росинанта стояла другая надпись: "Дон Кихот". Росинант был
нарисован изумительно: такой длинный и вытянутый, такой исхудалый и тощий,
такой костлявый и чахоточный, что рисунок ясно показывал, как хорошо к нему
подходило и с какой проницательностью ему было дано имя Росинант. Рядом с
ним стоял Санчо Панса и держал за недоуздок своего осла, у ног которого
стояла надпись: "Санчо Санкас" {Пузо, брюхо.}. Судя по рисунку, у него,
по-видимому, был большой живот, короткое туловище и длинные ноги, почему,
должно быть, его называли Панса и Санкас {Длинная нога, или птичья лапа, в
особенности у голенастых или болотных птиц.}, так как под этими двумя
прозвищами он иногда появляется в этой истории. Можно было бы упомянуть еще
и о некоторых других мелочах, но все они незначительны и не имеют отношения
к правдивой передаче истории, а никакая передача не может считаться плохой,
лишь бы она была правдива.
Если же может возникнуть какое-нибудь возражение против истины этой
истории, то лишь только на том основании, что ее автор был араб, -- а люди
этой нации очень склонны ко лжи; хотя, ввиду того что они так враждебно
относятся к испанцам, скорей можно было бы предположить, что он кое-что
хорошее скрыл в своем рассказе, а не преувеличил. По крайней мере, мне так
кажется, потому что, когда он и мог бы и должен был бы употребить свое перо
на похвалу столь достойному рыцарю, он, по-видимому, намеренно молчит, --
поступок дурной, а намерение -- еще худшее, так как историки должны и
обязаны быть точными, правдивыми, вполне беспристрастными, и ни
корыстолюбие, ни страх, ни злоба, ни любовь не должны заставлять их свернуть
с пути истины; а мать истины есть история, -- соперница времени, хранилище
деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение в настоящем и
предостережение для будущего. Я знаю, что в этой нашей истории найдется все
то, чего можно желать от самой занимательной истории, а если оказалось бы,
что кой-чего хорошего недостает ей, вина в том падает, на мой взгляд, скорее
на ее автора-собаку, а не на избранный им сюжет. Словом, вторая часть
истории в переводе начиналась таким образом.
Острые, высоко поднятые мечи двух храбрых и разгневанных противников,
казалось, угрожали небу, земле и преисподней -- с такой отвагой и решимостью
стояли они друг против друга. Первый нанес удар желчный бискаец, и нанес его
с такой силой и с таким бешенством, что, если б меч его не повернулся у него
в руке, одного этого удара было бы достаточно, чтобы положить конец
страшному поединку и всем приключениям нашего рыцаря. Но счастливая судьба,
хранившая его для более великих дел, направила меч противника таким образом,
что хотя удар меча и попал ему по левому плечу, но не нанес иного вреда, как
только обезоружил всю эту сторону, сорвав с нее латы, и по пути унес
значительную часть шлема и половину уха; все это со страшным шумом рухнуло
на землю, и рыцарь оказался в очень плачевном положении. Великий Боже! Кто
был бы в состоянии как следует описать бешенство, переполнившее душу нашего
ламанчца, когда он увидел, как с ним обошлись! Но достаточно, если мы
скажем, что бешенство это дошло до того, что он приподнялся снова на
стременах и, еще крепче схватив меч обеими руками, так яростно бросился на
бискайца и нанес ему такой сильный удар по подушке и по голове, что,
несмотря на столь хорошее прикрытие, у бискайца -- словно на него упала гора
-- пошла кровь из носа, изо рта и ушей и казалось, он упадет с мула и, без
сомнения, он и упал бы, если бы не ухватился обеими руками за шею животного.
Тем не менее он потерял стремена, выпустил из рук поводья, и мул, испуганный
страшным ударом, понесся по полю, а после нескольких скачков повалился на
землю со своим всадником.
Дон Кихот смотрел на это очень спокойно, но когда он увидел, что
бискаец упал, то соскочил с коня, быстро приблизился к нему и, приставив
острие меча к его глазам, потребовал, чтобы он сдался, а нет, -- он отрубит
ему голову. Ошеломленный бискаец не был в силах ответить ни слова, и ему
пришлось бы плохо, настолько гнев ослеплял Дон Кихота, если б дамы, сидевшие
в карете и до тех пор следившие с величайшим ужасом за исходом битвы, не
поспешили к рыцарю, умоляя его оказать им милость и снисхождение и пощадить
жизнь их слуги. На это Дон Кихот с большой важностью и торжественностью
ответил им:
-- Конечно, прекрасные сеньоры, я очень рад исполнить то, о чем вы
просите, но только с одним условием и уговором, именно: рыцарь этот должен
мне обещать, что он отправится в город Тобосо и от моего имени представится
несравненной донье Дульсинее, чтобы она могла располагать им, как ей
заблагорассудится.
Испуганные и глубоко огорченные сеньоры, не входя в разбор того, что
требовал от них Дон Кихот, и не спрашивая, кто такая сеньора Дульсинея,
обещали, что оруженосец их исполнит в точности все, что он приказал ему.
-- Доверяя вашему слову, -- ответил Дон Кихот, -- я не сделаю ему
больше зла, хотя он этого вполне заслуживает.

 Между тем Санчо Панca уже поднялся, хотя и несколько помятый слугами
монахов, и, внимательно следя за ходом битвы своего господина с бискайцем,
молил в душе Бога даровать победу Дон Кихоту и дать ему возможность
завоевать какой-нибудь остров, губернатором которого он назначил бы его, как
обещал ему это. Увидав, что поединок кончен и что господин его собирается
влезть на Росинанта, Санчо подбежал поддержать ему стремя, и, прежде чем Дон
Кихот успел сесть на коня, он бросился перед ним на колени, схватил его руку
и поцеловал ее, говоря:
-- Сеньор мой Дон Кихот, пусть ваша милость соблаговолит дать мне в
управление остров, завоеванный вами в этом ужасном сражении, потому что, как
бы он ни был велик, я чувствую в себе силы управлять им так же хорошо, как и
всякий другой, управлявший островами на свете.
На это Дон Кихот ответил: -- Заметь, брат Санчо, что это приключение и
ему подобные не приводят к завоеванию островов; это -- приключения на
перекрестках, которыми не приобретаешь ничего другого, как только пролом
головы или потерю уха. Но имей терпение, представятся и такого рода
приключения, благодаря которым я не только смогу тебя сделать губернатором,
но и больше того.
Санчо усердно поблагодарил его, и, поцеловав еще раз руку, а также и
край кольчуги, он помог ему взобраться на Росинанта, после чего сам влез на
своего осла и поехал вслед за господином, который, не простясь с сидевшими в
карете дамами и не говоря больше с ними ни слова, быстро повернул в
близлежащий лесок. Санчо следовал за ним во всю прыть своего осла, но
Росинант бежал очень быстро, и Санчо, видя, что он отстал, стал кричать
своему сеньору, чтобы тот подождал его. Дон Кихот сделал это и придержал
поводья Росинанта, пока его не нагнал утомившийся оруженосец, который,
подъехав к нему, сказал:
-- Мне кажется, сеньор, мы поступили бы благоразумнее, если б укрылись
в какую-нибудь церковь, потому что тот, с которым вы сражались, приведен в
столь плачевное состояние, что неудивительно было бы, если б они сообщили о
случившемся Святой Эрмандаде {Santa Hermandad -- святое братство, было
основано еще в XIII в. и восстановлено в 1476 г. королями Фердинандом и
Изабеллой для преследования преступлений, совершенных на больших дорогах и в
более отдаленных и диких местностях Испании; несколько видоизмененное, оно
существовало во времена Сервантеса, который, по-видимому, не очень-то
одобрял это братство.} и нас бы арестовали; а по чести, если они это
сделают, то, прежде чем мы выйдем из тюрьмы, нам придется немало попотеть
там.
-- Перестань, -- сказал Дон Кихот, -- где ты когда-либо видел или
читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали в суд, сколько бы он ни
совершил смертоубийств?
-- Ничего я не знаю о сверхбивствах {Санчо по-своему извращает слово
"homicidios", которое он не понимает.}, -- ответил Санчо, -- и в моей жизни
никому их не причинял. Знаю только, что Святая Эрмандада имеет дело с теми,
которые сражаются в открытом поле, а в то, другое, я не вмешиваюсь.
-- Не тревожься, друг, -- ответил Дон Кихот, -- потому что я сумею
высвободить тебя из рук халдейцев, не только что из рук Святой Эрмандады. Но
скажи мне откровенно, видел ли ты на всей поверхности земной более
доблестного рыцаря, чем я? Читал ли в историях о ком другом, который
выказывает или выказывал больше отваги при нападении, больше твердости в
обороне, больше ловкости в нанесении удара, больше искусства в поражении
противника?
-- Скажу по правде, -- ответил Санчо, -- что я никогда никакой истории
не читал, так как не умею ни читать, ни писать. Но я готов хоть сейчас
биться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я в жизни
не служил, и дай бог, чтобы за эту отвагу вы не получили платы, о которой я
говорил. А прошу я вашу милость лишь об одном: дайте мне сделать вам
перевязку, потому что из раненого уха у вас сильно идет кровь, а у меня в
сумке есть корпия и немного белой мази.
-- Все это было бы лишним, -- сказал Дон Кихот, -- если б я не забыл
приготовить склянку бальзама Фиэрабраса, так как одной каплей его можно было
бы сберечь время и лекарства.
-- Что это за склянка и что за бальзам такой? -- спросил Санчо.
-- Это бальзам, -- ответил Дон Кихот, -- рецепт которого я храню в
памяти; имея при себе это лекарство, нельзя бояться смерти, ни опасаться
умереть от каких-либо ран. Итак, когда я его изготовлю и дам тебе, ты должен
делать лишь одно: если увидишь, что в какой-нибудь битве меня разрубили
пополам -- а это нередко случается, -- ты тихонько подними ту часть моего
тела, которая упала на землю, и быстро, прежде чем кровь застынет, приложи
ее к другой части тела, оставшейся на седле, стараясь соединить обе эти
части как можно правильнее и ровнее, и тотчас дай мне выпить глотка два
бальзама и увидишь, что я стану крепче яблока.
-- Если это так, -- сказал Панса, -- я теперь же отказываюсь от
губернаторства на острове, которое вы мне обещали, а в награду за все мои
добрые и многочисленные услуги прошу лишь одного: пусть милость ваша сообщит
мне рецепт этого изумительного бальзама, потому что наверное за унцию его
везде дадут более двух реалов, а больше мне и не нужно, чтобы прожить жизнь
свою в довольстве и покое. Но теперь надо узнать: дорого ли обойдется
приготовление бальзама?
-- Менее чем за три реала можно приготовить три асумбрес {Мера для
жидкостей -- немного больше двух литров каждая, значит, больше шести
литров.}, -- ответил Дон Кихот.
-- Грешный я! -- воскликнул Санчо. -- Так почему же ваша милость медлит
приготовить бальзам и научить этому и меня?
-- Молчи, друг, -- ответил Дон Кихот, -- еще большие тайны думаю я
открыть тебе и оказать не такие еще благодеяния, а теперь надо бы меня
полечить, потому что ухо мое болит сильнее, чем я того хотел бы.
Санчо достал из сумки корпии и мази; но когда Дон Кихот увидев, что
шлем его сломан, он чуть не потерял рассудка. Положив руку на меч и подняв
глаза к небу, он сказал:
-- Клянусь Творцом Вселенной и четырьмя святыми Евангелиями в полном их
объеме вести жизнь, которую вел великий маркиз Мантуанский, когда он
поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдовиноса, а именно: не
есть хлеба со скатерти и не ласкать своей жены и воздерживаться от других
вещей -- которые, хотя я сейчас их и не помню, но тоже включаю в свою клятву
-- до тех пор, пока не отомщу полностью тому, кто нанес мне это оскорбление.
Услышав эту клятву, Санчо сказал:
-- Заметьте, милость ваша сеньор Дон Кихот, если тот рыцарь исполнил
приказание, которое вы ему дали -- явиться к сеньоре Дульсинее Тобосской, --
он все сделал, что должен был сделать, и не заслуживает нового наказания,
если не совершит нового проступка.
-- Ты верно сказал и попал как раз в цель, -- ответил Дон Кихот, --
поэтому я уничтожаю клятву относительно мести, но возобновляю и подтверждаю
ее относительно образа жизни, который я собираюсь вести до тех пор, пока не
добуду силой у какого-нибудь рыцаря другого шлема, такого же хорошего, каким
был мой. И не думай, Санчо, что я так поступаю ни с того ни с сего, я хорошо
знаю, кому в этом подражать, так как все это буквально случилось со шлемом
Мамбрина, который так дорого обошелся Сакрипанту
-- Пусть ваша милость пошлет все эти клятвы к черту, -- ответил
Санчо,-- потому что они весьма вредны для здоровья и очень пагубны для
совести. А нет, скажите мне теперь: если мы случайно долгое время не
встретим вооруженного человека со шлемом, что нам тогда делать? Исполним ли
мы клятву, несмотря на все неудобства и затруднения, как, например, спать,
не раздеваясь, ночевать не в жилых помещениях, а под открытым небом и
совершать тысячи других епитимий, заключавшихся в клятве того старого
сумасброда, маркиза Мантуанского,-- клятве, которой ваша милость желает
теперь дать снова ход? Подумайте о том, сеньор, что на этих дорогах не ездят
вооруженные люди, а лишь возчики и погонщики мулов, которые не только не
носят на голове шлемов, но, может быть, никогда в жизни и не слыхали о них.
-- Ты ошибаешься, думая так, -- сказал Дон Кихот. -- Не пройдет и двух
часов, как мы на этих перекрестках встретим больше вооруженных людей, чем их
прибыло под Альбраку, чтобы овладеть прекрасной Анхеликой {В поэме Боярдо
"Влюбленный Роланд" Агрикан, царь татарский, осаждает сильную крепость
Альбраку с войском в два миллиона солдат, чтобы овладеть прекрасной
Анхеликой, дочерью короля Галафрона.}.
-- Хорошо, пусть будет так, -- сказал Санчо, -- и дай бог, чтобы нам
повезло и вы поскорее завоевали остров, который мне так дорого стоит, а
потом я готов хоть умереть.
-- Я уже говорил тебе, Санчо, чтобы ты об этом нимало не беспокоился,
потому что, если б не оказалось острова, у нас есть королевство Динамарк или
королевство Собрадиса {Баснословные государства, о которых говорится в
"Амадисе Галльском".}, которые придутся тебе в пору, как кольцо на палец, и
ты еще должен тем более радоваться, что они на материке. Но оставим это до
времени, а теперь посмотри, нет ли у тебя в сумках каких-нибудь съестных
припасов, потому что, закусив, мы тотчас же отправимся искать замок, где бы
нам можно было переночевать и приготовить бальзам, о котором я тебе говорил,
так как, клянусь тебе Богом, что ухо у меня сильно болит.
-- У меня есть здесь луковица, кусок сыру и не знаю сколько ломтей
хлеба, -- сказал Санчо, -- но все это не яства для столь доблестного рыцаря,
как ваша милость.
-- Плохо ты понимаешь это дело,-- ответил Дон Кихот. -- Я хотел бы,
чтобы ты знал, Санчо, что для странствующих рыцарей честь и слава не есть
целый месяц ничего, а когда они едят, то довольствуются тем, что попадет им
под руку, и это было бы хорошо известно тебе, если б ты прочел столько
истории, сколько я их читал; потому что, несмотря на великое их множество,
ни в одной из них не нашел я упоминание о том, чтобы странствующие рыцари
ели; разве только случайно и на каких-нибудь великолепных пиршествах,
которые устраивались в честь их, остальное же время они жили, питаясь
цветами {Т. е. очень малым.}. И хотя понятно, что они не могли существовать
без пищи и без удовлетворения других естественных потребностей, потому что,
действительно, они были такие же люди, как и мы, надо также предположить,
что, так как они большую часть своей жизни скитались в лесах, пустынных
местах и без повара, самой обычной их едой были простые яства, вроде тех,
которые ты мне теперь предлагаешь. Итак, друг Санчо, не заботься о том, что
мне больше по вкусу, не старайся переделать заново свет или вывести
странствующее рыцарство из его колеи.
-- Простите мне, милость ваша,-- сказал Санчо, -- так как я не умею ни
читать, ни писать, о чем я уже вам говорил, и не знаю и не имею понятия о
правилах рыцарской профессии. Но с этого времени впредь буду запасаться
разного рода сухими плодами для вашей милости, как для рыцаря, а для себя,
так как я не рыцарь, буду набивать сумку более существенными и питательными
вещами.
-- Я вовсе не говорю, Санчо, -- возразил Дон Кихот, -- что
странствующие рыцари должны обязательно есть одни лишь сухие плоды, как ты
сейчас сказал, а говорю только, что самой обычной их пищей были,
по-видимому, сухие плоды и травы, которые они находили на полях и знали их,
и я также их знаю.
-- Хорошо знать эти травы, -- ответил Санчо, -- так как, судя потому,
что мне представляется, когда-нибудь нам окажется необходимым
воспользоваться этим знанием.
Говоря это, Санчо достал из сумки съестные припасы, бывшие там у него,
и они оба стали есть мирно и дружно. Однако, желая скорее отыскать себе
ночлег, они быстро покончили свою скудную и бедную трапезу, тотчас же сели
верхом, торопясь, пока еще не стемнело, доехать до жилого помещения.
Но солнце скрылось и вместе с ним и надежда найти то, чего они искали,
когда они очутились вблизи нескольких шалашей козьих пастухов. Итак, они
решили переночевать здесь. Насколько сильно было огорчение Санчо, что они не
добрались до села, настолько его господин был доволен, что будет спать под
открытым небом, потому что всякий раз, как это случалось с ним, ему
казалось, что он приобретает новый документ, подтверждающий его право на
рыцарское звание.
Между тем Санчо Панca уже поднялся, хотя и несколько помятый слугами
монахов, и, внимательно следя за ходом битвы своего господина с бискайцем,
молил в душе Бога даровать победу Дон Кихоту и дать ему возможность
завоевать какой-нибудь остров, губернатором которого он назначил бы его, как
обещал ему это. Увидав, что поединок кончен и что господин его собирается
влезть на Росинанта, Санчо подбежал поддержать ему стремя, и, прежде чем Дон
Кихот успел сесть на коня, он бросился перед ним на колени, схватил его руку
и поцеловал ее, говоря:
-- Сеньор мой Дон Кихот, пусть ваша милость соблаговолит дать мне в
управление остров, завоеванный вами в этом ужасном сражении, потому что, как
бы он ни был велик, я чувствую в себе силы управлять им так же хорошо, как и
всякий другой, управлявший островами на свете.
На это Дон Кихот ответил: -- Заметь, брат Санчо, что это приключение и
ему подобные не приводят к завоеванию островов; это -- приключения на
перекрестках, которыми не приобретаешь ничего другого, как только пролом
головы или потерю уха. Но имей терпение, представятся и такого рода
приключения, благодаря которым я не только смогу тебя сделать губернатором,
но и больше того.
Санчо усердно поблагодарил его, и, поцеловав еще раз руку, а также и
край кольчуги, он помог ему взобраться на Росинанта, после чего сам влез на
своего осла и поехал вслед за господином, который, не простясь с сидевшими в
карете дамами и не говоря больше с ними ни слова, быстро повернул в
близлежащий лесок. Санчо следовал за ним во всю прыть своего осла, но
Росинант бежал очень быстро, и Санчо, видя, что он отстал, стал кричать
своему сеньору, чтобы тот подождал его. Дон Кихот сделал это и придержал
поводья Росинанта, пока его не нагнал утомившийся оруженосец, который,
подъехав к нему, сказал:
-- Мне кажется, сеньор, мы поступили бы благоразумнее, если б укрылись
в какую-нибудь церковь, потому что тот, с которым вы сражались, приведен в
столь плачевное состояние, что неудивительно было бы, если б они сообщили о
случившемся Святой Эрмандаде {Santa Hermandad -- святое братство, было
основано еще в XIII в. и восстановлено в 1476 г. королями Фердинандом и
Изабеллой для преследования преступлений, совершенных на больших дорогах и в
более отдаленных и диких местностях Испании; несколько видоизмененное, оно
существовало во времена Сервантеса, который, по-видимому, не очень-то
одобрял это братство.} и нас бы арестовали; а по чести, если они это
сделают, то, прежде чем мы выйдем из тюрьмы, нам придется немало попотеть
там.
-- Перестань, -- сказал Дон Кихот, -- где ты когда-либо видел или
читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали в суд, сколько бы он ни
совершил смертоубийств?
-- Ничего я не знаю о сверхбивствах {Санчо по-своему извращает слово
"homicidios", которое он не понимает.}, -- ответил Санчо, -- и в моей жизни
никому их не причинял. Знаю только, что Святая Эрмандада имеет дело с теми,
которые сражаются в открытом поле, а в то, другое, я не вмешиваюсь.
-- Не тревожься, друг, -- ответил Дон Кихот, -- потому что я сумею
высвободить тебя из рук халдейцев, не только что из рук Святой Эрмандады. Но
скажи мне откровенно, видел ли ты на всей поверхности земной более
доблестного рыцаря, чем я? Читал ли в историях о ком другом, который
выказывает или выказывал больше отваги при нападении, больше твердости в
обороне, больше ловкости в нанесении удара, больше искусства в поражении
противника?
-- Скажу по правде, -- ответил Санчо, -- что я никогда никакой истории
не читал, так как не умею ни читать, ни писать. Но я готов хоть сейчас
биться об заклад, что более отважному господину, чем ваша милость, я в жизни
не служил, и дай бог, чтобы за эту отвагу вы не получили платы, о которой я
говорил. А прошу я вашу милость лишь об одном: дайте мне сделать вам
перевязку, потому что из раненого уха у вас сильно идет кровь, а у меня в
сумке есть корпия и немного белой мази.
-- Все это было бы лишним, -- сказал Дон Кихот, -- если б я не забыл
приготовить склянку бальзама Фиэрабраса, так как одной каплей его можно было
бы сберечь время и лекарства.
-- Что это за склянка и что за бальзам такой? -- спросил Санчо.
-- Это бальзам, -- ответил Дон Кихот, -- рецепт которого я храню в
памяти; имея при себе это лекарство, нельзя бояться смерти, ни опасаться
умереть от каких-либо ран. Итак, когда я его изготовлю и дам тебе, ты должен
делать лишь одно: если увидишь, что в какой-нибудь битве меня разрубили
пополам -- а это нередко случается, -- ты тихонько подними ту часть моего
тела, которая упала на землю, и быстро, прежде чем кровь застынет, приложи
ее к другой части тела, оставшейся на седле, стараясь соединить обе эти
части как можно правильнее и ровнее, и тотчас дай мне выпить глотка два
бальзама и увидишь, что я стану крепче яблока.
-- Если это так, -- сказал Панса, -- я теперь же отказываюсь от
губернаторства на острове, которое вы мне обещали, а в награду за все мои
добрые и многочисленные услуги прошу лишь одного: пусть милость ваша сообщит
мне рецепт этого изумительного бальзама, потому что наверное за унцию его
везде дадут более двух реалов, а больше мне и не нужно, чтобы прожить жизнь
свою в довольстве и покое. Но теперь надо узнать: дорого ли обойдется
приготовление бальзама?
-- Менее чем за три реала можно приготовить три асумбрес {Мера для
жидкостей -- немного больше двух литров каждая, значит, больше шести
литров.}, -- ответил Дон Кихот.
-- Грешный я! -- воскликнул Санчо. -- Так почему же ваша милость медлит
приготовить бальзам и научить этому и меня?
-- Молчи, друг, -- ответил Дон Кихот, -- еще большие тайны думаю я
открыть тебе и оказать не такие еще благодеяния, а теперь надо бы меня
полечить, потому что ухо мое болит сильнее, чем я того хотел бы.
Санчо достал из сумки корпии и мази; но когда Дон Кихот увидев, что
шлем его сломан, он чуть не потерял рассудка. Положив руку на меч и подняв
глаза к небу, он сказал:
-- Клянусь Творцом Вселенной и четырьмя святыми Евангелиями в полном их
объеме вести жизнь, которую вел великий маркиз Мантуанский, когда он
поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдовиноса, а именно: не
есть хлеба со скатерти и не ласкать своей жены и воздерживаться от других
вещей -- которые, хотя я сейчас их и не помню, но тоже включаю в свою клятву
-- до тех пор, пока не отомщу полностью тому, кто нанес мне это оскорбление.
Услышав эту клятву, Санчо сказал:
-- Заметьте, милость ваша сеньор Дон Кихот, если тот рыцарь исполнил
приказание, которое вы ему дали -- явиться к сеньоре Дульсинее Тобосской, --
он все сделал, что должен был сделать, и не заслуживает нового наказания,
если не совершит нового проступка.
-- Ты верно сказал и попал как раз в цель, -- ответил Дон Кихот, --
поэтому я уничтожаю клятву относительно мести, но возобновляю и подтверждаю
ее относительно образа жизни, который я собираюсь вести до тех пор, пока не
добуду силой у какого-нибудь рыцаря другого шлема, такого же хорошего, каким
был мой. И не думай, Санчо, что я так поступаю ни с того ни с сего, я хорошо
знаю, кому в этом подражать, так как все это буквально случилось со шлемом
Мамбрина, который так дорого обошелся Сакрипанту
-- Пусть ваша милость пошлет все эти клятвы к черту, -- ответил
Санчо,-- потому что они весьма вредны для здоровья и очень пагубны для
совести. А нет, скажите мне теперь: если мы случайно долгое время не
встретим вооруженного человека со шлемом, что нам тогда делать? Исполним ли
мы клятву, несмотря на все неудобства и затруднения, как, например, спать,
не раздеваясь, ночевать не в жилых помещениях, а под открытым небом и
совершать тысячи других епитимий, заключавшихся в клятве того старого
сумасброда, маркиза Мантуанского,-- клятве, которой ваша милость желает
теперь дать снова ход? Подумайте о том, сеньор, что на этих дорогах не ездят
вооруженные люди, а лишь возчики и погонщики мулов, которые не только не
носят на голове шлемов, но, может быть, никогда в жизни и не слыхали о них.
-- Ты ошибаешься, думая так, -- сказал Дон Кихот. -- Не пройдет и двух
часов, как мы на этих перекрестках встретим больше вооруженных людей, чем их
прибыло под Альбраку, чтобы овладеть прекрасной Анхеликой {В поэме Боярдо
"Влюбленный Роланд" Агрикан, царь татарский, осаждает сильную крепость
Альбраку с войском в два миллиона солдат, чтобы овладеть прекрасной
Анхеликой, дочерью короля Галафрона.}.
-- Хорошо, пусть будет так, -- сказал Санчо, -- и дай бог, чтобы нам
повезло и вы поскорее завоевали остров, который мне так дорого стоит, а
потом я готов хоть умереть.
-- Я уже говорил тебе, Санчо, чтобы ты об этом нимало не беспокоился,
потому что, если б не оказалось острова, у нас есть королевство Динамарк или
королевство Собрадиса {Баснословные государства, о которых говорится в
"Амадисе Галльском".}, которые придутся тебе в пору, как кольцо на палец, и
ты еще должен тем более радоваться, что они на материке. Но оставим это до
времени, а теперь посмотри, нет ли у тебя в сумках каких-нибудь съестных
припасов, потому что, закусив, мы тотчас же отправимся искать замок, где бы
нам можно было переночевать и приготовить бальзам, о котором я тебе говорил,
так как, клянусь тебе Богом, что ухо у меня сильно болит.
-- У меня есть здесь луковица, кусок сыру и не знаю сколько ломтей
хлеба, -- сказал Санчо, -- но все это не яства для столь доблестного рыцаря,
как ваша милость.
-- Плохо ты понимаешь это дело,-- ответил Дон Кихот. -- Я хотел бы,
чтобы ты знал, Санчо, что для странствующих рыцарей честь и слава не есть
целый месяц ничего, а когда они едят, то довольствуются тем, что попадет им
под руку, и это было бы хорошо известно тебе, если б ты прочел столько
истории, сколько я их читал; потому что, несмотря на великое их множество,
ни в одной из них не нашел я упоминание о том, чтобы странствующие рыцари
ели; разве только случайно и на каких-нибудь великолепных пиршествах,
которые устраивались в честь их, остальное же время они жили, питаясь
цветами {Т. е. очень малым.}. И хотя понятно, что они не могли существовать
без пищи и без удовлетворения других естественных потребностей, потому что,
действительно, они были такие же люди, как и мы, надо также предположить,
что, так как они большую часть своей жизни скитались в лесах, пустынных
местах и без повара, самой обычной их едой были простые яства, вроде тех,
которые ты мне теперь предлагаешь. Итак, друг Санчо, не заботься о том, что
мне больше по вкусу, не старайся переделать заново свет или вывести
странствующее рыцарство из его колеи.
-- Простите мне, милость ваша,-- сказал Санчо, -- так как я не умею ни
читать, ни писать, о чем я уже вам говорил, и не знаю и не имею понятия о
правилах рыцарской профессии. Но с этого времени впредь буду запасаться
разного рода сухими плодами для вашей милости, как для рыцаря, а для себя,
так как я не рыцарь, буду набивать сумку более существенными и питательными
вещами.
-- Я вовсе не говорю, Санчо, -- возразил Дон Кихот, -- что
странствующие рыцари должны обязательно есть одни лишь сухие плоды, как ты
сейчас сказал, а говорю только, что самой обычной их пищей были,
по-видимому, сухие плоды и травы, которые они находили на полях и знали их,
и я также их знаю.
-- Хорошо знать эти травы, -- ответил Санчо, -- так как, судя потому,
что мне представляется, когда-нибудь нам окажется необходимым
воспользоваться этим знанием.
Говоря это, Санчо достал из сумки съестные припасы, бывшие там у него,
и они оба стали есть мирно и дружно. Однако, желая скорее отыскать себе
ночлег, они быстро покончили свою скудную и бедную трапезу, тотчас же сели
верхом, торопясь, пока еще не стемнело, доехать до жилого помещения.
Но солнце скрылось и вместе с ним и надежда найти то, чего они искали,
когда они очутились вблизи нескольких шалашей козьих пастухов. Итак, они
решили переночевать здесь. Насколько сильно было огорчение Санчо, что они не
добрались до села, настолько его господин был доволен, что будет спать под
открытым небом, потому что всякий раз, как это случалось с ним, ему
казалось, что он приобретает новый документ, подтверждающий его право на
рыцарское звание.

 Козопасы приняли их радушно, и Санчо, пристроив как мог лучше Росинанта
и своего осла, сам направился туда, куда его привлекал запах, издаваемый
кусками козлиного мяса, варившегося в котле над огнем. И хотя он исследовал
бы охотно тотчас, достаточно ли сварилось мясо, чтобы из котла перейти в его
желудок, но он не мог этого сделать, потому что пастухи сняли котел с огня
и, разложив на земле несколько овчин, спешно накрыли свой деревенский стол,
дружески пригласив Дон Кихота и Санчо разделить с ними скромный ужин.
Шестеро из них -- все бывшие в шалаше -- уселись в кружок на овчинах,
попросив предварительно -- с не очень-то утонченной деревенской учтивостью
-- Дон Кихота сесть на опрокинутую колоду, которую они ему придвинули. Дон
Кихот сел, а Санчо остался стоять подле него, чтобы подавать ему пить из
кубка, сделанного из рога. Увидав, что Санчо стоит, его господин сказал ему:
-- Чтобы ты, Санчо, понял, какое благо заключается в странствующем
рыцарстве и как быстро те, которые в каком бы то ни было звании ему служат,
достигают на свете уважения и почестей, -- я хочу, чтобы ты сел здесь, рядом
со мной, и в обществе этих добрых людей слился бы воедино с твоим господином
и природным повелителем, чтобы ты ел из моей тарелки и пил из кубка, из
которого я пью, -- потому что о странствующем рыцарстве можно сказать то же,
что говорится о любви, а именно что она всех равняет.
-- Премного вам благодарен, -- ответил Санчо, -- но я должен сказать
вашей милости, что я ел бы также хорошо и еще лучше, стоя и наедине, как и
сидя рядом с императором, лишь бы было что есть. И даже, говоря по правде,
куда вкуснее кажется мне то, что я ем в своем углу, без жеманства и
церемоний, хотя бы это были лишь хлеб да лук, а не индейка за чужим столом,
где я вынужден жевать медленно, пить мало, часто вытирать себе рот, где я не
могу ни чихать, ни кашлять, если б мне захотелось, и не могу делать и других
вещей, какие дозволяют свобода и уединение. Так что, сеньор мой, эти
почести, которые ваша милость желает оказать мне, как служителю и члену
странствующего рыцарства, -- каков я есть, будучи оруженосцем вашей милости,
-- обратите лучше во что-нибудь другое, более удобное и выгодное для меня, и
хотя я их уже и считаю полученными, но отказываюсь от них отныне и вовек.
-- Тем не менее ты должен сесть рядом со мной, потому что, кто сам себя
унижает, того Бог возвысит, -- ответил Дон Кихот. И, взяв за руку Санчо, он
принудил его сесть рядом с собой.
Пастухи ничего не поняли из всей этой тарабарщины об оруженосцах и
странствующих рыцарях и только и делали, что ели, молчали и смотрели, как
гости их с большим достоинством и с видимым удовольствием быстро отправляли
себе в рот куски козлиного мяса величиною с кулак. Когда было покончено с
мясным блюдом, пастухи насыпали на бараньи шкуры множество сухих желудей {В
Испании -- в Ламанче и в Эстремадуре -- имеется сорт вкусных и годных для
еды желудей.}, а также положили туда и полкруга сыра, более твердого, чем
если б он был сделан из извести. Между тем не оставался праздным и роговой
кубок, потому что он беспрерывно обходил всех кругом, то полный, то пустой,
как ведро на водокачке, и очень скоро из двух бурдюков принесенных
пастухами, один оказался выпитым. Удовлетворив требованиям своего желудка,
Дон Кихот взял в руку горсть желудей, внимательно поглядел на них и,
возвысив голос, сказал:
-- Счастливо то время, и счастлив тот век, который древние прозвали
золотым, не потому, чтоб золото, столь высоко ценимое в этот наш железный
век, добывалось в тот, счастливый, без всякого труда, а потому, что живущие
тогда не знали двух этих слов: твое и мое. В те святые времена все было
общее. Никому не нужно было -- чтобы добыть себе насущное пропитание --
прибегать к иному труду, как только к труду поднять руку и взять себе пищу с
могучих дубов, которые щедро предлагали сладкие и вкусные свои плоды.
Прозрачные ключи и быстротекущие реки доставляли в великолепном изобилии
чистую, прозрачную воду. В расщелинах скал, в дуплах деревьев заботливые и
умные пчелы, учреждая свои общины, бескорыстно оделяли каждую протянутую
руку богатой жатвой сладчайшего своего труда. Могучие пробковые деревья без
всякого принуждения, по собственному доброму желанию сбрасывали с себя
широкую и легкую кору свою, которою люди начали покрывать дома на грубых
подпорках, возведенные ими единственно лишь для защиты от непогоды. В те
времена всюду царил мир, всюду царили дружба и согласие. Тяжелый сошник
кривого плуга еще не дерзал вскрывать и раздирать сострадательные недра
нашей праматери-земли, потому что она без принуждения на всем пространстве
своего великого и плодородного лона предлагала все, что могло насытить,
поддержать существование и доставить наслаждение детям ее, в ту пору
владевшим ею. Тогда в действительности простодушные и прекрасные пастушки
бродили по долинам и холмам, с непокрытой головой и в косах, не имея на себе
другой одежды, кроме необходимой, чтобы стыдливо прикрыть все, что
стыдливость требует и всегда требовала держать прикрытым; и украшения их
были не те, которые в употреблении теперь и которые пурпур Тира и на столько
ладов терзаемый шелк делает такими дорогими, -- а состояли лишь из листьев
зеленого лопуха, переплетенных с плющом, и, быть может, в них они казались
не менее великолепно одеты и нарядны, чем теперь наши столичные дамы,
щеголяющие в редкостных и чужеземных изобретениях моды, указанных им
праздным тщеславием. Тогда порывы любящего сердца облекались в столь же
простые и искренние выражения, какими были чувства, породившие их, и не
искали искусственных оборотов речи, чтобы придать им больше ценности. Не
было лжи, -- злоба и обман не смешивались еще с правдой и искренностью.
Правосудие не выходило из своих пределов, и его еще не дерзали смущать и
оскорблять корыстолюбие и лицеприятие, которые теперь так унижают, смущают и
преследуют его. Закон произвола еще не сделался достоянием судей, потому что
и судить тогда было некого и не за что. Девушки и целомудрие, как я уже
говорил, являлись, где хотели, одни-одинешеньки, не опасаясь, чтобы чужая
распущенность и похотливость унизили их, -- и если они и гибли, то лишь
только по доброй воле и по собственному желанию. А теперь, в отвратительные
наши времена, ни одна девушка не находится в безопасности, хотя бы ее
скрывал и окружал новый лабиринт, подобный Критскому, так как и туда, через
щели или с воздухом, благодаря рьяности проклятого ухаживания проникла бы
любовная зараза и привела бы к крушению всю ее скромность. И вот для защиты
добродетели, так как время шло и зло возрастало, был учрежден рыцарский
орден, чтобы охранять девушек, защищать вдов и помогать сиротам и
нуждающимся. К этому ордену принадлежу и я, братья пастухи, которых
благодарю за угощенье и радушный прием, оказанный мне и моему оруженосцу. И
хотя по закону природы все живущие в мире обязаны благоприятствовать
странствующим рыцарям, тем не менее, так как я знаю, что вы, находясь в
неведении относительно этой вашей обязанности, все же приняли и угостили
меня, справедливо, чтобы и я поблагодарил вас от всего сердца за выказанное
мне вами доброе расположение.
Вся эта длинная речь (без которой можно было бы отлично обойтись) была
сказана нашим рыцарем потому, что предложенные желуди напомнили ему золотой
век и он вздумал обратиться с ненужными этими рассуждениями к пастухам, а
те, не отвечая ни слова, слушали его, изумленные и недоумевающие. Даже и
Санчо молчал, ел желуди и частенько прикладывался ко второму бурдюку,
который пастухи -- чтобы вино охладилось -- держали подвешенным к пробковому
дереву.
Речь Дон Кихота длилась дольше, чем ужин. Когда он кончил, один из
пастухов сказал:
-- Сеньор странствующий рыцарь, чтобы милость ваша могла еще с большим
правом говорить, что мы приняли вас дружески и радушно, мы желали бы
доставить вам удовольствие и забаву -- послушать пение одного из наших
товарищей, который скоро явится сюда. Это очень умный пастух; он сильно
влюблен и, сверх того, умеет читать и писать и так хорошо играет на рабеле
{Рабель -- древний род лютни маврского происхождения. Рабель был в
употреблении у пастухов во времена Сервантеса, -- трехструнный инструмент,
на котором играли небольшим смычком.}, что лучшего нельзя и желать.
Не успел пастух договорить этих слов, как уже раздались звуки рабеля, а
вскоре появился игравший на нем молодой, красивый парень лет около двадцати
двух. Товарищи спросили его, ужинал ли он, и, получив утвердительный ответ,
тот, который хвалил его Дон Кихоту, сказал ему:
Козопасы приняли их радушно, и Санчо, пристроив как мог лучше Росинанта
и своего осла, сам направился туда, куда его привлекал запах, издаваемый
кусками козлиного мяса, варившегося в котле над огнем. И хотя он исследовал
бы охотно тотчас, достаточно ли сварилось мясо, чтобы из котла перейти в его
желудок, но он не мог этого сделать, потому что пастухи сняли котел с огня
и, разложив на земле несколько овчин, спешно накрыли свой деревенский стол,
дружески пригласив Дон Кихота и Санчо разделить с ними скромный ужин.
Шестеро из них -- все бывшие в шалаше -- уселись в кружок на овчинах,
попросив предварительно -- с не очень-то утонченной деревенской учтивостью
-- Дон Кихота сесть на опрокинутую колоду, которую они ему придвинули. Дон
Кихот сел, а Санчо остался стоять подле него, чтобы подавать ему пить из
кубка, сделанного из рога. Увидав, что Санчо стоит, его господин сказал ему:
-- Чтобы ты, Санчо, понял, какое благо заключается в странствующем
рыцарстве и как быстро те, которые в каком бы то ни было звании ему служат,
достигают на свете уважения и почестей, -- я хочу, чтобы ты сел здесь, рядом
со мной, и в обществе этих добрых людей слился бы воедино с твоим господином
и природным повелителем, чтобы ты ел из моей тарелки и пил из кубка, из
которого я пью, -- потому что о странствующем рыцарстве можно сказать то же,
что говорится о любви, а именно что она всех равняет.
-- Премного вам благодарен, -- ответил Санчо, -- но я должен сказать
вашей милости, что я ел бы также хорошо и еще лучше, стоя и наедине, как и
сидя рядом с императором, лишь бы было что есть. И даже, говоря по правде,
куда вкуснее кажется мне то, что я ем в своем углу, без жеманства и
церемоний, хотя бы это были лишь хлеб да лук, а не индейка за чужим столом,
где я вынужден жевать медленно, пить мало, часто вытирать себе рот, где я не
могу ни чихать, ни кашлять, если б мне захотелось, и не могу делать и других
вещей, какие дозволяют свобода и уединение. Так что, сеньор мой, эти
почести, которые ваша милость желает оказать мне, как служителю и члену
странствующего рыцарства, -- каков я есть, будучи оруженосцем вашей милости,
-- обратите лучше во что-нибудь другое, более удобное и выгодное для меня, и
хотя я их уже и считаю полученными, но отказываюсь от них отныне и вовек.
-- Тем не менее ты должен сесть рядом со мной, потому что, кто сам себя
унижает, того Бог возвысит, -- ответил Дон Кихот. И, взяв за руку Санчо, он
принудил его сесть рядом с собой.
Пастухи ничего не поняли из всей этой тарабарщины об оруженосцах и
странствующих рыцарях и только и делали, что ели, молчали и смотрели, как
гости их с большим достоинством и с видимым удовольствием быстро отправляли
себе в рот куски козлиного мяса величиною с кулак. Когда было покончено с
мясным блюдом, пастухи насыпали на бараньи шкуры множество сухих желудей {В
Испании -- в Ламанче и в Эстремадуре -- имеется сорт вкусных и годных для
еды желудей.}, а также положили туда и полкруга сыра, более твердого, чем
если б он был сделан из извести. Между тем не оставался праздным и роговой
кубок, потому что он беспрерывно обходил всех кругом, то полный, то пустой,
как ведро на водокачке, и очень скоро из двух бурдюков принесенных
пастухами, один оказался выпитым. Удовлетворив требованиям своего желудка,
Дон Кихот взял в руку горсть желудей, внимательно поглядел на них и,
возвысив голос, сказал:
-- Счастливо то время, и счастлив тот век, который древние прозвали
золотым, не потому, чтоб золото, столь высоко ценимое в этот наш железный
век, добывалось в тот, счастливый, без всякого труда, а потому, что живущие
тогда не знали двух этих слов: твое и мое. В те святые времена все было
общее. Никому не нужно было -- чтобы добыть себе насущное пропитание --
прибегать к иному труду, как только к труду поднять руку и взять себе пищу с
могучих дубов, которые щедро предлагали сладкие и вкусные свои плоды.
Прозрачные ключи и быстротекущие реки доставляли в великолепном изобилии
чистую, прозрачную воду. В расщелинах скал, в дуплах деревьев заботливые и
умные пчелы, учреждая свои общины, бескорыстно оделяли каждую протянутую
руку богатой жатвой сладчайшего своего труда. Могучие пробковые деревья без
всякого принуждения, по собственному доброму желанию сбрасывали с себя
широкую и легкую кору свою, которою люди начали покрывать дома на грубых
подпорках, возведенные ими единственно лишь для защиты от непогоды. В те
времена всюду царил мир, всюду царили дружба и согласие. Тяжелый сошник
кривого плуга еще не дерзал вскрывать и раздирать сострадательные недра
нашей праматери-земли, потому что она без принуждения на всем пространстве
своего великого и плодородного лона предлагала все, что могло насытить,
поддержать существование и доставить наслаждение детям ее, в ту пору
владевшим ею. Тогда в действительности простодушные и прекрасные пастушки
бродили по долинам и холмам, с непокрытой головой и в косах, не имея на себе
другой одежды, кроме необходимой, чтобы стыдливо прикрыть все, что
стыдливость требует и всегда требовала держать прикрытым; и украшения их
были не те, которые в употреблении теперь и которые пурпур Тира и на столько
ладов терзаемый шелк делает такими дорогими, -- а состояли лишь из листьев
зеленого лопуха, переплетенных с плющом, и, быть может, в них они казались
не менее великолепно одеты и нарядны, чем теперь наши столичные дамы,
щеголяющие в редкостных и чужеземных изобретениях моды, указанных им
праздным тщеславием. Тогда порывы любящего сердца облекались в столь же
простые и искренние выражения, какими были чувства, породившие их, и не
искали искусственных оборотов речи, чтобы придать им больше ценности. Не
было лжи, -- злоба и обман не смешивались еще с правдой и искренностью.
Правосудие не выходило из своих пределов, и его еще не дерзали смущать и
оскорблять корыстолюбие и лицеприятие, которые теперь так унижают, смущают и
преследуют его. Закон произвола еще не сделался достоянием судей, потому что
и судить тогда было некого и не за что. Девушки и целомудрие, как я уже
говорил, являлись, где хотели, одни-одинешеньки, не опасаясь, чтобы чужая
распущенность и похотливость унизили их, -- и если они и гибли, то лишь
только по доброй воле и по собственному желанию. А теперь, в отвратительные
наши времена, ни одна девушка не находится в безопасности, хотя бы ее
скрывал и окружал новый лабиринт, подобный Критскому, так как и туда, через
щели или с воздухом, благодаря рьяности проклятого ухаживания проникла бы
любовная зараза и привела бы к крушению всю ее скромность. И вот для защиты
добродетели, так как время шло и зло возрастало, был учрежден рыцарский
орден, чтобы охранять девушек, защищать вдов и помогать сиротам и
нуждающимся. К этому ордену принадлежу и я, братья пастухи, которых
благодарю за угощенье и радушный прием, оказанный мне и моему оруженосцу. И
хотя по закону природы все живущие в мире обязаны благоприятствовать
странствующим рыцарям, тем не менее, так как я знаю, что вы, находясь в
неведении относительно этой вашей обязанности, все же приняли и угостили
меня, справедливо, чтобы и я поблагодарил вас от всего сердца за выказанное
мне вами доброе расположение.
Вся эта длинная речь (без которой можно было бы отлично обойтись) была
сказана нашим рыцарем потому, что предложенные желуди напомнили ему золотой
век и он вздумал обратиться с ненужными этими рассуждениями к пастухам, а
те, не отвечая ни слова, слушали его, изумленные и недоумевающие. Даже и
Санчо молчал, ел желуди и частенько прикладывался ко второму бурдюку,
который пастухи -- чтобы вино охладилось -- держали подвешенным к пробковому
дереву.
Речь Дон Кихота длилась дольше, чем ужин. Когда он кончил, один из
пастухов сказал:
-- Сеньор странствующий рыцарь, чтобы милость ваша могла еще с большим
правом говорить, что мы приняли вас дружески и радушно, мы желали бы
доставить вам удовольствие и забаву -- послушать пение одного из наших
товарищей, который скоро явится сюда. Это очень умный пастух; он сильно
влюблен и, сверх того, умеет читать и писать и так хорошо играет на рабеле
{Рабель -- древний род лютни маврского происхождения. Рабель был в
употреблении у пастухов во времена Сервантеса, -- трехструнный инструмент,
на котором играли небольшим смычком.}, что лучшего нельзя и желать.
Не успел пастух договорить этих слов, как уже раздались звуки рабеля, а
вскоре появился игравший на нем молодой, красивый парень лет около двадцати
двух. Товарищи спросили его, ужинал ли он, и, получив утвердительный ответ,
тот, который хвалил его Дон Кихоту, сказал ему:
 -- В таком случае сделай нам удовольствие, Антонио, и спой что-нибудь,
чтобы этот сеньор -- гость наш -- видел, что и в горах, и в лесах есть люди,
знающие музыку. Мы ему хвалили твои способности и желали бы, чтобы ты их
выказал теперь и доказал этим, что мы говорили правду. Итак, прошу тебя
твоей жизнью, садись и спой нам романс о твоей любви, сочиненный для тебя
твоим дядей-церковником, -- романс, который так понравился у нас в селе.
-- С удовольствием спою, -- ответил юноша и, не заставляя себя просить,
сел на пень срубленного дуба, настроил рабель и спел очень приятным голосом
следующий романс:
АНТОНИО
Знаю я, Олалья, -- любишь
Ты меня, хоть не оказала
Мне о том ты даже взглядом,--
Языком немым любви.
Что и я люблю, наверно
Поняла ты, -- и навряд ли
Безответным будет чувство,
Раз оно известным стало.
Ты подчас старалась, правда,
Показать мне, будто сердце
У тебя в груди из стали,
А душа твоя -- скала.
Но сквозь робкие укоры,
Сквозь смущенные отказы,
Иногда надежды светлой
Край покрова видел я.
И доверчиво стремился
Ей навстречу всей душою,
Рад был сладостной приманке,
Беспредельно верил ей...
Если ж знак любви -- учтивость,--
Из твоей я заключаю,
Что уж близится развязка,
О которой я мечтаю.
Если нежные услуги
Иногда смягчают сердце,
Может быть, и мне уж скоро
Овладеть твоим удастся.
Ты не раз могла заметить,
Что в одежде я воскресной
В понедельник пред тобою
Из любви к тебе являлся.
Ведь любовь и страсть к нарядам
По одной идут дороге,--
Оттого всегда желал я
Быть в твоих глазах пригожим.
Для тебя я бросил танцы,
Пел тебе я серенады
Поздней ночью, ранним утром,
Лишь проснутся петухи.
Умолчу, какой хвалою
Осыпал тебя я всюду.
И был прав. Но зло косились
На меня твои подруги.
Раз тобой я восхищался,
А Тереса мне сказала:
"Мнит иной, пред ним богиня,
Но влюблен он в обезьяну.
Мишуры не замечая,
Накладных волос не видя,
Обольщен красой притворной,
Он введен кругом в обман".
"Это ложь!" -- я крикнул гневно.
За сестру тогда вступился
Брат ее, -- меня он вызвал;
Чем все кончилось, ты знаешь.
Не ищу я легкой связи,
Не хочу тебя прельстить я,
Не люблю я для забавы:
Цель моя честней и выше.
Церковь узы налагает,--
Сплетены они из шелка;
В то ярмо ты вдень лишь шею,
Вмиг мою увидишь рядом.
А не хочешь, так клянуся
Величайшей в мире клятвой:
Я покину эти горы.
Чтоб идти лишь в капуцины.
На этом пастух кончил свое пение, и хотя Дон Кихот просил спеть еще
что-нибудь, но Санчо Панса не согласился, потому что ему больше хотелось
спать, чем слушать песни. Итак, он сказал своему господину:
-- Вашей милости следовало бы теперь немедленно устроиться на ночь,
потому что труд, которым добрые эти люди заняты целый день-деньской, не
позволяет им проводить ночи, распевая песни.
-- Понимаю тебя, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- ясно, что посещения
бурдюка располагают скорее ко сну, чем к музыке.
-- Всем нам пришлось по вкусу вино, благодарение богу, -- ответил
Санчо.
-- Не отрицаю этого, -- возразил Дон Кихот, ступай устраивайся на ночь,
где хочешь; людям же моей профессии приличнее бодрствовать, чем спать. А все
же, Санчо, было бы недурно, если бы ты еще раз перевязал мне ухо, которое
болит больше, чем бы следовало.
Санчо сделал то, что ему было приказано, а один из пастухов, увидав
рану, просил не трудиться перевязывать ее, так как он сейчас положит на рану
лекарство, от которого она быстро заживет, и, оторвав несколько листьев
розмарина, растущего там в изобилии, он их разжевал, прибавил немного соли
и, приложив все это к уху Дон Кихота, крепко перевязал, уверяя, что другого
лекарства не понадобится, -- так оно и оказалось на самом деле.
-- В таком случае сделай нам удовольствие, Антонио, и спой что-нибудь,
чтобы этот сеньор -- гость наш -- видел, что и в горах, и в лесах есть люди,
знающие музыку. Мы ему хвалили твои способности и желали бы, чтобы ты их
выказал теперь и доказал этим, что мы говорили правду. Итак, прошу тебя
твоей жизнью, садись и спой нам романс о твоей любви, сочиненный для тебя
твоим дядей-церковником, -- романс, который так понравился у нас в селе.
-- С удовольствием спою, -- ответил юноша и, не заставляя себя просить,
сел на пень срубленного дуба, настроил рабель и спел очень приятным голосом
следующий романс:
АНТОНИО
Знаю я, Олалья, -- любишь
Ты меня, хоть не оказала
Мне о том ты даже взглядом,--
Языком немым любви.
Что и я люблю, наверно
Поняла ты, -- и навряд ли
Безответным будет чувство,
Раз оно известным стало.
Ты подчас старалась, правда,
Показать мне, будто сердце
У тебя в груди из стали,
А душа твоя -- скала.
Но сквозь робкие укоры,
Сквозь смущенные отказы,
Иногда надежды светлой
Край покрова видел я.
И доверчиво стремился
Ей навстречу всей душою,
Рад был сладостной приманке,
Беспредельно верил ей...
Если ж знак любви -- учтивость,--
Из твоей я заключаю,
Что уж близится развязка,
О которой я мечтаю.
Если нежные услуги
Иногда смягчают сердце,
Может быть, и мне уж скоро
Овладеть твоим удастся.
Ты не раз могла заметить,
Что в одежде я воскресной
В понедельник пред тобою
Из любви к тебе являлся.
Ведь любовь и страсть к нарядам
По одной идут дороге,--
Оттого всегда желал я
Быть в твоих глазах пригожим.
Для тебя я бросил танцы,
Пел тебе я серенады
Поздней ночью, ранним утром,
Лишь проснутся петухи.
Умолчу, какой хвалою
Осыпал тебя я всюду.
И был прав. Но зло косились
На меня твои подруги.
Раз тобой я восхищался,
А Тереса мне сказала:
"Мнит иной, пред ним богиня,
Но влюблен он в обезьяну.
Мишуры не замечая,
Накладных волос не видя,
Обольщен красой притворной,
Он введен кругом в обман".
"Это ложь!" -- я крикнул гневно.
За сестру тогда вступился
Брат ее, -- меня он вызвал;
Чем все кончилось, ты знаешь.
Не ищу я легкой связи,
Не хочу тебя прельстить я,
Не люблю я для забавы:
Цель моя честней и выше.
Церковь узы налагает,--
Сплетены они из шелка;
В то ярмо ты вдень лишь шею,
Вмиг мою увидишь рядом.
А не хочешь, так клянуся
Величайшей в мире клятвой:
Я покину эти горы.
Чтоб идти лишь в капуцины.
На этом пастух кончил свое пение, и хотя Дон Кихот просил спеть еще
что-нибудь, но Санчо Панса не согласился, потому что ему больше хотелось
спать, чем слушать песни. Итак, он сказал своему господину:
-- Вашей милости следовало бы теперь немедленно устроиться на ночь,
потому что труд, которым добрые эти люди заняты целый день-деньской, не
позволяет им проводить ночи, распевая песни.
-- Понимаю тебя, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- ясно, что посещения
бурдюка располагают скорее ко сну, чем к музыке.
-- Всем нам пришлось по вкусу вино, благодарение богу, -- ответил
Санчо.
-- Не отрицаю этого, -- возразил Дон Кихот, ступай устраивайся на ночь,
где хочешь; людям же моей профессии приличнее бодрствовать, чем спать. А все
же, Санчо, было бы недурно, если бы ты еще раз перевязал мне ухо, которое
болит больше, чем бы следовало.
Санчо сделал то, что ему было приказано, а один из пастухов, увидав
рану, просил не трудиться перевязывать ее, так как он сейчас положит на рану
лекарство, от которого она быстро заживет, и, оторвав несколько листьев
розмарина, растущего там в изобилии, он их разжевал, прибавил немного соли
и, приложив все это к уху Дон Кихота, крепко перевязал, уверяя, что другого
лекарства не понадобится, -- так оно и оказалось на самом деле.

 В это время пришел еще один молодой парень из тех, которые носили
пастухам съестные припасы из деревни, и сказал:
-- Знаете ли вы, товарищи, что делается на селе?
-- Откуда могли бы мы это знать? -- отозвался один из пастухов.
-- Так слушайте же, -- продолжал парень, -- сегодня утром умер
известный пастух-студент, по имени Грисостомо, и говорят, что он умер от
любви к этой чертовской девушке Марселе, дочери Гильермо богатого, -- той,
которая, переодетая пастушкой, бродит по здешним пустынным местам.
-- Из любви к Марселе? -- переспросил кто-то.
-- Из любви к ней, -- ответил пастух. Но лучше всего то, что в своем
завещании он распорядился, чтобы его, как мавра, похоронили в поле, у
подножия скалы, где источник Пробкового дерева, потому что -- по слухам
(говорят, будто он сам это рассказывал), -- здесь именно он впервые увидел
Марселу. Завещал он также и кой-что другое, -- то, что, по словам местных
церковников, нельзя привести в исполнение, и нехорошо было бы, если бы это
сделали, потому что все это смахивает на язычество. Но большой друг
Грисостомо, студент Амбросио, который вместе с ним переодевался пастухом,
требует, чтобы в точности было исполнено, что завещал Грисостомо, -- из-за
этого-то и всполошилось все село. Однако, говорят, в конце концов сделают
именно так, как желают Амбросио и пастухи, его друзья, и завтра с большой
торжественностью похоронят Грисостомо там, где я говорил. Мне кажется, что
это будет очень интересное зрелище; по крайней мере, я непременно пошел бы
посмотреть, если бы знал, что мне не нужно будет завтра возвращаться в село.
-- Мы все хотим пойти на похороны Грисостомо, -- сказали пастухи, -- и
бросим жребий, кому из нас оставаться здесь пасти коз.
-- Ты правильно решил, Педро,-- отозвался один из пастухов, -- хотя нет
нужды бросать жребий, так как я останусь здесь за всех вас. Но не
приписывайте этого моему великодушию или отсутствию у меня любопытства, --
остаюсь я только потому, что заноза, попавшая на днях в ногу, мешает мне
пойти с вами. Тем не менее мы очень тебе благодарны, Педро.
Дон Кихот попросил Педро рассказать ему, кто такой был этот покойник и
та пастушка. На это Педро ответил, что, насколько ему известно, покойник был
богатый идальго и жил в местечке в этих горах. Много лет пробыл он в
Саламанском университете, после чего вернулся на родину, где слыл за очень
начитанного и ученого человека. Особенно хорошо знал он, как говорят, науку
звезд и то, что происходит на небе с Солнцем и Луной, потому что он всегда
точно предсказывал нам темноту Солнца и Луны.
-- Не темнотой, а затмением называют, друг мой, явление, когда
омрачаются эти два большие светила, -- сказал Дон Кихот, но Педро, не
обращая внимания на такие пустяки, продолжал:
-- Он умел также предсказывать, будет ли год плодородный или
нерожайный.
-- Неурожайный, хотите вы сказать, -- поправил его снова Дон Кихот.
-- Нерожайный или неурожайный -- одно и то же, -- заявил Педро. --
Итак, я говорю, что отец и друзья его, верившие ему, разбогатели, потому что
делали всегда то, что он им советовал, говоря: "Сейте в этом году ячмень, а
не пшеницу; а в этом году можете сеять горох, но не ячмень. В наступающем
году будет обильный сбор оливок; в следующие затем три года -- полный их
неурожай".
-- Эту науку, -- сказал Дон Кихот,-- называют астрологией {Предсказание
о жатвах входило в те времена в обязанность астрологов.}.
-- Не знаю, как ее называют, -- возразил Педро, -- но знаю, что он все
это понимал и даже более того. Словом, не прошло и нескольких месяцев после
возвращения его из Саламанки, как однажды он явился одетый пастухом, с
посохом и в овчине, сняв с себя свое длинное студенческое облаченье. Вместе
с ним оделся пастухом и его лучший друг, по имени Амбросио, товарищ его по
университету. Я забыл сказать, что покойный Грисостомо был великий мастер
сочинять стихи, и такой мастер, что он сочинял вилланчикосы {Villancicos
(исп.) -- церковная песнь в честь Пресвятой Девы; поется она главным образом
в ночь на Рождество Христово.} на Сочельник Рождества Христова и аутосы
{Autos sacramentales -- маленькие пьесы и драмы духовного содержания.} на
праздник Тела Господня, которые разыгрывались парнями нашего села, и все
находили их превосходными. Когда деревенские жители увидели двух студентов,
столь внезапно превратившихся в пастухов, они были поражены и не могли
понять причины такого странного превращения. В то время отец нашего
Грисостомо уже умер и оставил ему большое состояние, движимое и недвижимое,
великое множество крупного и мелкого скота и значительное количество денег.
Над всем этим юноша оказался неограниченным хозяином, и, говоря по правде,
он заслуживал свое богатство, потому что был прекрасным товарищем, человеком
сострадательным и другом всех добрых людей, -- а лицом он был красив, как
ангел. Впоследствии стало известным, что он переоделся пастухом единственно
только из-за того, чтобы иметь возможность встречаться в этих пустынных
местах с пастушкой Марселой, той самой, о которой только что упоминал наш
товарищ и в которую влюбился бедный покойный Грисостомо. А теперь сообщу вам
-- потому что вам это надо знать, -- кто такая эта девушка. Быть может, и
даже наверное, вы во всю свою жизнь не слышали и не услышите никогда ничего
подобного, хотя бы и прожили дольше, чем Сарна {Сарна (sarna) -- в переводе
с испанского "чесотка". Сарра, как известно, жена Авраама.}.
-- Говорите Сарра, -- возразил Дон Кихот, который не мог стерпеть
искажения слов, делаемого пастухом.
-- И сарна живет достаточно долго, -- ответил Педро. -- Если же вы,
сеньор, будете каждую минуту исправлять мои слова, мы не кончим и через год.
-- Простите, друг, -- сказал Дон Кихот, -- перебил я вас потому только,
что столь большая разница в значении слов сарна и Сарра. Но вы ответили как
нельзя лучше, потому что сарна живет дольше Сарры. Продолжайте ваш рассказ,
я не буду больше прерывать вас.
-- Итак, я говорю, сеньор души моей, -- продолжал пастух, -- что у нас
в деревне жил крестьянин, еще более богатый, чем Грисостомо, по имени
Гильермо, которому Бог, сверх многих и великих богатств, дал дочь; родив
девочку, мать умерла, а была она самой уважаемой женщиной во всем околотке.
Как сейчас вижу я ее перед собой, с лицом, которое, казалось, светилось с
одной стороны, что солнце, а с другой, что луна, -- и, главное, она была
очень дельная хозяйка и сострадательная к бедным, за что -- я уверен -- душа
ее в настоящее время наслаждается на том свете лицезрением Бога. С горя о
потери столь доброй жены умер и муж ее, Гильермо, оставив дочь свою Марселу,
богатую малютку, под опекой дяди, священника нашего села. Девочка росла
такой красавицей, что напоминала собою мать, обладавшую необычайной
красотой, и тем не менее мы считали, что дочь превзойдет ее в этом
отношении. Оно так и случилось, потому что, когда она достигла возраста
между четырнадцатью и пятнадцатью годами, всякий, кто ее видел, хвалил Бога
за то, что Он создал ее такой прекрасной, а большинство мужчин влюблялось в
нее и сходили с ума от нее. Дядя всячески заботился о ней и держал ее в
полном уединении. Но тем не менее слава о необычайной красоте Марселы
распространилась так, что вследствие этого, а также и большого ее богатства,
не только из нашего местечка, но даже из дальней округи самые завидные
женихи просили, умоляли и надоедали ее дяде, чтобы он отдал ее им в жены. Но
он -- будучи на самом деле добрым христианином -- хотя и желал выдать ее
замуж тотчас же, когда ей вышли года, не хотел, однако, делать этого без ее
согласия, причем он вовсе не принимал в расчет выгоду и пользу, которую
могла бы доставить ему опека над ее имуществом, если б он подольше
откладывал замужество ее. И, по правде говоря, часто шел об этом разговор на
вечеринках в селе в похвалу доброму священнику. Мне хотелось бы, чтобы вы
знали, сеньор проезжий, что в таких маленьких местечках во все вмешиваются и
обо всем тараторят, и будьте уверены, как и я в том уверен, что духовное
лицо, о котором прихожане его -- в особенности в деревнях -- отзываются с
похвалой, в действительности должно быть необычайно хорошим.
-- Это правда, -- сказал Дон Кихот,-- но продолжайте ваш рассказ,
добрый Педро, так как он очень интересен и вы передаете его очень мило.
-- Лишь бы милость Божья была на мне, вот что главное. Итак, вы должны
знать, что, хотя дядя и сообщал племяннице о всех женихах, которые к ней
сватались, и описывал ей качества каждого из них, уговаривая ее выходить
замуж и выбрать того, кто ей понравится, но в ответ она ему всякий раз
говорила одно и то же: пока еще она не желает выходить замуж, будучи для
этого слишком молодой и не чувствуя себя способной нести бремя замужества.
На основании этих -- как они ему казались -- довольно веских причин отказа
дядя перестал уговаривать ее в надежде, что став несколько старше, она
сумеет выбрать себе товарища на всю жизнь по собственному желанию. Потому
что, говорил он -- и говорил справедливо, -- родители не должны устраивать
брака детей своих против их воли. И вот однажды, когда никто этого не
ожидал, коварная Марсела вдруг явилась одетой пастушкой, и против желания
дяди и всех тех в селе, которые отсоветовали ей это, она отправилась в поле
с другими деревенскими пастушками и стала пасти свое собственное стадо. Как
только она явилась всенародно и красота ее оказалась у всех на виду, не
сумею хорошенько сказать вам, сколько богатых юношей -- дворян и крестьян,
-- подобно Грисостомо, оделись пастухами и стали ухаживать за ней, скитаясь
по этим полям. В числе их, как я уже говорил, был и покойный Грисостомо,
который не то что любил, а просто боготворил ее. Только не думайте, чтобы
Марсела, избрав себе такой свободный и независимый образ жизни, давала бы
повод или хотя бы тень повода для сомнения в ее чистоте и добродетели.
Напротив, она так рьяно и неусыпно следит за своею честью, что из всех,
которые ухаживают за ней и стараются ей понравиться, ни один не хвалился, да
и не мог бы -- придерживаясь истины -- хвалиться тем, будто она подала ему
малейшую надежду добиться цели своих желаний. Хотя она и не сторонится
пастухов, не избегает их общества и разговоров, а, напротив того, обращается
со всеми приветливо и дружески, но лишь только кто-нибудь вздумает открыть
ей свои намерения, -- пусть бы они были столь справедливы и святы, как
желание брака, -- она их отвергает и тотчас отбрасывает от себя словно
метательным снарядом. Этим своим нравом и образом жизни она причиняет больше
вреда в нашей местности, чем если бы здесь появилась чума; потому что
приветливость и красота ее привлекают к ней сердца всех, кто ее видит, и
заставляют служить ей и любить ее. Но пренебрежительность, равнодушие ее и
недоступность приводят их в отчаяние. Итак, они не знают, что ей сказать; но
громогласно называют ее жестокой, неблагодарной и другими подобными именами,
которые ясно обнаруживают ее душевный склад. И если б вы остались здесь
некоторое время, вы бы услышали, сеньор, как в этих горах и долинах
раздаются жалобы отвергнутых ею и всюду следующих за нею поклонников ее.
Недалеко отсюда есть местечко, где растут дюжины две высоких буковых
деревьев, и нет ни одного из них, на гладкой коре которого не было бы
написано и вырезано имя Марселы, а кой-где над ее именем вырезана еще и
корона, точно влюбленный в нее хотел этим ясно сказать, что Марсела носит и
заслуживает носить корону всякой человеческой красоты. Здесь вздыхает
пастух, там жалуется другой; тут раздаются песни любви, там слышатся песни
отчаяния. Иной проводит всю ночь, сидя под дубом или у подножия скалы, и его
-- не сомкнувшего заплаканных глаз, углубленного в мечты и восхищенного ими
-- так и застает здесь утреннее солнце; а другой в самый невыносимый зной,
под палящими полуденными лучами, лежа на раскаленном песке, воссылает, не
прерывая вздохов, жалобы свои к сострадательному небу. И над этим, и тем, и
над одним, и над другим свободно и беззаботно торжествует красавица Марсела.
Все мы, знающие ее, ждем, где окажется предел ее гордости и кто будет тот
счастливец, которому удастся смягчить такое жестокое сердце и насладиться
столь необычайной красотой. Так как все, что я вам рассказал, -- несомненная
истина, то я убежден, что и сообщение нашего пастуха о причине смерти
Грисостомо, -- такая же истина. Поэтому советую вам, сеньор, непременно
отправиться завтра утром на похороны Грисостомо. Там будет на что
посмотреть, потому что у Грисостомо немало друзей. А отсюда до места, где он
велел похоронить себя, недалеко,-- всего полмили.
-- Непременно воспользуюсь этим случаем, -- сказал Дон Кихот, -- и
очень благодарю вас за удовольствие, доставленное мне столь занимательной
историей.
-- О, -- ответил пастух, -- я не знаю и половины приключений,
случившихся с поклонниками Марселы. Но, может быть, завтра по дороге мы
встретимся с каким-нибудь пастухом, который нам сообщит их, а теперь было бы
хорошо, если бы вы пошли спать под кровлю, потому что ночная сырость может
повредить вашей ране, хотя лекарство, положенное на нее, такого рода, что
нельзя опасаться ничего дурного.
Санчо Панса, который посылал уже к черту многословие пастуха, со своей
стороны, тоже стал уговаривать своего господина, чтобы он лег спать в шалаше
Педро. Дон Кихот так и сделал, но большую часть ночи провел -- подражая
обожателям Марселы -- в воспоминаниях о своей сеньоре Дульсинее. Санчо Панса
устроил себе ночлег между Росинантом и своим ослом и спал не как отверженный
влюбленный, а как человек, немилосердно избитый.
В это время пришел еще один молодой парень из тех, которые носили
пастухам съестные припасы из деревни, и сказал:
-- Знаете ли вы, товарищи, что делается на селе?
-- Откуда могли бы мы это знать? -- отозвался один из пастухов.
-- Так слушайте же, -- продолжал парень, -- сегодня утром умер
известный пастух-студент, по имени Грисостомо, и говорят, что он умер от
любви к этой чертовской девушке Марселе, дочери Гильермо богатого, -- той,
которая, переодетая пастушкой, бродит по здешним пустынным местам.
-- Из любви к Марселе? -- переспросил кто-то.
-- Из любви к ней, -- ответил пастух. Но лучше всего то, что в своем
завещании он распорядился, чтобы его, как мавра, похоронили в поле, у
подножия скалы, где источник Пробкового дерева, потому что -- по слухам
(говорят, будто он сам это рассказывал), -- здесь именно он впервые увидел
Марселу. Завещал он также и кой-что другое, -- то, что, по словам местных
церковников, нельзя привести в исполнение, и нехорошо было бы, если бы это
сделали, потому что все это смахивает на язычество. Но большой друг
Грисостомо, студент Амбросио, который вместе с ним переодевался пастухом,
требует, чтобы в точности было исполнено, что завещал Грисостомо, -- из-за
этого-то и всполошилось все село. Однако, говорят, в конце концов сделают
именно так, как желают Амбросио и пастухи, его друзья, и завтра с большой
торжественностью похоронят Грисостомо там, где я говорил. Мне кажется, что
это будет очень интересное зрелище; по крайней мере, я непременно пошел бы
посмотреть, если бы знал, что мне не нужно будет завтра возвращаться в село.
-- Мы все хотим пойти на похороны Грисостомо, -- сказали пастухи, -- и
бросим жребий, кому из нас оставаться здесь пасти коз.
-- Ты правильно решил, Педро,-- отозвался один из пастухов, -- хотя нет
нужды бросать жребий, так как я останусь здесь за всех вас. Но не
приписывайте этого моему великодушию или отсутствию у меня любопытства, --
остаюсь я только потому, что заноза, попавшая на днях в ногу, мешает мне
пойти с вами. Тем не менее мы очень тебе благодарны, Педро.
Дон Кихот попросил Педро рассказать ему, кто такой был этот покойник и
та пастушка. На это Педро ответил, что, насколько ему известно, покойник был
богатый идальго и жил в местечке в этих горах. Много лет пробыл он в
Саламанском университете, после чего вернулся на родину, где слыл за очень
начитанного и ученого человека. Особенно хорошо знал он, как говорят, науку
звезд и то, что происходит на небе с Солнцем и Луной, потому что он всегда
точно предсказывал нам темноту Солнца и Луны.
-- Не темнотой, а затмением называют, друг мой, явление, когда
омрачаются эти два большие светила, -- сказал Дон Кихот, но Педро, не
обращая внимания на такие пустяки, продолжал:
-- Он умел также предсказывать, будет ли год плодородный или
нерожайный.
-- Неурожайный, хотите вы сказать, -- поправил его снова Дон Кихот.
-- Нерожайный или неурожайный -- одно и то же, -- заявил Педро. --
Итак, я говорю, что отец и друзья его, верившие ему, разбогатели, потому что
делали всегда то, что он им советовал, говоря: "Сейте в этом году ячмень, а
не пшеницу; а в этом году можете сеять горох, но не ячмень. В наступающем
году будет обильный сбор оливок; в следующие затем три года -- полный их
неурожай".
-- Эту науку, -- сказал Дон Кихот,-- называют астрологией {Предсказание
о жатвах входило в те времена в обязанность астрологов.}.
-- Не знаю, как ее называют, -- возразил Педро, -- но знаю, что он все
это понимал и даже более того. Словом, не прошло и нескольких месяцев после
возвращения его из Саламанки, как однажды он явился одетый пастухом, с
посохом и в овчине, сняв с себя свое длинное студенческое облаченье. Вместе
с ним оделся пастухом и его лучший друг, по имени Амбросио, товарищ его по
университету. Я забыл сказать, что покойный Грисостомо был великий мастер
сочинять стихи, и такой мастер, что он сочинял вилланчикосы {Villancicos
(исп.) -- церковная песнь в честь Пресвятой Девы; поется она главным образом
в ночь на Рождество Христово.} на Сочельник Рождества Христова и аутосы
{Autos sacramentales -- маленькие пьесы и драмы духовного содержания.} на
праздник Тела Господня, которые разыгрывались парнями нашего села, и все
находили их превосходными. Когда деревенские жители увидели двух студентов,
столь внезапно превратившихся в пастухов, они были поражены и не могли
понять причины такого странного превращения. В то время отец нашего
Грисостомо уже умер и оставил ему большое состояние, движимое и недвижимое,
великое множество крупного и мелкого скота и значительное количество денег.
Над всем этим юноша оказался неограниченным хозяином, и, говоря по правде,
он заслуживал свое богатство, потому что был прекрасным товарищем, человеком
сострадательным и другом всех добрых людей, -- а лицом он был красив, как
ангел. Впоследствии стало известным, что он переоделся пастухом единственно
только из-за того, чтобы иметь возможность встречаться в этих пустынных
местах с пастушкой Марселой, той самой, о которой только что упоминал наш
товарищ и в которую влюбился бедный покойный Грисостомо. А теперь сообщу вам
-- потому что вам это надо знать, -- кто такая эта девушка. Быть может, и
даже наверное, вы во всю свою жизнь не слышали и не услышите никогда ничего
подобного, хотя бы и прожили дольше, чем Сарна {Сарна (sarna) -- в переводе
с испанского "чесотка". Сарра, как известно, жена Авраама.}.
-- Говорите Сарра, -- возразил Дон Кихот, который не мог стерпеть
искажения слов, делаемого пастухом.
-- И сарна живет достаточно долго, -- ответил Педро. -- Если же вы,
сеньор, будете каждую минуту исправлять мои слова, мы не кончим и через год.
-- Простите, друг, -- сказал Дон Кихот, -- перебил я вас потому только,
что столь большая разница в значении слов сарна и Сарра. Но вы ответили как
нельзя лучше, потому что сарна живет дольше Сарры. Продолжайте ваш рассказ,
я не буду больше прерывать вас.
-- Итак, я говорю, сеньор души моей, -- продолжал пастух, -- что у нас
в деревне жил крестьянин, еще более богатый, чем Грисостомо, по имени
Гильермо, которому Бог, сверх многих и великих богатств, дал дочь; родив
девочку, мать умерла, а была она самой уважаемой женщиной во всем околотке.
Как сейчас вижу я ее перед собой, с лицом, которое, казалось, светилось с
одной стороны, что солнце, а с другой, что луна, -- и, главное, она была
очень дельная хозяйка и сострадательная к бедным, за что -- я уверен -- душа
ее в настоящее время наслаждается на том свете лицезрением Бога. С горя о
потери столь доброй жены умер и муж ее, Гильермо, оставив дочь свою Марселу,
богатую малютку, под опекой дяди, священника нашего села. Девочка росла
такой красавицей, что напоминала собою мать, обладавшую необычайной
красотой, и тем не менее мы считали, что дочь превзойдет ее в этом
отношении. Оно так и случилось, потому что, когда она достигла возраста
между четырнадцатью и пятнадцатью годами, всякий, кто ее видел, хвалил Бога
за то, что Он создал ее такой прекрасной, а большинство мужчин влюблялось в
нее и сходили с ума от нее. Дядя всячески заботился о ней и держал ее в
полном уединении. Но тем не менее слава о необычайной красоте Марселы
распространилась так, что вследствие этого, а также и большого ее богатства,
не только из нашего местечка, но даже из дальней округи самые завидные
женихи просили, умоляли и надоедали ее дяде, чтобы он отдал ее им в жены. Но
он -- будучи на самом деле добрым христианином -- хотя и желал выдать ее
замуж тотчас же, когда ей вышли года, не хотел, однако, делать этого без ее
согласия, причем он вовсе не принимал в расчет выгоду и пользу, которую
могла бы доставить ему опека над ее имуществом, если б он подольше
откладывал замужество ее. И, по правде говоря, часто шел об этом разговор на
вечеринках в селе в похвалу доброму священнику. Мне хотелось бы, чтобы вы
знали, сеньор проезжий, что в таких маленьких местечках во все вмешиваются и
обо всем тараторят, и будьте уверены, как и я в том уверен, что духовное
лицо, о котором прихожане его -- в особенности в деревнях -- отзываются с
похвалой, в действительности должно быть необычайно хорошим.
-- Это правда, -- сказал Дон Кихот,-- но продолжайте ваш рассказ,
добрый Педро, так как он очень интересен и вы передаете его очень мило.
-- Лишь бы милость Божья была на мне, вот что главное. Итак, вы должны
знать, что, хотя дядя и сообщал племяннице о всех женихах, которые к ней
сватались, и описывал ей качества каждого из них, уговаривая ее выходить
замуж и выбрать того, кто ей понравится, но в ответ она ему всякий раз
говорила одно и то же: пока еще она не желает выходить замуж, будучи для
этого слишком молодой и не чувствуя себя способной нести бремя замужества.
На основании этих -- как они ему казались -- довольно веских причин отказа
дядя перестал уговаривать ее в надежде, что став несколько старше, она
сумеет выбрать себе товарища на всю жизнь по собственному желанию. Потому
что, говорил он -- и говорил справедливо, -- родители не должны устраивать
брака детей своих против их воли. И вот однажды, когда никто этого не
ожидал, коварная Марсела вдруг явилась одетой пастушкой, и против желания
дяди и всех тех в селе, которые отсоветовали ей это, она отправилась в поле
с другими деревенскими пастушками и стала пасти свое собственное стадо. Как
только она явилась всенародно и красота ее оказалась у всех на виду, не
сумею хорошенько сказать вам, сколько богатых юношей -- дворян и крестьян,
-- подобно Грисостомо, оделись пастухами и стали ухаживать за ней, скитаясь
по этим полям. В числе их, как я уже говорил, был и покойный Грисостомо,
который не то что любил, а просто боготворил ее. Только не думайте, чтобы
Марсела, избрав себе такой свободный и независимый образ жизни, давала бы
повод или хотя бы тень повода для сомнения в ее чистоте и добродетели.
Напротив, она так рьяно и неусыпно следит за своею честью, что из всех,
которые ухаживают за ней и стараются ей понравиться, ни один не хвалился, да
и не мог бы -- придерживаясь истины -- хвалиться тем, будто она подала ему
малейшую надежду добиться цели своих желаний. Хотя она и не сторонится
пастухов, не избегает их общества и разговоров, а, напротив того, обращается
со всеми приветливо и дружески, но лишь только кто-нибудь вздумает открыть
ей свои намерения, -- пусть бы они были столь справедливы и святы, как
желание брака, -- она их отвергает и тотчас отбрасывает от себя словно
метательным снарядом. Этим своим нравом и образом жизни она причиняет больше
вреда в нашей местности, чем если бы здесь появилась чума; потому что
приветливость и красота ее привлекают к ней сердца всех, кто ее видит, и
заставляют служить ей и любить ее. Но пренебрежительность, равнодушие ее и
недоступность приводят их в отчаяние. Итак, они не знают, что ей сказать; но
громогласно называют ее жестокой, неблагодарной и другими подобными именами,
которые ясно обнаруживают ее душевный склад. И если б вы остались здесь
некоторое время, вы бы услышали, сеньор, как в этих горах и долинах
раздаются жалобы отвергнутых ею и всюду следующих за нею поклонников ее.
Недалеко отсюда есть местечко, где растут дюжины две высоких буковых
деревьев, и нет ни одного из них, на гладкой коре которого не было бы
написано и вырезано имя Марселы, а кой-где над ее именем вырезана еще и
корона, точно влюбленный в нее хотел этим ясно сказать, что Марсела носит и
заслуживает носить корону всякой человеческой красоты. Здесь вздыхает
пастух, там жалуется другой; тут раздаются песни любви, там слышатся песни
отчаяния. Иной проводит всю ночь, сидя под дубом или у подножия скалы, и его
-- не сомкнувшего заплаканных глаз, углубленного в мечты и восхищенного ими
-- так и застает здесь утреннее солнце; а другой в самый невыносимый зной,
под палящими полуденными лучами, лежа на раскаленном песке, воссылает, не
прерывая вздохов, жалобы свои к сострадательному небу. И над этим, и тем, и
над одним, и над другим свободно и беззаботно торжествует красавица Марсела.
Все мы, знающие ее, ждем, где окажется предел ее гордости и кто будет тот
счастливец, которому удастся смягчить такое жестокое сердце и насладиться
столь необычайной красотой. Так как все, что я вам рассказал, -- несомненная
истина, то я убежден, что и сообщение нашего пастуха о причине смерти
Грисостомо, -- такая же истина. Поэтому советую вам, сеньор, непременно
отправиться завтра утром на похороны Грисостомо. Там будет на что
посмотреть, потому что у Грисостомо немало друзей. А отсюда до места, где он
велел похоронить себя, недалеко,-- всего полмили.
-- Непременно воспользуюсь этим случаем, -- сказал Дон Кихот, -- и
очень благодарю вас за удовольствие, доставленное мне столь занимательной
историей.
-- О, -- ответил пастух, -- я не знаю и половины приключений,
случившихся с поклонниками Марселы. Но, может быть, завтра по дороге мы
встретимся с каким-нибудь пастухом, который нам сообщит их, а теперь было бы
хорошо, если бы вы пошли спать под кровлю, потому что ночная сырость может
повредить вашей ране, хотя лекарство, положенное на нее, такого рода, что
нельзя опасаться ничего дурного.
Санчо Панса, который посылал уже к черту многословие пастуха, со своей
стороны, тоже стал уговаривать своего господина, чтобы он лег спать в шалаше
Педро. Дон Кихот так и сделал, но большую часть ночи провел -- подражая
обожателям Марселы -- в воспоминаниях о своей сеньоре Дульсинее. Санчо Панса
устроил себе ночлег между Росинантом и своим ослом и спал не как отверженный
влюбленный, а как человек, немилосердно избитый.

 Едва лишь занялся день, выглянув из окон и балконов восточного неба,
как из шести пастухов уже пятеро проснулись и, разбудив Дон Кихота, сказали
ему, что готовы сопровождать его, если он остался при своем намерении пойти
на необычайные похороны Грисостомо. Дон Кихот, который только этого и желал,
сейчас же поднялся и велел Санчо поскорее седлать Росинанта и осла, что
Санчо и поспешил исполнить, после чего все быстро двинулись в путь. Не
проехали они и четверти мили, как увидели, что навстречу им, когда они
пересекали тропинку, идут около шести пастухов, одетых в черные овчины, с
венками из кипариса и горького олеандра на головах, и каждый из них держит в
руках толстую палку из терновника. Между ними виднелись также и два всадника
в изящных дорожных костюмах, сопровождаемые тремя пешими слугами.
Встретившись, обе стороны вежливо раскланялись друг с другом и обменялись
вопросами: куда лежит их путь? Оказалось, что все отправляются на погребение
Грисостомо, и поэтому они решили теперь идти вместе. Один из двух всадников,
обратившись к своему товарищу, сказал:
-- Мне кажется, сеньор Вивальдо, мы не пожалеем о том, что задержались
в пути, чтобы присутствовать на замечательных этих похоронах; а они не могут
быть незамечательны, судя по удивительному рассказу пастухов как об умершем
их товарище, так и о смертоносной пастушке.
-- Я разделяю ваше мнение, -- ответил Вивальдо, -- и был бы готов
просрочить не только день, а даже целых четыре, чтобы присутствовать на этих
похоронах.
Дон Кихот спросил у них, что, собственно, они слышали о Грисостомо и
Марселе. Путешественники ответили, что ранним утром сегодня они встретились
со своими спутниками-пастухами и, увидав их в столь печальном облачении,
спросили, почему они так одеты. В ответ один из них рассказал им о причудах
и необычайной красоте пастушки, называемой Марселой, о любви к ней
многочисленных ее поклонников, добивающихся руки ее, и о смерти того
Грисостомо, на похороны которого они теперь идут. Словом, он повторил все
то, что Педро уже рассказал Дон Кихоту. Этот разговор прекратился, и начался
другой, так как всадник, который назывался Вивальдо, спросил Дон Кихота, что
побуждает его разъезжать вооруженным с ног до головы по столь мирной стране.
На это Дон Кихот ответил:
-- Обязанности моей профессии не допускают и не дозволяют мне
странствовать в ином виде. Довольство, роскошь и ленивый отдых изобретены
лишь для изнеженных царедворцев, а труд, тревоги и оружие изобретены и
созданы для тех, которых свет называет странствующими рыцарями и к числу
которых принадлежу и я, хотя и недостойный и самый незначительный из всех.
Едва они услышали эти слова Дон Кихота, как все сочли его за
сумасшедшего, и, чтобы еще более удостовериться в этом и узнать, какого рода
у него помешательство, Вивальдо опять обратился к нему, спрашивая: что же
собственно он понимает под словом "странствующий рыцарь"?
-- Разве вы, милости ваши, -- ответил Дон Кихот, -- не читали летописей
и историй Англии, в которых идет речь о доблестных подвигах короля Артура,
обыкновенно называемого у нас, в наших испанских романсах, королем Артусом?
Старинное предание, очень распространенное во всем Великобританском
королевстве, гласит, что король Артур не умер, а был превращен искусством
волшебства в ворона, но с течением времени он вернется на царство и овладеет
вновь своим скипетром и королевством. Вот почему не было примера, чтобы с
той поры и до настоящего дня кто-либо из англичан убил ворона. Итак, во
время доброго того короля был основан знаменитый орден рыцарей Круглого
стола {Самое древнее рыцарское учреждение, оно состояло из 24 рыцарей под
председательством короля Артура и послужило образцом для Карла Великого и
его двенадцати пэров.}, и тогда же случились -- точь-в-точь, как о них
рассказывается -- романические похождения Лансарота дель Лого с королевой
Хиневрой, причем посредницей и доверенным их лицом была весьма почтенная
дуэнья Кинтаньона; отсюда и получил свое начало столь общеизвестный и
распространенный в Испании романс:
Никогда так не служили
Дамы рыцарям отменно,
Как служили Лансароту
В день приезда из Британьи,
а после этих четырех строк следует трогательный и сладостный рассказ о
его любовных похождениях и военных подвигах. Итак, с того времени
мало-помалу этот рыцарский орден стал расширяться и распространяться во
многих и разных частях света. В нем приобрели известность и прославились
своими подвигами храбрый Амадис Галльский со всеми сыновьями и внуками до
пятого поколения, и доблестный Феликсмарте Ирканский, и никогда достаточно
не восхваленный Тиранте Белый, и непобедимый и отважный дон Белианис
Греческий, которого мы чуть ли не в наши дни видели, слышали и сносились с
ним. Вот это, сеньоры, и значит быть странствующим рыцарем, а орден, о
котором я говорил, и есть орден странствующего рыцарства. К нему, как уже
было сказано, принадлежу и я, грешный, и то, что исповедовали упомянутые
рыцари, исповедую и я. Итак, я странствую по этим уединенным и пустынным
местам, отыскивая приключения со смелой решимостью идти навстречу самой
большой опасности, которую судьба может мне послать, если только дело
коснется защиты и поддержки угнетенных и гонимых.
Эта речь Дон Кихота окончательно убедила путешественников в его
умопомешательстве и выяснила им, какого оно рода, что столь же сильно
удивило их, как удивляло и всех, кто впервые узнавал о его безумии. Тогда
Вивальдо, человек остроумный и веселый, вздумал -- чтобы не скучая провести
ту незначительную часть дороги, которая, как им говорили, еще оставалась до
места погребения,-- дать случай Дон Кихоту зайти еще дальше в его
нелепостях. Итак, он сказал:
-- Мне кажется, сеньор странствующий рыцарь, что милость ваша избрала
себе одну из самых суровых профессий в мире, и я думаю, что даже орден
картезианских монахов не столь суров.
-- Быть может, он и столь же суров,-- ответил Дон Кихот, -- но так ли
необходим он миру? В этом я сильно сомневаюсь, потому что, говоря по правде,
солдат, исполняющий приказание, данное ему начальником, делает не менее, чем
начальник, давший ему приказание. Я хочу сказать вот что: монахи в полном
спокойствии и тишине молят небо о ниспослании благ земле, мы же -- воины и
рыцари -- приводим в исполнение то, о чем они молят небо, -- защищая все это
силой рук наших и острием наших мечей, притом не под кровлей, а под открытым
небом, подвергаясь летом невыносимому зною солнечных лучей, а зимой
леденящему дыханию мороза. Таким образом, мы, слуги Бога на земле, -- руки,
которыми совершается его правосудие. А так как боевые подвиги и все, что к
ним относится и с ними соприкасается, может быть выполнено лишь только
благодаря усилиям и труду в поте лица, -- из этого следует, что люди нашей
профессии несут, несомненно, больше тягот, чем те, которые со всеми
удобствами, в тишине и спокойствии молят Бога о защите слабых. Я не хочу
сказать этим, и мне и в голову не приходило, что звание странствующего
рыцаря столь же хорошо, как и звание удалившегося от мира монаха; я только
желал бы -- судя по тому, что сам терплю, -- вывести заключение, что звание
странствующего рыцаря, несомненно, более тягостно, чем звание монаха, более
подвержено ударам, голоду, жажде, нужде, лохмотьям и вшивости, потому что не
подлежит сомнению, что и прежние странствующие рыцари переносили много
страданий в течение своей жизни. И если некоторым из них благодаря их отваге
и мужеству удалось возвыситься до звания императоров, по чести говоря, им
пришлось недешево заплатить за это своей кровью и потом. И если б тем,
которые поднялись до такой высоты, не покровительствовали волшебники и
мудрецы, желания их не были бы осуществлены, и надежды их были бы обмануты.
-- И я держусь того же мнения, -- ответил путешественник, -- но мне в
числе многих других вещей одна в особенности не нравится у странствующих
рыцарей: когда они очутятся лицом к лицу с великим и опасным приключением,
явно угрожающим их жизни, в это мгновение они не думают поручать себя Богу,
как всякий христианин должен бы это делать в подобного рода положении, а,
напротив, они поручают себя своим дамам с таким жаром и благоговением, точно
эти дамы заменяют им Бога, -- вещь, которая, как мне кажется, отзывается
несколько язычеством.
-- Сеньор, -- ответил Дон Кихот,-- без этого нельзя никак обойтись, и
плохо пришлось бы тому странствующему рыцарю, который поступил бы иначе, так
как нравы и обычаи странствующего рыцарства требуют, чтобы, собираясь
совершить какой-либо военный подвиг, рыцарь видел перед собой свою даму и
устремлял на нее взгляд, полный нежности и любви, как бы прося ее о защите и
покровительстве в предстоящей ему грозной стычке. И хотя бы никто его не
слышал, он все же обязан произнести сквозь зубы несколько слов, которыми от
всего сердца поручает себя своей сеньоре, относительно чего мы имеем
бесчисленные примеры в рыцарских историях. Но из этого не следует вовсе,
чтобы рыцари не поручали себя и Богу, на что у них в продолжение битвы
найдется достаточно времени и возможности.
-- Тем не менее, -- возразил путешественник, -- у меня остается еще
одно сомнение, а именно: не раз читал я, что двое странствующих рыцарей
начнут спорить между собой, и слово за слово у них разгорится гнев, они
поворачивают лошадей и, отъехав на некоторое расстояние, тотчас же, без
дальнейших рассуждений, стремительно, полным галопом несутся друг на друга,
поручая себя в эти мгновения своим дамам. Последствием подобной схватки
обыкновенно бывает то, что один из рыцарей, проколотый насквозь копьем
своего противника, падает с лошади навзничь, и с другим случилось бы то же,
если б он не удержался за гриву своего коня. Вот я и не понимаю, каким
образом убитый рыцарь мог бы во время столь быстрой схватки найти минуту,
чтобы поручить себя Богу. Было бы лучше, если б он, бросаясь на противника,
не поручал себя своей даме, а обратился к Богу, как это должен делать и как
это приличествует каждому христианину. Тем более что, насколько мне
известно, не у всех странствующих рыцарей имеются дамы, которым они могут
себя поручать, потому что не все же рыцари влюблены.
-- Этого не может быть, -- ответил Дон Кихот, -- я говорю, что не может
быть, чтобы странствующий рыцарь не имел дамы, потому что быть влюбленным
так же естественно и так же свойственно рыцарю, как небу сиять звездами.
Наверное, никто еще не читал истории, где странствующий рыцарь не был бы
влюблен. А даже в случае если бы такой рыцарь и нашелся, он не мог бы
считаться настоящим, полноправным рыцарем, а лишь незаконным сыном
рыцарства, который вошел в крепость нашего ордена не через ворота, а перелез
туда через забор, как вор и разбойник.
-- Тем не менее, -- сказал путешественник, -- мне кажется (если только
я не ошибаюсь), будто я читал, что дон Галаор, брат храброго Амадиса
Галльского, не имел какой-либо известной дамы, которой он мог бы поручать
себя, и, несмотря на это, им нимало не пренебрегали, и он считался очень
доблестным и знаменитым рыцарем.
На это наш Дон Кихот ответил:
-- Сеньор, одна ласточка не делает еще весны, тем более что, как мне
известно, и этот рыцарь был втайне сильно влюблен, не говоря уже о том, что
увлекаться каждой, которая ему казалась красивой, было присуще его природе,
и побороть этого он не мог. В конце концов, вполне доказано, что и у него
была одна лишь дама, которую он избрал повелительницей своих дум, и ей он
поручал себя очень часто и в полнейшей тайне, так как особенно гордился тем,
что он скрытный рыцарь.
-- Если так существенно, чтобы каждый странствующий рыцарь был влюблен,
-- сказал путешественник, -- можно легко предположить, что и вы, ваша
милость, тоже влюблены, раз вы принадлежите к рыцарскому ордену. И если вы,
сеньор, не гордитесь тем, что вы столь же скрытны, как и дон Галаор,
убедительнейше прошу вас от моего имени и всех здесь присутствующих сообщить
нам звание, родину и имя вашей дамы и описать нам ее красоту, так как она,
несомненно, сочтет за счастье, чтобы весь мир знал, что ее любит и ей служит
такой доблестный рыцарь, каким вы, милость ваша, кажетесь.
Тут Дон Кихот глубоко вздохнул и сказал:
-- Не берусь утверждать, желает ли или нет моя очаровательная
неприятельница, чтобы весь мир знал, что я ей служу. Могу лишь в ответ на
столь вежливо обращенную ко мне просьбу сказать, что имя ее -- Дульсинея,
родина -- местечко в Ламанче, Тобосо, звание -- по меньшей мере принцесса,
так как она моя повелительница и королева. Красота ее сверхчеловеческая,
потому что в ней осуществлены все невозможные и фантастические признаки
красоты, которые поэты приписывают своим дамам, так как волосы ее -- золото,
лоб -- елисейские поля, брови -- небесные радуги, глаза -- солнечные
светила, щеки -- розы, губы -- кораллы, зубы -- жемчуг, шея -- алебастр,
грудь -- мрамор, руки -- слоновая кость, белизна ее кожи -- снег, а
остальные прелести, которые целомудрие скрывает от человеческих взоров,
таковы, как я думаю и понимаю, что из сдержанности не следует их ни к чему
приравнивать, а только молча восхищаться ими.
-- Мы бы желали также знать ее род, происхождение и всю генеалогию, --
сказал Вивальдо.
На это Дон Кихот ответил:
-- Она не происходит ни от древних римских Курциев, Кайев и Сципионов,
ни от современных Колонна и Урсино, ни от Монкадос и Рекесенс Каталонских, а
также ни от Ребелла и Вилланова Валенсийских, ни от Палафохес, Нуса,
Рокаберти, Корелла, Луна, Алагоне, Урреа, Фосе и Гурреа Аррагонских, ни от
Серды, Манрика, Мендосы и Гусмана Кастильских, ни от Аленкастро, Палла и
Мейеса Португальских, -- она происходит из рода Тобосо Ламанчского, хотя и
нового, но такого, который может послужить благородной колыбелью для самых
знаменитых родов грядущих времен. И пусть никто мне на это не возражает,
разве только под условием, начертанном Сербино на подножии трофеев,
сложенных из оружия Роланда, а именно:
Пусть только тот дерзает прикоснуться к ним,
Кто, как Роланд, в бою непобедим!
-- Хотя я и происхожу из рода Качопинос {Cachopines называли в Америке
тех, которые оттого лишь, что они там разбогатели, хвастались древним
происхождением, не обладая им; в Испании же -- Cachopines de Laredo;
Ларедо - астурийский приморский город, прозвище астурийцев вследствие
их характера.} де Ларедо, -- сказал Вивальдо,-- но я не осмелюсь сопоставить
его с родом Тобосо Ламанчским, хотя, по правде говоря, до сих пор я никогда
не слыхал о такой фамилии.
-- Удивляюсь, как это могло случиться, -- ответил Дон Кихот.
Все остальные, бывшие тут, слушали с большим вниманием разговор этих
двух лиц, и даже козопасы и пастухи заметили полное отсутствие здравого
рассудка в нашем Дон Кихоте, один лишь Санчо Панса думал, что все сказанное
его господином -- истина, так как знал, кто он такой, и видел его с детства,
и если в чем-либо сомневался, то лишь только относительно прелестной
Дульсинеи Тобосской, потому что никогда ничего не слышал ни о таком имени,
ни о такой принцессе, хотя он и жил так близко от Тобосо. Продолжая путь в
такого рода разговорах, они вдруг увидели, как из ущелья, образованного
двумя высокими горами, спустилось около двадцати пастухов, облаченных в
черные бараньи шкуры и увенчанных венками частью из тисовых, частью из
кипарисовых ветвей. Как потом оказалось, шестеро из этих пастухов несли
носилки, покрытые множеством зелени и разного рода цветами. Увидев это, один
из козопасов сказал:
-- Вот идут пастухи, которые несут тело Грисостомо, а там вот место у
подножия горы, где он велел похоронить себя.
Тогда все ускорили шаг и как раз прибыли туда, когда носилки были
опущены на землю и четверо из тех, которые их несли, принялись острыми
кирками высекать могилу в твердой скале.
Все вежливо приветствовали друг друга. Дон Кихот и бывшие с ним тотчас
подошли к носилкам и увидели на них труп в одежде пастуха, прикрытый
цветами. На вид мертвецу казалось лет около тридцати, и даже теперь видно
было, что он при жизни был очень красивый, стройный и рослый. Кругом него,
на тех же носилках, лежало несколько книг и много сложенных и развернутых
бумаг. Присутствующие -- как те, которые смотрели на мертвеца, так и те,
которые высекали ему могилу, и все остальные -- хранили торжественное
молчание, пока один из принесших покойника не сказал:
-- Посмотрите хорошенько, Амбросио, действительно ли это то самое
место, о котором говорил Грисостомо, раз вы желаете, чтобы все, что он
завещал, было исполнено в точности.
-- Это то самое место и есть, -- ответил Амбросио, -- так как много раз
несчастный друг мой рассказывал мне именно здесь повесть своих страданий.
Тут, по его словам, увидел он впервые этого заклятого врага человеческого
рода, Марселу; тут открыл он ей впервые свою столь же чистую, как и
пламенную любовь, и тут же Марсела в последний раз презрительно отвергла
его, вследствие чего Грисостомо положил конец трагедии своей грустной жизни.
И тут же, в память стольких несчастий, он пожелал, чтобы предали его в лоно
вечного забвения.
И, обращаясь к Дон Кихоту и к путешественникам, Амбросио сказал:
-- Это тело, сеньоры, на которое вы смотрите растроганными глазами,
служило оболочкой для души, одаренной небом неисчислимой долей его богатств.
Это -- тело Грисостомо, который был единственным по уму, беспримерным по
благородству, выдающимся по доброте, фениксом в дружбе, щедрым беспредельно,
серьезным без заносчивости, веселым без пошлости, -- словом, он был первым
во всем, что считается добродетелью, и не имел себе равного во всем, что
называется несчастьем. Он любил -- его ненавидели; он боготворил -- его
отвергли с презрением; он обращался с мольбой к лютому зверю, пытался
одушевить мрамор, гнался за вихрем, думал быть услышанным в пустыне,
поклонялся неблагодарности,-- и в награду за это стал добычей смерти в
середине поприща своей жизни, прекращенной той самой пастушкой, имя которой
он пытался обессмертить в памяти людской, что могли бы засвидетельствовать
эти вот бумаги, лежащие перед вами, если бы он не завещал мне предать их
огню после того, как тело его будет предано земле.
-- Если вы это сделаете, -- сказал Вивальдо, -- вы поступите с ними
более сурово и жестоко, чем собственный их автор, потому что несправедливо и
неумно исполнять волю того, кто в своих распоряжениях переходит все границы
здравого смысла; и Август Цезарь поступил бы дурно, если бы согласился
привести в исполнение то, что требовал в своем завещании божественный певец
Мантуи {Намек на рассказ, переданный Плинием, о запрещении императора
Августа сжечь поэмы Виргилия, как о том распорядился поэт в своем
завещании.}. Итак, сеньор Амбросио, предавая тело вашего друга земле, не
предавайте произведений его забвению, потому что, если он -- как глубоко
оскорбленный человек -- и велел это сделать, не хорошо было бы, чтобы вы --
как неразумный человек -- исполнили его волю. Напротив, даровав жизнь его
рукописям, увековечьте этим память о жестокости Марселы, чтобы жестокость
эта служила предостережением тем, кто будет жить в грядущие времена, и они
могли бы избегать и отстраняться от подобного рода пропастей. И я, и все
прибывшие сюда, мы знаем историю вашего влюбленного и впавшего в отчаяние
друга; знаем и о вашей дружбе к нему, о причине его смерти, и о предсмертных
его распоряжениях. Из этой плачевной истории можно вывести заключение, как
велика была жестокость Марселы, любовь Грисостомо, постоянство вашей дружбы
и какой конец ожидает тех, которые стремглав несутся по пути, указанному им
безрассудной их любовью. Вчера вечером узнали мы о смерти Грисостомо и о
том, что его собираются похоронить здесь, в этом месте. Поэтому, движимые
любопытством и состраданием, свернули мы с прямого нашего пути и решили
отправиться сюда, чтобы собственными глазами видеть то, что столь глубоко
взволновало нас, когда мы об этом услышали. А в награду за наше участие и
родившееся в нас желание оказать помощь, если б было возможно, мы просим
тебя, благородный Амбросио (по крайней мере, я со своей стороны умоляю
тебя), вместо того чтобы предать эти бумаги огню, позволь мне взять
некоторые из них с собой.
И не ожидая ответа пастуха, Вивальдо протянул руку и взял несколько
листов из тех, которые лежали ближе к нему. Увидав это, Амбросио сказал:
-- Из любезности я согласен оставить у вас, сеньор, взятые вами
рукописи. Но думать, что я не сожгу остальные,-- надежда тщетная.
Вивальдо, желавший скорее узнать, что написано в рукописях, взятых им,
поспешно развернул одну из них и прочел заглавие: "Песня отчаяния". Услыхав
это, Амбросио сказал:
-- Это последние стихи, написанные несчастным моим другом, и чтобы вы,
сеньор, видели до какого отчаяния довели его несчастия, прочитайте вслух эти
стихи, так как времени у вас на это будет достаточно, пока кончат высекать
могилу в скале.
-- Сделаю это очень охотно, -- сказал Вивальдо; и так как все
присутствовавшие разделяли его желание, они окружили его, и он внятным
голосом прочел то, что следует.
Едва лишь занялся день, выглянув из окон и балконов восточного неба,
как из шести пастухов уже пятеро проснулись и, разбудив Дон Кихота, сказали
ему, что готовы сопровождать его, если он остался при своем намерении пойти
на необычайные похороны Грисостомо. Дон Кихот, который только этого и желал,
сейчас же поднялся и велел Санчо поскорее седлать Росинанта и осла, что
Санчо и поспешил исполнить, после чего все быстро двинулись в путь. Не
проехали они и четверти мили, как увидели, что навстречу им, когда они
пересекали тропинку, идут около шести пастухов, одетых в черные овчины, с
венками из кипариса и горького олеандра на головах, и каждый из них держит в
руках толстую палку из терновника. Между ними виднелись также и два всадника
в изящных дорожных костюмах, сопровождаемые тремя пешими слугами.
Встретившись, обе стороны вежливо раскланялись друг с другом и обменялись
вопросами: куда лежит их путь? Оказалось, что все отправляются на погребение
Грисостомо, и поэтому они решили теперь идти вместе. Один из двух всадников,
обратившись к своему товарищу, сказал:
-- Мне кажется, сеньор Вивальдо, мы не пожалеем о том, что задержались
в пути, чтобы присутствовать на замечательных этих похоронах; а они не могут
быть незамечательны, судя по удивительному рассказу пастухов как об умершем
их товарище, так и о смертоносной пастушке.
-- Я разделяю ваше мнение, -- ответил Вивальдо, -- и был бы готов
просрочить не только день, а даже целых четыре, чтобы присутствовать на этих
похоронах.
Дон Кихот спросил у них, что, собственно, они слышали о Грисостомо и
Марселе. Путешественники ответили, что ранним утром сегодня они встретились
со своими спутниками-пастухами и, увидав их в столь печальном облачении,
спросили, почему они так одеты. В ответ один из них рассказал им о причудах
и необычайной красоте пастушки, называемой Марселой, о любви к ней
многочисленных ее поклонников, добивающихся руки ее, и о смерти того
Грисостомо, на похороны которого они теперь идут. Словом, он повторил все
то, что Педро уже рассказал Дон Кихоту. Этот разговор прекратился, и начался
другой, так как всадник, который назывался Вивальдо, спросил Дон Кихота, что
побуждает его разъезжать вооруженным с ног до головы по столь мирной стране.
На это Дон Кихот ответил:
-- Обязанности моей профессии не допускают и не дозволяют мне
странствовать в ином виде. Довольство, роскошь и ленивый отдых изобретены
лишь для изнеженных царедворцев, а труд, тревоги и оружие изобретены и
созданы для тех, которых свет называет странствующими рыцарями и к числу
которых принадлежу и я, хотя и недостойный и самый незначительный из всех.
Едва они услышали эти слова Дон Кихота, как все сочли его за
сумасшедшего, и, чтобы еще более удостовериться в этом и узнать, какого рода
у него помешательство, Вивальдо опять обратился к нему, спрашивая: что же
собственно он понимает под словом "странствующий рыцарь"?
-- Разве вы, милости ваши, -- ответил Дон Кихот, -- не читали летописей
и историй Англии, в которых идет речь о доблестных подвигах короля Артура,
обыкновенно называемого у нас, в наших испанских романсах, королем Артусом?
Старинное предание, очень распространенное во всем Великобританском
королевстве, гласит, что король Артур не умер, а был превращен искусством
волшебства в ворона, но с течением времени он вернется на царство и овладеет
вновь своим скипетром и королевством. Вот почему не было примера, чтобы с
той поры и до настоящего дня кто-либо из англичан убил ворона. Итак, во
время доброго того короля был основан знаменитый орден рыцарей Круглого
стола {Самое древнее рыцарское учреждение, оно состояло из 24 рыцарей под
председательством короля Артура и послужило образцом для Карла Великого и
его двенадцати пэров.}, и тогда же случились -- точь-в-точь, как о них
рассказывается -- романические похождения Лансарота дель Лого с королевой
Хиневрой, причем посредницей и доверенным их лицом была весьма почтенная
дуэнья Кинтаньона; отсюда и получил свое начало столь общеизвестный и
распространенный в Испании романс:
Никогда так не служили
Дамы рыцарям отменно,
Как служили Лансароту
В день приезда из Британьи,
а после этих четырех строк следует трогательный и сладостный рассказ о
его любовных похождениях и военных подвигах. Итак, с того времени
мало-помалу этот рыцарский орден стал расширяться и распространяться во
многих и разных частях света. В нем приобрели известность и прославились
своими подвигами храбрый Амадис Галльский со всеми сыновьями и внуками до
пятого поколения, и доблестный Феликсмарте Ирканский, и никогда достаточно
не восхваленный Тиранте Белый, и непобедимый и отважный дон Белианис
Греческий, которого мы чуть ли не в наши дни видели, слышали и сносились с
ним. Вот это, сеньоры, и значит быть странствующим рыцарем, а орден, о
котором я говорил, и есть орден странствующего рыцарства. К нему, как уже
было сказано, принадлежу и я, грешный, и то, что исповедовали упомянутые
рыцари, исповедую и я. Итак, я странствую по этим уединенным и пустынным
местам, отыскивая приключения со смелой решимостью идти навстречу самой
большой опасности, которую судьба может мне послать, если только дело
коснется защиты и поддержки угнетенных и гонимых.
Эта речь Дон Кихота окончательно убедила путешественников в его
умопомешательстве и выяснила им, какого оно рода, что столь же сильно
удивило их, как удивляло и всех, кто впервые узнавал о его безумии. Тогда
Вивальдо, человек остроумный и веселый, вздумал -- чтобы не скучая провести
ту незначительную часть дороги, которая, как им говорили, еще оставалась до
места погребения,-- дать случай Дон Кихоту зайти еще дальше в его
нелепостях. Итак, он сказал:
-- Мне кажется, сеньор странствующий рыцарь, что милость ваша избрала
себе одну из самых суровых профессий в мире, и я думаю, что даже орден
картезианских монахов не столь суров.
-- Быть может, он и столь же суров,-- ответил Дон Кихот, -- но так ли
необходим он миру? В этом я сильно сомневаюсь, потому что, говоря по правде,
солдат, исполняющий приказание, данное ему начальником, делает не менее, чем
начальник, давший ему приказание. Я хочу сказать вот что: монахи в полном
спокойствии и тишине молят небо о ниспослании благ земле, мы же -- воины и
рыцари -- приводим в исполнение то, о чем они молят небо, -- защищая все это
силой рук наших и острием наших мечей, притом не под кровлей, а под открытым
небом, подвергаясь летом невыносимому зною солнечных лучей, а зимой
леденящему дыханию мороза. Таким образом, мы, слуги Бога на земле, -- руки,
которыми совершается его правосудие. А так как боевые подвиги и все, что к
ним относится и с ними соприкасается, может быть выполнено лишь только
благодаря усилиям и труду в поте лица, -- из этого следует, что люди нашей
профессии несут, несомненно, больше тягот, чем те, которые со всеми
удобствами, в тишине и спокойствии молят Бога о защите слабых. Я не хочу
сказать этим, и мне и в голову не приходило, что звание странствующего
рыцаря столь же хорошо, как и звание удалившегося от мира монаха; я только
желал бы -- судя по тому, что сам терплю, -- вывести заключение, что звание
странствующего рыцаря, несомненно, более тягостно, чем звание монаха, более
подвержено ударам, голоду, жажде, нужде, лохмотьям и вшивости, потому что не
подлежит сомнению, что и прежние странствующие рыцари переносили много
страданий в течение своей жизни. И если некоторым из них благодаря их отваге
и мужеству удалось возвыситься до звания императоров, по чести говоря, им
пришлось недешево заплатить за это своей кровью и потом. И если б тем,
которые поднялись до такой высоты, не покровительствовали волшебники и
мудрецы, желания их не были бы осуществлены, и надежды их были бы обмануты.
-- И я держусь того же мнения, -- ответил путешественник, -- но мне в
числе многих других вещей одна в особенности не нравится у странствующих
рыцарей: когда они очутятся лицом к лицу с великим и опасным приключением,
явно угрожающим их жизни, в это мгновение они не думают поручать себя Богу,
как всякий христианин должен бы это делать в подобного рода положении, а,
напротив, они поручают себя своим дамам с таким жаром и благоговением, точно
эти дамы заменяют им Бога, -- вещь, которая, как мне кажется, отзывается
несколько язычеством.
-- Сеньор, -- ответил Дон Кихот,-- без этого нельзя никак обойтись, и
плохо пришлось бы тому странствующему рыцарю, который поступил бы иначе, так
как нравы и обычаи странствующего рыцарства требуют, чтобы, собираясь
совершить какой-либо военный подвиг, рыцарь видел перед собой свою даму и
устремлял на нее взгляд, полный нежности и любви, как бы прося ее о защите и
покровительстве в предстоящей ему грозной стычке. И хотя бы никто его не
слышал, он все же обязан произнести сквозь зубы несколько слов, которыми от
всего сердца поручает себя своей сеньоре, относительно чего мы имеем
бесчисленные примеры в рыцарских историях. Но из этого не следует вовсе,
чтобы рыцари не поручали себя и Богу, на что у них в продолжение битвы
найдется достаточно времени и возможности.
-- Тем не менее, -- возразил путешественник, -- у меня остается еще
одно сомнение, а именно: не раз читал я, что двое странствующих рыцарей
начнут спорить между собой, и слово за слово у них разгорится гнев, они
поворачивают лошадей и, отъехав на некоторое расстояние, тотчас же, без
дальнейших рассуждений, стремительно, полным галопом несутся друг на друга,
поручая себя в эти мгновения своим дамам. Последствием подобной схватки
обыкновенно бывает то, что один из рыцарей, проколотый насквозь копьем
своего противника, падает с лошади навзничь, и с другим случилось бы то же,
если б он не удержался за гриву своего коня. Вот я и не понимаю, каким
образом убитый рыцарь мог бы во время столь быстрой схватки найти минуту,
чтобы поручить себя Богу. Было бы лучше, если б он, бросаясь на противника,
не поручал себя своей даме, а обратился к Богу, как это должен делать и как
это приличествует каждому христианину. Тем более что, насколько мне
известно, не у всех странствующих рыцарей имеются дамы, которым они могут
себя поручать, потому что не все же рыцари влюблены.
-- Этого не может быть, -- ответил Дон Кихот, -- я говорю, что не может
быть, чтобы странствующий рыцарь не имел дамы, потому что быть влюбленным
так же естественно и так же свойственно рыцарю, как небу сиять звездами.
Наверное, никто еще не читал истории, где странствующий рыцарь не был бы
влюблен. А даже в случае если бы такой рыцарь и нашелся, он не мог бы
считаться настоящим, полноправным рыцарем, а лишь незаконным сыном
рыцарства, который вошел в крепость нашего ордена не через ворота, а перелез
туда через забор, как вор и разбойник.
-- Тем не менее, -- сказал путешественник, -- мне кажется (если только
я не ошибаюсь), будто я читал, что дон Галаор, брат храброго Амадиса
Галльского, не имел какой-либо известной дамы, которой он мог бы поручать
себя, и, несмотря на это, им нимало не пренебрегали, и он считался очень
доблестным и знаменитым рыцарем.
На это наш Дон Кихот ответил:
-- Сеньор, одна ласточка не делает еще весны, тем более что, как мне
известно, и этот рыцарь был втайне сильно влюблен, не говоря уже о том, что
увлекаться каждой, которая ему казалась красивой, было присуще его природе,
и побороть этого он не мог. В конце концов, вполне доказано, что и у него
была одна лишь дама, которую он избрал повелительницей своих дум, и ей он
поручал себя очень часто и в полнейшей тайне, так как особенно гордился тем,
что он скрытный рыцарь.
-- Если так существенно, чтобы каждый странствующий рыцарь был влюблен,
-- сказал путешественник, -- можно легко предположить, что и вы, ваша
милость, тоже влюблены, раз вы принадлежите к рыцарскому ордену. И если вы,
сеньор, не гордитесь тем, что вы столь же скрытны, как и дон Галаор,
убедительнейше прошу вас от моего имени и всех здесь присутствующих сообщить
нам звание, родину и имя вашей дамы и описать нам ее красоту, так как она,
несомненно, сочтет за счастье, чтобы весь мир знал, что ее любит и ей служит
такой доблестный рыцарь, каким вы, милость ваша, кажетесь.
Тут Дон Кихот глубоко вздохнул и сказал:
-- Не берусь утверждать, желает ли или нет моя очаровательная
неприятельница, чтобы весь мир знал, что я ей служу. Могу лишь в ответ на
столь вежливо обращенную ко мне просьбу сказать, что имя ее -- Дульсинея,
родина -- местечко в Ламанче, Тобосо, звание -- по меньшей мере принцесса,
так как она моя повелительница и королева. Красота ее сверхчеловеческая,
потому что в ней осуществлены все невозможные и фантастические признаки
красоты, которые поэты приписывают своим дамам, так как волосы ее -- золото,
лоб -- елисейские поля, брови -- небесные радуги, глаза -- солнечные
светила, щеки -- розы, губы -- кораллы, зубы -- жемчуг, шея -- алебастр,
грудь -- мрамор, руки -- слоновая кость, белизна ее кожи -- снег, а
остальные прелести, которые целомудрие скрывает от человеческих взоров,
таковы, как я думаю и понимаю, что из сдержанности не следует их ни к чему
приравнивать, а только молча восхищаться ими.
-- Мы бы желали также знать ее род, происхождение и всю генеалогию, --
сказал Вивальдо.
На это Дон Кихот ответил:
-- Она не происходит ни от древних римских Курциев, Кайев и Сципионов,
ни от современных Колонна и Урсино, ни от Монкадос и Рекесенс Каталонских, а
также ни от Ребелла и Вилланова Валенсийских, ни от Палафохес, Нуса,
Рокаберти, Корелла, Луна, Алагоне, Урреа, Фосе и Гурреа Аррагонских, ни от
Серды, Манрика, Мендосы и Гусмана Кастильских, ни от Аленкастро, Палла и
Мейеса Португальских, -- она происходит из рода Тобосо Ламанчского, хотя и
нового, но такого, который может послужить благородной колыбелью для самых
знаменитых родов грядущих времен. И пусть никто мне на это не возражает,
разве только под условием, начертанном Сербино на подножии трофеев,
сложенных из оружия Роланда, а именно:
Пусть только тот дерзает прикоснуться к ним,
Кто, как Роланд, в бою непобедим!
-- Хотя я и происхожу из рода Качопинос {Cachopines называли в Америке
тех, которые оттого лишь, что они там разбогатели, хвастались древним
происхождением, не обладая им; в Испании же -- Cachopines de Laredo;
Ларедо - астурийский приморский город, прозвище астурийцев вследствие
их характера.} де Ларедо, -- сказал Вивальдо,-- но я не осмелюсь сопоставить
его с родом Тобосо Ламанчским, хотя, по правде говоря, до сих пор я никогда
не слыхал о такой фамилии.
-- Удивляюсь, как это могло случиться, -- ответил Дон Кихот.
Все остальные, бывшие тут, слушали с большим вниманием разговор этих
двух лиц, и даже козопасы и пастухи заметили полное отсутствие здравого
рассудка в нашем Дон Кихоте, один лишь Санчо Панса думал, что все сказанное
его господином -- истина, так как знал, кто он такой, и видел его с детства,
и если в чем-либо сомневался, то лишь только относительно прелестной
Дульсинеи Тобосской, потому что никогда ничего не слышал ни о таком имени,
ни о такой принцессе, хотя он и жил так близко от Тобосо. Продолжая путь в
такого рода разговорах, они вдруг увидели, как из ущелья, образованного
двумя высокими горами, спустилось около двадцати пастухов, облаченных в
черные бараньи шкуры и увенчанных венками частью из тисовых, частью из
кипарисовых ветвей. Как потом оказалось, шестеро из этих пастухов несли
носилки, покрытые множеством зелени и разного рода цветами. Увидев это, один
из козопасов сказал:
-- Вот идут пастухи, которые несут тело Грисостомо, а там вот место у
подножия горы, где он велел похоронить себя.
Тогда все ускорили шаг и как раз прибыли туда, когда носилки были
опущены на землю и четверо из тех, которые их несли, принялись острыми
кирками высекать могилу в твердой скале.
Все вежливо приветствовали друг друга. Дон Кихот и бывшие с ним тотчас
подошли к носилкам и увидели на них труп в одежде пастуха, прикрытый
цветами. На вид мертвецу казалось лет около тридцати, и даже теперь видно
было, что он при жизни был очень красивый, стройный и рослый. Кругом него,
на тех же носилках, лежало несколько книг и много сложенных и развернутых
бумаг. Присутствующие -- как те, которые смотрели на мертвеца, так и те,
которые высекали ему могилу, и все остальные -- хранили торжественное
молчание, пока один из принесших покойника не сказал:
-- Посмотрите хорошенько, Амбросио, действительно ли это то самое
место, о котором говорил Грисостомо, раз вы желаете, чтобы все, что он
завещал, было исполнено в точности.
-- Это то самое место и есть, -- ответил Амбросио, -- так как много раз
несчастный друг мой рассказывал мне именно здесь повесть своих страданий.
Тут, по его словам, увидел он впервые этого заклятого врага человеческого
рода, Марселу; тут открыл он ей впервые свою столь же чистую, как и
пламенную любовь, и тут же Марсела в последний раз презрительно отвергла
его, вследствие чего Грисостомо положил конец трагедии своей грустной жизни.
И тут же, в память стольких несчастий, он пожелал, чтобы предали его в лоно
вечного забвения.
И, обращаясь к Дон Кихоту и к путешественникам, Амбросио сказал:
-- Это тело, сеньоры, на которое вы смотрите растроганными глазами,
служило оболочкой для души, одаренной небом неисчислимой долей его богатств.
Это -- тело Грисостомо, который был единственным по уму, беспримерным по
благородству, выдающимся по доброте, фениксом в дружбе, щедрым беспредельно,
серьезным без заносчивости, веселым без пошлости, -- словом, он был первым
во всем, что считается добродетелью, и не имел себе равного во всем, что
называется несчастьем. Он любил -- его ненавидели; он боготворил -- его
отвергли с презрением; он обращался с мольбой к лютому зверю, пытался
одушевить мрамор, гнался за вихрем, думал быть услышанным в пустыне,
поклонялся неблагодарности,-- и в награду за это стал добычей смерти в
середине поприща своей жизни, прекращенной той самой пастушкой, имя которой
он пытался обессмертить в памяти людской, что могли бы засвидетельствовать
эти вот бумаги, лежащие перед вами, если бы он не завещал мне предать их
огню после того, как тело его будет предано земле.
-- Если вы это сделаете, -- сказал Вивальдо, -- вы поступите с ними
более сурово и жестоко, чем собственный их автор, потому что несправедливо и
неумно исполнять волю того, кто в своих распоряжениях переходит все границы
здравого смысла; и Август Цезарь поступил бы дурно, если бы согласился
привести в исполнение то, что требовал в своем завещании божественный певец
Мантуи {Намек на рассказ, переданный Плинием, о запрещении императора
Августа сжечь поэмы Виргилия, как о том распорядился поэт в своем
завещании.}. Итак, сеньор Амбросио, предавая тело вашего друга земле, не
предавайте произведений его забвению, потому что, если он -- как глубоко
оскорбленный человек -- и велел это сделать, не хорошо было бы, чтобы вы --
как неразумный человек -- исполнили его волю. Напротив, даровав жизнь его
рукописям, увековечьте этим память о жестокости Марселы, чтобы жестокость
эта служила предостережением тем, кто будет жить в грядущие времена, и они
могли бы избегать и отстраняться от подобного рода пропастей. И я, и все
прибывшие сюда, мы знаем историю вашего влюбленного и впавшего в отчаяние
друга; знаем и о вашей дружбе к нему, о причине его смерти, и о предсмертных
его распоряжениях. Из этой плачевной истории можно вывести заключение, как
велика была жестокость Марселы, любовь Грисостомо, постоянство вашей дружбы
и какой конец ожидает тех, которые стремглав несутся по пути, указанному им
безрассудной их любовью. Вчера вечером узнали мы о смерти Грисостомо и о
том, что его собираются похоронить здесь, в этом месте. Поэтому, движимые
любопытством и состраданием, свернули мы с прямого нашего пути и решили
отправиться сюда, чтобы собственными глазами видеть то, что столь глубоко
взволновало нас, когда мы об этом услышали. А в награду за наше участие и
родившееся в нас желание оказать помощь, если б было возможно, мы просим
тебя, благородный Амбросио (по крайней мере, я со своей стороны умоляю
тебя), вместо того чтобы предать эти бумаги огню, позволь мне взять
некоторые из них с собой.
И не ожидая ответа пастуха, Вивальдо протянул руку и взял несколько
листов из тех, которые лежали ближе к нему. Увидав это, Амбросио сказал:
-- Из любезности я согласен оставить у вас, сеньор, взятые вами
рукописи. Но думать, что я не сожгу остальные,-- надежда тщетная.
Вивальдо, желавший скорее узнать, что написано в рукописях, взятых им,
поспешно развернул одну из них и прочел заглавие: "Песня отчаяния". Услыхав
это, Амбросио сказал:
-- Это последние стихи, написанные несчастным моим другом, и чтобы вы,
сеньор, видели до какого отчаяния довели его несчастия, прочитайте вслух эти
стихи, так как времени у вас на это будет достаточно, пока кончат высекать
могилу в скале.
-- Сделаю это очень охотно, -- сказал Вивальдо; и так как все
присутствовавшие разделяли его желание, они окружили его, и он внятным
голосом прочел то, что следует.

 ПЕСНЯ ГРИСОСТОМО
Коль ты сама, бездушная, желаешь,
Чтобы из уст в уста ко всем народам
Неслась молва о лютом твоем гневе,--
Так пусть же в грудь, истерзанную горем,
Сам ад вольет мне жалобные звуки,
И заглушат они мой прежний голос.
Хочу ужасным воплем я поведать
О скорбной участи моей и злых
Твоих поступках. Пусть весь мир узнает,
Какой жестокой пыткой истерзала
Мне сердце ты, разбитое тобой.
Так слушай же; внимай не сладким звукам,
А страшным стонам, вырванным из груди,
Богатой горем, властью исступленья
И силой мук жестоких, в облегченье,
В усладу мне -- тебе же лишь к досаде.
Пусть волка дикий вой и льва рыканье,
Шипенье змей чешуйчатых и рев
Ужасных, нам неведомых чудовищ;
Пусть крик зловещий ворона, шум бури
На лоне вод морских, мычанье
Быка сраженного и одинокий
Голубки стон; пусть зов совы печальной
И плач сынов всей черной преисподней --
Все, все скорей сольется в звук единый,
И этот звук, исторгнутый из глуби
Больной души, сумеет потрясти
Весь мир, все чувства, мысли все!
Страдание мое так сильно, что о нем поведать
Нельзя путем обычным... К новым средствам,
К картинам новым должен я прибегнуть!..
Смешенье звуков страшных -- отголосок
Моей безумной скорби -- не услышат
Пески родного Тахо и оливы
Бетиса[1] славного, -- здесь изолью я
[1] Бетис -- древнее название Гвадалквивира, берега которого обсажены и
поныне оливковыми деревьями.
Печаль мою, на высях хмурых скал,
В глуби ущелий -- языком хоть мертвым,
Но речью, полной жизни; изолью
Печаль свою в местах я безотрадных,
Там, где нога людская не ступала,
В краях, где солнце никогда не светит,
Иль средь толпы чудовищ ядовитых,
Которых Нил питает и растит.
Но хоть в безлюдных, диких лишь пустынях
Звучать мой возглас будет, -- отголосок
Глухой и смутный о моих страданьях
И о твоей жестокости безмерной,
Веленьем рока злого разнесется
Из уст в уста по всем концам вселенной.
Казнит и мучит ревность, убивает
Презренье, гасит жизни цвет и силу
Разлуки долгой гнет, яд подозрений --
Правдивых, ложных ли -- терпенье губит;
И нет защиты от тисков забвенья
В надежде твердой на любовь и счастье!
Во всем здесь смерть, -- она неотразима,
А я -- о диво дивное -- живу,
Живу, отвергнутый, томим презреньем,
Разлукой, ревностью и подозреньем,
Горю в огне, снедающем меня!
Средь стольких мук не вижу я просвета;
Не может взор мой уловить средь них
Хотя бы тень надежды отдаленной,--
И больше к ней взывать уж не хочу я;
В глухом отчаянье, чтоб вдосталь горем
Упиться мне, клянусь теперь вовеки
Луча малейшего надежды убегать.
Возможно ль в тот же миг питать надежду
И страх, иль хорошо ли это делать,
Когда причины страха непреложны?
И если ревность злая пред глазами
Стоит -- закрыть их надо ль мне, раз видеть
Ее я вынужден в глубоких ранах,
В кровавых ранах сердца моего?
Кто б не раскрыл отчаянью все двери,
Когда открытое к себе презренье
Он видит; и все то, что подозреньем
Лишь только было, обращенным в правду
Он видит, -- правду ж -- обращенной в ложь?
О ревность, лютый деспот во владеньях
Любви, ты дай скорей мне нож свой в руки!
А ты, презренье, ты неси веревку
Для казни мне! Увы! Непобедимо
Живет о вас еще воспоминанье
В душе моей средь ужасов страданья!
Но смерть близка... И так как не надеюсь
На счастье в жизни я иль в смерти, твердо
Держусь своих фантазий и скажу,
Что всех умней, кто всех сильнее любит;
Что всех свободней в мире тот, кто рабски
Тиранству древнему любви покорен;
Что та, которая меня сгубила,
Душой прекрасна так же, как и телом;
Что сам в ее измене я повинен
И что любовь царит и мирно правит
Лишь оттого, что столько в ней страданья.
С такими мыслями стяну я крепко
На шее петлю, и, уйдя туда,
Куда ведет меня ее презренье,
Я ветрам тело бренное и душу
Отдам без пальм и лавров благ грядущих.
А ты, чья горькая несправедливость
Меня принудила несправедливым
Быть к жизни -- к юной, бедной жизни,
Теперь постылой мне и ненавистной,--
Ты видишь ли, что так сквозит открыто
Из сердца ран глубоких, как навстречу
Твоим желаньям радостно иду я?
Но если б небо ясное прекрасных
Твоих очей нежданно омрачилось
От ранней гибели моей, -- не надо
Мне слез твоих, не надо мне награды
За то, что отдал я тебе всю душу!
Нет, лучше смехом звонким докажи ты,
Что смерть моя тебе веселый праздник!
Глупец, к чему об этом говорю я
Ведь знаю: славой для себя сочтешь ты,
Чтоб я скорей к трагической развязке
Довел бы повесть жизни безотрадной!
Настало время... Из глубокой бездны
Явись, Тантал, с твоей ужасной жаждой,
И ты, Сизиф, с скалой безмерно тяжкой,
Пусть Прометей мне коршуна приносит,
Пусть с колесом ко мне спешит Эгион,
И с пыткой злой идут пусть Данаиды
С своей вовек ненаполнимой бочкой;
Пусть все свои смертельные страданья
Они вольют мне в грудь и заунывно
Надгробный плач свершат (коль подобает
Он тем, кто впал в отчаянье) над трупом,
Лишенным всяких почестей прощальных,
И пусть привратник трехголовый ада
Со стаей всей химер и чудищ разных
Усилят хор печальный; проводов иных,
Сдается мне, иного погребенья
Не стоит тот, кто умер от любви!
О песнь отчаянья, ты воплем скорби
И криком муки не греми над миром!
Коль той, из-за которой ты родилась,
Мое несчастье счастье лишь приносит,
А скорбь моя дарит веселье, -- лучше
Умолкни навсегда со мной в могиле!
Слушателям очень понравилось стихотворение Грисостомо, но читавший его
Вивальдо сказал, что, по его мнению, оно противоречит молве о скромности и
целомудрии Марселы, так как Грисостомо жалуется на ревность, подозрения и
разлуку в ущерб доброму имени и доброй славе Марселы. На это Амбросио, как
человек, хорошо знавший даже тайные мысли своего друга, ответил так:
-- Желая рассеять ваши сомнения, сеньор, я должен вам сказать, что,
когда несчастный писал эту песнь, он действительно находился вдали от
Марселы, с которой не виделся по доброй своей воле, решив испытать, не
окажет ли и на него разлука обычного своего действия. А так как всякая
безделица тревожит отсутствующего влюбленного и его терзают разные мнимые
страхи, то и Грисостомо мучился воображаемой ревностью и воображаемыми
подозрениями, точно действительными. Таким образом, все, что молва
разглашает о добродетели Марселы, остается по-прежнему истинным, и, за
исключением того, что она жестокосерда, несколько заносчива и очень
пренебрежительна, сама зависть не может и не должна обвинять ее в каком бы
то ни было проступке.
-- Совершенно верно, -- ответил Вивальдо. И он только что собрался
прочесть еще одну из рукописей, спасенных им от огня, но ему помешало чудное
видение (оно казалось таковым), внезапно представшее перед их глазами. Дело
в том, что на вершине скалы, у подножия которой высекали могилу, появилась
пастушка Марсела, такая прекрасная, что красота ее превосходила все, что о
ней говорили. Те, кто впервые ее видели, смотрели на нее с безмолвным
восхищением, и даже те, которые уже привыкли ее видеть, были поражены не
менее видевших ее впервые.
Но едва ее заметил Амбросио, как он, глубоко возмущенный, сказал,
обращаясь к ней:
-- Быть может, о лютый василиск этих гор, ты явилась сюда посмотреть,
не раскроются ли вновь в твоем присутствии раны этого несчастного, которого
лишила жизни твоя жестокость? Или же ты намерена хвалиться ужасными своими
подвигами, или смотреть с вершины этой скалы, точно второй бездушный Нерон,
на пожар пылающего Рима, или надменно попирать ногами несчастный этот труп,
как бесчеловечная дочь попирала труп своего отца Тарквиния? {Не Тарквиний, а
Сервий Туллий.} Говори скорей, зачем явилась ты сюда, или что, собственно,
тебе угодно, потому что, хорошо зная, как при жизни Грисостомо не переставал
подчиняться тебе во всех своих помышлениях, я постараюсь, чтобы и после его
смерти твоим желаниям подчинялись все те, которые назывались его друзьями.
-- Я пришла, о Амбросио, не для того, о чем ты говоришь, -- ответила
Марсела, -- а только для того, чтобы защитить себя и доказать, как
несправедливо судят те, которые винят меня в своих страданиях и в смерти
Грисостомо. Итак, прошу всех здесь присутствующих внимательно выслушать
меня, потому что не потребуется ни много времени, ни много слов, чтобы
убедить умных людей в истине. Небо, как вы говорите, создало меня красивой,
и столь красивой, что вы не имеете сил противостоять моей красоте, и она
побуждает вас любить меня, а за любовь, которую вы мне выказываете, вы
думаете и воображаете, что и я обязана любить вас. Благодаря разуму, которым
Бог одарил меня, я знаю, что все прекрасное мило нашему сердцу, но не могу
понять, почему тот, которого любят за красоту, обязан любить того, кто его
любит? Тем более, могло бы ведь случиться, что любящий красивое сам
безобразен, а так как безобразное достойно отвращения, было бы несправедливо
сказать: "Я люблю тебя за то, что ты красива; ты должна любить меня, хотя я
безобразен". Но если мы предположим случай, что красота с обеих сторон
равная, из этого еще не следует, чтобы и желания были равные; ведь, не
всякая красота вызывает любовь, -- иная радует глаз, но не покоряет сердце.
Если бы всякая красота вызывала любовь и покоряла сердца, то желания пришли
бы в столь великое смятение и так бы сбились с толку, что не могли бы ни на
чем остановиться; потому что если количество прекрасных предметов
бесчисленно, то и желания должны бы быть бесчисленны; и, судя по тому, что я
слышала, истинную любовь нельзя делить, и она должна быть свободной, а не
вынужденной. Если же это так -- а я думаю, что это так, -- как же вы можете
требовать, чтобы я насиловала свою волю только потому, что вы говорите, что
любите меня? А если нет, скажите мне: раз небо, создавшее меня красивой,
создало бы меня безобразной, могла бы я по справедливости негодовать на вас
за то, что вы меня не любите? Сверх того, вам еще следует принять во
внимание, что красоту, которою я обладаю, не я себе избрала, а такою, какою
она есть, получила ее в дар свыше, не прося и не добиваясь ее. И, подобно
тому как нельзя винить змею за смертоносный яд в ее жале, хотя она и убивает
им, потому что он дан ей природой, точно так же нельзя укорять и меня за то,
что я красива; ведь красота добродетельной женщины подобна дальнему огню или
острому мечу: огонь не жжет, и меч не режет тех, которые к ним не
приближаются. Честь и добродетели -- украшения души, без которых тело, хотя
бы оно и было красиво, не должно казаться таковым. Если же целомудрие --
одна из добродетелей, придающих наибольшую прелесть и украшающих тело и
душу, почему же та, которую любят за ее красоту, должна потерять целомудрие,
чтобы удовлетворить желания человека, который единственно ради своего
удовольствия прилагает все усилия и старания лишить ее этой добродетели? Я
родилась свободной и, чтобы иметь возможность жить свободной, избрала
уединение полей: деревья на горах этих -- мое общество; прозрачные воды
ручейков -- мои зеркала; деревьям и ручейкам доверяю я свои мысли и свою
красоту. Я -- дальний огонь, который не жжет, я -- меч, отложенный в
сторону. Тех, которые влюблялись в меня, увлекаясь моей красотой, я
разочаровывала моими словами; а если желания питаются надеждами, так как я
не дала никакой пищи желаниям Грисостомо, ни кого-либо другого, словом,
никому, -- можно было бы скорее сказать, что Грисостомо убило его упорство,
а не моя жестокость. Если же мне ставят в вину, что намерения его были
чисты, и поэтому я будто бы была обязана не отталкивать его, я отвечу: когда
он здесь, на этом самом месте, где теперь ему высекают могилу, открыл мне
чистоту своих намерений, я сказала ему, что мое намерение -- жить в
постоянном уединении и лишь одна земля насладится плодами моего уединения и
бренными останками моей красоты. Если после столь решительного ответа он все
же упорствовал в своих надеждах и плыл против течения, что удивительного в
том, что он утонул в водовороте собственного своего безумия? Если б я
обнадежила его, я бы солгала; если б исполнила его желание, я поступила бы в
разрез с лучшими моими чувствами и намерениями. Выведенный из заблуждения,
он все-таки упорствовал, и, хотя никто его не ненавидел, он впал в отчаяние;
теперь решайте: справедливо ли винить меня в его страданиях? Пусть жалуется
тот, кого обманули, впадает в отчаяние тот, кого опутали лживыми надеждами,
ждет чего-либо тот, кого я зову, и хвалится тот, кого я допущу к себе; но
пусть не называет меня жестокой или убийцей тот, кого я не обманывала, кому
ничего не обещала, кого не увлекала и не звала. Небу до сих пор еще не было
угодно, чтобы сама я полюбила, а думать, что я полюблю по чужому указанию,
об этом не может быть и речи. Пусть же это общее мое предостережение
послужит на пользу всем тем, которые ухаживают за мной, и отныне и впредь
станет известным, что, если еще кто-нибудь умрет из-за меня, его убьет не
ревность ко мне и не пренебрежение мое, потому что тот, кто никого не любит,
не может и внушить никому ревности, а откровенное признание, что не любишь,
не должно быть сочтено за пренебрежение. Тот, кто меня называет лютым зверем
и василиском, пусть избегает меня, как избегают всего злого и опасного; тот,
кто считает меня неблагодарной, пусть не ухаживает за мной; кто считает
бесчувственной, не ищет моего общества; кто считает жестокой, не идет за
мной; так как этот зверь, этот василиск, эта неблагодарная, эта жестокая и
бесчувственная, никоим образом не будет искать их, служить им, знакомиться с
ними и следовать за ними. И если Грисостомо убили его нетерпение и страстные
желания, почему же слагать вину за это на мою скромность и осмотрительность?
Если я сохраняю чистоту свою среди деревьев, как может требовать, чтобы я ее
утратила, тот, который желает, чтобы я сохраняла ее среди людей. Я, как вам
известно, сама владею богатством и не стремлюсь присвоить себе чужое; я
свободна и не чувствую желания надеть на себя ярмо; я не люблю никого и ни к
кому не питаю ненависти; не обманываю этого, не увлекаю того, не насмехаюсь
над одним, не развлекаюсь с другим. Дружеские разговоры с пастушками
окрестных деревень и забота о своих козах -- вот что меня занимает; желания
мои не переходят за предел этих гор, а если они и переступают через него, то
лишь только затем, чтобы созерцать красоту неба -- этот путь, по которому
человеческая душа возносится к первоначальной своей обители.
С этими словами Марсела, не дожидаясь ответа, повернулась и исчезла в
густой чаще ближнего леса, покрывавшего горные склоны, оставив всех
присутствовавших в восхищении как от ее ума, так и от ее красоты. Некоторые
(из числа очарованных волшебными стрелами прекрасных ее глаз) собрались,
по-видимому, следовать за нею вопреки только что слышанному столь ясному
предупреждению. Заметив это, Дон Кихот -- так как ему казалось, что настала
пора для выполнения его рыцарских обязанностей вступаться за девушек,
нуждающихся в защите, -- схватился за рукоятку своего меча и воскликнул
громким и внятным голосом:
-- Пусть никто -- какое бы он ни занимал положение, к какому бы ни
принадлежал званию -- не осмелится следовать за красавицей Марселой под
страхом навлечь на себя мое яростное негодование. Убедительными и ясными
доводами доказала она незначительность, или, вернее, отсутствие всякой ее
вины в смерти Грисостомо, а также насколько далека от нее мысль снизойти к
желаниям кого-либо из ее поклонников. Итак, по справедливости, вместо того
чтобы следовать за нею и преследовать ее, все благомыслящие люди в мире
должны были бы уважать и чтить ее, так как выяснилось, что одна она живет на
свете с столь чистыми намерениями.
Вследствие ли угроз Дон Кихота, или потому что Амбросио просил до конца
оказать последний долг его дорогому другу, никто из пастухов не двинулся с
места и не ушел до тех пор, пока не окончили высекать в скале могилу, бумаги
Грисостомо не были сожжены, и труп его не был опущен в гробницу среди слез,
проливаемых всеми присутствующими. Могилу прикрыли временно большим обломком
скалы, пока не будет готова плита, которую Амбросио, как он сообщил, решил
заказать с нижеследующей эпитафией:
Пастуха здесь труп безгласный,
Труп недвижимый зарыт.
Был он юн; любовью страстной
Он пылал, -- и ей убит.
Он убит, сведен в могилу
Девой, камня холодней,
Но Амур-тиран дал силу,
Дал ей власть среди людей.
Затем они осыпали могилу цветами и зелеными ветками, и, выразив чувство
соболезнования другу покойного, Амбросио, простились с ним. То же сделали
Вивальдо и его товарищ, а Дон Кихот простился с бывшими своими хозяевами и с
путешественниками, которые уговаривали его ехать с ними в Севилью, так как
это самое подходящее место для искателя приключений: там на каждой улице, на
каждом перекрестке можно найти их больше, чем где бы то ни было. Дон Кихот
поблагодарил путешественников за совет и за желание оказать ему услугу, но
объявил, что он не может и не должен ехать в Севилью, пока не очистит
окрестные горы от мошенников и разбойников, которыми они, по слухам,
переполнены. Узнав о его похвальном намерении, путешественники не пожелали
больше докучать ему и, снова простившись с ним, отправились своим путем, в
продолжение которого у них было о чем поговорить, -- как об истории Марселы
и Грисостомо, так и о безумии Дон Кихота. А этот последний решил разыскать
пастушку Марселу и предложить ей свои услуги. Но случилось иначе, чем он
предполагал, что мы и узнаем из продолжения правдивой этой истории, вторая
часть которой оканчивается здесь {Сервантес первоначально разделил первый
том "Дон Кихота" на четыре части, в подражание "Амадису Галльскому", но не
довел этого намерения до конца, и второй том назвал лишь второй частью,
разделив ее только на главы.}.
ПЕСНЯ ГРИСОСТОМО
Коль ты сама, бездушная, желаешь,
Чтобы из уст в уста ко всем народам
Неслась молва о лютом твоем гневе,--
Так пусть же в грудь, истерзанную горем,
Сам ад вольет мне жалобные звуки,
И заглушат они мой прежний голос.
Хочу ужасным воплем я поведать
О скорбной участи моей и злых
Твоих поступках. Пусть весь мир узнает,
Какой жестокой пыткой истерзала
Мне сердце ты, разбитое тобой.
Так слушай же; внимай не сладким звукам,
А страшным стонам, вырванным из груди,
Богатой горем, властью исступленья
И силой мук жестоких, в облегченье,
В усладу мне -- тебе же лишь к досаде.
Пусть волка дикий вой и льва рыканье,
Шипенье змей чешуйчатых и рев
Ужасных, нам неведомых чудовищ;
Пусть крик зловещий ворона, шум бури
На лоне вод морских, мычанье
Быка сраженного и одинокий
Голубки стон; пусть зов совы печальной
И плач сынов всей черной преисподней --
Все, все скорей сольется в звук единый,
И этот звук, исторгнутый из глуби
Больной души, сумеет потрясти
Весь мир, все чувства, мысли все!
Страдание мое так сильно, что о нем поведать
Нельзя путем обычным... К новым средствам,
К картинам новым должен я прибегнуть!..
Смешенье звуков страшных -- отголосок
Моей безумной скорби -- не услышат
Пески родного Тахо и оливы
Бетиса[1] славного, -- здесь изолью я
[1] Бетис -- древнее название Гвадалквивира, берега которого обсажены и
поныне оливковыми деревьями.
Печаль мою, на высях хмурых скал,
В глуби ущелий -- языком хоть мертвым,
Но речью, полной жизни; изолью
Печаль свою в местах я безотрадных,
Там, где нога людская не ступала,
В краях, где солнце никогда не светит,
Иль средь толпы чудовищ ядовитых,
Которых Нил питает и растит.
Но хоть в безлюдных, диких лишь пустынях
Звучать мой возглас будет, -- отголосок
Глухой и смутный о моих страданьях
И о твоей жестокости безмерной,
Веленьем рока злого разнесется
Из уст в уста по всем концам вселенной.
Казнит и мучит ревность, убивает
Презренье, гасит жизни цвет и силу
Разлуки долгой гнет, яд подозрений --
Правдивых, ложных ли -- терпенье губит;
И нет защиты от тисков забвенья
В надежде твердой на любовь и счастье!
Во всем здесь смерть, -- она неотразима,
А я -- о диво дивное -- живу,
Живу, отвергнутый, томим презреньем,
Разлукой, ревностью и подозреньем,
Горю в огне, снедающем меня!
Средь стольких мук не вижу я просвета;
Не может взор мой уловить средь них
Хотя бы тень надежды отдаленной,--
И больше к ней взывать уж не хочу я;
В глухом отчаянье, чтоб вдосталь горем
Упиться мне, клянусь теперь вовеки
Луча малейшего надежды убегать.
Возможно ль в тот же миг питать надежду
И страх, иль хорошо ли это делать,
Когда причины страха непреложны?
И если ревность злая пред глазами
Стоит -- закрыть их надо ль мне, раз видеть
Ее я вынужден в глубоких ранах,
В кровавых ранах сердца моего?
Кто б не раскрыл отчаянью все двери,
Когда открытое к себе презренье
Он видит; и все то, что подозреньем
Лишь только было, обращенным в правду
Он видит, -- правду ж -- обращенной в ложь?
О ревность, лютый деспот во владеньях
Любви, ты дай скорей мне нож свой в руки!
А ты, презренье, ты неси веревку
Для казни мне! Увы! Непобедимо
Живет о вас еще воспоминанье
В душе моей средь ужасов страданья!
Но смерть близка... И так как не надеюсь
На счастье в жизни я иль в смерти, твердо
Держусь своих фантазий и скажу,
Что всех умней, кто всех сильнее любит;
Что всех свободней в мире тот, кто рабски
Тиранству древнему любви покорен;
Что та, которая меня сгубила,
Душой прекрасна так же, как и телом;
Что сам в ее измене я повинен
И что любовь царит и мирно правит
Лишь оттого, что столько в ней страданья.
С такими мыслями стяну я крепко
На шее петлю, и, уйдя туда,
Куда ведет меня ее презренье,
Я ветрам тело бренное и душу
Отдам без пальм и лавров благ грядущих.
А ты, чья горькая несправедливость
Меня принудила несправедливым
Быть к жизни -- к юной, бедной жизни,
Теперь постылой мне и ненавистной,--
Ты видишь ли, что так сквозит открыто
Из сердца ран глубоких, как навстречу
Твоим желаньям радостно иду я?
Но если б небо ясное прекрасных
Твоих очей нежданно омрачилось
От ранней гибели моей, -- не надо
Мне слез твоих, не надо мне награды
За то, что отдал я тебе всю душу!
Нет, лучше смехом звонким докажи ты,
Что смерть моя тебе веселый праздник!
Глупец, к чему об этом говорю я
Ведь знаю: славой для себя сочтешь ты,
Чтоб я скорей к трагической развязке
Довел бы повесть жизни безотрадной!
Настало время... Из глубокой бездны
Явись, Тантал, с твоей ужасной жаждой,
И ты, Сизиф, с скалой безмерно тяжкой,
Пусть Прометей мне коршуна приносит,
Пусть с колесом ко мне спешит Эгион,
И с пыткой злой идут пусть Данаиды
С своей вовек ненаполнимой бочкой;
Пусть все свои смертельные страданья
Они вольют мне в грудь и заунывно
Надгробный плач свершат (коль подобает
Он тем, кто впал в отчаянье) над трупом,
Лишенным всяких почестей прощальных,
И пусть привратник трехголовый ада
Со стаей всей химер и чудищ разных
Усилят хор печальный; проводов иных,
Сдается мне, иного погребенья
Не стоит тот, кто умер от любви!
О песнь отчаянья, ты воплем скорби
И криком муки не греми над миром!
Коль той, из-за которой ты родилась,
Мое несчастье счастье лишь приносит,
А скорбь моя дарит веселье, -- лучше
Умолкни навсегда со мной в могиле!
Слушателям очень понравилось стихотворение Грисостомо, но читавший его
Вивальдо сказал, что, по его мнению, оно противоречит молве о скромности и
целомудрии Марселы, так как Грисостомо жалуется на ревность, подозрения и
разлуку в ущерб доброму имени и доброй славе Марселы. На это Амбросио, как
человек, хорошо знавший даже тайные мысли своего друга, ответил так:
-- Желая рассеять ваши сомнения, сеньор, я должен вам сказать, что,
когда несчастный писал эту песнь, он действительно находился вдали от
Марселы, с которой не виделся по доброй своей воле, решив испытать, не
окажет ли и на него разлука обычного своего действия. А так как всякая
безделица тревожит отсутствующего влюбленного и его терзают разные мнимые
страхи, то и Грисостомо мучился воображаемой ревностью и воображаемыми
подозрениями, точно действительными. Таким образом, все, что молва
разглашает о добродетели Марселы, остается по-прежнему истинным, и, за
исключением того, что она жестокосерда, несколько заносчива и очень
пренебрежительна, сама зависть не может и не должна обвинять ее в каком бы
то ни было проступке.
-- Совершенно верно, -- ответил Вивальдо. И он только что собрался
прочесть еще одну из рукописей, спасенных им от огня, но ему помешало чудное
видение (оно казалось таковым), внезапно представшее перед их глазами. Дело
в том, что на вершине скалы, у подножия которой высекали могилу, появилась
пастушка Марсела, такая прекрасная, что красота ее превосходила все, что о
ней говорили. Те, кто впервые ее видели, смотрели на нее с безмолвным
восхищением, и даже те, которые уже привыкли ее видеть, были поражены не
менее видевших ее впервые.
Но едва ее заметил Амбросио, как он, глубоко возмущенный, сказал,
обращаясь к ней:
-- Быть может, о лютый василиск этих гор, ты явилась сюда посмотреть,
не раскроются ли вновь в твоем присутствии раны этого несчастного, которого
лишила жизни твоя жестокость? Или же ты намерена хвалиться ужасными своими
подвигами, или смотреть с вершины этой скалы, точно второй бездушный Нерон,
на пожар пылающего Рима, или надменно попирать ногами несчастный этот труп,
как бесчеловечная дочь попирала труп своего отца Тарквиния? {Не Тарквиний, а
Сервий Туллий.} Говори скорей, зачем явилась ты сюда, или что, собственно,
тебе угодно, потому что, хорошо зная, как при жизни Грисостомо не переставал
подчиняться тебе во всех своих помышлениях, я постараюсь, чтобы и после его
смерти твоим желаниям подчинялись все те, которые назывались его друзьями.
-- Я пришла, о Амбросио, не для того, о чем ты говоришь, -- ответила
Марсела, -- а только для того, чтобы защитить себя и доказать, как
несправедливо судят те, которые винят меня в своих страданиях и в смерти
Грисостомо. Итак, прошу всех здесь присутствующих внимательно выслушать
меня, потому что не потребуется ни много времени, ни много слов, чтобы
убедить умных людей в истине. Небо, как вы говорите, создало меня красивой,
и столь красивой, что вы не имеете сил противостоять моей красоте, и она
побуждает вас любить меня, а за любовь, которую вы мне выказываете, вы
думаете и воображаете, что и я обязана любить вас. Благодаря разуму, которым
Бог одарил меня, я знаю, что все прекрасное мило нашему сердцу, но не могу
понять, почему тот, которого любят за красоту, обязан любить того, кто его
любит? Тем более, могло бы ведь случиться, что любящий красивое сам
безобразен, а так как безобразное достойно отвращения, было бы несправедливо
сказать: "Я люблю тебя за то, что ты красива; ты должна любить меня, хотя я
безобразен". Но если мы предположим случай, что красота с обеих сторон
равная, из этого еще не следует, чтобы и желания были равные; ведь, не
всякая красота вызывает любовь, -- иная радует глаз, но не покоряет сердце.
Если бы всякая красота вызывала любовь и покоряла сердца, то желания пришли
бы в столь великое смятение и так бы сбились с толку, что не могли бы ни на
чем остановиться; потому что если количество прекрасных предметов
бесчисленно, то и желания должны бы быть бесчисленны; и, судя по тому, что я
слышала, истинную любовь нельзя делить, и она должна быть свободной, а не
вынужденной. Если же это так -- а я думаю, что это так, -- как же вы можете
требовать, чтобы я насиловала свою волю только потому, что вы говорите, что
любите меня? А если нет, скажите мне: раз небо, создавшее меня красивой,
создало бы меня безобразной, могла бы я по справедливости негодовать на вас
за то, что вы меня не любите? Сверх того, вам еще следует принять во
внимание, что красоту, которою я обладаю, не я себе избрала, а такою, какою
она есть, получила ее в дар свыше, не прося и не добиваясь ее. И, подобно
тому как нельзя винить змею за смертоносный яд в ее жале, хотя она и убивает
им, потому что он дан ей природой, точно так же нельзя укорять и меня за то,
что я красива; ведь красота добродетельной женщины подобна дальнему огню или
острому мечу: огонь не жжет, и меч не режет тех, которые к ним не
приближаются. Честь и добродетели -- украшения души, без которых тело, хотя
бы оно и было красиво, не должно казаться таковым. Если же целомудрие --
одна из добродетелей, придающих наибольшую прелесть и украшающих тело и
душу, почему же та, которую любят за ее красоту, должна потерять целомудрие,
чтобы удовлетворить желания человека, который единственно ради своего
удовольствия прилагает все усилия и старания лишить ее этой добродетели? Я
родилась свободной и, чтобы иметь возможность жить свободной, избрала
уединение полей: деревья на горах этих -- мое общество; прозрачные воды
ручейков -- мои зеркала; деревьям и ручейкам доверяю я свои мысли и свою
красоту. Я -- дальний огонь, который не жжет, я -- меч, отложенный в
сторону. Тех, которые влюблялись в меня, увлекаясь моей красотой, я
разочаровывала моими словами; а если желания питаются надеждами, так как я
не дала никакой пищи желаниям Грисостомо, ни кого-либо другого, словом,
никому, -- можно было бы скорее сказать, что Грисостомо убило его упорство,
а не моя жестокость. Если же мне ставят в вину, что намерения его были
чисты, и поэтому я будто бы была обязана не отталкивать его, я отвечу: когда
он здесь, на этом самом месте, где теперь ему высекают могилу, открыл мне
чистоту своих намерений, я сказала ему, что мое намерение -- жить в
постоянном уединении и лишь одна земля насладится плодами моего уединения и
бренными останками моей красоты. Если после столь решительного ответа он все
же упорствовал в своих надеждах и плыл против течения, что удивительного в
том, что он утонул в водовороте собственного своего безумия? Если б я
обнадежила его, я бы солгала; если б исполнила его желание, я поступила бы в
разрез с лучшими моими чувствами и намерениями. Выведенный из заблуждения,
он все-таки упорствовал, и, хотя никто его не ненавидел, он впал в отчаяние;
теперь решайте: справедливо ли винить меня в его страданиях? Пусть жалуется
тот, кого обманули, впадает в отчаяние тот, кого опутали лживыми надеждами,
ждет чего-либо тот, кого я зову, и хвалится тот, кого я допущу к себе; но
пусть не называет меня жестокой или убийцей тот, кого я не обманывала, кому
ничего не обещала, кого не увлекала и не звала. Небу до сих пор еще не было
угодно, чтобы сама я полюбила, а думать, что я полюблю по чужому указанию,
об этом не может быть и речи. Пусть же это общее мое предостережение
послужит на пользу всем тем, которые ухаживают за мной, и отныне и впредь
станет известным, что, если еще кто-нибудь умрет из-за меня, его убьет не
ревность ко мне и не пренебрежение мое, потому что тот, кто никого не любит,
не может и внушить никому ревности, а откровенное признание, что не любишь,
не должно быть сочтено за пренебрежение. Тот, кто меня называет лютым зверем
и василиском, пусть избегает меня, как избегают всего злого и опасного; тот,
кто считает меня неблагодарной, пусть не ухаживает за мной; кто считает
бесчувственной, не ищет моего общества; кто считает жестокой, не идет за
мной; так как этот зверь, этот василиск, эта неблагодарная, эта жестокая и
бесчувственная, никоим образом не будет искать их, служить им, знакомиться с
ними и следовать за ними. И если Грисостомо убили его нетерпение и страстные
желания, почему же слагать вину за это на мою скромность и осмотрительность?
Если я сохраняю чистоту свою среди деревьев, как может требовать, чтобы я ее
утратила, тот, который желает, чтобы я сохраняла ее среди людей. Я, как вам
известно, сама владею богатством и не стремлюсь присвоить себе чужое; я
свободна и не чувствую желания надеть на себя ярмо; я не люблю никого и ни к
кому не питаю ненависти; не обманываю этого, не увлекаю того, не насмехаюсь
над одним, не развлекаюсь с другим. Дружеские разговоры с пастушками
окрестных деревень и забота о своих козах -- вот что меня занимает; желания
мои не переходят за предел этих гор, а если они и переступают через него, то
лишь только затем, чтобы созерцать красоту неба -- этот путь, по которому
человеческая душа возносится к первоначальной своей обители.
С этими словами Марсела, не дожидаясь ответа, повернулась и исчезла в
густой чаще ближнего леса, покрывавшего горные склоны, оставив всех
присутствовавших в восхищении как от ее ума, так и от ее красоты. Некоторые
(из числа очарованных волшебными стрелами прекрасных ее глаз) собрались,
по-видимому, следовать за нею вопреки только что слышанному столь ясному
предупреждению. Заметив это, Дон Кихот -- так как ему казалось, что настала
пора для выполнения его рыцарских обязанностей вступаться за девушек,
нуждающихся в защите, -- схватился за рукоятку своего меча и воскликнул
громким и внятным голосом:
-- Пусть никто -- какое бы он ни занимал положение, к какому бы ни
принадлежал званию -- не осмелится следовать за красавицей Марселой под
страхом навлечь на себя мое яростное негодование. Убедительными и ясными
доводами доказала она незначительность, или, вернее, отсутствие всякой ее
вины в смерти Грисостомо, а также насколько далека от нее мысль снизойти к
желаниям кого-либо из ее поклонников. Итак, по справедливости, вместо того
чтобы следовать за нею и преследовать ее, все благомыслящие люди в мире
должны были бы уважать и чтить ее, так как выяснилось, что одна она живет на
свете с столь чистыми намерениями.
Вследствие ли угроз Дон Кихота, или потому что Амбросио просил до конца
оказать последний долг его дорогому другу, никто из пастухов не двинулся с
места и не ушел до тех пор, пока не окончили высекать в скале могилу, бумаги
Грисостомо не были сожжены, и труп его не был опущен в гробницу среди слез,
проливаемых всеми присутствующими. Могилу прикрыли временно большим обломком
скалы, пока не будет готова плита, которую Амбросио, как он сообщил, решил
заказать с нижеследующей эпитафией:
Пастуха здесь труп безгласный,
Труп недвижимый зарыт.
Был он юн; любовью страстной
Он пылал, -- и ей убит.
Он убит, сведен в могилу
Девой, камня холодней,
Но Амур-тиран дал силу,
Дал ей власть среди людей.
Затем они осыпали могилу цветами и зелеными ветками, и, выразив чувство
соболезнования другу покойного, Амбросио, простились с ним. То же сделали
Вивальдо и его товарищ, а Дон Кихот простился с бывшими своими хозяевами и с
путешественниками, которые уговаривали его ехать с ними в Севилью, так как
это самое подходящее место для искателя приключений: там на каждой улице, на
каждом перекрестке можно найти их больше, чем где бы то ни было. Дон Кихот
поблагодарил путешественников за совет и за желание оказать ему услугу, но
объявил, что он не может и не должен ехать в Севилью, пока не очистит
окрестные горы от мошенников и разбойников, которыми они, по слухам,
переполнены. Узнав о его похвальном намерении, путешественники не пожелали
больше докучать ему и, снова простившись с ним, отправились своим путем, в
продолжение которого у них было о чем поговорить, -- как об истории Марселы
и Грисостомо, так и о безумии Дон Кихота. А этот последний решил разыскать
пастушку Марселу и предложить ей свои услуги. Но случилось иначе, чем он
предполагал, что мы и узнаем из продолжения правдивой этой истории, вторая
часть которой оканчивается здесь {Сервантес первоначально разделил первый
том "Дон Кихота" на четыре части, в подражание "Амадису Галльскому", но не
довел этого намерения до конца, и второй том назвал лишь второй частью,
разделив ее только на главы.}.

 [1] Обитатели Янгуэсского округа в провинции Риола, в Старой Кастилии. И
теперь еще они же большей частью занимаются извозом.
Мудрый Сид Амет бен-Енхели рассказывает, что, когда Дон Кихот простился
со своими хозяевами и со всеми присутствовавшими на похоронах пастуха
Грисостомо, он и его оруженосец отправились в тот самый лес, куда, как они
видели, удалилась пастушка Марсела. Но, проискав ее там больше двух часов и
не найдя, они наконец очутились на лугу, покрытом зеленой травой. Вблизи его
журчал прохладный и свежий ручеек, пленивший их, и они соблазнились провести
здесь часы сиесты {Сиеста -- послеобеденный сон или полуденный отдых.},
укрывшись от полуденного зноя. Дон Кихот и Санчо спешились, и, предоставив
ослу и Росинанту пастись во всю их волю на лугу, покрытом обильной травой,
они достали дорожные сумки, и без всякой церемонии, в добром мире и согласии
господин и слуга сели и стали истреблять все, что там нашлось. Санчо не
позаботился спутать ноги Росинанту, так как считал его столь добронравным и
степенным, что все кобылы с пастбищ Кордовы не смогли бы совратить его с
правого пути. Но судьба и дьявол -- который не всегда спит -- устроили так,
что на этом лугу пасся табун галицийских кобыл, принадлежавших нескольким
галицийским погонщикам, а у них в обычае делать в полдень привал со своими
животными в местах, изобилующих травой и водой, и та поляна, где как раз
находился Дон Кихот, была очень подходящая и для галицийских погонщиков.
Случилось, однако, что Росинант почувствовал охоту позабавиться с сеньорами
кобылами, и лишь только он их почуял, как совершенно противно своим обычаям
и природе он, не спрашивая позволения у господина, мелкой, проворной рысцой
направился сообщить им о своей потребности. Но кобылы, по-видимому, больше
желали пастись, чем чего-либо другого, и приняли его ударами копыт и стали
грызть зубами, так что разорвали ему подпругу, и он стоял голый, без седла.
Однако чувствительнее всего для него оказалось то, что погонщики, увидав его
насильственные покушения на кобыл, подбежали к нему с дубинами и так
немилосердно стали бить его, что он свалился на землю в весьма жалком
состоянии. В это время Дон Кихот и Санчо, увидавшие, как били Росинанта,
прибежали, запыхавшись, и Дон Кихот сказал, обращаясь к Санчо:
-- Насколько я вижу, друг Санчо, эти люди не рыцари, а чернь, низкий
сброд; говорю это потому, что ты в полном праве помочь мне в справедливой
моей мести за обиду, нанесенную на наших глазах Росинанту.
-- Какая тут к черту месть, -- ответил Санчо, -- если их больше
двадцати, а нас два или, пожалуй, всего лишь полтора человека?
-- Один я стою сотни, -- возразил Дон Кихот и, не тратя больше слов,
обнажил меч и устремился на погонщиков. То же сделал и Санчо Панса,
возбужденный и воспламененный примером своего господина. Дон Кихот с первого
разу нанес одному из погонщиков удар, которым разрубил бывшее на том кожаное
полукафтанье, а также и значительную часть плеча. Галицийцы, увидав, что с
ними так жестоко расправляются всего лишь два человека, а их самих так
много, схватили дубины и, окружив своих противников, с величайшим
ожесточением и пылом стали осыпать их градом ударов. Правда, что со вторым
ударом Санчо уже лежал на земле, и то же случилось и с Дон Кихотом, которому
не помогли ни ловкость его, ни мужество. Судьбе было угодно, чтобы он упал к
ногам Росинанта, который все еще не мог подняться, из чего легко вывести
заключение, как ужасно действуют дубины в руках рассерженных крестьян. Когда
галицийцы увидели, какую они заварили кашу, они с величайшей поспешностью
навьючили своих кобыл и продолжали путь, оставив двух искателей приключений
распростертыми на земле в очень незавидном состоянии и еще худшем
расположении духа.
Первым пришел в себя Санчо Панса. Увидав, что он лежит рядом со своим
господином, он слабым и жалобным голосом проговорил:
-- Сеньор Дон Кихот, ах, сеньор Дон Кихот!
-- Чего ты желаешь, брат Санчо? -- отозвался Дон Кихот таким же слабым
и жалобным голосом, как и Санчо.
-- Я хотел бы, если б это было возможно, -- сказал Санчо Панса, --
чтобы ваша милость дала мне глотка два бальзама Фео-Бласа {Вместо
Фиерабраса.}, в случае если он у вас под рукой. Быть может, он окажется
таким же целебным для перелома костей, как и для ран.
-- Если б я имел его здесь -- несчастный я, -- чего же бы еще
недоставало нам, -- ответил Дон Кихот. -- Но клянусь тебе, Санчо Панса,
честью странствующего рыцаря, что не позже двух дней (если только судьба не
решит иначе) бальзам этот будет в моем распоряжении, или же у меня
перестанут действовать руки.
-- А как вы думаете, ваша милость, сколько потребуется времени, чтобы
мы были в состоянии двигать ногами? -- спросил Санчо Панса.
-- О себе могу сказать, -- ответил избитый рыцарь Дон Кихот, -- что не
сумею определить этому срок, но во всем случившемся виноват я сам, потому
что мне не следовало обнажать меча против людей, которые не были, подобно
мне, посвящены в рыцари. Итак, я думаю, что в наказание за то, что я нарушил
рыцарские законы, бог сражений допустил, чтобы эта кара постигла меня. Вот
почему, Санчо Панса, ты должен обратить внимание на то, что я сейчас скажу,
так как это очень важно для обоюдного нашего, твоего и моего, благополучия,
именно: если ты увидишь, что подобный сброд начнет оскорблять нас, не жди,
чтобы я обнажил против них свой меч,-- этого я никогда больше не сделаю, --
а вынимай свой и руби им сколько душе твоей угодно. Если же на помощь и в
защиту им явятся рыцари, я сумею со всей своею мощью защитить тебя и
отразить их. Ты ведь на тысяче примеров и опытов видел, до чего простирается
доблесть этой моей сильной руки.
[1] Обитатели Янгуэсского округа в провинции Риола, в Старой Кастилии. И
теперь еще они же большей частью занимаются извозом.
Мудрый Сид Амет бен-Енхели рассказывает, что, когда Дон Кихот простился
со своими хозяевами и со всеми присутствовавшими на похоронах пастуха
Грисостомо, он и его оруженосец отправились в тот самый лес, куда, как они
видели, удалилась пастушка Марсела. Но, проискав ее там больше двух часов и
не найдя, они наконец очутились на лугу, покрытом зеленой травой. Вблизи его
журчал прохладный и свежий ручеек, пленивший их, и они соблазнились провести
здесь часы сиесты {Сиеста -- послеобеденный сон или полуденный отдых.},
укрывшись от полуденного зноя. Дон Кихот и Санчо спешились, и, предоставив
ослу и Росинанту пастись во всю их волю на лугу, покрытом обильной травой,
они достали дорожные сумки, и без всякой церемонии, в добром мире и согласии
господин и слуга сели и стали истреблять все, что там нашлось. Санчо не
позаботился спутать ноги Росинанту, так как считал его столь добронравным и
степенным, что все кобылы с пастбищ Кордовы не смогли бы совратить его с
правого пути. Но судьба и дьявол -- который не всегда спит -- устроили так,
что на этом лугу пасся табун галицийских кобыл, принадлежавших нескольким
галицийским погонщикам, а у них в обычае делать в полдень привал со своими
животными в местах, изобилующих травой и водой, и та поляна, где как раз
находился Дон Кихот, была очень подходящая и для галицийских погонщиков.
Случилось, однако, что Росинант почувствовал охоту позабавиться с сеньорами
кобылами, и лишь только он их почуял, как совершенно противно своим обычаям
и природе он, не спрашивая позволения у господина, мелкой, проворной рысцой
направился сообщить им о своей потребности. Но кобылы, по-видимому, больше
желали пастись, чем чего-либо другого, и приняли его ударами копыт и стали
грызть зубами, так что разорвали ему подпругу, и он стоял голый, без седла.
Однако чувствительнее всего для него оказалось то, что погонщики, увидав его
насильственные покушения на кобыл, подбежали к нему с дубинами и так
немилосердно стали бить его, что он свалился на землю в весьма жалком
состоянии. В это время Дон Кихот и Санчо, увидавшие, как били Росинанта,
прибежали, запыхавшись, и Дон Кихот сказал, обращаясь к Санчо:
-- Насколько я вижу, друг Санчо, эти люди не рыцари, а чернь, низкий
сброд; говорю это потому, что ты в полном праве помочь мне в справедливой
моей мести за обиду, нанесенную на наших глазах Росинанту.
-- Какая тут к черту месть, -- ответил Санчо, -- если их больше
двадцати, а нас два или, пожалуй, всего лишь полтора человека?
-- Один я стою сотни, -- возразил Дон Кихот и, не тратя больше слов,
обнажил меч и устремился на погонщиков. То же сделал и Санчо Панса,
возбужденный и воспламененный примером своего господина. Дон Кихот с первого
разу нанес одному из погонщиков удар, которым разрубил бывшее на том кожаное
полукафтанье, а также и значительную часть плеча. Галицийцы, увидав, что с
ними так жестоко расправляются всего лишь два человека, а их самих так
много, схватили дубины и, окружив своих противников, с величайшим
ожесточением и пылом стали осыпать их градом ударов. Правда, что со вторым
ударом Санчо уже лежал на земле, и то же случилось и с Дон Кихотом, которому
не помогли ни ловкость его, ни мужество. Судьбе было угодно, чтобы он упал к
ногам Росинанта, который все еще не мог подняться, из чего легко вывести
заключение, как ужасно действуют дубины в руках рассерженных крестьян. Когда
галицийцы увидели, какую они заварили кашу, они с величайшей поспешностью
навьючили своих кобыл и продолжали путь, оставив двух искателей приключений
распростертыми на земле в очень незавидном состоянии и еще худшем
расположении духа.
Первым пришел в себя Санчо Панса. Увидав, что он лежит рядом со своим
господином, он слабым и жалобным голосом проговорил:
-- Сеньор Дон Кихот, ах, сеньор Дон Кихот!
-- Чего ты желаешь, брат Санчо? -- отозвался Дон Кихот таким же слабым
и жалобным голосом, как и Санчо.
-- Я хотел бы, если б это было возможно, -- сказал Санчо Панса, --
чтобы ваша милость дала мне глотка два бальзама Фео-Бласа {Вместо
Фиерабраса.}, в случае если он у вас под рукой. Быть может, он окажется
таким же целебным для перелома костей, как и для ран.
-- Если б я имел его здесь -- несчастный я, -- чего же бы еще
недоставало нам, -- ответил Дон Кихот. -- Но клянусь тебе, Санчо Панса,
честью странствующего рыцаря, что не позже двух дней (если только судьба не
решит иначе) бальзам этот будет в моем распоряжении, или же у меня
перестанут действовать руки.
-- А как вы думаете, ваша милость, сколько потребуется времени, чтобы
мы были в состоянии двигать ногами? -- спросил Санчо Панса.
-- О себе могу сказать, -- ответил избитый рыцарь Дон Кихот, -- что не
сумею определить этому срок, но во всем случившемся виноват я сам, потому
что мне не следовало обнажать меча против людей, которые не были, подобно
мне, посвящены в рыцари. Итак, я думаю, что в наказание за то, что я нарушил
рыцарские законы, бог сражений допустил, чтобы эта кара постигла меня. Вот
почему, Санчо Панса, ты должен обратить внимание на то, что я сейчас скажу,
так как это очень важно для обоюдного нашего, твоего и моего, благополучия,
именно: если ты увидишь, что подобный сброд начнет оскорблять нас, не жди,
чтобы я обнажил против них свой меч,-- этого я никогда больше не сделаю, --
а вынимай свой и руби им сколько душе твоей угодно. Если же на помощь и в
защиту им явятся рыцари, я сумею со всей своею мощью защитить тебя и
отразить их. Ты ведь на тысяче примеров и опытов видел, до чего простирается
доблесть этой моей сильной руки.
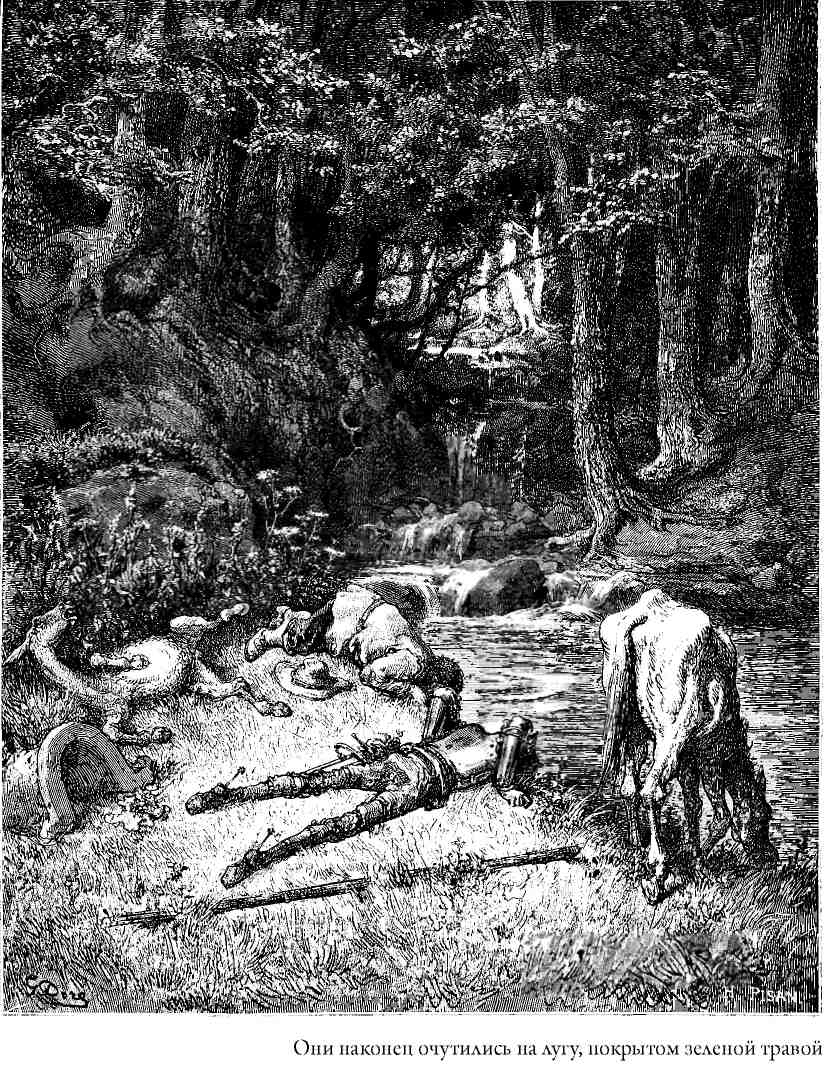 Вот каким заносчивым стал бедный сеньор после своей победы над храбрым
бискайцем. Но это предупреждение господина не очень-то понравилось Санчо
Пансе, так что он не удержался, чтобы не ответить ему:
-- Сеньор, я человек тихий, спокойный и миролюбивый и могу снести какую
бы то ни было обиду, потому что имею жену и детей, которых я должен
прокормить и воспитать. Итак, я тоже предупреждаю вашу милость (потому что
не вправе приказывать), что я никоим образом не стану обнажать меча ни
против простолюдина, ни против рыцаря, и что отныне и впредь я -- пред лицом
Божьим -- прощаю всякую обиду и оскорбление, которые мне нанесли или могут
нанести люди знатного или низкого рода, богатые или бедные, из дворян или
податного сословия {Pechero (исп.) -- человек платящий pecho, подать, от
которой дворяне (идальго) были освобождены.}, одним словом, какого бы ни
было звания или положения.
Услыхав это, его господин ответил ему:
-- Желал бы я, чтобы у меня не занимало дыхание, и я мог бы говорить
без затруднения, и чтобы боль в боку несколько утихла, и я был бы в
состоянии объяснить тебе, Санчо, как сильно ты ошибаешься. Слушай,
несчастный грешник: если бы судьба, столь неблагоприятная нам до сих пор,
вдруг повернулась в нашу сторону и паруса наших желаний так окрепли, что мы
быстро и беспрепятственно вошли бы в гавань одного из тех островов, который
я тебе обещал, -- что сталось бы с тобой, если бы, после того как я завоевал
его и назначил тебя губернатором, ты сделал бы невозможным это свое
назначение тем, что ты не рыцарь, не желаешь им быть и не имеешь ни
мужества, ни намерения мстить за нанесенные тебе обиды и защищать свои
владения? Ведь ты должен знать, что в королевствах и провинциях, недавно
завоеванных, жители вовсе не так спокойны и не так преданы своему новому
повелителю, чтобы можно было не опасаться каких-нибудь вспышек с целью еще
раз изменить существующий строй и попытать счастье в перевороте, как принято
говорить. Вот почему необходимо, чтобы новый владетель обладал умом и
искусством управлять, а также и мужеством, чтобы, смотря по обстоятельствам,
нападать или защищаться.
-- В только что случившихся с нами обстоятельствах, -- ответил Санчо,
-- я желал бы обладать тем умом и мужеством, о которых говорила ваша
милость; но, клянусь вам честью бедного человека, мне более нужны припарки,
чем разговоры. Попытайтесь, ваша милость, не удастся ли вам встать на ноги,
и тогда мы поможем поднять Росинанта, хотя он этого и не заслуживает, так
как был главной причиной избиения нашего. Никогда я не ждал ничего подобного
от Росинанта, которого считал таким же целомудренным и миролюбивым, каков я
сам. Но справедливо говорят, что надо много времени, чтобы хорошенько узнать
людей, и что в жизни нет ничего вполне достоверного. Кто бы мог сказать, что
после страшных ударов меча, которыми милость ваша наградила того несчастного
странствующего рыцаря, так быстро и неожиданно последует этот великий ураган
палочных ударов, обрушившийся на наши плечи?
Вот каким заносчивым стал бедный сеньор после своей победы над храбрым
бискайцем. Но это предупреждение господина не очень-то понравилось Санчо
Пансе, так что он не удержался, чтобы не ответить ему:
-- Сеньор, я человек тихий, спокойный и миролюбивый и могу снести какую
бы то ни было обиду, потому что имею жену и детей, которых я должен
прокормить и воспитать. Итак, я тоже предупреждаю вашу милость (потому что
не вправе приказывать), что я никоим образом не стану обнажать меча ни
против простолюдина, ни против рыцаря, и что отныне и впредь я -- пред лицом
Божьим -- прощаю всякую обиду и оскорбление, которые мне нанесли или могут
нанести люди знатного или низкого рода, богатые или бедные, из дворян или
податного сословия {Pechero (исп.) -- человек платящий pecho, подать, от
которой дворяне (идальго) были освобождены.}, одним словом, какого бы ни
было звания или положения.
Услыхав это, его господин ответил ему:
-- Желал бы я, чтобы у меня не занимало дыхание, и я мог бы говорить
без затруднения, и чтобы боль в боку несколько утихла, и я был бы в
состоянии объяснить тебе, Санчо, как сильно ты ошибаешься. Слушай,
несчастный грешник: если бы судьба, столь неблагоприятная нам до сих пор,
вдруг повернулась в нашу сторону и паруса наших желаний так окрепли, что мы
быстро и беспрепятственно вошли бы в гавань одного из тех островов, который
я тебе обещал, -- что сталось бы с тобой, если бы, после того как я завоевал
его и назначил тебя губернатором, ты сделал бы невозможным это свое
назначение тем, что ты не рыцарь, не желаешь им быть и не имеешь ни
мужества, ни намерения мстить за нанесенные тебе обиды и защищать свои
владения? Ведь ты должен знать, что в королевствах и провинциях, недавно
завоеванных, жители вовсе не так спокойны и не так преданы своему новому
повелителю, чтобы можно было не опасаться каких-нибудь вспышек с целью еще
раз изменить существующий строй и попытать счастье в перевороте, как принято
говорить. Вот почему необходимо, чтобы новый владетель обладал умом и
искусством управлять, а также и мужеством, чтобы, смотря по обстоятельствам,
нападать или защищаться.
-- В только что случившихся с нами обстоятельствах, -- ответил Санчо,
-- я желал бы обладать тем умом и мужеством, о которых говорила ваша
милость; но, клянусь вам честью бедного человека, мне более нужны припарки,
чем разговоры. Попытайтесь, ваша милость, не удастся ли вам встать на ноги,
и тогда мы поможем поднять Росинанта, хотя он этого и не заслуживает, так
как был главной причиной избиения нашего. Никогда я не ждал ничего подобного
от Росинанта, которого считал таким же целомудренным и миролюбивым, каков я
сам. Но справедливо говорят, что надо много времени, чтобы хорошенько узнать
людей, и что в жизни нет ничего вполне достоверного. Кто бы мог сказать, что
после страшных ударов меча, которыми милость ваша наградила того несчастного
странствующего рыцаря, так быстро и неожиданно последует этот великий ураган
палочных ударов, обрушившийся на наши плечи?
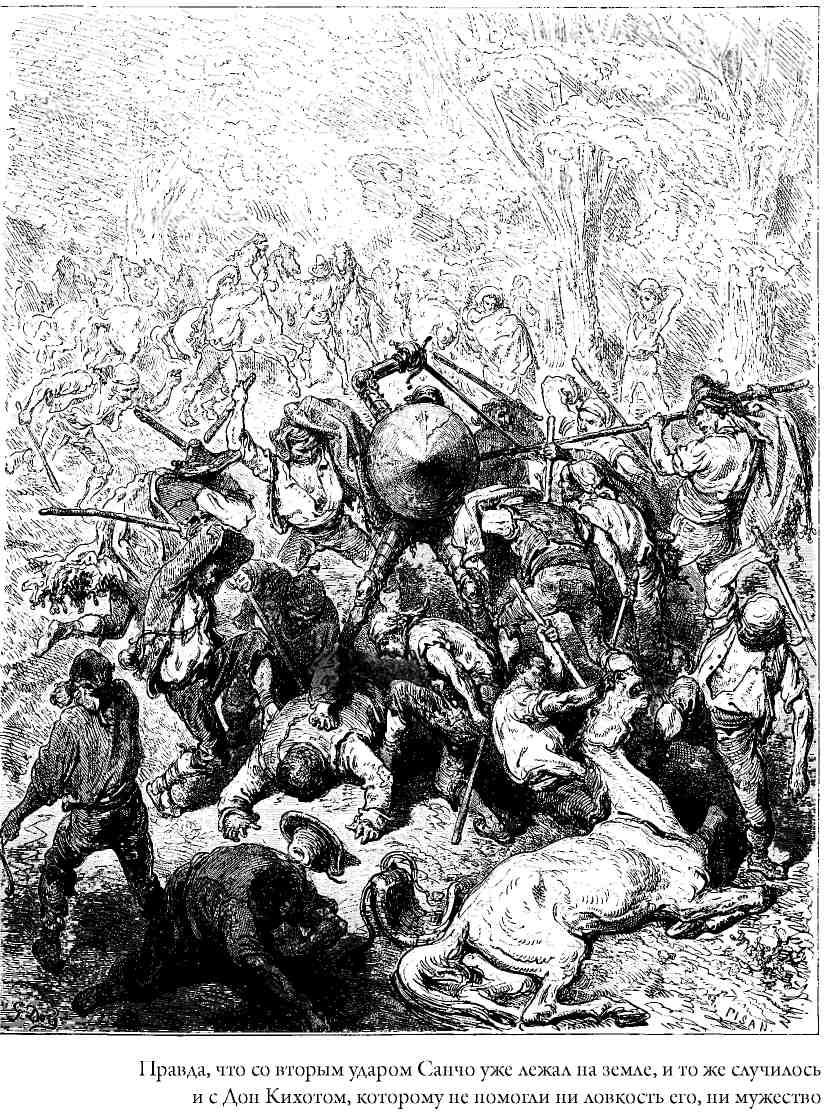 -- Твои плечи, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- должно быть, еще привычны
к такого рода ураганам, но мои, с детства прикрытые тонким голландским
полотном, очевидно, более чувствительны к ужасам этой катастрофы. И если бы
я не воображал -- что я говорю, воображал, -- если бы не знал наверное, что
все подобные невзгоды тесно связаны с рыцарским званием, я бы здесь же и
умер от одной лишь досады.
На это оруженосец ответил:
-- Сеньор, если такие несчастия составляют жатвы, собираемые
рыцарством, скажите мне, ваша милость, часто ли они следуют одна за другой,
или же в какие-нибудь известные сроки, потому что, мне думается, после двух
таких жатв мы окажемся негодными для третьей, если только Бог, в бесконечной
Своей милости, не придет нам на помощь.
-- Знай, друг Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- что жизнь странствующих
рыцарей подвержена тысяче опасностей и невзгод; но точно так же в их
непосредственной власти не более и не менее как сделаться императорами и
королями, как это доказывается примерами многих и различных рыцарей, история
которых мне хорошо известна. И я мог бы теперь -- если бы не препятствовала
мне боль -- рассказать тебе о некоторых рыцарях, завоевавших только
благодаря своему мужеству то высокое положение, о котором я сейчас говорил,
и эти же самые рыцари испытывали перед тем и после того всякого рода
невзгоды и неприятности. Так, мужественный Амадис Галльский очутился во
власти своего врага, волшебника Аркалая, который, как это достоверно
известно, однажды привязал пленного рыцаря к столбу на дворе и нанес ему
более двухсот ударов вожжами своей лошади. А безымянный, но заслуживающий
полного доверия автор рассказывает, как рыцарь Феб попал в западню,
раскрывшуюся у него под ногами в одном замке, и он, падая, очутился в
глубоком подземелье, связанный по рукам и ногам, а здесь ему поставили то,
что принято называть клистиром, из ледяной воды и песка, отчего он чуть не
умер; и если бы в этой великой беде ему не помог один волшебник -- его
большой приятель, -- то бедному рыцарю пришлось бы плохо. Так что и я не
прочь кое-что претерпеть в обществе стольких хороших людей, которые вынесли
более тяжкие оскорбления, чем вынесенные нами теперь. Мне бы хотелось, чтобы
ты, Санчо, знал, что раны, нанесенные случайно находившимся в руках орудием,
не считаются позорными; это изложено в законе о поединках в следующих ясных
выражениях: если башмачник ударит другого колодкой, которую держит в руках,
то, хотя эта колодка на самом деле такое же дерево, как и палка, тем не
менее нельзя сказать, что тот, кого хватили колодкой, был бит палкой. Говорю
это, чтобы ты не думал, что мы -- если нас и помяли в этой схватке -- тем
самым опозорены, потому что оружие, которым эти люди нас так немилосердно
избили, было не что иное, как колья, и ни у одного из них -- насколько мне
помнится -- не было ни шпаги, ни меча, ни кинжала...
-- Они не дали мне времени, -- ответил Санчо, -- так подробно
рассмотреть это; едва я взялся за свою Тисону {Название одного из мечей
Сида, другой его меч назывался Колада.}, как те люди благословили меня по
спине своими кольями так, что у меня потемнело в глазах, ноги подкосились, и
я свалился туда, где теперь лежу и где меня вовсе не тревожит мысль, были ли
или нет оскорблением полученные палочные удары, а лишь беспокоит боль от
этих ударов, которые останутся так же глубоко запечатлены в моей памяти, как
и на моих плечах.
-- Твои плечи, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- должно быть, еще привычны
к такого рода ураганам, но мои, с детства прикрытые тонким голландским
полотном, очевидно, более чувствительны к ужасам этой катастрофы. И если бы
я не воображал -- что я говорю, воображал, -- если бы не знал наверное, что
все подобные невзгоды тесно связаны с рыцарским званием, я бы здесь же и
умер от одной лишь досады.
На это оруженосец ответил:
-- Сеньор, если такие несчастия составляют жатвы, собираемые
рыцарством, скажите мне, ваша милость, часто ли они следуют одна за другой,
или же в какие-нибудь известные сроки, потому что, мне думается, после двух
таких жатв мы окажемся негодными для третьей, если только Бог, в бесконечной
Своей милости, не придет нам на помощь.
-- Знай, друг Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- что жизнь странствующих
рыцарей подвержена тысяче опасностей и невзгод; но точно так же в их
непосредственной власти не более и не менее как сделаться императорами и
королями, как это доказывается примерами многих и различных рыцарей, история
которых мне хорошо известна. И я мог бы теперь -- если бы не препятствовала
мне боль -- рассказать тебе о некоторых рыцарях, завоевавших только
благодаря своему мужеству то высокое положение, о котором я сейчас говорил,
и эти же самые рыцари испытывали перед тем и после того всякого рода
невзгоды и неприятности. Так, мужественный Амадис Галльский очутился во
власти своего врага, волшебника Аркалая, который, как это достоверно
известно, однажды привязал пленного рыцаря к столбу на дворе и нанес ему
более двухсот ударов вожжами своей лошади. А безымянный, но заслуживающий
полного доверия автор рассказывает, как рыцарь Феб попал в западню,
раскрывшуюся у него под ногами в одном замке, и он, падая, очутился в
глубоком подземелье, связанный по рукам и ногам, а здесь ему поставили то,
что принято называть клистиром, из ледяной воды и песка, отчего он чуть не
умер; и если бы в этой великой беде ему не помог один волшебник -- его
большой приятель, -- то бедному рыцарю пришлось бы плохо. Так что и я не
прочь кое-что претерпеть в обществе стольких хороших людей, которые вынесли
более тяжкие оскорбления, чем вынесенные нами теперь. Мне бы хотелось, чтобы
ты, Санчо, знал, что раны, нанесенные случайно находившимся в руках орудием,
не считаются позорными; это изложено в законе о поединках в следующих ясных
выражениях: если башмачник ударит другого колодкой, которую держит в руках,
то, хотя эта колодка на самом деле такое же дерево, как и палка, тем не
менее нельзя сказать, что тот, кого хватили колодкой, был бит палкой. Говорю
это, чтобы ты не думал, что мы -- если нас и помяли в этой схватке -- тем
самым опозорены, потому что оружие, которым эти люди нас так немилосердно
избили, было не что иное, как колья, и ни у одного из них -- насколько мне
помнится -- не было ни шпаги, ни меча, ни кинжала...
-- Они не дали мне времени, -- ответил Санчо, -- так подробно
рассмотреть это; едва я взялся за свою Тисону {Название одного из мечей
Сида, другой его меч назывался Колада.}, как те люди благословили меня по
спине своими кольями так, что у меня потемнело в глазах, ноги подкосились, и
я свалился туда, где теперь лежу и где меня вовсе не тревожит мысль, были ли
или нет оскорблением полученные палочные удары, а лишь беспокоит боль от
этих ударов, которые останутся так же глубоко запечатлены в моей памяти, как
и на моих плечах.
 -- Тем не менее я должен тебе сказать, брат Панса, -- ответил Дон
Кихот,-- что нет воспоминания, которого не истребило бы время, и нет горя,
которого не исцелила бы смерть.
-- Но какое же может быть большее несчастье, -- возразил Панса, -- как
то, когда приходится ждать, чтобы время его истребило и смерть положила ему
конец ? Если б несчастье наше было из числа тех, которые излечиваются
двумя-тремя пластырями, дело обстояло бы еще не так худо; но мне кажется,
что не хватило бы пластырей целого госпиталя, чтобы дать ему хороший оборот.
-- Оставь это и собери все свои слабые силы, Санчо -- ответил Дон
Кихот,-- я сделаю то же, и посмотрим, что с Росинантом, потому что, как мне
сдается, на беднягу обрушилась наибольшая доля нашей беды.
-- Удивляться тут нечему, ответил Санчо, -- ведь, и он тоже
странствующий рыцарь; удивляюсь я лишь тому, что мой осел остался цел и
ничем не поплатился; тогда как мы поплатились ребрами.
-- Счастье всегда оставляет в несчастьях открытой одну дверь, чтобы
дать им облегченье, -- сказал Дон Кихот. -- Говорю это потому, что твой
ослик может заменить мне теперь Росинанта и довезти меня до какого-нибудь
замка, где мне перевяжут раны. Я же вовсе не считаю позорным ехать на осле,
так как, помнится, где-то читал, что добрый старый Силен -- наставник и
воспитатель веселого бога смеха -- при въезде в стовратный город весьма
удобно сидел верхом на прекраснейшем осле.
-- Должно быть, он действительно, как говорит ваша милость, сидел
верхом, сказал Санчо, -- но большая разница: сидеть ли верхом или лежать
поперек осла, как мешок с навозом.
На это Дон Кихот ответил:
-- Раны, полученные в сраженье, приносят скорее честь, чем лишают ее.
Поэтому, друг Панса, не возражай мне больше, но, как я уже говорил,
постарайся подняться на ноги, усади меня, как тебе покажется лучше, на твоем
осле, и уедем отсюда прежде, чем спустится ночь и застигнет нас в этой
пустынной местности.
-- Но я слышал от вашей милости,-- сказал Санчо, -- что странствующим
рыцарям приличествует большую часть года спать в лесах и пустынных
местностях и они считают это за большое счастье для себя.
-- Это случается, -- ответил Дон Кихот, -- тогда, когда они не могут
поступить иначе или же когда они влюблены; последнее настолько верно, что
бывали рыцари, которые проводили по два года на скале, подвергаясь все время
зною, и стуже, и всякой непогоде, и об этом не знали их дамы. Одним из таких
рыцарей был Амадис, когда он, назвавшись Бельтенеброс {Красавец во мраке,
или погруженный во мрак.}, удалился на Пенья Побре и провел там, не знаю,
восемь ли месяцев или восемь лет -- точно не помню, -- достаточно, что он
там был, подвергаясь эпитимии за, не знаю какое, огорчение, причиненное ему
его дамой, сеньорой Орианой. Но оставим это, Санчо, и поспеши, прежде чем с
ослом не приключилось такой же беды, как с Росинантом.
-- Это уж было бы черт знает что,-- сказал Санчо, и, испуская из себя
тридцать "ой", шестьдесят вздохов, и послав сто двадцать проклятий по адресу
того, кто его сманил, он кое-как приподнялся, но, остановившись на
полдороге, стоял согнутый, как турецкий кривой лук, не будучи в состоянии
окончательно выпрямиться, несмотря на свои старания. Он взнуздал и оседлал
осла, тоже несколько сбившегося с дороги при чрезмерной свободе того дня.
Затем он поднял Росинанта, который, если б обладал даром слова, наверное, не
отстал бы в жалобах от Санчо и от своего господина. В заключение Санчо
устроил Дон Кихота на осле, привязал позади него Росинанта и, взяв осла за
уздечку, медленно поплелся по тому направлению, где, как ему казалось,
должна была пролегать большая дорога. Едва прошел он коротенькую милю, как
судьба -- направлявшая его дела от хорошего к лучшему -- вывела его на
большую дорогу, и он издали увидел постоялый двор, который, к досаде Санчо,
но к удовольствию Дон Кихота, этот последний принял за замок. Санчо
настаивал на том, что это постоялый двор, а Дон Кихот уверял, что замок, и
спор их был так продолжителен, что они, не окончив его, успели добраться до
постоялого двора, куда Санчо без дальнейшей проверки и въехал со всей своей
запряжкой.
-- Тем не менее я должен тебе сказать, брат Панса, -- ответил Дон
Кихот,-- что нет воспоминания, которого не истребило бы время, и нет горя,
которого не исцелила бы смерть.
-- Но какое же может быть большее несчастье, -- возразил Панса, -- как
то, когда приходится ждать, чтобы время его истребило и смерть положила ему
конец ? Если б несчастье наше было из числа тех, которые излечиваются
двумя-тремя пластырями, дело обстояло бы еще не так худо; но мне кажется,
что не хватило бы пластырей целого госпиталя, чтобы дать ему хороший оборот.
-- Оставь это и собери все свои слабые силы, Санчо -- ответил Дон
Кихот,-- я сделаю то же, и посмотрим, что с Росинантом, потому что, как мне
сдается, на беднягу обрушилась наибольшая доля нашей беды.
-- Удивляться тут нечему, ответил Санчо, -- ведь, и он тоже
странствующий рыцарь; удивляюсь я лишь тому, что мой осел остался цел и
ничем не поплатился; тогда как мы поплатились ребрами.
-- Счастье всегда оставляет в несчастьях открытой одну дверь, чтобы
дать им облегченье, -- сказал Дон Кихот. -- Говорю это потому, что твой
ослик может заменить мне теперь Росинанта и довезти меня до какого-нибудь
замка, где мне перевяжут раны. Я же вовсе не считаю позорным ехать на осле,
так как, помнится, где-то читал, что добрый старый Силен -- наставник и
воспитатель веселого бога смеха -- при въезде в стовратный город весьма
удобно сидел верхом на прекраснейшем осле.
-- Должно быть, он действительно, как говорит ваша милость, сидел
верхом, сказал Санчо, -- но большая разница: сидеть ли верхом или лежать
поперек осла, как мешок с навозом.
На это Дон Кихот ответил:
-- Раны, полученные в сраженье, приносят скорее честь, чем лишают ее.
Поэтому, друг Панса, не возражай мне больше, но, как я уже говорил,
постарайся подняться на ноги, усади меня, как тебе покажется лучше, на твоем
осле, и уедем отсюда прежде, чем спустится ночь и застигнет нас в этой
пустынной местности.
-- Но я слышал от вашей милости,-- сказал Санчо, -- что странствующим
рыцарям приличествует большую часть года спать в лесах и пустынных
местностях и они считают это за большое счастье для себя.
-- Это случается, -- ответил Дон Кихот, -- тогда, когда они не могут
поступить иначе или же когда они влюблены; последнее настолько верно, что
бывали рыцари, которые проводили по два года на скале, подвергаясь все время
зною, и стуже, и всякой непогоде, и об этом не знали их дамы. Одним из таких
рыцарей был Амадис, когда он, назвавшись Бельтенеброс {Красавец во мраке,
или погруженный во мрак.}, удалился на Пенья Побре и провел там, не знаю,
восемь ли месяцев или восемь лет -- точно не помню, -- достаточно, что он
там был, подвергаясь эпитимии за, не знаю какое, огорчение, причиненное ему
его дамой, сеньорой Орианой. Но оставим это, Санчо, и поспеши, прежде чем с
ослом не приключилось такой же беды, как с Росинантом.
-- Это уж было бы черт знает что,-- сказал Санчо, и, испуская из себя
тридцать "ой", шестьдесят вздохов, и послав сто двадцать проклятий по адресу
того, кто его сманил, он кое-как приподнялся, но, остановившись на
полдороге, стоял согнутый, как турецкий кривой лук, не будучи в состоянии
окончательно выпрямиться, несмотря на свои старания. Он взнуздал и оседлал
осла, тоже несколько сбившегося с дороги при чрезмерной свободе того дня.
Затем он поднял Росинанта, который, если б обладал даром слова, наверное, не
отстал бы в жалобах от Санчо и от своего господина. В заключение Санчо
устроил Дон Кихота на осле, привязал позади него Росинанта и, взяв осла за
уздечку, медленно поплелся по тому направлению, где, как ему казалось,
должна была пролегать большая дорога. Едва прошел он коротенькую милю, как
судьба -- направлявшая его дела от хорошего к лучшему -- вывела его на
большую дорогу, и он издали увидел постоялый двор, который, к досаде Санчо,
но к удовольствию Дон Кихота, этот последний принял за замок. Санчо
настаивал на том, что это постоялый двор, а Дон Кихот уверял, что замок, и
спор их был так продолжителен, что они, не окончив его, успели добраться до
постоялого двора, куда Санчо без дальнейшей проверки и въехал со всей своей
запряжкой.

 Хозяин двора, увидав Дон Кихота, лежащим поперек седла, спросил Санчо:
чем этот человек болен? Санчо ответил, что он не болен, а только упал со
скалы и немного ушиб себе ребра. У хозяина была жена, непохожая на других
женщин своей профессии, потому что она от природы была сострадательна и
принимала к сердцу беды ближнего. Итак, она тотчас же поспешила на помощь к
Дон Кихоту и велела и дочери своей, молоденькой и хорошенькой девушке,
помогать ей ухаживать за приезжим. На том же постоялом дворе служила также
девушка-астурийка, с широким лицом, плоским затылком, коротким носом, на
один глаз кривая, и другой был у нее не совсем здоров. Правда, изящество
фигуры и роста вознаграждали за все эти недостатки, а именно: в ней, считая
с головы до пят, не было целых семи четвертей, и ее плечи, несколько ее
обременявшие, вынуждали ее смотреть вниз, на землю, больше, чем она того
желала бы. Итак, эта миловидная девушка явилась на подмогу хозяйской дочери,
и вдвоем они устроили Дон Кихоту очень скверную постель на чердаке, по явным
признакам служившем в былое время долгие годы помещением для хранения
соломы. Тут же ночевал и погонщик мулов, постель которого находилась не
очень далеко от постели Дон Кихота. И хотя она и была устроена из седел и
попон мулов, но имела большие преимущества перед постелью Дон Кихота,
состоявшей из четырех шероховатых досок, лежавших на двух не очень-то ровных
чурбанах; из тюфяка, такого тонкого, что он имел вид стеганого одеяла,
наполненного комками, которые -- если б через несколько имевшихся в тюфяке
дыр не видно было, что они из шерсти, -- по твердости можно было бы на ощупь
принять за кремни; из двух кожаных простынь и шерстяного одеяла, в котором
-- если б захотеть -- можно было бы сосчитать все нитки до единой. В эту-то
проклятую постель лег Дон Кихот, и тотчас же хозяйка с дочерью обложили его
пластырями с головы до ног, причем им светила Мариторнес, -- так звали
служанку-астурийку. А когда хозяйка, обкладывая рыцаря пластырями, увидела
на теле у него во многих местах синяки, она сказала, что это скорее похоже
на следы от ударов, чем на следы от падения.
-- Нет, это не удары, -- сказал Санчо, -- а у скалы было много углов и
выступов, и каждый из них оставил свой синяк. -- Затем он добавил: -- Прошу
вас, милость ваша, сеньора, сберегите немного этой пакли, так как найдется
еще кое-кто, кому она понадобится, потому что и у меня болит немного
поясница.
-- Значит, и вы упали со скалы? -- спросила хозяйка.
-- Я не упал, -- ответил Санчо Панса, -- но от внезапного испуга, когда
я увидел, что мой господин падает, у меня так заболело тело, что мне
кажется, будто мне надавали тысячи палочных ударов.
-- Это бывает, -- сказала хозяйская дочь, -- мне не раз случалось
видеть во сне, что я падаю с высокой башни и никак не могу достигнуть земли;
а когда потом я просыпалась, то чувствовала себя такой помятой и разбитой,
точно я в самом деле упала.
-- Загвоздка-то в том,-- ответил Санчо Панса, -- что вовсе не во сне, а
даже более наяву, чем теперь, у меня оказалось немногим менее синяков на
теле, чем у господина моего Дон Кихота.
-- Как зовут этого кабальеро? -- спросила астурийка Мариторнес.
-- Дон Кихотом Ламанчским, -- ответил Санчо Панса. -- Он странствующий
рыцарь и один из самых лучших и самых храбрых, когда-либо бывших на свете.
-- Что такое странствующий рыцарь? -- спросила служанка.
-- Вы еще так мало прожили на свете, что этого не знаете? -- сказал
Санчо Панса. -- Так слушайте же, сестра моя: странствующий рыцарь -- тот,
кто в мгновение ока видит себя и избитым, и императором. Сегодня он самое
несчастное и нуждающееся создание в мире, а завтра у него две или три
королевские короны для подарка своему оруженосцу.
-- Как же это вы, -- спросила хозяйка, -- состоя на службе у такого
превосходного сеньора, по-видимому, не владеете даже и графством?
-- Не время еще, -- ответил Санчо,-- всего лишь месяц, что мы
отправились в поиски за приключениями, и нам не встретилось ни одного,
которое заслуживало бы этого названия, а подчас бывает так, что ищешь одну
вещь, а находишь другую. Но, право, если господин мой Дон Кихот выздоровеет
от этих ран или от этого падения, а также и я не окажусь изувеченным от них,
я не променяю моих надежд на самый громкий титул в Испании.
Дон Кихот очень внимательно прислушивался ко всему этому разговору, и,
приподнявшись на постели, насколько мог, он взял хозяйку за руку и сказал:
-- Поверьте мне, прекрасная сеньора, вы можете почитать себя
счастливой, что приняли в этом вашем замке личность, подобную мне; и если я
не восхваляю себя, то лишь только потому, что принято говорить:
самовосхваление унижает; но мой оруженосец объяснит вам, кто я такой. Я же
скажу лишь одно, что сохраню навсегда в памяти оказанную мне вами услугу и
останусь вам за нее благодарен всю мою жизнь. И если бы высшим небесам не
было угодно, чтобы любовь меня так покорила и так подчинила своим законам и
прекрасным очам той неблагодарной, имя которой я шепчу про себя, очи
очаровательной вашей дочери сделались бы властелинами моей свободы.
Хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнес были смущены, слушая слова
странствующего рыцаря, и столько же поняли из них, как если б он говорил
по-гречески, хотя и догадались, что вся речь его клонилась лишь к
любезностям и благодарностям. Но так как они не привыкли к подобного рода
речам, то смотрели друг на друга и удивлялись, и он показался им совсем
другим человеком, чем те, каких они обыкновенно встречали. Поблагодарив его
на трактирном обиходном языке за его любезность, хозяйка с дочерью ушли,
астурийка же Мариторнес принялась лечить Санчо, который не меньше нуждался в
этом, чем его господин. Еще раньше погонщик мулов сговорился с Мариторнес
скоротать вместе с нею эту ночь, и она дала ему слово, как только улягутся
постояльцы и заснут хозяева, прийти к нему и подчиниться всем его желаниям.
А об этой доброй девушке передают, будто, когда она давала подобного рода
обещания, еще не было случая, чтобы она их не сдерживала, хотя бы дала их в
лесу и без свидетелей, потому что она очень гордилась своим дворянством
{Сервантес смеется здесь над слабостью, присущей астурийцам, -- хвастать
своим дворянством и знатностью рода. В качестве потомков чистокровных готов,
которые вновь отвоевали Испанию у мавров, астурийцы претендуют на особую
чистоту происхождения.} и не считала для себя унизительным служить на
постоялом дворе, так как, говорила она, лишь несчастия и плохие
обстоятельства довели ее до такого положения.
Жесткая, узкая, жалкая и предательская постель Дон Кихота стояла первая
среди звездного, как небо, чердака, а рядом с нею Санчо устроил себе
постель, состоявшую лишь из камышовой циновки и одеяла, скорей похожего на
реденький холст, чем на шерстяную ткань. За этими двумя постелями виднелась
постель погонщика мулов, устроенная, как уже было сказано, из вьючных седел
и попон его двух лучших мулов, а было их у него целых двенадцать, и все
такие откормленные, видные и красивые, так как он принадлежал к числу
богатых погонщиков из Аревало {Аревало -- город в Старой Кастилии, на
полдороге между Вальядолидом и Авила.}, судя по словам автора этой истории,
который о нем особо упоминает, потому что очень хорошо знал его и даже, как
некоторые утверждают, был ему несколько сродни {В те времена погонщики мулов
были большею частью мавры.}. Кроме того, Сид Амет бен-Енхели был крайне
добросовестным историком, что ясно видно из переданных нами обстоятельств,
которых, несмотря на их незначительность и ничтожность, он не пожелал обойти
молчанием; это могло бы служить примером серьезным историкам, передающим нам
о событиях так кратко и сжато, что они едва мажут ими по губам, оставляя --
вследствие небрежности, злобы или невежества -- все наиболее существенное на
дне чернильницы. Да здравствует тысячу раз автор "Табланта де Рикамонте" и
автор той другой книги, в которой рассказывается о подвигах графа Томильяса:
как точно и подробно они все там описывают!
Итак, я говорю, что погонщик, осмотрев своих мулов и задав им вторичную
порцию корма, растянулся на вьючных седлах и стал поджидать свою всегда
исполнительную Мариторнес. Санчо был уже весь обложен пластырями и лежал в
постели; хотя он и старался заснуть, но этому препятствовала боль в ребрах;
Дон Кихот также с болью в ребрах лежал с открытыми, как у зайца, глазами.
Весь постоялый двор был погружен в безмолвие, и нигде не было видно света,
за исключением лишь того, который исходил от лампы, висевшей посреди
галереи. Эта удивительная тишина и привычка рыцаря неотступно вспоминать о
событиях, рассказываемых на каждом шагу в книгах -- виновниках его
несчастий, -- зародили в его голове одну из самых странных нелепостей, какие
только можно выдумать, именно: он вообразил, что приехал в знаменитый замок
(потому что, как уже было сказано, все постоялые дворы, где он
останавливался, казались ему замками) и что дочь хозяина постоялого двора --
дочь владельца замка, которая, побежденная его изяществом, влюбилась в него
и обещала тайком от родителей прийти к нему этою ночью полежать с ним в
постели. Считая всю эту им самим созданную химеру за действительность и
истину, он стал тревожиться и думать об опасности, грозившей его
добродетели, и в душе своей твердо решил не изменять сеньоре Дульсинее
Тобосской, хотя бы перед ним предстала сама королева Хинебра с дуэньей своей
Кинтаньоною.
Пока он был углублен в эти нелепые мечтания, настало время и пробил час
(злополучный для него) прихода Мариторнес. Босиком, в одной рубашке, с
волосами, подобранными в сетку из бумазеи, она осторожными, тихими шагами
вошла в комнату, где помещались все трое, пробираясь к погонщику. Но едва
она переступила порог, как Дон Кихот услышал ее шаги и, поднявшись на
постели, несмотря на свои пластыри и боль в боках, открыл объятья, чтобы
принять в них красавицу астурийку, которая, крадучись и молча, протягивая
вперед руки, искала ощупью своего возлюбленного. Она встретила объятья Дон
Кихота; он крепко схватил ее за кисть руки и, привлекая к себе ее, не
смевшую выговорить ни слова, посадил на постель. Тотчас же дотронулся он до
ее рубашки, и, хотя она была сделана из самого грубого мешочного холста,
дерюга эта показалась ему тончайшим, мягким сендалем {Cendal (исп.) -- очень
тонкая материя, нечто вроде шелковой тафты.}. Кисти рук Мариторнес были
украшены несколькими нитками стеклянных бус, но ему эти бусы казались
драгоценнейшим жемчугом Востока. Ее волосы, смахивающие в некотором роде на
конскую гриву, он принял за нити сверкающего арабского золота, блеск
которого затмевал даже блеск самого солнца. А дыхание ее, несомненно
отдававшее перепрелым мясом и салатом, съеденным ею накануне, казалось ему
нежным и благоухающим ароматом, источаемым ее устами. Словом, он разрисовал
ее в своем воображении в том самом виде и по тому образцу, как он читал в
своих книгах о другой принцессе, которая, побежденная любовью, явилась во
всех вышеупомянутых украшениях навестить тяжелораненого рыцаря, покорившего
ее сердце. И так велико было ослепление бедного идальго, что ни
прикосновение, ни дыхание, ни другие вещи, имевшиеся у доброй девушки и
которые могли бы нагнать тошноту на всякого, кто не был погонщиком мулов, не
в состоянии были вывести его из заблуждения. Напротив того, ему казалось,
что он держит в своих объятиях богиню красоты, и, прижав ее крепко к себе,
он заговорил тихим и нежным голосом:
-- Желал бы я быть в состоянии, прекрасная и знатная сеньора,
отплатить, как должно, вам за высокую милость, которую вы мне оказали
зрелищем величайшей вашей красоты. Но судьба, без устали преследующая
добрых, бросила меня на эту постель, где я лежу до того измятый и разбитый,
что при всем моем желании мне было бы невозможно согласовать мою волю с
вашей, и тем более, что к этой невозможности присоединяется еще другая,
более значительная: верность, обещанная мною несравненной Дульсинее
Тобосской, единственной повелительнице самых сокровенных моих помыслов. Если
б не все эти препятствия, я не был бы столь тупоумным рыцарем, чтобы не
воспользоваться счастливым случаем, предложенным мне безграничной вашей
добротой.
Мариторнес была в страшной тревоге, и ее ударило в пот, когда она
увидела, что Дон Кихот так крепко держит ее; не понимая и не обращая
внимания на то, что он ей говорил, она молча старалась вырваться из его рук.
Что же касается почтенного погонщика мулов, которому тоже не давали заснуть
его греховные помыслы, он тотчас же заметил свою любезную, лишь только она
переступила порог, и стал внимательно прислушиваться ко всему, что говорил
Дон Кихот; загоревшись ревностью оттого, что астурийка нарушила в угоду
другому данное ему обещание, он пододвинулся ближе к постели Дон Кихота и,
притаившись, ждал, чем кончатся эти речи, из которых он ничего не понял. Но
когда он увидел, что девушка старается вырваться, а Дон Кихот насильно
удерживает ее, -- эта шутка ему не понравилась, и, широко размахнувшись, он
так сильно ударил кулаком по узким челюстям влюбленного рыцаря, что у того
мигом весь рот наполнился кровью. Однако, не довольствуясь этим, погонщик
вскочил на грудь Дон Кихота и, пройдясь по ней быстрой рысью, помял ему все
ребра. Постель, и без того слабо державшаяся на шатких подпорках, не могла
выдержать еще тяжесть погонщика и грохнула на пол. От сильного треска
проснулся хозяин и тотчас же подумал, что, должно быть, это штуки
Мариторнес, так как она не откликнулась на его громкий зов. С этим
подозрением он встал, зажег лампу и пошел по тому направлению, откуда
услышал шум. Видя, что хозяин идет и что он в страшном гневе, служанка от
страха и смущения залезла в постель еще спавшего Санчо Пансы и там
свернулась в клубок. Войдя в комнату, хозяин крикнул:
-- Где ты, непотребная женщина? Наверное, это все твои шашни?
Тут как раз проснулся Санчо и, чувствуя тяжесть, лежавшую у него чуть
ли не на груди, подумал, что с ним кошмар, и стал махать во все стороны
кулаками; многие из его ударов попали в Мариторнес, которая от боли, позабыв
всякий стыд, принялась давать ему такую хорошую сдачу, что, против его
желания, спугнула с него всякий сон. Чувствуя, что его бьют, и не зная, кто
это делает, он, как мог, поднялся, схватил Мариторнес, и между ними началась
самая рьяная и забавная в мире схватка. Когда же погонщик при свете
зажженной лампы, которую хозяин держал в руках, увидел, как плохо приходится
его даме, он, оставив Дон Кихота, поспешил оказать ей помощь. И хозяин тоже
бросился к ней, но уже с другим намерением: хорошенько проучить ее, потому
что он не сомневался, что она одна причина всей этой кутерьмы. И как
говорится в присло-вице: кошка к крысе, крыса к веревке, веревка к палке, --
так и погонщик колотил Санчо, Санчо -- служанку, служанка -- его, хозяин --
служанку, и все они действовали так быстро и рьяно, что не давали себе ни
минуты отдыха. В довершение всего лампа в руках хозяина погасла, и,
очутившись в темноте, они так беспощадно обрабатывали друг друга, что куда
попадал удар кулака, там не оставалось живого места. Случайно на постоялом
дворе ночевал куадрильеро {Член эрмандады, т. е. братства.} из состава
членов так называемой Старой толедской эрмандады {Называлась она Старой
эрмандадой, потому что была учреждена в XIII в., а также и в отличие от
Новой эрмандады, учрежденной в правление Фердинанда и Изабеллы.}. Он тоже
услышал необычайный шум сражения, схватил свой жезл и жестяной ларчик с
удостоверением своей должности, и в темноте войдя в комнату, крикнул:
-- Остановитесь во имя правосудия, остановитесь во имя Святой
эрмандады.
Хозяин двора, увидав Дон Кихота, лежащим поперек седла, спросил Санчо:
чем этот человек болен? Санчо ответил, что он не болен, а только упал со
скалы и немного ушиб себе ребра. У хозяина была жена, непохожая на других
женщин своей профессии, потому что она от природы была сострадательна и
принимала к сердцу беды ближнего. Итак, она тотчас же поспешила на помощь к
Дон Кихоту и велела и дочери своей, молоденькой и хорошенькой девушке,
помогать ей ухаживать за приезжим. На том же постоялом дворе служила также
девушка-астурийка, с широким лицом, плоским затылком, коротким носом, на
один глаз кривая, и другой был у нее не совсем здоров. Правда, изящество
фигуры и роста вознаграждали за все эти недостатки, а именно: в ней, считая
с головы до пят, не было целых семи четвертей, и ее плечи, несколько ее
обременявшие, вынуждали ее смотреть вниз, на землю, больше, чем она того
желала бы. Итак, эта миловидная девушка явилась на подмогу хозяйской дочери,
и вдвоем они устроили Дон Кихоту очень скверную постель на чердаке, по явным
признакам служившем в былое время долгие годы помещением для хранения
соломы. Тут же ночевал и погонщик мулов, постель которого находилась не
очень далеко от постели Дон Кихота. И хотя она и была устроена из седел и
попон мулов, но имела большие преимущества перед постелью Дон Кихота,
состоявшей из четырех шероховатых досок, лежавших на двух не очень-то ровных
чурбанах; из тюфяка, такого тонкого, что он имел вид стеганого одеяла,
наполненного комками, которые -- если б через несколько имевшихся в тюфяке
дыр не видно было, что они из шерсти, -- по твердости можно было бы на ощупь
принять за кремни; из двух кожаных простынь и шерстяного одеяла, в котором
-- если б захотеть -- можно было бы сосчитать все нитки до единой. В эту-то
проклятую постель лег Дон Кихот, и тотчас же хозяйка с дочерью обложили его
пластырями с головы до ног, причем им светила Мариторнес, -- так звали
служанку-астурийку. А когда хозяйка, обкладывая рыцаря пластырями, увидела
на теле у него во многих местах синяки, она сказала, что это скорее похоже
на следы от ударов, чем на следы от падения.
-- Нет, это не удары, -- сказал Санчо, -- а у скалы было много углов и
выступов, и каждый из них оставил свой синяк. -- Затем он добавил: -- Прошу
вас, милость ваша, сеньора, сберегите немного этой пакли, так как найдется
еще кое-кто, кому она понадобится, потому что и у меня болит немного
поясница.
-- Значит, и вы упали со скалы? -- спросила хозяйка.
-- Я не упал, -- ответил Санчо Панса, -- но от внезапного испуга, когда
я увидел, что мой господин падает, у меня так заболело тело, что мне
кажется, будто мне надавали тысячи палочных ударов.
-- Это бывает, -- сказала хозяйская дочь, -- мне не раз случалось
видеть во сне, что я падаю с высокой башни и никак не могу достигнуть земли;
а когда потом я просыпалась, то чувствовала себя такой помятой и разбитой,
точно я в самом деле упала.
-- Загвоздка-то в том,-- ответил Санчо Панса, -- что вовсе не во сне, а
даже более наяву, чем теперь, у меня оказалось немногим менее синяков на
теле, чем у господина моего Дон Кихота.
-- Как зовут этого кабальеро? -- спросила астурийка Мариторнес.
-- Дон Кихотом Ламанчским, -- ответил Санчо Панса. -- Он странствующий
рыцарь и один из самых лучших и самых храбрых, когда-либо бывших на свете.
-- Что такое странствующий рыцарь? -- спросила служанка.
-- Вы еще так мало прожили на свете, что этого не знаете? -- сказал
Санчо Панса. -- Так слушайте же, сестра моя: странствующий рыцарь -- тот,
кто в мгновение ока видит себя и избитым, и императором. Сегодня он самое
несчастное и нуждающееся создание в мире, а завтра у него две или три
королевские короны для подарка своему оруженосцу.
-- Как же это вы, -- спросила хозяйка, -- состоя на службе у такого
превосходного сеньора, по-видимому, не владеете даже и графством?
-- Не время еще, -- ответил Санчо,-- всего лишь месяц, что мы
отправились в поиски за приключениями, и нам не встретилось ни одного,
которое заслуживало бы этого названия, а подчас бывает так, что ищешь одну
вещь, а находишь другую. Но, право, если господин мой Дон Кихот выздоровеет
от этих ран или от этого падения, а также и я не окажусь изувеченным от них,
я не променяю моих надежд на самый громкий титул в Испании.
Дон Кихот очень внимательно прислушивался ко всему этому разговору, и,
приподнявшись на постели, насколько мог, он взял хозяйку за руку и сказал:
-- Поверьте мне, прекрасная сеньора, вы можете почитать себя
счастливой, что приняли в этом вашем замке личность, подобную мне; и если я
не восхваляю себя, то лишь только потому, что принято говорить:
самовосхваление унижает; но мой оруженосец объяснит вам, кто я такой. Я же
скажу лишь одно, что сохраню навсегда в памяти оказанную мне вами услугу и
останусь вам за нее благодарен всю мою жизнь. И если бы высшим небесам не
было угодно, чтобы любовь меня так покорила и так подчинила своим законам и
прекрасным очам той неблагодарной, имя которой я шепчу про себя, очи
очаровательной вашей дочери сделались бы властелинами моей свободы.
Хозяйка, дочь ее и добрая Мариторнес были смущены, слушая слова
странствующего рыцаря, и столько же поняли из них, как если б он говорил
по-гречески, хотя и догадались, что вся речь его клонилась лишь к
любезностям и благодарностям. Но так как они не привыкли к подобного рода
речам, то смотрели друг на друга и удивлялись, и он показался им совсем
другим человеком, чем те, каких они обыкновенно встречали. Поблагодарив его
на трактирном обиходном языке за его любезность, хозяйка с дочерью ушли,
астурийка же Мариторнес принялась лечить Санчо, который не меньше нуждался в
этом, чем его господин. Еще раньше погонщик мулов сговорился с Мариторнес
скоротать вместе с нею эту ночь, и она дала ему слово, как только улягутся
постояльцы и заснут хозяева, прийти к нему и подчиниться всем его желаниям.
А об этой доброй девушке передают, будто, когда она давала подобного рода
обещания, еще не было случая, чтобы она их не сдерживала, хотя бы дала их в
лесу и без свидетелей, потому что она очень гордилась своим дворянством
{Сервантес смеется здесь над слабостью, присущей астурийцам, -- хвастать
своим дворянством и знатностью рода. В качестве потомков чистокровных готов,
которые вновь отвоевали Испанию у мавров, астурийцы претендуют на особую
чистоту происхождения.} и не считала для себя унизительным служить на
постоялом дворе, так как, говорила она, лишь несчастия и плохие
обстоятельства довели ее до такого положения.
Жесткая, узкая, жалкая и предательская постель Дон Кихота стояла первая
среди звездного, как небо, чердака, а рядом с нею Санчо устроил себе
постель, состоявшую лишь из камышовой циновки и одеяла, скорей похожего на
реденький холст, чем на шерстяную ткань. За этими двумя постелями виднелась
постель погонщика мулов, устроенная, как уже было сказано, из вьючных седел
и попон его двух лучших мулов, а было их у него целых двенадцать, и все
такие откормленные, видные и красивые, так как он принадлежал к числу
богатых погонщиков из Аревало {Аревало -- город в Старой Кастилии, на
полдороге между Вальядолидом и Авила.}, судя по словам автора этой истории,
который о нем особо упоминает, потому что очень хорошо знал его и даже, как
некоторые утверждают, был ему несколько сродни {В те времена погонщики мулов
были большею частью мавры.}. Кроме того, Сид Амет бен-Енхели был крайне
добросовестным историком, что ясно видно из переданных нами обстоятельств,
которых, несмотря на их незначительность и ничтожность, он не пожелал обойти
молчанием; это могло бы служить примером серьезным историкам, передающим нам
о событиях так кратко и сжато, что они едва мажут ими по губам, оставляя --
вследствие небрежности, злобы или невежества -- все наиболее существенное на
дне чернильницы. Да здравствует тысячу раз автор "Табланта де Рикамонте" и
автор той другой книги, в которой рассказывается о подвигах графа Томильяса:
как точно и подробно они все там описывают!
Итак, я говорю, что погонщик, осмотрев своих мулов и задав им вторичную
порцию корма, растянулся на вьючных седлах и стал поджидать свою всегда
исполнительную Мариторнес. Санчо был уже весь обложен пластырями и лежал в
постели; хотя он и старался заснуть, но этому препятствовала боль в ребрах;
Дон Кихот также с болью в ребрах лежал с открытыми, как у зайца, глазами.
Весь постоялый двор был погружен в безмолвие, и нигде не было видно света,
за исключением лишь того, который исходил от лампы, висевшей посреди
галереи. Эта удивительная тишина и привычка рыцаря неотступно вспоминать о
событиях, рассказываемых на каждом шагу в книгах -- виновниках его
несчастий, -- зародили в его голове одну из самых странных нелепостей, какие
только можно выдумать, именно: он вообразил, что приехал в знаменитый замок
(потому что, как уже было сказано, все постоялые дворы, где он
останавливался, казались ему замками) и что дочь хозяина постоялого двора --
дочь владельца замка, которая, побежденная его изяществом, влюбилась в него
и обещала тайком от родителей прийти к нему этою ночью полежать с ним в
постели. Считая всю эту им самим созданную химеру за действительность и
истину, он стал тревожиться и думать об опасности, грозившей его
добродетели, и в душе своей твердо решил не изменять сеньоре Дульсинее
Тобосской, хотя бы перед ним предстала сама королева Хинебра с дуэньей своей
Кинтаньоною.
Пока он был углублен в эти нелепые мечтания, настало время и пробил час
(злополучный для него) прихода Мариторнес. Босиком, в одной рубашке, с
волосами, подобранными в сетку из бумазеи, она осторожными, тихими шагами
вошла в комнату, где помещались все трое, пробираясь к погонщику. Но едва
она переступила порог, как Дон Кихот услышал ее шаги и, поднявшись на
постели, несмотря на свои пластыри и боль в боках, открыл объятья, чтобы
принять в них красавицу астурийку, которая, крадучись и молча, протягивая
вперед руки, искала ощупью своего возлюбленного. Она встретила объятья Дон
Кихота; он крепко схватил ее за кисть руки и, привлекая к себе ее, не
смевшую выговорить ни слова, посадил на постель. Тотчас же дотронулся он до
ее рубашки, и, хотя она была сделана из самого грубого мешочного холста,
дерюга эта показалась ему тончайшим, мягким сендалем {Cendal (исп.) -- очень
тонкая материя, нечто вроде шелковой тафты.}. Кисти рук Мариторнес были
украшены несколькими нитками стеклянных бус, но ему эти бусы казались
драгоценнейшим жемчугом Востока. Ее волосы, смахивающие в некотором роде на
конскую гриву, он принял за нити сверкающего арабского золота, блеск
которого затмевал даже блеск самого солнца. А дыхание ее, несомненно
отдававшее перепрелым мясом и салатом, съеденным ею накануне, казалось ему
нежным и благоухающим ароматом, источаемым ее устами. Словом, он разрисовал
ее в своем воображении в том самом виде и по тому образцу, как он читал в
своих книгах о другой принцессе, которая, побежденная любовью, явилась во
всех вышеупомянутых украшениях навестить тяжелораненого рыцаря, покорившего
ее сердце. И так велико было ослепление бедного идальго, что ни
прикосновение, ни дыхание, ни другие вещи, имевшиеся у доброй девушки и
которые могли бы нагнать тошноту на всякого, кто не был погонщиком мулов, не
в состоянии были вывести его из заблуждения. Напротив того, ему казалось,
что он держит в своих объятиях богиню красоты, и, прижав ее крепко к себе,
он заговорил тихим и нежным голосом:
-- Желал бы я быть в состоянии, прекрасная и знатная сеньора,
отплатить, как должно, вам за высокую милость, которую вы мне оказали
зрелищем величайшей вашей красоты. Но судьба, без устали преследующая
добрых, бросила меня на эту постель, где я лежу до того измятый и разбитый,
что при всем моем желании мне было бы невозможно согласовать мою волю с
вашей, и тем более, что к этой невозможности присоединяется еще другая,
более значительная: верность, обещанная мною несравненной Дульсинее
Тобосской, единственной повелительнице самых сокровенных моих помыслов. Если
б не все эти препятствия, я не был бы столь тупоумным рыцарем, чтобы не
воспользоваться счастливым случаем, предложенным мне безграничной вашей
добротой.
Мариторнес была в страшной тревоге, и ее ударило в пот, когда она
увидела, что Дон Кихот так крепко держит ее; не понимая и не обращая
внимания на то, что он ей говорил, она молча старалась вырваться из его рук.
Что же касается почтенного погонщика мулов, которому тоже не давали заснуть
его греховные помыслы, он тотчас же заметил свою любезную, лишь только она
переступила порог, и стал внимательно прислушиваться ко всему, что говорил
Дон Кихот; загоревшись ревностью оттого, что астурийка нарушила в угоду
другому данное ему обещание, он пододвинулся ближе к постели Дон Кихота и,
притаившись, ждал, чем кончатся эти речи, из которых он ничего не понял. Но
когда он увидел, что девушка старается вырваться, а Дон Кихот насильно
удерживает ее, -- эта шутка ему не понравилась, и, широко размахнувшись, он
так сильно ударил кулаком по узким челюстям влюбленного рыцаря, что у того
мигом весь рот наполнился кровью. Однако, не довольствуясь этим, погонщик
вскочил на грудь Дон Кихота и, пройдясь по ней быстрой рысью, помял ему все
ребра. Постель, и без того слабо державшаяся на шатких подпорках, не могла
выдержать еще тяжесть погонщика и грохнула на пол. От сильного треска
проснулся хозяин и тотчас же подумал, что, должно быть, это штуки
Мариторнес, так как она не откликнулась на его громкий зов. С этим
подозрением он встал, зажег лампу и пошел по тому направлению, откуда
услышал шум. Видя, что хозяин идет и что он в страшном гневе, служанка от
страха и смущения залезла в постель еще спавшего Санчо Пансы и там
свернулась в клубок. Войдя в комнату, хозяин крикнул:
-- Где ты, непотребная женщина? Наверное, это все твои шашни?
Тут как раз проснулся Санчо и, чувствуя тяжесть, лежавшую у него чуть
ли не на груди, подумал, что с ним кошмар, и стал махать во все стороны
кулаками; многие из его ударов попали в Мариторнес, которая от боли, позабыв
всякий стыд, принялась давать ему такую хорошую сдачу, что, против его
желания, спугнула с него всякий сон. Чувствуя, что его бьют, и не зная, кто
это делает, он, как мог, поднялся, схватил Мариторнес, и между ними началась
самая рьяная и забавная в мире схватка. Когда же погонщик при свете
зажженной лампы, которую хозяин держал в руках, увидел, как плохо приходится
его даме, он, оставив Дон Кихота, поспешил оказать ей помощь. И хозяин тоже
бросился к ней, но уже с другим намерением: хорошенько проучить ее, потому
что он не сомневался, что она одна причина всей этой кутерьмы. И как
говорится в присло-вице: кошка к крысе, крыса к веревке, веревка к палке, --
так и погонщик колотил Санчо, Санчо -- служанку, служанка -- его, хозяин --
служанку, и все они действовали так быстро и рьяно, что не давали себе ни
минуты отдыха. В довершение всего лампа в руках хозяина погасла, и,
очутившись в темноте, они так беспощадно обрабатывали друг друга, что куда
попадал удар кулака, там не оставалось живого места. Случайно на постоялом
дворе ночевал куадрильеро {Член эрмандады, т. е. братства.} из состава
членов так называемой Старой толедской эрмандады {Называлась она Старой
эрмандадой, потому что была учреждена в XIII в., а также и в отличие от
Новой эрмандады, учрежденной в правление Фердинанда и Изабеллы.}. Он тоже
услышал необычайный шум сражения, схватил свой жезл и жестяной ларчик с
удостоверением своей должности, и в темноте войдя в комнату, крикнул:
-- Остановитесь во имя правосудия, остановитесь во имя Святой
эрмандады.
 Первый, на которого он наткнулся, был избитый Дон Кихот, лежавший на
рухнувшей постели лицом кверху, в полном беспамятстве. Схватив его ощупью за
бороду, куадрильеро не переставал кричать:
-- На помощь правосудию!
Но заметив, что тот, кого он держит, не двигается и не шевелится, он
подумал, что он мертвый и что остальные, бывшие в комнате, его убийцы.
Побуждаемый этим подозрением, он закричал еще громче:
-- Заприте ворота постоялого двора и не выпускайте никого! Здесь убили
человека.
Этот крик всполошил всех: услыхав его, каждый участник сражения
поспешил покинуть поле битвы. Хозяин удалился к себе в комнату, погонщик
мулов -- к своим попонам, служанка -- в свою каморку, и только несчастный
Дон Кихот и Санчо не могли двинуться с места. Между тем куадрильеро,
выпустив из рук бороду {Из этого видно, что Дон Кихот, как и Санчо, носили
бороду; обычай, бывший в те времена в общем употреблении в Испании, а между
тем большинство художников, иллюстрировавших великое произведение
Сервантеса, изображали рыцаря и его оруженосца без бороды.} Дон Кихота,
пошел за огнем, чтобы разыскать и арестовать виновников приключения. Но он
не нашел огня, так как хозяин, удалившись в свою комнату, нарочно потушил
ночник, и потому куадрильеро был вынужден отправиться к очагу, где, потратив
много времени и труда, ему наконец удалось засветить лампу.
Первый, на которого он наткнулся, был избитый Дон Кихот, лежавший на
рухнувшей постели лицом кверху, в полном беспамятстве. Схватив его ощупью за
бороду, куадрильеро не переставал кричать:
-- На помощь правосудию!
Но заметив, что тот, кого он держит, не двигается и не шевелится, он
подумал, что он мертвый и что остальные, бывшие в комнате, его убийцы.
Побуждаемый этим подозрением, он закричал еще громче:
-- Заприте ворота постоялого двора и не выпускайте никого! Здесь убили
человека.
Этот крик всполошил всех: услыхав его, каждый участник сражения
поспешил покинуть поле битвы. Хозяин удалился к себе в комнату, погонщик
мулов -- к своим попонам, служанка -- в свою каморку, и только несчастный
Дон Кихот и Санчо не могли двинуться с места. Между тем куадрильеро,
выпустив из рук бороду {Из этого видно, что Дон Кихот, как и Санчо, носили
бороду; обычай, бывший в те времена в общем употреблении в Испании, а между
тем большинство художников, иллюстрировавших великое произведение
Сервантеса, изображали рыцаря и его оруженосца без бороды.} Дон Кихота,
пошел за огнем, чтобы разыскать и арестовать виновников приключения. Но он
не нашел огня, так как хозяин, удалившись в свою комнату, нарочно потушил
ночник, и потому куадрильеро был вынужден отправиться к очагу, где, потратив
много времени и труда, ему наконец удалось засветить лампу.

 Между тем к Дон Кихоту уже вернулось сознание, и тем же голосом, каким
он накануне, лежа на земле, в долине "кольев", обратился к своему
оруженосцу, он и теперь стал звать его, говоря:
-- Санчо, друг, -- ты спишь? Спишь ли ты, друг Санчо?
-- Заснешь тут, нечего сказать, -- ответил Санчо, исполненный бешенства
и досады. -- Этой ночью, по-видимому, все как есть дьяволы тешились надо
мной.
-- Верно, оно так и было, -- ответил Дон Кихот, -- потому что или я
ничего не понимаю, или этот замок очарован. Ты должен знать, но то, что я
сейчас намерен тебе сказать, поклянись хранить в тайне даже и после моей
смерти.
-- Клянусь в том, -- ответил Санчо.
-- Требую я это потому, -- пояснил Дон Кихот, -- что я враг
посягновения на чью-либо честь.
-- Еще раз клянусь вам, -- повторил Санчо, -- что буду молчать до конца
ваших дней, -- и дай бог, чтобы я мог хоть завтра уже все разболтать.
-- Неужели я сделал тебе столько зла, Санчо, -- спросил Дон Кихот,--
что ты хотел бы так скоро видеть меня мертвым?
-- Вовсе не поэтому, -- ответил Санчо, -- а потому, что я не охотник
долго хранить вещи и не желал бы, чтобы они у меня сгнили от чрезмерного
лежания.
-- Как бы то ни было, -- сказал Дон Кихот, -- но я вполне доверяю твоей
любви и благородству. Итак, знай же, что сегодня ночью со мной случилось
удивительнейшее приключение, которым я мог бы даже гордиться. Коротко
говоря, ко мне приходила сюда недавно дочь владельца замка, самая нарядная и
очаровательная красавица во всем мире. Что сказать тебе об изяществе ее
внешности, о живости ее ума и о других скрытых ее прелестях, которых --
чтобы не нарушать обета, данного мною повелительнице моей Дульсинее
Тобосской, -- я не коснусь и обойду их молчанием. Скажу лишь одно: или небо
позавидовало великому счастью, посланному мне судьбой, или, быть может (и
это всего вернее), замок этот -- как я уже говорил -- очарован, но в то
время, когда я с красавицей вел самые нежные и влюбленные разговоры, вдруг,
нежданно и неведомо откуда, рука, принадлежавшая огромному великану, нанесла
мне такой удар по челюстям, что они у меня и до сих пор еще в крови; а потом
этот великан так мне помял бока, что я теперь чувствую себя даже хуже, чем
вчера, когда погонщики кобыл из-за невоздержанности Росинанта нанесли нам то
оскорбление, о котором тебе известно. Из этого я заключаю, что сокровище
красоты дочери владельца замка охраняется, по-видимому, каким-нибудь
очарованным мавром и, должно быть, создано не для меня.
-- А также и не для меня, -- ответил Санчо, -- потому что более
четырехсот мавров до того меня избили, что по сравнению с их ударами
вчерашние удары дубинами могли бы мне показаться сладкими пирожками и
пряниками. Но скажите, сеньор, как можете вы называть приятным и
удивительным то приключение, от которого нам обоим пришлось так плохо? Еще
вашей милости легче, вы хоть держали в своих объятиях несравненную
красавицу, о которой вы говорили мне. Но я, -- что же я-то получил, кроме
самих ужасных побоев, каким, надеюсь, я не подвергнусь больше во всю свою
жизнь? Несчастный я, и несчастная мать, родившая меня: ведь, я же не
странствующий рыцарь и не думаю им никогда быть, а из всех невзгод наших
большая часть выпадает всегда на мою долю.
-- Как? Неужели и тебя побили? -- спросил Дон Кихот.
-- Ведь говорил же я вам что и меня побили, будь проклят весь мой род!
-- сказал Санчо.
-- Не печалься, друг мой, -- утешил его Дон Кихот. -- Я сейчас же
приготовлю драгоценный бальзам, который нас обоих исцелит в мгновение ока.
Между тем куадрильеро зажег наконец лампу и пошел посмотреть на того,
которого он считал убитым. Лишь только Санчо увидел его входящим в одной
рубашке, с головой, повязанной на ночь платком, с лампой в руках и с очень
сердитой физиономией, -- он спросил своего господина:
-- Быть может, сеньор, это-то и есть очарованный мавр и он вернулся,
чтобы снова приняться за нас и довести до конца не совсем еще оконченное им
дело?
-- Нет, это не может быть мавр,-- ответил Дон Кихот, -- так как
очарованных нельзя видеть.
-- Если их нельзя видеть, то можно их чувствовать, -- сказал Санчо, --
об этом кое-что известно моей спине.
-- Также и моей известно об этом,-- ответил Дон Кихот. -- Но все-таки
это недостаточная причина думать, что вошедший сюда -- очарованный мавр.
Куадрильеро подошел поближе к ним и очень удивился, застав их столь
мирно разговаривающими друг с другом. Правда, Дон Кихот все еще лежал на
спине, не будучи в состоянии шевельнуться, до того он был весь избит и
обложен пластырями. Блюститель правосудия подошел к нему и спросил:
-- Ну, как ты себя чувствуешь, добрый человек?
-- Я бы на вашем месте говорил повежливее, -- ответил Дон Кихот. --
Разве здесь, в этой местности, принято говорить так со странствующими
рыцарями, грубиян вы этакий?
Куадрильеро, встретив столь дерзкое с собой обхождение со стороны
такого невзрачного с виду человека, не мог стерпеть этого; он размахнулся
лампой, наполненной маслом, и ударил ею по голове Дон Кихота так сильно, что
чуть не раскроил ему черепа; все снова погрузилось в темноту, и куадрильеро
тотчас же вышел. А Санчо Панса сказал:
-- Без сомнения, сеньор, это и был очарованный мавр; должно быть, он
для других хранит сокровище, а для нас одни лишь побои и удары лампой.
-- Так оно и есть, -- ответил Дон Кихот. -- Но не надо ни обращать
внимания на подобного рода волшебства, ни сердиться, ни досадовать на них,
потому что раз наши враги незримы и фантастичны, как бы мы ни старались, все
равно мы не найдем, кому отомстить. Встань, Санчо, если можешь, позови
начальника этой крепости и попроси его дать тебе немного масла, вина, соли и
розмарина, чтобы я мог приготовить целительный бальзам, который, говоря по
правде, теперь мне крайне нужен, так как из раны, нанесенной мне тем
привидением, сильно идет кровь.
Санчо встал, чувствуя страшную боль в костях, и в темноте пошел
отыскивать комнату хозяина, но, наткнувшись на блюстителя правосудия,
который подслушивал у дверей, как обстоят дела его врага, он ему сказал:
-- Сеньор, кто бы вы ни были, окажите такую милость и благодеяние и
велите дать нам немного розмарина, масла, соли и вина. Все это необходимо
для лечения одного из лучших странствующих рыцарей в мире, который лежит в
той вот комнате, в постели, сильно раненный очарованным мавром, появившимся
на этом постоялом дворе.
Когда куадрильеро услышал такую речь, он счел Санчо за помешанного, а
так как уже начинало светать, он открыл двери постоялого двора и, позвав
хозяина, передал ему просьбу бедняги. Хозяин снабдил его всем, чего он
желал, и Санчо отнес это Дон Кихоту, который лежал, держась руками за голову
и жалуясь на боль, причиненную ему ударом лампы, хотя от этого удара не
произошло большого вреда, а только у него выскочили две довольно-таки
изрядные шишки; то же, что он принял за кровь, оказалось потом, выступившим
у него от волнений перенесенной бури. Он взял у Санчо лекарственные
снадобья, сделал из них смесь и кипятил ее довольно долго, пока ему не
показалось, что все готово. Тогда он попросил склянку, чтобы вылить туда
бальзам; но на постоялом дворе не нашлось склянки, и он решил заменить ее
жестянкой из-под масла, которую хозяин великодушно подарил ему. Не теряя
времени, Дон Кихот прочитал над этой жестянкой более восьмидесяти "Pater
noster", столько же "Ave Maria", "Salve" и "Credo", сопровождая каждое
произнесенное им слово крестным знамением, вроде как бы благословения. При
всей этой церемонии присутствовали Санчо, хозяин двора и куадрильеро;
погонщик же мулов потихоньку ушел, чтобы задать корм своим мулам.
Когда Дон Кихот все кончил, он пожелал тотчас же на себе испытать
действие столь драгоценного, по его мнению, бальзама. Поэтому он выпил около
полукварты снадобья, не поместившегося в жестянке и оставшегося в котелке, в
котором варилось лекарство. Но едва проглотил он эту порцию бальзама, как
его стало так сильно рвать, что ему очистило весь желудок, а томление и муки
рвоты вызвали у него сильнейший пот. Тогда он попросил, чтобы его потеплее
покрыли и оставили одного. Окружающие так и сделали, и наш рыцарь проспал
более трех часов. Затем, проснувшись, он почувствовал, что силы его окрепли
и боль утихла, так что он счел себя здоровым и был глубоко убежден, что
действительно изготовил настоящий бальзам Фиерабраса и что, обладая этим
средством, он может отныне и впредь бесстрашно пускаться в какие угодно
сражения, стычки и поединки, как бы они ни были опасны. Санчо Панса,
которому исцеление его господина тоже показалось настоящим чудом, попросил
Дон Кихота, чтобы тот позволил и ему выпить весь остаток, еще бывший в
котелке, -- а там было его немало. Дон Кихот дал свое согласие, и Санчо
обеими руками схватил котелок и с величайшей верой и еще большим усердием
опрокинул себе лекарство в горло, выпив немногим менее, чем его господин.
Но, по-видимому, желудок бедного Санчо не был так нежен, как желудок Дон
Кихота, и потому, прежде чем его вырвало, он почувствовал такое смертное
томление и ужасную тошноту, с него лил такой холодный пот, с ним делались
такие обмороки, что он вполне и искренно был уверен, что настал его
последний час и среди боли и мук своих проклинал бальзам и разбойника,
угостившего его им. Увидев его в таком состоянии, Дон Кихот сказал:
-- Я думаю, Санчо, что все твои страдания происходят оттого, что ты не
посвящен в рыцари, так как, на мой взгляд, бальзам не может идти в пользу
тем, кто не рыцарь.
-- Если вы, милость ваша, это знали, -- ответил Санчо, -- будь проклят
я и вся моя родня, -- как могли вы допустить, чтобы я отведал его?
В эту минуту бальзам как раз возымел свое действие и бедный оруженосец
начал так бурно разгружаться через оба канала своего тела, что камышовая
циновка, на которую он опять бросился, и холщовое одеяло, которым он
накрылся, оказались уже негодными к употреблению. Вместе с тем у него
выступил пот и лил с него ручьем, сопровождаемый такими судорогами и
припадками, что не только он сам, но и все окружавшие его думали, что
наступает его кончина. Эти бурные и тревожные припадки продолжались у него
около двух часов, а когда они прошли, он не только не почувствовал
облегчения, как его господин, но до того ослабел и был так разбит, что не
мог держаться на ногах.
А Дон Кихот, чувствовавший себя, как уже было сказано, здоровым и
бодрым, захотел немедленно отправиться в поиски за приключениями, так как
ему казалось, что каждую минуту, которую он здесь промедлит, он отнимает у
всего света и у нуждающихся в его защите и покровительстве, а твердая
надежда и доверие, питаемые им к своему бальзаму, еще больше подкрепляли его
в этом. Итак, побуждаемый этим желанием, он собственноручно оседлал
Росинанта и осла, помог своему оруженосцу одеться и взобраться на седло; а
затем и сам сел верхом и, подъехав к углу двора, взял стоявший там
остроконечный шест, намереваясь употребить его как копье. Все бывшие на
постоялом дворе -- было же их более двадцати человек -- смотрели на него с
изумлением; смотрела на него также и хозяйская дочь, а он не сводил с нее
глаз и время от времени испускал вздох, исходивший, казалось, из глубины его
души, и все думали, что, вероятно, он вздыхает вследствие сильной боли в
боках; по крайней мере, так думали те, которые накануне вечером видели, как
его всего облепляли пластырями.
Между тем к Дон Кихоту уже вернулось сознание, и тем же голосом, каким
он накануне, лежа на земле, в долине "кольев", обратился к своему
оруженосцу, он и теперь стал звать его, говоря:
-- Санчо, друг, -- ты спишь? Спишь ли ты, друг Санчо?
-- Заснешь тут, нечего сказать, -- ответил Санчо, исполненный бешенства
и досады. -- Этой ночью, по-видимому, все как есть дьяволы тешились надо
мной.
-- Верно, оно так и было, -- ответил Дон Кихот, -- потому что или я
ничего не понимаю, или этот замок очарован. Ты должен знать, но то, что я
сейчас намерен тебе сказать, поклянись хранить в тайне даже и после моей
смерти.
-- Клянусь в том, -- ответил Санчо.
-- Требую я это потому, -- пояснил Дон Кихот, -- что я враг
посягновения на чью-либо честь.
-- Еще раз клянусь вам, -- повторил Санчо, -- что буду молчать до конца
ваших дней, -- и дай бог, чтобы я мог хоть завтра уже все разболтать.
-- Неужели я сделал тебе столько зла, Санчо, -- спросил Дон Кихот,--
что ты хотел бы так скоро видеть меня мертвым?
-- Вовсе не поэтому, -- ответил Санчо, -- а потому, что я не охотник
долго хранить вещи и не желал бы, чтобы они у меня сгнили от чрезмерного
лежания.
-- Как бы то ни было, -- сказал Дон Кихот, -- но я вполне доверяю твоей
любви и благородству. Итак, знай же, что сегодня ночью со мной случилось
удивительнейшее приключение, которым я мог бы даже гордиться. Коротко
говоря, ко мне приходила сюда недавно дочь владельца замка, самая нарядная и
очаровательная красавица во всем мире. Что сказать тебе об изяществе ее
внешности, о живости ее ума и о других скрытых ее прелестях, которых --
чтобы не нарушать обета, данного мною повелительнице моей Дульсинее
Тобосской, -- я не коснусь и обойду их молчанием. Скажу лишь одно: или небо
позавидовало великому счастью, посланному мне судьбой, или, быть может (и
это всего вернее), замок этот -- как я уже говорил -- очарован, но в то
время, когда я с красавицей вел самые нежные и влюбленные разговоры, вдруг,
нежданно и неведомо откуда, рука, принадлежавшая огромному великану, нанесла
мне такой удар по челюстям, что они у меня и до сих пор еще в крови; а потом
этот великан так мне помял бока, что я теперь чувствую себя даже хуже, чем
вчера, когда погонщики кобыл из-за невоздержанности Росинанта нанесли нам то
оскорбление, о котором тебе известно. Из этого я заключаю, что сокровище
красоты дочери владельца замка охраняется, по-видимому, каким-нибудь
очарованным мавром и, должно быть, создано не для меня.
-- А также и не для меня, -- ответил Санчо, -- потому что более
четырехсот мавров до того меня избили, что по сравнению с их ударами
вчерашние удары дубинами могли бы мне показаться сладкими пирожками и
пряниками. Но скажите, сеньор, как можете вы называть приятным и
удивительным то приключение, от которого нам обоим пришлось так плохо? Еще
вашей милости легче, вы хоть держали в своих объятиях несравненную
красавицу, о которой вы говорили мне. Но я, -- что же я-то получил, кроме
самих ужасных побоев, каким, надеюсь, я не подвергнусь больше во всю свою
жизнь? Несчастный я, и несчастная мать, родившая меня: ведь, я же не
странствующий рыцарь и не думаю им никогда быть, а из всех невзгод наших
большая часть выпадает всегда на мою долю.
-- Как? Неужели и тебя побили? -- спросил Дон Кихот.
-- Ведь говорил же я вам что и меня побили, будь проклят весь мой род!
-- сказал Санчо.
-- Не печалься, друг мой, -- утешил его Дон Кихот. -- Я сейчас же
приготовлю драгоценный бальзам, который нас обоих исцелит в мгновение ока.
Между тем куадрильеро зажег наконец лампу и пошел посмотреть на того,
которого он считал убитым. Лишь только Санчо увидел его входящим в одной
рубашке, с головой, повязанной на ночь платком, с лампой в руках и с очень
сердитой физиономией, -- он спросил своего господина:
-- Быть может, сеньор, это-то и есть очарованный мавр и он вернулся,
чтобы снова приняться за нас и довести до конца не совсем еще оконченное им
дело?
-- Нет, это не может быть мавр,-- ответил Дон Кихот, -- так как
очарованных нельзя видеть.
-- Если их нельзя видеть, то можно их чувствовать, -- сказал Санчо, --
об этом кое-что известно моей спине.
-- Также и моей известно об этом,-- ответил Дон Кихот. -- Но все-таки
это недостаточная причина думать, что вошедший сюда -- очарованный мавр.
Куадрильеро подошел поближе к ним и очень удивился, застав их столь
мирно разговаривающими друг с другом. Правда, Дон Кихот все еще лежал на
спине, не будучи в состоянии шевельнуться, до того он был весь избит и
обложен пластырями. Блюститель правосудия подошел к нему и спросил:
-- Ну, как ты себя чувствуешь, добрый человек?
-- Я бы на вашем месте говорил повежливее, -- ответил Дон Кихот. --
Разве здесь, в этой местности, принято говорить так со странствующими
рыцарями, грубиян вы этакий?
Куадрильеро, встретив столь дерзкое с собой обхождение со стороны
такого невзрачного с виду человека, не мог стерпеть этого; он размахнулся
лампой, наполненной маслом, и ударил ею по голове Дон Кихота так сильно, что
чуть не раскроил ему черепа; все снова погрузилось в темноту, и куадрильеро
тотчас же вышел. А Санчо Панса сказал:
-- Без сомнения, сеньор, это и был очарованный мавр; должно быть, он
для других хранит сокровище, а для нас одни лишь побои и удары лампой.
-- Так оно и есть, -- ответил Дон Кихот. -- Но не надо ни обращать
внимания на подобного рода волшебства, ни сердиться, ни досадовать на них,
потому что раз наши враги незримы и фантастичны, как бы мы ни старались, все
равно мы не найдем, кому отомстить. Встань, Санчо, если можешь, позови
начальника этой крепости и попроси его дать тебе немного масла, вина, соли и
розмарина, чтобы я мог приготовить целительный бальзам, который, говоря по
правде, теперь мне крайне нужен, так как из раны, нанесенной мне тем
привидением, сильно идет кровь.
Санчо встал, чувствуя страшную боль в костях, и в темноте пошел
отыскивать комнату хозяина, но, наткнувшись на блюстителя правосудия,
который подслушивал у дверей, как обстоят дела его врага, он ему сказал:
-- Сеньор, кто бы вы ни были, окажите такую милость и благодеяние и
велите дать нам немного розмарина, масла, соли и вина. Все это необходимо
для лечения одного из лучших странствующих рыцарей в мире, который лежит в
той вот комнате, в постели, сильно раненный очарованным мавром, появившимся
на этом постоялом дворе.
Когда куадрильеро услышал такую речь, он счел Санчо за помешанного, а
так как уже начинало светать, он открыл двери постоялого двора и, позвав
хозяина, передал ему просьбу бедняги. Хозяин снабдил его всем, чего он
желал, и Санчо отнес это Дон Кихоту, который лежал, держась руками за голову
и жалуясь на боль, причиненную ему ударом лампы, хотя от этого удара не
произошло большого вреда, а только у него выскочили две довольно-таки
изрядные шишки; то же, что он принял за кровь, оказалось потом, выступившим
у него от волнений перенесенной бури. Он взял у Санчо лекарственные
снадобья, сделал из них смесь и кипятил ее довольно долго, пока ему не
показалось, что все готово. Тогда он попросил склянку, чтобы вылить туда
бальзам; но на постоялом дворе не нашлось склянки, и он решил заменить ее
жестянкой из-под масла, которую хозяин великодушно подарил ему. Не теряя
времени, Дон Кихот прочитал над этой жестянкой более восьмидесяти "Pater
noster", столько же "Ave Maria", "Salve" и "Credo", сопровождая каждое
произнесенное им слово крестным знамением, вроде как бы благословения. При
всей этой церемонии присутствовали Санчо, хозяин двора и куадрильеро;
погонщик же мулов потихоньку ушел, чтобы задать корм своим мулам.
Когда Дон Кихот все кончил, он пожелал тотчас же на себе испытать
действие столь драгоценного, по его мнению, бальзама. Поэтому он выпил около
полукварты снадобья, не поместившегося в жестянке и оставшегося в котелке, в
котором варилось лекарство. Но едва проглотил он эту порцию бальзама, как
его стало так сильно рвать, что ему очистило весь желудок, а томление и муки
рвоты вызвали у него сильнейший пот. Тогда он попросил, чтобы его потеплее
покрыли и оставили одного. Окружающие так и сделали, и наш рыцарь проспал
более трех часов. Затем, проснувшись, он почувствовал, что силы его окрепли
и боль утихла, так что он счел себя здоровым и был глубоко убежден, что
действительно изготовил настоящий бальзам Фиерабраса и что, обладая этим
средством, он может отныне и впредь бесстрашно пускаться в какие угодно
сражения, стычки и поединки, как бы они ни были опасны. Санчо Панса,
которому исцеление его господина тоже показалось настоящим чудом, попросил
Дон Кихота, чтобы тот позволил и ему выпить весь остаток, еще бывший в
котелке, -- а там было его немало. Дон Кихот дал свое согласие, и Санчо
обеими руками схватил котелок и с величайшей верой и еще большим усердием
опрокинул себе лекарство в горло, выпив немногим менее, чем его господин.
Но, по-видимому, желудок бедного Санчо не был так нежен, как желудок Дон
Кихота, и потому, прежде чем его вырвало, он почувствовал такое смертное
томление и ужасную тошноту, с него лил такой холодный пот, с ним делались
такие обмороки, что он вполне и искренно был уверен, что настал его
последний час и среди боли и мук своих проклинал бальзам и разбойника,
угостившего его им. Увидев его в таком состоянии, Дон Кихот сказал:
-- Я думаю, Санчо, что все твои страдания происходят оттого, что ты не
посвящен в рыцари, так как, на мой взгляд, бальзам не может идти в пользу
тем, кто не рыцарь.
-- Если вы, милость ваша, это знали, -- ответил Санчо, -- будь проклят
я и вся моя родня, -- как могли вы допустить, чтобы я отведал его?
В эту минуту бальзам как раз возымел свое действие и бедный оруженосец
начал так бурно разгружаться через оба канала своего тела, что камышовая
циновка, на которую он опять бросился, и холщовое одеяло, которым он
накрылся, оказались уже негодными к употреблению. Вместе с тем у него
выступил пот и лил с него ручьем, сопровождаемый такими судорогами и
припадками, что не только он сам, но и все окружавшие его думали, что
наступает его кончина. Эти бурные и тревожные припадки продолжались у него
около двух часов, а когда они прошли, он не только не почувствовал
облегчения, как его господин, но до того ослабел и был так разбит, что не
мог держаться на ногах.
А Дон Кихот, чувствовавший себя, как уже было сказано, здоровым и
бодрым, захотел немедленно отправиться в поиски за приключениями, так как
ему казалось, что каждую минуту, которую он здесь промедлит, он отнимает у
всего света и у нуждающихся в его защите и покровительстве, а твердая
надежда и доверие, питаемые им к своему бальзаму, еще больше подкрепляли его
в этом. Итак, побуждаемый этим желанием, он собственноручно оседлал
Росинанта и осла, помог своему оруженосцу одеться и взобраться на седло; а
затем и сам сел верхом и, подъехав к углу двора, взял стоявший там
остроконечный шест, намереваясь употребить его как копье. Все бывшие на
постоялом дворе -- было же их более двадцати человек -- смотрели на него с
изумлением; смотрела на него также и хозяйская дочь, а он не сводил с нее
глаз и время от времени испускал вздох, исходивший, казалось, из глубины его
души, и все думали, что, вероятно, он вздыхает вследствие сильной боли в
боках; по крайней мере, так думали те, которые накануне вечером видели, как
его всего облепляли пластырями.
 Лишь только оба -- господин и слуга -- уселись верхом, Дон Кихот,
доехав до ворот, позвал хозяина двора и спокойным, серьезным тоном сказал
ему:
-- Многочисленны и велики благодеяния, сеньор кастелян, оказанные мне в
этом вашем замке, и я всю мою жизнь буду вам за них признателен и
благодарен. Если я могу отплатить вам, отомстив какому-нибудь надменному
злодею за нанесенное вам оскорбление, -- знайте, что мое звание вменяет мне
в обязанность помогать слабым, мстить за угнетенных и карать за измену.
Переберите ваши воспоминания и, если найдется у вас что-либо в таком роде,
скажите мне, и я обещаю вам рыцарскою своею честью, что вы получите
полнейшее удовлетворение и будете отомщены как нельзя лучше.
Хозяин двора ответил ему столь же спокойно:
-- Сеньор рыцарь, я не нуждаюсь в том, чтобы милость ваша мстила
кому-нибудь за меня, потому что, когда я нахожу это нужным, я и сам умею
постоять за себя. Желал бы я лишь одного: чтобы милость ваша заплатила мне
по счету за свое пребывание на постоялом дворе, как за солому и ячмень для
ваших двух животных, так и за ваш ужин и ночлег.
-- Значит, это постоялый двор? -- спросил Дон Кихот.
-- И один из лучших, -- ответил хозяин.
-- Я ошибался до сих пор, -- объявил Дон Кихот, -- так как, говоря по
правде, предполагал, что это замок, и не из плохих. Но если это не замок, а
постоялый двор, вам придется вот что сделать: добровольно отказаться от
требования платы, потому что я не могу нарушить устава ордена странствующих
рыцарей, по которому, как я достоверно знаю (и до сих пор не читал ничего
противоречащего тому), рыцари никогда и нигде не платили ни за свой ночлег,
ни за что-либо другое на тех постоялых дворах, где они останавливались; ведь
им по праву и справедливости везде обязаны оказывать самый лучший прием в
благодарность за непомерный труд, который они выносят в своих поисках за
приключениями, скитаясь верхом и пешком ночью и днем, зимой и летом, в холод
и зной, страдая от голода и жажды, подвергаясь всем суровостям непогоды и
всяким земным бедствиям.
-- Это меня не касается, -- ответил хозяин двора, -- заплатите свой
долг и оставьте меня в покое с вашими россказнями и рыцарством: у меня лишь
одна забота -- получить свое.
-- Вы глупый и дурной трактирщик! -- ответил Дон Кихот и, пришпорив
Росинанта, махая копьем, уехал с постоялого двора никем не задержанный и, не
обернувшись посмотреть, следует ли за ним его оруженосец или нет, отъехал на
довольно далекое расстояние. Видя, что Дон Кихот уехал, ничего не заплатив,
хозяин двора подбежал к Санчо, чтобы получить от него по счету. Но тот
ответил, что раз его господин не пожелал платить, и он тоже не заплатит, так
как, состоя оруженосцем у странствующего рыцаря, он обязан придерживаться
того же постановления и правила, как и его господин, то есть не платить в
гостиницах и на постоялых дворах.
Услыхав этот ответ, хозяин страшно рассердился и пригрозил ему, если он
не заплатит, взыскать с него должное таким способом, который не весьма его
порадует. На это Санчо ответил, что, подчиняясь закону рыцарского ордена, к
которому принадлежит его господин, он не заплатит и четверти грошика, хотя
бы это стоило ему жизни, так как не желает, чтобы по его вине был нарушен
добрый старый обычай странствующих рыцарей, и оруженосцы тех из рыцарей,
которые еще имеют появиться в мире, не могли бы укорять его за нарушение
столь справедливого их права.
Лишь только оба -- господин и слуга -- уселись верхом, Дон Кихот,
доехав до ворот, позвал хозяина двора и спокойным, серьезным тоном сказал
ему:
-- Многочисленны и велики благодеяния, сеньор кастелян, оказанные мне в
этом вашем замке, и я всю мою жизнь буду вам за них признателен и
благодарен. Если я могу отплатить вам, отомстив какому-нибудь надменному
злодею за нанесенное вам оскорбление, -- знайте, что мое звание вменяет мне
в обязанность помогать слабым, мстить за угнетенных и карать за измену.
Переберите ваши воспоминания и, если найдется у вас что-либо в таком роде,
скажите мне, и я обещаю вам рыцарскою своею честью, что вы получите
полнейшее удовлетворение и будете отомщены как нельзя лучше.
Хозяин двора ответил ему столь же спокойно:
-- Сеньор рыцарь, я не нуждаюсь в том, чтобы милость ваша мстила
кому-нибудь за меня, потому что, когда я нахожу это нужным, я и сам умею
постоять за себя. Желал бы я лишь одного: чтобы милость ваша заплатила мне
по счету за свое пребывание на постоялом дворе, как за солому и ячмень для
ваших двух животных, так и за ваш ужин и ночлег.
-- Значит, это постоялый двор? -- спросил Дон Кихот.
-- И один из лучших, -- ответил хозяин.
-- Я ошибался до сих пор, -- объявил Дон Кихот, -- так как, говоря по
правде, предполагал, что это замок, и не из плохих. Но если это не замок, а
постоялый двор, вам придется вот что сделать: добровольно отказаться от
требования платы, потому что я не могу нарушить устава ордена странствующих
рыцарей, по которому, как я достоверно знаю (и до сих пор не читал ничего
противоречащего тому), рыцари никогда и нигде не платили ни за свой ночлег,
ни за что-либо другое на тех постоялых дворах, где они останавливались; ведь
им по праву и справедливости везде обязаны оказывать самый лучший прием в
благодарность за непомерный труд, который они выносят в своих поисках за
приключениями, скитаясь верхом и пешком ночью и днем, зимой и летом, в холод
и зной, страдая от голода и жажды, подвергаясь всем суровостям непогоды и
всяким земным бедствиям.
-- Это меня не касается, -- ответил хозяин двора, -- заплатите свой
долг и оставьте меня в покое с вашими россказнями и рыцарством: у меня лишь
одна забота -- получить свое.
-- Вы глупый и дурной трактирщик! -- ответил Дон Кихот и, пришпорив
Росинанта, махая копьем, уехал с постоялого двора никем не задержанный и, не
обернувшись посмотреть, следует ли за ним его оруженосец или нет, отъехал на
довольно далекое расстояние. Видя, что Дон Кихот уехал, ничего не заплатив,
хозяин двора подбежал к Санчо, чтобы получить от него по счету. Но тот
ответил, что раз его господин не пожелал платить, и он тоже не заплатит, так
как, состоя оруженосцем у странствующего рыцаря, он обязан придерживаться
того же постановления и правила, как и его господин, то есть не платить в
гостиницах и на постоялых дворах.
Услыхав этот ответ, хозяин страшно рассердился и пригрозил ему, если он
не заплатит, взыскать с него должное таким способом, который не весьма его
порадует. На это Санчо ответил, что, подчиняясь закону рыцарского ордена, к
которому принадлежит его господин, он не заплатит и четверти грошика, хотя
бы это стоило ему жизни, так как не желает, чтобы по его вине был нарушен
добрый старый обычай странствующих рыцарей, и оруженосцы тех из рыцарей,
которые еще имеют появиться в мире, не могли бы укорять его за нарушение
столь справедливого их права.
 Но по воле злой судьбы несчастного Санчо среди лиц, бывших на постоялом
дворе, оказалось четыре чесальщика шерсти из Сеговии {Сеговия была в дни
Сервантеса главным центром шерстяного производства, пришедшего теперь в
упадок в Испании.}, три игольных мастера с площади Потро в Кордове {Так
называлась в Кордове площадь, посреди которой высоко, на вершине шара,
стояло изображение жеребца (potro), окруженное фонтанами, вероятно, оттого,
что тогда Кордова славилась своими конями.} и два обывателя с Базарной
площади в Севилье -- все веселые малые, разнузданные, склонные к шуткам и
проказам; точно осененные и побуждаемые одной и той же мыслью, они подошли к
Санчо, стащили его с осла, и один из них побежал за одеялом в комнату
хозяина. Бросив Санчо на одеяло, они, взглянув вверх, заметили, что навес на
переднем дворе низковат для той цели, которую они имели в виду, поэтому
решили отправиться на задний двор, над которым расстилался только лишь один
небесный свод. Тут, уложив Санчо на середину одеяла, они стали подбрасывать
его вверх и забавлялись с ним, как с собакой во время карнавала {В Испании
существовал в то время обычай забавляться подбрасыванием собак в дни
карнавала.}. Крик подбрасываемого вверх бедняги был столь пронзительный, что
достиг до слуха его господина. Он остановился, внимательно прислушался и уже
думал, не представляется ли ему новое приключение, как наконец ясно различил
голос своего оруженосца. Тогда Дон Кихот повернул коня и тяжелым галопом
доехал до постоялого двора. Увидав, что ворота заперты, он объехал кругом
весь двор, отыскивая, не найдется ли где входа. Но, не доезжая еще до ограды
заднего двора, которая была не очень высока, он приметил злую забаву,
устроенную над его оруженосцем. Он видел, с какой грацией и быстротой Санчо
подымается и опускается в воздухе, и если б не
гнев его, я уверен, что рыцарь рассмеялся бы. Попытался он взобраться с
коня на ограду, но до того был разбит и слаб, что не мог даже слезть с
лошади, и потому, сидя на ней, стал изливать на тех, которые подбрасывали
Санчо, столько укоров и ругательств, что нет возможности их записать. Однако
они не прекратили вследствие этого своего смеха и своей работы, а летающий
Санчо не прекратил своих воплей, смешанных то с угрозами, то с мольбой;
однако и вопли его помогали мало, и ничего не помогли ему, пока наконец
побежденные усталостью мучители сами не бросили его. Затем они привели Санчо
его осла, усадили беднягу на него, завернув его в плащ, а сострадательная
Мариторнес, увидав его таким изможденным, сочла нужным прийти к нему на
помощь с кувшином воды, почерпнутой из колодца, чтобы она была посвежее.
Санчо взял кувшин и поднес его ко рту, но остановился, услыхав, что господин
его громко крикнул ему:
-- Сын мой, Санчо, не пей воды! Не пей ее, сын мой, потому что она
убьет тебя! Смотри, у меня здесь святейший бальзам (и он показывал ему
жестянку с жидкостью). Выпив две капли его, ты, без сомнения, выздоровеешь.
В ответ на эти слова Санчо взглянул на Дон Кихота искоса и крикнул еще
громче, чем его господин:
-- Быть может, вы, ваша милость, забыли, что я не странствующий рыцарь,
или вы хотите, чтобы меня окончательно вырвало и последними внутренностями,
которые еще остались у меня от сегодняшней ночи? Приберегите свое питье для
себя и всех чертей, а меня оставьте в покое.
Но по воле злой судьбы несчастного Санчо среди лиц, бывших на постоялом
дворе, оказалось четыре чесальщика шерсти из Сеговии {Сеговия была в дни
Сервантеса главным центром шерстяного производства, пришедшего теперь в
упадок в Испании.}, три игольных мастера с площади Потро в Кордове {Так
называлась в Кордове площадь, посреди которой высоко, на вершине шара,
стояло изображение жеребца (potro), окруженное фонтанами, вероятно, оттого,
что тогда Кордова славилась своими конями.} и два обывателя с Базарной
площади в Севилье -- все веселые малые, разнузданные, склонные к шуткам и
проказам; точно осененные и побуждаемые одной и той же мыслью, они подошли к
Санчо, стащили его с осла, и один из них побежал за одеялом в комнату
хозяина. Бросив Санчо на одеяло, они, взглянув вверх, заметили, что навес на
переднем дворе низковат для той цели, которую они имели в виду, поэтому
решили отправиться на задний двор, над которым расстилался только лишь один
небесный свод. Тут, уложив Санчо на середину одеяла, они стали подбрасывать
его вверх и забавлялись с ним, как с собакой во время карнавала {В Испании
существовал в то время обычай забавляться подбрасыванием собак в дни
карнавала.}. Крик подбрасываемого вверх бедняги был столь пронзительный, что
достиг до слуха его господина. Он остановился, внимательно прислушался и уже
думал, не представляется ли ему новое приключение, как наконец ясно различил
голос своего оруженосца. Тогда Дон Кихот повернул коня и тяжелым галопом
доехал до постоялого двора. Увидав, что ворота заперты, он объехал кругом
весь двор, отыскивая, не найдется ли где входа. Но, не доезжая еще до ограды
заднего двора, которая была не очень высока, он приметил злую забаву,
устроенную над его оруженосцем. Он видел, с какой грацией и быстротой Санчо
подымается и опускается в воздухе, и если б не
гнев его, я уверен, что рыцарь рассмеялся бы. Попытался он взобраться с
коня на ограду, но до того был разбит и слаб, что не мог даже слезть с
лошади, и потому, сидя на ней, стал изливать на тех, которые подбрасывали
Санчо, столько укоров и ругательств, что нет возможности их записать. Однако
они не прекратили вследствие этого своего смеха и своей работы, а летающий
Санчо не прекратил своих воплей, смешанных то с угрозами, то с мольбой;
однако и вопли его помогали мало, и ничего не помогли ему, пока наконец
побежденные усталостью мучители сами не бросили его. Затем они привели Санчо
его осла, усадили беднягу на него, завернув его в плащ, а сострадательная
Мариторнес, увидав его таким изможденным, сочла нужным прийти к нему на
помощь с кувшином воды, почерпнутой из колодца, чтобы она была посвежее.
Санчо взял кувшин и поднес его ко рту, но остановился, услыхав, что господин
его громко крикнул ему:
-- Сын мой, Санчо, не пей воды! Не пей ее, сын мой, потому что она
убьет тебя! Смотри, у меня здесь святейший бальзам (и он показывал ему
жестянку с жидкостью). Выпив две капли его, ты, без сомнения, выздоровеешь.
В ответ на эти слова Санчо взглянул на Дон Кихота искоса и крикнул еще
громче, чем его господин:
-- Быть может, вы, ваша милость, забыли, что я не странствующий рыцарь,
или вы хотите, чтобы меня окончательно вырвало и последними внутренностями,
которые еще остались у меня от сегодняшней ночи? Приберегите свое питье для
себя и всех чертей, а меня оставьте в покое.
 Сказать это и поднести ко рту кувшин было для Санчо делом мгновения. Но
так как он при первом же глотке увидел, что это только вода, он не захотел
ее пить, а попросил Мариторнес принести ему вина. Она это сделала очень
охотно и заплатила за вино свои собственные деньги, потому что про нее
действительно говорят, что хотя она и занималась такой профессией, но
сохранила в себе несколько следов и признаков доброй христианки. Как только
Санчо выпил вино, он ударил пятками в бока своего осла и выехал из широко
раскрытых перед ним ворот постоялого двора очень довольный тем, что все-таки
ничего не заплатил и настоял на своем, хотя это и случилось за счет обычного
его поручителя, которым являлась его спина. Правда, хозяин двора оставил
себе вместо платы дорожные сумки Санчо, но он этого даже не заметил в том
тревожном состоянии, в котором находился. Лишь только он выехал за ворота,
хозяин двора хотел было покрепче припереть их, но подбрасывавшие Санчо
воспротивились, так как это были такого сорта люди, что даже если бы Дон
Кихот на самом деле оказался одним из рыцарей Круглого стола, и тогда они не
поставили бы его ни в грош.
Сказать это и поднести ко рту кувшин было для Санчо делом мгновения. Но
так как он при первом же глотке увидел, что это только вода, он не захотел
ее пить, а попросил Мариторнес принести ему вина. Она это сделала очень
охотно и заплатила за вино свои собственные деньги, потому что про нее
действительно говорят, что хотя она и занималась такой профессией, но
сохранила в себе несколько следов и признаков доброй христианки. Как только
Санчо выпил вино, он ударил пятками в бока своего осла и выехал из широко
раскрытых перед ним ворот постоялого двора очень довольный тем, что все-таки
ничего не заплатил и настоял на своем, хотя это и случилось за счет обычного
его поручителя, которым являлась его спина. Правда, хозяин двора оставил
себе вместо платы дорожные сумки Санчо, но он этого даже не заметил в том
тревожном состоянии, в котором находился. Лишь только он выехал за ворота,
хозяин двора хотел было покрепче припереть их, но подбрасывавшие Санчо
воспротивились, так как это были такого сорта люди, что даже если бы Дон
Кихот на самом деле оказался одним из рыцарей Круглого стола, и тогда они не
поставили бы его ни в грош.

 Санчо подъехал к своему господину столь изнеможенный и разбитый, что
едва мог погонять своего осла. Когда Дон Кихот увидел его в таком состоянии,
он сказал:
-- Теперь я окончательно убедился, добрый мой Санчо, что этот замок,
или постоялый двор, несомненно очарован, потому что те, которые так жестоко
забавлялись над тобой, не могут быть не чем иным, как только привидениями и
существами из другого мира. Это подтверждается еще и тем обстоятельством,
что, когда я подъехал к ограде заднего двора и смотрел на ход печальной
твоей трагедии, я лишился возможности не только взобраться на ограду, но
даже не мог сойти с Росинанта, -- ясно, что я был очарован. Иначе, клянусь
тебе тем, что я есть, если б я только мог подняться на ограду или сойти с
лошади, я отомстил бы за тебя так, что те негодяи и мошенники вечно бы
помнили свою проделку; хотя, поступив таким образом, я нарушил бы рыцарский
устав, не дозволяющий, как я уже не раз говорил тебе, рыцарям обнажать меч
против лиц, не посвященных в рыцари, исключая лишь случая крайней и
неотложной необходимости, для защиты своей жизни и личности.
-- И я также отомстил бы за себя, если б мог, -- сказал Санчо, -- был
бы или не был бы я посвящен в рыцари, -- но я не мог; хотя мне думается, что
те, которые забавлялись надо мной, не были привидениями и не были очарованы
-- как ваша милость говорит, -- а были такими же людьми из плоти и крови,
как вы и я, и у всех у них есть имена. Я слышал, как они называли друг
друга, когда подбрасывали меня вверх: одного звали Педро Марти-нес, другого,
-- Тенорио Эрнандес, а хозяина двора звали Хуан Паломек Левша. Так что, если
вы, сеньор, не могли влезть на ограду или сойти с лошади, причиной тому было
что-либо другое, а не волшебство; из всего этого я вывожу лишь одно:
приключения, которые мы отправляемся отыскивать, в конце концов приведут нас
к таким несчастиям, что мы не будем знать, которая у нас правая нога. Было
бы лучше и умнее, по моему бедному разумению, вернуться нам к себе, в село,
теперь, когда настала жатва, и заняться хозяйством, бросив скитаться по
долам и горам и попадать, как говорится, из огня в полымя.
-- Как ты плохо понимаешь рыцарские дела, Санчо, -- ответил Дон Кихот.
-- Молчи, и имей терпение, потому что настанет день, когда ты воочию
убедишься, какая почетная вещь -- нести это звание. Если же нет, -- скажи:
может ли на свете быть большее удовольствие, или какое наслаждение может
сравниться с победой в битве и торжеством над своим врагом? Никакое, без
всякого сомнения!
-- Должно быть, это так и есть,-- ответил Санчо, -- хотя я этого не
знаю; знаю только, что с тех пор, как мы с вами стали странствующими
рыцарями, или, вернее, как ваша милость им стала (потому что я не могу
причислить себя к столь почетному званию), мы никогда еще не выиграли ни
одной битвы, -- разве только битву с бискайцем, и даже из нее ваша милость
вышла, лишившись пол-уха и полшлема. А после того и до сих пор на нас
сыпались одни лишь побои палкой и палкой, удары кулаками и кулаками; я же,
сверх того, вынес и подбрасывание на одеяле, а проделали это надо мной люди
очарованные, которым я не могу отомстить, чтобы хоть отведать, насколько
велико наслаждение торжествовать над своим врагом, как говорит ваша милость.
-- В этом-то и заключается мое огорчение, а также, должно быть, и твое,
Санчо, -- ответил Дон Кихот. -- Но отныне постараюсь добыть себе меч,
настолько искусно выкованный, что против того, кто его носит, окажутся
бессильны какие бы то ни было чары. Может даже случиться, что счастье
наделит меня мечом, принадлежавшим Амадису, -- когда он назывался Рыцарем
Пылающего Меча,-- это был один из лучших мечей во всем мире, которыми
обладал какой-либо рыцарь; так как, сверх указанного свойства, он еще резал
как бритва, и не было таких доспехов -- как бы они ни были крепки и
очарованы, -- которые могли бы устоять перед ним.
-- Такое мое счастье, -- сказал Санчо, -- что, даже если б это и
случилось и вашей милости удалось бы найти подобный меч, он служил бы и
пошел бы на пользу -- как и бальзам -- одним только рыцарям, а оруженосцы
пускай себе хлебают горе.
-- Не опасайся этого, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- небо пошлет тебе
нечто получше.
Разговаривая таким образом, Дон Кихот и его оруженосец продолжали свой
путь, как вдруг первый из них увидел, что по дороге, по которой они ехали,
им навстречу поднялось большое, густое облака пыли. Заметив его, Дон Кихот
обернулся к Санчо и сказал:
-- Настал день, о Санчо, когда выяснится, какое счастье хранила для
меня судьба. Настал день, говорю я, когда,-- как и во всякий другой --
выкажется могущество моей руки и я совершу подвиги, имеющие быть вписанными
в книгу славы в назидание грядущим векам. Видишь ли, Санчо, облако пыли,
которое вот там подымается? Знай же, что всю эту муть производит громадное
войско, составленное из разных и бесчисленных народностей, которое
направляется сюда.
-- Но в таком случае их должно быть целых два, -- сказал Санчо, --
потому что и с противоположной стороны подымается точно такое же облако
пыли.
Дон Кихот обернулся и увидел, что действительно так и было; необычайно
обрадовавшись, он вообразил, что наверное два войска идут друг на друга,
готовые сойтись и вступить в бой здесь, среди этой обширной равнины; так как
во всякое время его фантазия была переполнена битвами, очарованиями,
приключениями, сумасбродствами, любовными похождениями и вызовами на
поединки, о которых рассказывается в рыцарских книгах, и все, что он
говорил, думал или делал, клонилось к подобным вещам. А облако пыли, которое
он увидел, было поднято двумя большими стадами овец и баранов, подвигавшихся
по той же дороге с двух противоположных сторон; вследствие густой пыли их
нельзя было разглядеть, пока они не приблизились. Между тем Дон Кихот так
горячо утверждал, что это два войска, что наконец Санчо поверил ему и
спросил:
-- Сеньор, что же нам делать теперь?
-- Что делать? -- сказал Дон Кихот,-- Оказывать покровительство и
помощь слабым и нуждающимся! Ты должен знать, Санчо, что во главе армии,
идущей нам навстречу, стоит и ею предводительствует великий император
Алифанфарон, владетель обширного острова Трапобана {Нынешний Цейлон.};
другим же войском, идущим позади нас, предводительствует его враг, король
гарамантов {Народ, обитавший во Внутренней Африке, о котором дважды
упоминает Вергилий.}, Пентаполин с Засученным Рукавом, которому дали такое
прозвище потому, что в сражениях он всегда обнажает правую руку
-- Из-за чего же враждуют друг с другом эти два сеньора? -- спросил
Санчо.
-- Из-за того,-- ответил Дон Кихот,-- что Алифанфарон -- завзятый
язычник и влюблен в дочь Пентаполина, необычайную красавицу и очень милую
девушку, но она христианка, и отец ее не желает выдавать ее замуж за
короля-язычника, пока тот не даст обещания отказаться от веры лжепророка
Магомета и принять христианство.
-- Клянусь моей бородой, -- воскликнул Санчо, -- Пентаполин вполне
прав, и я готов помогать ему изо всех моих сил.
-- Делая это, ты исполнишь свой долг, Санчо, -- сказал Дон Кихот, --
потому что для участия в такого рода битвах не требуется быть посвященным в
рыцари.
-- Это я хорошо понимаю, -- ответил Санчо, -- но куда же нам деть осла,
чтобы быть уверенными найти его, когда кончится драка? Потому что, я думаю,
до сих пор еще не вошло в обычай вступать в бой верхом на таком животном.
-- Совершенно верно, -- сказал Дон Кихот, -- единственное, что ты
можешь сделать, -- это предоставить его на собственный произвол, погибнет он
или нет, все равно, так как после победы у нас окажется столько лошадей, что
даже и Росинанту грозит опасность быть обмененным на другого коня. Но теперь
слушай меня внимательно и смотри сюда, я хочу описать тебе самых выдающихся
рыцарей в обоих войсках; а чтобы ты их лучше видел и рассмотрел, поднимайся
на этот вот холмик, оттуда можно окинуть взглядом оба войска.
Они так и сделали и взобрались на холм, с которого можно было бы хорошо
различить оба стада, превратившиеся у Дон Кихота в войска, если бы облако
пыли, поднятое ими, не мешало и не слепило им глаза. Но тем не менее, видя в
своем воображении то, чего нельзя было видеть и чего и не было, Дон Кихот
заговорил, возвысив голос:
-- Этот рыцарь, которого ты там видишь в желтых доспехах, с
изображением на щите коронованного льва, лежащего у ног молодой девушки, --
доблестный Лауркалко, владетель Пуэнта де Плата {Серебряного моста.}; тот
вот другой, в доспехах с золотыми цветами, у которого на щите три серебряные
короны на лазурном поле, это грозный Микоколембо, великий герцог Киросиа. А
тот, что стоит по правую его руку, телосложением великан, неустрашимый
Брандабарбаран де Боличе, повелитель трех Аравии; вместо лат на нем змеиная
кожа, а вместо щита -- дверь, которая, по преданию, была одной из дверей
храма, разрушенного Самсоном, когда он, умирая, отомстил своим врагам.
Но обрати глаза в другую сторону -- и ты увидишь впереди и во главе
второго войска никем не побежденного и всегда побеждающего Тимонела де
Каркахона, принца Новой Бискайи; он вооружен доспехами из четырех цветов:
голубого, зеленого, белого и светло-желтого, а на щите у него золотая кошка
в буром поле с надписью "Миай", а это -- начальный слог имени его дамы, как
говорят, несравненной Миаулины, дочери герцога Алфеньикена дель Алгарбе. А
этот вот, который тяжестью своей давит и обременяет могучего боевого коня, в
доспехах белых как снег и с белым щитом без девиза,-- новопосвященный
рыцарь, по происхождению француз, зовут его Пьерес Папин, и он владетель
Утрикских баронств. Тот, подальше, в лазурных доспехах, вонзающий в бока
легкой и полосатой зебре свои железные шпоры, -- мужественный герцог Нербии
Эспартофилардо дель Боске; на щите у него, в виде девиза, куст спаржи с
надписью на кастильском языке: -- "Rastreamisuerte" {Исследуй мою судьбу.}.
И таким образом Дон Кихот продолжал называть еще многих рыцарей того и
другого войска, как он представлял их себе, и всех их наделил оружием,
красками, эмблемами и девизами, увлеченный вдохновением столь неслыханного
своего помешательства и не останавливаясь, он продолжал, говоря:
-- Вот это войско впереди нас составлено из лиц различных
национальностей: здесь те, что пьют сладкие воды знаменитого Ханто; горцы,
попирающие Массилийские поля; те, которые просеивают прекраснейшее, тонкое
золото счастливой Аравии; те, которые наслаждаются знаменитыми и прохладными
берегами прозрачного Термодонте; те, что многими и различными способами
пользуются золотоносным Пактолем; нумидийцы, на обещания которых нельзя
положиться; персы, славящиеся своими луками и стрелами; парфяне, мидяне,
которые сражаются, убегая; арабы с их кочевыми шатрами, скифы, столь же
жестокие, как и белокожие эфиопы с проколотыми губами; и бесконечное
множество других народов, черты которых мне знакомы, и я их вижу, хотя не
могу вспомнить их имен. В том другом войске виднеются те, что пьют
хрустальные струи осененного оливковыми деревьями Бетиса; те, которые
освежают и омывают себе лицо влагою всегда обильного и золотоносного Тахо;
те, которые наслаждаются целебными водами божественного Хениля; те, которые
попирают Тартесийские равнины, изобилующие пастбищами; те, которые веселятся
на елисейских лугах Хереса; богатые ламанчцы с венками из спелых колосьев на
головах закованные в железо, последние отпрыски древних готов; те, которые
купаются в Писуерге, прославленной мягкостью струй; те, которые пасут стада
на обширных пажитях излучистой Гадианы, славящейся своим таинственным
течением; те, что дрожат от холода на лесистых вершинах Пиренеев или среди
белых снежных хлопьев на высоких Апеннинах, -- словом, здесь собраны все
народы, населяющие Европу и входящие в ее состав.
Помоги нам боже, сколько местностей перечислил он, сколько назвал
народов, наделяя каждый из них с удивительной быстротой принадлежавшими им
свойствами, совершенно поглощенный и весь пропитанный тем, что он прочел в
своих лживых книгах.
Санчо Панса молча прислушивался к словам Дон Кихота и время от времени
поворачивал голову, чтобы посмотреть, не увидит ли он тех рыцарей или
великанов, которых его господин называл, и, так как он никого не открыл, он
сказал:
-- Сеньор, черт их побери, но из всех, сколько ни перечисляла их ваша
милость, ни один человек, ни великан, ни рыцарь не показываются; по крайней
мере, я их не вижу; быть может, все это такое же волшебство, как и вчерашние
привидения.
-- Как можешь ты это говорить, -- ответил Дон Кихот, -- разве ты не
слышишь ржания коней, боя барабанов и звуков труб?
-- Не слышу ничего, -- ответил Санчо, -- кроме сильного блеяния баранов
и овец.
Так оно и было на самом деле, потому что оба стада уже подошли к ним
довольно близко.
-- Страх, который ты чувствуешь,-- сказал Дон Кихот, -- мешает тебе,
Санчо, правильно видеть и слышать; одно из действий страха -- именно
поражать наши чувства, вследствие чего предметы кажутся нам иными, чем они
есть на самом деле. И если ты так сильно боишься, отойди подальше и оставь
меня одного, потому что и один я сумею склонить победу на ту сторону, к
которой я присоединюсь.
Говоря это, Дон Кихот пришпорил Росинанта и, держа копье наперевес, с
быстротой молнии спустился с холма. Санчо крикнул ему вслед:
-- Ваша милость Дон Кихот, вернитесь, клянусь вам Богом, это бараны и
овцы, на которых вы хотите напасть! Вернитесь!.. Несчастливый отец,
породивший меня!.. Что это за сумасшествие! Посмотрите, тут нет ни
великанов, ни рыцарей, нет ни доспехов, ни кошек, ни четырехпольных, ни
цельных щитов, ни лазурного, ни чертова железного шлема... Что это он
делает?.. Боже, помилуй меня грешного!..
Но крик Санчо не заставил вернуться Дон Кихота, напротив, он скакал
вперед, громко говоря:
-- Эй вы, рыцари, которые служите и сражаетесь под знаменами храброго
императора Пентаполина с Засученным Рукавом, -- следуйте за мной, и вы
увидите, как легко я добуду ему отмщение над врагом его Алифанфароном де ла
Трапобана.
С этими словами он въехал в самую середину стада овец и с таким
мужеством и отвагой стал прокалывать их копьем, словно он в самом деле
расправлялся со смертельными своими врагами. Пастухи и подпаски, бывшие со
стадами, кричали ему, чтобы он этого не делал, но, увидав, что ничего не
помогает, они отвязали с пояса свои пращи и стали приветствовать его уши
камнями величиною с кулак. Дон Кихот, не обращая внимания на камни, скакал
то туда, то сюда и кричал:
-- Где ты, надменный Алифанфарон?.. Выходи на бой, так как против тебя
выступает лишь один рыцарь, который желает в поединке испытать твои силы и
лишить тебя жизни в наказание за твою вину против мужественного Пентаполина
Гараманта.
В эту минуту большой речной кремень, ударившись в бок Дон Кихоту,
вдавил ему внутрь два ребра. Видя себя в столь плохом состоянии, он,
наверное, подумал, что убит или опасно ранен, и, вспомнив о своем бальзаме,
вынул сосудец, поднес его ко рту и стал вливать жидкость себе в желудок. Но,
прежде чем он успел выпить столько, сколько ему казалось нужным, свистнула
вторая кремневая миндалина и так ловко ударила его по руке и по сосудцу, что
этот последний разбился на куски, а попутно выхватила у него изо рта три или
четыре передних и коренных зуба и сильно ушибла два пальца на руке. Как
первый, так и второй удар оказались столь меткими, что бедный рыцарь потерял
равновесие и свалился с лошади. Пастухи подбежали к нему и, подумав, что они
его убили, с величайшей поспешностью собрали свои стада, взвалили на плечи
мертвых овец, которых оказалось более семи, и удалились, не желая
исследовать ничего другого.
Все это время Санчо стоял на холме, глядел на безумные выходки своего
господина и рвал себе бороду, проклиная день и час, когда злой рок свел его
с Дон Кихотом. Когда же он увидел, что рыцарь лежит на земле, а пастухи
ушли, Санчо спустился с холма, приблизился к Дон Кихоту и, найдя его в
крайне плохом состоянии, хотя он еще был в памяти, сказал ему:
-- Не говорил ли я вам, сеньор Дон Кихот, чтобы вы вернулись, так как
те, на которых вы собирались напасть, не войска, а стада баранов?
-- Вот как этот плут волшебник, враг мой, умеет изменять и извращать
вещи, -- сказал Дон Кихот. -- Знай, Санчо, что таким, как он, легко
заставить нас видеть все, что они пожелают, и злобный чародей, преследующий
меня, завидуя славе, которою мне предстояло покрыться в этой битве, --
превратил полки врагов в стада баранов. Если же ты мне не веришь, Санчо,
сделай одну вещь, умоляю тебя, чтобы убедиться, что ты заблуждаешься, а я
прав. Садись на своего осла, поезжай тихонько за ними, и ты увидишь, как
удалившись отсюда на небольшое расстояние, все снова примут первоначальный
свой вид и из баранов превратятся опять в настоящих и подлинных людей,
таких, каких я тебе описывал. Впрочем, повремени еще ехать, потому что мне
нужна твоя помощь и услуга. Подойди поближе ко мне и посмотри, сколько
недостает у меня передних и коренных зубов: мне кажется, что во рту у меня
не осталось ни одного зуба.
Санчо наклонился так близко к рыцарю, что глаза его чуть ли не влезли
ему в рот. В это время бальзам произвел как раз свое действие в желудке Дон
Кихота, и в ту самую минуту, когда Санчо осматривал ему рот, рыцарь изверг
из себя стремительнее, чем выстрел из мушкета, все, что у него было внутри,
и обдал этим бороду сострадательного оруженосца.
-- Пресвятая Дева Мария! -- воскликнул Санчо, -- что такое случилось со
мной? Без сомнения, этот грешник ранен насмерть, так как его рвет кровью.
Но, вглядевшись ближе, Санчо по цвету, запаху и вкусу убедился, что это
не кровь, а бальзам, который, как он видел, Дон Кихот пил из сосудца, и его
охватила такая тошнота, что и у него перевернуло желудок и все, что там
было, вырвало на Дон Кихота, так что теперь оба они сверкали, будто
украшенные жемчугом. Санчо побежал к ослу, чтобы достать из дорожных сумок
что-нибудь, чем вытереться и перевязать раны своему господину, но, не найдя
сумок, чуть не сошел с ума; он опять стал себя проклинать и в душе своей
решил бросить господина и вернуться домой, хотя бы он и потерял жалованье за
свою службу и надежды на губернаторство на обещанном ему острове.
Между тем Дон Кихот встал и, придерживая левой рукой рот, чтобы не
выпали у него и остальные зубы, правой взял за узду Росинанта, который, стоя
рядом со своим господином, не двинулся от него ни на шаг (до того он был
верен и предан ему), и пошел туда, где оруженосец его стоял, прислонившись
грудью к своему ослу и подперев рукою щеку, как человек, погруженный в
глубокую задумчивость. Увидав его в такой позе и столь грустного, Дон Кихот
сказал ему:
Санчо подъехал к своему господину столь изнеможенный и разбитый, что
едва мог погонять своего осла. Когда Дон Кихот увидел его в таком состоянии,
он сказал:
-- Теперь я окончательно убедился, добрый мой Санчо, что этот замок,
или постоялый двор, несомненно очарован, потому что те, которые так жестоко
забавлялись над тобой, не могут быть не чем иным, как только привидениями и
существами из другого мира. Это подтверждается еще и тем обстоятельством,
что, когда я подъехал к ограде заднего двора и смотрел на ход печальной
твоей трагедии, я лишился возможности не только взобраться на ограду, но
даже не мог сойти с Росинанта, -- ясно, что я был очарован. Иначе, клянусь
тебе тем, что я есть, если б я только мог подняться на ограду или сойти с
лошади, я отомстил бы за тебя так, что те негодяи и мошенники вечно бы
помнили свою проделку; хотя, поступив таким образом, я нарушил бы рыцарский
устав, не дозволяющий, как я уже не раз говорил тебе, рыцарям обнажать меч
против лиц, не посвященных в рыцари, исключая лишь случая крайней и
неотложной необходимости, для защиты своей жизни и личности.
-- И я также отомстил бы за себя, если б мог, -- сказал Санчо, -- был
бы или не был бы я посвящен в рыцари, -- но я не мог; хотя мне думается, что
те, которые забавлялись надо мной, не были привидениями и не были очарованы
-- как ваша милость говорит, -- а были такими же людьми из плоти и крови,
как вы и я, и у всех у них есть имена. Я слышал, как они называли друг
друга, когда подбрасывали меня вверх: одного звали Педро Марти-нес, другого,
-- Тенорио Эрнандес, а хозяина двора звали Хуан Паломек Левша. Так что, если
вы, сеньор, не могли влезть на ограду или сойти с лошади, причиной тому было
что-либо другое, а не волшебство; из всего этого я вывожу лишь одно:
приключения, которые мы отправляемся отыскивать, в конце концов приведут нас
к таким несчастиям, что мы не будем знать, которая у нас правая нога. Было
бы лучше и умнее, по моему бедному разумению, вернуться нам к себе, в село,
теперь, когда настала жатва, и заняться хозяйством, бросив скитаться по
долам и горам и попадать, как говорится, из огня в полымя.
-- Как ты плохо понимаешь рыцарские дела, Санчо, -- ответил Дон Кихот.
-- Молчи, и имей терпение, потому что настанет день, когда ты воочию
убедишься, какая почетная вещь -- нести это звание. Если же нет, -- скажи:
может ли на свете быть большее удовольствие, или какое наслаждение может
сравниться с победой в битве и торжеством над своим врагом? Никакое, без
всякого сомнения!
-- Должно быть, это так и есть,-- ответил Санчо, -- хотя я этого не
знаю; знаю только, что с тех пор, как мы с вами стали странствующими
рыцарями, или, вернее, как ваша милость им стала (потому что я не могу
причислить себя к столь почетному званию), мы никогда еще не выиграли ни
одной битвы, -- разве только битву с бискайцем, и даже из нее ваша милость
вышла, лишившись пол-уха и полшлема. А после того и до сих пор на нас
сыпались одни лишь побои палкой и палкой, удары кулаками и кулаками; я же,
сверх того, вынес и подбрасывание на одеяле, а проделали это надо мной люди
очарованные, которым я не могу отомстить, чтобы хоть отведать, насколько
велико наслаждение торжествовать над своим врагом, как говорит ваша милость.
-- В этом-то и заключается мое огорчение, а также, должно быть, и твое,
Санчо, -- ответил Дон Кихот. -- Но отныне постараюсь добыть себе меч,
настолько искусно выкованный, что против того, кто его носит, окажутся
бессильны какие бы то ни было чары. Может даже случиться, что счастье
наделит меня мечом, принадлежавшим Амадису, -- когда он назывался Рыцарем
Пылающего Меча,-- это был один из лучших мечей во всем мире, которыми
обладал какой-либо рыцарь; так как, сверх указанного свойства, он еще резал
как бритва, и не было таких доспехов -- как бы они ни были крепки и
очарованы, -- которые могли бы устоять перед ним.
-- Такое мое счастье, -- сказал Санчо, -- что, даже если б это и
случилось и вашей милости удалось бы найти подобный меч, он служил бы и
пошел бы на пользу -- как и бальзам -- одним только рыцарям, а оруженосцы
пускай себе хлебают горе.
-- Не опасайся этого, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- небо пошлет тебе
нечто получше.
Разговаривая таким образом, Дон Кихот и его оруженосец продолжали свой
путь, как вдруг первый из них увидел, что по дороге, по которой они ехали,
им навстречу поднялось большое, густое облака пыли. Заметив его, Дон Кихот
обернулся к Санчо и сказал:
-- Настал день, о Санчо, когда выяснится, какое счастье хранила для
меня судьба. Настал день, говорю я, когда,-- как и во всякий другой --
выкажется могущество моей руки и я совершу подвиги, имеющие быть вписанными
в книгу славы в назидание грядущим векам. Видишь ли, Санчо, облако пыли,
которое вот там подымается? Знай же, что всю эту муть производит громадное
войско, составленное из разных и бесчисленных народностей, которое
направляется сюда.
-- Но в таком случае их должно быть целых два, -- сказал Санчо, --
потому что и с противоположной стороны подымается точно такое же облако
пыли.
Дон Кихот обернулся и увидел, что действительно так и было; необычайно
обрадовавшись, он вообразил, что наверное два войска идут друг на друга,
готовые сойтись и вступить в бой здесь, среди этой обширной равнины; так как
во всякое время его фантазия была переполнена битвами, очарованиями,
приключениями, сумасбродствами, любовными похождениями и вызовами на
поединки, о которых рассказывается в рыцарских книгах, и все, что он
говорил, думал или делал, клонилось к подобным вещам. А облако пыли, которое
он увидел, было поднято двумя большими стадами овец и баранов, подвигавшихся
по той же дороге с двух противоположных сторон; вследствие густой пыли их
нельзя было разглядеть, пока они не приблизились. Между тем Дон Кихот так
горячо утверждал, что это два войска, что наконец Санчо поверил ему и
спросил:
-- Сеньор, что же нам делать теперь?
-- Что делать? -- сказал Дон Кихот,-- Оказывать покровительство и
помощь слабым и нуждающимся! Ты должен знать, Санчо, что во главе армии,
идущей нам навстречу, стоит и ею предводительствует великий император
Алифанфарон, владетель обширного острова Трапобана {Нынешний Цейлон.};
другим же войском, идущим позади нас, предводительствует его враг, король
гарамантов {Народ, обитавший во Внутренней Африке, о котором дважды
упоминает Вергилий.}, Пентаполин с Засученным Рукавом, которому дали такое
прозвище потому, что в сражениях он всегда обнажает правую руку
-- Из-за чего же враждуют друг с другом эти два сеньора? -- спросил
Санчо.
-- Из-за того,-- ответил Дон Кихот,-- что Алифанфарон -- завзятый
язычник и влюблен в дочь Пентаполина, необычайную красавицу и очень милую
девушку, но она христианка, и отец ее не желает выдавать ее замуж за
короля-язычника, пока тот не даст обещания отказаться от веры лжепророка
Магомета и принять христианство.
-- Клянусь моей бородой, -- воскликнул Санчо, -- Пентаполин вполне
прав, и я готов помогать ему изо всех моих сил.
-- Делая это, ты исполнишь свой долг, Санчо, -- сказал Дон Кихот, --
потому что для участия в такого рода битвах не требуется быть посвященным в
рыцари.
-- Это я хорошо понимаю, -- ответил Санчо, -- но куда же нам деть осла,
чтобы быть уверенными найти его, когда кончится драка? Потому что, я думаю,
до сих пор еще не вошло в обычай вступать в бой верхом на таком животном.
-- Совершенно верно, -- сказал Дон Кихот, -- единственное, что ты
можешь сделать, -- это предоставить его на собственный произвол, погибнет он
или нет, все равно, так как после победы у нас окажется столько лошадей, что
даже и Росинанту грозит опасность быть обмененным на другого коня. Но теперь
слушай меня внимательно и смотри сюда, я хочу описать тебе самых выдающихся
рыцарей в обоих войсках; а чтобы ты их лучше видел и рассмотрел, поднимайся
на этот вот холмик, оттуда можно окинуть взглядом оба войска.
Они так и сделали и взобрались на холм, с которого можно было бы хорошо
различить оба стада, превратившиеся у Дон Кихота в войска, если бы облако
пыли, поднятое ими, не мешало и не слепило им глаза. Но тем не менее, видя в
своем воображении то, чего нельзя было видеть и чего и не было, Дон Кихот
заговорил, возвысив голос:
-- Этот рыцарь, которого ты там видишь в желтых доспехах, с
изображением на щите коронованного льва, лежащего у ног молодой девушки, --
доблестный Лауркалко, владетель Пуэнта де Плата {Серебряного моста.}; тот
вот другой, в доспехах с золотыми цветами, у которого на щите три серебряные
короны на лазурном поле, это грозный Микоколембо, великий герцог Киросиа. А
тот, что стоит по правую его руку, телосложением великан, неустрашимый
Брандабарбаран де Боличе, повелитель трех Аравии; вместо лат на нем змеиная
кожа, а вместо щита -- дверь, которая, по преданию, была одной из дверей
храма, разрушенного Самсоном, когда он, умирая, отомстил своим врагам.
Но обрати глаза в другую сторону -- и ты увидишь впереди и во главе
второго войска никем не побежденного и всегда побеждающего Тимонела де
Каркахона, принца Новой Бискайи; он вооружен доспехами из четырех цветов:
голубого, зеленого, белого и светло-желтого, а на щите у него золотая кошка
в буром поле с надписью "Миай", а это -- начальный слог имени его дамы, как
говорят, несравненной Миаулины, дочери герцога Алфеньикена дель Алгарбе. А
этот вот, который тяжестью своей давит и обременяет могучего боевого коня, в
доспехах белых как снег и с белым щитом без девиза,-- новопосвященный
рыцарь, по происхождению француз, зовут его Пьерес Папин, и он владетель
Утрикских баронств. Тот, подальше, в лазурных доспехах, вонзающий в бока
легкой и полосатой зебре свои железные шпоры, -- мужественный герцог Нербии
Эспартофилардо дель Боске; на щите у него, в виде девиза, куст спаржи с
надписью на кастильском языке: -- "Rastreamisuerte" {Исследуй мою судьбу.}.
И таким образом Дон Кихот продолжал называть еще многих рыцарей того и
другого войска, как он представлял их себе, и всех их наделил оружием,
красками, эмблемами и девизами, увлеченный вдохновением столь неслыханного
своего помешательства и не останавливаясь, он продолжал, говоря:
-- Вот это войско впереди нас составлено из лиц различных
национальностей: здесь те, что пьют сладкие воды знаменитого Ханто; горцы,
попирающие Массилийские поля; те, которые просеивают прекраснейшее, тонкое
золото счастливой Аравии; те, которые наслаждаются знаменитыми и прохладными
берегами прозрачного Термодонте; те, что многими и различными способами
пользуются золотоносным Пактолем; нумидийцы, на обещания которых нельзя
положиться; персы, славящиеся своими луками и стрелами; парфяне, мидяне,
которые сражаются, убегая; арабы с их кочевыми шатрами, скифы, столь же
жестокие, как и белокожие эфиопы с проколотыми губами; и бесконечное
множество других народов, черты которых мне знакомы, и я их вижу, хотя не
могу вспомнить их имен. В том другом войске виднеются те, что пьют
хрустальные струи осененного оливковыми деревьями Бетиса; те, которые
освежают и омывают себе лицо влагою всегда обильного и золотоносного Тахо;
те, которые наслаждаются целебными водами божественного Хениля; те, которые
попирают Тартесийские равнины, изобилующие пастбищами; те, которые веселятся
на елисейских лугах Хереса; богатые ламанчцы с венками из спелых колосьев на
головах закованные в железо, последние отпрыски древних готов; те, которые
купаются в Писуерге, прославленной мягкостью струй; те, которые пасут стада
на обширных пажитях излучистой Гадианы, славящейся своим таинственным
течением; те, что дрожат от холода на лесистых вершинах Пиренеев или среди
белых снежных хлопьев на высоких Апеннинах, -- словом, здесь собраны все
народы, населяющие Европу и входящие в ее состав.
Помоги нам боже, сколько местностей перечислил он, сколько назвал
народов, наделяя каждый из них с удивительной быстротой принадлежавшими им
свойствами, совершенно поглощенный и весь пропитанный тем, что он прочел в
своих лживых книгах.
Санчо Панса молча прислушивался к словам Дон Кихота и время от времени
поворачивал голову, чтобы посмотреть, не увидит ли он тех рыцарей или
великанов, которых его господин называл, и, так как он никого не открыл, он
сказал:
-- Сеньор, черт их побери, но из всех, сколько ни перечисляла их ваша
милость, ни один человек, ни великан, ни рыцарь не показываются; по крайней
мере, я их не вижу; быть может, все это такое же волшебство, как и вчерашние
привидения.
-- Как можешь ты это говорить, -- ответил Дон Кихот, -- разве ты не
слышишь ржания коней, боя барабанов и звуков труб?
-- Не слышу ничего, -- ответил Санчо, -- кроме сильного блеяния баранов
и овец.
Так оно и было на самом деле, потому что оба стада уже подошли к ним
довольно близко.
-- Страх, который ты чувствуешь,-- сказал Дон Кихот, -- мешает тебе,
Санчо, правильно видеть и слышать; одно из действий страха -- именно
поражать наши чувства, вследствие чего предметы кажутся нам иными, чем они
есть на самом деле. И если ты так сильно боишься, отойди подальше и оставь
меня одного, потому что и один я сумею склонить победу на ту сторону, к
которой я присоединюсь.
Говоря это, Дон Кихот пришпорил Росинанта и, держа копье наперевес, с
быстротой молнии спустился с холма. Санчо крикнул ему вслед:
-- Ваша милость Дон Кихот, вернитесь, клянусь вам Богом, это бараны и
овцы, на которых вы хотите напасть! Вернитесь!.. Несчастливый отец,
породивший меня!.. Что это за сумасшествие! Посмотрите, тут нет ни
великанов, ни рыцарей, нет ни доспехов, ни кошек, ни четырехпольных, ни
цельных щитов, ни лазурного, ни чертова железного шлема... Что это он
делает?.. Боже, помилуй меня грешного!..
Но крик Санчо не заставил вернуться Дон Кихота, напротив, он скакал
вперед, громко говоря:
-- Эй вы, рыцари, которые служите и сражаетесь под знаменами храброго
императора Пентаполина с Засученным Рукавом, -- следуйте за мной, и вы
увидите, как легко я добуду ему отмщение над врагом его Алифанфароном де ла
Трапобана.
С этими словами он въехал в самую середину стада овец и с таким
мужеством и отвагой стал прокалывать их копьем, словно он в самом деле
расправлялся со смертельными своими врагами. Пастухи и подпаски, бывшие со
стадами, кричали ему, чтобы он этого не делал, но, увидав, что ничего не
помогает, они отвязали с пояса свои пращи и стали приветствовать его уши
камнями величиною с кулак. Дон Кихот, не обращая внимания на камни, скакал
то туда, то сюда и кричал:
-- Где ты, надменный Алифанфарон?.. Выходи на бой, так как против тебя
выступает лишь один рыцарь, который желает в поединке испытать твои силы и
лишить тебя жизни в наказание за твою вину против мужественного Пентаполина
Гараманта.
В эту минуту большой речной кремень, ударившись в бок Дон Кихоту,
вдавил ему внутрь два ребра. Видя себя в столь плохом состоянии, он,
наверное, подумал, что убит или опасно ранен, и, вспомнив о своем бальзаме,
вынул сосудец, поднес его ко рту и стал вливать жидкость себе в желудок. Но,
прежде чем он успел выпить столько, сколько ему казалось нужным, свистнула
вторая кремневая миндалина и так ловко ударила его по руке и по сосудцу, что
этот последний разбился на куски, а попутно выхватила у него изо рта три или
четыре передних и коренных зуба и сильно ушибла два пальца на руке. Как
первый, так и второй удар оказались столь меткими, что бедный рыцарь потерял
равновесие и свалился с лошади. Пастухи подбежали к нему и, подумав, что они
его убили, с величайшей поспешностью собрали свои стада, взвалили на плечи
мертвых овец, которых оказалось более семи, и удалились, не желая
исследовать ничего другого.
Все это время Санчо стоял на холме, глядел на безумные выходки своего
господина и рвал себе бороду, проклиная день и час, когда злой рок свел его
с Дон Кихотом. Когда же он увидел, что рыцарь лежит на земле, а пастухи
ушли, Санчо спустился с холма, приблизился к Дон Кихоту и, найдя его в
крайне плохом состоянии, хотя он еще был в памяти, сказал ему:
-- Не говорил ли я вам, сеньор Дон Кихот, чтобы вы вернулись, так как
те, на которых вы собирались напасть, не войска, а стада баранов?
-- Вот как этот плут волшебник, враг мой, умеет изменять и извращать
вещи, -- сказал Дон Кихот. -- Знай, Санчо, что таким, как он, легко
заставить нас видеть все, что они пожелают, и злобный чародей, преследующий
меня, завидуя славе, которою мне предстояло покрыться в этой битве, --
превратил полки врагов в стада баранов. Если же ты мне не веришь, Санчо,
сделай одну вещь, умоляю тебя, чтобы убедиться, что ты заблуждаешься, а я
прав. Садись на своего осла, поезжай тихонько за ними, и ты увидишь, как
удалившись отсюда на небольшое расстояние, все снова примут первоначальный
свой вид и из баранов превратятся опять в настоящих и подлинных людей,
таких, каких я тебе описывал. Впрочем, повремени еще ехать, потому что мне
нужна твоя помощь и услуга. Подойди поближе ко мне и посмотри, сколько
недостает у меня передних и коренных зубов: мне кажется, что во рту у меня
не осталось ни одного зуба.
Санчо наклонился так близко к рыцарю, что глаза его чуть ли не влезли
ему в рот. В это время бальзам произвел как раз свое действие в желудке Дон
Кихота, и в ту самую минуту, когда Санчо осматривал ему рот, рыцарь изверг
из себя стремительнее, чем выстрел из мушкета, все, что у него было внутри,
и обдал этим бороду сострадательного оруженосца.
-- Пресвятая Дева Мария! -- воскликнул Санчо, -- что такое случилось со
мной? Без сомнения, этот грешник ранен насмерть, так как его рвет кровью.
Но, вглядевшись ближе, Санчо по цвету, запаху и вкусу убедился, что это
не кровь, а бальзам, который, как он видел, Дон Кихот пил из сосудца, и его
охватила такая тошнота, что и у него перевернуло желудок и все, что там
было, вырвало на Дон Кихота, так что теперь оба они сверкали, будто
украшенные жемчугом. Санчо побежал к ослу, чтобы достать из дорожных сумок
что-нибудь, чем вытереться и перевязать раны своему господину, но, не найдя
сумок, чуть не сошел с ума; он опять стал себя проклинать и в душе своей
решил бросить господина и вернуться домой, хотя бы он и потерял жалованье за
свою службу и надежды на губернаторство на обещанном ему острове.
Между тем Дон Кихот встал и, придерживая левой рукой рот, чтобы не
выпали у него и остальные зубы, правой взял за узду Росинанта, который, стоя
рядом со своим господином, не двинулся от него ни на шаг (до того он был
верен и предан ему), и пошел туда, где оруженосец его стоял, прислонившись
грудью к своему ослу и подперев рукою щеку, как человек, погруженный в
глубокую задумчивость. Увидав его в такой позе и столь грустного, Дон Кихот
сказал ему:
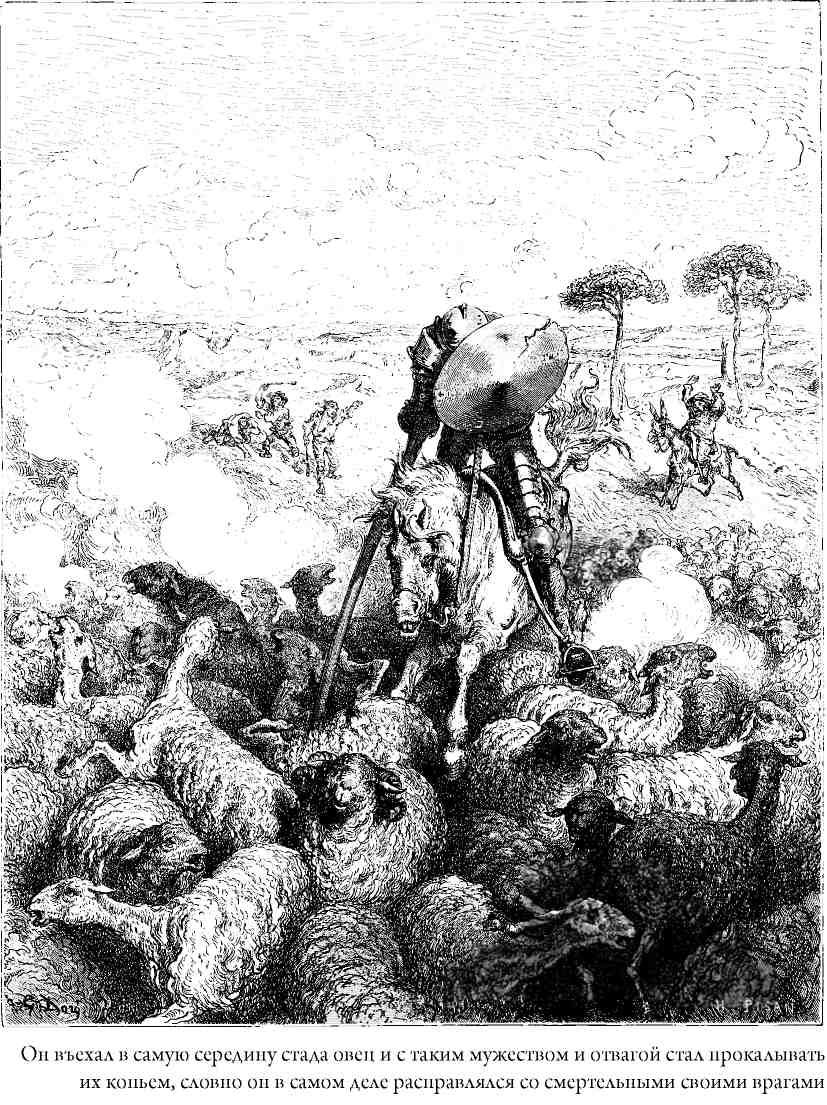 -- Знай, Санчо, -- нет человека, который стоил бы больше другого, если
он не сделал больше его; все эти бури, разражающиеся над нами, предвещают,
что погода скоро прояснится и дела наши примут хороший оборот; потому что
невозможно, чтобы зло или добро длилось бы очень долго, и из этого следует,
что, если зло продолжалось долго, добро уже близко; так что ты не должен
сокрушаться о несчастиях, приключившихся со мной, -- ведь, они не коснулись
тебя.
-- Как не коснулись меня, -- ответил Санчо, -- быть может, тот,
которого вчера бросали вверх на одеяле, был кто другой, а не сын моего
отца?.. И сумки, пропавшие у меня сегодня со всем моим добром, принадлежали,
быть может, кому другому, а не мне?..
-- Как, Санчо, у тебя пропали сумки? -- спросил Дон Кихот.
-- Да, пропали, -- ответил Санчо.
-- Значит, сегодня нам нечего будет есть, -- сказал Дон Кихот.
-- Нечего было бы, -- ответил Санчо, -- если б на этих лугах не росли
травы, которые вам, как вы говорили, хорошо известны и которыми несчастные
странствующие рыцари, подобные вашей милости, имеют обыкновение заменять
недостаток пищи.
-- Тем не менее, -- ответил Дон Кихот, -- я охотнее предпочел бы теперь
кусок белого или же простого деревенского хлеба и пару голов копченых
сельдей всем травам, описанным Диоскоридом, хотя бы и с иллюстрациями
доктора Лагуна {Андрес Лагуна -- доктор императора Карла V, перевел с
греческого Диоскорида, с комментариями и иллюстрациями.}. Однако садись на
своего осла, Санчо Добрый, и следуй за мной, так как Бог, который печется
обо всех, не оставит и нас, особенно потому, что странствуя, как мы это
делаем, мы тем самым служим Ему; ведь Он не забывает ни комаров в воздухе,
ни червей в земле, ни головастиков в воде и так милостив, что велит солнцу
своему восходить над добрыми и злыми и орошает дождем праведных и
неправедных.
-- Вашей милости пристало бы больше быть проповедником, чем
странствующим рыцарем, -- сказал Санчо.
-- Странствующие рыцари знают все и должны все знать, Санчо, -- ответил
Дон Кихот, -- так как в прошлые века встречались рыцари, которые были столь
же способны произнести проповедь или сказать речь среди чистого поля, как
будто они получили ученую степень в Парижском университете, и из этого
следует, что никогда копье не притупляет пера, ни перо -- копья.
-- Что ж, пусть будет так, как говорит ваша милость, -- ответил Санчо,
-- а теперь уедем отсюда и постараемся найти себе ночлег, только дай бог,
чтобы мы нашли его там, где не будет ни подбрасывания вверх на одеяле, ни
подбрасыва-телей, ни привидений, ни очарованных мавров, потому что, если они
окажутся, тогда пусть черт все поберет с собой.
-- Попроси о том Бога, сын мой,-- сказал Дон Кихот, -- и веди меня,
куда хочешь, так как на этот раз я предоставляю выбор ночлега тебе, но
дай-ка сюда руку и ощупай пальцем, сколько у меня недостает зубов на правой
верхней челюсти, потому что там я чувствую боль.
Санчо всунул ему в рот пальцы и, ощупав десну, сказал:
-- Сколько коренных зубов было раньше вот с этой стороны у вашей
милости?
-- Четыре, -- ответил Дон Кихот,-- не считая зуба мудрости, и все были
совершенно целы и невредимы.
-- Подумайте-ка хорошенько, так ли вы говорите, милость ваша, -- сказал
Санчо.
-- Говорю тебе, что четыре, если не пять, -- ответил Дон Кихот, --
потому что во всю жизнь у меня не вырвали ни одного зуба, ни переднего, ни
коренного, и ни один не выпал и не разрушился от гниения или простуды.
-- Ну, на этой стороне внизу, -- сказал Санчо, -- у вашей милости всего
лишь два с половиной коренных зуба, а там, наверху, нет ни ползуба и ничего,
потому что все гладко, как ладонь руки.
-- Несчастный я! -- воскликнул Дон Кихот, услышав печальное известие,
сообщенное его оруженосцем. Я скорей желал бы, чтоб у меня отрубили руку, но
только не ту, которой держат меч; так как ты должен знать, Санчо, что рот
без коренных зубов все равно что мельница без жерновов и надо ценить зуб
куда выше, чем алмаз. Но всем таким случайностям подвержены мы, те, что
исповедуют суровые правила рыцарства. Садись на своего осла, друг, и поезжай
впереди, а я буду следовать за тобой, какую бы дорогу ни выбрал ты.
Санчо так и сделал и направился туда, где он надеялся найти ночлег, не
покидая, однако, большой дороги, ясно обозначенной здесь. В то время как они
медленно подвигались вперед, потому что боль в челюстях не давала Дон Кихоту
покоя и не позволяла быстро ехать, Санчо пожелал развлечь и занять его и,
между прочим, рассказал ему то, о чем будет сообщено в следующей главе.
-- Знай, Санчо, -- нет человека, который стоил бы больше другого, если
он не сделал больше его; все эти бури, разражающиеся над нами, предвещают,
что погода скоро прояснится и дела наши примут хороший оборот; потому что
невозможно, чтобы зло или добро длилось бы очень долго, и из этого следует,
что, если зло продолжалось долго, добро уже близко; так что ты не должен
сокрушаться о несчастиях, приключившихся со мной, -- ведь, они не коснулись
тебя.
-- Как не коснулись меня, -- ответил Санчо, -- быть может, тот,
которого вчера бросали вверх на одеяле, был кто другой, а не сын моего
отца?.. И сумки, пропавшие у меня сегодня со всем моим добром, принадлежали,
быть может, кому другому, а не мне?..
-- Как, Санчо, у тебя пропали сумки? -- спросил Дон Кихот.
-- Да, пропали, -- ответил Санчо.
-- Значит, сегодня нам нечего будет есть, -- сказал Дон Кихот.
-- Нечего было бы, -- ответил Санчо, -- если б на этих лугах не росли
травы, которые вам, как вы говорили, хорошо известны и которыми несчастные
странствующие рыцари, подобные вашей милости, имеют обыкновение заменять
недостаток пищи.
-- Тем не менее, -- ответил Дон Кихот, -- я охотнее предпочел бы теперь
кусок белого или же простого деревенского хлеба и пару голов копченых
сельдей всем травам, описанным Диоскоридом, хотя бы и с иллюстрациями
доктора Лагуна {Андрес Лагуна -- доктор императора Карла V, перевел с
греческого Диоскорида, с комментариями и иллюстрациями.}. Однако садись на
своего осла, Санчо Добрый, и следуй за мной, так как Бог, который печется
обо всех, не оставит и нас, особенно потому, что странствуя, как мы это
делаем, мы тем самым служим Ему; ведь Он не забывает ни комаров в воздухе,
ни червей в земле, ни головастиков в воде и так милостив, что велит солнцу
своему восходить над добрыми и злыми и орошает дождем праведных и
неправедных.
-- Вашей милости пристало бы больше быть проповедником, чем
странствующим рыцарем, -- сказал Санчо.
-- Странствующие рыцари знают все и должны все знать, Санчо, -- ответил
Дон Кихот, -- так как в прошлые века встречались рыцари, которые были столь
же способны произнести проповедь или сказать речь среди чистого поля, как
будто они получили ученую степень в Парижском университете, и из этого
следует, что никогда копье не притупляет пера, ни перо -- копья.
-- Что ж, пусть будет так, как говорит ваша милость, -- ответил Санчо,
-- а теперь уедем отсюда и постараемся найти себе ночлег, только дай бог,
чтобы мы нашли его там, где не будет ни подбрасывания вверх на одеяле, ни
подбрасыва-телей, ни привидений, ни очарованных мавров, потому что, если они
окажутся, тогда пусть черт все поберет с собой.
-- Попроси о том Бога, сын мой,-- сказал Дон Кихот, -- и веди меня,
куда хочешь, так как на этот раз я предоставляю выбор ночлега тебе, но
дай-ка сюда руку и ощупай пальцем, сколько у меня недостает зубов на правой
верхней челюсти, потому что там я чувствую боль.
Санчо всунул ему в рот пальцы и, ощупав десну, сказал:
-- Сколько коренных зубов было раньше вот с этой стороны у вашей
милости?
-- Четыре, -- ответил Дон Кихот,-- не считая зуба мудрости, и все были
совершенно целы и невредимы.
-- Подумайте-ка хорошенько, так ли вы говорите, милость ваша, -- сказал
Санчо.
-- Говорю тебе, что четыре, если не пять, -- ответил Дон Кихот, --
потому что во всю жизнь у меня не вырвали ни одного зуба, ни переднего, ни
коренного, и ни один не выпал и не разрушился от гниения или простуды.
-- Ну, на этой стороне внизу, -- сказал Санчо, -- у вашей милости всего
лишь два с половиной коренных зуба, а там, наверху, нет ни ползуба и ничего,
потому что все гладко, как ладонь руки.
-- Несчастный я! -- воскликнул Дон Кихот, услышав печальное известие,
сообщенное его оруженосцем. Я скорей желал бы, чтоб у меня отрубили руку, но
только не ту, которой держат меч; так как ты должен знать, Санчо, что рот
без коренных зубов все равно что мельница без жерновов и надо ценить зуб
куда выше, чем алмаз. Но всем таким случайностям подвержены мы, те, что
исповедуют суровые правила рыцарства. Садись на своего осла, друг, и поезжай
впереди, а я буду следовать за тобой, какую бы дорогу ни выбрал ты.
Санчо так и сделал и направился туда, где он надеялся найти ночлег, не
покидая, однако, большой дороги, ясно обозначенной здесь. В то время как они
медленно подвигались вперед, потому что боль в челюстях не давала Дон Кихоту
покоя и не позволяла быстро ехать, Санчо пожелал развлечь и занять его и,
между прочим, рассказал ему то, о чем будет сообщено в следующей главе.

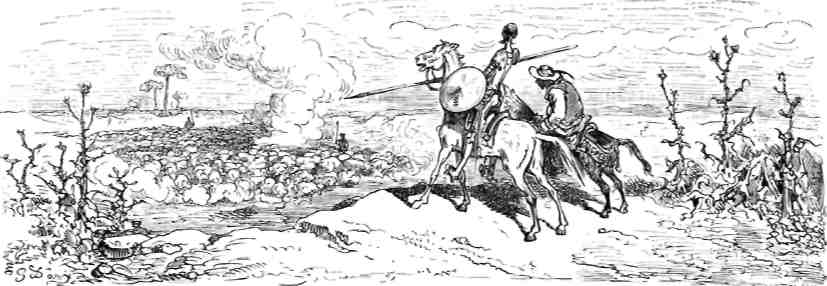 -- Мне кажется, сеньор мой, что все эти несчастья, обрушившиеся на нас
в последние дни, были, вне всякого сомнения, наказанием за грех против
рыцарского устава, в который впала ваша милость, не сдержав своей клятвы не
есть хлеба со скатерти, не забавляться с королевой и не делать и остального,
что еще за этим следовало и что ваша милость клялась исполнять, пока вам не
удастся добыть себе шлема Меландрина или как там зовут мавра, хорошенько не
помню.
-- Ты вполне прав, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- но, говоря по правде,
я забыл о моей клятве, и за то, что ты во время не напомнил мне о ней, с
тобой приключилась -- можешь в этом быть уверен -- неприятность с
подбрасыванием на одеяле. Впрочем, я заглажу свою ошибку, так как в
рыцарском ордене имеются средства все уладить.
-- Но разве и я клялся в чем-либо?-- спросил Санчо.
-- Неважно, что ты не клялся, -- ответил Дон Кихот, -- достаточно и
того, что я считаю тебя не совсем свободным от соучастия, и, так ли оно на
деле или нет, недурно было бы принять нам какие-нибудь меры для исправления
нашей ошибки.
-- Если дело так обстоит, -- сказал Санчо, -- постарайтесь, ваша
милость, не забыть сказанного вами сейчас, как вы забыли свою клятву; иначе
привидениям может опять прийти охота потешиться надо мной и даже и над вашей
милостью, если они увидят, до чего вы упорны.
В этих и подобных разговорах ночь застигла их среди дороги прежде, чем
они нашли или добрались до места, где им можно было бы переночевать; но хуже
всего было то, что они умирали с голоду, так как вместе с сумками исчезла и
их кладовая со всеми съестными припасами. К довершению беды им встретилось
приключение, которое без искусственной натяжки действительно можно было
назвать таковым. Наступила довольно темная ночь, но, несмотря на это, они
продолжали свой путь, так как Санчо полагал, что раз они находятся на
большой дороге, то, проехав одну или две мили, они непременно должны попасть
на какой-нибудь постоялый двор. И вот голодный оруженосец и господин его
тоже с сильным желанием поесть, путешествуя таким образом в ночной темноте,
увидели, что навстречу им по той же дороге движется великое множество огней,
казавшихся чем-то вроде движущихся звезд. При виде этих огней Санчо чуть не
обмер от страха, да и Дон Кихоту стало не по себе, один дернул осла за
недоуздок, другой придержал лошадь за повод, и оба они остановились и стали
внимательно всматриваться, что бы это могло быть. Они видели, что огни
приближались к ним, и чем больше они приближались, тем больше увеличивались.
При этом зрелище Санчо задрожал, как человек, принявший внутрь ртуть
{Temblar соте un azogado -- общеупотребительное испанское выражение,
основанное на мысли, что те, которые принимают ртуть, azogue, или вдыхают
ее, подобно рабочим в ртутных рудниках, дрожат, как и сам металл.}, а у Дон
Кихота волосы встали дыбом, но он тотчас же, несколько приободрившись,
сказал:
-- Нет сомнения, Санчо, что это одно из величайших и самых опасных
приключений, в котором мне нужно будет выказать всю мою храбрость и
мужество.
-- Несчастный я! -- воскликнул Санчо. -- Если и это приключение
окажется опять с привидениями, как мне сдается, где же нам набраться ребер,
чтобы выдержать его?
-- Пусть будет сколько угодно привидений, -- сказал Дон Кихот, -- но я
не допущу, чтобы они дотронулись хоть до нитки твоего платья; и если в тот
раз они пошутили над тобой, это случилось потому, что я не мог перебраться
через забор двора; теперь же мы в открытом поле, где я в состоянии
размахнуться мечом, как захочу.
-- А если они заворожат и сделают его бессильным, как в тот раз, --
сказал Санчо, -- какая будет польза от того, в открытом ли мы поле или нет?
-- Тем не менее, -- возразил Дон Кихот, -- прошу тебя, Санчо, запасись
мужеством, а сколько его у меня, ты увидишь на деле.
-- Да, я запасусь мужеством, если Богу будет угодно, -- ответил Санчо.
И оба, отъехав немного в сторону, стали снова внимательно
всматриваться, что бы такое могли быть эти двигавшиеся огни, и вскоре они
различили большое число людей, одетых в белые балахоны {Encamisados (одетые
в белые рубахи поверх одежды) -- выражение, чаще всего употребляемое по
отношению к солдатам, прибегавшим к этой хитрости во время ночных нападений,
чтобы признать друг друга в темноте.}. Это страшное видение окончательно
погасило мужество в душе Санчо Пансы, и он застучал зубами, как в припадке
четырехдневной лихорадки; его дрожь и стучание зубами еще усилились, когда
они ясно рассмотрели, что это такое: они увидели около двадцати человек в
длинных белых балахонах верхом, с зажженными факелами в руках, а за ними
следовали носилки, покрытые трауром, за которыми ехало еще шесть всадников,
облаченных в траур до самых ног их мулов, -- что это были мулы, а не лошади,
хорошо было видно по их спокойной поступи. Ехали белые привидения, что-то
бормоча себе под нос тихим и жалобным голосом. Это изумительное видение в
такой час и в таком пустынном месте могло, без сомнения, наполнить страхом
сердце Санчо и даже сердце его господина, что действительно и случилось с
Дон Кихотом. Но Санчо окончательно забыл свое намерение запастись мужеством.
С господином же его произошло противоположное, так как его фантазия тотчас
же ярко разрисовала ему, что это одно из приключений, описанных в его
книгах. Он вообразил себе, что носилки -- погребальные дроги, а на них везут
какого-нибудь тяжелораненого или мертвого рыцаря, отомстить за которого
предназначено единственно ему. Без дальнейших размышлений он, взяв наперевес
копье, уселся крепче в седле и с благородной осанкой и мужественным видом
стал посреди дороги, по которой белые привидения неминуемо должны были
проехать. Когда же он увидел их вблизи себя, то громким голосом воскликнул:
-- Остановитесь, рыцари, кто бы вы ни были, и дайте мне отчет: откуда и
куда вы едете, кто вы такие и что у вас там, на этих носилках? По всем
признакам вы или сами совершили, или над вами было совершено кем-либо
злодеяние, -- мне же следует и необходимо это знать для того, чтобы наказать
вас за содеянное вами зло или же отомстить за нанесенную вам обиду!
-- Мы спешим, -- ответило одно из белых привидений, -- а до постоялого
двора еще далеко, и мы не можем останавливаться, чтобы дать вам
обстоятельный отчет, которого вы требуете. -- И, пришпорив мула, привидение
двинулось вперед. Сильно раздраженный таким ответом, Дон Кихот схватил мула
за узду и сказал:
-- Остановитесь и будьте вежливее! Дайте отчет, которого я требую; если
же нет, вызываю всех вас на поединок со мной.
Мул был пуглив, и, когда почувствовал, что его схватили за узду, он так
испугался, что поднялся на дыбы и сбросил своего седока на землю. Слуга,
шедший пешком, увидав, что его господин в белом одеянии упал с мула, начал
поносить Дон Кихота, который, воспылав гневом, не раздумывая ни минуты,
наклонив копье, устремился на одного из всадников, одетых в траур, и, тяжело
ранив его, сбросил на землю; затем он обратился к
остальным, и, действительно, стоило посмотреть, с какой он быстротой
нападал на них и разбивал их: казалось, что в ту минуту у Росинанта выросли
крылья, так он легко и гордо выступал. Всадники, облаченные в белое, были
люди пугливые и безоружные, поэтому они поспешили тотчас же отказаться от
битвы и бросились бежать по полю с зажженными факелами, более всего
напоминая собой ряженых, забавляющихся в дни празднеств и торжеств. А одетые
в траур -- закутанные и опутанные своими шлейфами и длинными облачениями --
не могли двинуться с места; поэтому Дон Кихот, не подвергаясь ни малейшей
опасности, всех их побил и заставил против их воли покинуть место действия,
так как они думали, что на них напал не человек, а сам дьявол, явившийся из
преисподней, чтобы отнять у них труп, который они несли на носилках. Все это
видел Санчо; удивленный отвагой своего господина, он подумал про себя:
"Несомненно, этот мой господин в самом деле такой мужественный и храбрый,
как он говорит".
На земле, близ первого всадника, сброшенного мулом, лежал горящий
факел, при свете которого Дон Кихот увидел упавшего. Он подошел к нему,
приставил ему к лицу острие копья и потребовал, чтобы он сдался; если же
нет, грозил убить его. На это упавший ответил:
-- Кажется, я вполне сдался, потому что не могу двинуться с места: у
меня нога сломана. Умоляю вашу милость, если вы рыцарь-христианин, не
убивайте меня, иначе вы совершите великое святотатство, потому что я
лисенсиат и уже посвящен в духовный сан.
-- Какие же черти принесли вас сюда, если вы духовное лицо? --
воскликнул Дон Кихот.
-- Какие черти, сеньор? -- ответил упавший. -- Несчастная моя судьба.
-- И еще более несчастная судьба ожидает вас, -- объявил Дон Кихот,--
если вы тотчас же не удовлетворите меня, ответив на вопрос, первоначально
предложенный мною вам.
-- Удовлетворю вашу милость немедленно, -- сказал лисенсиат. -- Итак,
да будет известно вашей милости, что, хотя я перед тем сказал, что я
лисенсиат, я только бакалавр, и зовут меня Алонсо Лопес. Родом я из
Алькобендаса, и вместе с другими одиннадцатью священнослужителями, теми
самыми, которые убежали с факелами, едем мы из города Баэса в город Сеговию,
провожая мертвое тело, лежащее на этих носилках,-- труп дворянина, умершего
в Баэсе, где он был похоронен, а теперь, как я уже говорил, мы везем его
останки в фамильный склеп в Сеговию, откуда он родом.
-- А кто его убил? -- спросил Дон Кихот.
-- Бог, посредством гнилой горячки, которая и унесла его, -- ответил
бакалавр.
-- Таким образом, -- сказал Дон Кихот, -- Господь Бог избавил меня от
труда отомстить за смерть этого человека, что я должен был бы сделать, если
бы его убил кто-нибудь другой; а так как он умер по воле пославшего ему
смерть, остается лишь одно: молчать и пожать плечами, потому что я сделал бы
то же, если бы Он убил и меня самого. Но я желал бы, чтобы вы, ваше
преподобие, знали, что я рыцарь, родом из Ламанчи, по имени Дон Кихот и что
моя профессия и мое призвание -- скитаться по всему свету, исправляя зло и
уничтожая несправедливость и обиды.
-- Не знаю, как вы там исправляете зло, -- сказал бакалавр, -- но что
касается меня, вы не исправили, а нанесли мне зло, сломав мне ногу,
вследствие чего я буду хромать до конца моих дней; относительно же
уничтожения обид, вы не уничтожили, а, напротив, нанесли мне неизгладимую на
всю жизнь обиду; и самое большое несчастие, обрушившееся на меня, была
встреча с вами в ваших поисках приключений.
-- Не все вещи случаются на один и тот же лад, -- сказал Дон Кихот, --
беда ваша, сеньор бакалавр Алонсо Лопес, заключалась в том, что вы ехали
ночью, одетые в стихари, с зажженными факелами, с тихим пением и обвешанные
трауром, так что, действительно, вы казались какой-то чертовщиной и
порождением ехидны. Поэтому я не мог не исполнить своей обязанности и не
напасть на вас. Я напал бы на вас и тогда, если бы был даже вполне уверен,
что вы самые что ни на есть дьяволы из преисподней, за которых я вас все
время считал и принимал.
-- Раз уж мне выпала столь несчастная судьба, -- сказал бакалавр, -- то
прошу вашу милость, сеньор странствующий рыцарь, лишивший меня возможности
странствовать: помогите мне выбраться из-под этого мула, так как у меня нога
прищемлена между стременем и седлом.
-- Я бы говорил, пожалуй, до завтрашнего дня, -- сказал Дон Кихот, -- а
вы чего же ждали и не сказали мне о своей беде?
И он немедленно позвал Санчо, но тот не очень-то спешил, так как был
занят разгрузкой вьючного мула, которого добрые сеньоры вели за собой,
хорошо нагруженного съестными припасами. Санчо устроил мешок из своего плаща
и, наложив туда всего, что мог и что туда влезло, взвалил мешок на своего
осла и затем тотчас побежал на зов Дон Кихота, которому он и помог вытащить
сеньора бакалавра из-под его мула; усадив его на седло, он подал ему факел,
а Дон Кихот сказал бакалавру, чтобы он ехал вслед за бежавшими своими
товарищами и попросил бы у них от его имени извинения за оскорбление,
которое он им нанес и которое не в его власти было не нанести им. А Санчо
еще добавил:
-- Если б случайно эти сеньоры пожелали узнать, кто был тот храбрый
человек, который так хорошо отделал их, скажите им, ваша милость, что это
был знаменитый Дон Кихот Ламанчский, называемый другим именем: Рыцарь
Печального Образа.
Тогда бакалавр сказал, уезжая:
-- Я забыл предупредить вашу милость, что вы отлучены от церкви за то,
что насильственно подняли руку на священные предметы: "juxta illud si quis
suadente diabolo" {Если кто по наущению дьявола (лат.).} и т. д.
-- Я этой латыни не понимаю, -- ответил Дон Кихот, -- но хорошо знаю,
что поднял я не руку, а вот это копье; сверх того, я не подозревал, что
оскорбляю духовных лиц или церковные предметы, к которым, как верующий
католик и добрый христианин, я питаю достодолжное уважение, а думал, что
нападаю на привидения и чудища с того света. Но даже если б оно и не было
так, все же в памяти у меня хранится то, что случилось с Си-дом Руи Диасом,
когда он сломал вдребезги кресло королевского посланника в присутствии Его
Святейшества Папы, за что тот отлучил его от церкви; а тем не менее добрый
Родриго де Бивар вел себя в тот день как самый благородный и мужественный
рыцарь.
Услыхав это, бакалавр, как уже было сказано, уехал, не ответив ни
слова. А Дон Кихот спросил Санчо, что побудило его именно теперь, а не в
другое время, назвать его Рыцарем Печального Образа.
-- Сейчас скажу вам, -- ответил Санчо, -- я смотрел на вас несколько
минут при свете факела, который держал в руках тот несчастный хромой, и,
право, у вашей милости было самое жалкое лицо, которое я когда-либо видел;
должно быть, это произошло или оттого, что вы сильно утомились в бою, или же
от недостающих у вас передних и коренных зубов.
-- Вовсе не то, -- ответил Дон Кихот, -- но мудрецу, которому предстоит
написать историю моих подвигов, показалось, без сомнения, уместным, чтобы я
избрал себе прозвище, как это делали все рыцари в былые времена; один из них
назывался Рыцарем Пылающего Меча, другой -- Рыцарем Единорога, третьего
звали Рыцарем Феникса, этого -- Рыцарем Грифа, того -- Рыцарем Смерти, и под
этими прозвищами и девизами они были известны на всем земном шаре. Итак, я
говорю, что упомянутый мудрец внушил тебе мысль и вложил тебе в уста назвать
меня теперь Рыцарем Печального Образа, как я отныне и намерен называться. А
чтоб это прозвище еще лучше ко мне шло, я, когда окажется случай, велю
нарисовать на своем щите необычайно печальную фигуру.
-- К чему вам тратить время и деньги на изображение такой фигуры, --
сказал Санчо, -- вам надо сделать лишь одно: пусть ваша милость покажет свою
фигуру, и тем, которые будут смотреть на вас, откройте свое лицо, и тотчас
же, без всякого промедления и всяких изображений и щитов вас назовут Рыцарем
Печального Образа. Поверьте мне, что я говорю правду, и уверяю вас, милость
ваша сеньор (будь сказано в шутку), что голод и потеря коренных зубов до
того обезобразили ваше лицо, что, как я уже говорил, вам отлично можно
обойтись без изображения печального образа на щите.
Дон Кихот рассмеялся над шуткой Санчо, но тем не менее он решил принять
новое прозвище и дать разрисовать свой щит, как он намеревался.
Дон Кихот захотел удостовериться, действительно ли на носилках лежит
труп или нет, но Санчо не согласился на это, сказав:
-- Сеньор, опасное это приключение кончилось для вашей милости более
счастливо, чем все остальные, при которых я присутствовал; но эти люди, хотя
и побежденные и обращенные в бегство, могут, однако, одуматься и понять, что
с ними расправился всего лишь один человек; рассерженные этим и устыдившись,
они могут ободриться и вернуться, разыскать нас и хорошенько нас проучить.
Осел в исправности, горы вблизи, голод мучит нас, и нам остается лишь одно:
спокойным шагом удалиться отсюда, и, как говорится, пускай мертвый ложится в
могилу, а живой берется за хлеб.
С этими словами Санчо, погнав вперед своего осла, попросил и господина
своего следовать за ним, что тот, считая, что Санчо прав, и сделал без
всякого возражения.
Они проехали небольшое расстояние между двумя холмами и очутились на
уединенной, обширной поляне, где оба спешились, и Санчо разгрузил здесь
своего осла. Господин и слуга растянулись на зеленой траве и, благодаря
приправе голода, одновременно позавтракали и пообедали, пополдничали и
поужинали, набив свои желудки многими лакомыми припасами, которые
сопровождавшие покойника сеньоры церковники (редко забывающие основательно
позаботиться о себе) везли с собой на вьючном муле. Но с Дон Кихотом и его
оруженосцем приключилась новая беда, которую Санчо счел за худшую из всех, а
именно: у них не оказалось не только вина, а даже и воды, чтоб промочить
себе горло. Терзаемый жаждой Санчо, заметив, что луг, на котором они сидели,
в изобилии покрыт свежей, сочной травой, сказал то, что будет изложено в
следующей главе.
-- Мне кажется, сеньор мой, что все эти несчастья, обрушившиеся на нас
в последние дни, были, вне всякого сомнения, наказанием за грех против
рыцарского устава, в который впала ваша милость, не сдержав своей клятвы не
есть хлеба со скатерти, не забавляться с королевой и не делать и остального,
что еще за этим следовало и что ваша милость клялась исполнять, пока вам не
удастся добыть себе шлема Меландрина или как там зовут мавра, хорошенько не
помню.
-- Ты вполне прав, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- но, говоря по правде,
я забыл о моей клятве, и за то, что ты во время не напомнил мне о ней, с
тобой приключилась -- можешь в этом быть уверен -- неприятность с
подбрасыванием на одеяле. Впрочем, я заглажу свою ошибку, так как в
рыцарском ордене имеются средства все уладить.
-- Но разве и я клялся в чем-либо?-- спросил Санчо.
-- Неважно, что ты не клялся, -- ответил Дон Кихот, -- достаточно и
того, что я считаю тебя не совсем свободным от соучастия, и, так ли оно на
деле или нет, недурно было бы принять нам какие-нибудь меры для исправления
нашей ошибки.
-- Если дело так обстоит, -- сказал Санчо, -- постарайтесь, ваша
милость, не забыть сказанного вами сейчас, как вы забыли свою клятву; иначе
привидениям может опять прийти охота потешиться надо мной и даже и над вашей
милостью, если они увидят, до чего вы упорны.
В этих и подобных разговорах ночь застигла их среди дороги прежде, чем
они нашли или добрались до места, где им можно было бы переночевать; но хуже
всего было то, что они умирали с голоду, так как вместе с сумками исчезла и
их кладовая со всеми съестными припасами. К довершению беды им встретилось
приключение, которое без искусственной натяжки действительно можно было
назвать таковым. Наступила довольно темная ночь, но, несмотря на это, они
продолжали свой путь, так как Санчо полагал, что раз они находятся на
большой дороге, то, проехав одну или две мили, они непременно должны попасть
на какой-нибудь постоялый двор. И вот голодный оруженосец и господин его
тоже с сильным желанием поесть, путешествуя таким образом в ночной темноте,
увидели, что навстречу им по той же дороге движется великое множество огней,
казавшихся чем-то вроде движущихся звезд. При виде этих огней Санчо чуть не
обмер от страха, да и Дон Кихоту стало не по себе, один дернул осла за
недоуздок, другой придержал лошадь за повод, и оба они остановились и стали
внимательно всматриваться, что бы это могло быть. Они видели, что огни
приближались к ним, и чем больше они приближались, тем больше увеличивались.
При этом зрелище Санчо задрожал, как человек, принявший внутрь ртуть
{Temblar соте un azogado -- общеупотребительное испанское выражение,
основанное на мысли, что те, которые принимают ртуть, azogue, или вдыхают
ее, подобно рабочим в ртутных рудниках, дрожат, как и сам металл.}, а у Дон
Кихота волосы встали дыбом, но он тотчас же, несколько приободрившись,
сказал:
-- Нет сомнения, Санчо, что это одно из величайших и самых опасных
приключений, в котором мне нужно будет выказать всю мою храбрость и
мужество.
-- Несчастный я! -- воскликнул Санчо. -- Если и это приключение
окажется опять с привидениями, как мне сдается, где же нам набраться ребер,
чтобы выдержать его?
-- Пусть будет сколько угодно привидений, -- сказал Дон Кихот, -- но я
не допущу, чтобы они дотронулись хоть до нитки твоего платья; и если в тот
раз они пошутили над тобой, это случилось потому, что я не мог перебраться
через забор двора; теперь же мы в открытом поле, где я в состоянии
размахнуться мечом, как захочу.
-- А если они заворожат и сделают его бессильным, как в тот раз, --
сказал Санчо, -- какая будет польза от того, в открытом ли мы поле или нет?
-- Тем не менее, -- возразил Дон Кихот, -- прошу тебя, Санчо, запасись
мужеством, а сколько его у меня, ты увидишь на деле.
-- Да, я запасусь мужеством, если Богу будет угодно, -- ответил Санчо.
И оба, отъехав немного в сторону, стали снова внимательно
всматриваться, что бы такое могли быть эти двигавшиеся огни, и вскоре они
различили большое число людей, одетых в белые балахоны {Encamisados (одетые
в белые рубахи поверх одежды) -- выражение, чаще всего употребляемое по
отношению к солдатам, прибегавшим к этой хитрости во время ночных нападений,
чтобы признать друг друга в темноте.}. Это страшное видение окончательно
погасило мужество в душе Санчо Пансы, и он застучал зубами, как в припадке
четырехдневной лихорадки; его дрожь и стучание зубами еще усилились, когда
они ясно рассмотрели, что это такое: они увидели около двадцати человек в
длинных белых балахонах верхом, с зажженными факелами в руках, а за ними
следовали носилки, покрытые трауром, за которыми ехало еще шесть всадников,
облаченных в траур до самых ног их мулов, -- что это были мулы, а не лошади,
хорошо было видно по их спокойной поступи. Ехали белые привидения, что-то
бормоча себе под нос тихим и жалобным голосом. Это изумительное видение в
такой час и в таком пустынном месте могло, без сомнения, наполнить страхом
сердце Санчо и даже сердце его господина, что действительно и случилось с
Дон Кихотом. Но Санчо окончательно забыл свое намерение запастись мужеством.
С господином же его произошло противоположное, так как его фантазия тотчас
же ярко разрисовала ему, что это одно из приключений, описанных в его
книгах. Он вообразил себе, что носилки -- погребальные дроги, а на них везут
какого-нибудь тяжелораненого или мертвого рыцаря, отомстить за которого
предназначено единственно ему. Без дальнейших размышлений он, взяв наперевес
копье, уселся крепче в седле и с благородной осанкой и мужественным видом
стал посреди дороги, по которой белые привидения неминуемо должны были
проехать. Когда же он увидел их вблизи себя, то громким голосом воскликнул:
-- Остановитесь, рыцари, кто бы вы ни были, и дайте мне отчет: откуда и
куда вы едете, кто вы такие и что у вас там, на этих носилках? По всем
признакам вы или сами совершили, или над вами было совершено кем-либо
злодеяние, -- мне же следует и необходимо это знать для того, чтобы наказать
вас за содеянное вами зло или же отомстить за нанесенную вам обиду!
-- Мы спешим, -- ответило одно из белых привидений, -- а до постоялого
двора еще далеко, и мы не можем останавливаться, чтобы дать вам
обстоятельный отчет, которого вы требуете. -- И, пришпорив мула, привидение
двинулось вперед. Сильно раздраженный таким ответом, Дон Кихот схватил мула
за узду и сказал:
-- Остановитесь и будьте вежливее! Дайте отчет, которого я требую; если
же нет, вызываю всех вас на поединок со мной.
Мул был пуглив, и, когда почувствовал, что его схватили за узду, он так
испугался, что поднялся на дыбы и сбросил своего седока на землю. Слуга,
шедший пешком, увидав, что его господин в белом одеянии упал с мула, начал
поносить Дон Кихота, который, воспылав гневом, не раздумывая ни минуты,
наклонив копье, устремился на одного из всадников, одетых в траур, и, тяжело
ранив его, сбросил на землю; затем он обратился к
остальным, и, действительно, стоило посмотреть, с какой он быстротой
нападал на них и разбивал их: казалось, что в ту минуту у Росинанта выросли
крылья, так он легко и гордо выступал. Всадники, облаченные в белое, были
люди пугливые и безоружные, поэтому они поспешили тотчас же отказаться от
битвы и бросились бежать по полю с зажженными факелами, более всего
напоминая собой ряженых, забавляющихся в дни празднеств и торжеств. А одетые
в траур -- закутанные и опутанные своими шлейфами и длинными облачениями --
не могли двинуться с места; поэтому Дон Кихот, не подвергаясь ни малейшей
опасности, всех их побил и заставил против их воли покинуть место действия,
так как они думали, что на них напал не человек, а сам дьявол, явившийся из
преисподней, чтобы отнять у них труп, который они несли на носилках. Все это
видел Санчо; удивленный отвагой своего господина, он подумал про себя:
"Несомненно, этот мой господин в самом деле такой мужественный и храбрый,
как он говорит".
На земле, близ первого всадника, сброшенного мулом, лежал горящий
факел, при свете которого Дон Кихот увидел упавшего. Он подошел к нему,
приставил ему к лицу острие копья и потребовал, чтобы он сдался; если же
нет, грозил убить его. На это упавший ответил:
-- Кажется, я вполне сдался, потому что не могу двинуться с места: у
меня нога сломана. Умоляю вашу милость, если вы рыцарь-христианин, не
убивайте меня, иначе вы совершите великое святотатство, потому что я
лисенсиат и уже посвящен в духовный сан.
-- Какие же черти принесли вас сюда, если вы духовное лицо? --
воскликнул Дон Кихот.
-- Какие черти, сеньор? -- ответил упавший. -- Несчастная моя судьба.
-- И еще более несчастная судьба ожидает вас, -- объявил Дон Кихот,--
если вы тотчас же не удовлетворите меня, ответив на вопрос, первоначально
предложенный мною вам.
-- Удовлетворю вашу милость немедленно, -- сказал лисенсиат. -- Итак,
да будет известно вашей милости, что, хотя я перед тем сказал, что я
лисенсиат, я только бакалавр, и зовут меня Алонсо Лопес. Родом я из
Алькобендаса, и вместе с другими одиннадцатью священнослужителями, теми
самыми, которые убежали с факелами, едем мы из города Баэса в город Сеговию,
провожая мертвое тело, лежащее на этих носилках,-- труп дворянина, умершего
в Баэсе, где он был похоронен, а теперь, как я уже говорил, мы везем его
останки в фамильный склеп в Сеговию, откуда он родом.
-- А кто его убил? -- спросил Дон Кихот.
-- Бог, посредством гнилой горячки, которая и унесла его, -- ответил
бакалавр.
-- Таким образом, -- сказал Дон Кихот, -- Господь Бог избавил меня от
труда отомстить за смерть этого человека, что я должен был бы сделать, если
бы его убил кто-нибудь другой; а так как он умер по воле пославшего ему
смерть, остается лишь одно: молчать и пожать плечами, потому что я сделал бы
то же, если бы Он убил и меня самого. Но я желал бы, чтобы вы, ваше
преподобие, знали, что я рыцарь, родом из Ламанчи, по имени Дон Кихот и что
моя профессия и мое призвание -- скитаться по всему свету, исправляя зло и
уничтожая несправедливость и обиды.
-- Не знаю, как вы там исправляете зло, -- сказал бакалавр, -- но что
касается меня, вы не исправили, а нанесли мне зло, сломав мне ногу,
вследствие чего я буду хромать до конца моих дней; относительно же
уничтожения обид, вы не уничтожили, а, напротив, нанесли мне неизгладимую на
всю жизнь обиду; и самое большое несчастие, обрушившееся на меня, была
встреча с вами в ваших поисках приключений.
-- Не все вещи случаются на один и тот же лад, -- сказал Дон Кихот, --
беда ваша, сеньор бакалавр Алонсо Лопес, заключалась в том, что вы ехали
ночью, одетые в стихари, с зажженными факелами, с тихим пением и обвешанные
трауром, так что, действительно, вы казались какой-то чертовщиной и
порождением ехидны. Поэтому я не мог не исполнить своей обязанности и не
напасть на вас. Я напал бы на вас и тогда, если бы был даже вполне уверен,
что вы самые что ни на есть дьяволы из преисподней, за которых я вас все
время считал и принимал.
-- Раз уж мне выпала столь несчастная судьба, -- сказал бакалавр, -- то
прошу вашу милость, сеньор странствующий рыцарь, лишивший меня возможности
странствовать: помогите мне выбраться из-под этого мула, так как у меня нога
прищемлена между стременем и седлом.
-- Я бы говорил, пожалуй, до завтрашнего дня, -- сказал Дон Кихот, -- а
вы чего же ждали и не сказали мне о своей беде?
И он немедленно позвал Санчо, но тот не очень-то спешил, так как был
занят разгрузкой вьючного мула, которого добрые сеньоры вели за собой,
хорошо нагруженного съестными припасами. Санчо устроил мешок из своего плаща
и, наложив туда всего, что мог и что туда влезло, взвалил мешок на своего
осла и затем тотчас побежал на зов Дон Кихота, которому он и помог вытащить
сеньора бакалавра из-под его мула; усадив его на седло, он подал ему факел,
а Дон Кихот сказал бакалавру, чтобы он ехал вслед за бежавшими своими
товарищами и попросил бы у них от его имени извинения за оскорбление,
которое он им нанес и которое не в его власти было не нанести им. А Санчо
еще добавил:
-- Если б случайно эти сеньоры пожелали узнать, кто был тот храбрый
человек, который так хорошо отделал их, скажите им, ваша милость, что это
был знаменитый Дон Кихот Ламанчский, называемый другим именем: Рыцарь
Печального Образа.
Тогда бакалавр сказал, уезжая:
-- Я забыл предупредить вашу милость, что вы отлучены от церкви за то,
что насильственно подняли руку на священные предметы: "juxta illud si quis
suadente diabolo" {Если кто по наущению дьявола (лат.).} и т. д.
-- Я этой латыни не понимаю, -- ответил Дон Кихот, -- но хорошо знаю,
что поднял я не руку, а вот это копье; сверх того, я не подозревал, что
оскорбляю духовных лиц или церковные предметы, к которым, как верующий
католик и добрый христианин, я питаю достодолжное уважение, а думал, что
нападаю на привидения и чудища с того света. Но даже если б оно и не было
так, все же в памяти у меня хранится то, что случилось с Си-дом Руи Диасом,
когда он сломал вдребезги кресло королевского посланника в присутствии Его
Святейшества Папы, за что тот отлучил его от церкви; а тем не менее добрый
Родриго де Бивар вел себя в тот день как самый благородный и мужественный
рыцарь.
Услыхав это, бакалавр, как уже было сказано, уехал, не ответив ни
слова. А Дон Кихот спросил Санчо, что побудило его именно теперь, а не в
другое время, назвать его Рыцарем Печального Образа.
-- Сейчас скажу вам, -- ответил Санчо, -- я смотрел на вас несколько
минут при свете факела, который держал в руках тот несчастный хромой, и,
право, у вашей милости было самое жалкое лицо, которое я когда-либо видел;
должно быть, это произошло или оттого, что вы сильно утомились в бою, или же
от недостающих у вас передних и коренных зубов.
-- Вовсе не то, -- ответил Дон Кихот, -- но мудрецу, которому предстоит
написать историю моих подвигов, показалось, без сомнения, уместным, чтобы я
избрал себе прозвище, как это делали все рыцари в былые времена; один из них
назывался Рыцарем Пылающего Меча, другой -- Рыцарем Единорога, третьего
звали Рыцарем Феникса, этого -- Рыцарем Грифа, того -- Рыцарем Смерти, и под
этими прозвищами и девизами они были известны на всем земном шаре. Итак, я
говорю, что упомянутый мудрец внушил тебе мысль и вложил тебе в уста назвать
меня теперь Рыцарем Печального Образа, как я отныне и намерен называться. А
чтоб это прозвище еще лучше ко мне шло, я, когда окажется случай, велю
нарисовать на своем щите необычайно печальную фигуру.
-- К чему вам тратить время и деньги на изображение такой фигуры, --
сказал Санчо, -- вам надо сделать лишь одно: пусть ваша милость покажет свою
фигуру, и тем, которые будут смотреть на вас, откройте свое лицо, и тотчас
же, без всякого промедления и всяких изображений и щитов вас назовут Рыцарем
Печального Образа. Поверьте мне, что я говорю правду, и уверяю вас, милость
ваша сеньор (будь сказано в шутку), что голод и потеря коренных зубов до
того обезобразили ваше лицо, что, как я уже говорил, вам отлично можно
обойтись без изображения печального образа на щите.
Дон Кихот рассмеялся над шуткой Санчо, но тем не менее он решил принять
новое прозвище и дать разрисовать свой щит, как он намеревался.
Дон Кихот захотел удостовериться, действительно ли на носилках лежит
труп или нет, но Санчо не согласился на это, сказав:
-- Сеньор, опасное это приключение кончилось для вашей милости более
счастливо, чем все остальные, при которых я присутствовал; но эти люди, хотя
и побежденные и обращенные в бегство, могут, однако, одуматься и понять, что
с ними расправился всего лишь один человек; рассерженные этим и устыдившись,
они могут ободриться и вернуться, разыскать нас и хорошенько нас проучить.
Осел в исправности, горы вблизи, голод мучит нас, и нам остается лишь одно:
спокойным шагом удалиться отсюда, и, как говорится, пускай мертвый ложится в
могилу, а живой берется за хлеб.
С этими словами Санчо, погнав вперед своего осла, попросил и господина
своего следовать за ним, что тот, считая, что Санчо прав, и сделал без
всякого возражения.
Они проехали небольшое расстояние между двумя холмами и очутились на
уединенной, обширной поляне, где оба спешились, и Санчо разгрузил здесь
своего осла. Господин и слуга растянулись на зеленой траве и, благодаря
приправе голода, одновременно позавтракали и пообедали, пополдничали и
поужинали, набив свои желудки многими лакомыми припасами, которые
сопровождавшие покойника сеньоры церковники (редко забывающие основательно
позаботиться о себе) везли с собой на вьючном муле. Но с Дон Кихотом и его
оруженосцем приключилась новая беда, которую Санчо счел за худшую из всех, а
именно: у них не оказалось не только вина, а даже и воды, чтоб промочить
себе горло. Терзаемый жаждой Санчо, заметив, что луг, на котором они сидели,
в изобилии покрыт свежей, сочной травой, сказал то, что будет изложено в
следующей главе.

 Без сомнения, сеньор мои,-- и эта трава служит тому доказательством, --
здесь поблизости должен быть источник или ручеек, освежающий этот луг, и
потому было бы хорошо нам пройти немного дальше и отыскать место, где можно
будет утолить ужасную жажду, терзающую нас, и которая, несомненно,
мучительнее голода.
Совет этот понравился Дон Кихоту, и он взял за повод Росинанта, а Санчо
взял за недоуздок осла, предварительно навьючив на него остатки ужина, и оба
они начали ощупью подниматься по лугу вверх, так как ночная темнота мешала
им что-либо видеть. Но не прошли они и двухсот шагов, как до слуха их
донесся сильный шум воды, словно свергавшейся с высоких и крутых скал. Этот
шум чрезвычайно обрадовал их; когда же они остановились, чтобы прислушаться,
с какой стороны он раздается, до их ушей внезапно донесся грохот другого
рода, который уничтожил их радость по поводу найденной воды, и особенно
радость Санчо, потому что он по природе был малодушен и труслив. Они
услышали, говорю я, какие-то мерно раздававшиеся удары, смешанные с
бряцанием железа и цепей, и все это, сопровождаемое страшным грохотом вод,
низвергавшихся со скал, наполнило бы ужасом любое сердце, исключая лишь
сердце Дон Кихота.
Кругом, как было сказано, стояла непроглядная ночь, и наши искатели
приключений очутились под высокими деревьями, листва которых, колеблемая
легким ветерком, издавала какой-то глухой, зловещий шелест, так что темнота,
пустынная местность, шум вод и шелест листьев -- все вместе наводило страх и
ужас, и тем более когда они убедились, что и удары не умолкают, и ветер не
перестает дуть, и утро не занимается, и в довершение всего местность, в
которой они находятся, совершенно незнакома им.
Но Дон Кихот, подбодряемый своим неустрашимым сердцем, вскочил на
Росинанта, надел на руку щит и, подняв копье, сказал:
-- Санчо, друг! Ты должен знать, что я -- по велению небес -- родился в
этот наш железный век, чтобы воскресить в нем так называемый золотой век. Я
тот, для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги; я тот, говорю
еще раз, которому суждено воскресить рыцарей Круглого стола, двенадцать
пэров Франции и девять мужей Славы; тот, который заставит забыть Платиров,
Таблантов, Одивантов и Тирантов, Белианисов и Фебов со всей толпой
странствующих рыцарей минувших времен, совершив в этот наш век столь
небывалые чудеса храбрости и изумительные подвиги, от которых померкнут все
самые блестящие деяния, совершенные ими. Заметь хорошенько, верный и
преданный оруженосец, темноту этой ночи, странную ее тишину, глухой и
смутный шелест деревьев, ужасающий рев воды, которую мы искали и которая
словно низвергается и стремительно выбрасывается с высоких гор луны,
вслушайся в эти неперестающие мерные удары, что нам терзают и ранят слух, --
всех этих явлений вместе взятых и каждого из них в отдельности было бы
достаточно, чтобы вселить страх, испуг и ужас в грудь самого Марса, а тем
более того, кто не привык к подобного рода событиям и приключениям. Но все,
что я сейчас описал тебе, пробуждает и зажигает во мне отвагу, и сердце мое
так и бьется в груди от желания идти навстречу страшному этому приключению,
какой бы опасностью оно ни угрожало. Итак, Санчо, подтяни немного подпруги
Росинанта, и да хранит тебя бог. Ожидай меня здесь не более трех суток и,
если я в течение этого времени не вернусь, отправляйся к нам в село, а
оттуда -- чтобы сделать мне удовольствие и оказать мне услугу -- съезди в
Тобосо и передай там несравненной моей сеньоре Дульсинее, что плененный ею
рыцарь погиб, совершая подвиги, которые сделали бы его достойным называться
ее поклонником.
Когда Санчо услыхал эти слова своего господина, растроганный донельзя,
он заплакал и сказал:
-- Не знаю, сеньор, зачем ваша милость желает идти навстречу столь
ужасному приключению. Теперь ночь; здесь никто нас не видит, мы легко можем
свернуть с дороги и укрыться от опасности, хотя бы нам не пришлось пить
целых три дня; а так как некому нас видеть, то некому будет и обзывать нас
трусами. Притом же я часто слышал, как сельский наш священник (с которым
ваша милость хорошо знакома) в своих проповедях говорил, что тот, кто ищет
опасности, от нее погибает; поэтому нехорошо искушать Бога и предпринимать
столь ужасающее дело, спастись от которого можно только благодаря чуду.
Довольствуйтесь тем, что небо уже сделало для вашей милости, избавив вас от
того, чему я подвергся, от подкидывания на одеяле, и допустив вас выйти
победителем, свободным и невредимым, над столь многими врагами, которые
сопровождали покойника. И если все это не тронет и не смягчит жестокое ваше
сердце, пусть его тронет мысль и уверенность, что, едва ваша милость
удалится, я со страху отдам мою душу тому, кто захочет ее взять. Я покинул
свою родину, оставил жену и детей, чтобы служить вашей милости, в полной
уверенности, что улучшу, а не ухудшу свои обстоятельства. Но подобно тому
как алчность прорывает мешок, она сгубила и мои надежды, потому что, как раз
когда они были особенно ярки и я был уверен, что наконец получу злополучный,
проклятый остров, который ваша милость столько раз мне обещала, -- я вижу,
что взамен этой награды вы хотите бросить меня теперь одного в местности,
столь отдаленной от всякого сношения с людьми. Ради единого бога, сеньор
мой, не наносите мне такой обиды. И если уже милость ваша не желает вовсе
отказаться от задуманного ею подвига, по крайней мере, отложите его хоть до
утра, так как, судя по приметам, которые я узнал, когда был пастухом, до
рассвета осталось, может быть, менее трех часов, потому что отверстие Рога
{Bocina (исп.) -- Охотничий Рог, так называли в те времена в Испании
созвездие Малой Медведицы. Пастухи определяли часы ночи по прохождению
Полярной звезды, изображающей отверстие Рога.} стоит над головой, а полночь
оно показывает на линии левой руки.
-- Как можешь ты, Санчо, -- спросил Дон Кихот, -- видеть, где эта
линия, или это отверстие, или голова, о которой ты говоришь, если ночь такая
темная, что на всем небе не видать ни одной звезды.
-- Это верно, -- сказал Санчо, -- но у страха много глаз, и он видит
вещи под землей, а тем более на небе; впрочем, и без того нетрудно
догадаться, что до рассвета уже недалеко.
-- Далеко или недалеко, -- ответил Дон Кихот, -- но да не будет сказано
про меня ни теперь и ни в какое время, что слезы и просьбы отклонили меня
сделать то, что в качестве рыцаря я должен был сделать. Поэтому прошу тебя,
Санчо, замолчи, так как Бог, вложивший мне в душу решимость подвергнуть себя
теперь этому неслыханному и столь ужасному приключению, позаботится о моей
безопасности и утешит тебя в твоей печали. Теперь тебе предстоит лишь одно:
хорошенько подтянуть подпруги Росинанта и оставаться здесь, так как я скоро
вернусь, живой или мертвый.
Когда Санчо увидел, что это окончательное решение его господина и
убедился, как мало на него действуют слезы, советы и просьбы, он задумал
прибегнуть к хитрости, чтобы заставить его дождаться рассвета, если
возможно. Поэтому, пока он подтягивал подпругу лошади, он неслышно и
незаметно недоуздком осла связал обе ноги Росинанта, так что, когда Дон
Кихот захотел ехать, он не мог этого сделать оттого, что конь не был в
состоянии двинуться иначе как только прыжками. Увидев, как хорошо ему
удалась эта хитрость, Санчо сказал:
-- Вот, сеньор, небо, тронутое моими слезами и мольбами, устроило так,
что Росинант не может двинуться с места. Если же вы захотели бы
упорствовать, понукать и бить лошадь, это значило бы гневить судьбу и, как
говорится, идти против рожна.
Дон Кихот был в отчаянии, но чем больше он пришпоривал Росинанта, тем
менее тот двигался с места. Нимало не подозревая, что у лошади связаны ноги,
Дон Кихот счел тогда за лучшее успокоиться и ждать, или чтобы рассвело, или
чтобы Росинант начал двигаться, и, вполне уверенный, что случившееся
происходит от чего-либо другого, а не от хитрости Санчо, он сказал ему:
-- Раз это так, Санчо, что Росинант не может двигаться, я согласен
ждать здесь, пока нам улыбнется утро, хотя я чуть не плачу оттого, что оно
так медлит показаться.
-- Плакать незачем, -- возразил Санчо, -- так как я буду забавлять вашу
милость, рассказывая вам сказки до самого утра, если только вы не пожелаете
слезть с коня и уснуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей,
чтобы чувствовать себя свежим и бодрым, когда займется день и настанет время
идти навстречу ожидающему вас столь неслыханному и ужасному приключению.
-- Кому это ты говоришь, чтобы слезть с коня или уснуть? -- сказал Дон
Кихот. -- Разве я из тех рыцарей, которые ищут отдыха среди опасностей? Спи
ты, родившийся для того, чтобы спать, или делай, что хочешь, я же буду
делать то, что более всего соответствует моему призванию.
Без сомнения, сеньор мои,-- и эта трава служит тому доказательством, --
здесь поблизости должен быть источник или ручеек, освежающий этот луг, и
потому было бы хорошо нам пройти немного дальше и отыскать место, где можно
будет утолить ужасную жажду, терзающую нас, и которая, несомненно,
мучительнее голода.
Совет этот понравился Дон Кихоту, и он взял за повод Росинанта, а Санчо
взял за недоуздок осла, предварительно навьючив на него остатки ужина, и оба
они начали ощупью подниматься по лугу вверх, так как ночная темнота мешала
им что-либо видеть. Но не прошли они и двухсот шагов, как до слуха их
донесся сильный шум воды, словно свергавшейся с высоких и крутых скал. Этот
шум чрезвычайно обрадовал их; когда же они остановились, чтобы прислушаться,
с какой стороны он раздается, до их ушей внезапно донесся грохот другого
рода, который уничтожил их радость по поводу найденной воды, и особенно
радость Санчо, потому что он по природе был малодушен и труслив. Они
услышали, говорю я, какие-то мерно раздававшиеся удары, смешанные с
бряцанием железа и цепей, и все это, сопровождаемое страшным грохотом вод,
низвергавшихся со скал, наполнило бы ужасом любое сердце, исключая лишь
сердце Дон Кихота.
Кругом, как было сказано, стояла непроглядная ночь, и наши искатели
приключений очутились под высокими деревьями, листва которых, колеблемая
легким ветерком, издавала какой-то глухой, зловещий шелест, так что темнота,
пустынная местность, шум вод и шелест листьев -- все вместе наводило страх и
ужас, и тем более когда они убедились, что и удары не умолкают, и ветер не
перестает дуть, и утро не занимается, и в довершение всего местность, в
которой они находятся, совершенно незнакома им.
Но Дон Кихот, подбодряемый своим неустрашимым сердцем, вскочил на
Росинанта, надел на руку щит и, подняв копье, сказал:
-- Санчо, друг! Ты должен знать, что я -- по велению небес -- родился в
этот наш железный век, чтобы воскресить в нем так называемый золотой век. Я
тот, для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги; я тот, говорю
еще раз, которому суждено воскресить рыцарей Круглого стола, двенадцать
пэров Франции и девять мужей Славы; тот, который заставит забыть Платиров,
Таблантов, Одивантов и Тирантов, Белианисов и Фебов со всей толпой
странствующих рыцарей минувших времен, совершив в этот наш век столь
небывалые чудеса храбрости и изумительные подвиги, от которых померкнут все
самые блестящие деяния, совершенные ими. Заметь хорошенько, верный и
преданный оруженосец, темноту этой ночи, странную ее тишину, глухой и
смутный шелест деревьев, ужасающий рев воды, которую мы искали и которая
словно низвергается и стремительно выбрасывается с высоких гор луны,
вслушайся в эти неперестающие мерные удары, что нам терзают и ранят слух, --
всех этих явлений вместе взятых и каждого из них в отдельности было бы
достаточно, чтобы вселить страх, испуг и ужас в грудь самого Марса, а тем
более того, кто не привык к подобного рода событиям и приключениям. Но все,
что я сейчас описал тебе, пробуждает и зажигает во мне отвагу, и сердце мое
так и бьется в груди от желания идти навстречу страшному этому приключению,
какой бы опасностью оно ни угрожало. Итак, Санчо, подтяни немного подпруги
Росинанта, и да хранит тебя бог. Ожидай меня здесь не более трех суток и,
если я в течение этого времени не вернусь, отправляйся к нам в село, а
оттуда -- чтобы сделать мне удовольствие и оказать мне услугу -- съезди в
Тобосо и передай там несравненной моей сеньоре Дульсинее, что плененный ею
рыцарь погиб, совершая подвиги, которые сделали бы его достойным называться
ее поклонником.
Когда Санчо услыхал эти слова своего господина, растроганный донельзя,
он заплакал и сказал:
-- Не знаю, сеньор, зачем ваша милость желает идти навстречу столь
ужасному приключению. Теперь ночь; здесь никто нас не видит, мы легко можем
свернуть с дороги и укрыться от опасности, хотя бы нам не пришлось пить
целых три дня; а так как некому нас видеть, то некому будет и обзывать нас
трусами. Притом же я часто слышал, как сельский наш священник (с которым
ваша милость хорошо знакома) в своих проповедях говорил, что тот, кто ищет
опасности, от нее погибает; поэтому нехорошо искушать Бога и предпринимать
столь ужасающее дело, спастись от которого можно только благодаря чуду.
Довольствуйтесь тем, что небо уже сделало для вашей милости, избавив вас от
того, чему я подвергся, от подкидывания на одеяле, и допустив вас выйти
победителем, свободным и невредимым, над столь многими врагами, которые
сопровождали покойника. И если все это не тронет и не смягчит жестокое ваше
сердце, пусть его тронет мысль и уверенность, что, едва ваша милость
удалится, я со страху отдам мою душу тому, кто захочет ее взять. Я покинул
свою родину, оставил жену и детей, чтобы служить вашей милости, в полной
уверенности, что улучшу, а не ухудшу свои обстоятельства. Но подобно тому
как алчность прорывает мешок, она сгубила и мои надежды, потому что, как раз
когда они были особенно ярки и я был уверен, что наконец получу злополучный,
проклятый остров, который ваша милость столько раз мне обещала, -- я вижу,
что взамен этой награды вы хотите бросить меня теперь одного в местности,
столь отдаленной от всякого сношения с людьми. Ради единого бога, сеньор
мой, не наносите мне такой обиды. И если уже милость ваша не желает вовсе
отказаться от задуманного ею подвига, по крайней мере, отложите его хоть до
утра, так как, судя по приметам, которые я узнал, когда был пастухом, до
рассвета осталось, может быть, менее трех часов, потому что отверстие Рога
{Bocina (исп.) -- Охотничий Рог, так называли в те времена в Испании
созвездие Малой Медведицы. Пастухи определяли часы ночи по прохождению
Полярной звезды, изображающей отверстие Рога.} стоит над головой, а полночь
оно показывает на линии левой руки.
-- Как можешь ты, Санчо, -- спросил Дон Кихот, -- видеть, где эта
линия, или это отверстие, или голова, о которой ты говоришь, если ночь такая
темная, что на всем небе не видать ни одной звезды.
-- Это верно, -- сказал Санчо, -- но у страха много глаз, и он видит
вещи под землей, а тем более на небе; впрочем, и без того нетрудно
догадаться, что до рассвета уже недалеко.
-- Далеко или недалеко, -- ответил Дон Кихот, -- но да не будет сказано
про меня ни теперь и ни в какое время, что слезы и просьбы отклонили меня
сделать то, что в качестве рыцаря я должен был сделать. Поэтому прошу тебя,
Санчо, замолчи, так как Бог, вложивший мне в душу решимость подвергнуть себя
теперь этому неслыханному и столь ужасному приключению, позаботится о моей
безопасности и утешит тебя в твоей печали. Теперь тебе предстоит лишь одно:
хорошенько подтянуть подпруги Росинанта и оставаться здесь, так как я скоро
вернусь, живой или мертвый.
Когда Санчо увидел, что это окончательное решение его господина и
убедился, как мало на него действуют слезы, советы и просьбы, он задумал
прибегнуть к хитрости, чтобы заставить его дождаться рассвета, если
возможно. Поэтому, пока он подтягивал подпругу лошади, он неслышно и
незаметно недоуздком осла связал обе ноги Росинанта, так что, когда Дон
Кихот захотел ехать, он не мог этого сделать оттого, что конь не был в
состоянии двинуться иначе как только прыжками. Увидев, как хорошо ему
удалась эта хитрость, Санчо сказал:
-- Вот, сеньор, небо, тронутое моими слезами и мольбами, устроило так,
что Росинант не может двинуться с места. Если же вы захотели бы
упорствовать, понукать и бить лошадь, это значило бы гневить судьбу и, как
говорится, идти против рожна.
Дон Кихот был в отчаянии, но чем больше он пришпоривал Росинанта, тем
менее тот двигался с места. Нимало не подозревая, что у лошади связаны ноги,
Дон Кихот счел тогда за лучшее успокоиться и ждать, или чтобы рассвело, или
чтобы Росинант начал двигаться, и, вполне уверенный, что случившееся
происходит от чего-либо другого, а не от хитрости Санчо, он сказал ему:
-- Раз это так, Санчо, что Росинант не может двигаться, я согласен
ждать здесь, пока нам улыбнется утро, хотя я чуть не плачу оттого, что оно
так медлит показаться.
-- Плакать незачем, -- возразил Санчо, -- так как я буду забавлять вашу
милость, рассказывая вам сказки до самого утра, если только вы не пожелаете
слезть с коня и уснуть на зеленой траве по обычаю странствующих рыцарей,
чтобы чувствовать себя свежим и бодрым, когда займется день и настанет время
идти навстречу ожидающему вас столь неслыханному и ужасному приключению.
-- Кому это ты говоришь, чтобы слезть с коня или уснуть? -- сказал Дон
Кихот. -- Разве я из тех рыцарей, которые ищут отдыха среди опасностей? Спи
ты, родившийся для того, чтобы спать, или делай, что хочешь, я же буду
делать то, что более всего соответствует моему призванию.
 -- Не сердитесь, ваша милость сеньор мой, -- ответил Санчо, -- я сказал
это не подумавши. -- И подойдя к Дон Кихоту, он положил одну руку на
переднюю луку седла, а другую -- на задний арчак, так что обнял левое бедро
своего господина, не смея отойти от него ни на палец, так велик был его
страх перед ударами, которые все еще мерно раздавались один за другим. Дон
Кихот просил Санчо рассказать ему какую-нибудь историю, чтобы развлечь его,
как он обещал. На это Санчо ответил, что сделал бы это, если б не страх,
наводимый на него шумом, который он слышит. -- Тем не менее,-- продолжал он,
-- я приложу все усилия рассказать вам такую историю, что, если мне удастся
ее рассказать и меня не прервут, она окажется лучшей из всех историй.
Слушайте же внимательно, ваша милость, потому что я начинаю.
Было то, что было, и пусть добро достается всем, а зло тому, кто его
ищет; и заметьте, ваша милость, сеньор мой, что начало сказок, как их
говорили в старину, было не таким, как кому вздумается, потому что это было
изречение Катона Сонсорино {Санчо говорит "Caton Zonzorino", желая сказать
"Caton el Censorino", или Катон Цензор, изречения которого были в то время в
большом ходу как среди ученых, так и неученых.} римского, гласившее: а зло
тому, кто его ищет, и это так же под стать здесь, как кольцо к пальцу, имея
в виду, чтобы ваша милость оставалась спокойной и не отправлялась куда-либо
искать зло и мы бы повернули на другую дорогу, так как никто не принуждает
нас продолжать путь, где столько ужасов ожидает нас.
-- Продолжай свой рассказ, Санчо,-- сказал Дон Кихот, -- и предоставь
мне заботиться, по какой дороге нам ехать.
-- Итак, я говорю, -- снова начал Санчо, -- что в одном из местечек
Эстрамадуры жил-был пастух, или, надо бы сказать, козопас; каковой пастух,
или козопас, как говорится в моей истории, назывался Лопе Руис, и этот Лопе
Руис был влюблен в пастушку, которую звали Торральва, а пастушка по имени
Торральва была дочерью богатого владельца стада, богатый же владелец
стада...
-- Если ты, Санчо, будешь продолжать рассказывать таким образом,
повторяя каждое слово по два раза, ты не кончишь свой рассказ и в два дня...
Говори же связно и рассказывай как разумный человек или уж лучше ничего не
говори.
-- Таким же образом, как я рассказываю, -- ответил Санчо, --
рассказывают у нас на селе все сказки, и я не умею рассказывать их иначе, и
нехорошо с вашей стороны, сеньор, что вы требуете от меня, чтобы я вводил
новые обычаи.
-- Рассказывай, как знаешь, -- согласился Дон Кихот, -- и продолжай,
раз судьбе угодно, чтобы я слушал тебя...
-- Итак, сеньор души моей, -- сказал снова Санчо, -- этот пастух, как я
уже говорил, был влюблен в пастушку Торральву, девушку здоровенную и
строптивую, которая к тому же немного смахивала на мужчину, потому что у нее
были небольшие усики, право, я ее как сейчас вижу перед собою.
-- Значит, ты ее знал? -- спросил Дон Кихот.
-- Нет, я не знал ее, -- ответил Санчо, -- но тот, кто рассказывал мне
эту сказку, говорил, что в ней до того все истинно и правдиво, что когда я
буду рассказывать ее другим, то могу уверять и клясться, что видел все
собственными своими глазами. Итак, в то время как дни шли и уходили, черт,
который не спит и все путает, устроил так, что любовь пастуха к пастушке
обратилась в отвращение и злобу, а причиной тому, как говорят злые языки,
было достаточное количество ревности, возбужденной в нем такого рода ее
поступками, которые переходили меру и граничили с недозволенным; всего этого
накопилось столько, что пастух с того времени возненавидел ее и, чтобы не
встречаться с нею, решил покинуть ту местность и идти туда, где его глаза
никогда не увидят ее. Лишь только Торральва убедилась, что Лопе пренебрегает
ею, тотчас же она полюбила его так сильно, как никогда прежде не любила.
-- Это прирожденное женщинам свойство, -- сказал Дон Кихот, --
пренебрегать теми, кто их любит, и любить тех, кто их ненавидит. Продолжай,
Санчо.
-- Случилось так, -- сказал Санчо,-- что пастух привел в исполнение
свое намерение. Он собрал всех своих коз и погнал их по полям Эстрамадуры,
имея в виду перебраться в Португальское королевство. Узнав об этом,
Торральва пустилась вслед за ним и шла издали, пешком, босая, с посохом в
руках и с котомкой за плечами, в которой у нее, как говорит молва,
находились обломок зеркала, кусочек гребня и не знаю какая склянка с
притираниями для лица. Но пусть она несла себе, что хотела, я не желаю
заниматься проверкой этого теперь, а только скажу одно, что пастух, как
говорят, подошел со своим стадом к реке Гадиана, через которую должен был
переправиться. Но в то время года вода в реке сильно поднялась и почти что
вышла из берегов. А в том месте, куда пришел пастух, не было ни лодки, ни
барки и никого, кто бы мог перевезти его и его стадо на другой берег. Это
чрезвычайно огорчило пастуха, так как он видел, что Торральва приближается и
наделает ему много неприятностей своими просьбами и слезами. Но он не
переставал всматриваться во все стороны, пока наконец не увидел рыбака, у
которого была такая маленькая лодка, что в ней могли поместиться всего лишь
один человек и одна коза. Тем не менее он поговорил с ним и условился, чтобы
рыбак перевез на другой берег его и бывшие при нем триста коз. Рыбак сел в
лодочку и перевез сначала одну козу, вернулся и перевез другую, опять
вернулся и перевез еще одну. Хорошенько считайте, ваша милость, тех коз,
которых рыбак перевозит на другой берег, потому что, если хоть одна из них
выскочит у вас из памяти, рассказу будет конец и к нему нельзя будет
прибавить ни слова больше. Итак, продолжаю и говорю, что пристань на том
берегу была очень топкая и скользкая и рыбаку требовалось немало времени для
переезда туда и обратно. Тем не менее он вернулся еще за одной козой, потом
еще за одной, и еще за одной...
-- Предположи, что он перевез их всех, -- сказал Дон Кихот, -- и не
переезжай с ними всякий раз туда и обратно, иначе ты и через год не
перевезешь их на другой берег.
-- Сколько коз было перевезено до сих пор? -- спросил Санчо.
-- Как, черт возьми, могу я это знать! -- ответил Дон Кихот.
-- Ну вот, не говорил ли я вам, чтобы вы хорошенько считали, потому что
теперь, ей-богу, конец моему рассказу, и никак нельзя его продолжать.
-- Как это может быть? -- спросил Дон Кихот. -- Неужели так существенно
для твоего рассказа знать с точностью, сколько коз было перевезено на другой
берег, и, если просчитаешь хоть одну козу, ты не можешь продолжать дальше
своей истории?..
-- Да, сеньор, никоим образом не могу, -- подтвердил Санчо, -- потому
что, когда я спросил вашу милость, сколько коз было перевезено на другой
берег, а вы мне ответили, что не знаете, в ту же минуту у меня из памяти
улетучилось все, что оставалось мне досказать, а говоря по чести, это было
нечто очень интересное и забавное {Эта сказка одна из самых древних и,
несомненно, восточного происхождения.}.
-- Значит, -- сказал Дон Кихот,-- история твоя кончена?
-- Она так же кончена, как и жизнь моей матери, -- ответил Санчо.
-- Скажу тебе по правде, -- ответил Дон Кихот, -- что ты рассказал одну
из самых новейших сказок, повестей или историй, которую кто-либо на свете
мог придумать, и такой манеры рассказывать и обрывать рассказ никто в жизни
никогда еще не слышал и не услышит, хотя я и не ожидал чего-либо другого от
твоего великого ума; но я не удивляюсь тому, так как, по-видимому, от
беспрерывного стука у тебя помутился рассудок.
-- Все может быть, -- ответил Санчо, -- но я знаю, что относительно
моей истории мне ничего больше не остается сказать: она кончается там, где
начинается ошибка в счете перевезенных на другой берег коз.
-- Пусть история эта в добрый час кончается где угодно, -- сказал Дон
Кихот, -- а теперь посмотрим, в состоянии ли Росинант двинуться с места. --
Снова он пришпорил коня, а Росинант снова сделал несколько скачков и не
двинулся с места, так хорошо он был спутан.
Как раз в это время -- оттого ли, что уже наступившая утренняя прохлада
тому содействовала, или же потому, что Санчо вечером за ужином съел
что-нибудь слабительное, или же просто по естественному ходу вещей (что
всего вероятнее), -- он почувствовал сильное желание и потребность сделать
то, чего никто другой не мог сделать за него; однако страх, наполнявший его
душу, был так велик, что Санчо не отваживался отдалиться от своего господина
даже на кончик ногтя. С другой стороны, не сделать того, что составляло для
него неотложную потребность, также оказывалось невозможным. Желая примирить
и то и другое, он отпустил правую руку, которой держался за арчак седла, и
тихонько, не производя шума, развязал шнурок, на котором без всякого другого
приспособления держались его штаны, и, лишь только он это сделал, они
свалились к его ногам, опутав их точно кандалами. Затем он поднял, насколько
было возможно, рубашку и выставил на воздух обе половины своего седалища (а
были они немалых размеров). Когда он сделал это (а ему казалось, что это-то
и было самое необходимое, чтобы выйти из ужасного томления и мучения), им
овладела еще другая и еще большая забота: он боялся, что не сможет облегчить
себя, не производя некоторых звуков и шума. Итак, он стиснул зубы и поднял
вверх плечи, втягивая в себя сколько мог дыхание. Но, несмотря на свои
усилия, он был так несчастлив, что в конце концов произвел легкий шум,
весьма непохожий на тот, который внушал ему такой ужас.
Дон Кихот услышал этот звук и сказал:
-- Что это за звук такой, Санчо?
-- Не знаю, сеньор, -- ответил Санчо, -- должно быть, новое что-нибудь,
так как приключения и несчастья никогда не начинаются с ничего не значащего.
Он опять попытал счастье, и на этот раз ему так повезло, что он без
дальнейшего шума и суматохи освободился от тяжести, доставившей ему столько
хлопот. Но так как Дон Кихот обладал столь же тонким обонянием, как и
слухом, а Санчо стоял с ним рядом и словно пришитый к нему, испарения же
поднимались вверх почти по прямой линии, то было неизбежно, что некоторая
часть их ударила рыцарю в нос; а едва это случилось, как он поспешил на
помощь своему носу зажав его двумя пальцами, и потому несколько гнусавым
голосом сказал:
-- Мне кажется, Санчо, что тебя обуял сильнейший страх.
-- Вы правы, -- ответил Санчо, -- но из чего же милость ваша заключает,
что мой страх теперь больше, чем он был раньше?
-- Из того, что от тебя пахнет теперь больше, чем раньше, да и не
амброй, -- ответил Дон Кихот.
-- Очень может быть, -- сказал Санчо, -- но вина не моя, а вашей
милости, заставляющей меня скитаться в такие неурочные часы и в таких
необычных местностях.
-- Отойди на три или на четыре шага, -- сказал (не разжимая носа) Дон
Кихот, -- и впредь будь внимательнее как к себе самому, так и к твоим
обязанностям относительно меня. Слишком фамильярное обращение мое с тобой --
причина твоей непочтительности ко мне.
-- Готов биться об заклад, -- ответил Санчо, -- что ваша милость
воображает, будто я сейчас сделал нечто такое, чего мне не следовало делать.
-- Еще хуже копаться в этом, друг Санчо, -- ответил Дон Кихот.
В таких и тому подобных разговорах господин и слуга провели ночь, а
когда Санчо заметил, что уже близко к рассвету, он как можно осторожнее
развязал ноги Росинанту и завязал себе штаны. Едва Росинант почувствовал,
что он свободен -- хотя по природе в нем совсем не было горячности -- он
словно ожил и стал бить копытами, потому что делать курбеты (прошу у него
извинения) он не умел. Заметив, что Росинант может теперь двигаться, Дон
Кихот счел это за хорошее предзнаменование и решил, что настало время
пуститься в столь опасное приключение.
Между тем заря окончательно занялась, все предметы кругом можно было
уже ясно различить, и Дон Кихот увидел, что он находится под высокими
деревьями, оказавшимися каштанами, которые бросают очень густую тень. Он
слышал также, что стук не прекращается, но не мог открыть, кто производит
его. Итак, не медля дольше, он пришпорил Росинанта и, еще раз прощаясь с
Санчо, приказал ему ждать его здесь, как уже раньше говорил, самое большее
три дня; если же по прошествии этого срока он не вернется, пусть Санчо
считает за достоверное, что Богу было угодно, чтобы он в столь опасном
приключении поплатился жизнью. Снова повторил он ему поручение и послание,
которые от его имени предстояло Санчо передать сеньоре Дульсинее,
относительно же вознаграждения за его службу просил его не беспокоиться,
потому что перед отъездом из своего села им было сделано завещание, по
которому Санчо будет удовлетворен, соразмерно со временем его службы, во
всем, касающемся жалования его. Гели же Бог поможет рыцарю выйти из этой
опасности здравым, целым и невредимым, пусть Санчо считает более чем
несомненным, что получит обещанный остров.
Санчо снова заплакал, услыхав жалостливые слова доброго своего
господина, и решил не оставлять его до последнего перехода и окончания этого
предприятия. (Из этих слез и столь почтенного решения Санчо Пансы автор этой
истории выводит заключение, что, должно быть, он был хорошего происхождения,
по меньшей мере старый христианин {Старыми христианами называли в Испании
тех, у которых среди их предков не было выкрестов евреев или мавров.}).
Добрые чувства Санчо хотя и растрогали несколько его господина, но не
настолько, чтобы он выказал какую-либо слабость, напротив, он скрыл по
возможности свое волнение и тотчас же направился в ту сторону, откуда, как
ему казалось, раздавался шум воды и слышались мерные удары. Санчо следовал
за ним пешком и вел -- как обыкновенно это делал -- за недоуздок осла, этого
неразлучного своего товарища в счастии и несчастии.
После того как они проехали порядочное расстояние под тенью каштанов и
других густолиственных деревьев, перед ними открылась небольшая поляна,
расположенная у подножия нескольких высоких скал, с которых низвергался
мощный водопад. Внизу у этих скал виднелось несколько плохих строений,
казавшихся скорее развалинами, чем домами; оттуда именно, как они в этом
убедились, и исходил тот грохот и стук, который все еще не умолкал. Росинант
испугался гула воды и раздававшихся ударов; но Дон Кихот, успокаивая его,
приближался мало-помалу к строениям, причем он от всего сердца поручал себя
своей даме и умолял ее благоприятствовать ему в этом столь страшном
начинании и предприятии и попутно поручил себя также и Богу, чтобы Он не
оставил его. Санчо не отставал ни на шаг от своего господина и, сколько мог,
вытягивал шею и голову между ног Росинанта, чтобы посмотреть, не увидит ли
он наконец того, что нагнало на него такой страх и ужас. Пройдя еще около
ста шагов, они обогнули выдающуюся часть скалы и вдруг ясно и отчетливо
увидели перед собой причину -- потому что иной не могло быть -- того
страшного шума и тех мерных ударов, которые продержали их всю ночь в
величайшем смущении и страхе. Это были (лишь бы, о читатель, ты не
почувствовал огорчения и досады) шесть молотов валяльных мельниц, которые
своими попеременными ударами производили весь тот грохот.
Когда Дон Кихот понял, в чем дело, он словно онемел и точно замер.
Санчо посмотрел на него и увидел, что он стоит с опущенной на грудь головой,
пристыженный и смущенный. И Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и
заметил, что тот надул щеки, стараясь удержать душивший его хохот, и,
несмотря на всю свою досаду, он не мог сдержать смеха, глядя на него. Как
только Санчо увидел, что его господин первый начал, он дал себе полную волю
и до того расхохотался, что должен был подпереть кулаками бока, чтобы не
лопнуть от смеха. Четыре раза он успокаивался и столько же раз снова
принимался хохотать до упада, так что Дон Кихот посылал себя к черту, в
особенности же когда он услышал, что Санчо, передразнивая его, сказал:
-- Ты должен знать, о друг Санчо, что я, по велению небес, родился в
этот наш железный век, чтоб воскресить так называемый золотой век. Я тот,
для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги...
-- Не сердитесь, ваша милость сеньор мой, -- ответил Санчо, -- я сказал
это не подумавши. -- И подойдя к Дон Кихоту, он положил одну руку на
переднюю луку седла, а другую -- на задний арчак, так что обнял левое бедро
своего господина, не смея отойти от него ни на палец, так велик был его
страх перед ударами, которые все еще мерно раздавались один за другим. Дон
Кихот просил Санчо рассказать ему какую-нибудь историю, чтобы развлечь его,
как он обещал. На это Санчо ответил, что сделал бы это, если б не страх,
наводимый на него шумом, который он слышит. -- Тем не менее,-- продолжал он,
-- я приложу все усилия рассказать вам такую историю, что, если мне удастся
ее рассказать и меня не прервут, она окажется лучшей из всех историй.
Слушайте же внимательно, ваша милость, потому что я начинаю.
Было то, что было, и пусть добро достается всем, а зло тому, кто его
ищет; и заметьте, ваша милость, сеньор мой, что начало сказок, как их
говорили в старину, было не таким, как кому вздумается, потому что это было
изречение Катона Сонсорино {Санчо говорит "Caton Zonzorino", желая сказать
"Caton el Censorino", или Катон Цензор, изречения которого были в то время в
большом ходу как среди ученых, так и неученых.} римского, гласившее: а зло
тому, кто его ищет, и это так же под стать здесь, как кольцо к пальцу, имея
в виду, чтобы ваша милость оставалась спокойной и не отправлялась куда-либо
искать зло и мы бы повернули на другую дорогу, так как никто не принуждает
нас продолжать путь, где столько ужасов ожидает нас.
-- Продолжай свой рассказ, Санчо,-- сказал Дон Кихот, -- и предоставь
мне заботиться, по какой дороге нам ехать.
-- Итак, я говорю, -- снова начал Санчо, -- что в одном из местечек
Эстрамадуры жил-был пастух, или, надо бы сказать, козопас; каковой пастух,
или козопас, как говорится в моей истории, назывался Лопе Руис, и этот Лопе
Руис был влюблен в пастушку, которую звали Торральва, а пастушка по имени
Торральва была дочерью богатого владельца стада, богатый же владелец
стада...
-- Если ты, Санчо, будешь продолжать рассказывать таким образом,
повторяя каждое слово по два раза, ты не кончишь свой рассказ и в два дня...
Говори же связно и рассказывай как разумный человек или уж лучше ничего не
говори.
-- Таким же образом, как я рассказываю, -- ответил Санчо, --
рассказывают у нас на селе все сказки, и я не умею рассказывать их иначе, и
нехорошо с вашей стороны, сеньор, что вы требуете от меня, чтобы я вводил
новые обычаи.
-- Рассказывай, как знаешь, -- согласился Дон Кихот, -- и продолжай,
раз судьбе угодно, чтобы я слушал тебя...
-- Итак, сеньор души моей, -- сказал снова Санчо, -- этот пастух, как я
уже говорил, был влюблен в пастушку Торральву, девушку здоровенную и
строптивую, которая к тому же немного смахивала на мужчину, потому что у нее
были небольшие усики, право, я ее как сейчас вижу перед собою.
-- Значит, ты ее знал? -- спросил Дон Кихот.
-- Нет, я не знал ее, -- ответил Санчо, -- но тот, кто рассказывал мне
эту сказку, говорил, что в ней до того все истинно и правдиво, что когда я
буду рассказывать ее другим, то могу уверять и клясться, что видел все
собственными своими глазами. Итак, в то время как дни шли и уходили, черт,
который не спит и все путает, устроил так, что любовь пастуха к пастушке
обратилась в отвращение и злобу, а причиной тому, как говорят злые языки,
было достаточное количество ревности, возбужденной в нем такого рода ее
поступками, которые переходили меру и граничили с недозволенным; всего этого
накопилось столько, что пастух с того времени возненавидел ее и, чтобы не
встречаться с нею, решил покинуть ту местность и идти туда, где его глаза
никогда не увидят ее. Лишь только Торральва убедилась, что Лопе пренебрегает
ею, тотчас же она полюбила его так сильно, как никогда прежде не любила.
-- Это прирожденное женщинам свойство, -- сказал Дон Кихот, --
пренебрегать теми, кто их любит, и любить тех, кто их ненавидит. Продолжай,
Санчо.
-- Случилось так, -- сказал Санчо,-- что пастух привел в исполнение
свое намерение. Он собрал всех своих коз и погнал их по полям Эстрамадуры,
имея в виду перебраться в Португальское королевство. Узнав об этом,
Торральва пустилась вслед за ним и шла издали, пешком, босая, с посохом в
руках и с котомкой за плечами, в которой у нее, как говорит молва,
находились обломок зеркала, кусочек гребня и не знаю какая склянка с
притираниями для лица. Но пусть она несла себе, что хотела, я не желаю
заниматься проверкой этого теперь, а только скажу одно, что пастух, как
говорят, подошел со своим стадом к реке Гадиана, через которую должен был
переправиться. Но в то время года вода в реке сильно поднялась и почти что
вышла из берегов. А в том месте, куда пришел пастух, не было ни лодки, ни
барки и никого, кто бы мог перевезти его и его стадо на другой берег. Это
чрезвычайно огорчило пастуха, так как он видел, что Торральва приближается и
наделает ему много неприятностей своими просьбами и слезами. Но он не
переставал всматриваться во все стороны, пока наконец не увидел рыбака, у
которого была такая маленькая лодка, что в ней могли поместиться всего лишь
один человек и одна коза. Тем не менее он поговорил с ним и условился, чтобы
рыбак перевез на другой берег его и бывшие при нем триста коз. Рыбак сел в
лодочку и перевез сначала одну козу, вернулся и перевез другую, опять
вернулся и перевез еще одну. Хорошенько считайте, ваша милость, тех коз,
которых рыбак перевозит на другой берег, потому что, если хоть одна из них
выскочит у вас из памяти, рассказу будет конец и к нему нельзя будет
прибавить ни слова больше. Итак, продолжаю и говорю, что пристань на том
берегу была очень топкая и скользкая и рыбаку требовалось немало времени для
переезда туда и обратно. Тем не менее он вернулся еще за одной козой, потом
еще за одной, и еще за одной...
-- Предположи, что он перевез их всех, -- сказал Дон Кихот, -- и не
переезжай с ними всякий раз туда и обратно, иначе ты и через год не
перевезешь их на другой берег.
-- Сколько коз было перевезено до сих пор? -- спросил Санчо.
-- Как, черт возьми, могу я это знать! -- ответил Дон Кихот.
-- Ну вот, не говорил ли я вам, чтобы вы хорошенько считали, потому что
теперь, ей-богу, конец моему рассказу, и никак нельзя его продолжать.
-- Как это может быть? -- спросил Дон Кихот. -- Неужели так существенно
для твоего рассказа знать с точностью, сколько коз было перевезено на другой
берег, и, если просчитаешь хоть одну козу, ты не можешь продолжать дальше
своей истории?..
-- Да, сеньор, никоим образом не могу, -- подтвердил Санчо, -- потому
что, когда я спросил вашу милость, сколько коз было перевезено на другой
берег, а вы мне ответили, что не знаете, в ту же минуту у меня из памяти
улетучилось все, что оставалось мне досказать, а говоря по чести, это было
нечто очень интересное и забавное {Эта сказка одна из самых древних и,
несомненно, восточного происхождения.}.
-- Значит, -- сказал Дон Кихот,-- история твоя кончена?
-- Она так же кончена, как и жизнь моей матери, -- ответил Санчо.
-- Скажу тебе по правде, -- ответил Дон Кихот, -- что ты рассказал одну
из самых новейших сказок, повестей или историй, которую кто-либо на свете
мог придумать, и такой манеры рассказывать и обрывать рассказ никто в жизни
никогда еще не слышал и не услышит, хотя я и не ожидал чего-либо другого от
твоего великого ума; но я не удивляюсь тому, так как, по-видимому, от
беспрерывного стука у тебя помутился рассудок.
-- Все может быть, -- ответил Санчо, -- но я знаю, что относительно
моей истории мне ничего больше не остается сказать: она кончается там, где
начинается ошибка в счете перевезенных на другой берег коз.
-- Пусть история эта в добрый час кончается где угодно, -- сказал Дон
Кихот, -- а теперь посмотрим, в состоянии ли Росинант двинуться с места. --
Снова он пришпорил коня, а Росинант снова сделал несколько скачков и не
двинулся с места, так хорошо он был спутан.
Как раз в это время -- оттого ли, что уже наступившая утренняя прохлада
тому содействовала, или же потому, что Санчо вечером за ужином съел
что-нибудь слабительное, или же просто по естественному ходу вещей (что
всего вероятнее), -- он почувствовал сильное желание и потребность сделать
то, чего никто другой не мог сделать за него; однако страх, наполнявший его
душу, был так велик, что Санчо не отваживался отдалиться от своего господина
даже на кончик ногтя. С другой стороны, не сделать того, что составляло для
него неотложную потребность, также оказывалось невозможным. Желая примирить
и то и другое, он отпустил правую руку, которой держался за арчак седла, и
тихонько, не производя шума, развязал шнурок, на котором без всякого другого
приспособления держались его штаны, и, лишь только он это сделал, они
свалились к его ногам, опутав их точно кандалами. Затем он поднял, насколько
было возможно, рубашку и выставил на воздух обе половины своего седалища (а
были они немалых размеров). Когда он сделал это (а ему казалось, что это-то
и было самое необходимое, чтобы выйти из ужасного томления и мучения), им
овладела еще другая и еще большая забота: он боялся, что не сможет облегчить
себя, не производя некоторых звуков и шума. Итак, он стиснул зубы и поднял
вверх плечи, втягивая в себя сколько мог дыхание. Но, несмотря на свои
усилия, он был так несчастлив, что в конце концов произвел легкий шум,
весьма непохожий на тот, который внушал ему такой ужас.
Дон Кихот услышал этот звук и сказал:
-- Что это за звук такой, Санчо?
-- Не знаю, сеньор, -- ответил Санчо, -- должно быть, новое что-нибудь,
так как приключения и несчастья никогда не начинаются с ничего не значащего.
Он опять попытал счастье, и на этот раз ему так повезло, что он без
дальнейшего шума и суматохи освободился от тяжести, доставившей ему столько
хлопот. Но так как Дон Кихот обладал столь же тонким обонянием, как и
слухом, а Санчо стоял с ним рядом и словно пришитый к нему, испарения же
поднимались вверх почти по прямой линии, то было неизбежно, что некоторая
часть их ударила рыцарю в нос; а едва это случилось, как он поспешил на
помощь своему носу зажав его двумя пальцами, и потому несколько гнусавым
голосом сказал:
-- Мне кажется, Санчо, что тебя обуял сильнейший страх.
-- Вы правы, -- ответил Санчо, -- но из чего же милость ваша заключает,
что мой страх теперь больше, чем он был раньше?
-- Из того, что от тебя пахнет теперь больше, чем раньше, да и не
амброй, -- ответил Дон Кихот.
-- Очень может быть, -- сказал Санчо, -- но вина не моя, а вашей
милости, заставляющей меня скитаться в такие неурочные часы и в таких
необычных местностях.
-- Отойди на три или на четыре шага, -- сказал (не разжимая носа) Дон
Кихот, -- и впредь будь внимательнее как к себе самому, так и к твоим
обязанностям относительно меня. Слишком фамильярное обращение мое с тобой --
причина твоей непочтительности ко мне.
-- Готов биться об заклад, -- ответил Санчо, -- что ваша милость
воображает, будто я сейчас сделал нечто такое, чего мне не следовало делать.
-- Еще хуже копаться в этом, друг Санчо, -- ответил Дон Кихот.
В таких и тому подобных разговорах господин и слуга провели ночь, а
когда Санчо заметил, что уже близко к рассвету, он как можно осторожнее
развязал ноги Росинанту и завязал себе штаны. Едва Росинант почувствовал,
что он свободен -- хотя по природе в нем совсем не было горячности -- он
словно ожил и стал бить копытами, потому что делать курбеты (прошу у него
извинения) он не умел. Заметив, что Росинант может теперь двигаться, Дон
Кихот счел это за хорошее предзнаменование и решил, что настало время
пуститься в столь опасное приключение.
Между тем заря окончательно занялась, все предметы кругом можно было
уже ясно различить, и Дон Кихот увидел, что он находится под высокими
деревьями, оказавшимися каштанами, которые бросают очень густую тень. Он
слышал также, что стук не прекращается, но не мог открыть, кто производит
его. Итак, не медля дольше, он пришпорил Росинанта и, еще раз прощаясь с
Санчо, приказал ему ждать его здесь, как уже раньше говорил, самое большее
три дня; если же по прошествии этого срока он не вернется, пусть Санчо
считает за достоверное, что Богу было угодно, чтобы он в столь опасном
приключении поплатился жизнью. Снова повторил он ему поручение и послание,
которые от его имени предстояло Санчо передать сеньоре Дульсинее,
относительно же вознаграждения за его службу просил его не беспокоиться,
потому что перед отъездом из своего села им было сделано завещание, по
которому Санчо будет удовлетворен, соразмерно со временем его службы, во
всем, касающемся жалования его. Гели же Бог поможет рыцарю выйти из этой
опасности здравым, целым и невредимым, пусть Санчо считает более чем
несомненным, что получит обещанный остров.
Санчо снова заплакал, услыхав жалостливые слова доброго своего
господина, и решил не оставлять его до последнего перехода и окончания этого
предприятия. (Из этих слез и столь почтенного решения Санчо Пансы автор этой
истории выводит заключение, что, должно быть, он был хорошего происхождения,
по меньшей мере старый христианин {Старыми христианами называли в Испании
тех, у которых среди их предков не было выкрестов евреев или мавров.}).
Добрые чувства Санчо хотя и растрогали несколько его господина, но не
настолько, чтобы он выказал какую-либо слабость, напротив, он скрыл по
возможности свое волнение и тотчас же направился в ту сторону, откуда, как
ему казалось, раздавался шум воды и слышались мерные удары. Санчо следовал
за ним пешком и вел -- как обыкновенно это делал -- за недоуздок осла, этого
неразлучного своего товарища в счастии и несчастии.
После того как они проехали порядочное расстояние под тенью каштанов и
других густолиственных деревьев, перед ними открылась небольшая поляна,
расположенная у подножия нескольких высоких скал, с которых низвергался
мощный водопад. Внизу у этих скал виднелось несколько плохих строений,
казавшихся скорее развалинами, чем домами; оттуда именно, как они в этом
убедились, и исходил тот грохот и стук, который все еще не умолкал. Росинант
испугался гула воды и раздававшихся ударов; но Дон Кихот, успокаивая его,
приближался мало-помалу к строениям, причем он от всего сердца поручал себя
своей даме и умолял ее благоприятствовать ему в этом столь страшном
начинании и предприятии и попутно поручил себя также и Богу, чтобы Он не
оставил его. Санчо не отставал ни на шаг от своего господина и, сколько мог,
вытягивал шею и голову между ног Росинанта, чтобы посмотреть, не увидит ли
он наконец того, что нагнало на него такой страх и ужас. Пройдя еще около
ста шагов, они обогнули выдающуюся часть скалы и вдруг ясно и отчетливо
увидели перед собой причину -- потому что иной не могло быть -- того
страшного шума и тех мерных ударов, которые продержали их всю ночь в
величайшем смущении и страхе. Это были (лишь бы, о читатель, ты не
почувствовал огорчения и досады) шесть молотов валяльных мельниц, которые
своими попеременными ударами производили весь тот грохот.
Когда Дон Кихот понял, в чем дело, он словно онемел и точно замер.
Санчо посмотрел на него и увидел, что он стоит с опущенной на грудь головой,
пристыженный и смущенный. И Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и
заметил, что тот надул щеки, стараясь удержать душивший его хохот, и,
несмотря на всю свою досаду, он не мог сдержать смеха, глядя на него. Как
только Санчо увидел, что его господин первый начал, он дал себе полную волю
и до того расхохотался, что должен был подпереть кулаками бока, чтобы не
лопнуть от смеха. Четыре раза он успокаивался и столько же раз снова
принимался хохотать до упада, так что Дон Кихот посылал себя к черту, в
особенности же когда он услышал, что Санчо, передразнивая его, сказал:
-- Ты должен знать, о друг Санчо, что я, по велению небес, родился в
этот наш железный век, чтоб воскресить так называемый золотой век. Я тот,
для кого предназначены опасности, великие дела и подвиги...
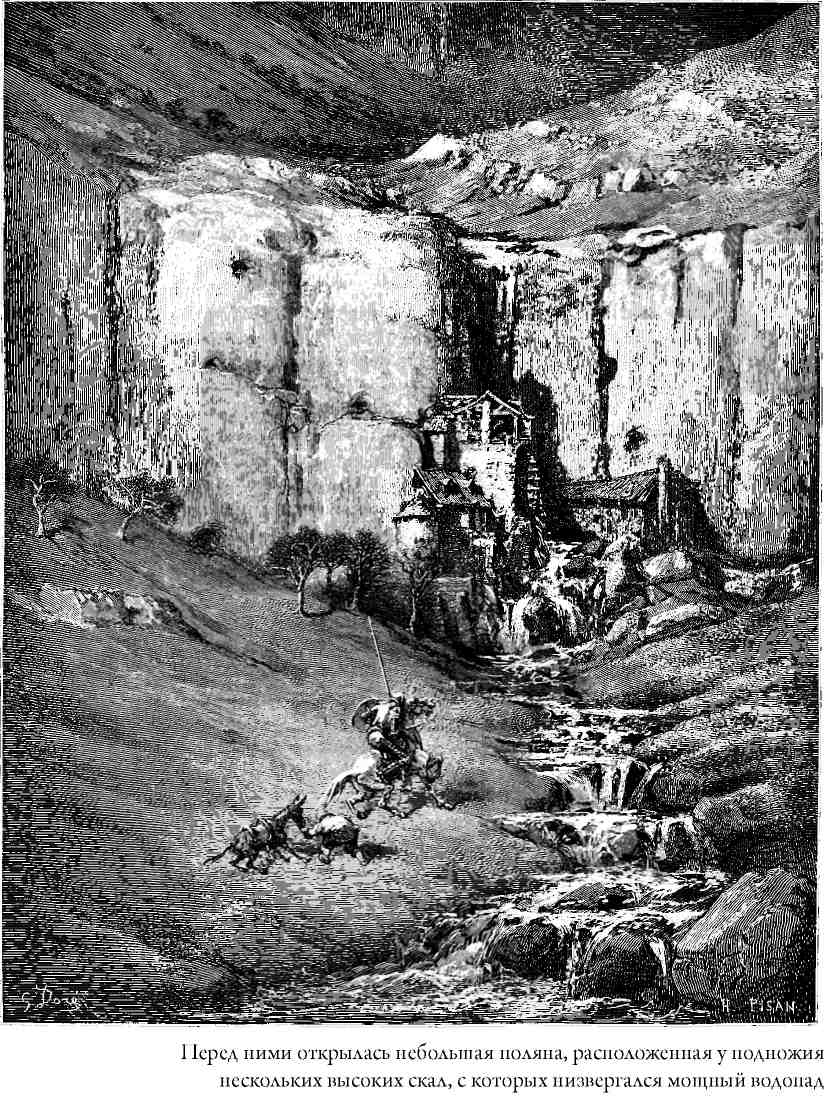 Таким образом, он повторил все или по крайней мере, большую часть того,
что говорил Дон Кихот, когда они впервые услышали страшные удары молотов.
Видя, что Санчо потешается над ним, Дон Кихот так рассердился и вспылил, что
поднял копье и нанес им два увесистых удара Санчо, которыми, если б они
попали ему не по плечам, а по голове, господин его освободился бы от выплаты
ему жалованья, разве только ему пришлось бы уплатить это жалованье его
наследникам. Видя, что шутки его принесли такие горестные плоды, и опасаясь,
чтобы его господин не зашел еще дальше в том же направлении, Санчо с большим
смирением сказал ему:
-- Ваша милость, успокойтесь, ей-богу же, я пошутил.
-- Но если вы шутите, я не шучу,-- ответил Дон Кихот. -- Ступайте-ка
сюда, господин весельчак! Думаете ли вы, что, если б тут были не эти
валяльные молоты, а предстояло бы какое-нибудь опасное приключение, я не
выказал бы мужества, необходимого для того, чтобы предпринять его и довести
до конца? Быть может, -- будучи рыцарем, каков я есть, -- я обязан узнавать
и различать звуки и знать, производятся ли они валяльными мельницами или
нет? И тем более, говорю я, ведь могло бы быть -- как оно на самом деле и
есть, -- что я никогда в жизни не видел таких мельниц, какие видели вы,
грубая деревенщина, вы, рожденный и воспитанный среди них! А если не верите
мне, устройте, чтоб эти шесть молотов обратились в великанов, и бросьте их
мне в бороду одного за другим или же всех разом, и, в случае если я не
уничтожил бы их, опрокинув лапами вверх, издевайтесь надо мной сколько
угодно.
-- Успокойтесь, сеньор мой, -- сказал Санчо, -- я ведь признаю, что
слишком далеко зашел в своей шутке. Но скажите мне, милость ваша, теперь,
когда мы с вами помирились, -- и да хранит вас Бог во всех приключениях,
которые вам еще предстоят, столь же здравым и невредимым, как Он хранил вас
в этом приключении, -- разве не смешно рассказывать об ужасном страхе,
который мы испытали? Или, по крайней мере, который я испытал, так как
относительно вашей милости мне хорошо известно, что страх или испуг и
непонятны, и неведомы вам.
-- Не отрицаю, -- ответил Дон Кихот, -- что случившееся с нами достойно
смеха, но рассказывать об этом незачем; ведь не все люди так рассудительны,
чтобы смотреть на вещи надлежащим образом.
-- По крайней мере, -- сказал Санчо, -- ваша милость сумела надлежащим
образом размахнуться копьем, направив его мне в голову, а ударив по плечам
благодаря богу и той быстроте, с которой я уклонился в сторону. Но ничего,
-- все отмоется в щелоке, и я слышал, что говорят: тот крепко тебя любит,
кто заставляет плакать. Кроме того, знатные господа обыкновенно, побранив
слугу, тотчас дарят ему пару штанов, -- хотя я не знаю, что у них в
обыкновении давать ему после того, как они побьют его, но возможно, что
странствующие рыцари вознаграждают за нанесенные удары островами или
королевствами на материке.
-- Игральная кость может так упасть, -- сказал Дон Кихот, -- что все
сказанное тобой сбудется. Извини меня за случившееся; ты ведь умен и знаешь,
что первые движения не во власти человека. И отныне и впредь заметь себе вот
что: сдерживайся и не позволяй себе лишнего в разговорах со мной, так как во
всех рыцарских книгах, которые я прочел -- а им и конца нет, -- никогда не
встречалось мне, чтобы какой-нибудь оруженосец так много говорил со своим
господином, как ты с твоим; и действительно, я считаю это большой ошибкой с
твоей и с моей стороны: с твоей -- что ты так мало уважаешь меня, с моей --
что я не сумел заставить тебя уважать меня больше. Вот Гандалин, оруженосец
Амадиса Галльского, был графом Insula Firme {Сухопутного острова (лат.).}, a
мы о нем читаем, что он всегда говорил со своим господином, держа шапку в
руках, наклонив голову и нагнувшись всем телом, more turquesco {По турецкому
обычаю (исп.).}. Затем, что сказать нам о Гасобале -- оруженосце дона
Галаора, -- который был так молчалив, что имя его упоминается всего лишь раз
во всей этой столь же пространной, как и правдивой истории, с целью
подчеркнуть нам необычайную и изумительную его сдержанность. Из всего, что я
сказал, ты можешь заключить, Санчо, что необходимо делать различие между
господином и слугой, хозяином и работником, рыцарем и оруженосцем; так что
отныне и впредь мы должны обращаться друг с другом с большим уважением и не
распускаясь, потому что, каким бы образом я ни рассердился на вас, плохо
придется кувшину {Mal para el cantaro (исп.) -- намек на испанскую
пословицу: "Кувшин ли ударит о камень, или камень ударит о кувшин, --
одинаково плохо для кувшина".}. Милости и благодеяния, которые я вам обещал,
явятся в свое время, а если они и не явятся, то по крайней мере жалование
ваше не пропадет, как я уже говорил вам.
-- Все хорошо, что говорит ваша милость, -- сказал Санчо, -- но я желал
бы знать (на случай если не наступит время милостей и окажется нужным
прибегнуть к жалованью): сколько зарабатывал оруженосец странствующих
рыцарей в те времена и получал ли он помесячно или поденно, как работник у
каменщика?
-- Не думаю, -- сказал Дон Кихот,-- чтобы оруженосцы когда-либо служили
за жалование, они получали только милости. Если же я назначил тебе жалованье
в завещании, оставленном мною дома запечатанным, то сделал это только на
всякий случай, потому что не знаю, как еще в наши столь бедственные времена
сложатся обстоятельства с рыцарством, и я не хотел бы, чтобы из-за
пустяковины душа моя мучилась на том свете, так как тебе, Санчо, надо знать,
что на этом свете нет профессии более опасной, чем профессия искателей
приключений.
-- Это верно, -- сказал Санчо, -- если уже шум молотов валяльной
мельницы мог смутить и встревожить сердце такого храброго странствующего
искателя приключений, как ваша милость; но вы можете быть уверены, что
отныне и впредь я не раскрою рта, чтобы подшучивать над поступками вашей
милости, а только чтобы чтить вас как моего господина и природного
повелителя.
-- В таком случае, -- сказал Дон Кихот, -- ты будешь долголетен на
земле, потому что после родителей надо чтить, точно родителей, господ.
Таким образом, он повторил все или по крайней мере, большую часть того,
что говорил Дон Кихот, когда они впервые услышали страшные удары молотов.
Видя, что Санчо потешается над ним, Дон Кихот так рассердился и вспылил, что
поднял копье и нанес им два увесистых удара Санчо, которыми, если б они
попали ему не по плечам, а по голове, господин его освободился бы от выплаты
ему жалованья, разве только ему пришлось бы уплатить это жалованье его
наследникам. Видя, что шутки его принесли такие горестные плоды, и опасаясь,
чтобы его господин не зашел еще дальше в том же направлении, Санчо с большим
смирением сказал ему:
-- Ваша милость, успокойтесь, ей-богу же, я пошутил.
-- Но если вы шутите, я не шучу,-- ответил Дон Кихот. -- Ступайте-ка
сюда, господин весельчак! Думаете ли вы, что, если б тут были не эти
валяльные молоты, а предстояло бы какое-нибудь опасное приключение, я не
выказал бы мужества, необходимого для того, чтобы предпринять его и довести
до конца? Быть может, -- будучи рыцарем, каков я есть, -- я обязан узнавать
и различать звуки и знать, производятся ли они валяльными мельницами или
нет? И тем более, говорю я, ведь могло бы быть -- как оно на самом деле и
есть, -- что я никогда в жизни не видел таких мельниц, какие видели вы,
грубая деревенщина, вы, рожденный и воспитанный среди них! А если не верите
мне, устройте, чтоб эти шесть молотов обратились в великанов, и бросьте их
мне в бороду одного за другим или же всех разом, и, в случае если я не
уничтожил бы их, опрокинув лапами вверх, издевайтесь надо мной сколько
угодно.
-- Успокойтесь, сеньор мой, -- сказал Санчо, -- я ведь признаю, что
слишком далеко зашел в своей шутке. Но скажите мне, милость ваша, теперь,
когда мы с вами помирились, -- и да хранит вас Бог во всех приключениях,
которые вам еще предстоят, столь же здравым и невредимым, как Он хранил вас
в этом приключении, -- разве не смешно рассказывать об ужасном страхе,
который мы испытали? Или, по крайней мере, который я испытал, так как
относительно вашей милости мне хорошо известно, что страх или испуг и
непонятны, и неведомы вам.
-- Не отрицаю, -- ответил Дон Кихот, -- что случившееся с нами достойно
смеха, но рассказывать об этом незачем; ведь не все люди так рассудительны,
чтобы смотреть на вещи надлежащим образом.
-- По крайней мере, -- сказал Санчо, -- ваша милость сумела надлежащим
образом размахнуться копьем, направив его мне в голову, а ударив по плечам
благодаря богу и той быстроте, с которой я уклонился в сторону. Но ничего,
-- все отмоется в щелоке, и я слышал, что говорят: тот крепко тебя любит,
кто заставляет плакать. Кроме того, знатные господа обыкновенно, побранив
слугу, тотчас дарят ему пару штанов, -- хотя я не знаю, что у них в
обыкновении давать ему после того, как они побьют его, но возможно, что
странствующие рыцари вознаграждают за нанесенные удары островами или
королевствами на материке.
-- Игральная кость может так упасть, -- сказал Дон Кихот, -- что все
сказанное тобой сбудется. Извини меня за случившееся; ты ведь умен и знаешь,
что первые движения не во власти человека. И отныне и впредь заметь себе вот
что: сдерживайся и не позволяй себе лишнего в разговорах со мной, так как во
всех рыцарских книгах, которые я прочел -- а им и конца нет, -- никогда не
встречалось мне, чтобы какой-нибудь оруженосец так много говорил со своим
господином, как ты с твоим; и действительно, я считаю это большой ошибкой с
твоей и с моей стороны: с твоей -- что ты так мало уважаешь меня, с моей --
что я не сумел заставить тебя уважать меня больше. Вот Гандалин, оруженосец
Амадиса Галльского, был графом Insula Firme {Сухопутного острова (лат.).}, a
мы о нем читаем, что он всегда говорил со своим господином, держа шапку в
руках, наклонив голову и нагнувшись всем телом, more turquesco {По турецкому
обычаю (исп.).}. Затем, что сказать нам о Гасобале -- оруженосце дона
Галаора, -- который был так молчалив, что имя его упоминается всего лишь раз
во всей этой столь же пространной, как и правдивой истории, с целью
подчеркнуть нам необычайную и изумительную его сдержанность. Из всего, что я
сказал, ты можешь заключить, Санчо, что необходимо делать различие между
господином и слугой, хозяином и работником, рыцарем и оруженосцем; так что
отныне и впредь мы должны обращаться друг с другом с большим уважением и не
распускаясь, потому что, каким бы образом я ни рассердился на вас, плохо
придется кувшину {Mal para el cantaro (исп.) -- намек на испанскую
пословицу: "Кувшин ли ударит о камень, или камень ударит о кувшин, --
одинаково плохо для кувшина".}. Милости и благодеяния, которые я вам обещал,
явятся в свое время, а если они и не явятся, то по крайней мере жалование
ваше не пропадет, как я уже говорил вам.
-- Все хорошо, что говорит ваша милость, -- сказал Санчо, -- но я желал
бы знать (на случай если не наступит время милостей и окажется нужным
прибегнуть к жалованью): сколько зарабатывал оруженосец странствующих
рыцарей в те времена и получал ли он помесячно или поденно, как работник у
каменщика?
-- Не думаю, -- сказал Дон Кихот,-- чтобы оруженосцы когда-либо служили
за жалование, они получали только милости. Если же я назначил тебе жалованье
в завещании, оставленном мною дома запечатанным, то сделал это только на
всякий случай, потому что не знаю, как еще в наши столь бедственные времена
сложатся обстоятельства с рыцарством, и я не хотел бы, чтобы из-за
пустяковины душа моя мучилась на том свете, так как тебе, Санчо, надо знать,
что на этом свете нет профессии более опасной, чем профессия искателей
приключений.
-- Это верно, -- сказал Санчо, -- если уже шум молотов валяльной
мельницы мог смутить и встревожить сердце такого храброго странствующего
искателя приключений, как ваша милость; но вы можете быть уверены, что
отныне и впредь я не раскрою рта, чтобы подшучивать над поступками вашей
милости, а только чтобы чтить вас как моего господина и природного
повелителя.
-- В таком случае, -- сказал Дон Кихот, -- ты будешь долголетен на
земле, потому что после родителей надо чтить, точно родителей, господ.

 [1] Волшебный шлем сарацинского короля Мамбрино, делавший неуязвимым
того, кто его носил.
В это время стал накрапывать небольшой дождик, и Санчо хотел было
укрыться от него в валяльных мельницах, но Дон Кихот, вследствие недавней
жестокой шутки, чувствовал такое отвращение к ним, что наотрез отказался
идти туда. Итак, свернув вправо, они выехали на другую дорогу, сходную с
той, по которой ехали накануне. Вскоре Дон Кихот заметил всадника, на голове
которого было что-то блестевшее, точно золото, и едва он увидел его, как
обернулся к Санчо и сказал:
-- Мне кажется, Санчо, что нет пословицы, которая не заключала бы в
себе истины, потому что все они -- изречения, почерпнутые из самого опыта,
этого родоначальника всех наук; в особенности же справедлива пословица
гласящая: "Где закрывается одна дверь, открывается другая". Говорю это
потому, что, если сегодняшней ночью судьба закрыла перед нами дверь
приключения, которого мы искали, и ввела нас в обман с валяльными
мельницами, теперь она растворяет перед нами настежь дверь к другому,
лучшему и более надежному приключению, и если я не сумею войти в эту дверь,
вина будет моя, и мне нельзя будет приписать ее ни малому знанию валяльных
мельниц, ни темноте ночной. Говорю это потому, что, если я не ошибаюсь, нам
навстречу едет человек со шлемом Мамбрино на голове, с тем самым шлемом,
ради которого я дал известную тебе клятву.
-- Обдумайте хорошенько, ваша милость, что вы говорите, и еще больше
то, что вы делаете, -- сказал Санчо, -- так как я не желал бы, чтобы явились
новые валяльные мельницы, которые окончательно изваляли бы нас и отшибли бы
у нас всякое соображение.
-- Черт побери этого человека,-- воскликнул Дон Кихот,-- что общего
между шлемом и валяльными мельницами?
-- Ничего не знаю, -- ответил Санчо, -- но, по чести, если б я мог так
много говорить, как прежде, быть может, я привел бы вам такие доводы,
которые убедили бы милость вашу, насколько вы ошибаетесь в том, что
говорите.
-- Как могу я ошибаться в том, что говорю, сомневающийся предатель,--
воскликнул Дон Кихот. -- Скажи мне, не видишь ты, что ли, рыцаря, едущего
нам навстречу верхом на сером в яблоках коне, а на голове у него золотой
шлем?
-- То, что я вижу и могу различить,-- ответил Санчо, -- это человек
верхом на сером осле, как и мой, а на голове у него что-то блестящее.
-- Но ведь это-то и есть шлем Мамбрино, -- сказал Дон Кихот. --
Отъезжай в сторону и оставь меня одного с ним, и увидишь, как я, не говоря
ни слова, чтобы сберечь время, кончу это приключение и овладею столь
вожделенным мною шлемом.
-- Отъехать в сторону -- моя забота, -- сказал Санчо, -- но дай бог,
повторю я снова, чтоб это оказался душистый майоран {Санчо намекает на
старинную испанскую пословицу: "Дай бог, чтоб это был бы душистый майоран и
он не превратился бы в полевой тмин".}, а не валяльные мельницы.
-- Я уже говорил тебе, брат, чтоб ты даже и мысленно не напоминал мне о
деле с валяльными мельницами, -- сказал Дон Кихот, -- иначе, клянусь, я
ничего больше не скажу, а изваляю тебе душу в теле.
Санчо замолчал, опасаясь, чтобы господин его не исполнил угрозы,
которую он ему бросил в лицо, словно мяч.
Что же касается шлема, коня и рыцаря, усмотренных Дон Кихотом, дело
обстояло следующим образом: в той окрестности было два села и одно из них
такое маленькое, что там не было ни аптеки, ни цирюльника; в соседнем же
селе было и то и другое; итак, цирюльник большого села обслуживал меньшее,
где одному больному нужно было пустить кровь, а другому побрить бороду. Для
этого-то и ехал цирюльник и вез с собой медный таз для бритья. Но как раз в
это самое время по воле судьбы пошел дождик, и, чтобы не испортилась его,
должно быть, новая шляпа, цирюльник надел себе на голову таз, а так как он
был хорошо вычищен, то и блестел на расстоянии полмили. Цирюльник ехал на
сером осле, как и сказал Санчо, а Дон Кихоту представилась и серая в яблоках
лошадь, и рыцарь, и золотой шлем, потому что все, что попадалось ему на
глаза, он с необычайной легкостью приурочивал к своему бреду о рыцарстве и к
странным своим фантазиям.
Увидав, что бедный всадник приближается, Дон Кихот, не обменявшись с
ним ни словом, устремился на него во весь карьер Росинанта с поднятым копьем
и с намерением проткнуть им его насквозь. Когда же он совсем близко подъехал
к нему, Дон Кихот, не умеряя ярости своего натиска, крикнул:
-- Защищайся, презренное созданье, или же отдай добровольно то, что
принадлежит мне по праву.
Цирюльник, ехавший ни о чем не думая и ничего не опасаясь, увидав
привидение, которое неслось ему навстречу, не нашел другого средства
избежать удара копьем, как свалиться с осла, и, едва коснувшись земли, он
поднялся легче серны и пустился бежать по полю с такой быстротой, что его не
догнал бы и ветер. Таз, упавший с его головы, остался лежать на земле, чем
Дон Кихот и удовлетворился, говоря, что бежавший язычник поступил умно и
подражал примеру бобра, который, видя, что его преследуют охотники,
откусывает собственными зубами то, ради чего, как ему подсказывает его
природный инстинкт, его преследуют. Дон Кихот велел Санчо поднять шлем, и
тот, взяв его в руки, сказал:
-- Ей-богу, превосходный таз для бритья, и стоит он восемь реалов, как
один мараведис {Мелкая испанская монета -- грош, полушка.}.
Затем он передал таз своему господину, который сейчас же надел его на
голову, и, повертывая то в ту, то в другую сторону, отыскивал забрало, но,
не найдя его, он сказал:
-- Наверное язычник, для которого впервые был выкован этот знаменитый
шлем, имел громадную голову; а хуже всего то, что недостает половины шлема.
Когда Санчо услышал, что Дон Кихот называет таз для бритья шлемом, он
не мог удержаться от смеха, но, вспомнив гнев своего господина, тотчас же
остановился.
-- Над чем ты смеешься, Санчо? -- спросил Дон Кихот.
-- Я смеюсь, -- ответил Санчо, -- думая о том, какую большую голову
должен был иметь язычник, которому принадлежал этот шлем, точь-в-точь
похожий на тазик цирюльника.
-- Знаешь ли что, Санчо? Мне кажется, что этот знаменитый, очарованный
шлем по какой-нибудь странной случайности попал в руки человеку, который не
сумел ни понять его ценности, ни судить о ней, и, не ведая, что творит,
увидав, что шлем из чистейшего золота, вероятно, расплавил одну половину,
чтобы выручить ее стоимость, а из другой половины сделал это вот, столь
похожее на тазик для бритья, как ты говоришь. Но что бы то ни было, для
меня, узнавшего этот шлем, превращение его неважно, так как в первом же
местечке, где найдется кузнец, я поправлю его, и поправлю таким образом, что
его не только не превзойдет, но даже и не сравнится с ним тот шлем, который
был выкован богом кузнечного дела для бога войны {Оружие, выкованное
Вулканом для Марса.}. А до тех пор буду носить его хоть таким, потому что
лучше что-нибудь, чем ничего; тем более что в теперешнем своем виде он
вполне может защитить меня от удара камнем.
-- Пожалуй, что так, -- сказал Санчо, -- если только не будут бросать
камней пращою, как это было в стычке двух войск, когда вашей милости вышибли
коренные зубы и сломали посудину, где хранился тот благословенный напиток,
от которого меня вырвало всеми моими внутренностями.
-- Я не очень-то жалею об этой потере, -- сказал Дон Кихот, -- ведь ты,
Санчо, знаешь, что я храню рецепт бальзама у себя в памяти.
-- И я тоже храню его в памяти,-- ответил Санчо, -- но если я
когда-либо изготовлю его или возьму в рот, пусть настанет последний час моей
жизни! Тем более что я не намерен ставить себя в такое положение, чтобы
нуждаться в нем, так как я с помощью всех пяти моих чувств постараюсь и себя
оберегать от ран, и никому не наносить их. А о том, что меня еще раз могут
подбросить на одеяле, я ничего не скажу; такого рода неприятности трудно
предупредить, и, случись они, ничего другого не остается, как только
хорошенько втянуть в себя плечи, задержать дыхание, закрыть глаза и
предоставить себя судьбе и одеялу, куда бы они ни привели вас.
-- Ты плохой христианин, Санчо,-- сказал, услыхав это, Дон Кихот, --
ибо ты никогда не забываешь обиды, которую нанесли тебе. Но знай, что
благородному и великодушному сердцу несвойственно обращать внимание на
пустяки. Стал ты хромать, что ли, или тебе переломали ребра, или разбили
голову, что ты не можешь забыть этой шутки? Ведь если хорошенько разобрать
дело, ясно, что это была лишь шутка и забава; прими я это иначе, то давно бы
уже вернулся туда и, чтобы отомстить за тебя, наделал бы больше бед, чем
наделали их греки, мстя за похищение Елены, которая -- если бы она жила в
наши дни или моя Дульсинея в то время, -- наверное, не славилась бы так
своей красотой, как она теперь славится ею.
И с этими словами Дон Кихот испустил вздох, послав его к небесам. А
Санчо сказал:
-- Пусть все это сойдет за шутку, так как отомстить в действительности
нельзя. Но я знаю, какого качества была и шутка и действительность, и знаю
также, что и то и другое не изгладится из моей памяти, как и не снимется с
моих плеч. Но, в сторону это, а скажите мне, ваша милость, что нам делать с
серым в яблоках конем, столь похожим на серого осла, которого тот Мартино,
вышибленный вашей милостью из седла, оставил здесь на произвол судьбы? Судя
по тому, как он задал стрекача и пустился наутек, навряд ли он когда-нибудь
вернется за своим ослом, а, клянусь моей бородой, осел этот очень недурен.
-- Не в моих обычаях, -- ответил Дон Кихот, -- обирать тех, кого я
побеждаю, и не в правилах рыцарства отнимать у них коней и оставлять их
пешими, разве только в случае, когда победитель лишился в битве собственного
коня; тогда лишь ему разрешается присвоить себе лошадь побежденного в
качестве законной военной добычи; так что, Санчо, оставь этого коня, или
осла, или чем бы ты ни желал его считать, потому что, лишь только хозяин его
увидит, что мы удалились отсюда, он вернется за ним.
-- Богу известно, как охотно я взял бы его с собой, -- сказал Санчо, --
или, по крайней мере, обменял бы его на моего осла, который мне кажется не
таким хорошим. Вот уж верно, что законы рыцарства стеснительны, так как они
не дают простора даже для обмена одного осла на другого; но я желал бы
знать, нельзя ли мне обменять хоть сбрую?
-- Относительно этого я не совсем уверен, -- ответил Дон Кихот, -- а в
виду моего сомнения, пока я не буду лучше осведомлен, пожалуй, обменяй
сбрую, если в ней для тебя крайность.
-- Такая крайность, -- сказал Санчо, -- что, если бы сбруя
предназначалась лично для меня, и тогда она не могла бы мне быть нужнее.
Воспользовавшись тотчас же данным ему разрешением, Санчо устроил
mutatio capparum {Mutatio capparum (лат.) -- перемена облачения римских
епископов и кардиналов, ежегодная церемония, происходившая на Пасху, когда
все зимние меховые облачения менялись на шелковые.} и так роскошно вырядил
своего осла, что он оказался куда красивее прежнего. После этого господин и
слуга позавтракали остатками припасов, взятых с вьючного мула
священнослужителей, и напились воды из ручья, протекавшего близ валяльных
мельниц, на которые они не оглянулись, так велико было их отвращение к этим
мельницам из-за страха, на них нагнанного ими. Позабыв свой гнев и даже свою
грусть, они сели верхом и, не следуя по определенной дороге (потому что
заранее выбирать определенную дорогу было не в обычае у странствующих
рыцарей), поехали туда, куда вздумалось Росинанту, руководившему волей
своего господина, а также и осла, который всегда в добром согласии и дружбе
следовал за ним всюду, куда бы он его ни повел. Тем не менее они очутились
снова на большой дороге и ехали по ней наугад, без всякого определенного
намерения. Пока они так ехали, Санчо сказал своему господину:
-- Сеньор, не разрешите ли вы мне, ваша милость, немного поболтать с
вами, потому что, с тех пор как вы наложили на меня строгий запрет молчания,
у меня внутри сгнило более четырех вещей и теперь на кончике языка вертится
одна, которую мне бы не хотелось погубить даром.
-- Скажи ее, -- разрешил Дон Кихот, -- и будь краток в твоей речи, так
как никакая речь -- если она длинна -- не может доставить удовольствия.
-- Итак, я скажу, сеньор, -- ответил Санчо, -- что вот уже несколько
дней я размышляю над тем, как мало можно приобрести и выиграть, отправляясь
в поиски за приключениями, подобными тем, которые отыскивает ваша милость по
этим пустынным местностям и перекресткам дорог, где, если и удастся одержать
победу и преодолеть самые большие опасности, никто этого не увидит и не
узнает, и, таким образом, ваши подвиги останутся навеки в забвении, к ущербу
намерениям вашей милости и того, чего они заслуживают. Поэтому, мне кажется,
было бы лучше (разве только ваша милость рассудит иначе), чтобы мы
отправились к какому-нибудь императору или другому великому принцу, ведущему
войну. На службе у него ваша милость могла бы выказать личные свои
достоинства -- необычайную силу и еще большую прозорливость своего ума.
Увидав все это, государь, которому мы будем служить, должен будет
волей-неволей наградить нас каждого по заслугам, и там наверное найдется
кто-нибудь, кто опишет подвиги вашей милости, чтобы память о них сохранилась
на вечные времена. О своих подвигах не говорю ничего, потому что они не
должны переходить за пределы службы оруженосца, хотя могу сказать, что если
в обычаях рыцарства описывать также и подвиги оруженосцев, не думаю, чтобы
не сообщили и о моих.
-- Ты рассуждаешь недурно, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- но до того
времени нужно странствовать по свету как бы для испытания, в поисках за
приключениями, и успешно справившись с некоторыми из них, приобрести такое
имя и такую славу, чтобы рыцарь, явившись ко двору какого-нибудь великого
монарха, был уже известен своими подвигами. Тогда мальчики, едва увидев его
въезжающим в городские ворота, все побегут за ним, окружат его и закричат:
"Вот он, Рыцарь Солнца, или Рыцарь Змей, или какой-нибудь другой эмблемы,
под которой он совершал великие свои подвиги. Вот тот, скажут они, кто
победил в поединке столь могучего великана Брокабруно; тот, кто сумел с
великого Мамелюка Персии снять чары, в которых он томился девятьсот лет".
Так из уст в уста будут прославлять его подвиги, и тотчас на крик мальчиков
и остального народа появится у окна королевского дворца сам король того
королевства. И лишь только он увидит рыцаря, узнав его по его доспехам или
по девизу на щите, он не преминет воскликнуть: "Эй вы, все рыцари моего
двора, выходите встречать цвет рыцарства, явившийся к нам!" Услыхав его
приказ, все выбегут, и сам король сойдет до середины лестницы, крепко-крепко
обнимет приезжего, приветствуя его поцелуем в уста, и тотчас же поведет за
руку в покои сеньоры королевы, где рыцарь увидит ее с инфантой, ее дочерью,
которая должна быть одной из самых прекрасных и одаренных такими
совершенствами девушкой, какую лишь с величайшим трудом можно найти на всем
пространстве земного шара. И тут же немедленно случится, что она вскинет
глаза на рыцаря, а он -- на нее, и каждый из них явится перед другим скорее
божественным, чем земным существом. Не зная как и почему, они окажутся
пойманными и запутанными в нерасторгаемых сетях любви, и сердца их
наполнятся великой тревогой, потому что они не будут знать, как им говорить,
чтобы друг другу открыть свои чувства и муки. Из покоя королевы рыцаря
поведут, наверное, в какую-нибудь богато убранную комнату дворца, где, сняв
с него доспехи, принесут ему роскошную алую епанчу, которую он накинет на
себя; и если он был красив в доспехах, таким же и еще лучше будет он
казаться в камзоле. По наступлении ночи рыцарь сядет ужинать с королем,
королевой и инфантой, с которой он не спустит глаз и будет смотреть на нее
украдкой от окружающих, а инфанта сделает то же самое и с той же
осторожностью, потому что, как я уже говорил, она очень рассудительна и
умна. Лишь только уберут со стола, неожиданно войдет в зал маленький,
уродливый карлик с прекрасной дуэньей, которая шествует за ним между двумя
великанами и предлагает какое-нибудь предприятие, задуманное древнейшим
мудрецом, с тем что, кто успешно доведет это дело до конца, будет признан
лучшим рыцарем в целом мире. Король тотчас же прикажет, чтобы все
присутствующие рыцари испытали свои силы, но никто из них не сумеет
выполнить и окончить этого дела, исключая лишь приезжего рыцаря, что
послужит еще к большему возвеличению его славы и сильно обрадует инфанту:
она сочтет себя счастливой и вполне вознагражденной за то, что остановила и
сосредоточила свои помыслы на столь возвышенном предмете. Лучше же всего то,
что этот король, или принц, или кто бы он ни был ведет упорную войну с
другим, таким же могущественным, как и он, а приезжий рыцарь (по истечении
нескольких дней, проведенных им во дворце) просит у него разрешения служить
ему в этой войне. Король с величайшей охотой дает ему разрешение, рыцарь
вежливо целует ему руку за оказанную милость. В туже ночь прощается он со
своей сеньорой инфантой у решетки сада, куда выходят окна ее спальни и где
он много раз уже говорил с нею, причем посредницей и доверенным лицом была
девушка, на которую инфанта вполне полагается. Он вздыхает, она падает в
обморок, девушка бежит за водой; она очень волнуется, потому что настает
утро, и, оберегая честь своей госпожи, боится, чтобы их не накрыли. Наконец
инфанта приходит в себя, протягивает рыцарю сквозь решетку белые свои руки;
он целует их тысячу и тысячу раз и омывает слезами. Они уславливаются, каким
образом давать друг другу знать о счастливых или несчастных событиях своей
жизни; принцесса умоляет рыцаря вернуться как можно скорей; он ей это
обещает со многими клятвами; снова целует ей руки и прощается с таким горем
на душе, что едва тут же не расстается с жизнью. Затем он идет к себе в
комнату; бросается на постель; не может заснуть из-за тоски от разлуки;
встает рано утром; идет прощаться с королем, королевой и инфантой; король и
королева, прощаясь с ним, говорят, что сеньора инфанта нездорова и не может
принять посетителей. Рыцарь думает, что она заболела от горя вследствие
разлуки с ним; он взволнован до глубины души и чуть не обнаруживает, как
сильно он терзается. Девушка-посредница присутствует при этом; она все
подмечает; идет пересказать обо всем своей сеньоре, которая слушает ее со
слезами и говорит, что одно из величайших ее огорчений -- неведение, кто ее
рыцарь и королевского ли он происхождения или нет. Прислужница девушка
уверяет инфанту, что столько учтивости, благородства и мужества, какими
обладает ее рыцарь, могут встретиться только у человека знатного
королевского рода. Горюющая принимает это утешение и старается казаться
веселой, чтобы не возбудить подозрений в своих родителях, и по истечении
двух дней появляется всюду. Рыцарь уже уехал; он сражается на войне,
побеждает врагов короля, завоевывает много городов, торжествует во многих
битвах, возвращается ко двору, видится с инфантой на прежнем условленном
месте, и они сговариваются, чтобы в награду за свои подвиги он просил у
короля ее себе в жены. Король не соглашается отдать ее замуж за рыцаря,
потому что не знает, кто он такой, но тем не менее, похитит ли он ее, или
каким-нибудь иным образом, инфанта становится его женой, и отец ее со
временем считает это за великое счастье, так как выясняется, что рыцарь --
сын могущественного короля, не знаю какого королевства, думаю, что оно,
должно быть, не занесено на карту. Король умирает; инфанта наследует
престол, словом, рыцарь делается королем. Тут-то немедленно он осыпает
щедротами своего оруженосца и всех тех, кто ему помог достигнуть столь
высокого положения. Оруженосца своего он женит на девушке инфанты, на той,
конечно, которая была посредницей их любви, а она дочь знатного герцога.
-- Этого я и желаю, эта игра как раз мне на руку, -- воскликнул Санчо,
-- и я буду придерживаться ее, потому что все точь-в-точь должно случиться с
вашей милостью под прозвищем Рыцаря Печального Образа.
-- Не сомневайся в этом, Санчо,-- ответил Дон Кихот, -- потому что
таким же способом и по тем же ступеням, которые я описал тебе, странствующие
рыцари поднимаются и поднимались до сана королей и императоров. Теперь нужно
лишь одно: узнать, кто из королей, христианских или языческих, ведет войну и
имеет красавицу дочь; но времени у нас достаточно подумать об этом, потому
что, как я уже говорил тебе, прежде чем явиться ко двору, надо сперва
приобрести славу в других местах. Мне недостает и еще одной вещи: так как,
предположив, что нашелся король, ведущий войну и имеющий красавицу дочь и
что я приобрел неимоверную славу во всей вселенной, я все же не знаю, как
могло бы оказаться, что я королевского рода или по меньшей мере, троюродный
брат какого-нибудь императора; потому что король не захочет отдать мне свою
дочь в жены, пока он сначала не удостоверится в этом, и тут никакие громкие
подвиги мне не помогут. Итак, из-за этой недохватки, я боюсь потерять все,
что заслужил доблестью руки своей. Правда, что я -- идальго известной
фамилии, имею собственность и землю, вправе требовать за обиду
вознаграждения в пятьсот суэльдос {По древнему испанскому закону за обиду,
нанесенную идальго -- его личности, чести или имуществу, -- платили штраф в
пятьсот суэльдос. За обиду, нанесенную простолюдину, он -- судя по
занимаемому им положению -- получал меньшую сумму.}, и может случиться, что
мудрец, которому предстоит написать мою историю, так разъяснит родство мое и
происхождение, что я окажусь в пятом или шестом колене внуком короля. Ты
должен знать, Санчо, что происхождение и родословная бывают двоякого рода:
одни происходят и ведут свой род от принцев и монархов, но мало-помалу время
приводит их род к упадку, и он кончается точкой, подобно пирамиде; другие же
берут начало от предков-простолюдинов, но поднимаются со ступеньки на
ступеньку выше и выше, пока не сделаются знатными вельможами; так что
разница состоит в том, что одни перестали быть тем, чем были прежде, а
другие стали тем, чем они не были. И могло бы случиться, что и я принадлежу
к числу тех, род которых был велик и славен; оно так и окажется после
внимательной проверки, а тогда король, будущий тесть мой, должен
удовлетвориться этим. Если же он не удовлетворится, инфанта полюбит меня так
пламенно, что наперекор воле отца изберет своим супругом и повелителем, хотя
бы она достоверно знала, что я сын водовоза. Если же нет, -- в таком случае
придется похитить ее и увезти, куда мне вздумается, так как время или смерть
должны же положить конец гневу ее родителей.
-- Сюда подходит также и то, -- сказал Санчо, -- что говорят некоторые
повесы: "Не проси, как милости, того, что можешь взять силой", хотя было бы
еще более кстати сказать: "Лучше скачок через забор, чем молитва добрых
людей". Говорю это к тому, что, если бы сеньор король -- тесть вашей милости
-- не захотел бы снизойти и отдать вам сеньору инфанту, только и остается,
как говорит ваша милость, похитить ее и увезти куда-нибудь. Но беда в том,
что, пока вы не помиритесь с родителями и не будете в состоянии наслаждаться
своим королевством, несчастный оруженосец останется на бобах по части
награды, разве только девушка-посредница, которая должна стать его женой,
убежит вместе с инфантой и он будет делить с нею свои дни невзгод, пока
наконец небо не распорядится иначе; так как, я думаю, господин оруженосца
может тотчас же отдать ее ему в законные супруги.
-- Этому никто не может воспрепятствовать, -- сказал Дон Кихот.
-- В таком случае, -- ответил Санчо,-- нам ничего не остается, как
только предать себя в руки Божьи и предоставить судьбе вести нас, куда ей
вздумается.
-- Да пошлет нам бог, -- сказал Дон Кихот, -- и то, чего я желаю, и то,
что тебе, Санчо, нужно, и пусть будет ничтожным тот, кто считает себя
ничтожным.
-- С богом, -- сказал Санчо. -- Я же старый христианин, и, чтобы быть
графом, этого совершенно достаточно.
-- Более чем достаточно, -- подтвердил Дон Кихот. -- А если б ты и не
был старым христианином, невелика беда, так как, будучи королем, я легко
могу пожаловать тебе дворянство, и тебе не надо ни покупать его, ни получать
его за заслуги; потому что, если я тебя возведу в графы, тем самым ты
мгновенно станешь кабальеро, и пусть себе говорят, что хотят, но, по чести,
как бы они ни досадовали, придется им называть тебя "ваша милость".
-- Поверьте, -- сказал Санчо, -- что я сумею, как следует, поддержать
свой дитул.
-- Титул, должен ты сказать, а не дитул, -- поправил его господин.
-- Пусть так, -- ответил Санчо, -- я говорю, что знаю, как себя вести,
потому что, клянусь жизнью, я был некоторое время церковным сторожем при
одном братстве, и одежда сторожа так шла ко мне, что все говорили, будто я
по осанке своей мог бы быть старшиной того же братства. А что же будет, если
я накину на плечи герцогскую мантию или оденусь в золото и жемчуг, по обычаю
иностранных графов? Не сомневаюсь, что придут за сто миль смотреть на меня.
-- Вид у тебя будет недурной, -- сказал Дон Кихот, -- но придется тебе
часто брить бороду, потому что она у тебя такая густая, всклокоченная и
нечесаная, что, если ты не будешь отдавать ее по крайней мере каждые два дня
под бритву, -- уже на расстоянии ружейного выстрела видно будет, кто ты
такой.
-- Ничего больше не остается сделать, -- сказал Санчо, -- как только
взять цирюльника и держать его в доме у себя на жалованье и даже, если бы
оказалось нужным, заставить его следовать за собой, как штальмейстер следует
за большим вельможей.
-- А почему ты знаешь, -- спросил его Дон Кихот, -- что за большим
вельможей следует штальмейстер?
-- Сейчас скажу вам, -- ответил Санчо. -- Несколько лет тому назад я
пробыл месяц в столице, и там я видел, как прогуливался очень маленький
господин, про которого говорили, что он очень большой сеньор, а позади него,
всюду, куда бы он ни поворачивал, следовал человек верхом, так что казалось,
точно он его хвост. Я спросил, почему этот человек не едет рядом с другим, а
всегда позади него, и мне ответили: это штальмейстер, и у больших вельмож в
обычае водить за собой подобного рода людей. С тех пор я так хорошо это
запомнил, что никогда не забываю.
-- Признаться, ты прав, -- сказал Дон Кихот, -- и точно также и ты
можешь водить за собой цирюльника, потому что обычаи явились не все вместе и
были придуманы не сразу, и ты можешь быть первым графом, за которым будет
всюду следовать его цирюльник; к тому же бритье бороды -- дело, требующее
больше доверия, чем седлание лошади.
-- Заботу о цирюльнике предоставьте мне, -- сказал Санчо, -- а вы,
милость ваша, позаботьтесь сделаться королем и меня возвести в графы.
-- Да будет так, -- ответил Дон Кихот и, подняв глаза, увидел то, о чем
мы услышим в следующей главе.
[1] Волшебный шлем сарацинского короля Мамбрино, делавший неуязвимым
того, кто его носил.
В это время стал накрапывать небольшой дождик, и Санчо хотел было
укрыться от него в валяльных мельницах, но Дон Кихот, вследствие недавней
жестокой шутки, чувствовал такое отвращение к ним, что наотрез отказался
идти туда. Итак, свернув вправо, они выехали на другую дорогу, сходную с
той, по которой ехали накануне. Вскоре Дон Кихот заметил всадника, на голове
которого было что-то блестевшее, точно золото, и едва он увидел его, как
обернулся к Санчо и сказал:
-- Мне кажется, Санчо, что нет пословицы, которая не заключала бы в
себе истины, потому что все они -- изречения, почерпнутые из самого опыта,
этого родоначальника всех наук; в особенности же справедлива пословица
гласящая: "Где закрывается одна дверь, открывается другая". Говорю это
потому, что, если сегодняшней ночью судьба закрыла перед нами дверь
приключения, которого мы искали, и ввела нас в обман с валяльными
мельницами, теперь она растворяет перед нами настежь дверь к другому,
лучшему и более надежному приключению, и если я не сумею войти в эту дверь,
вина будет моя, и мне нельзя будет приписать ее ни малому знанию валяльных
мельниц, ни темноте ночной. Говорю это потому, что, если я не ошибаюсь, нам
навстречу едет человек со шлемом Мамбрино на голове, с тем самым шлемом,
ради которого я дал известную тебе клятву.
-- Обдумайте хорошенько, ваша милость, что вы говорите, и еще больше
то, что вы делаете, -- сказал Санчо, -- так как я не желал бы, чтобы явились
новые валяльные мельницы, которые окончательно изваляли бы нас и отшибли бы
у нас всякое соображение.
-- Черт побери этого человека,-- воскликнул Дон Кихот,-- что общего
между шлемом и валяльными мельницами?
-- Ничего не знаю, -- ответил Санчо, -- но, по чести, если б я мог так
много говорить, как прежде, быть может, я привел бы вам такие доводы,
которые убедили бы милость вашу, насколько вы ошибаетесь в том, что
говорите.
-- Как могу я ошибаться в том, что говорю, сомневающийся предатель,--
воскликнул Дон Кихот. -- Скажи мне, не видишь ты, что ли, рыцаря, едущего
нам навстречу верхом на сером в яблоках коне, а на голове у него золотой
шлем?
-- То, что я вижу и могу различить,-- ответил Санчо, -- это человек
верхом на сером осле, как и мой, а на голове у него что-то блестящее.
-- Но ведь это-то и есть шлем Мамбрино, -- сказал Дон Кихот. --
Отъезжай в сторону и оставь меня одного с ним, и увидишь, как я, не говоря
ни слова, чтобы сберечь время, кончу это приключение и овладею столь
вожделенным мною шлемом.
-- Отъехать в сторону -- моя забота, -- сказал Санчо, -- но дай бог,
повторю я снова, чтоб это оказался душистый майоран {Санчо намекает на
старинную испанскую пословицу: "Дай бог, чтоб это был бы душистый майоран и
он не превратился бы в полевой тмин".}, а не валяльные мельницы.
-- Я уже говорил тебе, брат, чтоб ты даже и мысленно не напоминал мне о
деле с валяльными мельницами, -- сказал Дон Кихот, -- иначе, клянусь, я
ничего больше не скажу, а изваляю тебе душу в теле.
Санчо замолчал, опасаясь, чтобы господин его не исполнил угрозы,
которую он ему бросил в лицо, словно мяч.
Что же касается шлема, коня и рыцаря, усмотренных Дон Кихотом, дело
обстояло следующим образом: в той окрестности было два села и одно из них
такое маленькое, что там не было ни аптеки, ни цирюльника; в соседнем же
селе было и то и другое; итак, цирюльник большого села обслуживал меньшее,
где одному больному нужно было пустить кровь, а другому побрить бороду. Для
этого-то и ехал цирюльник и вез с собой медный таз для бритья. Но как раз в
это самое время по воле судьбы пошел дождик, и, чтобы не испортилась его,
должно быть, новая шляпа, цирюльник надел себе на голову таз, а так как он
был хорошо вычищен, то и блестел на расстоянии полмили. Цирюльник ехал на
сером осле, как и сказал Санчо, а Дон Кихоту представилась и серая в яблоках
лошадь, и рыцарь, и золотой шлем, потому что все, что попадалось ему на
глаза, он с необычайной легкостью приурочивал к своему бреду о рыцарстве и к
странным своим фантазиям.
Увидав, что бедный всадник приближается, Дон Кихот, не обменявшись с
ним ни словом, устремился на него во весь карьер Росинанта с поднятым копьем
и с намерением проткнуть им его насквозь. Когда же он совсем близко подъехал
к нему, Дон Кихот, не умеряя ярости своего натиска, крикнул:
-- Защищайся, презренное созданье, или же отдай добровольно то, что
принадлежит мне по праву.
Цирюльник, ехавший ни о чем не думая и ничего не опасаясь, увидав
привидение, которое неслось ему навстречу, не нашел другого средства
избежать удара копьем, как свалиться с осла, и, едва коснувшись земли, он
поднялся легче серны и пустился бежать по полю с такой быстротой, что его не
догнал бы и ветер. Таз, упавший с его головы, остался лежать на земле, чем
Дон Кихот и удовлетворился, говоря, что бежавший язычник поступил умно и
подражал примеру бобра, который, видя, что его преследуют охотники,
откусывает собственными зубами то, ради чего, как ему подсказывает его
природный инстинкт, его преследуют. Дон Кихот велел Санчо поднять шлем, и
тот, взяв его в руки, сказал:
-- Ей-богу, превосходный таз для бритья, и стоит он восемь реалов, как
один мараведис {Мелкая испанская монета -- грош, полушка.}.
Затем он передал таз своему господину, который сейчас же надел его на
голову, и, повертывая то в ту, то в другую сторону, отыскивал забрало, но,
не найдя его, он сказал:
-- Наверное язычник, для которого впервые был выкован этот знаменитый
шлем, имел громадную голову; а хуже всего то, что недостает половины шлема.
Когда Санчо услышал, что Дон Кихот называет таз для бритья шлемом, он
не мог удержаться от смеха, но, вспомнив гнев своего господина, тотчас же
остановился.
-- Над чем ты смеешься, Санчо? -- спросил Дон Кихот.
-- Я смеюсь, -- ответил Санчо, -- думая о том, какую большую голову
должен был иметь язычник, которому принадлежал этот шлем, точь-в-точь
похожий на тазик цирюльника.
-- Знаешь ли что, Санчо? Мне кажется, что этот знаменитый, очарованный
шлем по какой-нибудь странной случайности попал в руки человеку, который не
сумел ни понять его ценности, ни судить о ней, и, не ведая, что творит,
увидав, что шлем из чистейшего золота, вероятно, расплавил одну половину,
чтобы выручить ее стоимость, а из другой половины сделал это вот, столь
похожее на тазик для бритья, как ты говоришь. Но что бы то ни было, для
меня, узнавшего этот шлем, превращение его неважно, так как в первом же
местечке, где найдется кузнец, я поправлю его, и поправлю таким образом, что
его не только не превзойдет, но даже и не сравнится с ним тот шлем, который
был выкован богом кузнечного дела для бога войны {Оружие, выкованное
Вулканом для Марса.}. А до тех пор буду носить его хоть таким, потому что
лучше что-нибудь, чем ничего; тем более что в теперешнем своем виде он
вполне может защитить меня от удара камнем.
-- Пожалуй, что так, -- сказал Санчо, -- если только не будут бросать
камней пращою, как это было в стычке двух войск, когда вашей милости вышибли
коренные зубы и сломали посудину, где хранился тот благословенный напиток,
от которого меня вырвало всеми моими внутренностями.
-- Я не очень-то жалею об этой потере, -- сказал Дон Кихот, -- ведь ты,
Санчо, знаешь, что я храню рецепт бальзама у себя в памяти.
-- И я тоже храню его в памяти,-- ответил Санчо, -- но если я
когда-либо изготовлю его или возьму в рот, пусть настанет последний час моей
жизни! Тем более что я не намерен ставить себя в такое положение, чтобы
нуждаться в нем, так как я с помощью всех пяти моих чувств постараюсь и себя
оберегать от ран, и никому не наносить их. А о том, что меня еще раз могут
подбросить на одеяле, я ничего не скажу; такого рода неприятности трудно
предупредить, и, случись они, ничего другого не остается, как только
хорошенько втянуть в себя плечи, задержать дыхание, закрыть глаза и
предоставить себя судьбе и одеялу, куда бы они ни привели вас.
-- Ты плохой христианин, Санчо,-- сказал, услыхав это, Дон Кихот, --
ибо ты никогда не забываешь обиды, которую нанесли тебе. Но знай, что
благородному и великодушному сердцу несвойственно обращать внимание на
пустяки. Стал ты хромать, что ли, или тебе переломали ребра, или разбили
голову, что ты не можешь забыть этой шутки? Ведь если хорошенько разобрать
дело, ясно, что это была лишь шутка и забава; прими я это иначе, то давно бы
уже вернулся туда и, чтобы отомстить за тебя, наделал бы больше бед, чем
наделали их греки, мстя за похищение Елены, которая -- если бы она жила в
наши дни или моя Дульсинея в то время, -- наверное, не славилась бы так
своей красотой, как она теперь славится ею.
И с этими словами Дон Кихот испустил вздох, послав его к небесам. А
Санчо сказал:
-- Пусть все это сойдет за шутку, так как отомстить в действительности
нельзя. Но я знаю, какого качества была и шутка и действительность, и знаю
также, что и то и другое не изгладится из моей памяти, как и не снимется с
моих плеч. Но, в сторону это, а скажите мне, ваша милость, что нам делать с
серым в яблоках конем, столь похожим на серого осла, которого тот Мартино,
вышибленный вашей милостью из седла, оставил здесь на произвол судьбы? Судя
по тому, как он задал стрекача и пустился наутек, навряд ли он когда-нибудь
вернется за своим ослом, а, клянусь моей бородой, осел этот очень недурен.
-- Не в моих обычаях, -- ответил Дон Кихот, -- обирать тех, кого я
побеждаю, и не в правилах рыцарства отнимать у них коней и оставлять их
пешими, разве только в случае, когда победитель лишился в битве собственного
коня; тогда лишь ему разрешается присвоить себе лошадь побежденного в
качестве законной военной добычи; так что, Санчо, оставь этого коня, или
осла, или чем бы ты ни желал его считать, потому что, лишь только хозяин его
увидит, что мы удалились отсюда, он вернется за ним.
-- Богу известно, как охотно я взял бы его с собой, -- сказал Санчо, --
или, по крайней мере, обменял бы его на моего осла, который мне кажется не
таким хорошим. Вот уж верно, что законы рыцарства стеснительны, так как они
не дают простора даже для обмена одного осла на другого; но я желал бы
знать, нельзя ли мне обменять хоть сбрую?
-- Относительно этого я не совсем уверен, -- ответил Дон Кихот, -- а в
виду моего сомнения, пока я не буду лучше осведомлен, пожалуй, обменяй
сбрую, если в ней для тебя крайность.
-- Такая крайность, -- сказал Санчо, -- что, если бы сбруя
предназначалась лично для меня, и тогда она не могла бы мне быть нужнее.
Воспользовавшись тотчас же данным ему разрешением, Санчо устроил
mutatio capparum {Mutatio capparum (лат.) -- перемена облачения римских
епископов и кардиналов, ежегодная церемония, происходившая на Пасху, когда
все зимние меховые облачения менялись на шелковые.} и так роскошно вырядил
своего осла, что он оказался куда красивее прежнего. После этого господин и
слуга позавтракали остатками припасов, взятых с вьючного мула
священнослужителей, и напились воды из ручья, протекавшего близ валяльных
мельниц, на которые они не оглянулись, так велико было их отвращение к этим
мельницам из-за страха, на них нагнанного ими. Позабыв свой гнев и даже свою
грусть, они сели верхом и, не следуя по определенной дороге (потому что
заранее выбирать определенную дорогу было не в обычае у странствующих
рыцарей), поехали туда, куда вздумалось Росинанту, руководившему волей
своего господина, а также и осла, который всегда в добром согласии и дружбе
следовал за ним всюду, куда бы он его ни повел. Тем не менее они очутились
снова на большой дороге и ехали по ней наугад, без всякого определенного
намерения. Пока они так ехали, Санчо сказал своему господину:
-- Сеньор, не разрешите ли вы мне, ваша милость, немного поболтать с
вами, потому что, с тех пор как вы наложили на меня строгий запрет молчания,
у меня внутри сгнило более четырех вещей и теперь на кончике языка вертится
одна, которую мне бы не хотелось погубить даром.
-- Скажи ее, -- разрешил Дон Кихот, -- и будь краток в твоей речи, так
как никакая речь -- если она длинна -- не может доставить удовольствия.
-- Итак, я скажу, сеньор, -- ответил Санчо, -- что вот уже несколько
дней я размышляю над тем, как мало можно приобрести и выиграть, отправляясь
в поиски за приключениями, подобными тем, которые отыскивает ваша милость по
этим пустынным местностям и перекресткам дорог, где, если и удастся одержать
победу и преодолеть самые большие опасности, никто этого не увидит и не
узнает, и, таким образом, ваши подвиги останутся навеки в забвении, к ущербу
намерениям вашей милости и того, чего они заслуживают. Поэтому, мне кажется,
было бы лучше (разве только ваша милость рассудит иначе), чтобы мы
отправились к какому-нибудь императору или другому великому принцу, ведущему
войну. На службе у него ваша милость могла бы выказать личные свои
достоинства -- необычайную силу и еще большую прозорливость своего ума.
Увидав все это, государь, которому мы будем служить, должен будет
волей-неволей наградить нас каждого по заслугам, и там наверное найдется
кто-нибудь, кто опишет подвиги вашей милости, чтобы память о них сохранилась
на вечные времена. О своих подвигах не говорю ничего, потому что они не
должны переходить за пределы службы оруженосца, хотя могу сказать, что если
в обычаях рыцарства описывать также и подвиги оруженосцев, не думаю, чтобы
не сообщили и о моих.
-- Ты рассуждаешь недурно, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- но до того
времени нужно странствовать по свету как бы для испытания, в поисках за
приключениями, и успешно справившись с некоторыми из них, приобрести такое
имя и такую славу, чтобы рыцарь, явившись ко двору какого-нибудь великого
монарха, был уже известен своими подвигами. Тогда мальчики, едва увидев его
въезжающим в городские ворота, все побегут за ним, окружат его и закричат:
"Вот он, Рыцарь Солнца, или Рыцарь Змей, или какой-нибудь другой эмблемы,
под которой он совершал великие свои подвиги. Вот тот, скажут они, кто
победил в поединке столь могучего великана Брокабруно; тот, кто сумел с
великого Мамелюка Персии снять чары, в которых он томился девятьсот лет".
Так из уст в уста будут прославлять его подвиги, и тотчас на крик мальчиков
и остального народа появится у окна королевского дворца сам король того
королевства. И лишь только он увидит рыцаря, узнав его по его доспехам или
по девизу на щите, он не преминет воскликнуть: "Эй вы, все рыцари моего
двора, выходите встречать цвет рыцарства, явившийся к нам!" Услыхав его
приказ, все выбегут, и сам король сойдет до середины лестницы, крепко-крепко
обнимет приезжего, приветствуя его поцелуем в уста, и тотчас же поведет за
руку в покои сеньоры королевы, где рыцарь увидит ее с инфантой, ее дочерью,
которая должна быть одной из самых прекрасных и одаренных такими
совершенствами девушкой, какую лишь с величайшим трудом можно найти на всем
пространстве земного шара. И тут же немедленно случится, что она вскинет
глаза на рыцаря, а он -- на нее, и каждый из них явится перед другим скорее
божественным, чем земным существом. Не зная как и почему, они окажутся
пойманными и запутанными в нерасторгаемых сетях любви, и сердца их
наполнятся великой тревогой, потому что они не будут знать, как им говорить,
чтобы друг другу открыть свои чувства и муки. Из покоя королевы рыцаря
поведут, наверное, в какую-нибудь богато убранную комнату дворца, где, сняв
с него доспехи, принесут ему роскошную алую епанчу, которую он накинет на
себя; и если он был красив в доспехах, таким же и еще лучше будет он
казаться в камзоле. По наступлении ночи рыцарь сядет ужинать с королем,
королевой и инфантой, с которой он не спустит глаз и будет смотреть на нее
украдкой от окружающих, а инфанта сделает то же самое и с той же
осторожностью, потому что, как я уже говорил, она очень рассудительна и
умна. Лишь только уберут со стола, неожиданно войдет в зал маленький,
уродливый карлик с прекрасной дуэньей, которая шествует за ним между двумя
великанами и предлагает какое-нибудь предприятие, задуманное древнейшим
мудрецом, с тем что, кто успешно доведет это дело до конца, будет признан
лучшим рыцарем в целом мире. Король тотчас же прикажет, чтобы все
присутствующие рыцари испытали свои силы, но никто из них не сумеет
выполнить и окончить этого дела, исключая лишь приезжего рыцаря, что
послужит еще к большему возвеличению его славы и сильно обрадует инфанту:
она сочтет себя счастливой и вполне вознагражденной за то, что остановила и
сосредоточила свои помыслы на столь возвышенном предмете. Лучше же всего то,
что этот король, или принц, или кто бы он ни был ведет упорную войну с
другим, таким же могущественным, как и он, а приезжий рыцарь (по истечении
нескольких дней, проведенных им во дворце) просит у него разрешения служить
ему в этой войне. Король с величайшей охотой дает ему разрешение, рыцарь
вежливо целует ему руку за оказанную милость. В туже ночь прощается он со
своей сеньорой инфантой у решетки сада, куда выходят окна ее спальни и где
он много раз уже говорил с нею, причем посредницей и доверенным лицом была
девушка, на которую инфанта вполне полагается. Он вздыхает, она падает в
обморок, девушка бежит за водой; она очень волнуется, потому что настает
утро, и, оберегая честь своей госпожи, боится, чтобы их не накрыли. Наконец
инфанта приходит в себя, протягивает рыцарю сквозь решетку белые свои руки;
он целует их тысячу и тысячу раз и омывает слезами. Они уславливаются, каким
образом давать друг другу знать о счастливых или несчастных событиях своей
жизни; принцесса умоляет рыцаря вернуться как можно скорей; он ей это
обещает со многими клятвами; снова целует ей руки и прощается с таким горем
на душе, что едва тут же не расстается с жизнью. Затем он идет к себе в
комнату; бросается на постель; не может заснуть из-за тоски от разлуки;
встает рано утром; идет прощаться с королем, королевой и инфантой; король и
королева, прощаясь с ним, говорят, что сеньора инфанта нездорова и не может
принять посетителей. Рыцарь думает, что она заболела от горя вследствие
разлуки с ним; он взволнован до глубины души и чуть не обнаруживает, как
сильно он терзается. Девушка-посредница присутствует при этом; она все
подмечает; идет пересказать обо всем своей сеньоре, которая слушает ее со
слезами и говорит, что одно из величайших ее огорчений -- неведение, кто ее
рыцарь и королевского ли он происхождения или нет. Прислужница девушка
уверяет инфанту, что столько учтивости, благородства и мужества, какими
обладает ее рыцарь, могут встретиться только у человека знатного
королевского рода. Горюющая принимает это утешение и старается казаться
веселой, чтобы не возбудить подозрений в своих родителях, и по истечении
двух дней появляется всюду. Рыцарь уже уехал; он сражается на войне,
побеждает врагов короля, завоевывает много городов, торжествует во многих
битвах, возвращается ко двору, видится с инфантой на прежнем условленном
месте, и они сговариваются, чтобы в награду за свои подвиги он просил у
короля ее себе в жены. Король не соглашается отдать ее замуж за рыцаря,
потому что не знает, кто он такой, но тем не менее, похитит ли он ее, или
каким-нибудь иным образом, инфанта становится его женой, и отец ее со
временем считает это за великое счастье, так как выясняется, что рыцарь --
сын могущественного короля, не знаю какого королевства, думаю, что оно,
должно быть, не занесено на карту. Король умирает; инфанта наследует
престол, словом, рыцарь делается королем. Тут-то немедленно он осыпает
щедротами своего оруженосца и всех тех, кто ему помог достигнуть столь
высокого положения. Оруженосца своего он женит на девушке инфанты, на той,
конечно, которая была посредницей их любви, а она дочь знатного герцога.
-- Этого я и желаю, эта игра как раз мне на руку, -- воскликнул Санчо,
-- и я буду придерживаться ее, потому что все точь-в-точь должно случиться с
вашей милостью под прозвищем Рыцаря Печального Образа.
-- Не сомневайся в этом, Санчо,-- ответил Дон Кихот, -- потому что
таким же способом и по тем же ступеням, которые я описал тебе, странствующие
рыцари поднимаются и поднимались до сана королей и императоров. Теперь нужно
лишь одно: узнать, кто из королей, христианских или языческих, ведет войну и
имеет красавицу дочь; но времени у нас достаточно подумать об этом, потому
что, как я уже говорил тебе, прежде чем явиться ко двору, надо сперва
приобрести славу в других местах. Мне недостает и еще одной вещи: так как,
предположив, что нашелся король, ведущий войну и имеющий красавицу дочь и
что я приобрел неимоверную славу во всей вселенной, я все же не знаю, как
могло бы оказаться, что я королевского рода или по меньшей мере, троюродный
брат какого-нибудь императора; потому что король не захочет отдать мне свою
дочь в жены, пока он сначала не удостоверится в этом, и тут никакие громкие
подвиги мне не помогут. Итак, из-за этой недохватки, я боюсь потерять все,
что заслужил доблестью руки своей. Правда, что я -- идальго известной
фамилии, имею собственность и землю, вправе требовать за обиду
вознаграждения в пятьсот суэльдос {По древнему испанскому закону за обиду,
нанесенную идальго -- его личности, чести или имуществу, -- платили штраф в
пятьсот суэльдос. За обиду, нанесенную простолюдину, он -- судя по
занимаемому им положению -- получал меньшую сумму.}, и может случиться, что
мудрец, которому предстоит написать мою историю, так разъяснит родство мое и
происхождение, что я окажусь в пятом или шестом колене внуком короля. Ты
должен знать, Санчо, что происхождение и родословная бывают двоякого рода:
одни происходят и ведут свой род от принцев и монархов, но мало-помалу время
приводит их род к упадку, и он кончается точкой, подобно пирамиде; другие же
берут начало от предков-простолюдинов, но поднимаются со ступеньки на
ступеньку выше и выше, пока не сделаются знатными вельможами; так что
разница состоит в том, что одни перестали быть тем, чем были прежде, а
другие стали тем, чем они не были. И могло бы случиться, что и я принадлежу
к числу тех, род которых был велик и славен; оно так и окажется после
внимательной проверки, а тогда король, будущий тесть мой, должен
удовлетвориться этим. Если же он не удовлетворится, инфанта полюбит меня так
пламенно, что наперекор воле отца изберет своим супругом и повелителем, хотя
бы она достоверно знала, что я сын водовоза. Если же нет, -- в таком случае
придется похитить ее и увезти, куда мне вздумается, так как время или смерть
должны же положить конец гневу ее родителей.
-- Сюда подходит также и то, -- сказал Санчо, -- что говорят некоторые
повесы: "Не проси, как милости, того, что можешь взять силой", хотя было бы
еще более кстати сказать: "Лучше скачок через забор, чем молитва добрых
людей". Говорю это к тому, что, если бы сеньор король -- тесть вашей милости
-- не захотел бы снизойти и отдать вам сеньору инфанту, только и остается,
как говорит ваша милость, похитить ее и увезти куда-нибудь. Но беда в том,
что, пока вы не помиритесь с родителями и не будете в состоянии наслаждаться
своим королевством, несчастный оруженосец останется на бобах по части
награды, разве только девушка-посредница, которая должна стать его женой,
убежит вместе с инфантой и он будет делить с нею свои дни невзгод, пока
наконец небо не распорядится иначе; так как, я думаю, господин оруженосца
может тотчас же отдать ее ему в законные супруги.
-- Этому никто не может воспрепятствовать, -- сказал Дон Кихот.
-- В таком случае, -- ответил Санчо,-- нам ничего не остается, как
только предать себя в руки Божьи и предоставить судьбе вести нас, куда ей
вздумается.
-- Да пошлет нам бог, -- сказал Дон Кихот, -- и то, чего я желаю, и то,
что тебе, Санчо, нужно, и пусть будет ничтожным тот, кто считает себя
ничтожным.
-- С богом, -- сказал Санчо. -- Я же старый христианин, и, чтобы быть
графом, этого совершенно достаточно.
-- Более чем достаточно, -- подтвердил Дон Кихот. -- А если б ты и не
был старым христианином, невелика беда, так как, будучи королем, я легко
могу пожаловать тебе дворянство, и тебе не надо ни покупать его, ни получать
его за заслуги; потому что, если я тебя возведу в графы, тем самым ты
мгновенно станешь кабальеро, и пусть себе говорят, что хотят, но, по чести,
как бы они ни досадовали, придется им называть тебя "ваша милость".
-- Поверьте, -- сказал Санчо, -- что я сумею, как следует, поддержать
свой дитул.
-- Титул, должен ты сказать, а не дитул, -- поправил его господин.
-- Пусть так, -- ответил Санчо, -- я говорю, что знаю, как себя вести,
потому что, клянусь жизнью, я был некоторое время церковным сторожем при
одном братстве, и одежда сторожа так шла ко мне, что все говорили, будто я
по осанке своей мог бы быть старшиной того же братства. А что же будет, если
я накину на плечи герцогскую мантию или оденусь в золото и жемчуг, по обычаю
иностранных графов? Не сомневаюсь, что придут за сто миль смотреть на меня.
-- Вид у тебя будет недурной, -- сказал Дон Кихот, -- но придется тебе
часто брить бороду, потому что она у тебя такая густая, всклокоченная и
нечесаная, что, если ты не будешь отдавать ее по крайней мере каждые два дня
под бритву, -- уже на расстоянии ружейного выстрела видно будет, кто ты
такой.
-- Ничего больше не остается сделать, -- сказал Санчо, -- как только
взять цирюльника и держать его в доме у себя на жалованье и даже, если бы
оказалось нужным, заставить его следовать за собой, как штальмейстер следует
за большим вельможей.
-- А почему ты знаешь, -- спросил его Дон Кихот, -- что за большим
вельможей следует штальмейстер?
-- Сейчас скажу вам, -- ответил Санчо. -- Несколько лет тому назад я
пробыл месяц в столице, и там я видел, как прогуливался очень маленький
господин, про которого говорили, что он очень большой сеньор, а позади него,
всюду, куда бы он ни поворачивал, следовал человек верхом, так что казалось,
точно он его хвост. Я спросил, почему этот человек не едет рядом с другим, а
всегда позади него, и мне ответили: это штальмейстер, и у больших вельмож в
обычае водить за собой подобного рода людей. С тех пор я так хорошо это
запомнил, что никогда не забываю.
-- Признаться, ты прав, -- сказал Дон Кихот, -- и точно также и ты
можешь водить за собой цирюльника, потому что обычаи явились не все вместе и
были придуманы не сразу, и ты можешь быть первым графом, за которым будет
всюду следовать его цирюльник; к тому же бритье бороды -- дело, требующее
больше доверия, чем седлание лошади.
-- Заботу о цирюльнике предоставьте мне, -- сказал Санчо, -- а вы,
милость ваша, позаботьтесь сделаться королем и меня возвести в графы.
-- Да будет так, -- ответил Дон Кихот и, подняв глаза, увидел то, о чем
мы услышим в следующей главе.

 Cид Амет бен-Енхели, арабский и Ламанчский писатель, рассказывает в
этой столь значительной, возвышенной, обстоятельной, прелестной и
замысловатой истории, что после того, как между знаменитым Дон Кихотом
Ламанчским и Санчо Пансой, его оруженосцем, произошел разговор, который был
передан в конце XXI главы, Дон Кихот поднял глаза и увидел, что по дороге,
по которой он ехал, шло пешком человек двенадцать, нанизанных за шеи, как
бусы в четках, на одну длинную железную цепь, и у всех были кандалы на
руках. С ними вместе ехали также два человека верхом, и два шли пешком; у
всадников были кремневые оружия, а у пеших -- мечи и дротики.
Как только Санчо Панса увидел их, он сказал:
-- Это цепь каторжников, невольников короля, которых отправляют на
галеры.
-- Как так невольников? -- спросил Дон Кихот. -- Возможно ли, чтобы
король обращал кого-либо в неволю?
-- Этого я не говорю, -- ответил Санчо, -- а только это люди, которые в
наказание за свои преступления осуждены служить королю на галерах.
-- Словом, -- возразил Дон Кихот,-- кто бы они ни были, люди эти идут
по принуждению, а не по доброй воле туда, куда их ведут.
-- Так оно и есть, -- ответил Санчо.
-- Следовательно, -- сказал его господин, -- мне предстоит здесь
приступить к исполнению обязанностей моего призвания -- к уничтожению
насилия, к защите и помощи несчастным.
-- Обратите внимание, ваша милость, -- сказал Санчо, -- что правосудие
-- а это все то же, что и сам король,-- не делает ни насилия, ни обиды
подобного рода людям, а только карает их в наказание за их преступления.
В это время цепь галерных невольников приблизилась, и Дон Кихот в очень
учтивых выражениях попросил сопровождавших их стражников, не будут ли они
столь обязательны изложить и сообщить ему причину или причины, почему они
ведут этих людей таким образом. Один из конных стражников ответил, что это
галерные каторжники -- люди, подневольные Его Величеству, которые
отправляются на галеры, и больше он ничего не может сказать, и ему нечего
больше и знать.
-- Тем не менее, -- ответил Дон Кихот, -- я хотел бы узнать о каждом из
них в отдельности причину его несчастия.
К этим словам он прибавил еще и другие и такие учтивые речи, чтобы
побудить их сообщить ему сведения, которые он желал получить, что второй
конный стражник сказал:
-- Хотя мы и везем с собой списки и копии судебных приговоров каждого
из этих несчастных, но у нас нет времени останавливаться, чтобы их достать и
прочесть вам. Подойдите, милость ваша, к ним поближе и расспросите их сами,
и они ответят вам, если пожелают, а пожелают они наверное, потому что это
такого рода люди, которым доставляет удовольствие и делать мошенничества, и
рассказывать о них.
С этим разрешением -- которое Дон Кихот сам бы взял, если б его не
дали,-- он подошел к цепи каторжников и спросил первого из них, за какие
грехи он попал в такое неприятное положение. Тот ответил, что попал в это
положение за то, что был влюблен.
-- Только за это? -- спросил его Дон Кихот. -- Но если посылают на
галеры влюбленных, мне следовало бы уже давно работать там веслами.
-- Любовь эта не такого рода, как думает ваша милость, -- сказал
галерный невольник, -- моя любовь заключалась в том, что я пламенно влюбился
в большую корзину, набитую бельем, и так крепко обнимал ее, что, если бы
правосудие не отняло ее у меня насильно, я и до сих пор не расстался бы с
ней по доброй воле. Меня схватили на месте преступления, и не понадобилось
прибегать к пытке. По вынесенному приговору мне отсчитали по спине сотню
ударов, а в придачу назначали еще три года гура-пас {Название галер на
испанском воровском языке.} и делу конец.
-- Что такое гурапас? -- спросил Дон Кихот.
-- Гурапас -- это галеры, -- ответил каторжник, молодой парень лет
около двадцати четырех, родом из Пиедранты {Маленький городок в Старой
Кастилии.}, как он сообщил.
Дон Кихот обратился с тем же вопросом и к следующему галерному
невольнику, но тот не ответил ни слова, так он был убит и грустен, а за него
ответил первый невольник и сказал:
-- Сеньор, этот вот идет на галеры за то, что пел канарейкой {Петь
канарейкой -- на воровском языке означает "сознаться под пыткой".}, -- я
хочу сказать, за то, что он музыкант и певец.
-- Как так? -- переспросил Дон Кихот. -- Разве ссылают людей на галеры
также и за то, что они музыканты и певцы?
-- Да, сеньор, -- ответил галерный невольник, -- потому что нет ничего
хуже, как петь в беде.
-- А я, напротив, слышал -- сказал Дон Кихот, -- что тот, кто поет,
свое горе спугнет.
-- Здесь же наоборот, -- ответил галерный невольник, -- тому, кто раз
споет, придется плакать всю жизнь.
-- Не понимаю этого, -- объявил Дон Кихот. Но один из стражников сказал
ему:
-- Сеньор рыцарь, петь в беде значит на языке этих нечестивых людей
сознаться под пыткой. Вот этого грешника пытали, и он сознался в своем
преступлении, в том, что он был куатреро, то есть воровал рогатый скот.
Основываясь на его признании, его осудили на шесть лет галер, не считая
двухсот полученных им ударов, которые он уже несет на плечах. Идет же он
всегда задумчивый и печальный оттого, что воры -- как оставшиеся в тюрьме,
так и те, что идут здесь, -- обижают его, издеваются над ним, мучат и
презирают за то, что он сознался и не имел мужества отпереться; потому что,
говорят они, как в да так и в нет всего лишь один слог и для преступника
большое счастье, если жизнь или смерть его зависят от собственного его
языка, а не от языка свидетелей или доказательств. Со своей стороны, и я
полагаю, что они недалеки от истины.
-- И я того же мнения, -- сказал Дон Кихот и затем, подойдя к третьему
галерному невольнику, предложил ему тот же вопрос, как и первым двум, а
спрошенный им ответил ему быстро и очень развязно:
-- Я иду на пять лет к сеньорам гура-пас, потому что у меня не хватило
десяти червонцев.
-- С величайшей охотой дам вам двадцать, -- сказал Дон Кихот, -- чтобы
освободить вас от предстоящей вам неприятности.
-- Это, кажется мне, похоже на то,-- ответил галерный невольник, -- как
если б у кого-нибудь в открытом море были деньги, а он умирал бы с голоду
оттого, что ему негде купить необходимое ему. Говорю это, потому что, если б
я своевременно получил двадцать червонцев, предлагаемые мне теперь вашей
милостью, я подмазал бы ими перо секретаря суда и оживил бы ум моего
адвоката, так что сегодня вы видели бы меня на площади Сокодовер в Толедо, а
не на этой дороге, привязанного на своре, как борзая собака. Но Бог велик:
терпение -- и конец разговору.
Дон Кихот подошел теперь к четвертому галерному невольнику, человеку
почтенной наружности, с белой бородой, доходившей ему до пояса.
Услыхав, что его спрашивают о причине, отчего он здесь, старик заплакал
и не ответил ни слова; но пятый осужденный заменил собою его язык и сказал:
-- Этот уважаемый человек, отправляется на четыре года на галеры, совершив
перед тем во всем параде и верхом обычный объезд {Перед наказанием плетью
преступников обыкновенно водили напоказ верхом на лошади по некоторым людным
улицам, с дощечкой на груди и надписью на ней преступления, в котором они
обвинялись.}.
-- Это, как мне кажется, -- сказал Санчо Панса, -- значит быть
выставленным на публичный позор.
-- Так оно и есть, -- ответил галерный невольник, -- и преступление, за
которое его присудили к этому наказанию, заключается в том, что он был
маклером ушей и даже всего тела. Одним словом, я хочу сказать, этот
кабальеро идет на галеры за то, что был сводником, а также и за некоторую
его склонность и прикосновенность к колдовству.
-- Если бы он не имел этой склонности и прикосновенности к колдовству,
-- сказал Дон Кихот, -- то за то лишь, что был просто сводником, он не
заслуживал бы быть сосланным работать веслами на галерах, а скорей ему
следовало бы поручить команду над ними и сделать его там генералом, потому
что занятие сводничеством вовсе не пустяшная вещь. Это занятие для умных
людей, крайне необходимое в хорошо устроенном государстве, и никто не должен
был бы упражняться в нем, кроме особ знатного происхождения; и даже
следовало бы для них учредить инспекторов и экзаменаторов, как это делается
и в других ремеслах, а также установить и определить их число, как число
маклеров на бирже. Таким образом можно было бы избежать немало зла,
происходящего оттого, что эта должность и профессия попадает в руки тупиц и
людей без всякого понятия, как то: глупых, ничего не стоящих женщин,
мальчишек и шутов, которые обладают столь же малым запасом лет, как и опыта,
и в самый нужный момент, когда требуется величайшее искусство, дают
замерзнуть куску по дороге от пальцев ко рту и не могут отличить правой руки
от левой. Я мог бы подробнее высказаться и указать причины, почему следовало
бы делать выбор из лиц, которым предстоит заняться столь необходимым в
государстве ремеслом, но делать это здесь считаю неуместным. Когда-нибудь
поговорю с теми, которые могут направить дело и помочь ему. Теперь же скажу
лишь одно: тяжелое чувство, вызванное во мне зрелищем этих седых волос и
почтенной наружности старика, попавшего в такую беду за сводничество,
испарилось вследствие обвинения его в колдовстве, хотя я и хорошо знаю, что
на свете нет колдунов, которые могли бы влиять на чужую волю и насиловать
ее, как это думают иные простаки, потому что наша воля свободна и нет таких
трав или чар, которые могли бы завладеть ею {Ирония этой речи Дон Кихота,
кроме общего ее характера, направлена главным образом на осмеяние рыцарских
романов, где многие из наиболее выдающихся действующих лиц не брезгали
заниматься сводничеством, так же как и некоторые из выведенных там
высокородных дам.}. Все, что некоторые глупые кумушки и хитрые обманщики и
плуты могут сделать, это приготовить снадобья и яды, которыми они сводят с
ума людей, давая им понять, что они обладают властью заставлять любить,
хотя, как я говорил, невозможно насиловать волю.
-- Так оно и есть, -- сказал добрый старик, -- и, по правде говоря,
сеньор, в колдовстве я неповинен; что же касается сводничества, -- не могу
отрицать этого, но я никогда не думал, что делаю нечто дурное, так как
намерение мое клонилось лишь к одному: что бы все наслаждались и жили дружно
и мирно, без ссор и неприятностей. Но это доброе намерение не спасло меня от
путешествия туда, откуда я не надеюсь вернуться ввиду моих преклонных лет и
болезни мочевого пузыря, которая не дает мне ни минуты покоя.
Тут он снова заплакал, как и перед тем, и Санчо почувствовал к нему
такое сострадание, что вытащил из-за пазухи монету в четыре реала и дал ее
ему в виде милостыни.
Дон Кихот двинулся дальше и спросил еще одного осужденного, в чем его
вина. Тот ответил с не меньшей, если не с большей бойкостью, чем предыдущий,
говоря:
-- Я здесь потому, что зашел слишком далеко в шутках с двумя моими
двоюродными сестрами и с другими двумя сестрами, -- но не моими. Словом, я
так дурачился с ними со всеми, что результатом шутки явилось приращение
родства, столь сложного, что нет черта, который мог бы разобраться в этом
деле. Меня уличили во всем, покровителей не нашлось, денег не было, мне
грозила опасность быть повешенным; присудили меня к шести годам на галеры; я
согласился; это кара за мою вину; я молод, и лишь бы продлилась жизнь, -- а
с нею все еще может войти в надлежащую колею. Если вы, милость ваша, сеньор
рыцарь, имеете при себе что-нибудь, чем могли бы помочь этим беднякам, Бог
отплатит вам за это на небе, а здесь, на земле, мы позаботимся упросить Отца
Небесного в наших молитвах послать вашей милости доброго здоровья и долгой
жизни, чтобы вы наслаждались этим в полное удовольствие, как того
заслуживает ваша благородная наружность.
Cид Амет бен-Енхели, арабский и Ламанчский писатель, рассказывает в
этой столь значительной, возвышенной, обстоятельной, прелестной и
замысловатой истории, что после того, как между знаменитым Дон Кихотом
Ламанчским и Санчо Пансой, его оруженосцем, произошел разговор, который был
передан в конце XXI главы, Дон Кихот поднял глаза и увидел, что по дороге,
по которой он ехал, шло пешком человек двенадцать, нанизанных за шеи, как
бусы в четках, на одну длинную железную цепь, и у всех были кандалы на
руках. С ними вместе ехали также два человека верхом, и два шли пешком; у
всадников были кремневые оружия, а у пеших -- мечи и дротики.
Как только Санчо Панса увидел их, он сказал:
-- Это цепь каторжников, невольников короля, которых отправляют на
галеры.
-- Как так невольников? -- спросил Дон Кихот. -- Возможно ли, чтобы
король обращал кого-либо в неволю?
-- Этого я не говорю, -- ответил Санчо, -- а только это люди, которые в
наказание за свои преступления осуждены служить королю на галерах.
-- Словом, -- возразил Дон Кихот,-- кто бы они ни были, люди эти идут
по принуждению, а не по доброй воле туда, куда их ведут.
-- Так оно и есть, -- ответил Санчо.
-- Следовательно, -- сказал его господин, -- мне предстоит здесь
приступить к исполнению обязанностей моего призвания -- к уничтожению
насилия, к защите и помощи несчастным.
-- Обратите внимание, ваша милость, -- сказал Санчо, -- что правосудие
-- а это все то же, что и сам король,-- не делает ни насилия, ни обиды
подобного рода людям, а только карает их в наказание за их преступления.
В это время цепь галерных невольников приблизилась, и Дон Кихот в очень
учтивых выражениях попросил сопровождавших их стражников, не будут ли они
столь обязательны изложить и сообщить ему причину или причины, почему они
ведут этих людей таким образом. Один из конных стражников ответил, что это
галерные каторжники -- люди, подневольные Его Величеству, которые
отправляются на галеры, и больше он ничего не может сказать, и ему нечего
больше и знать.
-- Тем не менее, -- ответил Дон Кихот, -- я хотел бы узнать о каждом из
них в отдельности причину его несчастия.
К этим словам он прибавил еще и другие и такие учтивые речи, чтобы
побудить их сообщить ему сведения, которые он желал получить, что второй
конный стражник сказал:
-- Хотя мы и везем с собой списки и копии судебных приговоров каждого
из этих несчастных, но у нас нет времени останавливаться, чтобы их достать и
прочесть вам. Подойдите, милость ваша, к ним поближе и расспросите их сами,
и они ответят вам, если пожелают, а пожелают они наверное, потому что это
такого рода люди, которым доставляет удовольствие и делать мошенничества, и
рассказывать о них.
С этим разрешением -- которое Дон Кихот сам бы взял, если б его не
дали,-- он подошел к цепи каторжников и спросил первого из них, за какие
грехи он попал в такое неприятное положение. Тот ответил, что попал в это
положение за то, что был влюблен.
-- Только за это? -- спросил его Дон Кихот. -- Но если посылают на
галеры влюбленных, мне следовало бы уже давно работать там веслами.
-- Любовь эта не такого рода, как думает ваша милость, -- сказал
галерный невольник, -- моя любовь заключалась в том, что я пламенно влюбился
в большую корзину, набитую бельем, и так крепко обнимал ее, что, если бы
правосудие не отняло ее у меня насильно, я и до сих пор не расстался бы с
ней по доброй воле. Меня схватили на месте преступления, и не понадобилось
прибегать к пытке. По вынесенному приговору мне отсчитали по спине сотню
ударов, а в придачу назначали еще три года гура-пас {Название галер на
испанском воровском языке.} и делу конец.
-- Что такое гурапас? -- спросил Дон Кихот.
-- Гурапас -- это галеры, -- ответил каторжник, молодой парень лет
около двадцати четырех, родом из Пиедранты {Маленький городок в Старой
Кастилии.}, как он сообщил.
Дон Кихот обратился с тем же вопросом и к следующему галерному
невольнику, но тот не ответил ни слова, так он был убит и грустен, а за него
ответил первый невольник и сказал:
-- Сеньор, этот вот идет на галеры за то, что пел канарейкой {Петь
канарейкой -- на воровском языке означает "сознаться под пыткой".}, -- я
хочу сказать, за то, что он музыкант и певец.
-- Как так? -- переспросил Дон Кихот. -- Разве ссылают людей на галеры
также и за то, что они музыканты и певцы?
-- Да, сеньор, -- ответил галерный невольник, -- потому что нет ничего
хуже, как петь в беде.
-- А я, напротив, слышал -- сказал Дон Кихот, -- что тот, кто поет,
свое горе спугнет.
-- Здесь же наоборот, -- ответил галерный невольник, -- тому, кто раз
споет, придется плакать всю жизнь.
-- Не понимаю этого, -- объявил Дон Кихот. Но один из стражников сказал
ему:
-- Сеньор рыцарь, петь в беде значит на языке этих нечестивых людей
сознаться под пыткой. Вот этого грешника пытали, и он сознался в своем
преступлении, в том, что он был куатреро, то есть воровал рогатый скот.
Основываясь на его признании, его осудили на шесть лет галер, не считая
двухсот полученных им ударов, которые он уже несет на плечах. Идет же он
всегда задумчивый и печальный оттого, что воры -- как оставшиеся в тюрьме,
так и те, что идут здесь, -- обижают его, издеваются над ним, мучат и
презирают за то, что он сознался и не имел мужества отпереться; потому что,
говорят они, как в да так и в нет всего лишь один слог и для преступника
большое счастье, если жизнь или смерть его зависят от собственного его
языка, а не от языка свидетелей или доказательств. Со своей стороны, и я
полагаю, что они недалеки от истины.
-- И я того же мнения, -- сказал Дон Кихот и затем, подойдя к третьему
галерному невольнику, предложил ему тот же вопрос, как и первым двум, а
спрошенный им ответил ему быстро и очень развязно:
-- Я иду на пять лет к сеньорам гура-пас, потому что у меня не хватило
десяти червонцев.
-- С величайшей охотой дам вам двадцать, -- сказал Дон Кихот, -- чтобы
освободить вас от предстоящей вам неприятности.
-- Это, кажется мне, похоже на то,-- ответил галерный невольник, -- как
если б у кого-нибудь в открытом море были деньги, а он умирал бы с голоду
оттого, что ему негде купить необходимое ему. Говорю это, потому что, если б
я своевременно получил двадцать червонцев, предлагаемые мне теперь вашей
милостью, я подмазал бы ими перо секретаря суда и оживил бы ум моего
адвоката, так что сегодня вы видели бы меня на площади Сокодовер в Толедо, а
не на этой дороге, привязанного на своре, как борзая собака. Но Бог велик:
терпение -- и конец разговору.
Дон Кихот подошел теперь к четвертому галерному невольнику, человеку
почтенной наружности, с белой бородой, доходившей ему до пояса.
Услыхав, что его спрашивают о причине, отчего он здесь, старик заплакал
и не ответил ни слова; но пятый осужденный заменил собою его язык и сказал:
-- Этот уважаемый человек, отправляется на четыре года на галеры, совершив
перед тем во всем параде и верхом обычный объезд {Перед наказанием плетью
преступников обыкновенно водили напоказ верхом на лошади по некоторым людным
улицам, с дощечкой на груди и надписью на ней преступления, в котором они
обвинялись.}.
-- Это, как мне кажется, -- сказал Санчо Панса, -- значит быть
выставленным на публичный позор.
-- Так оно и есть, -- ответил галерный невольник, -- и преступление, за
которое его присудили к этому наказанию, заключается в том, что он был
маклером ушей и даже всего тела. Одним словом, я хочу сказать, этот
кабальеро идет на галеры за то, что был сводником, а также и за некоторую
его склонность и прикосновенность к колдовству.
-- Если бы он не имел этой склонности и прикосновенности к колдовству,
-- сказал Дон Кихот, -- то за то лишь, что был просто сводником, он не
заслуживал бы быть сосланным работать веслами на галерах, а скорей ему
следовало бы поручить команду над ними и сделать его там генералом, потому
что занятие сводничеством вовсе не пустяшная вещь. Это занятие для умных
людей, крайне необходимое в хорошо устроенном государстве, и никто не должен
был бы упражняться в нем, кроме особ знатного происхождения; и даже
следовало бы для них учредить инспекторов и экзаменаторов, как это делается
и в других ремеслах, а также установить и определить их число, как число
маклеров на бирже. Таким образом можно было бы избежать немало зла,
происходящего оттого, что эта должность и профессия попадает в руки тупиц и
людей без всякого понятия, как то: глупых, ничего не стоящих женщин,
мальчишек и шутов, которые обладают столь же малым запасом лет, как и опыта,
и в самый нужный момент, когда требуется величайшее искусство, дают
замерзнуть куску по дороге от пальцев ко рту и не могут отличить правой руки
от левой. Я мог бы подробнее высказаться и указать причины, почему следовало
бы делать выбор из лиц, которым предстоит заняться столь необходимым в
государстве ремеслом, но делать это здесь считаю неуместным. Когда-нибудь
поговорю с теми, которые могут направить дело и помочь ему. Теперь же скажу
лишь одно: тяжелое чувство, вызванное во мне зрелищем этих седых волос и
почтенной наружности старика, попавшего в такую беду за сводничество,
испарилось вследствие обвинения его в колдовстве, хотя я и хорошо знаю, что
на свете нет колдунов, которые могли бы влиять на чужую волю и насиловать
ее, как это думают иные простаки, потому что наша воля свободна и нет таких
трав или чар, которые могли бы завладеть ею {Ирония этой речи Дон Кихота,
кроме общего ее характера, направлена главным образом на осмеяние рыцарских
романов, где многие из наиболее выдающихся действующих лиц не брезгали
заниматься сводничеством, так же как и некоторые из выведенных там
высокородных дам.}. Все, что некоторые глупые кумушки и хитрые обманщики и
плуты могут сделать, это приготовить снадобья и яды, которыми они сводят с
ума людей, давая им понять, что они обладают властью заставлять любить,
хотя, как я говорил, невозможно насиловать волю.
-- Так оно и есть, -- сказал добрый старик, -- и, по правде говоря,
сеньор, в колдовстве я неповинен; что же касается сводничества, -- не могу
отрицать этого, но я никогда не думал, что делаю нечто дурное, так как
намерение мое клонилось лишь к одному: что бы все наслаждались и жили дружно
и мирно, без ссор и неприятностей. Но это доброе намерение не спасло меня от
путешествия туда, откуда я не надеюсь вернуться ввиду моих преклонных лет и
болезни мочевого пузыря, которая не дает мне ни минуты покоя.
Тут он снова заплакал, как и перед тем, и Санчо почувствовал к нему
такое сострадание, что вытащил из-за пазухи монету в четыре реала и дал ее
ему в виде милостыни.
Дон Кихот двинулся дальше и спросил еще одного осужденного, в чем его
вина. Тот ответил с не меньшей, если не с большей бойкостью, чем предыдущий,
говоря:
-- Я здесь потому, что зашел слишком далеко в шутках с двумя моими
двоюродными сестрами и с другими двумя сестрами, -- но не моими. Словом, я
так дурачился с ними со всеми, что результатом шутки явилось приращение
родства, столь сложного, что нет черта, который мог бы разобраться в этом
деле. Меня уличили во всем, покровителей не нашлось, денег не было, мне
грозила опасность быть повешенным; присудили меня к шести годам на галеры; я
согласился; это кара за мою вину; я молод, и лишь бы продлилась жизнь, -- а
с нею все еще может войти в надлежащую колею. Если вы, милость ваша, сеньор
рыцарь, имеете при себе что-нибудь, чем могли бы помочь этим беднякам, Бог
отплатит вам за это на небе, а здесь, на земле, мы позаботимся упросить Отца
Небесного в наших молитвах послать вашей милости доброго здоровья и долгой
жизни, чтобы вы наслаждались этим в полное удовольствие, как того
заслуживает ваша благородная наружность.
 Говоривший был одет студентом, -- и один из стражников сказал, что он
большой краснобай и хороший латинист. Последним в цепи галерных невольников
был человек очень красивый собой, лет тридцати, но только он косил, так что
один глаз не переставал смотреть на другой. Он был иначе скован, чем
остальные; на ноге у него была такая длинная цепь, что она охватывала все
его тело, а на горле виднелись два железных ошейника: один -- прикрепленный
к цепи, а другой -- из тех, которые называют опорой, или поддержкой друга.
От него спускались две железные полосы, доходившие невольнику до пояса, а к
ним были прикреплены кандалы, надетые на его руки и замкнутые большим замком
так, что он не мог ни достать руками до рта, ни наклонить голову к рукам.
Дон Кихот спросил: почему этот человек скован гораздо большим количеством
цепей, чем все остальные? Конвойный ответил:
[1] Железный ошейник или костыль, прозванный так на воровском языке;
назначение его было поддерживать голову преступника, чтобы он не мог
опускать ее и прятать, стыдясь своего наказания.
потому, что один он совершил больше преступлений, чем все остальные
вместе взятые, и притом он такой смелый и выдающийся мошенник, что, хотя его
и ведут закованным таким образом, все же они не уверены в нем и опасаются,
чтобы он не сбежал у них.
-- Какие же мог он совершить преступления, -- спросил Дон Кихот, --
если он не заслужил большего наказания, как только быть сосланным на галеры?
-- Он идет туда на десять лет, -- ответил стражник, -- а это все равно
что гражданская смерть. С вас будет достаточно знать, если я вам скажу, что
этот добрый человек -- не кто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте,
называемый иначе Хинесильо де Парапилья.
-- Тише, сеньор комиссар, -- сказал тогда галерный невольник, -- нечего
тут перебирать имена и прозвища. Зовут меня Хинес, а не Хинесильо, и фамилия
моя Пасамонте, а не Парапилья, как вы говорите; да к тому же: знай себя --
итого будет с тебя.
-- Не говорите, -- возразил комиссар, -- таким наглым тоном, сеньор
первейший вор и мазурик, если вы не желаете, чтобы я вас заставил, не на
радость вам, молчать.
-- Нет сомнения, -- ответил галерный невольник, -- что человеку
приходится идти туда, куда Бог велит, но когда-нибудь кое-кто узнает, зовут
ли меня Хинесильо де Парапилья.
-- А разве тебя не зовут так, обманщик? -- сказал стражник.
-- Да, зовут, -- ответил Хинес, -- но я позабочусь о том, чтобы меня
так не звали, или же вырву бороду, -- а у кого, про себя знаю. Сеньор
рыцарь, если вы желаете что нам дать, давайте скорей и ступайте себе с
богом, а то вы уж очень надоели своими расспросами о жизни чужих людей. Если
же вы хотите познакомиться с моей жизнью, -- знайте, что я Хинес де
Пасамонте, биография которого написана вот этими пальцами.
-- Это правда, -- подтвердил комиссар, -- потому что он сам написал
свою историю как нельзя лучше и оставил книгу в тюрьме под залог двухсот
реалов.
-- Но я намерен выкупить ее, -- сказал Хинес, -- даже если б она была
заложена за двести червонцев.
-- Разве она так хороша? -- спросил Дон Кихот.
-- Так хороша, -- ответил Хинес,-- что черт побери "Ласарильо де
Тормес" и все остальные сочинения в том же роде, уже написанные или которые
будут еще написаны! Могу вам только сказать, что в этой книге речь идет лишь
об истинах, и о таких милых и приятных истинах, что никакая ложь не может
сравниться с ними.
-- А как озаглавлена ваша книга? -- спросил Дон Кихот.
-- "Жизнь Хинеса де Пасамонте",-- ответил автор.
-- И она окончена? -- осведомился Дон Кихот.
-- Как же может это быть, -- ответил Хинес, -- если моя жизнь еще не
кончена? Написанное мной начинается с моего рождения и доведено до того
времени, когда меня в последний раз сослали на галеры.
-- Значит, вы там уже были? -- спросил Дон Кихот.
-- Я был там, служа Богу и королю, однажды, четыре года тому назад, и
уже знаю вкус сухарей и плетей из воловьих хвостов, -- ответил Хинес. -- Не
очень я огорчен, что иду туда, потому что у меня будет время кончить мою
книгу: мне ведь осталось еще многое сказать; а на галерах
в Испании больше свободного времени, чем надо, хотя мне его и не много
надо для того, что мне еще осталось дописать, так как я все наизусть знаю.
-- Ты, кажется, способный малый,-- сказал Дон Кихот.
-- И несчастный, -- ответил Хинес,-- потому что несчастье всегда
преследует умные головы.
-- Оно преследует мошенников,-- поправил его комиссар.
-- Я уже говорил вам, сеньор комиссар, -- огрызнулся Пасамонте, --
держитесь потише; те господа дали вам этот должностной ваш жезл не для того,
чтобы вы обижали нас, бедняжек, идущих здесь, а только для того, чтоб вы нас
сопровождали и отвели туда, куда приказывает Его Величество; если же нет,
клянусь жизнью... Но довольно! Быть может, когда-нибудь и отмоются в щелоке
пятна, сделанные в трактире, и пусть каждый закусит свой язык, живет хорошо
и говорит еще лучше, и давайте отправимся дальше: вся эта комедия тянется
уже слишком долго.
Комиссар замахнулся жезлом, чтобы ударить им Пасамонте в ответ на его
угрозы, но Дон Кихот заступился за него и попросил комиссара не обижать его,
так как не велика важность, если у тех, у кого крепко связаны руки,
несколько развязан язык. И, обращаясь ко всем находящимся на цепи, он
сказал:
-- Из всего, что вы сообщили мне, дражайшие братья, -- я увидел ясно,
что хотя вас и осудили за преступления, но наказание, которое вам предстоит
нести, не очень-то вам по вкусу и вы подчиняетесь ему крайне неохотно и
совершенно против вашей воли. Очень может быть, что малодушие одного во
время пытки, недостаток денег у другого, неимение покровителей у третьего и,
наконец, ошибочный приговор судей были причиной вашей гибели и неудачи
добыть себе такое правосудие, которое было бы на вашей стороне. Все это
представляется теперь так живо моему уму, что убеждает, внушает и даже
принуждает меня доказать на вашем примере, для какой цели небо послало меня
в мир и приобщило меня к рыцарскому ордену, который я исповедую и приняв
который я дал клятву помогать нуждающимся и защищать угнетенных против
сильных. Но так как я знаю, что одно из свойств благоразумия -- не
добиваться насилием того, что может быть достигнуто добром, я обращаюсь с
просьбой к этим сеньорам, вашим стражникам, и к комиссару, не будут ли они
столь добры снять с вас оковы и отпустить вас с миром на все четыре стороны,
так как не будет недостатка в других, которые по лучшим побуждениям
согласятся нести службу королю, потому что мне кажется жестоким обращать в
рабов тех, которых Бог и природа создала свободными. Тем более, сеньоры
стражники, -- добавил Дон Кихот, -- что эти бедные люди ничем не провинились
лично против вас. Пусть же каждый сам отвечает за свой грех; на небе есть
Бог, который не преминет наказать злых и наградить добрых; и не годится,
чтобы честные люди были палачами других людей, не имея к этому никакого
касательства. Прошу с такой кротостью и спокойствием, чтобы, в случае если б
вы исполнили мою просьбу, мне было за что благодарить вас; если же вы не
согласитесь добровольно, копье это, и меч, и сила руки моей принудят вас к
тому.
-- Премиленькая выходка, -- сказал комиссар, -- и отменная шутка, с
которой он под конец выступил! Он желает, чтобы мы освободили невольников
короля, -- точно в нашей власти отпустить их или же в его власти приказать
нам это! Ступайте в добрый час своей дорогой, милость ваша, сеньор, да
поправьте на голове у себя этот таз и не ищите у кошки трех лап {Поговорка,
которая правильнее звучит так: "Искать у кошки пять лап".}.
-- Это вы сами кошка, крыса и негодяй, -- ответил Дон Кихот. И,
одновременно говоря и действуя, он так быстро устремился на комиссара, что
не дал ему времени защититься, а тяжелораненого ударом копья сбросил на
землю, на счастье себе, потому что упавший-то именно и был вооружен
кремневым ружьем. Остальные стражники стояли изумленные и смущенные столь
неожиданным событием; но придя в себя, верховые схватились за меч, а пешие
-- за метательные копья и кинулись с ними на Дон Кихота, ожидавшего их
совершенно спокойно; но ему, без сомнения, пришлось бы плохо, если б
галерные невольники, видя, что им представляется счастливый случай получить
свободу, не поспешили воспользоваться им, сломав цепь, которой они были
прикованы друг к другу Общая суматоха была так велика, что стражники, то
подбегавшие к галерным невольникам, ломавшим свои цепи, то бросавшиеся на
Дон Кихота, который нападал на них, ничего путного не могли сделать. Санчо,
со своей стороны, помог освободиться Хинесу де Пасамонте, очутившемуся
первым на воле и без цепей. Он кинулся к лежавшему на земле комиссару,
отобрал у него меч и ружье и, прицеливаясь то в одного, то в другого, но не
стреляя ни в кого, очистил поле битвы от стражников, обратившихся в бегство
как от ружья Пасамонте, так и от града камней, которыми их осыпали
освободившиеся галерные невольники. Санчо был очень огорчен этой историей,
потому что боялся, что бежавшие стражники сообщат о случившемся Святой
эрмандаде, а она при звоне вестового колокола начнет преследовать
преступников. Все это он сказал своему господину и просил его тотчас же
уехать с ним отсюда и скрыться в близлежащих горах.
-- Это хорошо, -- сказал Дон Кихот, -- но я знаю, что теперь мне
надлежит делать. -- И он позвал галерных невольников, которые, волнуясь и
шумя, бежали по полю, обобрав донага комиссара; они все собрались кругом
него, чтобы узнать, какие он даст приказания, после чего он обратился к ним
со следующими словами:
-- Благородным людям свойственно быть благодарными за полученное
благодеяние; и один из грехов, наиболее противных Богу, -- неблагодарность.
Говорю это, сеньоры, потому, что вы видели и испытали на себе оказанное мною
вам благодеяние. В воздаяние за него я желал бы -- и такова моя воля, --
чтобы вы, обремененные цепью, которую я снял с вашей шеи, немедленно
отправились в путь и, дойдя до города Тобосо, явились там к сеньоре
Дульсинее Тобосской и сообщили ей, что ее рыцарь -- Рыцарь Печального Образа
-- велел передать ей свой привет и рассказать ей точка в точку все
подробности этого знаменитого приключения от начала и до того, как я добыл
вам желанную свободу. Сделав это, вы можете идти с миром и в добрый час,
куда хотите.
Хинес де Пасамонте ответил за всех и сказал:
-- То, что нам милость ваша приказывает, сеньор и освободитель наш,
самая невозможная из всех невозможностей, потому что нам нельзя идти всем
вместе по дорогам, а только врозь и поодиночке, каждый со своей стороны
стараясь скрыться в недрах земли, чтобы не быть застигнутым Святой
эрман-дадой, которая, без сомнения, будет нас
разыскивать. То, что ваша милость могла бы сделать -- и следовало бы и
было бы справедливо сделать, -- это заменить обязательство, возложенное на
нас, и дань относительно сеньоры Дульсинеи Тобосской известным количеством
"Ave Maria" и "Credo", и мы охотно произнесли бы их за ваш счет, потому что
это такое дело, которым можно заняться ночью и днем, во время бегства и на
отдыхе, на войне и в мирное время. Но думать, чтобы мы теперь вернулись в
землю Египетскую, то есть чтобы мы взяли нашу цепь и отправились по дороге в
Тобосо, -- значит думать, что теперь ночь, когда еще нет и десяти часов
утра, и требовать этого от нас -- все равно что требовать груш от вяза.
-- В таком случае, -- воскликнул Дон Кихот (уже вспыхнувший гневом), --
я клянусь, дон сын блудницы, дон Хинесильо де Парапильо, или как вас там
зовут, что пойдете вы один, поджав хвост между ногами и неся всю цепь на
своих плечах.
Пассамонте, который был не очень-то терпеливого нрава (притом он уже
догадался, что Дон Кихот не в здравом рассудке, так как совершил столь
безумный поступок, возвратив им свободу), видя, что с ним обращаются таким
образом, мигнул товарищам, и, отойдя в сторону, они стали осыпать рыцаря
градом камней, так что он только и делал, что старался прикрыть себя щитом,
а бедняга Росинант нимало не обращал внимания на шпоры, словно он был вылит
из бронзы. Санчо спрятался за своим ослом и таким образом защитил себя от
бури и града камней, разразившихся над ними обоими. Дон Кихот не мог
прикрыться щитом настолько хорошо, чтобы несколько кремневых камней --
сколько не знаю -- не попало в него, и с такой силой, что он свалился на
землю.
Едва он упал, как студент бросился к нему, снял у него с головы таз,
ударил его им три или четыре раза по плечам и столько же раз стукнул тазом
по земле, так что чуть не разбил его в куски. Галерные невольники сняли с
рыцаря полукафтанье, которое было у него надето поверх доспехов, и сняли бы
с него и чулки, если бы этому не помешали ножные его латы. У Санчо они
отняли верхнее платье, оставив его в одной рубашке, и, поделив между собою
завоеванную в битве добычу, разбежались, каждый в свою сторону, более
озабоченные тем, чтобы укрыться от Святой эрмандады, которой они страшились,
чем обременить себя цепью и идти представляться сеньоре Дульсинее Тобосской.
Остались на поле сражения только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел --
задумчивый, с опущенной головой, время от времени потрясая ушами, словно он
полагал, что шквал камней, просвистевших над его головой, еще не утих;
Росинант -- лежа врастяжку рядом со своим господином, так как удар камня
свалил и его на землю; Санчо -- в одной рубашке, дрожащий от страха перед
Святой эрмандадой; Дон Кихот -- вне себя от гнева при мысли, что с ним так
предательски обошлись те самые люди, которым он сделал столько добра.
Говоривший был одет студентом, -- и один из стражников сказал, что он
большой краснобай и хороший латинист. Последним в цепи галерных невольников
был человек очень красивый собой, лет тридцати, но только он косил, так что
один глаз не переставал смотреть на другой. Он был иначе скован, чем
остальные; на ноге у него была такая длинная цепь, что она охватывала все
его тело, а на горле виднелись два железных ошейника: один -- прикрепленный
к цепи, а другой -- из тех, которые называют опорой, или поддержкой друга.
От него спускались две железные полосы, доходившие невольнику до пояса, а к
ним были прикреплены кандалы, надетые на его руки и замкнутые большим замком
так, что он не мог ни достать руками до рта, ни наклонить голову к рукам.
Дон Кихот спросил: почему этот человек скован гораздо большим количеством
цепей, чем все остальные? Конвойный ответил:
[1] Железный ошейник или костыль, прозванный так на воровском языке;
назначение его было поддерживать голову преступника, чтобы он не мог
опускать ее и прятать, стыдясь своего наказания.
потому, что один он совершил больше преступлений, чем все остальные
вместе взятые, и притом он такой смелый и выдающийся мошенник, что, хотя его
и ведут закованным таким образом, все же они не уверены в нем и опасаются,
чтобы он не сбежал у них.
-- Какие же мог он совершить преступления, -- спросил Дон Кихот, --
если он не заслужил большего наказания, как только быть сосланным на галеры?
-- Он идет туда на десять лет, -- ответил стражник, -- а это все равно
что гражданская смерть. С вас будет достаточно знать, если я вам скажу, что
этот добрый человек -- не кто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте,
называемый иначе Хинесильо де Парапилья.
-- Тише, сеньор комиссар, -- сказал тогда галерный невольник, -- нечего
тут перебирать имена и прозвища. Зовут меня Хинес, а не Хинесильо, и фамилия
моя Пасамонте, а не Парапилья, как вы говорите; да к тому же: знай себя --
итого будет с тебя.
-- Не говорите, -- возразил комиссар, -- таким наглым тоном, сеньор
первейший вор и мазурик, если вы не желаете, чтобы я вас заставил, не на
радость вам, молчать.
-- Нет сомнения, -- ответил галерный невольник, -- что человеку
приходится идти туда, куда Бог велит, но когда-нибудь кое-кто узнает, зовут
ли меня Хинесильо де Парапилья.
-- А разве тебя не зовут так, обманщик? -- сказал стражник.
-- Да, зовут, -- ответил Хинес, -- но я позабочусь о том, чтобы меня
так не звали, или же вырву бороду, -- а у кого, про себя знаю. Сеньор
рыцарь, если вы желаете что нам дать, давайте скорей и ступайте себе с
богом, а то вы уж очень надоели своими расспросами о жизни чужих людей. Если
же вы хотите познакомиться с моей жизнью, -- знайте, что я Хинес де
Пасамонте, биография которого написана вот этими пальцами.
-- Это правда, -- подтвердил комиссар, -- потому что он сам написал
свою историю как нельзя лучше и оставил книгу в тюрьме под залог двухсот
реалов.
-- Но я намерен выкупить ее, -- сказал Хинес, -- даже если б она была
заложена за двести червонцев.
-- Разве она так хороша? -- спросил Дон Кихот.
-- Так хороша, -- ответил Хинес,-- что черт побери "Ласарильо де
Тормес" и все остальные сочинения в том же роде, уже написанные или которые
будут еще написаны! Могу вам только сказать, что в этой книге речь идет лишь
об истинах, и о таких милых и приятных истинах, что никакая ложь не может
сравниться с ними.
-- А как озаглавлена ваша книга? -- спросил Дон Кихот.
-- "Жизнь Хинеса де Пасамонте",-- ответил автор.
-- И она окончена? -- осведомился Дон Кихот.
-- Как же может это быть, -- ответил Хинес, -- если моя жизнь еще не
кончена? Написанное мной начинается с моего рождения и доведено до того
времени, когда меня в последний раз сослали на галеры.
-- Значит, вы там уже были? -- спросил Дон Кихот.
-- Я был там, служа Богу и королю, однажды, четыре года тому назад, и
уже знаю вкус сухарей и плетей из воловьих хвостов, -- ответил Хинес. -- Не
очень я огорчен, что иду туда, потому что у меня будет время кончить мою
книгу: мне ведь осталось еще многое сказать; а на галерах
в Испании больше свободного времени, чем надо, хотя мне его и не много
надо для того, что мне еще осталось дописать, так как я все наизусть знаю.
-- Ты, кажется, способный малый,-- сказал Дон Кихот.
-- И несчастный, -- ответил Хинес,-- потому что несчастье всегда
преследует умные головы.
-- Оно преследует мошенников,-- поправил его комиссар.
-- Я уже говорил вам, сеньор комиссар, -- огрызнулся Пасамонте, --
держитесь потише; те господа дали вам этот должностной ваш жезл не для того,
чтобы вы обижали нас, бедняжек, идущих здесь, а только для того, чтоб вы нас
сопровождали и отвели туда, куда приказывает Его Величество; если же нет,
клянусь жизнью... Но довольно! Быть может, когда-нибудь и отмоются в щелоке
пятна, сделанные в трактире, и пусть каждый закусит свой язык, живет хорошо
и говорит еще лучше, и давайте отправимся дальше: вся эта комедия тянется
уже слишком долго.
Комиссар замахнулся жезлом, чтобы ударить им Пасамонте в ответ на его
угрозы, но Дон Кихот заступился за него и попросил комиссара не обижать его,
так как не велика важность, если у тех, у кого крепко связаны руки,
несколько развязан язык. И, обращаясь ко всем находящимся на цепи, он
сказал:
-- Из всего, что вы сообщили мне, дражайшие братья, -- я увидел ясно,
что хотя вас и осудили за преступления, но наказание, которое вам предстоит
нести, не очень-то вам по вкусу и вы подчиняетесь ему крайне неохотно и
совершенно против вашей воли. Очень может быть, что малодушие одного во
время пытки, недостаток денег у другого, неимение покровителей у третьего и,
наконец, ошибочный приговор судей были причиной вашей гибели и неудачи
добыть себе такое правосудие, которое было бы на вашей стороне. Все это
представляется теперь так живо моему уму, что убеждает, внушает и даже
принуждает меня доказать на вашем примере, для какой цели небо послало меня
в мир и приобщило меня к рыцарскому ордену, который я исповедую и приняв
который я дал клятву помогать нуждающимся и защищать угнетенных против
сильных. Но так как я знаю, что одно из свойств благоразумия -- не
добиваться насилием того, что может быть достигнуто добром, я обращаюсь с
просьбой к этим сеньорам, вашим стражникам, и к комиссару, не будут ли они
столь добры снять с вас оковы и отпустить вас с миром на все четыре стороны,
так как не будет недостатка в других, которые по лучшим побуждениям
согласятся нести службу королю, потому что мне кажется жестоким обращать в
рабов тех, которых Бог и природа создала свободными. Тем более, сеньоры
стражники, -- добавил Дон Кихот, -- что эти бедные люди ничем не провинились
лично против вас. Пусть же каждый сам отвечает за свой грех; на небе есть
Бог, который не преминет наказать злых и наградить добрых; и не годится,
чтобы честные люди были палачами других людей, не имея к этому никакого
касательства. Прошу с такой кротостью и спокойствием, чтобы, в случае если б
вы исполнили мою просьбу, мне было за что благодарить вас; если же вы не
согласитесь добровольно, копье это, и меч, и сила руки моей принудят вас к
тому.
-- Премиленькая выходка, -- сказал комиссар, -- и отменная шутка, с
которой он под конец выступил! Он желает, чтобы мы освободили невольников
короля, -- точно в нашей власти отпустить их или же в его власти приказать
нам это! Ступайте в добрый час своей дорогой, милость ваша, сеньор, да
поправьте на голове у себя этот таз и не ищите у кошки трех лап {Поговорка,
которая правильнее звучит так: "Искать у кошки пять лап".}.
-- Это вы сами кошка, крыса и негодяй, -- ответил Дон Кихот. И,
одновременно говоря и действуя, он так быстро устремился на комиссара, что
не дал ему времени защититься, а тяжелораненого ударом копья сбросил на
землю, на счастье себе, потому что упавший-то именно и был вооружен
кремневым ружьем. Остальные стражники стояли изумленные и смущенные столь
неожиданным событием; но придя в себя, верховые схватились за меч, а пешие
-- за метательные копья и кинулись с ними на Дон Кихота, ожидавшего их
совершенно спокойно; но ему, без сомнения, пришлось бы плохо, если б
галерные невольники, видя, что им представляется счастливый случай получить
свободу, не поспешили воспользоваться им, сломав цепь, которой они были
прикованы друг к другу Общая суматоха была так велика, что стражники, то
подбегавшие к галерным невольникам, ломавшим свои цепи, то бросавшиеся на
Дон Кихота, который нападал на них, ничего путного не могли сделать. Санчо,
со своей стороны, помог освободиться Хинесу де Пасамонте, очутившемуся
первым на воле и без цепей. Он кинулся к лежавшему на земле комиссару,
отобрал у него меч и ружье и, прицеливаясь то в одного, то в другого, но не
стреляя ни в кого, очистил поле битвы от стражников, обратившихся в бегство
как от ружья Пасамонте, так и от града камней, которыми их осыпали
освободившиеся галерные невольники. Санчо был очень огорчен этой историей,
потому что боялся, что бежавшие стражники сообщат о случившемся Святой
эрмандаде, а она при звоне вестового колокола начнет преследовать
преступников. Все это он сказал своему господину и просил его тотчас же
уехать с ним отсюда и скрыться в близлежащих горах.
-- Это хорошо, -- сказал Дон Кихот, -- но я знаю, что теперь мне
надлежит делать. -- И он позвал галерных невольников, которые, волнуясь и
шумя, бежали по полю, обобрав донага комиссара; они все собрались кругом
него, чтобы узнать, какие он даст приказания, после чего он обратился к ним
со следующими словами:
-- Благородным людям свойственно быть благодарными за полученное
благодеяние; и один из грехов, наиболее противных Богу, -- неблагодарность.
Говорю это, сеньоры, потому, что вы видели и испытали на себе оказанное мною
вам благодеяние. В воздаяние за него я желал бы -- и такова моя воля, --
чтобы вы, обремененные цепью, которую я снял с вашей шеи, немедленно
отправились в путь и, дойдя до города Тобосо, явились там к сеньоре
Дульсинее Тобосской и сообщили ей, что ее рыцарь -- Рыцарь Печального Образа
-- велел передать ей свой привет и рассказать ей точка в точку все
подробности этого знаменитого приключения от начала и до того, как я добыл
вам желанную свободу. Сделав это, вы можете идти с миром и в добрый час,
куда хотите.
Хинес де Пасамонте ответил за всех и сказал:
-- То, что нам милость ваша приказывает, сеньор и освободитель наш,
самая невозможная из всех невозможностей, потому что нам нельзя идти всем
вместе по дорогам, а только врозь и поодиночке, каждый со своей стороны
стараясь скрыться в недрах земли, чтобы не быть застигнутым Святой
эрман-дадой, которая, без сомнения, будет нас
разыскивать. То, что ваша милость могла бы сделать -- и следовало бы и
было бы справедливо сделать, -- это заменить обязательство, возложенное на
нас, и дань относительно сеньоры Дульсинеи Тобосской известным количеством
"Ave Maria" и "Credo", и мы охотно произнесли бы их за ваш счет, потому что
это такое дело, которым можно заняться ночью и днем, во время бегства и на
отдыхе, на войне и в мирное время. Но думать, чтобы мы теперь вернулись в
землю Египетскую, то есть чтобы мы взяли нашу цепь и отправились по дороге в
Тобосо, -- значит думать, что теперь ночь, когда еще нет и десяти часов
утра, и требовать этого от нас -- все равно что требовать груш от вяза.
-- В таком случае, -- воскликнул Дон Кихот (уже вспыхнувший гневом), --
я клянусь, дон сын блудницы, дон Хинесильо де Парапильо, или как вас там
зовут, что пойдете вы один, поджав хвост между ногами и неся всю цепь на
своих плечах.
Пассамонте, который был не очень-то терпеливого нрава (притом он уже
догадался, что Дон Кихот не в здравом рассудке, так как совершил столь
безумный поступок, возвратив им свободу), видя, что с ним обращаются таким
образом, мигнул товарищам, и, отойдя в сторону, они стали осыпать рыцаря
градом камней, так что он только и делал, что старался прикрыть себя щитом,
а бедняга Росинант нимало не обращал внимания на шпоры, словно он был вылит
из бронзы. Санчо спрятался за своим ослом и таким образом защитил себя от
бури и града камней, разразившихся над ними обоими. Дон Кихот не мог
прикрыться щитом настолько хорошо, чтобы несколько кремневых камней --
сколько не знаю -- не попало в него, и с такой силой, что он свалился на
землю.
Едва он упал, как студент бросился к нему, снял у него с головы таз,
ударил его им три или четыре раза по плечам и столько же раз стукнул тазом
по земле, так что чуть не разбил его в куски. Галерные невольники сняли с
рыцаря полукафтанье, которое было у него надето поверх доспехов, и сняли бы
с него и чулки, если бы этому не помешали ножные его латы. У Санчо они
отняли верхнее платье, оставив его в одной рубашке, и, поделив между собою
завоеванную в битве добычу, разбежались, каждый в свою сторону, более
озабоченные тем, чтобы укрыться от Святой эрмандады, которой они страшились,
чем обременить себя цепью и идти представляться сеньоре Дульсинее Тобосской.
Остались на поле сражения только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел --
задумчивый, с опущенной головой, время от времени потрясая ушами, словно он
полагал, что шквал камней, просвистевших над его головой, еще не утих;
Росинант -- лежа врастяжку рядом со своим господином, так как удар камня
свалил и его на землю; Санчо -- в одной рубашке, дрожащий от страха перед
Святой эрмандадой; Дон Кихот -- вне себя от гнева при мысли, что с ним так
предательски обошлись те самые люди, которым он сделал столько добра.


 [1] Так называется горная цепь, отделяющая Ламанчу от Андалузии. Во
времена Сервантеса Сьерра-Морена служила убежищем для всех скрывавшихся от
правосудия и была любимым местопребыванием разбойников, воров и др. Римляне
называли эти горы Mons Marianus.
Видя себя в таком плохом положении, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:
-- Я всегда слышал, Санчо, что делать добро негодяям все равно что лить воду
в море. Если б я поверил тому, что ты мне говорил, я бы мог избежать этого
огорчения; но так как дело сделано, -- терпение, а отныне впредь я научусь
остерегаться.
-- То, что ваша милость научится остерегаться, -- ответил Санчо, -- так
же верно, как и то, что я турок. Но раз вы говорите, что, если б вы мне
поверили, вы бы избегли этой беды, -- поверьте же мне хоть теперь, и вы
избегнете еще большей беды, потому что я должен вам сказать, что Святую
эрмандаду нельзя пронять рыцарством и она не даст и двух мараведисов за всех
странствующих рыцарей, сколько бы их ни было, и, знаете ли -- мне уже
кажется, что стрелы ее свистят около моих ушей {В старину убийц, застигнутых
на месте преступления, Святая Эрмандада подвергала такой каре: их
привязывали на большой дороге к столбу и убивали градом стрел.}.
-- Ты по своей природе трус, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- но чтобы ты
не говорил, что я упрям и никогда не делаю того, что ты мне советуешь, -- на
этот раз я последую твоему совету и уйду от фурии, которой ты так боишься.
Но сделаю это с одним лишь условием: чтобы никогда, во всю свою жизнь, и в
смерти ты никому не сказал, что я отстранился и бежал от этой опасности из
страха, а только потому, что я сдался на твои просьбы; если же ты скажешь
что-нибудь другое, ты солжешь отныне и впредь, и отныне и впредь я обличаю
тебя во лжи и говорю ты лжешь и будешь лгать всякий раз, как ты это
подумаешь или скажешь. И не возражай мне ни слова, потому что при одной
мысли, что я отступаю и бегу от какой-нибудь опасности, и особенно от этой
опасности, которая действительно может пробудить нечто вроде тени страха, --
я уже готов остаться здесь и ждать один не только Святое братство, о котором
ты говоришь и которого боишься, но и братьев всех двенадцати колен Израиля,
и семь братьев Макавеев, и Кастора и Пол-лукса, и даже всех братьев и все
братства, какие имеются на свете.
[1] Так называется горная цепь, отделяющая Ламанчу от Андалузии. Во
времена Сервантеса Сьерра-Морена служила убежищем для всех скрывавшихся от
правосудия и была любимым местопребыванием разбойников, воров и др. Римляне
называли эти горы Mons Marianus.
Видя себя в таком плохом положении, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:
-- Я всегда слышал, Санчо, что делать добро негодяям все равно что лить воду
в море. Если б я поверил тому, что ты мне говорил, я бы мог избежать этого
огорчения; но так как дело сделано, -- терпение, а отныне впредь я научусь
остерегаться.
-- То, что ваша милость научится остерегаться, -- ответил Санчо, -- так
же верно, как и то, что я турок. Но раз вы говорите, что, если б вы мне
поверили, вы бы избегли этой беды, -- поверьте же мне хоть теперь, и вы
избегнете еще большей беды, потому что я должен вам сказать, что Святую
эрмандаду нельзя пронять рыцарством и она не даст и двух мараведисов за всех
странствующих рыцарей, сколько бы их ни было, и, знаете ли -- мне уже
кажется, что стрелы ее свистят около моих ушей {В старину убийц, застигнутых
на месте преступления, Святая Эрмандада подвергала такой каре: их
привязывали на большой дороге к столбу и убивали градом стрел.}.
-- Ты по своей природе трус, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- но чтобы ты
не говорил, что я упрям и никогда не делаю того, что ты мне советуешь, -- на
этот раз я последую твоему совету и уйду от фурии, которой ты так боишься.
Но сделаю это с одним лишь условием: чтобы никогда, во всю свою жизнь, и в
смерти ты никому не сказал, что я отстранился и бежал от этой опасности из
страха, а только потому, что я сдался на твои просьбы; если же ты скажешь
что-нибудь другое, ты солжешь отныне и впредь, и отныне и впредь я обличаю
тебя во лжи и говорю ты лжешь и будешь лгать всякий раз, как ты это
подумаешь или скажешь. И не возражай мне ни слова, потому что при одной
мысли, что я отступаю и бегу от какой-нибудь опасности, и особенно от этой
опасности, которая действительно может пробудить нечто вроде тени страха, --
я уже готов остаться здесь и ждать один не только Святое братство, о котором
ты говоришь и которого боишься, но и братьев всех двенадцати колен Израиля,
и семь братьев Макавеев, и Кастора и Пол-лукса, и даже всех братьев и все
братства, какие имеются на свете.
 -- Сеньор, -- ответил Санчо, -- отступать -- не значит еще бежать, и
оставаться там, где опасность берет верх над надеждой, -- не есть
благоразумие, и кто умен, тот бережет себя сегодня для завтрашнего дня и не
рискует всем в один день; и знайте, что, хотя я неученый, грубый крестьянин,
все же я обладаю долей того, что называют житейским опытом; итак, не
раскаивайтесь, что последовали моему совету, но садитесь на Росинанта, если
можете, а не можете, я помогу вам, и поезжайте за мной, так как ум мой
говорит мне, что нам теперь ноги нужнее, чем руки.
Дон Кихот сел на коня, не возражая больше ни слова, а Санчо указывал
путь на своем осле, и таким образом въехали они в Сьерра-Морену, бывшую там
поблизости. Санчо намеревался проехать ее всю и выехать в Визо или в
Альмодавар-дель-Кампо, скрываясь несколько дней среди этих скалистых, диких
местностей, чтобы их не нашли, если б Святая эрмандада стала искать их. Он
еще более укрепился в своем намерении, когда увидел, что съестные припасы,
которые он вез на осле, остались целы в схватке с галерными невольниками, --
обстоятельство, показавшееся ему чудом, если принять во внимание то, что они
у них отняли и как старательно все обыскивали.
-----
Этою ночью они добрались до самых недр Сьерра-Морены, где Санчо
заблагорассудил провести ночь и еще несколько дней -- по крайней мере
столько времени, насколько хватит съестных припасов, бывших при нем. Итак,
они расположились на ночлег между двумя скалами, под несколькими пробковыми
деревьями. Но злополучная судьба, которая, по мнению людей, не озаренных
светом истинной веры, всем управляет, руководит и все устраивает по своему
усмотрению, распорядилась, чтобы Хинес де Пасамонте, знаменитый обманщик и
вор, благодаря доблести и безумию Дон Кихота освободившийся от цепи,
движимый страхом перед Святой эрмандадой, которой он справедливо опасался,
тоже решил скрыться в этих же горах. Судьба его и страх привели его на то же
самое место, куда они привели Дон Кихота и Санчо Пансу, как раз когда еще
было настолько светло, что он мог их узнать, и в то время, когда они уже
заснули. И так как злые всегда неблагодарны, а нужда побуждает их совершать
то, чего не следовало бы делать, и отдавать предпочтение настоящей выгоде
перед будущей, Хинес, который не был ни признательным, ни благожелательным,
рассудил украсть у Санчо Пансы осла, не заботясь о Росинанте, так как это
была добыча негодная, ее нельзя было ни продать, ни заложить. Санчо Панса
спал. Хинес украл у него осла; и прежде, чем рассвело, он уехал уже так
далеко, что нельзя было догнать его. Зажглась заря, обрадовав мир, но
опечалив Санчо Пансу, так как он не нашел своего серого. Видя, что его
похитили у него, он разразился самыми горькими и заунывными жалобами и вопил
так громко, что Дон Кихот проснулся от его криков и услышал, как он
восклицал:
-- Сеньор, -- ответил Санчо, -- отступать -- не значит еще бежать, и
оставаться там, где опасность берет верх над надеждой, -- не есть
благоразумие, и кто умен, тот бережет себя сегодня для завтрашнего дня и не
рискует всем в один день; и знайте, что, хотя я неученый, грубый крестьянин,
все же я обладаю долей того, что называют житейским опытом; итак, не
раскаивайтесь, что последовали моему совету, но садитесь на Росинанта, если
можете, а не можете, я помогу вам, и поезжайте за мной, так как ум мой
говорит мне, что нам теперь ноги нужнее, чем руки.
Дон Кихот сел на коня, не возражая больше ни слова, а Санчо указывал
путь на своем осле, и таким образом въехали они в Сьерра-Морену, бывшую там
поблизости. Санчо намеревался проехать ее всю и выехать в Визо или в
Альмодавар-дель-Кампо, скрываясь несколько дней среди этих скалистых, диких
местностей, чтобы их не нашли, если б Святая эрмандада стала искать их. Он
еще более укрепился в своем намерении, когда увидел, что съестные припасы,
которые он вез на осле, остались целы в схватке с галерными невольниками, --
обстоятельство, показавшееся ему чудом, если принять во внимание то, что они
у них отняли и как старательно все обыскивали.
-----
Этою ночью они добрались до самых недр Сьерра-Морены, где Санчо
заблагорассудил провести ночь и еще несколько дней -- по крайней мере
столько времени, насколько хватит съестных припасов, бывших при нем. Итак,
они расположились на ночлег между двумя скалами, под несколькими пробковыми
деревьями. Но злополучная судьба, которая, по мнению людей, не озаренных
светом истинной веры, всем управляет, руководит и все устраивает по своему
усмотрению, распорядилась, чтобы Хинес де Пасамонте, знаменитый обманщик и
вор, благодаря доблести и безумию Дон Кихота освободившийся от цепи,
движимый страхом перед Святой эрмандадой, которой он справедливо опасался,
тоже решил скрыться в этих же горах. Судьба его и страх привели его на то же
самое место, куда они привели Дон Кихота и Санчо Пансу, как раз когда еще
было настолько светло, что он мог их узнать, и в то время, когда они уже
заснули. И так как злые всегда неблагодарны, а нужда побуждает их совершать
то, чего не следовало бы делать, и отдавать предпочтение настоящей выгоде
перед будущей, Хинес, который не был ни признательным, ни благожелательным,
рассудил украсть у Санчо Пансы осла, не заботясь о Росинанте, так как это
была добыча негодная, ее нельзя было ни продать, ни заложить. Санчо Панса
спал. Хинес украл у него осла; и прежде, чем рассвело, он уехал уже так
далеко, что нельзя было догнать его. Зажглась заря, обрадовав мир, но
опечалив Санчо Пансу, так как он не нашел своего серого. Видя, что его
похитили у него, он разразился самыми горькими и заунывными жалобами и вопил
так громко, что Дон Кихот проснулся от его криков и услышал, как он
восклицал:
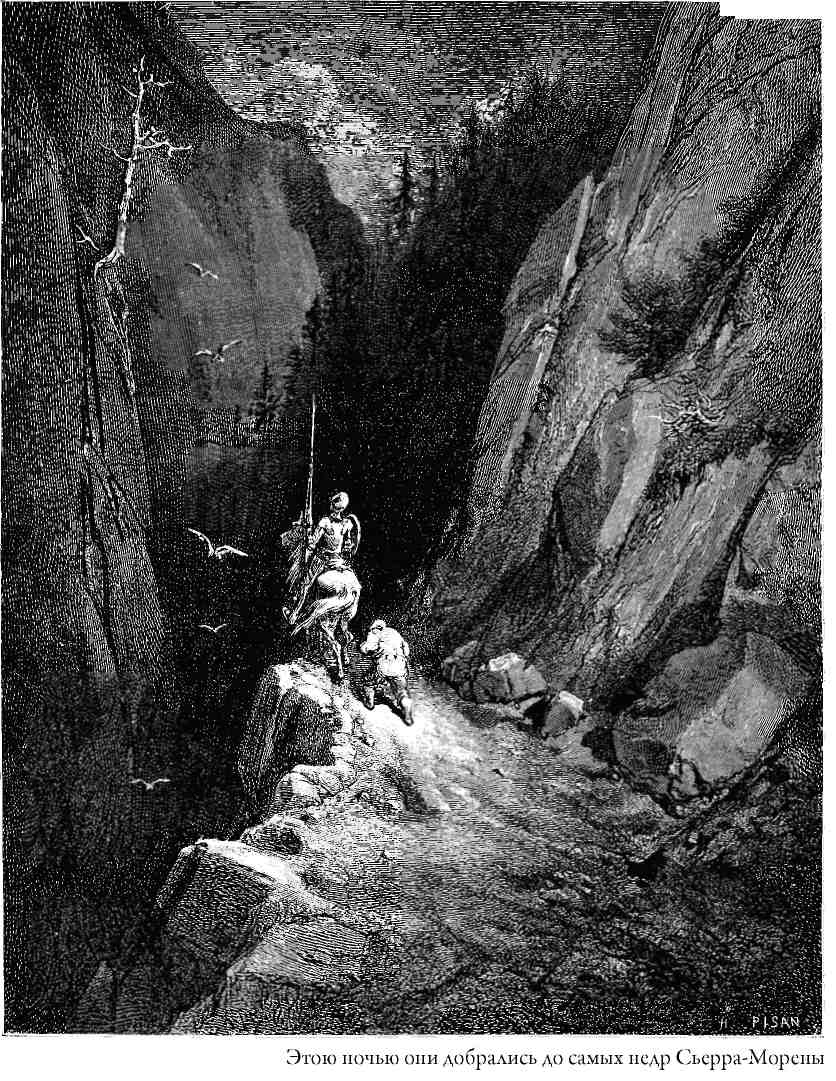 -- О дитя моей утробы, ты, родившийся у меня в доме, развлечение моих
детей, утешение моей жены, предмет зависти соседей, облегчите моего бремени
и, наконец, опора половины моего существования, потому что на двадцать шесть
мераведисов, которые ты зарабатывал ежедневно, я снискивал половину моего
пропитания!
Дон Кихот, видя его слезы и узнав причину их, утешил Санчо лучшими
доводами, которые только мог найти, и просил его иметь терпение, обещая дать
ему вексель, по которому ему выдадут трех ослят из пяти, оставленных им у
себя дома. Санчо утешился этим, вытер свои слезы, умерил свои рыдания и
поблагодарил Дон Кихота за милость оказанную ему {Этот эпизод был вставлен
во второе издание "Дон Кихота" Куэсты, в 1605 г.}.
-----
Лишь только Дон Кихот очутился в горах, сердце его исполнилось
радостью, так как ему казалось, что эти места очень подходящи для
приключений, которых он искал. Он вспомнил изумительные события, случавшиеся
со странствующими рыцарями в подобных же уединенных и диких местах, и так
углубился в эти мысли, был ими так увлечен и восхищен, что ничего другого не
видел и не слышал. Санчо же не имел теперь иной заботы (после того как они,
по его мнению, достигли вполне безопасного места), кроме заботы
удовлетворить свой желудок остатками добычи, взятой у священнослужителей.
Итак, он ехал за господином, сидя на своем осле по-женски, доставая из мешка
припасы и набивая ими брюхо свое, и, пока он был занят таким образом, он не
дал бы и медного гроша за то, чтоб найти новое приключение. Между тем Санчо,
вскинув глаза, увидел, что его господин остановился и острием копья
старается поднять какой-то узел, лежащий на земле, он поспешил к рыцарю,
чтобы ему помочь, если это окажется нужным; и как раз поспел в ту минуту,
когда Дон Кихот поднимал острием копья седельную подушку с привязанным к ней
ручным чемоданчиком, оба полусгнившие, или, вернее, даже совсем сгнившие и
разваливающиеся, но они были такие тяжелые, что Санчо пришлось сойти с осла,
чтобы поднять их. Его господин приказал ему посмотреть, что в чемоданчике.
Санчо быстро исполнил это; и хотя чемоданчик и был заперт цепью и замком, но
сквозь дыры и отверстия в прогнивших местах он увидел, что там находилось:
четыре рубашки из тонкого голландского полотна и другие полотняные вещи, не
менее тонкие и чистые, а в платочке он нашел добрую кучку золотых монет, и,
когда он их увидел, он воскликнул:
-- Да будет благословенно все небо за то, что оно послало нам
приключение, стоящее чего-нибудь. -- И, поискав еще в чемоданчике, он нашел
богато украшенную маленькую записную книжку, которую Дон Кихот потребовал у
него, деньги же приказал ему сохранить и взять их себе. Санчо поцеловал ему
руки за эту милость и, вынув из чемоданчика белье, положил их в мешок со
съестными припасами. Увидав все это, Дон Кихот сказал:
-- Мне кажется, Санчо (и иначе быть не может), что какой-нибудь
путешественник заблудился в этих горах, а разбойники напали на него, убили и
потом принесли сюда и зарыли в этом столь глухом месте.
-- Не может этого быть, -- ответил Санчо, -- потому что, если б это
были воры, они не оставили бы здесь денег.
-- О дитя моей утробы, ты, родившийся у меня в доме, развлечение моих
детей, утешение моей жены, предмет зависти соседей, облегчите моего бремени
и, наконец, опора половины моего существования, потому что на двадцать шесть
мераведисов, которые ты зарабатывал ежедневно, я снискивал половину моего
пропитания!
Дон Кихот, видя его слезы и узнав причину их, утешил Санчо лучшими
доводами, которые только мог найти, и просил его иметь терпение, обещая дать
ему вексель, по которому ему выдадут трех ослят из пяти, оставленных им у
себя дома. Санчо утешился этим, вытер свои слезы, умерил свои рыдания и
поблагодарил Дон Кихота за милость оказанную ему {Этот эпизод был вставлен
во второе издание "Дон Кихота" Куэсты, в 1605 г.}.
-----
Лишь только Дон Кихот очутился в горах, сердце его исполнилось
радостью, так как ему казалось, что эти места очень подходящи для
приключений, которых он искал. Он вспомнил изумительные события, случавшиеся
со странствующими рыцарями в подобных же уединенных и диких местах, и так
углубился в эти мысли, был ими так увлечен и восхищен, что ничего другого не
видел и не слышал. Санчо же не имел теперь иной заботы (после того как они,
по его мнению, достигли вполне безопасного места), кроме заботы
удовлетворить свой желудок остатками добычи, взятой у священнослужителей.
Итак, он ехал за господином, сидя на своем осле по-женски, доставая из мешка
припасы и набивая ими брюхо свое, и, пока он был занят таким образом, он не
дал бы и медного гроша за то, чтоб найти новое приключение. Между тем Санчо,
вскинув глаза, увидел, что его господин остановился и острием копья
старается поднять какой-то узел, лежащий на земле, он поспешил к рыцарю,
чтобы ему помочь, если это окажется нужным; и как раз поспел в ту минуту,
когда Дон Кихот поднимал острием копья седельную подушку с привязанным к ней
ручным чемоданчиком, оба полусгнившие, или, вернее, даже совсем сгнившие и
разваливающиеся, но они были такие тяжелые, что Санчо пришлось сойти с осла,
чтобы поднять их. Его господин приказал ему посмотреть, что в чемоданчике.
Санчо быстро исполнил это; и хотя чемоданчик и был заперт цепью и замком, но
сквозь дыры и отверстия в прогнивших местах он увидел, что там находилось:
четыре рубашки из тонкого голландского полотна и другие полотняные вещи, не
менее тонкие и чистые, а в платочке он нашел добрую кучку золотых монет, и,
когда он их увидел, он воскликнул:
-- Да будет благословенно все небо за то, что оно послало нам
приключение, стоящее чего-нибудь. -- И, поискав еще в чемоданчике, он нашел
богато украшенную маленькую записную книжку, которую Дон Кихот потребовал у
него, деньги же приказал ему сохранить и взять их себе. Санчо поцеловал ему
руки за эту милость и, вынув из чемоданчика белье, положил их в мешок со
съестными припасами. Увидав все это, Дон Кихот сказал:
-- Мне кажется, Санчо (и иначе быть не может), что какой-нибудь
путешественник заблудился в этих горах, а разбойники напали на него, убили и
потом принесли сюда и зарыли в этом столь глухом месте.
-- Не может этого быть, -- ответил Санчо, -- потому что, если б это
были воры, они не оставили бы здесь денег.
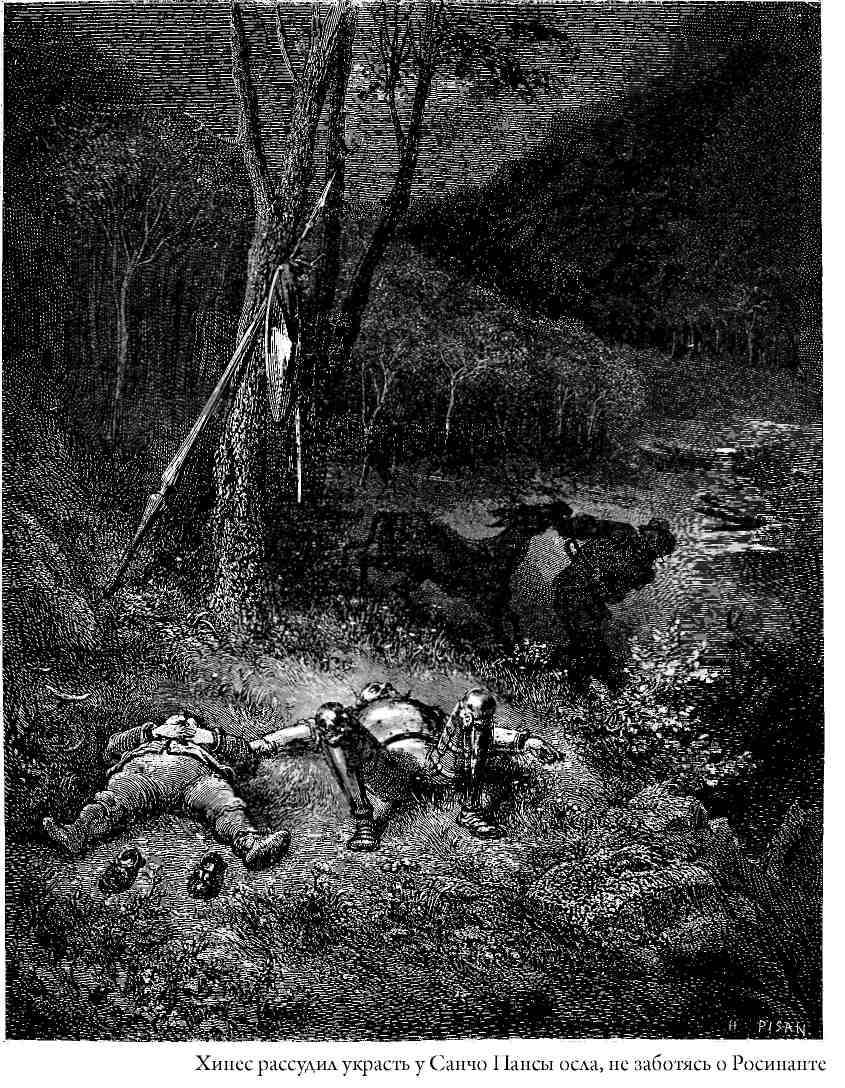 -- Ты прав, -- согласился Дон Кихот, -- и в таком случае я не знаю и не
могу отгадать, что это могло бы быть; но подожди, мы посмотрим, не найдем ли
в этой маленькой книжечке какой-нибудь записи, которая могла бы навести нас
на след и дать сведения о том, что мы желаем узнать.
Он раскрыл книжечку, и первое, на что наткнулся, был сонет, написанный
вчерне, хотя четким, хорошим почерком; читая сонет вслух, чтобы и Санчо тоже
слышал его, он увидел, что в нем заключается следующее:
Иль бог любви не знает состраданья,
Иль чересчур ко мне он был жесток,
Иль я несу сверх меры наказанье
И без вины карает злобный рок?
Но если чтить мы божества сиянье
Должны в любви, -- сомненья нет, что бог
Жестоким быть не может.
Кто ж страданье,
Кто пытку ту мне ниспослать бы мог?
Ты, Нита?[1]
Нет, то было б заблужденье!
Не может ад от неба исходить,
Зло от добра, от блага -- преступленье.
Мне смерть грозит...
Когда происхождение
Причину мук не можем проследить,
Нам не найти лекарства и спасенья!
[1] В испанском сонете имя Fili, которое Санчо, ослышавшись или нарочно
превращает в hilo (старинное filo), т. е. нитка.
-- Из этих стихов, -- сказал Санчо,-- ничего нельзя узнать, разве
только мы по нитке, о которой там речь, доберемся и до всего клубка.
-- Какая там нитка? -- спросил Дон Кихот.
-- Мне послышалось, -- сказал Санчо, -- что ваша милость, читая,
упомянула о нитке.
-- Я не сказал нитка, а Нита, -- ответил Дон Кихот, -- и, без сомнения,
это имя той дамы, на которую жалуется автор сонета; и, по чести, должно
быть, он недурной поэт, или же я мало смыслю в искусстве стихотворства.
-- Значит, -- спросил Санчо, -- милость ваша умеет также писать и
стихи?
-- Получше, чем ты думаешь, -- ответил Дон Кихот, -- и ты увидишь это,
когда я пошлю тебя отнести письмо моей сеньоре Дульсинее Тобосской,
написанное сверху донизу стихами. Ты должен знать, Санчо, что все или
большинство странствующих рыцарей минувших времен были хорошими трубадурами
{Поэты-певцы, а специально так назывались провансальские певцы.} и
музыкантами, потому что эти два искусства, или, вернее говоря, природные
дарования, были свойственны влюбленным странствующим рыцарям; правда также,
что в стихах старинных рыцарей больше ума, чем изящества.
-- Почитайте еще, милость ваша,-- сказал Санчо, -- может быть, и
найдется в книжечке что-нибудь, что удовлетворит нас.
Дон Кихот перевернул страницу и сказал:
-- Тут вот проза, и, по-видимому, это письмо.
-- Для отправки на почту? -- спросил Санчо.
-- Судя по началу, это любовное письмо, -- ответил Дон Кихот.
-- Прочтите вслух, ваша милость,-- попросил Санчо, -- ведь я большой
охотник до всяких любовных историй.
-- Ты прав, -- согласился Дон Кихот, -- и в таком случае я не знаю и не
могу отгадать, что это могло бы быть; но подожди, мы посмотрим, не найдем ли
в этой маленькой книжечке какой-нибудь записи, которая могла бы навести нас
на след и дать сведения о том, что мы желаем узнать.
Он раскрыл книжечку, и первое, на что наткнулся, был сонет, написанный
вчерне, хотя четким, хорошим почерком; читая сонет вслух, чтобы и Санчо тоже
слышал его, он увидел, что в нем заключается следующее:
Иль бог любви не знает состраданья,
Иль чересчур ко мне он был жесток,
Иль я несу сверх меры наказанье
И без вины карает злобный рок?
Но если чтить мы божества сиянье
Должны в любви, -- сомненья нет, что бог
Жестоким быть не может.
Кто ж страданье,
Кто пытку ту мне ниспослать бы мог?
Ты, Нита?[1]
Нет, то было б заблужденье!
Не может ад от неба исходить,
Зло от добра, от блага -- преступленье.
Мне смерть грозит...
Когда происхождение
Причину мук не можем проследить,
Нам не найти лекарства и спасенья!
[1] В испанском сонете имя Fili, которое Санчо, ослышавшись или нарочно
превращает в hilo (старинное filo), т. е. нитка.
-- Из этих стихов, -- сказал Санчо,-- ничего нельзя узнать, разве
только мы по нитке, о которой там речь, доберемся и до всего клубка.
-- Какая там нитка? -- спросил Дон Кихот.
-- Мне послышалось, -- сказал Санчо, -- что ваша милость, читая,
упомянула о нитке.
-- Я не сказал нитка, а Нита, -- ответил Дон Кихот, -- и, без сомнения,
это имя той дамы, на которую жалуется автор сонета; и, по чести, должно
быть, он недурной поэт, или же я мало смыслю в искусстве стихотворства.
-- Значит, -- спросил Санчо, -- милость ваша умеет также писать и
стихи?
-- Получше, чем ты думаешь, -- ответил Дон Кихот, -- и ты увидишь это,
когда я пошлю тебя отнести письмо моей сеньоре Дульсинее Тобосской,
написанное сверху донизу стихами. Ты должен знать, Санчо, что все или
большинство странствующих рыцарей минувших времен были хорошими трубадурами
{Поэты-певцы, а специально так назывались провансальские певцы.} и
музыкантами, потому что эти два искусства, или, вернее говоря, природные
дарования, были свойственны влюбленным странствующим рыцарям; правда также,
что в стихах старинных рыцарей больше ума, чем изящества.
-- Почитайте еще, милость ваша,-- сказал Санчо, -- может быть, и
найдется в книжечке что-нибудь, что удовлетворит нас.
Дон Кихот перевернул страницу и сказал:
-- Тут вот проза, и, по-видимому, это письмо.
-- Для отправки на почту? -- спросил Санчо.
-- Судя по началу, это любовное письмо, -- ответил Дон Кихот.
-- Прочтите вслух, ваша милость,-- попросил Санчо, -- ведь я большой
охотник до всяких любовных историй.
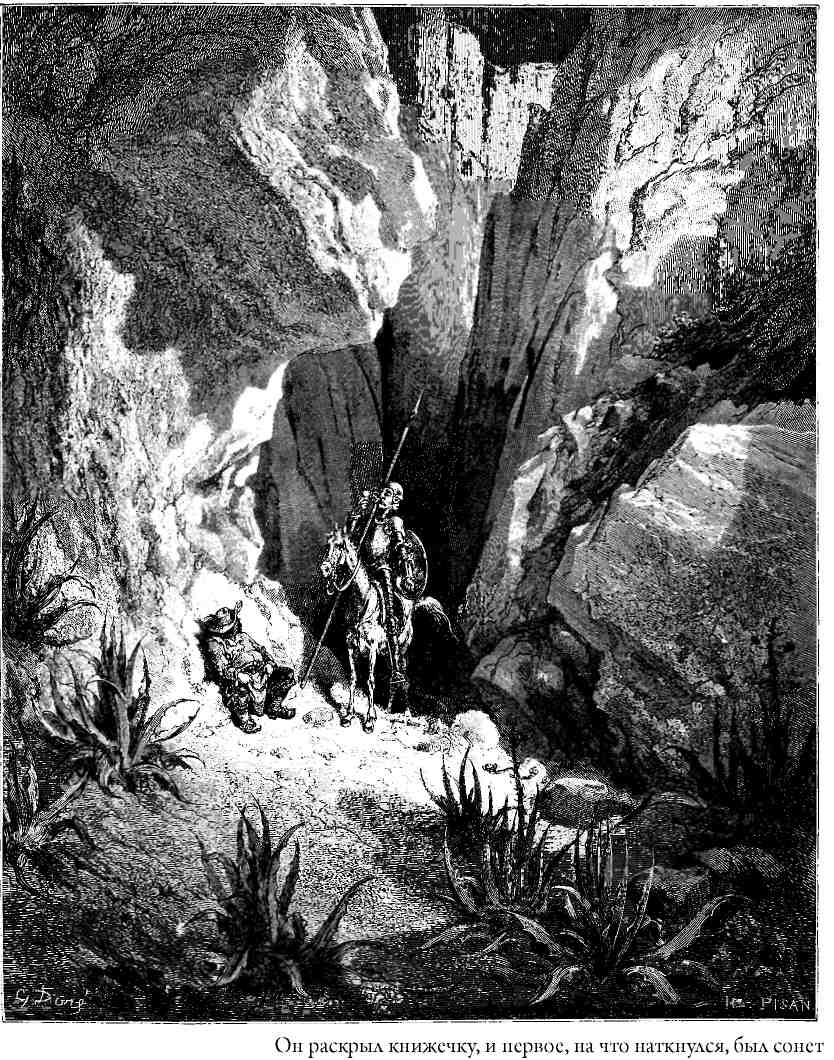 -- С удовольствием, -- ответил Дон Кихот и, читая письмо вслух, как о
том просил Санчо, увидел, что в нем заключается следующее:
"Твое лживое обещание и мое несомненное несчастие влекут меня в такое
место, откуда до твоего слуха раньше донесется весть о моей смерти, чем
слова моих жалоб. Ты, о неблагодарная, отвергла меня для человека,
обладающего большим богатством, чем я, но не стоящего больше меня. И если б
добродетель ценилась подобно богатству, я не завидовал бы теперь чужому
счастию и не оплакивал бы моего несчастия. То, что воздвигла твоя красота,
разрушили твои поступки; из нее я заключил, что ты ангел, -- из них я знаю,
что ты женщина. Пребывай в мире, виновница моих битв, и дай-то небо, чтоб
вероломство твоего мужа оставалось навсегда нераскрытым, чтобы ты не
раскаялась в том, что сделала, и я не отомстил бы там, где этого не желаю".
Прочитав письмо, Дон Кихот сказал:
-- Из этого письма еще менее, чем из стихотворения, можно узнать, кто
написал его; ясно лишь одно, -- что писал его отверженный любовник.
И, перелистав почти всю записную книжечку, он нашел еще другие
стихотворения и письма, из которых иные можно было разобрать, а другие нет.
Но все заключали в себе жалобы, сетования, опасения, изъявления радости,
горя, благосклонности, презрения, причем приятное превозносилось, а грустное
-- оплакивалось.
Пока Дон Кихот рассматривал записную книжечку, Санчо возился с
чемоданчиком, не оставив в нем, а также и в седельной подушке, ни одного
уголка, которого он бы не обшарил, не вытряс и не исследовал: ни одного шва
-- нераспоротым, ни клочка шерсти -- нерастрепанным, желая увериться, что
там ничего не осталось незамеченным по его небрежности или недостатку
старания, -- такую алчность пробудили в нем найденные червонцы, которых
оказалось более ста. И хотя он и не нашел ничего сверх уже найденного, он
теперь вполне примирился и с тем, что его подбрасывали на одеяле, и с рвотой
от бальзама, и с благословением его спины дубинами, и с кулачной расправой
погонщика мулов, и с пропажей дорожных сумок, и с похищением у него одежды,
и с голодом, жаждой и утомлением, перенесенными им на службе своего доброго
господина, так как ему казалось, что он за все это как нельзя более
вознагражден милостивой уступкой ему Дон Кихотом их находки.
Рыцарь Печального Образа был охвачен сильным желанием узнать, кто такой
хозяин ручного чемодана, догадываясь по сонету и письму, по червонцам и
столь тонким рубахам, что это, должно быть, влюбленный знатного рода,
которого довели до какого-нибудь отчаянного шага жестокость и пренебрежение
его дамы.
Но так как в этой пустынной, скалистой местности не видно было никого,
кто бы мог сообщить ему сведения, Дон Кихот думал теперь лишь об одном: как
бы ему скорее ехать дальше, что он и сделал, предоставив Росинанту выбрать
себе дорогу, а выбрал он ту, где ему удобнее было ступать, причем рыцарь не
переставал все время воображать, что среди этой пустынной местности он не
может не встретиться с каким-нибудь необычайным приключением. Пока он ехал
углубленный в эти мысли, вдруг он увидел на вершине небольшого пригорка
человека, прыгавшего с необычайной легкостью со скалы на скалу и из
кустарника в кустарник. Он показался ему почти нагим, с черной густой
бородой, длинными всклокоченными волосами, с босыми ногами; бедра его были
прикрыты панталонами, по-видимому, из темно-желтого бархата, но это были уже
одни лохмотья, так что во многих местах просвечивало тело. Голова его тоже
ничем не была покрыта; и хотя он пробежал, как было сказано, с необычайной
быстротой, но Рыцарь Печального Образа подметил и увидел все эти
подробности. И он попытался догнать его, но не мог этого сделать, потому что
слабым силам Росинанта не было дано взбираться по таким скалистым местам, --
тем более что от природы ход его не был рысист, а весьма медлен. Дон Кихоту
тотчас же пришло на ум, что пробежавший мимо них -- хозяин седельной подушки
и ручного чемоданчика, и он решил искать его, хотя бы ему пришлось скитаться
целый год в горах, пока не найдет его. Поэтому он приказал Санчо слезть с
осла и обогнуть с одной стороны гору, в то время как сам он объедет ее с
другой стороны, и таким образом, быть может, им удастся настигнуть человека,
столь поспешно скрывшегося у них из глаз.
-- С удовольствием, -- ответил Дон Кихот и, читая письмо вслух, как о
том просил Санчо, увидел, что в нем заключается следующее:
"Твое лживое обещание и мое несомненное несчастие влекут меня в такое
место, откуда до твоего слуха раньше донесется весть о моей смерти, чем
слова моих жалоб. Ты, о неблагодарная, отвергла меня для человека,
обладающего большим богатством, чем я, но не стоящего больше меня. И если б
добродетель ценилась подобно богатству, я не завидовал бы теперь чужому
счастию и не оплакивал бы моего несчастия. То, что воздвигла твоя красота,
разрушили твои поступки; из нее я заключил, что ты ангел, -- из них я знаю,
что ты женщина. Пребывай в мире, виновница моих битв, и дай-то небо, чтоб
вероломство твоего мужа оставалось навсегда нераскрытым, чтобы ты не
раскаялась в том, что сделала, и я не отомстил бы там, где этого не желаю".
Прочитав письмо, Дон Кихот сказал:
-- Из этого письма еще менее, чем из стихотворения, можно узнать, кто
написал его; ясно лишь одно, -- что писал его отверженный любовник.
И, перелистав почти всю записную книжечку, он нашел еще другие
стихотворения и письма, из которых иные можно было разобрать, а другие нет.
Но все заключали в себе жалобы, сетования, опасения, изъявления радости,
горя, благосклонности, презрения, причем приятное превозносилось, а грустное
-- оплакивалось.
Пока Дон Кихот рассматривал записную книжечку, Санчо возился с
чемоданчиком, не оставив в нем, а также и в седельной подушке, ни одного
уголка, которого он бы не обшарил, не вытряс и не исследовал: ни одного шва
-- нераспоротым, ни клочка шерсти -- нерастрепанным, желая увериться, что
там ничего не осталось незамеченным по его небрежности или недостатку
старания, -- такую алчность пробудили в нем найденные червонцы, которых
оказалось более ста. И хотя он и не нашел ничего сверх уже найденного, он
теперь вполне примирился и с тем, что его подбрасывали на одеяле, и с рвотой
от бальзама, и с благословением его спины дубинами, и с кулачной расправой
погонщика мулов, и с пропажей дорожных сумок, и с похищением у него одежды,
и с голодом, жаждой и утомлением, перенесенными им на службе своего доброго
господина, так как ему казалось, что он за все это как нельзя более
вознагражден милостивой уступкой ему Дон Кихотом их находки.
Рыцарь Печального Образа был охвачен сильным желанием узнать, кто такой
хозяин ручного чемодана, догадываясь по сонету и письму, по червонцам и
столь тонким рубахам, что это, должно быть, влюбленный знатного рода,
которого довели до какого-нибудь отчаянного шага жестокость и пренебрежение
его дамы.
Но так как в этой пустынной, скалистой местности не видно было никого,
кто бы мог сообщить ему сведения, Дон Кихот думал теперь лишь об одном: как
бы ему скорее ехать дальше, что он и сделал, предоставив Росинанту выбрать
себе дорогу, а выбрал он ту, где ему удобнее было ступать, причем рыцарь не
переставал все время воображать, что среди этой пустынной местности он не
может не встретиться с каким-нибудь необычайным приключением. Пока он ехал
углубленный в эти мысли, вдруг он увидел на вершине небольшого пригорка
человека, прыгавшего с необычайной легкостью со скалы на скалу и из
кустарника в кустарник. Он показался ему почти нагим, с черной густой
бородой, длинными всклокоченными волосами, с босыми ногами; бедра его были
прикрыты панталонами, по-видимому, из темно-желтого бархата, но это были уже
одни лохмотья, так что во многих местах просвечивало тело. Голова его тоже
ничем не была покрыта; и хотя он пробежал, как было сказано, с необычайной
быстротой, но Рыцарь Печального Образа подметил и увидел все эти
подробности. И он попытался догнать его, но не мог этого сделать, потому что
слабым силам Росинанта не было дано взбираться по таким скалистым местам, --
тем более что от природы ход его не был рысист, а весьма медлен. Дон Кихоту
тотчас же пришло на ум, что пробежавший мимо них -- хозяин седельной подушки
и ручного чемоданчика, и он решил искать его, хотя бы ему пришлось скитаться
целый год в горах, пока не найдет его. Поэтому он приказал Санчо слезть с
осла и обогнуть с одной стороны гору, в то время как сам он объедет ее с
другой стороны, и таким образом, быть может, им удастся настигнуть человека,
столь поспешно скрывшегося у них из глаз.
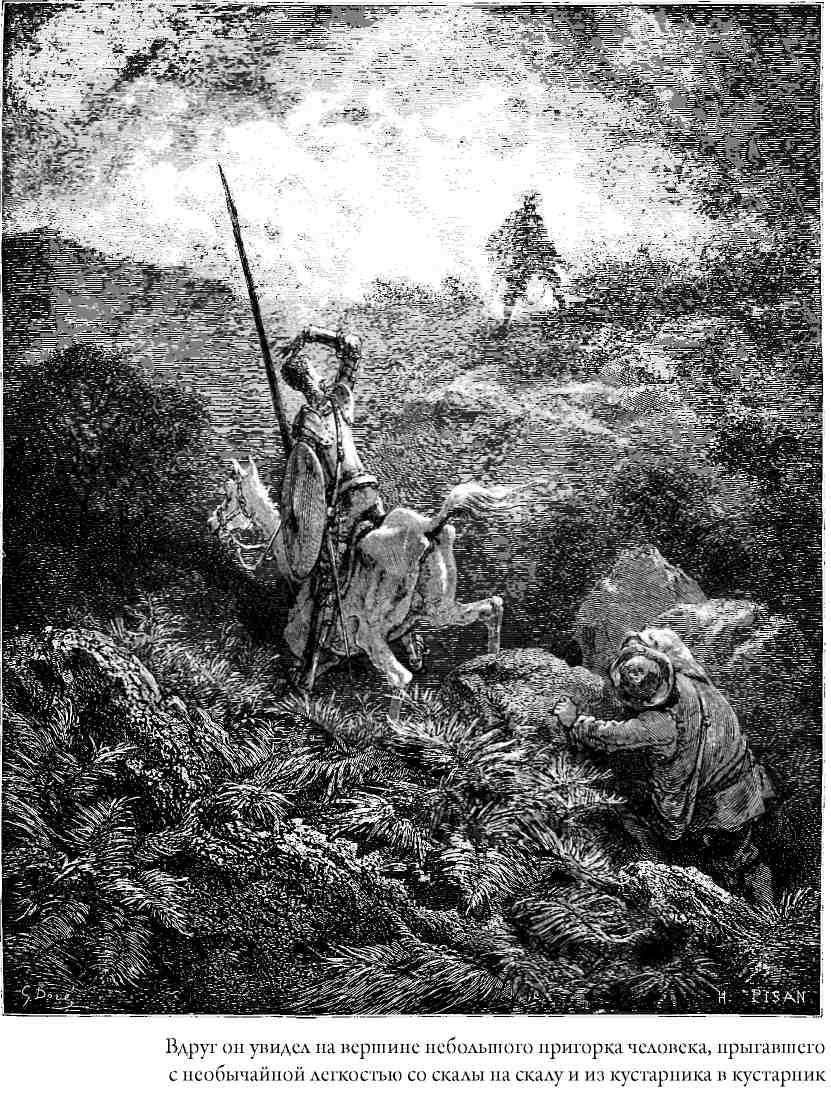 -- Я не могу этого сделать, -- сказал Санчо, -- потому что, лишь только
я удаляюсь от вашей милости, страх тотчас же овладевает мной и терзает меня
тысячью призраков и видений; заметьте себе сказанное мной, и да служит оно
вам предупреждением, что отныне и впредь я не на палец не отойду от вас.
-- Пусть будет так, -- согласился Рыцарь Печального Образа. Мне приятно
видеть, что ты ищешь опору в моем мужестве, которое не изменит тебе, хотя бы
от страха душа твоя была готова расстаться с телом. А теперь следуй за мной
медленно или как можешь и сделай из глаз своих фонари; мы объедем этот
маленький холм и, быть может, встретим того человека, которого сейчас
видели, а он -- без всякого сомнения -- и есть хозяин найденных нами вещей.
На это Санчо ответил:
-- Было бы гораздо лучше не искать его, потому что, если мы его найдем
и он, быть может, окажется хозяином денег,-- очевидно, мне придется вернуть
их ему; итак, было бы лучше, не утруждая себя излишней заботой, хранить со
спокойной совестью эти деньги, пока каким-нибудь другим образом, неожиданно
и без поисков, объявится настоящий их хозяин, и, быть может, это случится,
когда я уж истрачу их, а на нет и суда нет.
-- В этом ты ошибаешься, Санчо,-- ответил Дон Кихот, -- потому что раз
мы догадываемся, кто хозяин денег и он почти что на глазах у нас, -- мы
обязаны его искать и вернуть ему его собственность. А если же мы не станем
искать его, то одно уж столь основательное предположение наше, что он хозяин
денег, сделало бы нас столь же виновными, как если б он действительно был
им. Так что, Санчо, друг, не огорчайся нашими поисками, потому что с души
моей спадет большая забота, если мы его найдем.
Говоря это, Дон Кихот пришпорил Росинанта, и Санчо, как всегда,
последовал за ним на своем осле. Объехав часть горы, они увидели в небольшой
ложбине труп -- наполовину уже съеденный собаками и склеванный воронами --
оседланного и взнузданного мула; все это еще более укрепило их в
предположении, что бежавший был хозяином мула и седельной подушки. В то
время как они рассматривали труп мула, они услышали свист, похожий на свист
пастуха, сгоняющего стадо, и вдруг слева от них появилось большое количество
коз, а сзади, на верхушке горы, показался пастух, человек пожилой. Дон Кихот
окликнул его и попросил спуститься к ним. В свою очередь, и он громко
отозвался, спрашивая, кто завел их сюда, в это место, где редко или даже
никогда еще не ступала человеческая нога, только бродят козы и волки, и
другие дикие звери хозяйничают здесь. Санчо в ответ крикнул, чтобы он сошел
к ним, тогда они все объяснят ему. Козопас спустился и, дойдя до места, где
стоял Дон Кихот, сказал:
-- Я не могу этого сделать, -- сказал Санчо, -- потому что, лишь только
я удаляюсь от вашей милости, страх тотчас же овладевает мной и терзает меня
тысячью призраков и видений; заметьте себе сказанное мной, и да служит оно
вам предупреждением, что отныне и впредь я не на палец не отойду от вас.
-- Пусть будет так, -- согласился Рыцарь Печального Образа. Мне приятно
видеть, что ты ищешь опору в моем мужестве, которое не изменит тебе, хотя бы
от страха душа твоя была готова расстаться с телом. А теперь следуй за мной
медленно или как можешь и сделай из глаз своих фонари; мы объедем этот
маленький холм и, быть может, встретим того человека, которого сейчас
видели, а он -- без всякого сомнения -- и есть хозяин найденных нами вещей.
На это Санчо ответил:
-- Было бы гораздо лучше не искать его, потому что, если мы его найдем
и он, быть может, окажется хозяином денег,-- очевидно, мне придется вернуть
их ему; итак, было бы лучше, не утруждая себя излишней заботой, хранить со
спокойной совестью эти деньги, пока каким-нибудь другим образом, неожиданно
и без поисков, объявится настоящий их хозяин, и, быть может, это случится,
когда я уж истрачу их, а на нет и суда нет.
-- В этом ты ошибаешься, Санчо,-- ответил Дон Кихот, -- потому что раз
мы догадываемся, кто хозяин денег и он почти что на глазах у нас, -- мы
обязаны его искать и вернуть ему его собственность. А если же мы не станем
искать его, то одно уж столь основательное предположение наше, что он хозяин
денег, сделало бы нас столь же виновными, как если б он действительно был
им. Так что, Санчо, друг, не огорчайся нашими поисками, потому что с души
моей спадет большая забота, если мы его найдем.
Говоря это, Дон Кихот пришпорил Росинанта, и Санчо, как всегда,
последовал за ним на своем осле. Объехав часть горы, они увидели в небольшой
ложбине труп -- наполовину уже съеденный собаками и склеванный воронами --
оседланного и взнузданного мула; все это еще более укрепило их в
предположении, что бежавший был хозяином мула и седельной подушки. В то
время как они рассматривали труп мула, они услышали свист, похожий на свист
пастуха, сгоняющего стадо, и вдруг слева от них появилось большое количество
коз, а сзади, на верхушке горы, показался пастух, человек пожилой. Дон Кихот
окликнул его и попросил спуститься к ним. В свою очередь, и он громко
отозвался, спрашивая, кто завел их сюда, в это место, где редко или даже
никогда еще не ступала человеческая нога, только бродят козы и волки, и
другие дикие звери хозяйничают здесь. Санчо в ответ крикнул, чтобы он сошел
к ним, тогда они все объяснят ему. Козопас спустился и, дойдя до места, где
стоял Дон Кихот, сказал:
 -- Готов биться о заклад, что вы смотрите на мула, лежащего мертвым там
вот, в овраге, по чести говорю вам, что он уже целых шесть месяцев находится
здесь. Скажите мне, не встретили ли вы где-нибудь поблизости его хозяина?
-- Мы никого не встретили, -- ответил Дон Кихот, -- а только нашли
недалеко отсюда седельную подушку и небольшой ручной чемодан.
-- И я также видел их, -- ответил козопас, -- но не хотел ни поднять,
ни близко подойти к ним из боязни неприятности и чтобы меня не обвинили в
краже. Дьявол-то ведь лукавый, и под ногами человека вдруг оказывается
что-нибудь такое, обо что он спотыкается и падает, не зная как и почему.
-- Это самое говорю и я, -- сказал Санчо, -- я тоже нашел те вещи, но
не подошел к ним и на расстояние брошенного камня: там я их оставил, и пусть
они остаются лежать, потому что мне не нужна собака с погремушками.
-- Скажите, добрый человек, -- спросил Дон Кихот, -- не знаете ли вы,
кто хозяин этих вещей?
-- Могу вам сказать только то, -- ответил козопас, -- что месяцев шесть
назад -- немногим ли больше, немногим меньше -- к нам в пастуший шалаш около
трех миль отсюда, приехал красивый и стройный юноша верхом на том самом
муле, что лежит здесь мертвый, и с той самой седельной подушкой и ручным
чемоданчиком, которые, по вашим словам, вы нашли и не тронули. Он спросил
нас, какая часть этой горной цепи самая пустынная и суровая; мы указали на
ту, где мы теперь с вами находимся, и это правда, потому что, пройди еще с
полмили вглубь, быть может, уже и не выберешься оттуда, и я изумлен, каким
образом могли вы попасть сюда, в это место, куда нет ни дороги, ни тропинки.
Итак, говорю я, юноша, услыхав наш ответ, повернул своего мула и направился
к тому месту, которое мы ему указали, оставив нас всех восхищенными его
прекрасной наружностью и удивленными как его вопросом, так и поспешностью, с
которой, как мы видели, он повернул и поехал по направлению к горам. С той
поры мы его больше не видели, но через несколько дней он встретился по
дороге одному из наших пастухов и, не говоря ни слова, подошел к нему,
обрушился на него кулаками, надавал ему пинков, а затем бросился к его
вьючному ослу, который вез для нас съестные припасы, забрал с него весь хлеб
и сыр, и, сделав это, он с изумительной быстротой скрылся опять в горах.
Когда мы это узнали, несколько козопасов -- в том числе и я -- отправились
искать его и, пространствовав почти два дня в самых глухих местах этой
горной цепи, наконец мы его нашли скрывающимся в дупле высокого и могучего
пробкового дерева. Он вышел к нам очень кроткий, в изодранной одежде и с
лицом, таким обезображенным и загоревшим от солнца, что навряд ли бы мы
узнали его, если б не платье, хотя и разорванное, которое мы запомнили, и по
нему увидели, что перед нами тот, кого мы искали. Он вежливо поклонился нам
и в кратких, но приветливых словах просил нас не удивляться, видя его
скитающимся здесь в таком состоянии, так как это необходимо для выполнения
одной эпитимии, наложенной на него за многие грехи его. Мы просили его
сообщить, кто он такой, но не могли добиться этого. Просили его также, когда
ему понадобится пища -- без которой он не может существовать, -- сказать
нам, где нам найти его, так как мы охотно и с радостью будем носить ее ему,
или же, если и это ему не нравится, пусть он, по крайней мере, придет и
спросит, что ему нужно, а не отнимает насильно у пастухов. Он благодарил нас
за наше предложение, просил простить его за прошлые нападения и обещал
отныне и впредь просить у нас все нужное ему именем Бога, никого не обижая.
Что же касается местопребывания своего, он сказал, что у него нет другого
жилища, как то, которое ему доставляет случай там, где его застигнет ночь, и
с этими словами он так горько заплакал, что мы, слушавшие его, имели бы
каменное сердце, если б не заплакали вместе с ним, вспоминая, каким мы его
видели в первый раз и каким нашли теперь; потому что, как я уже говорил, он
был очень красивый, изящный юноша, а вежливый и рассудительный его разговор
доказывал, что он знатного происхождения и хорошо воспитан. Хотя мы,
слушавшие его, были лишь деревенские люди, но и в простоте нашей мы не могли
не оценить его милого обращения. Только вдруг среди оживленной речи он
остановился, замолк, и в течение долгого времени пристально устремил глаза в
землю, а мы стояли кругом него молча и изумленные, ожидая, когда кончится с
ним припадок, и смотрели на него с величайшею жалостью, потому что из того,
как он то широко раскрывал глаза, неподвижно устремив их на землю и долгое
время не мигнув ресницами, то закрывал их, стискивая зубы и нахмурив брови,
мы легко догадались, что с ним случился припадок сумасшествия. Вскоре он
доказал нам, что мы не ошиблись, потому что он, в бешенстве вскочив с земли,
на которую только что перед тем бросился, до того яро и свирепо накинулся на
стоявшего подле него пастуха, что, если б мы не отняли его, он убил бы его
кулаками и зубами, и, делая это, он не переставал кричать: "А, вероломный
Фернандо! Здесь, здесь заплатишь ты мне за все зло, нанесенное мне тобою!
Этими руками вырву я твое сердце, в котором живут и обитают, соединившись,
все пороки, особенно же коварство и обман!" И к этим словам он добавил еще и
другие, направленные к обвинению того Фернандо и клеймившие его именем
изменника и предателя. С немалым трудом отняли мы у него нашего товарища; не
говоря больше ни слова, он оставил нас и так быстро скрылся среди мелкого
терновника и кустарника, что нам невозможно было следовать за ним. Из этого
всего мы заключили, что сумасшествие находит на него по временам, и что
некий Фернандо, должно быть, причинил ему зло, и весьма великое зло, как это
доказывало то печальное состояние, до которого он был доведен. Все это
подтвердилось и в последующие разы -- а их было немало, -- когда он выходил
на дорогу, иногда прося пастухов дать ему что-нибудь поесть из того, что они
несут, а в другой раз отнимая у них силой их припасы, потому что, когда на
него найдет припадок безумия, хотя бы пастухи и предлагали ему добровольно
пищу, он не берет ее, а вырывает у них ударами кулаков; когда же он в
здравом рассудке, то просит лишь именем Бога, вежливо и учтиво, рассыпаясь в
благодарностях, и не без слез. Скажу вам по правде, сеньоры, -- продолжал
козопас, -- что вчера я и еще четыре пастуха -- из них двое мои работники, и
двое мои друзья, -- мы решили искать его, пока не найдем, а когда найдем --
силою ли или с его согласия -- отвезти его в город Альмодовар, в восьми
милях отсюда, и там лечить его, если болезнь поддается лечению, или же --
когда он будет в здравом рассудке -- узнать, кто он и есть ли у него родные,
которых можно было бы известить о случившемся с ним несчастии. Вот все,
сеньоры, что я могу ответить вам на ваш вопрос, и будьте уверены, хозяин
вещей, найденных вами, -- тот самый, кого вы видели бежавшим с такой
быстротой почти нагим.
Дон Кихот уже сказал ему, что он видел этого человека, прыгавшего со
скалы на скалу.
Рыцарь был изумлен тем, что он услышал от козопаса, и его желание
узнать, кто был тот несчастный сумасшедший, еще усилилось, и он твердо решил
исполнить то, что раньше задумал: искать его по всей горной цепи, не оставив
без осмотра ни одного уголка, ни одной пещеры, пока не найдет его.
Однако счастие благоприятствовало ему больше, чем он думал и надеялся,
так как в ту самую минуту из ближайшего горного ущелья появился юноша,
которого он искал. Шел он, бормоча что-то про себя, чего нельзя было понять
и вблизи, а тем менее можно было разобрать издали. Одежда на нем была та же,
как уже описано, но только, когда он приблизился, Дон Кихот заметил, что
рваный камзол на его плечах надушен амброй {Эти духи очень высоко ценились
во времена Сервантеса, употреблялись знатными людьми и сохраняли свой запах
надолго и даже будто бы навсегда.}, из чего он заключил, что человек,
носивший такую одежду, не мог быть простого звания. Приблизившись к ним,
юноша приветствовал их хриплым и глухим голосом, но весьма учтиво. Дон Кихот
ответил на его приветствие с неменьшей учтивостию и, с достоинством и
изяществом сойдя с Росинанта, подошел к юноше, обнял его и некоторое время
крепко прижимал к груди, словно знал его долгие годы. Юноша -- которого мы
можем назвать Оборванцем Жалкого Образа, как Дон Кихота -- Печального -- дав
себя обнять, отстранил немного Дон Кихота и, положив ему руки на плечи,
смотрел на него пристально, как бы желая припомнить, не знает ли он его,
удивленный видом, фигурой и вооружением Дон Кихота не менее, быть может, чем
Дон Кихот был удивлен его внешностью. Наконец первым заговорил после объятий
Оборванец, и он сказал то, что будет сообщено ниже.
-- Готов биться о заклад, что вы смотрите на мула, лежащего мертвым там
вот, в овраге, по чести говорю вам, что он уже целых шесть месяцев находится
здесь. Скажите мне, не встретили ли вы где-нибудь поблизости его хозяина?
-- Мы никого не встретили, -- ответил Дон Кихот, -- а только нашли
недалеко отсюда седельную подушку и небольшой ручной чемодан.
-- И я также видел их, -- ответил козопас, -- но не хотел ни поднять,
ни близко подойти к ним из боязни неприятности и чтобы меня не обвинили в
краже. Дьявол-то ведь лукавый, и под ногами человека вдруг оказывается
что-нибудь такое, обо что он спотыкается и падает, не зная как и почему.
-- Это самое говорю и я, -- сказал Санчо, -- я тоже нашел те вещи, но
не подошел к ним и на расстояние брошенного камня: там я их оставил, и пусть
они остаются лежать, потому что мне не нужна собака с погремушками.
-- Скажите, добрый человек, -- спросил Дон Кихот, -- не знаете ли вы,
кто хозяин этих вещей?
-- Могу вам сказать только то, -- ответил козопас, -- что месяцев шесть
назад -- немногим ли больше, немногим меньше -- к нам в пастуший шалаш около
трех миль отсюда, приехал красивый и стройный юноша верхом на том самом
муле, что лежит здесь мертвый, и с той самой седельной подушкой и ручным
чемоданчиком, которые, по вашим словам, вы нашли и не тронули. Он спросил
нас, какая часть этой горной цепи самая пустынная и суровая; мы указали на
ту, где мы теперь с вами находимся, и это правда, потому что, пройди еще с
полмили вглубь, быть может, уже и не выберешься оттуда, и я изумлен, каким
образом могли вы попасть сюда, в это место, куда нет ни дороги, ни тропинки.
Итак, говорю я, юноша, услыхав наш ответ, повернул своего мула и направился
к тому месту, которое мы ему указали, оставив нас всех восхищенными его
прекрасной наружностью и удивленными как его вопросом, так и поспешностью, с
которой, как мы видели, он повернул и поехал по направлению к горам. С той
поры мы его больше не видели, но через несколько дней он встретился по
дороге одному из наших пастухов и, не говоря ни слова, подошел к нему,
обрушился на него кулаками, надавал ему пинков, а затем бросился к его
вьючному ослу, который вез для нас съестные припасы, забрал с него весь хлеб
и сыр, и, сделав это, он с изумительной быстротой скрылся опять в горах.
Когда мы это узнали, несколько козопасов -- в том числе и я -- отправились
искать его и, пространствовав почти два дня в самых глухих местах этой
горной цепи, наконец мы его нашли скрывающимся в дупле высокого и могучего
пробкового дерева. Он вышел к нам очень кроткий, в изодранной одежде и с
лицом, таким обезображенным и загоревшим от солнца, что навряд ли бы мы
узнали его, если б не платье, хотя и разорванное, которое мы запомнили, и по
нему увидели, что перед нами тот, кого мы искали. Он вежливо поклонился нам
и в кратких, но приветливых словах просил нас не удивляться, видя его
скитающимся здесь в таком состоянии, так как это необходимо для выполнения
одной эпитимии, наложенной на него за многие грехи его. Мы просили его
сообщить, кто он такой, но не могли добиться этого. Просили его также, когда
ему понадобится пища -- без которой он не может существовать, -- сказать
нам, где нам найти его, так как мы охотно и с радостью будем носить ее ему,
или же, если и это ему не нравится, пусть он, по крайней мере, придет и
спросит, что ему нужно, а не отнимает насильно у пастухов. Он благодарил нас
за наше предложение, просил простить его за прошлые нападения и обещал
отныне и впредь просить у нас все нужное ему именем Бога, никого не обижая.
Что же касается местопребывания своего, он сказал, что у него нет другого
жилища, как то, которое ему доставляет случай там, где его застигнет ночь, и
с этими словами он так горько заплакал, что мы, слушавшие его, имели бы
каменное сердце, если б не заплакали вместе с ним, вспоминая, каким мы его
видели в первый раз и каким нашли теперь; потому что, как я уже говорил, он
был очень красивый, изящный юноша, а вежливый и рассудительный его разговор
доказывал, что он знатного происхождения и хорошо воспитан. Хотя мы,
слушавшие его, были лишь деревенские люди, но и в простоте нашей мы не могли
не оценить его милого обращения. Только вдруг среди оживленной речи он
остановился, замолк, и в течение долгого времени пристально устремил глаза в
землю, а мы стояли кругом него молча и изумленные, ожидая, когда кончится с
ним припадок, и смотрели на него с величайшею жалостью, потому что из того,
как он то широко раскрывал глаза, неподвижно устремив их на землю и долгое
время не мигнув ресницами, то закрывал их, стискивая зубы и нахмурив брови,
мы легко догадались, что с ним случился припадок сумасшествия. Вскоре он
доказал нам, что мы не ошиблись, потому что он, в бешенстве вскочив с земли,
на которую только что перед тем бросился, до того яро и свирепо накинулся на
стоявшего подле него пастуха, что, если б мы не отняли его, он убил бы его
кулаками и зубами, и, делая это, он не переставал кричать: "А, вероломный
Фернандо! Здесь, здесь заплатишь ты мне за все зло, нанесенное мне тобою!
Этими руками вырву я твое сердце, в котором живут и обитают, соединившись,
все пороки, особенно же коварство и обман!" И к этим словам он добавил еще и
другие, направленные к обвинению того Фернандо и клеймившие его именем
изменника и предателя. С немалым трудом отняли мы у него нашего товарища; не
говоря больше ни слова, он оставил нас и так быстро скрылся среди мелкого
терновника и кустарника, что нам невозможно было следовать за ним. Из этого
всего мы заключили, что сумасшествие находит на него по временам, и что
некий Фернандо, должно быть, причинил ему зло, и весьма великое зло, как это
доказывало то печальное состояние, до которого он был доведен. Все это
подтвердилось и в последующие разы -- а их было немало, -- когда он выходил
на дорогу, иногда прося пастухов дать ему что-нибудь поесть из того, что они
несут, а в другой раз отнимая у них силой их припасы, потому что, когда на
него найдет припадок безумия, хотя бы пастухи и предлагали ему добровольно
пищу, он не берет ее, а вырывает у них ударами кулаков; когда же он в
здравом рассудке, то просит лишь именем Бога, вежливо и учтиво, рассыпаясь в
благодарностях, и не без слез. Скажу вам по правде, сеньоры, -- продолжал
козопас, -- что вчера я и еще четыре пастуха -- из них двое мои работники, и
двое мои друзья, -- мы решили искать его, пока не найдем, а когда найдем --
силою ли или с его согласия -- отвезти его в город Альмодовар, в восьми
милях отсюда, и там лечить его, если болезнь поддается лечению, или же --
когда он будет в здравом рассудке -- узнать, кто он и есть ли у него родные,
которых можно было бы известить о случившемся с ним несчастии. Вот все,
сеньоры, что я могу ответить вам на ваш вопрос, и будьте уверены, хозяин
вещей, найденных вами, -- тот самый, кого вы видели бежавшим с такой
быстротой почти нагим.
Дон Кихот уже сказал ему, что он видел этого человека, прыгавшего со
скалы на скалу.
Рыцарь был изумлен тем, что он услышал от козопаса, и его желание
узнать, кто был тот несчастный сумасшедший, еще усилилось, и он твердо решил
исполнить то, что раньше задумал: искать его по всей горной цепи, не оставив
без осмотра ни одного уголка, ни одной пещеры, пока не найдет его.
Однако счастие благоприятствовало ему больше, чем он думал и надеялся,
так как в ту самую минуту из ближайшего горного ущелья появился юноша,
которого он искал. Шел он, бормоча что-то про себя, чего нельзя было понять
и вблизи, а тем менее можно было разобрать издали. Одежда на нем была та же,
как уже описано, но только, когда он приблизился, Дон Кихот заметил, что
рваный камзол на его плечах надушен амброй {Эти духи очень высоко ценились
во времена Сервантеса, употреблялись знатными людьми и сохраняли свой запах
надолго и даже будто бы навсегда.}, из чего он заключил, что человек,
носивший такую одежду, не мог быть простого звания. Приблизившись к ним,
юноша приветствовал их хриплым и глухим голосом, но весьма учтиво. Дон Кихот
ответил на его приветствие с неменьшей учтивостию и, с достоинством и
изяществом сойдя с Росинанта, подошел к юноше, обнял его и некоторое время
крепко прижимал к груди, словно знал его долгие годы. Юноша -- которого мы
можем назвать Оборванцем Жалкого Образа, как Дон Кихота -- Печального -- дав
себя обнять, отстранил немного Дон Кихота и, положив ему руки на плечи,
смотрел на него пристально, как бы желая припомнить, не знает ли он его,
удивленный видом, фигурой и вооружением Дон Кихота не менее, быть может, чем
Дон Кихот был удивлен его внешностью. Наконец первым заговорил после объятий
Оборванец, и он сказал то, что будет сообщено ниже.

 История повествует, что Дон Кихот слушал с величайшим вниманием
злосчастного рыцаря Сьерры, который так начал свою речь:
-- Конечно, сеньор, -- кто бы вы ни были (потому что я вас не знаю), я
благодарен вам за данные мне доказательства вашего благорасположения и очень
бы желал быть в состоянии отплатить за столь любезный ваш прием чем-нибудь
большим, а не одним лишь добрым намерением. Но судьба лишила меня
возможности отвечать на оказываемые мне услуги иначе как только желанием
отплатить за них.
-- А мое желание, -- ответил Дон Кихот, -- сводится к тому, чтобы
служить вам, и оно так сильно, что я еще раньше решил не покидать этих гор,
пока не разыщу вас и не узнаю от вас, нельзя ли
найти какое-нибудь средство для облегчения горя, которое, по-видимому,
побудило вас вести столь странный образ жизни, и если окажется нужным
отыскать это средство, то искать его со всевозможным рвением. В случае же
если б ваше несчастие было из тех, что закрывают двери перед всякого рода
утешением, я имел в виду поплакать и погоревать вместе с вами, как могу,
потому что все-таки утешение -- найти в несчастии кого-нибудь, кто огорчен
им. И если доброе мое намерение заслуживает какой-либо признательности,
умоляю вас, сеньор, ради той любезности, которой, на мой взгляд, у вас так
много, и в то же время заклинаю вас тем, что вы больше всего в жизни любили
и еще любите, скажите мне, кто вы такой и что побудило вас жить и умереть в
этих пустынях, как дикий зверь, пребывая в их среде столь неподходящим для
вас образом, как это видно по вашей одежде и наружности. И я клянусь, --
добавил Дон Кихот,-- орденом рыцарства, членом которого, хотя недостойный и
грешный, я состою, и моей профессией странствующего рыцаря, если вы, сеньор,
исполните просьбу мою, я буду служить вам со всем рвением, к которому
обязывает меня мое звание, стараясь облегчить ваше несчастие, если окажется
возможность облегчить его, или же проливая вместе с вами над ним слезы, как
я уже говорил.
Рыцарь Леса, услыхав, каким слогом говорит с ним Рыцарь Печального
Образа, только и делал, что глядел на него во все глаза и вновь и вновь
рассматривал его с ног до головы, и после того как хорошенько рассмотрел,
сказал:
-- Если у вас найдется что-нибудь поесть, именем Бога прошу вас, дайте
мне, и как только я поем, я сделаю все, о чем вы меня просите, из
благодарности за столь доброе расположение, которое было мне здесь оказано.
Тотчас же Санчо достал из своего мешка, а козопас из котомки, чем
утолить голод Оборванца, который, подобно умалишенному, ел то, что ему дали,
так поспешно, что у него почти не было промежутка между одним и другим
куском, так как он не ел, а жадно поглощал их, и, пока он это делал, ни он,
ни все смотревшие на него не проронили ни слова. Кончив есть, он дал им знак
следовать за ним, что они и сделали, и привел их на зеленый лужок,
раскинувшийся тотчас же за ближайшим выступом скалы. Здесь он растянулся на
траве, остальные последовали его примеру; все это делалось молча, пока
Оборванец, удобно усевшись, не заговорил:
-- Если вы, сеньоры, желаете, чтобы я в кратких словах передал вам
повесть безграничного моего несчастия, вы должны обещать мне, что не будете
прерывать нити моего грустного рассказа вопросами или чем бы то ни было,
потому что, как только вы это сделаете, мне придется тотчас же прекратить
его.
Эти слова Оборванца напомнили Дон Кихоту сказку, рассказанную ему
оруженосцем его, когда он не мог указать число коз, перевезенных через реку,
и сказка осталась недосказанной.
Но вернемся к Оборванцу, который продолжал так:
-- Я ставлю это условие потому, что желал бы как можно кратче передать
вам повесть моих несчастий, так как воспоминание о них доставляет мне лишь
новое страдание, и чем меньше вы будете спрашивать меня, тем скорее я кончу
свой рассказ, хотя и не пропущу в нем ничего существенного, чтобы вполне
удовлетворить ваше желание.
Дон Кихот обещал от имени всех исполнить его требование, и, заручившись
этим обещанием, молодой человек начал так:
-- Мое имя Карденио; родился я в одном из лучших городов Андалузии;
происхождение мое знатное, родители -- богатые; несчастие же мое так велико,
что отец и мать могут оплакивать его, родственники могут огорчаться им, но
не в состоянии облегчить его своим богатством, потому что от невзгод,
посланных небесами, не охранят и не спасут деньги и состояние. В том же
родном мне уголке земли обитало само небо -- девушка, которую любовь
украсила таким блеском, о каком я и не смел мечтать: так велика была красота
Люсинды, -- девушки, столь же знатной и богатой, как и я, но более
счастливой, чем я, и менее постоянной, чем того заслуживали чистые мои
намерения. Эту Люсинду я любил, восхищался ею и боготворил ее с самой ранней
моей юности, и она тоже любила меня со всей искренностью и невинностью,
свойственными нежному ее возрасту. Родители знали о наших чувствах и не
противились им, так как ясно видели, что с годами они не могут кончиться не
чем иным, как только браком, которому благоприятствовало равенство
происхождения и богатства. Мы росли, вместе с нами росла и наша любовь, так
что отцу Люсинды стало казаться, что он -- ради приличия и осторожности --
должен воспретить мне бывать у них в доме, подражая в этом родителям столь
воспетой поэтами Тисбы. Но это запрещение прибавило лишь пламя к пламени и
страстное желание к страстному желанию, потому что, хотя и наложило молчание
на наши уста, не могло наложить его на наши перья, которые обыкновенно с
большей свободой, чем языки, открывают любящим то, что скрыто в сердце,
потому что часто присутствие любимого предмета смущает и заставляет
умолкнуть самую твердую решимость и самый смелый язык. О небо, сколько писем
написал я ей; сколько скромных очаровательных ответов получил от нее!
Сколько песен, сколько любовных стихов сочинил, в которых открывал свою
душу, изливал свои чувства, описывал пламенные свои желания, предавался
воспоминаниям и питал свою страсть! Наконец я стал чахнуть, и душа моя до
того сильно томилась желанием увидеть Люсинду, что я решил прибегнуть и
обратиться к средству, казавшемуся мне наиболее пригодным для достижения
столь желанной и заслуженной мной награды, -- именно просить ее отца дать
мне ее в жены, -- что я и сделал. В ответ он сказал, что благодарит меня за
желание оказать ему честь и почтить и себя, домогаясь союза с дорогой его
дочерью, но так как мой отец жив, то ему по праву следует сделать это
предложение, потому что, в случае если он не дал бы полного своего одобрения
и согласия, Люсинда не из тех, которых берут или отдают замуж тайком. Я
поблагодарил его за доброе ко мне расположение, сознавая, что он прав,
говоря таким образом, и вполне уверенный, что отец мой немедленно даст свое
согласие, как только я с ним переговорю. С этим намерением я тотчас же пошел
к отцу, чтобы сообщить ему о своем желании. Но, войдя в комнату, где он
находился, я застал его с распечатанным письмом в руках, которое, прежде чем
я успел выговорить слово, он мне передал, говоря: "Из этого письма ты
увидишь, Карденио, какую милость желает тебе оказать герцог Рикардо". А этот
герцог Рикардо, как вы, сеньоры, должно быть, знаете, -- испанский гранд,
владелец богатых поместий в лучшей части Андалузии. Я взял письмо, прочел
его; оно было такое сердечное, что и мне самому показалось, что не хорошо
было бы, если б мой отец не исполнил просьбы герцога. Просил же он, как
можно скорее прислать меня к нему в качестве не слуги, а товарища его
старшего сына, обещая вместе с тем доставить мне такое положение, которое
соответствовало бы его уважению ко мне. Я прочел письмо и, читая его,
онемел, а тем более еще когда услышал, что отец мой сказал: "Через два дня
ты уедешь, Карденио, из дому, чтобы исполнить желание герцога, и благодари
Бога, что Он открывает тебе путь, по которому ты достигнешь того, чего ты,
как я знаю, вполне заслуживаешь". И к этому он добавил еще несколько
отеческих советов. Время моего отъезда наступило; перед тем ночью я говорил
с Люсиндой, рассказал ей все, что произошло, и сообщил также и ее отцу,
умоляя его подождать некоторое время и не выдавать дочь замуж, пока я не
увижу, чего герцог Рикардо желает от меня. Он обещал мне это, а Люсинда
подтвердила его обещание тысячей клятв и обмороков. Наконец я приехал к
герцогу Рикардо, и он так хорошо встретил меня и обращался со мной, что
зависть тотчас же принялась делать свое дело, закравшись в душу старых
герцогских слуг, думавших, что доказательства его расположения ко мне
послужат во вред им. Но тот, кто особенно обрадовался моему приезду, был
второй сын герцога, по имени дон Фернандо, веселый, увлекающийся, щедрый и
влюбчивый юноша, который в короткое время так подружился со мной, что об
этом пошли везде толки. И хотя я нравился также и старшему сыну герцога, и
он тоже относился ко мне очень мило, но все же не в такой степени, как меня
любил и со мной дружил дон Фернандо. Ввиду того что у друзей не бывает тайн,
которые бы они не сообщали друг другу -- а моя близость к дону Фернандо
быстро перешла в дружбу, -- он открывал мне все свои мысли и в особенности
говорил об одном своем романе, несколько его тревожившем. Именно: он был
страстно влюблен в дочь земледельца, вассала его отца, родители которой были
очень богаты, сама же она до того прекрасна, умна, скромна и добродетельна,
что никто из всех знавших не мог решить, которыми из этих качеств она
обладала в более высокой степени или в большем совершенстве. Чары прекрасной
крестьянки так разожгли страсть дона Фернандо, что он для достижения своей
цели и победы над добродетелью девушки решил дать ей слово жениться на ней,
потому что добиваться чего-либо иным путем значило бы добиваться
невозможного. По долгу дружбы, связывающей меня с ним, я счел своею
обязанностию самыми убедительными доводами, какие я только мог придумать, и
самыми яркими примерами, какие я только знал, попытаться отговорить его от
его намерения и отклонить от него. Но видя, что ничто не помогает, я решил
рассказать обо всем его отцу, герцогу Рикардо. Однако дон Фернандо,
проницательный и хитрый, боялся и опасался этого, зная, что я, в качестве
верного слуги, обязан открыть герцогу, моему господину, вещь столь
предосудительную для его чести. Итак, чтобы ввести меня в заблуждение и
обмануть, он сказал, что не находит лучшего средства изгнать из своей памяти
красавицу, так сильно полонившую его, как только удалиться на несколько
месяцев, и с этой целью он желал бы, чтобы мы оба поехали к моему отцу под
предлогом, как он скажет герцогу, посмотреть и купить нескольких хороших
лошадей в моем родном городе, славившемся лучшими в мире лошадьми {В те
времена особенно славилась своими лошадьми Кордова.}. Лишь только я услышал
эти его слова, побуждаемый собственной моей любовью, я счел его решение как
нельзя более разумным, и посмотрел бы на него точно так же, если б оно и не
было столь благоразумным, ввиду того что мне представлялся случай и
возможность снова увидеться с моей Люсиндой. Движимый этой мыслью и этим
желанием, я одобрил его план, поддержал его в его намерении и торопил как
можно скорее привести его в исполнение, потому что разлука, наверное,
произведет свое действие, как бы ни была велика сила чувства. А в то время,
когда он вел такие разговоры со мной, он -- как я потом узнал -- уже
насладился под видом супруга любовью молодой крестьянки и ждал лишь случая
разгласить об этом с безопасностью для себя, потому что боялся гнева
герцога, отца своего, когда тот узнает о его безрассудстве. Но известно, что
любовь молодых людей по большей части не любовь, а только вожделение,
которое, имея конечной своей целью наслаждение, достигнув этой цели, гаснет,
и то, что казалось любовью, прекращается, потому что не может перейти за
пределы, поставленные природой, -- а такими пределами не ограничена истинная
любовь. С доном Фернандо произошло то же самое; лишь только он овладел
молодой крестьянкой, его желания утихли, страсть охладела, так что, если он
сначала притворялся, будто хочет уехать, чтобы исцелиться от своей любви,
теперь он действительно торопился это сделать, желая избавиться от
исполнения данного им обещания. Герцог отпустил своего сына и приказал мне
сопровождать его.
Мы приехали в родной мой город; отец мой принял дона Фернандо, как
подобает его званию; тотчас же я повидался с Люсиндой, и страсть моя снова
ожила (хотя она нимало не угасала и не умирала). На свое несчастие, я
рассказал обо всем дону Фернандо, так как мне казалось, что мой долг ввиду
великой дружбы, выказываемой им мне, ничего не скрывать от него. Я так
восхвалял ему красоту, изящество и ум Люсинды, что мои похвалы возбудили в
нем желание видеть девушку, украшенную столь великими совершенствами. На
гибель себе, я исполнил это его желание и показал ему Люсинду однажды ночью,
при свете восковой свечи, в окне, где мы обыкновенно с ней разговаривали.
Увидел он ее в утреннем домашнем платье, и она была так очаровательна, что
сразу затмила в его уме образы всех красавиц, которых он до тех пор
встречал. Он онемел, он ничего не видел и не слышал, он стоял, не отрывая от
нее глаз, и пламенно влюбился в нее, -- как это и выяснится из продолжения
рассказа о моих несчастиях. Чтобы еще сильнее разжечь его страсть (которую
он тщательно скрывал от меня и доверял одним лишь звездам), случилось, что
однажды он нашел письмо ко мне Люсинды, в котором она советовала мне просить
ее отца выдать ее за меня замуж, письмо, написанное так умно, скромно и с
такой любовью, что Фернандо, прочитав его, сказал мне, что в одной Люсинде
соединены все прелести красоты и ума, которые у остальных женщин в мире
встречаются лишь порознь. Правда -- и я должен сознаться в этом теперь, --
хотя я хорошо понимал, насколько справедливо дон Фернандо восхвалял Люсинду,
мне было неприятно слышать эти похвалы из его уст. Я начал бояться и
избегать его, потому что не проходило минуты, когда бы он не желал говорить
о Люсинде, и всегда наводил на нее разговор, хотя бы притягивая его за
волосы. Это пробудило во мне нечто похожее на ревность. Не то чтобы я
опасался непостоянства Люсинды или ее неверности, но, хотя и вполне
уверенный в ней, я дрожал при мысли о превратностях судьбы. Дон Фернандо
продолжал читать письма, которые я посылал Люсинде, и ее ответы мне под
предлогом, что проявляющийся в них ум обоих нас доставляет ему большое
удовольствие. Случилось так, что однажды Люсинда попросила у меня почитать
одну рыцарскую книгу, которую она очень любила, и это был "Амадис
Галльский"...
Едва Дон Кихот услышал упоминание о рыцарской книге, как он сказал:
-- Если б вы, милость ваша, сейчас же, в начале вашей истории, сказали
мне, что ее милость, сеньора Люсинда, любит рыцарские книги, не требовалось
бы никаких других разъяснений, чтоб убедить меня в превосходстве ее ума, так
как он не мог бы быть у нее столь выдающимся, каким вы, сеньор, описали его,
если б она не была одарена склонностью к такому усладительному чтению. Итак,
что касается меня, вам незачем тратить больше слов для заверений о ее
красоте, достоинствах и уме; потому что, лишь услыхав об этой ее склонности,
я готов утверждать, что она -- самая красивая и умная женщина в мире, и я бы
желал только, чтобы вы, сеньор, заодно с "Амадисом Галльским", послали ей
также и почтенного "Дона Рухеля Греческого", так как я уверен, что сеньоре
Люсинде очень понравились бы Дараида и Гарая, а также и остроумие пастуха
Даринела и его удивительные буколические стихи, которые он читал и пел с
таким изяществом, умом и развязностью. Но со временем пробел этот может быть
пополнен, а для этого требуется только, чтобы милость ваша соизволила
поехать со мной в мою деревню, где я мог бы вам дать более трехсот книг,
составляющих усладу души моей и радость моей жизни, хотя -- думается мне --
у меня нет уже больше книг благодаря злобе коварных и завистливых
волшебников. Простите мне, что я не сдержал данного обещания не прерывать
вашего рассказа; но когда я слышу разговор о рыцарстве и странствующих
рыцарях, мне также невозможно воздержаться говорить о них, как солнечным
лучам невозможно не испускать теплоту, а лучам луны -- увлажнять росой {По
народному поверью тех времен, луна считалась причиной и источником воды и
всякой влаги, подобно тому как солнце -- источником огня и теплоты.}. Итак,
простите мне, и продолжайте, потому что теперь это наиболее существенное.
Пока Дон Кихот произносил только что приведенные слова, Карденио,
опустив голову на грудь, впал, по-видимому, в глубокую задумчивость; и, хотя
Дон Кихот дважды повторил ему, чтобы он продолжал свой рассказ, он не поднял
головы и не ответил ни слова. Наконец после довольно продолжительной
остановки он приподнялся и сказал:
-- Я не могу отделаться от одной мысли, и никто в мире не может
избавить меня от нее или же убедить меня в ином, -- и болван был бы тот, кто
думал или утверждал бы противное, именно: будто бы этот величайший плут
маэстро Элисабад не был любовником королевы Мадасимы.
-- Это ложь, -- клянусь всем в мире, что это ложь, -- воскликнул
разгневанный Дон Кихот (по обыкновению быстро вспыхнув), -- и величайшая
клевета, или, вернее, подлость. Королева Мадасима была благороднейшей
сеньорой, и нельзя предполагать, чтобы столь знатная принцесса имела
любовную связь с каким-то лекаришкой; кто же утверждает противное, лжет, как
величайший негодяй, и я берусь доказать ему это, пеший или конный,
вооруженный или безоружный, ночью или днем, как ему будет угодно.
Карденио смотрел пристально на Дон Кихота, потому что на него уже нашел
его припадок безумия и он не был в состоянии продолжать своей истории, как и
Дон Кихот не был в состоянии слушать ее, -- до того был он выведен из себя
сказанным Карденио о Мадасиме. Удивительная вещь! Он так серьезно за нее
заступился, будто она и в самом деле была его настоящей и природной
повелительницей: до того им владели проклятые его книги!
Когда Карденио, на которого, как я уже говорил, нашел его припадок
безумия, услышал, что его называют лжецом, подлецом и другими бранными
словами, шутка эта не понравилась ему, и он поднял камень, лежавший вблизи
него, и бросил им так сильно в грудь Дон Кихоту, что тот упал навзничь.
Увидав, как он обращается с его господином, Санчо Панса кинулся на
сумасшедшего со сжатыми кулаками; но Оборванец принял его так, что одним
ударом кулака свалил на землю, тотчас же вскочил на него и помял ему бока во
все свое удовольствие. Козопас, который хотел защитить Санчо, подвергся той
же участи; и после того, как он всех их повалил на землю и избил, он оставил
их и спокойно удалился в горы, где и скрылся. Санчо встал и, взбешенный тем,
что его так незаслуженно отколотили, бросился на козопаса, чтобы отомстить
ему, обвиняя его во всем, так как он не предупредил их, что по временам этот
человек подвержен припадкам безумия, потому что если бы они это знали, то
были бы осторожнее и сумели бы себя уберечь от него. Козопас ответил, что
говорил им, а если Санчо не слышал, то вина не его. Санчо возразил; козопас
стоял на своем, и концом этих пререканий было то, что они вцепились друг
другу в бороды, и посыпались такие удары кулаков, что если бы Дон Кихот не
разнял их, они бы растерзали друг друга на куски. Схватившись с козопасом,
Санчо говорил:
-- Оставьте меня, милость ваша, сеньор Рыцарь Печального Образа, ведь с
этим человеком, таким же простолюдином, как и я, и не посвященным в рыцари,
я могу спокойно расправиться за оскорбление, нанесенное им мне, и драться с
ним один на один, как честный человек.
-- Совершенно верно, -- сказал Дон Кихот, -- но я знаю, что он нимало
не виноват в том, что случилось.
Этим он помирил их и снова спросил козопаса, нельзя ли будет отыскать
Карденио, потому что он чувствует сильнейшее желание услышать конец его
истории. Козопас повторил сказанное им еще раньше, именно что нет верных
сведений о его местопребывании, но если Дон Кихот много поездит по этим
окрестностям, он непременно разыщет его, или в здравом уме, или безумного.
История повествует, что Дон Кихот слушал с величайшим вниманием
злосчастного рыцаря Сьерры, который так начал свою речь:
-- Конечно, сеньор, -- кто бы вы ни были (потому что я вас не знаю), я
благодарен вам за данные мне доказательства вашего благорасположения и очень
бы желал быть в состоянии отплатить за столь любезный ваш прием чем-нибудь
большим, а не одним лишь добрым намерением. Но судьба лишила меня
возможности отвечать на оказываемые мне услуги иначе как только желанием
отплатить за них.
-- А мое желание, -- ответил Дон Кихот, -- сводится к тому, чтобы
служить вам, и оно так сильно, что я еще раньше решил не покидать этих гор,
пока не разыщу вас и не узнаю от вас, нельзя ли
найти какое-нибудь средство для облегчения горя, которое, по-видимому,
побудило вас вести столь странный образ жизни, и если окажется нужным
отыскать это средство, то искать его со всевозможным рвением. В случае же
если б ваше несчастие было из тех, что закрывают двери перед всякого рода
утешением, я имел в виду поплакать и погоревать вместе с вами, как могу,
потому что все-таки утешение -- найти в несчастии кого-нибудь, кто огорчен
им. И если доброе мое намерение заслуживает какой-либо признательности,
умоляю вас, сеньор, ради той любезности, которой, на мой взгляд, у вас так
много, и в то же время заклинаю вас тем, что вы больше всего в жизни любили
и еще любите, скажите мне, кто вы такой и что побудило вас жить и умереть в
этих пустынях, как дикий зверь, пребывая в их среде столь неподходящим для
вас образом, как это видно по вашей одежде и наружности. И я клянусь, --
добавил Дон Кихот,-- орденом рыцарства, членом которого, хотя недостойный и
грешный, я состою, и моей профессией странствующего рыцаря, если вы, сеньор,
исполните просьбу мою, я буду служить вам со всем рвением, к которому
обязывает меня мое звание, стараясь облегчить ваше несчастие, если окажется
возможность облегчить его, или же проливая вместе с вами над ним слезы, как
я уже говорил.
Рыцарь Леса, услыхав, каким слогом говорит с ним Рыцарь Печального
Образа, только и делал, что глядел на него во все глаза и вновь и вновь
рассматривал его с ног до головы, и после того как хорошенько рассмотрел,
сказал:
-- Если у вас найдется что-нибудь поесть, именем Бога прошу вас, дайте
мне, и как только я поем, я сделаю все, о чем вы меня просите, из
благодарности за столь доброе расположение, которое было мне здесь оказано.
Тотчас же Санчо достал из своего мешка, а козопас из котомки, чем
утолить голод Оборванца, который, подобно умалишенному, ел то, что ему дали,
так поспешно, что у него почти не было промежутка между одним и другим
куском, так как он не ел, а жадно поглощал их, и, пока он это делал, ни он,
ни все смотревшие на него не проронили ни слова. Кончив есть, он дал им знак
следовать за ним, что они и сделали, и привел их на зеленый лужок,
раскинувшийся тотчас же за ближайшим выступом скалы. Здесь он растянулся на
траве, остальные последовали его примеру; все это делалось молча, пока
Оборванец, удобно усевшись, не заговорил:
-- Если вы, сеньоры, желаете, чтобы я в кратких словах передал вам
повесть безграничного моего несчастия, вы должны обещать мне, что не будете
прерывать нити моего грустного рассказа вопросами или чем бы то ни было,
потому что, как только вы это сделаете, мне придется тотчас же прекратить
его.
Эти слова Оборванца напомнили Дон Кихоту сказку, рассказанную ему
оруженосцем его, когда он не мог указать число коз, перевезенных через реку,
и сказка осталась недосказанной.
Но вернемся к Оборванцу, который продолжал так:
-- Я ставлю это условие потому, что желал бы как можно кратче передать
вам повесть моих несчастий, так как воспоминание о них доставляет мне лишь
новое страдание, и чем меньше вы будете спрашивать меня, тем скорее я кончу
свой рассказ, хотя и не пропущу в нем ничего существенного, чтобы вполне
удовлетворить ваше желание.
Дон Кихот обещал от имени всех исполнить его требование, и, заручившись
этим обещанием, молодой человек начал так:
-- Мое имя Карденио; родился я в одном из лучших городов Андалузии;
происхождение мое знатное, родители -- богатые; несчастие же мое так велико,
что отец и мать могут оплакивать его, родственники могут огорчаться им, но
не в состоянии облегчить его своим богатством, потому что от невзгод,
посланных небесами, не охранят и не спасут деньги и состояние. В том же
родном мне уголке земли обитало само небо -- девушка, которую любовь
украсила таким блеском, о каком я и не смел мечтать: так велика была красота
Люсинды, -- девушки, столь же знатной и богатой, как и я, но более
счастливой, чем я, и менее постоянной, чем того заслуживали чистые мои
намерения. Эту Люсинду я любил, восхищался ею и боготворил ее с самой ранней
моей юности, и она тоже любила меня со всей искренностью и невинностью,
свойственными нежному ее возрасту. Родители знали о наших чувствах и не
противились им, так как ясно видели, что с годами они не могут кончиться не
чем иным, как только браком, которому благоприятствовало равенство
происхождения и богатства. Мы росли, вместе с нами росла и наша любовь, так
что отцу Люсинды стало казаться, что он -- ради приличия и осторожности --
должен воспретить мне бывать у них в доме, подражая в этом родителям столь
воспетой поэтами Тисбы. Но это запрещение прибавило лишь пламя к пламени и
страстное желание к страстному желанию, потому что, хотя и наложило молчание
на наши уста, не могло наложить его на наши перья, которые обыкновенно с
большей свободой, чем языки, открывают любящим то, что скрыто в сердце,
потому что часто присутствие любимого предмета смущает и заставляет
умолкнуть самую твердую решимость и самый смелый язык. О небо, сколько писем
написал я ей; сколько скромных очаровательных ответов получил от нее!
Сколько песен, сколько любовных стихов сочинил, в которых открывал свою
душу, изливал свои чувства, описывал пламенные свои желания, предавался
воспоминаниям и питал свою страсть! Наконец я стал чахнуть, и душа моя до
того сильно томилась желанием увидеть Люсинду, что я решил прибегнуть и
обратиться к средству, казавшемуся мне наиболее пригодным для достижения
столь желанной и заслуженной мной награды, -- именно просить ее отца дать
мне ее в жены, -- что я и сделал. В ответ он сказал, что благодарит меня за
желание оказать ему честь и почтить и себя, домогаясь союза с дорогой его
дочерью, но так как мой отец жив, то ему по праву следует сделать это
предложение, потому что, в случае если он не дал бы полного своего одобрения
и согласия, Люсинда не из тех, которых берут или отдают замуж тайком. Я
поблагодарил его за доброе ко мне расположение, сознавая, что он прав,
говоря таким образом, и вполне уверенный, что отец мой немедленно даст свое
согласие, как только я с ним переговорю. С этим намерением я тотчас же пошел
к отцу, чтобы сообщить ему о своем желании. Но, войдя в комнату, где он
находился, я застал его с распечатанным письмом в руках, которое, прежде чем
я успел выговорить слово, он мне передал, говоря: "Из этого письма ты
увидишь, Карденио, какую милость желает тебе оказать герцог Рикардо". А этот
герцог Рикардо, как вы, сеньоры, должно быть, знаете, -- испанский гранд,
владелец богатых поместий в лучшей части Андалузии. Я взял письмо, прочел
его; оно было такое сердечное, что и мне самому показалось, что не хорошо
было бы, если б мой отец не исполнил просьбы герцога. Просил же он, как
можно скорее прислать меня к нему в качестве не слуги, а товарища его
старшего сына, обещая вместе с тем доставить мне такое положение, которое
соответствовало бы его уважению ко мне. Я прочел письмо и, читая его,
онемел, а тем более еще когда услышал, что отец мой сказал: "Через два дня
ты уедешь, Карденио, из дому, чтобы исполнить желание герцога, и благодари
Бога, что Он открывает тебе путь, по которому ты достигнешь того, чего ты,
как я знаю, вполне заслуживаешь". И к этому он добавил еще несколько
отеческих советов. Время моего отъезда наступило; перед тем ночью я говорил
с Люсиндой, рассказал ей все, что произошло, и сообщил также и ее отцу,
умоляя его подождать некоторое время и не выдавать дочь замуж, пока я не
увижу, чего герцог Рикардо желает от меня. Он обещал мне это, а Люсинда
подтвердила его обещание тысячей клятв и обмороков. Наконец я приехал к
герцогу Рикардо, и он так хорошо встретил меня и обращался со мной, что
зависть тотчас же принялась делать свое дело, закравшись в душу старых
герцогских слуг, думавших, что доказательства его расположения ко мне
послужат во вред им. Но тот, кто особенно обрадовался моему приезду, был
второй сын герцога, по имени дон Фернандо, веселый, увлекающийся, щедрый и
влюбчивый юноша, который в короткое время так подружился со мной, что об
этом пошли везде толки. И хотя я нравился также и старшему сыну герцога, и
он тоже относился ко мне очень мило, но все же не в такой степени, как меня
любил и со мной дружил дон Фернандо. Ввиду того что у друзей не бывает тайн,
которые бы они не сообщали друг другу -- а моя близость к дону Фернандо
быстро перешла в дружбу, -- он открывал мне все свои мысли и в особенности
говорил об одном своем романе, несколько его тревожившем. Именно: он был
страстно влюблен в дочь земледельца, вассала его отца, родители которой были
очень богаты, сама же она до того прекрасна, умна, скромна и добродетельна,
что никто из всех знавших не мог решить, которыми из этих качеств она
обладала в более высокой степени или в большем совершенстве. Чары прекрасной
крестьянки так разожгли страсть дона Фернандо, что он для достижения своей
цели и победы над добродетелью девушки решил дать ей слово жениться на ней,
потому что добиваться чего-либо иным путем значило бы добиваться
невозможного. По долгу дружбы, связывающей меня с ним, я счел своею
обязанностию самыми убедительными доводами, какие я только мог придумать, и
самыми яркими примерами, какие я только знал, попытаться отговорить его от
его намерения и отклонить от него. Но видя, что ничто не помогает, я решил
рассказать обо всем его отцу, герцогу Рикардо. Однако дон Фернандо,
проницательный и хитрый, боялся и опасался этого, зная, что я, в качестве
верного слуги, обязан открыть герцогу, моему господину, вещь столь
предосудительную для его чести. Итак, чтобы ввести меня в заблуждение и
обмануть, он сказал, что не находит лучшего средства изгнать из своей памяти
красавицу, так сильно полонившую его, как только удалиться на несколько
месяцев, и с этой целью он желал бы, чтобы мы оба поехали к моему отцу под
предлогом, как он скажет герцогу, посмотреть и купить нескольких хороших
лошадей в моем родном городе, славившемся лучшими в мире лошадьми {В те
времена особенно славилась своими лошадьми Кордова.}. Лишь только я услышал
эти его слова, побуждаемый собственной моей любовью, я счел его решение как
нельзя более разумным, и посмотрел бы на него точно так же, если б оно и не
было столь благоразумным, ввиду того что мне представлялся случай и
возможность снова увидеться с моей Люсиндой. Движимый этой мыслью и этим
желанием, я одобрил его план, поддержал его в его намерении и торопил как
можно скорее привести его в исполнение, потому что разлука, наверное,
произведет свое действие, как бы ни была велика сила чувства. А в то время,
когда он вел такие разговоры со мной, он -- как я потом узнал -- уже
насладился под видом супруга любовью молодой крестьянки и ждал лишь случая
разгласить об этом с безопасностью для себя, потому что боялся гнева
герцога, отца своего, когда тот узнает о его безрассудстве. Но известно, что
любовь молодых людей по большей части не любовь, а только вожделение,
которое, имея конечной своей целью наслаждение, достигнув этой цели, гаснет,
и то, что казалось любовью, прекращается, потому что не может перейти за
пределы, поставленные природой, -- а такими пределами не ограничена истинная
любовь. С доном Фернандо произошло то же самое; лишь только он овладел
молодой крестьянкой, его желания утихли, страсть охладела, так что, если он
сначала притворялся, будто хочет уехать, чтобы исцелиться от своей любви,
теперь он действительно торопился это сделать, желая избавиться от
исполнения данного им обещания. Герцог отпустил своего сына и приказал мне
сопровождать его.
Мы приехали в родной мой город; отец мой принял дона Фернандо, как
подобает его званию; тотчас же я повидался с Люсиндой, и страсть моя снова
ожила (хотя она нимало не угасала и не умирала). На свое несчастие, я
рассказал обо всем дону Фернандо, так как мне казалось, что мой долг ввиду
великой дружбы, выказываемой им мне, ничего не скрывать от него. Я так
восхвалял ему красоту, изящество и ум Люсинды, что мои похвалы возбудили в
нем желание видеть девушку, украшенную столь великими совершенствами. На
гибель себе, я исполнил это его желание и показал ему Люсинду однажды ночью,
при свете восковой свечи, в окне, где мы обыкновенно с ней разговаривали.
Увидел он ее в утреннем домашнем платье, и она была так очаровательна, что
сразу затмила в его уме образы всех красавиц, которых он до тех пор
встречал. Он онемел, он ничего не видел и не слышал, он стоял, не отрывая от
нее глаз, и пламенно влюбился в нее, -- как это и выяснится из продолжения
рассказа о моих несчастиях. Чтобы еще сильнее разжечь его страсть (которую
он тщательно скрывал от меня и доверял одним лишь звездам), случилось, что
однажды он нашел письмо ко мне Люсинды, в котором она советовала мне просить
ее отца выдать ее за меня замуж, письмо, написанное так умно, скромно и с
такой любовью, что Фернандо, прочитав его, сказал мне, что в одной Люсинде
соединены все прелести красоты и ума, которые у остальных женщин в мире
встречаются лишь порознь. Правда -- и я должен сознаться в этом теперь, --
хотя я хорошо понимал, насколько справедливо дон Фернандо восхвалял Люсинду,
мне было неприятно слышать эти похвалы из его уст. Я начал бояться и
избегать его, потому что не проходило минуты, когда бы он не желал говорить
о Люсинде, и всегда наводил на нее разговор, хотя бы притягивая его за
волосы. Это пробудило во мне нечто похожее на ревность. Не то чтобы я
опасался непостоянства Люсинды или ее неверности, но, хотя и вполне
уверенный в ней, я дрожал при мысли о превратностях судьбы. Дон Фернандо
продолжал читать письма, которые я посылал Люсинде, и ее ответы мне под
предлогом, что проявляющийся в них ум обоих нас доставляет ему большое
удовольствие. Случилось так, что однажды Люсинда попросила у меня почитать
одну рыцарскую книгу, которую она очень любила, и это был "Амадис
Галльский"...
Едва Дон Кихот услышал упоминание о рыцарской книге, как он сказал:
-- Если б вы, милость ваша, сейчас же, в начале вашей истории, сказали
мне, что ее милость, сеньора Люсинда, любит рыцарские книги, не требовалось
бы никаких других разъяснений, чтоб убедить меня в превосходстве ее ума, так
как он не мог бы быть у нее столь выдающимся, каким вы, сеньор, описали его,
если б она не была одарена склонностью к такому усладительному чтению. Итак,
что касается меня, вам незачем тратить больше слов для заверений о ее
красоте, достоинствах и уме; потому что, лишь услыхав об этой ее склонности,
я готов утверждать, что она -- самая красивая и умная женщина в мире, и я бы
желал только, чтобы вы, сеньор, заодно с "Амадисом Галльским", послали ей
также и почтенного "Дона Рухеля Греческого", так как я уверен, что сеньоре
Люсинде очень понравились бы Дараида и Гарая, а также и остроумие пастуха
Даринела и его удивительные буколические стихи, которые он читал и пел с
таким изяществом, умом и развязностью. Но со временем пробел этот может быть
пополнен, а для этого требуется только, чтобы милость ваша соизволила
поехать со мной в мою деревню, где я мог бы вам дать более трехсот книг,
составляющих усладу души моей и радость моей жизни, хотя -- думается мне --
у меня нет уже больше книг благодаря злобе коварных и завистливых
волшебников. Простите мне, что я не сдержал данного обещания не прерывать
вашего рассказа; но когда я слышу разговор о рыцарстве и странствующих
рыцарях, мне также невозможно воздержаться говорить о них, как солнечным
лучам невозможно не испускать теплоту, а лучам луны -- увлажнять росой {По
народному поверью тех времен, луна считалась причиной и источником воды и
всякой влаги, подобно тому как солнце -- источником огня и теплоты.}. Итак,
простите мне, и продолжайте, потому что теперь это наиболее существенное.
Пока Дон Кихот произносил только что приведенные слова, Карденио,
опустив голову на грудь, впал, по-видимому, в глубокую задумчивость; и, хотя
Дон Кихот дважды повторил ему, чтобы он продолжал свой рассказ, он не поднял
головы и не ответил ни слова. Наконец после довольно продолжительной
остановки он приподнялся и сказал:
-- Я не могу отделаться от одной мысли, и никто в мире не может
избавить меня от нее или же убедить меня в ином, -- и болван был бы тот, кто
думал или утверждал бы противное, именно: будто бы этот величайший плут
маэстро Элисабад не был любовником королевы Мадасимы.
-- Это ложь, -- клянусь всем в мире, что это ложь, -- воскликнул
разгневанный Дон Кихот (по обыкновению быстро вспыхнув), -- и величайшая
клевета, или, вернее, подлость. Королева Мадасима была благороднейшей
сеньорой, и нельзя предполагать, чтобы столь знатная принцесса имела
любовную связь с каким-то лекаришкой; кто же утверждает противное, лжет, как
величайший негодяй, и я берусь доказать ему это, пеший или конный,
вооруженный или безоружный, ночью или днем, как ему будет угодно.
Карденио смотрел пристально на Дон Кихота, потому что на него уже нашел
его припадок безумия и он не был в состоянии продолжать своей истории, как и
Дон Кихот не был в состоянии слушать ее, -- до того был он выведен из себя
сказанным Карденио о Мадасиме. Удивительная вещь! Он так серьезно за нее
заступился, будто она и в самом деле была его настоящей и природной
повелительницей: до того им владели проклятые его книги!
Когда Карденио, на которого, как я уже говорил, нашел его припадок
безумия, услышал, что его называют лжецом, подлецом и другими бранными
словами, шутка эта не понравилась ему, и он поднял камень, лежавший вблизи
него, и бросил им так сильно в грудь Дон Кихоту, что тот упал навзничь.
Увидав, как он обращается с его господином, Санчо Панса кинулся на
сумасшедшего со сжатыми кулаками; но Оборванец принял его так, что одним
ударом кулака свалил на землю, тотчас же вскочил на него и помял ему бока во
все свое удовольствие. Козопас, который хотел защитить Санчо, подвергся той
же участи; и после того, как он всех их повалил на землю и избил, он оставил
их и спокойно удалился в горы, где и скрылся. Санчо встал и, взбешенный тем,
что его так незаслуженно отколотили, бросился на козопаса, чтобы отомстить
ему, обвиняя его во всем, так как он не предупредил их, что по временам этот
человек подвержен припадкам безумия, потому что если бы они это знали, то
были бы осторожнее и сумели бы себя уберечь от него. Козопас ответил, что
говорил им, а если Санчо не слышал, то вина не его. Санчо возразил; козопас
стоял на своем, и концом этих пререканий было то, что они вцепились друг
другу в бороды, и посыпались такие удары кулаков, что если бы Дон Кихот не
разнял их, они бы растерзали друг друга на куски. Схватившись с козопасом,
Санчо говорил:
-- Оставьте меня, милость ваша, сеньор Рыцарь Печального Образа, ведь с
этим человеком, таким же простолюдином, как и я, и не посвященным в рыцари,
я могу спокойно расправиться за оскорбление, нанесенное им мне, и драться с
ним один на один, как честный человек.
-- Совершенно верно, -- сказал Дон Кихот, -- но я знаю, что он нимало
не виноват в том, что случилось.
Этим он помирил их и снова спросил козопаса, нельзя ли будет отыскать
Карденио, потому что он чувствует сильнейшее желание услышать конец его
истории. Козопас повторил сказанное им еще раньше, именно что нет верных
сведений о его местопребывании, но если Дон Кихот много поездит по этим
окрестностям, он непременно разыщет его, или в здравом уме, или безумного.

 [1] Мрачного красавца.
Дон Кихот простился с козопасом, взобрался опять на Росинанта и
приказал Санчо следовать за ним, что тот и исполнил, сидя верхом на своем
осле, но весьма неохотно. Они ехали медленно, пробираясь в самую глушь дикой
горной местности. Санчо до смерти хотелось поболтать со своим господином, и
он ждал лишь, не заговорит ли тот сам, чтобы не нарушить данного ему
приказания. Но, будучи не в силах выносить столь долгого молчания, он
сказал:
-- Сеньор Дон Кихот, пусть милость ваша даст мне свое благословение и
уволит меня, так как я желал бы тотчас же вернуться домой к жене и детям, с
которыми, по крайней мере, я могу говорить и толковать обо всем, что мне
взбредет в голову; ведь если ваша милость требует, чтобы я день и ночь
скитался с вами по этим пустынным местам и не говорил бы, когда мне придет
охота, -- это значит похоронить меня живым. Если бы по воле судьбы животные
разговаривали, как во времена Гисопета {Так Санчо называет баснописца Эзопа.
Гисопет вместо Эзоп писал и архиепископ Ита, живший в XIV в.}, было бы не
так еще плохо, потому что я мог бы, о чем мне вздумается, болтать с моим
ослом и таким образом услаждал бы свою тяжкую участь. Но уже слишком жестоко
и невыносимо всю жизнь проводить в поисках приключений и находить одни лишь
подзатыльники, бросанье вверх на одеяле, удары камнями и кулаками; а при
всем том чтобы еще был зашит рот и человек не смел высказать то, что у него
на душе, как будто он немой.
-- Понимаю тебя, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- ты умираешь от
желания, чтобы я снял запрещение, наложенное мной на твой язык. Хорошо,
считай его снятым и говори, что хочешь, но только с условием, что данное
тебе разрешение имеет силу лишь на то время, пока мы скитаемся в этих горах.
-- Пусть будет так, -- сказал Санчо,-- пусть я поговорю хоть теперь, а
что будет потом, известно одному лишь Богу. Итак, я начинаю пользоваться
этой охранной грамотой и спрашиваю: из-за чего вы, милость ваша, распинались
так сильно за ту королеву Махимасу, или как ее зовут, и какое вам дело, был
ли тот аббат ее другом или нет? Если бы ваша милость не обратила на это
внимание -- ведь вы же не были ее судьей, -- наверное сумасшедший продолжал
бы свою историю и мы бы избежали и удара камнем, и пинков, и более чем
полдюжины тумаков.
-- По чести, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- если б ты знал, как я это
знаю, что за почтенная и благородная сеньора была королева Мадасима,
наверное, ты сказал бы, что я выказал слишком много терпения, не раздробив
рта, из которого исходила такая хула; потому что величайшая хула -- говорить
или думать, что королева была наложницей лекаря. Правда же во всей истории
та, что этот маэстро Элисабад, о котором говорил сумасшедший, был очень
благоразумный человек, хороший советчик и служил наставником и врачом при
королеве, но думать, будто она была его любовницей, -- бессмыслица,
заслуживающая самого строгого наказания, а чтобы ты убедился, как мало
Карденио сознавал, что говорит, вспомни: когда он это сказал, он уже был в
припадке сумасшествия.
-- Я именно и говорю, -- возразил Санчо, -- что не следовало обращать
внимания на слова сумасшедшего, потому что, если бы счастье не было на
стороне вашей милости, и камень, вместо того чтобы попасть в грудь, попал бы
вам в голову, хороши бы мы были с вашим заступничеством за ту сеньору --
погуби ее бог, -- и к тому же Карденио наверное был бы выпущен на свободу в
качестве сумасшедшего.
-- Всякий странствующий рыцарь обязан вступиться как против
здравомыслящих, так и против сумасшедших, за честь женщин, кто бы они ни
были; а тем более за честь королевы, столь возвышенной и добродетельной,
какой была королева Мадасима, которую я особенно чту за ее необычайные
качества. Ведь сверх красоты своей она отличалась еще умом и терпением в
страданиях, а их выпало немало на ее долю; и именно советы и общество
маэстро Элисабада послужили ей на пользу и облегченье и помогли ей перенести
бедствия свои с мудростью и спокойствием. Это-то и подало повод
невежественной и злонамеренной черни думать и говорить, что она была его
наложницей. Но они лгут, повторяю еще раз, и солгут двести раз все те,
которые подумают или скажут это.
-- Я этого и не говорю, и не думаю,-- ответил Санчо, -- пусть себе
делают и съедают со своим хлебом; были ли они любовниками или нет, отчет в
этом дали они Богу; я иду из своего виноградника и ничего не знаю;
подглядывать, как живут другие, мне нет охоты; тот, кто закупает и лжет, на
своей же мошне познаёт; тем более что наг я родился, наг и остался, ничего
не теряю, ничего не выгадываю; и если б между ними что и было, -- мне какое
дело? Многие думают найти ветчину там, где нет и крючков для копчения ее; но
кто же может запереть открытое поле воротами? И тем более что поносили даже
самого Бога.
-- Господи помоги, -- сказал Дон Кихот, -- сколько вздору ты, Санчо,
нагородил! Какое отношение между тем, что мы говорили, и пословицами,
которые ты нанизываешь одну на другую? Жизнью твоей заклинаю тебя, Санчо,
замолчи, и отныне и впредь занимайся лишь тем, чтобы подгонять своего осла,
не вмешиваясь в то, что тебя не касается. Пойми своими пятью чувствами, что
все, что я делал, делаю и буду делать, вполне разумно и совершенно согласно
с правилами рыцарства, которые я лучше знаю, чем все рыцари в мире,
когда-либо исповедовавшие их.
-- Сеньор, -- ответил Санчо, -- это ли одно из хороших правил
рыцарства, что мы блуждаем по здешним горам, без дорог и тропинок, отыскивая
сумасшедшего, к которому, когда мы его найдем, быть может, вернется желание
докончить, что он начал, -- не свой рассказ, а... речь идет о голове вашей
милости и моих ребрах, которые он проломает вконец.
-- Молчи, Санчо, говорю тебе еще раз, -- сказал Дон Кихот, -- и знай,
что не только желание разыскать сумасшедшего влечет меня в эти места, а
также и намерение совершить подвиг, которым я приобрету бессмертное имя и
славу на всем земном пространстве, и подвиг этот будет таков, что я увенчаю
им все, что может привести странствующего рыцаря к совершенству и всесветной
знаменитости.
-- А этот подвиг очень опасный? -- спросил Санчо Панса.
-- Нет, -- ответил Рыцарь Печального Образа. -- Но игральная кость
может упасть так, что вместо выигрыша мы получим проигрыш; хотя все будет
зависеть от твоего старания.
-- От моего старания? -- удивился Санчо.
-- Да, -- подтвердил Дон Кихот,-- потому что, если ты скоро вернешься
оттуда, куда я думаю послать тебя, в таком случае скоро кончится мое
страдание и начнется моя слава. И так как нехорошо держать тебя дольше в
неизвестности и томить ожиданием, куда клонятся мои слова, я желаю, чтобы
ты, Санчо, знал, что знаменитый Амадис Галльский был один из превосходнейших
странствующих рыцарей. Я неверно сказал "один"; он был единственный, первый,
самый выдающийся, -- глава всех рыцарей, существовавших на свете в его
время. К черту дона Белианиса и всех говоривших, что они в чем-либо равны
ему, потому что они ошибаются, клянусь честью! Вместе с тем скажу: если
какой-нибудь живописец желает прославиться в своем искусстве, он старается
подражать оригиналам лучших известных ему художников; это правило применимо
и ко всем занятиям и профессиям, имеющим значение и служащим украшением
общества. Так точно должен поступать и поступает тот, кто желает прослыть
мудрым и терпеливым, -- он подражает Улиссу, в лице которого Гомер нарисовал
нам живой образ мудрости и терпения; также и Вергилий изобразил в лице Энея
добродетель нежного сына и прозорливость храброго и опытного военачальника;
причем эти поэты не описывали и не рисовали своих героев такими, какими они
действительно были, а какими они должны были быть, чтобы будущим поколениям
завещать пример своих добродетелей. Совершенно также и Амадис был магнитом,
утренней звездою и солнцем доблестных и влюбленных рыцарей, и все мы,
сражающиеся под знаменем рыцарства и любви, должны подражать ему. Если же
это так, Санчо, друг, то, на мой взгляд, тот странствующий рыцарь, который
наилучше сумеет подражать Амадису, приблизится больше других к рыцарскому
совершенству; а один из поступков этого рыцаря, в котором он особенно
проявил свою мудрость, отвагу, терпение, постоянство и любовь, был тот,
когда он из-за пренебрежения к нему сеньоры Орианы удалился для совершения
эпитимии на Пенья По-бре, назвавшись именем Бельтенеброс, именем,
несомненно, выразительным и подходящим к образу жизни, избранному им по
доброй его воле. И так как мне легче подражать Амадису в этом, чем
раскалывать надвое великанов, обезглавливать чудовищных змей, убивать
драконов, рассеивать войска, уничтожать флот и разрушать чары -- а
окружающая нас местность как нельзя лучше приспособлена к выполнению
подобного намерения, -- то нет причины упускать случай, которым я могу
теперь отлично воспользоваться.
[1] Мрачного красавца.
Дон Кихот простился с козопасом, взобрался опять на Росинанта и
приказал Санчо следовать за ним, что тот и исполнил, сидя верхом на своем
осле, но весьма неохотно. Они ехали медленно, пробираясь в самую глушь дикой
горной местности. Санчо до смерти хотелось поболтать со своим господином, и
он ждал лишь, не заговорит ли тот сам, чтобы не нарушить данного ему
приказания. Но, будучи не в силах выносить столь долгого молчания, он
сказал:
-- Сеньор Дон Кихот, пусть милость ваша даст мне свое благословение и
уволит меня, так как я желал бы тотчас же вернуться домой к жене и детям, с
которыми, по крайней мере, я могу говорить и толковать обо всем, что мне
взбредет в голову; ведь если ваша милость требует, чтобы я день и ночь
скитался с вами по этим пустынным местам и не говорил бы, когда мне придет
охота, -- это значит похоронить меня живым. Если бы по воле судьбы животные
разговаривали, как во времена Гисопета {Так Санчо называет баснописца Эзопа.
Гисопет вместо Эзоп писал и архиепископ Ита, живший в XIV в.}, было бы не
так еще плохо, потому что я мог бы, о чем мне вздумается, болтать с моим
ослом и таким образом услаждал бы свою тяжкую участь. Но уже слишком жестоко
и невыносимо всю жизнь проводить в поисках приключений и находить одни лишь
подзатыльники, бросанье вверх на одеяле, удары камнями и кулаками; а при
всем том чтобы еще был зашит рот и человек не смел высказать то, что у него
на душе, как будто он немой.
-- Понимаю тебя, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- ты умираешь от
желания, чтобы я снял запрещение, наложенное мной на твой язык. Хорошо,
считай его снятым и говори, что хочешь, но только с условием, что данное
тебе разрешение имеет силу лишь на то время, пока мы скитаемся в этих горах.
-- Пусть будет так, -- сказал Санчо,-- пусть я поговорю хоть теперь, а
что будет потом, известно одному лишь Богу. Итак, я начинаю пользоваться
этой охранной грамотой и спрашиваю: из-за чего вы, милость ваша, распинались
так сильно за ту королеву Махимасу, или как ее зовут, и какое вам дело, был
ли тот аббат ее другом или нет? Если бы ваша милость не обратила на это
внимание -- ведь вы же не были ее судьей, -- наверное сумасшедший продолжал
бы свою историю и мы бы избежали и удара камнем, и пинков, и более чем
полдюжины тумаков.
-- По чести, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- если б ты знал, как я это
знаю, что за почтенная и благородная сеньора была королева Мадасима,
наверное, ты сказал бы, что я выказал слишком много терпения, не раздробив
рта, из которого исходила такая хула; потому что величайшая хула -- говорить
или думать, что королева была наложницей лекаря. Правда же во всей истории
та, что этот маэстро Элисабад, о котором говорил сумасшедший, был очень
благоразумный человек, хороший советчик и служил наставником и врачом при
королеве, но думать, будто она была его любовницей, -- бессмыслица,
заслуживающая самого строгого наказания, а чтобы ты убедился, как мало
Карденио сознавал, что говорит, вспомни: когда он это сказал, он уже был в
припадке сумасшествия.
-- Я именно и говорю, -- возразил Санчо, -- что не следовало обращать
внимания на слова сумасшедшего, потому что, если бы счастье не было на
стороне вашей милости, и камень, вместо того чтобы попасть в грудь, попал бы
вам в голову, хороши бы мы были с вашим заступничеством за ту сеньору --
погуби ее бог, -- и к тому же Карденио наверное был бы выпущен на свободу в
качестве сумасшедшего.
-- Всякий странствующий рыцарь обязан вступиться как против
здравомыслящих, так и против сумасшедших, за честь женщин, кто бы они ни
были; а тем более за честь королевы, столь возвышенной и добродетельной,
какой была королева Мадасима, которую я особенно чту за ее необычайные
качества. Ведь сверх красоты своей она отличалась еще умом и терпением в
страданиях, а их выпало немало на ее долю; и именно советы и общество
маэстро Элисабада послужили ей на пользу и облегченье и помогли ей перенести
бедствия свои с мудростью и спокойствием. Это-то и подало повод
невежественной и злонамеренной черни думать и говорить, что она была его
наложницей. Но они лгут, повторяю еще раз, и солгут двести раз все те,
которые подумают или скажут это.
-- Я этого и не говорю, и не думаю,-- ответил Санчо, -- пусть себе
делают и съедают со своим хлебом; были ли они любовниками или нет, отчет в
этом дали они Богу; я иду из своего виноградника и ничего не знаю;
подглядывать, как живут другие, мне нет охоты; тот, кто закупает и лжет, на
своей же мошне познаёт; тем более что наг я родился, наг и остался, ничего
не теряю, ничего не выгадываю; и если б между ними что и было, -- мне какое
дело? Многие думают найти ветчину там, где нет и крючков для копчения ее; но
кто же может запереть открытое поле воротами? И тем более что поносили даже
самого Бога.
-- Господи помоги, -- сказал Дон Кихот, -- сколько вздору ты, Санчо,
нагородил! Какое отношение между тем, что мы говорили, и пословицами,
которые ты нанизываешь одну на другую? Жизнью твоей заклинаю тебя, Санчо,
замолчи, и отныне и впредь занимайся лишь тем, чтобы подгонять своего осла,
не вмешиваясь в то, что тебя не касается. Пойми своими пятью чувствами, что
все, что я делал, делаю и буду делать, вполне разумно и совершенно согласно
с правилами рыцарства, которые я лучше знаю, чем все рыцари в мире,
когда-либо исповедовавшие их.
-- Сеньор, -- ответил Санчо, -- это ли одно из хороших правил
рыцарства, что мы блуждаем по здешним горам, без дорог и тропинок, отыскивая
сумасшедшего, к которому, когда мы его найдем, быть может, вернется желание
докончить, что он начал, -- не свой рассказ, а... речь идет о голове вашей
милости и моих ребрах, которые он проломает вконец.
-- Молчи, Санчо, говорю тебе еще раз, -- сказал Дон Кихот, -- и знай,
что не только желание разыскать сумасшедшего влечет меня в эти места, а
также и намерение совершить подвиг, которым я приобрету бессмертное имя и
славу на всем земном пространстве, и подвиг этот будет таков, что я увенчаю
им все, что может привести странствующего рыцаря к совершенству и всесветной
знаменитости.
-- А этот подвиг очень опасный? -- спросил Санчо Панса.
-- Нет, -- ответил Рыцарь Печального Образа. -- Но игральная кость
может упасть так, что вместо выигрыша мы получим проигрыш; хотя все будет
зависеть от твоего старания.
-- От моего старания? -- удивился Санчо.
-- Да, -- подтвердил Дон Кихот,-- потому что, если ты скоро вернешься
оттуда, куда я думаю послать тебя, в таком случае скоро кончится мое
страдание и начнется моя слава. И так как нехорошо держать тебя дольше в
неизвестности и томить ожиданием, куда клонятся мои слова, я желаю, чтобы
ты, Санчо, знал, что знаменитый Амадис Галльский был один из превосходнейших
странствующих рыцарей. Я неверно сказал "один"; он был единственный, первый,
самый выдающийся, -- глава всех рыцарей, существовавших на свете в его
время. К черту дона Белианиса и всех говоривших, что они в чем-либо равны
ему, потому что они ошибаются, клянусь честью! Вместе с тем скажу: если
какой-нибудь живописец желает прославиться в своем искусстве, он старается
подражать оригиналам лучших известных ему художников; это правило применимо
и ко всем занятиям и профессиям, имеющим значение и служащим украшением
общества. Так точно должен поступать и поступает тот, кто желает прослыть
мудрым и терпеливым, -- он подражает Улиссу, в лице которого Гомер нарисовал
нам живой образ мудрости и терпения; также и Вергилий изобразил в лице Энея
добродетель нежного сына и прозорливость храброго и опытного военачальника;
причем эти поэты не описывали и не рисовали своих героев такими, какими они
действительно были, а какими они должны были быть, чтобы будущим поколениям
завещать пример своих добродетелей. Совершенно также и Амадис был магнитом,
утренней звездою и солнцем доблестных и влюбленных рыцарей, и все мы,
сражающиеся под знаменем рыцарства и любви, должны подражать ему. Если же
это так, Санчо, друг, то, на мой взгляд, тот странствующий рыцарь, который
наилучше сумеет подражать Амадису, приблизится больше других к рыцарскому
совершенству; а один из поступков этого рыцаря, в котором он особенно
проявил свою мудрость, отвагу, терпение, постоянство и любовь, был тот,
когда он из-за пренебрежения к нему сеньоры Орианы удалился для совершения
эпитимии на Пенья По-бре, назвавшись именем Бельтенеброс, именем,
несомненно, выразительным и подходящим к образу жизни, избранному им по
доброй его воле. И так как мне легче подражать Амадису в этом, чем
раскалывать надвое великанов, обезглавливать чудовищных змей, убивать
драконов, рассеивать войска, уничтожать флот и разрушать чары -- а
окружающая нас местность как нельзя лучше приспособлена к выполнению
подобного намерения, -- то нет причины упускать случай, которым я могу
теперь отлично воспользоваться.
 -- Одним словом, -- сказал Санчо,-- что же, собственно, ваша милость
собирается делать здесь, в этом столь отдаленном месте?
-- Разве я тебе не говорил, -- ответил Дон Кихот, -- что хочу подражать
Амадису, изображая здесь впавшего в отчаяние, безумного и неистового, в то
же время подражая и доблестному дону Ролдану {Испанское имя Роланда.}, когда
он вблизи одного источника нашел доказательства того, что прекрасная
Анхелика обесчестила себя с Медором, вследствие чего он от огорчения сошел с
ума и стал вырывать с корнями деревья, мутить воды светлых источников,
убивать пастухов, уничтожать их стада, поджигать хижины, опрокидывать дома,
волочить по земле коней, словом, совершать сотни тысяч безумств {История
любви Медора и Анжелики и безумств Роланда рассказана в 23-й и 24-й песнях
известной поэмы итальянского писателя Ариосто "Orlando Furioso" ("Неистовый
Роланд").}, достойных вечного упоминания и внесения в летописи. И хотя я не
намерен подражать Орландо, Ролдану, или Ротоланду (так как его прозывали
всеми этими тремя именами), шаг за шагом во всех безумствах, которые он
совершил, сказал или придумал, я постараюсь, как сумею, выбрать и повторить
те из них, которые мне покажутся наиболее существенными. А может быть, я
ограничусь лишь только подражанием Амадису, не совершившему никаких пагубных
безумств и одними лишь слезами своими и скорбью достигшему самой высокой
славы.
-- Мне кажется, -- сказал Санчо,-- что рыцари, которые делали нечто
подобное, были вызваны к тому и имели причины совершать эти безумства и
эпитимии; но какая причина у вашей милости сходить с ума? Какая дама
отвергла вас или какие нашли вы доказательства, что сеньора Дульсинея
Тобосская согрешила с мавром или с христианином?
-- В этом-то вся суть дела, -- сказал Дон Кихот, -- и вся красота моего
предприятия, потому что, если странствующий рыцарь сходит с ума, имея на то
причину, в чем же тут заслуга и повод для похвалы? Вся соль именно в том,
чтобы сойти с ума без причины и чтобы дать понять своей даме: если зеленое
дерево так вспыхнуло, как запылало бы сухое! Кроме того, у меня есть
достаточная для этого причина в долгой разлуке с той, которая навсегда
останется моей повелительницей, с Дульсинеей Тобосской,-- потому что, как ты
недавно слышал от пастуха Амбросио: тот, кто в разлуке, испытывает и
опасается всяких зол и бед. Итак, Санчо, друг, не теряй понапрасну времени,
советуя мне отказаться от столь редкостного, счастливого и никогда не
бывалого подражания. Я сумасшедший и останусь сумасшедшим до тех пор, пока
ты не вернешься с ответом на письмо, которое я думаю послать с тобой моей
сеньоре Дульсинее, и если ответ ее будет таким, какого заслуживает мое
постоянство, -- моему безумию и покаянию настанет конец. Если же случится
наоборот, то я в действительности сойду с ума и, будучи сумасшедшим,
перестану что-либо ощущать. Так что, как бы она ни ответила, я выйду из
неопределенности и из того затруднения, в которых ты меня оставляешь,
радуясь -- если я буду в здравом уме, -- добрым вестям, привезенным мне
тобой, или же, в случае если ты мне сообщишь худые вести, ничего не буду
чувствовать, впав в безумие. Но скажи мне, Санчо, в сохранности ли у тебя
шлем Мамбрино? Я видел, что ты поднял его с земли, когда тот неблагодарный
пытался сломать его вдребезги и не мог, из чего ясно видно, какой хороший
закал шлема.
На это Санчо ответил:
-- Клянусь Богом живым, сеньор Рыцарь Печального Образа, я не могу
сносить и терпеливо выслушивать иные вещи, которые милость ваша говорит,
потому что они наводят меня на мысль, что ваши рассказы о рыцарстве, о
завоеваниях королевств и империй, раздаче островов и всяких других милостей
и щедрот, как это в обычае у странствующих рыцарей, должно быть, одно лишь
дуновение ветра и ложь, одни лишь просто-напросто сказки и басни, или как их
там назвать. Ведь каждый, кто услышит, что ваша милость утверждает, будто
таз цирюльника -- шлем Мамбрино, и увидит, что вы остаетесь в этом
заблуждении более четырех дней, не может подумать чего-либо иного, кроме
того, что человек, который говорит и утверждает нечто подобное, наверное
распростился с своим разумом. Таз, весь смятый и изогнутый, у меня здесь в
мешке, и я везу его домой, чтобы выпрямить его и употреблять для бритья,
если Бог окажет мне такую милость и я когда-нибудь снова увижу жену и детей
своих.
-- Слушай, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- клянусь тем же Богом, Каким и
ты только что клялся, -- у тебя самый тупой ум, которым когда-либо обладал
или обладает какой бы то ни было оруженосец в мире. Возможно ли, чтобы ты,
так долго скитаясь со мной, еще не разглядел, что все относящееся к
странствующему рыцарству кажется обольщением, безумием и нелепостью и все
делается навыворот? И не потому, чтобы это действительно было так, а потому,
что среди нас, рыцарей, всегда носится толпа волшебников, которые все, что
мы делаем, преобразуют, изменяют и превращают, как им вздумается, смотря по
тому, намерены ли они благоприятствовать нам или же повредить; и вот почему
то, что ты считаешь тазом для бритья, мне кажется шлемом Мамбрино, а другому
может показаться еще чем-нибудь иным. Со стороны покровительствующего мне
мудреца было необычайно предусмотрительно устроить так, чтобы всем казалось
тазом для бритья то, что поистине и на самом деле есть шлем Мамбрино, потому
что вследствие столь высокой ценности его весь свет преследовал бы меня,
чтобы отнять его. Но теперь -- видя в нем только лишь цирюльничий таз -- они
не стремятся приобрести его, что ясно доказал тот, который захотел его
сломать и, не взяв с собой, оставил лежать на земле, а по чести, если б он
знал истинную цену его, то никогда бы не расстался с ним. Береги же его
хорошенько, друг, потому что теперь он мне не нужен, и даже мне придется
снять с себя все эти доспехи и остаться нагим, как я родился, если мне
вздумается подражать в моем искусе скорее Ролдану, чем Амадису
Разговаривая таким образом, они добрались до подножия высокой горы,
стоявшей одиноко, словно обрубленная громадная скала, среди других
окружавших ее гор. Внизу, у ее подошвы, протекал мирный ручеек, опоясывая
зеленый роскошный луг, приводивший в восхищение всякий взгляд, который
останавливался на нем. Кругом виднелось немало лесных деревьев и разных
растений и цветов, делавших эту поляну еще очаровательнее. Ее-то Рыцарь
Печального Образа и избрал для совершения своей эпитимии, и, лишь только
увидел ее, он воскликнул громким голосом, словно уже впавший в безумие:
-- Вот место, о небеса, избранное и назначенное мною, чтобы оплакивать
несчастье, в которое вы сами ввергли меня. Вот то место, где влага из моих
глаз приумножит воды маленького этого ручья, а неперестающие и глубокие
вздохи мои приведут в беспрерывное движение листву горных этих деревьев в
доказательство и свидетельство мучений, испытываемых этим истерзанным
сердцем моим! О вы, кто бы вы ни были, сельские божества, обитающие в
необитаемой этой местности! Внемлите жалобам несчастного влюбленного,
которого долгая разлука и мнимая ревность привели сюда, среди этих суровых
скал скорбеть и плакаться на жестокость сердца неблагодарной и прекрасной,
-- являющей собой совершенство и венец всякой человеческой красоты! О вы,
лесные нимфы и дриады, имеющие обыкновение жить в густой тени горных этих
дубрав! Пусть быстроногие и сладострастные сатиры, тщетно влюбленные в вас,
никогда не нарушат мирного вашего покоя, если вы поможете мне оплакивать мое
несчастье или, по крайней мере, не соскучитесь, слушая о нем! О Дульсинея
Тобосская, день моей ночи, наслаждение моих мук, путеводная звезда моей
жизни, луч моего счастья! Да ниспошлет тебе небо полной мерой все, чего бы
ты ни пожелала, если ты обратишь взоры свои на место и положение, к которому
меня привела разлука с тобой, и ответишь мне взаимностью в награду за мою
верность тебе! О уединенные деревья, которые отныне и впредь будете мне
единственным обществом в полном моем одиночестве! Подайте мне знак
сладостным шелестом ветвей ваших, что присутствие мое не причиняет вам
неудовольствия! О ты, оруженосец мой, милый товарищ во всех счастливых и
несчастных моих приключениях! Запечатлей хорошенько в своей памяти то, что я
буду делать здесь, на глазах у тебя, чтобы передать и пересказать о том
единственной виновнице всего происходящего!
Говоря это, Дон Кихот слез с Росинанта, спешно расседлал его и, ладонью
хлопнув по бокам, сказал:
-- Свободу дает тебе тот, кто сам лишен ее! О конь, столь же
прославленный заслугами своими, как и несчастный по судьбе своей, ступай
куда хочешь, потому что у тебя на лбу написано, что по быстроте с тобой не
сравнится ни Гипогриф {Гипогриф -- чудовище, рожденное от баснословного
животного -- грифа и кобылы; играет значительную роль в поэме Ариосто, так
же как и Фронтино -- светло-гнедой конь с белой полосой.}[ ]Астольфа, ни
знаменитый Фронтино, стоивший так дорого Брадаманте.
Когда Санчо увидел это, он сказал:
-- Всяческого успеха тому, кто избавил нас теперь от труда расседлывать
Серого, потому что, по чести, пришлось бы и его похлопать и наговорить и ему
разных разностей в похвалу, хотя, если б он был здесь, я не согласился бы,
чтобы кто-нибудь снял с него седло, потому что не было бы причины, так как
общие правила влюбленных и впавших в отчаяние нимало не касаются его, как и
его господина, которым я был, пока Богу было угодно. Но, право, сеньор
Рыцарь Печального Образа, если мой отъезд и безумие вашей милости -- вещь
серьезная, было бы лучше снова оседлать Росинанта, чтобы он заменил
отсутствие Серого, так как это значило бы сберечь время туда и обратно;
потому что, если мне придется идти пешком, не знаю, когда я дойду и когда
вернусь, оттого что я в самом деле плохой ходок.
-- Говорю, Санчо, пусть будет по-твоему, -- ответил Дон Кихот, --
потому что твой план кажется мне недурным, и говорю тебе, что через три дня
ты уедешь, так как я желаю, чтобы за это время ты увидел то, что я ради
Дульсинеи буду делать и говорить, и затем сообщил бы ей о том.
-- Но что же я увижу больше того, что я уже видел? -- спросил Санчо.
-- Как ты сильно ошибаешься в своем расчете, -- ответил Дон Кихот, --
теперь мне нужно еще разорвать одежду, разбросать кругом себя оружие,
удариться головой об эти скалы и совершить другие вещи в том же роде,
которые изумят тебя.
-- Ради бога, -- сказал Санчо, -- будьте осторожнее, милость ваша,
когда вы будете биться головой о скалы, потому что вы можете удариться о
такую скалу и в таком ее месте, что с первым же ударом наступит конец всей
вашей затее об эпи-тимии. Я бы держался того мнения, уж
если ваша милость находит, что биться головой необходимо и без этого
дело не может быть сделано, вы бы удовольствовались -- так как все это лишь
притворно, вымышлено и в шутку, -- вы бы удовольствовались, говорю я, биться
головой о воду или о какой-нибудь мягкий предмет, например вату, и затем
предоставьте все мне, а я скажу сеньоре Дульсинее, что ваша милость билась
головой о скалы, более твердые, чем алмаз.
-- Благодарю тебя за твое доброе намерение, друг Санчо, -- сказал Дон
Кихот, -- но ты должен знать, что все эти вещи я делаю вовсе не в шутку, а
всерьез, потому что поступать иначе -- значило бы нарушать законы рыцарства,
воспрещающие нам под страхом наказания за отступничество когда-либо говорить
ложь; а делать одну вещь вместо другой -- все то же, что лгать. Вот почему
мои удары головой о скалу должны быть настоящие, неподдельные, не
заключающие в себе ничего призрачного или фантастичного; и потому нужно,
чтобы ты оставил мне немного корпии для перевязки, раз по воле судьбы мы
лишились бальзама, потерянного нами.
-- Еще хуже было потерять осла,-- ответил Санчо, -- так как заодно с
ним потеряна и корпия, и все остальное. Но прошу вас, ваша милость, не
напоминайте мне об этом проклятом питье; только при одном напоминании о нем
у меня выворачивает всю душу, чтобы не сказать весь желудок! И еще прошу
вас, считайте, что уже прошли три дня сроку, данного мне вами, чтобы глядеть
на безумные ваши выходки, так как я готов заявить, что уже видел их и они
были уже доведены до конца, и я расскажу о них чудеса сеньоре Дульсинее.
Итак, пишите письмо и посылайте меня тотчас, потому что я чувствую сильное
желание скорей вернуться, чтобы освободить вас, милость ваша, из чистилища,
в котором оставляю вас.
-- Ты называешь это чистилищем, Санчо? -- спросил Дон Кихот. -- Лучше
бы ты называл это адом и даже хуже чем адом, если что-нибудь может быть хуже
его.
-- Тому, кто попал в ад, -- ответил Санчо, -- nula est retention
{Санчо, коверкая слова, говорит "retentio" вместо "redemptio", желая
сказать: "In inferno milla est redemptio" ("Из ада нет избавления").}, как
мне приводилось слышать.
-- Не понимаю, что значит retentio,-- сказал Дон Кихот.
-- Retentio, -- ответил Санчо, -- значит, что тот, кто в аду, никогда
оттуда не выйдет и не может выйти, а с вашей милостью будет наоборот, или же
моим пяткам придется плохо, если я возьму шпоры, чтобы торопить Росинанта.
Дайте мне лишь приехать в Тобосо и явиться перед сеньорой Дульсинеей, я
столько ей нарасскажу о дурачествах и сумасбродствах (ведь это одно и то
же), которые ваша милость делала и продолжает делать, что она у меня станет
мягче перчатки, хотя бы я ее застал жестче пробкового дерева. С ее ответом,
сладким и медовым, я по воздуху, как колдун, вернусь и освобожу вашу милость
из этого чистилища, похожего на ад, но который не есть ад, потому что вы
имеете надежду выйти из него, а этой надежды, как я уже говорил, нет у тех,
которые в аду; и я не думаю, что ваша милость станет возражать против этого.
-- Ты прав, -- сказал Рыцарь Печального Образа, -- но как нам быть,
чтобы написать письмо?
-- А также и приказ о выдаче мне ослят, -- добавил Санчо.
-- Все будет включено, -- сказал Дон Кихот, -- и было бы хорошо, раз у
нас нет бумаги, если бы мы, как это делали древние, написали письмо на
древесных листьях или на восковых дощечках, хотя найти их теперь так же
трудно, как и найти бумагу. Но сейчас мне пришло в голову, на чем можно так
же хорошо и даже еще лучше написать письмо, -- в записной книжке,
принадлежавшей Кар-денио. А ты уже позаботишься дать его переписать на
бумагу и хорошим почерком в первом же встречном селе, где ты найдешь учителя
в школе для мальчиков, а если не найдешь, то какой-нибудь пономарь перепишет
тебе письмо. Но не давай переписывать его кому-нибудь из нотариусов, которые
пишут так крючковато, что сам сатана ничего не разберет.
-- А как же насчет подписи? -- спросил Санчо.
-- В письмах Амадиса никогда не было подписи, -- ответил Дон Кихот.
-- Все это очень хорошо, -- сказал Санчо, -- но приказ на получение
ослят должен быть непременно подписан,-- если же подпись будет переписана,
скажут, что она подложная, и я останусь без ослят.
-- Приказ на ослят я подпишу здесь в этой записной книжке, и, увидав
мою подпись, племянница моя не затруднится исполнить то, о чем я пишу. Что
же касается любовного письма, ты поставишь такую подпись: "Ваш до гроба.
Рыцарь Печального Образа". И неважно, что письмо это будет написано чужой
рукой, так как, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать и
никогда в жизни не видела ни моего почерка, ни какого-либо письма моего,
потому что наша обоюдная -- моя и ее -- любовь была всегда лишь
платонической и не заходила дальше целомудренных взглядов, да и это
случалось лишь редко. И я мог бы истинно поклясться: в течение двенадцати
лет, что я ее люблю больше зеницы глаз этих, которые будут засыпаны землей,
я видел ее всего лишь четыре раза; и, быть может, в эти четыре раза она даже
не заметила, что я на нее смотрю, -- до того строго и в таком уединении ее
воспитывал отец ее, Лоренсо Корхуело, и мать, Алдонса Ногалес.
-- Та-та, -- воскликнул Санчо, -- значит, дочь Лоренсо Корхуэло и есть
сеньора Дульсинея Тобосская, иначе называемая Алдонса Лоренсо? {Среди
испанских крестьян, не имевших фамилий, было в обычае к имени детей, и
особенно девушек, приставлять имя отца.}
-- Это она и есть, -- ответил Дон Кихот, -- та самая, которая
заслуживает быть повелительницей всего мира.
-- Я хорошо ее знаю, -- сказал Санчо, -- и могу удостоверить, что она
так ловко бросает шест, как самый сильный парень в селе. Клянусь Создателем,
эта девушка чисто огонь, разбитная, удалая и такой крепыш, что всякого
странствующего или имеющего странствовать рыцаря, который выбрал бы ее себе
в сеньоры, она может вытащить за бороду из грязи. О дочь блудницы, какие у
нее здоровенные легкие и что за голос! Могу вам сказать, однажды она
поднялась на сельскую колокольню, чтобы позвать батраков, работавших на
пашне ее отца, и они, даже находясь на расстоянии более чем полмили оттуда,
услышали ее так же хорошо, как будто стояли внизу колокольни; а всего лучше
то, что она нимало не жеманна, потому что у нее чрезвычайное сходство с
придворной дамой {Игра слов: cortesana означает и "придворная дама", и "дама
легкого поведения."}; со всеми она шутит и над всем смеется и острит. Теперь
скажу, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вы, милость ваша, не только
можете и должны совершать безумства ради нее, но и с полным правом можете
прийти в отчаяние и повеситься, потому что всякий, кто узнает об этом,
скажет, что вы крайне хорошо поступили, хотя бы вас и побрал черт; и я желал
бы уже быть в дороге, только чтобы увидеть ее, потому что я давно ее не
видел, и она за это время, должно быть, очень изменилась; ведь лицо женщин
сильно портится, если они постоянно находятся в поле, на ветру и на солнце.
Должен признаться вам, ваша милость, сеньор Дон Кихот, до сих пор я был в
большом заблуждении, так как искренно и твердо верил, что сеньора Дульсинея
какая-нибудь принцесса, в которую милость ваша влюблена, или же знатная
особа, заслуживающая богатых подарков, которые ваша милость посылала ей,
например бискайца, каторжников и, верно, еще многих других, судя по тому,
что ваша милость, должно быть, одерживала и одержала немало побед в то
время, когда я еще не был у вас оруженосцем. Но, если хорошенько вникнуть в
дело, какая же польза сеньоре Алдонсе Лоренсо (я хотел сказать сеньоре
Дульсинее Тобосской) из того, что к ней являются преклонять колени
побежденные, которых ваша милость посылала и будет посылать ей? Ведь может
случиться, что в то самое время, когда они к ней явятся, она будет занята
чесанием льна или молотьбой на току, и они, увидав это, смутятся, а она
рассмеется и вышутит ваш подарок.
-- Я и прежде не раз говорил тебе, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- что
ты большой говорун, и хотя ум у тебя туповатый, ты часто умеешь быть очень
колким. Но чтобы ты видел, насколько ты глуп, а я рассудителен, выслушай
маленький рассказ. Итак, ты должен знать, что одна вдова, молодая, красивая,
независимая и богатая, к тому же очень веселого нрава, влюбилась в юного
послушника, дюжего и сильного. Настоятель монастыря узнал об этом и однажды
сказал доброй вдове в виде братского увещевания: "Я изумлен, сеньора, и не
без причины, что такая знатная, красивая и богатая женщина, как вы,
влюбилась в человека такого ничтожного, грязного и глупого, в то время как
здесь, в монастыре, столько ученых магистров и богословов, из числа которых
ваша милость могла бы выбрать, как среди груш, и сказать: этот мне нравится,
а тот нет". Но она ответила ему весело и развязно: "Вы, милость ваша, сеньор
мой, очень ошибаетесь и мыслите на старинный лад, если думаете, что я
сделала плохой выбор. Тот, о ком вы говорите, каким бы он вам ни казался
идиотом, для того, на что он мне нужен, знает философию столько же и даже
больше, чем Аристотель". Итак, Санчо, для того, на что мне нужна Дульсинея
Тобосская, она так же годится, как и самая знатная принцесса в мире. Далеко
не верно, что все поэты действительно обладали теми дамами, которых они
прославляли под вымышленными именами. Думаешь ли ты, что Амарильисы, Филиды,
Сильвии, Дианы, Галатеи, Алиды и многие другие, которыми полны книги,
романсы, лавочки цирюльников и театры, на самом деле существа из плоти и
крови и принадлежали тем, которые их воспевают и воспевали? Конечно, нет; по
большей части поэты выдумывали их, чтобы иметь сюжет для своих стихов и
чтобы их принимали за влюбленных и за людей, способных быть ими. Поэтому и
для меня достаточно думать и верить, что добрая Алдонса Лоренсо прекрасна и
добродетельна; а что касается ее происхождения, это неважно, потому что
никто не будет наводить о том справки, чтобы поднести ей какой-нибудь
орденский знак {В некоторые орденские учреждения, например Золотого руна и
Иоанна де Калатрава, нельзя было поступить иначе, как только если получался
удовлетворительный результат после предварительного исследования
генеалогии.}, -- я же, со своей стороны, считаю ее самой возвышенной
принцессой в мире. Ты должен знать, Санчо, -- если ты этого еще не знаешь,
-- что единственно лишь две вещи преимущественно перед всеми остальными
разжигают любовь, именно: великая красота и добрая слава, и обе эти вещи
имеются в превосходной степени у Дульсинеи, потому что по красоте ни одна
женщина не сравнится с нею, а в доброй славе немногие приблизятся к ней. В
заключение же скажу: я представляю себе, что все именно так и обстоит, как я
говорю, не хуже и не лучше; и я рисую ее себе в своем воображении такой,
какой я желал бы, чтобы она была как по красоте, так и по знатности
происхождения. Ни Елена не может сравниться с нею, ни Лукреция не достигает
до нее и ни одна из знаменитых женщин древности -- греческой, варварской,
или латинской, -- и пусть каждый говорит что хочет, потому что, если меня за
это и будут порицать невежды, чуткие люди не осудят.
-- Я скажу, что вы, ваша милость, во всем правы, -- ответил Санчо, -- а
я -- осел. Не знаю только, зачем слово "осел" попалось мне на язык, потому
что в доме повешенного о веревке не следует говорить. Но давайте письмо и
прощайте, -- я ухожу.
Дон Кихот вынул записную книжку, отошел в сторону и, хорошенько
обдумывая, стал писать; а когда он кончил, он позвал Санчо и сказал, что
желал бы прочесть ему письмо, с тем чтобы он его запомнил, на случай если бы
дорогой потерял его, так как ввиду несчастной его судьбы можно всего
опасаться.
На это Санчо ответил:
-- Пусть ваша милость два или три раза напишет его здесь, в книжечке, и
даст мне ее, и я повезу ее очень бережно; но думать, что я могу запомнить
письмо, -- бессмысленно, потому что у меня память такая плохая, что я часто
забываю свое собственное имя. Тем не менее прочтите письмо, милость ваша, я
с удовольствием прослушаю его, потому что оно, наверное, не хуже печатного.
-- Одним словом, -- сказал Санчо,-- что же, собственно, ваша милость
собирается делать здесь, в этом столь отдаленном месте?
-- Разве я тебе не говорил, -- ответил Дон Кихот, -- что хочу подражать
Амадису, изображая здесь впавшего в отчаяние, безумного и неистового, в то
же время подражая и доблестному дону Ролдану {Испанское имя Роланда.}, когда
он вблизи одного источника нашел доказательства того, что прекрасная
Анхелика обесчестила себя с Медором, вследствие чего он от огорчения сошел с
ума и стал вырывать с корнями деревья, мутить воды светлых источников,
убивать пастухов, уничтожать их стада, поджигать хижины, опрокидывать дома,
волочить по земле коней, словом, совершать сотни тысяч безумств {История
любви Медора и Анжелики и безумств Роланда рассказана в 23-й и 24-й песнях
известной поэмы итальянского писателя Ариосто "Orlando Furioso" ("Неистовый
Роланд").}, достойных вечного упоминания и внесения в летописи. И хотя я не
намерен подражать Орландо, Ролдану, или Ротоланду (так как его прозывали
всеми этими тремя именами), шаг за шагом во всех безумствах, которые он
совершил, сказал или придумал, я постараюсь, как сумею, выбрать и повторить
те из них, которые мне покажутся наиболее существенными. А может быть, я
ограничусь лишь только подражанием Амадису, не совершившему никаких пагубных
безумств и одними лишь слезами своими и скорбью достигшему самой высокой
славы.
-- Мне кажется, -- сказал Санчо,-- что рыцари, которые делали нечто
подобное, были вызваны к тому и имели причины совершать эти безумства и
эпитимии; но какая причина у вашей милости сходить с ума? Какая дама
отвергла вас или какие нашли вы доказательства, что сеньора Дульсинея
Тобосская согрешила с мавром или с христианином?
-- В этом-то вся суть дела, -- сказал Дон Кихот, -- и вся красота моего
предприятия, потому что, если странствующий рыцарь сходит с ума, имея на то
причину, в чем же тут заслуга и повод для похвалы? Вся соль именно в том,
чтобы сойти с ума без причины и чтобы дать понять своей даме: если зеленое
дерево так вспыхнуло, как запылало бы сухое! Кроме того, у меня есть
достаточная для этого причина в долгой разлуке с той, которая навсегда
останется моей повелительницей, с Дульсинеей Тобосской,-- потому что, как ты
недавно слышал от пастуха Амбросио: тот, кто в разлуке, испытывает и
опасается всяких зол и бед. Итак, Санчо, друг, не теряй понапрасну времени,
советуя мне отказаться от столь редкостного, счастливого и никогда не
бывалого подражания. Я сумасшедший и останусь сумасшедшим до тех пор, пока
ты не вернешься с ответом на письмо, которое я думаю послать с тобой моей
сеньоре Дульсинее, и если ответ ее будет таким, какого заслуживает мое
постоянство, -- моему безумию и покаянию настанет конец. Если же случится
наоборот, то я в действительности сойду с ума и, будучи сумасшедшим,
перестану что-либо ощущать. Так что, как бы она ни ответила, я выйду из
неопределенности и из того затруднения, в которых ты меня оставляешь,
радуясь -- если я буду в здравом уме, -- добрым вестям, привезенным мне
тобой, или же, в случае если ты мне сообщишь худые вести, ничего не буду
чувствовать, впав в безумие. Но скажи мне, Санчо, в сохранности ли у тебя
шлем Мамбрино? Я видел, что ты поднял его с земли, когда тот неблагодарный
пытался сломать его вдребезги и не мог, из чего ясно видно, какой хороший
закал шлема.
На это Санчо ответил:
-- Клянусь Богом живым, сеньор Рыцарь Печального Образа, я не могу
сносить и терпеливо выслушивать иные вещи, которые милость ваша говорит,
потому что они наводят меня на мысль, что ваши рассказы о рыцарстве, о
завоеваниях королевств и империй, раздаче островов и всяких других милостей
и щедрот, как это в обычае у странствующих рыцарей, должно быть, одно лишь
дуновение ветра и ложь, одни лишь просто-напросто сказки и басни, или как их
там назвать. Ведь каждый, кто услышит, что ваша милость утверждает, будто
таз цирюльника -- шлем Мамбрино, и увидит, что вы остаетесь в этом
заблуждении более четырех дней, не может подумать чего-либо иного, кроме
того, что человек, который говорит и утверждает нечто подобное, наверное
распростился с своим разумом. Таз, весь смятый и изогнутый, у меня здесь в
мешке, и я везу его домой, чтобы выпрямить его и употреблять для бритья,
если Бог окажет мне такую милость и я когда-нибудь снова увижу жену и детей
своих.
-- Слушай, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- клянусь тем же Богом, Каким и
ты только что клялся, -- у тебя самый тупой ум, которым когда-либо обладал
или обладает какой бы то ни было оруженосец в мире. Возможно ли, чтобы ты,
так долго скитаясь со мной, еще не разглядел, что все относящееся к
странствующему рыцарству кажется обольщением, безумием и нелепостью и все
делается навыворот? И не потому, чтобы это действительно было так, а потому,
что среди нас, рыцарей, всегда носится толпа волшебников, которые все, что
мы делаем, преобразуют, изменяют и превращают, как им вздумается, смотря по
тому, намерены ли они благоприятствовать нам или же повредить; и вот почему
то, что ты считаешь тазом для бритья, мне кажется шлемом Мамбрино, а другому
может показаться еще чем-нибудь иным. Со стороны покровительствующего мне
мудреца было необычайно предусмотрительно устроить так, чтобы всем казалось
тазом для бритья то, что поистине и на самом деле есть шлем Мамбрино, потому
что вследствие столь высокой ценности его весь свет преследовал бы меня,
чтобы отнять его. Но теперь -- видя в нем только лишь цирюльничий таз -- они
не стремятся приобрести его, что ясно доказал тот, который захотел его
сломать и, не взяв с собой, оставил лежать на земле, а по чести, если б он
знал истинную цену его, то никогда бы не расстался с ним. Береги же его
хорошенько, друг, потому что теперь он мне не нужен, и даже мне придется
снять с себя все эти доспехи и остаться нагим, как я родился, если мне
вздумается подражать в моем искусе скорее Ролдану, чем Амадису
Разговаривая таким образом, они добрались до подножия высокой горы,
стоявшей одиноко, словно обрубленная громадная скала, среди других
окружавших ее гор. Внизу, у ее подошвы, протекал мирный ручеек, опоясывая
зеленый роскошный луг, приводивший в восхищение всякий взгляд, который
останавливался на нем. Кругом виднелось немало лесных деревьев и разных
растений и цветов, делавших эту поляну еще очаровательнее. Ее-то Рыцарь
Печального Образа и избрал для совершения своей эпитимии, и, лишь только
увидел ее, он воскликнул громким голосом, словно уже впавший в безумие:
-- Вот место, о небеса, избранное и назначенное мною, чтобы оплакивать
несчастье, в которое вы сами ввергли меня. Вот то место, где влага из моих
глаз приумножит воды маленького этого ручья, а неперестающие и глубокие
вздохи мои приведут в беспрерывное движение листву горных этих деревьев в
доказательство и свидетельство мучений, испытываемых этим истерзанным
сердцем моим! О вы, кто бы вы ни были, сельские божества, обитающие в
необитаемой этой местности! Внемлите жалобам несчастного влюбленного,
которого долгая разлука и мнимая ревность привели сюда, среди этих суровых
скал скорбеть и плакаться на жестокость сердца неблагодарной и прекрасной,
-- являющей собой совершенство и венец всякой человеческой красоты! О вы,
лесные нимфы и дриады, имеющие обыкновение жить в густой тени горных этих
дубрав! Пусть быстроногие и сладострастные сатиры, тщетно влюбленные в вас,
никогда не нарушат мирного вашего покоя, если вы поможете мне оплакивать мое
несчастье или, по крайней мере, не соскучитесь, слушая о нем! О Дульсинея
Тобосская, день моей ночи, наслаждение моих мук, путеводная звезда моей
жизни, луч моего счастья! Да ниспошлет тебе небо полной мерой все, чего бы
ты ни пожелала, если ты обратишь взоры свои на место и положение, к которому
меня привела разлука с тобой, и ответишь мне взаимностью в награду за мою
верность тебе! О уединенные деревья, которые отныне и впредь будете мне
единственным обществом в полном моем одиночестве! Подайте мне знак
сладостным шелестом ветвей ваших, что присутствие мое не причиняет вам
неудовольствия! О ты, оруженосец мой, милый товарищ во всех счастливых и
несчастных моих приключениях! Запечатлей хорошенько в своей памяти то, что я
буду делать здесь, на глазах у тебя, чтобы передать и пересказать о том
единственной виновнице всего происходящего!
Говоря это, Дон Кихот слез с Росинанта, спешно расседлал его и, ладонью
хлопнув по бокам, сказал:
-- Свободу дает тебе тот, кто сам лишен ее! О конь, столь же
прославленный заслугами своими, как и несчастный по судьбе своей, ступай
куда хочешь, потому что у тебя на лбу написано, что по быстроте с тобой не
сравнится ни Гипогриф {Гипогриф -- чудовище, рожденное от баснословного
животного -- грифа и кобылы; играет значительную роль в поэме Ариосто, так
же как и Фронтино -- светло-гнедой конь с белой полосой.}[ ]Астольфа, ни
знаменитый Фронтино, стоивший так дорого Брадаманте.
Когда Санчо увидел это, он сказал:
-- Всяческого успеха тому, кто избавил нас теперь от труда расседлывать
Серого, потому что, по чести, пришлось бы и его похлопать и наговорить и ему
разных разностей в похвалу, хотя, если б он был здесь, я не согласился бы,
чтобы кто-нибудь снял с него седло, потому что не было бы причины, так как
общие правила влюбленных и впавших в отчаяние нимало не касаются его, как и
его господина, которым я был, пока Богу было угодно. Но, право, сеньор
Рыцарь Печального Образа, если мой отъезд и безумие вашей милости -- вещь
серьезная, было бы лучше снова оседлать Росинанта, чтобы он заменил
отсутствие Серого, так как это значило бы сберечь время туда и обратно;
потому что, если мне придется идти пешком, не знаю, когда я дойду и когда
вернусь, оттого что я в самом деле плохой ходок.
-- Говорю, Санчо, пусть будет по-твоему, -- ответил Дон Кихот, --
потому что твой план кажется мне недурным, и говорю тебе, что через три дня
ты уедешь, так как я желаю, чтобы за это время ты увидел то, что я ради
Дульсинеи буду делать и говорить, и затем сообщил бы ей о том.
-- Но что же я увижу больше того, что я уже видел? -- спросил Санчо.
-- Как ты сильно ошибаешься в своем расчете, -- ответил Дон Кихот, --
теперь мне нужно еще разорвать одежду, разбросать кругом себя оружие,
удариться головой об эти скалы и совершить другие вещи в том же роде,
которые изумят тебя.
-- Ради бога, -- сказал Санчо, -- будьте осторожнее, милость ваша,
когда вы будете биться головой о скалы, потому что вы можете удариться о
такую скалу и в таком ее месте, что с первым же ударом наступит конец всей
вашей затее об эпи-тимии. Я бы держался того мнения, уж
если ваша милость находит, что биться головой необходимо и без этого
дело не может быть сделано, вы бы удовольствовались -- так как все это лишь
притворно, вымышлено и в шутку, -- вы бы удовольствовались, говорю я, биться
головой о воду или о какой-нибудь мягкий предмет, например вату, и затем
предоставьте все мне, а я скажу сеньоре Дульсинее, что ваша милость билась
головой о скалы, более твердые, чем алмаз.
-- Благодарю тебя за твое доброе намерение, друг Санчо, -- сказал Дон
Кихот, -- но ты должен знать, что все эти вещи я делаю вовсе не в шутку, а
всерьез, потому что поступать иначе -- значило бы нарушать законы рыцарства,
воспрещающие нам под страхом наказания за отступничество когда-либо говорить
ложь; а делать одну вещь вместо другой -- все то же, что лгать. Вот почему
мои удары головой о скалу должны быть настоящие, неподдельные, не
заключающие в себе ничего призрачного или фантастичного; и потому нужно,
чтобы ты оставил мне немного корпии для перевязки, раз по воле судьбы мы
лишились бальзама, потерянного нами.
-- Еще хуже было потерять осла,-- ответил Санчо, -- так как заодно с
ним потеряна и корпия, и все остальное. Но прошу вас, ваша милость, не
напоминайте мне об этом проклятом питье; только при одном напоминании о нем
у меня выворачивает всю душу, чтобы не сказать весь желудок! И еще прошу
вас, считайте, что уже прошли три дня сроку, данного мне вами, чтобы глядеть
на безумные ваши выходки, так как я готов заявить, что уже видел их и они
были уже доведены до конца, и я расскажу о них чудеса сеньоре Дульсинее.
Итак, пишите письмо и посылайте меня тотчас, потому что я чувствую сильное
желание скорей вернуться, чтобы освободить вас, милость ваша, из чистилища,
в котором оставляю вас.
-- Ты называешь это чистилищем, Санчо? -- спросил Дон Кихот. -- Лучше
бы ты называл это адом и даже хуже чем адом, если что-нибудь может быть хуже
его.
-- Тому, кто попал в ад, -- ответил Санчо, -- nula est retention
{Санчо, коверкая слова, говорит "retentio" вместо "redemptio", желая
сказать: "In inferno milla est redemptio" ("Из ада нет избавления").}, как
мне приводилось слышать.
-- Не понимаю, что значит retentio,-- сказал Дон Кихот.
-- Retentio, -- ответил Санчо, -- значит, что тот, кто в аду, никогда
оттуда не выйдет и не может выйти, а с вашей милостью будет наоборот, или же
моим пяткам придется плохо, если я возьму шпоры, чтобы торопить Росинанта.
Дайте мне лишь приехать в Тобосо и явиться перед сеньорой Дульсинеей, я
столько ей нарасскажу о дурачествах и сумасбродствах (ведь это одно и то
же), которые ваша милость делала и продолжает делать, что она у меня станет
мягче перчатки, хотя бы я ее застал жестче пробкового дерева. С ее ответом,
сладким и медовым, я по воздуху, как колдун, вернусь и освобожу вашу милость
из этого чистилища, похожего на ад, но который не есть ад, потому что вы
имеете надежду выйти из него, а этой надежды, как я уже говорил, нет у тех,
которые в аду; и я не думаю, что ваша милость станет возражать против этого.
-- Ты прав, -- сказал Рыцарь Печального Образа, -- но как нам быть,
чтобы написать письмо?
-- А также и приказ о выдаче мне ослят, -- добавил Санчо.
-- Все будет включено, -- сказал Дон Кихот, -- и было бы хорошо, раз у
нас нет бумаги, если бы мы, как это делали древние, написали письмо на
древесных листьях или на восковых дощечках, хотя найти их теперь так же
трудно, как и найти бумагу. Но сейчас мне пришло в голову, на чем можно так
же хорошо и даже еще лучше написать письмо, -- в записной книжке,
принадлежавшей Кар-денио. А ты уже позаботишься дать его переписать на
бумагу и хорошим почерком в первом же встречном селе, где ты найдешь учителя
в школе для мальчиков, а если не найдешь, то какой-нибудь пономарь перепишет
тебе письмо. Но не давай переписывать его кому-нибудь из нотариусов, которые
пишут так крючковато, что сам сатана ничего не разберет.
-- А как же насчет подписи? -- спросил Санчо.
-- В письмах Амадиса никогда не было подписи, -- ответил Дон Кихот.
-- Все это очень хорошо, -- сказал Санчо, -- но приказ на получение
ослят должен быть непременно подписан,-- если же подпись будет переписана,
скажут, что она подложная, и я останусь без ослят.
-- Приказ на ослят я подпишу здесь в этой записной книжке, и, увидав
мою подпись, племянница моя не затруднится исполнить то, о чем я пишу. Что
же касается любовного письма, ты поставишь такую подпись: "Ваш до гроба.
Рыцарь Печального Образа". И неважно, что письмо это будет написано чужой
рукой, так как, насколько я помню, Дульсинея не умеет ни писать, ни читать и
никогда в жизни не видела ни моего почерка, ни какого-либо письма моего,
потому что наша обоюдная -- моя и ее -- любовь была всегда лишь
платонической и не заходила дальше целомудренных взглядов, да и это
случалось лишь редко. И я мог бы истинно поклясться: в течение двенадцати
лет, что я ее люблю больше зеницы глаз этих, которые будут засыпаны землей,
я видел ее всего лишь четыре раза; и, быть может, в эти четыре раза она даже
не заметила, что я на нее смотрю, -- до того строго и в таком уединении ее
воспитывал отец ее, Лоренсо Корхуело, и мать, Алдонса Ногалес.
-- Та-та, -- воскликнул Санчо, -- значит, дочь Лоренсо Корхуэло и есть
сеньора Дульсинея Тобосская, иначе называемая Алдонса Лоренсо? {Среди
испанских крестьян, не имевших фамилий, было в обычае к имени детей, и
особенно девушек, приставлять имя отца.}
-- Это она и есть, -- ответил Дон Кихот, -- та самая, которая
заслуживает быть повелительницей всего мира.
-- Я хорошо ее знаю, -- сказал Санчо, -- и могу удостоверить, что она
так ловко бросает шест, как самый сильный парень в селе. Клянусь Создателем,
эта девушка чисто огонь, разбитная, удалая и такой крепыш, что всякого
странствующего или имеющего странствовать рыцаря, который выбрал бы ее себе
в сеньоры, она может вытащить за бороду из грязи. О дочь блудницы, какие у
нее здоровенные легкие и что за голос! Могу вам сказать, однажды она
поднялась на сельскую колокольню, чтобы позвать батраков, работавших на
пашне ее отца, и они, даже находясь на расстоянии более чем полмили оттуда,
услышали ее так же хорошо, как будто стояли внизу колокольни; а всего лучше
то, что она нимало не жеманна, потому что у нее чрезвычайное сходство с
придворной дамой {Игра слов: cortesana означает и "придворная дама", и "дама
легкого поведения."}; со всеми она шутит и над всем смеется и острит. Теперь
скажу, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вы, милость ваша, не только
можете и должны совершать безумства ради нее, но и с полным правом можете
прийти в отчаяние и повеситься, потому что всякий, кто узнает об этом,
скажет, что вы крайне хорошо поступили, хотя бы вас и побрал черт; и я желал
бы уже быть в дороге, только чтобы увидеть ее, потому что я давно ее не
видел, и она за это время, должно быть, очень изменилась; ведь лицо женщин
сильно портится, если они постоянно находятся в поле, на ветру и на солнце.
Должен признаться вам, ваша милость, сеньор Дон Кихот, до сих пор я был в
большом заблуждении, так как искренно и твердо верил, что сеньора Дульсинея
какая-нибудь принцесса, в которую милость ваша влюблена, или же знатная
особа, заслуживающая богатых подарков, которые ваша милость посылала ей,
например бискайца, каторжников и, верно, еще многих других, судя по тому,
что ваша милость, должно быть, одерживала и одержала немало побед в то
время, когда я еще не был у вас оруженосцем. Но, если хорошенько вникнуть в
дело, какая же польза сеньоре Алдонсе Лоренсо (я хотел сказать сеньоре
Дульсинее Тобосской) из того, что к ней являются преклонять колени
побежденные, которых ваша милость посылала и будет посылать ей? Ведь может
случиться, что в то самое время, когда они к ней явятся, она будет занята
чесанием льна или молотьбой на току, и они, увидав это, смутятся, а она
рассмеется и вышутит ваш подарок.
-- Я и прежде не раз говорил тебе, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- что
ты большой говорун, и хотя ум у тебя туповатый, ты часто умеешь быть очень
колким. Но чтобы ты видел, насколько ты глуп, а я рассудителен, выслушай
маленький рассказ. Итак, ты должен знать, что одна вдова, молодая, красивая,
независимая и богатая, к тому же очень веселого нрава, влюбилась в юного
послушника, дюжего и сильного. Настоятель монастыря узнал об этом и однажды
сказал доброй вдове в виде братского увещевания: "Я изумлен, сеньора, и не
без причины, что такая знатная, красивая и богатая женщина, как вы,
влюбилась в человека такого ничтожного, грязного и глупого, в то время как
здесь, в монастыре, столько ученых магистров и богословов, из числа которых
ваша милость могла бы выбрать, как среди груш, и сказать: этот мне нравится,
а тот нет". Но она ответила ему весело и развязно: "Вы, милость ваша, сеньор
мой, очень ошибаетесь и мыслите на старинный лад, если думаете, что я
сделала плохой выбор. Тот, о ком вы говорите, каким бы он вам ни казался
идиотом, для того, на что он мне нужен, знает философию столько же и даже
больше, чем Аристотель". Итак, Санчо, для того, на что мне нужна Дульсинея
Тобосская, она так же годится, как и самая знатная принцесса в мире. Далеко
не верно, что все поэты действительно обладали теми дамами, которых они
прославляли под вымышленными именами. Думаешь ли ты, что Амарильисы, Филиды,
Сильвии, Дианы, Галатеи, Алиды и многие другие, которыми полны книги,
романсы, лавочки цирюльников и театры, на самом деле существа из плоти и
крови и принадлежали тем, которые их воспевают и воспевали? Конечно, нет; по
большей части поэты выдумывали их, чтобы иметь сюжет для своих стихов и
чтобы их принимали за влюбленных и за людей, способных быть ими. Поэтому и
для меня достаточно думать и верить, что добрая Алдонса Лоренсо прекрасна и
добродетельна; а что касается ее происхождения, это неважно, потому что
никто не будет наводить о том справки, чтобы поднести ей какой-нибудь
орденский знак {В некоторые орденские учреждения, например Золотого руна и
Иоанна де Калатрава, нельзя было поступить иначе, как только если получался
удовлетворительный результат после предварительного исследования
генеалогии.}, -- я же, со своей стороны, считаю ее самой возвышенной
принцессой в мире. Ты должен знать, Санчо, -- если ты этого еще не знаешь,
-- что единственно лишь две вещи преимущественно перед всеми остальными
разжигают любовь, именно: великая красота и добрая слава, и обе эти вещи
имеются в превосходной степени у Дульсинеи, потому что по красоте ни одна
женщина не сравнится с нею, а в доброй славе немногие приблизятся к ней. В
заключение же скажу: я представляю себе, что все именно так и обстоит, как я
говорю, не хуже и не лучше; и я рисую ее себе в своем воображении такой,
какой я желал бы, чтобы она была как по красоте, так и по знатности
происхождения. Ни Елена не может сравниться с нею, ни Лукреция не достигает
до нее и ни одна из знаменитых женщин древности -- греческой, варварской,
или латинской, -- и пусть каждый говорит что хочет, потому что, если меня за
это и будут порицать невежды, чуткие люди не осудят.
-- Я скажу, что вы, ваша милость, во всем правы, -- ответил Санчо, -- а
я -- осел. Не знаю только, зачем слово "осел" попалось мне на язык, потому
что в доме повешенного о веревке не следует говорить. Но давайте письмо и
прощайте, -- я ухожу.
Дон Кихот вынул записную книжку, отошел в сторону и, хорошенько
обдумывая, стал писать; а когда он кончил, он позвал Санчо и сказал, что
желал бы прочесть ему письмо, с тем чтобы он его запомнил, на случай если бы
дорогой потерял его, так как ввиду несчастной его судьбы можно всего
опасаться.
На это Санчо ответил:
-- Пусть ваша милость два или три раза напишет его здесь, в книжечке, и
даст мне ее, и я повезу ее очень бережно; но думать, что я могу запомнить
письмо, -- бессмысленно, потому что у меня память такая плохая, что я часто
забываю свое собственное имя. Тем не менее прочтите письмо, милость ваша, я
с удовольствием прослушаю его, потому что оно, наверное, не хуже печатного.
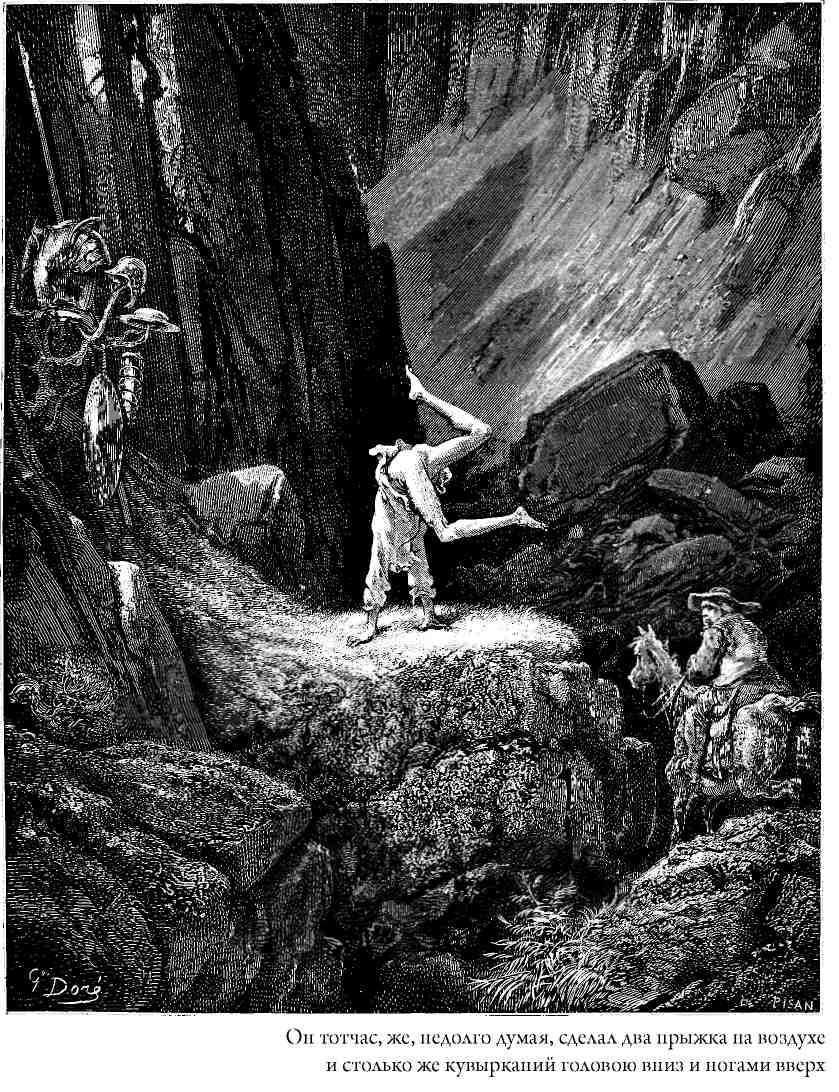 -- Слушай же, -- сказал Дон Кихот,-- вот что я написал:
ПИСЬМО ДОН КИХОТА К ДУЛЬСИНЕЕ ТОБОССКОЙ
Неограниченная и Высочайшая сеньора!
Раненный острием разлуки, пронзенный до глубины сердца, шлет тебе,
сладчайшая Дульсинея Тобосская, пожелания здоровья тот, кто сам его не
имеет. Если твоя красота пренебрегает мною, если превосходство твое не на
радость мне, если цель твоего презрения -- усилить мои муки, хотя я и
достаточно закален в страданиях, у меня не хватит сил вынести этого горя,
которое, кроме того что оно очень велико, еще и очень продолжительно. Мой
добрый оруженосец Санчо подробно сообщит тебе, о неблагодарная красавица,
возлюбленная неприятельница моя, до какого состояния я дошел ради тебя. Если
ты соблаговолишь помочь мне -- я твой, если же нет -- поступай, как тебе
угодно будет, потому что, прекратив жизнь мою, я удовлетворю этим твою
жестокость и собственное мое желание. Твой до гроба
Рыцарь Печального Образа.
-- Клянусь жизнью отца моего,-- воскликнул Санчо, прослушав письмо,--
это самая возвышенная вещь, которую я когда-либо слышал. Черт возьми, как
хорошо ваша милость говорит здесь все, что желает, и как хорошо подошла
подпись Рыцаря Печального Образа! Истинно скажу, вы, милость ваша, как есть
сам дьявол {Это похвала со стороны Санчо, так как сказать: "Sabe mas que
eldiablo" ("Вы знаете больше дьявола") -- в Испании весьма обычный оборот
речи и комплимент.}, и нет той вещи, которой вы бы не знали!
-- В моей профессии необходимо все знать, -- ответил Дон Кихот.
-- А теперь, -- сказал Санчо, -- пусть милость ваша напишет на другом
листке приказ о выдаче мне трех ослят, и подпишитесь так, чтоб можно было
сейчас узнать вашу подпись.
-- С удовольствием, -- ответил Дон Кихот и, написав записку, прочел ее,
а в ней заключалось следующее:
"Прошу вас, сеньора племянница, выдать подателю этой ассигновки,
оруженосцу моему Санчо Пансе, трех ослят из пяти, оставленных мною дома под
вашим присмотром; каковые три осленка приказываю вам выдать и уплатить ими
за стольких же других, полностью здесь полученных мною от него; а затем наши
счеты по этому письму -- получив от него расписку -- прошу считать
погашенными. Дано в ущельях Сьерра-Морены двадцать второго августа текущего
года".
-- Хорошо, -- сказал Санчо, -- а теперь, милость ваша, подпишитесь.
-- Мне не надо подписываться, -- ответил Дон Кихот, -- я только
поставлю свой росчерк {Rubrica -- росчерк, довершавший подпись в Испании;
ему придавали большое значение, предполагая, что его труднее подделать, чем
саму подпись, и потому он скреплял последнюю. Рубрика сама по себе считалась
и перед судом достаточной подписью под всякими документами.}, а это
равняется подписи, и было бы достаточно не только для трех, но и для трехсот
ослят.
-- Вполне полагаюсь на вашу милость, -- сказал Санчо. -- Отпустите меня
седлать Росинанта и приготовьтесь дать мне свое благословение, так как я
намерен ехать тотчас же, не глядя на безумные выходки, которые ваша милость
собирается проделать; а скажу я сеньоре Дульсинее, что видел их столько, что
ей большего и желать нельзя.
-- Но, по крайней мере, я хотел бы, Санчо, так как это необходимо, -- я
хотел бы, говорю я, чтобы ты увидел меня обнаженным и проделывающим дюжину
или две безумств, на что мне потребуется менее получаса; потому что, увидев
их собственными глазами, ты уже смело можешь клясться и относительно
остальных, которые пожелал бы прибавить, -- и, будь уверен, ты не наскажешь
их столько, сколько я намерен проделать их.
-- Ради бога, сеньор мой, не показывайтесь мне, ваша милость,
обнаженным, потому что я почувствую жалость и не смогу удержаться, чтоб не
разреветься, а голова у меня еще очень тяжела от слез, пролитых мною в
прошлую ночь из-за Серого, и я теперь больше не в силах плакать. Если же
ваша милость непременно желает, чтобы я видел некоторые из ваших безумств,
проделайте их одетый, но покороче и такие, которые вам покажутся самыми
уместными. Тем более что для меня ничего этого не требуется и, как я раньше
говорил, это только оттягивает мое возвращение с такими известиями, которых
ваша милость и желает, и заслуживает. А нет,-- пусть сеньора Дульсинея
остерегается, потому что, если она не ответит, как следует, -- торжественно
клянусь чем только могу, что вырву у нее ответ из ее внутренностей пинками и
тумаками; невозможно ведь стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий
рыцарь, как ваша милость, сошел бы с ума ни за что ни про что из-за
какой-то... Пусть сеньора Дульсинея не заставит меня договорить из-за какой,
не то, клянусь Богом, я ей сразу все выпалю прямо в лицо, да целыми
дюжинами, хотя бы и вся торговля пропала. На это я мастер; она меня плохо
знает, так как, ей-богу, если б знала меня, то стояла бы в струнке передо
мной.
-- Клянусь, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- ты, по-видимому, в здравом
уме не более, чем я.
-- Я не такой сумасшедший, как вы -- ответил Санчо, -- но вспыльчивее
вас. Однако, оставив это в стороне, скажите, что же вы будете есть, милость
ваша, пока я не вернусь? Будете ли вы выходить на дорогу, как Карденио, и
отнимать съестные припасы у пастухов?
-- Пусть эта забота не тревожит тебя, -- ответил Дон Кихот, -- потому
что, даже если б у меня и было что есть, я не ел бы ничего другого, кроме
трав и плодов, которыми этот луг и эти деревья могут снабдить меня, так как
вся красота моего предприятия состоит в том, чтобы не есть и подвергать себя
и другим суровым лишениям.
На это Санчо ответил:
-- Итак, прощайте; но знаете ли, ваша милость, чего я боюсь? Что на
возвратном пути не сумею отыскать место, где теперь оставляю вас: такая тут
глушь.
-- Запомни хорошенько все приметы, а я постараюсь не удаляться из этих
окрестностей, -- сказал Дон Кихот, -- и даже дам себе труд взобраться на
самые высокие утесы, чтобы смотреть оттуда, не увижу ли я тебя, когда ты
будешь возвращаться. Впрочем, самое верное средство, чтобы ты не заблудился
и разыскал меня, это -- срезать несколько ветвей дрока, растущего здесь в
изобилии, и разбрасывать его там и тут на своем пути, пока не выберешься на
равнину: эти ветки дрока послужат тебе межевыми вехами и приметами, чтобы ты
отыскал меня, когда вернешься, подражая этим клубку Тезея в лабиринте.
-- Я так и сделаю, -- ответил Санчо Панса и, срезав несколько ветвей
дрока, попросил благословения своего сеньора, и не без обильных слез с той и
другой стороны, они простились. Усевшись верхом на Росинанта, -- которого
Дон Кихот убедительно просил Санчо беречь и заботиться о нем, как о самом
себе, -- он поехал по направлению к равнине, бросая время от времени по
дороге ветки дрока, как ему советовал его господин. Так он и уехал, несмотря
на то что Дон Кихот все еще настаивал, чтобы он, по крайней мере, посмотрел
хоть на два его безумства.
Но не отъехал Санчо и ста шагов, как вернулся и сказал:
-- Мне кажется, сеньор, милость ваша говорила совершенно верно: для
того чтобы я мог, не обременяя своей совести, поклясться, что видел,
как вы проделывали безумства, мне бы следовало посмотреть по крайней мере на
одно из них, хотя я уже видел одно очень большое, -- то, что милость ваша
остается здесь.
-- Ведь говорил же я тебе, -- сказал Дон Кихот, -- подожди, Санчо, и
скорей, чем можно прочесть "Credo", я проделаю несколько безумств.
И, поспешно сняв с себя панталоны, он остался в одной лишь рубашке на
голом теле, и тотчас же, недолго думая, сделал два прыжка на воздухе и
столько же кувырканий головою вниз и ногами вверх, раскрыв при этом такие
вещи, что Санчо, чтобы не видеть их вторично, повернул Росинанта, вполне
удовлетворенный и довольный тем, что может теперь клясться, что его господин
сумасшедший. Итак, мы предоставим ему ехать своей дорогой до его
возвращения, а оно не заставило себя долго ждать.
-- Слушай же, -- сказал Дон Кихот,-- вот что я написал:
ПИСЬМО ДОН КИХОТА К ДУЛЬСИНЕЕ ТОБОССКОЙ
Неограниченная и Высочайшая сеньора!
Раненный острием разлуки, пронзенный до глубины сердца, шлет тебе,
сладчайшая Дульсинея Тобосская, пожелания здоровья тот, кто сам его не
имеет. Если твоя красота пренебрегает мною, если превосходство твое не на
радость мне, если цель твоего презрения -- усилить мои муки, хотя я и
достаточно закален в страданиях, у меня не хватит сил вынести этого горя,
которое, кроме того что оно очень велико, еще и очень продолжительно. Мой
добрый оруженосец Санчо подробно сообщит тебе, о неблагодарная красавица,
возлюбленная неприятельница моя, до какого состояния я дошел ради тебя. Если
ты соблаговолишь помочь мне -- я твой, если же нет -- поступай, как тебе
угодно будет, потому что, прекратив жизнь мою, я удовлетворю этим твою
жестокость и собственное мое желание. Твой до гроба
Рыцарь Печального Образа.
-- Клянусь жизнью отца моего,-- воскликнул Санчо, прослушав письмо,--
это самая возвышенная вещь, которую я когда-либо слышал. Черт возьми, как
хорошо ваша милость говорит здесь все, что желает, и как хорошо подошла
подпись Рыцаря Печального Образа! Истинно скажу, вы, милость ваша, как есть
сам дьявол {Это похвала со стороны Санчо, так как сказать: "Sabe mas que
eldiablo" ("Вы знаете больше дьявола") -- в Испании весьма обычный оборот
речи и комплимент.}, и нет той вещи, которой вы бы не знали!
-- В моей профессии необходимо все знать, -- ответил Дон Кихот.
-- А теперь, -- сказал Санчо, -- пусть милость ваша напишет на другом
листке приказ о выдаче мне трех ослят, и подпишитесь так, чтоб можно было
сейчас узнать вашу подпись.
-- С удовольствием, -- ответил Дон Кихот и, написав записку, прочел ее,
а в ней заключалось следующее:
"Прошу вас, сеньора племянница, выдать подателю этой ассигновки,
оруженосцу моему Санчо Пансе, трех ослят из пяти, оставленных мною дома под
вашим присмотром; каковые три осленка приказываю вам выдать и уплатить ими
за стольких же других, полностью здесь полученных мною от него; а затем наши
счеты по этому письму -- получив от него расписку -- прошу считать
погашенными. Дано в ущельях Сьерра-Морены двадцать второго августа текущего
года".
-- Хорошо, -- сказал Санчо, -- а теперь, милость ваша, подпишитесь.
-- Мне не надо подписываться, -- ответил Дон Кихот, -- я только
поставлю свой росчерк {Rubrica -- росчерк, довершавший подпись в Испании;
ему придавали большое значение, предполагая, что его труднее подделать, чем
саму подпись, и потому он скреплял последнюю. Рубрика сама по себе считалась
и перед судом достаточной подписью под всякими документами.}, а это
равняется подписи, и было бы достаточно не только для трех, но и для трехсот
ослят.
-- Вполне полагаюсь на вашу милость, -- сказал Санчо. -- Отпустите меня
седлать Росинанта и приготовьтесь дать мне свое благословение, так как я
намерен ехать тотчас же, не глядя на безумные выходки, которые ваша милость
собирается проделать; а скажу я сеньоре Дульсинее, что видел их столько, что
ей большего и желать нельзя.
-- Но, по крайней мере, я хотел бы, Санчо, так как это необходимо, -- я
хотел бы, говорю я, чтобы ты увидел меня обнаженным и проделывающим дюжину
или две безумств, на что мне потребуется менее получаса; потому что, увидев
их собственными глазами, ты уже смело можешь клясться и относительно
остальных, которые пожелал бы прибавить, -- и, будь уверен, ты не наскажешь
их столько, сколько я намерен проделать их.
-- Ради бога, сеньор мой, не показывайтесь мне, ваша милость,
обнаженным, потому что я почувствую жалость и не смогу удержаться, чтоб не
разреветься, а голова у меня еще очень тяжела от слез, пролитых мною в
прошлую ночь из-за Серого, и я теперь больше не в силах плакать. Если же
ваша милость непременно желает, чтобы я видел некоторые из ваших безумств,
проделайте их одетый, но покороче и такие, которые вам покажутся самыми
уместными. Тем более что для меня ничего этого не требуется и, как я раньше
говорил, это только оттягивает мое возвращение с такими известиями, которых
ваша милость и желает, и заслуживает. А нет,-- пусть сеньора Дульсинея
остерегается, потому что, если она не ответит, как следует, -- торжественно
клянусь чем только могу, что вырву у нее ответ из ее внутренностей пинками и
тумаками; невозможно ведь стерпеть, чтобы такой знаменитый странствующий
рыцарь, как ваша милость, сошел бы с ума ни за что ни про что из-за
какой-то... Пусть сеньора Дульсинея не заставит меня договорить из-за какой,
не то, клянусь Богом, я ей сразу все выпалю прямо в лицо, да целыми
дюжинами, хотя бы и вся торговля пропала. На это я мастер; она меня плохо
знает, так как, ей-богу, если б знала меня, то стояла бы в струнке передо
мной.
-- Клянусь, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- ты, по-видимому, в здравом
уме не более, чем я.
-- Я не такой сумасшедший, как вы -- ответил Санчо, -- но вспыльчивее
вас. Однако, оставив это в стороне, скажите, что же вы будете есть, милость
ваша, пока я не вернусь? Будете ли вы выходить на дорогу, как Карденио, и
отнимать съестные припасы у пастухов?
-- Пусть эта забота не тревожит тебя, -- ответил Дон Кихот, -- потому
что, даже если б у меня и было что есть, я не ел бы ничего другого, кроме
трав и плодов, которыми этот луг и эти деревья могут снабдить меня, так как
вся красота моего предприятия состоит в том, чтобы не есть и подвергать себя
и другим суровым лишениям.
На это Санчо ответил:
-- Итак, прощайте; но знаете ли, ваша милость, чего я боюсь? Что на
возвратном пути не сумею отыскать место, где теперь оставляю вас: такая тут
глушь.
-- Запомни хорошенько все приметы, а я постараюсь не удаляться из этих
окрестностей, -- сказал Дон Кихот, -- и даже дам себе труд взобраться на
самые высокие утесы, чтобы смотреть оттуда, не увижу ли я тебя, когда ты
будешь возвращаться. Впрочем, самое верное средство, чтобы ты не заблудился
и разыскал меня, это -- срезать несколько ветвей дрока, растущего здесь в
изобилии, и разбрасывать его там и тут на своем пути, пока не выберешься на
равнину: эти ветки дрока послужат тебе межевыми вехами и приметами, чтобы ты
отыскал меня, когда вернешься, подражая этим клубку Тезея в лабиринте.
-- Я так и сделаю, -- ответил Санчо Панса и, срезав несколько ветвей
дрока, попросил благословения своего сеньора, и не без обильных слез с той и
другой стороны, они простились. Усевшись верхом на Росинанта, -- которого
Дон Кихот убедительно просил Санчо беречь и заботиться о нем, как о самом
себе, -- он поехал по направлению к равнине, бросая время от времени по
дороге ветки дрока, как ему советовал его господин. Так он и уехал, несмотря
на то что Дон Кихот все еще настаивал, чтобы он, по крайней мере, посмотрел
хоть на два его безумства.
Но не отъехал Санчо и ста шагов, как вернулся и сказал:
-- Мне кажется, сеньор, милость ваша говорила совершенно верно: для
того чтобы я мог, не обременяя своей совести, поклясться, что видел,
как вы проделывали безумства, мне бы следовало посмотреть по крайней мере на
одно из них, хотя я уже видел одно очень большое, -- то, что милость ваша
остается здесь.
-- Ведь говорил же я тебе, -- сказал Дон Кихот, -- подожди, Санчо, и
скорей, чем можно прочесть "Credo", я проделаю несколько безумств.
И, поспешно сняв с себя панталоны, он остался в одной лишь рубашке на
голом теле, и тотчас же, недолго думая, сделал два прыжка на воздухе и
столько же кувырканий головою вниз и ногами вверх, раскрыв при этом такие
вещи, что Санчо, чтобы не видеть их вторично, повернул Росинанта, вполне
удовлетворенный и довольный тем, что может теперь клясться, что его господин
сумасшедший. Итак, мы предоставим ему ехать своей дорогой до его
возвращения, а оно не заставило себя долго ждать.

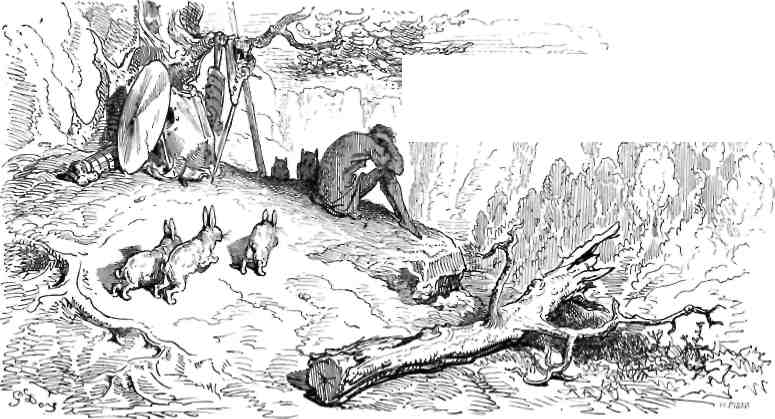 Возвращаясь к рассказу о том, что делал Рыцарь Печального Образа, когда
остался один, история повествует: лишь только Дон Кихот, полуобнаженный,
раздетый снизу и одетый сверху, кончил свои кувыркания и прыжки и увидел,
что Санчо уехал, не желая присутствовать при дальнейших его дурачествах, он
взобрался на вершину высокой скалы и здесь стал снова размышлять о том, о
чем он уже часто думал, не приходя, однако, к окончательному решению, а
именно: что для него было бы лучше и более подходящим делом, -- подражать ли
Ролдану в буйных его неистовствах, или же Амадису в его припадках грусти?
Рассуждая сам с собой, он говорил:
-- Если Ролдан был таким превосходным и доблестным рыцарем, как все
говорят, в этом нет ничего удивительного, потому что он был очарован, и
никто не мог убить его иначе, как только проткнув ему подошву ноги грошовой
булавкой, а он всегда носил башмаки с семью железными подошвами. Но хитрости
его не помогли ему против Бернардо дель Карпио, который, зная о них, задушил
его в своих объятиях в долине Ронсеваля. Оставим, однако, в стороне
рассуждение о его храбрости и перейдем к потере им рассудка, который он, как
достоверно известно, действительно потерял, убедившись из доказательств,
найденных им у источника, и из сведений, сообщенных ему пастухом, что
Анхелика провела там две или более сиесты в объятьях Медора -- юного,
курчавого мавра, пажа Аграманта. Если Ролдан поверил, что это правда и что
его дама так опозорила его, ничего особенного нет в том, что он сошел от
этого с ума. Но я, -- как же я могу подражать ему в его неистовствах, если у
меня нет такого же повода, как у него, проделывать их? Ведь моя Дульсинея
Тобосская -- я готов клясться в том, -- не видела во всю свою жизнь ни
одного мавра таким, каков он на самом деле, в национальной его одежде, и она
и поныне также непорочна, как и мать, которая ее родила; и я нанес бы ей
явное оскорбление, если б я, вообразив о ней что-либо иное, сошел бы с ума,
одержимый тем же родом помешательства, как и неистовый Ролдан. С другой
стороны, я вижу, что Амадис Галльский, не потеряв рассудка и не совершив
никаких неистовств, приобрел в качестве влюбленного большую славу, чем
кто-либо другой; а сделал он, судя по тому, что повествуется в его истории,
следующее: отверженный сеньорой Орианой, которая приказала ему не являться
ей на глаза, пока она не разрешит ему этого, он удалился на Пенья Побре и
там в обществе отшельника наплакался досыта, пока небо не послало ему
утешения среди его великой тревоги и беды. А если это правда -- как оно
действительно и есть, -- зачем я стану теперь раздеваться донага или
вырывать с корнями эти деревья, не сделавшие мне никакого зла, и для чего
стану мутить светлые воды этих ручейков, которые напоят меня, когда я
почувствую жажду? Да здравствует же память Амадиса, и пусть подражает ему во
всем, в чем может, Дон Кихот Ламанчский, про которого скажут то же, что было
сказано и о том, другом {Намек на Фаэтона, о котором это было сказано в
"Превращениях" Овидия наядами реки По в надгробной надписи.}: если он и не
совершил великих дел, то умер, пытаясь совершить их; и хотя моя Дульсинея
Тобосская не пренебрегла мною и не отвергла меня, довольно и того, как я уже
говорил, что я в разлуке с нею. Итак, скорей к делу: придите мне на память
подвиги Амадиса и научите меня, как мне начать подражать вам! Но я знаю, что
он больше всего молился и поручал себя Богу. Однако как мне быть с четками?
Их у меня нет.
Тогда он придумал способ смастерить четки: он оторвал большую полосу
холста от подола рубашки и связал из нее одиннадцать узлов, из которых один
узел был толще других; и это-то и служило ему четками на все время, которое
он там оставался, и на них он прочитал миллион "Ave Maria". Очень смущало
его и то, что он не находил там отшельника, который бы его исповедовал и мог
бы утешать его. Итак, он проводил время, гуляя по лужку, вырезая на коре
деревьев и вписывая в мелком песку немало стихов, все соответствующие его
грустному настроению, а некоторые из них, восхваляющие Дульсинею Тобосскую.
Но из этих стихотворений сохранились, и их можно было разобрать после того,
как отыскали Дон Кихота, лишь только следующие:
Деревья, травы и кусты,
Что здесь так стройно предо мною
Сплелися дружною семьею,
Полны могучей красоты,--
Я к вам сюда пришел с мольбою!
Прошу у вас участья я.
Мне душу горе угнетает,--
Но пусть оно вас не смущает.
В слезах здесь Дон Кихот, друзья,
О Дульсинее вспоминает
Тобосской.
Вот место то, в тиши лесной,
Где он неведомою силой
К разлуке вынужден постылой,
Грустит вдали от взоров той,
Что вечно будет сердцу милой.
Любовь тревогу лишь несет,
И очень злобно с ним играет,--
Бочонки слез здесь проливает
И беспрерывно Дон Кихот
О Дульсинее вспоминает
Тобосской.
Средь неприступных, диких скал
Найти он думал приключенья,
А только горе, и волненья,
И дни невзгоды он узнал
И проклинал свои мученья.
Амур его тут плетью бьет,
Он с ним не шутит, не играет...
В затылок больно ударяет;
И, весь в слезах, здесь Дон Кихот
О Дульсинее вспоминает
Тобосской.
Немало смеха возбудила в нашедших упомянутые стихи прибавка Тобосской к
имени Дульсинеи, потому что они догадывались, что, должно быть, Дон Кихот
воображал, если он назовет Дульсинею, не добавив "Тобосской", то не поймут
куплета; так оно и было, как он потом сам признался. Много еще других
стихотворений сочинил он, но -- как было уже сказано -- только эти три
строфы можно было разобрать, и только они были найдены в целости. Итак,
сочиняя стихи, вздыхая, взывая к лесным фавнам и сатирам, к нимфам вод и к
влажному, печальному эхо, прося их отозваться, утешить и выслушать его,
проводил Дон Кихот время, а также и в поисках трав, которыми он мог бы
поддерживать свое существование до возвращения Санчо. И если б последний
явился не через три дня, как это случилось, а через три недели, то Рыцарь
Печального Образа был бы так обезображен, что родившая его мать не узнала бы
его.
Однако оставим его вздыхать и сочинять стихи и расскажем лучше, что
случилось с Санчо Пансой во время посольства его. Выехав на большую дорогу,
он повернул по направлению к Тобосо и на следующий день добрался до
постоялого двора, где с ним приключилось несчастье с подбрасыванием на
одеяле. Едва заприметил он постоялый двор, как уже ему представилось, будто
он снова взлетает на воздух, и он не пожелал заезжать туда, хотя как раз
было время, когда он мог и должен был бы это сделать, потому что наступила
обеденная пора и ему очень хотелось отведать чего-нибудь горячего, так как
он уже столько дней сидел на одной лишь холодной пище. Эта потребность
заставила его подъехать ближе к постоялому двору, хотя он все еще был в
нерешительности, заезжать ли ему туда или нет. Как раз в это время из
постоялого двора вышли два человека, которые тотчас же узнали его, и один
сказал другому:
-- Посмотрите, сеньор лисенсиат, этот вот всадник не Санчо ли Панса,
который -- как нам говорила ключница нашего искателя приключений -- уехал
вместе с ее господином в качестве оруженосца?
-- Да, -- ответил лисенсиат, -- это он и есть, а под ним лошадь нашего
Дон Кихота.
Они не могли не узнать его, потому что это были священник и цирюльник
из его местечка, -- те самые, которые произвели суд и следствие над книгами
Дон Кихота и присудили их к сожжению. Окончательно убедившись в том, что это
Санчо Панса и Росинант, они подошли к нему, желая разузнать о Дон Кихоте, и
священник окликнул его по имени, говоря:
-- Друг Санчо Панса, где же остался господин ваш?
Санчо Панса тотчас же узнал их, но решил скрыть от них местопребывание
и состояние своего господина; итак, он ответил, что его господин занят в
одном месте одним делом, очень для него важным, а каким, он не может им
сказать, хотя бы за это лишился и обоих своих глаз.
-- Нет, нет, Санчо Панса, -- сказал цирюльник, -- если вы нам не
укажете, где ваш господин, мы подумаем -- как мы уже сейчас думаем, -- что
вы его убили и ограбили, потому что вы едете верхом на его лошади. Говорю
вам, немедля доставьте нам владельца этой лошади, или же вам придется иметь
дело с нами.
-- Незачем вам угрожать мне, потому что я не такой человек, чтобы
грабить или убивать кого бы то ни было, -- сказал Санчо. -- Пусть каждого
убивает его судьба или Бог, создавший его. Мой господин остался там, в этих
горах, где он, к великому своему удовольствию, исполняет наложенную им на
себя эпитимию.
И тотчас же Санчо, наскоро и не останавливаясь рассказал им о
состоянии, в котором он оставил своего господина, и о приключениях,
случившихся с ними, и о том, что он послан отвезти письмо сеньоре Дульсинее
Тобосской, -- а она дочь Лоренсо Корхуэло, в которую Дон Кихот влюблен по
уши.
Оба -- и священник и цирюльник -- были крайне изумлены всем тем, что
рассказал Санчо Панса, и, хотя они уже знали о помешательстве Дон Кихота и о
том, какого оно рода, тем не менее каждый раз, что слышали о нем, не могли
не изумляться снова; они попросили Санчо Пансу показать им письмо, которое
он вез сеньоре Дульсинее Тобосской. Санчо сказал им, что письмо это написано
в записной книжечке и что рыцарь велел дать переписать его на бумагу в
первом встречном селе. На это священник сказал, чтобы он передал ему письмо
и он перепишет его сам отличнейшим почерком. Санчо Панса сунул руку за
пазуху, отыскивая записную книжечку, но не нашел ее и не мог бы найти, если
б искал до сегодняшнего дня, так как она осталась у Дон Кихота, который не
отдал ее ему, а он забыл спросить ее. Видя, что он не находит книжки, Санчо
побледнел как смерть и стал поспешно ощупывать себе все тело; окончательно
убедившись, что ее действительно нет, он без дальнейшего промедления схватил
себя обеими руками за бороду и вырвал чуть ни половину ее, а затем быстро и
не останавливаясь нанес с полдюжины ударов себе по лицу и по носу, так что у
него брызнула кровь.
Увидав это, священник и цирюльник спросили его, что такое случилось с
ним, что он так жестоко себя казнит.
-- Что случилось! -- воскликнул Санчо. -- Случилось то, что в один миг
я потерял трех ослят, из которых каждый стоил целого замка.
-- Как так? -- спросил цирюльник.
-- Я потерял записную книжку, -- ответил Санчо, -- где было письмо к
Дульсинее, а также ассигновка, подписанная моим господином, в которой он
приказывал своей племяннице выдать мне трех ослят из числа четырех или пяти
бывших у него дома. -- И затем Санчо рассказал о пропаже Серого.
Священник утешил его, говоря, что, как только он найдет Дон Кихота, то
позаботится, чтобы он восстановил ассигновку и написал бы еще раз вексель,
но на листе бумаги, как это принято и в обычае, потому что векселя,
написанные в записных книжках, никогда не принимаются и по ним не
уплачивают. Это утешило Санчо, и он сказал: если так, то потеря письма
Дульсинее не очень его огорчает, потому что он знает его почти наизусть и
они с его слов могут записать его когда и где угодно.
-- Так перескажите его нам, Санчо,-- предложил цирюльник, -- а потом мы
его и напишем.
Санчо Панса стал чесать у себя в голове, чтобы припомнить письмо,
переступая с ноги на ногу, поглядывая то на землю, то на небо, и, обкусав
себе половину ногтя на одном пальце и продержав достаточно долго в ожидании
двух своих слушателей, наконец, после очень большой паузы, сказал: --
Клянусь Богом, сеньор лисенсиат, пусть черти побрали бы все, что я помню из
письма, хотя оно начиналось так: "Возвышенная и ограниченная сеньора"...
-- Верно, там не сказано "ограниченная", -- заметил цирюльник, -- а
стояло неограниченная или властительная сеньора.
-- Так оно и есть, -- согласился Санчо. -- Потом, если не ошибаюсь,
следовало, если не ошибаюсь: "Лишенный сна и раненый целует руки вашей
милости, неблагодарная и безвестная красота", и я не знаю, что он еще там
говорил о здоровье и болезни, которые посылает ей,-- и он в таком же роде
продолжал, пока не кончил словами: "Твой до гроба рыцарь Печального Образа".
Немало забавила священника и цирюльника прекрасная память Санчо Пансы,
и, очень расхваливая ее, они попросили его еще два раза повторить письмо,
чтобы и они могли запомнить его наизусть и, в свое время, записать. Три раза
повторил Санчо письмо и столько же раз повторил три тысячи других
нелепостей. Затем он рассказал и о прочих делах своего господина, но не
проронил ни слова о подбрасывании его на одеяле, случившемся с ним на этом
постоялом дворе, в который ему так не хотелось заезжать. Он сообщил им
также, что его господин -- лишь только он принесет ему благосклонный ответ
от сеньоры Дульсинеи Тобосской -- тотчас же примет все меры, чтобы сделаться
императором или по меньшей мере монархом, -- они так между собой условились;
сделаться же им рыцарю очень легко, приняв во внимание личную его храбрость
и силу руки его. Когда все это случится и его господин будет королем, он
женит его, Санчо, потому что к тому времени он окажется вдовцом, -- иначе
быть не может, -- и в жены он даст ему одну из девушек императрицы,
наследницу больших и богатых владений на материке, без островов и островков,
которых он теперь вовсе не желает. Санчо говорил это так спокойно, утирая
себе время от времени нос, и с таким полным отсутствием здравого смысла, что
священник и цирюльник снова пришли в изумление, думая, до чего сильно должно
было быть безумие Дон Кихота, если оно заразило мозги и этого бедного
человека. Они не пожелали давать себе труд вывести его из заблуждения, в
котором он находился, рассудив, что, так как совесть его от этого нимало не
пострадает, лучше оставить его в этом заблуждении, а для них будет забавнее
слушать его нелепости. Итак, они ему сказали, чтобы он молил Бога о здравии
своего господина, потому что очень вероятно и возможно, что с течением
времени его господин, как он говорит, сделается императором, или по меньшей
мере архиепископом, или другим, столь же почетным, сановником. На это Санчо
ответил:
-- Сеньоры, если бы судьба повернула дело так, что господину моему
пришло бы на ум сделаться не императором, а архиепископом, -- хотелось бы
мне знать, чем же странствующие архиепископы имеют обыкновение награждать
своих оруженосцев?
-- Они награждают их, -- ответил священник, -- каким-нибудь богатым
приходом или же местом ризничего с хорошим годовым окладом, не считая
пожертвований на церковь, которые вычисляются обыкновенно в столько же.
-- Но для этого, -- ответил Санчо,-- нужно, чтобы оруженосец
архиепископа не был женат или по крайней мере умел бы прислуживать за
обедней. Если же это так, горе мне, несчастному, потому что я и женат, и не
знаю первой буквы азбуки. Что станется со мной, если моему господину вдруг
вздумается сделаться архиепископом, а не императором, как это принято и в
обычае у странствующих рыцарей?
-- Не тревожьтесь, Санчо, друг,-- сказал цирюльник, -- мы попросим
вашего господина, посоветуем ему, и даже поставим на вид, как вопрос
совести, чтобы он сделался императором, а не архиепископом; да ему это и
будет легче по той причине, что у него больше храбрости, чем учености.
-- Так оно и мне казалось, -- ответил Санчо, -- хотя могу сказать, что
господин мой искусен во всем. Я же, со своей стороны, думаю вот что делать:
просить Господа Бога направить его туда, где он мог бы лучше всего
благоприятствовать себе самому, а мне оказать побольше милостей.
-- Вы говорите, как умный человек, -- сказал священник, -- и будете
поступать, как добрый христианин. Но теперь следует нам прежде всего
подумать, как освободить вашего господина от бесполезной эпитимии, которую
он, по вашим словам, совершает. А чтобы обсудить способ, как это сделать, и
поесть, потому что уже пора, -- хорошо было бы зайти нам на постоялый двор.
Санчо ответил, чтобы они шли туда, а он подождет их здесь, и потом
объяснит причину, отчего он не идет с ними и не следует ему идти; но он
просит их принести ему сюда чего-нибудь поесть, только горячего, также и
ячменя для Росинанта. Они пошли на постоялый двор, оставив его, и немного
спустя цирюльник принес ему поесть. Затем, после того как они долго
обдумывали вдвоем, как могли бы они достигнуть того, чего желали, священнику
пришла в голову мысль, вполне соответствующая причудам Дон Кихота и их
намерению. Он сказал цирюльнику, что придумал вот что: сам он переоденется
странствующей девушкой, а цирюльник пусть постарается, как сумеет,
изобразить оруженосца. В таком виде они отправятся туда, где находится Дон
Кихот, и священник, разыгрывая роль угнетенной и оскорбленной девушки,
попросит его о милости, в которой он, как доблестный странствующий рыцарь,
не может отказать. Милость же, о которой он попросит его, будет заключаться
в том, чтобы Дон Кихот следовал за девушкой туда, куда она его поведет для
исправления зла, нанесенного ей вероломным рыцарем; в то же время она
попросит его не требовать, чтобы она сняла с лица маску, и не расспрашивать
о ее делах, пока он не восстановит справедливости, нарушенной ее коварным
обидчиком. Священник нимало не сомневался, что Дон Кихот согласится
исполнить все, о чем бы его ни попросили под этим предлогом, и, таким
образом, им удастся извлечь его оттуда и доставить в его село, где они
попытаются найти какое-нибудь средство для излечения странного его
умопомешательства.
Возвращаясь к рассказу о том, что делал Рыцарь Печального Образа, когда
остался один, история повествует: лишь только Дон Кихот, полуобнаженный,
раздетый снизу и одетый сверху, кончил свои кувыркания и прыжки и увидел,
что Санчо уехал, не желая присутствовать при дальнейших его дурачествах, он
взобрался на вершину высокой скалы и здесь стал снова размышлять о том, о
чем он уже часто думал, не приходя, однако, к окончательному решению, а
именно: что для него было бы лучше и более подходящим делом, -- подражать ли
Ролдану в буйных его неистовствах, или же Амадису в его припадках грусти?
Рассуждая сам с собой, он говорил:
-- Если Ролдан был таким превосходным и доблестным рыцарем, как все
говорят, в этом нет ничего удивительного, потому что он был очарован, и
никто не мог убить его иначе, как только проткнув ему подошву ноги грошовой
булавкой, а он всегда носил башмаки с семью железными подошвами. Но хитрости
его не помогли ему против Бернардо дель Карпио, который, зная о них, задушил
его в своих объятиях в долине Ронсеваля. Оставим, однако, в стороне
рассуждение о его храбрости и перейдем к потере им рассудка, который он, как
достоверно известно, действительно потерял, убедившись из доказательств,
найденных им у источника, и из сведений, сообщенных ему пастухом, что
Анхелика провела там две или более сиесты в объятьях Медора -- юного,
курчавого мавра, пажа Аграманта. Если Ролдан поверил, что это правда и что
его дама так опозорила его, ничего особенного нет в том, что он сошел от
этого с ума. Но я, -- как же я могу подражать ему в его неистовствах, если у
меня нет такого же повода, как у него, проделывать их? Ведь моя Дульсинея
Тобосская -- я готов клясться в том, -- не видела во всю свою жизнь ни
одного мавра таким, каков он на самом деле, в национальной его одежде, и она
и поныне также непорочна, как и мать, которая ее родила; и я нанес бы ей
явное оскорбление, если б я, вообразив о ней что-либо иное, сошел бы с ума,
одержимый тем же родом помешательства, как и неистовый Ролдан. С другой
стороны, я вижу, что Амадис Галльский, не потеряв рассудка и не совершив
никаких неистовств, приобрел в качестве влюбленного большую славу, чем
кто-либо другой; а сделал он, судя по тому, что повествуется в его истории,
следующее: отверженный сеньорой Орианой, которая приказала ему не являться
ей на глаза, пока она не разрешит ему этого, он удалился на Пенья Побре и
там в обществе отшельника наплакался досыта, пока небо не послало ему
утешения среди его великой тревоги и беды. А если это правда -- как оно
действительно и есть, -- зачем я стану теперь раздеваться донага или
вырывать с корнями эти деревья, не сделавшие мне никакого зла, и для чего
стану мутить светлые воды этих ручейков, которые напоят меня, когда я
почувствую жажду? Да здравствует же память Амадиса, и пусть подражает ему во
всем, в чем может, Дон Кихот Ламанчский, про которого скажут то же, что было
сказано и о том, другом {Намек на Фаэтона, о котором это было сказано в
"Превращениях" Овидия наядами реки По в надгробной надписи.}: если он и не
совершил великих дел, то умер, пытаясь совершить их; и хотя моя Дульсинея
Тобосская не пренебрегла мною и не отвергла меня, довольно и того, как я уже
говорил, что я в разлуке с нею. Итак, скорей к делу: придите мне на память
подвиги Амадиса и научите меня, как мне начать подражать вам! Но я знаю, что
он больше всего молился и поручал себя Богу. Однако как мне быть с четками?
Их у меня нет.
Тогда он придумал способ смастерить четки: он оторвал большую полосу
холста от подола рубашки и связал из нее одиннадцать узлов, из которых один
узел был толще других; и это-то и служило ему четками на все время, которое
он там оставался, и на них он прочитал миллион "Ave Maria". Очень смущало
его и то, что он не находил там отшельника, который бы его исповедовал и мог
бы утешать его. Итак, он проводил время, гуляя по лужку, вырезая на коре
деревьев и вписывая в мелком песку немало стихов, все соответствующие его
грустному настроению, а некоторые из них, восхваляющие Дульсинею Тобосскую.
Но из этих стихотворений сохранились, и их можно было разобрать после того,
как отыскали Дон Кихота, лишь только следующие:
Деревья, травы и кусты,
Что здесь так стройно предо мною
Сплелися дружною семьею,
Полны могучей красоты,--
Я к вам сюда пришел с мольбою!
Прошу у вас участья я.
Мне душу горе угнетает,--
Но пусть оно вас не смущает.
В слезах здесь Дон Кихот, друзья,
О Дульсинее вспоминает
Тобосской.
Вот место то, в тиши лесной,
Где он неведомою силой
К разлуке вынужден постылой,
Грустит вдали от взоров той,
Что вечно будет сердцу милой.
Любовь тревогу лишь несет,
И очень злобно с ним играет,--
Бочонки слез здесь проливает
И беспрерывно Дон Кихот
О Дульсинее вспоминает
Тобосской.
Средь неприступных, диких скал
Найти он думал приключенья,
А только горе, и волненья,
И дни невзгоды он узнал
И проклинал свои мученья.
Амур его тут плетью бьет,
Он с ним не шутит, не играет...
В затылок больно ударяет;
И, весь в слезах, здесь Дон Кихот
О Дульсинее вспоминает
Тобосской.
Немало смеха возбудила в нашедших упомянутые стихи прибавка Тобосской к
имени Дульсинеи, потому что они догадывались, что, должно быть, Дон Кихот
воображал, если он назовет Дульсинею, не добавив "Тобосской", то не поймут
куплета; так оно и было, как он потом сам признался. Много еще других
стихотворений сочинил он, но -- как было уже сказано -- только эти три
строфы можно было разобрать, и только они были найдены в целости. Итак,
сочиняя стихи, вздыхая, взывая к лесным фавнам и сатирам, к нимфам вод и к
влажному, печальному эхо, прося их отозваться, утешить и выслушать его,
проводил Дон Кихот время, а также и в поисках трав, которыми он мог бы
поддерживать свое существование до возвращения Санчо. И если б последний
явился не через три дня, как это случилось, а через три недели, то Рыцарь
Печального Образа был бы так обезображен, что родившая его мать не узнала бы
его.
Однако оставим его вздыхать и сочинять стихи и расскажем лучше, что
случилось с Санчо Пансой во время посольства его. Выехав на большую дорогу,
он повернул по направлению к Тобосо и на следующий день добрался до
постоялого двора, где с ним приключилось несчастье с подбрасыванием на
одеяле. Едва заприметил он постоялый двор, как уже ему представилось, будто
он снова взлетает на воздух, и он не пожелал заезжать туда, хотя как раз
было время, когда он мог и должен был бы это сделать, потому что наступила
обеденная пора и ему очень хотелось отведать чего-нибудь горячего, так как
он уже столько дней сидел на одной лишь холодной пище. Эта потребность
заставила его подъехать ближе к постоялому двору, хотя он все еще был в
нерешительности, заезжать ли ему туда или нет. Как раз в это время из
постоялого двора вышли два человека, которые тотчас же узнали его, и один
сказал другому:
-- Посмотрите, сеньор лисенсиат, этот вот всадник не Санчо ли Панса,
который -- как нам говорила ключница нашего искателя приключений -- уехал
вместе с ее господином в качестве оруженосца?
-- Да, -- ответил лисенсиат, -- это он и есть, а под ним лошадь нашего
Дон Кихота.
Они не могли не узнать его, потому что это были священник и цирюльник
из его местечка, -- те самые, которые произвели суд и следствие над книгами
Дон Кихота и присудили их к сожжению. Окончательно убедившись в том, что это
Санчо Панса и Росинант, они подошли к нему, желая разузнать о Дон Кихоте, и
священник окликнул его по имени, говоря:
-- Друг Санчо Панса, где же остался господин ваш?
Санчо Панса тотчас же узнал их, но решил скрыть от них местопребывание
и состояние своего господина; итак, он ответил, что его господин занят в
одном месте одним делом, очень для него важным, а каким, он не может им
сказать, хотя бы за это лишился и обоих своих глаз.
-- Нет, нет, Санчо Панса, -- сказал цирюльник, -- если вы нам не
укажете, где ваш господин, мы подумаем -- как мы уже сейчас думаем, -- что
вы его убили и ограбили, потому что вы едете верхом на его лошади. Говорю
вам, немедля доставьте нам владельца этой лошади, или же вам придется иметь
дело с нами.
-- Незачем вам угрожать мне, потому что я не такой человек, чтобы
грабить или убивать кого бы то ни было, -- сказал Санчо. -- Пусть каждого
убивает его судьба или Бог, создавший его. Мой господин остался там, в этих
горах, где он, к великому своему удовольствию, исполняет наложенную им на
себя эпитимию.
И тотчас же Санчо, наскоро и не останавливаясь рассказал им о
состоянии, в котором он оставил своего господина, и о приключениях,
случившихся с ними, и о том, что он послан отвезти письмо сеньоре Дульсинее
Тобосской, -- а она дочь Лоренсо Корхуэло, в которую Дон Кихот влюблен по
уши.
Оба -- и священник и цирюльник -- были крайне изумлены всем тем, что
рассказал Санчо Панса, и, хотя они уже знали о помешательстве Дон Кихота и о
том, какого оно рода, тем не менее каждый раз, что слышали о нем, не могли
не изумляться снова; они попросили Санчо Пансу показать им письмо, которое
он вез сеньоре Дульсинее Тобосской. Санчо сказал им, что письмо это написано
в записной книжечке и что рыцарь велел дать переписать его на бумагу в
первом встречном селе. На это священник сказал, чтобы он передал ему письмо
и он перепишет его сам отличнейшим почерком. Санчо Панса сунул руку за
пазуху, отыскивая записную книжечку, но не нашел ее и не мог бы найти, если
б искал до сегодняшнего дня, так как она осталась у Дон Кихота, который не
отдал ее ему, а он забыл спросить ее. Видя, что он не находит книжки, Санчо
побледнел как смерть и стал поспешно ощупывать себе все тело; окончательно
убедившись, что ее действительно нет, он без дальнейшего промедления схватил
себя обеими руками за бороду и вырвал чуть ни половину ее, а затем быстро и
не останавливаясь нанес с полдюжины ударов себе по лицу и по носу, так что у
него брызнула кровь.
Увидав это, священник и цирюльник спросили его, что такое случилось с
ним, что он так жестоко себя казнит.
-- Что случилось! -- воскликнул Санчо. -- Случилось то, что в один миг
я потерял трех ослят, из которых каждый стоил целого замка.
-- Как так? -- спросил цирюльник.
-- Я потерял записную книжку, -- ответил Санчо, -- где было письмо к
Дульсинее, а также ассигновка, подписанная моим господином, в которой он
приказывал своей племяннице выдать мне трех ослят из числа четырех или пяти
бывших у него дома. -- И затем Санчо рассказал о пропаже Серого.
Священник утешил его, говоря, что, как только он найдет Дон Кихота, то
позаботится, чтобы он восстановил ассигновку и написал бы еще раз вексель,
но на листе бумаги, как это принято и в обычае, потому что векселя,
написанные в записных книжках, никогда не принимаются и по ним не
уплачивают. Это утешило Санчо, и он сказал: если так, то потеря письма
Дульсинее не очень его огорчает, потому что он знает его почти наизусть и
они с его слов могут записать его когда и где угодно.
-- Так перескажите его нам, Санчо,-- предложил цирюльник, -- а потом мы
его и напишем.
Санчо Панса стал чесать у себя в голове, чтобы припомнить письмо,
переступая с ноги на ногу, поглядывая то на землю, то на небо, и, обкусав
себе половину ногтя на одном пальце и продержав достаточно долго в ожидании
двух своих слушателей, наконец, после очень большой паузы, сказал: --
Клянусь Богом, сеньор лисенсиат, пусть черти побрали бы все, что я помню из
письма, хотя оно начиналось так: "Возвышенная и ограниченная сеньора"...
-- Верно, там не сказано "ограниченная", -- заметил цирюльник, -- а
стояло неограниченная или властительная сеньора.
-- Так оно и есть, -- согласился Санчо. -- Потом, если не ошибаюсь,
следовало, если не ошибаюсь: "Лишенный сна и раненый целует руки вашей
милости, неблагодарная и безвестная красота", и я не знаю, что он еще там
говорил о здоровье и болезни, которые посылает ей,-- и он в таком же роде
продолжал, пока не кончил словами: "Твой до гроба рыцарь Печального Образа".
Немало забавила священника и цирюльника прекрасная память Санчо Пансы,
и, очень расхваливая ее, они попросили его еще два раза повторить письмо,
чтобы и они могли запомнить его наизусть и, в свое время, записать. Три раза
повторил Санчо письмо и столько же раз повторил три тысячи других
нелепостей. Затем он рассказал и о прочих делах своего господина, но не
проронил ни слова о подбрасывании его на одеяле, случившемся с ним на этом
постоялом дворе, в который ему так не хотелось заезжать. Он сообщил им
также, что его господин -- лишь только он принесет ему благосклонный ответ
от сеньоры Дульсинеи Тобосской -- тотчас же примет все меры, чтобы сделаться
императором или по меньшей мере монархом, -- они так между собой условились;
сделаться же им рыцарю очень легко, приняв во внимание личную его храбрость
и силу руки его. Когда все это случится и его господин будет королем, он
женит его, Санчо, потому что к тому времени он окажется вдовцом, -- иначе
быть не может, -- и в жены он даст ему одну из девушек императрицы,
наследницу больших и богатых владений на материке, без островов и островков,
которых он теперь вовсе не желает. Санчо говорил это так спокойно, утирая
себе время от времени нос, и с таким полным отсутствием здравого смысла, что
священник и цирюльник снова пришли в изумление, думая, до чего сильно должно
было быть безумие Дон Кихота, если оно заразило мозги и этого бедного
человека. Они не пожелали давать себе труд вывести его из заблуждения, в
котором он находился, рассудив, что, так как совесть его от этого нимало не
пострадает, лучше оставить его в этом заблуждении, а для них будет забавнее
слушать его нелепости. Итак, они ему сказали, чтобы он молил Бога о здравии
своего господина, потому что очень вероятно и возможно, что с течением
времени его господин, как он говорит, сделается императором, или по меньшей
мере архиепископом, или другим, столь же почетным, сановником. На это Санчо
ответил:
-- Сеньоры, если бы судьба повернула дело так, что господину моему
пришло бы на ум сделаться не императором, а архиепископом, -- хотелось бы
мне знать, чем же странствующие архиепископы имеют обыкновение награждать
своих оруженосцев?
-- Они награждают их, -- ответил священник, -- каким-нибудь богатым
приходом или же местом ризничего с хорошим годовым окладом, не считая
пожертвований на церковь, которые вычисляются обыкновенно в столько же.
-- Но для этого, -- ответил Санчо,-- нужно, чтобы оруженосец
архиепископа не был женат или по крайней мере умел бы прислуживать за
обедней. Если же это так, горе мне, несчастному, потому что я и женат, и не
знаю первой буквы азбуки. Что станется со мной, если моему господину вдруг
вздумается сделаться архиепископом, а не императором, как это принято и в
обычае у странствующих рыцарей?
-- Не тревожьтесь, Санчо, друг,-- сказал цирюльник, -- мы попросим
вашего господина, посоветуем ему, и даже поставим на вид, как вопрос
совести, чтобы он сделался императором, а не архиепископом; да ему это и
будет легче по той причине, что у него больше храбрости, чем учености.
-- Так оно и мне казалось, -- ответил Санчо, -- хотя могу сказать, что
господин мой искусен во всем. Я же, со своей стороны, думаю вот что делать:
просить Господа Бога направить его туда, где он мог бы лучше всего
благоприятствовать себе самому, а мне оказать побольше милостей.
-- Вы говорите, как умный человек, -- сказал священник, -- и будете
поступать, как добрый христианин. Но теперь следует нам прежде всего
подумать, как освободить вашего господина от бесполезной эпитимии, которую
он, по вашим словам, совершает. А чтобы обсудить способ, как это сделать, и
поесть, потому что уже пора, -- хорошо было бы зайти нам на постоялый двор.
Санчо ответил, чтобы они шли туда, а он подождет их здесь, и потом
объяснит причину, отчего он не идет с ними и не следует ему идти; но он
просит их принести ему сюда чего-нибудь поесть, только горячего, также и
ячменя для Росинанта. Они пошли на постоялый двор, оставив его, и немного
спустя цирюльник принес ему поесть. Затем, после того как они долго
обдумывали вдвоем, как могли бы они достигнуть того, чего желали, священнику
пришла в голову мысль, вполне соответствующая причудам Дон Кихота и их
намерению. Он сказал цирюльнику, что придумал вот что: сам он переоденется
странствующей девушкой, а цирюльник пусть постарается, как сумеет,
изобразить оруженосца. В таком виде они отправятся туда, где находится Дон
Кихот, и священник, разыгрывая роль угнетенной и оскорбленной девушки,
попросит его о милости, в которой он, как доблестный странствующий рыцарь,
не может отказать. Милость же, о которой он попросит его, будет заключаться
в том, чтобы Дон Кихот следовал за девушкой туда, куда она его поведет для
исправления зла, нанесенного ей вероломным рыцарем; в то же время она
попросит его не требовать, чтобы она сняла с лица маску, и не расспрашивать
о ее делах, пока он не восстановит справедливости, нарушенной ее коварным
обидчиком. Священник нимало не сомневался, что Дон Кихот согласится
исполнить все, о чем бы его ни попросили под этим предлогом, и, таким
образом, им удастся извлечь его оттуда и доставить в его село, где они
попытаются найти какое-нибудь средство для излечения странного его
умопомешательства.

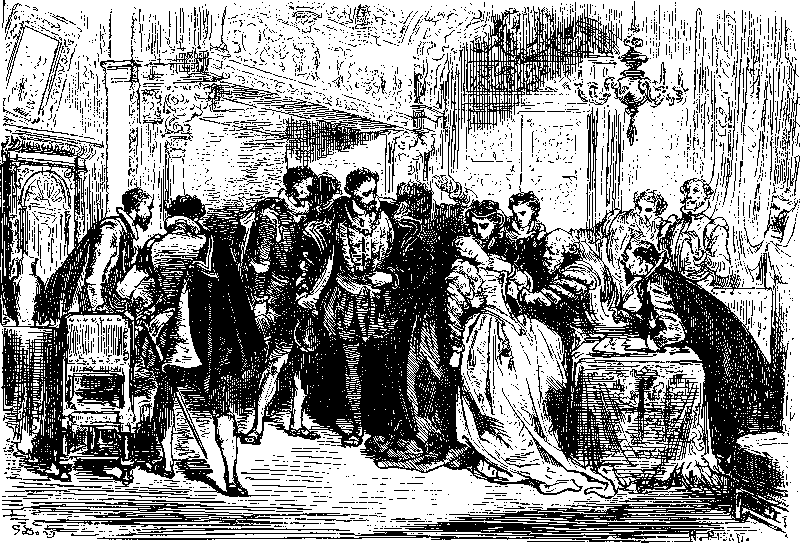 Выдумка священника не только не показалась цирюльнику плохой, а,
напротив, такой удачной, что они принялись тотчас же за ее осуществление.
Они попросили у хозяйки постоялого двора женское платье и женский головной
убор, в залог за это дали новый подрясник священника. Цирюльник смастерил
себе большую бороду из рыже-серого бычачьего хвоста, в который хозяин двора
имел обыкновение втыкать гребень. Хозяйка спросила, на что им понадобились
взятые ими вещи, и священник в кратких словах рассказал ей про
умопомешательство Дон Кихота и о том, что эти вещи необходимы им, чтобы
извлечь его из горных ущелий, где он теперь находится. Хозяин и хозяйка
сразу догадались, что этот сумасшедший -- недавний их гость, приготовлявший
у них бальзам, и господин оруженосца, которого подбрасывали вверх на одеяле,
и рассказали священнику все, что у них с ним произошло, не умолчав и о том,
о чем Санчо так старательно молчал. Затем хозяйка нарядила священника как
нельзя лучше. Она надела на него суконную юбку, украшенную полосками,
вырезанными зубчиками из черного бархата шириною в ладонь, и корсетик из
зеленого бархата с кантиками из белого атласа, который, так же как и юбка,
должно быть, были сшиты еще во времена короля Вамба {Общеупотребительное
выражение в Испании, указывающее на большую древность. Вамба был последним
из готских королей и царствовал в 672-682 гг.}. Священник не согласился
надеть на голову женский убор и покрыл ее шапочкой из тонкого стеганого
полотна, которую возил с собой, чтобы, ложась спать, надевать ее на ночь, а
лоб обвязал полоской черной тафты; из другой такой же полосы тафты сделал
маску, хорошо прикрывавшую лицо и бороду. Затем он нахлобучил себе на глаза
шляпу, которая была так велика, что могла служить ему зонтиком, и,
прикрывшись коротким плащом, он сел по-дамски на мула, а цирюльник взобрался
на своего, предварительно подвязав себе бороду, достигавшую ему до пояса,
частью рыжую, частью белую, потому что она, как мы уже говорили, была
состряпана из хвоста пегого быка. Они простились со всеми, а также и с
доброй Мариторнес, которая обещала -- хотя она и грешница -- помолиться по
четкам, чтобы Бог послал им успех в столь трудном христианском деле,
предпринятом ими. Но едва они выехали с постоялого двора, как священнику
пришло в голову, что он нехорошо поступил, переодевшись таким образом,
потому что, как бы он ни принимал близко к сердцу затеваемое ими дело, для
священнослужителя тем не менее крайне неприлично являться в подобных
нарядах. Сказав об этом цирюльнику, он попросил его поменяться с ним
платьем, так как тому более подходит взять на себя роль угнетенной,
нуждающейся в помощи девушки, а он, священник, будет оруженосцем, и, таким
образом, менее осквернит свой сан. Если же цирюльник не согласен, то он
твердо решил не делать ни шагу дальше, хотя бы сам черт унес Дон Кихота. Как
раз в это время подошел к ним Санчо и, увидав их обоих в таких нарядах, не
мог удержаться от смеха. Цирюльник согласился исполнить то, чего желал
священник, они поменялись ролями, и священник начал объяснять цирюльнику,
как ему следует держаться и с какими речами он должен обратиться к Дон
Кихоту, чтобы побудить его и заставить идти с ними
и бросить убежище, избранное им для бесполезного своего искуса.
Цирюльник ответил, что и без его уроков он сумеет провести свою роль. Но он
не захотел тотчас же переодеваться, а решил сделать это лишь тогда, когда
они приблизятся к месту, где находился Дон Кихот. Итак, он сложил женское
платье, а священник подвязал себе бороду, и они продолжали свой путь; дорогу
указывал Санчо, который сообщил им все приключившееся у них с сумасшедшим,
встреченным ими в горах, причем, однако, он умолчал о найденном ручном
чемоданчике и его содержимом, так как при всей своей простоте малый был
несколько алчный.
На следующий день они прибыли туда, где Санчо разбросал ветки дрока,
желая обозначить ими место, вблизи которого оставил своего господина. Увидав
эти ветки, он сказал своим спутникам, что здесь начинаются горы и теперь им
пора переодеться, если это нужно, чтобы освободить его господина, так как
они ему раньше объяснили, что поездка и переодевание их имеют чрезвычайное
значение в деле освобождения его господина от ужасной жизни, которую он себе
избрал, и строго-настрого велели ему не говорить Дон Кихоту о том, что он их
знает и кто они такие. Если же Дон Кихот его спросит -- а он наверное
спросит его, -- отдал ли он письмо Дульсинее, пусть отвечает, что отдал и
что она, не умея читать, дала ему устный ответ и велела передать рыцарю, что
приказывает ему под страхом немилости ее тотчас же ехать повидаться с нею;
это необычайно важно и для самого Санчо, потому что этим путем и тем, что
они имеют в виду сказать Дон Кихоту, они надеются вернуть его к лучшему для
него образу жизни и так подействовать на него, что он немедленно отправится
в путь, чтобы сделаться императором или монархом; а что касается возможности
сделаться ему архиепископом, этого нечего опасаться. Санчо все внимательно
выслушал, хорошенько запечатлел в своей памяти и благодарил за доброе их
намерение посоветовать его господину сделаться императором, а не
архиепископом; потому что Санчо уверен, что императоры могут оказать больше
милостей своим оруженосцам, чем странствующие архиепископы. Сказал он им
также, что ему следовало бы отправиться вперед к Дон Кихоту и сообщить
рыцарю ответ сеньоры Дульсинеи, так как, быть может, одного этого окажется
достаточно, чтобы извлечь его из того места; а в таком случае они были бы
избавлены от лишнего труда и беспокойства.
Предложение Санчо понравилось его спутникам, и они решили подождать,
пока он вернется и сообщит, нашел ли своего господина. Санчо въехал в горные
ущелья, оставив священника и цирюльника в лощине, через которую протекал
небольшой прозрачный ручеек в приятной прохладной тени нескольких скал и
росших на его берегах деревьев. Стоял один из самых жарких августовских
дней, когда зной в тех местностях особенно томителен, и было около трех
часов пополудни, все это придавало прохладной лощине еще больше прелести и
приглашало их дождаться здесь возвращения Санчо, что они и сделали. В то
время, как оба они отдыхали в тени, до слуха их донесся голос, который, хотя
ему не аккомпанировал никакой инструмент, звучал сладостно и нежно, что
очень их удивило, так как им казалось, что это вовсе не место, где можно
было бы услышать столь прекрасное пение; потому что, хотя и принято
говорить, будто в лесах и полях часто встречаются пастухи с дивным голосом,
на деле оказывается, что это скорее поэтическое увлечение, чем истина.
Удивление их еще более возросло, когда они убедились, что тот, кого они
слушают, поет стихи не простых пастухов-крестьян, а тонко образованной
знати, истину чего подтверждали следующие услышанные ими строки:
Что превратило жизнь мою в мученье?
Презренье.
Что доли злой усилило плачевность?
Ревность.
Сгубила радость всю какая мука?
Разлука.
Нет мне от горя избавленья,
Когда надежды светлый луч
Угас под гнетом черных туч
Разлуки, ревности, презренья.
Чьей подчинен я беспощадной власти?
Страсти.
Кем обречен идти глухой тропою?
Судьбою.
Кто вверг меня в пучину исступленья?
Провиденье.
Одна лишь смерть мне даст спасенье,
Когда несут мучений груз --
На гибель мне, -- вступив в союз,--
Злой рок, любовь и провиденье.
Смягчить судьбу какая может сила?
Могила.
Кто меньше всех в любви познал мытарства?
Коварство.
Конец где мукам горького раздумья?
В безумье.
К чему ж еще искать лекарство,
Чтоб раны сердца заживить,
Когда их может исцелить
Лишь смерть, безумье иль коварство?
Время дня, уединение, голос и искусство певца вызвали восхищение и
удивление у обоих слушателей; они сидели не двигаясь в надежде, не услышат
ли еще что-нибудь. Но, видя, что молчание длится, решили идти искать певца,
владеющего таким прекрасным голосом, а едва они собрались это сделать, как
их остановил тот же голос, снова коснувшийся их слуха и певший следующий
сонет:
О дружба -- вознеслась давно в селенья рая
На легких крыльях ты, нам, в юдоли земной,
Оставив призрак свой. В блаженстве утопая,
Сыны Эдема там беседуют с тобой.
Оттуда сквозь покров небес на нас взирая,
Подчас являешь нам ты дивный образ свой,
Лучами добрых дел вся радостно сияя --
Но истребляет их коварство злой рукой.
Сойди, о дружба, к нам скорей с высот эфира,
С коварства маску ты сорви на благо мира:
Чтоб злоба и вражда не управляли им.
Сойди и не дозволь, чтоб призраком твоим
В обман вводила б ложь довериесвятое
И мрак бы поглотил пространство все земное.
Пение закончилось глубоким вздохом, и оба стали опять внимательно
ждать, не услышат ли они еще чего-нибудь. Но убедившись, что пение уступило
место рыданиям и разрывающим душу стонам, они решили узнать, кто тот
несчастный, который пел так сладко и страдал так горько. Идти им пришлось
недолго: обогнув угол скалы, они увидели человека такого роста и наружности,
какие описал им Санчо
Панса, рассказывая историю Карденио; и этот человек, увидав их, не
испугался, а продолжал спокойно сидеть, опустив голову на грудь, как бы
глубоко задумавшись, не поднимая на них глаз, и только беглым взглядом
окинул их, когда они так неожиданно приблизились к нему. Священник, хорошо
владевший словом (и уже слышавший о его несчастии, так как узнал его по
приметам, сообщенным Санчо), подошел к нему и в кратких, но красноречивых
выражениях стал просить и убеждать его отказаться от этого жалкого образа
жизни, чтобы совсем не лишиться здесь жизни, а это будет самое большое
несчастие из всех несчастий. Карденио был тогда как раз в здравом уме и не
находился под влиянием одного из тех припадков бешенства, которые так часто
овладевали им. Увидя этих двух людей в одежде столь необычной для посещавших
пустынные местности, он несколько удивился, и удивление его еще увеличилось,
когда он услышал, что они говорят о его деле как о вещи известной, потому
что слова, с которыми священник обратился к нему, давали ему это понять.
Итак, он ответил им следующее:
-- Я хорошо вижу, сеньоры, кто бы вы ни были, что небо, приходящее на
помощь добрым, а часто также и злым, посылает мне -- хотя я этого и не
заслуживаю -- в столь пустынной и отдаленной от всякого людского общения
местности лиц, которые яркими и убедительными доводами рисуют перед моими
глазами, как неразумно вести тот образ жизни, какой я веду, желая удалить
меня отсюда и поставить в лучшее положение. Но так как они не знают того,
что я знаю, именно что, убегая от здешнего зла, мне пришлось бы попасть в
еще большее зло, -- быть может, они считают меня за человека тупоумного или,
что еще хуже, за безумного. И неудивительно, если б оно так и было: ведь я и
сам понимаю, что мысль о моем несчастии столь сильно и разрушительно на меня
влияет, что часто, не будучи в состоянии избегнуть этого, я словно каменею и
теряю всякую способность понимать и чувствовать; я узнаю, насколько это
верно, когда мне об этом говорят и указывают следы того, что я наделал, пока
мною владел ужасный припадок. И мне ничего другого не остается, как только
бесплодно оплакивать и бесцельно проклинать свою судьбу и рассказывать в
оправдание моего безумия всем желающим слушать меня о тех причинах, которые
довели меня до теперешнего состояния; потому что умные люди, когда узнают о
причине, не станут удивляться следствиям, и если они не окажутся в силах
облегчить мое горе, то по крайней мере не будут винить меня, и
неудовольствие их, вызванное моими неистовыми выходками, обратится в
сострадание к моему несчастию. Если же вы, сеньоры, явились с таким же
намерением, с каким являлись и другие, прежде чем продолжать мудрые ваши
увещания, прошу вас, выслушайте историю моих страданий, которую вы не
знаете, и, может быть, выслушав ее, вы избавите себя от труда предлагать
утешение в горе, которое не допускает никакого утешения.
Священник и цирюльник, только и желавшие того, чтобы услышать из
собственных его уст о причине его горести, просили сообщить им, в чем дело,
обещая не предпринимать ничего, чтобы помочь ему или утешить его, за
исключением лишь того, что он сам пожелает. Затем несчастный Карденио
приступил к рассказу грустной своей истории почти в тех же выражениях и теми
же словами, как он рассказал ее Дон Кихоту и козопасу несколько дней тому
назад, когда из-за маэстро Элисабада и яростной защиты Дон Кихотом
чести рыцарства рассказ был прерван, что мы и сообщили в свое время. Но
теперь счастливой судьбе было угодно, чтобы припадок бешенства миновал
Карденио и он мог довести до конца свою историю. Итак, дойдя до места, когда
дон Фернандо нашел в книге "Амадисий Галльский" письмо Люсинды, Карденио
сказал, что он хорошо его помнит и что в нем заключалось следующее:
ЛЮСИНДА К КАРДЕНИО
"Каждый день открываю я в вас качества, заставляющие и принуждающие
меня все больше и больше ценить вас, и поэтому, если вы желаете, чтобы я
расплатилась за этот свой долг не на счет моей чести, вы этого легко могли
бы достигнуть. У меня есть отец, который вас знает, а меня нежно любит и, --
не насилуя моего чувства -- он исполнит разумное желание, которое вы вправе
иметь, если действительно так уважаете меня, как вы говорите и как я в том
уверена".
Письмо это побудило меня просить руки Люсинды, как я уже рассказывал, и
оно же укрепило дона Фернандо в мысли, что Люсинда -- одна из самых
рассудительных и умных женщин наших дней, а также зажгло в нем желание
погубить меня прежде, чем мои надежды будут осуществлены. Я сказал дону
Фернандо, что отец Люсинды ждет лишь одного, а именно чтобы мой отец просил
у него ее руки; но я не смел передать ему этого из опасения, что он не
согласится, не потому чтобы он мог возражать что-либо против положения,
добродетели, совершенства и красоты Люсинды или недостатка у нее качеств,
которые могли бы прославить любой род в Испании,-- а потому что, как я от
него же слышал, он не желает, чтобы я женился раньше, чем выяснится, что
герцог Рикардо сделает для меня. Словом, я сказал Фернандо, что у меня не
хватает мужества переговорить с моим отцом вследствие только что указанного
мною препятствия, а также и многих других причин, превращавших меня в труса,
-- а каких, я и сам не знал, исключая лишь то, что мне казалось невозможным,
чтобы мои желания когда-либо осуществились. На все это дон Фернандо ответил
мне, что берет на себя переговорить с моим отцом и побудить его обратиться к
отцу Люсинды. О тщеславный Мариус! О жестокий Каталина! О злобный Силла! О
коварный Галалон! О вероломный Велиндо! О мстительный Юлиан! О
корыстолюбивый Иуда! {Все имена наиболее известных злодеев и предателей в
романах и истории.} Предатель, жестокий, мстительный, вероломный, чем
провинился перед тобою я, несчастный, так искренно раскрывший тебе все тайны
и радости своего сердца? Какое оскорбление нанес я тебе? Какое слово сказал,
какие давал советы, которые не клонили бы к чести и выгоде твоей? Но на что
я жалуюсь, несчастный? Ведь известно: когда течение звезд ведет за собой
несчастия и они яростно и грозно низвергаются на нас свыше, -- никакая
земная сила не в состоянии остановить их, никакое человеческое искусство --
предотвратить. Кто мог бы подумать, что дон Фернандо, знаменитый кабальеро,
одаренный проницательным умом, обязанный мне за услуги, имеющий полную
возможность достигнуть везде всего, к чему бы ни стремилось его любовное
влечение, -- чтобы он горел желанием отнять у меня, как говорится,
единственную мою овечку, которая даже еще не совсем была моей?
Но оставим в стороне все эти рассуждения, как ненужные и бесполезные, и
вернемся к прерванной нити рассказа о моих несчастиях. Итак, говорю я, дону
Фернандо показалось, что мое присутствие мешает выполнению его коварного и
злого умысла, и потому он решил послать меня к старшему своему брату под
предлогом попросить у него денег, чтобы заплатить за шесть лошадей, которых
-- единственно только с целью устранить меня со своей дороги и удобнее
выполнить проклятое свое намерение -- он купил в тот самый день, когда
предложил мне переговорить с моим отцом, и тогда же потребовал, чтобы я
немедленно ехал к его брату за деньгами. Мог ли я предупредить это
предательство? Могло ли мне прийти в голову вообразить что-либо подобное?
Конечно, не могло; напротив, я с величайшей охотой согласился немедленно
ехать, довольный хорошей покупкой, сделанной им. В ту же ночь я говорил с
Люсиндой и рассказал ей, как мы решили с доном Фернандо и чтобы она крепко
надеялась на то, что наши добрые и справедливые желания непременно
исполнятся. Она, не подозревая, так же как и я, предательства дона Фернандо,
просила меня вернуться поскорей, высказывая уверенность, что осуществление
надежд наших уже близко, -- лишь только мой отец переговорит с ее отцом. Не
знаю, как это случилось, но, едва она это сказала, глаза ее наполнились
слезами, и ей точно узлом стянуло горло, так что она не была в силах
произнести ни слова, а хотелось ей сказать многое, как мне показалось. Я был
удивлен этим неожиданным волнением, прежде никогда не проявлявшимся в ней,
потому что всякий раз, когда, благодаря счастливой случайности или моим
стараниям, нам удавалось видеться, мы всегда говорили друг с другом весело и
радостно, не примешивая к нашим разговорам слез, вздохов, ревности,
подозрений или опасений. Во всякое время превозносил я свое счастье и
благодарил небо за то, что оно послало мне такую возлюбленную. Я восторгался
ее красотой и восхищался ее умом и добродетелями, а она в отплату восхваляла
во мне то, что ей, в качестве влюбленной, казалось достойным похвалы. Вместе
с тем мы рассказывали друг другу сто тысяч пустяковин, разные случаи из
жизни наших соседей и знакомых, и самое большее, до чего доходила моя
отвага: я брал почти насильно одну из ее прекрасных белых рук и подносил ее
к своим губам, насколько это допускала низкая решетка, разделявшая нас. Но в
ночь, которая предшествовала грустному дню моего отъезда, Люсинда плакала,
стонала, вздыхала и убежала, оставив меня исполненного смятения и страха и
испуганного при виде столь необычных и печальных проявлений скорби и
нежности в Люсинде. Но, чтобы не омрачить своих надежд, я приписал все это
сильной ее любви ко мне и горю, которое разлука причиняет истинно
влюбленным. Наконец я уехал, грустный и задумчивый, с сердцем, исполненным
тревоги и подозрения, хотя я сам и не знал, о чем я тревожусь и что
подозреваю, -- ясные признаки, предвещавшие печальные события и несчастье,
ожидавшее меня.
Выдумка священника не только не показалась цирюльнику плохой, а,
напротив, такой удачной, что они принялись тотчас же за ее осуществление.
Они попросили у хозяйки постоялого двора женское платье и женский головной
убор, в залог за это дали новый подрясник священника. Цирюльник смастерил
себе большую бороду из рыже-серого бычачьего хвоста, в который хозяин двора
имел обыкновение втыкать гребень. Хозяйка спросила, на что им понадобились
взятые ими вещи, и священник в кратких словах рассказал ей про
умопомешательство Дон Кихота и о том, что эти вещи необходимы им, чтобы
извлечь его из горных ущелий, где он теперь находится. Хозяин и хозяйка
сразу догадались, что этот сумасшедший -- недавний их гость, приготовлявший
у них бальзам, и господин оруженосца, которого подбрасывали вверх на одеяле,
и рассказали священнику все, что у них с ним произошло, не умолчав и о том,
о чем Санчо так старательно молчал. Затем хозяйка нарядила священника как
нельзя лучше. Она надела на него суконную юбку, украшенную полосками,
вырезанными зубчиками из черного бархата шириною в ладонь, и корсетик из
зеленого бархата с кантиками из белого атласа, который, так же как и юбка,
должно быть, были сшиты еще во времена короля Вамба {Общеупотребительное
выражение в Испании, указывающее на большую древность. Вамба был последним
из готских королей и царствовал в 672-682 гг.}. Священник не согласился
надеть на голову женский убор и покрыл ее шапочкой из тонкого стеганого
полотна, которую возил с собой, чтобы, ложась спать, надевать ее на ночь, а
лоб обвязал полоской черной тафты; из другой такой же полосы тафты сделал
маску, хорошо прикрывавшую лицо и бороду. Затем он нахлобучил себе на глаза
шляпу, которая была так велика, что могла служить ему зонтиком, и,
прикрывшись коротким плащом, он сел по-дамски на мула, а цирюльник взобрался
на своего, предварительно подвязав себе бороду, достигавшую ему до пояса,
частью рыжую, частью белую, потому что она, как мы уже говорили, была
состряпана из хвоста пегого быка. Они простились со всеми, а также и с
доброй Мариторнес, которая обещала -- хотя она и грешница -- помолиться по
четкам, чтобы Бог послал им успех в столь трудном христианском деле,
предпринятом ими. Но едва они выехали с постоялого двора, как священнику
пришло в голову, что он нехорошо поступил, переодевшись таким образом,
потому что, как бы он ни принимал близко к сердцу затеваемое ими дело, для
священнослужителя тем не менее крайне неприлично являться в подобных
нарядах. Сказав об этом цирюльнику, он попросил его поменяться с ним
платьем, так как тому более подходит взять на себя роль угнетенной,
нуждающейся в помощи девушки, а он, священник, будет оруженосцем, и, таким
образом, менее осквернит свой сан. Если же цирюльник не согласен, то он
твердо решил не делать ни шагу дальше, хотя бы сам черт унес Дон Кихота. Как
раз в это время подошел к ним Санчо и, увидав их обоих в таких нарядах, не
мог удержаться от смеха. Цирюльник согласился исполнить то, чего желал
священник, они поменялись ролями, и священник начал объяснять цирюльнику,
как ему следует держаться и с какими речами он должен обратиться к Дон
Кихоту, чтобы побудить его и заставить идти с ними
и бросить убежище, избранное им для бесполезного своего искуса.
Цирюльник ответил, что и без его уроков он сумеет провести свою роль. Но он
не захотел тотчас же переодеваться, а решил сделать это лишь тогда, когда
они приблизятся к месту, где находился Дон Кихот. Итак, он сложил женское
платье, а священник подвязал себе бороду, и они продолжали свой путь; дорогу
указывал Санчо, который сообщил им все приключившееся у них с сумасшедшим,
встреченным ими в горах, причем, однако, он умолчал о найденном ручном
чемоданчике и его содержимом, так как при всей своей простоте малый был
несколько алчный.
На следующий день они прибыли туда, где Санчо разбросал ветки дрока,
желая обозначить ими место, вблизи которого оставил своего господина. Увидав
эти ветки, он сказал своим спутникам, что здесь начинаются горы и теперь им
пора переодеться, если это нужно, чтобы освободить его господина, так как
они ему раньше объяснили, что поездка и переодевание их имеют чрезвычайное
значение в деле освобождения его господина от ужасной жизни, которую он себе
избрал, и строго-настрого велели ему не говорить Дон Кихоту о том, что он их
знает и кто они такие. Если же Дон Кихот его спросит -- а он наверное
спросит его, -- отдал ли он письмо Дульсинее, пусть отвечает, что отдал и
что она, не умея читать, дала ему устный ответ и велела передать рыцарю, что
приказывает ему под страхом немилости ее тотчас же ехать повидаться с нею;
это необычайно важно и для самого Санчо, потому что этим путем и тем, что
они имеют в виду сказать Дон Кихоту, они надеются вернуть его к лучшему для
него образу жизни и так подействовать на него, что он немедленно отправится
в путь, чтобы сделаться императором или монархом; а что касается возможности
сделаться ему архиепископом, этого нечего опасаться. Санчо все внимательно
выслушал, хорошенько запечатлел в своей памяти и благодарил за доброе их
намерение посоветовать его господину сделаться императором, а не
архиепископом; потому что Санчо уверен, что императоры могут оказать больше
милостей своим оруженосцам, чем странствующие архиепископы. Сказал он им
также, что ему следовало бы отправиться вперед к Дон Кихоту и сообщить
рыцарю ответ сеньоры Дульсинеи, так как, быть может, одного этого окажется
достаточно, чтобы извлечь его из того места; а в таком случае они были бы
избавлены от лишнего труда и беспокойства.
Предложение Санчо понравилось его спутникам, и они решили подождать,
пока он вернется и сообщит, нашел ли своего господина. Санчо въехал в горные
ущелья, оставив священника и цирюльника в лощине, через которую протекал
небольшой прозрачный ручеек в приятной прохладной тени нескольких скал и
росших на его берегах деревьев. Стоял один из самых жарких августовских
дней, когда зной в тех местностях особенно томителен, и было около трех
часов пополудни, все это придавало прохладной лощине еще больше прелести и
приглашало их дождаться здесь возвращения Санчо, что они и сделали. В то
время, как оба они отдыхали в тени, до слуха их донесся голос, который, хотя
ему не аккомпанировал никакой инструмент, звучал сладостно и нежно, что
очень их удивило, так как им казалось, что это вовсе не место, где можно
было бы услышать столь прекрасное пение; потому что, хотя и принято
говорить, будто в лесах и полях часто встречаются пастухи с дивным голосом,
на деле оказывается, что это скорее поэтическое увлечение, чем истина.
Удивление их еще более возросло, когда они убедились, что тот, кого они
слушают, поет стихи не простых пастухов-крестьян, а тонко образованной
знати, истину чего подтверждали следующие услышанные ими строки:
Что превратило жизнь мою в мученье?
Презренье.
Что доли злой усилило плачевность?
Ревность.
Сгубила радость всю какая мука?
Разлука.
Нет мне от горя избавленья,
Когда надежды светлый луч
Угас под гнетом черных туч
Разлуки, ревности, презренья.
Чьей подчинен я беспощадной власти?
Страсти.
Кем обречен идти глухой тропою?
Судьбою.
Кто вверг меня в пучину исступленья?
Провиденье.
Одна лишь смерть мне даст спасенье,
Когда несут мучений груз --
На гибель мне, -- вступив в союз,--
Злой рок, любовь и провиденье.
Смягчить судьбу какая может сила?
Могила.
Кто меньше всех в любви познал мытарства?
Коварство.
Конец где мукам горького раздумья?
В безумье.
К чему ж еще искать лекарство,
Чтоб раны сердца заживить,
Когда их может исцелить
Лишь смерть, безумье иль коварство?
Время дня, уединение, голос и искусство певца вызвали восхищение и
удивление у обоих слушателей; они сидели не двигаясь в надежде, не услышат
ли еще что-нибудь. Но, видя, что молчание длится, решили идти искать певца,
владеющего таким прекрасным голосом, а едва они собрались это сделать, как
их остановил тот же голос, снова коснувшийся их слуха и певший следующий
сонет:
О дружба -- вознеслась давно в селенья рая
На легких крыльях ты, нам, в юдоли земной,
Оставив призрак свой. В блаженстве утопая,
Сыны Эдема там беседуют с тобой.
Оттуда сквозь покров небес на нас взирая,
Подчас являешь нам ты дивный образ свой,
Лучами добрых дел вся радостно сияя --
Но истребляет их коварство злой рукой.
Сойди, о дружба, к нам скорей с высот эфира,
С коварства маску ты сорви на благо мира:
Чтоб злоба и вражда не управляли им.
Сойди и не дозволь, чтоб призраком твоим
В обман вводила б ложь довериесвятое
И мрак бы поглотил пространство все земное.
Пение закончилось глубоким вздохом, и оба стали опять внимательно
ждать, не услышат ли они еще чего-нибудь. Но убедившись, что пение уступило
место рыданиям и разрывающим душу стонам, они решили узнать, кто тот
несчастный, который пел так сладко и страдал так горько. Идти им пришлось
недолго: обогнув угол скалы, они увидели человека такого роста и наружности,
какие описал им Санчо
Панса, рассказывая историю Карденио; и этот человек, увидав их, не
испугался, а продолжал спокойно сидеть, опустив голову на грудь, как бы
глубоко задумавшись, не поднимая на них глаз, и только беглым взглядом
окинул их, когда они так неожиданно приблизились к нему. Священник, хорошо
владевший словом (и уже слышавший о его несчастии, так как узнал его по
приметам, сообщенным Санчо), подошел к нему и в кратких, но красноречивых
выражениях стал просить и убеждать его отказаться от этого жалкого образа
жизни, чтобы совсем не лишиться здесь жизни, а это будет самое большое
несчастие из всех несчастий. Карденио был тогда как раз в здравом уме и не
находился под влиянием одного из тех припадков бешенства, которые так часто
овладевали им. Увидя этих двух людей в одежде столь необычной для посещавших
пустынные местности, он несколько удивился, и удивление его еще увеличилось,
когда он услышал, что они говорят о его деле как о вещи известной, потому
что слова, с которыми священник обратился к нему, давали ему это понять.
Итак, он ответил им следующее:
-- Я хорошо вижу, сеньоры, кто бы вы ни были, что небо, приходящее на
помощь добрым, а часто также и злым, посылает мне -- хотя я этого и не
заслуживаю -- в столь пустынной и отдаленной от всякого людского общения
местности лиц, которые яркими и убедительными доводами рисуют перед моими
глазами, как неразумно вести тот образ жизни, какой я веду, желая удалить
меня отсюда и поставить в лучшее положение. Но так как они не знают того,
что я знаю, именно что, убегая от здешнего зла, мне пришлось бы попасть в
еще большее зло, -- быть может, они считают меня за человека тупоумного или,
что еще хуже, за безумного. И неудивительно, если б оно так и было: ведь я и
сам понимаю, что мысль о моем несчастии столь сильно и разрушительно на меня
влияет, что часто, не будучи в состоянии избегнуть этого, я словно каменею и
теряю всякую способность понимать и чувствовать; я узнаю, насколько это
верно, когда мне об этом говорят и указывают следы того, что я наделал, пока
мною владел ужасный припадок. И мне ничего другого не остается, как только
бесплодно оплакивать и бесцельно проклинать свою судьбу и рассказывать в
оправдание моего безумия всем желающим слушать меня о тех причинах, которые
довели меня до теперешнего состояния; потому что умные люди, когда узнают о
причине, не станут удивляться следствиям, и если они не окажутся в силах
облегчить мое горе, то по крайней мере не будут винить меня, и
неудовольствие их, вызванное моими неистовыми выходками, обратится в
сострадание к моему несчастию. Если же вы, сеньоры, явились с таким же
намерением, с каким являлись и другие, прежде чем продолжать мудрые ваши
увещания, прошу вас, выслушайте историю моих страданий, которую вы не
знаете, и, может быть, выслушав ее, вы избавите себя от труда предлагать
утешение в горе, которое не допускает никакого утешения.
Священник и цирюльник, только и желавшие того, чтобы услышать из
собственных его уст о причине его горести, просили сообщить им, в чем дело,
обещая не предпринимать ничего, чтобы помочь ему или утешить его, за
исключением лишь того, что он сам пожелает. Затем несчастный Карденио
приступил к рассказу грустной своей истории почти в тех же выражениях и теми
же словами, как он рассказал ее Дон Кихоту и козопасу несколько дней тому
назад, когда из-за маэстро Элисабада и яростной защиты Дон Кихотом
чести рыцарства рассказ был прерван, что мы и сообщили в свое время. Но
теперь счастливой судьбе было угодно, чтобы припадок бешенства миновал
Карденио и он мог довести до конца свою историю. Итак, дойдя до места, когда
дон Фернандо нашел в книге "Амадисий Галльский" письмо Люсинды, Карденио
сказал, что он хорошо его помнит и что в нем заключалось следующее:
ЛЮСИНДА К КАРДЕНИО
"Каждый день открываю я в вас качества, заставляющие и принуждающие
меня все больше и больше ценить вас, и поэтому, если вы желаете, чтобы я
расплатилась за этот свой долг не на счет моей чести, вы этого легко могли
бы достигнуть. У меня есть отец, который вас знает, а меня нежно любит и, --
не насилуя моего чувства -- он исполнит разумное желание, которое вы вправе
иметь, если действительно так уважаете меня, как вы говорите и как я в том
уверена".
Письмо это побудило меня просить руки Люсинды, как я уже рассказывал, и
оно же укрепило дона Фернандо в мысли, что Люсинда -- одна из самых
рассудительных и умных женщин наших дней, а также зажгло в нем желание
погубить меня прежде, чем мои надежды будут осуществлены. Я сказал дону
Фернандо, что отец Люсинды ждет лишь одного, а именно чтобы мой отец просил
у него ее руки; но я не смел передать ему этого из опасения, что он не
согласится, не потому чтобы он мог возражать что-либо против положения,
добродетели, совершенства и красоты Люсинды или недостатка у нее качеств,
которые могли бы прославить любой род в Испании,-- а потому что, как я от
него же слышал, он не желает, чтобы я женился раньше, чем выяснится, что
герцог Рикардо сделает для меня. Словом, я сказал Фернандо, что у меня не
хватает мужества переговорить с моим отцом вследствие только что указанного
мною препятствия, а также и многих других причин, превращавших меня в труса,
-- а каких, я и сам не знал, исключая лишь то, что мне казалось невозможным,
чтобы мои желания когда-либо осуществились. На все это дон Фернандо ответил
мне, что берет на себя переговорить с моим отцом и побудить его обратиться к
отцу Люсинды. О тщеславный Мариус! О жестокий Каталина! О злобный Силла! О
коварный Галалон! О вероломный Велиндо! О мстительный Юлиан! О
корыстолюбивый Иуда! {Все имена наиболее известных злодеев и предателей в
романах и истории.} Предатель, жестокий, мстительный, вероломный, чем
провинился перед тобою я, несчастный, так искренно раскрывший тебе все тайны
и радости своего сердца? Какое оскорбление нанес я тебе? Какое слово сказал,
какие давал советы, которые не клонили бы к чести и выгоде твоей? Но на что
я жалуюсь, несчастный? Ведь известно: когда течение звезд ведет за собой
несчастия и они яростно и грозно низвергаются на нас свыше, -- никакая
земная сила не в состоянии остановить их, никакое человеческое искусство --
предотвратить. Кто мог бы подумать, что дон Фернандо, знаменитый кабальеро,
одаренный проницательным умом, обязанный мне за услуги, имеющий полную
возможность достигнуть везде всего, к чему бы ни стремилось его любовное
влечение, -- чтобы он горел желанием отнять у меня, как говорится,
единственную мою овечку, которая даже еще не совсем была моей?
Но оставим в стороне все эти рассуждения, как ненужные и бесполезные, и
вернемся к прерванной нити рассказа о моих несчастиях. Итак, говорю я, дону
Фернандо показалось, что мое присутствие мешает выполнению его коварного и
злого умысла, и потому он решил послать меня к старшему своему брату под
предлогом попросить у него денег, чтобы заплатить за шесть лошадей, которых
-- единственно только с целью устранить меня со своей дороги и удобнее
выполнить проклятое свое намерение -- он купил в тот самый день, когда
предложил мне переговорить с моим отцом, и тогда же потребовал, чтобы я
немедленно ехал к его брату за деньгами. Мог ли я предупредить это
предательство? Могло ли мне прийти в голову вообразить что-либо подобное?
Конечно, не могло; напротив, я с величайшей охотой согласился немедленно
ехать, довольный хорошей покупкой, сделанной им. В ту же ночь я говорил с
Люсиндой и рассказал ей, как мы решили с доном Фернандо и чтобы она крепко
надеялась на то, что наши добрые и справедливые желания непременно
исполнятся. Она, не подозревая, так же как и я, предательства дона Фернандо,
просила меня вернуться поскорей, высказывая уверенность, что осуществление
надежд наших уже близко, -- лишь только мой отец переговорит с ее отцом. Не
знаю, как это случилось, но, едва она это сказала, глаза ее наполнились
слезами, и ей точно узлом стянуло горло, так что она не была в силах
произнести ни слова, а хотелось ей сказать многое, как мне показалось. Я был
удивлен этим неожиданным волнением, прежде никогда не проявлявшимся в ней,
потому что всякий раз, когда, благодаря счастливой случайности или моим
стараниям, нам удавалось видеться, мы всегда говорили друг с другом весело и
радостно, не примешивая к нашим разговорам слез, вздохов, ревности,
подозрений или опасений. Во всякое время превозносил я свое счастье и
благодарил небо за то, что оно послало мне такую возлюбленную. Я восторгался
ее красотой и восхищался ее умом и добродетелями, а она в отплату восхваляла
во мне то, что ей, в качестве влюбленной, казалось достойным похвалы. Вместе
с тем мы рассказывали друг другу сто тысяч пустяковин, разные случаи из
жизни наших соседей и знакомых, и самое большее, до чего доходила моя
отвага: я брал почти насильно одну из ее прекрасных белых рук и подносил ее
к своим губам, насколько это допускала низкая решетка, разделявшая нас. Но в
ночь, которая предшествовала грустному дню моего отъезда, Люсинда плакала,
стонала, вздыхала и убежала, оставив меня исполненного смятения и страха и
испуганного при виде столь необычных и печальных проявлений скорби и
нежности в Люсинде. Но, чтобы не омрачить своих надежд, я приписал все это
сильной ее любви ко мне и горю, которое разлука причиняет истинно
влюбленным. Наконец я уехал, грустный и задумчивый, с сердцем, исполненным
тревоги и подозрения, хотя я сам и не знал, о чем я тревожусь и что
подозреваю, -- ясные признаки, предвещавшие печальные события и несчастье,
ожидавшее меня.
 Я приехал в город, куда был послан, передал письмо брату дона Фернандо,
который хорошо принял меня, но нехорошо отпустил, потому что он велел мне, к
великому моему неудовольствию, подождать восемь дней и в таком месте, где бы
герцог, отец его, не мог меня видеть, так как брат его написал, чтобы он
прислал ему некоторую сумму денег без ведома их отца. Все это была выдумка
коварного дона Фернандо, потому что у брата его не было недостатка в
деньгах, с которыми он мог бы тотчас же отправить меня. Это приказание и
распоряжение побуждали меня к неповиновению, так как мне казалось
невозможным провести столько дней в разлуке с Люсиндой, тем более что я
оставил ее в столь горестном состоянии, о чем я уже вам рассказывал. Однако,
несмотря на это, я все же повиновался, как верный слуга, хотя и видел, что
поступаю так в ущерб собственному благополучию. Но на четвертый день после
моего приезда ко мне явился человек, разыскивавший меня; он передал мне
письмо, по адресу которого я тотчас же узнал, что оно от Люсинды, потому что
почерк был ее. Я распечатал письмо, испуганный и взволнованный, не
сомневаясь в том, что только крайне важная причина могла побудить ее писать
мне в мое отсутствие, потому что, когда я был в одном с нею городе, она
делала это очень редко. Прежде чем прочесть письмо, я спросил человека, кто
его дал ему и сколько времени он провел в дороге. В ответ он сказал мне,
что, когда ему случилось проходить в полдень по одной из улиц города, его
позвала из окна очень красивая сеньора и с глазами, полными слез, с
величайшею поспешностью сказала ему: "Брат, если вы христианин, каким вы
кажетесь, умоляю вас именем Бога, отнесите тотчас же и как можно скорее это
письмо в ту местность и тому лицу, как сказано на адресе, -- потому что и
местность и лицо всем известны, -- и, исполнив это, вы совершите дело,
угодное Богу; а чтобы у вас не было недостатка в средствах сделать это,
возьмите то, что завернуто здесь в платке". Говоря так, она бросила мне из
окна носовой платок, в котором были завязаны сто реалов и вот это золотое
кольцо, надетое у меня на пальце, а также письмо, которое я вам отдал. И
тотчас, не дожидаясь моего ответа, она отошла от окна, убедившись сначала,
что я поднял письмо и платок, а я знаками дал понять ей, что исполню ее
приказание. Итак, получив столь щедрое вознаграждение за труд доставить
письмо и узнав из адреса, что оно посылается вам, сеньор, потому что я очень
хорошо вас знаю, а также тронутый слезами прекрасной той сеньоры, я решил не
доверять дело никому другому, а идти самому и передать письмо вам в руки. В
шестнадцать часов -- с того времени, как она мне передала письмо, -- я
прошел весь путь, составляющий, как вам известно, восемнадцать миль.
Пока услужливый и неожиданный посланец рассказывал мне это, я был
словно прикован к его устам, и ноги до того у меня дрожали, что я едва
держался на них. Наконец я распечатал письмо и прочел следующее:
"Слово, данное вам доном Фернандо убедить вашего отца поговорить с
моим, он сдержал более к собственной выгоде, чем на пользу вам. Знайте,
сеньор, что он сватался ко мне, а мой отец, склоненный преимуществами,
которые, по его мнению, дон Фернандо имеет перед вами, согласился исполнить
его просьбу, и так серьезно, что уже через два дня назначен наш брак,
который должен состояться тайно и в такой тишине, что единственными
свидетелями его будут лишь небо и кое-кто из домашних. Можете представить
себе, в каком я состоянии. Решайте сами, следует ли вам приехать. Люблю ли я
вас или нет, покажет вам исход дела. Дай бог, чтобы письмо это попало в ваши
руки прежде, чем я буду вынуждена соединить свою руку с рукою того, кто так
плохо умеет держать данное им обещание!"
Вот, в общих чертах, содержание письма, которое тотчас же заставило
меня отправиться в путь, не дожидая ни ответа, ни денег, потому что, как я
понял тогда слишком ясно, не покупка лошадей, а намерение добиться своей
цели побудило дона Фернандо послать меня к своему брату. Гнев, охвативший
меня против дона Фернандо, вместе со страхом потерять сокровище, которое я
приобрел столькими годами ухаживанья и любви, придали мне крылья, и я летел
так, что уже на следующий день прибыл в свой город в наиболее подходящий час
и минуту, чтоб пойти говорить с Люсиндой. Я приехал тайком от всех и оставил
своего верхового мула в доме доброго человека, доставившего мне письмо.
Счастливой судьбе угодно было, чтобы я застал Люсинду стоящей как раз у
решетки -- свидетельницы нашей любви. Люсинда тотчас же узнала меня, а я
узнал ее, но не так встретили мы друг друга, как бы нам следовало, и ей, и
мне. Но кто во всем мире может похвалиться, что понял и разгадал сложную
природу и изменчивые мысли женщины? Наверно, никто. Итак, я говорю, лишь
только Люсинда увидела меня, она сказала: "Карденио, на мне подвенечное
платье; меня ждут в зале дон Фернандо -- предатель, мой корыстолюбивый отец
и другие, которые будут скорее свидетелями моей смерти, чем моего
бракосочетания. Не смущайся, друг, но постарайся присутствовать при этом
жертвоприношении. Гели я не смогу отвратить его словами, -- у меня спрятан,
кинжал, который защитит меня против более решительного насилия, положив
конец моей жизни и дав тебе первое знамение той любви, которую я питала и
питаю к тебе!"
Я ответил ей поспешно, не помня себя и опасаясь, что у меня не хватит
времени сделать это: "Пусть поступки твои, сеньора, докажут истину твоих
слов. Еcли у тебя есть кинжал для защиты твоей чести, у меня -- меч для
защиты твоей жизни или чтобы убить себя, если б судьба оказалась враждебной
нам".
Не думаю, чтобы она могла расслышать все мои слова, потому что ее
спешно позвали, так как жених уже ждал, и с этой минуты наступила ночь моей
печали, закатилось солнце моей радости, свет исчез из моих глаз, и сознание
покинуло меня. Я не имел сил войти в дом и не был в состоянии двинуться с
места; но, сознавая, как было важно мое присутствие для всего, что могло
сейчас произойти, я ободрился, насколько мог, и проник в дом, так как хорошо
знал все входы и выходы из него; кроме того, вследствие суматохи по случаю
тайного бракосочетания никто меня не заметил. Таким образом, мне удалось
пробраться в самый зал и спрятаться там в углублении окна, задрапированного
тяжелыми занавесами, так что меня никто не мог видеть; я же, напротив, через
отверстие занавеса мог видеть все, что происходило в зале. Кто мог бы
передать словами, как сильно билось мое сердце, пока я там стоял, какие
мысли мелькали у меня в уме, какие зарождались в нем соображения? Их было
столько, и они были такого рода, что нельзя и не следует их пересказывать.
Достаточно с вас знать, что жених вошел в зал в обычной своей одежде и без
всяких украшений. В качестве свидетеля у него был двоюродный брат Люсинды, и
во всем зале не было никого чужого, одни только домашние слуги. Немного
спустя и Люсинда вышла из уборной в сопровождении своей матери и двух
прислужниц, богато одетая и украшенная, как это требовалось ее положением и
красотой и как приличествовало той, которая могла служить образцом изящества
и благородной роскоши. Мое смущение и волнение не позволили мне рассмотреть
и обратить внимание на подробности ее наряда, я был в состоянии лишь
заметить цвета -- пурпуровый и белый -- и блеск драгоценных каменьев и
бриллиантов на головном ее уборе и на всем ее одеянии, но все это было
превзойдено редкостной красотой светло-золотистых ее волос, которые в
соединении с блеском драгоценных камней и при свете четырех факелов,
освещавших зал, еще ярче сверкали перед глазами. О воспоминание, смертельный
враг моего спокойствия! Зачем ты рисуешь теперь передо мной несравненную
красоту Люсинды, этого боготворимого мною недруга моего? Не лучше ли было бы
-- жестокое воспоминание -- вызвать и воскресить передо мной тогдашний ее
поступок, чтобы, возмущенный столь явным оскорблением, я стремился если уже
не к мести, то по крайней мере к тому, чтобы лишить себя жизни. Не
досадуйте, сеньоры, слушая эти мои отступления: ведь горе мое не из тех,
которое может или должно бы быть рассказано последовательно и кратко, так
как малейшее обстоятельство в нем кажется мне заслуживающим продолжительного
разъяснения.
На это священник ответил, что рассказ его не только не наскучил им, а,
напротив, они были рады узнать подробности, которые он им сообщил, так как
эти подробности не следовало обходить молчанием и они заслуживают такого же
внимания, как и главные события рассказа.
-- Итак, я говорю, -- продолжал Карденио, -- когда все собрались в
зале, вошел приходский священник и, взяв за руку Люсинду и дона Фернандо,
исполняя то, что от него требовал церковный обряд, спросил: "Согласны ли вы,
сеньора Люсинда, взять дона Фернандо, присутствующего здесь, своим законным
супругом, как это повелевает святая наша матерь церковь?" При этом его
вопросе я просунул голову и шею из-за занавеса и со смущенным сердцем, весь
превратившись в слух, готовился внять словам Люсинды, ожидая от ее ответа
смертного себе приговора или дарования мне жизни. О, если б я в это
мгновение имел смелость выйти вперед и крикнуть громким голосом: "Ах,
Люсинда, Люсинда, подумай о том, что ты делаешь, помни свой долг
относительно меня, не забывай, что ты моя и не можешь быть ничьей иной.
Знай, что лишь только ты скажешь да, в тот же миг наступит и конец моей
жизни. А ты, предатель дон Фернандо, похититель моего счастья, смерть моей
жизни,-- чего желаешь, чего требуешь? Прими в соображение, что ты не можешь,
как христианин, добиться цели твоих желаний, потому что Люсинда мне жена, а
я ей муж". О, безумный я! Теперь, в разлуке и вдали от опасности, говорю я о
том, что я должен был сделать и чего не сделал. Теперь, когда я дал похитить
драгоценное мое сокровище, я проклинаю похитителя, которому я тогда мог бы
отомстить, если бы у меня хватило столько же решимости для мести, сколько ее
оказывается для жалоб! Словом, тогда я был трус и глупец, и потому что за
важность, если я теперь умираю, покрытый стыдом, томясь раскаянием и впав в
безумие!
Священник ждал ответа Люсинды, которая довольно долго медлила дать его,
и, когда я воображал, что она вынимает кинжал для защиты своей чести, или же
откроет уста, чтобы сказать всю правду и сделать признание в мою пользу, --
я услышал, что она слабым, угасающим голосом проговорила: "Да, желаю". То же
сказал и дон Фернандо; он передал ей кольцо, после чего они были соединены
неразрывными узами. Жених подошел к невесте поцеловать ее, но она,
схватившись за сердце, упала без чувств на руки матери.
Мне остается теперь лишь рассказать, что произошло со мной, когда,
услыхав это да, я увидел, что мои надежды осмеяны, все слова и обещания
Люсинды оказались ложью и счастье, которое я в этот миг потерял, потеряно
мною безвозвратно! Я чувствовал себя совершенно беспомощным; мне казалось,
что небо меня отвергло, земля-кормилица объявила своим врагом, отказывая мне
в воздухе для дыхания и вздохов, во влаге для слез в моих глазах, и только
огонь пылал во мне сильнее, так что я весь горел от бешенства и ревности
{Это место и несколько других в истории Карденио -- образчики особого
высокопарного, введенного Гонгорой слога, называемого cultismo, который как
раз начинал тогда входить в моду в Испании.}.
Когда Люсинда упала в обморок, все страшно взволновались, и мать
поспешила расстегнуть ей платье, чтобы она могла дышать свободнее, и тогда
на груди у нее увидела сложенную бумажку, которую дон Фернандо тотчас же
схватил и, отойдя в сторону, прочел при свете одного из горевших факелов.
Кончив читать, он сел на стул, подперев щеку рукой, как человек глубоко
задумавшийся, не обращая ни малейшего внимания на попытки окружающих
привести в чувство супругу его, лежащую в обмороке.
Увидав, что все в доме в таком смятении, я решился выйти из углубления
окна, не заботясь о том, увидят ли меня или нет; готовый, если бы меня
увидели, на такой отчаянный поступок, из которого весь мир узнал бы о
справедливом негодовании, переполнившем мою душу и требовавшем кары
предателю дону Фернандо и вероломству лежавшей в обмороке изменницы. Но
судьба, оберегавшая меня, должно быть, для еще больших несчастий, -- если
только возможно, чтоб существовали еще большие несчастия, -- устроила так,
что во мне в ту минуту взял верх рассудок, которого я затем лишился. Итак,
не желая отомстить злейшим моим врагам (что мне в то время очень легко было
сделать, потому что они и не подозревали о моем присутствии), я решил
обратить месть на самого себя, обрушить на собственную голову кару, которую
заслуживали они, и, быть может, еще более суровую, чем та, с какою я бы
обрушился на них, если б убил их тогда, потому что внезапная смерть быстро
прекращает страдания, а медленная беспрерывно убивает своими мучениями, не
прекращая жизни. Словом, я вышел из этого дома и отправился к человеку, у
которого я оставил мула, велел ему оседлать его и, не простившись, сел
верхом и покинул город, не смея, подобно Лоту, повернуть голову, чтобы
оглянуться назад. Когда я очутился наедине с собой в открытом поле, где меня
окружала ночная тьма и тишина ее словно приглашала излить свое горе, я, не
думая о том и не опасаясь, что меня могут услышать или узнать, возвысил
голос свой и дал волю своему языку разразиться целым потоком проклятий
против Фернандо и Люсинды, точно я мог таким образом отомстить им за
оскорбление, нанесенное ими мне. Я называл Люсинду жестокой, неблагодарной,
лицемерной и бездушной, а больше всего корыстолюбивой, так как богатство
врага моего ослепило ее любовь, отняло ее у меня и передало тому, кого
счастье осыпало своими дарами более милостиво и щедро. Но и среди потока
проклятий и укоров я оправдывал ее, говоря, что неудивительно, если молодая
девушка, запертая в четырех стенах родительского дома, привыкшая и
приученная к беспрекословному повиновению им, согласилась уступить желаниям
родителей, так как они предлагали ей в мужья знатного кабальеро и еще такого
богатого и образованного; ведь если бы она отвергла его, можно было бы
заподозрить, не потеряла ли она рассудок, или же не отдала ли свою любовь
кому-либо другому, -- обстоятельство, которое так сильно повредило бы ее
чести и доброму имени. Но затем я сейчас же снова говорил себе: если бы она
объявила, что я ее супруг, -- ее родители увидели бы, что выбор ее не так
уже плох, чтобы нельзя было извинить его, так как до предложения дона
Фернандо они сами не могли бы желать -- если желания их оставались в
разумных границах -- лучшего мужа для своей дочери, чем я; и она легко могла
бы прежде, чем подвергать себя крайней и неотступной опасности отдать руку
свою другому, объявить во всеуслышание, что рука ее принадлежит уже мне, и
тогда я бы вышел и подтвердил бы все, что бы она ни придумала в подобном
случае. Наконец я пришел к такому заключению: малая любовь, слабый разум,
сильное честолюбие и стремление к почестям побудили ее забыть обещания,
которыми она обольстила меня, питая и поддерживая во мне пламенные надежды и
чистые желания.
С такими восклицаниями и в таком смущенном душевном состоянии ехал я
весь остаток ночи и очутился на рассвете у входа в эту горную цепь, среди
которой я затем без пути и дороги блуждал еще целых три дня, пока не
остановился на лугу, не знаю в какую сторону расположенном от этих гор, и
там я спросил у пастухов: где самое пустынное и дикое место горной цепи? Они
указали мне в эту сторону; тотчас же направился я сюда с намерением лишить
себя здесь жизни; а когда я очутился среди этой пустынной, суровой
местности, мул мой пал от утомления и голода или же -- как я скорее думаю
чтобы освободиться от столь бесполезной, как я, ноши, обременявшей его. Я
остался пеший, изнеможенный, мучимый голодом; и не было никого, и я не думал
искать кого-либо, кто бы мне помог. Таким образом пролежал я, не знаю
сколько времени, растянувшись на земле. Наконец я встал, уже не чувствуя
голода, и увидел подле себя нескольких козопасов, которые, без сомнения, и
удовлетворили мои потребности, потому что они сообщили мне, в каком
состоянии нашли меня и какое я наговорил множество нелепостей и
несообразностей, ясно доказывавших, что я сошел с ума. С тех пор я сам
чувствую, что не всегда владею рассудком, и иногда он у меня так слаб и
расстроен, что я делаю тысячи безумств: раздираю на себе одежду, громко
кричу в этих пустынных местах, проклинаю свою судьбу и тщетно повторяю
возлюбленное имя врага моего -- Люсинды, причем я тогда не имею иного
намерения и иного желания, как только покончить со своею жизнью в этих
воплях. Когда я прихожу в себя, я бываю так утомлен и разбит, что едва могу
двигаться. Обычное мое жилище -- дупло пробкового дерева, достаточно
обширное, чтобы я мог укрыть в нем несчастное это тело. Пастухи и козопасы,
посещающие эти горы, движимые состраданием, снабжают меня пищей и кладут ее
для меня на тропинках и на скалах, где, как они думают, я случайно могу
пройти и найти ее. Таким образом, даже и тогда, когда во мне меркнет разум,
природный инстинкт заставляет меня узнавать пищу и пробуждает во мне желание
отыскивать ее и охоту потребить ее. Иногда, встретив меня в здравом уме, они
говорят мне, что я выхожу на дорогу и силой отнимаю пищу, хотя мне и дают ее
добровольно, у пастухов, которые несут из деревни припасы на овечьи дворы и
закуты. Таким образом провожу я мою жалкую, несчастную жизнь, пока небу не
будет угодно положить ей конец или же лишить меня памяти, чтоб я забыл о
красоте и измене Люсинды и о вероломстве дона Фернандо. Если небо ниспошлет
мне это, не лишив меня жизни, я направлю мысли свои на что-нибудь лучшее;
если же нет, мне не остается ничего другого, как только воссылать к нему
молитву о бесконечном милосердии для моей души, потому что я не чувствую в
себе ни мужества, ни силы, чтобы исторгнуть тело мое из той крайней
опасности, в которую я сам, по доброй своей воле ввергаю его.
Вот, сеньоры, горькая повесть моих несчастий. Скажите, такова ли она,
что ее можно было бы передать с меньшим волнением, чем выказано мною; и не
трудитесь уговаривать меня или советовать мне то, что, как подсказывает вам
разум, могло бы служить мне для облегчения,-- потому что все это принесло бы
мне так же мало пользы, как и лекарство, прописанное знаменитым врачом
больному, который не желает принимать его. Я не желаю здоровья без Люсинды,
и так как ей угодно принадлежать другому, когда она принадлежала или должна
была бы принадлежать мне, то и мне угодно принадлежать несчастию, хотя я и
мог бы обладать счастьем. Она непостоянством своим хотела упрочить мою
гибель; а я, стремясь к своей гибели, хочу удовлетворить ее желание; и пусть
служит уроком для всех в будущем, что одному мне недоставало того, что у
всех несчастных имеется в избытке, для которых обыкновенно служит утешением
невозможность утешиться, а для меня она -- причина еще больших страданий и
мук, так как я даже не могу надеяться, чтобы они прекратились с моею
смертью.
Этими словами Карденио закончил длинную свою речь и настолько же
горестную, насколько и полную страстной любви историю. Священник только что
собрался сказать ему несколько слов в утешение, но его остановил
дошедший до его слуха голос, который жалостливым тоном проговорил то, что
будет передано в четвертой части нашего рассказа, так как на этом месте
мудрый и рассудительный историк Сид Амет бен-Енхели заканчивает третью.
Я приехал в город, куда был послан, передал письмо брату дона Фернандо,
который хорошо принял меня, но нехорошо отпустил, потому что он велел мне, к
великому моему неудовольствию, подождать восемь дней и в таком месте, где бы
герцог, отец его, не мог меня видеть, так как брат его написал, чтобы он
прислал ему некоторую сумму денег без ведома их отца. Все это была выдумка
коварного дона Фернандо, потому что у брата его не было недостатка в
деньгах, с которыми он мог бы тотчас же отправить меня. Это приказание и
распоряжение побуждали меня к неповиновению, так как мне казалось
невозможным провести столько дней в разлуке с Люсиндой, тем более что я
оставил ее в столь горестном состоянии, о чем я уже вам рассказывал. Однако,
несмотря на это, я все же повиновался, как верный слуга, хотя и видел, что
поступаю так в ущерб собственному благополучию. Но на четвертый день после
моего приезда ко мне явился человек, разыскивавший меня; он передал мне
письмо, по адресу которого я тотчас же узнал, что оно от Люсинды, потому что
почерк был ее. Я распечатал письмо, испуганный и взволнованный, не
сомневаясь в том, что только крайне важная причина могла побудить ее писать
мне в мое отсутствие, потому что, когда я был в одном с нею городе, она
делала это очень редко. Прежде чем прочесть письмо, я спросил человека, кто
его дал ему и сколько времени он провел в дороге. В ответ он сказал мне,
что, когда ему случилось проходить в полдень по одной из улиц города, его
позвала из окна очень красивая сеньора и с глазами, полными слез, с
величайшею поспешностью сказала ему: "Брат, если вы христианин, каким вы
кажетесь, умоляю вас именем Бога, отнесите тотчас же и как можно скорее это
письмо в ту местность и тому лицу, как сказано на адресе, -- потому что и
местность и лицо всем известны, -- и, исполнив это, вы совершите дело,
угодное Богу; а чтобы у вас не было недостатка в средствах сделать это,
возьмите то, что завернуто здесь в платке". Говоря так, она бросила мне из
окна носовой платок, в котором были завязаны сто реалов и вот это золотое
кольцо, надетое у меня на пальце, а также письмо, которое я вам отдал. И
тотчас, не дожидаясь моего ответа, она отошла от окна, убедившись сначала,
что я поднял письмо и платок, а я знаками дал понять ей, что исполню ее
приказание. Итак, получив столь щедрое вознаграждение за труд доставить
письмо и узнав из адреса, что оно посылается вам, сеньор, потому что я очень
хорошо вас знаю, а также тронутый слезами прекрасной той сеньоры, я решил не
доверять дело никому другому, а идти самому и передать письмо вам в руки. В
шестнадцать часов -- с того времени, как она мне передала письмо, -- я
прошел весь путь, составляющий, как вам известно, восемнадцать миль.
Пока услужливый и неожиданный посланец рассказывал мне это, я был
словно прикован к его устам, и ноги до того у меня дрожали, что я едва
держался на них. Наконец я распечатал письмо и прочел следующее:
"Слово, данное вам доном Фернандо убедить вашего отца поговорить с
моим, он сдержал более к собственной выгоде, чем на пользу вам. Знайте,
сеньор, что он сватался ко мне, а мой отец, склоненный преимуществами,
которые, по его мнению, дон Фернандо имеет перед вами, согласился исполнить
его просьбу, и так серьезно, что уже через два дня назначен наш брак,
который должен состояться тайно и в такой тишине, что единственными
свидетелями его будут лишь небо и кое-кто из домашних. Можете представить
себе, в каком я состоянии. Решайте сами, следует ли вам приехать. Люблю ли я
вас или нет, покажет вам исход дела. Дай бог, чтобы письмо это попало в ваши
руки прежде, чем я буду вынуждена соединить свою руку с рукою того, кто так
плохо умеет держать данное им обещание!"
Вот, в общих чертах, содержание письма, которое тотчас же заставило
меня отправиться в путь, не дожидая ни ответа, ни денег, потому что, как я
понял тогда слишком ясно, не покупка лошадей, а намерение добиться своей
цели побудило дона Фернандо послать меня к своему брату. Гнев, охвативший
меня против дона Фернандо, вместе со страхом потерять сокровище, которое я
приобрел столькими годами ухаживанья и любви, придали мне крылья, и я летел
так, что уже на следующий день прибыл в свой город в наиболее подходящий час
и минуту, чтоб пойти говорить с Люсиндой. Я приехал тайком от всех и оставил
своего верхового мула в доме доброго человека, доставившего мне письмо.
Счастливой судьбе угодно было, чтобы я застал Люсинду стоящей как раз у
решетки -- свидетельницы нашей любви. Люсинда тотчас же узнала меня, а я
узнал ее, но не так встретили мы друг друга, как бы нам следовало, и ей, и
мне. Но кто во всем мире может похвалиться, что понял и разгадал сложную
природу и изменчивые мысли женщины? Наверно, никто. Итак, я говорю, лишь
только Люсинда увидела меня, она сказала: "Карденио, на мне подвенечное
платье; меня ждут в зале дон Фернандо -- предатель, мой корыстолюбивый отец
и другие, которые будут скорее свидетелями моей смерти, чем моего
бракосочетания. Не смущайся, друг, но постарайся присутствовать при этом
жертвоприношении. Гели я не смогу отвратить его словами, -- у меня спрятан,
кинжал, который защитит меня против более решительного насилия, положив
конец моей жизни и дав тебе первое знамение той любви, которую я питала и
питаю к тебе!"
Я ответил ей поспешно, не помня себя и опасаясь, что у меня не хватит
времени сделать это: "Пусть поступки твои, сеньора, докажут истину твоих
слов. Еcли у тебя есть кинжал для защиты твоей чести, у меня -- меч для
защиты твоей жизни или чтобы убить себя, если б судьба оказалась враждебной
нам".
Не думаю, чтобы она могла расслышать все мои слова, потому что ее
спешно позвали, так как жених уже ждал, и с этой минуты наступила ночь моей
печали, закатилось солнце моей радости, свет исчез из моих глаз, и сознание
покинуло меня. Я не имел сил войти в дом и не был в состоянии двинуться с
места; но, сознавая, как было важно мое присутствие для всего, что могло
сейчас произойти, я ободрился, насколько мог, и проник в дом, так как хорошо
знал все входы и выходы из него; кроме того, вследствие суматохи по случаю
тайного бракосочетания никто меня не заметил. Таким образом, мне удалось
пробраться в самый зал и спрятаться там в углублении окна, задрапированного
тяжелыми занавесами, так что меня никто не мог видеть; я же, напротив, через
отверстие занавеса мог видеть все, что происходило в зале. Кто мог бы
передать словами, как сильно билось мое сердце, пока я там стоял, какие
мысли мелькали у меня в уме, какие зарождались в нем соображения? Их было
столько, и они были такого рода, что нельзя и не следует их пересказывать.
Достаточно с вас знать, что жених вошел в зал в обычной своей одежде и без
всяких украшений. В качестве свидетеля у него был двоюродный брат Люсинды, и
во всем зале не было никого чужого, одни только домашние слуги. Немного
спустя и Люсинда вышла из уборной в сопровождении своей матери и двух
прислужниц, богато одетая и украшенная, как это требовалось ее положением и
красотой и как приличествовало той, которая могла служить образцом изящества
и благородной роскоши. Мое смущение и волнение не позволили мне рассмотреть
и обратить внимание на подробности ее наряда, я был в состоянии лишь
заметить цвета -- пурпуровый и белый -- и блеск драгоценных каменьев и
бриллиантов на головном ее уборе и на всем ее одеянии, но все это было
превзойдено редкостной красотой светло-золотистых ее волос, которые в
соединении с блеском драгоценных камней и при свете четырех факелов,
освещавших зал, еще ярче сверкали перед глазами. О воспоминание, смертельный
враг моего спокойствия! Зачем ты рисуешь теперь передо мной несравненную
красоту Люсинды, этого боготворимого мною недруга моего? Не лучше ли было бы
-- жестокое воспоминание -- вызвать и воскресить передо мной тогдашний ее
поступок, чтобы, возмущенный столь явным оскорблением, я стремился если уже
не к мести, то по крайней мере к тому, чтобы лишить себя жизни. Не
досадуйте, сеньоры, слушая эти мои отступления: ведь горе мое не из тех,
которое может или должно бы быть рассказано последовательно и кратко, так
как малейшее обстоятельство в нем кажется мне заслуживающим продолжительного
разъяснения.
На это священник ответил, что рассказ его не только не наскучил им, а,
напротив, они были рады узнать подробности, которые он им сообщил, так как
эти подробности не следовало обходить молчанием и они заслуживают такого же
внимания, как и главные события рассказа.
-- Итак, я говорю, -- продолжал Карденио, -- когда все собрались в
зале, вошел приходский священник и, взяв за руку Люсинду и дона Фернандо,
исполняя то, что от него требовал церковный обряд, спросил: "Согласны ли вы,
сеньора Люсинда, взять дона Фернандо, присутствующего здесь, своим законным
супругом, как это повелевает святая наша матерь церковь?" При этом его
вопросе я просунул голову и шею из-за занавеса и со смущенным сердцем, весь
превратившись в слух, готовился внять словам Люсинды, ожидая от ее ответа
смертного себе приговора или дарования мне жизни. О, если б я в это
мгновение имел смелость выйти вперед и крикнуть громким голосом: "Ах,
Люсинда, Люсинда, подумай о том, что ты делаешь, помни свой долг
относительно меня, не забывай, что ты моя и не можешь быть ничьей иной.
Знай, что лишь только ты скажешь да, в тот же миг наступит и конец моей
жизни. А ты, предатель дон Фернандо, похититель моего счастья, смерть моей
жизни,-- чего желаешь, чего требуешь? Прими в соображение, что ты не можешь,
как христианин, добиться цели твоих желаний, потому что Люсинда мне жена, а
я ей муж". О, безумный я! Теперь, в разлуке и вдали от опасности, говорю я о
том, что я должен был сделать и чего не сделал. Теперь, когда я дал похитить
драгоценное мое сокровище, я проклинаю похитителя, которому я тогда мог бы
отомстить, если бы у меня хватило столько же решимости для мести, сколько ее
оказывается для жалоб! Словом, тогда я был трус и глупец, и потому что за
важность, если я теперь умираю, покрытый стыдом, томясь раскаянием и впав в
безумие!
Священник ждал ответа Люсинды, которая довольно долго медлила дать его,
и, когда я воображал, что она вынимает кинжал для защиты своей чести, или же
откроет уста, чтобы сказать всю правду и сделать признание в мою пользу, --
я услышал, что она слабым, угасающим голосом проговорила: "Да, желаю". То же
сказал и дон Фернандо; он передал ей кольцо, после чего они были соединены
неразрывными узами. Жених подошел к невесте поцеловать ее, но она,
схватившись за сердце, упала без чувств на руки матери.
Мне остается теперь лишь рассказать, что произошло со мной, когда,
услыхав это да, я увидел, что мои надежды осмеяны, все слова и обещания
Люсинды оказались ложью и счастье, которое я в этот миг потерял, потеряно
мною безвозвратно! Я чувствовал себя совершенно беспомощным; мне казалось,
что небо меня отвергло, земля-кормилица объявила своим врагом, отказывая мне
в воздухе для дыхания и вздохов, во влаге для слез в моих глазах, и только
огонь пылал во мне сильнее, так что я весь горел от бешенства и ревности
{Это место и несколько других в истории Карденио -- образчики особого
высокопарного, введенного Гонгорой слога, называемого cultismo, который как
раз начинал тогда входить в моду в Испании.}.
Когда Люсинда упала в обморок, все страшно взволновались, и мать
поспешила расстегнуть ей платье, чтобы она могла дышать свободнее, и тогда
на груди у нее увидела сложенную бумажку, которую дон Фернандо тотчас же
схватил и, отойдя в сторону, прочел при свете одного из горевших факелов.
Кончив читать, он сел на стул, подперев щеку рукой, как человек глубоко
задумавшийся, не обращая ни малейшего внимания на попытки окружающих
привести в чувство супругу его, лежащую в обмороке.
Увидав, что все в доме в таком смятении, я решился выйти из углубления
окна, не заботясь о том, увидят ли меня или нет; готовый, если бы меня
увидели, на такой отчаянный поступок, из которого весь мир узнал бы о
справедливом негодовании, переполнившем мою душу и требовавшем кары
предателю дону Фернандо и вероломству лежавшей в обмороке изменницы. Но
судьба, оберегавшая меня, должно быть, для еще больших несчастий, -- если
только возможно, чтоб существовали еще большие несчастия, -- устроила так,
что во мне в ту минуту взял верх рассудок, которого я затем лишился. Итак,
не желая отомстить злейшим моим врагам (что мне в то время очень легко было
сделать, потому что они и не подозревали о моем присутствии), я решил
обратить месть на самого себя, обрушить на собственную голову кару, которую
заслуживали они, и, быть может, еще более суровую, чем та, с какою я бы
обрушился на них, если б убил их тогда, потому что внезапная смерть быстро
прекращает страдания, а медленная беспрерывно убивает своими мучениями, не
прекращая жизни. Словом, я вышел из этого дома и отправился к человеку, у
которого я оставил мула, велел ему оседлать его и, не простившись, сел
верхом и покинул город, не смея, подобно Лоту, повернуть голову, чтобы
оглянуться назад. Когда я очутился наедине с собой в открытом поле, где меня
окружала ночная тьма и тишина ее словно приглашала излить свое горе, я, не
думая о том и не опасаясь, что меня могут услышать или узнать, возвысил
голос свой и дал волю своему языку разразиться целым потоком проклятий
против Фернандо и Люсинды, точно я мог таким образом отомстить им за
оскорбление, нанесенное ими мне. Я называл Люсинду жестокой, неблагодарной,
лицемерной и бездушной, а больше всего корыстолюбивой, так как богатство
врага моего ослепило ее любовь, отняло ее у меня и передало тому, кого
счастье осыпало своими дарами более милостиво и щедро. Но и среди потока
проклятий и укоров я оправдывал ее, говоря, что неудивительно, если молодая
девушка, запертая в четырех стенах родительского дома, привыкшая и
приученная к беспрекословному повиновению им, согласилась уступить желаниям
родителей, так как они предлагали ей в мужья знатного кабальеро и еще такого
богатого и образованного; ведь если бы она отвергла его, можно было бы
заподозрить, не потеряла ли она рассудок, или же не отдала ли свою любовь
кому-либо другому, -- обстоятельство, которое так сильно повредило бы ее
чести и доброму имени. Но затем я сейчас же снова говорил себе: если бы она
объявила, что я ее супруг, -- ее родители увидели бы, что выбор ее не так
уже плох, чтобы нельзя было извинить его, так как до предложения дона
Фернандо они сами не могли бы желать -- если желания их оставались в
разумных границах -- лучшего мужа для своей дочери, чем я; и она легко могла
бы прежде, чем подвергать себя крайней и неотступной опасности отдать руку
свою другому, объявить во всеуслышание, что рука ее принадлежит уже мне, и
тогда я бы вышел и подтвердил бы все, что бы она ни придумала в подобном
случае. Наконец я пришел к такому заключению: малая любовь, слабый разум,
сильное честолюбие и стремление к почестям побудили ее забыть обещания,
которыми она обольстила меня, питая и поддерживая во мне пламенные надежды и
чистые желания.
С такими восклицаниями и в таком смущенном душевном состоянии ехал я
весь остаток ночи и очутился на рассвете у входа в эту горную цепь, среди
которой я затем без пути и дороги блуждал еще целых три дня, пока не
остановился на лугу, не знаю в какую сторону расположенном от этих гор, и
там я спросил у пастухов: где самое пустынное и дикое место горной цепи? Они
указали мне в эту сторону; тотчас же направился я сюда с намерением лишить
себя здесь жизни; а когда я очутился среди этой пустынной, суровой
местности, мул мой пал от утомления и голода или же -- как я скорее думаю
чтобы освободиться от столь бесполезной, как я, ноши, обременявшей его. Я
остался пеший, изнеможенный, мучимый голодом; и не было никого, и я не думал
искать кого-либо, кто бы мне помог. Таким образом пролежал я, не знаю
сколько времени, растянувшись на земле. Наконец я встал, уже не чувствуя
голода, и увидел подле себя нескольких козопасов, которые, без сомнения, и
удовлетворили мои потребности, потому что они сообщили мне, в каком
состоянии нашли меня и какое я наговорил множество нелепостей и
несообразностей, ясно доказывавших, что я сошел с ума. С тех пор я сам
чувствую, что не всегда владею рассудком, и иногда он у меня так слаб и
расстроен, что я делаю тысячи безумств: раздираю на себе одежду, громко
кричу в этих пустынных местах, проклинаю свою судьбу и тщетно повторяю
возлюбленное имя врага моего -- Люсинды, причем я тогда не имею иного
намерения и иного желания, как только покончить со своею жизнью в этих
воплях. Когда я прихожу в себя, я бываю так утомлен и разбит, что едва могу
двигаться. Обычное мое жилище -- дупло пробкового дерева, достаточно
обширное, чтобы я мог укрыть в нем несчастное это тело. Пастухи и козопасы,
посещающие эти горы, движимые состраданием, снабжают меня пищей и кладут ее
для меня на тропинках и на скалах, где, как они думают, я случайно могу
пройти и найти ее. Таким образом, даже и тогда, когда во мне меркнет разум,
природный инстинкт заставляет меня узнавать пищу и пробуждает во мне желание
отыскивать ее и охоту потребить ее. Иногда, встретив меня в здравом уме, они
говорят мне, что я выхожу на дорогу и силой отнимаю пищу, хотя мне и дают ее
добровольно, у пастухов, которые несут из деревни припасы на овечьи дворы и
закуты. Таким образом провожу я мою жалкую, несчастную жизнь, пока небу не
будет угодно положить ей конец или же лишить меня памяти, чтоб я забыл о
красоте и измене Люсинды и о вероломстве дона Фернандо. Если небо ниспошлет
мне это, не лишив меня жизни, я направлю мысли свои на что-нибудь лучшее;
если же нет, мне не остается ничего другого, как только воссылать к нему
молитву о бесконечном милосердии для моей души, потому что я не чувствую в
себе ни мужества, ни силы, чтобы исторгнуть тело мое из той крайней
опасности, в которую я сам, по доброй своей воле ввергаю его.
Вот, сеньоры, горькая повесть моих несчастий. Скажите, такова ли она,
что ее можно было бы передать с меньшим волнением, чем выказано мною; и не
трудитесь уговаривать меня или советовать мне то, что, как подсказывает вам
разум, могло бы служить мне для облегчения,-- потому что все это принесло бы
мне так же мало пользы, как и лекарство, прописанное знаменитым врачом
больному, который не желает принимать его. Я не желаю здоровья без Люсинды,
и так как ей угодно принадлежать другому, когда она принадлежала или должна
была бы принадлежать мне, то и мне угодно принадлежать несчастию, хотя я и
мог бы обладать счастьем. Она непостоянством своим хотела упрочить мою
гибель; а я, стремясь к своей гибели, хочу удовлетворить ее желание; и пусть
служит уроком для всех в будущем, что одному мне недоставало того, что у
всех несчастных имеется в избытке, для которых обыкновенно служит утешением
невозможность утешиться, а для меня она -- причина еще больших страданий и
мук, так как я даже не могу надеяться, чтобы они прекратились с моею
смертью.
Этими словами Карденио закончил длинную свою речь и настолько же
горестную, насколько и полную страстной любви историю. Священник только что
собрался сказать ему несколько слов в утешение, но его остановил
дошедший до его слуха голос, который жалостливым тоном проговорил то, что
будет передано в четвертой части нашего рассказа, так как на этом месте
мудрый и рассудительный историк Сид Амет бен-Енхели заканчивает третью.

 Счастливейшие и благословенные времена были те, когда наиотважнейший из
рыцарей -- Дон Кихот Ламанчский -- явился на свет божий; так как благодаря
его прекрасному намерению воскресить и вернуть уже исчезнувший и почти
похороненный орден странствующего рыцарства, мы наслаждаемся в наше столь
бедное веселыми развлечениями время не только прелестью правдивой истории
самого Дон Кихота, но также и вставными в нее эпизодами и рассказами,
которые частью так же занимательны, искусны и правдивы, как и сама его
история; последняя же, взявшись снова за свою расчесанную, скрученную,
намотанную нить, повествует нам, что когда священник только что собрался
утешать Карденио, ему помешал дошедший до его слуха голос, грустно и уныло,
говоривший следующее:
-- О боже! Неужели я нашел наконец место, могущее служить скрытой от
всех глаз могилой для тягостного бремени этого тела, которое мне против воли
приходится еще нести? Да, так оно и есть, если только уединение, которое мне
сулят эти горы, не обман. О, я несчастная! Эти скалы и кустарники, дающие
мне возможность свободно изливать свое горе перед лицом неба, куда мне
приятнее в теперешнем моем настроении, чем общество каких бы то ни было
человеческих существ, потому что нет никого на земле, от кого можно было бы
ждать совета в сомнениях, облегчения в горе и помощи в несчастьях!
Все эти слова священник и бывшие с ним услышали и поняли, а так как им
казалось -- и действительно оно так и было, -- что произнес их кто-то
вблизи, они встали, намереваясь отыскать говорившего. Не успели они пройти
двадцати шагов, как увидели за углом скалы юношу в крестьянской одежде,
сидевшего под тенью ясеня, но лица его не могли разглядеть, потому что он
сидел с опущенной головой и мыл себе ноги в протекавшем там ручье. Они
подошли к нему так тихо, что он их не заметил; к тому же он был весь
поглощен мытьем своих ног, таких, что они казались двумя кусками белого
хрусталя, родившегося среди других камней ручейка. Их поразила белизна и
красота этих ног, которые, как им казалось, не были созданы для того, чтобы
попирать глыбы земли или ходить за плугом и волами, как на то указывала
одежда юноши. Убедившись, что тот их не заметил, священник, шедший впереди,
сделал знак остальным, чтобы они присели и спрятались за лежавшими кругом
обломками скал, что они и сделали, внимательно следя оттуда за всеми
движениями юноши. Он был одет в короткий серый плащ с капюшоном и разрезами
на боках, туго перехваченный у пояса белым полотенцем, в панталонах и
гамашах, тоже из серого сукна, на голове у него была серая суконная шапка.
Гамаши он отвернул до половины голени, которая по белизне казалась чистейшим
алебастром. Окончив мытье прекрасных своих ног, юноша тотчас же вытер их
тонким платком, который он вынул из-под своей шапки. Делая это, он приподнял
голову, и наблюдавшие за ним имели случай увидеть лицо такой несравненной
красоты, что Карденио шепнул на ухо священнику: "Так как это не Люсинда, то
наверное не человеческое существо, а божественное". Юноша снял шапку, и
когда он тряхнул головой, у него рассыпались по плечам волосы, которым могли
бы позавидовать солнечные лучи. Тогда священник и его спутники поняли, что
тот, кого они считали за крестьянского юношу, был женщиной, изящной и самой
прекрасной из всех, которых когда-либо видели священник, цирюльник и даже и
Карденио, если б только последний не видел и не знал Люсинды, так как он
потом уверял, что с ее красотой могла соперничать только красота Люсинды.
Длинные золотистые волосы не только покрывали ее плечи, но их было так
много и в таком изобилии, что они скрывали ее всю, и из-под них были видны
одни только ноги. Вместо гребня она стала расправлять себе волосы руками,
причем, если ее ноги в воде показались им кусками хрусталя, ее руки в
волосах казалась им кусками самого белого затвердевшего снега. Все это
вызвало в трех зрителях, наблюдавших за нею, еще большее восхищение и
большее желание узнать, кто она такая, поэтому они решились подойти к ней.
Но при движении, сделанном ими, когда они поднялись на ноги, красивая
девушка приподняла голову и, откинув обеими руками упавшие ей на глаза
волосы, посмотрела на тех, кто произвел шелест. Едва она увидела их, как
вскочила и, не давая себе времени надеть башмаки или привести в порядок
волосы, торопливо схватила лежавший подле нее узелок и, исполненная смущения
и испуга, хотела бежать. Но не успела она сделать и шести шагов, как упала
на землю, потому что нежные ее ноги не в состоянии были стерпеть боль,
причиняемую острыми камнями. Увидав это, те трое подбежали к ней, и
священник первый сказал ей: "Остановитесь, сеньора, кто бы вы ни были, так
как мы все -- которых вы здесь видите -- имеем лишь одно намерение --
служить вам. Итак, у вас нет причины обращаться в столь поспешное бегство: и
ноги ваши не в состоянии вынести его, и мы не можем согласиться на все это.
-- Изумленная и смущенная, она не ответила ни слова.
Счастливейшие и благословенные времена были те, когда наиотважнейший из
рыцарей -- Дон Кихот Ламанчский -- явился на свет божий; так как благодаря
его прекрасному намерению воскресить и вернуть уже исчезнувший и почти
похороненный орден странствующего рыцарства, мы наслаждаемся в наше столь
бедное веселыми развлечениями время не только прелестью правдивой истории
самого Дон Кихота, но также и вставными в нее эпизодами и рассказами,
которые частью так же занимательны, искусны и правдивы, как и сама его
история; последняя же, взявшись снова за свою расчесанную, скрученную,
намотанную нить, повествует нам, что когда священник только что собрался
утешать Карденио, ему помешал дошедший до его слуха голос, грустно и уныло,
говоривший следующее:
-- О боже! Неужели я нашел наконец место, могущее служить скрытой от
всех глаз могилой для тягостного бремени этого тела, которое мне против воли
приходится еще нести? Да, так оно и есть, если только уединение, которое мне
сулят эти горы, не обман. О, я несчастная! Эти скалы и кустарники, дающие
мне возможность свободно изливать свое горе перед лицом неба, куда мне
приятнее в теперешнем моем настроении, чем общество каких бы то ни было
человеческих существ, потому что нет никого на земле, от кого можно было бы
ждать совета в сомнениях, облегчения в горе и помощи в несчастьях!
Все эти слова священник и бывшие с ним услышали и поняли, а так как им
казалось -- и действительно оно так и было, -- что произнес их кто-то
вблизи, они встали, намереваясь отыскать говорившего. Не успели они пройти
двадцати шагов, как увидели за углом скалы юношу в крестьянской одежде,
сидевшего под тенью ясеня, но лица его не могли разглядеть, потому что он
сидел с опущенной головой и мыл себе ноги в протекавшем там ручье. Они
подошли к нему так тихо, что он их не заметил; к тому же он был весь
поглощен мытьем своих ног, таких, что они казались двумя кусками белого
хрусталя, родившегося среди других камней ручейка. Их поразила белизна и
красота этих ног, которые, как им казалось, не были созданы для того, чтобы
попирать глыбы земли или ходить за плугом и волами, как на то указывала
одежда юноши. Убедившись, что тот их не заметил, священник, шедший впереди,
сделал знак остальным, чтобы они присели и спрятались за лежавшими кругом
обломками скал, что они и сделали, внимательно следя оттуда за всеми
движениями юноши. Он был одет в короткий серый плащ с капюшоном и разрезами
на боках, туго перехваченный у пояса белым полотенцем, в панталонах и
гамашах, тоже из серого сукна, на голове у него была серая суконная шапка.
Гамаши он отвернул до половины голени, которая по белизне казалась чистейшим
алебастром. Окончив мытье прекрасных своих ног, юноша тотчас же вытер их
тонким платком, который он вынул из-под своей шапки. Делая это, он приподнял
голову, и наблюдавшие за ним имели случай увидеть лицо такой несравненной
красоты, что Карденио шепнул на ухо священнику: "Так как это не Люсинда, то
наверное не человеческое существо, а божественное". Юноша снял шапку, и
когда он тряхнул головой, у него рассыпались по плечам волосы, которым могли
бы позавидовать солнечные лучи. Тогда священник и его спутники поняли, что
тот, кого они считали за крестьянского юношу, был женщиной, изящной и самой
прекрасной из всех, которых когда-либо видели священник, цирюльник и даже и
Карденио, если б только последний не видел и не знал Люсинды, так как он
потом уверял, что с ее красотой могла соперничать только красота Люсинды.
Длинные золотистые волосы не только покрывали ее плечи, но их было так
много и в таком изобилии, что они скрывали ее всю, и из-под них были видны
одни только ноги. Вместо гребня она стала расправлять себе волосы руками,
причем, если ее ноги в воде показались им кусками хрусталя, ее руки в
волосах казалась им кусками самого белого затвердевшего снега. Все это
вызвало в трех зрителях, наблюдавших за нею, еще большее восхищение и
большее желание узнать, кто она такая, поэтому они решились подойти к ней.
Но при движении, сделанном ими, когда они поднялись на ноги, красивая
девушка приподняла голову и, откинув обеими руками упавшие ей на глаза
волосы, посмотрела на тех, кто произвел шелест. Едва она увидела их, как
вскочила и, не давая себе времени надеть башмаки или привести в порядок
волосы, торопливо схватила лежавший подле нее узелок и, исполненная смущения
и испуга, хотела бежать. Но не успела она сделать и шести шагов, как упала
на землю, потому что нежные ее ноги не в состоянии были стерпеть боль,
причиняемую острыми камнями. Увидав это, те трое подбежали к ней, и
священник первый сказал ей: "Остановитесь, сеньора, кто бы вы ни были, так
как мы все -- которых вы здесь видите -- имеем лишь одно намерение --
служить вам. Итак, у вас нет причины обращаться в столь поспешное бегство: и
ноги ваши не в состоянии вынести его, и мы не можем согласиться на все это.
-- Изумленная и смущенная, она не ответила ни слова.
 Тогда они еще ближе подошли к ней, и священник, взяв ее за руку сказал:
-- То, что ваша одежда, сеньора, скрывает от нас, ваши волосы выдали
нам. Без сомнения, немаловажные причины побудили вас нарядить вашу красоту в
такую недостойную ее одежду и привели вас в эту пустынную местность, где мы
имели счастье встретить вас, если и не для того чтобы облегчить ваши
страдания, то по крайней мере для того, чтобы дать вам совет: потому что
никакое несчастье не может привести в такое уныние и дойти до такого предела
-- пока еще не угасла жизнь, -- чтобы тот, кто терпит бедствие, отказался бы
выслушать даже совет, данный ему с добрым намерением. Так что, сеньора моя,
или сеньор мой, или чем бы вы ни желали быть, отбросьте страх, вызванный в
вас нашим появлением, и расскажите нам о вашей счастливой или несчастной
судьбе, так как во всех нас вместе и в каждом в отдельности вы найдете
участие к вам в вашем горе.
Пока священник говорил таким образом, переодетая девушка стояла как
вкопанная и глядела на всех, не шевельнув губами и не произнеся ни слова,
совершенно точно деревенский парень, которому неожиданно показывают
редкостные и никогда им не виданные вещи. Но после того как священник
вторично обратился к ней, продолжая убеждать ее все в том же направлении,
она глубоко вздохнула и прервала наконец свое молчание:
-- Если уединение этих гор не было в состоянии скрыть меня от
посторонних взоров, а распустившиеся мои волосы не дозволяют языку моему
сказать ложь, напрасно стала бы я теперь снова притворяться в том, чему вы
могли бы поверить скорее из вежливости, чем по каким-либо другим
соображениям. Раз это так, сеньоры, позвольте мне прежде всего поблагодарить
вас за сделанное мне вами предложение, обязывающее меня исполнить все то, о
чем вы меня просите; хотя я и боюсь, что рассказ о моих несчастиях рядом с
состраданием вызовет в вас и огорчение, так как у вас не найдется ни
средства помочь моему горю, ни утешения, чтобы облегчить его; но тем не
менее, опасаясь, что честь моя может пострадать в ваших глазах, раз вы уже
открыли, что я женщина и видите меня молодую, одну и в такой одежде --
обстоятельства, которые все вместе взятые и каждое в отдельности, могли бы
запятнать любую женскую репутацию, -- мне приходится сказать вам то, о чем
бы я хотела лучше умолчать, если б могла.
Все это она, оказавшаяся столь красивой женщиной, проговорила без
запинки, так убедительно и таким нежным голосом, что слушатели ее были не
менее восхищены изяществом ее речи, чем ее красотой. Они опять стали
предлагать ей свои услуги и повторили просьбу исполнить обещанное, после
чего она, не заставляя себя дольше просить, очень скромно обулась, привела в
порядок волосы и уселась на камне, вокруг которого расположились трое ее
слушателей. Сделав усилие над собой, чтобы удержать слезы, набегавшие ей на
глаза, она спокойным и внятным голосом принялась рассказывать историю своей
жизни.
-- Здесь, в Андалузии, есть местечко, от которого один герцог получил
свой титул, что делает его одним из тех, кого называют в Испании грандами
{Испанским грандом делался в былые времена в Испании без дальнейших
церемоний или заслуг дворянин, которому король скажет: "Cubraos", т. е.
"Наденьте шляпу на голову". При Сервантесе и в настоящее время все гранды
равны, но первоначально они делились на три разряда: надевавшие шляпу на
голову в присутствии короля, прежде чем король говорил с ними, надевавшие ее
после того и остававшиеся с непокрытой головой до тех пор, пока он не
заговорит с ними и они не ответят ему.}. У него два сына: старший, наследник
его титула и, по-видимому, также и добрых его качеств, а младший, наследник
чего не знаю, разве только предательства Велидо и низости Галалона {Велидо и
Галалон -- два величайших предателя и изменника, часто фигурирующие в
испанских романах.}. Родители мои -- вассалы этого герцога; по происхождению
они простолюдины, но так богаты, что если бы их родовитость равнялась их
состоянию, то им не оставалось бы ничего большего желать и я не имела бы
причины опасаться увидеть себя в том грустном положении, в котором я теперь
нахожусь, так как, быть может, мое несчастье вытекает именно из скромности
происхождения моих родителей. Правда, происхождение их не столь низкое,
чтобы можно было стыдиться его, но и не столь высокое, чтобы я могла изгнать
из своей головы мысль, будто несчастье мое коренится в том, что мы не
родовитые дворяне. Коротко говоря, родители мои -- земледельцы, люди
простые, без всякой примеси дурной крови и, как принято говорить, христиане
древнего закала {Т. е. без примеси мавританской или еврейской крови.}, но
они такие богачи, что их богатство и роскошный образ жизни мало-помалу
приобретают им звание идальго и даже кабальеро {Идальго -- означало в
Испании дворянина, человека благородного происхождения, каково бы ни было
занимаемое им положение; а кабальеро -- человека, хорошо поставленного как
по рождению, так и по занимаемому им положению. В старинные времена идальго
пользовались в Испании разными привилегиями и льготами. Теперь идальгия
потеряла всякое значение, но все считаются кабальеросами.}, хотя они ценили
выше всякого богатства и знатности то, что я их дочь. Так как я была
единственной их наследницей -- других детей у них не было, -- а они были
крайне нежными родителями, то я и росла самой балованной из всех балованных
дочерей в мире. Я была зеркалом, в котором они видели себя самих, поддержкой
их старости, целью, к которой одновременно с надеждой на милосердие неба
стремились все их желания, а с этими последними, так как я знала, что они
хороши, вполне совпадали и мои желания. Властвуя над расположением и душой
моих родителей, я точно так же властвовала и над их имуществом. Слуг наших
увольняла и нанимала я; счеты и отчеты того, что сеялось и собиралось,
проходили чрез мои руки; маслобойни, виноградные давильни, крупный и мелкий
скот, пчелиные улья, -- словом, все, что могло принадлежать и принадлежало
такому богатому земледельцу, каким был мой отец, находилось под моим
наблюдением. Я была управительницей и хозяйкой и, заботясь обо всем с
большим рвением, доставляла родителям моим такое удовольствие, что я не могу
достаточно нахвалиться этим. Свободные часы, остававшиеся у меня после того,
как я сделаю все нужные распоряжения по хозяйству старшим надсмотрщикам,
пастухам и поденщикам, я проводила в занятиях, которые столь же свойственны,
как и необходимы для молодых девушек, например, за шитьем, плетением кружев,
а нередко и за веретеном. И если иногда я оставляла эти занятия, чтобы
усладить мои мысли, я прибегала к чтению какой-нибудь назидательной книги
или к игре на арфе, потому что опыт показал мне, что музыка успокаивает
взволнованную душу и дает отдых утомленному уму. Вот та жизнь, которую я
вела в доме моих родителей, и если я так подробно рассказала вам о ней, то
сделала это не из чванства и не из желания дать вам понять, что я богата, --
а чтобы вы видели, как без вины с моей стороны я из столь счастливого
положения попала в плачевное состояние, в котором нахожусь теперь. Дело в
том, что, проводя жизнь среди стольких занятий и в таком уединении, что его
можно было бы сравнить с монастырским затворничеством, я думала, что никто,
кроме домашних, не видит меня, потому что в те дни, когда я ходила к обедне,
я всегда это делала ранним утром и не иначе как в сопровождении матери и
нескольких служанок, до того закутанная и закрытая густою вуалью, что глаза
мои едва могли видеть лишь тот клочок земли, на который я ступала ногами.
Тем не менее глаза любви, или, вернее, праздности, -- еще более
проницательные, чем глаза рыси, -- выследили меня: за мной стал ухаживать
дон Фернандо; так назывался младший сын герцога, о котором я вам говорила.
Едва та, что рассказывала свою историю, произнесла имя дона Фернандо, как
вдруг Карденио переменился в лице, и капли холодного пота, вызванные сильным
волнением, выступили у него на лбу, так что священник и цирюльник, взглянув
на него, стали опасаться, чтобы с ним не случился один из тех припадков
бешенства, которые, как они слышали, по временам бывали у него. Но Карденио,
весь дрожа и видимо волнуясь, продолжал молчать, пристально устремив глаза
на крестьянскую девушку, так как он уже догадывался, кто она такая. Не
замечая волнения Карденио, она продолжала свой рассказ, говоря:
-- Едва дон Фернандо увидел меня, как он тотчас же -- судя по тому, что
он потом говорил, -- запылал ко мне страстною любовью, о чем не замедлили
свидетельствовать и его поступки. Но чтобы поскорее кончить повесть о моих
злоключениях, обойду лучше молчанием хитрости, к которым прибегал дон
Фернандо, чтобы открыть мне свою любовь. Он подкупил всю нашу прислугу,
давал и предлагал моим родственникам подарки и вознаграждения. Днем на нашей
улице шли беспрерывные празднества и увеселения, ночью никто не мог уснуть
из-за серенад; записки, которые, не знаю каким образом, попадали в мои руки,
были бесчисленны и наполнены объяснениями и предложениями любви,
заключавшими в себе больше обещаний и клятв, чем было в них букв. Но все это
не только не смягчало меня, а, наоборот, скорее ожесточало так, как будто он
мне был смертельным врагом, и все его старания подчинить меня своим желаниям
имели лишь обратное действие. Не потому чтобы он сам или его ухаживания мне
не нравились, напротив, я чувствовала какое-то, не знаю, особенное
удовольствие, видя, что столь знатный кабальеро так сильно любит и ценит
меня, и я не оскорблялась, читая в его письмах похвалы себе, потому что в
этом отношении, я думаю, что нам, женщинам, как бы мы ни были некрасивы,
всегда приятно слышать, что нас называют красивыми; но от происков дона
Фернандо меня охраняла моя скромность и беспрестанные советы моих родителей,
слишком ясно видевших намерения дона Фернандо, так как и сам он не давал
себе труда скрывать их перед кем бы то ни было. Мои родители говорили мне,
что поручают и доверяют свою честь и доброе имя только лишь моей добродетели
и правдивости и просили меня принять во внимание неравенство между мной и
доном Фернандо, из чего я могу видеть, что намерения его, хотя бы он и
уверял в противном, направлены больше к его удовольствию, чем к моей пользе,
и, если я желаю каким бы то ни было образом положить конец оскорбительному
его ухаживанью за мной, они готовы выдать меня тотчас же замуж, по моему
выбору, за одного из самых почетных лиц из нашего местечка или же из
окрестностей, так как они в праве рассчитывать на все при большом их
состоянии и моей доброй славе. Эти положительные обещания моих родителей и
уверенность в полной справедливости их слов еще более укрепила меня в моей
решимости, так что я ни разу не ответила дону Фернандо ни малейшим словом,
из которого он мог бы вывести хотя бы самую отдаленную надежду на исполнение
своих желаний. Все эти предосторожности с моей стороны, которые он, должно
быть, принял за пренебрежение, только еще более разожгли его чувственные
вожделения,-- иначе я не могу назвать любовь, которую он мне выказывал и о
которой, если бы она была тем, чем должна была быть, вы ничего не узнали бы
теперь, потому что у меня не было бы повода рассказывать вам о ней. Словом,
дон Фернандо узнал, что мои родители собираются выдать меня замуж с целью
отнять у него всякую надежду обладать мною или же, по крайней мере, дать мне
еще больше защитников, чтобы оберегать меня. Это известие или предположение
вызвали, с его стороны, поступок, о котором вы сейчас услышите. Однажды
ночью, когда я находилась в своей спальне только с девушкой, прислуживавшей
мне, двери были крепко заперты на замок из опасения, чтобы вследствие
небрежности честь моя не подверглась бы какой-либо опасности, -- не знаю и
не могу себе представить, как, среди всех этих предосторожностей, вдруг в
уединении и тишине моего убежища, дон Фернандо очутился передо мной. Вид его
так меня смутил, что в моих глазах померк свет, язык мой онемел, я не была в
состоянии крикнуть, хотя, думаю, что он и не допустил бы меня сделать это,
так как он поспешно бросился ко мне и, схватив в свои объятья, -- потому
что, повторяю, у меня не было сил защищаться, до того я была смущена, --
начал убеждать меня такими доводами, что я понять не могу, как возможно,
чтобы ложь обладала столь великим искусством и сумела придать им облик
правды. Вместе с этим изменник подтверждал свои слова слезами и свои
намерения вздохами. Я, бедняжка, выросшая в родительском доме одна,
совершенно неопытная в подобного рода делах, стала, не знаю каким образом,
принимать за истину все эти лживые уверения, но не в такой степени, чтобы
его слезы и вздохи вызвали во мне какое-либо иное чувство, кроме чувства
простого сострадания. Итак, несколько оправившись от первого потрясения и
испуга, я кое-как собралась с духом и с большим мужеством, чем сама ожидала,
сказала:
-- Сеньор, если бы, подобно тому как теперь ты держишь меня в объятьях,
я находилась в когтях у разъяренного льва и знала, что могу освободиться от
них, сделав или сказав что-либо в ущерб моей чести, -- мне так же невозможно
было бы сказать и сделать это, как невозможно, чтобы прошлое перестало быть
им; итак, если ты обхватил мое тело своими руками, я крепко обхватила душу
свою добрыми намерениями, а насколько они разнятся от твоих, ты увидишь,
если вздумаешь пустить в ход силу для достижения твоих желаний.
Я твоя вассалка, но не твоя раба. Знатность твоего рода не дает и не
может дать тебе власть бесчестить или оскорблять скромность моего рода; и я
себя -- простолюдинку и крестьянку -- ценю не ниже тебя, знаменитого
дворянина и кабальеро. Силой ты со мной ничего не достигнешь, богатство твое
не имеет для меня значения, слова твои не могут меня обмануть, вздохи и
слезы не могут тронуть. Если бы я хотя что-нибудь из всего, только что
перечисленного мною, нашла в том, кого родители мои предложили бы мне в
мужья, я свою волю согласовала бы с его волей и никогда не уклонилась бы от
нее, так что, сохранив свою честь, я даже и против влечения сердца
добровольно отдала бы ему то, чего ты, сеньор, желал бы добиться теперь
силой. Все это я говорю, чтобы ты и не думал получить что-либо от меня иначе
как в качестве законного моего супруга.
-- Если все препятствие только в этом, прекраснейшая Доротеа (так зовут
меня несчастную), -- сказал вероломный кабальеро, -- смотри, вот тебе рука
моя, что я буду твоим, а в свидетели этой истины я призываю небо, от
которого ничто не может быть скрыто, и этот образ Пресвятой Девы, стоящий
здесь у тебя.
Когда Карденио услышал, что ее зовут Доротеей, он опять вздрогнул и
окончательно убедился в справедливости первоначальной своей догадки, но, не
желая прерывать рассказа, чтобы увидеть, чем кончится то, что он почти уже
знал, он сказал только:
-- Как, сеньора, тебя зовут Доротеей? Я слышал о другой девушке,
которую звали также, и несчастная судьба ее была, кажется, похожа на твою
судьбу. Но продолжай, придет время, и я расскажу тебе вещи, которые возбудят
в тебе в такой же мере изумление, как и сострадание.
Эти слова Карденио обратили внимание Доротеи, так же как и его
странная, вся изорванная одежда, и она попросила его, если ему что-либо
известно о ее делах, тотчас же сообщить ей, потому что единственно хорошее,
оставленное ей судьбой, -- это мужество перенести всякое несчастие, какое бы
на нее ни обрушилось, в уверенности, что ничего такого не может случиться,
что хоть сколько-нибудь усилило бы ее теперешнее горе.
-- Я бы не преминул сказать тебе, сеньора, то, что я думаю, -- ответил
Карденио, -- если бы был уверен, что мое предположение истинно, но пока к
этому у меня нет оснований, да тебе и не столь важно знать о том.
-- Будь что будет, -- ответила Доротеа, -- а в моем рассказе было то,
что дон Фернандо взял икону, бывшую у меня в спальне, и поставил ее перед
нами в свидетели нашего брака и в самых пламенных выражениях, самыми
торжественными клятвами дал мне слово сделаться моим мужем, хотя я, прежде
чем он успел договорить, просила его хорошенько обдумать, что он делает, и
помнить о гневе его отца, когда тот узнает, что его сын женился на простой
крестьянке, своей вассалке; я говорила ему, чтобы он не допускал себя
ослепляться моей красотой, такой, какая она есть, потому что она
недостаточно велика, чтобы служить оправданием его заблуждению. Если же он
желает сделать мне хоть сколько-нибудь добра, ради любви, которую ко мне
питает, пусть предоставит судьбе устроить меня соответственно моему
положению, потому что такие неравные браки никогда не бывают счастливы, и
увлечение, с которого они начинаются, продолжается недолго. Все, только что
сказанное, я говорила ему и тогда, и еще многое другое, чего теперь не
помню. Но все мои доводы и убеждения не могли отклонить его от принятого им
решения, подобно тому как человек, не имеющий в виду платить, не
останавливается ни перед какими затруднениями, чтобы заключить сделку.
Затем, быстро обсудив все это в уме, я сказала себе: "Не я буду первой,
которая путем брака перешла из скромного положения на высокую общественную
ступень, и дон Фернандо будет не первым, которого красота или -- что еще
вернее -- слепая любовь отодвинула избрать себе в подруги жизни девушку,
ниже его по происхождению. Но так как я своим согласием не внесу ничего
нового ни в мир, ни в обычаи, не лучше ли будет не отказываться мне от
чести, которую судьба преподносит мне, и, если бы даже страсть дона Фернандо
длилась лишь до той поры, пока его желание не получило удовлетворения, все
же я буду перед Богом его женой. Если ж, наоборот, я с презрением оттолкну
его теперь, он, насколько я вижу, в состоянии, презрев свой долг, прибегнуть
к силе, и тогда я окажусь обесчещенной и ни у кого не найду оправдания в
вине, которую всякий припишет мне, не зная, насколько я невинно попала в
такое положение, потому что какие доводы будут достаточны, чтоб убедить моих
родителей и других в том, что этот кабальеро вошел в мою спальню без моего
согласия? Все эти вопросы и ответы мгновенно пронеслись в уме, но более
всего побудили и склонили меня к тому, что случилось и что, хотя я этого не
думала, оказалось моею гибелью; клятвы дона Фернандо, свидетели, которых он
призывал, слезы, проливаемые им, и, наконец, изящная и привлекательная его
наружность, -- и все это, в соединении с столь многими признаками истинной
любви, могло бы победить и всякое другое, столь же свободное и неопытное
сердце, каким было мое. Я позвала свою служанку, чтобы она присоединила
свидетельство свое на земле к свидетельству небес. Дон Фернандо повторил и
подтвердил в ее присутствии свои клятвы, призывая в свидетели, кроме
прежних, еще новых святых, а на свою голову обрушивал тысячи проклятий, если
он не исполнит того, что обещает мне. Снова глаза его наполнились слезами,
вздохи усилились, он еще крепче сжал меня в своих объятьях, из которых все
время не выпускал меня; и, после того как из комнаты вышла моя девушка, я
перестала ею быть, а он сделался клятвопреступником и изменником.
Тогда они еще ближе подошли к ней, и священник, взяв ее за руку сказал:
-- То, что ваша одежда, сеньора, скрывает от нас, ваши волосы выдали
нам. Без сомнения, немаловажные причины побудили вас нарядить вашу красоту в
такую недостойную ее одежду и привели вас в эту пустынную местность, где мы
имели счастье встретить вас, если и не для того чтобы облегчить ваши
страдания, то по крайней мере для того, чтобы дать вам совет: потому что
никакое несчастье не может привести в такое уныние и дойти до такого предела
-- пока еще не угасла жизнь, -- чтобы тот, кто терпит бедствие, отказался бы
выслушать даже совет, данный ему с добрым намерением. Так что, сеньора моя,
или сеньор мой, или чем бы вы ни желали быть, отбросьте страх, вызванный в
вас нашим появлением, и расскажите нам о вашей счастливой или несчастной
судьбе, так как во всех нас вместе и в каждом в отдельности вы найдете
участие к вам в вашем горе.
Пока священник говорил таким образом, переодетая девушка стояла как
вкопанная и глядела на всех, не шевельнув губами и не произнеся ни слова,
совершенно точно деревенский парень, которому неожиданно показывают
редкостные и никогда им не виданные вещи. Но после того как священник
вторично обратился к ней, продолжая убеждать ее все в том же направлении,
она глубоко вздохнула и прервала наконец свое молчание:
-- Если уединение этих гор не было в состоянии скрыть меня от
посторонних взоров, а распустившиеся мои волосы не дозволяют языку моему
сказать ложь, напрасно стала бы я теперь снова притворяться в том, чему вы
могли бы поверить скорее из вежливости, чем по каким-либо другим
соображениям. Раз это так, сеньоры, позвольте мне прежде всего поблагодарить
вас за сделанное мне вами предложение, обязывающее меня исполнить все то, о
чем вы меня просите; хотя я и боюсь, что рассказ о моих несчастиях рядом с
состраданием вызовет в вас и огорчение, так как у вас не найдется ни
средства помочь моему горю, ни утешения, чтобы облегчить его; но тем не
менее, опасаясь, что честь моя может пострадать в ваших глазах, раз вы уже
открыли, что я женщина и видите меня молодую, одну и в такой одежде --
обстоятельства, которые все вместе взятые и каждое в отдельности, могли бы
запятнать любую женскую репутацию, -- мне приходится сказать вам то, о чем
бы я хотела лучше умолчать, если б могла.
Все это она, оказавшаяся столь красивой женщиной, проговорила без
запинки, так убедительно и таким нежным голосом, что слушатели ее были не
менее восхищены изяществом ее речи, чем ее красотой. Они опять стали
предлагать ей свои услуги и повторили просьбу исполнить обещанное, после
чего она, не заставляя себя дольше просить, очень скромно обулась, привела в
порядок волосы и уселась на камне, вокруг которого расположились трое ее
слушателей. Сделав усилие над собой, чтобы удержать слезы, набегавшие ей на
глаза, она спокойным и внятным голосом принялась рассказывать историю своей
жизни.
-- Здесь, в Андалузии, есть местечко, от которого один герцог получил
свой титул, что делает его одним из тех, кого называют в Испании грандами
{Испанским грандом делался в былые времена в Испании без дальнейших
церемоний или заслуг дворянин, которому король скажет: "Cubraos", т. е.
"Наденьте шляпу на голову". При Сервантесе и в настоящее время все гранды
равны, но первоначально они делились на три разряда: надевавшие шляпу на
голову в присутствии короля, прежде чем король говорил с ними, надевавшие ее
после того и остававшиеся с непокрытой головой до тех пор, пока он не
заговорит с ними и они не ответят ему.}. У него два сына: старший, наследник
его титула и, по-видимому, также и добрых его качеств, а младший, наследник
чего не знаю, разве только предательства Велидо и низости Галалона {Велидо и
Галалон -- два величайших предателя и изменника, часто фигурирующие в
испанских романах.}. Родители мои -- вассалы этого герцога; по происхождению
они простолюдины, но так богаты, что если бы их родовитость равнялась их
состоянию, то им не оставалось бы ничего большего желать и я не имела бы
причины опасаться увидеть себя в том грустном положении, в котором я теперь
нахожусь, так как, быть может, мое несчастье вытекает именно из скромности
происхождения моих родителей. Правда, происхождение их не столь низкое,
чтобы можно было стыдиться его, но и не столь высокое, чтобы я могла изгнать
из своей головы мысль, будто несчастье мое коренится в том, что мы не
родовитые дворяне. Коротко говоря, родители мои -- земледельцы, люди
простые, без всякой примеси дурной крови и, как принято говорить, христиане
древнего закала {Т. е. без примеси мавританской или еврейской крови.}, но
они такие богачи, что их богатство и роскошный образ жизни мало-помалу
приобретают им звание идальго и даже кабальеро {Идальго -- означало в
Испании дворянина, человека благородного происхождения, каково бы ни было
занимаемое им положение; а кабальеро -- человека, хорошо поставленного как
по рождению, так и по занимаемому им положению. В старинные времена идальго
пользовались в Испании разными привилегиями и льготами. Теперь идальгия
потеряла всякое значение, но все считаются кабальеросами.}, хотя они ценили
выше всякого богатства и знатности то, что я их дочь. Так как я была
единственной их наследницей -- других детей у них не было, -- а они были
крайне нежными родителями, то я и росла самой балованной из всех балованных
дочерей в мире. Я была зеркалом, в котором они видели себя самих, поддержкой
их старости, целью, к которой одновременно с надеждой на милосердие неба
стремились все их желания, а с этими последними, так как я знала, что они
хороши, вполне совпадали и мои желания. Властвуя над расположением и душой
моих родителей, я точно так же властвовала и над их имуществом. Слуг наших
увольняла и нанимала я; счеты и отчеты того, что сеялось и собиралось,
проходили чрез мои руки; маслобойни, виноградные давильни, крупный и мелкий
скот, пчелиные улья, -- словом, все, что могло принадлежать и принадлежало
такому богатому земледельцу, каким был мой отец, находилось под моим
наблюдением. Я была управительницей и хозяйкой и, заботясь обо всем с
большим рвением, доставляла родителям моим такое удовольствие, что я не могу
достаточно нахвалиться этим. Свободные часы, остававшиеся у меня после того,
как я сделаю все нужные распоряжения по хозяйству старшим надсмотрщикам,
пастухам и поденщикам, я проводила в занятиях, которые столь же свойственны,
как и необходимы для молодых девушек, например, за шитьем, плетением кружев,
а нередко и за веретеном. И если иногда я оставляла эти занятия, чтобы
усладить мои мысли, я прибегала к чтению какой-нибудь назидательной книги
или к игре на арфе, потому что опыт показал мне, что музыка успокаивает
взволнованную душу и дает отдых утомленному уму. Вот та жизнь, которую я
вела в доме моих родителей, и если я так подробно рассказала вам о ней, то
сделала это не из чванства и не из желания дать вам понять, что я богата, --
а чтобы вы видели, как без вины с моей стороны я из столь счастливого
положения попала в плачевное состояние, в котором нахожусь теперь. Дело в
том, что, проводя жизнь среди стольких занятий и в таком уединении, что его
можно было бы сравнить с монастырским затворничеством, я думала, что никто,
кроме домашних, не видит меня, потому что в те дни, когда я ходила к обедне,
я всегда это делала ранним утром и не иначе как в сопровождении матери и
нескольких служанок, до того закутанная и закрытая густою вуалью, что глаза
мои едва могли видеть лишь тот клочок земли, на который я ступала ногами.
Тем не менее глаза любви, или, вернее, праздности, -- еще более
проницательные, чем глаза рыси, -- выследили меня: за мной стал ухаживать
дон Фернандо; так назывался младший сын герцога, о котором я вам говорила.
Едва та, что рассказывала свою историю, произнесла имя дона Фернандо, как
вдруг Карденио переменился в лице, и капли холодного пота, вызванные сильным
волнением, выступили у него на лбу, так что священник и цирюльник, взглянув
на него, стали опасаться, чтобы с ним не случился один из тех припадков
бешенства, которые, как они слышали, по временам бывали у него. Но Карденио,
весь дрожа и видимо волнуясь, продолжал молчать, пристально устремив глаза
на крестьянскую девушку, так как он уже догадывался, кто она такая. Не
замечая волнения Карденио, она продолжала свой рассказ, говоря:
-- Едва дон Фернандо увидел меня, как он тотчас же -- судя по тому, что
он потом говорил, -- запылал ко мне страстною любовью, о чем не замедлили
свидетельствовать и его поступки. Но чтобы поскорее кончить повесть о моих
злоключениях, обойду лучше молчанием хитрости, к которым прибегал дон
Фернандо, чтобы открыть мне свою любовь. Он подкупил всю нашу прислугу,
давал и предлагал моим родственникам подарки и вознаграждения. Днем на нашей
улице шли беспрерывные празднества и увеселения, ночью никто не мог уснуть
из-за серенад; записки, которые, не знаю каким образом, попадали в мои руки,
были бесчисленны и наполнены объяснениями и предложениями любви,
заключавшими в себе больше обещаний и клятв, чем было в них букв. Но все это
не только не смягчало меня, а, наоборот, скорее ожесточало так, как будто он
мне был смертельным врагом, и все его старания подчинить меня своим желаниям
имели лишь обратное действие. Не потому чтобы он сам или его ухаживания мне
не нравились, напротив, я чувствовала какое-то, не знаю, особенное
удовольствие, видя, что столь знатный кабальеро так сильно любит и ценит
меня, и я не оскорблялась, читая в его письмах похвалы себе, потому что в
этом отношении, я думаю, что нам, женщинам, как бы мы ни были некрасивы,
всегда приятно слышать, что нас называют красивыми; но от происков дона
Фернандо меня охраняла моя скромность и беспрестанные советы моих родителей,
слишком ясно видевших намерения дона Фернандо, так как и сам он не давал
себе труда скрывать их перед кем бы то ни было. Мои родители говорили мне,
что поручают и доверяют свою честь и доброе имя только лишь моей добродетели
и правдивости и просили меня принять во внимание неравенство между мной и
доном Фернандо, из чего я могу видеть, что намерения его, хотя бы он и
уверял в противном, направлены больше к его удовольствию, чем к моей пользе,
и, если я желаю каким бы то ни было образом положить конец оскорбительному
его ухаживанью за мной, они готовы выдать меня тотчас же замуж, по моему
выбору, за одного из самых почетных лиц из нашего местечка или же из
окрестностей, так как они в праве рассчитывать на все при большом их
состоянии и моей доброй славе. Эти положительные обещания моих родителей и
уверенность в полной справедливости их слов еще более укрепила меня в моей
решимости, так что я ни разу не ответила дону Фернандо ни малейшим словом,
из которого он мог бы вывести хотя бы самую отдаленную надежду на исполнение
своих желаний. Все эти предосторожности с моей стороны, которые он, должно
быть, принял за пренебрежение, только еще более разожгли его чувственные
вожделения,-- иначе я не могу назвать любовь, которую он мне выказывал и о
которой, если бы она была тем, чем должна была быть, вы ничего не узнали бы
теперь, потому что у меня не было бы повода рассказывать вам о ней. Словом,
дон Фернандо узнал, что мои родители собираются выдать меня замуж с целью
отнять у него всякую надежду обладать мною или же, по крайней мере, дать мне
еще больше защитников, чтобы оберегать меня. Это известие или предположение
вызвали, с его стороны, поступок, о котором вы сейчас услышите. Однажды
ночью, когда я находилась в своей спальне только с девушкой, прислуживавшей
мне, двери были крепко заперты на замок из опасения, чтобы вследствие
небрежности честь моя не подверглась бы какой-либо опасности, -- не знаю и
не могу себе представить, как, среди всех этих предосторожностей, вдруг в
уединении и тишине моего убежища, дон Фернандо очутился передо мной. Вид его
так меня смутил, что в моих глазах померк свет, язык мой онемел, я не была в
состоянии крикнуть, хотя, думаю, что он и не допустил бы меня сделать это,
так как он поспешно бросился ко мне и, схватив в свои объятья, -- потому
что, повторяю, у меня не было сил защищаться, до того я была смущена, --
начал убеждать меня такими доводами, что я понять не могу, как возможно,
чтобы ложь обладала столь великим искусством и сумела придать им облик
правды. Вместе с этим изменник подтверждал свои слова слезами и свои
намерения вздохами. Я, бедняжка, выросшая в родительском доме одна,
совершенно неопытная в подобного рода делах, стала, не знаю каким образом,
принимать за истину все эти лживые уверения, но не в такой степени, чтобы
его слезы и вздохи вызвали во мне какое-либо иное чувство, кроме чувства
простого сострадания. Итак, несколько оправившись от первого потрясения и
испуга, я кое-как собралась с духом и с большим мужеством, чем сама ожидала,
сказала:
-- Сеньор, если бы, подобно тому как теперь ты держишь меня в объятьях,
я находилась в когтях у разъяренного льва и знала, что могу освободиться от
них, сделав или сказав что-либо в ущерб моей чести, -- мне так же невозможно
было бы сказать и сделать это, как невозможно, чтобы прошлое перестало быть
им; итак, если ты обхватил мое тело своими руками, я крепко обхватила душу
свою добрыми намерениями, а насколько они разнятся от твоих, ты увидишь,
если вздумаешь пустить в ход силу для достижения твоих желаний.
Я твоя вассалка, но не твоя раба. Знатность твоего рода не дает и не
может дать тебе власть бесчестить или оскорблять скромность моего рода; и я
себя -- простолюдинку и крестьянку -- ценю не ниже тебя, знаменитого
дворянина и кабальеро. Силой ты со мной ничего не достигнешь, богатство твое
не имеет для меня значения, слова твои не могут меня обмануть, вздохи и
слезы не могут тронуть. Если бы я хотя что-нибудь из всего, только что
перечисленного мною, нашла в том, кого родители мои предложили бы мне в
мужья, я свою волю согласовала бы с его волей и никогда не уклонилась бы от
нее, так что, сохранив свою честь, я даже и против влечения сердца
добровольно отдала бы ему то, чего ты, сеньор, желал бы добиться теперь
силой. Все это я говорю, чтобы ты и не думал получить что-либо от меня иначе
как в качестве законного моего супруга.
-- Если все препятствие только в этом, прекраснейшая Доротеа (так зовут
меня несчастную), -- сказал вероломный кабальеро, -- смотри, вот тебе рука
моя, что я буду твоим, а в свидетели этой истины я призываю небо, от
которого ничто не может быть скрыто, и этот образ Пресвятой Девы, стоящий
здесь у тебя.
Когда Карденио услышал, что ее зовут Доротеей, он опять вздрогнул и
окончательно убедился в справедливости первоначальной своей догадки, но, не
желая прерывать рассказа, чтобы увидеть, чем кончится то, что он почти уже
знал, он сказал только:
-- Как, сеньора, тебя зовут Доротеей? Я слышал о другой девушке,
которую звали также, и несчастная судьба ее была, кажется, похожа на твою
судьбу. Но продолжай, придет время, и я расскажу тебе вещи, которые возбудят
в тебе в такой же мере изумление, как и сострадание.
Эти слова Карденио обратили внимание Доротеи, так же как и его
странная, вся изорванная одежда, и она попросила его, если ему что-либо
известно о ее делах, тотчас же сообщить ей, потому что единственно хорошее,
оставленное ей судьбой, -- это мужество перенести всякое несчастие, какое бы
на нее ни обрушилось, в уверенности, что ничего такого не может случиться,
что хоть сколько-нибудь усилило бы ее теперешнее горе.
-- Я бы не преминул сказать тебе, сеньора, то, что я думаю, -- ответил
Карденио, -- если бы был уверен, что мое предположение истинно, но пока к
этому у меня нет оснований, да тебе и не столь важно знать о том.
-- Будь что будет, -- ответила Доротеа, -- а в моем рассказе было то,
что дон Фернандо взял икону, бывшую у меня в спальне, и поставил ее перед
нами в свидетели нашего брака и в самых пламенных выражениях, самыми
торжественными клятвами дал мне слово сделаться моим мужем, хотя я, прежде
чем он успел договорить, просила его хорошенько обдумать, что он делает, и
помнить о гневе его отца, когда тот узнает, что его сын женился на простой
крестьянке, своей вассалке; я говорила ему, чтобы он не допускал себя
ослепляться моей красотой, такой, какая она есть, потому что она
недостаточно велика, чтобы служить оправданием его заблуждению. Если же он
желает сделать мне хоть сколько-нибудь добра, ради любви, которую ко мне
питает, пусть предоставит судьбе устроить меня соответственно моему
положению, потому что такие неравные браки никогда не бывают счастливы, и
увлечение, с которого они начинаются, продолжается недолго. Все, только что
сказанное, я говорила ему и тогда, и еще многое другое, чего теперь не
помню. Но все мои доводы и убеждения не могли отклонить его от принятого им
решения, подобно тому как человек, не имеющий в виду платить, не
останавливается ни перед какими затруднениями, чтобы заключить сделку.
Затем, быстро обсудив все это в уме, я сказала себе: "Не я буду первой,
которая путем брака перешла из скромного положения на высокую общественную
ступень, и дон Фернандо будет не первым, которого красота или -- что еще
вернее -- слепая любовь отодвинула избрать себе в подруги жизни девушку,
ниже его по происхождению. Но так как я своим согласием не внесу ничего
нового ни в мир, ни в обычаи, не лучше ли будет не отказываться мне от
чести, которую судьба преподносит мне, и, если бы даже страсть дона Фернандо
длилась лишь до той поры, пока его желание не получило удовлетворения, все
же я буду перед Богом его женой. Если ж, наоборот, я с презрением оттолкну
его теперь, он, насколько я вижу, в состоянии, презрев свой долг, прибегнуть
к силе, и тогда я окажусь обесчещенной и ни у кого не найду оправдания в
вине, которую всякий припишет мне, не зная, насколько я невинно попала в
такое положение, потому что какие доводы будут достаточны, чтоб убедить моих
родителей и других в том, что этот кабальеро вошел в мою спальню без моего
согласия? Все эти вопросы и ответы мгновенно пронеслись в уме, но более
всего побудили и склонили меня к тому, что случилось и что, хотя я этого не
думала, оказалось моею гибелью; клятвы дона Фернандо, свидетели, которых он
призывал, слезы, проливаемые им, и, наконец, изящная и привлекательная его
наружность, -- и все это, в соединении с столь многими признаками истинной
любви, могло бы победить и всякое другое, столь же свободное и неопытное
сердце, каким было мое. Я позвала свою служанку, чтобы она присоединила
свидетельство свое на земле к свидетельству небес. Дон Фернандо повторил и
подтвердил в ее присутствии свои клятвы, призывая в свидетели, кроме
прежних, еще новых святых, а на свою голову обрушивал тысячи проклятий, если
он не исполнит того, что обещает мне. Снова глаза его наполнились слезами,
вздохи усилились, он еще крепче сжал меня в своих объятьях, из которых все
время не выпускал меня; и, после того как из комнаты вышла моя девушка, я
перестала ею быть, а он сделался клятвопреступником и изменником.
 День, последовавший за ночью моего несчастья, не настал, однако, так
скоро, как, мне думается, того желал дон Фернандо, потому что, удовлетворив
свое вожделение, нет большего желания, как удалиться оттуда, где это
произошло. Говорю так оттого, что дон Фернандо поторопился расстаться со
мной, и с помощью той же служанки, которая провела его в мою комнату, он еще
до рассвета очутился на улице. Прощаясь со мной, хотя уже менее горячо и
страстно, чем когда пришел, дон Фернандо сказал, чтобы я не сомневалась в
его верности и в непреложности и истине его клятв, и для большего
подтверждения своего слова, он снял с пальца дорогое кольцо и надел его на
мой палец. После того он ушел, а я осталась, -- не знаю, печальная ли или
веселая, -- знаю только, что я была задумчива, смущена и почти вне себя от
неожиданного события и что у меня не хватило духа или же я забыла выбранить
мою служанку за предательство, в котором она оказалась повинной, спрятав
дона Фернандо у меня в спальне; я еще сама не знала, было ли то, что
случилось, моим счастьем или несчастьем. Прощаясь с доном Фернандо, я
сказала, что теперь, когда я принадлежу ему, он может тем же способом и в
другие ночи видеться со мной до тех пор, пока не пожелает огласить
случившееся. Но дон Фернандо пришел только лишь в следующую ночь и больше
уже не являлся, и я не могла его видеть ни на улице, ни в церкви в течение
более чем месяца, тщетно домогаясь встретиться с ним, хотя я знала, что он в
городе и часто бывает на охоте, -- одно из любимых его занятий. Те дни и
часы, -- хорошо знаю я, как тяжки и горьки были они для меня, и хорошо знаю,
что тогда же я стала сомневаться и терять веру в дона Фернандо, знаю также,
что моя служанка услышала в те дни упреки за свою дерзость, которых до тех
пор не слышала от меня, и знаю еще, каких усилий мне стоило сдерживать слезы
и казаться веселой, чтобы не дать родителям моим повода спрашивать о причине
моего огорчения и не быть вынужденной отвечать им ложью. Но все это внезапно
кончилось, когда случилось то, что уничтожило во мне всякую сдержанность и
всякие соображения о чести и осторожности, что истощило мое терпение и
принудило вырваться наружу все мои тайные мысли; а случилось то, что вскоре
прошел в нашем местечке слух, будто дон Фернандо женился в соседнем городе
на девушке необычайной красоты и очень знатного рода, хотя и не настолько
богатой, чтобы по своему приданому она могла рассчитывать на такую блестящую
для себя партию. Говорили, что зовут ее Люсиндой и рассказывали об
удивительных обстоятельствах, приключившихся во время ее венчания.
Услыхав имя Люсинды, Карденио только пожал плечами, закусил губы,
нахмурил брови, и из глаз его полились ручьи слез. Но это не остановило
Доротею, и она продолжала свой рассказ, говоря:
-- Печальная эта новость дошла до моего слуха, но сердце мое вместо
того, чтобы застыть от ужаса, загорелось таким бешенством и гневом, что я
едва не выбежала на улицу, возглашая громким криком об измене и низости,
жертвой которой я сделалась. Но я сдержала временно свое бешенство,
решившись на то, что и привела в исполнение в туже ночь, именно: я надела на
себя вот эту одежду, которую мне дал один из младших пастухов, служивших у
моего отца, открыла ему все мое несчастие и просила его проводить до города,
где, как я слышала, находился мой враг. Хотя и не одобряя моего
безрассудства и порицая мое решение, но убедившись, что я не отступлю от
своего намерения, пастух предложил идти со мной, как он выразился, до края
света.
Тотчас же уложила я в полотняную наволочку женское платье, некоторые
драгоценности и немного денег на всякий случай и в ночной тишине, не сказав
ничего вероломной своей служанке, покинула родительский дом, сопровождаемая
моим слугой и многими тяжкими мыслями. Я направилась в город пешком,
окрыленная желанием прибыть туда если не с целью расстроить то, что я
считала уже совершившимся, но, по крайней мере, чтобы спросить дона
Фернандо, как у него хватило духа на такой поступок? Через два с половиною
дня я дошла, куда желала, и, входя в город, спросила, где живут родители
Люсинды, и первый встречный, к которому я обратилась с этим вопросом,
сообщил больше, чем я желала слышать. Он показал мне дом родителей Люсинды и
рассказал все, что случилось во время венчания их дочери, -- событие, до
того общеизвестное в городе, что на перекрестках улиц толпами собираются
поболтать об этом. Рассказал он, будто в ту ночь, когда дон Фернандо был
обвенчан с Люсиндой, после того, как она произнесла да, выражавшее ее
согласие сделаться его женой, она упала в глубокий обморок, а когда жених
подошел к ней расшнуровать ей платье, чтобы она могла лучше дышать, он нашел
письмо, написанное собственноручно Люсиндой, в котором она говорила и
объявляла, что не может быть женой дона Фернандо, потому что она уже жена
Карденио -- очень знатного кабальеро из того же города, как сообщил мне тот
человек, и если она дала свое согласие дону Фернандо, то лишь только потому,
чтобы не выйти из должного повиновения своим родителям. Наконец он еще
сообщил, что в письме заключались и слова, дававшие ясно понять, что она
имеет намерение убить себя тотчас же после венчания, и приводила также и
причины, вынуждавшие ее к самоубийству. Все это, говорят, подтвердил и
кинжал, найденный, не знаю, где-то у нее в платье. Когда дон Фернандо все
это увидел, он, думая, что Люсинда обманула его, унизила и насмеялась над
ним, бросился к ней прежде, чем она очнулась от обморока, и тем же найденным
у нее кинжалом хотел заколоть ее и сделал бы это, если б ее родители и
другие присутствовавшие не удержали его. Кроме того, рассказывали еще, что
дон Фернандо тотчас же уехал, а Люсинда пришла в себя от своего обморока
только на следующий день и объявила отцу и матери, что она действительно
жена того Карденио, о котором я вам говорила. И еще я узнала, что Карденио
будто бы присутствовал при венчании Люсинды и, увидав ее повенчанной -- чему
бы он никогда не поверил, -- в отчаянии бежал из города, оставив письмо, в
котором выяснял, какое оскорбление нанесла ему Люсинда, и что теперь он
уходит туда, где ни один людской глаз не увидит его. Все это было известно
всем, и все в городе говорили об этом и еще больше заговорили, когда
разнеслась весть, что Люсинда исчезла из родительского дома и из города и ее
нигде не могли найти, вследствие чего отец и мать ее чуть не сошли с ума, и
не знали, каким путем и способом разыскать ее. Все эти известия вновь
воскресили мои надежды, и я сочла лучше для себя не найти дона Фернандо, чем
найти его женатым, так как мне казалось, что еще не совсем закрыта дверь к
моему спасению, и я мечтала: быть может, небо поставило это препятствие
второму браку дона Фернандо, чтобы напомнить ему о его обязанностях к
первому браку и заставить подумать о том, что он христианин и скорее должен
принять во внимание благо своей души, чем земные расчеты. Все эти мысли
вращались в моем уме, и я себя утешала, не находя утешения, и грезила
отдаленными и обманчивыми надеждами, чтобы поддержать жизнь, к которой
теперь чувствую отвращение. Когда я еще была в городе, не зная, что делать,
так как я не находила дона Фернандо, вдруг до слуха моего достигло
объявление через уличного глашатая, в котором обещалась значительная награда
тому, кто меня найдет, и с точностью описывались мой возраст и бывшая на мне
одежда; и я слышала, что говорили, будто слуга, находившийся со мною,
похитил меня из родительского дома. Это поразило меня прямо в сердце, так
как я увидела, до чего опорочена моя репутация: мало того что я ее уронила
своим бегством, но еще прибавляли, с кем я бежала, -- с человеком, столь
низко поставленным и столь недостойным моего выбора. Как только я услышала
это уличное объявление, тотчас же покинула я город с моим слугой, уже
начинавшим выказывать некоторые признаки колебания в обещанной им мне
верности, и в ту же ночь, опасаясь быть узнанными, мы с ним пробрались в
самую глубь этих гор. Но как принято говорить: одна беда ведет другую, и
конец одного несчастья обыкновенно бывает началом другого, еще большего. Так
случилось и со мной, потому что добрый мой слуга, верный и преданный до тех
пор, лишь только увидел меня в таком уединении, возбужденный скорее
собственною низостью, чем моей красотой, захотел воспользоваться случаем,
который, по его мнению, представляла ему эта пустыня; и, забыв стыд, а еще
больше страх божий и уважение ко мне, стал домогаться моей любви, но,
увидав, что я отвечаю на его бесчестные предложения строгими и справедливыми
укорами, он бросил упрашивания, которыми сначала надеялся достигнуть своего,
и прибег к силе. Однако справедливое небо, которое редко или же никогда не
отказывает в помощи и покровительстве добрым намерениям, благоприятствовало
и моим, так что я со слабыми своими силами без большого труда столкнула
негодяя в пропасть, где и оставила его, не знаю, живого или мертвого. И
тотчас же, быстрее, чем, казалось, испуг и утомление могли мне позволить, я
углубилась дальше в эти горы без всякой иной мысли и иного намерения, как
только скрыться в них и бежать от моего отца и всех тех, кто был послан им
разыскивать меня.
День, последовавший за ночью моего несчастья, не настал, однако, так
скоро, как, мне думается, того желал дон Фернандо, потому что, удовлетворив
свое вожделение, нет большего желания, как удалиться оттуда, где это
произошло. Говорю так оттого, что дон Фернандо поторопился расстаться со
мной, и с помощью той же служанки, которая провела его в мою комнату, он еще
до рассвета очутился на улице. Прощаясь со мной, хотя уже менее горячо и
страстно, чем когда пришел, дон Фернандо сказал, чтобы я не сомневалась в
его верности и в непреложности и истине его клятв, и для большего
подтверждения своего слова, он снял с пальца дорогое кольцо и надел его на
мой палец. После того он ушел, а я осталась, -- не знаю, печальная ли или
веселая, -- знаю только, что я была задумчива, смущена и почти вне себя от
неожиданного события и что у меня не хватило духа или же я забыла выбранить
мою служанку за предательство, в котором она оказалась повинной, спрятав
дона Фернандо у меня в спальне; я еще сама не знала, было ли то, что
случилось, моим счастьем или несчастьем. Прощаясь с доном Фернандо, я
сказала, что теперь, когда я принадлежу ему, он может тем же способом и в
другие ночи видеться со мной до тех пор, пока не пожелает огласить
случившееся. Но дон Фернандо пришел только лишь в следующую ночь и больше
уже не являлся, и я не могла его видеть ни на улице, ни в церкви в течение
более чем месяца, тщетно домогаясь встретиться с ним, хотя я знала, что он в
городе и часто бывает на охоте, -- одно из любимых его занятий. Те дни и
часы, -- хорошо знаю я, как тяжки и горьки были они для меня, и хорошо знаю,
что тогда же я стала сомневаться и терять веру в дона Фернандо, знаю также,
что моя служанка услышала в те дни упреки за свою дерзость, которых до тех
пор не слышала от меня, и знаю еще, каких усилий мне стоило сдерживать слезы
и казаться веселой, чтобы не дать родителям моим повода спрашивать о причине
моего огорчения и не быть вынужденной отвечать им ложью. Но все это внезапно
кончилось, когда случилось то, что уничтожило во мне всякую сдержанность и
всякие соображения о чести и осторожности, что истощило мое терпение и
принудило вырваться наружу все мои тайные мысли; а случилось то, что вскоре
прошел в нашем местечке слух, будто дон Фернандо женился в соседнем городе
на девушке необычайной красоты и очень знатного рода, хотя и не настолько
богатой, чтобы по своему приданому она могла рассчитывать на такую блестящую
для себя партию. Говорили, что зовут ее Люсиндой и рассказывали об
удивительных обстоятельствах, приключившихся во время ее венчания.
Услыхав имя Люсинды, Карденио только пожал плечами, закусил губы,
нахмурил брови, и из глаз его полились ручьи слез. Но это не остановило
Доротею, и она продолжала свой рассказ, говоря:
-- Печальная эта новость дошла до моего слуха, но сердце мое вместо
того, чтобы застыть от ужаса, загорелось таким бешенством и гневом, что я
едва не выбежала на улицу, возглашая громким криком об измене и низости,
жертвой которой я сделалась. Но я сдержала временно свое бешенство,
решившись на то, что и привела в исполнение в туже ночь, именно: я надела на
себя вот эту одежду, которую мне дал один из младших пастухов, служивших у
моего отца, открыла ему все мое несчастие и просила его проводить до города,
где, как я слышала, находился мой враг. Хотя и не одобряя моего
безрассудства и порицая мое решение, но убедившись, что я не отступлю от
своего намерения, пастух предложил идти со мной, как он выразился, до края
света.
Тотчас же уложила я в полотняную наволочку женское платье, некоторые
драгоценности и немного денег на всякий случай и в ночной тишине, не сказав
ничего вероломной своей служанке, покинула родительский дом, сопровождаемая
моим слугой и многими тяжкими мыслями. Я направилась в город пешком,
окрыленная желанием прибыть туда если не с целью расстроить то, что я
считала уже совершившимся, но, по крайней мере, чтобы спросить дона
Фернандо, как у него хватило духа на такой поступок? Через два с половиною
дня я дошла, куда желала, и, входя в город, спросила, где живут родители
Люсинды, и первый встречный, к которому я обратилась с этим вопросом,
сообщил больше, чем я желала слышать. Он показал мне дом родителей Люсинды и
рассказал все, что случилось во время венчания их дочери, -- событие, до
того общеизвестное в городе, что на перекрестках улиц толпами собираются
поболтать об этом. Рассказал он, будто в ту ночь, когда дон Фернандо был
обвенчан с Люсиндой, после того, как она произнесла да, выражавшее ее
согласие сделаться его женой, она упала в глубокий обморок, а когда жених
подошел к ней расшнуровать ей платье, чтобы она могла лучше дышать, он нашел
письмо, написанное собственноручно Люсиндой, в котором она говорила и
объявляла, что не может быть женой дона Фернандо, потому что она уже жена
Карденио -- очень знатного кабальеро из того же города, как сообщил мне тот
человек, и если она дала свое согласие дону Фернандо, то лишь только потому,
чтобы не выйти из должного повиновения своим родителям. Наконец он еще
сообщил, что в письме заключались и слова, дававшие ясно понять, что она
имеет намерение убить себя тотчас же после венчания, и приводила также и
причины, вынуждавшие ее к самоубийству. Все это, говорят, подтвердил и
кинжал, найденный, не знаю, где-то у нее в платье. Когда дон Фернандо все
это увидел, он, думая, что Люсинда обманула его, унизила и насмеялась над
ним, бросился к ней прежде, чем она очнулась от обморока, и тем же найденным
у нее кинжалом хотел заколоть ее и сделал бы это, если б ее родители и
другие присутствовавшие не удержали его. Кроме того, рассказывали еще, что
дон Фернандо тотчас же уехал, а Люсинда пришла в себя от своего обморока
только на следующий день и объявила отцу и матери, что она действительно
жена того Карденио, о котором я вам говорила. И еще я узнала, что Карденио
будто бы присутствовал при венчании Люсинды и, увидав ее повенчанной -- чему
бы он никогда не поверил, -- в отчаянии бежал из города, оставив письмо, в
котором выяснял, какое оскорбление нанесла ему Люсинда, и что теперь он
уходит туда, где ни один людской глаз не увидит его. Все это было известно
всем, и все в городе говорили об этом и еще больше заговорили, когда
разнеслась весть, что Люсинда исчезла из родительского дома и из города и ее
нигде не могли найти, вследствие чего отец и мать ее чуть не сошли с ума, и
не знали, каким путем и способом разыскать ее. Все эти известия вновь
воскресили мои надежды, и я сочла лучше для себя не найти дона Фернандо, чем
найти его женатым, так как мне казалось, что еще не совсем закрыта дверь к
моему спасению, и я мечтала: быть может, небо поставило это препятствие
второму браку дона Фернандо, чтобы напомнить ему о его обязанностях к
первому браку и заставить подумать о том, что он христианин и скорее должен
принять во внимание благо своей души, чем земные расчеты. Все эти мысли
вращались в моем уме, и я себя утешала, не находя утешения, и грезила
отдаленными и обманчивыми надеждами, чтобы поддержать жизнь, к которой
теперь чувствую отвращение. Когда я еще была в городе, не зная, что делать,
так как я не находила дона Фернандо, вдруг до слуха моего достигло
объявление через уличного глашатая, в котором обещалась значительная награда
тому, кто меня найдет, и с точностью описывались мой возраст и бывшая на мне
одежда; и я слышала, что говорили, будто слуга, находившийся со мною,
похитил меня из родительского дома. Это поразило меня прямо в сердце, так
как я увидела, до чего опорочена моя репутация: мало того что я ее уронила
своим бегством, но еще прибавляли, с кем я бежала, -- с человеком, столь
низко поставленным и столь недостойным моего выбора. Как только я услышала
это уличное объявление, тотчас же покинула я город с моим слугой, уже
начинавшим выказывать некоторые признаки колебания в обещанной им мне
верности, и в ту же ночь, опасаясь быть узнанными, мы с ним пробрались в
самую глубь этих гор. Но как принято говорить: одна беда ведет другую, и
конец одного несчастья обыкновенно бывает началом другого, еще большего. Так
случилось и со мной, потому что добрый мой слуга, верный и преданный до тех
пор, лишь только увидел меня в таком уединении, возбужденный скорее
собственною низостью, чем моей красотой, захотел воспользоваться случаем,
который, по его мнению, представляла ему эта пустыня; и, забыв стыд, а еще
больше страх божий и уважение ко мне, стал домогаться моей любви, но,
увидав, что я отвечаю на его бесчестные предложения строгими и справедливыми
укорами, он бросил упрашивания, которыми сначала надеялся достигнуть своего,
и прибег к силе. Однако справедливое небо, которое редко или же никогда не
отказывает в помощи и покровительстве добрым намерениям, благоприятствовало
и моим, так что я со слабыми своими силами без большого труда столкнула
негодяя в пропасть, где и оставила его, не знаю, живого или мертвого. И
тотчас же, быстрее, чем, казалось, испуг и утомление могли мне позволить, я
углубилась дальше в эти горы без всякой иной мысли и иного намерения, как
только скрыться в них и бежать от моего отца и всех тех, кто был послан им
разыскивать меня.
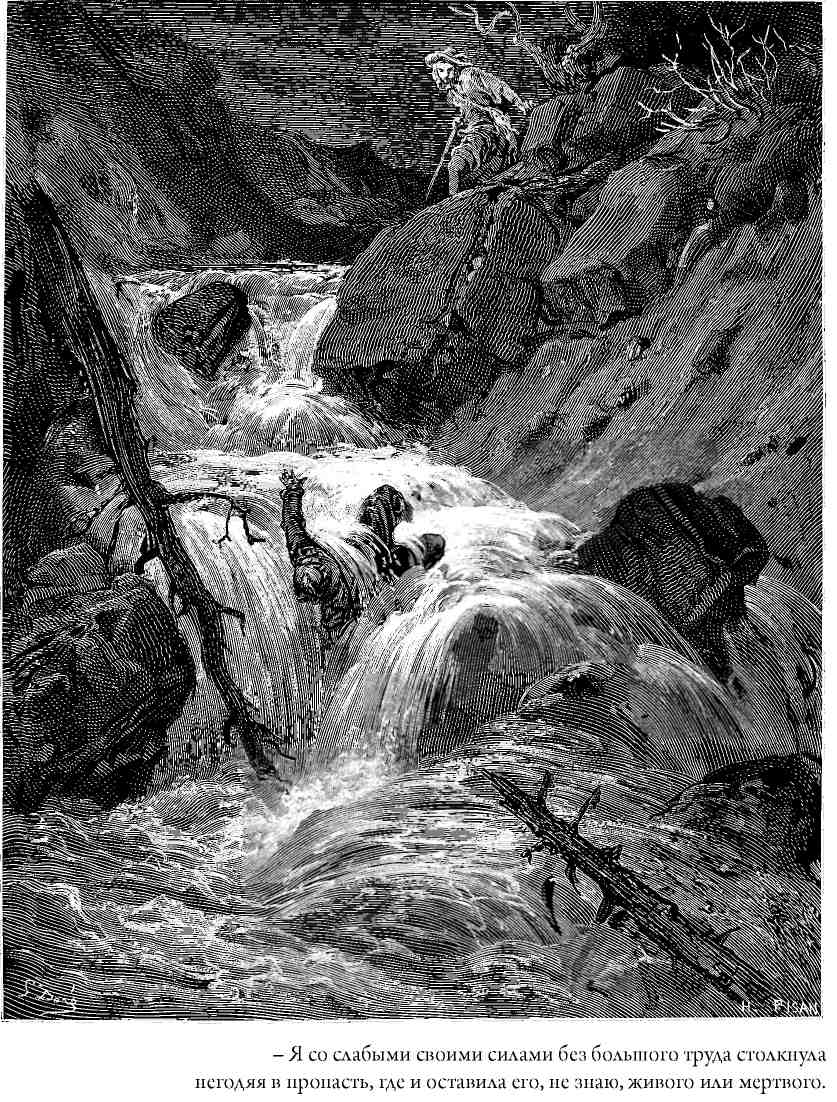 Не знаю, сколько месяцев пробыла я здесь, в этих горах, где я встретила
пастуха, который взял меня работником к себе в деревню, расположенную в
глуби этой горной цепи, и я все это время служила у него подпаском, стараясь
постоянно находиться в поле, чтобы скрыть эти волосы, которые сегодня так
неожиданно выдали меня. Но вся моя осторожность и мои старания ни к чему не
привели, так как хозяин мой, не знаю каким образом, проведал, что я не
мужчина, и в нем зародилась та же гнусная мысль, что и у моего слуги. И так
как судьба не всегда посылает рядом с бедой средство избежать ее, я не нашла
ни пропасти, ни обрыва, с которого могла бы сбросить хозяина и покончить с
ним, как покончила с моим слугой, -- поэтому я сочла за более удобное уйти
от него и снова скрыться среди этой пустынной местности, чем испытать над
ним силу или действие моих доводов. Итак, я вернулась опять сюда, в эту
лесную глушь, отыскивать место, где без всякой помехи я могла бы вздохами и
слезами просить небо сжалиться над моим несчастием и дать мне возможность и
средства избавиться от него или же расстаться с жизнью в этом пустынном
уединении, так чтобы не осталось даже и памяти о той несчастной, которая без
всякой своей вины подала повод к толкам и злословию о ней на родине и в
других странах.
Не знаю, сколько месяцев пробыла я здесь, в этих горах, где я встретила
пастуха, который взял меня работником к себе в деревню, расположенную в
глуби этой горной цепи, и я все это время служила у него подпаском, стараясь
постоянно находиться в поле, чтобы скрыть эти волосы, которые сегодня так
неожиданно выдали меня. Но вся моя осторожность и мои старания ни к чему не
привели, так как хозяин мой, не знаю каким образом, проведал, что я не
мужчина, и в нем зародилась та же гнусная мысль, что и у моего слуги. И так
как судьба не всегда посылает рядом с бедой средство избежать ее, я не нашла
ни пропасти, ни обрыва, с которого могла бы сбросить хозяина и покончить с
ним, как покончила с моим слугой, -- поэтому я сочла за более удобное уйти
от него и снова скрыться среди этой пустынной местности, чем испытать над
ним силу или действие моих доводов. Итак, я вернулась опять сюда, в эту
лесную глушь, отыскивать место, где без всякой помехи я могла бы вздохами и
слезами просить небо сжалиться над моим несчастием и дать мне возможность и
средства избавиться от него или же расстаться с жизнью в этом пустынном
уединении, так чтобы не осталось даже и памяти о той несчастной, которая без
всякой своей вины подала повод к толкам и злословию о ней на родине и в
других странах.

 -- Вот, сеньоры, правдивая история моей трагедии. Смотрите и судите
теперь, имели ли вздохи, достигшие до вашего слуха, слова, которым вы
внимали, слезы, что лились из моих глаз, достаточную причину проявиться еще
в большем изобилии? Вникнув в свойство моего несчастья, вы увидите, что
всякое утешение бесполезно, так как помочь моему горю невозможно. Прошу вас
только об одном (и вы это легко можете и должны сделать): посоветуйте, где
мне проводить жизнь так, чтобы не лишиться ее от страха и опасения быть
найденной теми, которые меня ищут, хотя я и знаю: великая любовь, питаемая
ко мне моими родителями, мне порукой того, что они приняли бы меня как
нельзя лучше, но так ужасен стыд, овладевающий мною при одной мысли явиться
перед ними не такой, как они предполагают, что я скорее предпочла быть
изгнанной с их глаз навсегда, чем смотреть им в лицо, думая, что мое лицо
покажется им чуждым той скромности, которую они были вправе ожидать от меня.
Сказав это, Доротеа замолчала, и ее лицо залилось краской, ясно
обнаруживающей боль и стыд ее души. А слушавшие ее рассказ почувствовали,
что их души наполнились в равной мере состраданием к ней и удивлением перед
ее несчастием, и как раз в то время, как священник хотел сказать ей
несколько слов утешения и дать ей добрый совет, Карденио предупредил его,
говоря:
-- Как, сеньора, значит, это ты прекрасная Доротеа, единственная дочь
богатого Кленардо?
Доротеа изумилась, услыхав имя своего отца, и, видя, до чего невзрачен
тот, кто произнес его -- потому что Карденио, как уже говорилось, был весьма
плохо одет, -- она сказала:
-- А кто же вы, брат, что знаете имя моего отца? Ведь я до сих пор --
насколько мне помнится, -- рассказывая вам о моем несчастии, ни разу не
упоминала имени моего отца.
-- Я, сеньора, -- ответил Карденио,-- тот несчастный, которого, судя по
вашему рассказу, Люсинда объявила своим мужем. Я злополучный Карденио, и
низкое поведение того, кто и вас поставил в теперешнее ваше положение,
довело меня до состояния, в каком вы меня видите: оборванного, нагого,
лишенного всякой человеческой помощи и, что еще хуже, лишенного разума,
потому что я обладаю им только в те короткие промежутки, когда небу угодно
даровать его мне. Я тот, Доротеа, который присутствовал при наглом
вероломстве дона Фернандо и ожидал, пока не услышал, как Люсинда произнесла
свое да, выражая им согласие сделаться женой дона Фернандо. Я тот, который
не имел мужества остаться и посмотреть, чем кончится ее обморок и какое
произведет действие записка, найденная у нее на груди, так как душа моя не
имела сил вынести сразу столько несчастий. Итак, потеряв терпение, я покинул
дом, оставил письмо моему хозяину с просьбой передать его в руки Люсинды и
бежал в эти пустынные и дикие места с намерением покончить здесь счеты с
жизнью, которую я с той минуты возненавидел, как смертельного врага. Но
судьбе не было угодно отнять ее у меня; она удовольствовалась тем, что
отняла у меня разум, быть может, с целью приберечь меня для счастья
встретиться с вами; потому что, если все, что вы сейчас рассказали, истина
-- а я не сомневаюсь в том, -- возможно, что небо еще готовит для обоих нас
лучший выход, чем мы думали, из наших страданий, так как, предположив, что
Люсинда не может выйти замуж за дона Фернандо, потому что она моя, о чем она
во всеуслышание объявила, а дон Фернандо не может жениться на ней, так как
он -- ваш, мы вполне можем надеяться, что небеса вернут нам наше, потому что
оно еще существует, никем не присвоено и не уничтожено. А так как мы
обладаем этим утешением, порожденным не какой-нибудь отдаленной надеждой и
основанным не на пустых мечтах, то умоляю вас, сеньора, придите в чистых
ваших мыслях к другому решению, как и я, со своей стороны, намерен это
сделать, сообразуя его с ожидающей нас лучшей участью. Клянусь вам честью
рыцаря и христианина, я не покину вас до тех пор, пока не увижу вас женой
дона Фернандо, и, если я не сумею этого достигнуть убеждениями, заставив его
осознать свой долг перед вами, я прибегну к праву, которое мне дает мое
звание рыцаря, и вызову его на поединок, потребовав у него ответа за
оскорбление, нанесенное вам, забыв об оскорблениях, нанесенных им мне,
мщение за которые предоставляю небу, чтобы на земле встать на защиту вашего
дела.
Доротеа была поражена удивлением, слушая речь Карденио, и, не зная, как
лучше благодарить его за великодушное предложение, хотела уже наклониться к
его ногам и поцеловать их {Целовать ноги -- в те далекие времена было в
Испании обычным приемом для выражения признательности за благодеяния.}, но
Карденио этого не допустил. Лисенсиат ответил за обоих; он одобрил
благородное решение Карденио и в особенности просил, советовал и убеждал их
вместе с ним ехать в его село, где они могут запастись нужными им вещами, и
там они примут меры к отысканию дона Фернандо или к возвращению Доротеи к ее
родителям или вообще сделают то, что им покажется наиболее подходящим.
Карденио и Доротеа поблагодарили священника и приняли предложение добрых его
услуг. Цирюльник, все время сидевший молча и в недоумении, тоже выступил
теперь с небольшою речью и с не менее любезным, чем священник, предложением
служить им, в чем только может. Вместе с тем он вкратце сообщил им и
причину, приведшую обоих их сюда, и рассказал о странном помешательстве Дон
Кихота и о том, что они поджидают здесь его оруженосца, который отправился
разыскивать его. Карденио вспомнил как сквозь сон свою ссору с Дон Кихотом и
передал им о ней, но не мог сказать, что было причиной их спора.
В это время они услышали крик и поняли, что это Санчо Панса, который,
не найдя их на том месте, где он их оставил, стал во все горло звать их. Они
пошли ему навстречу и спросили о Дон Кихоте, а он ответил, что застал его
полунагим, в одной рубахе, исхудалого, желтого, полумертвого от голода и
вздыхающего по своей сеньоре Дульсинее. Но, хотя Санчо и сообщил рыцарю, что
она приказывает ему покинуть эти места и явиться к ней в Тобосо, где ждет
его, Дон Кихот ответил, что решил не являться перед ее красотой до тех пор,
пока не совершит подвигов, которые сделают его достойным ее благосклонности.
Если же это будет продолжаться таким образом, господину его, добавил Санчо,
грозит опасность не только не сделаться императором, каким он обязан быть,
но даже и архиепископом, -- что уже самое меньшее, чем он мог быть; итак,
пусть они обсудят, что им предпринять, чтобы удалить его из той местности.
Лисенсиат успокоил Санчо, говоря, что они непременно извлекут Дон Кихота
оттуда, хотя бы и против его воли, и затем рассказал Карденио и Доротее,
какое средство они придумали, чтобы излечить Дон Кихота, или же, по крайней
мере, чтобы увести его домой. На это Доротеа ответила, что она лучше
цирюльника изобразит ищущую защиты девушку, тем более что у нее при себе
есть платье, в котором все у нее как нельзя более выйдет естественно. Пусть
только предоставят ей, и она разыграет свою роль, как следует, тем более что
она прочла множество рыцарских книг и хорошо знакома с языком, каким говорят
угнетенные девушки, обращаясь с просьбой о защите к странствующим рыцарям.
-- В таком случае нам ничего больше не остается, как тотчас же
приступить к делу, -- сказал священник, -- и, без сомнения, счастливая
судьба благоприятствует мне, потому что вам, сеньоры, она столь неожиданно
открывает дверь для вашего спасения, а нам облегчила нашу задачу чрез ваше
посредство.
Доротеа тотчас же достала из своего узла целый костюм из тонкой и
богатой шерстяной материи, а также коротенькую накидку из другой красивой
зеленой ткани и, вынув из небольшого ящичка ожерелье и другие драгоценности,
быстро вырядилась так, что имела теперь вид знатной и богатой дамы. Она
сказала, что взяла все это и еще кое-что из дома на случай, если бы оно ей
понадобилось, но такого случая не представлялось до сих пор. Все были
очарованы ее необычайной грацией, изяществом, красотой и сочли дона Фернандо
за человека с весьма плохим вкусом, так как он мог отвергнуть столь
восхитительную особу.
Но больше всех изумлялся Санчо Панса, которому (и совершенно
основательно) казалось, что он никогда в жизни не видел такого прелестного
создания. Поэтому он с величайшею поспешностью просил священника сказать
ему: кто эта прекрасная сеньора и что ей нужно в этих пустынных местах?
-- Прекрасная эта сеньора, Санчо, брат, -- ответил священник, --
попросту говоря, наследница по прямой мужской линии могучего королевства
Микомикон, и явилась она сюда разыскивать вашего господина и просить его об
одной милости, именно: чтобы он отомстил за обиду и оскорбление, нанесенное
ей одним злым великаном, а молва о Дон Кихоте, как о доблестном рыцаре,
распространенная по всему свету, привлекла сюда принцессу из Гвинеи, откуда
она приехала.
-- Счастливые поиски и счастливая находка, -- сказал тогда Санчо Панса,
-- и тем более если моему господину удастся исправить то зло и отомстить за
то оскорбление, убив того сына блудницы, того великана, о котором говорит
ваша милость; и, по чести, убить-то он его убьет, если встретит, только бы
он не был привидением, потому что над привидениями у моего господина нет
никакой власти. Но об одной вещи между прочими вещами буду умолять вашу
милость, сеньор лисенсиат, а именно: чтобы господин мой не вздумал сделаться
архиепископом -- чего я так боюсь, -- посоветуйте ему, ваша милость, тотчас
же обвенчаться с этой принцессой; таким образом его нельзя будет посвятить в
сан архиепископа, и он легко добудет себе императорскую корону, а я --
исполнение моих желаний. Все это я про себя хорошенько обсудил и понял, что
для меня неподходящее дело, если мой господин будет архиепископом, потому
что я не гожусь для церкви, так как женат. А бегать хлопотать о разрешении
мне заведовать церковным приходом, имея -- как я имею -- жену и детей, этому
не предвиделось бы никогда конца. Так что, сеньор, вся загвоздка в том,
чтобы мой господин тотчас же женился на этой сеньоре, имя которой я еще не
знаю и потому не могу и назвать ее по имени.
-- Зовут ее, -- ответил священник,-- принцессой Микомикона, потому что,
раз ее королевство называется Микомикон, ясно, что и она должна называться
так же.
-- В этом нет сомнения, -- ответил Санчо, -- так как я знаю многих,
которые свое прозвище и фамилию брали по той местности, где они родились,
называясь
Педро де Алкала, Хуан де Убеда, Диего де Вальядолид; и такой же обычай,
должно быть, и там, в Гвинее: чтобы королевы назывались по своим
королевствам.
-- Должно быть, оно так и есть,-- сказал священник. -- Что же касается
женитьбы вашего господина, я приложу все старания помочь этому делу.
Санчо остался настолько же доволен ответом священника, насколько
последний был удивлен его простотой и тем, до чего крепко укоренились в его
воображении те же самые нелепости, как и у его господина, потому что Санчо
нимало не сомневался, что Дон Кихот действительно сделается императором.
Между тем Доротеа села на мула священника, а цирюльник приладил себе
бороду из бычачьего хвоста; и они велели Санчо провести их туда, где
находится Дон Кихот, предупредив его, чтобы он не говорил, что знает
лисенсиата или цирюльника, так как именно от того, чтобы он не узнал их, и
зависит возможность господину его сделаться императором. Ни священник, ни
Карденио не пожелали отправиться с ними, Карденио -- чтобы не напомнить Дон
Кихоту его ссоры с ним, священник -- потому что его присутствие пока еще не
было необходимо; итак, они пустили их вперед, сами же медленно пошли за ними
пешком. Священник счел нужным объяснить Доротее, как ей поступать, но она
просила не беспокоиться, потому что все будет точь-в-точь сделано, как это
требуется и описано в рыцарских книгах. Они проехали около трех четвертей
мили, когда заметили Дон Кихота среди лабиринта скал, уже одетого, но не в
доспехах. Лишь только Доротеа увидела его и узнала от Санчо, что это Дон
Кихот, она ударила бичом свою парадную лошадь, а за ней поспешил и бородатый
брадобрей. Подъехав к Дон Кихоту, оруженосец принцессы соскочил с мула и
подошел к Доротее, чтобы принять ее на руки, а она, с величайшею ловкостью
сойдя с седла, бросилась на колени перед Дон Кихотом; он хотел поднять ее,
но она, не вставая, обратилась к нему со следующими словами:
-- Я до тех пор не встану, о доблестный и могущественный рыцарь, пока
вы по доброте и великодушию своему не окажете мне милости, которая покроет
вашу особу славой и честью и послужит на пользу самой безутешной и
угнетенной девушке, какую только освещало когда-либо солнце. И если
действительно доблесть сильной вашей руки соответствует молве о бессмертной
вашей славе, вы обязаны оказать помощь несчастной, явившейся сюда из столь
далеких стран и привлеченной блеском вашего имени, в надежде найти у вас
защиту в своих несчастиях.
-- Вот, сеньоры, правдивая история моей трагедии. Смотрите и судите
теперь, имели ли вздохи, достигшие до вашего слуха, слова, которым вы
внимали, слезы, что лились из моих глаз, достаточную причину проявиться еще
в большем изобилии? Вникнув в свойство моего несчастья, вы увидите, что
всякое утешение бесполезно, так как помочь моему горю невозможно. Прошу вас
только об одном (и вы это легко можете и должны сделать): посоветуйте, где
мне проводить жизнь так, чтобы не лишиться ее от страха и опасения быть
найденной теми, которые меня ищут, хотя я и знаю: великая любовь, питаемая
ко мне моими родителями, мне порукой того, что они приняли бы меня как
нельзя лучше, но так ужасен стыд, овладевающий мною при одной мысли явиться
перед ними не такой, как они предполагают, что я скорее предпочла быть
изгнанной с их глаз навсегда, чем смотреть им в лицо, думая, что мое лицо
покажется им чуждым той скромности, которую они были вправе ожидать от меня.
Сказав это, Доротеа замолчала, и ее лицо залилось краской, ясно
обнаруживающей боль и стыд ее души. А слушавшие ее рассказ почувствовали,
что их души наполнились в равной мере состраданием к ней и удивлением перед
ее несчастием, и как раз в то время, как священник хотел сказать ей
несколько слов утешения и дать ей добрый совет, Карденио предупредил его,
говоря:
-- Как, сеньора, значит, это ты прекрасная Доротеа, единственная дочь
богатого Кленардо?
Доротеа изумилась, услыхав имя своего отца, и, видя, до чего невзрачен
тот, кто произнес его -- потому что Карденио, как уже говорилось, был весьма
плохо одет, -- она сказала:
-- А кто же вы, брат, что знаете имя моего отца? Ведь я до сих пор --
насколько мне помнится, -- рассказывая вам о моем несчастии, ни разу не
упоминала имени моего отца.
-- Я, сеньора, -- ответил Карденио,-- тот несчастный, которого, судя по
вашему рассказу, Люсинда объявила своим мужем. Я злополучный Карденио, и
низкое поведение того, кто и вас поставил в теперешнее ваше положение,
довело меня до состояния, в каком вы меня видите: оборванного, нагого,
лишенного всякой человеческой помощи и, что еще хуже, лишенного разума,
потому что я обладаю им только в те короткие промежутки, когда небу угодно
даровать его мне. Я тот, Доротеа, который присутствовал при наглом
вероломстве дона Фернандо и ожидал, пока не услышал, как Люсинда произнесла
свое да, выражая им согласие сделаться женой дона Фернандо. Я тот, который
не имел мужества остаться и посмотреть, чем кончится ее обморок и какое
произведет действие записка, найденная у нее на груди, так как душа моя не
имела сил вынести сразу столько несчастий. Итак, потеряв терпение, я покинул
дом, оставил письмо моему хозяину с просьбой передать его в руки Люсинды и
бежал в эти пустынные и дикие места с намерением покончить здесь счеты с
жизнью, которую я с той минуты возненавидел, как смертельного врага. Но
судьбе не было угодно отнять ее у меня; она удовольствовалась тем, что
отняла у меня разум, быть может, с целью приберечь меня для счастья
встретиться с вами; потому что, если все, что вы сейчас рассказали, истина
-- а я не сомневаюсь в том, -- возможно, что небо еще готовит для обоих нас
лучший выход, чем мы думали, из наших страданий, так как, предположив, что
Люсинда не может выйти замуж за дона Фернандо, потому что она моя, о чем она
во всеуслышание объявила, а дон Фернандо не может жениться на ней, так как
он -- ваш, мы вполне можем надеяться, что небеса вернут нам наше, потому что
оно еще существует, никем не присвоено и не уничтожено. А так как мы
обладаем этим утешением, порожденным не какой-нибудь отдаленной надеждой и
основанным не на пустых мечтах, то умоляю вас, сеньора, придите в чистых
ваших мыслях к другому решению, как и я, со своей стороны, намерен это
сделать, сообразуя его с ожидающей нас лучшей участью. Клянусь вам честью
рыцаря и христианина, я не покину вас до тех пор, пока не увижу вас женой
дона Фернандо, и, если я не сумею этого достигнуть убеждениями, заставив его
осознать свой долг перед вами, я прибегну к праву, которое мне дает мое
звание рыцаря, и вызову его на поединок, потребовав у него ответа за
оскорбление, нанесенное вам, забыв об оскорблениях, нанесенных им мне,
мщение за которые предоставляю небу, чтобы на земле встать на защиту вашего
дела.
Доротеа была поражена удивлением, слушая речь Карденио, и, не зная, как
лучше благодарить его за великодушное предложение, хотела уже наклониться к
его ногам и поцеловать их {Целовать ноги -- в те далекие времена было в
Испании обычным приемом для выражения признательности за благодеяния.}, но
Карденио этого не допустил. Лисенсиат ответил за обоих; он одобрил
благородное решение Карденио и в особенности просил, советовал и убеждал их
вместе с ним ехать в его село, где они могут запастись нужными им вещами, и
там они примут меры к отысканию дона Фернандо или к возвращению Доротеи к ее
родителям или вообще сделают то, что им покажется наиболее подходящим.
Карденио и Доротеа поблагодарили священника и приняли предложение добрых его
услуг. Цирюльник, все время сидевший молча и в недоумении, тоже выступил
теперь с небольшою речью и с не менее любезным, чем священник, предложением
служить им, в чем только может. Вместе с тем он вкратце сообщил им и
причину, приведшую обоих их сюда, и рассказал о странном помешательстве Дон
Кихота и о том, что они поджидают здесь его оруженосца, который отправился
разыскивать его. Карденио вспомнил как сквозь сон свою ссору с Дон Кихотом и
передал им о ней, но не мог сказать, что было причиной их спора.
В это время они услышали крик и поняли, что это Санчо Панса, который,
не найдя их на том месте, где он их оставил, стал во все горло звать их. Они
пошли ему навстречу и спросили о Дон Кихоте, а он ответил, что застал его
полунагим, в одной рубахе, исхудалого, желтого, полумертвого от голода и
вздыхающего по своей сеньоре Дульсинее. Но, хотя Санчо и сообщил рыцарю, что
она приказывает ему покинуть эти места и явиться к ней в Тобосо, где ждет
его, Дон Кихот ответил, что решил не являться перед ее красотой до тех пор,
пока не совершит подвигов, которые сделают его достойным ее благосклонности.
Если же это будет продолжаться таким образом, господину его, добавил Санчо,
грозит опасность не только не сделаться императором, каким он обязан быть,
но даже и архиепископом, -- что уже самое меньшее, чем он мог быть; итак,
пусть они обсудят, что им предпринять, чтобы удалить его из той местности.
Лисенсиат успокоил Санчо, говоря, что они непременно извлекут Дон Кихота
оттуда, хотя бы и против его воли, и затем рассказал Карденио и Доротее,
какое средство они придумали, чтобы излечить Дон Кихота, или же, по крайней
мере, чтобы увести его домой. На это Доротеа ответила, что она лучше
цирюльника изобразит ищущую защиты девушку, тем более что у нее при себе
есть платье, в котором все у нее как нельзя более выйдет естественно. Пусть
только предоставят ей, и она разыграет свою роль, как следует, тем более что
она прочла множество рыцарских книг и хорошо знакома с языком, каким говорят
угнетенные девушки, обращаясь с просьбой о защите к странствующим рыцарям.
-- В таком случае нам ничего больше не остается, как тотчас же
приступить к делу, -- сказал священник, -- и, без сомнения, счастливая
судьба благоприятствует мне, потому что вам, сеньоры, она столь неожиданно
открывает дверь для вашего спасения, а нам облегчила нашу задачу чрез ваше
посредство.
Доротеа тотчас же достала из своего узла целый костюм из тонкой и
богатой шерстяной материи, а также коротенькую накидку из другой красивой
зеленой ткани и, вынув из небольшого ящичка ожерелье и другие драгоценности,
быстро вырядилась так, что имела теперь вид знатной и богатой дамы. Она
сказала, что взяла все это и еще кое-что из дома на случай, если бы оно ей
понадобилось, но такого случая не представлялось до сих пор. Все были
очарованы ее необычайной грацией, изяществом, красотой и сочли дона Фернандо
за человека с весьма плохим вкусом, так как он мог отвергнуть столь
восхитительную особу.
Но больше всех изумлялся Санчо Панса, которому (и совершенно
основательно) казалось, что он никогда в жизни не видел такого прелестного
создания. Поэтому он с величайшею поспешностью просил священника сказать
ему: кто эта прекрасная сеньора и что ей нужно в этих пустынных местах?
-- Прекрасная эта сеньора, Санчо, брат, -- ответил священник, --
попросту говоря, наследница по прямой мужской линии могучего королевства
Микомикон, и явилась она сюда разыскивать вашего господина и просить его об
одной милости, именно: чтобы он отомстил за обиду и оскорбление, нанесенное
ей одним злым великаном, а молва о Дон Кихоте, как о доблестном рыцаре,
распространенная по всему свету, привлекла сюда принцессу из Гвинеи, откуда
она приехала.
-- Счастливые поиски и счастливая находка, -- сказал тогда Санчо Панса,
-- и тем более если моему господину удастся исправить то зло и отомстить за
то оскорбление, убив того сына блудницы, того великана, о котором говорит
ваша милость; и, по чести, убить-то он его убьет, если встретит, только бы
он не был привидением, потому что над привидениями у моего господина нет
никакой власти. Но об одной вещи между прочими вещами буду умолять вашу
милость, сеньор лисенсиат, а именно: чтобы господин мой не вздумал сделаться
архиепископом -- чего я так боюсь, -- посоветуйте ему, ваша милость, тотчас
же обвенчаться с этой принцессой; таким образом его нельзя будет посвятить в
сан архиепископа, и он легко добудет себе императорскую корону, а я --
исполнение моих желаний. Все это я про себя хорошенько обсудил и понял, что
для меня неподходящее дело, если мой господин будет архиепископом, потому
что я не гожусь для церкви, так как женат. А бегать хлопотать о разрешении
мне заведовать церковным приходом, имея -- как я имею -- жену и детей, этому
не предвиделось бы никогда конца. Так что, сеньор, вся загвоздка в том,
чтобы мой господин тотчас же женился на этой сеньоре, имя которой я еще не
знаю и потому не могу и назвать ее по имени.
-- Зовут ее, -- ответил священник,-- принцессой Микомикона, потому что,
раз ее королевство называется Микомикон, ясно, что и она должна называться
так же.
-- В этом нет сомнения, -- ответил Санчо, -- так как я знаю многих,
которые свое прозвище и фамилию брали по той местности, где они родились,
называясь
Педро де Алкала, Хуан де Убеда, Диего де Вальядолид; и такой же обычай,
должно быть, и там, в Гвинее: чтобы королевы назывались по своим
королевствам.
-- Должно быть, оно так и есть,-- сказал священник. -- Что же касается
женитьбы вашего господина, я приложу все старания помочь этому делу.
Санчо остался настолько же доволен ответом священника, насколько
последний был удивлен его простотой и тем, до чего крепко укоренились в его
воображении те же самые нелепости, как и у его господина, потому что Санчо
нимало не сомневался, что Дон Кихот действительно сделается императором.
Между тем Доротеа села на мула священника, а цирюльник приладил себе
бороду из бычачьего хвоста; и они велели Санчо провести их туда, где
находится Дон Кихот, предупредив его, чтобы он не говорил, что знает
лисенсиата или цирюльника, так как именно от того, чтобы он не узнал их, и
зависит возможность господину его сделаться императором. Ни священник, ни
Карденио не пожелали отправиться с ними, Карденио -- чтобы не напомнить Дон
Кихоту его ссоры с ним, священник -- потому что его присутствие пока еще не
было необходимо; итак, они пустили их вперед, сами же медленно пошли за ними
пешком. Священник счел нужным объяснить Доротее, как ей поступать, но она
просила не беспокоиться, потому что все будет точь-в-точь сделано, как это
требуется и описано в рыцарских книгах. Они проехали около трех четвертей
мили, когда заметили Дон Кихота среди лабиринта скал, уже одетого, но не в
доспехах. Лишь только Доротеа увидела его и узнала от Санчо, что это Дон
Кихот, она ударила бичом свою парадную лошадь, а за ней поспешил и бородатый
брадобрей. Подъехав к Дон Кихоту, оруженосец принцессы соскочил с мула и
подошел к Доротее, чтобы принять ее на руки, а она, с величайшею ловкостью
сойдя с седла, бросилась на колени перед Дон Кихотом; он хотел поднять ее,
но она, не вставая, обратилась к нему со следующими словами:
-- Я до тех пор не встану, о доблестный и могущественный рыцарь, пока
вы по доброте и великодушию своему не окажете мне милости, которая покроет
вашу особу славой и честью и послужит на пользу самой безутешной и
угнетенной девушке, какую только освещало когда-либо солнце. И если
действительно доблесть сильной вашей руки соответствует молве о бессмертной
вашей славе, вы обязаны оказать помощь несчастной, явившейся сюда из столь
далеких стран и привлеченной блеском вашего имени, в надежде найти у вас
защиту в своих несчастиях.
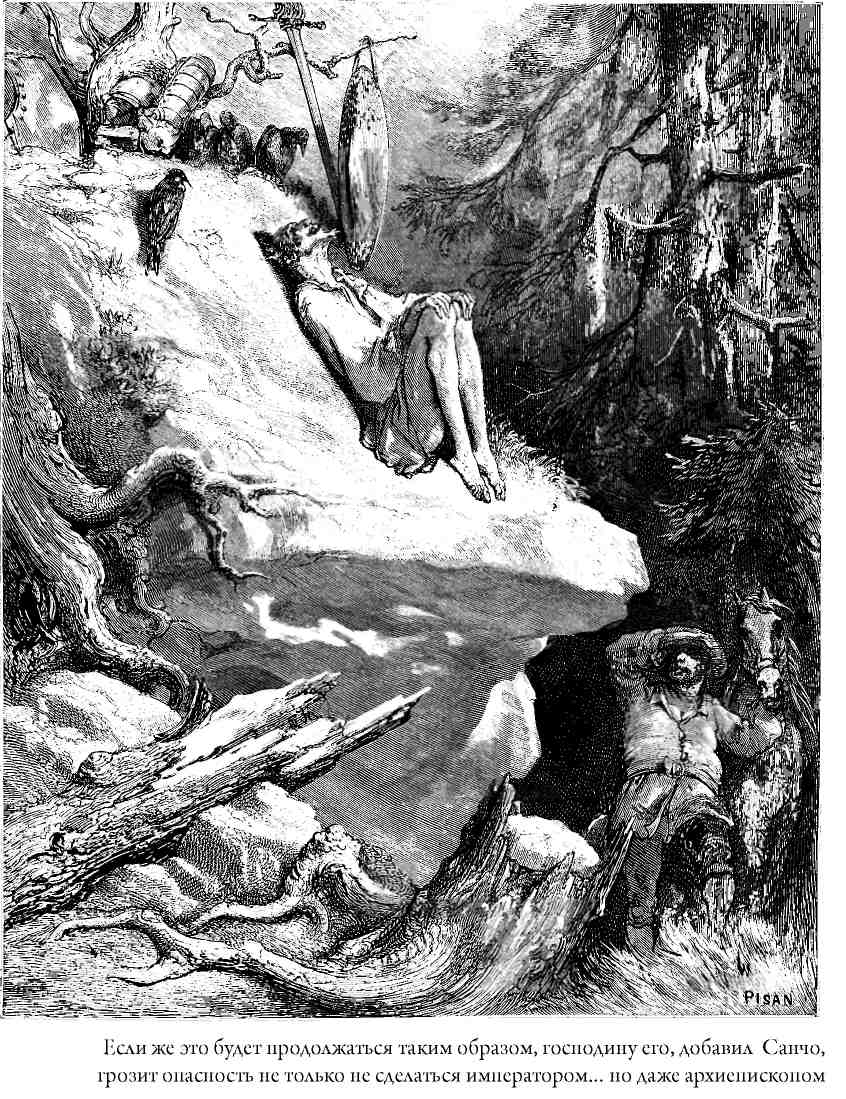 -- Не отвечу вам ни слова, прекрасная сеньора, -- сказал Дон Кихот, --
и не хочу слышать ничего о вашем деле, пока вы не встанете с колен.
-- Я не встану до тех пор, сеньор,-- ответила горюющая девушка, -- пока
вы со свойственным вам великодушием не пообещаете оказать мне милость, о
которой я прошу.
-- Обещаю вам оказать и даровать ее, -- ответил Дон Кихот, -- если
только это не послужит ко вреду или к ущербу моего отечества и той, которая
владеет ключом от моего сердца и моей свободы.
-- Она не послужит ни ко вреду, ни к ущербу всего того, о чем вы
упомянули, мой добрый сеньор, -- ответила горюющая девушка.
В это время Санчо Панса подошел к своему господину и тихонько шепнул
ему на ухо:
-- Сеньор, милость ваша может спокойно обещать ей то, о чем она просит,
потому что это пустяки -- всего только убить громадного великана; а та,
которая об этом просит -- могучая принцесса Микомикона, королева великого
королевства Микомикон в Эфиопии.
-- Кто бы она ни была, -- ответил Дон Кихот, -- я поступлю так, как мне
предписывает долг и подсказывает совесть в согласии с рыцарскими правилами,
которые я исповедую.
И, обращаясь к девушке, он добавил:
-- Прошу вас, высочайшая красота, соблаговолите встать, так как я дарую
милость, которую вам угодно будет просить у меня.
-- Она заключается в том, -- сказала девушка, -- чтобы вы, великодушный
рыцарь, тотчас же последовали за мной, куда я вас поведу, и обещали не
предпринимать другого дела и не искать другого приключения, пока не
отомстите изменнику, который, попирая все божеские и человеческие законы,
отнял у меня мое королевство.
-- Повторяю, -- ответил Дон Кихот, -- что я исполню вашу просьбу, и
потому можете, сеньора, с сегодняшнего дня изгнать из своей души печаль,
терзающую ее, и можете новой силой и огнем оживить гаснущую вашу надежду,
так как с помощью божьей и моей руки вы скоро вернетесь в свое королевство и
воссядете на престоле древнего и великого вашего государства вопреки и назло
всем негодяям, которые пожелали бы воспротивиться этому. А теперь приступим
к делу, потому что в замедлении, как говорят, кроется обыкновенно опасность.
Горюющая девушка с большим упорством усиливалась поцеловать у Дон
Кихота руки, но он, бывший во всем истым и учтивым рыцарем, ни за что не
допустил этого; напротив, он заставил ее встать, поцеловал ее очень учтиво и
любезно и приказал Санчо подтянуть подпругу у Росинанта и подать ему его
доспехи. Санчо снял доспехи, которые, как трофеи, висели на дереве, и,
подтянув подпругу Росинанта, в одну минуту одел в доспехи своего господина,
а этот последний, видя себя вооруженным, воскликнул:
-- Едем отсюда, во имя бога, на защиту этой великой сеньоры!
-- Не отвечу вам ни слова, прекрасная сеньора, -- сказал Дон Кихот, --
и не хочу слышать ничего о вашем деле, пока вы не встанете с колен.
-- Я не встану до тех пор, сеньор,-- ответила горюющая девушка, -- пока
вы со свойственным вам великодушием не пообещаете оказать мне милость, о
которой я прошу.
-- Обещаю вам оказать и даровать ее, -- ответил Дон Кихот, -- если
только это не послужит ко вреду или к ущербу моего отечества и той, которая
владеет ключом от моего сердца и моей свободы.
-- Она не послужит ни ко вреду, ни к ущербу всего того, о чем вы
упомянули, мой добрый сеньор, -- ответила горюющая девушка.
В это время Санчо Панса подошел к своему господину и тихонько шепнул
ему на ухо:
-- Сеньор, милость ваша может спокойно обещать ей то, о чем она просит,
потому что это пустяки -- всего только убить громадного великана; а та,
которая об этом просит -- могучая принцесса Микомикона, королева великого
королевства Микомикон в Эфиопии.
-- Кто бы она ни была, -- ответил Дон Кихот, -- я поступлю так, как мне
предписывает долг и подсказывает совесть в согласии с рыцарскими правилами,
которые я исповедую.
И, обращаясь к девушке, он добавил:
-- Прошу вас, высочайшая красота, соблаговолите встать, так как я дарую
милость, которую вам угодно будет просить у меня.
-- Она заключается в том, -- сказала девушка, -- чтобы вы, великодушный
рыцарь, тотчас же последовали за мной, куда я вас поведу, и обещали не
предпринимать другого дела и не искать другого приключения, пока не
отомстите изменнику, который, попирая все божеские и человеческие законы,
отнял у меня мое королевство.
-- Повторяю, -- ответил Дон Кихот, -- что я исполню вашу просьбу, и
потому можете, сеньора, с сегодняшнего дня изгнать из своей души печаль,
терзающую ее, и можете новой силой и огнем оживить гаснущую вашу надежду,
так как с помощью божьей и моей руки вы скоро вернетесь в свое королевство и
воссядете на престоле древнего и великого вашего государства вопреки и назло
всем негодяям, которые пожелали бы воспротивиться этому. А теперь приступим
к делу, потому что в замедлении, как говорят, кроется обыкновенно опасность.
Горюющая девушка с большим упорством усиливалась поцеловать у Дон
Кихота руки, но он, бывший во всем истым и учтивым рыцарем, ни за что не
допустил этого; напротив, он заставил ее встать, поцеловал ее очень учтиво и
любезно и приказал Санчо подтянуть подпругу у Росинанта и подать ему его
доспехи. Санчо снял доспехи, которые, как трофеи, висели на дереве, и,
подтянув подпругу Росинанта, в одну минуту одел в доспехи своего господина,
а этот последний, видя себя вооруженным, воскликнул:
-- Едем отсюда, во имя бога, на защиту этой великой сеньоры!
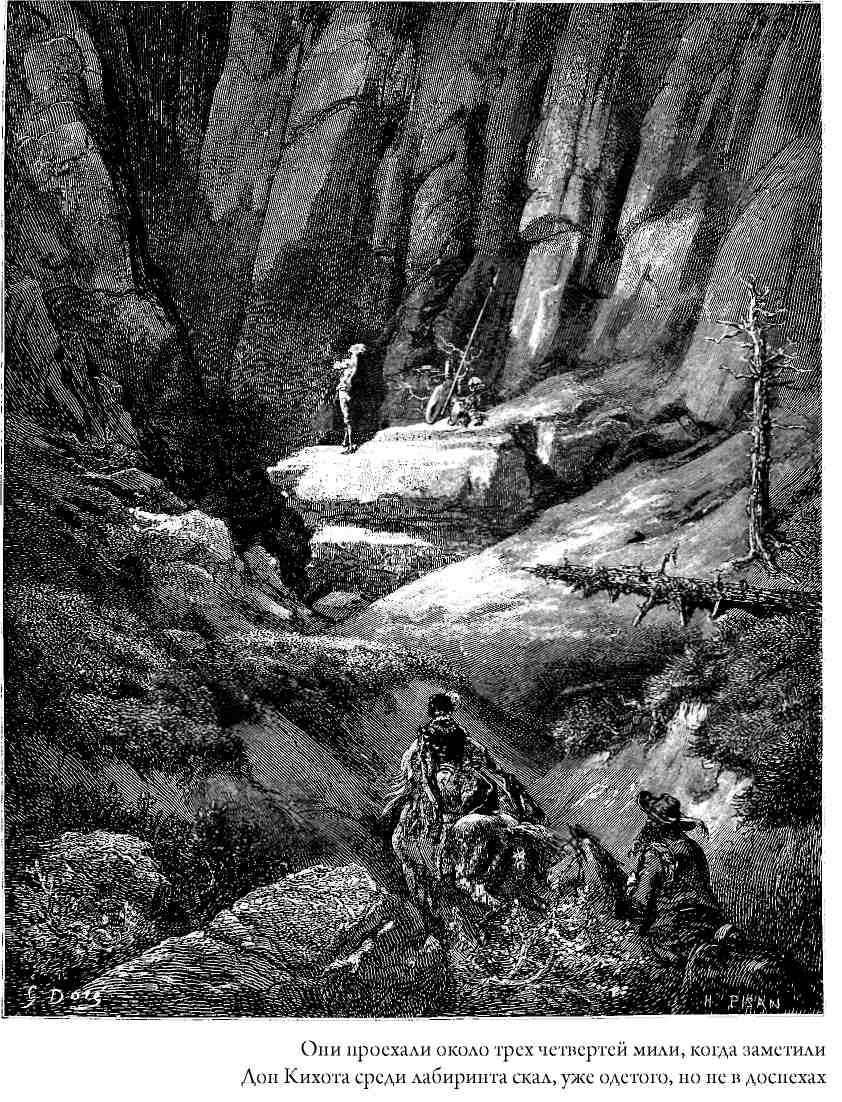 Цирюльник все еще стоял на коленях и с трудом сдерживал свой смех и
придерживал бороду, так как, если бы борода упала, следствием этого могло бы
быть расстройство всего их плана. Но, увидав, что просимая милость уже
дарована, а также и ту поспешность, с которой Дон Кихот готовился исполнить
свое обещание, цирюльник поднялся, взял свою сеньору за другую руку и вместе
с рыцарем усадил ее на мула. Тотчас же и Дон Кихот сел на Росинанта,
цирюльник устроился на своем верховом животном, а Санчо пришлось идти
пешком, что снова возбудило в нем горе о пропаже Серого, отсутствие которого
давало себя знать. Однако все это он перенес терпеливо, уверенный в том, что
его господин теперь уже на пути сделаться императором, так как он нимало не
сомневался, что Дон Кихот женится на принцессе и будет по меньшей мере
королем страны Микомикон. Одно лишь печалило Санчо: мысль, что королевство
это в стране негров и что будущие его подданные -- чернокожие. Но против
этого он тотчас же нашел хорошее средство в своем воображении и сказал себе:
"Что за беда, если мои подданные будут неграми? Ничего другого не остается,
как только нагрузить ими корабли и привезти в Испанию, где я могу их продать
и где мне заплатят за них наличными деньгами, а на эти деньги я куплю себе
какой-нибудь титул или должность и затем проживу всю свою жизнь припеваючи.
Иное дело, если проспать свое счастье и не обладать ни умом, ни ловкостью
для оборудования дел и продажи в мгновение ока тысяч десяти или тридцати
подданных. Клянусь Богом, они у меня прекрасно полетят, маленькие с большими
-- или как там придется, -- и, как бы они ни были черны, я их превращу в
белых или в желтых {Т. е. в серебро и золото.}. Еще бы, не дурак же я!"
Занятый этими мыслями, он шел такой довольный и радостный, что даже забыл о
тягости путешествовать пешком.
Священник и Карденио наблюдали все происходившее, спрятавшись за
кустами, и не знали, каким образом присоединиться к остальной компании. Но
священник, человек очень находчивый, тотчас же придумал, что сделать для
достижения желаемого: ножницами, которые он имел при себе в футляре, он с
величайшею быстротой остриг бороду Карденио, надел на него свою серую епанчу
и дал ему длинный черный плащ без воротника, оставшись сам в камзоле и
панталонах, и Карденио сделался так непохож на прежнего, что не узнал бы
себя, если бы посмотрелся в зеркало. Покончив с переодеванием, священник и
Карденио -- хотя остальные за это время и успели порядочно уйти вперед --
без труда добрались раньше их до большой дороги, потому что кустарники и
бугры в этой местности мешали двигаться верховым так же быстро, как это
могли делать пешеходы. Словом, они вскоре очутились в долине и встали у
выхода из гор; а лишь только показался Дон Кихот и его спутники, священник,
довольно долго и пристально вглядываясь в рыцаря, делал вид, будто он
мало-помалу начинает узнавать его, и, после того как он довольно долго
рассматривал его таким образом, он бросился к нему с распростертыми
объятиями и громко воскликнул:
Цирюльник все еще стоял на коленях и с трудом сдерживал свой смех и
придерживал бороду, так как, если бы борода упала, следствием этого могло бы
быть расстройство всего их плана. Но, увидав, что просимая милость уже
дарована, а также и ту поспешность, с которой Дон Кихот готовился исполнить
свое обещание, цирюльник поднялся, взял свою сеньору за другую руку и вместе
с рыцарем усадил ее на мула. Тотчас же и Дон Кихот сел на Росинанта,
цирюльник устроился на своем верховом животном, а Санчо пришлось идти
пешком, что снова возбудило в нем горе о пропаже Серого, отсутствие которого
давало себя знать. Однако все это он перенес терпеливо, уверенный в том, что
его господин теперь уже на пути сделаться императором, так как он нимало не
сомневался, что Дон Кихот женится на принцессе и будет по меньшей мере
королем страны Микомикон. Одно лишь печалило Санчо: мысль, что королевство
это в стране негров и что будущие его подданные -- чернокожие. Но против
этого он тотчас же нашел хорошее средство в своем воображении и сказал себе:
"Что за беда, если мои подданные будут неграми? Ничего другого не остается,
как только нагрузить ими корабли и привезти в Испанию, где я могу их продать
и где мне заплатят за них наличными деньгами, а на эти деньги я куплю себе
какой-нибудь титул или должность и затем проживу всю свою жизнь припеваючи.
Иное дело, если проспать свое счастье и не обладать ни умом, ни ловкостью
для оборудования дел и продажи в мгновение ока тысяч десяти или тридцати
подданных. Клянусь Богом, они у меня прекрасно полетят, маленькие с большими
-- или как там придется, -- и, как бы они ни были черны, я их превращу в
белых или в желтых {Т. е. в серебро и золото.}. Еще бы, не дурак же я!"
Занятый этими мыслями, он шел такой довольный и радостный, что даже забыл о
тягости путешествовать пешком.
Священник и Карденио наблюдали все происходившее, спрятавшись за
кустами, и не знали, каким образом присоединиться к остальной компании. Но
священник, человек очень находчивый, тотчас же придумал, что сделать для
достижения желаемого: ножницами, которые он имел при себе в футляре, он с
величайшею быстротой остриг бороду Карденио, надел на него свою серую епанчу
и дал ему длинный черный плащ без воротника, оставшись сам в камзоле и
панталонах, и Карденио сделался так непохож на прежнего, что не узнал бы
себя, если бы посмотрелся в зеркало. Покончив с переодеванием, священник и
Карденио -- хотя остальные за это время и успели порядочно уйти вперед --
без труда добрались раньше их до большой дороги, потому что кустарники и
бугры в этой местности мешали двигаться верховым так же быстро, как это
могли делать пешеходы. Словом, они вскоре очутились в долине и встали у
выхода из гор; а лишь только показался Дон Кихот и его спутники, священник,
довольно долго и пристально вглядываясь в рыцаря, делал вид, будто он
мало-помалу начинает узнавать его, и, после того как он довольно долго
рассматривал его таким образом, он бросился к нему с распростертыми
объятиями и громко воскликнул:
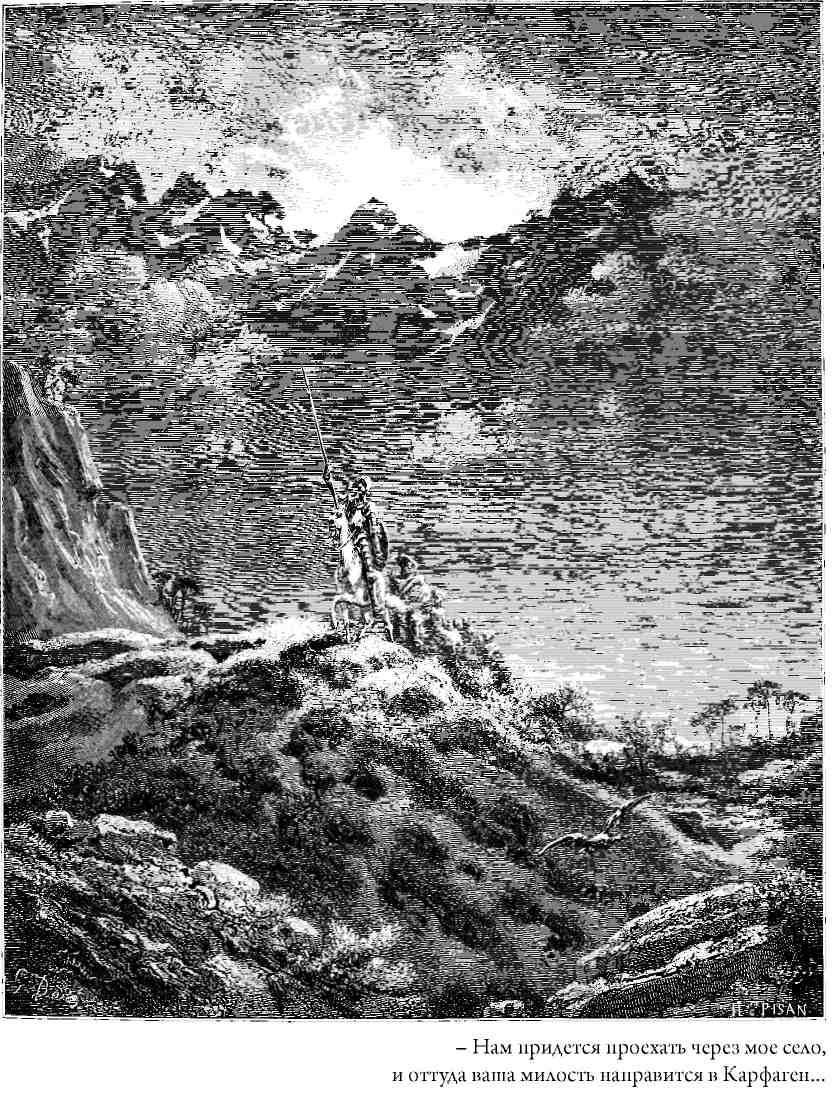 -- В счастливый час встретил я зеркало рыцарства, доброго моего земляка
Дон Кихота Ламанчского, цвет и сливки учтивости, защитника и покровителя
угнетенных и квинтэссенцию всех странствующих рыцарей. -- И, говоря это, он
обнимал левое колено Дон Кихота.
Пораженный тем, что говорил и делал этот человек, рыцарь стал
внимательно всматриваться в него и наконец узнал. Он был изумлен, встретив
его здесь, и делал большие усилия, чтобы сойти с лошади. Но священник не
допустил этого, на что Дон Кихот сказал:
-- Дайте мне сойти, милость ваша сеньор лисенсиат, так как не годится,
чтобы я сидел верхом, когда столь почтенная особа, как ваша милость, идет
пешком.
-- Я никоим образом не соглашусь на это, -- сказал священник. --
Оставайтесь сидеть верхом, ваше величие, потому что, сидя верхом, вы
совершаете самые великие дела и подвиги, когда-либо виданные в наш век. Что
же касается меня -- иерея, хотя и недостойного, -- с меня достаточно
поместиться на муле позади кого-нибудь из этих сеньоров, сопровождающих вашу
милость, если это им не в тягость; и я даже сочту, что еду верхом на коне
Пегасе, или же на той зебре, или могучем боевом коне, на котором ездил
знаменитый мавр Мусараке, до сих пор еще лежащий очарованным на большом
холме Сулема, недалеко от великого Комплута {Холм Сулема на левом берегу
реки Энарес, как раз против города Алькала, который и есть gran Compluto,
называемый так от римского Complutum.}.
-- Об этом я не подумал, сеньор мой лисенсиат, -- ответил Дон Кихот, --
и уверен, что сеньора принцесса будет настолько любезна, что из доброго
чувства ко мне прикажет своему оруженосцу уступить место на седле вашей
милости, а сам он сядет позади, если только мул вынесет это.
-- Думаю, что он вынесет, -- сказала принцесса, -- и знаю также, мне не
понадобится приказывать моему сеньору оруженосцу уступить свое место, так
как он настолько учтив и благовоспитан, что и сам не допустит, чтобы
духовное лицо шло пешком, когда может ехать верхом.
-- Совершенно верно, -- ответил цирюльник и быстро слез с мула,
предлагая занять место на седле священнику, что тот и сделал, не заставляя
себя долго просить. Но, к несчастию, когда цирюльник хотел взобраться на
круп мула, последний, который, по правде говоря, был наемный, -- а этим
вполне сказано, что он был плохой, -- вскинул задние ноги и раза два так
сильно ударил ими в воздухе, что, если б он попал в грудь или в голову маэсе
Николасу, тот послал бы к черту все поиски Дон Кихота. Но и это брыканье
мула напугало его, и он упал, нимало не заботясь о своей бороде, которая
свалилась на землю. Почувствовав, что он без бороды, цирюльник ничего
другого не мог придумать, как только прикрыть лицо обеими руками и крикнуть,
что он выбил себе коренные зубы. Дон Кихот, увидав большой пук бороды без
челюстей и без крови, лежащий отдельно от лица упавшего оруженосца,
воскликнул:
-- Какживбог, это великое чудо! Ему отшибло и оторвало с лица бороду,
точно ее нарочно сбрили!
Священник, видя, что его выдумке грозит опасность быть раскрытой,
тотчас же подбежал к бороде, поднял ее и бросился к маэсе Николасу, все еще
продолжавшему кричать, и мигом, прижав его голову к своей груди, прикрепил
ему бороду, над которой пробормотал несколько слов, говоря, что это
вернейшее заклинание для приращения бород, в чем они сейчас и убедятся. Как
только он прикрепил бороду, он отошел и оруженосец оказался таким же
бородатым и здоровым, каким он был и до того. Это чрезвычайно удивило Дон
Кихота, и он попросил священника, когда у него будет свободное время,
научить его этому заклинанию, потому что он предполагает, что целебные
свойства его простираются дальше приращивания бороды: не подлежит сомнению,
что, раз вырвана вся борода, значит, повреждено и ранено и тело, а если
заклинание исцеляет все это, то действие его не ограничивается одной
бородой.
-- Совершенно верно, -- ответил священник и обещал научить рыцаря
заклинанию при первом удобном случае.
-- В счастливый час встретил я зеркало рыцарства, доброго моего земляка
Дон Кихота Ламанчского, цвет и сливки учтивости, защитника и покровителя
угнетенных и квинтэссенцию всех странствующих рыцарей. -- И, говоря это, он
обнимал левое колено Дон Кихота.
Пораженный тем, что говорил и делал этот человек, рыцарь стал
внимательно всматриваться в него и наконец узнал. Он был изумлен, встретив
его здесь, и делал большие усилия, чтобы сойти с лошади. Но священник не
допустил этого, на что Дон Кихот сказал:
-- Дайте мне сойти, милость ваша сеньор лисенсиат, так как не годится,
чтобы я сидел верхом, когда столь почтенная особа, как ваша милость, идет
пешком.
-- Я никоим образом не соглашусь на это, -- сказал священник. --
Оставайтесь сидеть верхом, ваше величие, потому что, сидя верхом, вы
совершаете самые великие дела и подвиги, когда-либо виданные в наш век. Что
же касается меня -- иерея, хотя и недостойного, -- с меня достаточно
поместиться на муле позади кого-нибудь из этих сеньоров, сопровождающих вашу
милость, если это им не в тягость; и я даже сочту, что еду верхом на коне
Пегасе, или же на той зебре, или могучем боевом коне, на котором ездил
знаменитый мавр Мусараке, до сих пор еще лежащий очарованным на большом
холме Сулема, недалеко от великого Комплута {Холм Сулема на левом берегу
реки Энарес, как раз против города Алькала, который и есть gran Compluto,
называемый так от римского Complutum.}.
-- Об этом я не подумал, сеньор мой лисенсиат, -- ответил Дон Кихот, --
и уверен, что сеньора принцесса будет настолько любезна, что из доброго
чувства ко мне прикажет своему оруженосцу уступить место на седле вашей
милости, а сам он сядет позади, если только мул вынесет это.
-- Думаю, что он вынесет, -- сказала принцесса, -- и знаю также, мне не
понадобится приказывать моему сеньору оруженосцу уступить свое место, так
как он настолько учтив и благовоспитан, что и сам не допустит, чтобы
духовное лицо шло пешком, когда может ехать верхом.
-- Совершенно верно, -- ответил цирюльник и быстро слез с мула,
предлагая занять место на седле священнику, что тот и сделал, не заставляя
себя долго просить. Но, к несчастию, когда цирюльник хотел взобраться на
круп мула, последний, который, по правде говоря, был наемный, -- а этим
вполне сказано, что он был плохой, -- вскинул задние ноги и раза два так
сильно ударил ими в воздухе, что, если б он попал в грудь или в голову маэсе
Николасу, тот послал бы к черту все поиски Дон Кихота. Но и это брыканье
мула напугало его, и он упал, нимало не заботясь о своей бороде, которая
свалилась на землю. Почувствовав, что он без бороды, цирюльник ничего
другого не мог придумать, как только прикрыть лицо обеими руками и крикнуть,
что он выбил себе коренные зубы. Дон Кихот, увидав большой пук бороды без
челюстей и без крови, лежащий отдельно от лица упавшего оруженосца,
воскликнул:
-- Какживбог, это великое чудо! Ему отшибло и оторвало с лица бороду,
точно ее нарочно сбрили!
Священник, видя, что его выдумке грозит опасность быть раскрытой,
тотчас же подбежал к бороде, поднял ее и бросился к маэсе Николасу, все еще
продолжавшему кричать, и мигом, прижав его голову к своей груди, прикрепил
ему бороду, над которой пробормотал несколько слов, говоря, что это
вернейшее заклинание для приращения бород, в чем они сейчас и убедятся. Как
только он прикрепил бороду, он отошел и оруженосец оказался таким же
бородатым и здоровым, каким он был и до того. Это чрезвычайно удивило Дон
Кихота, и он попросил священника, когда у него будет свободное время,
научить его этому заклинанию, потому что он предполагает, что целебные
свойства его простираются дальше приращивания бороды: не подлежит сомнению,
что, раз вырвана вся борода, значит, повреждено и ранено и тело, а если
заклинание исцеляет все это, то действие его не ограничивается одной
бородой.
-- Совершенно верно, -- ответил священник и обещал научить рыцаря
заклинанию при первом удобном случае.
 Затем решили, что священник поедет первый на муле, а после него будут
садиться поочередно остальные трое, пока не доберутся до постоялого двора,
который, по-видимому, отстоял около двух миль оттуда. Когда они двинулись
вперед, -- причем трое ехали верхом, именно Дон Кихот, принцесса и
священник, а трое шли пешком, то есть Карденио, цирюльник и Санчо Панса, --
Дон Кихот сказал девушке:
-- Ваше величество, сеньора моя, теперь ведите нас, куда вам будет
угодно.
Но прежде чем она успела ответить, лисенсиат спросил ее:
-- В какое королевство намерена вести нас ваша милость? Не в
королевство ли Микомикон? Должно быть, что так и есть, или же я плохой
знаток в королевствах.
Она, все схватывавшая налету, поняла, что ей следует ответить
утвердительно, и потому сказала:
-- Да, сеньор, путь мой лежит в королевство Микомикон.
-- Если это так, -- объявил священник, -- то нам придется проехать
через мое село, и оттуда ваша милость направится в Карфаген, где, при удаче,
вы тотчас же можете сесть на корабль, и, если
будет попутный ветер, спокойное море и не случится бури, вы несколько
менее чем в девять лет можете добраться до большого озера Неона -- я хочу
сказать Меотис, -- которое лежит дней на сто с лишком пути от королевства
вашего величества.
-- Милость ваша ошибается, сеньор мой, -- сказала принцесса, -- еще нет
и двух лет, как я уехала оттуда, и могу вас уверить, все время погода стояла
прескверная, а тем не менее мне удалось увидеть того, кого я так сильно
желала видеть, -- именно доблестного сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о
славе которого дошла до моего слуха, едва я вступила в Испанию, и эта-то
молва и побудила меня разыскать его, чтобы поручить себя его великодушию и
доверить справедливое мое дело мужеству его непобедимой руки.
-- Довольно, прекратите ваши восхваления, -- сказал тогда Дон Кихот, --
я враг всякого рода лести, и хотя это не лесть, все же такие речи оскорбляют
мои целомудренные уши. Одно могу сказать вам, сеньора моя -- обладаю ли я
мужеством или не обладаю им, -- то, которое есть у меня или которого нет у
меня, я всецело употреблю на служение вам, готовый даже жертвовать за вас
жизнью. Теперь же, оставив это до поры до времени, попрошу сеньора
лисенсиата сказать мне, какая причина привела его в эту пустынную местность
совершенно одного, без слуг и одетого налегке, что крайне изумляет меня.
-- Отвечу вам на это в кратких словах, -- возразил священник. -- Знайте
же, милость ваша, сеньор Дон Кихот, что я и маэсе Николас, наш друг и наш
цирюльник, мы отправились в Севилью за получением денег, которые один мой
родственник, пробывший долгие годы в Индии, прислал мне, сумма была немалая,
так как превышала шестьдесят тысяч песос {Pesos ensayados -- испанская
монета, имевшая в те времена вес (peso) ровно в унцию серебра, a ensayado
означает "прошедшая через испытание и найденная полновесной".}, да к тому же
и полновесных, что составит чуть ли не еще столько же. А когда мы вчера
проходили близ этой местности, на нас напало четверо разбойников и обобрали
нас вплоть до бороды, так что цирюльник счел нужным приладить себе
поддельную бороду, -- а вот этого молодого человека (и он указал на
Карденио), который идет вместе с нами, они ограбили вторично. И самое лучшее
во всей истории то, что, как ходят в окрестности слухи, напавшие на нас
разбойники были галерные невольники, которых, как они говорят, освободил
почти на этом самом месте человек, обладавший таким мужеством, что он один,
вопреки комиссару и стражникам, отпустил всех их на волю. Нет сомнения, что
он, должно быть, сумасшедший, или такой же большой негодяй, как и они, или,
наконец, человек без души и совести, если он мог пустить волка среди овец,
лисицу -- среди кур и мух -- на мед. Он захотел попрать правосудие, восстать
против своего короля и законного повелителя, так как он нарушил справедливые
его приказания, он захотел, говорю я, отнять у галер ее ноги {Т. е. ее
гребцов -- галерных невольников.} и встревожил Святую эрмандаду, уже долгие
годы отдыхавшую; словом, он совершил поступок, из-за которого может
погибнуть душа и ничего не выиграет тело.
Санчо рассказал священнику и цирюльнику приключение с галерными
невольниками, совершенное его господином с такой для него славой, и поэтому
священник, упоминая об этом событии, сильно сгустил краски, чтобы
посмотреть, что сделает или скажет Дон Кихот, который при каждом его слове
менялся в лице и не смел признаться, что он был освободителем этих добрых
людей.
-- Вот они-то, -- продолжал священник, -- и ограбили нас; и да простит
Бог в своем милосердии того, кто помешал подвергнуть их заслуженному ими
наказанию.
Затем решили, что священник поедет первый на муле, а после него будут
садиться поочередно остальные трое, пока не доберутся до постоялого двора,
который, по-видимому, отстоял около двух миль оттуда. Когда они двинулись
вперед, -- причем трое ехали верхом, именно Дон Кихот, принцесса и
священник, а трое шли пешком, то есть Карденио, цирюльник и Санчо Панса, --
Дон Кихот сказал девушке:
-- Ваше величество, сеньора моя, теперь ведите нас, куда вам будет
угодно.
Но прежде чем она успела ответить, лисенсиат спросил ее:
-- В какое королевство намерена вести нас ваша милость? Не в
королевство ли Микомикон? Должно быть, что так и есть, или же я плохой
знаток в королевствах.
Она, все схватывавшая налету, поняла, что ей следует ответить
утвердительно, и потому сказала:
-- Да, сеньор, путь мой лежит в королевство Микомикон.
-- Если это так, -- объявил священник, -- то нам придется проехать
через мое село, и оттуда ваша милость направится в Карфаген, где, при удаче,
вы тотчас же можете сесть на корабль, и, если
будет попутный ветер, спокойное море и не случится бури, вы несколько
менее чем в девять лет можете добраться до большого озера Неона -- я хочу
сказать Меотис, -- которое лежит дней на сто с лишком пути от королевства
вашего величества.
-- Милость ваша ошибается, сеньор мой, -- сказала принцесса, -- еще нет
и двух лет, как я уехала оттуда, и могу вас уверить, все время погода стояла
прескверная, а тем не менее мне удалось увидеть того, кого я так сильно
желала видеть, -- именно доблестного сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о
славе которого дошла до моего слуха, едва я вступила в Испанию, и эта-то
молва и побудила меня разыскать его, чтобы поручить себя его великодушию и
доверить справедливое мое дело мужеству его непобедимой руки.
-- Довольно, прекратите ваши восхваления, -- сказал тогда Дон Кихот, --
я враг всякого рода лести, и хотя это не лесть, все же такие речи оскорбляют
мои целомудренные уши. Одно могу сказать вам, сеньора моя -- обладаю ли я
мужеством или не обладаю им, -- то, которое есть у меня или которого нет у
меня, я всецело употреблю на служение вам, готовый даже жертвовать за вас
жизнью. Теперь же, оставив это до поры до времени, попрошу сеньора
лисенсиата сказать мне, какая причина привела его в эту пустынную местность
совершенно одного, без слуг и одетого налегке, что крайне изумляет меня.
-- Отвечу вам на это в кратких словах, -- возразил священник. -- Знайте
же, милость ваша, сеньор Дон Кихот, что я и маэсе Николас, наш друг и наш
цирюльник, мы отправились в Севилью за получением денег, которые один мой
родственник, пробывший долгие годы в Индии, прислал мне, сумма была немалая,
так как превышала шестьдесят тысяч песос {Pesos ensayados -- испанская
монета, имевшая в те времена вес (peso) ровно в унцию серебра, a ensayado
означает "прошедшая через испытание и найденная полновесной".}, да к тому же
и полновесных, что составит чуть ли не еще столько же. А когда мы вчера
проходили близ этой местности, на нас напало четверо разбойников и обобрали
нас вплоть до бороды, так что цирюльник счел нужным приладить себе
поддельную бороду, -- а вот этого молодого человека (и он указал на
Карденио), который идет вместе с нами, они ограбили вторично. И самое лучшее
во всей истории то, что, как ходят в окрестности слухи, напавшие на нас
разбойники были галерные невольники, которых, как они говорят, освободил
почти на этом самом месте человек, обладавший таким мужеством, что он один,
вопреки комиссару и стражникам, отпустил всех их на волю. Нет сомнения, что
он, должно быть, сумасшедший, или такой же большой негодяй, как и они, или,
наконец, человек без души и совести, если он мог пустить волка среди овец,
лисицу -- среди кур и мух -- на мед. Он захотел попрать правосудие, восстать
против своего короля и законного повелителя, так как он нарушил справедливые
его приказания, он захотел, говорю я, отнять у галер ее ноги {Т. е. ее
гребцов -- галерных невольников.} и встревожил Святую эрмандаду, уже долгие
годы отдыхавшую; словом, он совершил поступок, из-за которого может
погибнуть душа и ничего не выиграет тело.
Санчо рассказал священнику и цирюльнику приключение с галерными
невольниками, совершенное его господином с такой для него славой, и поэтому
священник, упоминая об этом событии, сильно сгустил краски, чтобы
посмотреть, что сделает или скажет Дон Кихот, который при каждом его слове
менялся в лице и не смел признаться, что он был освободителем этих добрых
людей.
-- Вот они-то, -- продолжал священник, -- и ограбили нас; и да простит
Бог в своем милосердии того, кто помешал подвергнуть их заслуженному ими
наказанию.

 Едва священник кончил, как Санчо сказал:
-- По чести говоря, сеньор лисенсиат, тот, кто совершил этот подвиг,
был господин мой, хотя я, со своей стороны, перед тем и говорил ему и
предупреждал его, чтобы он обдумал то, что делает, и что грех отпускать их
на свободу, потому что все, которые отправляются на галеры, -- величайшие
негодяи. -- Глупец, -- сказал тогда Дон Кихот, -- странствующим рыцарям не
подобает и не приличествует исследовать, за преступления ли или за
добродетели идут таким образом и терпят такие муки скорбные, закованные и
угнетенные, встречаемые ими на дорогах. Единственная забота рыцарей --
помочь им, как нуждающимся в помощи, устремив глаза на их страдания, а не на
дурные их поступки. Я наткнулся на цепь огорченных, несчастных людей и
поступил с ними, как этого требовал священный мой долг, а до остального мне
нет дела. И если кому это не понравилось -- сохраняя всякое уважение к
священному сану и к почтенной особе сеньора лисенсиата,-- я скажу, что он
мало понимает в задачах рыцарства и лжет, как сын блудницы и низкий человек,
что я во всем объеме и докажу ему моим мечом.
Сказав это, он укрепился на стременах и надвинул до бровей шишак,
потому что цирюльничий таз, который, по его мнению, был шлемом Мамбрино, он
привесил к передней луке седла до того времени, когда окажется возможным
отдать исправить его после повреждения, причиненного ему каторжниками.
Доротеа, остроумная и живая, уже хорошо поняв странные причуды Дон
Кихота и то, что все, за исключением лишь Санчо Пансы, подшучивают над ним,
не захотела отстать от других и, видя, что он так взбешен, сказала ему:
-- Сеньор рыцарь, пусть милость ваша вспомнит данное мне обещание,
согласно которому вы не можете вступится ни в какое другое приключение, как
бы оно ни было безотлагательно. Успокойте взволнованное ваше сердце, милость
ваша, так как, если бы сеньор лисенсиат знал, что каторжники были
освобождены этой непобедимой рукой, он дал бы трижды зашить себе рот и даже
трижды прикусил бы себе язык прежде, чем сказать слово, которое бы клонило к
осуждению вас.
-- Да, клянусь в этом, -- сказал священник, -- и сверх того я даже
вырвал бы себе ус {Католическое духовенство, теперь гладко выбритое, во
времена Сервантеса носило и усы, и маленькие бородки.}.
-- Я замолчу, сеньора моя, -- сказал Дон Кихот, -- сдержу справедливый
гнев, уже пробудившийся в моей груди, и буду ехать мирно и спокойно, пока не
совершу того, что обещал вам. Но в награду за мое доброе намерение, я умоляю
вас, скажите мне -- если это не затруднит вас, -- какое ваше горе и кто те
люди, сколько их и какого они звания, которым я должен воздать за вас
заслуженное ими, полное и достойное отмщение?
-- Охотно сделаю это, -- ответила Доротеа, -- если только вам не
наскучит слушать о горестях и несчастиях.
-- Не наскучит, сеньора моя, -- сказал Дон Кихот.
-- В таком случае, -- ответила Доротеа, -- прошу у вас внимания,
милости ваши.
Не успела она сказать это, как уже Карденио и цирюльник очутились рядом
с ней, желая послушать, как будет сочинять свою историю остроумная
Доротеа; то же самое сделал и Санчо, столь же заблуждающийся на ее счет, как
и его господин. А она, хорошенько усевшись на седле, кашлянув и произведя
еще некоторые другие жесты в виде предисловия, заговорила очень мило
следующим образом:
-- Прежде всего, сеньоры, вашим милостям следует знать, что меня
зовут...
Здесь она запнулась немного, потому что забыла имя, данное ей
священником; но он поспешил ей на помощь, догадавшись, что, собственно,
затрудняет ее, и воскликнул:
-- Неудивительно, сеньора моя, что ваше величие смущается и приходит в
замешательство, рассказывая о своих злоключениях; ведь несчастия часто
бывают такого рода, что отнимают память у тех, на кого они обрушиваются, и
люди забывают даже собственное свое имя, как это и случилось с вашим
высочеством, забывшим, что вас, законную наследницу великого королевства
Микомикон зовут принцесса Микомикона. Приняв к сведению это напоминание,
ваше величие легко может восстановить в омраченной своей памяти все, что вам
угодно рассказать нам.
-- Это совершенно верно, -- ответила девушка, -- и я думаю, что впредь
мне уже не понадобится больше никаких указаний, так как я сама доведу
правдивую свою историю до благополучного конца. Итак, вот она. Король, мой
отец, которого звали Тинакрио Мудрый, был очень сведущ в искусстве,
называемом магией, и благодаря своей науке он узнал, что королева, моя мать,
по имени Харамилья, должна умереть раньше него, и вскоре затем и ему самому
придется проститься с жизнью, а я останусь круглой сиротой, без отца и
матери. Но, говорил он, его не столько огорчало это, сколько пугали
достоверные сведения, что огромный великан, владетель большого острова,
почти пограничного с нашим королевством, по имени Пандафиландо Мрачный Взор
(потому что достоверно известно, что хотя у него глаза на месте и правильно
расположены, однако он всегда глядит вкось, как будто он косой, и делает это
нарочно, из злобы, чтобы нагнать страх и ужас на тех, на кого он смотрит),
итак, я говорю, отец мой знал, что великан этот, прослышав о моем сиротстве,
ворвется с большой военной силой в мое королевство и отнимет у меня все, не
оставив даже маленькой деревеньки, где бы я нашла себе убежище; но что я
могу избегнуть всего этого разорения и несчастия, если соглашусь выйти замуж
за него, хотя, насколько мой отец мог предвидеть, он был уверен, что я
никогда не соглашусь на такой неравный брак. И в этом он был совершенно
прав, потому что мне никогда и в мысль не приходило выйти замуж за этого
великана, но и ни за какого другого, как бы он ни был велик и огромен. Отец
сказал мне также, что после того, как он умрет, и я увижу, что Пандафиландо
начинает вторгаться в мое королевство, я не должна защищаться, так как это
привело бы к моей гибели, а добровольно, без всякого сопротивления должна
предоставить ему завладеть королевством, если я желаю предотвратить резню и
полное истребление моих добрых и верных подданных, потому что мне было бы
невозможно защищаться против дьявольского могущества великана; и чтобы
тотчас же с некоторыми из моих приближенных я отправилась в Испанию, где
обрету помощь своему горю, встретившись со странствующим рыцарем, слава
которого распространится в то время по всему этому государству, и будет он
называться -- если я хорошо припоминаю -- дон Асоте или дон Гиготе.
-- Дон Кихот, сказал он, должно быть, -- воскликнул тогда Санчо
Панса,-- или же иным своим именем: Рыцарь Печального Образа.
-- Совершенно верно, -- подтвердила Доротеа, -- и, кроме того, он еще
говорил, что тот рыцарь высокого роста, сухощав лицом, а с правой стороны
под левым плечом или поблизости у плеча у него темное родимое пятно с
несколькими волосиками наподобие кабаньей щетины.
Услыхав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:
-- Иди сюда, Санчо, сын, помоги мне раздеться, -- я желаю видеть, тот
ли я рыцарь, о котором пророчествовал мудрый король.
-- Но зачем же ваша милость желает раздеваться? -- спросила Доротеа.
-- Чтобы посмотреть, есть ли у меня то родимое пятно, о котором говорил
вам отец, -- ответил Дон Кихот.
-- Для этого незачем раздеваться,-- сказал Санчо, -- так как я знаю,
что у вашей милости есть родимое пятно в таком роде посреди спинного хребта,
а это признак, что вы человек сильный.
-- Этого достаточно, -- сказала Доротеа, -- потому что между друзьями
не следует обращать внимание на мелочи, и на плече ли родимое пятно, или на
спине, -- это неважно; довольно того, что есть родимое пятно, и пусть оно
будет себе где угодно, ведь тело везде одно и то же. Несомненно, добрый мой
отец был прав во всем, и я не ошиблась, обратившись к сеньору Дон Кихоту,
потому что он и есть тот, о котором мне говорил мой отец, так как приметы
его лица совпадают с приметами великой славы этого рыцаря не только в
Испании, но и во всей Ламанче. И действительно, едва я высадилась в Осуне,
как уже столько наслышалась о его подвигах, что сердце тотчас же подсказало
мне: это тот и есть, кого я приехала искать.
-- Но как же, сеньора моя, -- спросил Дон Кихот, -- ваша милость могла
высадиться в Осуне, когда это не морская гавань?
Прежде чем Доротеа успела ответить, священник предупредил ее, говоря:
-- Должно быть, сеньора принцесса хотела сказать, что после того как
она высадилась в Малаге, первое место, где она услышала вести о вашей
милости, было в Осуне.
-- Именно это я и хотела сказать,-- подтвердила Доротеа.
-- Дело выяснилось, -- объявил священник, -- и потому не угодно ли
вашему величеству продолжать.
-- Продолжать мне, собственно, нечего, -- ответила Доротеа, -- могу
только добавить, что наконец судьба оказалась ко мне так благосклонна: я
нашла сеньора Дон Кихота и теперь уже мысленно вижу и считаю себя королевой
и повелительницей всего моего государства, с тех пор как он, по своей
учтивости и великодушию, обещал мне оказать милость идти со мною всюду, куда
бы я ни повела его, а поведу я его только навстречу Пандафиландо Мрачному
Взору, чтобы он убил его и вернул мне то, что против всякой справедливости
было захвачено им, и все это должно исполниться точь-в-точь, как предсказал
Тинакрио Мудрый, мой добрый отец. Он также распорядился и написал
халдейскими или греческими буквами, -- не знаю, так как не умею их читать,
-- что, если этот рыцарь его пророчества, отрубив голову великана, пожелал
бы жениться на мне, я тотчас же без всякого возражения должна согласиться
стать законной его женой и вручить ему обладание моим королевством
одновременно с обладанием моей особой.
-- Что ты скажешь на это, Санчо, друг, -- спросил тогда Дон Кихот. --
Слышал ли ты, о чем речь? Не говорил ли я тебе этого? Видишь, у нас уже есть
и королевство, чтобы управлять им, и королева, чтобы жениться на ней.
-- Клянусь, что это так, -- сказал Санчо, -- и был бы сыном блудницы
тот, кто не женился бы сейчас, лишь только перережет горло сеньору
Пандафиландо! Плоха, что ли, у нас королева? Желал бы я, чтоб в такие, как
она, превратились все блохи в моей постели!
И, говоря это, он сделал прыжка два в воздухе с признаками величайшего
удовольствия, после чего схватил за узду мула Доротеи, остановил его и
бросился перед нею на колени, умоляя позволить ему поцеловать ее руки в знак
того, что он ее признает своей королевой и повелительницей. Кто из
присутствующих мог бы удержаться от смеха при виде безумия господина и
простоватости его слуги? Доротеа дала Санчо поцеловать свои руки и обещала
ему сделать его знатным сеньором в своем королевстве, когда небу угодно
будет дозволить ей снова овладеть и пользоваться им. Санчо поблагодарил ее в
таких выражениях, что опять возбудил общий смех.
-- Вот, сеньоры, -- продолжала Доротеа, -- моя история; мне остается
только добавить, что из всей свиты, вывезенной мной из моего королевства, у
меня никого не осталось, кроме вот этого бородатого оруженосца, так как все
остальные потонули во время страшной бури, разразившейся над нами уже в виду
гавани. Он и я, мы добрались до берега на двух досках точно чудом, да и вся
моя жизнь, как вы могли заметить, полна чудес и тайн. Если же я, рассказывая
о ней, зашла в чем-либо дальше или же не была столь точной, как бы
следовало, припишите вину тому, о чем сеньор лисенсиат упоминал в начале
моего рассказа, именно: что беспрерывные и необычайные страдания отнимают
память у людей, их испытывающих.
-- Они не отнимут памяти у меня, о возвышенная и доблестная сеньора,--
воскликнул Дон Кихот, -- какие бы страдания я ни испытал на службе у вас и
как бы они ни были велики и неслыханны! Итак, я снова подтверждаю данное вам
мое обещание исполнить вашу просьбу и клянусь идти за вами на край света,
пока не встречусь лицом к лицу с свирепым вашим врагом, которому с помощью
божией и моей сильной руки я намерен отрубить гордую голову острием этого...
не могу сказать хорошего, меча благодаря Хинесу де Пасамонте, который унес
мой.
Последние слова он пробормотал сквозь зубы и продолжал, говоря:
-- А после того как я отрублю ему голову и верну вам мирное обладание
вашим государством, вы можете свободно располагать своей особой, как только
вам заблагорассудится, потому что, до тех пор пока сердце мое в плену, воля
порабощена и разум подчинен той... не скажу ничего больше, -- мне невозможно
допустить даже и мысль о женитьбе хотя бы на самой птице феникс.
Санчо был так возмущен последними словами, сказанными его господином
относительно его нежелания жениться, что он, возвысив голос в величайшем
гневе воскликнул:
-- Клянусь и божусь, сеньор Дон Кихот, что вы, милость ваша, не в
здравом уме! Как так? Неужели возможно, чтобы милость ваша колебалась,
жениться ли ей или нет на столь знатной принцессе, как вот эта? Думаете ли
вы, что судьба на каждом перекрестке преподнесет вам такое счастие, какое
она теперь вам пре-
подносит? Или, по-вашему, быть может, сеньора Дульсинея красивее?
Конечно, нет, она и вполовину не так красива, и я готов сказать, что ей не
дойти даже до края башмаков той, которая здесь, перед нами. Плохая же
надежда у меня получить графство, которое я ожидаю, если ваша милость
отправится искать лакомства на дне моря {Pedir cotufasen elgolfo --
испанская поговорка, означающая "искать невозможного": cotufas -- нечто
вроде шишек, или нароста, осоки, годной для еды, которую в Валенсии считают
лакомством и из которой делают народное питье, называемое horchata.}.
Женитесь, женитесь тотчас же ради самого сатаны и берите это королевство,
которое так, ни за что, ни про что само лезет вам в руки, а будучи королем,
сделайте меня маркизом или генерал-губернатором, а остальное хоть бы черт
тогда побрал!
Дон Кихот, услыхав такие кощунства против своей сеньоры Дульсинеи, не
мог стерпеть этого и, не говоря ни слова, не разжимая рта, поднял копье и
нанес им такие два удара своему оруженосцу, от которых тот свалился на
землю, и, если б Доротеа не крикнула, чтобы он перестал его бить, он наверно
уложил бы его на месте.
-- Воображаете ли вы, низкий негодяй, -- обратился он к нему немного
погодя, -- что я вам всегда позволю хватать меня за самое чувствительное
место и вы то и дело будете грешить, а я то и дело буду прощать вам? Не
думайте этого, распроклятый подлец, так как, без сомнения, ты подлец, если у
тебя повернулся язык против несравненной Дульсинеи; и разве вы не знаете,
олух, бродяга, мошенник, что, если б не доблесть, которую она сообщает моей
руке, у меня не было бы силы убить и блоху? Скажите мне, насмешник со
змеиным жалом, как вы полагаете, кто завоевал это королевство, отрубил
голову великану и сделал вас маркизом (потому что все это я считаю уже делом
решенным и совершившимся), если не могущество Дульсинеи, избравшей мою руку
орудием своих подвигов? Она во мне сражается и побеждает мною, и я живу и
дышу ею, и в ней вся жизнь моя и существование мое. О сын блудницы, негодяй,
как вы неблагодарны, если, видя, что вас подняли из праха и сделали знатным
вельможей, вы за такое благодеяние платите, злословя ту, которая оказала вам
его!
Санчо не был в столь плохом состоянии, чтобы не мог слышать всего, что
говорит его господин, и, поднявшись довольно проворно, он укрылся позади
парадного коня Доротеи и оттуда обратился к господину своему, говоря:
-- Скажите мне, сеньор, если милость ваша решила не жениться на этой
могучей принцессе, ясно, что в таком случае королевство не будет вашим, а
если оно не будет вашим, какие же вы мне можете оказать милости? На это-то
именно я и жалуюсь: женитесь раз и навсегда на этой королеве, теперь, пока
она у нас здесь, точно упавшая к нам с неба, а потом можете вернуться к
сеньоре Дульсинее, так как, должно быть, были же на свете короли, имевшие
любовниц. Что же касается вопроса о красоте, в это я не вмешиваюсь, потому
что, по правде говоря, обе они кажутся мне красивыми, хотя я никогда не
видел сеньоры Дульсинеи.
-- Как? Ты ее не видел, кощунствующий предатель? -- воскликнул Дон
Кихот. -- Не ты ли только что привез мне от нее известие?
-- Я говорю, что не видел ее на таком досуге, -- ответил Санчо, --
чтобы я мог рассмотреть ее красоту и хорошие качества по частям и в
отдельности, но так, в общем, она показалась мне очень хороша.
-- Теперь я прощаю тебя, -- сказал Дон Кихот, -- и ты прости мне обиду,
которую я тебе нанес, потому что над первыми своими порывами человек не
властен.
-- Это я вижу, -- ответил Санчо, -- вот так и во мне желание поговорить
является всегда первым порывом, и я не могу удержаться, чтобы хоть время от
времени не высказать того, что мне подвернется на язык.
-- Тем не менее, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- в будущем думай о том,
что ты говоришь, так как повадился кувшин по воду ходить... Больше ничего не
скажу.
-- Что ж, -- ответил Санчо, -- на небе Бог, и Он видит все проделки и
рассудит, кто больше грешит: я ли, говоря нехорошо, или ваша милость,
поступая дурно.
-- Довольно, -- сказала Доротеа,-- идите, Санчо, поцелуйте руку своему
господину, попросите у него прощения, и отныне и впредь будьте осторожнее в
ваших похвалах и в порицаниях, и не говорите дурно об этой сеньоре Тобосо,
которую я не знаю, но всегда готова служить ей, и уповайте на Бога, что от
вас не уйдет владение, где вам можно будет жить, как принцу.
Санчо подошел, опустив голову к своему господину и попросил у него
руку, которую тот и протянул ему с большим достоинством, и, после того как
Санчо ее поцеловал, рыцарь благословил его и сказал, что им надо пройти
немного вперед, так как он хочет кое о чем спросить его и должен
переговорить с ним об очень важных вещах. Санчо так и сделал, и оба они
прошли некоторое расстояние, и тогда Дон Кихот сказал:
-- С тех пор как ты вернулся, у меня не было ни времени, ни случая
расспросить тебя о многих подробностях посольства, порученного мною тебе, и
об ответе, который ты мне привез; и теперь, когда судьба предоставила нам
время и место, не отказывай мне в счастии, которое ты можешь доставить мне
своими добрыми вестями.
-- Пусть ваша милость спрашивает, что желает, -- ответил Санчо, -- и я
дам точный ответ обо всем: и как приехал, и как уехал; но умоляю милость
вашу, сеньор мой, не будьте впредь столь мстительны.
-- Отчего ты это говоришь, Санчо? -- спросил Дон Кихот.
-- Говорю это оттого, -- ответил он, -- что только что полученные мною
удары скорее относились к ссоре, возбужденной между нами дьяволом прошлой
ночью, чем к тому, что я сказал против сеньоры Дульсинеи, которую я люблю и
чту, как святые мощи -- хотя в ней и нет ничего святого, -- только потому,
что она принадлежит вашей милости.
-- Оставь эти разговоры, Санчо, заклинаю тебя твоею жизнью, -- сказал
Дон Кихот, -- они возбуждают во мне досаду. Тогда я простил тебя, но ты
хорошо знаешь, что принято говорить: за новый грех -- новое покаяние.
-----
Пока это происходило, они увидели, что по той же дороге, как и они,
едет человек верхом на осле, и, когда он подъехал ближе, он показался им
цыганом; но Санчо Панса, глаза и душа которого устремлялись за ослом, где бы
он ни увидел его, едва заметил того человека, как в нем узнал Хинеса де
Пасамонте. От цыгана, словно от нитки до клубка, он добрался и до своего
осла и нимало не ошибся, так как именно на его Сером и ехал Пасамонте,
который, чтобы его не узнали и желая продать осла, оделся цыганом, а язык их
и многие другие он знал так же хорошо, как и свой родной. Санчо увидел его и
узнал, и едва он его увидел и узнал, как громким голосом крикнул ему: "А,
вор Хинесильо, оставь мое сокровище, отдай мне мою жизнь, не впутывайся в
мою отраду; отдай моего осла, отдай мне мое счастье; беги, сын блудницы,
убирайся, вор, и верни то, что не принадлежит тебе!". Не было нужды тратить
столько слов и ругательств, так как при первом же Хинес спрыгнул на землю,
и, бросившись бежать быстрою рысью, казавшеюся скачкой, он в одну минуту
удалился и исчез из глаз. Санчо подошел к своему Серому и, обнимая его,
сказал: "Как тебе жилось, радость моя, дорогой мой Серый, мой добрый
товарищ?". И вместе с тем, он целовал и ласкал его, точно это был человек;
осел молчал и давал Санчо целовать себя и ласкать, не отвечая ему ни слова.
Все остальные подошли к Санчо и поздравляли его с находкой Серого, особенно
Дон Кихот, который ему сказал, что, тем не менее он не возьмет назад своего
приказа на выдачу трех ослят. Санчо поблагодарил его за это {Этот эпизод был
вставлен во втором издании "Дон Кихота".}.
-----
Пока оба они были заняты этими разговорами, священник сказал Доротее,
что она действовала очень умно как относительно содержания своего рассказа,
так и относительно краткости его и сходства с рыцарскими книгами. Она
ответила, что часто развлекалась чтением их, но не знала, где находятся
провинции и морские гавани, и потому наугад сказала, что высадилась в Осуне.
-- Я это так и понял, -- ответил священник, -- и потому сейчас же
поспешил сказать то, что я сказал, чем все и уладилось. Но не странно ли
видеть, с какою легкостью этот несчастный идальго верит всем подобным
выдумкам и лжи только потому, что на них отпечаток слога и характера
нелепостей, заключающихся в его книгах?
-- Конечно, это странно, -- сказал Карденио, -- и это столь редкостное
и неслыханное явление, что, я не знаю, если б кто захотел изобрести и
сочинить нечто такое, имел ли бы он настолько острый ум, чтобы успешно
справиться с подобной задачей?
-- Тут есть еще одно обстоятельство, -- сказал священник, -- именно:
оставив в стороне нелепости, которые этот добрый идальго говорит, когда
коснутся области его безумия, если завести с ним речь о других вещах, он
рассуждает как нельзя более правильно и выказывает ясный и трезвый ум, так
что, лишь бы не затрагивали его рыцарства, всякий счел бы его за вполне
здравомыслящего человека.
Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал свой и сказал Санчо:
-- Предадим забвению {Echemospelillos a la mar, -- букв, "бросим
волосики в море": испанское выражение, употребляемое теми, кто поссорился и
помирился.}, друг Панса, все наши размолвки, и скажи мне теперь, откинув
всякую злобу и досаду, где, как и когда увидел ты Дульсинеию? Что она
делала? Что ты сказал ей? Что она тебе ответила? Какое было выражение ее
лица, когда она читала мое письмо? Кто переписал его тебе? Скажи мне все,
что, по-твоему, в данном случае заслуживает быть рассказанным, о чем следует
спросить и на что ответить, ничего не прибавляя и не сочиняя, чтобы
доставить мне удовольствие, и тем менее не урезывая ничего, чтобы не лишить
меня его.
-- Сеньор, -- ответил Санчо, -- если уж говорить правду, письма мне
никто не переписывал, потому что у меня и не было никакого письма.
-- Оно так и есть, как ты говоришь,-- сказал Дон Кихот, -- и я нашел у
себя спустя два дня после твоего отъезда записную книжечку, в которой я
написал письмо, и был очень огорчен, так как не знал, что ты сделаешь, когда
увидишь, что у тебя нет письма. Я думал, что ты сейчас же вернешься, как
только заметишь, что его нет у тебя.
-- Я бы это и сделал, -- сказал Санчо, -- если бы не запомнил письма
наизусть, когда ваша милость читала мне его, так что я пересказал его
пономарю, который с моих слов записал его точка в точку, говоря, что хотя он
и читал много окружных посланий об отлучении от церкви, но во всю свою жизнь
не видел и не читал такого милого письма, как это.
-- И ты его все еще помнишь наизусть Санчо? -- спросил Дон Кихот.
-- Нет, сеньор, -- ответил Санчо,-- потому что, пересказав его пономарю
и видя, что оно больше не нужно, я допустил себя забыть его. Единственное,
что я еще помню, это "ограниченная" я хотел сказать "неограниченная
повелительница", и конец: "Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа", а в
промежутке я вставил больше трехсот: "душа моя, жизнь моя и очи мои".
Едва священник кончил, как Санчо сказал:
-- По чести говоря, сеньор лисенсиат, тот, кто совершил этот подвиг,
был господин мой, хотя я, со своей стороны, перед тем и говорил ему и
предупреждал его, чтобы он обдумал то, что делает, и что грех отпускать их
на свободу, потому что все, которые отправляются на галеры, -- величайшие
негодяи. -- Глупец, -- сказал тогда Дон Кихот, -- странствующим рыцарям не
подобает и не приличествует исследовать, за преступления ли или за
добродетели идут таким образом и терпят такие муки скорбные, закованные и
угнетенные, встречаемые ими на дорогах. Единственная забота рыцарей --
помочь им, как нуждающимся в помощи, устремив глаза на их страдания, а не на
дурные их поступки. Я наткнулся на цепь огорченных, несчастных людей и
поступил с ними, как этого требовал священный мой долг, а до остального мне
нет дела. И если кому это не понравилось -- сохраняя всякое уважение к
священному сану и к почтенной особе сеньора лисенсиата,-- я скажу, что он
мало понимает в задачах рыцарства и лжет, как сын блудницы и низкий человек,
что я во всем объеме и докажу ему моим мечом.
Сказав это, он укрепился на стременах и надвинул до бровей шишак,
потому что цирюльничий таз, который, по его мнению, был шлемом Мамбрино, он
привесил к передней луке седла до того времени, когда окажется возможным
отдать исправить его после повреждения, причиненного ему каторжниками.
Доротеа, остроумная и живая, уже хорошо поняв странные причуды Дон
Кихота и то, что все, за исключением лишь Санчо Пансы, подшучивают над ним,
не захотела отстать от других и, видя, что он так взбешен, сказала ему:
-- Сеньор рыцарь, пусть милость ваша вспомнит данное мне обещание,
согласно которому вы не можете вступится ни в какое другое приключение, как
бы оно ни было безотлагательно. Успокойте взволнованное ваше сердце, милость
ваша, так как, если бы сеньор лисенсиат знал, что каторжники были
освобождены этой непобедимой рукой, он дал бы трижды зашить себе рот и даже
трижды прикусил бы себе язык прежде, чем сказать слово, которое бы клонило к
осуждению вас.
-- Да, клянусь в этом, -- сказал священник, -- и сверх того я даже
вырвал бы себе ус {Католическое духовенство, теперь гладко выбритое, во
времена Сервантеса носило и усы, и маленькие бородки.}.
-- Я замолчу, сеньора моя, -- сказал Дон Кихот, -- сдержу справедливый
гнев, уже пробудившийся в моей груди, и буду ехать мирно и спокойно, пока не
совершу того, что обещал вам. Но в награду за мое доброе намерение, я умоляю
вас, скажите мне -- если это не затруднит вас, -- какое ваше горе и кто те
люди, сколько их и какого они звания, которым я должен воздать за вас
заслуженное ими, полное и достойное отмщение?
-- Охотно сделаю это, -- ответила Доротеа, -- если только вам не
наскучит слушать о горестях и несчастиях.
-- Не наскучит, сеньора моя, -- сказал Дон Кихот.
-- В таком случае, -- ответила Доротеа, -- прошу у вас внимания,
милости ваши.
Не успела она сказать это, как уже Карденио и цирюльник очутились рядом
с ней, желая послушать, как будет сочинять свою историю остроумная
Доротеа; то же самое сделал и Санчо, столь же заблуждающийся на ее счет, как
и его господин. А она, хорошенько усевшись на седле, кашлянув и произведя
еще некоторые другие жесты в виде предисловия, заговорила очень мило
следующим образом:
-- Прежде всего, сеньоры, вашим милостям следует знать, что меня
зовут...
Здесь она запнулась немного, потому что забыла имя, данное ей
священником; но он поспешил ей на помощь, догадавшись, что, собственно,
затрудняет ее, и воскликнул:
-- Неудивительно, сеньора моя, что ваше величие смущается и приходит в
замешательство, рассказывая о своих злоключениях; ведь несчастия часто
бывают такого рода, что отнимают память у тех, на кого они обрушиваются, и
люди забывают даже собственное свое имя, как это и случилось с вашим
высочеством, забывшим, что вас, законную наследницу великого королевства
Микомикон зовут принцесса Микомикона. Приняв к сведению это напоминание,
ваше величие легко может восстановить в омраченной своей памяти все, что вам
угодно рассказать нам.
-- Это совершенно верно, -- ответила девушка, -- и я думаю, что впредь
мне уже не понадобится больше никаких указаний, так как я сама доведу
правдивую свою историю до благополучного конца. Итак, вот она. Король, мой
отец, которого звали Тинакрио Мудрый, был очень сведущ в искусстве,
называемом магией, и благодаря своей науке он узнал, что королева, моя мать,
по имени Харамилья, должна умереть раньше него, и вскоре затем и ему самому
придется проститься с жизнью, а я останусь круглой сиротой, без отца и
матери. Но, говорил он, его не столько огорчало это, сколько пугали
достоверные сведения, что огромный великан, владетель большого острова,
почти пограничного с нашим королевством, по имени Пандафиландо Мрачный Взор
(потому что достоверно известно, что хотя у него глаза на месте и правильно
расположены, однако он всегда глядит вкось, как будто он косой, и делает это
нарочно, из злобы, чтобы нагнать страх и ужас на тех, на кого он смотрит),
итак, я говорю, отец мой знал, что великан этот, прослышав о моем сиротстве,
ворвется с большой военной силой в мое королевство и отнимет у меня все, не
оставив даже маленькой деревеньки, где бы я нашла себе убежище; но что я
могу избегнуть всего этого разорения и несчастия, если соглашусь выйти замуж
за него, хотя, насколько мой отец мог предвидеть, он был уверен, что я
никогда не соглашусь на такой неравный брак. И в этом он был совершенно
прав, потому что мне никогда и в мысль не приходило выйти замуж за этого
великана, но и ни за какого другого, как бы он ни был велик и огромен. Отец
сказал мне также, что после того, как он умрет, и я увижу, что Пандафиландо
начинает вторгаться в мое королевство, я не должна защищаться, так как это
привело бы к моей гибели, а добровольно, без всякого сопротивления должна
предоставить ему завладеть королевством, если я желаю предотвратить резню и
полное истребление моих добрых и верных подданных, потому что мне было бы
невозможно защищаться против дьявольского могущества великана; и чтобы
тотчас же с некоторыми из моих приближенных я отправилась в Испанию, где
обрету помощь своему горю, встретившись со странствующим рыцарем, слава
которого распространится в то время по всему этому государству, и будет он
называться -- если я хорошо припоминаю -- дон Асоте или дон Гиготе.
-- Дон Кихот, сказал он, должно быть, -- воскликнул тогда Санчо
Панса,-- или же иным своим именем: Рыцарь Печального Образа.
-- Совершенно верно, -- подтвердила Доротеа, -- и, кроме того, он еще
говорил, что тот рыцарь высокого роста, сухощав лицом, а с правой стороны
под левым плечом или поблизости у плеча у него темное родимое пятно с
несколькими волосиками наподобие кабаньей щетины.
Услыхав это, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:
-- Иди сюда, Санчо, сын, помоги мне раздеться, -- я желаю видеть, тот
ли я рыцарь, о котором пророчествовал мудрый король.
-- Но зачем же ваша милость желает раздеваться? -- спросила Доротеа.
-- Чтобы посмотреть, есть ли у меня то родимое пятно, о котором говорил
вам отец, -- ответил Дон Кихот.
-- Для этого незачем раздеваться,-- сказал Санчо, -- так как я знаю,
что у вашей милости есть родимое пятно в таком роде посреди спинного хребта,
а это признак, что вы человек сильный.
-- Этого достаточно, -- сказала Доротеа, -- потому что между друзьями
не следует обращать внимание на мелочи, и на плече ли родимое пятно, или на
спине, -- это неважно; довольно того, что есть родимое пятно, и пусть оно
будет себе где угодно, ведь тело везде одно и то же. Несомненно, добрый мой
отец был прав во всем, и я не ошиблась, обратившись к сеньору Дон Кихоту,
потому что он и есть тот, о котором мне говорил мой отец, так как приметы
его лица совпадают с приметами великой славы этого рыцаря не только в
Испании, но и во всей Ламанче. И действительно, едва я высадилась в Осуне,
как уже столько наслышалась о его подвигах, что сердце тотчас же подсказало
мне: это тот и есть, кого я приехала искать.
-- Но как же, сеньора моя, -- спросил Дон Кихот, -- ваша милость могла
высадиться в Осуне, когда это не морская гавань?
Прежде чем Доротеа успела ответить, священник предупредил ее, говоря:
-- Должно быть, сеньора принцесса хотела сказать, что после того как
она высадилась в Малаге, первое место, где она услышала вести о вашей
милости, было в Осуне.
-- Именно это я и хотела сказать,-- подтвердила Доротеа.
-- Дело выяснилось, -- объявил священник, -- и потому не угодно ли
вашему величеству продолжать.
-- Продолжать мне, собственно, нечего, -- ответила Доротеа, -- могу
только добавить, что наконец судьба оказалась ко мне так благосклонна: я
нашла сеньора Дон Кихота и теперь уже мысленно вижу и считаю себя королевой
и повелительницей всего моего государства, с тех пор как он, по своей
учтивости и великодушию, обещал мне оказать милость идти со мною всюду, куда
бы я ни повела его, а поведу я его только навстречу Пандафиландо Мрачному
Взору, чтобы он убил его и вернул мне то, что против всякой справедливости
было захвачено им, и все это должно исполниться точь-в-точь, как предсказал
Тинакрио Мудрый, мой добрый отец. Он также распорядился и написал
халдейскими или греческими буквами, -- не знаю, так как не умею их читать,
-- что, если этот рыцарь его пророчества, отрубив голову великана, пожелал
бы жениться на мне, я тотчас же без всякого возражения должна согласиться
стать законной его женой и вручить ему обладание моим королевством
одновременно с обладанием моей особой.
-- Что ты скажешь на это, Санчо, друг, -- спросил тогда Дон Кихот. --
Слышал ли ты, о чем речь? Не говорил ли я тебе этого? Видишь, у нас уже есть
и королевство, чтобы управлять им, и королева, чтобы жениться на ней.
-- Клянусь, что это так, -- сказал Санчо, -- и был бы сыном блудницы
тот, кто не женился бы сейчас, лишь только перережет горло сеньору
Пандафиландо! Плоха, что ли, у нас королева? Желал бы я, чтоб в такие, как
она, превратились все блохи в моей постели!
И, говоря это, он сделал прыжка два в воздухе с признаками величайшего
удовольствия, после чего схватил за узду мула Доротеи, остановил его и
бросился перед нею на колени, умоляя позволить ему поцеловать ее руки в знак
того, что он ее признает своей королевой и повелительницей. Кто из
присутствующих мог бы удержаться от смеха при виде безумия господина и
простоватости его слуги? Доротеа дала Санчо поцеловать свои руки и обещала
ему сделать его знатным сеньором в своем королевстве, когда небу угодно
будет дозволить ей снова овладеть и пользоваться им. Санчо поблагодарил ее в
таких выражениях, что опять возбудил общий смех.
-- Вот, сеньоры, -- продолжала Доротеа, -- моя история; мне остается
только добавить, что из всей свиты, вывезенной мной из моего королевства, у
меня никого не осталось, кроме вот этого бородатого оруженосца, так как все
остальные потонули во время страшной бури, разразившейся над нами уже в виду
гавани. Он и я, мы добрались до берега на двух досках точно чудом, да и вся
моя жизнь, как вы могли заметить, полна чудес и тайн. Если же я, рассказывая
о ней, зашла в чем-либо дальше или же не была столь точной, как бы
следовало, припишите вину тому, о чем сеньор лисенсиат упоминал в начале
моего рассказа, именно: что беспрерывные и необычайные страдания отнимают
память у людей, их испытывающих.
-- Они не отнимут памяти у меня, о возвышенная и доблестная сеньора,--
воскликнул Дон Кихот, -- какие бы страдания я ни испытал на службе у вас и
как бы они ни были велики и неслыханны! Итак, я снова подтверждаю данное вам
мое обещание исполнить вашу просьбу и клянусь идти за вами на край света,
пока не встречусь лицом к лицу с свирепым вашим врагом, которому с помощью
божией и моей сильной руки я намерен отрубить гордую голову острием этого...
не могу сказать хорошего, меча благодаря Хинесу де Пасамонте, который унес
мой.
Последние слова он пробормотал сквозь зубы и продолжал, говоря:
-- А после того как я отрублю ему голову и верну вам мирное обладание
вашим государством, вы можете свободно располагать своей особой, как только
вам заблагорассудится, потому что, до тех пор пока сердце мое в плену, воля
порабощена и разум подчинен той... не скажу ничего больше, -- мне невозможно
допустить даже и мысль о женитьбе хотя бы на самой птице феникс.
Санчо был так возмущен последними словами, сказанными его господином
относительно его нежелания жениться, что он, возвысив голос в величайшем
гневе воскликнул:
-- Клянусь и божусь, сеньор Дон Кихот, что вы, милость ваша, не в
здравом уме! Как так? Неужели возможно, чтобы милость ваша колебалась,
жениться ли ей или нет на столь знатной принцессе, как вот эта? Думаете ли
вы, что судьба на каждом перекрестке преподнесет вам такое счастие, какое
она теперь вам пре-
подносит? Или, по-вашему, быть может, сеньора Дульсинея красивее?
Конечно, нет, она и вполовину не так красива, и я готов сказать, что ей не
дойти даже до края башмаков той, которая здесь, перед нами. Плохая же
надежда у меня получить графство, которое я ожидаю, если ваша милость
отправится искать лакомства на дне моря {Pedir cotufasen elgolfo --
испанская поговорка, означающая "искать невозможного": cotufas -- нечто
вроде шишек, или нароста, осоки, годной для еды, которую в Валенсии считают
лакомством и из которой делают народное питье, называемое horchata.}.
Женитесь, женитесь тотчас же ради самого сатаны и берите это королевство,
которое так, ни за что, ни про что само лезет вам в руки, а будучи королем,
сделайте меня маркизом или генерал-губернатором, а остальное хоть бы черт
тогда побрал!
Дон Кихот, услыхав такие кощунства против своей сеньоры Дульсинеи, не
мог стерпеть этого и, не говоря ни слова, не разжимая рта, поднял копье и
нанес им такие два удара своему оруженосцу, от которых тот свалился на
землю, и, если б Доротеа не крикнула, чтобы он перестал его бить, он наверно
уложил бы его на месте.
-- Воображаете ли вы, низкий негодяй, -- обратился он к нему немного
погодя, -- что я вам всегда позволю хватать меня за самое чувствительное
место и вы то и дело будете грешить, а я то и дело буду прощать вам? Не
думайте этого, распроклятый подлец, так как, без сомнения, ты подлец, если у
тебя повернулся язык против несравненной Дульсинеи; и разве вы не знаете,
олух, бродяга, мошенник, что, если б не доблесть, которую она сообщает моей
руке, у меня не было бы силы убить и блоху? Скажите мне, насмешник со
змеиным жалом, как вы полагаете, кто завоевал это королевство, отрубил
голову великану и сделал вас маркизом (потому что все это я считаю уже делом
решенным и совершившимся), если не могущество Дульсинеи, избравшей мою руку
орудием своих подвигов? Она во мне сражается и побеждает мною, и я живу и
дышу ею, и в ней вся жизнь моя и существование мое. О сын блудницы, негодяй,
как вы неблагодарны, если, видя, что вас подняли из праха и сделали знатным
вельможей, вы за такое благодеяние платите, злословя ту, которая оказала вам
его!
Санчо не был в столь плохом состоянии, чтобы не мог слышать всего, что
говорит его господин, и, поднявшись довольно проворно, он укрылся позади
парадного коня Доротеи и оттуда обратился к господину своему, говоря:
-- Скажите мне, сеньор, если милость ваша решила не жениться на этой
могучей принцессе, ясно, что в таком случае королевство не будет вашим, а
если оно не будет вашим, какие же вы мне можете оказать милости? На это-то
именно я и жалуюсь: женитесь раз и навсегда на этой королеве, теперь, пока
она у нас здесь, точно упавшая к нам с неба, а потом можете вернуться к
сеньоре Дульсинее, так как, должно быть, были же на свете короли, имевшие
любовниц. Что же касается вопроса о красоте, в это я не вмешиваюсь, потому
что, по правде говоря, обе они кажутся мне красивыми, хотя я никогда не
видел сеньоры Дульсинеи.
-- Как? Ты ее не видел, кощунствующий предатель? -- воскликнул Дон
Кихот. -- Не ты ли только что привез мне от нее известие?
-- Я говорю, что не видел ее на таком досуге, -- ответил Санчо, --
чтобы я мог рассмотреть ее красоту и хорошие качества по частям и в
отдельности, но так, в общем, она показалась мне очень хороша.
-- Теперь я прощаю тебя, -- сказал Дон Кихот, -- и ты прости мне обиду,
которую я тебе нанес, потому что над первыми своими порывами человек не
властен.
-- Это я вижу, -- ответил Санчо, -- вот так и во мне желание поговорить
является всегда первым порывом, и я не могу удержаться, чтобы хоть время от
времени не высказать того, что мне подвернется на язык.
-- Тем не менее, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- в будущем думай о том,
что ты говоришь, так как повадился кувшин по воду ходить... Больше ничего не
скажу.
-- Что ж, -- ответил Санчо, -- на небе Бог, и Он видит все проделки и
рассудит, кто больше грешит: я ли, говоря нехорошо, или ваша милость,
поступая дурно.
-- Довольно, -- сказала Доротеа,-- идите, Санчо, поцелуйте руку своему
господину, попросите у него прощения, и отныне и впредь будьте осторожнее в
ваших похвалах и в порицаниях, и не говорите дурно об этой сеньоре Тобосо,
которую я не знаю, но всегда готова служить ей, и уповайте на Бога, что от
вас не уйдет владение, где вам можно будет жить, как принцу.
Санчо подошел, опустив голову к своему господину и попросил у него
руку, которую тот и протянул ему с большим достоинством, и, после того как
Санчо ее поцеловал, рыцарь благословил его и сказал, что им надо пройти
немного вперед, так как он хочет кое о чем спросить его и должен
переговорить с ним об очень важных вещах. Санчо так и сделал, и оба они
прошли некоторое расстояние, и тогда Дон Кихот сказал:
-- С тех пор как ты вернулся, у меня не было ни времени, ни случая
расспросить тебя о многих подробностях посольства, порученного мною тебе, и
об ответе, который ты мне привез; и теперь, когда судьба предоставила нам
время и место, не отказывай мне в счастии, которое ты можешь доставить мне
своими добрыми вестями.
-- Пусть ваша милость спрашивает, что желает, -- ответил Санчо, -- и я
дам точный ответ обо всем: и как приехал, и как уехал; но умоляю милость
вашу, сеньор мой, не будьте впредь столь мстительны.
-- Отчего ты это говоришь, Санчо? -- спросил Дон Кихот.
-- Говорю это оттого, -- ответил он, -- что только что полученные мною
удары скорее относились к ссоре, возбужденной между нами дьяволом прошлой
ночью, чем к тому, что я сказал против сеньоры Дульсинеи, которую я люблю и
чту, как святые мощи -- хотя в ней и нет ничего святого, -- только потому,
что она принадлежит вашей милости.
-- Оставь эти разговоры, Санчо, заклинаю тебя твоею жизнью, -- сказал
Дон Кихот, -- они возбуждают во мне досаду. Тогда я простил тебя, но ты
хорошо знаешь, что принято говорить: за новый грех -- новое покаяние.
-----
Пока это происходило, они увидели, что по той же дороге, как и они,
едет человек верхом на осле, и, когда он подъехал ближе, он показался им
цыганом; но Санчо Панса, глаза и душа которого устремлялись за ослом, где бы
он ни увидел его, едва заметил того человека, как в нем узнал Хинеса де
Пасамонте. От цыгана, словно от нитки до клубка, он добрался и до своего
осла и нимало не ошибся, так как именно на его Сером и ехал Пасамонте,
который, чтобы его не узнали и желая продать осла, оделся цыганом, а язык их
и многие другие он знал так же хорошо, как и свой родной. Санчо увидел его и
узнал, и едва он его увидел и узнал, как громким голосом крикнул ему: "А,
вор Хинесильо, оставь мое сокровище, отдай мне мою жизнь, не впутывайся в
мою отраду; отдай моего осла, отдай мне мое счастье; беги, сын блудницы,
убирайся, вор, и верни то, что не принадлежит тебе!". Не было нужды тратить
столько слов и ругательств, так как при первом же Хинес спрыгнул на землю,
и, бросившись бежать быстрою рысью, казавшеюся скачкой, он в одну минуту
удалился и исчез из глаз. Санчо подошел к своему Серому и, обнимая его,
сказал: "Как тебе жилось, радость моя, дорогой мой Серый, мой добрый
товарищ?". И вместе с тем, он целовал и ласкал его, точно это был человек;
осел молчал и давал Санчо целовать себя и ласкать, не отвечая ему ни слова.
Все остальные подошли к Санчо и поздравляли его с находкой Серого, особенно
Дон Кихот, который ему сказал, что, тем не менее он не возьмет назад своего
приказа на выдачу трех ослят. Санчо поблагодарил его за это {Этот эпизод был
вставлен во втором издании "Дон Кихота".}.
-----
Пока оба они были заняты этими разговорами, священник сказал Доротее,
что она действовала очень умно как относительно содержания своего рассказа,
так и относительно краткости его и сходства с рыцарскими книгами. Она
ответила, что часто развлекалась чтением их, но не знала, где находятся
провинции и морские гавани, и потому наугад сказала, что высадилась в Осуне.
-- Я это так и понял, -- ответил священник, -- и потому сейчас же
поспешил сказать то, что я сказал, чем все и уладилось. Но не странно ли
видеть, с какою легкостью этот несчастный идальго верит всем подобным
выдумкам и лжи только потому, что на них отпечаток слога и характера
нелепостей, заключающихся в его книгах?
-- Конечно, это странно, -- сказал Карденио, -- и это столь редкостное
и неслыханное явление, что, я не знаю, если б кто захотел изобрести и
сочинить нечто такое, имел ли бы он настолько острый ум, чтобы успешно
справиться с подобной задачей?
-- Тут есть еще одно обстоятельство, -- сказал священник, -- именно:
оставив в стороне нелепости, которые этот добрый идальго говорит, когда
коснутся области его безумия, если завести с ним речь о других вещах, он
рассуждает как нельзя более правильно и выказывает ясный и трезвый ум, так
что, лишь бы не затрагивали его рыцарства, всякий счел бы его за вполне
здравомыслящего человека.
Пока они вели этот разговор, Дон Кихот продолжал свой и сказал Санчо:
-- Предадим забвению {Echemospelillos a la mar, -- букв, "бросим
волосики в море": испанское выражение, употребляемое теми, кто поссорился и
помирился.}, друг Панса, все наши размолвки, и скажи мне теперь, откинув
всякую злобу и досаду, где, как и когда увидел ты Дульсинеию? Что она
делала? Что ты сказал ей? Что она тебе ответила? Какое было выражение ее
лица, когда она читала мое письмо? Кто переписал его тебе? Скажи мне все,
что, по-твоему, в данном случае заслуживает быть рассказанным, о чем следует
спросить и на что ответить, ничего не прибавляя и не сочиняя, чтобы
доставить мне удовольствие, и тем менее не урезывая ничего, чтобы не лишить
меня его.
-- Сеньор, -- ответил Санчо, -- если уж говорить правду, письма мне
никто не переписывал, потому что у меня и не было никакого письма.
-- Оно так и есть, как ты говоришь,-- сказал Дон Кихот, -- и я нашел у
себя спустя два дня после твоего отъезда записную книжечку, в которой я
написал письмо, и был очень огорчен, так как не знал, что ты сделаешь, когда
увидишь, что у тебя нет письма. Я думал, что ты сейчас же вернешься, как
только заметишь, что его нет у тебя.
-- Я бы это и сделал, -- сказал Санчо, -- если бы не запомнил письма
наизусть, когда ваша милость читала мне его, так что я пересказал его
пономарю, который с моих слов записал его точка в точку, говоря, что хотя он
и читал много окружных посланий об отлучении от церкви, но во всю свою жизнь
не видел и не читал такого милого письма, как это.
-- И ты его все еще помнишь наизусть Санчо? -- спросил Дон Кихот.
-- Нет, сеньор, -- ответил Санчо,-- потому что, пересказав его пономарю
и видя, что оно больше не нужно, я допустил себя забыть его. Единственное,
что я еще помню, это "ограниченная" я хотел сказать "неограниченная
повелительница", и конец: "Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа", а в
промежутке я вставил больше трехсот: "душа моя, жизнь моя и очи мои".

 -- Все это недурно, -- сказал Дон Кихот, -- продолжай. Ты приехал; что
же делала эта королева красоты? Верно, ты ее застал нанизывающей жемчуг или
вышивающей золотыми нитками какой-нибудь девиз для плененного ею рыцаря?
-- Нет, -- ответил Санчо, -- я не застал ее за этим делом, а она
просеивала два четверика пшеницы на заднем дворе своего дома.
-- В таком случае, -- возразил Дон Кихот, -- считай, что зерна той
пшеницы, к которым прикасалась ее рука, были жемчугом; заметил ли ты, друг,
какого была сорта та пшеница -- белого цвета или темно-коричневого?
-- Ни белого, ни коричневого, а красноватого, -- ответил Санчо {Trigo
candeal, trechel, rubion (белый, темно-коричневый и красноватый) -- эти три
сорта пшеницы возделывались в Испании.}.
-- Уверяю тебя, -- сказал Дон Кихот, -- что из этого сорта пшеницы,
просеянной ее руками, без сомнения, выйдет самый лучший белый хлеб. Но
продолжай. Когда ты передал ей мое письмо, поцеловала она его? Положила ли
себе на голову? {Положить письмо себе на голову прежде, чем читать его,
считалось в то время оказанием высшей почести написавшему письмо, а
поцеловать его было, как и теперь, знаком любви.} Сделала ли что-либо
достойное такого послания? Или что же она сделала?
-- Когда я подошел к ней, чтобы передать ей письмо, -- ответил Санчо,
-- я ее застал в самом разгаре работы; она просеbвала порядочную кучу
пшеницы, бывшей у нее в решете, и сказала мне: "Положите, друг, письмо на
тот мешок, потому что я не могу прочесть его раньше, чем кончу просевать
все, что у меня тут в решете".
-- Умная сеньора! -- сказал Дон Кихот. -- Она должна была так
поступить, чтобы потом на досуге прочесть письмо и насладиться им.
Продолжай, Санчо. А в то время, как она была занята своим делом, какой вы с
нею вели разговор? Что она спрашивала тебя обо мне? А ты, что ты ей ответил?
Кончай и расскажи мне все как есть, до последней мелочи.
-- Она ничего у меня не спрашивала, но я ей сказал, каким образом
милость ваша, желая служить ей, совершаете эпитимию, обнаженный от пояса
вверх, поселившись среди этих гор, точно дикарь, где вы спите на земле, не
едите хлеба со скатерти, не чешете себе бороды и все только плачете и
проклинаете свою судьбу.
-- Сказав, что я проклинаю свою судьбу, ты плохо сказал, -- заметил Дон
Кихот, -- потому что, наоборот, я благословляю свою судьбу и буду
благословлять ее до конца моих дней за то, что она удостоила меня счастья
любить такую высокую сеньору, как Дульсинея Тобосская.
-- Такая она высокая, -- сказал Санчо, -- что, ей-богу, она выше меня
более чем на ладонь.
-- Как так Санчо? -- спросил Дон Кихот. -- Разве ты мерился с нею?
-- Я мерился с нею вот каким образом, -- ответил Санчо, -- когда я ей
помогал взвалить мешок пшеницы на осла, мы встали очень близко друг к другу,
и я не мог не видеть, что она выше меня на добрую пядь.
-- Не подлежит сомнению, -- сказал Дон Кихот, -- что этот ее высокий
рост соединен с тысячей миллионов душевных прелестей, украшающих ее. Но одну
вещь, Санчо, ты не можешь отрицать: когда ты к ней приблизился, наверное ты
почувствовал какое-то необычайное благоухание, тончайший аромат, что-то
такое, не знаю что, до того сладостное, что я не могу подобрать этому
названия, -- я говорю, благовоние или испарение, как будто ты вошел в
магазин самого лучшего перчаточника {В магазинах перчаточников действительно
было очень сильное благоухание в те времена, потому что все перчатки были
надушены.}.
-- Могу сказать лишь то, -- ответил Санчо, -- что я почувствовал запах,
смахивающий на нечто прелое, мужское, верно, оттого, что она от усиленного
движения вспотела и очень обильно.
-- Вовсе не то, -- сказал Дон Кихот,-- а должно быть, у тебя был
насморк и ты слышал собственный свой запах, потому что я-то хорошо знаю, чем
благоухает эта роза среди шипов, эта лилия полей, эта разжиженная амбра.
-- Все может быть, -- ответил Санчо, -- потому что часто от меня
исходит тот же запах, который, как мне тогда показалось, исходил от ее
милости, сеньоры Дульсинеи. Но в этом нет ничего удивительного, так как один
черт похож на другого.
-- Ну, продолжай, -- сказал Дон Кихот, -- она просеяла зерно и послала
его на мельницу; что же сделала она, когда прочла мое письмо?
-- Письма, -- ответил Санчо, -- она не читала, потому что сказала, что
не умеет ни читать, ни писать; вместо того она его разорвала на мелкие
кусочки, говоря, что не желает дать прочесть его кому бы то ни было, чтобы в
селе не узнали ее тайн, и что с нее довольно и устной моей передачи о любви
вашей милости к ней и о необычайной эпитимии, которую вы совершаете ради
нее. В заключение она мне велела сказать вашей милости, что целует вам руки
и лучше желала бы видеть вас, чем писать вам. Итак, она умоляет вас и
приказывает по получении настоящего ответа уехать из этой поросшей вереском,
дикой местности, перестать делать нелепости и тотчас же отправляться по
дороге в Тобосо, если другое, более важное, дело не помешает, потому что у
нее сильнейшее желание повидать вашу милость. Она очень смеялась, когда я ей
сказал, что вас прозвали Рыцарем Печального Образа. Я спросил ее, был ли у
нее бискаец? Она ответила, что был и что он прекрасный человек. Спросил я
также о галерных невольниках, но она сказала, что до сих пор никого из них
не видела.
-- Пока все идет хорошо, -- заявил Дон Кихот, -- но скажи, какую
драгоценность подарила она тебе на прощание за те известия, которые ты ей
принес от меня? Ведь у странствующих рыцарей и их дам общепринятый старинный
обычай -- дарить оруженосцам, прислужникам или карликам, которые приносят
известия рыцарям от их дам и дамам от их рыцарей, какую-нибудь драгоценность
в награду за исполненное ими поручение.
-- Очень может быть, что это так и есть, -- сказал Санчо, -- и я считаю
этот обычай превосходным, но, должно быть, придерживались его лишь в былые
времена, а теперь, как видно, в обычае дарить только кусок хлеба с сыром,
потому что именно это дала мне сеньора Дульсинея через палисад двора, когда
я прощался с нею. К тому же и сыр по всем признакам был только овечий.
-- Она щедра бесконечно, -- сказал Дон Кихот, -- и если она не подарила
тебе драгоценной, золотой вещицы, то, без сомнения, потому только, что у нее
ничего не нашлось под рукой, чтобы дать тебе. Но куличи хороши и после Пасхи
{Buenas son mangas despuИs depascua -- испанская поговорка (в буквальном
переводе: "Рукава пригодятся и после Пасхи"), означающая, что подарок
доставляет удовольствие, хотя будет получен и позже.}; я повидаюсь с ней, и
все будет исправлено. Знаешь ли, Санчо, что меня удивляет? По-моему, ты туда
и обратно будто слетал по воздуху, так как ты употребил лишь немногим более
трех дней на путешествие в Тобосо и назад, а отсюда туда более тридцати
миль. Из этого я заключаю, что мудрый волшебник, который заботится о моих
делах и считается моим другом,-- потому что, несомненно, он у меня есть и
должен быть, иначе я не был бы хорошим странствующим рыцарем, -- говорю, что
подобный волшебник, должно быть, и помог путешествовать тебе незаметно для
тебя самого, так как среди мудрецов бывают такие, которые берут
странствующего рыцаря, спящего в постели, и он, не зная, как и каким
образом, просыпается на следующий день более чем за тысячи миль от того
места, где он ложился спать. Если б этого не было, то странствующие рыцари
не могли бы помогать друг другу в минуту опасности, как они это делают на
каждом шагу; например, бывает, что один сражается в горах Армении с
драконом, или со страшным чудовищем, или с другим рыцарем; он уже побежден в
битве и близок к смерти, как вдруг, когда он этого менее всего ожидает,
показывается вдали, на облаке или на огненной колеснице, другой рыцарь, друг
его, который только что перед тем был в Англии, и он помогает ему и спасает
его от смерти; а ночью он снова у себя дома и ужинает с величайшим
аппетитом, хотя обыкновенно от одного места до другого не менее чем две или
три тысячи миль. И все это совершается благодаря лишь искусству и мудрости
добрых волшебников, охраняющих храбрых рыцарей. Так что, друг Санчо, мне
нетрудно поверить, что ты в такой короткий срок проехал отсюда в Тобосо и
вернулся оттуда, потому что, как я уже говорил, должно быть, какой-нибудь
дружески расположенный мудрец нес тебя на крыльях по воздуху, так что ты
этого не заметил.
-- Возможно, что оно так и было,-- сказал Санчо, -- потому что, по
чести, Росинант бежал, точно осел у цыган, с ртутью в ушах {В числе
проделок, приписываемых цыганам, они будто бы вливают в уши мулам и ослам --
особенно когда продают их -- ртуть, чтобы животные бежали скорее.}.
-- Не только с ртутью, -- сказал Дон Кихот, -- но еще и с целым
легионом демонов, а это такой народ, который и сам путешествует, и, не
утомляя, заставляет и других путешествовать, сколько им вздумается. Но,
оставив это в стороне, как, по-твоему, должен я поступить теперь
относительно приказания моей сеньоры явиться повидаться с нею? Хотя я и
хорошо понимаю, что обязан покориться ее воле, но также вижу, что не могу
этого сделать вследствие обещания, данного мною принцессе, которая едет с
нами, и рыцарский закон принуждает меня исполнить свое слово прежде, чем
свое удовольствие. С одной стороны, меня преследует и увлекает желание
видеть мою сеньору, с другой -- возбуждает и зовет данное мною обещание и та
слава, которою я могу покрыть себя в этом предприятии. Но вот что я намерен
сделать: как можно быстрее ехать, чтобы поскорее добраться туда, где
находится этот великан; а по приезде я отрублю ему голову и верну принцессе
мирное обладание ее королевством, после чего немедленно поспешу обратно,
чтобы увидеть свет, который озаряет все мои чувства, и затем представить ей,
сеньоре моей, свои оправдания; она одобрит мое промедление, так как
убедится, что все совершается к возвеличению ее славы и известности, потому
что то, что я достиг, достигаю и достигну оружием в этой жизни, вытекает
всецело лишь из благорасположения ее ко мне и из того, что я принадлежу ей.
-- Ах, -- воскликнул Санчо, -- до чего голова вашей милости полна
небылиц! Но скажите мне, сеньор, неужто милость ваша намерена совершить это
путешествие ни за что ни про что и оттолкнуть от себя и упустить такую
богатую и знатную женитьбу, как эту, где в приданое дают королевство,
имеющее, как я слышал, более двадцати тысяч миль в окружности, изобилующее
всякими предметами, необходимыми для поддержания человеческого
существования, и более обширного, чем Португалия и Кастилия вместе взятые?
Замолчите, ради бога, устыдитесь того, что вы сказали, послушайтесь моего
совета, простите меня и венчайтесь тотчас же в первом местечке, где окажется
священник, -- а если нет, здесь перед нами наш лисенсиат, который оборудует
это дело, что твой жемчуг. Подумайте, ведь я уже в таких летах, что могу
дать совет, и тот, который я теперь вам даю, самый что ни на есть
подходящий, потому что воробей в руках лучше ястреба на лету, и кто, имея
хорошее, дурное выбирает, за дурное пускай на себя лишь пеняет.
-- Слушай, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- если ты даешь мне совет
жениться только для того, чтобы я тотчас же сделался королем, убив великана,
и имел возможность оказать тебе милость и дать обещанное, то довожу до
твоего сведения, что, и не женившись, я легко сумею исполнить твое желание,
так как, прежде чем вступить в бой, я условлюсь, что, если я выйду из него
победителем, хотя бы я и не женился на принцессе, она должна мне уделить
часть королевства, с тем, чтобы я мог передать ее кому захочу; а получив эту
часть, кому же могу я передать ее, как не тебе?
-- Это ясно, -- ответил Санчо, -- пусть только ваша милость постарается
выбрать такую часть королевства, которая была бы поближе к морю, чтобы в
случае, если там образ жизни мне не понравится, я мог усадить моих черных
подданных на корабли и поступить с ними, как я уже раньше говорил. И пусть
ваша милость не дает себе труда ехать теперь же повидаться с сеньорой
Дульсинеей, а отправляйтесь убивать великана, и покончим с этим делом, так
как, клянусь Богом, мне сдается, что оно принесет нам большую честь и
большую выгоду.
-- Говорю тебе, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- что ты можешь положиться
на меня, и я последую твоему совету относительно того, чтобы сначала ехать с
принцессой, прежде чем отправиться повидаться с Дульсинеей, но предупреждаю,
чтобы ты никому не говорил ни слова -- даже и тем, которые нас сопровождают,
-- о том, что мы здесь с тобой обсудили и решили, так как, если Дульсинея
столь сдержанна и не хочет, чтобы знали о ее чувствах, было бы нехорошо,
чтобы я или кто другой обнаружил их.
-- Если это так, -- сказал Санчо,-- почему же ваша милость посылает
всех, кого победила рука ваша, представляться сеньоре Дульсинее, -- ведь
этим вы подписываете имя ваше в том, что она вам нравится и вы ее
возлюбленный? И так как вы принуждаете тех, кто к ней является, падать на
колени в ее присутствии и говорить, что они пришли от вашей милости выразить
ей свою покорность, каким же образом можно скрыть ваши взаимные чувства?
-- О, как ты глуп и прост! -- сказал Дон Кихот. -- Разве ты не видишь,
Санчо, что все это служит лишь к большему ее возвеличению? Ты должен знать,
что в наших рыцарских обычаях считается великой честью для дамы иметь многих
странствующих рыцарей, которые ей служат, причем мысли их не простираются
дальше желания служить ей единственно ради нее самой, не ожидая иной награды
за свои многочисленные и благородные стремления, кроме согласия ее признать
их своими рыцарями.
-- Такого рода любовью, -- сказал Санчо, -- как я слышал в проповедях,
следовало бы любить Бога ради Него Самого, а не оттого, что нас побуждает к
этому надежда на блаженство или страх наказания. Хотя я желал бы любить Его
и служить Ему за то, что Он в состоянии сделать.
-- Черт бы побрал тебя, деревенщину! -- воскликнул Дон Кихот. -- Какие
ты иногда умные речи говоришь! Можно бы подумать, что ты проходил курс наук.
-- А по чести говоря, я не умею и читать, -- ответил Санчо.
В это время маэсе Николас крикнул им подождать их немного, так как они
желают остановиться и напиться воды из небольшого источника, бывшего вблизи.
Дон Кихот остановился, к великому удовольствию Санчо, который уже устал так
много лгать и боялся, чтобы его господин не поймал его на каком-нибудь
слове, потому что, хотя он и знал, что Дульсинея -- крестьянка из села
Тобосо, но никогда в жизни не видел ее. Между тем Карденио переоделся в
платье, бывшее на Доротее, когда они ее нашли, и хотя оно и не было особенно
хорошо, но все же куда лучше того, которое он снял с себя. Они спешились у
источника и утолили, правда, очень скудно, испытываемый ими сильный голод
тою провизией, которою священник запасся на постоялом дворе. Пока они
занимались этим, случилось, что мимо них по дороге прошел мальчик; он с
большим вниманием стал всматриваться в тех, которые расположились у
источника, и минуту спустя подбежал к Дон Кихоту и, целуя ему ноги, громко
заплакал, говоря:
-- Ах, сеньор мой! Милость ваша не узнает меня? Вглядитесь хорошенько,
я тот мальчик, Андрес, которого ваша милость отвязала от дуба, когда я был
привязан к нему.
Дон Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился ко всем
присутствовавшим, говоря:
-- Чтобы вы, сеньоры, могли видеть, как важно для всего мира
существование странствующих рыцарей, которые уничтожают несправедливости и
обиды, совершаемые злыми и наглыми людьми, живущими на свете, знайте,
милости ваши, что несколько дней тому назад, проходя мимо одного леса, я
услышал крики и жалобные стоны, которые, по-видимому, испускал огорченный и
нуждающийся в помощи человек. Тотчас же я поспешил, движимый долгом, к тому
месту, откуда, как мне казалось, неслись жалобные крики, и увидел
привязанным к дубу вот этого мальчика, стоящего перед вами, чему я душевно
рад, потому что он будет свидетелем и не даст мне ни в чем солгать. Я
говорю, он был привязан к дубу, обнаженный с пояса до шеи, и крестьянин, его
хозяин -- как я потом узнал, -- нещадно бил его ремнем от вожжей своей
кобылы. Лишь только я увидел это, я спросил у него причину столь жестокого
наказания. Грубиян ответил, что он стегает мальчика, так как тот его слуга,
и неисправности, в которых он повинен, происходят скорее от плутовства, чем
от простоты; на что этот ребенок сказал: "Сеньор, он бьет меня лишь за то,
что я спросил у него свое жалованье". Хозяин ответил, не знаю какими
объяснениями и оправданиями, которые, хотя я и слышал их, но не принял во
внимание. Словом, я велел ему отвязать мальчика и заставил крестьянина дать
клятву, что он возьмет его с собой и заплатит ему реал за реалом весь свой
долг, да еще надушенными деньгами. Так ли все это было, сын Андрес? Заметил
ли ты, как властно я приказывал ему и с каким смирением он обещал исполнить
то, что я ему предписал, указал и потребовал от него? Отвечай; не смущайся и
не сомневайся ни в чем. Расскажи этим сеньорам все, что случилось, чтобы они
могли понять и убедиться, как велика польза, говорю я, от пребывания
странствующих рыцарей на больших дорогах.
-- Все, что ваша милость сказала,-- полнейшая истина, -- ответил
мальчик,-- но дело кончилось как раз обратно тому, что ваша милость
воображает.
-- Как обратно? -- спросил Дон Кихот. -- Неужели тот негодяй не
заплатил тебе?
-- Не только не заплатил, -- ответил мальчик, -- но, едва ваша милость
выехала из лесу и мы остались наедине с ним, он опять привязал меня к тому
же дубу и снова нанес мне столько ударов ремнем, что содрал с живого меня
кожу, как со святого Варфоломея, и при каждом ударе, которым стегал меня, он
отпускал шутку или насмешку, потешаясь над вашею милостью, и, если б я не
чувствовал такой сильной боли, я бы смеялся над тем, что он говорил. Словом,
он так со мной расправился, что я до сих пор лежал в больнице и лечился от
побоев, нанесенных мне этим злым крестьянином. А виною всему вы, ваша
милость, потому что, если б вы ехали своею дорогой и не явились бы туда,
куда вас не звали, или не вмешивались бы в чужие дела, мой хозяин, угостив
меня одною или двумя дюжинами ударов, удовольствовался бы этим и тотчас же
отвязал бы и заплатил бы, что должен. Но так как ваша милость оскорбила его
без всякой нужды и наговорила ему столько неприятностей, в нем разгорелся
гнев, и раз он не мог отомстить вам, то, лишь только он увидел, что мы
остались одни, вся туча разразилась надо мной, да так, что, мне кажется, я
во всю мою жизнь уже не буду снова человеком.
-- Ошибка заключалась в том, -- сказал Дон Кихот, -- что я уехал; этого
не следовало делать, пока он не заплатил тебе, так как долгий опыт должен
был научить меня, что низкий человек не сдержит данного им слова, если
увидит, что ему невыгодно сдержать его. Но ведь ты помнишь, Андрес, что я
клялся, если он тебе не заплатит, разыскать его, -- и я разыщу, хотя бы он
скрывался во чреве кита.
-- Это правда, -- сказал Андрес, -- но пользы не вышло из этого.
-- Увидишь теперь, выйдет ли из этого польза, -- воскликнул Дон Кихот
и, говоря это, поспешно встал и велел Санчо взнуздать Росинанта, который
пасся на лугу, пока они ели.
Доротеа спросила Дон Кихота, что он намерен делать. Он ответил, что
намерен разыскать того низкого человека, чтобы наказать его за гнусное
поведение и заставить его заплатить Андресу до последнего мараведиса
наперекор и назло всем негодяям в мире. Доротеа напомнила ему, что,
сообразуясь с данным ей обещанием, он не может заняться каким-либо иным
предприятием, пока ее дело не будет доведено до конца, и так как это ему
известно лучше, чем всем другим, то пусть он успокоит сердце свое до
возвращения из ее королевства.
-- Вы правы, -- ответил Дон Кихот,-- и потому Андресу волей-неволей
придется потерпеть до моего возвращения,
как вы, сеньора, сказали; но я еще раз клянусь и снова обещаю не
успокоиться до тех пор, пока не отомщу за него и не заставлю ему заплатить.
-- Не верю я в эти клятвы, -- сказал Андрес, -- и всякой мести в мире
предпочел бы, чтобы у меня было с чем добраться теперь до Севильи. Дайте
мне, если у вас найдется, что-нибудь поесть и взять с собой; и оставайтесь с
богом вы, милость ваша, и все странствующие рыцари, которые в наказание себе
пусть так же хорошо странствуют, как я это делаю из-за них.
Санчо взял из своих припасов кусок хлеба и кусок сыра и, давая их
мальчику, сказал:
-- Берите, брат Андрес, так как всякий из нас имеет долю в вашем
несчастье.
-- Какая же ваша доля в нем? -- спросил Андрес.
-- Вот в этой доле хлеба и сыра, которые я вам даю, -- ответил Санчо,
-- потому что, бог знает, понадобится ли она мне или нет, так как я должен
сказать вам, друг, что мы, оруженосцы странствующих рыцарей, подвержены
великому голоду и злоключениям и еще и другим вещам, которые лучше
чувствуются, чем говорятся.
Андрес взял хлеб и сыр, и видя, что никто больше ничего ему не дает,
опустил голову и пошел, как говорится, своею дорогой. Однако, уходя, он
сказал Дон Кихоту:
-- Прошу вас, ради самого бога, сеньор странствующий рыцарь, если вы
меня в другой раз встретите, даже если б вы видели, что меня рубят на куски,
-- не вступайтесь за меня, не помогайте мне, но предоставьте меня моим
несчастиям, потому что, как бы они ни были велики, еще больше будут те, что
произойдут для меня от помощи вашей милости, и будьте вы прокляты Богом
вместе со всеми странствующими рыцарями, когда-либо жившими в мире.
Дон Кихот собирался встать, чтобы наказать мальчика, но тот бросился
бежать так быстро, что никто не отважился догонять его. Дон Кихот был
страшно смущен рассказом Андреса, и остальные должны были делать большие
усилия над собой, чтобы не рассмеяться и не привести его в полнейшее
замешательство.
-- Все это недурно, -- сказал Дон Кихот, -- продолжай. Ты приехал; что
же делала эта королева красоты? Верно, ты ее застал нанизывающей жемчуг или
вышивающей золотыми нитками какой-нибудь девиз для плененного ею рыцаря?
-- Нет, -- ответил Санчо, -- я не застал ее за этим делом, а она
просеивала два четверика пшеницы на заднем дворе своего дома.
-- В таком случае, -- возразил Дон Кихот, -- считай, что зерна той
пшеницы, к которым прикасалась ее рука, были жемчугом; заметил ли ты, друг,
какого была сорта та пшеница -- белого цвета или темно-коричневого?
-- Ни белого, ни коричневого, а красноватого, -- ответил Санчо {Trigo
candeal, trechel, rubion (белый, темно-коричневый и красноватый) -- эти три
сорта пшеницы возделывались в Испании.}.
-- Уверяю тебя, -- сказал Дон Кихот, -- что из этого сорта пшеницы,
просеянной ее руками, без сомнения, выйдет самый лучший белый хлеб. Но
продолжай. Когда ты передал ей мое письмо, поцеловала она его? Положила ли
себе на голову? {Положить письмо себе на голову прежде, чем читать его,
считалось в то время оказанием высшей почести написавшему письмо, а
поцеловать его было, как и теперь, знаком любви.} Сделала ли что-либо
достойное такого послания? Или что же она сделала?
-- Когда я подошел к ней, чтобы передать ей письмо, -- ответил Санчо,
-- я ее застал в самом разгаре работы; она просеbвала порядочную кучу
пшеницы, бывшей у нее в решете, и сказала мне: "Положите, друг, письмо на
тот мешок, потому что я не могу прочесть его раньше, чем кончу просевать
все, что у меня тут в решете".
-- Умная сеньора! -- сказал Дон Кихот. -- Она должна была так
поступить, чтобы потом на досуге прочесть письмо и насладиться им.
Продолжай, Санчо. А в то время, как она была занята своим делом, какой вы с
нею вели разговор? Что она спрашивала тебя обо мне? А ты, что ты ей ответил?
Кончай и расскажи мне все как есть, до последней мелочи.
-- Она ничего у меня не спрашивала, но я ей сказал, каким образом
милость ваша, желая служить ей, совершаете эпитимию, обнаженный от пояса
вверх, поселившись среди этих гор, точно дикарь, где вы спите на земле, не
едите хлеба со скатерти, не чешете себе бороды и все только плачете и
проклинаете свою судьбу.
-- Сказав, что я проклинаю свою судьбу, ты плохо сказал, -- заметил Дон
Кихот, -- потому что, наоборот, я благословляю свою судьбу и буду
благословлять ее до конца моих дней за то, что она удостоила меня счастья
любить такую высокую сеньору, как Дульсинея Тобосская.
-- Такая она высокая, -- сказал Санчо, -- что, ей-богу, она выше меня
более чем на ладонь.
-- Как так Санчо? -- спросил Дон Кихот. -- Разве ты мерился с нею?
-- Я мерился с нею вот каким образом, -- ответил Санчо, -- когда я ей
помогал взвалить мешок пшеницы на осла, мы встали очень близко друг к другу,
и я не мог не видеть, что она выше меня на добрую пядь.
-- Не подлежит сомнению, -- сказал Дон Кихот, -- что этот ее высокий
рост соединен с тысячей миллионов душевных прелестей, украшающих ее. Но одну
вещь, Санчо, ты не можешь отрицать: когда ты к ней приблизился, наверное ты
почувствовал какое-то необычайное благоухание, тончайший аромат, что-то
такое, не знаю что, до того сладостное, что я не могу подобрать этому
названия, -- я говорю, благовоние или испарение, как будто ты вошел в
магазин самого лучшего перчаточника {В магазинах перчаточников действительно
было очень сильное благоухание в те времена, потому что все перчатки были
надушены.}.
-- Могу сказать лишь то, -- ответил Санчо, -- что я почувствовал запах,
смахивающий на нечто прелое, мужское, верно, оттого, что она от усиленного
движения вспотела и очень обильно.
-- Вовсе не то, -- сказал Дон Кихот,-- а должно быть, у тебя был
насморк и ты слышал собственный свой запах, потому что я-то хорошо знаю, чем
благоухает эта роза среди шипов, эта лилия полей, эта разжиженная амбра.
-- Все может быть, -- ответил Санчо, -- потому что часто от меня
исходит тот же запах, который, как мне тогда показалось, исходил от ее
милости, сеньоры Дульсинеи. Но в этом нет ничего удивительного, так как один
черт похож на другого.
-- Ну, продолжай, -- сказал Дон Кихот, -- она просеяла зерно и послала
его на мельницу; что же сделала она, когда прочла мое письмо?
-- Письма, -- ответил Санчо, -- она не читала, потому что сказала, что
не умеет ни читать, ни писать; вместо того она его разорвала на мелкие
кусочки, говоря, что не желает дать прочесть его кому бы то ни было, чтобы в
селе не узнали ее тайн, и что с нее довольно и устной моей передачи о любви
вашей милости к ней и о необычайной эпитимии, которую вы совершаете ради
нее. В заключение она мне велела сказать вашей милости, что целует вам руки
и лучше желала бы видеть вас, чем писать вам. Итак, она умоляет вас и
приказывает по получении настоящего ответа уехать из этой поросшей вереском,
дикой местности, перестать делать нелепости и тотчас же отправляться по
дороге в Тобосо, если другое, более важное, дело не помешает, потому что у
нее сильнейшее желание повидать вашу милость. Она очень смеялась, когда я ей
сказал, что вас прозвали Рыцарем Печального Образа. Я спросил ее, был ли у
нее бискаец? Она ответила, что был и что он прекрасный человек. Спросил я
также о галерных невольниках, но она сказала, что до сих пор никого из них
не видела.
-- Пока все идет хорошо, -- заявил Дон Кихот, -- но скажи, какую
драгоценность подарила она тебе на прощание за те известия, которые ты ей
принес от меня? Ведь у странствующих рыцарей и их дам общепринятый старинный
обычай -- дарить оруженосцам, прислужникам или карликам, которые приносят
известия рыцарям от их дам и дамам от их рыцарей, какую-нибудь драгоценность
в награду за исполненное ими поручение.
-- Очень может быть, что это так и есть, -- сказал Санчо, -- и я считаю
этот обычай превосходным, но, должно быть, придерживались его лишь в былые
времена, а теперь, как видно, в обычае дарить только кусок хлеба с сыром,
потому что именно это дала мне сеньора Дульсинея через палисад двора, когда
я прощался с нею. К тому же и сыр по всем признакам был только овечий.
-- Она щедра бесконечно, -- сказал Дон Кихот, -- и если она не подарила
тебе драгоценной, золотой вещицы, то, без сомнения, потому только, что у нее
ничего не нашлось под рукой, чтобы дать тебе. Но куличи хороши и после Пасхи
{Buenas son mangas despuИs depascua -- испанская поговорка (в буквальном
переводе: "Рукава пригодятся и после Пасхи"), означающая, что подарок
доставляет удовольствие, хотя будет получен и позже.}; я повидаюсь с ней, и
все будет исправлено. Знаешь ли, Санчо, что меня удивляет? По-моему, ты туда
и обратно будто слетал по воздуху, так как ты употребил лишь немногим более
трех дней на путешествие в Тобосо и назад, а отсюда туда более тридцати
миль. Из этого я заключаю, что мудрый волшебник, который заботится о моих
делах и считается моим другом,-- потому что, несомненно, он у меня есть и
должен быть, иначе я не был бы хорошим странствующим рыцарем, -- говорю, что
подобный волшебник, должно быть, и помог путешествовать тебе незаметно для
тебя самого, так как среди мудрецов бывают такие, которые берут
странствующего рыцаря, спящего в постели, и он, не зная, как и каким
образом, просыпается на следующий день более чем за тысячи миль от того
места, где он ложился спать. Если б этого не было, то странствующие рыцари
не могли бы помогать друг другу в минуту опасности, как они это делают на
каждом шагу; например, бывает, что один сражается в горах Армении с
драконом, или со страшным чудовищем, или с другим рыцарем; он уже побежден в
битве и близок к смерти, как вдруг, когда он этого менее всего ожидает,
показывается вдали, на облаке или на огненной колеснице, другой рыцарь, друг
его, который только что перед тем был в Англии, и он помогает ему и спасает
его от смерти; а ночью он снова у себя дома и ужинает с величайшим
аппетитом, хотя обыкновенно от одного места до другого не менее чем две или
три тысячи миль. И все это совершается благодаря лишь искусству и мудрости
добрых волшебников, охраняющих храбрых рыцарей. Так что, друг Санчо, мне
нетрудно поверить, что ты в такой короткий срок проехал отсюда в Тобосо и
вернулся оттуда, потому что, как я уже говорил, должно быть, какой-нибудь
дружески расположенный мудрец нес тебя на крыльях по воздуху, так что ты
этого не заметил.
-- Возможно, что оно так и было,-- сказал Санчо, -- потому что, по
чести, Росинант бежал, точно осел у цыган, с ртутью в ушах {В числе
проделок, приписываемых цыганам, они будто бы вливают в уши мулам и ослам --
особенно когда продают их -- ртуть, чтобы животные бежали скорее.}.
-- Не только с ртутью, -- сказал Дон Кихот, -- но еще и с целым
легионом демонов, а это такой народ, который и сам путешествует, и, не
утомляя, заставляет и других путешествовать, сколько им вздумается. Но,
оставив это в стороне, как, по-твоему, должен я поступить теперь
относительно приказания моей сеньоры явиться повидаться с нею? Хотя я и
хорошо понимаю, что обязан покориться ее воле, но также вижу, что не могу
этого сделать вследствие обещания, данного мною принцессе, которая едет с
нами, и рыцарский закон принуждает меня исполнить свое слово прежде, чем
свое удовольствие. С одной стороны, меня преследует и увлекает желание
видеть мою сеньору, с другой -- возбуждает и зовет данное мною обещание и та
слава, которою я могу покрыть себя в этом предприятии. Но вот что я намерен
сделать: как можно быстрее ехать, чтобы поскорее добраться туда, где
находится этот великан; а по приезде я отрублю ему голову и верну принцессе
мирное обладание ее королевством, после чего немедленно поспешу обратно,
чтобы увидеть свет, который озаряет все мои чувства, и затем представить ей,
сеньоре моей, свои оправдания; она одобрит мое промедление, так как
убедится, что все совершается к возвеличению ее славы и известности, потому
что то, что я достиг, достигаю и достигну оружием в этой жизни, вытекает
всецело лишь из благорасположения ее ко мне и из того, что я принадлежу ей.
-- Ах, -- воскликнул Санчо, -- до чего голова вашей милости полна
небылиц! Но скажите мне, сеньор, неужто милость ваша намерена совершить это
путешествие ни за что ни про что и оттолкнуть от себя и упустить такую
богатую и знатную женитьбу, как эту, где в приданое дают королевство,
имеющее, как я слышал, более двадцати тысяч миль в окружности, изобилующее
всякими предметами, необходимыми для поддержания человеческого
существования, и более обширного, чем Португалия и Кастилия вместе взятые?
Замолчите, ради бога, устыдитесь того, что вы сказали, послушайтесь моего
совета, простите меня и венчайтесь тотчас же в первом местечке, где окажется
священник, -- а если нет, здесь перед нами наш лисенсиат, который оборудует
это дело, что твой жемчуг. Подумайте, ведь я уже в таких летах, что могу
дать совет, и тот, который я теперь вам даю, самый что ни на есть
подходящий, потому что воробей в руках лучше ястреба на лету, и кто, имея
хорошее, дурное выбирает, за дурное пускай на себя лишь пеняет.
-- Слушай, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- если ты даешь мне совет
жениться только для того, чтобы я тотчас же сделался королем, убив великана,
и имел возможность оказать тебе милость и дать обещанное, то довожу до
твоего сведения, что, и не женившись, я легко сумею исполнить твое желание,
так как, прежде чем вступить в бой, я условлюсь, что, если я выйду из него
победителем, хотя бы я и не женился на принцессе, она должна мне уделить
часть королевства, с тем, чтобы я мог передать ее кому захочу; а получив эту
часть, кому же могу я передать ее, как не тебе?
-- Это ясно, -- ответил Санчо, -- пусть только ваша милость постарается
выбрать такую часть королевства, которая была бы поближе к морю, чтобы в
случае, если там образ жизни мне не понравится, я мог усадить моих черных
подданных на корабли и поступить с ними, как я уже раньше говорил. И пусть
ваша милость не дает себе труда ехать теперь же повидаться с сеньорой
Дульсинеей, а отправляйтесь убивать великана, и покончим с этим делом, так
как, клянусь Богом, мне сдается, что оно принесет нам большую честь и
большую выгоду.
-- Говорю тебе, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- что ты можешь положиться
на меня, и я последую твоему совету относительно того, чтобы сначала ехать с
принцессой, прежде чем отправиться повидаться с Дульсинеей, но предупреждаю,
чтобы ты никому не говорил ни слова -- даже и тем, которые нас сопровождают,
-- о том, что мы здесь с тобой обсудили и решили, так как, если Дульсинея
столь сдержанна и не хочет, чтобы знали о ее чувствах, было бы нехорошо,
чтобы я или кто другой обнаружил их.
-- Если это так, -- сказал Санчо,-- почему же ваша милость посылает
всех, кого победила рука ваша, представляться сеньоре Дульсинее, -- ведь
этим вы подписываете имя ваше в том, что она вам нравится и вы ее
возлюбленный? И так как вы принуждаете тех, кто к ней является, падать на
колени в ее присутствии и говорить, что они пришли от вашей милости выразить
ей свою покорность, каким же образом можно скрыть ваши взаимные чувства?
-- О, как ты глуп и прост! -- сказал Дон Кихот. -- Разве ты не видишь,
Санчо, что все это служит лишь к большему ее возвеличению? Ты должен знать,
что в наших рыцарских обычаях считается великой честью для дамы иметь многих
странствующих рыцарей, которые ей служат, причем мысли их не простираются
дальше желания служить ей единственно ради нее самой, не ожидая иной награды
за свои многочисленные и благородные стремления, кроме согласия ее признать
их своими рыцарями.
-- Такого рода любовью, -- сказал Санчо, -- как я слышал в проповедях,
следовало бы любить Бога ради Него Самого, а не оттого, что нас побуждает к
этому надежда на блаженство или страх наказания. Хотя я желал бы любить Его
и служить Ему за то, что Он в состоянии сделать.
-- Черт бы побрал тебя, деревенщину! -- воскликнул Дон Кихот. -- Какие
ты иногда умные речи говоришь! Можно бы подумать, что ты проходил курс наук.
-- А по чести говоря, я не умею и читать, -- ответил Санчо.
В это время маэсе Николас крикнул им подождать их немного, так как они
желают остановиться и напиться воды из небольшого источника, бывшего вблизи.
Дон Кихот остановился, к великому удовольствию Санчо, который уже устал так
много лгать и боялся, чтобы его господин не поймал его на каком-нибудь
слове, потому что, хотя он и знал, что Дульсинея -- крестьянка из села
Тобосо, но никогда в жизни не видел ее. Между тем Карденио переоделся в
платье, бывшее на Доротее, когда они ее нашли, и хотя оно и не было особенно
хорошо, но все же куда лучше того, которое он снял с себя. Они спешились у
источника и утолили, правда, очень скудно, испытываемый ими сильный голод
тою провизией, которою священник запасся на постоялом дворе. Пока они
занимались этим, случилось, что мимо них по дороге прошел мальчик; он с
большим вниманием стал всматриваться в тех, которые расположились у
источника, и минуту спустя подбежал к Дон Кихоту и, целуя ему ноги, громко
заплакал, говоря:
-- Ах, сеньор мой! Милость ваша не узнает меня? Вглядитесь хорошенько,
я тот мальчик, Андрес, которого ваша милость отвязала от дуба, когда я был
привязан к нему.
Дон Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился ко всем
присутствовавшим, говоря:
-- Чтобы вы, сеньоры, могли видеть, как важно для всего мира
существование странствующих рыцарей, которые уничтожают несправедливости и
обиды, совершаемые злыми и наглыми людьми, живущими на свете, знайте,
милости ваши, что несколько дней тому назад, проходя мимо одного леса, я
услышал крики и жалобные стоны, которые, по-видимому, испускал огорченный и
нуждающийся в помощи человек. Тотчас же я поспешил, движимый долгом, к тому
месту, откуда, как мне казалось, неслись жалобные крики, и увидел
привязанным к дубу вот этого мальчика, стоящего перед вами, чему я душевно
рад, потому что он будет свидетелем и не даст мне ни в чем солгать. Я
говорю, он был привязан к дубу, обнаженный с пояса до шеи, и крестьянин, его
хозяин -- как я потом узнал, -- нещадно бил его ремнем от вожжей своей
кобылы. Лишь только я увидел это, я спросил у него причину столь жестокого
наказания. Грубиян ответил, что он стегает мальчика, так как тот его слуга,
и неисправности, в которых он повинен, происходят скорее от плутовства, чем
от простоты; на что этот ребенок сказал: "Сеньор, он бьет меня лишь за то,
что я спросил у него свое жалованье". Хозяин ответил, не знаю какими
объяснениями и оправданиями, которые, хотя я и слышал их, но не принял во
внимание. Словом, я велел ему отвязать мальчика и заставил крестьянина дать
клятву, что он возьмет его с собой и заплатит ему реал за реалом весь свой
долг, да еще надушенными деньгами. Так ли все это было, сын Андрес? Заметил
ли ты, как властно я приказывал ему и с каким смирением он обещал исполнить
то, что я ему предписал, указал и потребовал от него? Отвечай; не смущайся и
не сомневайся ни в чем. Расскажи этим сеньорам все, что случилось, чтобы они
могли понять и убедиться, как велика польза, говорю я, от пребывания
странствующих рыцарей на больших дорогах.
-- Все, что ваша милость сказала,-- полнейшая истина, -- ответил
мальчик,-- но дело кончилось как раз обратно тому, что ваша милость
воображает.
-- Как обратно? -- спросил Дон Кихот. -- Неужели тот негодяй не
заплатил тебе?
-- Не только не заплатил, -- ответил мальчик, -- но, едва ваша милость
выехала из лесу и мы остались наедине с ним, он опять привязал меня к тому
же дубу и снова нанес мне столько ударов ремнем, что содрал с живого меня
кожу, как со святого Варфоломея, и при каждом ударе, которым стегал меня, он
отпускал шутку или насмешку, потешаясь над вашею милостью, и, если б я не
чувствовал такой сильной боли, я бы смеялся над тем, что он говорил. Словом,
он так со мной расправился, что я до сих пор лежал в больнице и лечился от
побоев, нанесенных мне этим злым крестьянином. А виною всему вы, ваша
милость, потому что, если б вы ехали своею дорогой и не явились бы туда,
куда вас не звали, или не вмешивались бы в чужие дела, мой хозяин, угостив
меня одною или двумя дюжинами ударов, удовольствовался бы этим и тотчас же
отвязал бы и заплатил бы, что должен. Но так как ваша милость оскорбила его
без всякой нужды и наговорила ему столько неприятностей, в нем разгорелся
гнев, и раз он не мог отомстить вам, то, лишь только он увидел, что мы
остались одни, вся туча разразилась надо мной, да так, что, мне кажется, я
во всю мою жизнь уже не буду снова человеком.
-- Ошибка заключалась в том, -- сказал Дон Кихот, -- что я уехал; этого
не следовало делать, пока он не заплатил тебе, так как долгий опыт должен
был научить меня, что низкий человек не сдержит данного им слова, если
увидит, что ему невыгодно сдержать его. Но ведь ты помнишь, Андрес, что я
клялся, если он тебе не заплатит, разыскать его, -- и я разыщу, хотя бы он
скрывался во чреве кита.
-- Это правда, -- сказал Андрес, -- но пользы не вышло из этого.
-- Увидишь теперь, выйдет ли из этого польза, -- воскликнул Дон Кихот
и, говоря это, поспешно встал и велел Санчо взнуздать Росинанта, который
пасся на лугу, пока они ели.
Доротеа спросила Дон Кихота, что он намерен делать. Он ответил, что
намерен разыскать того низкого человека, чтобы наказать его за гнусное
поведение и заставить его заплатить Андресу до последнего мараведиса
наперекор и назло всем негодяям в мире. Доротеа напомнила ему, что,
сообразуясь с данным ей обещанием, он не может заняться каким-либо иным
предприятием, пока ее дело не будет доведено до конца, и так как это ему
известно лучше, чем всем другим, то пусть он успокоит сердце свое до
возвращения из ее королевства.
-- Вы правы, -- ответил Дон Кихот,-- и потому Андресу волей-неволей
придется потерпеть до моего возвращения,
как вы, сеньора, сказали; но я еще раз клянусь и снова обещаю не
успокоиться до тех пор, пока не отомщу за него и не заставлю ему заплатить.
-- Не верю я в эти клятвы, -- сказал Андрес, -- и всякой мести в мире
предпочел бы, чтобы у меня было с чем добраться теперь до Севильи. Дайте
мне, если у вас найдется, что-нибудь поесть и взять с собой; и оставайтесь с
богом вы, милость ваша, и все странствующие рыцари, которые в наказание себе
пусть так же хорошо странствуют, как я это делаю из-за них.
Санчо взял из своих припасов кусок хлеба и кусок сыра и, давая их
мальчику, сказал:
-- Берите, брат Андрес, так как всякий из нас имеет долю в вашем
несчастье.
-- Какая же ваша доля в нем? -- спросил Андрес.
-- Вот в этой доле хлеба и сыра, которые я вам даю, -- ответил Санчо,
-- потому что, бог знает, понадобится ли она мне или нет, так как я должен
сказать вам, друг, что мы, оруженосцы странствующих рыцарей, подвержены
великому голоду и злоключениям и еще и другим вещам, которые лучше
чувствуются, чем говорятся.
Андрес взял хлеб и сыр, и видя, что никто больше ничего ему не дает,
опустил голову и пошел, как говорится, своею дорогой. Однако, уходя, он
сказал Дон Кихоту:
-- Прошу вас, ради самого бога, сеньор странствующий рыцарь, если вы
меня в другой раз встретите, даже если б вы видели, что меня рубят на куски,
-- не вступайтесь за меня, не помогайте мне, но предоставьте меня моим
несчастиям, потому что, как бы они ни были велики, еще больше будут те, что
произойдут для меня от помощи вашей милости, и будьте вы прокляты Богом
вместе со всеми странствующими рыцарями, когда-либо жившими в мире.
Дон Кихот собирался встать, чтобы наказать мальчика, но тот бросился
бежать так быстро, что никто не отважился догонять его. Дон Кихот был
страшно смущен рассказом Андреса, и остальные должны были делать большие
усилия над собой, чтобы не рассмеяться и не привести его в полнейшее
замешательство.

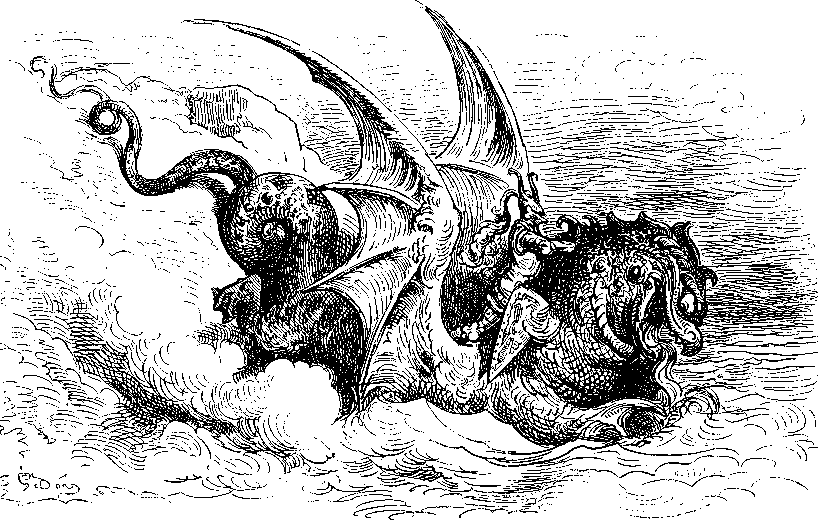 Кончив изысканный свои обед, они тотчас же оседлали лошадей и мулов и,
не встретив на пути ничего, о чем бы стоило рассказывать, на следующий же
день прибыли на постоялый двор, наводивший такой страх и ужас на Санчо
Пансу, и хотя он не желал входить туда, но не мог этого избегнуть. Хозяин и
хозяйка двора, их дочь и Мариторнес, увидав Дон Кихота и Санчо, вышли к ним
навстречу с изъявлениями большой радости, которые рыцарь принял с важным
видом, но одобрительно, и сказал им, чтобы они приготовили ему постель
получше той, на которой он в прошлый раз спал. Хозяйка на это ответила: если
он лучше заплатит, чем в прошлый раз, она даст ему постель годную для
принца. Дон Кихот обещал заплатить; итак, они приготовили ему сносную
постель на том же чердаке, как и прошлый раз, и он тотчас же лег, потому что
был очень утомлен и разбит душой и телом. Не успел он хорошенько запереть
дверь, как хозяйка подбежала к цирюльнику и, схватив его за бороду,
крикнула:
-- Клянусь знамением креста, не дам вам больше пользоваться хвостом
вместо бороды, вы должны мне вернуть мой хвост, а то мужнин валяется на
полу, просто срам; я говорю о его гребне, который обыкновенно я втыкала в
мой хороший хвост.
Цирюльник не желал отдавать, хотя она все сильнее тянула за свой хвост,
пока лисенсиат не сказал, чтобы он отдал его, так как нет больше надобности
прибегать к этой хитрости, потому что он может теперь открыться и явиться в
настоящем своем виде, сказав Дон Кихоту, что, когда воры -- галерные
невольники -- ограбили его, он спасся бегством на этот постоялый двор. Если
же рыцарь спросит об оруженосце принцессы, ему скажут: она послала его
вперед известить живущих в королевстве о том, что и сама она на пути туда и
с нею вместе и общий их освободитель. После этого цирюльник добровольно
отдал хвост хозяйке двора, и вместе с тем ей были возвращены и остальные
предметы, которые она давала им для освобождения Дон Кихота.
Всех бывших на постоялом дворе поразила красота Доротеи, а также и
привлекательная наружность пастуха Карденио. Священник позаботился, чтобы им
принесли поесть, что найдется на постоялом дворе, и в надежде на лучшую
плату хозяин поспешно приготовил им очень сносный обед. Во все это время Дон
Кихот спал, и было решено не будить его, так как для него теперь сон был
полезнее еды. За обедом они в присутствии хозяина, его жены, дочери,
Мариторнес и всех проезжих вели разговор о странном помешательстве Дон
Кихота и состоянии, в котором они его нашли. Хозяйка рассказала им, что
произошло с рыцарем и погонщиком мулов на чердаке, и, оглянувшись, нет ли
здесь случайно Санчо, и видя, что его нет, сообщила о подбрасывании его на
одеяле, чем очень позабавила всех. Когда же священник сказал, что чтение
рыцарских книг омрачило рассудок Дон Кихота, хозяин воскликнул:
-- Не знаю, как это может быть, потому что, говоря по правде, насколько
я понимаю, нет лучшего чтения на свете, и у меня здесь две или три подобные
книги наряду с другими сочинениями, и действительно они вдохнули в меня
новую жизнь, и не только в меня, но и во многих других, потому что по
праздникам во время жатвы у меня собирается много жнецов, и всегда среди них
есть кто-нибудь, который умеет читать. Он и берет в руки одну из этих книг,
а мы -- человек тридцать и более -- садимся вокруг него и слушаем с великим
наслаждением, предохраняющим нас от тысячи седин. По крайней мере, про себя
могу сказать, что, когда я слышу о тех ужасных и бешеных ударах, которые
наносят рыцари, меня берет желание поступить точно так же, и я готов был бы
слушать это чтение день и ночь.
-- И я того же мнения, -- вставила хозяйка, -- потому что никогда в
доме не бывает так спокойно, как в то время, когда вы слушаете чтение: вы
так углублены в него, что тогда лишь забываете браниться со мной.
-- Это правда, -- сказала Мариторнес, -- и, ей-богу, я тоже с большим
удовольствием слушаю все эти вещи, которые так занимательны; особенно же,
когда рассказывают, как сеньора обнимается со своим рыцарем под апельсиновым
деревом, а дуэнья, поставленная сторожить их, чуть не умирает от зависти и
испуга, говорю, что все это сладко как мед.
-- А вы, молодая сеньора, что вы скажете? -- спросил священник,
обращаясь к хозяйской дочери.
-- Не знаю, клянусь жизнью, сеньор, -- ответила она, -- я слушаю также
их чтение, и, говоря по правде, хотя и не понимаю ничего, но мне приятно
слушать. Только мне нравятся не удары, доставляющие такое удовольствие моему
отцу, а жалобы рыцарей, когда они в разлуке со своими дамами, и, право, иной
раз я плачу от сострадания к ним.
-- Значит, вы бы их утешили, милая девушка, -- сказала Доротеа, -- если
б они плакали из-за вас.
-- Не знаю, что бы я сделала, -- ответила девушка, -- знаю только,
некоторые из сеньор такие жестокие, что рыцари называют их тиграми, львами и
тысячей других отвратительных имен. И, Иисусе, не могу понять, что это за
бездушные и бессовестные создания, которые, только чтобы не взглянуть на
уважаемого всеми человека, допускают, чтобы он умер или сошел с ума; я не
знаю также, к чему столько жеманства; если они это делают из скромности,
пусть выходят за них замуж, потому что те ничего другого и не желают.
-- Молчи, дитя, -- сказала хозяйка,-- по-видимому, ты знаешь немало об
этих вещах, -- а девушке не годится ни знать, ни говорить так много.
-- Но этот сеньор спрашивал меня, и я не могла не ответить ему, --
возразила девушка.
-- Ну, хорошо, -- сказал священник, -- а теперь принесите мне те книги,
сеньор хозяин, -- я желал бы взглянуть на них.
-- С удовольствием, -- ответил хозяин и пошел к себе в комнату, откуда
он принес старый небольшой ручной чемодан, запертый замком с цепочкой, и,
открыв чемодан, он вынул из него три большие книги и несколько рукописей,
написанных четким, красивым почерком. Раскрыв первую книгу, священник
увидел, что это "Дон Сиронхилио Фракийский", вторая книга оказалась
"Феликсмарте де Иркания", третья "История великого капитана Гонсало
Эрнандеса Кордуанского вместе с жизнеописанием Диего Гарсиа де Паредес".
Как только священник прочел заглавия первых двух книг, он обратился к
цирюльнику и сказал:
-- Нам здесь недостает ключницы моего друга и его племянницы.
-- Обойдемся и без них, -- ответил цирюльник, -- так как я и сам могу
бросить книги во двор или в камин, а, по правде говоря, в нем пылает славный
огонь.
-- Как, милость ваша желает сжечь мои книги? -- спросил хозяин двора.
-- Только эти две, -- сказал священник, -- "Дона Сиронхилио" и
"Феликсмарте".
-- Разве книги мои, -- спросил хозяин, -- еретики или флегматики, что
вы хотите их сжечь?
-- Схизматики, хотели вы, верно, сказать, а не флегматики, -- поправил
его цирюльник.
-- Так оно и есть, -- ответил хозяин,-- но если уж вы хотите сжечь
какую-нибудь из книг, пусть это будет "Великий Капитан" или этот "Диего
Гарсиа"; потому что я дал бы скорее сжечь сына своего, чем допустить, чтобы
сожгли одну из тех двух книг.
-- Брат мой, -- сказал священник,-- эти две книги лживы и полны
нелепостей и вздоров, а книга о великом капитане истинная история и
заключает в себе описание деяний Гонсало Эрнандеса Кордуанского, который за
многие и великие подвиги свои заслужил быть прозванным всем светом "великим
капитаном", -- громкое и славное прозвище, полученное им одним. А Диего
Гарсиа де Паредес был знатный рыцарь, родом из города Трухильо, в
Эстремадуре, очень доблестный воин, отличавшийся такой природной физической
силой, что одним пальцем останавливал мельничное колесо на всем ходу; и,
стоя с боевым палашом в руке при входе на мост, он задержал целое
бесчисленное войско, не давая перейти ему через мост, и совершил еще и
другие тому подобные дела, так что, если б он не сам их рассказал и не
описал со скромностью рыцаря и летописца собственных своих подвигов, а
написал бы о них кто-нибудь другой, свободный и беспристрастный, они
заставили бы забыть подвиги Гектора, Ахилла и Роланда.
Кончив изысканный свои обед, они тотчас же оседлали лошадей и мулов и,
не встретив на пути ничего, о чем бы стоило рассказывать, на следующий же
день прибыли на постоялый двор, наводивший такой страх и ужас на Санчо
Пансу, и хотя он не желал входить туда, но не мог этого избегнуть. Хозяин и
хозяйка двора, их дочь и Мариторнес, увидав Дон Кихота и Санчо, вышли к ним
навстречу с изъявлениями большой радости, которые рыцарь принял с важным
видом, но одобрительно, и сказал им, чтобы они приготовили ему постель
получше той, на которой он в прошлый раз спал. Хозяйка на это ответила: если
он лучше заплатит, чем в прошлый раз, она даст ему постель годную для
принца. Дон Кихот обещал заплатить; итак, они приготовили ему сносную
постель на том же чердаке, как и прошлый раз, и он тотчас же лег, потому что
был очень утомлен и разбит душой и телом. Не успел он хорошенько запереть
дверь, как хозяйка подбежала к цирюльнику и, схватив его за бороду,
крикнула:
-- Клянусь знамением креста, не дам вам больше пользоваться хвостом
вместо бороды, вы должны мне вернуть мой хвост, а то мужнин валяется на
полу, просто срам; я говорю о его гребне, который обыкновенно я втыкала в
мой хороший хвост.
Цирюльник не желал отдавать, хотя она все сильнее тянула за свой хвост,
пока лисенсиат не сказал, чтобы он отдал его, так как нет больше надобности
прибегать к этой хитрости, потому что он может теперь открыться и явиться в
настоящем своем виде, сказав Дон Кихоту, что, когда воры -- галерные
невольники -- ограбили его, он спасся бегством на этот постоялый двор. Если
же рыцарь спросит об оруженосце принцессы, ему скажут: она послала его
вперед известить живущих в королевстве о том, что и сама она на пути туда и
с нею вместе и общий их освободитель. После этого цирюльник добровольно
отдал хвост хозяйке двора, и вместе с тем ей были возвращены и остальные
предметы, которые она давала им для освобождения Дон Кихота.
Всех бывших на постоялом дворе поразила красота Доротеи, а также и
привлекательная наружность пастуха Карденио. Священник позаботился, чтобы им
принесли поесть, что найдется на постоялом дворе, и в надежде на лучшую
плату хозяин поспешно приготовил им очень сносный обед. Во все это время Дон
Кихот спал, и было решено не будить его, так как для него теперь сон был
полезнее еды. За обедом они в присутствии хозяина, его жены, дочери,
Мариторнес и всех проезжих вели разговор о странном помешательстве Дон
Кихота и состоянии, в котором они его нашли. Хозяйка рассказала им, что
произошло с рыцарем и погонщиком мулов на чердаке, и, оглянувшись, нет ли
здесь случайно Санчо, и видя, что его нет, сообщила о подбрасывании его на
одеяле, чем очень позабавила всех. Когда же священник сказал, что чтение
рыцарских книг омрачило рассудок Дон Кихота, хозяин воскликнул:
-- Не знаю, как это может быть, потому что, говоря по правде, насколько
я понимаю, нет лучшего чтения на свете, и у меня здесь две или три подобные
книги наряду с другими сочинениями, и действительно они вдохнули в меня
новую жизнь, и не только в меня, но и во многих других, потому что по
праздникам во время жатвы у меня собирается много жнецов, и всегда среди них
есть кто-нибудь, который умеет читать. Он и берет в руки одну из этих книг,
а мы -- человек тридцать и более -- садимся вокруг него и слушаем с великим
наслаждением, предохраняющим нас от тысячи седин. По крайней мере, про себя
могу сказать, что, когда я слышу о тех ужасных и бешеных ударах, которые
наносят рыцари, меня берет желание поступить точно так же, и я готов был бы
слушать это чтение день и ночь.
-- И я того же мнения, -- вставила хозяйка, -- потому что никогда в
доме не бывает так спокойно, как в то время, когда вы слушаете чтение: вы
так углублены в него, что тогда лишь забываете браниться со мной.
-- Это правда, -- сказала Мариторнес, -- и, ей-богу, я тоже с большим
удовольствием слушаю все эти вещи, которые так занимательны; особенно же,
когда рассказывают, как сеньора обнимается со своим рыцарем под апельсиновым
деревом, а дуэнья, поставленная сторожить их, чуть не умирает от зависти и
испуга, говорю, что все это сладко как мед.
-- А вы, молодая сеньора, что вы скажете? -- спросил священник,
обращаясь к хозяйской дочери.
-- Не знаю, клянусь жизнью, сеньор, -- ответила она, -- я слушаю также
их чтение, и, говоря по правде, хотя и не понимаю ничего, но мне приятно
слушать. Только мне нравятся не удары, доставляющие такое удовольствие моему
отцу, а жалобы рыцарей, когда они в разлуке со своими дамами, и, право, иной
раз я плачу от сострадания к ним.
-- Значит, вы бы их утешили, милая девушка, -- сказала Доротеа, -- если
б они плакали из-за вас.
-- Не знаю, что бы я сделала, -- ответила девушка, -- знаю только,
некоторые из сеньор такие жестокие, что рыцари называют их тиграми, львами и
тысячей других отвратительных имен. И, Иисусе, не могу понять, что это за
бездушные и бессовестные создания, которые, только чтобы не взглянуть на
уважаемого всеми человека, допускают, чтобы он умер или сошел с ума; я не
знаю также, к чему столько жеманства; если они это делают из скромности,
пусть выходят за них замуж, потому что те ничего другого и не желают.
-- Молчи, дитя, -- сказала хозяйка,-- по-видимому, ты знаешь немало об
этих вещах, -- а девушке не годится ни знать, ни говорить так много.
-- Но этот сеньор спрашивал меня, и я не могла не ответить ему, --
возразила девушка.
-- Ну, хорошо, -- сказал священник, -- а теперь принесите мне те книги,
сеньор хозяин, -- я желал бы взглянуть на них.
-- С удовольствием, -- ответил хозяин и пошел к себе в комнату, откуда
он принес старый небольшой ручной чемодан, запертый замком с цепочкой, и,
открыв чемодан, он вынул из него три большие книги и несколько рукописей,
написанных четким, красивым почерком. Раскрыв первую книгу, священник
увидел, что это "Дон Сиронхилио Фракийский", вторая книга оказалась
"Феликсмарте де Иркания", третья "История великого капитана Гонсало
Эрнандеса Кордуанского вместе с жизнеописанием Диего Гарсиа де Паредес".
Как только священник прочел заглавия первых двух книг, он обратился к
цирюльнику и сказал:
-- Нам здесь недостает ключницы моего друга и его племянницы.
-- Обойдемся и без них, -- ответил цирюльник, -- так как я и сам могу
бросить книги во двор или в камин, а, по правде говоря, в нем пылает славный
огонь.
-- Как, милость ваша желает сжечь мои книги? -- спросил хозяин двора.
-- Только эти две, -- сказал священник, -- "Дона Сиронхилио" и
"Феликсмарте".
-- Разве книги мои, -- спросил хозяин, -- еретики или флегматики, что
вы хотите их сжечь?
-- Схизматики, хотели вы, верно, сказать, а не флегматики, -- поправил
его цирюльник.
-- Так оно и есть, -- ответил хозяин,-- но если уж вы хотите сжечь
какую-нибудь из книг, пусть это будет "Великий Капитан" или этот "Диего
Гарсиа"; потому что я дал бы скорее сжечь сына своего, чем допустить, чтобы
сожгли одну из тех двух книг.
-- Брат мой, -- сказал священник,-- эти две книги лживы и полны
нелепостей и вздоров, а книга о великом капитане истинная история и
заключает в себе описание деяний Гонсало Эрнандеса Кордуанского, который за
многие и великие подвиги свои заслужил быть прозванным всем светом "великим
капитаном", -- громкое и славное прозвище, полученное им одним. А Диего
Гарсиа де Паредес был знатный рыцарь, родом из города Трухильо, в
Эстремадуре, очень доблестный воин, отличавшийся такой природной физической
силой, что одним пальцем останавливал мельничное колесо на всем ходу; и,
стоя с боевым палашом в руке при входе на мост, он задержал целое
бесчисленное войско, не давая перейти ему через мост, и совершил еще и
другие тому подобные дела, так что, если б он не сам их рассказал и не
описал со скромностью рыцаря и летописца собственных своих подвигов, а
написал бы о них кто-нибудь другой, свободный и беспристрастный, они
заставили бы забыть подвиги Гектора, Ахилла и Роланда.
 -- Скажите-ка об этом моему отцу! -- объявил хозяин. -- Нашли чему
удивляться -- остановить мельничное колесо! Клянусь Богом, милости вашей
следовало бы прочесть то, что я читал о Феликсмарте де Иркания, который
одним ударом меча рассек пополам пять великанов, точно они были сделаны из
бобов, подобно маленьким монашкам, которыми забавляются дети {Намек на
забаву детей тех времен, которые рассекали бобовый стручок таким образом,
что часть его свешивалась, наподобие монашеского клобука, а из другой
выходило нечто вроде головы монаха.}; а в другой раз он напал на могучую и
многочисленную армию, состоявшую из более чем миллиона шестисот тысяч
солдат, вооруженных с ног до головы, и всех их обратил в бегство, как стадо
баранов. И что скажете вы о добрейшем Сиронхилио Фракийском, который был
такой доблестный и мужественный, как это видно из книги о нем, где
рассказывается, что, когда однажды он плыл по реке, из глубины воды
показался огненный змей; а он, увидав его, бросился к нему, сел верхом на
его чешуйчатых плечах и обеими руками зажал ему горло с такою силой, что
змей, боясь быть задушенным, не нашел другого средства для своего спасения,
как опуститься на дно реки, увлекая за собою рыцаря, который ни за что не
хотел выпустить его. И когда они очутились на дне реки, рыцарь увидел себя в
таких прекрасных дворцах и садах, что чудо, и тотчас же змей обратился в
древнего старика, наговорившего ему таких вещей, каких никто никогда еще не
слышал. Поверьте, сеньор, если бы вы услышали это, вы сошли бы с ума от
удовольствия; и две фиги за вашего великого капитана и за этого Диего
Гарсиа, о котором вы говорите.
Услыхав это, Доротеа сказала потихоньку Карденио:
-- Немногого недостает нашему хозяину, чтобы он явился под пару Дон
Кихоту.
-- И мне это тоже кажется, -- ответил Карденио, -- так как, судя по его
словам, он уверен, что все, о чем рассказывается в его книгах, действительно
случилось, точь-в-точь, как в них описано, и разубедить его, что это не так,
не удалось бы даже босоногим монахам.
-- Заметьте, брат, -- заговорил снова священник, -- что никогда не было
ни Феликсмарте, ни дона Сиронхилио Фракийского, ни других подобных им
рыцарей, о которых повествуется в рыцарских книгах, так как все в них лишь
выдумка и измышление праздных умов, сочинявших такие книги с целью, на
которую вы указали, именно для времяпровождения, как это и делают, читая,
ваши жнецы, потому что, клянусь вам, на самом деле никогда на свете не было
таких рыцарей и никогда в мире не случалось таких подвигов и нелепостей.
-- Этою костью подманивайте другую собаку, -- ответил хозяин, --
думаете ли вы, что я не сумею сосчитать до пяти и не знаю, где мне жмет
башмак? Пусть ваша милость не старается кормить меня кашкой, потому что,
клянусь Богом, я вовсе не младенец. Нечего сказать, выдумала милость ваша
уверять меня, будто все, что говорится в тех хороших книгах,-- нелепость и
ложь, когда они напечатаны с разрешения господ членов королевского совета, а
это не такого рода люди, которые позволили бы печатать сплошную кипу лжи и
столько сражений и очарований, от которых можно лишиться рассудка.
-- Я уже говорил вам, друг, -- ответил священник, -- что это делается
для развлечения праздных наших мыслей; и подобно тому, как в благоустроенных
государствах дозволяется игра в шахматы, в мяч и в бильярд {Juegos de pelota
y da trucos -- игры не совсем тождественные, но имеющие сходство с игрой в
мяч и на бильярде.}, чтобы занять тех, которые не хотят, не должны или не
могут работать, точно также дозволяют печатать и издавать подобного рода
книги в уверенности -- как оно на самом деле и есть, -- что никто не может
быть столь невежественным, чтобы принять какую-либо из этих книг за истинную
историю. И если бы теперь мне было бы дозволено и мои слушатели желали бы
этого, я многое мог бы сказать по поводу того, что должны заключать в себе
рыцарские книги, чтобы считаться хорошими и доставить пользу, а иным, быть
может, даже и удовольствие. Но надеюсь, настанет время, когда мне можно
будет сообщить мое мнение лицу, которое будет в состоянии помочь делу. А
пока, сеньор хозяин, верьте тому, что я вам сказал; возьмите ваши книги,
решайте сами, что в них ложь, что истина, и пусть они пойдут вам на пользу;
дай только бог, чтобы вы не захромали на ту же ногу, на которую хромает ваш
гость Дон Кихот!
-- Скажите-ка об этом моему отцу! -- объявил хозяин. -- Нашли чему
удивляться -- остановить мельничное колесо! Клянусь Богом, милости вашей
следовало бы прочесть то, что я читал о Феликсмарте де Иркания, который
одним ударом меча рассек пополам пять великанов, точно они были сделаны из
бобов, подобно маленьким монашкам, которыми забавляются дети {Намек на
забаву детей тех времен, которые рассекали бобовый стручок таким образом,
что часть его свешивалась, наподобие монашеского клобука, а из другой
выходило нечто вроде головы монаха.}; а в другой раз он напал на могучую и
многочисленную армию, состоявшую из более чем миллиона шестисот тысяч
солдат, вооруженных с ног до головы, и всех их обратил в бегство, как стадо
баранов. И что скажете вы о добрейшем Сиронхилио Фракийском, который был
такой доблестный и мужественный, как это видно из книги о нем, где
рассказывается, что, когда однажды он плыл по реке, из глубины воды
показался огненный змей; а он, увидав его, бросился к нему, сел верхом на
его чешуйчатых плечах и обеими руками зажал ему горло с такою силой, что
змей, боясь быть задушенным, не нашел другого средства для своего спасения,
как опуститься на дно реки, увлекая за собою рыцаря, который ни за что не
хотел выпустить его. И когда они очутились на дне реки, рыцарь увидел себя в
таких прекрасных дворцах и садах, что чудо, и тотчас же змей обратился в
древнего старика, наговорившего ему таких вещей, каких никто никогда еще не
слышал. Поверьте, сеньор, если бы вы услышали это, вы сошли бы с ума от
удовольствия; и две фиги за вашего великого капитана и за этого Диего
Гарсиа, о котором вы говорите.
Услыхав это, Доротеа сказала потихоньку Карденио:
-- Немногого недостает нашему хозяину, чтобы он явился под пару Дон
Кихоту.
-- И мне это тоже кажется, -- ответил Карденио, -- так как, судя по его
словам, он уверен, что все, о чем рассказывается в его книгах, действительно
случилось, точь-в-точь, как в них описано, и разубедить его, что это не так,
не удалось бы даже босоногим монахам.
-- Заметьте, брат, -- заговорил снова священник, -- что никогда не было
ни Феликсмарте, ни дона Сиронхилио Фракийского, ни других подобных им
рыцарей, о которых повествуется в рыцарских книгах, так как все в них лишь
выдумка и измышление праздных умов, сочинявших такие книги с целью, на
которую вы указали, именно для времяпровождения, как это и делают, читая,
ваши жнецы, потому что, клянусь вам, на самом деле никогда на свете не было
таких рыцарей и никогда в мире не случалось таких подвигов и нелепостей.
-- Этою костью подманивайте другую собаку, -- ответил хозяин, --
думаете ли вы, что я не сумею сосчитать до пяти и не знаю, где мне жмет
башмак? Пусть ваша милость не старается кормить меня кашкой, потому что,
клянусь Богом, я вовсе не младенец. Нечего сказать, выдумала милость ваша
уверять меня, будто все, что говорится в тех хороших книгах,-- нелепость и
ложь, когда они напечатаны с разрешения господ членов королевского совета, а
это не такого рода люди, которые позволили бы печатать сплошную кипу лжи и
столько сражений и очарований, от которых можно лишиться рассудка.
-- Я уже говорил вам, друг, -- ответил священник, -- что это делается
для развлечения праздных наших мыслей; и подобно тому, как в благоустроенных
государствах дозволяется игра в шахматы, в мяч и в бильярд {Juegos de pelota
y da trucos -- игры не совсем тождественные, но имеющие сходство с игрой в
мяч и на бильярде.}, чтобы занять тех, которые не хотят, не должны или не
могут работать, точно также дозволяют печатать и издавать подобного рода
книги в уверенности -- как оно на самом деле и есть, -- что никто не может
быть столь невежественным, чтобы принять какую-либо из этих книг за истинную
историю. И если бы теперь мне было бы дозволено и мои слушатели желали бы
этого, я многое мог бы сказать по поводу того, что должны заключать в себе
рыцарские книги, чтобы считаться хорошими и доставить пользу, а иным, быть
может, даже и удовольствие. Но надеюсь, настанет время, когда мне можно
будет сообщить мое мнение лицу, которое будет в состоянии помочь делу. А
пока, сеньор хозяин, верьте тому, что я вам сказал; возьмите ваши книги,
решайте сами, что в них ложь, что истина, и пусть они пойдут вам на пользу;
дай только бог, чтобы вы не захромали на ту же ногу, на которую хромает ваш
гость Дон Кихот!
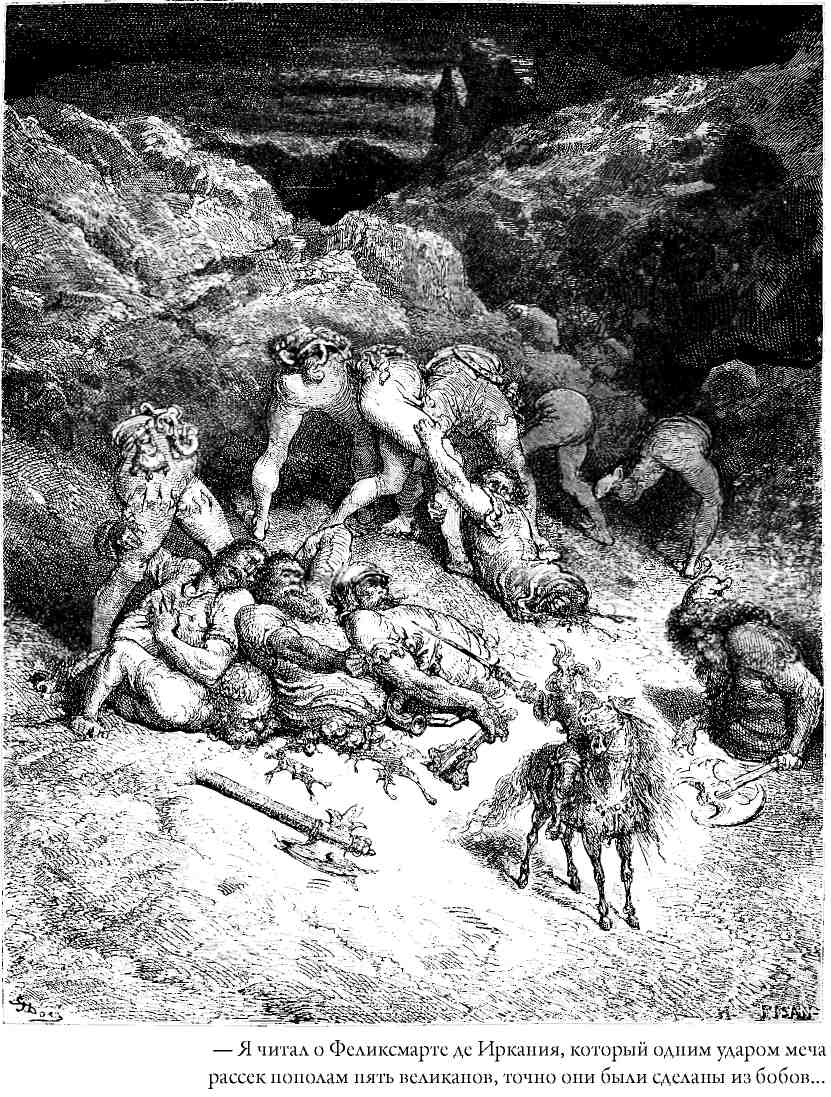 -- Ну уж нет, -- ответил хозяин, -- я не буду таким безумным, чтобы
сделаться странствующим рыцарем, ведь я хорошо вижу, что теперь не в обычае
то, что было обычаем в те времена, когда, как говорят, эти знаменитые рыцари
странствовали по свету.
Среди этого разговора Санчо вошел в комнату и очень смутился и
призадумался, услышав, что странствующие рыцари теперь уже не в обычае и все
рыцарские книги нелепость и ложь; он вознамерился в сердце своем дождаться,
чем кончится путешествие, и если оно не окажется столь счастливым, как он
надеялся, в таком случае он бросит своего господина и вернется к жене и
детям и к обычным своим занятиям.
Хозяин собрался унести свой чемоданчик и книги, но священник остановил
его, говоря:
-- Подождите, я хотел бы посмотреть, что это за бумаги, написанные
таким хорошим почерком?
Хозяин вынул их и дал на просмотр священнику, который увидел, что
рукопись состоит из восьми исписанных листов и на первой странице
проставлено крупными буквами заглавие: "Повесть о Безрассудно-любопытном".
Священник прочел про себя три или четыре строки и сказал:
-- Право, заглавие этой повести кажется мне недурным, и мне пришла
охота прочесть ее всю.
На это хозяин двора ответил:
-- Ваше преподобие хорошо сделает, прочитав ее, так как я должен вам
сказать, что некоторым проезжим, читавшим ее здесь, она доставила большое
удовольствие, и они настойчиво просили ее у меня, но я не дал, рассчитывая
возвратить ее тому, кто оставил здесь забытый им чемоданчик с этими книгами
и бумагами, так как может случиться, что собственник их когда-нибудь
вернется сюда. И хотя я знаю, что буду скучать без этих книг, но, клянусь
честью, я возвращу их, потому что, пусть я и содержатель постоялого двора,
но все же я христианин.
-- Вы вполне правы, друг мой, -- сказал священник, -- тем не менее
позвольте мне списать эту повесть, если она мне понравится.
-- С величайшей охотой, -- ответил хозяин.
Пока они так вдвоем разговаривали, Карденио взял повесть и стал читать
ее; она понравилась ему так же, как и священнику, и он попросил его прочесть
ее вслух, чтобы все могли слышать.
-- Я бы прочел ее -- сказал священник, -- но не лучше ли употребить
время на сон, чем на чтение.
-- Для меня, -- объявила Доротеа,-- было бы достаточным отдыхом
провести время, слушая чтение какого-нибудь рассказа, потому что я еще
слишком взволнована, чтобы заснуть, хотя бы и настала для этого пора.
-- В таком случае, -- сказал священник, -- я прочту повесть хотя бы из
одного лишь любопытства, а может быть, она доставит нам и удовольствие.
Маэсе Николас попросил его о том же, также как и Санчо. Увидав это и
приняв во внимание, что он доставит всем им удовольствие и сам его получит,
священник сказал:
-- Если это так, слушайте все внимательно, потому что повесть
начинается следующим образом.
-- Ну уж нет, -- ответил хозяин, -- я не буду таким безумным, чтобы
сделаться странствующим рыцарем, ведь я хорошо вижу, что теперь не в обычае
то, что было обычаем в те времена, когда, как говорят, эти знаменитые рыцари
странствовали по свету.
Среди этого разговора Санчо вошел в комнату и очень смутился и
призадумался, услышав, что странствующие рыцари теперь уже не в обычае и все
рыцарские книги нелепость и ложь; он вознамерился в сердце своем дождаться,
чем кончится путешествие, и если оно не окажется столь счастливым, как он
надеялся, в таком случае он бросит своего господина и вернется к жене и
детям и к обычным своим занятиям.
Хозяин собрался унести свой чемоданчик и книги, но священник остановил
его, говоря:
-- Подождите, я хотел бы посмотреть, что это за бумаги, написанные
таким хорошим почерком?
Хозяин вынул их и дал на просмотр священнику, который увидел, что
рукопись состоит из восьми исписанных листов и на первой странице
проставлено крупными буквами заглавие: "Повесть о Безрассудно-любопытном".
Священник прочел про себя три или четыре строки и сказал:
-- Право, заглавие этой повести кажется мне недурным, и мне пришла
охота прочесть ее всю.
На это хозяин двора ответил:
-- Ваше преподобие хорошо сделает, прочитав ее, так как я должен вам
сказать, что некоторым проезжим, читавшим ее здесь, она доставила большое
удовольствие, и они настойчиво просили ее у меня, но я не дал, рассчитывая
возвратить ее тому, кто оставил здесь забытый им чемоданчик с этими книгами
и бумагами, так как может случиться, что собственник их когда-нибудь
вернется сюда. И хотя я знаю, что буду скучать без этих книг, но, клянусь
честью, я возвращу их, потому что, пусть я и содержатель постоялого двора,
но все же я христианин.
-- Вы вполне правы, друг мой, -- сказал священник, -- тем не менее
позвольте мне списать эту повесть, если она мне понравится.
-- С величайшей охотой, -- ответил хозяин.
Пока они так вдвоем разговаривали, Карденио взял повесть и стал читать
ее; она понравилась ему так же, как и священнику, и он попросил его прочесть
ее вслух, чтобы все могли слышать.
-- Я бы прочел ее -- сказал священник, -- но не лучше ли употребить
время на сон, чем на чтение.
-- Для меня, -- объявила Доротеа,-- было бы достаточным отдыхом
провести время, слушая чтение какого-нибудь рассказа, потому что я еще
слишком взволнована, чтобы заснуть, хотя бы и настала для этого пора.
-- В таком случае, -- сказал священник, -- я прочту повесть хотя бы из
одного лишь любопытства, а может быть, она доставит нам и удовольствие.
Маэсе Николас попросил его о том же, также как и Санчо. Увидав это и
приняв во внимание, что он доставит всем им удовольствие и сам его получит,
священник сказал:
-- Если это так, слушайте все внимательно, потому что повесть
начинается следующим образом.


 Если войску, как говорят, плохо без главнокомандующего, а крепости --
без коменданта, куда хуже, говорю я, молодой замужней женщине без мужа,
разве только отъезд его вызван самыми важными причинами. Мне без вас так
плохо, и так невыносимо ваше отсутствие, что, в случае если вы не вернетесь
скоро, я должна буду уехать из дому и искать приюта у моих родителей, хотя
бы пришлось бросить дом ваш без призора, потому что тот сторож, которого вы
оставили -- если только он здесь в этой должности, -- заботится, как мне
кажется, больше о своем удовольствии, чем о том, что вас касается. А так как
вы человек умный, мне вам нечего больше говорить и было бы нехорошо, если бы
я еще что-нибудь добавила.
Письмо это Ансельмо получил, и он увидел из него, что Лотарио приступил
к делу и что, должно быть, Камилла ответила ему так, как он того желал. В
высшей степени довольный этим известием, он на словах послал сказать
Камилле, чтобы она ни в каком случае не меняла бы местожительства, потому
что он вернется очень скоро. Этот ответ Ансельмо изумил Камиллу и привел ее
в еще большее замешательство, так как ей нельзя было оставаться дома, а еще
менее можно было уехать к родителям, потому что, оставаясь, она подвергала
опасности свою честь, а уезжая, ослушивалась приказаний своего мужа. Наконец
она решила сделать то, что было наихудшим для нее: остаться дома и не
избегать общества Лотарио, чтобы не дать повода для пересудов среди
прислуги; и она уже сожалела о том, что писала мужу, боясь, не подумает ли
он, что Лотарио заметил в ней вольности, побудившие его отнестись к ней без
должного уважения. Но твердо уверенная в своей добродетели, она, положившись
на Бога и добрые свои намерения, решила дать молчаливый отпор всему, что
Лотарио мог бы ей сказать, и вместе с тем не извещать мужа ни о чем больше,
чтобы не вовлечь его в ссору и неприятности. Она даже стала придумывать, как
бы ей лучше оправдать Лотарио перед Ансельмо, когда он спросит у нее о
причине, побудившей ее написать письмо. С этими намерениями, более
почтенными, чем рассудительными или достигающими своей цели, она на
следующий день выслушала Лотарио, который в этот раз приступил к делу так
страстно, что поколебал твердость Камиллы и ей нужно было призвать на помощь
всю свою добродетель, чтобы в глазах ее не выразилось то нежное сострадание,
которое слезы и слова Лотарио пробудили в ее груди. Все это Лотарио
подметил, и все это еще более воспламенило его. Наконец он нашел нужным, --
пользуясь временем и случаем, представленным ему отсутствием Ансельмо, --
еще теснее обложить осажденную им крепость и потому повел атаку на ее
самолюбие, восхваляя ее красоту, так как нет вещи, которая столь быстро
ниспровергала и разрушала бы укрепленные башни тщеславия красивой женщины,
как это самое тщеславие, когда им вооружится язык лести. И действительно,
Лотарио подвел так рьяно и такими орудиями подкоп под скалу ее добродетели,
что если б Камилла была из бронзы, и то она не могла бы устоять. Лотарио
плакал, умолял, обещал, льстил, настаивал и притворялся с таким чувством, с
такими проявлениями искренности, что преодолел скромность Камиллы и
торжествовал победу, которой менее всего ожидал и более всего желал. Камилла
уступила, Камилла сдалась. Но что же удивительного в том, если и дружба
Лотарио не устояла? Вот наглядный пример, показывающий нам, что любовную
страсть можно победить только бегством, и никто не должен вступать в борьбу
с столь могучим врагом, так как нужны божественные силы, чтобы победить в
таких случаях человеческие силы.
Только одна Леонела знала об увлечении своей госпожи, потому что два
вероломных друга и новых любовника не могли скрыть этого от нее. Лотарио
решил не говорить Камилле о выдумке Ансельмо и о том, как сам он доставил
ему случай добиться успеха, -- чтобы не уронить этим своей любви в ее глазах
и она не подумала, что он только так, мимоходом, без внутреннего побуждения,
домогался ее. Несколько дней спустя Ансельмо вернулся домой и не заметил,
чего недостает у него здесь, а недоставало того, что он менее всего умел
беречь, но чем он больше всего дорожил. Тотчас-же отправился он к Лотарио и
застал его дома. Они обняли друг друга, и Ансельмо спросил, какие он даст
ему известия: о жизни ли или о смерти.
-- Известия, которые я могу тебе дать, о друг Ансельмо, -- сказал
Лотарио, -- те, что жена твоя достойна служить примером и образцом всем
хорошим женщинам. Слова, которые я ей говорил, унес ветер; мои обещания она
встретила с презрением, подарки не приняла, а над притворными моими слезами
громко смеялась. Словом, являясь совершенством в смысле красоты, Камилла
вместе с тем и сокровищница, в которой хранится целомудрие и в которой
обитают благоразумие, скромность и все добродетели, делающие честную женщину
достойной высших похвал и величайшего счастия. Возьми назад свои деньги,
друг; вот они, мне не пришлось даже дотронуться до них, так как добродетель
Камиллы не сдается на столь низкие вещи, как обещания и подарки.
Довольствуйся этим, Ансельмо, не стремись к новым испытаниям сверх уже
сделанных и, так как тебе удалось пройти с сухими ногами по морю трудностей
и подозрений, в которое нас повергают и могут повергнуть женщины, не
пускайся опять в глубокую пучину новых беспокойств и не испытывай с другим
кормчим прочность и силу того корабля, который небо послало тебе, чтобы
переправляться с ним по житейскому морю, а считай, что ты вошел в безопасную
гавань, укрепись в ней на якорях приятного размышления и оставайся так, пока
не придут требовать у тебя тот долг, от уплаты которого не освобождает
никакая знатность происхождения или дворянская грамота.
Ансельмо был донельзя обрадован словами Лотарио и так им верил, словно
изречениям какого-нибудь оракула. Но тем не менее он просил его не
отказываться от начатого предприятия хотя бы ради одного только любопытства
и времяпровождения, не прибегая уже к столь настойчивым мерам, как он это
делал до сих пор. Он желает только одного: чтобы Лотарио в честь Камиллы,
под именем Хлори, сочинил несколько хвалебных стихотворений. Со своей
стороны, он сообщит Камилле, что друг его влюблен в одну даму, которую он
называет именем Хлори, чтобы иметь возможность воспевать ее с должным
уважением к ее добродетели. Если же Лотарио не хочет дать себе труд сочинять
эти стихи, он предлагает сам написать их вместо него.
-- Этого не нужно -- сказал Лотарио, -- потому что музы не так уже
враждебно относятся ко мне, чтобы время от времени не посещать меня.
Расскажи Камилле то, что ты сейчас придумал о моей мнимой любви; стихи же я
сам напишу, и если они не будут так хороши, как заслуживал бы предмет их, по
крайней мере, они будут настолько хороши, насколько это окажется в моих
силах.
Таким образом безрассудный муж сговорился с вероломным другом, и,
вернувшись домой, Ансельмо спросил Камиллу о том, о чем, к ее удивлению, он
до сих пор еще не спрашивал ее, а именно: он пожелал узнать причину, почему
она ему написала письмо, которое он получил от нее. Камилла ответила, что ей
показалось, будто Лотарио смотрит на нее несколько более развязно, чем когда
Ансельмо был дома, но теперь она этого не думает и уверена, что это ей
только так показалось, потому что Лотарио избегает случаев видеться с ней и
оставаться наедине. Ансельмо ответил, что она может вполне отбросить всякое
подозрение, так как ему известно, что Лотарио влюблен в знатную сеньору из
их же города, которую он воспевает под именем Хлори; а если бы он и не был
влюблен, ей нечего опасаться ввиду правдивости Лотарио и великой дружбы,
связывающей его с Ансельмо. Если бы Лотарио не уведомил вскоре Камиллу о
том, что его любовь к Хлори вымышлена и что он рассказал о ней Ансельмо
только для того, чтобы иметь возможность время от времени воспевать Камиллу,
она, без сомнения, попала бы в приводящие в отчаяние сети ревности, но так
как она была вовремя предупреждена, тревога эта прошла над нею, только
слегка задев ее.
На следующий же день, когда все втроем сидели за столом, Ансельмо
попросил Лотарио продекламировать некоторые из стихотворений, написанных им
в честь возлюбленной его Хлори, и так как Камилла ее не знает, он смело
может прочесть все, что пожелает.
-- Даже если бы она и знала ее, -- ответил Лотарио, -- я бы ничего не
скрыл, потому что, когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и упрекает
ее в жестокости, он этим не бросает ни малейшей тени на ее доброе имя. Но
будь что будет, могу лишь сказать, что вчера я написал сонет на
неблагодарность этой Хлори, и вот он:
СОНЕТ
Когда весь мир, в сон сладкий погруженный,
В ночной тиши покоится вокруг,
Несчастный я, навек тобой плененный,
Шлю небу плач и стон мой, милый друг!
Когда заря взойдет и позлаченный
Востока край весь запылает вдруг,--
Вновь слезы лью, тоскою удрученный,
И вновь кляну жестокий свой недуг.
Когда с высот надзвездных к нам роняет
Светило дня свой жаркий луч, -- больней
Тогда душа томится и страдает;
А ночь сойдет -- тоска еще сильней.
И вижу я -- к молитвам небо глухо,
И к ним вовек не склонит Хлори слуха!
Сонет очень понравился Камилле, но еще более -- Ансельмо, который
хвалил стихи и сказал, что сеньора, не отвечающая на такое искреннее
чувство, чрезмерно жестокая, а Камилла спросила:
-- Разве все то, что говорят влюбленные поэты, правда?
-- Как поэты, они не всегда говорят правду, -- ответил Лотарио, -- но
как влюбленные, они так же медлят признаться в своем чувстве, как и
правдивы.
-- В этом не может быть сомнения,-- сказал Ансельмо, чтобы подтвердить
и поддержать мнение Лотарио в глазах Камиллы, столь же не обращавшей вни-
мания на хитрости Ансельмо, как и влюбленной уже в Лотарио. Итак,
находя удовольствие во всем, что исходило от него, и к тому же уверенная,
что его чувства и стихи обращены к ней и она-то и есть настоящая Хлори.
Камилла просила его, если он знает еще какой-нибудь сонет или другие стихи,
сказать их.
-- Я знаю еще один сонет, -- ответил Лотарио, -- но не думаю, чтобы он
был так же хорош, как первый, или точнее говоря, я думаю, что первый не был
так плох, как этот; но судите об этом сами, потому что вот он:
СОНЕТ
Да, смерть моя близка, и если вновь моленья
Отвергнешь ты мои, -- она еще верней:
У ног твоих умру, но в смертное мгновенье
Боготворить тебя я буду лишь сильней!
Когда уйду в страну я мрака и забвенья,
Утрачу славу, честь, мечты все юных дней,--
Но сберегу в душе твое изображенье,
Прекрасный облик твой, запечатленный в ней!
Святыней я хранил его в дни испытанья
И не могли любовь мою к тебе сломить
Отпор суровый твой и все мои страданья.
О, горе, чья судьба по океану плыть
В неведомой дали, где в мраке бурной ночи
Ни гавань, ни маяк, а гибель смотрит в очи!
Ансельмо похвалил также и второй сонет, как хвалил и первый, и таким
образом он продолжал добавлять звено к звену в той цепи, которою он опутывал
и сковывал свой позор; потому что, когда Лотарио больше всего бесчестил его,
он больше всего уверял друга, что честь его возносится все выше, и таким
образом с каждою ступенью, по которой Камилла спускалась до глубины своего
унижения, она во мнении мужа своего все более и более поднималась к вершине
добродетели и доброй славы. Между тем случилось так, что однажды, когда
Камилла осталась наедине с своей горничной, она ей сказала:
-- Мне совестно, друг Леонела, подумать, как мало я умела ценить себя,
и даже не заставила Лотарио долгим ожиданием купить полное обладание тем,
что я отдала ему так скоро по собственной доброй воле. Боюсь, он
презрительно отнесется к моей податливости или моему легкомыслию, не
принимая в расчет стремительности, с которой он меня взял, лишив тем
возможности сопротивляться ему.
-- Не тревожься этим, сеньора моя,-- ответила Леонела, -- так как нет
основания и причины, чтобы ценность вещи уменьшилась, если ее дают скоро,
лишь бы только то, что дают, было само по себе хорошо и ценно; а даже
принято говорить, что тот, кто дает скоро, дает вдвое.
-- Но также принято говорить, -- ответила Камилла, -- что то, что стоит
мало, мало и ценится.
-- Это не относится к тебе,-- ответила Леонела, -- потому что любовь,
как я слышала, иногда летает, а иногда ходит; с этим она быстро бежит, с тем
идет медленно; некоторых охлаждает, иных воспламеняет; одного ранит, другого
убивает; не успеет она вступить на поприще своих желаний,
как в то же мгновение уже и завершает его, добившись цели; утром
обыкновенно она начнет осаду крепости, а к вечеру уже овладевает ею, потому
что нет силы, которая могла бы противостоять ей. И раз это так, что же
пугает тебя или чего же ты боишься, если то же самое, должно быть, случилось
и с Лотарио, так как средством покорить вас любовь избрала отсутствие моего
господина? И оказалось необходимым, чтобы в его отсутствие произошло то, что
решила любовь раньше, чем Ансельмо имел время вернуться, так как при нем
дело не было бы доведено до конца, потому что у любви нет лучшего помощника
для выполнения ее желаний, как случаи, и она пользуется им во всех своих
делах, особенно же вначале. Все это я знаю очень хорошо, больше по
собственному опыту, чем понаслышке, и когда-нибудь я расскажу тебе об этом,
сеньора, -- ведь и я тоже из плоти, и в жилах у меня молодая кровь. А сверх
того, сеньора Камилла, ты ведь уступила и отдалась не прежде того, как
увидела в глазах, во вздохах, объяснениях, обещаниях и подарках Лотарио всю
его душу, узнав из нее и из его прекрасных качеств, насколько он достоин,
чтобы его любили. Если же это так, не давай робким и щепетильным мыслям
овладевать твоим воображением и будь уверена, что Лотарио так же высоко
ценит тебя, как ты ценишь его. Живи, счастливая и довольная тем, что, если
ты уже попалась в сети любви, тот, кто тебя поймал в них, исполнен чести и
достоинств и у него не только есть четыре буквы, которые, как говорят,
должны отличать всякого хорошего влюбленного {Эти четыре буквы -- четыре S,
именно: Sabio, Solo, Solicite, Secreto (умный, единственный, заботливый,
сдержанный на словах), намек на несколько строчек из поэмы друга Сервантеса
Люиса Бараона де Сото "Слезы Анжелики", в которых эти качества
перечисляются.}, но и целая азбука. А нет, -- послушай -- и убедишься, что я
знаю ее наизусть. Он -- как я вижу и могу судить о том -- ангелоподобный,
богатый, великодушный, добрый, гордый, единственный, жизнерадостный,
искренний, красивый, любящий, мужественный, нежный, остроумный,
признательный, рассудительный, скромный, талантливый, участливый,
франтоватый, холостой, целомудренный, честный, шустрый, щедрый; ф не идет к
нему, потому что это буква грубая; э не нужно, так как уже было е; а я
{Азбука Леонелы не может быть буквально переведена на русский язык из-за
несходства русской азбуки с латинской, а только приблизительно.} --
ревнитель твоей чести.
Если войску, как говорят, плохо без главнокомандующего, а крепости --
без коменданта, куда хуже, говорю я, молодой замужней женщине без мужа,
разве только отъезд его вызван самыми важными причинами. Мне без вас так
плохо, и так невыносимо ваше отсутствие, что, в случае если вы не вернетесь
скоро, я должна буду уехать из дому и искать приюта у моих родителей, хотя
бы пришлось бросить дом ваш без призора, потому что тот сторож, которого вы
оставили -- если только он здесь в этой должности, -- заботится, как мне
кажется, больше о своем удовольствии, чем о том, что вас касается. А так как
вы человек умный, мне вам нечего больше говорить и было бы нехорошо, если бы
я еще что-нибудь добавила.
Письмо это Ансельмо получил, и он увидел из него, что Лотарио приступил
к делу и что, должно быть, Камилла ответила ему так, как он того желал. В
высшей степени довольный этим известием, он на словах послал сказать
Камилле, чтобы она ни в каком случае не меняла бы местожительства, потому
что он вернется очень скоро. Этот ответ Ансельмо изумил Камиллу и привел ее
в еще большее замешательство, так как ей нельзя было оставаться дома, а еще
менее можно было уехать к родителям, потому что, оставаясь, она подвергала
опасности свою честь, а уезжая, ослушивалась приказаний своего мужа. Наконец
она решила сделать то, что было наихудшим для нее: остаться дома и не
избегать общества Лотарио, чтобы не дать повода для пересудов среди
прислуги; и она уже сожалела о том, что писала мужу, боясь, не подумает ли
он, что Лотарио заметил в ней вольности, побудившие его отнестись к ней без
должного уважения. Но твердо уверенная в своей добродетели, она, положившись
на Бога и добрые свои намерения, решила дать молчаливый отпор всему, что
Лотарио мог бы ей сказать, и вместе с тем не извещать мужа ни о чем больше,
чтобы не вовлечь его в ссору и неприятности. Она даже стала придумывать, как
бы ей лучше оправдать Лотарио перед Ансельмо, когда он спросит у нее о
причине, побудившей ее написать письмо. С этими намерениями, более
почтенными, чем рассудительными или достигающими своей цели, она на
следующий день выслушала Лотарио, который в этот раз приступил к делу так
страстно, что поколебал твердость Камиллы и ей нужно было призвать на помощь
всю свою добродетель, чтобы в глазах ее не выразилось то нежное сострадание,
которое слезы и слова Лотарио пробудили в ее груди. Все это Лотарио
подметил, и все это еще более воспламенило его. Наконец он нашел нужным, --
пользуясь временем и случаем, представленным ему отсутствием Ансельмо, --
еще теснее обложить осажденную им крепость и потому повел атаку на ее
самолюбие, восхваляя ее красоту, так как нет вещи, которая столь быстро
ниспровергала и разрушала бы укрепленные башни тщеславия красивой женщины,
как это самое тщеславие, когда им вооружится язык лести. И действительно,
Лотарио подвел так рьяно и такими орудиями подкоп под скалу ее добродетели,
что если б Камилла была из бронзы, и то она не могла бы устоять. Лотарио
плакал, умолял, обещал, льстил, настаивал и притворялся с таким чувством, с
такими проявлениями искренности, что преодолел скромность Камиллы и
торжествовал победу, которой менее всего ожидал и более всего желал. Камилла
уступила, Камилла сдалась. Но что же удивительного в том, если и дружба
Лотарио не устояла? Вот наглядный пример, показывающий нам, что любовную
страсть можно победить только бегством, и никто не должен вступать в борьбу
с столь могучим врагом, так как нужны божественные силы, чтобы победить в
таких случаях человеческие силы.
Только одна Леонела знала об увлечении своей госпожи, потому что два
вероломных друга и новых любовника не могли скрыть этого от нее. Лотарио
решил не говорить Камилле о выдумке Ансельмо и о том, как сам он доставил
ему случай добиться успеха, -- чтобы не уронить этим своей любви в ее глазах
и она не подумала, что он только так, мимоходом, без внутреннего побуждения,
домогался ее. Несколько дней спустя Ансельмо вернулся домой и не заметил,
чего недостает у него здесь, а недоставало того, что он менее всего умел
беречь, но чем он больше всего дорожил. Тотчас-же отправился он к Лотарио и
застал его дома. Они обняли друг друга, и Ансельмо спросил, какие он даст
ему известия: о жизни ли или о смерти.
-- Известия, которые я могу тебе дать, о друг Ансельмо, -- сказал
Лотарио, -- те, что жена твоя достойна служить примером и образцом всем
хорошим женщинам. Слова, которые я ей говорил, унес ветер; мои обещания она
встретила с презрением, подарки не приняла, а над притворными моими слезами
громко смеялась. Словом, являясь совершенством в смысле красоты, Камилла
вместе с тем и сокровищница, в которой хранится целомудрие и в которой
обитают благоразумие, скромность и все добродетели, делающие честную женщину
достойной высших похвал и величайшего счастия. Возьми назад свои деньги,
друг; вот они, мне не пришлось даже дотронуться до них, так как добродетель
Камиллы не сдается на столь низкие вещи, как обещания и подарки.
Довольствуйся этим, Ансельмо, не стремись к новым испытаниям сверх уже
сделанных и, так как тебе удалось пройти с сухими ногами по морю трудностей
и подозрений, в которое нас повергают и могут повергнуть женщины, не
пускайся опять в глубокую пучину новых беспокойств и не испытывай с другим
кормчим прочность и силу того корабля, который небо послало тебе, чтобы
переправляться с ним по житейскому морю, а считай, что ты вошел в безопасную
гавань, укрепись в ней на якорях приятного размышления и оставайся так, пока
не придут требовать у тебя тот долг, от уплаты которого не освобождает
никакая знатность происхождения или дворянская грамота.
Ансельмо был донельзя обрадован словами Лотарио и так им верил, словно
изречениям какого-нибудь оракула. Но тем не менее он просил его не
отказываться от начатого предприятия хотя бы ради одного только любопытства
и времяпровождения, не прибегая уже к столь настойчивым мерам, как он это
делал до сих пор. Он желает только одного: чтобы Лотарио в честь Камиллы,
под именем Хлори, сочинил несколько хвалебных стихотворений. Со своей
стороны, он сообщит Камилле, что друг его влюблен в одну даму, которую он
называет именем Хлори, чтобы иметь возможность воспевать ее с должным
уважением к ее добродетели. Если же Лотарио не хочет дать себе труд сочинять
эти стихи, он предлагает сам написать их вместо него.
-- Этого не нужно -- сказал Лотарио, -- потому что музы не так уже
враждебно относятся ко мне, чтобы время от времени не посещать меня.
Расскажи Камилле то, что ты сейчас придумал о моей мнимой любви; стихи же я
сам напишу, и если они не будут так хороши, как заслуживал бы предмет их, по
крайней мере, они будут настолько хороши, насколько это окажется в моих
силах.
Таким образом безрассудный муж сговорился с вероломным другом, и,
вернувшись домой, Ансельмо спросил Камиллу о том, о чем, к ее удивлению, он
до сих пор еще не спрашивал ее, а именно: он пожелал узнать причину, почему
она ему написала письмо, которое он получил от нее. Камилла ответила, что ей
показалось, будто Лотарио смотрит на нее несколько более развязно, чем когда
Ансельмо был дома, но теперь она этого не думает и уверена, что это ей
только так показалось, потому что Лотарио избегает случаев видеться с ней и
оставаться наедине. Ансельмо ответил, что она может вполне отбросить всякое
подозрение, так как ему известно, что Лотарио влюблен в знатную сеньору из
их же города, которую он воспевает под именем Хлори; а если бы он и не был
влюблен, ей нечего опасаться ввиду правдивости Лотарио и великой дружбы,
связывающей его с Ансельмо. Если бы Лотарио не уведомил вскоре Камиллу о
том, что его любовь к Хлори вымышлена и что он рассказал о ней Ансельмо
только для того, чтобы иметь возможность время от времени воспевать Камиллу,
она, без сомнения, попала бы в приводящие в отчаяние сети ревности, но так
как она была вовремя предупреждена, тревога эта прошла над нею, только
слегка задев ее.
На следующий же день, когда все втроем сидели за столом, Ансельмо
попросил Лотарио продекламировать некоторые из стихотворений, написанных им
в честь возлюбленной его Хлори, и так как Камилла ее не знает, он смело
может прочесть все, что пожелает.
-- Даже если бы она и знала ее, -- ответил Лотарио, -- я бы ничего не
скрыл, потому что, когда влюбленный восхваляет красоту своей дамы и упрекает
ее в жестокости, он этим не бросает ни малейшей тени на ее доброе имя. Но
будь что будет, могу лишь сказать, что вчера я написал сонет на
неблагодарность этой Хлори, и вот он:
СОНЕТ
Когда весь мир, в сон сладкий погруженный,
В ночной тиши покоится вокруг,
Несчастный я, навек тобой плененный,
Шлю небу плач и стон мой, милый друг!
Когда заря взойдет и позлаченный
Востока край весь запылает вдруг,--
Вновь слезы лью, тоскою удрученный,
И вновь кляну жестокий свой недуг.
Когда с высот надзвездных к нам роняет
Светило дня свой жаркий луч, -- больней
Тогда душа томится и страдает;
А ночь сойдет -- тоска еще сильней.
И вижу я -- к молитвам небо глухо,
И к ним вовек не склонит Хлори слуха!
Сонет очень понравился Камилле, но еще более -- Ансельмо, который
хвалил стихи и сказал, что сеньора, не отвечающая на такое искреннее
чувство, чрезмерно жестокая, а Камилла спросила:
-- Разве все то, что говорят влюбленные поэты, правда?
-- Как поэты, они не всегда говорят правду, -- ответил Лотарио, -- но
как влюбленные, они так же медлят признаться в своем чувстве, как и
правдивы.
-- В этом не может быть сомнения,-- сказал Ансельмо, чтобы подтвердить
и поддержать мнение Лотарио в глазах Камиллы, столь же не обращавшей вни-
мания на хитрости Ансельмо, как и влюбленной уже в Лотарио. Итак,
находя удовольствие во всем, что исходило от него, и к тому же уверенная,
что его чувства и стихи обращены к ней и она-то и есть настоящая Хлори.
Камилла просила его, если он знает еще какой-нибудь сонет или другие стихи,
сказать их.
-- Я знаю еще один сонет, -- ответил Лотарио, -- но не думаю, чтобы он
был так же хорош, как первый, или точнее говоря, я думаю, что первый не был
так плох, как этот; но судите об этом сами, потому что вот он:
СОНЕТ
Да, смерть моя близка, и если вновь моленья
Отвергнешь ты мои, -- она еще верней:
У ног твоих умру, но в смертное мгновенье
Боготворить тебя я буду лишь сильней!
Когда уйду в страну я мрака и забвенья,
Утрачу славу, честь, мечты все юных дней,--
Но сберегу в душе твое изображенье,
Прекрасный облик твой, запечатленный в ней!
Святыней я хранил его в дни испытанья
И не могли любовь мою к тебе сломить
Отпор суровый твой и все мои страданья.
О, горе, чья судьба по океану плыть
В неведомой дали, где в мраке бурной ночи
Ни гавань, ни маяк, а гибель смотрит в очи!
Ансельмо похвалил также и второй сонет, как хвалил и первый, и таким
образом он продолжал добавлять звено к звену в той цепи, которою он опутывал
и сковывал свой позор; потому что, когда Лотарио больше всего бесчестил его,
он больше всего уверял друга, что честь его возносится все выше, и таким
образом с каждою ступенью, по которой Камилла спускалась до глубины своего
унижения, она во мнении мужа своего все более и более поднималась к вершине
добродетели и доброй славы. Между тем случилось так, что однажды, когда
Камилла осталась наедине с своей горничной, она ей сказала:
-- Мне совестно, друг Леонела, подумать, как мало я умела ценить себя,
и даже не заставила Лотарио долгим ожиданием купить полное обладание тем,
что я отдала ему так скоро по собственной доброй воле. Боюсь, он
презрительно отнесется к моей податливости или моему легкомыслию, не
принимая в расчет стремительности, с которой он меня взял, лишив тем
возможности сопротивляться ему.
-- Не тревожься этим, сеньора моя,-- ответила Леонела, -- так как нет
основания и причины, чтобы ценность вещи уменьшилась, если ее дают скоро,
лишь бы только то, что дают, было само по себе хорошо и ценно; а даже
принято говорить, что тот, кто дает скоро, дает вдвое.
-- Но также принято говорить, -- ответила Камилла, -- что то, что стоит
мало, мало и ценится.
-- Это не относится к тебе,-- ответила Леонела, -- потому что любовь,
как я слышала, иногда летает, а иногда ходит; с этим она быстро бежит, с тем
идет медленно; некоторых охлаждает, иных воспламеняет; одного ранит, другого
убивает; не успеет она вступить на поприще своих желаний,
как в то же мгновение уже и завершает его, добившись цели; утром
обыкновенно она начнет осаду крепости, а к вечеру уже овладевает ею, потому
что нет силы, которая могла бы противостоять ей. И раз это так, что же
пугает тебя или чего же ты боишься, если то же самое, должно быть, случилось
и с Лотарио, так как средством покорить вас любовь избрала отсутствие моего
господина? И оказалось необходимым, чтобы в его отсутствие произошло то, что
решила любовь раньше, чем Ансельмо имел время вернуться, так как при нем
дело не было бы доведено до конца, потому что у любви нет лучшего помощника
для выполнения ее желаний, как случаи, и она пользуется им во всех своих
делах, особенно же вначале. Все это я знаю очень хорошо, больше по
собственному опыту, чем понаслышке, и когда-нибудь я расскажу тебе об этом,
сеньора, -- ведь и я тоже из плоти, и в жилах у меня молодая кровь. А сверх
того, сеньора Камилла, ты ведь уступила и отдалась не прежде того, как
увидела в глазах, во вздохах, объяснениях, обещаниях и подарках Лотарио всю
его душу, узнав из нее и из его прекрасных качеств, насколько он достоин,
чтобы его любили. Если же это так, не давай робким и щепетильным мыслям
овладевать твоим воображением и будь уверена, что Лотарио так же высоко
ценит тебя, как ты ценишь его. Живи, счастливая и довольная тем, что, если
ты уже попалась в сети любви, тот, кто тебя поймал в них, исполнен чести и
достоинств и у него не только есть четыре буквы, которые, как говорят,
должны отличать всякого хорошего влюбленного {Эти четыре буквы -- четыре S,
именно: Sabio, Solo, Solicite, Secreto (умный, единственный, заботливый,
сдержанный на словах), намек на несколько строчек из поэмы друга Сервантеса
Люиса Бараона де Сото "Слезы Анжелики", в которых эти качества
перечисляются.}, но и целая азбука. А нет, -- послушай -- и убедишься, что я
знаю ее наизусть. Он -- как я вижу и могу судить о том -- ангелоподобный,
богатый, великодушный, добрый, гордый, единственный, жизнерадостный,
искренний, красивый, любящий, мужественный, нежный, остроумный,
признательный, рассудительный, скромный, талантливый, участливый,
франтоватый, холостой, целомудренный, честный, шустрый, щедрый; ф не идет к
нему, потому что это буква грубая; э не нужно, так как уже было е; а я
{Азбука Леонелы не может быть буквально переведена на русский язык из-за
несходства русской азбуки с латинской, а только приблизительно.} --
ревнитель твоей чести.
 Камилла рассмеялась над азбукой своей прислужницы и нашла, что Леонела
более опытна в любовных делах, чем говорит. Та призналась в этом, открыв
Камилле, что у нее есть ухаживатель, один молодой человек, хорошего
происхождения, из их же города. Это очень смутило Камиллу; ее пугала мысль,
чтобы этим путем честь ее не подверглась опасности. Она стала расспрашивать
Леонелу, зашли ли они дальше разговоров, на что та без всякого стыда и с
величайшею развязностью ответила, что, конечно, зашли; ведь вещь известная,
что проступки барынь вызывают нахальство в их служанках, и лишь только те
заметят, что госпожи их споткнулись, им ничего не значит самим захромать, и
так, чтобы все об этом узнали. Камилла не могла сделать ничего другого, как
только попросить Леонелу не говорить тому, кого она называла своим
любовником, о ее деле и вести и свое собственное в такой тайне, чтобы ни
Ансельмо, ни Лотарио ничего не узнали о нем. Леонела ответила, что она это и
сделает; но сдержала свое обещание таким образом, что оправдала опасения
Камиллы лишиться через нее своего доброго имени. Безчестная и дерзкая
Леонела после того, как узнала, что поведение ее сеньоры не такое, какое
было раньше, осмелилась ввести в дом и держать здесь своего любовника,
уверенная, что, если бы ее госпожа и увидела его, она не решится выдать ее,
так как в числе дурных последствий, которые, между прочим, влекут за собой
грехи барынь, они делаются рабынями собственных своих служанок и вынуждены
покрывать их безнравственность и низость. То же случилось и с Камиллой. Не
раз, а несколько раз видела она, что Леонела принимает своего любовника в
одной из комнат ее дома, и не только не осмеливалась бранить ее за это, а
даже сама давала ей возможность прятать его и устраняла все препятствия с ее
дороги, чтобы он не попался на глаза Ансельмо. Однако она не могла
предотвратить того, чтобы Лотарио однажды не увидел его выходящим из ее дома
на рассвете. Не зная, кто это такой, он сначала подумал, уж не привидение ли
это, но, увидав, как оно шагает, заботливо и осторожно прикрываясь и
закутываясь плащом, Лотарио бросил свою глупую мысль и остановился на
другой, которая привела бы их всех к гибели, если бы Камилла не нашла
средства помочь беде. Лотарио и в голову не приходило, что человек, которого
он видел выходящим в столь необычайный час из дома Ансельмо, явился туда для
Леонелы; он даже вообще забыл, что существует на свете какая-то Леонела, и
подумал, что Камилла, так легко и с такою готовностью отдавшись ему,
поступила так же и с другим. Вот те последствия, которые, между прочим,
влечет за собой порочность дурной женщины; ее чести перестает доверять даже
и тот, мольбам и упрашиваниям которого она уступила, и он воображает, что
она еще с большею легкостью, чем ему, отдастся другим, и всякому подозрению
в этом направлении он готов слепо верить. Весь здравый смысл Лотарио,
казалось, в ту минуту изменил ему, и все благоразумные мысли исчезли из его
головы, потому что, нимало не задумываясь над тем, поступает ли хорошо или
дурно, тотчас же, прежде чем Ансельмо встал, он, весь горя нетерпением,
ослепленный бешеною ревностью, терзавшей ему душу, умирая от желания
отомстить Камилле, которая ничем его не оскорбила, помчался к Ансельмо и
сказал ему:
-- Знай, Ансельмо, что уже давно я боролся с собой и изо всех сил
сдерживался, чтобы не открыть тебе того, что уже невозможно и несправедливо
дольше скрывать от тебя. Знай же, что крепость Камиллы сдалась и что она
готова подчиниться всему, что бы я ни пожелал. Если же я до сих пор медлил
открыть тебе эту горькую истину, то лишь потому, что хотел убедиться,
легкомысленная ли это прихоть с ее стороны, или же она поступает так, чтобы
испытать меня и убедиться в серьезности любви, которую я ей, с твоего
позволения, выказывал. Я думал также, что, если б она была такою, какою
должна быть и какой мы оба считали ее, в таком случае она сама сообщила бы
тебе о моих преследованиях. Но видя, что она медлит это сделать, я прихожу к
заключению, что обещание, которое она мне дала, серьезно, именно: в
следующий твой отъезд из дому, она придет ко мне на свидание в уборную, где
хранятся твои драгоценности (и действительно, Камилла обыкновенно виделась с
ним там). Но я бы не хотел, чтобы ты поспешно бросился мстить; ведь грех
содеян пока только лишь мысленно, и могло бы случится, что в промежутке до
времени его совершения Камилла переменит свое намерение и почувствует
раскаяние. Так как ты до сих пор во всем или же отчасти следовал всегда моим
советам, прими во внимание и следуй и тому, который я сейчас тебе дам, чтобы
ты, не ошибаясь и зрело обсудив, мог бы поступить так, как найдешь наиболее
для себя подходящим. Сделай вид, что уезжаешь на два или на три дня из дому,
как это уже не раз бывало, а между тем спрячься в своей уборной, где
благодаря драпировкам, которые там находятся, и другим вещам, ты можешь
легко укрыться. Тогда ты увидишь своими собственными глазами, как я моими,
что у Камиллы на уме. И если б это оказалось проступком, которого можно
скорее опасаться, чем ждать его, ты за нанесенное тебе бесчестие сумеешь
отомстить тайно, осторожно и умно.
Ансельмо был изумлен, смущен и поражен словами Лотарио, потому что
слышал их как раз в то время, когда меньше всего ожидал их услышать,
уверенный в том, что Камилла вышла победительницей из притворных ухаживаний
за нею Лотарио, вследствие чего он стал уже наслаждаться славой ее победы.
Долго молчал он, неподвижно устремив глаза на пол, и наконец сказал:
-- Ты поступил, Лотарио, как я вправе был ждать от твоей дружбы. Во
всем я должен следовать твоему совету; делай, что хочешь и храни эту тайну,
как этого требует столь неожиданное событие.
Лотарио обещал это сделать, но, уходя от него, глубоко раскаялся в том,
что сказал, -- поняв, как глупо он поступил, так как и сам мог бы отомстить
Камилле иным, менее жестоким и бесчестным способом. Он проклинал свое
безумие, укорял себя за стремительность решения и не знал, к какому средству
прибегнуть, чтобы исправить то, что он сделал, или найти какой-нибудь
разумный исход. Наконец, он решил сказать обо всем Камилле, и, так как
всегда мог найти случай это сделать, он в тот же день отправился к ней и
застал ее одну. Увидев, что она может свободно говорить с ним, она сказала
ему:
-- Знайте, друг Лотарио, у меня на сердце тревога, которая так его
гнетет, что, кажется, оно готово разорваться в груди у меня и было бы чудо,
если б это не случилось; потому что бесстыдство Леонелы дошло до того, что
она каждую ночь здесь в доме принимает своего любовника и остается с ним до
рассвета в ущерб доброму моему имени, так как всякий, кто увидел бы его
выходящим в столь необычные часы из дома, мог бы подумать обо мне все что
угодно. И особенно мне досадно, что я не могу ни наказать, ни побранить ее,
так как то обстоятельство, что она знает о моих с вами отношениях, налагает
узду на мой язык и принуждает меня хранить молчание о ее связи. Но я боюсь,
чтобы из всего этого не вышла бы какая-нибудь беда.
Сначала, когда Камилла так заговорила, Лотарио подумал, что это
хитрость с целью ввести его в заблуждение и уверить, будто человек, которого
он видел выходящим из ее дома, приходил к Леонеле, а не к ней. Но увидав,
что она плачет, огорчена и ищет у него помощи, он ей поверил; а поверив,
окончательно смутился и раскаялся в своем опрометчивом поступке. Тем не
менее он просил Камиллу не тревожиться, так как он найдет средство обуздать
наглость Леонелы. Затем он признался ей в том, что он сказал Ансельмо,
подстрекаемый ярым бешенством ревности, и в том, как они оба условились, что
Ансельмо спрячется в уборной, чтобы воочию убедиться в неверности к нему
Камиллы. Вместе с тем Лотарио попросил у нее прощения за свое безумие и
совета, как все исправить и благополучно выбраться из столь запутанного
лабиринта, в который завлекло их его неблагоразумие. Камилла сильно
встревожилась, услыхав сказанное ей Лотарио, и, раздосадованная, принялась
осыпать его многими и справедливыми упреками, укоряя за дурные о ней мысли и
за столь глупое и злое решение, к которому он пришел. Но так как от природы
у женщины и в дурном, и в хорошем более находчивый ум, чем у мужчины, --
хотя она и уступает ему, когда дело коснется обдуманного рассуждения, -- то
Камилла тотчас же нашла средство исправить это, по-видимому, столь
непоправимое дело. Она сказала Лотарио, чтобы он уговорил Ансельмо на
следующий же день спрятаться там, где они условились, потому что из этого
обстоятельства она думает извлечь ту выгоду, чтобы с этих пор они могли без
малейшего опасения и страха наслаждаться друг другом. Не открыв ему вполне
своего плана, она только предупредила его, чтобы он позаботился, когда
Ансельмо будет спрятан, прийти тотчас же, лишь только позовет Леонела, и на
все, что Камилла ему скажет, пусть он отвечает так, как ответил бы, если б
не знал, что Ансельмо подслушивает. Лотарио настаивал на более подробном
объяснении ее намерения, чтобы он мог точнее исполнить все то, что окажется
нужным.
-- Повторяю, -- ответила Камилла, -- вам не о чем больше заботиться,
как только отвечать мне на то, о чем я вас буду спрашивать.
Камилла не желала объяснить ему заранее, что, собственно, она имеет в
виду, боясь, что он не захочет следовать ее плану, который казался ей таким
хорошим, но придумает и отыщет другие, а они могут быть не столь удачными. С
этим и ушел Лотарио; а на следующий день, Ансельмо под предлогом посещения
своего приятеля в деревне уехал из дому, но тотчас же вернулся и спрятался в
уборной, а это он мог сделать тем удобнее, что Камилла и Леонела нарочно
предоставили ему благоприятный случай. Спрятавшись, Ансельмо терзался тем
страшным душевным волнением, которое -- как легко можно представить себе --
должен испытывать тот, кто ожидает видеть собственными глазами смертельный
удар, нанесенный его чести, потому что он готовился через несколько
мгновений лишиться высшего блага, которым, как он думал, он обладает в лице
своей возлюбленной Камиллы. Вполне уверенные и твердо зная, что Ансельмо уже
спрятался, Камилла и Леонела вошли в уборную, и не успела Камилла
переступить порог, как она, глубоко вздохнув, сказала:
-- Ах, Леонела, друг, не лучше ли прежде, чем я приведу в исполнение
то, о чем я не желала, чтобы ты узнала, из опасения, как бы ты мне не
помешала, -- не лучше ли было бы взять тебе кинжал Ансельмо, который я
спрашивала у тебя, и пронзить им гнусное мое сердце. Но не делай этого,
потому что не было бы справедливо, чтобы я несла наказание за чужую вину.
Мне прежде всего хотелось бы знать, что такое видели во мне дерзкие и
бесстыжие глаза Лотарио, что могло дать ему смелость открыться в столь
низком желании, как то, которое он мне открыл на позор своему другу и к
моему бесчестию. Подойди к окну, Леонела, и позови его, потому что, без
сомнения, он уже ждет на улице, надеясь привести в исполнение гнусное свое
намерение, -- но раньше этого я приведу в исполнение мое, столько же
жестокое, как и благородное решение.
-- Ах, сеньора моя, -- ответила ловкая и хорошо наученная Леонела, --
что же ты хочешь делать с этим кинжалом? Не хочешь ли, быть может, лишить
себя жизни или же отнять ее у Лотарио? И то и другое, если оно у тебя на
уме, привело бы лишь к потере доброго твоего имени и доброй твоей славы.
Лучше бы тебе затаить обиду и не дозволять злому этому человеку войти к нам
в дом и найти нас здесь одних. Подумай, сеньора, ведь мы слабые женщины, а
он мужчина, да и предприимчивый, а так как он придет с дурной целью, быть
может, ослепленный страстью, прежде чем ты приведешь в исполнение свое
намерение, он сделает то, что для тебя было бы хуже, чем отнять у тебя
жизнь. Горе сеньору моему Ансельмо, что он дал этому нахалу такую власть у
себя в доме! Но если ты убьешь его, сеньора,-- а я думаю, ты намерена это
сделать, -- как потом нам быть с ним, с мертвым?
-- Как нам быть, друг мой? -- переспросила Камилла. -- Мы его оставим,
и пусть Ансельмо похоронит его, потому что, по справедливости, нельзя лишить
его удовлетворения взять на себя труд закопать в землю собственный свой
позор. Зови Лотарио, спеши, так как все время, что я медлю заслуженною
местью за нанесенное мне оскорбление, мне кажется нарушением верности,
которой я обязана моему супругу.
Все это слышал Ансельмо, и с каждым словом, сказанным Камиллой, мысли
его более и более перестраивались; когда же он услышал, что она решила убить
Лотарио, он хотел открыться и выйти из своей засады, чтобы помешать этому;
но его удержало желание посмотреть, чем кончится столь смелое и похвальное
решение, и он был намерен выйти вовремя, чтобы предотвратить совершение
этого поступка. Но тут с Камиллой случился глубокий обморок, и Леонела,
уложив ее на кровать, которая там стояла, начала горько плакать, говоря:
-- Ах, несчастная я, если мне суждено испытать такое горе, что здесь,
на руках у меня, умрет цвет благонравия в мире, венец добрых женщин, образец
целомудрия! -- К этому она добавила другие тому подобные вещи, так что
всякий, кто ее слышал, счел бы ее за самую огорченную и преданную горничную
в мире, а сеньору ее -- за новую, гонимую судьбой Пенелопу. Но Камилла скоро
оправилась от своего обморока и, придя в себя, сказала:
-- Что ж ты, Леонела, не идешь звать самого вернейшего друга из друзей,
которых когда-либо освещало солнце или ночь покрывала своим мраком? Скорей
беги, спеши, иди, чтобы из-за твоего промедления не угас огонь моего гнева и
справедливая месть, к которой я стремлюсь, не разрешилась одними лишь
угрозами и проклятиями.
-- Иду звать его, сеньора моя, -- ответила Леонела, -- но прежде ты
должна дать мне этот кинжал, чтобы в отсутствие мое ты не сделала вещи,
из-за которой пришлось бы всю свою жизнь проливать слезы тем, кто тебя
любит.
-- Будь спокойна, друг мой Леонела, я этого не сделаю, -- ответила
Камилла,-- потому что, какой бы я ни казалась в твоих глазах безрассудной и
опрометчивой, отстаивая свою честь, все же я не доведу своего безрассудства
и опрометчивости до такой степени, как та Лукреция, о которой говорят, что
она лишила себя жизни, не совершив никакого проступка и не убив
предварительно того, кто был виновником ее несчастия. Я умру, если мне
суждено умереть, но не иначе как получив удовлетворение и отомстив тому,
из-за которого я должна была прийти сюда плакать над дерзостями его,
возникшими без всякой моей вины.
Леонела заставила себя долго просить, прежде чем она пошла звать
Лотарио; но наконец она ушла, а в ожидании ее возвращения Камилла, делая
вид, что разговаривает сама с собой, сказала:
-- Господи, помоги мне! Не умнее ли было бы, если б я отослала Лотарио,
как это делала уже много раз, чем давать ему повод, как это делаю теперь,
считать меня бесчестной и дурной женщиной, хотя бы лишь до того времени,
когда мне можно будет вывести его из его заблуждения. Без сомнения, это было
бы лучше, но я не была бы отомщена, и честь моего мужа осталась бы
неудовлетворенной, если б он так легко и таким гладким путем мог уйти
оттуда, куда его завлекли низкие его желания. Пусть же изменник заплатит
жизнью за свое бесстыдное посягательство, и пусть узнает мир -- если б ему
когда-либо довелось узнать об этом, -- что Камилла не только сохранила
верность супругу своему, но отомстила тому, кто дерзнул оскорбить его честь.
Тем не менее я думаю, было бы лучше обо всем сказать Ансельмо; хотя я ему
уже намекала об этом в письме, которое писала ему в деревню... Если же он
тогда не поспешил принять меры против зла, на которое я указывала, это,
по-видимому, произошло вследствие того, что по доверчивости и доброте своей
он не хотел и не мог понять, чтобы в груди столь преданного ему друга могли
таиться такие оскорбительные для чести его замыслы! И я сама долгое время не
верила тому и не поверила бы никогда, если б он в своей наглости не дошел до
того, что обнаружил предо мною низкие свои поползновения подарками,
широковещательными обещаниями и неотступными слезами. Но зачем я говорю
теперь все это? Разве смелое решение нуждается в каких-либо оправданиях?
Конечно, нет! Итак, прочь изменников! Ко мне, мщение! Пусть войдет сюда
вероломный, пусть явится, приблизится, умрет, погибнет, -- и пусть будет что
будет! Чистой была я отдана во власть тому, кого небо назначило мне в
супруги, и чистой должна я расстаться с ним, даже если б мне пришлось
омыться в моей безвинной крови и в преступной крови самого вероломного из
друзей, которых когда-либо видел свет.
И, говоря это, она ходила по комнате с обнаженным кинжалом такими
необычайными и странными шагами и с такими жестами, что казалось, лишилась
рассудка и походила скорее на бешеного убийцу, чем на нежную женщину.
Ансельмо, стоявший за драпировкой, за которою он спрятался, видел все
это и был крайне изумлен, а то, что он видел и слышал, казалось ему вполне
достаточным, чтобы рассеять даже более сильные подозрения, чем его, и он уже
желал, чтобы Лотарио не явился и испытание не было доведено до конца,
опасаясь, как бы не приключилось какое-нибудь неожиданное несчастие. Он
хотел было показаться и выйти, чтобы обнять жену и все ей объяснить, но
удержался, увидев, что Леонела вошла в комнату, ведя за руку Лотарио. Лишь
только Камилла его увидела, она провела перед собой на полу кинжалом большую
черту и сказала:
-- Лотарио, заметь себе то, что я сейчас скажу: если ты осмелишься
перейти через вот эту черту или хотя бы приблизиться к ней, -- в тот же миг,
как я увижу, что ты собираешься это сделать, я вонжу себе в сердце этот
кинжал, который держу в руках; прежде чем отвечать мне хоть слово, ты еще
должен выслушать меня и потом уже можешь говорить, что найдешь нужным.
Во-первых, Лотарио, я желаю, чтобы ты мне сказал: знаешь ли ты мужа моего
Ансельмо и какого ты о нем мнения, и во-вторых, затем спрашиваю тебя, знаешь
ли ты меня? Ответь на это, не смущаясь и недолго задумываясь, что мне
ответить, так как не очень затруднительно то, о чем я тебя спрашиваю.
Лотарио не был так неопытен, чтобы не догадаться с первой же минуты,
когда Камилла сказала ему, чтобы он спрятал Ансельмо в уборной, что она,
собственно, имела в виду, и поэтому он так ловко и хорошо сообразовался с ее
намерениями, что они оба разыграли эту ложь лучше самой истины. Он ответил
Камилле следующее:
-- Не думал я, прекрасная Камилла, что ты позвала меня, чтобы
спрашивать о вещах, столь далеких от намерения, с которым я сюда пришел.
Если ты это делаешь, чтобы отсрочить обещанную мне милость, тебе следовало
бы поступать таким образом раньше, так как ожидание желанного блага тем
мучительнее, чем ближе надежда овладеть им. Но чтобы ты не говорила, что я
не отвечаю на твои вопросы, скажу, что знаю твоего супруга Ансельмо и мы
дружны с ним с самых нежных лет; не хочу ничего говорить о нашей дружбе,
столь хорошо известной тебе, чтобы самому не свидетельствовать о том
оскорблении, которое нанести ему вынуждает меня любовь, это могучее
оправдание самых величайших заблуждений. И тебя я знаю, и обладание тобою
ставлю столь же высоко, как это делает и Ансельмо. Если б это не было так,
я, будучи тем, что я есть, не пошел бы из-за меньших чар, чем твои, против
своего долга, против священных законов истинной дружбы, теперь из-за столь
могучего врага, как любовь, нарушенных и попранных мной.
-- Если ты сознаешься в этом, -- ответила Камилла, -- смертельный враг
всего, что по справедливости заслуживает любви, -- с каким же лицом
осмеливаешься ты явиться перед той, о которой ты знаешь, что она зеркало, в
которое смотрится тот, о ком ты не должен был бы забывать, чтобы видеть, как
мало причины у тебя оскорблять его! Но, ах, я несчастная! Я догадываюсь, что
тебя побудило отнестись с таким неуважением к самому себе. Верно,
какое-нибудь легкомыслие мое, потому что назвать это нескромностью я не
хочу, так как оно не могло произойти из обдуманного решения, а лишь только
из какой-нибудь неосторожности, незаметно совершаемой женщинами, когда они
уверены в том, что им нечего остерегаться. А если это не так, скажи, о
изменник: когда я отвечала на просьбы твои словом или знаком, которые могли
бы возбудить в тебе хоть тень надежды на достижение твоих низких желаний?
Когда твои слова любви не были строго и презрительно отвергнуты мною? Когда
придавала я веру твоим многочисленным обещаниям или принимала еще более
часто предлагаемые мне тобою подарки? Но, так как мне кажется, что никто не
может долго упорствовать в любовном искательстве, если его не поддерживает
надежда, я готова приписать себе вину твоей дерзости, потому что, без
сомнения, какая-нибудь неосторожность с моей стороны питала столько времени
твои предосудительные старания, и поэтому я хочу наказать себя и обрушить на
себя кару, которую заслуживает твоя вина. А чтобы ты, видя, насколько я
жестоко отношусь к себе, понял, что мне нельзя иначе отнестись и к тебе, я
решила позвать тебя сюда, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую я хочу
принести опозоренной чести моего благородного супруга, оскорбленного тобою
как нельзя более преднамеренно, а также оскорбленного и мною по
неосторожности, состоявшей в том, что я не сумела избежать случая, если
только он действительно представился, который поощрил в тебе дурные твои
намерения. Повторяю: подозрение, что какая-нибудь неосмотрительность с моей
стороны пробудила в тебе твои безумные мысли, более всего меня мучит, и за
это я главным образом желаю покарать себя собственными руками, потому что,
если б это сделал другой палач, может быть, вина моя стала бы еще более
гласной... Но прежде, чем я это сделаю, я хочу, убивая себя, убить и увлечь
с собой и того, чья смерть может вполне удовлетворить жажду мести, к которой
я стремлюсь и на которую надеюсь, считая ее -- где бы она ни была выполнена
-- за кару, обрушенную беспристрастным и неподкупным правосудием на того,
кто довел меня до столь отчаянного шага.
И, говоря эти слова, она с неимоверной силой и быстротой бросилась на
Лотарио с обнаженным кинжалом с таким, казалось, пылким желанием вонзить ему
в грудь этот кинжал, что даже у него самого явилось сомнение, притворно ли
это с ее стороны или нет, и он был вынужден пустить в ход всю свою силу и
ловкость, чтобы помешать Камилле ранить его. Она сумела так живо разыграть
этот странный подлог и обман, что, желая придать ему окраску истины,
вздумала оттенить его собственною своею кровью, так как, увидав, что ей
нельзя, или притворяясь, что ей нельзя нанести удар Лотарио, она
воскликнула:
-- Если судьбе не угодно полностью удовлетворить мое справедливое
желание, по крайней мере она не настолько могущественна, чтоб помешать мне
удовлетворить его хоть отчасти.
И, сделав усилие, чтоб вырвать из рук Лотарио кинжал, который он крепко
держал, она замахнулась им и, направив острие его себе в такое место, где
нельзя было нанести глубокой раны, слегка вонзила его повыше левой ключицы,
близ плеча, и тотчас же упала на пол, как бы лишившись чувств.
Лотарио и Леонела были донельзя удивлены и смущенны этим происшествием,
все еще сомневаясь в истине его. Увидя Камиллу, лежавшую на полу и
обливающуюся кровью, Лотарио кинулся к ней, испуганный, тяжело дыша, чтобы
выдернуть кинжал, но когда он увидел, до чего незначительна ранка, страх его
исчез и он опять изумился уму, хладнокровию и ловкости прекрасной Камиллы.
Чтобы, со своей стороны, достойно разыграть роль, приходившуюся на его долю,
он разразился продолжительным и полным скорби сетованием над телом Камиллы,
точно она была уже мертвая, осыпая проклятиями не только самого себя, но и
того, кто был причиной всего случившегося. Зная, что его слушает его друг
Ансельмо, он говорил такие вещи, что всякий, слышавший их, больше пожалел бы
о нем, чем даже о Камилле, хотя бы и считал ее мертвой. Леонела подняла
Камиллу и положила на кровать, умоляя Лотарио пойти привести кого-нибудь,
кто бы мог тайно лечить ее; а также она спросила совета и мнения его, что
сказать Ансельмо об этой ране ее госпожи, если б он случайно вернулся
прежде, чем она вылечится. Лотарио ответил, пусть говорят что хотят, так как
он теперь не в состоянии дать какой-либо полезный совет. Он только велел ей
поскорее остановить кровь, потому что сам он решил уйти туда, где люди
больше не увидят его. С видом величайшего огорчения и волнения вышел он из
дому и, очутившись один, вдали от всяких взоров, не переставал креститься,
изумляясь искусству Камиллы и ловкости Леонелы. Он подумал, до чего, должно
быть, теперь Ансельмо уверен в том, что его жена вторая Порция {Действующее
лицо в драме Шекспира "Венецианский купец".}, и ему хотелось поскорее с ним
увидеться, чтобы вместе отпраздновать обман и истину, так искусно
переплетенные вместе, что этого нельзя было бы лучше вообразить себе.
Леонела, как сказано, остановила своей сеньоре кровь, которой оказалось
не больше, чем требовалось, чтобы придать ее обману правдоподобный вид, и,
обмыв вином рану, она перевязала ее, как сумела, говоря такие речи, пока она
перевязывала ее, что если б им не предшествовали другие, они одни могли бы
убедить Ансельмо в том, что его Камилла -- образец целомудрия. К словам
Леонелы присоединились и слова Камиллы, называвшей себя трусливой и
малодушной, потому что у нее не хватило мужества как раз в то время, когда
мужество ей было наиболее необходимо, чтобы лишить себя жизни, ставшей ей
столь ненавистной. Она спросила у своей прислужницы совета, говорить ей или
нет обо всем случившемся дорогому своему супругу, но та посоветовала лучше
не говорить ему, так как, сделав это, она поставит его в необходимость
отомстить Лотарио, а отомстить ему нельзя иначе, как подвергая и себя
опасности, а хорошая жена не должна давать своему мужу повода для ссор,
напротив, она должна их предупреждать, сколько возможно. Камилла ответила,
что совет Леонелы кажется ей очень благоразумным и она ему последует; но во
всяком случае надо придумать, что сказать Ансельмо относительно этой раны,
которую он непременно увидит; на это Леонела отозвалась, что она даже и в
шутку не умеет лгать.
-- А я-то, сестра, -- ответила Камилла, -- разве я сумею? Никогда я не
решусь ни сочинить, ни поддержать ложь, хотя бы это стоило мне жизни. Если
же мы не в силах выпутаться из этого дела, не лучше ли нам сказать голую
правду, чем быть пойманными во лжи?
-- Не тревожься, сеньора, -- ответила Леонела, -- до завтра я подумаю,
что нам сказать, а, быть может, оттого что рана на таком месте, удастся
прикрыть ее так, чтобы Ансельмо не увидел ее, и авось благосклонное небо
окажет нам помощь в столь справедливых и честных наших желаниях. Успокойся,
сеньора моя, и постарайся прийти в себя, чтобы господин мой не застал тебя
столь взволнованной. Остальное же предоставь моим заботам и Господу Богу,
Который никогда не отказывает в своем покровительстве добрым намерениям.
Ансельмо слушал и смотрел с величайшим вниманием на представление
трагедии гибели его чести, -- трагедии, которую действующие в ней лица
разыгрывали со столь удивительной и искренней страстью, что казалось, они
действительно превратились в тех лиц, которыми они прикидывались. С
нетерпением ждал Ансельмо ночи, чтобы уйти из дому повидаться с добрым своим
другом Лотарио и вместе с ним порадоваться драгоценной жемчужине, найденной
им в столь ярко обнаружившейся верности его супруги. Две женщины постарались
доставить ему как можно скорее случай и возможность выйти из дому, и,
воспользовавшись этой возможностью, он тотчас же побежал к Лотарио и, застав
его, так горячо принялся обнимать его, наговорил ему столько о своем счастии
и осыпал Камиллу такими похвалами, что всего этого передать нельзя. Лотарио
слушал, но не был в состоянии выказать какие-либо признаки радости, потому
что не мог не вспомнить, как ужасно обманул своего друга и как несправедливо
оскорбил его. Хотя Ансельмо и видел, что Лотарио не радуется, но подумал,
верно, это происходит оттого, что Камилла ранена, и тому причиной был
Лотарио. Поэтому он между прочим сказал ему, чтоб он не огорчался
случившимся с Камиллой, так как ее рана, несомненно, очень легкая, потому
что госпожа и служанка сговорились скрыть ее от него, следовательно,
опасаться нечего, и пусть же он веселится и радуется вместе с ним, так как
благодаря помощи и рвению его он достиг величайшего счастия, какого лишь мог
себе желать, и решил отныне не иметь других развлечений, как только писание
хвалебных стихов в честь Камиллы, чтобы увековечить ее в памяти грядущих
веков. Лотарио похвалил его доброе намерение и сказал, что и он, со своей
стороны, поможет ему воздвигнуть столь великолепное здание. Таким образом
Ансельмо оказался столь отменно обманутым человеком, какой только мог быть в
мире. Он сам ввел за руку к себе в дом того, кого считал орудием своей
славы, между тем как он был похитителем его чести, -- а Камилла принимала
Лотарио с выражением неудовольствия на лице, но со смеющимся сердцем. Этот
обман длился еще некоторое время, пока по прошествии немногих месяцев колесо
судьбы не повернулось и злое дело, скрытое с таким искусством, не выступило
наружу, а Ансельмо пришлось заплатить жизнью за безрассудное свое
любопытство.
Камилла рассмеялась над азбукой своей прислужницы и нашла, что Леонела
более опытна в любовных делах, чем говорит. Та призналась в этом, открыв
Камилле, что у нее есть ухаживатель, один молодой человек, хорошего
происхождения, из их же города. Это очень смутило Камиллу; ее пугала мысль,
чтобы этим путем честь ее не подверглась опасности. Она стала расспрашивать
Леонелу, зашли ли они дальше разговоров, на что та без всякого стыда и с
величайшею развязностью ответила, что, конечно, зашли; ведь вещь известная,
что проступки барынь вызывают нахальство в их служанках, и лишь только те
заметят, что госпожи их споткнулись, им ничего не значит самим захромать, и
так, чтобы все об этом узнали. Камилла не могла сделать ничего другого, как
только попросить Леонелу не говорить тому, кого она называла своим
любовником, о ее деле и вести и свое собственное в такой тайне, чтобы ни
Ансельмо, ни Лотарио ничего не узнали о нем. Леонела ответила, что она это и
сделает; но сдержала свое обещание таким образом, что оправдала опасения
Камиллы лишиться через нее своего доброго имени. Безчестная и дерзкая
Леонела после того, как узнала, что поведение ее сеньоры не такое, какое
было раньше, осмелилась ввести в дом и держать здесь своего любовника,
уверенная, что, если бы ее госпожа и увидела его, она не решится выдать ее,
так как в числе дурных последствий, которые, между прочим, влекут за собой
грехи барынь, они делаются рабынями собственных своих служанок и вынуждены
покрывать их безнравственность и низость. То же случилось и с Камиллой. Не
раз, а несколько раз видела она, что Леонела принимает своего любовника в
одной из комнат ее дома, и не только не осмеливалась бранить ее за это, а
даже сама давала ей возможность прятать его и устраняла все препятствия с ее
дороги, чтобы он не попался на глаза Ансельмо. Однако она не могла
предотвратить того, чтобы Лотарио однажды не увидел его выходящим из ее дома
на рассвете. Не зная, кто это такой, он сначала подумал, уж не привидение ли
это, но, увидав, как оно шагает, заботливо и осторожно прикрываясь и
закутываясь плащом, Лотарио бросил свою глупую мысль и остановился на
другой, которая привела бы их всех к гибели, если бы Камилла не нашла
средства помочь беде. Лотарио и в голову не приходило, что человек, которого
он видел выходящим в столь необычайный час из дома Ансельмо, явился туда для
Леонелы; он даже вообще забыл, что существует на свете какая-то Леонела, и
подумал, что Камилла, так легко и с такою готовностью отдавшись ему,
поступила так же и с другим. Вот те последствия, которые, между прочим,
влечет за собой порочность дурной женщины; ее чести перестает доверять даже
и тот, мольбам и упрашиваниям которого она уступила, и он воображает, что
она еще с большею легкостью, чем ему, отдастся другим, и всякому подозрению
в этом направлении он готов слепо верить. Весь здравый смысл Лотарио,
казалось, в ту минуту изменил ему, и все благоразумные мысли исчезли из его
головы, потому что, нимало не задумываясь над тем, поступает ли хорошо или
дурно, тотчас же, прежде чем Ансельмо встал, он, весь горя нетерпением,
ослепленный бешеною ревностью, терзавшей ему душу, умирая от желания
отомстить Камилле, которая ничем его не оскорбила, помчался к Ансельмо и
сказал ему:
-- Знай, Ансельмо, что уже давно я боролся с собой и изо всех сил
сдерживался, чтобы не открыть тебе того, что уже невозможно и несправедливо
дольше скрывать от тебя. Знай же, что крепость Камиллы сдалась и что она
готова подчиниться всему, что бы я ни пожелал. Если же я до сих пор медлил
открыть тебе эту горькую истину, то лишь потому, что хотел убедиться,
легкомысленная ли это прихоть с ее стороны, или же она поступает так, чтобы
испытать меня и убедиться в серьезности любви, которую я ей, с твоего
позволения, выказывал. Я думал также, что, если б она была такою, какою
должна быть и какой мы оба считали ее, в таком случае она сама сообщила бы
тебе о моих преследованиях. Но видя, что она медлит это сделать, я прихожу к
заключению, что обещание, которое она мне дала, серьезно, именно: в
следующий твой отъезд из дому, она придет ко мне на свидание в уборную, где
хранятся твои драгоценности (и действительно, Камилла обыкновенно виделась с
ним там). Но я бы не хотел, чтобы ты поспешно бросился мстить; ведь грех
содеян пока только лишь мысленно, и могло бы случится, что в промежутке до
времени его совершения Камилла переменит свое намерение и почувствует
раскаяние. Так как ты до сих пор во всем или же отчасти следовал всегда моим
советам, прими во внимание и следуй и тому, который я сейчас тебе дам, чтобы
ты, не ошибаясь и зрело обсудив, мог бы поступить так, как найдешь наиболее
для себя подходящим. Сделай вид, что уезжаешь на два или на три дня из дому,
как это уже не раз бывало, а между тем спрячься в своей уборной, где
благодаря драпировкам, которые там находятся, и другим вещам, ты можешь
легко укрыться. Тогда ты увидишь своими собственными глазами, как я моими,
что у Камиллы на уме. И если б это оказалось проступком, которого можно
скорее опасаться, чем ждать его, ты за нанесенное тебе бесчестие сумеешь
отомстить тайно, осторожно и умно.
Ансельмо был изумлен, смущен и поражен словами Лотарио, потому что
слышал их как раз в то время, когда меньше всего ожидал их услышать,
уверенный в том, что Камилла вышла победительницей из притворных ухаживаний
за нею Лотарио, вследствие чего он стал уже наслаждаться славой ее победы.
Долго молчал он, неподвижно устремив глаза на пол, и наконец сказал:
-- Ты поступил, Лотарио, как я вправе был ждать от твоей дружбы. Во
всем я должен следовать твоему совету; делай, что хочешь и храни эту тайну,
как этого требует столь неожиданное событие.
Лотарио обещал это сделать, но, уходя от него, глубоко раскаялся в том,
что сказал, -- поняв, как глупо он поступил, так как и сам мог бы отомстить
Камилле иным, менее жестоким и бесчестным способом. Он проклинал свое
безумие, укорял себя за стремительность решения и не знал, к какому средству
прибегнуть, чтобы исправить то, что он сделал, или найти какой-нибудь
разумный исход. Наконец, он решил сказать обо всем Камилле, и, так как
всегда мог найти случай это сделать, он в тот же день отправился к ней и
застал ее одну. Увидев, что она может свободно говорить с ним, она сказала
ему:
-- Знайте, друг Лотарио, у меня на сердце тревога, которая так его
гнетет, что, кажется, оно готово разорваться в груди у меня и было бы чудо,
если б это не случилось; потому что бесстыдство Леонелы дошло до того, что
она каждую ночь здесь в доме принимает своего любовника и остается с ним до
рассвета в ущерб доброму моему имени, так как всякий, кто увидел бы его
выходящим в столь необычные часы из дома, мог бы подумать обо мне все что
угодно. И особенно мне досадно, что я не могу ни наказать, ни побранить ее,
так как то обстоятельство, что она знает о моих с вами отношениях, налагает
узду на мой язык и принуждает меня хранить молчание о ее связи. Но я боюсь,
чтобы из всего этого не вышла бы какая-нибудь беда.
Сначала, когда Камилла так заговорила, Лотарио подумал, что это
хитрость с целью ввести его в заблуждение и уверить, будто человек, которого
он видел выходящим из ее дома, приходил к Леонеле, а не к ней. Но увидав,
что она плачет, огорчена и ищет у него помощи, он ей поверил; а поверив,
окончательно смутился и раскаялся в своем опрометчивом поступке. Тем не
менее он просил Камиллу не тревожиться, так как он найдет средство обуздать
наглость Леонелы. Затем он признался ей в том, что он сказал Ансельмо,
подстрекаемый ярым бешенством ревности, и в том, как они оба условились, что
Ансельмо спрячется в уборной, чтобы воочию убедиться в неверности к нему
Камиллы. Вместе с тем Лотарио попросил у нее прощения за свое безумие и
совета, как все исправить и благополучно выбраться из столь запутанного
лабиринта, в который завлекло их его неблагоразумие. Камилла сильно
встревожилась, услыхав сказанное ей Лотарио, и, раздосадованная, принялась
осыпать его многими и справедливыми упреками, укоряя за дурные о ней мысли и
за столь глупое и злое решение, к которому он пришел. Но так как от природы
у женщины и в дурном, и в хорошем более находчивый ум, чем у мужчины, --
хотя она и уступает ему, когда дело коснется обдуманного рассуждения, -- то
Камилла тотчас же нашла средство исправить это, по-видимому, столь
непоправимое дело. Она сказала Лотарио, чтобы он уговорил Ансельмо на
следующий же день спрятаться там, где они условились, потому что из этого
обстоятельства она думает извлечь ту выгоду, чтобы с этих пор они могли без
малейшего опасения и страха наслаждаться друг другом. Не открыв ему вполне
своего плана, она только предупредила его, чтобы он позаботился, когда
Ансельмо будет спрятан, прийти тотчас же, лишь только позовет Леонела, и на
все, что Камилла ему скажет, пусть он отвечает так, как ответил бы, если б
не знал, что Ансельмо подслушивает. Лотарио настаивал на более подробном
объяснении ее намерения, чтобы он мог точнее исполнить все то, что окажется
нужным.
-- Повторяю, -- ответила Камилла, -- вам не о чем больше заботиться,
как только отвечать мне на то, о чем я вас буду спрашивать.
Камилла не желала объяснить ему заранее, что, собственно, она имеет в
виду, боясь, что он не захочет следовать ее плану, который казался ей таким
хорошим, но придумает и отыщет другие, а они могут быть не столь удачными. С
этим и ушел Лотарио; а на следующий день, Ансельмо под предлогом посещения
своего приятеля в деревне уехал из дому, но тотчас же вернулся и спрятался в
уборной, а это он мог сделать тем удобнее, что Камилла и Леонела нарочно
предоставили ему благоприятный случай. Спрятавшись, Ансельмо терзался тем
страшным душевным волнением, которое -- как легко можно представить себе --
должен испытывать тот, кто ожидает видеть собственными глазами смертельный
удар, нанесенный его чести, потому что он готовился через несколько
мгновений лишиться высшего блага, которым, как он думал, он обладает в лице
своей возлюбленной Камиллы. Вполне уверенные и твердо зная, что Ансельмо уже
спрятался, Камилла и Леонела вошли в уборную, и не успела Камилла
переступить порог, как она, глубоко вздохнув, сказала:
-- Ах, Леонела, друг, не лучше ли прежде, чем я приведу в исполнение
то, о чем я не желала, чтобы ты узнала, из опасения, как бы ты мне не
помешала, -- не лучше ли было бы взять тебе кинжал Ансельмо, который я
спрашивала у тебя, и пронзить им гнусное мое сердце. Но не делай этого,
потому что не было бы справедливо, чтобы я несла наказание за чужую вину.
Мне прежде всего хотелось бы знать, что такое видели во мне дерзкие и
бесстыжие глаза Лотарио, что могло дать ему смелость открыться в столь
низком желании, как то, которое он мне открыл на позор своему другу и к
моему бесчестию. Подойди к окну, Леонела, и позови его, потому что, без
сомнения, он уже ждет на улице, надеясь привести в исполнение гнусное свое
намерение, -- но раньше этого я приведу в исполнение мое, столько же
жестокое, как и благородное решение.
-- Ах, сеньора моя, -- ответила ловкая и хорошо наученная Леонела, --
что же ты хочешь делать с этим кинжалом? Не хочешь ли, быть может, лишить
себя жизни или же отнять ее у Лотарио? И то и другое, если оно у тебя на
уме, привело бы лишь к потере доброго твоего имени и доброй твоей славы.
Лучше бы тебе затаить обиду и не дозволять злому этому человеку войти к нам
в дом и найти нас здесь одних. Подумай, сеньора, ведь мы слабые женщины, а
он мужчина, да и предприимчивый, а так как он придет с дурной целью, быть
может, ослепленный страстью, прежде чем ты приведешь в исполнение свое
намерение, он сделает то, что для тебя было бы хуже, чем отнять у тебя
жизнь. Горе сеньору моему Ансельмо, что он дал этому нахалу такую власть у
себя в доме! Но если ты убьешь его, сеньора,-- а я думаю, ты намерена это
сделать, -- как потом нам быть с ним, с мертвым?
-- Как нам быть, друг мой? -- переспросила Камилла. -- Мы его оставим,
и пусть Ансельмо похоронит его, потому что, по справедливости, нельзя лишить
его удовлетворения взять на себя труд закопать в землю собственный свой
позор. Зови Лотарио, спеши, так как все время, что я медлю заслуженною
местью за нанесенное мне оскорбление, мне кажется нарушением верности,
которой я обязана моему супругу.
Все это слышал Ансельмо, и с каждым словом, сказанным Камиллой, мысли
его более и более перестраивались; когда же он услышал, что она решила убить
Лотарио, он хотел открыться и выйти из своей засады, чтобы помешать этому;
но его удержало желание посмотреть, чем кончится столь смелое и похвальное
решение, и он был намерен выйти вовремя, чтобы предотвратить совершение
этого поступка. Но тут с Камиллой случился глубокий обморок, и Леонела,
уложив ее на кровать, которая там стояла, начала горько плакать, говоря:
-- Ах, несчастная я, если мне суждено испытать такое горе, что здесь,
на руках у меня, умрет цвет благонравия в мире, венец добрых женщин, образец
целомудрия! -- К этому она добавила другие тому подобные вещи, так что
всякий, кто ее слышал, счел бы ее за самую огорченную и преданную горничную
в мире, а сеньору ее -- за новую, гонимую судьбой Пенелопу. Но Камилла скоро
оправилась от своего обморока и, придя в себя, сказала:
-- Что ж ты, Леонела, не идешь звать самого вернейшего друга из друзей,
которых когда-либо освещало солнце или ночь покрывала своим мраком? Скорей
беги, спеши, иди, чтобы из-за твоего промедления не угас огонь моего гнева и
справедливая месть, к которой я стремлюсь, не разрешилась одними лишь
угрозами и проклятиями.
-- Иду звать его, сеньора моя, -- ответила Леонела, -- но прежде ты
должна дать мне этот кинжал, чтобы в отсутствие мое ты не сделала вещи,
из-за которой пришлось бы всю свою жизнь проливать слезы тем, кто тебя
любит.
-- Будь спокойна, друг мой Леонела, я этого не сделаю, -- ответила
Камилла,-- потому что, какой бы я ни казалась в твоих глазах безрассудной и
опрометчивой, отстаивая свою честь, все же я не доведу своего безрассудства
и опрометчивости до такой степени, как та Лукреция, о которой говорят, что
она лишила себя жизни, не совершив никакого проступка и не убив
предварительно того, кто был виновником ее несчастия. Я умру, если мне
суждено умереть, но не иначе как получив удовлетворение и отомстив тому,
из-за которого я должна была прийти сюда плакать над дерзостями его,
возникшими без всякой моей вины.
Леонела заставила себя долго просить, прежде чем она пошла звать
Лотарио; но наконец она ушла, а в ожидании ее возвращения Камилла, делая
вид, что разговаривает сама с собой, сказала:
-- Господи, помоги мне! Не умнее ли было бы, если б я отослала Лотарио,
как это делала уже много раз, чем давать ему повод, как это делаю теперь,
считать меня бесчестной и дурной женщиной, хотя бы лишь до того времени,
когда мне можно будет вывести его из его заблуждения. Без сомнения, это было
бы лучше, но я не была бы отомщена, и честь моего мужа осталась бы
неудовлетворенной, если б он так легко и таким гладким путем мог уйти
оттуда, куда его завлекли низкие его желания. Пусть же изменник заплатит
жизнью за свое бесстыдное посягательство, и пусть узнает мир -- если б ему
когда-либо довелось узнать об этом, -- что Камилла не только сохранила
верность супругу своему, но отомстила тому, кто дерзнул оскорбить его честь.
Тем не менее я думаю, было бы лучше обо всем сказать Ансельмо; хотя я ему
уже намекала об этом в письме, которое писала ему в деревню... Если же он
тогда не поспешил принять меры против зла, на которое я указывала, это,
по-видимому, произошло вследствие того, что по доверчивости и доброте своей
он не хотел и не мог понять, чтобы в груди столь преданного ему друга могли
таиться такие оскорбительные для чести его замыслы! И я сама долгое время не
верила тому и не поверила бы никогда, если б он в своей наглости не дошел до
того, что обнаружил предо мною низкие свои поползновения подарками,
широковещательными обещаниями и неотступными слезами. Но зачем я говорю
теперь все это? Разве смелое решение нуждается в каких-либо оправданиях?
Конечно, нет! Итак, прочь изменников! Ко мне, мщение! Пусть войдет сюда
вероломный, пусть явится, приблизится, умрет, погибнет, -- и пусть будет что
будет! Чистой была я отдана во власть тому, кого небо назначило мне в
супруги, и чистой должна я расстаться с ним, даже если б мне пришлось
омыться в моей безвинной крови и в преступной крови самого вероломного из
друзей, которых когда-либо видел свет.
И, говоря это, она ходила по комнате с обнаженным кинжалом такими
необычайными и странными шагами и с такими жестами, что казалось, лишилась
рассудка и походила скорее на бешеного убийцу, чем на нежную женщину.
Ансельмо, стоявший за драпировкой, за которою он спрятался, видел все
это и был крайне изумлен, а то, что он видел и слышал, казалось ему вполне
достаточным, чтобы рассеять даже более сильные подозрения, чем его, и он уже
желал, чтобы Лотарио не явился и испытание не было доведено до конца,
опасаясь, как бы не приключилось какое-нибудь неожиданное несчастие. Он
хотел было показаться и выйти, чтобы обнять жену и все ей объяснить, но
удержался, увидев, что Леонела вошла в комнату, ведя за руку Лотарио. Лишь
только Камилла его увидела, она провела перед собой на полу кинжалом большую
черту и сказала:
-- Лотарио, заметь себе то, что я сейчас скажу: если ты осмелишься
перейти через вот эту черту или хотя бы приблизиться к ней, -- в тот же миг,
как я увижу, что ты собираешься это сделать, я вонжу себе в сердце этот
кинжал, который держу в руках; прежде чем отвечать мне хоть слово, ты еще
должен выслушать меня и потом уже можешь говорить, что найдешь нужным.
Во-первых, Лотарио, я желаю, чтобы ты мне сказал: знаешь ли ты мужа моего
Ансельмо и какого ты о нем мнения, и во-вторых, затем спрашиваю тебя, знаешь
ли ты меня? Ответь на это, не смущаясь и недолго задумываясь, что мне
ответить, так как не очень затруднительно то, о чем я тебя спрашиваю.
Лотарио не был так неопытен, чтобы не догадаться с первой же минуты,
когда Камилла сказала ему, чтобы он спрятал Ансельмо в уборной, что она,
собственно, имела в виду, и поэтому он так ловко и хорошо сообразовался с ее
намерениями, что они оба разыграли эту ложь лучше самой истины. Он ответил
Камилле следующее:
-- Не думал я, прекрасная Камилла, что ты позвала меня, чтобы
спрашивать о вещах, столь далеких от намерения, с которым я сюда пришел.
Если ты это делаешь, чтобы отсрочить обещанную мне милость, тебе следовало
бы поступать таким образом раньше, так как ожидание желанного блага тем
мучительнее, чем ближе надежда овладеть им. Но чтобы ты не говорила, что я
не отвечаю на твои вопросы, скажу, что знаю твоего супруга Ансельмо и мы
дружны с ним с самых нежных лет; не хочу ничего говорить о нашей дружбе,
столь хорошо известной тебе, чтобы самому не свидетельствовать о том
оскорблении, которое нанести ему вынуждает меня любовь, это могучее
оправдание самых величайших заблуждений. И тебя я знаю, и обладание тобою
ставлю столь же высоко, как это делает и Ансельмо. Если б это не было так,
я, будучи тем, что я есть, не пошел бы из-за меньших чар, чем твои, против
своего долга, против священных законов истинной дружбы, теперь из-за столь
могучего врага, как любовь, нарушенных и попранных мной.
-- Если ты сознаешься в этом, -- ответила Камилла, -- смертельный враг
всего, что по справедливости заслуживает любви, -- с каким же лицом
осмеливаешься ты явиться перед той, о которой ты знаешь, что она зеркало, в
которое смотрится тот, о ком ты не должен был бы забывать, чтобы видеть, как
мало причины у тебя оскорблять его! Но, ах, я несчастная! Я догадываюсь, что
тебя побудило отнестись с таким неуважением к самому себе. Верно,
какое-нибудь легкомыслие мое, потому что назвать это нескромностью я не
хочу, так как оно не могло произойти из обдуманного решения, а лишь только
из какой-нибудь неосторожности, незаметно совершаемой женщинами, когда они
уверены в том, что им нечего остерегаться. А если это не так, скажи, о
изменник: когда я отвечала на просьбы твои словом или знаком, которые могли
бы возбудить в тебе хоть тень надежды на достижение твоих низких желаний?
Когда твои слова любви не были строго и презрительно отвергнуты мною? Когда
придавала я веру твоим многочисленным обещаниям или принимала еще более
часто предлагаемые мне тобою подарки? Но, так как мне кажется, что никто не
может долго упорствовать в любовном искательстве, если его не поддерживает
надежда, я готова приписать себе вину твоей дерзости, потому что, без
сомнения, какая-нибудь неосторожность с моей стороны питала столько времени
твои предосудительные старания, и поэтому я хочу наказать себя и обрушить на
себя кару, которую заслуживает твоя вина. А чтобы ты, видя, насколько я
жестоко отношусь к себе, понял, что мне нельзя иначе отнестись и к тебе, я
решила позвать тебя сюда, чтобы ты был свидетелем жертвы, которую я хочу
принести опозоренной чести моего благородного супруга, оскорбленного тобою
как нельзя более преднамеренно, а также оскорбленного и мною по
неосторожности, состоявшей в том, что я не сумела избежать случая, если
только он действительно представился, который поощрил в тебе дурные твои
намерения. Повторяю: подозрение, что какая-нибудь неосмотрительность с моей
стороны пробудила в тебе твои безумные мысли, более всего меня мучит, и за
это я главным образом желаю покарать себя собственными руками, потому что,
если б это сделал другой палач, может быть, вина моя стала бы еще более
гласной... Но прежде, чем я это сделаю, я хочу, убивая себя, убить и увлечь
с собой и того, чья смерть может вполне удовлетворить жажду мести, к которой
я стремлюсь и на которую надеюсь, считая ее -- где бы она ни была выполнена
-- за кару, обрушенную беспристрастным и неподкупным правосудием на того,
кто довел меня до столь отчаянного шага.
И, говоря эти слова, она с неимоверной силой и быстротой бросилась на
Лотарио с обнаженным кинжалом с таким, казалось, пылким желанием вонзить ему
в грудь этот кинжал, что даже у него самого явилось сомнение, притворно ли
это с ее стороны или нет, и он был вынужден пустить в ход всю свою силу и
ловкость, чтобы помешать Камилле ранить его. Она сумела так живо разыграть
этот странный подлог и обман, что, желая придать ему окраску истины,
вздумала оттенить его собственною своею кровью, так как, увидав, что ей
нельзя, или притворяясь, что ей нельзя нанести удар Лотарио, она
воскликнула:
-- Если судьбе не угодно полностью удовлетворить мое справедливое
желание, по крайней мере она не настолько могущественна, чтоб помешать мне
удовлетворить его хоть отчасти.
И, сделав усилие, чтоб вырвать из рук Лотарио кинжал, который он крепко
держал, она замахнулась им и, направив острие его себе в такое место, где
нельзя было нанести глубокой раны, слегка вонзила его повыше левой ключицы,
близ плеча, и тотчас же упала на пол, как бы лишившись чувств.
Лотарио и Леонела были донельзя удивлены и смущенны этим происшествием,
все еще сомневаясь в истине его. Увидя Камиллу, лежавшую на полу и
обливающуюся кровью, Лотарио кинулся к ней, испуганный, тяжело дыша, чтобы
выдернуть кинжал, но когда он увидел, до чего незначительна ранка, страх его
исчез и он опять изумился уму, хладнокровию и ловкости прекрасной Камиллы.
Чтобы, со своей стороны, достойно разыграть роль, приходившуюся на его долю,
он разразился продолжительным и полным скорби сетованием над телом Камиллы,
точно она была уже мертвая, осыпая проклятиями не только самого себя, но и
того, кто был причиной всего случившегося. Зная, что его слушает его друг
Ансельмо, он говорил такие вещи, что всякий, слышавший их, больше пожалел бы
о нем, чем даже о Камилле, хотя бы и считал ее мертвой. Леонела подняла
Камиллу и положила на кровать, умоляя Лотарио пойти привести кого-нибудь,
кто бы мог тайно лечить ее; а также она спросила совета и мнения его, что
сказать Ансельмо об этой ране ее госпожи, если б он случайно вернулся
прежде, чем она вылечится. Лотарио ответил, пусть говорят что хотят, так как
он теперь не в состоянии дать какой-либо полезный совет. Он только велел ей
поскорее остановить кровь, потому что сам он решил уйти туда, где люди
больше не увидят его. С видом величайшего огорчения и волнения вышел он из
дому и, очутившись один, вдали от всяких взоров, не переставал креститься,
изумляясь искусству Камиллы и ловкости Леонелы. Он подумал, до чего, должно
быть, теперь Ансельмо уверен в том, что его жена вторая Порция {Действующее
лицо в драме Шекспира "Венецианский купец".}, и ему хотелось поскорее с ним
увидеться, чтобы вместе отпраздновать обман и истину, так искусно
переплетенные вместе, что этого нельзя было бы лучше вообразить себе.
Леонела, как сказано, остановила своей сеньоре кровь, которой оказалось
не больше, чем требовалось, чтобы придать ее обману правдоподобный вид, и,
обмыв вином рану, она перевязала ее, как сумела, говоря такие речи, пока она
перевязывала ее, что если б им не предшествовали другие, они одни могли бы
убедить Ансельмо в том, что его Камилла -- образец целомудрия. К словам
Леонелы присоединились и слова Камиллы, называвшей себя трусливой и
малодушной, потому что у нее не хватило мужества как раз в то время, когда
мужество ей было наиболее необходимо, чтобы лишить себя жизни, ставшей ей
столь ненавистной. Она спросила у своей прислужницы совета, говорить ей или
нет обо всем случившемся дорогому своему супругу, но та посоветовала лучше
не говорить ему, так как, сделав это, она поставит его в необходимость
отомстить Лотарио, а отомстить ему нельзя иначе, как подвергая и себя
опасности, а хорошая жена не должна давать своему мужу повода для ссор,
напротив, она должна их предупреждать, сколько возможно. Камилла ответила,
что совет Леонелы кажется ей очень благоразумным и она ему последует; но во
всяком случае надо придумать, что сказать Ансельмо относительно этой раны,
которую он непременно увидит; на это Леонела отозвалась, что она даже и в
шутку не умеет лгать.
-- А я-то, сестра, -- ответила Камилла, -- разве я сумею? Никогда я не
решусь ни сочинить, ни поддержать ложь, хотя бы это стоило мне жизни. Если
же мы не в силах выпутаться из этого дела, не лучше ли нам сказать голую
правду, чем быть пойманными во лжи?
-- Не тревожься, сеньора, -- ответила Леонела, -- до завтра я подумаю,
что нам сказать, а, быть может, оттого что рана на таком месте, удастся
прикрыть ее так, чтобы Ансельмо не увидел ее, и авось благосклонное небо
окажет нам помощь в столь справедливых и честных наших желаниях. Успокойся,
сеньора моя, и постарайся прийти в себя, чтобы господин мой не застал тебя
столь взволнованной. Остальное же предоставь моим заботам и Господу Богу,
Который никогда не отказывает в своем покровительстве добрым намерениям.
Ансельмо слушал и смотрел с величайшим вниманием на представление
трагедии гибели его чести, -- трагедии, которую действующие в ней лица
разыгрывали со столь удивительной и искренней страстью, что казалось, они
действительно превратились в тех лиц, которыми они прикидывались. С
нетерпением ждал Ансельмо ночи, чтобы уйти из дому повидаться с добрым своим
другом Лотарио и вместе с ним порадоваться драгоценной жемчужине, найденной
им в столь ярко обнаружившейся верности его супруги. Две женщины постарались
доставить ему как можно скорее случай и возможность выйти из дому, и,
воспользовавшись этой возможностью, он тотчас же побежал к Лотарио и, застав
его, так горячо принялся обнимать его, наговорил ему столько о своем счастии
и осыпал Камиллу такими похвалами, что всего этого передать нельзя. Лотарио
слушал, но не был в состоянии выказать какие-либо признаки радости, потому
что не мог не вспомнить, как ужасно обманул своего друга и как несправедливо
оскорбил его. Хотя Ансельмо и видел, что Лотарио не радуется, но подумал,
верно, это происходит оттого, что Камилла ранена, и тому причиной был
Лотарио. Поэтому он между прочим сказал ему, чтоб он не огорчался
случившимся с Камиллой, так как ее рана, несомненно, очень легкая, потому
что госпожа и служанка сговорились скрыть ее от него, следовательно,
опасаться нечего, и пусть же он веселится и радуется вместе с ним, так как
благодаря помощи и рвению его он достиг величайшего счастия, какого лишь мог
себе желать, и решил отныне не иметь других развлечений, как только писание
хвалебных стихов в честь Камиллы, чтобы увековечить ее в памяти грядущих
веков. Лотарио похвалил его доброе намерение и сказал, что и он, со своей
стороны, поможет ему воздвигнуть столь великолепное здание. Таким образом
Ансельмо оказался столь отменно обманутым человеком, какой только мог быть в
мире. Он сам ввел за руку к себе в дом того, кого считал орудием своей
славы, между тем как он был похитителем его чести, -- а Камилла принимала
Лотарио с выражением неудовольствия на лице, но со смеющимся сердцем. Этот
обман длился еще некоторое время, пока по прошествии немногих месяцев колесо
судьбы не повернулось и злое дело, скрытое с таким искусством, не выступило
наружу, а Ансельмо пришлось заплатить жизнью за безрассудное свое
любопытство.

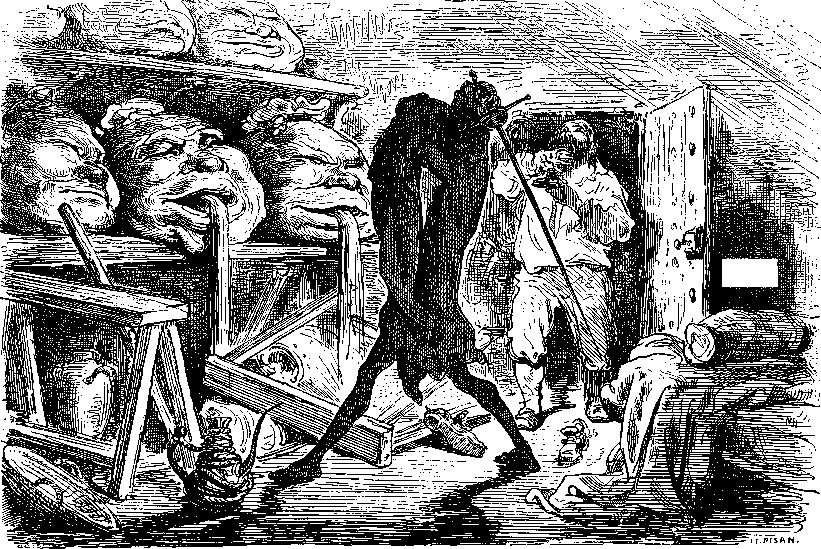 Оставалось дочитать еще немного в повести, как вдруг из каморки, в
которой покоился Дон Кихот, выбежал страшно оторопевший Санчо Панса и громко
закричал:
-- Скорей, сеньоры, бегите и помогите моему господину, вступившему в
самую сильную и ожесточенную битву, которую когда-либо видели мои глаза!
Клянусь Богом, он нанес такой удар мечом великану, врагу сеньоры принцессы
Микомиконы, что отрезал ему голову от туловища чисто-начисто, как репу.
-- Что вы говорите, брат, -- сказал священник, оставив недочитанным
конец повести, -- в уме ли вы, Санчо? Как могло случиться, черт возьми, то,
что вы говорите, когда великан отсюда за две тысячи миль?
Но в эту минуту они услышали сильный шум в комнате и крик Дон Кихота:
-- Стой, вор, злодей, трус! Теперь ты не уйдешь из моих рук, и твой
палаш не поможет тебе.
И казалось, Дон Кихот наносил сильные удары мечом в стену.
-- Незачем вам тут стоять и слушать, -- сказал Санчо, -- а надо скорей
идти и разнять дерущихся или же помочь моему господину, хотя теперь этого и
не требуется, так как, без всякого сомнения, великан уже лежит мертвый и
дает теперь отчет Богу за прожитую им и дурную его жизнь, потому что я
видел, как текла кровь по полу, а отрезанная голова, упавшая в сторону, была
величиной с большой бурдюк вина.
-- Пусть меня убьют, -- сказал тогда хозяин постоялого двора, -- если
Дон Кихот или дон Черт не проткнул один из бурдюков с красным вином, которые
стояли у изголовья его кровати, а разлитое вино, должно быть, показалось
кровью этому доброму человеку.
Тотчас же бросился он в комнату, а за ним и все остальные. Здесь они
увидели Дон Кихота в самом странном в мире наряде. На нем была одна лишь
рубашка не столь широкая спереди, чтобы вполне прикрыть ему бедра, сзади же
еще на шесть дюймов короче. Ноги его были длинные, худые, волосатые и не
весьма чистые; на голове виднелась красная грязная шапочка, принадлежавшая
хозяину двора. Вокруг левой руки было обвернуто одеяло, против которого
Санчо питал злобу, и он хорошо знал, почему {Это было то одеяло, в котором
подбрасывали Санчо вверх, как рассказано в главе XVII.}, а в правой руке он
держал обнаженные меч, которым наносил удары во все стороны, сопровождая их
восклицаниями как будто он и в самом деле сражался с каким-нибудь великаном.
Но лучше всего то, что глаза его были закрыты, так как он спал, и ему
снилось, что он вступил в битву с великаном. Его воображение было так упорно
устремлено на приключение, которое он собирался довести до конца, что ему
приснилось, будто он уже прибыл в королевство Микомикон и вступил в битву со
своим врагом; и он нанес столько ударов бурдюкам, в мыслях своих нанося их
великану, что вся комната была залита вином. Увидав это, хозяин двора пришел
в величайшую ярость бросился на Дон Кихота со сжатыми кулаками и начал так
его бить, что, если бы Карденио и священник не удержали его сражение с
великаном тут же бы окончилось. Тем не менее бедный рыцарь проснулся лишь
тогда, когда цирюльник принес из колодца большой котелок холодной воды и
окатил его сразу с головы до ног, а это хотя и разбудило Дон Кихота, но он
не очувствовался еще настолько, чтобы сообразить, в каком он виде. Заметив,
как он легко и скудно одет, Доротеа не захотела войти смотреть на битву
своего защитника с ее врагом. А Санчо между тем отыскивал голову великана по
всему полу и, не найдя ее, сказал:
-- Я уже знаю, что все в этом доме очаровано, потому что в прошлый раз
на этом самом месте, где я теперь стою, мне надавали множество пинков и
ударов, и я не знал, кто дает их мне, и никого не видел; теперь же не могу
найти головы, хотя и видел собственными глазами, как она была отрублена и
кровь текла из тела, точно из фонтана.
-- О какой крови и о каком фонтане говоришь ты, враг Бога и его святых?
-- воскликнул хозяин двора. -- Разве ты не видишь, вор, что эта кровь и этот
фонтан -- не что иное, как прорванные бурдюки и красное вино, затопившее
комнату? Желал бы я видеть плывущей в ад душу того, кто проткнул мои
бурдюки!
-- Ничего не знаю, -- ответил Санчо, -- знаю только: я буду так
несчастлив, если не найду этой головы, что мое графство растает, как соль в
воде.
И Санчо, бодрствующий, был хуже своего господина спящего, -- так сильно
овладели им обещания, данные ему Дон Кихотом. Хозяин двора пришел в ярость
при виде хладнокровия оруженосца и беды, натворенной его господином, и
клялся: не быть уже тому, что случилось в прошлый раз, когда они уехали,
ничего не заплатив; теперь никакие привилегии их рыцарства не избавят их от
уплаты за все, что они должны, и даже за то, что могут стоить пластыри,
которые придется наложить на прорванные бурдюки. Священник держал за руки
Дон Кихота, который, думая, что он уже завершил взятое им на себя дело и
находится в присутствии принцессы Микомиконы, опустился на колени перед
священником и сказал:
-- Ваше величество высокородная и достойная прославления сеньора,
отныне и впредь вы можете жить в полной безопасности, так как презренное это
существо уже не в состоянии нанести вам какого-либо зла; и я также с
сегодняшнего дня освободился от данного вам слова, потому что с помощию
всевышнего Бога и благодаря поддержке той, которою я живу и дышу, мне
удалось так хорошо исполнить свое обещание.
-- Не говорил ли и я то же самое? -- сказал Санчо, услыхав это. -- Ведь
я же не был пьян; посмотрите, не посолил ли уже впрок мой господин великана;
с быками все благополучно {Ciertosson los toros -- выражение, взятое из
corrida, т. е. боя быков; оно должно означать "сомневаться нечего", "дело
верное".}, и мое графство не уйдет от меня.
Кто мог бы удержаться от смеха при виде безумия обоих -- и господина и
слуги? Все смеялись, исключая хозяина двора, который посылал себя к черту.
Наконец цирюльник, Карденио и священник с немалым трудом добились того, что
уложили в постель Дон Кихота, а он тотчас и заснул с признаками величайшего
утомления. Они оставили его спать и вышли к дверям постоялого двора утешать
Санчо Пансу в том, что он не нашел головы великана, хотя еще большего труда
стоило им успокоить хозяина двора, который был в отчаянии от внезапной
гибели своих бурдюков, а хозяйка громко вопила:
-- В несчастную минуту и в недобрый час явился ко мне в дом этот
странствующий рыцарь. Желала бы я, чтобы никогда мои глаза не видели его,
который так дорого обошелся мне! В прошлый раз он уехал, не заплатив за
ночлег и ужин для него и для оруженосца, за солому и ячмень для лошади и для
осла, говоря, что он рыцарь -- искатель приключений, -- да пошлет бог
злоключения ему и всем искателям приключений, сколько бы их ни было на
свете! -- и он не обязан платить за что бы то ни было, так, будто бы, это
написано в правилах странствующего рыцарства. А теперь из-за него пришел вот
тот сеньор, унес у меня мой хвост и возвратил мне его общипанным, с убытком
больше чем на полреала, так как он уже не может служить для того, для чего
предназначает его мой муж; в заключение и дополнение всего у меня протыкают
бурдюки и проливают мое вино, хоть бы видеть мне пролитой его кровь! Но
пусть он себе не воображает -- клянусь прахом моего отца и душой моей
матери, -- на этот раз они заплатят мне все до последнего гроша, или же меня
не будут звать, как меня зовут, и я не буду дочерью того, чья я дочь.
Эти и тому подобные причитания хозяйка двора выкрикивала в величайшем
гневе, причем ей вторила добрая ее служанка Мариторнес. Хозяйская же дочь
молчала и только время от времени улыбалась. Священник водворил спокойствие,
обещав хозяевам уплатить, насколько может, за все их убытки, и за бурдюки, и
за вино, и в особенности за повреждение хвоста, который они так высоко
ценят. Доротеа утешила Санчо Пансу, сказав: лишь только подтвердится, что
его господин действительно отрубил голову великану, она, вступив в мирное
владение своим королевством, обещает дать ему лучшее из графств в ее
государстве. Санчо утешился этим и уговаривал принцессу не сомневаться в
том, что он действительно видел голову великана, и как дальнейшее
доказательство привел еще, что борода у него доходила до пояса; а если не
находят голову, то потому только, что все, совершающееся в этом доме,
происходит путем волшебства, как он в этом убедился прошлый раз, когда
останавливался здесь. Доротеа ответила, что и она так думает и пусть он не
тревожится, потому что все пойдет хорошо и устроится к полному его
удовольствию.
Когда все успокоились, священник пожелал дочитать повесть, так как он
видел, что там осталось немного. Карденио, Доротеа и все остальные просили
его докончить; и, чтобы доставить удовольствие им всем, а также и самому
себе, он продолжал читать рассказ, в котором говорилось следующее.
Вполне убедившись в добродетели Камиллы, Ансельмо с того времени повел
беззаботную и счастливую жизнь. Камилла намеренно встречала Лотарио с
суровым лицом, чтобы Ансельмо думал о ее чувстве к Лотарио противоположное
тому, что было в действительности, и, желая еще больше подкрепить его в этом
мнении, Лотарио просил разрешения не бывать у него в доме, так как
неудовольствие, доставляемое Камилле его посещениями, чересчур очевидно. Но
обманутый Ансельмо настоял, чтобы друг его не делал этого, и таким образом
он на тысячи ладов являлся творцом собственного своего бесчестия, воображая
при этом, что он создал свое счастие. Между тем нахальство Леонелы,
видевшей, что никто не мешает ее связи, выросло до того, что она, не обращая
ни на что внимания, дала полную волю своей страсти, уверенная, что ее
сеньора не только покроет ее, а даже и укажет ей средство, как с наибольшею
безопасностью приводить в исполнение ее любовные затеи. Наконец однажды
ночью Ансельмо услышал шаги в комнате Леонелы, и, когда он захотел войти,
чтобы посмотреть, кто там ходит, он почувствовал, что дверь держат; это
обстоятельство еще более усилило его решимость открыть дверь, и он так
сильно налег на нее, что она распахнулась, и в ту минуту, когда он вошел, он
увидел, что какой-то человек выпрыгнул из окна на улицу. Бросившись поспешно
за ним, чтобы настичь его или узнать, кто он такой, Ансельмо не мог сделать
ни того, ни другого, потому что Леонела ухватилась за него, говоря:
-- Успокойся, сеньор, не сердись и не преследуй того, кто выпрыгнул из
окна: это дело касается меня и даже очень близко, потому что это мой супруг.
Ансельмо не поверил ей и, ослепленный гневом, выхватил кинжал, угрожая
им Леонеле и требуя, чтобы она сказала ему всю истину, а если нет -- он
убьет ее. В страхе, сама не зная, что она говорит, Леонела воскликнула:
-- Не убивай меня, сеньор, я сообщу тебе вещи столь важные, что ты не
можешь и вообразить их себе.
-- Говори сейчас же, -- сказал Ансельмо, -- а нет, -- готовься умереть.
-- Сейчас мне это невозможно, -- ответила Леонела, -- я слишком
смущена; оставь меня до завтра: тогда ты услышишь от меня такие новости,
которые изумят тебя; и не сомневайся, что тот, кто выпрыгнул из окна, --
молодой человек здешнего города, давший мне слово жениться на мне.
Эти уверения успокоили Ансельмо, и он согласился ждать до срока, о
котором просила его Леонела, так как ему и в голову не приходило, что он
может услышать дурное о Камилле, будучи уверен и убежден в ее добродетели.
Итак, он вышел из комнаты и запер в ней Леонелу, говоря ей, что не выпустит
ее оттуда до тех пор, пока она не скажет ему все, что обещала сказать.
Тотчас же отправился он к Камилле, сообщить ей -- как он это и сделал -- все
то, что случилось с ее девушкой, и обещание, данное ею, рассказать ему
какие-то необычайно важные вещи. Смутилась ли Камилла или нет,-- говорить об
этом незачем; страх и ужас, охватившие ее, были так велики, что она,
уверенная (и не без основания) в том, что Леонела расскажет Ансельмо все, ей
известное об ее измене, не имела мужества выждать, окажется ли ее подозрение
верным или нет, и в ту же ночь -- лишь только увидела, что Ансельмо
заснул,-- собрала лучшие драгоценности, бывшие у нее, а также немного денег,
и никем не замеченная, ушла из дому и отправилась к Лотарио, которому
рассказала все, что случилось, умоляя его или укрыть ее в безопасном месте,
или же бежать с нею вдвоем туда, где бы гнев Ансельмо не мог их настигнуть.
Замешательство, в которое Камилла привела Лотарио, было так велико, что он
не мог ответить ей ни слова и еще менее сообразить, на что ему решиться.
Наконец он предложил Камилле отвезти ее в монастырь, в котором сестра его
была игуменьей. Камилла согласилась, и с поспешностью, требуемой
обстоятельствами, Лотарио отвез ее туда и оставил в монастыре, сам же тотчас
же покинул город, не сообщив никому о своем отъезде.
Когда рассвело, Ансельмо, не заметив, что Камиллы нет около него,
побуждаемый желанием узнать, что ему скажет Леонела, встал и пошел туда, где
он ее запер. Открыв дверь, он вошел в комнату, но уже не нашел в ней
Леонелы, а увидел за окном лишь несколько связанных вместе простынь --
доказательство и знак того, что она спустилась по ним из окна и убежала.
Тотчас же он, сильно раздосадованный, вернулся сообщить об этом Камилле, но,
не найдя ее ни в постели, ни во всем доме, был страшно поражен. Он спросил о
ней домашнюю прислугу, однако никто не мог сообщить ему что-либо на его
расспросы. Случайно, в то время как он искал Камиллу, он увидел, что сундуки
ее раскрыты и там не хватает большей части ее драгоценностей. Тут он
окончательно понял свое несчастие и что не Леонела была тому причиной; и
тогда он, так и не кончив одеваться, печальный и задумчивый, поспешил к
другу своему Лотарио, чтобы сообщить ему о своем несчастии. Но когда он его
не застал, а прислуга сказала ему, что Лотарио в эту ночь скрылся из дому,
взяв с собой все свои деньги, он чуть не сошел с ума. В довершение всего,
когда он вернулся домой, он не нашел здесь никого из всех своих слуг и
служанок, дом его стоял пустой и покинутый. Он не знал, что думать, что
говорить, что делать, и мало-помалу ум у него стал мутиться. Размышляя, он
увидел себя, лишенного в одно мгновение жены, друга и слуг, покинутого, как
ему казалось, небом, расстилавшимся над ним, а главное, лишенного чести,
потому что в бегстве Камиллы он видел свою гибель. Наконец долгое время
спустя он решил ехать в деревню к приятелю, у которого он жил, когда сам
подал тот повод, от которого и возникло все его несчастие. Заперев двери
своего дома, он сел верхом на лошадь и со стесненным сердцем пустился в
путь; но едва проехал полдороги, как, подавленный своими мыслями, он был
вынужден сойти с лошади и привязав ее к дереву, упал у ствола его на землю,
испуская горькие и жалобные стоны. Здесь он пролежал почти до наступления
ночи, когда увидел человека, едущего верхом из города. Поклонившись ему, он
спросил: какие новости во Флоренции? Горожанин ответил:
-- Самые что ни на есть странные, каких уже давно не было слышно,
потому что везде рассказывают, будто Лотарио, -- этот столь преданный друг
Ансельмо-богатого, который жил близ Сан-Хуана, -- увез этою ночью Камиллу,
жену Ансельмо, и сам Ансельмо тоже исчез. Все это узнали от горничной
Камиллы, задержанной сегодня ночью по приказанию губернатора, когда она
спускалась на простынях из окна в доме Ансельмо. Не могу вам в точности
передать, как все это случилось, знаю только, что весь город поражен этим
событием, потому что никто не мог ожидать подобного поступка от столь нежной
и задушевной дружбы этих двух молодых людей, -- дружбы, бывшей, как говорят,
такой необычайной, что Лотарио и Ансельмо не звали иначе, как только два
друга.
-- Знают ли, быть может -- спросил Ансельмо, -- по какой дороге бежали
Камилла и Лотарио?
-- Ничего не знают, -- ответил горожанин, -- хотя губернатор и принял
все меры, чтобы разыскать их.
-- Поезжайте с богом, сеньор, -- пожелал Ансельмо.
-- Оставайтесь с ним, -- ответил горожанин и поехал своей дорогой.
Эти ужасные новости довели Ансельмо до такого состояния, что он не
только чуть не сошел с ума, ной едва не покончил с собой. Наконец он
поднялся с трудом и добрался до дому своего приятеля, который еще ничего не
знал о его несчастье. Но когда он увидел его, такого бледного, изможденного,
изменившегося в лице,-- он понял, что какое-то страшное горе угнетает его.
Ансельмо пожелал тотчас же лечь в постель и попросил дать ему письменные
принадлежности. Так и сделали, оставив его в постели одного, потому что он
этого хотел, а также он желал, чтобы заперли двери. Когда он остался один,
мысль о его несчастии до того мучительно овладела всем его существом, что он
не устоял против своего горя и ясно понял: наступает конец его жизни. Итак,
он решил дать отчет о причине своей странной смерти и начал писать, но,
прежде чем он успел докончить изложение того, что хотел, дыхание его
прервалось, и он погиб жертвой горя, причиненного ему его безрассудным
любопытством. Когда хозяин дома увидел, что уже поздно, а Ансельмо все еще
никого не зовет, он решился войти к нему узнать, не сделалось ли ему хуже, и
нашел его лежащего ничком, -- одна половина тела в постели, а другая на
письменном столе, на котором находился также и открытый, исписанный лист
бумаги, а в руке он еще держал перо. Хозяин подошел к нему, окликнул его,
взял за руку, но, видя, что он не отвечает и уже холодный, понял, что он
умер. Изумленный и крайне огорченный, он позвал своих слуг, чтобы сообщить
им о несчастье, постигшем Ансельмо, и, наконец, он прочел бумагу, которая,
как он признал, была написана рукой Ансельмо, а в ней заключалось следующее:
"Глупое и безрассудное желание отняло у меня жизнь. Если известие о
моей смерти дойдет до слуха Камиллы, пусть она знает, что я простил ей,
потому что она не была обязана делать чудеса и я не должен был требовать от
нее, чтобы она их делала. А так как я сам виновник своего бесчестия, то нет
причин, чтобы..."
На этом месте обрывалось письмо Ансельмо, из чего можно было заключить,
что не успел он кончить своей фразы, как уже кончилась жизнь его. На
следующий день приятель Ансельмо уведомил о его смерти родственников его,
которые уже знали о несчастье, случившемся с ним, и о том, в каком монастыре
скрывается Камилла. Она чуть было не последовала за своим супругом в этом
для всех неизбежном путешествии не вследствие известия о его смерти, а
вследствие того, что она узнала о своем отсутствующем друге. Говорят, что
хотя она и овдовела, но не хотела покинуть монастырь, а еще менее --
постричься в монахини, пока (спустя короткое время) не получила известия о
том, что Ло-тарио убит в сражении, данном маршалом Лотреком великому
капитану Гонса-ло Фернандесу Кордовскому в королевстве Неаполитанском, куда
отправился поздно раскаявшийся друг Ансельмо. Как только Камилла узнала об
этом, она
постриглась и вскоре затем рассталась с жизнью под жестоким гнетом
печали и горя. Таков был конец всех их, проистекший из столь безрассудного
начала.
-- Мне нравится эта повесть, -- сказал священник, -- но я не могу
убедить себя, чтоб это была правда; если же это вымысел, автор неудачно его
придумал, так как нельзя себе представить, чтобы нашелся столь глупый муж,
который захотел бы сделать такой опасный опыт, какой сделал Ансельмо. Гели
бы случай этот произошел между любовником и его дамой, -- это можно было бы
еще допустить; но между мужем и женой, -- тут есть нечто едва ли возможное;
что же касается изложения рассказа, я его нахожу удовлетворительным.
Оставалось дочитать еще немного в повести, как вдруг из каморки, в
которой покоился Дон Кихот, выбежал страшно оторопевший Санчо Панса и громко
закричал:
-- Скорей, сеньоры, бегите и помогите моему господину, вступившему в
самую сильную и ожесточенную битву, которую когда-либо видели мои глаза!
Клянусь Богом, он нанес такой удар мечом великану, врагу сеньоры принцессы
Микомиконы, что отрезал ему голову от туловища чисто-начисто, как репу.
-- Что вы говорите, брат, -- сказал священник, оставив недочитанным
конец повести, -- в уме ли вы, Санчо? Как могло случиться, черт возьми, то,
что вы говорите, когда великан отсюда за две тысячи миль?
Но в эту минуту они услышали сильный шум в комнате и крик Дон Кихота:
-- Стой, вор, злодей, трус! Теперь ты не уйдешь из моих рук, и твой
палаш не поможет тебе.
И казалось, Дон Кихот наносил сильные удары мечом в стену.
-- Незачем вам тут стоять и слушать, -- сказал Санчо, -- а надо скорей
идти и разнять дерущихся или же помочь моему господину, хотя теперь этого и
не требуется, так как, без всякого сомнения, великан уже лежит мертвый и
дает теперь отчет Богу за прожитую им и дурную его жизнь, потому что я
видел, как текла кровь по полу, а отрезанная голова, упавшая в сторону, была
величиной с большой бурдюк вина.
-- Пусть меня убьют, -- сказал тогда хозяин постоялого двора, -- если
Дон Кихот или дон Черт не проткнул один из бурдюков с красным вином, которые
стояли у изголовья его кровати, а разлитое вино, должно быть, показалось
кровью этому доброму человеку.
Тотчас же бросился он в комнату, а за ним и все остальные. Здесь они
увидели Дон Кихота в самом странном в мире наряде. На нем была одна лишь
рубашка не столь широкая спереди, чтобы вполне прикрыть ему бедра, сзади же
еще на шесть дюймов короче. Ноги его были длинные, худые, волосатые и не
весьма чистые; на голове виднелась красная грязная шапочка, принадлежавшая
хозяину двора. Вокруг левой руки было обвернуто одеяло, против которого
Санчо питал злобу, и он хорошо знал, почему {Это было то одеяло, в котором
подбрасывали Санчо вверх, как рассказано в главе XVII.}, а в правой руке он
держал обнаженные меч, которым наносил удары во все стороны, сопровождая их
восклицаниями как будто он и в самом деле сражался с каким-нибудь великаном.
Но лучше всего то, что глаза его были закрыты, так как он спал, и ему
снилось, что он вступил в битву с великаном. Его воображение было так упорно
устремлено на приключение, которое он собирался довести до конца, что ему
приснилось, будто он уже прибыл в королевство Микомикон и вступил в битву со
своим врагом; и он нанес столько ударов бурдюкам, в мыслях своих нанося их
великану, что вся комната была залита вином. Увидав это, хозяин двора пришел
в величайшую ярость бросился на Дон Кихота со сжатыми кулаками и начал так
его бить, что, если бы Карденио и священник не удержали его сражение с
великаном тут же бы окончилось. Тем не менее бедный рыцарь проснулся лишь
тогда, когда цирюльник принес из колодца большой котелок холодной воды и
окатил его сразу с головы до ног, а это хотя и разбудило Дон Кихота, но он
не очувствовался еще настолько, чтобы сообразить, в каком он виде. Заметив,
как он легко и скудно одет, Доротеа не захотела войти смотреть на битву
своего защитника с ее врагом. А Санчо между тем отыскивал голову великана по
всему полу и, не найдя ее, сказал:
-- Я уже знаю, что все в этом доме очаровано, потому что в прошлый раз
на этом самом месте, где я теперь стою, мне надавали множество пинков и
ударов, и я не знал, кто дает их мне, и никого не видел; теперь же не могу
найти головы, хотя и видел собственными глазами, как она была отрублена и
кровь текла из тела, точно из фонтана.
-- О какой крови и о каком фонтане говоришь ты, враг Бога и его святых?
-- воскликнул хозяин двора. -- Разве ты не видишь, вор, что эта кровь и этот
фонтан -- не что иное, как прорванные бурдюки и красное вино, затопившее
комнату? Желал бы я видеть плывущей в ад душу того, кто проткнул мои
бурдюки!
-- Ничего не знаю, -- ответил Санчо, -- знаю только: я буду так
несчастлив, если не найду этой головы, что мое графство растает, как соль в
воде.
И Санчо, бодрствующий, был хуже своего господина спящего, -- так сильно
овладели им обещания, данные ему Дон Кихотом. Хозяин двора пришел в ярость
при виде хладнокровия оруженосца и беды, натворенной его господином, и
клялся: не быть уже тому, что случилось в прошлый раз, когда они уехали,
ничего не заплатив; теперь никакие привилегии их рыцарства не избавят их от
уплаты за все, что они должны, и даже за то, что могут стоить пластыри,
которые придется наложить на прорванные бурдюки. Священник держал за руки
Дон Кихота, который, думая, что он уже завершил взятое им на себя дело и
находится в присутствии принцессы Микомиконы, опустился на колени перед
священником и сказал:
-- Ваше величество высокородная и достойная прославления сеньора,
отныне и впредь вы можете жить в полной безопасности, так как презренное это
существо уже не в состоянии нанести вам какого-либо зла; и я также с
сегодняшнего дня освободился от данного вам слова, потому что с помощию
всевышнего Бога и благодаря поддержке той, которою я живу и дышу, мне
удалось так хорошо исполнить свое обещание.
-- Не говорил ли и я то же самое? -- сказал Санчо, услыхав это. -- Ведь
я же не был пьян; посмотрите, не посолил ли уже впрок мой господин великана;
с быками все благополучно {Ciertosson los toros -- выражение, взятое из
corrida, т. е. боя быков; оно должно означать "сомневаться нечего", "дело
верное".}, и мое графство не уйдет от меня.
Кто мог бы удержаться от смеха при виде безумия обоих -- и господина и
слуги? Все смеялись, исключая хозяина двора, который посылал себя к черту.
Наконец цирюльник, Карденио и священник с немалым трудом добились того, что
уложили в постель Дон Кихота, а он тотчас и заснул с признаками величайшего
утомления. Они оставили его спать и вышли к дверям постоялого двора утешать
Санчо Пансу в том, что он не нашел головы великана, хотя еще большего труда
стоило им успокоить хозяина двора, который был в отчаянии от внезапной
гибели своих бурдюков, а хозяйка громко вопила:
-- В несчастную минуту и в недобрый час явился ко мне в дом этот
странствующий рыцарь. Желала бы я, чтобы никогда мои глаза не видели его,
который так дорого обошелся мне! В прошлый раз он уехал, не заплатив за
ночлег и ужин для него и для оруженосца, за солому и ячмень для лошади и для
осла, говоря, что он рыцарь -- искатель приключений, -- да пошлет бог
злоключения ему и всем искателям приключений, сколько бы их ни было на
свете! -- и он не обязан платить за что бы то ни было, так, будто бы, это
написано в правилах странствующего рыцарства. А теперь из-за него пришел вот
тот сеньор, унес у меня мой хвост и возвратил мне его общипанным, с убытком
больше чем на полреала, так как он уже не может служить для того, для чего
предназначает его мой муж; в заключение и дополнение всего у меня протыкают
бурдюки и проливают мое вино, хоть бы видеть мне пролитой его кровь! Но
пусть он себе не воображает -- клянусь прахом моего отца и душой моей
матери, -- на этот раз они заплатят мне все до последнего гроша, или же меня
не будут звать, как меня зовут, и я не буду дочерью того, чья я дочь.
Эти и тому подобные причитания хозяйка двора выкрикивала в величайшем
гневе, причем ей вторила добрая ее служанка Мариторнес. Хозяйская же дочь
молчала и только время от времени улыбалась. Священник водворил спокойствие,
обещав хозяевам уплатить, насколько может, за все их убытки, и за бурдюки, и
за вино, и в особенности за повреждение хвоста, который они так высоко
ценят. Доротеа утешила Санчо Пансу, сказав: лишь только подтвердится, что
его господин действительно отрубил голову великану, она, вступив в мирное
владение своим королевством, обещает дать ему лучшее из графств в ее
государстве. Санчо утешился этим и уговаривал принцессу не сомневаться в
том, что он действительно видел голову великана, и как дальнейшее
доказательство привел еще, что борода у него доходила до пояса; а если не
находят голову, то потому только, что все, совершающееся в этом доме,
происходит путем волшебства, как он в этом убедился прошлый раз, когда
останавливался здесь. Доротеа ответила, что и она так думает и пусть он не
тревожится, потому что все пойдет хорошо и устроится к полному его
удовольствию.
Когда все успокоились, священник пожелал дочитать повесть, так как он
видел, что там осталось немного. Карденио, Доротеа и все остальные просили
его докончить; и, чтобы доставить удовольствие им всем, а также и самому
себе, он продолжал читать рассказ, в котором говорилось следующее.
Вполне убедившись в добродетели Камиллы, Ансельмо с того времени повел
беззаботную и счастливую жизнь. Камилла намеренно встречала Лотарио с
суровым лицом, чтобы Ансельмо думал о ее чувстве к Лотарио противоположное
тому, что было в действительности, и, желая еще больше подкрепить его в этом
мнении, Лотарио просил разрешения не бывать у него в доме, так как
неудовольствие, доставляемое Камилле его посещениями, чересчур очевидно. Но
обманутый Ансельмо настоял, чтобы друг его не делал этого, и таким образом
он на тысячи ладов являлся творцом собственного своего бесчестия, воображая
при этом, что он создал свое счастие. Между тем нахальство Леонелы,
видевшей, что никто не мешает ее связи, выросло до того, что она, не обращая
ни на что внимания, дала полную волю своей страсти, уверенная, что ее
сеньора не только покроет ее, а даже и укажет ей средство, как с наибольшею
безопасностью приводить в исполнение ее любовные затеи. Наконец однажды
ночью Ансельмо услышал шаги в комнате Леонелы, и, когда он захотел войти,
чтобы посмотреть, кто там ходит, он почувствовал, что дверь держат; это
обстоятельство еще более усилило его решимость открыть дверь, и он так
сильно налег на нее, что она распахнулась, и в ту минуту, когда он вошел, он
увидел, что какой-то человек выпрыгнул из окна на улицу. Бросившись поспешно
за ним, чтобы настичь его или узнать, кто он такой, Ансельмо не мог сделать
ни того, ни другого, потому что Леонела ухватилась за него, говоря:
-- Успокойся, сеньор, не сердись и не преследуй того, кто выпрыгнул из
окна: это дело касается меня и даже очень близко, потому что это мой супруг.
Ансельмо не поверил ей и, ослепленный гневом, выхватил кинжал, угрожая
им Леонеле и требуя, чтобы она сказала ему всю истину, а если нет -- он
убьет ее. В страхе, сама не зная, что она говорит, Леонела воскликнула:
-- Не убивай меня, сеньор, я сообщу тебе вещи столь важные, что ты не
можешь и вообразить их себе.
-- Говори сейчас же, -- сказал Ансельмо, -- а нет, -- готовься умереть.
-- Сейчас мне это невозможно, -- ответила Леонела, -- я слишком
смущена; оставь меня до завтра: тогда ты услышишь от меня такие новости,
которые изумят тебя; и не сомневайся, что тот, кто выпрыгнул из окна, --
молодой человек здешнего города, давший мне слово жениться на мне.
Эти уверения успокоили Ансельмо, и он согласился ждать до срока, о
котором просила его Леонела, так как ему и в голову не приходило, что он
может услышать дурное о Камилле, будучи уверен и убежден в ее добродетели.
Итак, он вышел из комнаты и запер в ней Леонелу, говоря ей, что не выпустит
ее оттуда до тех пор, пока она не скажет ему все, что обещала сказать.
Тотчас же отправился он к Камилле, сообщить ей -- как он это и сделал -- все
то, что случилось с ее девушкой, и обещание, данное ею, рассказать ему
какие-то необычайно важные вещи. Смутилась ли Камилла или нет,-- говорить об
этом незачем; страх и ужас, охватившие ее, были так велики, что она,
уверенная (и не без основания) в том, что Леонела расскажет Ансельмо все, ей
известное об ее измене, не имела мужества выждать, окажется ли ее подозрение
верным или нет, и в ту же ночь -- лишь только увидела, что Ансельмо
заснул,-- собрала лучшие драгоценности, бывшие у нее, а также немного денег,
и никем не замеченная, ушла из дому и отправилась к Лотарио, которому
рассказала все, что случилось, умоляя его или укрыть ее в безопасном месте,
или же бежать с нею вдвоем туда, где бы гнев Ансельмо не мог их настигнуть.
Замешательство, в которое Камилла привела Лотарио, было так велико, что он
не мог ответить ей ни слова и еще менее сообразить, на что ему решиться.
Наконец он предложил Камилле отвезти ее в монастырь, в котором сестра его
была игуменьей. Камилла согласилась, и с поспешностью, требуемой
обстоятельствами, Лотарио отвез ее туда и оставил в монастыре, сам же тотчас
же покинул город, не сообщив никому о своем отъезде.
Когда рассвело, Ансельмо, не заметив, что Камиллы нет около него,
побуждаемый желанием узнать, что ему скажет Леонела, встал и пошел туда, где
он ее запер. Открыв дверь, он вошел в комнату, но уже не нашел в ней
Леонелы, а увидел за окном лишь несколько связанных вместе простынь --
доказательство и знак того, что она спустилась по ним из окна и убежала.
Тотчас же он, сильно раздосадованный, вернулся сообщить об этом Камилле, но,
не найдя ее ни в постели, ни во всем доме, был страшно поражен. Он спросил о
ней домашнюю прислугу, однако никто не мог сообщить ему что-либо на его
расспросы. Случайно, в то время как он искал Камиллу, он увидел, что сундуки
ее раскрыты и там не хватает большей части ее драгоценностей. Тут он
окончательно понял свое несчастие и что не Леонела была тому причиной; и
тогда он, так и не кончив одеваться, печальный и задумчивый, поспешил к
другу своему Лотарио, чтобы сообщить ему о своем несчастии. Но когда он его
не застал, а прислуга сказала ему, что Лотарио в эту ночь скрылся из дому,
взяв с собой все свои деньги, он чуть не сошел с ума. В довершение всего,
когда он вернулся домой, он не нашел здесь никого из всех своих слуг и
служанок, дом его стоял пустой и покинутый. Он не знал, что думать, что
говорить, что делать, и мало-помалу ум у него стал мутиться. Размышляя, он
увидел себя, лишенного в одно мгновение жены, друга и слуг, покинутого, как
ему казалось, небом, расстилавшимся над ним, а главное, лишенного чести,
потому что в бегстве Камиллы он видел свою гибель. Наконец долгое время
спустя он решил ехать в деревню к приятелю, у которого он жил, когда сам
подал тот повод, от которого и возникло все его несчастие. Заперев двери
своего дома, он сел верхом на лошадь и со стесненным сердцем пустился в
путь; но едва проехал полдороги, как, подавленный своими мыслями, он был
вынужден сойти с лошади и привязав ее к дереву, упал у ствола его на землю,
испуская горькие и жалобные стоны. Здесь он пролежал почти до наступления
ночи, когда увидел человека, едущего верхом из города. Поклонившись ему, он
спросил: какие новости во Флоренции? Горожанин ответил:
-- Самые что ни на есть странные, каких уже давно не было слышно,
потому что везде рассказывают, будто Лотарио, -- этот столь преданный друг
Ансельмо-богатого, который жил близ Сан-Хуана, -- увез этою ночью Камиллу,
жену Ансельмо, и сам Ансельмо тоже исчез. Все это узнали от горничной
Камиллы, задержанной сегодня ночью по приказанию губернатора, когда она
спускалась на простынях из окна в доме Ансельмо. Не могу вам в точности
передать, как все это случилось, знаю только, что весь город поражен этим
событием, потому что никто не мог ожидать подобного поступка от столь нежной
и задушевной дружбы этих двух молодых людей, -- дружбы, бывшей, как говорят,
такой необычайной, что Лотарио и Ансельмо не звали иначе, как только два
друга.
-- Знают ли, быть может -- спросил Ансельмо, -- по какой дороге бежали
Камилла и Лотарио?
-- Ничего не знают, -- ответил горожанин, -- хотя губернатор и принял
все меры, чтобы разыскать их.
-- Поезжайте с богом, сеньор, -- пожелал Ансельмо.
-- Оставайтесь с ним, -- ответил горожанин и поехал своей дорогой.
Эти ужасные новости довели Ансельмо до такого состояния, что он не
только чуть не сошел с ума, ной едва не покончил с собой. Наконец он
поднялся с трудом и добрался до дому своего приятеля, который еще ничего не
знал о его несчастье. Но когда он увидел его, такого бледного, изможденного,
изменившегося в лице,-- он понял, что какое-то страшное горе угнетает его.
Ансельмо пожелал тотчас же лечь в постель и попросил дать ему письменные
принадлежности. Так и сделали, оставив его в постели одного, потому что он
этого хотел, а также он желал, чтобы заперли двери. Когда он остался один,
мысль о его несчастии до того мучительно овладела всем его существом, что он
не устоял против своего горя и ясно понял: наступает конец его жизни. Итак,
он решил дать отчет о причине своей странной смерти и начал писать, но,
прежде чем он успел докончить изложение того, что хотел, дыхание его
прервалось, и он погиб жертвой горя, причиненного ему его безрассудным
любопытством. Когда хозяин дома увидел, что уже поздно, а Ансельмо все еще
никого не зовет, он решился войти к нему узнать, не сделалось ли ему хуже, и
нашел его лежащего ничком, -- одна половина тела в постели, а другая на
письменном столе, на котором находился также и открытый, исписанный лист
бумаги, а в руке он еще держал перо. Хозяин подошел к нему, окликнул его,
взял за руку, но, видя, что он не отвечает и уже холодный, понял, что он
умер. Изумленный и крайне огорченный, он позвал своих слуг, чтобы сообщить
им о несчастье, постигшем Ансельмо, и, наконец, он прочел бумагу, которая,
как он признал, была написана рукой Ансельмо, а в ней заключалось следующее:
"Глупое и безрассудное желание отняло у меня жизнь. Если известие о
моей смерти дойдет до слуха Камиллы, пусть она знает, что я простил ей,
потому что она не была обязана делать чудеса и я не должен был требовать от
нее, чтобы она их делала. А так как я сам виновник своего бесчестия, то нет
причин, чтобы..."
На этом месте обрывалось письмо Ансельмо, из чего можно было заключить,
что не успел он кончить своей фразы, как уже кончилась жизнь его. На
следующий день приятель Ансельмо уведомил о его смерти родственников его,
которые уже знали о несчастье, случившемся с ним, и о том, в каком монастыре
скрывается Камилла. Она чуть было не последовала за своим супругом в этом
для всех неизбежном путешествии не вследствие известия о его смерти, а
вследствие того, что она узнала о своем отсутствующем друге. Говорят, что
хотя она и овдовела, но не хотела покинуть монастырь, а еще менее --
постричься в монахини, пока (спустя короткое время) не получила известия о
том, что Ло-тарио убит в сражении, данном маршалом Лотреком великому
капитану Гонса-ло Фернандесу Кордовскому в королевстве Неаполитанском, куда
отправился поздно раскаявшийся друг Ансельмо. Как только Камилла узнала об
этом, она
постриглась и вскоре затем рассталась с жизнью под жестоким гнетом
печали и горя. Таков был конец всех их, проистекший из столь безрассудного
начала.
-- Мне нравится эта повесть, -- сказал священник, -- но я не могу
убедить себя, чтоб это была правда; если же это вымысел, автор неудачно его
придумал, так как нельзя себе представить, чтобы нашелся столь глупый муж,
который захотел бы сделать такой опасный опыт, какой сделал Ансельмо. Гели
бы случай этот произошел между любовником и его дамой, -- это можно было бы
еще допустить; но между мужем и женой, -- тут есть нечто едва ли возможное;
что же касается изложения рассказа, я его нахожу удовлетворительным.

 В это время хозяин, стоявший у дверей постоялого двора, сказал:
-- Вот подъезжает компания отборных гостей; если они остановятся здесь,
gaudeamus tenemus {Будем радоваться (лат.).}.
-- Что это за люди? -- спросил Карденио.
-- Четверо верховых, -- ответил хозяин, -- и едут они на коротких
стременах, с копьями и щитами в руках, и все с черными масками на лицах {В
те времена, путешествуя, мужчины и женщины носили обыкновенно маски из
тонкой и шелковой материи для защиты лица от солнца, пыли и ветра.}, а среди
них -- женщина, вся в белом, на дамском седле, тоже с маской на лице, и еще
двое пеших слуг.
-- Они очень близко? -- спросил священник.
-- Так близко, -- ответил хозяин,-- что уже подъезжают.
Услыхав это, Доротеа закрыла себе лицо, а Карденио ушел в комнату Дон
Кихота, и едва они успели это сделать, как к постоялому двору подъехали те,
о которых говорил хозяин. Четверо всадников, с виду стройные и изящные,
спешились и подошли к даме, чтобы снять ее с седла; а один из них, взяв ее
на руки, посадил на стул, стоявший у входа в комнату Дон Кихота, куда
скрылся Карденио. Во все это время ни сеньора и никто из ее спутников не
сняли с себя масок и не произнесли ни слова; только, садясь на стул, женщина
испустила глубокий вздох и уронила руки, как больной и теряющий сознание
человек. Между тем слуги отвели лошадей в конюшню. Увидав это, священник,
желая знать, какие это явились люди в такой одежде и столь молчаливые, пошел
вслед за слугами и спросил одного из них о том, что ему хотелось знать.
Слуга ответил:
-- По чести, сеньор, я не сумею вам сказать, что это за люди. Знаю
только, что они, по-видимому, знатные сеньоры, и в особенности тот, который
снял с лошади даму. Говорю это потому, что все остальные относятся к нему с
уважением и делают все, что он желает и приказывает.
-- А сеньора? Кто она такая?-- спросил священник.
-- И этого не могу вам сказать,-- ответил слуга, -- потому что всю
дорогу я не видел ее лица; хотя слышал много раз, как глубоко она вздыхала и
издавала такие стоны, что казалось, с каждым из них она готова испустить
дух. Неудивительно, если мы не знаем больше того, что я сейчас вам сказал,
так как мой товарищ и я, мы не более двух дней сопровождаем этих господ:
когда мы встретили их по дороге, они попросили и уговорили нас идти с ними
до Андалу-зии, предложив хорошо нам заплатить.
-- Слышали ли вы, как зовут кого-нибудь из них? -- спросил священник.
-- Нет, не слышали, -- ответил слуга, -- так как все они едут столь
молчаливо, что это просто удивление, и раздаются только лишь вздохи и
всхлипывания бедной сеньоры, возбуждающие в нас жалость, и мы твердо
уверены, что куда бы ее ни везли, ее везут насильно. Насколько можно судить
по ее одежде, она монахиня или скоро сделается ею,-- последнее еще
вероятнее. Быть может, именно потому, что ей против воли приходится идти в
монастырь, она и едет такая грустная и печальная.
-- Все может быть, -- сказал священник и, оставив их, вернулся туда,
где была Доротеа, которая, услыхав, что
дама в маске вздыхает, движимая врожденным ей состраданием, подошла к
ней и сказала:
-- Что с вами, сеньора моя? Что болит у вас? Может быть, это нечто
такое, что женщины привыкли и умеют облегчать; в таком случае от всей души
предлагаю вам мои услуги.
На эти слова огорченная сеньора ответила молчанием и, хотя Доротеа еще
настойчивее возобновила предложение своих услуг, дама тем не менее
продолжала безмолвствовать, пока наконец замаскированный кабальеро -- тот, о
котором слуга говорил, что все остальные повинуются ему, -- не подошел и не
сказал Доротее:
-- Не трудитесь, сеньора, предлагать что бы то ни было этой женщине,
так как не в ее обычаях быть благодарной за то, что для нее делают, и не
старайтесь добиться от нее ответа, если не желаете услышать из ее уст
какую-нибудь ложь.
-- Никогда я не говорила лжи, -- воскликнула в это мгновение та,
которая до тех пор молчала, -- напротив, оттого что я всегда была правдива и
чужда лживых уверток, я и навлекла на себя столь великое мое не счастие.
Призываю вас самих свидетельствовать об этом, потому что именно моя
искренняя правдивость делает вас вероломным и лжецом.
Карденио ясно и отчетливо услышал эти слова, находясь вблизи той,
которая их произнесла, потому что его отделяла от нее лишь дверь комнаты Дон
Кихота, и, как только он услышал эти слова, он громко вскрикнул:
-- Помоги мне боже! Что я слышу? Чей голос дошел до моего слуха?
При этом восклицании сеньора в маске вздрогнула, повернула голову и, не
видя, кто говорит, встала, направляясь в соседнюю комнату. Но заметив этого,
ее спутник остановил ее и не дал ей сделать ни шагу. От волнения и
внезапного движения маска из тафты упала с ее лица и обнаружила изумительную
и необычайную красоту его, хотя оно было бледное и выражало испуг, так как,
словно что-то отыскивая, глаза ее обращались во все стороны с такою
стремительностью, которая придавала ей вид сумасшедшей. Эти проявления горя
вызвали у Доротеи и всех, кто смотрел на нее, величайшую к ней жалость, хотя
никто и не знал причины столь странного ее поведения. Ее спутник крепко
схватил ее за плечи и был так занят этим делом, что не мог удержать маску из
тафты, падавшую с его лица, и она действительно упала. Доротеа, обнимавшая
сеньору, увидела, подняв глаза, что тот, который тоже ее держит в своих
объятиях, был ее супруг -- дон Фернандо. Едва она узнала его, как из самой
глубины ее груди вырвался продолжительный и жалостный стон, она упала
навзничь, лишившись чувств, а если б около нее не оказался цирюльник,
подхвативший ее на руки, она грохнулась бы на пол. Тотчас же бросился к ней
священник и снял с нее вуаль, чтобы обрызгать ее водой, а лишь только он
открыл ей лицо, дон Фернандо -- потому что это он держал за плечи ту другую
-- узнал Доротею и словно обмер. Тем не менее он не выпустил из рук Люсинды,
которая старалась вырваться из его объятий, узнав по голосу Карденио, как и
он узнал ее по голосу. Услыхав стон Доротеи, когда она упала в обморок,
Карденио, думая, что это Люсинда, выбежал в испуге из комнаты Дон Кихота, и
первое, что он увидел, был дон Фернандо, державший в объятиях Люсинду Дон
Фернандо тотчас же узнал Карденио, и все трое -- Люсинда, Карденио и Доротеа
-- стояли в безмолвном изумлении, почти не понимая, что с ними случилось.
Все они молчали и смотрели друг на друга: Доротеа на дона Фернандо, дон
Фернандо на Карденио, Карденио на Люсинду, Люсинда на Карденио. Первая,
прервавшая общее молчание, была Люсинда, которая обратилась к дону Фернандо
со следующими словами:
-- Оставьте меня, сеньор дон Фернандо, хотя бы только из чувства
собственного достоинства, если не по другим причинам, и дайте мне прильнуть
к ограде, для которой я плющ, к опоре, от которой ни ваша докучливость, ни
угрозы, ни обещания, ни подарки не могли оторвать меня. Вы видите теперь,
какими неожиданными и для нас таинственными путями небо привело меня к моему
истинному супругу, и вам хорошо известно ценой тысячи тяжелых испытаний, что
только одна смерть в состоянии изгладить его из моей памяти. Пусть же столь
громогласное объяснение мое превратит (если вы ни на что другое не способны)
вашу любовь ко мне в бешенство и расположение ваше -- в гнев. Отнимите у
меня жизнь, так как, потеряв ее на глазах моего дорогого супруга, я буду
считать, что прожила недаром. Быть может, смерть моя убедит его в том, что я
сохранила ему верность до последнего трепетания жизни.
Между тем Доротеа очнулась от своего обморока и слышала все, что
говорила Люсинда, из слов которой она узнала, кто она такая.
Но, видя, что дон Фернандо не выпускает Люсинду из своих объятий и не
отвечает на ее просьбу, она собрала все свои силы, встала и, опустившись на
колени перед доном Фернандо, проливая ручьи горьких и очаровательных слез,
заговорила таким образом:
-- Если, сеньор мой, лучи этого омраченного солнца, которое ты держишь
в своих объятиях, не ослепили и не затмили твои глаза, ты увидел уже теперь,
что перед тобой на коленях стоит несчастная, пока тебе это будет угодно, и
горестная Доротеа. Я -- та смиренная крестьянка, которую ты по своей доброте
или же из прихоти захотел поднять на такую высоту, чтобы она могла назваться
твоей. Я та, которая, огражденная пределами невинности, вела счастливую
жизнь, пока на призыв твоего неотступного ухаживания и твоей, казалось,
искренней и сильной страсти не раскрыла дверей своего уединения и не
передала тебе ключей от своей свободы -- дар, принятый тобой со столь малой
признательностью, ясным доказательством чему служит то, что я была вынуждена
очутиться здесь, в этом месте, где тебе пришлось встретиться со мной, а мне
увидеть тебя в том положении, в каком я тебя вижу. Но тем не менее я не
желала бы, чтоб ты вообразил, будто я пришла сюда путем моего бесчестия, так
как привели меня сюда только горе и скорбь о том, что я забыта тобой. Ты
желал, чтоб я была твоей, и желал это так рьяно, что, если б теперь ты и
захотел, чтоб этого не было, невозможно тебе перестать быть моим. Прими во
внимание, сеньор мой, что безграничная любовь моя к тебе может служить
вознаграждением за красоту и знатность той, ради которой ты покинул меня. Ты
не можешь принадлежать Люсинде, потому что ты мой, и она не может быть
твоей, потому что она принадлежит Карденио. Тебе -- подумай о том --
окажется легче принудить себя полюбить ту, которая тебя боготворит, чем
заставить ту, которая тебя ненавидит, полюбить тебя. Ты воспользовался моею
опрометчивостью, ввел в искушение мою добродетель, мое происхождение было
небезызвестно тебе, и ты хорошо знаешь, как уступила я твоим желаниям; нет
ни причины, ни повода ссылаться тебе на какой-либо обман; и раз это так, как
оно и есть, и ты христианин и рыцарь, зачем же ты окольным путем стольких
уверток откладываешь довести до конца мое счастие, положив ему начало? И
если ты не хочешь, чтобы я была тем, что я есть, -- твоей истинной и
законной женой, -- по крайней мере, люби меня и возьми к себе рабыней; лишь
бы только быть в твоей власти -- и это я сочту за счастье и блаженство. Не
допускай, покинув и отказавшись от меня, чтоб на всех перекрестках говорили
и распространялись слухи о моем бесчестии; не уготовь такой печальной
старости моим родителям, -- это было бы плохой наградой за верную службу,
которую они, как добрые вассалы, всегда несли твоим родителям. И если тебе
кажется, что ты унизишь кровь свою, смешав ее с моею, подумай о том, как
мало или и вовсе нет знатных родов на свете, которые не шли бы тем же путем,
и не происхождение женщины принимается в рассечет в славных родах; тем более
что истинное благородство заключается в добродетели, и если ее не хватает у
тебя, раз ты отказываешь в том, что мне принадлежит по справедливости, у
меня окажется больше прав на благородство, чем у тебя. Наконец, сеньор,
скажу в заключение: желаешь ли ты или не желаешь, я твоя жена, свидетелями
чего слова твои, которые не должны и не могут быть лживы, если ты гордишься
тем, за что пренебрегаешь мною; свидетелями будут и подпись твоя, и небо,
которое ты сам призывал удостоверить данное тобою обещание. Но даже если б
все эти свидетели молчали, не молчала бы твоя совесть, голос которой, ни для
кого не слышный, раздавался бы громко среди веселий твоих, повторяя ту
истину, которую я сказала тебе, и нарушая лучшие твои удовольствия и
радости.
Эти и тому подобные доводы привела огорченная Доротеа с таким глубоким
чувством и с такими горькими слезами, что даже у спутников дона Фернандо,
как и у остальных присутствующих, навернулись слезы. Дон Фернандо слушал ее,
не отвечая ни слова, пока она не умолкла и не разразилась такими рыданиями и
вздохами, что нужно было бы иметь железное сердце, чтобы не тронуться
выражением такого горя. Люсинда смотрела на Доротею, чувствуя не менее
сострадания к ее несчастию, чем удивления ее умом и красотой. Ей хотелось
подойти к ней и сказать несколько слов утешения, но она не могла
освободиться из рук дона Фернандо, который все еще крепко держал ее. После
того как он довольно долго и пристально смотрел на Доротею, он, исполненный
смущения и раскаяния, раскрыл руки и, отпустив Люсинду, сказал:
-- Ты победила, прекрасная Доротеа, ты победила, так как невозможно,
чтобы у кого-нибудь хватило духа отрицать столько истин, подкрепляющих одна
другую!
В состоянии изнеможения, в котором находилась Люсинда, она чуть было не
упала, когда ее отпустил дон Фернандо, но Карденио, бывши вблизи, так как он
стоял за плечами дона Фернандо, чтобы тот не видел его, отбросив всякий
страх и готовый на всякую опасность, кинулся к Люсинде, чтобы поддержать ее,
и, приняв ее в свои объятия, сказал:
-- Если милосердному небу угодно и оно желает, чтобы ты нашла некоторое
успокоение, неизменная, верная и прекрасная сеньора моя, нигде, думается
мне, не найдешь ты его более надежным, чем в этих объятиях, которые теперь
раскрылись для тебя, как они раскрывались и в те дни, когда еще судьбе
угодно было, чтоб я мог называть тебя своей.
При этих словах Люсинда подняла глаза на Карденио и, начав с того, что
узнала его по голосу, теперь удостоверившись зрением, что это он, почти вне
себя и не обращая внимания ни на какие приличия, обвила руками его шею и,
прильнув лицом к его лицу, сказала:
-- Да, вы, сеньор мой, вы -- истинный повелитель этой вашей пленницы,
сколько бы враждебная судьба ни противодействовала тому, и сколько ни
обрушивалось бы угроз на эту жизнь, поддерживаемую только вашей жизнью.
Это было странное зрелище для дона Фернандо и для всех присутствующих,
изумленных столь непредвиденным происшествием. Доротее показалось, что дон
Фернандо побледнел и имеет намерение мстить Карденио, так как она видела,
что он сделал движение рукой, будто хочет взяться за рукоять меча. Лишь
только у нее мелькнула эта мысль, она с неимоверной быстротой обняла его
колени, целуя их и прижимаясь к ним так крепко, что он не мог двинуться, и,
не прерывая своих слез, сказала ему.
-- Что намерен ты делать при этом столь неожиданном событии, ты,
единственное мое убежище? У ног твоих твоя супруга, а та, которую ты желал
бы, чтобы она была ею, в объятиях своего мужа. Подумай, хорошо ли, или
возможно ли тебе разрушить то, что небо устроило, или приличествует ли тебе
желать возвысить до себя и поставить на одном уровне с собой ту, которая,
презрев всякие препятствия, полагаясь на свою правоту и постоянство, на
глазах у тебя орошает слезами любви лицо и грудь своего истинного супруга?
Прошу тебя ради Бога и умоляю ради собственного твоего достоинства, пусть
это заявление, сделанное во всеуслышание, не только не воспламенит твоего
гнева, а, напротив, так укротит его, что ты спокойно и мирно, без всякого
препятствия со своей стороны, дозволишь этим двум влюбленным наслаждаться
спокойствием и миром все время, пока небу будет угодно даровать их им. Этим
ты докажешь великодушие твоего возвышенного, благородного сердца, и свет
увидит, что над тобою имеет больше власти разум, чем страсти.
В это время хозяин, стоявший у дверей постоялого двора, сказал:
-- Вот подъезжает компания отборных гостей; если они остановятся здесь,
gaudeamus tenemus {Будем радоваться (лат.).}.
-- Что это за люди? -- спросил Карденио.
-- Четверо верховых, -- ответил хозяин, -- и едут они на коротких
стременах, с копьями и щитами в руках, и все с черными масками на лицах {В
те времена, путешествуя, мужчины и женщины носили обыкновенно маски из
тонкой и шелковой материи для защиты лица от солнца, пыли и ветра.}, а среди
них -- женщина, вся в белом, на дамском седле, тоже с маской на лице, и еще
двое пеших слуг.
-- Они очень близко? -- спросил священник.
-- Так близко, -- ответил хозяин,-- что уже подъезжают.
Услыхав это, Доротеа закрыла себе лицо, а Карденио ушел в комнату Дон
Кихота, и едва они успели это сделать, как к постоялому двору подъехали те,
о которых говорил хозяин. Четверо всадников, с виду стройные и изящные,
спешились и подошли к даме, чтобы снять ее с седла; а один из них, взяв ее
на руки, посадил на стул, стоявший у входа в комнату Дон Кихота, куда
скрылся Карденио. Во все это время ни сеньора и никто из ее спутников не
сняли с себя масок и не произнесли ни слова; только, садясь на стул, женщина
испустила глубокий вздох и уронила руки, как больной и теряющий сознание
человек. Между тем слуги отвели лошадей в конюшню. Увидав это, священник,
желая знать, какие это явились люди в такой одежде и столь молчаливые, пошел
вслед за слугами и спросил одного из них о том, что ему хотелось знать.
Слуга ответил:
-- По чести, сеньор, я не сумею вам сказать, что это за люди. Знаю
только, что они, по-видимому, знатные сеньоры, и в особенности тот, который
снял с лошади даму. Говорю это потому, что все остальные относятся к нему с
уважением и делают все, что он желает и приказывает.
-- А сеньора? Кто она такая?-- спросил священник.
-- И этого не могу вам сказать,-- ответил слуга, -- потому что всю
дорогу я не видел ее лица; хотя слышал много раз, как глубоко она вздыхала и
издавала такие стоны, что казалось, с каждым из них она готова испустить
дух. Неудивительно, если мы не знаем больше того, что я сейчас вам сказал,
так как мой товарищ и я, мы не более двух дней сопровождаем этих господ:
когда мы встретили их по дороге, они попросили и уговорили нас идти с ними
до Андалу-зии, предложив хорошо нам заплатить.
-- Слышали ли вы, как зовут кого-нибудь из них? -- спросил священник.
-- Нет, не слышали, -- ответил слуга, -- так как все они едут столь
молчаливо, что это просто удивление, и раздаются только лишь вздохи и
всхлипывания бедной сеньоры, возбуждающие в нас жалость, и мы твердо
уверены, что куда бы ее ни везли, ее везут насильно. Насколько можно судить
по ее одежде, она монахиня или скоро сделается ею,-- последнее еще
вероятнее. Быть может, именно потому, что ей против воли приходится идти в
монастырь, она и едет такая грустная и печальная.
-- Все может быть, -- сказал священник и, оставив их, вернулся туда,
где была Доротеа, которая, услыхав, что
дама в маске вздыхает, движимая врожденным ей состраданием, подошла к
ней и сказала:
-- Что с вами, сеньора моя? Что болит у вас? Может быть, это нечто
такое, что женщины привыкли и умеют облегчать; в таком случае от всей души
предлагаю вам мои услуги.
На эти слова огорченная сеньора ответила молчанием и, хотя Доротеа еще
настойчивее возобновила предложение своих услуг, дама тем не менее
продолжала безмолвствовать, пока наконец замаскированный кабальеро -- тот, о
котором слуга говорил, что все остальные повинуются ему, -- не подошел и не
сказал Доротее:
-- Не трудитесь, сеньора, предлагать что бы то ни было этой женщине,
так как не в ее обычаях быть благодарной за то, что для нее делают, и не
старайтесь добиться от нее ответа, если не желаете услышать из ее уст
какую-нибудь ложь.
-- Никогда я не говорила лжи, -- воскликнула в это мгновение та,
которая до тех пор молчала, -- напротив, оттого что я всегда была правдива и
чужда лживых уверток, я и навлекла на себя столь великое мое не счастие.
Призываю вас самих свидетельствовать об этом, потому что именно моя
искренняя правдивость делает вас вероломным и лжецом.
Карденио ясно и отчетливо услышал эти слова, находясь вблизи той,
которая их произнесла, потому что его отделяла от нее лишь дверь комнаты Дон
Кихота, и, как только он услышал эти слова, он громко вскрикнул:
-- Помоги мне боже! Что я слышу? Чей голос дошел до моего слуха?
При этом восклицании сеньора в маске вздрогнула, повернула голову и, не
видя, кто говорит, встала, направляясь в соседнюю комнату. Но заметив этого,
ее спутник остановил ее и не дал ей сделать ни шагу. От волнения и
внезапного движения маска из тафты упала с ее лица и обнаружила изумительную
и необычайную красоту его, хотя оно было бледное и выражало испуг, так как,
словно что-то отыскивая, глаза ее обращались во все стороны с такою
стремительностью, которая придавала ей вид сумасшедшей. Эти проявления горя
вызвали у Доротеи и всех, кто смотрел на нее, величайшую к ней жалость, хотя
никто и не знал причины столь странного ее поведения. Ее спутник крепко
схватил ее за плечи и был так занят этим делом, что не мог удержать маску из
тафты, падавшую с его лица, и она действительно упала. Доротеа, обнимавшая
сеньору, увидела, подняв глаза, что тот, который тоже ее держит в своих
объятиях, был ее супруг -- дон Фернандо. Едва она узнала его, как из самой
глубины ее груди вырвался продолжительный и жалостный стон, она упала
навзничь, лишившись чувств, а если б около нее не оказался цирюльник,
подхвативший ее на руки, она грохнулась бы на пол. Тотчас же бросился к ней
священник и снял с нее вуаль, чтобы обрызгать ее водой, а лишь только он
открыл ей лицо, дон Фернандо -- потому что это он держал за плечи ту другую
-- узнал Доротею и словно обмер. Тем не менее он не выпустил из рук Люсинды,
которая старалась вырваться из его объятий, узнав по голосу Карденио, как и
он узнал ее по голосу. Услыхав стон Доротеи, когда она упала в обморок,
Карденио, думая, что это Люсинда, выбежал в испуге из комнаты Дон Кихота, и
первое, что он увидел, был дон Фернандо, державший в объятиях Люсинду Дон
Фернандо тотчас же узнал Карденио, и все трое -- Люсинда, Карденио и Доротеа
-- стояли в безмолвном изумлении, почти не понимая, что с ними случилось.
Все они молчали и смотрели друг на друга: Доротеа на дона Фернандо, дон
Фернандо на Карденио, Карденио на Люсинду, Люсинда на Карденио. Первая,
прервавшая общее молчание, была Люсинда, которая обратилась к дону Фернандо
со следующими словами:
-- Оставьте меня, сеньор дон Фернандо, хотя бы только из чувства
собственного достоинства, если не по другим причинам, и дайте мне прильнуть
к ограде, для которой я плющ, к опоре, от которой ни ваша докучливость, ни
угрозы, ни обещания, ни подарки не могли оторвать меня. Вы видите теперь,
какими неожиданными и для нас таинственными путями небо привело меня к моему
истинному супругу, и вам хорошо известно ценой тысячи тяжелых испытаний, что
только одна смерть в состоянии изгладить его из моей памяти. Пусть же столь
громогласное объяснение мое превратит (если вы ни на что другое не способны)
вашу любовь ко мне в бешенство и расположение ваше -- в гнев. Отнимите у
меня жизнь, так как, потеряв ее на глазах моего дорогого супруга, я буду
считать, что прожила недаром. Быть может, смерть моя убедит его в том, что я
сохранила ему верность до последнего трепетания жизни.
Между тем Доротеа очнулась от своего обморока и слышала все, что
говорила Люсинда, из слов которой она узнала, кто она такая.
Но, видя, что дон Фернандо не выпускает Люсинду из своих объятий и не
отвечает на ее просьбу, она собрала все свои силы, встала и, опустившись на
колени перед доном Фернандо, проливая ручьи горьких и очаровательных слез,
заговорила таким образом:
-- Если, сеньор мой, лучи этого омраченного солнца, которое ты держишь
в своих объятиях, не ослепили и не затмили твои глаза, ты увидел уже теперь,
что перед тобой на коленях стоит несчастная, пока тебе это будет угодно, и
горестная Доротеа. Я -- та смиренная крестьянка, которую ты по своей доброте
или же из прихоти захотел поднять на такую высоту, чтобы она могла назваться
твоей. Я та, которая, огражденная пределами невинности, вела счастливую
жизнь, пока на призыв твоего неотступного ухаживания и твоей, казалось,
искренней и сильной страсти не раскрыла дверей своего уединения и не
передала тебе ключей от своей свободы -- дар, принятый тобой со столь малой
признательностью, ясным доказательством чему служит то, что я была вынуждена
очутиться здесь, в этом месте, где тебе пришлось встретиться со мной, а мне
увидеть тебя в том положении, в каком я тебя вижу. Но тем не менее я не
желала бы, чтоб ты вообразил, будто я пришла сюда путем моего бесчестия, так
как привели меня сюда только горе и скорбь о том, что я забыта тобой. Ты
желал, чтоб я была твоей, и желал это так рьяно, что, если б теперь ты и
захотел, чтоб этого не было, невозможно тебе перестать быть моим. Прими во
внимание, сеньор мой, что безграничная любовь моя к тебе может служить
вознаграждением за красоту и знатность той, ради которой ты покинул меня. Ты
не можешь принадлежать Люсинде, потому что ты мой, и она не может быть
твоей, потому что она принадлежит Карденио. Тебе -- подумай о том --
окажется легче принудить себя полюбить ту, которая тебя боготворит, чем
заставить ту, которая тебя ненавидит, полюбить тебя. Ты воспользовался моею
опрометчивостью, ввел в искушение мою добродетель, мое происхождение было
небезызвестно тебе, и ты хорошо знаешь, как уступила я твоим желаниям; нет
ни причины, ни повода ссылаться тебе на какой-либо обман; и раз это так, как
оно и есть, и ты христианин и рыцарь, зачем же ты окольным путем стольких
уверток откладываешь довести до конца мое счастие, положив ему начало? И
если ты не хочешь, чтобы я была тем, что я есть, -- твоей истинной и
законной женой, -- по крайней мере, люби меня и возьми к себе рабыней; лишь
бы только быть в твоей власти -- и это я сочту за счастье и блаженство. Не
допускай, покинув и отказавшись от меня, чтоб на всех перекрестках говорили
и распространялись слухи о моем бесчестии; не уготовь такой печальной
старости моим родителям, -- это было бы плохой наградой за верную службу,
которую они, как добрые вассалы, всегда несли твоим родителям. И если тебе
кажется, что ты унизишь кровь свою, смешав ее с моею, подумай о том, как
мало или и вовсе нет знатных родов на свете, которые не шли бы тем же путем,
и не происхождение женщины принимается в рассечет в славных родах; тем более
что истинное благородство заключается в добродетели, и если ее не хватает у
тебя, раз ты отказываешь в том, что мне принадлежит по справедливости, у
меня окажется больше прав на благородство, чем у тебя. Наконец, сеньор,
скажу в заключение: желаешь ли ты или не желаешь, я твоя жена, свидетелями
чего слова твои, которые не должны и не могут быть лживы, если ты гордишься
тем, за что пренебрегаешь мною; свидетелями будут и подпись твоя, и небо,
которое ты сам призывал удостоверить данное тобою обещание. Но даже если б
все эти свидетели молчали, не молчала бы твоя совесть, голос которой, ни для
кого не слышный, раздавался бы громко среди веселий твоих, повторяя ту
истину, которую я сказала тебе, и нарушая лучшие твои удовольствия и
радости.
Эти и тому подобные доводы привела огорченная Доротеа с таким глубоким
чувством и с такими горькими слезами, что даже у спутников дона Фернандо,
как и у остальных присутствующих, навернулись слезы. Дон Фернандо слушал ее,
не отвечая ни слова, пока она не умолкла и не разразилась такими рыданиями и
вздохами, что нужно было бы иметь железное сердце, чтобы не тронуться
выражением такого горя. Люсинда смотрела на Доротею, чувствуя не менее
сострадания к ее несчастию, чем удивления ее умом и красотой. Ей хотелось
подойти к ней и сказать несколько слов утешения, но она не могла
освободиться из рук дона Фернандо, который все еще крепко держал ее. После
того как он довольно долго и пристально смотрел на Доротею, он, исполненный
смущения и раскаяния, раскрыл руки и, отпустив Люсинду, сказал:
-- Ты победила, прекрасная Доротеа, ты победила, так как невозможно,
чтобы у кого-нибудь хватило духа отрицать столько истин, подкрепляющих одна
другую!
В состоянии изнеможения, в котором находилась Люсинда, она чуть было не
упала, когда ее отпустил дон Фернандо, но Карденио, бывши вблизи, так как он
стоял за плечами дона Фернандо, чтобы тот не видел его, отбросив всякий
страх и готовый на всякую опасность, кинулся к Люсинде, чтобы поддержать ее,
и, приняв ее в свои объятия, сказал:
-- Если милосердному небу угодно и оно желает, чтобы ты нашла некоторое
успокоение, неизменная, верная и прекрасная сеньора моя, нигде, думается
мне, не найдешь ты его более надежным, чем в этих объятиях, которые теперь
раскрылись для тебя, как они раскрывались и в те дни, когда еще судьбе
угодно было, чтоб я мог называть тебя своей.
При этих словах Люсинда подняла глаза на Карденио и, начав с того, что
узнала его по голосу, теперь удостоверившись зрением, что это он, почти вне
себя и не обращая внимания ни на какие приличия, обвила руками его шею и,
прильнув лицом к его лицу, сказала:
-- Да, вы, сеньор мой, вы -- истинный повелитель этой вашей пленницы,
сколько бы враждебная судьба ни противодействовала тому, и сколько ни
обрушивалось бы угроз на эту жизнь, поддерживаемую только вашей жизнью.
Это было странное зрелище для дона Фернандо и для всех присутствующих,
изумленных столь непредвиденным происшествием. Доротее показалось, что дон
Фернандо побледнел и имеет намерение мстить Карденио, так как она видела,
что он сделал движение рукой, будто хочет взяться за рукоять меча. Лишь
только у нее мелькнула эта мысль, она с неимоверной быстротой обняла его
колени, целуя их и прижимаясь к ним так крепко, что он не мог двинуться, и,
не прерывая своих слез, сказала ему.
-- Что намерен ты делать при этом столь неожиданном событии, ты,
единственное мое убежище? У ног твоих твоя супруга, а та, которую ты желал
бы, чтобы она была ею, в объятиях своего мужа. Подумай, хорошо ли, или
возможно ли тебе разрушить то, что небо устроило, или приличествует ли тебе
желать возвысить до себя и поставить на одном уровне с собой ту, которая,
презрев всякие препятствия, полагаясь на свою правоту и постоянство, на
глазах у тебя орошает слезами любви лицо и грудь своего истинного супруга?
Прошу тебя ради Бога и умоляю ради собственного твоего достоинства, пусть
это заявление, сделанное во всеуслышание, не только не воспламенит твоего
гнева, а, напротив, так укротит его, что ты спокойно и мирно, без всякого
препятствия со своей стороны, дозволишь этим двум влюбленным наслаждаться
спокойствием и миром все время, пока небу будет угодно даровать их им. Этим
ты докажешь великодушие твоего возвышенного, благородного сердца, и свет
увидит, что над тобою имеет больше власти разум, чем страсти.
 Пока Доротеа говорила это, Карде -- нио, хотя он и держал в своих
объятиях Люсинду, не спускал глаз с дона Фернандо, решив защищаться, если
увидит, что тот делает какое-либо угрожающее движение, и оказывать
сопротивление всем, кто бы ни напал на него, даже если бы это и стоило ему
жизни. Но в это время к дону Фернандо подошли его друзья, а также священник
и цирюльник, присутствовавшие при всем происходившем, не исключая и доброго
Санчо Пансу, и все они окружили дона Фернандо, умоляя его не оставить без
внимания слез Доротеи, и если то, что она говорила, -- правда -- в чем они
не сомневаются, -- не допустить, чтобы она обманулась в справедливых своих
надеждах. Пусть он подумает и о том, что не случайно -- как могло бы
казаться, -- а по особому предопределению неба все они встретились в таком
месте, где меньше всего можно было ожидать этого, и не упускал бы из виду,
добавил священник, что только смерть может разлучить Люсинду с Карденио и,
хотя бы их разлучило острие меча, они сочли бы свою смерть счастливой. В
непоправимых же случаях верх мудрости в том, чтобы, преодолевая и побеждая
самого себя, выказать великодушное сердце, дав по собственной доброй воле
двум этим влюбленным разрешение наслаждаться счастьем, которое небо уже
даровало им. Пусть вместе с тем он бросит взгляд также на красоту Доротеи и
увидит, что в этом отношении лишь очень немногие, или, вернее, ни одна
женщина в мире, не может сравниться с нею, а тем более превзойти ее, и что к
ее красоте присоединяется еще скромность и беспредельная любовь к нему. А
главное, пусть он вспомнит, если гордится тем, что он рыцарь и христианин:
он не может не сдержать данного им слова, -- а сдержав его, исполнит свой
долг перед лицом Бога и заслужит одобрение благомыслящих людей, которые
знают и хорошо понимают, что исключительное право красоты -- хотя бы ею была
одарена личность самого скромного происхождения, если только она соединена с
целомудрием, -- возвыситься до какого угодно звания и положения без
малейшего уничижения для того, кто ее возвысил до себя и уравнял с собою; и
если исполняются могущественные требования страсти, лишь бы в них не
замешался грех, -- нельзя обвинять того, кто им подчиняется.
Словом, они к этим доводам добавили еще и другие, и их было столько,
что мужественное сердце дона Фернандо, все же питавшееся благородной кровью,
смягчилось и признало победу над собой истины, которую он не мог отрицать,
хотя бы и желал. В доказательство того, что он сдался и уступил доброму
совету, с которым к нему обратились, он наклонился к Доротее и, поцеловав
ее, сказал:
-- Встаньте, сеньора моя, так как нехорошо, чтобы лежала у ног моих та,
которую я ношу в своем сердце, и если я до сих пор не дал доказательств
того, что говорю, быть может, это случилось по велению неба, чтобы, увидев
постоянство, с которым вы меня любите, я сумел ценить вас, как вы того
заслуживаете. Все, чего я у вас прошу, -- не укоряйте меня за мои дурные
поступки и мое пренебрежение к вам, потому что та же могучая сила и причина,
побудившая меня сделать вас своей, вынудила меня стараться не быть вашим. А
что это правда, -- обернитесь и взгляните в глаза теперь уже счастливой
Люсинды, и в них вы найдете извинение всех моих заблуждений. А так как она
нашла и достигла того, чего желала, и я нашел в вас исполнение моих желаний,
-- пусть она живет спокойная и довольная долгие и счастливые годы со своим
Карденио, как я буду молить небо дозволить мне прожить их с моей Доротеей.
С этими словами он опять поцеловал ее и прижался лицом к ее лицу с
такой искренней нежностью, что ему стоило большого труда сдержаться, чтобы
слезы не явились несомненным признаком его любви и раскаяния. Но Карденио и
Люсинда не сдержали своих слез, так же как этого не сделали и почти все
присутствовавшие, которые стали их проливать в таком изобилии, одни радуясь
своему счастью, другие -- чужому, что могло казаться, будто на них
обрушилось какое-нибудь великое и тяжелое горе. Даже и Санчо Панса -- и тот
плакал, хотя он потом и говорил, что заплакал, только убедившись, что
Доротеа не оказалась, как он это думал, королевой Микомикона, от которой он
ждал столько милостей. Еще некоторое время продолжалось вместе со слезами
общее изумление, и затем Карденио и Люсинда подошли к дону Фернандо,
опустились перед ним на колени и благодарили его за оказанную им милость в
таких утонченно любезных выражениях, что дон Фернандо не знал, что ответить
им; итак, он поднял их и поцеловал с большой учтивостью и нежностью. После
того он попросил Доротею рассказать ему, как она очутилась здесь, так далеко
от своего родительского дома. В коротких и удачно подобранных выражениях
сообщила она ему все то, что перед тем рассказала Карденио. Дону Фернандо и
его спутникам рассказ ее очень понравился, и они были бы готовы еще долго
слушать ее, так увлекательно умела Доротеа передать повесть своих страданий.
Когда же она кончила, дон Фернандо сообщил случившееся с ним после того, как
он нашел на груди Люсинды письмо, в котором она объявляла, что она жена
Карденио и не может быть его женой. Он сказал, что хотел тогда убить ее и
сделал бы это, если бы ее родители не удержали его, а затем он ушел из их
дома, смущенный и рассерженный, решив отомстить при более удобном случае. На
следующий день он узнал, что Люсинда исчезла из родительского дома и что
никому не известно, куда она бежала. Наконец через несколько месяцев дошли
до его сведения, что она находится в монастыре и желает остаться там всю
жизнь, если ей не удастся провести ее с Карденио. Как только он узнал об
этом, он сговорился с тремя кабальеросами и отправился с ними в монастырь,
где находилась Люсинда, но не захотел говорить с ней, опасаясь, что, если
узнают о его приезде, монастырь будут лучше охранять. Итак, дождавшись дня,
когда дверь в монастырь оказалась открытой, он поставил двух своих товарищей
сторожить у этих дверей, а с третьим вошел в монастырь, отыскивая Люсинду,
которую застал в монастырском коридоре разговаривающей с монахиней. Он
схватил ее, не дав ей времени сопротивляться, и отвел в такое место, где
можно было запастись всем необходимым, чтобы увезти ее дальше. Все это они
могли проделать в полной безопасности, потому что монастырь стоял в поле,
вдали от города. Рассказал он также, что Люсинда, лишь только увидела себя в
его власти, упала в обморок, а когда пришла в себя, только и делала, что
плакала, стонала, не произнося ни слова; и таким образом, сопровождаемые
молчанием и слезами, они добрались до этого постоялого двора, что означало
для него, как оказалось, добраться до небес, где все земные невзгоды
прекращаются и всем им наступает конец.
Пока Доротеа говорила это, Карде -- нио, хотя он и держал в своих
объятиях Люсинду, не спускал глаз с дона Фернандо, решив защищаться, если
увидит, что тот делает какое-либо угрожающее движение, и оказывать
сопротивление всем, кто бы ни напал на него, даже если бы это и стоило ему
жизни. Но в это время к дону Фернандо подошли его друзья, а также священник
и цирюльник, присутствовавшие при всем происходившем, не исключая и доброго
Санчо Пансу, и все они окружили дона Фернандо, умоляя его не оставить без
внимания слез Доротеи, и если то, что она говорила, -- правда -- в чем они
не сомневаются, -- не допустить, чтобы она обманулась в справедливых своих
надеждах. Пусть он подумает и о том, что не случайно -- как могло бы
казаться, -- а по особому предопределению неба все они встретились в таком
месте, где меньше всего можно было ожидать этого, и не упускал бы из виду,
добавил священник, что только смерть может разлучить Люсинду с Карденио и,
хотя бы их разлучило острие меча, они сочли бы свою смерть счастливой. В
непоправимых же случаях верх мудрости в том, чтобы, преодолевая и побеждая
самого себя, выказать великодушное сердце, дав по собственной доброй воле
двум этим влюбленным разрешение наслаждаться счастьем, которое небо уже
даровало им. Пусть вместе с тем он бросит взгляд также на красоту Доротеи и
увидит, что в этом отношении лишь очень немногие, или, вернее, ни одна
женщина в мире, не может сравниться с нею, а тем более превзойти ее, и что к
ее красоте присоединяется еще скромность и беспредельная любовь к нему. А
главное, пусть он вспомнит, если гордится тем, что он рыцарь и христианин:
он не может не сдержать данного им слова, -- а сдержав его, исполнит свой
долг перед лицом Бога и заслужит одобрение благомыслящих людей, которые
знают и хорошо понимают, что исключительное право красоты -- хотя бы ею была
одарена личность самого скромного происхождения, если только она соединена с
целомудрием, -- возвыситься до какого угодно звания и положения без
малейшего уничижения для того, кто ее возвысил до себя и уравнял с собою; и
если исполняются могущественные требования страсти, лишь бы в них не
замешался грех, -- нельзя обвинять того, кто им подчиняется.
Словом, они к этим доводам добавили еще и другие, и их было столько,
что мужественное сердце дона Фернандо, все же питавшееся благородной кровью,
смягчилось и признало победу над собой истины, которую он не мог отрицать,
хотя бы и желал. В доказательство того, что он сдался и уступил доброму
совету, с которым к нему обратились, он наклонился к Доротее и, поцеловав
ее, сказал:
-- Встаньте, сеньора моя, так как нехорошо, чтобы лежала у ног моих та,
которую я ношу в своем сердце, и если я до сих пор не дал доказательств
того, что говорю, быть может, это случилось по велению неба, чтобы, увидев
постоянство, с которым вы меня любите, я сумел ценить вас, как вы того
заслуживаете. Все, чего я у вас прошу, -- не укоряйте меня за мои дурные
поступки и мое пренебрежение к вам, потому что та же могучая сила и причина,
побудившая меня сделать вас своей, вынудила меня стараться не быть вашим. А
что это правда, -- обернитесь и взгляните в глаза теперь уже счастливой
Люсинды, и в них вы найдете извинение всех моих заблуждений. А так как она
нашла и достигла того, чего желала, и я нашел в вас исполнение моих желаний,
-- пусть она живет спокойная и довольная долгие и счастливые годы со своим
Карденио, как я буду молить небо дозволить мне прожить их с моей Доротеей.
С этими словами он опять поцеловал ее и прижался лицом к ее лицу с
такой искренней нежностью, что ему стоило большого труда сдержаться, чтобы
слезы не явились несомненным признаком его любви и раскаяния. Но Карденио и
Люсинда не сдержали своих слез, так же как этого не сделали и почти все
присутствовавшие, которые стали их проливать в таком изобилии, одни радуясь
своему счастью, другие -- чужому, что могло казаться, будто на них
обрушилось какое-нибудь великое и тяжелое горе. Даже и Санчо Панса -- и тот
плакал, хотя он потом и говорил, что заплакал, только убедившись, что
Доротеа не оказалась, как он это думал, королевой Микомикона, от которой он
ждал столько милостей. Еще некоторое время продолжалось вместе со слезами
общее изумление, и затем Карденио и Люсинда подошли к дону Фернандо,
опустились перед ним на колени и благодарили его за оказанную им милость в
таких утонченно любезных выражениях, что дон Фернандо не знал, что ответить
им; итак, он поднял их и поцеловал с большой учтивостью и нежностью. После
того он попросил Доротею рассказать ему, как она очутилась здесь, так далеко
от своего родительского дома. В коротких и удачно подобранных выражениях
сообщила она ему все то, что перед тем рассказала Карденио. Дону Фернандо и
его спутникам рассказ ее очень понравился, и они были бы готовы еще долго
слушать ее, так увлекательно умела Доротеа передать повесть своих страданий.
Когда же она кончила, дон Фернандо сообщил случившееся с ним после того, как
он нашел на груди Люсинды письмо, в котором она объявляла, что она жена
Карденио и не может быть его женой. Он сказал, что хотел тогда убить ее и
сделал бы это, если бы ее родители не удержали его, а затем он ушел из их
дома, смущенный и рассерженный, решив отомстить при более удобном случае. На
следующий день он узнал, что Люсинда исчезла из родительского дома и что
никому не известно, куда она бежала. Наконец через несколько месяцев дошли
до его сведения, что она находится в монастыре и желает остаться там всю
жизнь, если ей не удастся провести ее с Карденио. Как только он узнал об
этом, он сговорился с тремя кабальеросами и отправился с ними в монастырь,
где находилась Люсинда, но не захотел говорить с ней, опасаясь, что, если
узнают о его приезде, монастырь будут лучше охранять. Итак, дождавшись дня,
когда дверь в монастырь оказалась открытой, он поставил двух своих товарищей
сторожить у этих дверей, а с третьим вошел в монастырь, отыскивая Люсинду,
которую застал в монастырском коридоре разговаривающей с монахиней. Он
схватил ее, не дав ей времени сопротивляться, и отвел в такое место, где
можно было запастись всем необходимым, чтобы увезти ее дальше. Все это они
могли проделать в полной безопасности, потому что монастырь стоял в поле,
вдали от города. Рассказал он также, что Люсинда, лишь только увидела себя в
его власти, упала в обморок, а когда пришла в себя, только и делала, что
плакала, стонала, не произнося ни слова; и таким образом, сопровождаемые
молчанием и слезами, они добрались до этого постоялого двора, что означало
для него, как оказалось, добраться до небес, где все земные невзгоды
прекращаются и всем им наступает конец.

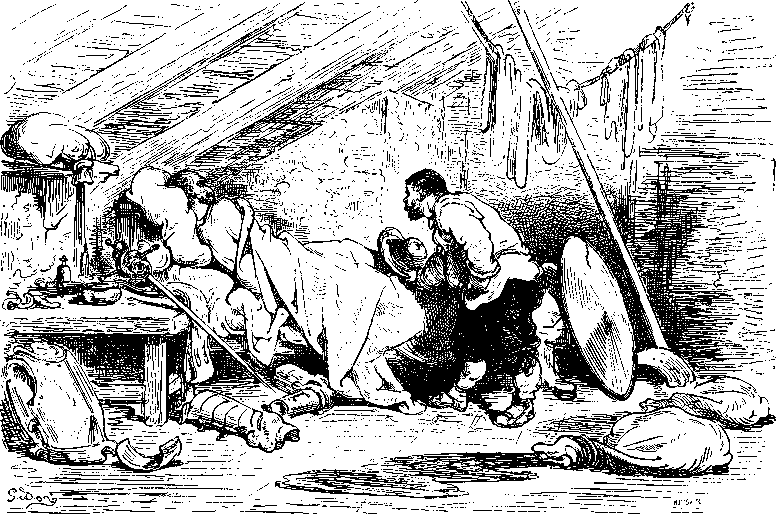 Все это слышал Санчо с немалой болью в душе, видя, что надежды его на
получение графского или иного почетного титула исчезают и обращаются в дым и
что прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, а великан -- в
дона Фернандо, в то время как его господин покоится сладким сном, совершенно
не заботясь о происходящем вокруг него. Доротеа все еще не могла поверить,
что выпавшее на ее долю счастье не приснилось ей. Подобные же мысли осаждали
ум Карденио, и Люсинда была в таком же настроении, а дон Фернандо благодарил
небо за оказанную ему милость и за то, что оно извлекло его из запутанного
лабиринта, где он чуть было не потерял честь и душу. Словом, все
находившиеся на постоялом дворе были довольны и рады счастливому исходу
столь трудных и казавшихся безнадежными обстоятельств. Священник, как
человек умный, осветил все случившееся, как следовало, и поздравил каждого с
достигнутым им счастьем; но более всех радовалась и торжествовала хозяйка
постоялого двора, потому что Карденио и священник обещали ей заплатить за
весь понесенный ущерб и все убытки, причиненные ей Дон Кихотом. Один только
Санчо, как уже сказано, был огорчен, опечален и несчастлив. Итак, он с
унылым видом вошел к своему господину, который только что проснулся, и
сказал:
-- Сеньор Печального Образа, ваша милость может теперь спать сколько
угодно, не заботясь о том, чтобы убить великана и вернуть принцессе ее
королевство, потому что все уже сделано и совершено.
-- Охотно верю этому, -- ответил Дон Кихот, -- так как у меня с
великаном была самая чудовищная и ожесточенная схватка, какая навряд ли еще
произойдет в моей жизни, и от одного удара наотмашь -- кряк -- голова его
полетела на пол, и столько хлынуло крови, что ручьи ее текли по земле, точно
вода.
-- Точно красное вино, следовало бы лучше сказать вашей милости, --
ответил Санчо, -- потому что вам надо знать, если это еще неизвестно вашей
милости, что убитый великан -- проткнутый бурдюк, кровь -- три ведра
красного вина в его утробе, а отрубленная голова -- блудница, которая меня
родила, -- и пусть все это вместе поберет сатана!
-- Что ты говоришь, сумасшедший,-- возразил Дон Кихот, -- в рассудке ли
ты?
-- Пусть милость ваша встанет, -- сказал Санчо, -- и увидит, какую
прекрасную историю вы натворили и сколько нам придется заплатить; и увидит
королеву, превращенную в обыкновенную даму по имени Доротеа, и другие
происшествия, которые, если вы окунетесь в них, изумят вас.
-- Ничто в таком роде не изумит меня, -- сказал Дон Кихот, -- потому
что, если ты хорошо припомнишь, еще и в прошлый раз, когда мы здесь
останавливались, я говорил тебе, что все случившееся здесь -- волшебство, и
не было бы ничего особенного, если бы и теперь повторилось то же.
-- Всему этому я поверил бы, -- сказал Санчо, -- если б и подбрасывание
меня вверх на одеяле оказалось в том же роде, но оно не оказалось им, оно
было в действительности и взаправду, и я видел, что хозяин -- который и
теперь здесь -- держал один конец одеяла и подбрасывал меня к небу весело и
оживленно, со столь же громким смехом, как и большой силой; а там, где можно
узнать людей, я считаю, хотя я и грешный и глупый человек, что нет никакого
волшебства, а только много синяков и очень много незадачи.
-- Ну, хорошо,-- сказал Дон Кихот,-- бог этому поможет, а ты дай мне
одеться, и я выйду отсюда, так как желаю видеть те происшествия и
превращения, о которых ты говорил.
Санчо подал ему платье, а в то время, как он одевался, священник
рассказал дону Фернандо и остальным о безумии рыцаря и о той хитрости, к
которой они прибегли, чтоб сманить его с Репа Pobre, где он воображал, что
находится из-за пренебрежения к нему его дамы. Священник рассказал им также
почти все приключения, о которых сообщил Санчо Панса, и они изумлялись и
смеялись немало, потому что им, как и всем другим, казалось, что это самый
странный род помешательства, какой только может овладеть расстроенным
мозгом. Священник сказал также, что ввиду счастливого события, случившегося
с сеньорой Доротеей, приходится отложить дальнейшее выполнение их прежнего
плана и надо придумать и изобрести что-нибудь другое, чтобы можно было
увезти Дон Кихота домой, в село. Карденио посоветовал продолжать начатое,
причем Люсинда могла бы взять на себя и разыграть роль Доротеи.
-- Нет, -- сказал дон Фернандо,-- этого не надо, потому что я желаю,
чтобы Доротеа сама довела до конца свою выдумку; и, если село этого доброго
рыцаря не очень далеко отсюда, мне доставит большое удовольствие
содействовать его излечению.
-- Оно не более чем в двух дней пути отсюда.
-- Если б оно было и дальше, я бы и туда с радостью поехал, лишь бы
сделать столь доброе дело.
В это время вошел Дон Кихот, вооруженный всеми своими доспехами, со
шлемом Мамбрино на голове, хотя и изогнутым, со щитом, продетым на руку, и
опираясь на свой шест или копье.
Дона Фернандо и остальных удивила столь странная фигура Дон Кихота, и,
глядя на его лицо -- длинное, сухое и желтое, -- на все эти не
соответствующие друг другу части его вооружения и на его полную достоинства
осанку, они молча ждали, что он скажет. А он с величайшим спокойствием и
серьезностью, устремив глаза на прекрасную Доротею, обратился к ней с такою
речью:
-- Я извещен, прелестная сеньора, этим моим оруженосцем, что ваше
величие унижено и звание ваше уничтожено, так как из королевы и знатной
особы вы обратились в простую девушку. Если это случилось по распоряжению
короля-чернокнижника, -- вашего отца, опасавшегося, что я не окажу вам
необходимой и должной помощи, -- я скажу, что он не знал и не знает и
половины обедни и был мало сведущ в рыцарских историях, потому что если бы
он их читал так внимательно и продолжительно, как я читал и изучал их, то на
каждом шагу видел бы, как другие, еще менее известные, чем я, рыцари
совершали куда более трудные подвиги. Ведь нет ничего особенного в том, чтоб
убить великанчика, каким бы он ни был надменным, так как несколько часов
тому назад я вступил с ним в бой и... лучше замолчу, чтобы мне не сказали,
что я лгу; но время -- разоблачитель всего на свете -- заговорит, когда
менее всего будем ждать этого.
-- Вы вступили в бой с двумя бурдюками вина, а не с великаном, --
сказал тогда хозяин двора; но дон Фернандо велел ему молчать и ни в каком
случае не прерывать речи Дон Кихота, который продолжал таким образом:
-- Словом, я говорю, возвышенная и лишенная наследства сеньора, что
если по причине, на которую я указал, отец ваш произвел эту метаморфозу с
вашей особой, не придавайте этому никакого значения, потому что на свете нет
той опасности, через которую не проложил бы себе путь мой меч, и с помощью
его я низвергну вашего врага и возложу вам на голову корону вашего
королевства.
Ничего больше не сказал Дон Кихот и ждал, что ему ответит принцесса, а
она, уже зная о решении дона Фернандо, чтобы она продолжала играть свою
роль, пока не довезут Дон Кихота до его села, ответила с большой важностью и
непринужденностью:
-- Кто бы вам ни сказал, доблестный Рыцарь Печального Образа, будто я
изменилась и преобразилась по своему существу, сказал вам неправду, потому
что я и сегодня остаюсь тем же, чем была вчера. Действительно, некоторые
события произвели во мне перемену, так как они дали мне лучшее из всего, что
я могла бы желать себе, но, несмотря на это, я не перестала быть такой,
какой была и раньше, и придерживаться тех же намерений, какие у меня всегда
были, -- прибегнуть к доблести вашей храброй и непобедимой руки. Так что,
сеньор, пусть милость ваша вернет моему отцу, от которого я произошла на
свет, его честь и считает его человеком рассудительным и сведущим, потому
что, благодаря своей науке, он нашел такой легкий и верный путь помочь мне в
моей беде. Если бы не вы, сеньор, я думаю, что никогда бы я не достигла
счастья, которого я достигла, а что сказанное мною верно, в этом могу
сослаться на свидетельство всех присутствующих здесь. Нам остается только
отправиться завтра утром в путь, так как сегодня нельзя было бы ехать
далеко. Что же касается счастливого окончания дела, на которое я надеюсь, я
полагаюсь на Бога и на ваше мужественное сердце.
Вот что сказала умная Доротеа, и Дон Кихот, выслушав ее, обернулся к
Санчо и с видом сильнейшего негодования объявил ему:
-- Теперь я скажу тебе, Санчуэло, что ты самый большой плутище во всей
Испании. Скажи, вор, бродяга, не ты ли говорил мне сейчас, будто эта
принцесса превратилась в простую девушку по имени Доротеа, и голова, которую
я, как думал, отрубил у великана, -- та блудница, что родила тебя, и другие
тому подобные нелепости, приведшие меня в величайшее смущение, когда-либо
испытанное мною в жизни? Но клянусь (и он поднял глаза к небу и стиснул
зубы), я готов так разгромить тебя, что от этого поумнели бы отныне и впредь
все лгуны оруженосцы, сколько бы их ни было у странствующих рыцарей!
-- Успокойтесь, милость ваша сеньор мой, -- ответил Санчо, -- очень
возможно, что я ошибся относительно превращения сеньоры принцессы
Микомиконы. Что же касается головы великана или, по крайней мере, прорванных
бурдюков и того, что кровь была красное вино, я не ошибаюсь, клянусь Богом,
потому что бурдюки стоят прорванные у изголовья постели вашей милости, а в
комнате целое озеро красного вина. Если же нет, вы узнаете это, когда вам
прийдется жарить яйца в масле {Al freir de loi huevos lo vera --
общеупотребительное испанское выражение, означающее: "Вы это увидите, когда
придется расплачиваться за это".}, я хочу сказать, вы это увидите, когда его
милость, сеньор хозяин здешнего постоялого двора, представит вам счет за
убытки. Что же до остального, то есть что сеньора королева осталась тем, чем
была, я всей душою этому рад, потому что и я получу свою долю, как и всякий
соседский сын {Испанская поговорка.}.
-- Теперь говорю тебе, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- что ты глуп;
прости меня, и довольно.
-- Довольно, -- подтвердил дон Фернандо, -- и ни слова больше об этом;
а так как сеньора принцесса говорит, что нам следует ехать завтра, потому
что сегодня уже слишком поздно, -- мы так и сделаем. Эту же ночь можно будет
провести в приятной беседе до наступления дня, когда мы все поедем
сопровождать сеньора Дон Кихота, так как желаем быть свидетелями доблестных
и неслыханных подвигов, которые ему предстоит совершить, исполняя взятое им
на себя великое предприятие.
-- Этим мне следовало бы служить вам и сопровождать вас, -- ответил Дон
Кихот. -- Очень вам признателен за оказанную мне милость и за ваше доброе
мнение обо мне, которое постараюсь оправдать или заплачу за него жизнью и
даже больше жизни, если б имел что-либо большее.
Еще многими любезностями и предложениями услуг обменялись Дон Кихот и
дон Фернандо; но всему этому положил конец путешественник, который как раз в
то время вошел на постоялый двор. Судя по одежде, он казался христианином,
только что вернувшимся из страны мавров, так как на нем было нечто вроде
кафтана из голубого сукна с короткими фалдами, полурукавами и без воротника,
панталоны из голубого полотна и шапка такого же цвета {Обычный костюм
пленных христиан, находившихся в неволе в Берберии.}. Ноги были обуты в
полусапоги цвета фиников, а мавританский короткий меч висел на перевязи,
обхватывающей ему грудь. Позади него, верхом на осле, ехала женщина, одетая
по-мавритански, с закутанным лицом и покрывалом на голове, сверх которого
была надета маленькая шапочка из золотой парчи, а длинная мавританская
мантия падала с ее плеч до ног. Мужчина был высокого роста, стройный, в
возрасте немного более сорока лет, со смуглым лицом, длинными усами и
окладистой бородой, словом, вид его был таков, что, будь он лучше одет, его
можно было бы принять за человека знатного и весьма хорошего происхождения.
Войдя, он спросил отдельную комнату и, по-видимому, огорчился, когда ему
сообщили, что такой нет на постоялом дворе, а затем, подойдя к той, которая
по одежде казалась мавританкой, он снял ее с осла. Люсинда, Доротеа,
хозяйка, ее дочь и Мариторнес, привлеченные новым и никогда не виденным ими
костюмом, окружили мавританку; а Доротеа, которая всегда была любезная,
учтивая и догадливая, заметив, что оба, и она и ее спутник, огорчены
отсутствием отдельной комнаты, сказала:
-- Не смущайтесь, сеньора, тем, что здесь нет никаких удобств: это
свойство всех постоялых дворов; но тем не менее если вам угодно будет
поместиться с нами (указывая на Люсинду), -- быть может, за все ваше
путешествие вы не встретите столь радушного приема.
Сеньора, закутанная покрывалом, ничего не ответила, а только встала со
своего места и, скрестив руки на груди, наклонила голову и все туловище в
знак благодарности. Из ее молчания они заключили, что, без сомнения, она
мавританка и не умеет говорить на христианском языке. В это время вошел
пленник, который до тех пор был занят другими делами, и, видя, что все
окружили приехавшую с ним, а она на их вопросы ничего не отвечает, сказал:
-- Сеньоры мои, эта девушка почти не понимает нашего языка и говорит
только на своем родном языке, поэтому она не отвечала и не может ответить на
то, что у нее спрашивали.
-- Мы не спрашиваем у нее ничего,-- ответила Люсинда, -- а только
предлагаем ей на эту ночь свое общество и часть комнаты, в которой мы
устроимся и где она найдет все удобства, возможные в здешнем помещении, с
тем доброжелательством, которое обязывает нас служить всем иностранцам,
нуждающимся в наших услугах, в особенности же если нуждается в них женщина.
-- За нее и за себя, -- ответил пленник, -- целую вам руки, сеньора
моя, и, как и подобает, высоко ценю предлагаемую вами милость, которая при
данных обстоятельствах и со стороны таких лиц, какими вы кажетесь,
несомненно, весьма велика.
-- Скажите мне, сеньор, -- спросила Доротеа, -- эта девушка христианка
или мавританка? {Мавры были мусульманами.} Так как одежда ее и молчание
заставляют нас предполагать, что она то, чем бы мы не желали, чтобы она
была.
-- По одежде и происхождению она мавританка, но душой -- величайшая
христианка, потому что она исполнена сильнейшего желания сделаться ею.
-- Значит, она еще не крещена? -- спросила Люсинда.
-- Не было времени для этого, -- сказал пленник. -- С тех пор как она
покинула Алжир, свою родину и местожительство, она не была еще в столь
близкой опасности смерти, которая бы вынудила крестить ее прежде, чем она
ознакомится со всеми обрядами, знать которые предписывается нашей святою
матерью церковью. Но если Богу будет угодно, вскоре она примет крещение с
торжественностью, подобающею ее званию, более высокому, чем может казаться
по ее и моей одежде.
Этими словами он возбудил во всех слушавших его желание узнать, кто
такие мавританка и пленник, -- но никто не хотел спрашивать его об этом
тогда же, хорошо понимая, что теперь им следует скорее доставить отдых, чем
расспрашивать об их жизни. Доротеа взяла мавританку за руку и, усадив ее
рядом с собой, попросила снять покрывало. Мавританка взглянула на пленника,
как бы спрашивая его: что они говорят и что ей надо делать? Он сказал ей на
арабском языке, что ее просят снять с лица покрывало и она может исполнить
эту просьбу. Итак, она сняла вуаль и открыла лицо, до того прелестное, что
Доротеа нашла ее красивее Люсинды, а Люсинда -- красивее Доротеи, и все
присутствовавшие признали: если бы кто-либо мог по красоте сравниться с ними
обеими, то только мавританка, а некоторые даже ставили ее в иных частностях
выше их. Но так как красота обладает прерогативой и особым преимуществом
побеждать сердца и привлекать симпатии, тотчас же все почувствовали желание
служить очаровательной мавританке и как-нибудь обласкать ее. Дон Фернандо
спросил пленника, как зовут мавританку, и тот ответил, что имя ее Лела
Сораида. Лишь только она услышала это, тотчас же она поняла, о чем спросили
христианина, и поспешно, с милой резвостью воскликнула: -- Нет, нет Сораида,
-- Мария, Мария, -- давая им понять, что ее зовут Мария, а не Сораида. Слова
ее и горячность, с которой она произнесла их, тронули некоторых до слез, в
особенности женщин, которые по природе нежны и сострадательны. Люсинда
поцеловала ее с искренней любовью и сказала: -- Да, да, Мария, Мария. -- А
на это мавританка ответила: -- Да, да, Мария -- Сораида macange {Macange --
на искаженном разговорном наречии Берберии означает: "нет, никоим
образом".}, -- что должно означать нет.
Между тем настала ночь, и по распоряжению тех, которые сопровождали
дона Фернандо, хозяин двора употребил все заботы и усилия, чтобы как можно
лучше приготовить ужин, а когда настало время, все уселись за длинный стол,
какие бывают в людских, потому что на постоялом дворе не было ни круглого,
ни квадратного стола. На верхнем конце и самом почетном месте усадили --
хотя он и отказывался -- Дон Кихота, пожелавшего, чтобы рядом с ним села,
так как он ее покровитель, сеньора Микомикона, затем сели Люсинда и Сораида,
а против них -- дон Фернандо с Карденио, потом пленник и остальные
кабальеросы, а рядом с дамами -- священник и цирюльник. Итак, они принялись
весело ужинать, и их веселье еще более возросло, когда они увидели, что Дон
Кихот, перестав есть и движимый подобного же рода вдохновением, как то,
которое его побудило произнести столь длинную речь за ужином с козопасами,
обратился к ним со следующими словами:
-- Поистине, сеньоры мои, если хорошенько рассудить, великие и
неслыханные вещи видят те, кто принадлежит к ордену странствующего
рыцарства. А если нет, кто из живущих на свете, войдя теперь в дверь этого
замка и увидев нас, как мы здесь сидим, принял бы и счел нас за то, что мы
есть на самом деле? Кто мог бы сказать, что эта сеньора, сидящая рядом со
мной, -- великая королева, как это всем нам известно, и что я тот Рыцарь
Печального Образа, слава которого всюду провозглашается молвой? Не подлежит
теперь уже сомнению, что это искусство и занятие превосходит все остальные,
изобретенные людьми, и тем выше надо его ставить, чем большим опасностям оно
подвержено. Прочь от меня те, которые скажут, что словесные науки выше
оружия, так как я им объявляю, кто бы они ни были, что они не знают, что
говорят. Довод, который такие люди обыкновенно приводят и на который они
более всего опираются, тот, что умственный труд выше физического труда и в
военном деле упражняется только тело, как будто это занятие такое же, как и
труд крючника, для которого исключительно требуется одна лишь физическая
сила; или как будто в то, что мы, занимающиеся им, называем военным делом,
не включены также и подвиги мужества, для выполнения которых требуется
большой ум; или как будто военачальнику, на попечении которого находится
целая армия или защита осажденного города, не надо работать так же духом,
как и телом. А если нет, посмотрим, можно ли путем одной лишь физической
силы угадать и проникнуть в намерения неприятеля, в его планы и военные
хитрости и избегнуть и предупредить затруднения и неминуемые опасности, --
все это действия рассудка, в которых тело не принимает участия. А раз это
так, и оружие тоже, как и словесные науки, требует ума, посмотрим, какой из
этих двух умов больше работает: ум ли ученого или военного, -- а это можно
узнать по тому, к какому итогу и цели каждый из них стремится, так как то
намерение следует ценить выше, которое поставило себе более благородную
цель. Предмет и цель словесных наук -- я не говорю здесь о богословских
науках, конечная цель которых -- направлять и вести души к небу, потому что
с такой бесконечной целью, как эта, нельзя сравнить никакой другой, -- я
говорю о человеческих науках {О словесных науках и вообще всяком знании,
исключая богословие.}, цель которых -- упорядочить воздаятельное правосудие
и дать всякому то, что ему надлежит, вводить хорошие законы и следить за их
исполнением, -- цель, несомненно, великодушная, возвышенная и достойная
великой похвалы, но не столь великой, как подобающая оружию, предмет и
конечная цель которого -- мир, то есть величайшее благо, какого только могут
пожелать себе люди в этой жизни. Вот почему первая благая весть, дошедшая до
земли и до людей, была та, которую принесли ангелы в ночь, ставшую для нас
днем, когда они пели в небесах: "Слава в вышних Богу; и на землю мир, в
человецех благоволение". И привет, которому лучший из учителей земли и неба
научил Своих учеников и избранников, был, когда они входят в какой-нибудь
дом, сказать: "Мир дому сему". Много раз Он и Сам им говорил: "Мир мой даю
вам, мир Мой оставляю вам; мир да будет с вами" -- истинное сокровище и
драгоценность, данные и завещанные такой рукой; сокровище, без которого ни
на небе, ни на земле не может существовать счастья! Этот мир и есть истинная
цель войны, а война и оружие -- одно и то же. Итак, допустив эту истину, что
цель войны -- мир, и что цель эта стоит выше цели, к которой стремятся
словесные науки, сравним теперь физические тяготы ученого с тяготами того,
кто посвятил себя военному делу, и посмотрим, чьи тяжелее.
Дон Кихот произнес свою речь таким образом и в столь соответственных
выражениях, что никто из слушавших его тогда не мог принять его за
сумасшедшего, а напротив, так как большинство из них были рыцари, причастные
к военному делу, они слушали его с большим удовольствием, а он продолжал
следующим образом:
-- Итак, говорю я, лишения учащегося или студента следующие: прежде
всего бедность, не потому чтобы все студенты были бедны, а потому что я
хотел взять худший из случаев, -- а сказав, что студент испытывает бедность,
мне кажется, что я все сказал о тяжелой его доле, потому что кто беден, нет
у того ничего хорошего. Эта бедность донимает студента разными путями: то
голодом, то холодом, то наготой, то всем этим вместе взятым; но все же она
не доходит до такой степени, чтобы он не ел вовсе, хотя бы ему и пришлось
есть несколько позже, чем полагается, и едой его были бы остатки со стола
богатых, или бы он испытывал верх студенческой бедности, -- то, что они
между собой называют "хождением на суп" {Andar alasopa ("ходить на суп") --
так назывался довольно распространенный обычай бедных студентов во времена
Сервантеса ждать выдаваемую им похлебку у ворот монастырей. Таких студентов
называли сопистами.}. Для них всегда найдется где-нибудь у соседей жаровня с
горящими углями или камин, у которого они могут, если и не вполне согреться,
когда им холодно, то, по крайней мере, хоть несколько отогреться, и,
наконец, ночью они спят под кровом. Не хочу касаться других мелочей, как
например: недостатка рубашек, отсутствия изобилия башмаков, скудости и
обветшалости одежды, а также не коснусь я и склонности их чрезмерно
объедаться, когда счастливый случай пошлет им какую-нибудь пирушку. По этому
пути, который я описал, -- трудному и суровому пути, -- спотыкаясь здесь,
падая там, опять поднимаясь и вновь падая, достигают они той ступени, к
которой стремятся. А раз они достигнули своего, то мы видим, как многие,
которые, пройдя через эти Сирты и эти Сциллы и Харибды, точно их несла на
крыльях своих благосклонная к ним судьба, я говорю, что мы видим, как они
повелевали и управляли миром из своего кресла, променяв голод на сытость,
холод -- на приятную свежесть, наготу -- на роскошные наряды, сон на
циновках -- на сладкий отдых на голландских простынях и парче, -- награда,
справедливо заслуженная их добродетелью. Но если их лишения сравнить и
сопоставить с лишениями, испытываемыми сражающимся воином, то они останутся
далеко позади них, как я сейчас объясню вам.
Все это слышал Санчо с немалой болью в душе, видя, что надежды его на
получение графского или иного почетного титула исчезают и обращаются в дым и
что прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, а великан -- в
дона Фернандо, в то время как его господин покоится сладким сном, совершенно
не заботясь о происходящем вокруг него. Доротеа все еще не могла поверить,
что выпавшее на ее долю счастье не приснилось ей. Подобные же мысли осаждали
ум Карденио, и Люсинда была в таком же настроении, а дон Фернандо благодарил
небо за оказанную ему милость и за то, что оно извлекло его из запутанного
лабиринта, где он чуть было не потерял честь и душу. Словом, все
находившиеся на постоялом дворе были довольны и рады счастливому исходу
столь трудных и казавшихся безнадежными обстоятельств. Священник, как
человек умный, осветил все случившееся, как следовало, и поздравил каждого с
достигнутым им счастьем; но более всех радовалась и торжествовала хозяйка
постоялого двора, потому что Карденио и священник обещали ей заплатить за
весь понесенный ущерб и все убытки, причиненные ей Дон Кихотом. Один только
Санчо, как уже сказано, был огорчен, опечален и несчастлив. Итак, он с
унылым видом вошел к своему господину, который только что проснулся, и
сказал:
-- Сеньор Печального Образа, ваша милость может теперь спать сколько
угодно, не заботясь о том, чтобы убить великана и вернуть принцессе ее
королевство, потому что все уже сделано и совершено.
-- Охотно верю этому, -- ответил Дон Кихот, -- так как у меня с
великаном была самая чудовищная и ожесточенная схватка, какая навряд ли еще
произойдет в моей жизни, и от одного удара наотмашь -- кряк -- голова его
полетела на пол, и столько хлынуло крови, что ручьи ее текли по земле, точно
вода.
-- Точно красное вино, следовало бы лучше сказать вашей милости, --
ответил Санчо, -- потому что вам надо знать, если это еще неизвестно вашей
милости, что убитый великан -- проткнутый бурдюк, кровь -- три ведра
красного вина в его утробе, а отрубленная голова -- блудница, которая меня
родила, -- и пусть все это вместе поберет сатана!
-- Что ты говоришь, сумасшедший,-- возразил Дон Кихот, -- в рассудке ли
ты?
-- Пусть милость ваша встанет, -- сказал Санчо, -- и увидит, какую
прекрасную историю вы натворили и сколько нам придется заплатить; и увидит
королеву, превращенную в обыкновенную даму по имени Доротеа, и другие
происшествия, которые, если вы окунетесь в них, изумят вас.
-- Ничто в таком роде не изумит меня, -- сказал Дон Кихот, -- потому
что, если ты хорошо припомнишь, еще и в прошлый раз, когда мы здесь
останавливались, я говорил тебе, что все случившееся здесь -- волшебство, и
не было бы ничего особенного, если бы и теперь повторилось то же.
-- Всему этому я поверил бы, -- сказал Санчо, -- если б и подбрасывание
меня вверх на одеяле оказалось в том же роде, но оно не оказалось им, оно
было в действительности и взаправду, и я видел, что хозяин -- который и
теперь здесь -- держал один конец одеяла и подбрасывал меня к небу весело и
оживленно, со столь же громким смехом, как и большой силой; а там, где можно
узнать людей, я считаю, хотя я и грешный и глупый человек, что нет никакого
волшебства, а только много синяков и очень много незадачи.
-- Ну, хорошо,-- сказал Дон Кихот,-- бог этому поможет, а ты дай мне
одеться, и я выйду отсюда, так как желаю видеть те происшествия и
превращения, о которых ты говорил.
Санчо подал ему платье, а в то время, как он одевался, священник
рассказал дону Фернандо и остальным о безумии рыцаря и о той хитрости, к
которой они прибегли, чтоб сманить его с Репа Pobre, где он воображал, что
находится из-за пренебрежения к нему его дамы. Священник рассказал им также
почти все приключения, о которых сообщил Санчо Панса, и они изумлялись и
смеялись немало, потому что им, как и всем другим, казалось, что это самый
странный род помешательства, какой только может овладеть расстроенным
мозгом. Священник сказал также, что ввиду счастливого события, случившегося
с сеньорой Доротеей, приходится отложить дальнейшее выполнение их прежнего
плана и надо придумать и изобрести что-нибудь другое, чтобы можно было
увезти Дон Кихота домой, в село. Карденио посоветовал продолжать начатое,
причем Люсинда могла бы взять на себя и разыграть роль Доротеи.
-- Нет, -- сказал дон Фернандо,-- этого не надо, потому что я желаю,
чтобы Доротеа сама довела до конца свою выдумку; и, если село этого доброго
рыцаря не очень далеко отсюда, мне доставит большое удовольствие
содействовать его излечению.
-- Оно не более чем в двух дней пути отсюда.
-- Если б оно было и дальше, я бы и туда с радостью поехал, лишь бы
сделать столь доброе дело.
В это время вошел Дон Кихот, вооруженный всеми своими доспехами, со
шлемом Мамбрино на голове, хотя и изогнутым, со щитом, продетым на руку, и
опираясь на свой шест или копье.
Дона Фернандо и остальных удивила столь странная фигура Дон Кихота, и,
глядя на его лицо -- длинное, сухое и желтое, -- на все эти не
соответствующие друг другу части его вооружения и на его полную достоинства
осанку, они молча ждали, что он скажет. А он с величайшим спокойствием и
серьезностью, устремив глаза на прекрасную Доротею, обратился к ней с такою
речью:
-- Я извещен, прелестная сеньора, этим моим оруженосцем, что ваше
величие унижено и звание ваше уничтожено, так как из королевы и знатной
особы вы обратились в простую девушку. Если это случилось по распоряжению
короля-чернокнижника, -- вашего отца, опасавшегося, что я не окажу вам
необходимой и должной помощи, -- я скажу, что он не знал и не знает и
половины обедни и был мало сведущ в рыцарских историях, потому что если бы
он их читал так внимательно и продолжительно, как я читал и изучал их, то на
каждом шагу видел бы, как другие, еще менее известные, чем я, рыцари
совершали куда более трудные подвиги. Ведь нет ничего особенного в том, чтоб
убить великанчика, каким бы он ни был надменным, так как несколько часов
тому назад я вступил с ним в бой и... лучше замолчу, чтобы мне не сказали,
что я лгу; но время -- разоблачитель всего на свете -- заговорит, когда
менее всего будем ждать этого.
-- Вы вступили в бой с двумя бурдюками вина, а не с великаном, --
сказал тогда хозяин двора; но дон Фернандо велел ему молчать и ни в каком
случае не прерывать речи Дон Кихота, который продолжал таким образом:
-- Словом, я говорю, возвышенная и лишенная наследства сеньора, что
если по причине, на которую я указал, отец ваш произвел эту метаморфозу с
вашей особой, не придавайте этому никакого значения, потому что на свете нет
той опасности, через которую не проложил бы себе путь мой меч, и с помощью
его я низвергну вашего врага и возложу вам на голову корону вашего
королевства.
Ничего больше не сказал Дон Кихот и ждал, что ему ответит принцесса, а
она, уже зная о решении дона Фернандо, чтобы она продолжала играть свою
роль, пока не довезут Дон Кихота до его села, ответила с большой важностью и
непринужденностью:
-- Кто бы вам ни сказал, доблестный Рыцарь Печального Образа, будто я
изменилась и преобразилась по своему существу, сказал вам неправду, потому
что я и сегодня остаюсь тем же, чем была вчера. Действительно, некоторые
события произвели во мне перемену, так как они дали мне лучшее из всего, что
я могла бы желать себе, но, несмотря на это, я не перестала быть такой,
какой была и раньше, и придерживаться тех же намерений, какие у меня всегда
были, -- прибегнуть к доблести вашей храброй и непобедимой руки. Так что,
сеньор, пусть милость ваша вернет моему отцу, от которого я произошла на
свет, его честь и считает его человеком рассудительным и сведущим, потому
что, благодаря своей науке, он нашел такой легкий и верный путь помочь мне в
моей беде. Если бы не вы, сеньор, я думаю, что никогда бы я не достигла
счастья, которого я достигла, а что сказанное мною верно, в этом могу
сослаться на свидетельство всех присутствующих здесь. Нам остается только
отправиться завтра утром в путь, так как сегодня нельзя было бы ехать
далеко. Что же касается счастливого окончания дела, на которое я надеюсь, я
полагаюсь на Бога и на ваше мужественное сердце.
Вот что сказала умная Доротеа, и Дон Кихот, выслушав ее, обернулся к
Санчо и с видом сильнейшего негодования объявил ему:
-- Теперь я скажу тебе, Санчуэло, что ты самый большой плутище во всей
Испании. Скажи, вор, бродяга, не ты ли говорил мне сейчас, будто эта
принцесса превратилась в простую девушку по имени Доротеа, и голова, которую
я, как думал, отрубил у великана, -- та блудница, что родила тебя, и другие
тому подобные нелепости, приведшие меня в величайшее смущение, когда-либо
испытанное мною в жизни? Но клянусь (и он поднял глаза к небу и стиснул
зубы), я готов так разгромить тебя, что от этого поумнели бы отныне и впредь
все лгуны оруженосцы, сколько бы их ни было у странствующих рыцарей!
-- Успокойтесь, милость ваша сеньор мой, -- ответил Санчо, -- очень
возможно, что я ошибся относительно превращения сеньоры принцессы
Микомиконы. Что же касается головы великана или, по крайней мере, прорванных
бурдюков и того, что кровь была красное вино, я не ошибаюсь, клянусь Богом,
потому что бурдюки стоят прорванные у изголовья постели вашей милости, а в
комнате целое озеро красного вина. Если же нет, вы узнаете это, когда вам
прийдется жарить яйца в масле {Al freir de loi huevos lo vera --
общеупотребительное испанское выражение, означающее: "Вы это увидите, когда
придется расплачиваться за это".}, я хочу сказать, вы это увидите, когда его
милость, сеньор хозяин здешнего постоялого двора, представит вам счет за
убытки. Что же до остального, то есть что сеньора королева осталась тем, чем
была, я всей душою этому рад, потому что и я получу свою долю, как и всякий
соседский сын {Испанская поговорка.}.
-- Теперь говорю тебе, Санчо, -- ответил Дон Кихот, -- что ты глуп;
прости меня, и довольно.
-- Довольно, -- подтвердил дон Фернандо, -- и ни слова больше об этом;
а так как сеньора принцесса говорит, что нам следует ехать завтра, потому
что сегодня уже слишком поздно, -- мы так и сделаем. Эту же ночь можно будет
провести в приятной беседе до наступления дня, когда мы все поедем
сопровождать сеньора Дон Кихота, так как желаем быть свидетелями доблестных
и неслыханных подвигов, которые ему предстоит совершить, исполняя взятое им
на себя великое предприятие.
-- Этим мне следовало бы служить вам и сопровождать вас, -- ответил Дон
Кихот. -- Очень вам признателен за оказанную мне милость и за ваше доброе
мнение обо мне, которое постараюсь оправдать или заплачу за него жизнью и
даже больше жизни, если б имел что-либо большее.
Еще многими любезностями и предложениями услуг обменялись Дон Кихот и
дон Фернандо; но всему этому положил конец путешественник, который как раз в
то время вошел на постоялый двор. Судя по одежде, он казался христианином,
только что вернувшимся из страны мавров, так как на нем было нечто вроде
кафтана из голубого сукна с короткими фалдами, полурукавами и без воротника,
панталоны из голубого полотна и шапка такого же цвета {Обычный костюм
пленных христиан, находившихся в неволе в Берберии.}. Ноги были обуты в
полусапоги цвета фиников, а мавританский короткий меч висел на перевязи,
обхватывающей ему грудь. Позади него, верхом на осле, ехала женщина, одетая
по-мавритански, с закутанным лицом и покрывалом на голове, сверх которого
была надета маленькая шапочка из золотой парчи, а длинная мавританская
мантия падала с ее плеч до ног. Мужчина был высокого роста, стройный, в
возрасте немного более сорока лет, со смуглым лицом, длинными усами и
окладистой бородой, словом, вид его был таков, что, будь он лучше одет, его
можно было бы принять за человека знатного и весьма хорошего происхождения.
Войдя, он спросил отдельную комнату и, по-видимому, огорчился, когда ему
сообщили, что такой нет на постоялом дворе, а затем, подойдя к той, которая
по одежде казалась мавританкой, он снял ее с осла. Люсинда, Доротеа,
хозяйка, ее дочь и Мариторнес, привлеченные новым и никогда не виденным ими
костюмом, окружили мавританку; а Доротеа, которая всегда была любезная,
учтивая и догадливая, заметив, что оба, и она и ее спутник, огорчены
отсутствием отдельной комнаты, сказала:
-- Не смущайтесь, сеньора, тем, что здесь нет никаких удобств: это
свойство всех постоялых дворов; но тем не менее если вам угодно будет
поместиться с нами (указывая на Люсинду), -- быть может, за все ваше
путешествие вы не встретите столь радушного приема.
Сеньора, закутанная покрывалом, ничего не ответила, а только встала со
своего места и, скрестив руки на груди, наклонила голову и все туловище в
знак благодарности. Из ее молчания они заключили, что, без сомнения, она
мавританка и не умеет говорить на христианском языке. В это время вошел
пленник, который до тех пор был занят другими делами, и, видя, что все
окружили приехавшую с ним, а она на их вопросы ничего не отвечает, сказал:
-- Сеньоры мои, эта девушка почти не понимает нашего языка и говорит
только на своем родном языке, поэтому она не отвечала и не может ответить на
то, что у нее спрашивали.
-- Мы не спрашиваем у нее ничего,-- ответила Люсинда, -- а только
предлагаем ей на эту ночь свое общество и часть комнаты, в которой мы
устроимся и где она найдет все удобства, возможные в здешнем помещении, с
тем доброжелательством, которое обязывает нас служить всем иностранцам,
нуждающимся в наших услугах, в особенности же если нуждается в них женщина.
-- За нее и за себя, -- ответил пленник, -- целую вам руки, сеньора
моя, и, как и подобает, высоко ценю предлагаемую вами милость, которая при
данных обстоятельствах и со стороны таких лиц, какими вы кажетесь,
несомненно, весьма велика.
-- Скажите мне, сеньор, -- спросила Доротеа, -- эта девушка христианка
или мавританка? {Мавры были мусульманами.} Так как одежда ее и молчание
заставляют нас предполагать, что она то, чем бы мы не желали, чтобы она
была.
-- По одежде и происхождению она мавританка, но душой -- величайшая
христианка, потому что она исполнена сильнейшего желания сделаться ею.
-- Значит, она еще не крещена? -- спросила Люсинда.
-- Не было времени для этого, -- сказал пленник. -- С тех пор как она
покинула Алжир, свою родину и местожительство, она не была еще в столь
близкой опасности смерти, которая бы вынудила крестить ее прежде, чем она
ознакомится со всеми обрядами, знать которые предписывается нашей святою
матерью церковью. Но если Богу будет угодно, вскоре она примет крещение с
торжественностью, подобающею ее званию, более высокому, чем может казаться
по ее и моей одежде.
Этими словами он возбудил во всех слушавших его желание узнать, кто
такие мавританка и пленник, -- но никто не хотел спрашивать его об этом
тогда же, хорошо понимая, что теперь им следует скорее доставить отдых, чем
расспрашивать об их жизни. Доротеа взяла мавританку за руку и, усадив ее
рядом с собой, попросила снять покрывало. Мавританка взглянула на пленника,
как бы спрашивая его: что они говорят и что ей надо делать? Он сказал ей на
арабском языке, что ее просят снять с лица покрывало и она может исполнить
эту просьбу. Итак, она сняла вуаль и открыла лицо, до того прелестное, что
Доротеа нашла ее красивее Люсинды, а Люсинда -- красивее Доротеи, и все
присутствовавшие признали: если бы кто-либо мог по красоте сравниться с ними
обеими, то только мавританка, а некоторые даже ставили ее в иных частностях
выше их. Но так как красота обладает прерогативой и особым преимуществом
побеждать сердца и привлекать симпатии, тотчас же все почувствовали желание
служить очаровательной мавританке и как-нибудь обласкать ее. Дон Фернандо
спросил пленника, как зовут мавританку, и тот ответил, что имя ее Лела
Сораида. Лишь только она услышала это, тотчас же она поняла, о чем спросили
христианина, и поспешно, с милой резвостью воскликнула: -- Нет, нет Сораида,
-- Мария, Мария, -- давая им понять, что ее зовут Мария, а не Сораида. Слова
ее и горячность, с которой она произнесла их, тронули некоторых до слез, в
особенности женщин, которые по природе нежны и сострадательны. Люсинда
поцеловала ее с искренней любовью и сказала: -- Да, да, Мария, Мария. -- А
на это мавританка ответила: -- Да, да, Мария -- Сораида macange {Macange --
на искаженном разговорном наречии Берберии означает: "нет, никоим
образом".}, -- что должно означать нет.
Между тем настала ночь, и по распоряжению тех, которые сопровождали
дона Фернандо, хозяин двора употребил все заботы и усилия, чтобы как можно
лучше приготовить ужин, а когда настало время, все уселись за длинный стол,
какие бывают в людских, потому что на постоялом дворе не было ни круглого,
ни квадратного стола. На верхнем конце и самом почетном месте усадили --
хотя он и отказывался -- Дон Кихота, пожелавшего, чтобы рядом с ним села,
так как он ее покровитель, сеньора Микомикона, затем сели Люсинда и Сораида,
а против них -- дон Фернандо с Карденио, потом пленник и остальные
кабальеросы, а рядом с дамами -- священник и цирюльник. Итак, они принялись
весело ужинать, и их веселье еще более возросло, когда они увидели, что Дон
Кихот, перестав есть и движимый подобного же рода вдохновением, как то,
которое его побудило произнести столь длинную речь за ужином с козопасами,
обратился к ним со следующими словами:
-- Поистине, сеньоры мои, если хорошенько рассудить, великие и
неслыханные вещи видят те, кто принадлежит к ордену странствующего
рыцарства. А если нет, кто из живущих на свете, войдя теперь в дверь этого
замка и увидев нас, как мы здесь сидим, принял бы и счел нас за то, что мы
есть на самом деле? Кто мог бы сказать, что эта сеньора, сидящая рядом со
мной, -- великая королева, как это всем нам известно, и что я тот Рыцарь
Печального Образа, слава которого всюду провозглашается молвой? Не подлежит
теперь уже сомнению, что это искусство и занятие превосходит все остальные,
изобретенные людьми, и тем выше надо его ставить, чем большим опасностям оно
подвержено. Прочь от меня те, которые скажут, что словесные науки выше
оружия, так как я им объявляю, кто бы они ни были, что они не знают, что
говорят. Довод, который такие люди обыкновенно приводят и на который они
более всего опираются, тот, что умственный труд выше физического труда и в
военном деле упражняется только тело, как будто это занятие такое же, как и
труд крючника, для которого исключительно требуется одна лишь физическая
сила; или как будто в то, что мы, занимающиеся им, называем военным делом,
не включены также и подвиги мужества, для выполнения которых требуется
большой ум; или как будто военачальнику, на попечении которого находится
целая армия или защита осажденного города, не надо работать так же духом,
как и телом. А если нет, посмотрим, можно ли путем одной лишь физической
силы угадать и проникнуть в намерения неприятеля, в его планы и военные
хитрости и избегнуть и предупредить затруднения и неминуемые опасности, --
все это действия рассудка, в которых тело не принимает участия. А раз это
так, и оружие тоже, как и словесные науки, требует ума, посмотрим, какой из
этих двух умов больше работает: ум ли ученого или военного, -- а это можно
узнать по тому, к какому итогу и цели каждый из них стремится, так как то
намерение следует ценить выше, которое поставило себе более благородную
цель. Предмет и цель словесных наук -- я не говорю здесь о богословских
науках, конечная цель которых -- направлять и вести души к небу, потому что
с такой бесконечной целью, как эта, нельзя сравнить никакой другой, -- я
говорю о человеческих науках {О словесных науках и вообще всяком знании,
исключая богословие.}, цель которых -- упорядочить воздаятельное правосудие
и дать всякому то, что ему надлежит, вводить хорошие законы и следить за их
исполнением, -- цель, несомненно, великодушная, возвышенная и достойная
великой похвалы, но не столь великой, как подобающая оружию, предмет и
конечная цель которого -- мир, то есть величайшее благо, какого только могут
пожелать себе люди в этой жизни. Вот почему первая благая весть, дошедшая до
земли и до людей, была та, которую принесли ангелы в ночь, ставшую для нас
днем, когда они пели в небесах: "Слава в вышних Богу; и на землю мир, в
человецех благоволение". И привет, которому лучший из учителей земли и неба
научил Своих учеников и избранников, был, когда они входят в какой-нибудь
дом, сказать: "Мир дому сему". Много раз Он и Сам им говорил: "Мир мой даю
вам, мир Мой оставляю вам; мир да будет с вами" -- истинное сокровище и
драгоценность, данные и завещанные такой рукой; сокровище, без которого ни
на небе, ни на земле не может существовать счастья! Этот мир и есть истинная
цель войны, а война и оружие -- одно и то же. Итак, допустив эту истину, что
цель войны -- мир, и что цель эта стоит выше цели, к которой стремятся
словесные науки, сравним теперь физические тяготы ученого с тяготами того,
кто посвятил себя военному делу, и посмотрим, чьи тяжелее.
Дон Кихот произнес свою речь таким образом и в столь соответственных
выражениях, что никто из слушавших его тогда не мог принять его за
сумасшедшего, а напротив, так как большинство из них были рыцари, причастные
к военному делу, они слушали его с большим удовольствием, а он продолжал
следующим образом:
-- Итак, говорю я, лишения учащегося или студента следующие: прежде
всего бедность, не потому чтобы все студенты были бедны, а потому что я
хотел взять худший из случаев, -- а сказав, что студент испытывает бедность,
мне кажется, что я все сказал о тяжелой его доле, потому что кто беден, нет
у того ничего хорошего. Эта бедность донимает студента разными путями: то
голодом, то холодом, то наготой, то всем этим вместе взятым; но все же она
не доходит до такой степени, чтобы он не ел вовсе, хотя бы ему и пришлось
есть несколько позже, чем полагается, и едой его были бы остатки со стола
богатых, или бы он испытывал верх студенческой бедности, -- то, что они
между собой называют "хождением на суп" {Andar alasopa ("ходить на суп") --
так назывался довольно распространенный обычай бедных студентов во времена
Сервантеса ждать выдаваемую им похлебку у ворот монастырей. Таких студентов
называли сопистами.}. Для них всегда найдется где-нибудь у соседей жаровня с
горящими углями или камин, у которого они могут, если и не вполне согреться,
когда им холодно, то, по крайней мере, хоть несколько отогреться, и,
наконец, ночью они спят под кровом. Не хочу касаться других мелочей, как
например: недостатка рубашек, отсутствия изобилия башмаков, скудости и
обветшалости одежды, а также не коснусь я и склонности их чрезмерно
объедаться, когда счастливый случай пошлет им какую-нибудь пирушку. По этому
пути, который я описал, -- трудному и суровому пути, -- спотыкаясь здесь,
падая там, опять поднимаясь и вновь падая, достигают они той ступени, к
которой стремятся. А раз они достигнули своего, то мы видим, как многие,
которые, пройдя через эти Сирты и эти Сциллы и Харибды, точно их несла на
крыльях своих благосклонная к ним судьба, я говорю, что мы видим, как они
повелевали и управляли миром из своего кресла, променяв голод на сытость,
холод -- на приятную свежесть, наготу -- на роскошные наряды, сон на
циновках -- на сладкий отдых на голландских простынях и парче, -- награда,
справедливо заслуженная их добродетелью. Но если их лишения сравнить и
сопоставить с лишениями, испытываемыми сражающимся воином, то они останутся
далеко позади них, как я сейчас объясню вам.

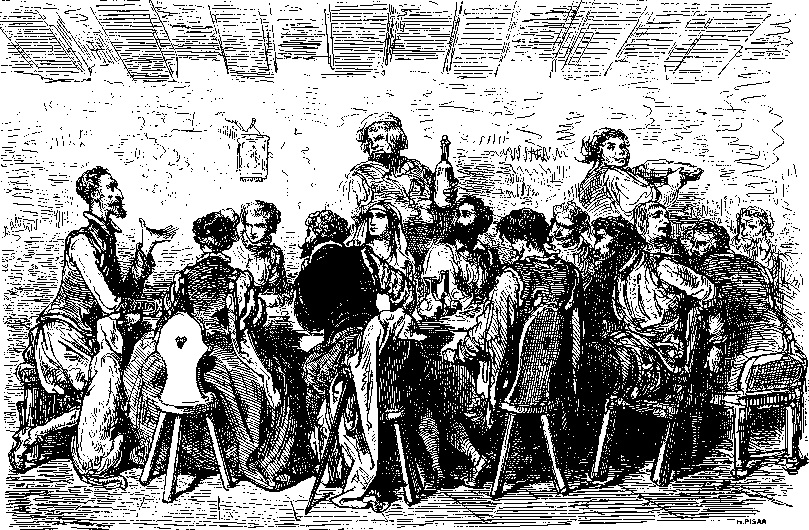 Продолжая свою речь, Дон Кихот сказал:
-- Так как, говоря о студенте, мы начали с бедности и ее проявлений,
посмотрим теперь, богаче ли солдат, и мы увидим, что в самой бедности никто
не беднее его, потому что он должен довольствоваться одним лишь несчастным
своим жалованием, выплачиваемым поздно или никогда, или же тем, что он
награбит собственными руками с немалой опасностью для жизни и совести своей.
При этом нагота его доходит иногда до того, что изрубленная куртка служит
ему и парадной одеждой и рубашкой, и, находясь в открытом поле среди зимы,
он защищен от непогоды и стужи одним лишь дыханием своего рта, а так как оно
выходит из пустого места, то я считаю достоверным, что оно должно выходить
холодным, вопреки законам природы. Но, думаете вы, пусть он подождет, пока
наступит ночь, чтобы отдохнуть от всех этих неудобств в приготовленной для
него постели; а она никогда не грешит тем, что узка, разве только по
собственной его вине, потому что он может себе отмерить сколько хочет футов
на земле и ворочаться здесь во все свое удовольствие, не боясь измять
простынь. И вот, после всего этого, наступает для него день и час получить
высшую степень в своем искусстве: наступает день сражения, когда ему наденут
на голову докторскую шапку с кисточкой {Borla -- букв. "кисточка", которая
прикреплялась к университетской шапке и служила знаком докторской ученой
степени.}, сделанную из корпии, чтобы вылечить рану от пули, которая, быть
может, прошла у него через виски или же искалечила ему ногу или руку {Никто
лучше Сервантеса, знавшего все это по собственному опыту, не мог и не имел
права говорить о лишениях солдата и тяжелом его положении, особенно тяжелом
в Испании в царствование Филиппа II и его сына.}. Если же и этого не
случилось и милосердное небо сохранило его живым и невредимым, он, вернее
всего, останется таким же бедняком, каким был и прежде, и потребуется, чтобы
одно сражение следовало за другим, одна битва за другой, и он из всех из них
выходил победителем для того, чтобы несколько улучшилось его положение; а
такие чудеса встречаются редко. Но скажите-ка мне, сеньоры, если вы
когда-нибудь об этом думали, насколько число награжденных за военные
действия меньше сравнительно с погибшими от них? Без сомнения, вы ответите
мне, что между ними не может быть сравнения, -- так как нельзя и исчислить
мертвых, а награжденных живых можно сосчитать тремя цифрами {Т. е. менее
тысячи.}.
Совершенно обратное мы видим среди прошедших курс наук {letrados --
люди, прошедшие курс науки, адвокаты, должностные лица, доктора и т. д.},
так как благодаря жалованию -- я не хочу сказать побочным доходам {В
оригинале: defaldas, que no quiero decir de mangas -- букв.: "благодаря
полам одежды, я не хочу сказать рукавам"; Faldas противопоставляется здесь
mangas: первое должно означать определенное жалованье, второе -- подношения,
взятки. Во времена Сервантеса, когда подкуп был всеобщим явлением среди
должностных лиц, было в обычае класть эту взятку в рукава их официальной
одежды, а эти рукава делались в то время необычайно широкими.} -- они имеют,
чем содержать себя; следовательно, хотя труд солдата и больше,
вознаграждение его куда меньше. На это мне могут возразить, что легче
вознаградить две тысячи ученых, чем тридцать тысяч солдат, потому что первые
вознаграждаются должностями, которые силою вещей могут быть заняты только
людьми их звания, в то время как солдаты могут быть вознаграждены не иначе
как из средств сеньора, которому они служат; и эта-то невозможность еще
больше подтверждает доводы, приводимые мною. Однако оставим это в стороне,
так как это лабиринт, из которого трудно выбраться, и вернемся к
превосходству оружия над словесными науками, -- вопросу, до сих пор еще не
решенному, судя по доводам, которые каждая из сторон приводит в свою пользу.
Кроме тех, о которых я уже упоминал, словесные науки еще говорят, что без
них и оружие не могло бы существовать, потому что и война тоже имеет свои
законы и подчинена им, а законы входят в область словесных наук и людей
пера. На это оружие отвечает, что без него не могли бы существовать и
законы, так как оружием ограждаются государства, поддерживаются королевства,
охраняются города, достигается безопасность дорог и очищаются моря от
пиратов, и в конце концов, если б не оружие, государства, королевства,
монархии, города, сухопутные дороги и моря были бы обречены на жертвы смутам
и жестокостям, которые ведет за собой война на то время, пока она
продолжается и свободно пользуется своими правами и своею властью. К тому же
истина доказанная: все, что стоит дороже, и ценится и должно цениться выше.
Чтобы отличиться и выдвинуться в словесных науках, приходится платить за это
временем, бессонными ночами, голодом, наготой, головокружениями, несварением
желудка и другими тому подобными вещами, о которых я уже отчасти упоминал.
Но если кто желает, пройдя по всем ступеням, сделаться хорошим солдатом, ему
придется претерпеть то же, что и студенту, только в еще гораздо больших
размерах, так что не может быть между ними и сравнения, потому что на каждом
шагу солдат подвергается опасности лишиться жизни. Какой же страх перед
нуждой или бедностью, постигнувший студента и мучащий его, может сравниться
с тем, который овладевает солдатом, находящимся в осажденной крепости, когда
он, стоя на посту или на часах где-нибудь в равелине или на бастионе,
слышит, что неприятель подводит мину по направлению того места, где он
находится, но ни в каком случае не смеет ни на шаг уйти оттуда или бежать от
опасности, которая ему так близко угрожает. Единственное, что он может
сделать, -- это дать знать о том, что происходит, своему начальнику, чтобы
тот поправил дело какой-нибудь контрминой, а сам он должен стоять спокойно в
страхе и ожидании, что вот-вот его без крыльев занесет под облака и он
низринется в бездну против своей воли. А если и эта опасность кажется
незначительной, посмотрим, равняется ли ей или превосходит ее та, когда две
враждебные галеры, встретившись в безбрежном море, сцепляются на абордаж,
оставив солдату не более пространства, как только доску в два фута на носу
корабля; и тем не менее видя перед собой столько угрожающих ему послов
смерти, сколько на неприятельском корабле установлено пушек, отстоящих от
его тела на длину копья, и зная, что при первом неверном шаге ему придется
посетить глубокие недра Нептуна, тем не менее с бесстрашным сердцем,
движимый одушевляющим его велением чести, он решается быть мишенью всех этих
огнестрельных орудий и пытается перейти по узкому проходу на неприятельский
корабль. И вот что заслуживает еще большего удивления: едва один упал туда,
откуда ему уже нельзя будет подняться до конца мира, как уже другой занял
его место; и если и этот упадет в море, которое, как враг, стережет его, за
ним последуют еще и еще, один за другим, не давая даже времени умереть
предыдущим, -- величайшая доблесть и отвага, которую только мыслимо проявить
во всех опасностях войны. Хвала благословенным векам, не знавшим ужасающей
ярости этих дьявольских артиллерийских орудий, изобретатель которых,
думается мне, получает в аду награду за сатанинское свое изобретение,
являющееся причиной того, что гнусная и трусливая рука отнимает жизнь у
доблестного рыцаря; и того, что неведомо как и откуда, среди отваги и
мужества, воодушевляющих и воспламеняющих груди храбрецов, пронесется
шальная пуля, пущенная, быть может, тем, который бежал и испугался блеска
огня при выстреле из проклятой машины, и эта пуля в одно мгновение
уничтожает и пресекает мысли и жизнь того, кто заслуживал бы наслаждаться ею
еще долгие и долгие годы. Вот почему, вспомнив об этом, я готов сказать:
душа моя болит при мысли, что я избрал себе профессию странствующего рыцаря
в столь отвратительный век, как тот, в котором мы теперь живем; так как,
хотя никакая опасность не страшит меня, тем не менее мне жутко думать, что
порох и свинец могут отнять у меня случай прославиться и сделаться известным
на всем пространстве земного шара доблестью руки моей и острием меча моего.
Но пусть совершится то, что будет угодно небу, потому что настолько выше
поставят меня, -- если я достигну того, к чему стремлюсь, -- насколько
большим опасностям я подвергался сравнительно с опасностями, которым
подвергались странствующие рыцари прошлых веков.
Всю эту длинную тираду Дон Кихот произнес, пока остальные ели, не кладя
себе ни куска в рот, несмотря на то, что Санчо Панса несколько раз напоминал
ему, чтобы он ужинал, так как и после успеет сказать все, что пожелает. Тех,
которые слушали его, охватило снова сострадание при виде человека,
обладавшего, как казалось, таким светлым умом, умеющего так хорошо
рассуждать обо всех предметах, но терявшего бесповоротно рассудок, лишь
только дело касалось его черного как смоль проклятого рыцарства. Священник
заявил ему, что он совершенно прав во всем, что говорил в пользу оружия, и
что сам он -- священник -- хотя и учился и имеет ученую степень, но держится
того же мнения. Кончили ужинать, сняли со стола, и пока хозяйка, ее дочь и
Мариторнес приводили в порядок чердак Дон Кихота Ламанчского, где решили
уложить спать на эту ночь одних только женщин, -- дон Фернандо попросил
пленника рассказать им историю своей жизни, которая не может не быть
интересной и занимательной, судя уже по тому, что он приехал сюда в обществе
Сораиды. На это пленник ответил, что очень охотно сделает то, о чем его
просят, но опасается лишь одного: его повесть такого рода, что вряд ли может
доставить им удовольствие, которое он желал бы доставить; тем не менее,
подчиняясь их воле, он готов приступить к рассказу. Священник и остальные
поблагодарили его и возобновили свои просьбы, а он, видя, что столь многие
упрашивают его, сказал, что нет надобности в упрашивании там, где имеют
власть требовать.
-- Итак, -- добавил он, -- будьте внимательны, сеньоры, и вы услышите
правдивую историю, с которою, быть может, не сравниться вымыслам,
обыкновенно столь старательно и искусно сочиняемым.
После этих его слов, все уселись, храня глубокое молчание; а он, видя,
что они молчат и ждут его рассказа, приятным и спокойным голосом начал так.
Продолжая свою речь, Дон Кихот сказал:
-- Так как, говоря о студенте, мы начали с бедности и ее проявлений,
посмотрим теперь, богаче ли солдат, и мы увидим, что в самой бедности никто
не беднее его, потому что он должен довольствоваться одним лишь несчастным
своим жалованием, выплачиваемым поздно или никогда, или же тем, что он
награбит собственными руками с немалой опасностью для жизни и совести своей.
При этом нагота его доходит иногда до того, что изрубленная куртка служит
ему и парадной одеждой и рубашкой, и, находясь в открытом поле среди зимы,
он защищен от непогоды и стужи одним лишь дыханием своего рта, а так как оно
выходит из пустого места, то я считаю достоверным, что оно должно выходить
холодным, вопреки законам природы. Но, думаете вы, пусть он подождет, пока
наступит ночь, чтобы отдохнуть от всех этих неудобств в приготовленной для
него постели; а она никогда не грешит тем, что узка, разве только по
собственной его вине, потому что он может себе отмерить сколько хочет футов
на земле и ворочаться здесь во все свое удовольствие, не боясь измять
простынь. И вот, после всего этого, наступает для него день и час получить
высшую степень в своем искусстве: наступает день сражения, когда ему наденут
на голову докторскую шапку с кисточкой {Borla -- букв. "кисточка", которая
прикреплялась к университетской шапке и служила знаком докторской ученой
степени.}, сделанную из корпии, чтобы вылечить рану от пули, которая, быть
может, прошла у него через виски или же искалечила ему ногу или руку {Никто
лучше Сервантеса, знавшего все это по собственному опыту, не мог и не имел
права говорить о лишениях солдата и тяжелом его положении, особенно тяжелом
в Испании в царствование Филиппа II и его сына.}. Если же и этого не
случилось и милосердное небо сохранило его живым и невредимым, он, вернее
всего, останется таким же бедняком, каким был и прежде, и потребуется, чтобы
одно сражение следовало за другим, одна битва за другой, и он из всех из них
выходил победителем для того, чтобы несколько улучшилось его положение; а
такие чудеса встречаются редко. Но скажите-ка мне, сеньоры, если вы
когда-нибудь об этом думали, насколько число награжденных за военные
действия меньше сравнительно с погибшими от них? Без сомнения, вы ответите
мне, что между ними не может быть сравнения, -- так как нельзя и исчислить
мертвых, а награжденных живых можно сосчитать тремя цифрами {Т. е. менее
тысячи.}.
Совершенно обратное мы видим среди прошедших курс наук {letrados --
люди, прошедшие курс науки, адвокаты, должностные лица, доктора и т. д.},
так как благодаря жалованию -- я не хочу сказать побочным доходам {В
оригинале: defaldas, que no quiero decir de mangas -- букв.: "благодаря
полам одежды, я не хочу сказать рукавам"; Faldas противопоставляется здесь
mangas: первое должно означать определенное жалованье, второе -- подношения,
взятки. Во времена Сервантеса, когда подкуп был всеобщим явлением среди
должностных лиц, было в обычае класть эту взятку в рукава их официальной
одежды, а эти рукава делались в то время необычайно широкими.} -- они имеют,
чем содержать себя; следовательно, хотя труд солдата и больше,
вознаграждение его куда меньше. На это мне могут возразить, что легче
вознаградить две тысячи ученых, чем тридцать тысяч солдат, потому что первые
вознаграждаются должностями, которые силою вещей могут быть заняты только
людьми их звания, в то время как солдаты могут быть вознаграждены не иначе
как из средств сеньора, которому они служат; и эта-то невозможность еще
больше подтверждает доводы, приводимые мною. Однако оставим это в стороне,
так как это лабиринт, из которого трудно выбраться, и вернемся к
превосходству оружия над словесными науками, -- вопросу, до сих пор еще не
решенному, судя по доводам, которые каждая из сторон приводит в свою пользу.
Кроме тех, о которых я уже упоминал, словесные науки еще говорят, что без
них и оружие не могло бы существовать, потому что и война тоже имеет свои
законы и подчинена им, а законы входят в область словесных наук и людей
пера. На это оружие отвечает, что без него не могли бы существовать и
законы, так как оружием ограждаются государства, поддерживаются королевства,
охраняются города, достигается безопасность дорог и очищаются моря от
пиратов, и в конце концов, если б не оружие, государства, королевства,
монархии, города, сухопутные дороги и моря были бы обречены на жертвы смутам
и жестокостям, которые ведет за собой война на то время, пока она
продолжается и свободно пользуется своими правами и своею властью. К тому же
истина доказанная: все, что стоит дороже, и ценится и должно цениться выше.
Чтобы отличиться и выдвинуться в словесных науках, приходится платить за это
временем, бессонными ночами, голодом, наготой, головокружениями, несварением
желудка и другими тому подобными вещами, о которых я уже отчасти упоминал.
Но если кто желает, пройдя по всем ступеням, сделаться хорошим солдатом, ему
придется претерпеть то же, что и студенту, только в еще гораздо больших
размерах, так что не может быть между ними и сравнения, потому что на каждом
шагу солдат подвергается опасности лишиться жизни. Какой же страх перед
нуждой или бедностью, постигнувший студента и мучащий его, может сравниться
с тем, который овладевает солдатом, находящимся в осажденной крепости, когда
он, стоя на посту или на часах где-нибудь в равелине или на бастионе,
слышит, что неприятель подводит мину по направлению того места, где он
находится, но ни в каком случае не смеет ни на шаг уйти оттуда или бежать от
опасности, которая ему так близко угрожает. Единственное, что он может
сделать, -- это дать знать о том, что происходит, своему начальнику, чтобы
тот поправил дело какой-нибудь контрминой, а сам он должен стоять спокойно в
страхе и ожидании, что вот-вот его без крыльев занесет под облака и он
низринется в бездну против своей воли. А если и эта опасность кажется
незначительной, посмотрим, равняется ли ей или превосходит ее та, когда две
враждебные галеры, встретившись в безбрежном море, сцепляются на абордаж,
оставив солдату не более пространства, как только доску в два фута на носу
корабля; и тем не менее видя перед собой столько угрожающих ему послов
смерти, сколько на неприятельском корабле установлено пушек, отстоящих от
его тела на длину копья, и зная, что при первом неверном шаге ему придется
посетить глубокие недра Нептуна, тем не менее с бесстрашным сердцем,
движимый одушевляющим его велением чести, он решается быть мишенью всех этих
огнестрельных орудий и пытается перейти по узкому проходу на неприятельский
корабль. И вот что заслуживает еще большего удивления: едва один упал туда,
откуда ему уже нельзя будет подняться до конца мира, как уже другой занял
его место; и если и этот упадет в море, которое, как враг, стережет его, за
ним последуют еще и еще, один за другим, не давая даже времени умереть
предыдущим, -- величайшая доблесть и отвага, которую только мыслимо проявить
во всех опасностях войны. Хвала благословенным векам, не знавшим ужасающей
ярости этих дьявольских артиллерийских орудий, изобретатель которых,
думается мне, получает в аду награду за сатанинское свое изобретение,
являющееся причиной того, что гнусная и трусливая рука отнимает жизнь у
доблестного рыцаря; и того, что неведомо как и откуда, среди отваги и
мужества, воодушевляющих и воспламеняющих груди храбрецов, пронесется
шальная пуля, пущенная, быть может, тем, который бежал и испугался блеска
огня при выстреле из проклятой машины, и эта пуля в одно мгновение
уничтожает и пресекает мысли и жизнь того, кто заслуживал бы наслаждаться ею
еще долгие и долгие годы. Вот почему, вспомнив об этом, я готов сказать:
душа моя болит при мысли, что я избрал себе профессию странствующего рыцаря
в столь отвратительный век, как тот, в котором мы теперь живем; так как,
хотя никакая опасность не страшит меня, тем не менее мне жутко думать, что
порох и свинец могут отнять у меня случай прославиться и сделаться известным
на всем пространстве земного шара доблестью руки моей и острием меча моего.
Но пусть совершится то, что будет угодно небу, потому что настолько выше
поставят меня, -- если я достигну того, к чему стремлюсь, -- насколько
большим опасностям я подвергался сравнительно с опасностями, которым
подвергались странствующие рыцари прошлых веков.
Всю эту длинную тираду Дон Кихот произнес, пока остальные ели, не кладя
себе ни куска в рот, несмотря на то, что Санчо Панса несколько раз напоминал
ему, чтобы он ужинал, так как и после успеет сказать все, что пожелает. Тех,
которые слушали его, охватило снова сострадание при виде человека,
обладавшего, как казалось, таким светлым умом, умеющего так хорошо
рассуждать обо всех предметах, но терявшего бесповоротно рассудок, лишь
только дело касалось его черного как смоль проклятого рыцарства. Священник
заявил ему, что он совершенно прав во всем, что говорил в пользу оружия, и
что сам он -- священник -- хотя и учился и имеет ученую степень, но держится
того же мнения. Кончили ужинать, сняли со стола, и пока хозяйка, ее дочь и
Мариторнес приводили в порядок чердак Дон Кихота Ламанчского, где решили
уложить спать на эту ночь одних только женщин, -- дон Фернандо попросил
пленника рассказать им историю своей жизни, которая не может не быть
интересной и занимательной, судя уже по тому, что он приехал сюда в обществе
Сораиды. На это пленник ответил, что очень охотно сделает то, о чем его
просят, но опасается лишь одного: его повесть такого рода, что вряд ли может
доставить им удовольствие, которое он желал бы доставить; тем не менее,
подчиняясь их воле, он готов приступить к рассказу. Священник и остальные
поблагодарили его и возобновили свои просьбы, а он, видя, что столь многие
упрашивают его, сказал, что нет надобности в упрашивании там, где имеют
власть требовать.
-- Итак, -- добавил он, -- будьте внимательны, сеньоры, и вы услышите
правдивую историю, с которою, быть может, не сравниться вымыслам,
обыкновенно столь старательно и искусно сочиняемым.
После этих его слов, все уселись, храня глубокое молчание; а он, видя,
что они молчат и ждут его рассказа, приятным и спокойным голосом начал так.
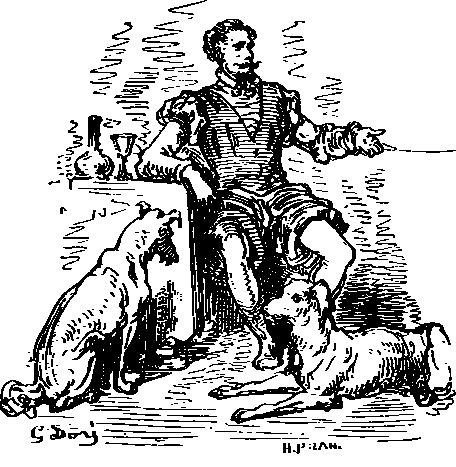
 В одном местечке в Леонских горах получил начало свое наш род, к
которому более щедрой и благосклонной оказалась природа, чем счастье, хотя
среди бедноты тех мест отец мой все еще слыл за богача и действительно был
бы им, если бы он в той же степени умел сберечь свое состояние, как он
расточал его. А эта его склонность быть щедрым и расточительным происходила
оттого, что в молодости он был солдатом, так как солдатское звание -- школа,
в которой скупой делается щедрым, а щедрый -- расточительным, и если и
найдется несколько солдат-скряг, то это словно чудовища, встречающиеся очень
редко. Мой отец перешел границы щедрости и зашел в область расточительности,
-- вещь, не приносящая пользы женатому человеку, имеющему детей, которым
предстоит наследовать его имя и состояние. У моего отца детей было трое, все
сыновья, и все в возрасте, когда уже можно избрать себе род деятельности.
Итак, отец, видя -- как он сам говорил, -- что он не в состоянии сдержать
своих наклонностей, решил лишить себя повода и возможности быть
расточительным и мотом, то есть он решил отказаться от своего состояния, а
без состояния и сам Александр {Александр Македонский.} должен был бы стать
бережливым.
Поэтому однажды, позвав нас всех трех к себе в комнату, он обратился к
нам приблизительно со следующими словами:
-- Сыновья, чтобы сказать вам, что я люблю вас, достаточно знать и
сказать, что вы мои дети; а чтобы понять, как плохо я вас люблю, достаточно
знать, что я не умею жить так, чтобы сберечь ваше состояние. Но чтобы вы
отныне и впредь увидели, что я люблю вас, как отец, и не желаю разорить вас,
словно отчим, я намерен сделать одну вещь, которую давно уже обдумывал и
после зрелого размышления решил привести в исполнение. Вы в таком теперь
возрасте, что вам необходимо подумать о выборе себе деятельности или по
крайней мере такого рода занятия, которое в зрелых летах может доставить вам
и честь, и выгоду. Я надумал вот что: разделить мое состояние на четыре
части; из них три отдать вам,-- каждому ту, которая ему принадлежит, не
делая между вами никакой разницы; четвертую же часть оставлю себе, чтобы
жить и поддерживать существование мое в течение того остатка дней, которое
небу будет угодно послать мне. Но мне бы хотелось, чтобы каждый из вас,
получив во владение принадлежащую ему долю имущества, избрал бы одну из тех
дорог, которую я вам укажу. У нас в Испании есть пословица, по-моему очень
справедливая, как, впрочем, и все пословицы, так как они краткие изречения,
извлеченные из долгого и мудрого опыта, а та, которую я подразумеваю,
гласит: "Церковь, или море, или королевский дворец", то есть, чтобы сказать
яснее: кто желает преуспеть и быть богатым, пусть идет в духовное звание,
или пустится в море, занимаясь торговлей, или же поступит на службу к королю
в его дворце, потому что говорится: "Лучше крохи короля, чем милости
сеньора". Говорю это потому, что я желал бы, и такова моя воля, чтобы один
из вас посвятил себя словесным наукам, другой -- торговле, а третий служил
бы королю на войне, так как попасть к нему на службу во дворец трудно, а
война хотя и не обогащает, зато может дать известность и славу. Через неделю
я каждому из вас выплачу его часть наличными деньгами, не обсчитав никого ни
на грош, как вы это и увидите на деле. А теперь скажите мне: согласны ли вы
принять мое предложение и следовать моему совету?
Мне, как старшему, отец велел первому ответить, и я попросил его не
отказываться от своего состояния и тратить его, как ему вздумается, так как
мы молоды и сумеем сами кой-что приобрести себе, и в заключение я сказал,
что готов подчиниться его желанию, избрать военную карьеру и служить в ней
Богу и моему королю. Второй брат, сделав отцу те же предложения, как и я,
решил ехать в Индию, взяв свою долю, и заняться там торговлей. Младший брат
-- и, как мне кажется, самый рассудительный -- сказал, что он желает
вступить в духовное звание или же отправиться кончать начатый им курс наук в
Саламанке.
Когда мы таким образом условились и каждый избрал себе свой род
деятельности, отец поцеловал всех нас и в тот короткий срок, который был
назначен им, исполнил то, что обещал, и вручил каждому из нас его часть,
составлявшую, как я хорошо помню, три тысячи червонцев, потому что один наш
дядя купил все имение, чтобы оно не вышло из нашего рода, заплатив за него
наличными. В тот же день мы все трое простились с добрым нашим отцом, и, так
как мне казалось бесчеловечным оставить его, уже старого человека, со столь
маленькими средствами, я уговорил его взять из моих трех тысяч две тысячи
червонцев, потому что оставшейся тысячи было вполне достаточно, чтобы
снабдить меня всем необходимым для солдата. Мои два брата, следуя моему
примеру, тоже отдали отцу каждый по тысяче червонцев, так что у него
оказалось четыре тысячи червонцев наличными деньгами сверх трех тысяч
стоимости его части имения, которую он не захотел продать и оставил за
собой. Итак, говорю я, мы простились с ним и с нашим дядей, о котором я
упоминал, не без волнения и слез с той и другой стороны; и они поручили нам
при всяком удобном случае извещать их о благоприятных или неблагоприятных
событиях нашей жизни. Обещав сделать это, расцеловавшись с ними и получив их
благословение, один из нас отправился в Саламанку, другой -- в Севилью, а я
-- в Аликанте, где, как я узнал, находился генуэсский корабль, грузившийся
там шерстью для Генуи.
Теперь будет двадцать два года, как я покинул дом моего отца, и в
течение всего этого времени хотя я и написал несколько писем, но не получил
никаких известий ни об отце, ни о моих братьях. То, что случилось со мной за
это время, я расскажу вам в кратких словах. Сел я на корабль в Аликанте и
после благополучного плавания прибыл в Геную, а оттуда уехал в Милан, где
запасся оружием и военной одеждой. Из Милана я решил ехать в Пьемонт, чтобы
поступить там в солдаты, но по дороге в Александрию-делла-Палья {В те
времена это была -- да и теперь еще остается -- сильная крепость на реке
Танаро, возведенная в XII в. гвельфами и прозванная гибеллинами в насмешку
de la Paglia -- "Соломенная".} до меня дошло сведение, что знаменитый герцог
Альба отправляется во Фландрию. Тогда я изменил намерение, поступил к нему
на службу, участвовал в данных им сражениях, присутствовал при смерти графов
Эгмонта и Горна и достиг чина прапорщика под командой одного знаменитого
капитана из Гадалахары, которого звали Диего де Урбина. Через некоторое
время после того, как я прибыл во Фландрию, было здесь получено известие о
союзе, который блаженной памяти его святейшество папа Пий V заключил с
Венецией и с Испанией против общего врага их -- турок, флот которых около
этого времени овладел знаменитым островом Кипр, находившимся под
владычеством венецианцев, -- злополучная и плачевная потеря! Стало известно,
что главнокомандующим союзных войск будет светлейший дон Хуан Австрийский,
побочный брат нашего доброго короля дона Филиппа II; носились также и слухи
о необычайно грандиозных военных приготовлениях, которые будто бы
производились. Все это возбуждало и разжигало во мне стремление и желание
участвовать в предстоявшем походе. И хотя у меня была надежда и даже почти
полная уверенность, что при первом же случае я буду произведен в капитаны, я
решил бросить все и отправиться, как я это и сделал, в Италию. Счастливой
моей судьбе было угодно, чтобы сеньор дон Хуан Австрийский как раз приехал
тогда в Геную, откуда он отправился в Неаполь для соединения с венецианским
флотом, что он затем и сделал в Мессине. Итак, скажу вам, что мне пришлось
участвовать в том знаменитом сражении {Морское сражение при Лепанто, в
котором участвовал и сам Сервантес.}, будучи уже пехотным капитаном, а
достигнул я почетного этого чина скорей благодаря счастливой судьбе, чем
вследствие моих заслуг. И в тот день, который оказался столь счастливым для
всего христианства, потому что весь свет и все народы были выведены из
заблуждения, в котором они пребывали, думая, что турки непобедимы на море,
-- в этот день, говорю я, когда гордость и надменность Оттоманов была
сломлена, среди стольких счастливых, находившихся там (потому что еще
счастливее были убитые христиане, чем оставшиеся в живых), один я был
несчастный, так как, вместо того чтобы надеяться -- если б это происходило в
дни римлян -- быть увенчанным каким-нибудь флотским венком, я увидел себя в
ту ночь, следовавшую за таким славным днем, с оковами на ногах и с кандалами
на руках.
Случилось это следующим образом: когда алжирский король Эль-Учали,
отважный и счастливый корсар, напал на главную мальтийскую галеру и
восторжествовал над нею, так что в живых там остались лишь только три рыцаря
и те тяжелораненые, -- на помощь ей поспешила главная галера Хуана Андреа,
на которой находился и я со своим отрядом. Исполняя то, что мне повелевал
долг мой, я вскочил на неприятельскую галеру, которая, вырвавшись от нашей,
взявшей ее на абордаж, помешала моим солдатам следовать за мной, вследствие
чего я очутился один среди врагов, справиться с которыми я не мог, ввиду
того что их было так много. Наконец они побороли меня, всего покрытого
ранами; и как вы, сеньоры, верно, уже слышали, Эль-Учали удалось спастись со
всей своей эскадрой, я же остался пленником в его власти, один печальный
среди стольких веселых, один в плену среди стольких свободных, потому что в
тот день пятнадцать тысяч христианских невольников, бывших гребцами в
турецком флоте, получили желанную свободу. Меня увезли в Константинополь,
где султан Селим назначил моего господина морским главнокомандующим за то,
что он исполнил свой долг в сражении, взяв в доказательство своего мужества
знамя Мальтийского ордена. В следующем году, именно в 1572-м, я был при
Наварине и греб на главной турецкой галере с тремя фонарями {Три фонаря на
корме были в те времена отличительным знаком корабля, на котором находился
главнокомандующий флотом.}. И я видел здесь и заметил, что тогда был упущен
случай захватить в порту весь турецкий флот, так как бывшие в нем левантинцы
и янычары, уверенные, что на них нападут в самом порту, уже держали наготове
свою одежду и пассамаки -- это их башмаки, -- чтобы бежать тотчас на берег,
не ожидая сражения, так велик был страх, внушенный им нашим флотом. Однако
небо распорядилось иначе, -- не вследствие небрежности или беззаботности
генерала, который командовал нашими, а за грехи всего христианства и потому,
что Богу угодно и Он дозволяет, чтобы всегда у нас были палачи, карающие
нас. Итак, Эль-Учали укрылся в Модоне -- а это остров вблизи Наварина,-- и,
высадив здесь своих людей на берег, он укрепил вход в гавань и оставался
себе там спокойно, пока сеньор дон Хуан не удалился. В этой экспедиции была
захвачена галера под названием "Добыча", капитаном которой был один из
сыновей знаменитого корсара Барбаруссы. Взяла ее главная неаполитанская
галера по имени "Волчица", а ею командовал тот перун войны, отец солдат,
счастливый и непобедимый капитан, имя которого Алваро де Басан, маркиз де
Санта-Крус, и я не могу воздержаться, чтобы не рассказать, каким образом
произошло то, что "Добыча" сделалась нашей добычей. Сын Барбаруссы был так
жесток и так дурно обращался со своими пленниками, что, как только сидевшие
за веслами гребцы увидели приближающуюся к ним и настигающую их галеру
"Волчица", они все сразу бросили весла, схватили своего капитана, стоявшего
на заднем баке и кричавшего им, чтобы они сильнее гребли, и, бросая его со
скамьи на скамью, с кормы на нос, так его искусали, что едва он очутился за
мачтою, как уже душа его очутилась в аду; до того велика была -- как я уже
говорил -- жестокость, с которой он с ними обращался, и ненависть их к нему.
В одном местечке в Леонских горах получил начало свое наш род, к
которому более щедрой и благосклонной оказалась природа, чем счастье, хотя
среди бедноты тех мест отец мой все еще слыл за богача и действительно был
бы им, если бы он в той же степени умел сберечь свое состояние, как он
расточал его. А эта его склонность быть щедрым и расточительным происходила
оттого, что в молодости он был солдатом, так как солдатское звание -- школа,
в которой скупой делается щедрым, а щедрый -- расточительным, и если и
найдется несколько солдат-скряг, то это словно чудовища, встречающиеся очень
редко. Мой отец перешел границы щедрости и зашел в область расточительности,
-- вещь, не приносящая пользы женатому человеку, имеющему детей, которым
предстоит наследовать его имя и состояние. У моего отца детей было трое, все
сыновья, и все в возрасте, когда уже можно избрать себе род деятельности.
Итак, отец, видя -- как он сам говорил, -- что он не в состоянии сдержать
своих наклонностей, решил лишить себя повода и возможности быть
расточительным и мотом, то есть он решил отказаться от своего состояния, а
без состояния и сам Александр {Александр Македонский.} должен был бы стать
бережливым.
Поэтому однажды, позвав нас всех трех к себе в комнату, он обратился к
нам приблизительно со следующими словами:
-- Сыновья, чтобы сказать вам, что я люблю вас, достаточно знать и
сказать, что вы мои дети; а чтобы понять, как плохо я вас люблю, достаточно
знать, что я не умею жить так, чтобы сберечь ваше состояние. Но чтобы вы
отныне и впредь увидели, что я люблю вас, как отец, и не желаю разорить вас,
словно отчим, я намерен сделать одну вещь, которую давно уже обдумывал и
после зрелого размышления решил привести в исполнение. Вы в таком теперь
возрасте, что вам необходимо подумать о выборе себе деятельности или по
крайней мере такого рода занятия, которое в зрелых летах может доставить вам
и честь, и выгоду. Я надумал вот что: разделить мое состояние на четыре
части; из них три отдать вам,-- каждому ту, которая ему принадлежит, не
делая между вами никакой разницы; четвертую же часть оставлю себе, чтобы
жить и поддерживать существование мое в течение того остатка дней, которое
небу будет угодно послать мне. Но мне бы хотелось, чтобы каждый из вас,
получив во владение принадлежащую ему долю имущества, избрал бы одну из тех
дорог, которую я вам укажу. У нас в Испании есть пословица, по-моему очень
справедливая, как, впрочем, и все пословицы, так как они краткие изречения,
извлеченные из долгого и мудрого опыта, а та, которую я подразумеваю,
гласит: "Церковь, или море, или королевский дворец", то есть, чтобы сказать
яснее: кто желает преуспеть и быть богатым, пусть идет в духовное звание,
или пустится в море, занимаясь торговлей, или же поступит на службу к королю
в его дворце, потому что говорится: "Лучше крохи короля, чем милости
сеньора". Говорю это потому, что я желал бы, и такова моя воля, чтобы один
из вас посвятил себя словесным наукам, другой -- торговле, а третий служил
бы королю на войне, так как попасть к нему на службу во дворец трудно, а
война хотя и не обогащает, зато может дать известность и славу. Через неделю
я каждому из вас выплачу его часть наличными деньгами, не обсчитав никого ни
на грош, как вы это и увидите на деле. А теперь скажите мне: согласны ли вы
принять мое предложение и следовать моему совету?
Мне, как старшему, отец велел первому ответить, и я попросил его не
отказываться от своего состояния и тратить его, как ему вздумается, так как
мы молоды и сумеем сами кой-что приобрести себе, и в заключение я сказал,
что готов подчиниться его желанию, избрать военную карьеру и служить в ней
Богу и моему королю. Второй брат, сделав отцу те же предложения, как и я,
решил ехать в Индию, взяв свою долю, и заняться там торговлей. Младший брат
-- и, как мне кажется, самый рассудительный -- сказал, что он желает
вступить в духовное звание или же отправиться кончать начатый им курс наук в
Саламанке.
Когда мы таким образом условились и каждый избрал себе свой род
деятельности, отец поцеловал всех нас и в тот короткий срок, который был
назначен им, исполнил то, что обещал, и вручил каждому из нас его часть,
составлявшую, как я хорошо помню, три тысячи червонцев, потому что один наш
дядя купил все имение, чтобы оно не вышло из нашего рода, заплатив за него
наличными. В тот же день мы все трое простились с добрым нашим отцом, и, так
как мне казалось бесчеловечным оставить его, уже старого человека, со столь
маленькими средствами, я уговорил его взять из моих трех тысяч две тысячи
червонцев, потому что оставшейся тысячи было вполне достаточно, чтобы
снабдить меня всем необходимым для солдата. Мои два брата, следуя моему
примеру, тоже отдали отцу каждый по тысяче червонцев, так что у него
оказалось четыре тысячи червонцев наличными деньгами сверх трех тысяч
стоимости его части имения, которую он не захотел продать и оставил за
собой. Итак, говорю я, мы простились с ним и с нашим дядей, о котором я
упоминал, не без волнения и слез с той и другой стороны; и они поручили нам
при всяком удобном случае извещать их о благоприятных или неблагоприятных
событиях нашей жизни. Обещав сделать это, расцеловавшись с ними и получив их
благословение, один из нас отправился в Саламанку, другой -- в Севилью, а я
-- в Аликанте, где, как я узнал, находился генуэсский корабль, грузившийся
там шерстью для Генуи.
Теперь будет двадцать два года, как я покинул дом моего отца, и в
течение всего этого времени хотя я и написал несколько писем, но не получил
никаких известий ни об отце, ни о моих братьях. То, что случилось со мной за
это время, я расскажу вам в кратких словах. Сел я на корабль в Аликанте и
после благополучного плавания прибыл в Геную, а оттуда уехал в Милан, где
запасся оружием и военной одеждой. Из Милана я решил ехать в Пьемонт, чтобы
поступить там в солдаты, но по дороге в Александрию-делла-Палья {В те
времена это была -- да и теперь еще остается -- сильная крепость на реке
Танаро, возведенная в XII в. гвельфами и прозванная гибеллинами в насмешку
de la Paglia -- "Соломенная".} до меня дошло сведение, что знаменитый герцог
Альба отправляется во Фландрию. Тогда я изменил намерение, поступил к нему
на службу, участвовал в данных им сражениях, присутствовал при смерти графов
Эгмонта и Горна и достиг чина прапорщика под командой одного знаменитого
капитана из Гадалахары, которого звали Диего де Урбина. Через некоторое
время после того, как я прибыл во Фландрию, было здесь получено известие о
союзе, который блаженной памяти его святейшество папа Пий V заключил с
Венецией и с Испанией против общего врага их -- турок, флот которых около
этого времени овладел знаменитым островом Кипр, находившимся под
владычеством венецианцев, -- злополучная и плачевная потеря! Стало известно,
что главнокомандующим союзных войск будет светлейший дон Хуан Австрийский,
побочный брат нашего доброго короля дона Филиппа II; носились также и слухи
о необычайно грандиозных военных приготовлениях, которые будто бы
производились. Все это возбуждало и разжигало во мне стремление и желание
участвовать в предстоявшем походе. И хотя у меня была надежда и даже почти
полная уверенность, что при первом же случае я буду произведен в капитаны, я
решил бросить все и отправиться, как я это и сделал, в Италию. Счастливой
моей судьбе было угодно, чтобы сеньор дон Хуан Австрийский как раз приехал
тогда в Геную, откуда он отправился в Неаполь для соединения с венецианским
флотом, что он затем и сделал в Мессине. Итак, скажу вам, что мне пришлось
участвовать в том знаменитом сражении {Морское сражение при Лепанто, в
котором участвовал и сам Сервантес.}, будучи уже пехотным капитаном, а
достигнул я почетного этого чина скорей благодаря счастливой судьбе, чем
вследствие моих заслуг. И в тот день, который оказался столь счастливым для
всего христианства, потому что весь свет и все народы были выведены из
заблуждения, в котором они пребывали, думая, что турки непобедимы на море,
-- в этот день, говорю я, когда гордость и надменность Оттоманов была
сломлена, среди стольких счастливых, находившихся там (потому что еще
счастливее были убитые христиане, чем оставшиеся в живых), один я был
несчастный, так как, вместо того чтобы надеяться -- если б это происходило в
дни римлян -- быть увенчанным каким-нибудь флотским венком, я увидел себя в
ту ночь, следовавшую за таким славным днем, с оковами на ногах и с кандалами
на руках.
Случилось это следующим образом: когда алжирский король Эль-Учали,
отважный и счастливый корсар, напал на главную мальтийскую галеру и
восторжествовал над нею, так что в живых там остались лишь только три рыцаря
и те тяжелораненые, -- на помощь ей поспешила главная галера Хуана Андреа,
на которой находился и я со своим отрядом. Исполняя то, что мне повелевал
долг мой, я вскочил на неприятельскую галеру, которая, вырвавшись от нашей,
взявшей ее на абордаж, помешала моим солдатам следовать за мной, вследствие
чего я очутился один среди врагов, справиться с которыми я не мог, ввиду
того что их было так много. Наконец они побороли меня, всего покрытого
ранами; и как вы, сеньоры, верно, уже слышали, Эль-Учали удалось спастись со
всей своей эскадрой, я же остался пленником в его власти, один печальный
среди стольких веселых, один в плену среди стольких свободных, потому что в
тот день пятнадцать тысяч христианских невольников, бывших гребцами в
турецком флоте, получили желанную свободу. Меня увезли в Константинополь,
где султан Селим назначил моего господина морским главнокомандующим за то,
что он исполнил свой долг в сражении, взяв в доказательство своего мужества
знамя Мальтийского ордена. В следующем году, именно в 1572-м, я был при
Наварине и греб на главной турецкой галере с тремя фонарями {Три фонаря на
корме были в те времена отличительным знаком корабля, на котором находился
главнокомандующий флотом.}. И я видел здесь и заметил, что тогда был упущен
случай захватить в порту весь турецкий флот, так как бывшие в нем левантинцы
и янычары, уверенные, что на них нападут в самом порту, уже держали наготове
свою одежду и пассамаки -- это их башмаки, -- чтобы бежать тотчас на берег,
не ожидая сражения, так велик был страх, внушенный им нашим флотом. Однако
небо распорядилось иначе, -- не вследствие небрежности или беззаботности
генерала, который командовал нашими, а за грехи всего христианства и потому,
что Богу угодно и Он дозволяет, чтобы всегда у нас были палачи, карающие
нас. Итак, Эль-Учали укрылся в Модоне -- а это остров вблизи Наварина,-- и,
высадив здесь своих людей на берег, он укрепил вход в гавань и оставался
себе там спокойно, пока сеньор дон Хуан не удалился. В этой экспедиции была
захвачена галера под названием "Добыча", капитаном которой был один из
сыновей знаменитого корсара Барбаруссы. Взяла ее главная неаполитанская
галера по имени "Волчица", а ею командовал тот перун войны, отец солдат,
счастливый и непобедимый капитан, имя которого Алваро де Басан, маркиз де
Санта-Крус, и я не могу воздержаться, чтобы не рассказать, каким образом
произошло то, что "Добыча" сделалась нашей добычей. Сын Барбаруссы был так
жесток и так дурно обращался со своими пленниками, что, как только сидевшие
за веслами гребцы увидели приближающуюся к ним и настигающую их галеру
"Волчица", они все сразу бросили весла, схватили своего капитана, стоявшего
на заднем баке и кричавшего им, чтобы они сильнее гребли, и, бросая его со
скамьи на скамью, с кормы на нос, так его искусали, что едва он очутился за
мачтою, как уже душа его очутилась в аду; до того велика была -- как я уже
говорил -- жестокость, с которой он с ними обращался, и ненависть их к нему.
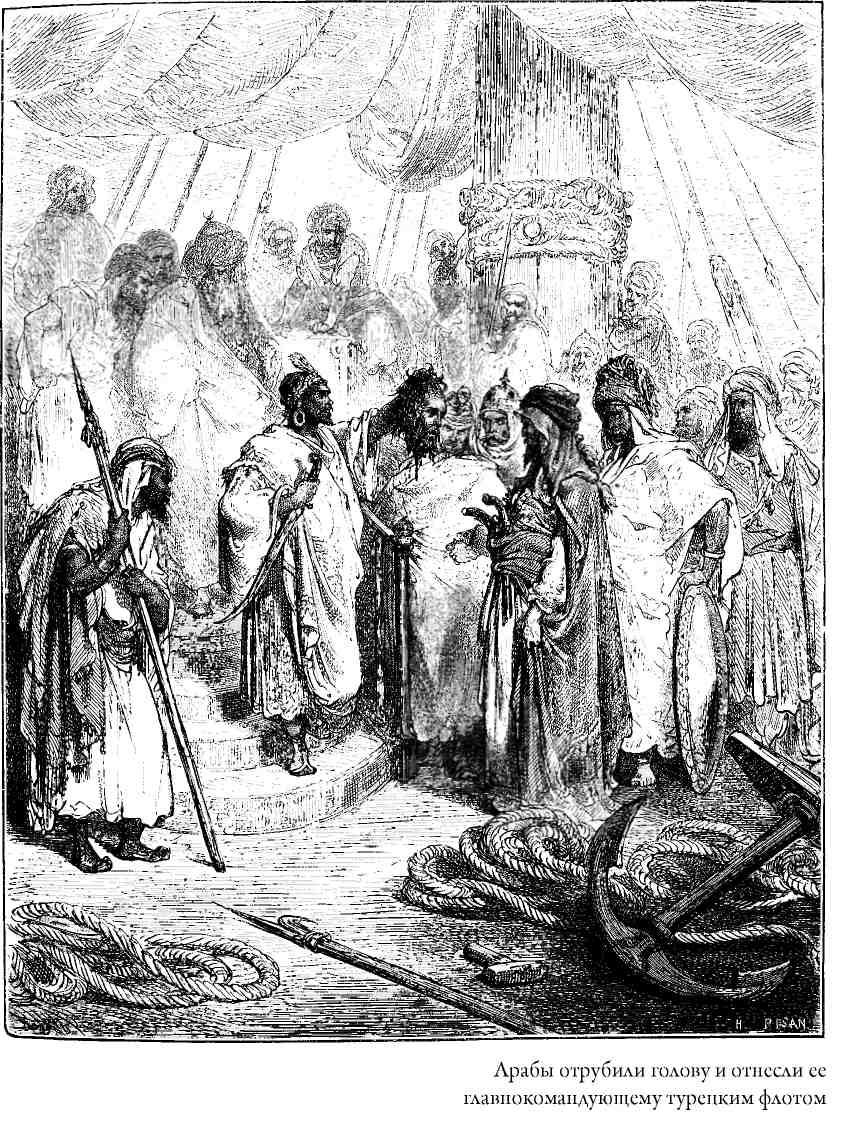 Мы вернулись в Константинополь и в следующем году, который был 1573-й,
узнали, что дон Хуан Австрийский завоевал Тунис, отняв у турок это
королевство, и отдал его Мулею Амету, -- разрушив все надежды возвратить
себе престол Мулея Амиды {Мулей Амет, или Магомет, и Мулей Амида были братья
-- сыновья Мулея Ассана, которому Карл V вернул тунисский престол, отнятый у
него Кейредином Барбаруссой. Тунис был завоеван турками в 1570 г., а в 1573
г. дон Хуан (в этом походе участвовал и Сервантес) взял город снова и
посадил на тунисский престол Мулея Амета, сместив Мулея Амиду, не
пользовавшегося любовью народа.}, самого жестокого и храброго мавра,
когда-либо жившего на свете. Потеря Туниса была очень чувствительна для
султана, и с лукавством, свойственным всем членам его династии, он заключил
мир с венецианцами, которые еще больше его желали мира; а в следующем, 1574
году, турки напали на Голету и на форт вблизи Туниса, оставленный наполовину
недостроенным доном Хуаном. В то время как все эти события происходили, я
продолжал грести на галере, без всякой надежды достичь свободы, -- по
крайней мере, я не надеялся получить ее путем выкупа, так как решил не
сообщать отцу моему известия о моем несчастии.
Наконец пала Голета, пал и форт, так как осаждать эти два укрепления
было собрано наемных турецких солдат семьдесят пять тысяч и более четырехсот
тысяч мавров и арабов со всей Африки, и эта громадная рать была снабжена
таким большим количеством военных припасов и орудий и таким множеством
саперов, что своими руками и брошенными горстями земли они могли бы покрыть
всю Голету и форт. Первой пала Голета, считавшаяся до тех пор неприступной
крепостью, и пала она не по вине своих защитников, сделавших для защиты ее
все, что они должны были и могли сделать, а благодаря легкости, с которою,
как показал опыт, можно было возводить траншеи в этой песчаной пустыне.
Обыкновенно находят воду на глубине двух футов, турки же не нашли ее и на
глубине двух саженей. Итак, с помощью множества мешков, набитых песком, они
возвели настолько высокие апроши, что они господствовали над крепостными
стенами, и, так как турки стреляли с высоты, командовавшей над крепостью,
осажденные не могли защищаться и упорствовать в своей защите. По тогдашнему
общему мнению, нашим не следовало запираться в Голете и лучше было бы ждать
врага в поле при высадке. Но те, которые так рассуждали, говорили
необдуманно, доказывая свою неопытность в подобного рода делах, потому что,
если и в Голете, и в форте было едва семь тысяч солдат, как же такое
незначительное количество, хотя бы самых отважных храбрецов, могло выступить
в открытое поле и взять верх над громадными силами неприятеля? И как можно
удержать за собой твердыню, не получающую ниоткуда подкрепления, тем более
когда ее осаждают враги, столь многочисленные и упорные и находящиеся в
собственной своей стране? Впрочем, многие, а также и я, придерживались того
мнения, что небо оказало особенную милость и благоволение Испании, допустив,
чтобы турки уничтожили это гнездо и приют беззаконий, ненасытную эту моль и
губку, всасывающую такое множество денег, которые здесь тратились без всякой
пользы, -- разве только для того, чтобы сохранить воспоминание о взятии этой
крепости счастливейшей памяти непобедимым Карлом V, как будто для
увековечения этой памяти, -- что уже и есть, и будет, -- нуждались в этих
камнях.
И форт тоже пал, но туркам пришлось брать его пядь за пядью, так как
защищавшие его солдаты сражались так храбро и упорно, что за время двадцати
двух штурмов, которые им пришлось выдержать, они убили более двадцати пяти
тысяч неприятелей, а из трехсот защитников форта, оставшихся в живых и
взятых в плен, все оказались ранеными, -- яркое и блестящее доказательство
их отваги и доблести и того, как они хорошо защищали и отстаивали крепость.
Сдался на капитуляцию маленький форт, или башня, стоявшая среди лагуны и
находившаяся под начальствованием дона Хуана Саногера, валенсийского
кабальеро и знаменитого воина. Был взят в плен и комендант Голеты дон Педро
Пуэртокарреро, сделавший все, что было возможно, для защиты крепости и так
близко принявший к сердцу падение ее, что он умер с горя по дороге в
Константинополь, куда его вели пленником. Также был взят в плен и комендант
форта по имени Габрио Сервелон, миланский кабальеро, знаменитый инженер и
доблестный воин. В двух этих крепостях погибло немало людей, пользовавшихся
известностью, и в числе их также и некто Паган Андреа де Ориа, рыцарь ордена
Святого Иоанна, -- человек великодушный, что он и доказал необычайной
щедростью к брату своему, знаменитому Хуану Андpea де Ориа {Паган де Ориа,
вступив в орден Святого Иоанна де Калатрава, отдал все свои обширные родовые
имения младшему своему брату, Хуану Андреа.}. Смерть его была еще более
достойна сожаления, оттого что он был убит несколькими арабами, которым он
доверился, когда уже видел, что форт погиб; они предложили провести его в
мавританской одежде в Табарка -- маленькую гавань, или стоянку,
принадлежавшую на том побережье генуэзцам, которые занимаются ловлей
кораллов. Арабы отрубили ему голову и отнесли ее главнокомандующему турецким
флотом, который оправдал на них нашу кастильскую пословицу: "Хотя бы измена
и была на руку, но изменник ненавистен", -- потому что, говорят, генерал
велел повесить тех, которые принесли ему подарок, за то, что они не
доставили рыцаря живым. В числе христиан, взятых в плен в форте, был также и
некто по имени Педро де Агиляр, родом не знаю из какого местечка Андалузии,
прапорщик крепостного гарнизона, превосходный солдат и человек редкого ума,
в особенности же необычайно даровитый в том, что называют поэзией. Говорю
это потому, что его судьба привела его на мою галеру, на одну скамью со
мной, и сделала его невольником моего же хозяина; и прежде чем мы оставили
форт, этот кабальеро сочинил два сонета вроде эпитафий: один -- посвященный
Голете, другой -- форту; и, право, охотно прочел бы их вам, так как я знаю
их наизусть и думаю, что они доставят вам скорее удовольствие, чем
утомление.
Когда пленник назвал дона Педро де Агиляра, дон Фернандо переглянулся
со своими товарищами и все трое улыбнулись; когда же он упомянул о сонетах,
один из кабальеро сказал:
-- Прежде чем продолжать, умоляю вашу милость, скажите мне, что сталось
с этим доном Педро де Агиляром, о котором вы упомянули?
-- Я знаю лишь то, -- ответил пленник, -- что по прошествии двух лет,
которые он пробыл в Константинополе, он в одежде арнаута бежал с греческим
шпионом, а затем мне неизвестно, вернул ли он или нет себе свободу; хотя я
думаю, что вернул, потому что год спустя я видел того грека в
Константинополе, но не мог его спросить, удачно ли было их путешествие.
-- Удачно, -- ответил кабальеро, -- потому что этот дон Педро мой брат,
и он теперь у нас на родине, здоров, богат, женат и имеет трех детей.
-- Да будет благословен Бог, -- воскликнул пленник, -- за великую
милость, которую он ему оказал, так как, по моему мнению, нет в мире
счастья, равного возвращению утраченной свободы!
-- Я знаю также, -- продолжал рыцарь, -- и сонеты, сочиненные моим
братом.
-- В таком случае скажите их нам, милость ваша, -- попросил пленник, --
потому что вы сумеете это сделать лучше, чем я.
-- С удовольствием, -- ответил кабальеро. -- В сонете, посвященном
Голете, говорится следующее.
Мы вернулись в Константинополь и в следующем году, который был 1573-й,
узнали, что дон Хуан Австрийский завоевал Тунис, отняв у турок это
королевство, и отдал его Мулею Амету, -- разрушив все надежды возвратить
себе престол Мулея Амиды {Мулей Амет, или Магомет, и Мулей Амида были братья
-- сыновья Мулея Ассана, которому Карл V вернул тунисский престол, отнятый у
него Кейредином Барбаруссой. Тунис был завоеван турками в 1570 г., а в 1573
г. дон Хуан (в этом походе участвовал и Сервантес) взял город снова и
посадил на тунисский престол Мулея Амета, сместив Мулея Амиду, не
пользовавшегося любовью народа.}, самого жестокого и храброго мавра,
когда-либо жившего на свете. Потеря Туниса была очень чувствительна для
султана, и с лукавством, свойственным всем членам его династии, он заключил
мир с венецианцами, которые еще больше его желали мира; а в следующем, 1574
году, турки напали на Голету и на форт вблизи Туниса, оставленный наполовину
недостроенным доном Хуаном. В то время как все эти события происходили, я
продолжал грести на галере, без всякой надежды достичь свободы, -- по
крайней мере, я не надеялся получить ее путем выкупа, так как решил не
сообщать отцу моему известия о моем несчастии.
Наконец пала Голета, пал и форт, так как осаждать эти два укрепления
было собрано наемных турецких солдат семьдесят пять тысяч и более четырехсот
тысяч мавров и арабов со всей Африки, и эта громадная рать была снабжена
таким большим количеством военных припасов и орудий и таким множеством
саперов, что своими руками и брошенными горстями земли они могли бы покрыть
всю Голету и форт. Первой пала Голета, считавшаяся до тех пор неприступной
крепостью, и пала она не по вине своих защитников, сделавших для защиты ее
все, что они должны были и могли сделать, а благодаря легкости, с которою,
как показал опыт, можно было возводить траншеи в этой песчаной пустыне.
Обыкновенно находят воду на глубине двух футов, турки же не нашли ее и на
глубине двух саженей. Итак, с помощью множества мешков, набитых песком, они
возвели настолько высокие апроши, что они господствовали над крепостными
стенами, и, так как турки стреляли с высоты, командовавшей над крепостью,
осажденные не могли защищаться и упорствовать в своей защите. По тогдашнему
общему мнению, нашим не следовало запираться в Голете и лучше было бы ждать
врага в поле при высадке. Но те, которые так рассуждали, говорили
необдуманно, доказывая свою неопытность в подобного рода делах, потому что,
если и в Голете, и в форте было едва семь тысяч солдат, как же такое
незначительное количество, хотя бы самых отважных храбрецов, могло выступить
в открытое поле и взять верх над громадными силами неприятеля? И как можно
удержать за собой твердыню, не получающую ниоткуда подкрепления, тем более
когда ее осаждают враги, столь многочисленные и упорные и находящиеся в
собственной своей стране? Впрочем, многие, а также и я, придерживались того
мнения, что небо оказало особенную милость и благоволение Испании, допустив,
чтобы турки уничтожили это гнездо и приют беззаконий, ненасытную эту моль и
губку, всасывающую такое множество денег, которые здесь тратились без всякой
пользы, -- разве только для того, чтобы сохранить воспоминание о взятии этой
крепости счастливейшей памяти непобедимым Карлом V, как будто для
увековечения этой памяти, -- что уже и есть, и будет, -- нуждались в этих
камнях.
И форт тоже пал, но туркам пришлось брать его пядь за пядью, так как
защищавшие его солдаты сражались так храбро и упорно, что за время двадцати
двух штурмов, которые им пришлось выдержать, они убили более двадцати пяти
тысяч неприятелей, а из трехсот защитников форта, оставшихся в живых и
взятых в плен, все оказались ранеными, -- яркое и блестящее доказательство
их отваги и доблести и того, как они хорошо защищали и отстаивали крепость.
Сдался на капитуляцию маленький форт, или башня, стоявшая среди лагуны и
находившаяся под начальствованием дона Хуана Саногера, валенсийского
кабальеро и знаменитого воина. Был взят в плен и комендант Голеты дон Педро
Пуэртокарреро, сделавший все, что было возможно, для защиты крепости и так
близко принявший к сердцу падение ее, что он умер с горя по дороге в
Константинополь, куда его вели пленником. Также был взят в плен и комендант
форта по имени Габрио Сервелон, миланский кабальеро, знаменитый инженер и
доблестный воин. В двух этих крепостях погибло немало людей, пользовавшихся
известностью, и в числе их также и некто Паган Андреа де Ориа, рыцарь ордена
Святого Иоанна, -- человек великодушный, что он и доказал необычайной
щедростью к брату своему, знаменитому Хуану Андpea де Ориа {Паган де Ориа,
вступив в орден Святого Иоанна де Калатрава, отдал все свои обширные родовые
имения младшему своему брату, Хуану Андреа.}. Смерть его была еще более
достойна сожаления, оттого что он был убит несколькими арабами, которым он
доверился, когда уже видел, что форт погиб; они предложили провести его в
мавританской одежде в Табарка -- маленькую гавань, или стоянку,
принадлежавшую на том побережье генуэзцам, которые занимаются ловлей
кораллов. Арабы отрубили ему голову и отнесли ее главнокомандующему турецким
флотом, который оправдал на них нашу кастильскую пословицу: "Хотя бы измена
и была на руку, но изменник ненавистен", -- потому что, говорят, генерал
велел повесить тех, которые принесли ему подарок, за то, что они не
доставили рыцаря живым. В числе христиан, взятых в плен в форте, был также и
некто по имени Педро де Агиляр, родом не знаю из какого местечка Андалузии,
прапорщик крепостного гарнизона, превосходный солдат и человек редкого ума,
в особенности же необычайно даровитый в том, что называют поэзией. Говорю
это потому, что его судьба привела его на мою галеру, на одну скамью со
мной, и сделала его невольником моего же хозяина; и прежде чем мы оставили
форт, этот кабальеро сочинил два сонета вроде эпитафий: один -- посвященный
Голете, другой -- форту; и, право, охотно прочел бы их вам, так как я знаю
их наизусть и думаю, что они доставят вам скорее удовольствие, чем
утомление.
Когда пленник назвал дона Педро де Агиляра, дон Фернандо переглянулся
со своими товарищами и все трое улыбнулись; когда же он упомянул о сонетах,
один из кабальеро сказал:
-- Прежде чем продолжать, умоляю вашу милость, скажите мне, что сталось
с этим доном Педро де Агиляром, о котором вы упомянули?
-- Я знаю лишь то, -- ответил пленник, -- что по прошествии двух лет,
которые он пробыл в Константинополе, он в одежде арнаута бежал с греческим
шпионом, а затем мне неизвестно, вернул ли он или нет себе свободу; хотя я
думаю, что вернул, потому что год спустя я видел того грека в
Константинополе, но не мог его спросить, удачно ли было их путешествие.
-- Удачно, -- ответил кабальеро, -- потому что этот дон Педро мой брат,
и он теперь у нас на родине, здоров, богат, женат и имеет трех детей.
-- Да будет благословен Бог, -- воскликнул пленник, -- за великую
милость, которую он ему оказал, так как, по моему мнению, нет в мире
счастья, равного возвращению утраченной свободы!
-- Я знаю также, -- продолжал рыцарь, -- и сонеты, сочиненные моим
братом.
-- В таком случае скажите их нам, милость ваша, -- попросил пленник, --
потому что вы сумеете это сделать лучше, чем я.
-- С удовольствием, -- ответил кабальеро. -- В сонете, посвященном
Голете, говорится следующее.

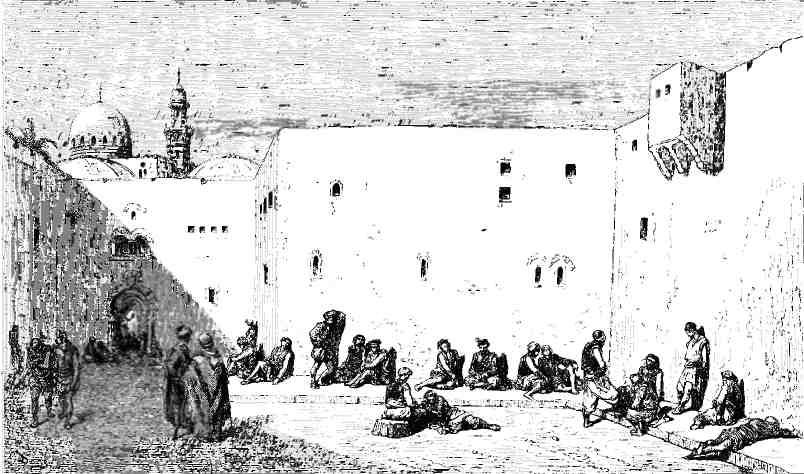 СОНЕТ
За свой подвиг святой, души славных бойцов,
Вы от жизни земной и от дольнего тления
Вознеслись в горний край и блаженства селенья,
Отряхнув, словно прах, свой телесный покров.
Пыл геройский в груди, все вы шли на врагов,
На несметных врагов в боевом упоенье,
Кровью их и своей обагряя в сраженье
Воды дальних морей и равнины песков.
И не мужество вам -- силы вам изменили,
Побежденные, вы хоть и пали в бою,
Но победным венком вы себя осенили.
За кровавую смерть и за гибель свою
На земле славу вы и бессмертье стяжали,
В небесах светлый рай и блаженство познали.
-- В таком же самом виде и я знаю этот сонет, -- сказал пленник.
-- А в сонете, посвященном форту,-- продолжал кабальеро, -- если я
хорошо помню его, говорится следующее:
СОНЕТ
От этих диких мест и дальних берегов,
От павших этих стен, где всюду разрушенье,
В мир горний отойдя, нашли успокоенье
Для душ своих святых три тысячи бойцов.
Сражались все они с безумьем храбрецов,--
В душе горел огонь, в груди пылало мщенье,
Но было тщетно все: проиграно сраженье!
Легли они в бою, и верх взял сонм врагов.
Как много было тут и крови, и страданий!
Как здешние места в былые времена[1]
И в наши дни полны больных воспоминаний!
Но чистых душ таких, суровая страна,
Ты к небу никогда еще не отсылала,
Столь доблестных людей вовеки не видала!
[1] Это намек на битвы в этой местности, вблизи Карфагена, в древние
времена,
Сонеты показались недурными, и пленник был очень обрадован новостями,
которые ему сообщили о его товарище, затем он продолжал свой рассказ,
говоря:
-- После взятия Голеты и форта, турки велели снести Голету; что же
касается форта, он был в таком состоянии, что там нечего было разрушать.
Чтобы скорее и с меньшим трудом достигнуть цели, турки минировали Голету с
трех сторон, но никак не могли взорвать то, что, по-видимому, должно было
быть наименее крепким, именно старые стены; а все то, что еще устояло из
новых фортификационных работ, которые возвел эль-Фратин {Прозвище Джакомо
Палеаро, итальянского инженера, бывшего на службе у Карла V.}, очень легко
было уничтожено. Словом, флот турецкий вернулся в Константинополь,
торжествующий и победоносный. Несколько месяцев спустя умер мой господин
Учали, которого обыкновенно называли Учали Фартакс, что на турецком языке
означает "шелудивый ренегат", потому что в действительности он был болен
паршой. У турок в обычае давать прозвища по какому-нибудь личному недостатку
или качеству человека; и делают они это потому, что у них всего лишь четыре
родовых имени потомков дома Оттоманов, -- а остальные, как я уже говорил,
получают фамилию и прозвища по своим телесным недостаткам или душевным
качествам. Этот больной паршой просидел у весел невольником султана целых
четырнадцать лет. Когда ему уже было за тридцать четыре года, он сделался
ренегатом по злобе на одного турка, давшего ему пощечину, в то время как он
греб веслами, и, чтоб иметь возможность отомстить ему, он отрекся от своей
веры. Но доблесть его была так велика, что он, -- не прибегая к низким путям
и средствам, благодаря которым обыкновенно возвышаются любимцы султана, --
сделался алжирским королем, и затем главнокомандующим флота, а это третья
почетная должность в турецком государстве {Первые две должности: великий
визирь и шейк-уль-ислам.}. Родом он был калабриец, человек добрый и
нравственный и обращался со своими невольниками, которых под конец у него
было три тысячи, с большой человечностью. После его смерти их распределили,
как он указал в своем завещании, между султаном (который тоже наследует
после всякого умершего и получает часть, как и остальные дети покойного) и
его ренегатами. Я достался одному венецианскому ренегату, который был взят в
плен Учали, будучи юнгой на корабле, и Учали так полюбил его, что он у него
был одним из самых балованных его мальчиков; но потом он сделался одним из
наиболее жестоких ренегатов, каких когда-либо видели. Его звали Ассан Ага;
он очень разбогател и достиг звания алжирского короля. С ним уехал и я из
Константинополя в Алжир, чувствуя некоторое удовольствие при мысли, что я
ближе к Испании, не потому, чтобы имел в виду написать кому-либо о своей
тяжкой доле, а потому, что хотелось посмотреть, не будет ли мне более
благоприятствовать счастье в Алжире, чем в Константинополе, где я на тысячи
ладов делал попытки бежать, но все неудачно. В Алжире я надеялся найти
другие средства достигнуть того, чего я так сильно желал, потому что меня
никогда не покидала надежда добыть себе свободу. И если в том, что я
изобретал, придумывал и приводил в исполнение, успех не отвечал моим
ожиданиям, я, не впадая в уныние, тотчас же изыскивал и придумывал новую
надежду, которая меня поддерживала, как бы она ни была мала и слаба. Так
проводил я время, заключенный в тюрьме, или помещении, которое турки
называют баньо {Bagnio (баньо) -- нечто вроде бараков или здания для
христианских невольников. По-видимому, в стенах баньо им предоставлялась
довольно большая свобода, у них было там нечто вроде часовен и алтарей, где
зажигали свечи и пр. и где они могли молиться по обрядам христианской
религии. Дозволялись им также и всякие развлечения: декламация стихов,
разыгрывание комедий и т. п.}, где они запирают христианских пленников, как
принадлежащих королю, так и составляющих собственность некоторых частных
лиц, а также и так называемых пленников альмасена {Almacen -- магазин,
склад.}, или, говоря иными словами, пленников городского совета. Эти
последние употребляются для общественных работ, предпринимаемых городом, и
для других занятий. Такого рода пленникам трудно получить свободу, ввиду
того что они принадлежат обществу, не имеют отдельного хозяина и не с кем
условливаться относительно их выкупа, хотя бы они и могли представить его. В
баньо, как я уже говорил, посылают обыкновенно
своих невольников и некоторые частные лица, в особенности если они
подлежат выкупу, потому что их там хорошо содержат и надежно охраняют до
получения за них денег. Также и невольники короля, подлежащие выкупу, не
посылаются с остальной командой на работы, исключая тех случаев, когда их
выкуп запаздывает. Тогда, чтобы побудить их настойчивее писать о присылке
денег, их вместе с остальными невольниками посылают на работы и заставляют
носить дрова, что вовсе не легкий труд. Меня тоже причислили к подлежащим
выкупу, так как узнали, что я капитан; и хотя я и говорил о незначительности
своих средств и неимении состояния, это нисколько не помогло, и я был
занесен в список кабальеро и лиц, подлежащих выкупу. На меня надели цепи,
скорее в знак ожидаемого выкупа, чем для более надежной охраны, и таким
образом я проводил жизнь в этом баньо со многими другими кабальеро и
знатными людьми, которых обделили и держали здесь для выкупа. Хотя по
временам, или, вернее, почти всегда, нас донимал голод и нагота, но еще
большим мученьем для нас было видеть и слышать на каждом шагу никогда не
виданные и не слыханные жестокости, которые мой господин учинял над
христианами. Не проходило дня, чтобы он не приказывал одного повесить,
другого -- посадить на кол, третьему -- отрезать уши; и все по весьма
незначительным причинам, а часто и без всякой причины, так что и турки уже
понимали, что он это делает лишь ради своего удовольствия и только потому,
что по натуре своей он палач рода человеческого. Единственный, кому повезло
с ним, был испанский солдат по имени Сааведра {Т. е. сам Сервантес.},
которого -- хотя тот и наделал таких дел, что останутся в памяти тех людей
долгие годы, и все с целью добыть себе свободу, -- Ассан Ага ни разу не
ударил, никогда не приказывал бить и не сказал ему дурного слова; а между
тем за самую маленькую из многих его провинностей, мы все боялись, что его
посадят на кол, и он сам не раз боялся этого. Если б время дозволило мне, я
рассказал бы вам теперь кое-что из того, что делал этот солдат, и это куда
больше заняло и удивило бы вас, чем моя собственная история.
Итак, говорю я, на двор нашей тюрьмы выходили окна дома одного богатого
и знатного мавра, которые обыкновенно в мавританских домах скорее похожи на
бойницы или амбразуры, чем на окна, но даже и они были прикрыты частыми и
плотными решетчатыми жалюзи. Однажды случилось так, что, находясь с тремя
другими моими товарищами на террасе {Т. е. на плоской крыше.}[ ]нашей тюрьмы,
где мы для времяпровождения делали попытки прыгать с нашими цепями, будучи
одни (так как остальные пленные христиане ушли на работу), я случайно поднял
глаза и увидел, что из одного из этих маленьких решетчатых окошечек, о
которых я говорил, показалась тростниковая палка, а на конце ее был привязан
носовой платок. Палкой махали и двигали вниз и вверх, как бы давая нам знак
подойти и взять ее. Мы заметили это, и один из бывших со мной подошел, чтобы
посмотреть, опустят ли ее или что с нею сделают. Но лишь только он
приблизился, палку приподняли вверх и замахали ею из стороны в сторону,
подобно тому как качают головой, желая сказать нет. Христианин отошел --
палку снова опустили и стали делать те же движения, как и раньше. Другой из
моих товарищей пошел к палке -- с ним случилось то же, что и с первым.
Наконец, пошел третий, и с ним повторилось опять то же, что и с первыми
двумя. Когда я увидал это, и мне захотелось испытать свое счастье; и лишь
только я встал под палкой, ее опустили и она упала в баньо к моим ногам.
Тотчас же я поспешил отвязать платок и увидел, что на платке был завязан
узел, а в узле оказалось десять си-анисов -- это монеты низкопробного
золота, обращающиеся у мавров и стоящие каждая десять испанских реалов. Был
ли я доволен находкой, об этом нечего и говорить, так как радость моя была
столь же велика, как было велико изумление при мысли, откуда мог к нам
явиться такой подарок и в особенности мне, потому что из того, что палка не
захотела опуститься ни для кого, кроме меня, было очевидно, что эта милость
предназначалась мне. Я взял драгоценные свои деньги, сломал тростниковую
палку, вернулся на террасу, взглянул на окошечко и увидел, как из него
высунулась необычайно белая рука, которая открыла и быстро закрыла окно. Из
этого мы поняли или вообразили себе, что какая-нибудь женщина, живущая в том
доме, по-видимому, оказала нам это благодеяние. И в знак нашей благодарности
мы, по обычаю мавров, сделали селям, наклонив головы, перегнув туловище и
положив руки на грудь. Немного спустя из того же окна показался маленький
крест, сделанный из тростника, но тотчас же и скрылся. Этот знак убедил нас,
что в доме, должно быть, живет пленная христианка и это она
облагодетельствовала нас. Однако белизна руки и запястья на ней
противоречили такому предположению, и у нас явилась мысль, не христианская
ли это ренегатка, одна из тех, которых так часто хозяева их берут в законные
жены и даже считают это за счастье, так как они ставят их выше женщин своего
народа.
Но во всех этих предположениях мы оказались далекими от истины; итак, с
этого дня все развлечение наше состояло в том, что мы не сводили глаз с
окна, в котором появилась палка, засиявшая для нас светлой звездой. Однако
прошли добрых две недели, в течение которых мы не видели ни тростниковой
палки, ни руки и никакого другого знака. И хотя за это время мы прилагали
все старания, чтобы узнать, кто живет в том доме и нет ли там христианской
ренегатки, -- никто не мог нам ничего сообщить, исключая того, что это дом
знатного и богатого мавра по имени Ахи-Морато, бывшего алкайда Ла-Паты
{По-видимому, La Pata, или Bata, -- крепость в двух милях от города Оран.},
-- должность, считающаяся у турок очень почетной. Но когда мы всего менее
думали о том, что снова на нас польется дождь сианисов, мы вдруг увидели
палку с привязанным к ней платком, а в платке -- опять сверток, только
побольше прежнего. Случилось это в то время, когда баньо, как и в первый
раз, был безлюден и пуст. Мы повторили прежний опыт: каждый из трех моих
товарищей -- те же, как и в тот раз, -- подходил к палке прежде меня, но
никому, кроме меня, она не была отдана, потому что, едва я подошел, как
палка упала. Я развязал узел и нашел в нем сорок испанских червонцев, а
также письмо, написанное по-арабски, и в конце его был поставлен большой
крест. Поцеловав крест, я взял червонцы, вернулся на террасу, мы все сделали
наш селям; рука появилась снова, я подал знак, что прочту письмо; окно
закрылось. Мы были удивлены и обрадованы этим происшествием; но никто из нас
не понимал по-арабски, желание же наше узнать, что написано в письме, было
очень велико, а еще больше было затруднение найти, кого-нибудь, кто бы
прочел его нам. Наконец я решил довериться одному ренегату, уроженцу Мурсии,
который открыто признавал себя моим большим другом, и с ним мы еще раньше
обменялись залогами, обязывавшими его хранить всякую тайну, которую ему
доверяли; потому что некоторые ренегаты имеют обыкновение, когда они
намереваются вернуться в христианскую страну, запасаться свидетельствами от
знатных пленников, в которых те в форме, какая окажется возможной,
удостоверяют, что такой-то ренегат -- человек хороший, делал всегда добро
христианам и желает бежать при первом представившемся случае. Некоторые
достают себе подобного рода свидетельства с хорошими намерениями; другие же
пользуются ими на тот случай и с тем умыслом -- когда они отправляются
грабить в христианские страны, -- чтобы, потерпев кораблекрушение или попав
в плен, они могли бы предъявить эти свидетельства и сказать, что по ним
можно судить о руководившем ими намерении, именно желании остаться в
христианской стране, и только с этой целью они сопровождали турок в их
набеге. Таким образом, они спасаются от угрожающего им первого взрыва гнева
и примиряются без неприятностей для себя с Церковью, а при ближайшей
возможности возвращаются снова в Берберию, чтобы опять сделаться тем же, чем
были раньше. Иные же, как я уже говорил, из пользующихся такого рода
бумагами достают их действительно с искренним намерением и остаются навсегда
в христианских странах. К числу таких ренегатов принадлежал и мой приятель,
имевший от всех наших товарищей свидетельства, в которых мы ручались за него
всем, чем могли. Если бы мавры нашли на нем эти бумаги, они бы не преминули
сжечь его живым. Мне было известно, что он хорошо знает арабский язык и не
только говорит на нем, но и пишет. Однако, прежде чем вполне ему открыться,
я его попросил прочесть записку, которую будто бы случайно нашел в одной из
дыр в полу моего помещения. Он развернул бумагу и долго всматривался в нее,
разбирая и бормоча сквозь зубы. Я спросил его, понимает ли он письмо, и он
ответил, что очень хорошо, а если я желаю, чтобы он перевел мне его слово в
слово, пусть ему дадут чернила и перо, чтобы он лучше мог это сделать. Мы
тотчас же принесли ему то, что он просил, и он перевел понемногу и, когда
кончил, сказал:
-- Все написанное по-испански есть буквальный перевод того, что
заключает в себе письмо, но я должен предупредить вас, что везде, где стоит:
"Лела Мариен", это означает "Пресвятая Дева Мария".
Мы прочли письмо, и оно заключало в себе следующее:
"Когда я была еще ребенком, у моего отца жила невольница, которая
научила меня на моем языке христианской молитве и много рассказывала мне о
Леле Мариен. Христианка умерла, и я знаю, что она пошла не в огонь, а к
Аллаху, потому что после того я видела ее два раза и она мне сказала, чтобы
я отправилась в страну христиан, и там я увижу Лелу Мариен, которая очень
меня любит. Не знаю, как попасть туда. Многих христиан видела я из этого
окна, но никто не показался мне рыцарем, кроме тебя. Я очень красива и
молода, у меня много денег, и я могу взять их с собой. Подумай, не сумеешь
ли ты устроить так, чтоб нам с тобой уехать, и ты будешь там моим мужем,
если желаешь: а не желаешь, мне все равно, потому что Лела Мариен пошлет
кого-нибудь, кто женится на мне. Я сама написала это; смотри, кому дашь
читать. Не доверяйся никому из мавров, так как все они обманщики. Меня это
очень огорчает, и я желала бы, чтобы ты никому не открывался, потому что,
если отец мой узнает про письмо, он тотчас же бросит меня в колодец и
прикроет каменьями. К тростниковой палке я привязала нитку: прикрепи к ней
ответ твой. Если у тебя не найдется никого, кто бы мог писать по-арабски, --
ответь мне по-испански, и Лела Мариен устроит так, что я пойму тебя. Да
хранит тебя Она, Аллах и этот крест, который я целую много раз, как тому
научила меня невольница".
СОНЕТ
За свой подвиг святой, души славных бойцов,
Вы от жизни земной и от дольнего тления
Вознеслись в горний край и блаженства селенья,
Отряхнув, словно прах, свой телесный покров.
Пыл геройский в груди, все вы шли на врагов,
На несметных врагов в боевом упоенье,
Кровью их и своей обагряя в сраженье
Воды дальних морей и равнины песков.
И не мужество вам -- силы вам изменили,
Побежденные, вы хоть и пали в бою,
Но победным венком вы себя осенили.
За кровавую смерть и за гибель свою
На земле славу вы и бессмертье стяжали,
В небесах светлый рай и блаженство познали.
-- В таком же самом виде и я знаю этот сонет, -- сказал пленник.
-- А в сонете, посвященном форту,-- продолжал кабальеро, -- если я
хорошо помню его, говорится следующее:
СОНЕТ
От этих диких мест и дальних берегов,
От павших этих стен, где всюду разрушенье,
В мир горний отойдя, нашли успокоенье
Для душ своих святых три тысячи бойцов.
Сражались все они с безумьем храбрецов,--
В душе горел огонь, в груди пылало мщенье,
Но было тщетно все: проиграно сраженье!
Легли они в бою, и верх взял сонм врагов.
Как много было тут и крови, и страданий!
Как здешние места в былые времена[1]
И в наши дни полны больных воспоминаний!
Но чистых душ таких, суровая страна,
Ты к небу никогда еще не отсылала,
Столь доблестных людей вовеки не видала!
[1] Это намек на битвы в этой местности, вблизи Карфагена, в древние
времена,
Сонеты показались недурными, и пленник был очень обрадован новостями,
которые ему сообщили о его товарище, затем он продолжал свой рассказ,
говоря:
-- После взятия Голеты и форта, турки велели снести Голету; что же
касается форта, он был в таком состоянии, что там нечего было разрушать.
Чтобы скорее и с меньшим трудом достигнуть цели, турки минировали Голету с
трех сторон, но никак не могли взорвать то, что, по-видимому, должно было
быть наименее крепким, именно старые стены; а все то, что еще устояло из
новых фортификационных работ, которые возвел эль-Фратин {Прозвище Джакомо
Палеаро, итальянского инженера, бывшего на службе у Карла V.}, очень легко
было уничтожено. Словом, флот турецкий вернулся в Константинополь,
торжествующий и победоносный. Несколько месяцев спустя умер мой господин
Учали, которого обыкновенно называли Учали Фартакс, что на турецком языке
означает "шелудивый ренегат", потому что в действительности он был болен
паршой. У турок в обычае давать прозвища по какому-нибудь личному недостатку
или качеству человека; и делают они это потому, что у них всего лишь четыре
родовых имени потомков дома Оттоманов, -- а остальные, как я уже говорил,
получают фамилию и прозвища по своим телесным недостаткам или душевным
качествам. Этот больной паршой просидел у весел невольником султана целых
четырнадцать лет. Когда ему уже было за тридцать четыре года, он сделался
ренегатом по злобе на одного турка, давшего ему пощечину, в то время как он
греб веслами, и, чтоб иметь возможность отомстить ему, он отрекся от своей
веры. Но доблесть его была так велика, что он, -- не прибегая к низким путям
и средствам, благодаря которым обыкновенно возвышаются любимцы султана, --
сделался алжирским королем, и затем главнокомандующим флота, а это третья
почетная должность в турецком государстве {Первые две должности: великий
визирь и шейк-уль-ислам.}. Родом он был калабриец, человек добрый и
нравственный и обращался со своими невольниками, которых под конец у него
было три тысячи, с большой человечностью. После его смерти их распределили,
как он указал в своем завещании, между султаном (который тоже наследует
после всякого умершего и получает часть, как и остальные дети покойного) и
его ренегатами. Я достался одному венецианскому ренегату, который был взят в
плен Учали, будучи юнгой на корабле, и Учали так полюбил его, что он у него
был одним из самых балованных его мальчиков; но потом он сделался одним из
наиболее жестоких ренегатов, каких когда-либо видели. Его звали Ассан Ага;
он очень разбогател и достиг звания алжирского короля. С ним уехал и я из
Константинополя в Алжир, чувствуя некоторое удовольствие при мысли, что я
ближе к Испании, не потому, чтобы имел в виду написать кому-либо о своей
тяжкой доле, а потому, что хотелось посмотреть, не будет ли мне более
благоприятствовать счастье в Алжире, чем в Константинополе, где я на тысячи
ладов делал попытки бежать, но все неудачно. В Алжире я надеялся найти
другие средства достигнуть того, чего я так сильно желал, потому что меня
никогда не покидала надежда добыть себе свободу. И если в том, что я
изобретал, придумывал и приводил в исполнение, успех не отвечал моим
ожиданиям, я, не впадая в уныние, тотчас же изыскивал и придумывал новую
надежду, которая меня поддерживала, как бы она ни была мала и слаба. Так
проводил я время, заключенный в тюрьме, или помещении, которое турки
называют баньо {Bagnio (баньо) -- нечто вроде бараков или здания для
христианских невольников. По-видимому, в стенах баньо им предоставлялась
довольно большая свобода, у них было там нечто вроде часовен и алтарей, где
зажигали свечи и пр. и где они могли молиться по обрядам христианской
религии. Дозволялись им также и всякие развлечения: декламация стихов,
разыгрывание комедий и т. п.}, где они запирают христианских пленников, как
принадлежащих королю, так и составляющих собственность некоторых частных
лиц, а также и так называемых пленников альмасена {Almacen -- магазин,
склад.}, или, говоря иными словами, пленников городского совета. Эти
последние употребляются для общественных работ, предпринимаемых городом, и
для других занятий. Такого рода пленникам трудно получить свободу, ввиду
того что они принадлежат обществу, не имеют отдельного хозяина и не с кем
условливаться относительно их выкупа, хотя бы они и могли представить его. В
баньо, как я уже говорил, посылают обыкновенно
своих невольников и некоторые частные лица, в особенности если они
подлежат выкупу, потому что их там хорошо содержат и надежно охраняют до
получения за них денег. Также и невольники короля, подлежащие выкупу, не
посылаются с остальной командой на работы, исключая тех случаев, когда их
выкуп запаздывает. Тогда, чтобы побудить их настойчивее писать о присылке
денег, их вместе с остальными невольниками посылают на работы и заставляют
носить дрова, что вовсе не легкий труд. Меня тоже причислили к подлежащим
выкупу, так как узнали, что я капитан; и хотя я и говорил о незначительности
своих средств и неимении состояния, это нисколько не помогло, и я был
занесен в список кабальеро и лиц, подлежащих выкупу. На меня надели цепи,
скорее в знак ожидаемого выкупа, чем для более надежной охраны, и таким
образом я проводил жизнь в этом баньо со многими другими кабальеро и
знатными людьми, которых обделили и держали здесь для выкупа. Хотя по
временам, или, вернее, почти всегда, нас донимал голод и нагота, но еще
большим мученьем для нас было видеть и слышать на каждом шагу никогда не
виданные и не слыханные жестокости, которые мой господин учинял над
христианами. Не проходило дня, чтобы он не приказывал одного повесить,
другого -- посадить на кол, третьему -- отрезать уши; и все по весьма
незначительным причинам, а часто и без всякой причины, так что и турки уже
понимали, что он это делает лишь ради своего удовольствия и только потому,
что по натуре своей он палач рода человеческого. Единственный, кому повезло
с ним, был испанский солдат по имени Сааведра {Т. е. сам Сервантес.},
которого -- хотя тот и наделал таких дел, что останутся в памяти тех людей
долгие годы, и все с целью добыть себе свободу, -- Ассан Ага ни разу не
ударил, никогда не приказывал бить и не сказал ему дурного слова; а между
тем за самую маленькую из многих его провинностей, мы все боялись, что его
посадят на кол, и он сам не раз боялся этого. Если б время дозволило мне, я
рассказал бы вам теперь кое-что из того, что делал этот солдат, и это куда
больше заняло и удивило бы вас, чем моя собственная история.
Итак, говорю я, на двор нашей тюрьмы выходили окна дома одного богатого
и знатного мавра, которые обыкновенно в мавританских домах скорее похожи на
бойницы или амбразуры, чем на окна, но даже и они были прикрыты частыми и
плотными решетчатыми жалюзи. Однажды случилось так, что, находясь с тремя
другими моими товарищами на террасе {Т. е. на плоской крыше.}[ ]нашей тюрьмы,
где мы для времяпровождения делали попытки прыгать с нашими цепями, будучи
одни (так как остальные пленные христиане ушли на работу), я случайно поднял
глаза и увидел, что из одного из этих маленьких решетчатых окошечек, о
которых я говорил, показалась тростниковая палка, а на конце ее был привязан
носовой платок. Палкой махали и двигали вниз и вверх, как бы давая нам знак
подойти и взять ее. Мы заметили это, и один из бывших со мной подошел, чтобы
посмотреть, опустят ли ее или что с нею сделают. Но лишь только он
приблизился, палку приподняли вверх и замахали ею из стороны в сторону,
подобно тому как качают головой, желая сказать нет. Христианин отошел --
палку снова опустили и стали делать те же движения, как и раньше. Другой из
моих товарищей пошел к палке -- с ним случилось то же, что и с первым.
Наконец, пошел третий, и с ним повторилось опять то же, что и с первыми
двумя. Когда я увидал это, и мне захотелось испытать свое счастье; и лишь
только я встал под палкой, ее опустили и она упала в баньо к моим ногам.
Тотчас же я поспешил отвязать платок и увидел, что на платке был завязан
узел, а в узле оказалось десять си-анисов -- это монеты низкопробного
золота, обращающиеся у мавров и стоящие каждая десять испанских реалов. Был
ли я доволен находкой, об этом нечего и говорить, так как радость моя была
столь же велика, как было велико изумление при мысли, откуда мог к нам
явиться такой подарок и в особенности мне, потому что из того, что палка не
захотела опуститься ни для кого, кроме меня, было очевидно, что эта милость
предназначалась мне. Я взял драгоценные свои деньги, сломал тростниковую
палку, вернулся на террасу, взглянул на окошечко и увидел, как из него
высунулась необычайно белая рука, которая открыла и быстро закрыла окно. Из
этого мы поняли или вообразили себе, что какая-нибудь женщина, живущая в том
доме, по-видимому, оказала нам это благодеяние. И в знак нашей благодарности
мы, по обычаю мавров, сделали селям, наклонив головы, перегнув туловище и
положив руки на грудь. Немного спустя из того же окна показался маленький
крест, сделанный из тростника, но тотчас же и скрылся. Этот знак убедил нас,
что в доме, должно быть, живет пленная христианка и это она
облагодетельствовала нас. Однако белизна руки и запястья на ней
противоречили такому предположению, и у нас явилась мысль, не христианская
ли это ренегатка, одна из тех, которых так часто хозяева их берут в законные
жены и даже считают это за счастье, так как они ставят их выше женщин своего
народа.
Но во всех этих предположениях мы оказались далекими от истины; итак, с
этого дня все развлечение наше состояло в том, что мы не сводили глаз с
окна, в котором появилась палка, засиявшая для нас светлой звездой. Однако
прошли добрых две недели, в течение которых мы не видели ни тростниковой
палки, ни руки и никакого другого знака. И хотя за это время мы прилагали
все старания, чтобы узнать, кто живет в том доме и нет ли там христианской
ренегатки, -- никто не мог нам ничего сообщить, исключая того, что это дом
знатного и богатого мавра по имени Ахи-Морато, бывшего алкайда Ла-Паты
{По-видимому, La Pata, или Bata, -- крепость в двух милях от города Оран.},
-- должность, считающаяся у турок очень почетной. Но когда мы всего менее
думали о том, что снова на нас польется дождь сианисов, мы вдруг увидели
палку с привязанным к ней платком, а в платке -- опять сверток, только
побольше прежнего. Случилось это в то время, когда баньо, как и в первый
раз, был безлюден и пуст. Мы повторили прежний опыт: каждый из трех моих
товарищей -- те же, как и в тот раз, -- подходил к палке прежде меня, но
никому, кроме меня, она не была отдана, потому что, едва я подошел, как
палка упала. Я развязал узел и нашел в нем сорок испанских червонцев, а
также письмо, написанное по-арабски, и в конце его был поставлен большой
крест. Поцеловав крест, я взял червонцы, вернулся на террасу, мы все сделали
наш селям; рука появилась снова, я подал знак, что прочту письмо; окно
закрылось. Мы были удивлены и обрадованы этим происшествием; но никто из нас
не понимал по-арабски, желание же наше узнать, что написано в письме, было
очень велико, а еще больше было затруднение найти, кого-нибудь, кто бы
прочел его нам. Наконец я решил довериться одному ренегату, уроженцу Мурсии,
который открыто признавал себя моим большим другом, и с ним мы еще раньше
обменялись залогами, обязывавшими его хранить всякую тайну, которую ему
доверяли; потому что некоторые ренегаты имеют обыкновение, когда они
намереваются вернуться в христианскую страну, запасаться свидетельствами от
знатных пленников, в которых те в форме, какая окажется возможной,
удостоверяют, что такой-то ренегат -- человек хороший, делал всегда добро
христианам и желает бежать при первом представившемся случае. Некоторые
достают себе подобного рода свидетельства с хорошими намерениями; другие же
пользуются ими на тот случай и с тем умыслом -- когда они отправляются
грабить в христианские страны, -- чтобы, потерпев кораблекрушение или попав
в плен, они могли бы предъявить эти свидетельства и сказать, что по ним
можно судить о руководившем ими намерении, именно желании остаться в
христианской стране, и только с этой целью они сопровождали турок в их
набеге. Таким образом, они спасаются от угрожающего им первого взрыва гнева
и примиряются без неприятностей для себя с Церковью, а при ближайшей
возможности возвращаются снова в Берберию, чтобы опять сделаться тем же, чем
были раньше. Иные же, как я уже говорил, из пользующихся такого рода
бумагами достают их действительно с искренним намерением и остаются навсегда
в христианских странах. К числу таких ренегатов принадлежал и мой приятель,
имевший от всех наших товарищей свидетельства, в которых мы ручались за него
всем, чем могли. Если бы мавры нашли на нем эти бумаги, они бы не преминули
сжечь его живым. Мне было известно, что он хорошо знает арабский язык и не
только говорит на нем, но и пишет. Однако, прежде чем вполне ему открыться,
я его попросил прочесть записку, которую будто бы случайно нашел в одной из
дыр в полу моего помещения. Он развернул бумагу и долго всматривался в нее,
разбирая и бормоча сквозь зубы. Я спросил его, понимает ли он письмо, и он
ответил, что очень хорошо, а если я желаю, чтобы он перевел мне его слово в
слово, пусть ему дадут чернила и перо, чтобы он лучше мог это сделать. Мы
тотчас же принесли ему то, что он просил, и он перевел понемногу и, когда
кончил, сказал:
-- Все написанное по-испански есть буквальный перевод того, что
заключает в себе письмо, но я должен предупредить вас, что везде, где стоит:
"Лела Мариен", это означает "Пресвятая Дева Мария".
Мы прочли письмо, и оно заключало в себе следующее:
"Когда я была еще ребенком, у моего отца жила невольница, которая
научила меня на моем языке христианской молитве и много рассказывала мне о
Леле Мариен. Христианка умерла, и я знаю, что она пошла не в огонь, а к
Аллаху, потому что после того я видела ее два раза и она мне сказала, чтобы
я отправилась в страну христиан, и там я увижу Лелу Мариен, которая очень
меня любит. Не знаю, как попасть туда. Многих христиан видела я из этого
окна, но никто не показался мне рыцарем, кроме тебя. Я очень красива и
молода, у меня много денег, и я могу взять их с собой. Подумай, не сумеешь
ли ты устроить так, чтоб нам с тобой уехать, и ты будешь там моим мужем,
если желаешь: а не желаешь, мне все равно, потому что Лела Мариен пошлет
кого-нибудь, кто женится на мне. Я сама написала это; смотри, кому дашь
читать. Не доверяйся никому из мавров, так как все они обманщики. Меня это
очень огорчает, и я желала бы, чтобы ты никому не открывался, потому что,
если отец мой узнает про письмо, он тотчас же бросит меня в колодец и
прикроет каменьями. К тростниковой палке я привязала нитку: прикрепи к ней
ответ твой. Если у тебя не найдется никого, кто бы мог писать по-арабски, --
ответь мне по-испански, и Лела Мариен устроит так, что я пойму тебя. Да
хранит тебя Она, Аллах и этот крест, который я целую много раз, как тому
научила меня невольница".
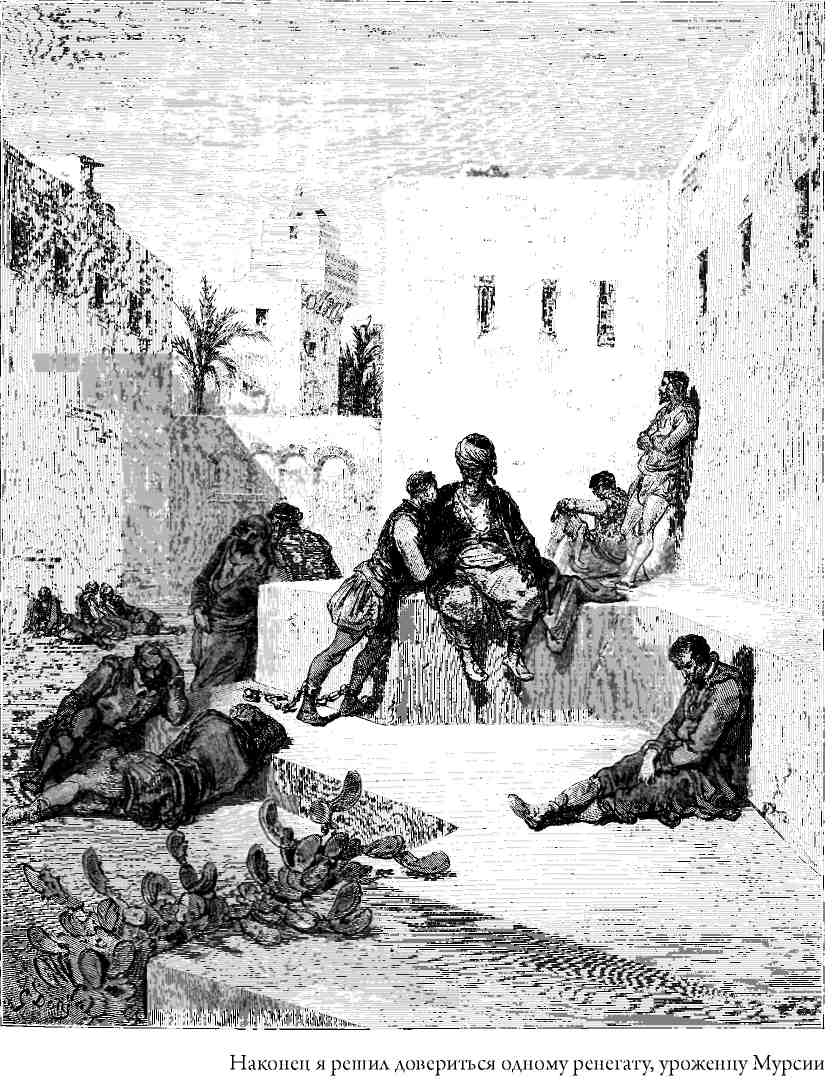 -- Рассудите, сеньоры, имели ли мы причину удивляться и радоваться
тому, что было написано в этом письме? И действительно, наше изумление и
радость были так велики, что ренегат тотчас же догадался, что письмо найдено
не случайно, а написано одному из нас, и потому он нас просил, если он верно
предполагает, довериться ему и все ему сказать, так как он, чтобы добыть нам
свободу, готов подвергнуть опасности свою жизнь. Говоря это, он вынул
хранившееся у него на груди металлическое распятие и, обливаясь слезами,
поклялся именем изображенного на этом кресте Бога, в которого он, хотя и
грешник, и дурной человек, искренно и беспредельно верит, хранить в строгой
тайне то, что мы пожелали бы сообщить ему, потому что он думает и почти
уверен, что через посредство той, которая написала эти строки и он, и все мы
получим свободу и он добьется того, чего так сильно желает, -- возможности
вернуться в лоно святой матери церкви, от которой он, как гнилой член,
отделен и отторгнут за свое невежество и свою греховность. Ренегат говорил
это, проливая такие обильные слезы и с признаками такого сильного раскаяния,
что мы все единодушно согласились и решили сказать ему правду и дали ему обо
всем подробный отчет, ничего не утаив от него. Мы показали ему окошечко, из
которого появлялась тростниковая палка, и он отметил себе тот дом и обещал
приложить особое и величайшее старание узнать, кто там живет. Вместе с тем
мы решили, что было бы хорошо тотчас же ответить на письмо мавританки, раз у
нас есть, кто может это сделать; и ренегат написал то, что я ему диктовал и
теперь повторю вам слово в слово, так как из всех существенных подробностей
случившегося со мной события ни одна не изгладилась из моей памяти и не
изгладится, пока я буду жив. Словом, мы ответили мавританке следующее:
"Да хранит тебя истинный Аллах, сеньора моя, а также благодатная
Марией, которая есть истинная Матерь Божия; это Она вложила в сердце твое
желание уехать в христианские страны, потому что любит тебя. Попроси Ее, не
будет ли Ей угодно научить тебя, как привести в исполнение Ее приказание:
Она такая добрая, что сделает это. От моего имени и от имени всех тех
христиан, которые здесь со мной, обещаю сделать для тебя все, что только в
наших силах, и даже умереть за тебя. Не оставь написать мне и сообщить, что
ты думаешь делать, и я всегда тебе отвечу, потому что великий Аллах послал
нам пленного христианина, который так хорошо умеет говорить и писать на
твоем языке, как ты это видишь из этих строк. Поэтому можешь без всяких
опасений извещать нас обо всем, о чем желаешь. Относительно же твоих слов,
что, если б ты уехала в христианские страны, ты сделалась бы моей женой, --
это обещаю тебе, как добрый христианин, и знай, что христиане лучше
исполняют свои обещания, чем мавры. Да хранят тебя, моя сеньора, Аллах и
Мариен, Мать Его".
Письмо было написано и запечатано, но мне пришлось ждать еще два дня,
пока баньо не опустел, как обыкновенно, и тотчас же я отправился к обычному
месту на маленькой террасе посмотреть, не появится ли тростниковая палка, --
что и не замедлило случиться. Как только я ее заметил, хотя и не мог видеть,
кто ее держит, я показал письмо, желая дать понять, чтоб привязали нитку; но
она уже оказалась привязанной; и я прикрепил к ней письмо, и вскоре затем
появилась снова наша звезда с белым знаменем мира -- с привязанным на палке
платочком. Палка упала; я ее поднял и нашел в платке серебряными и золотыми
монетами более пятидесяти червонцев, которые в пятьдесят раз увеличили нашу
радость и укрепили в нас надежду добыть себе свободу. В ту же ночь вернулся
наш ренегат и сообщил, что, по собранным им сведениям, в том доме
действительно живет мавр, о котором нам говорили, зовут его Ахи-Мора-то; он
в высшей степени богат и имеет единственную дочь, наследницу всего его
состояния. По общему мнению, в городе она самая красивая женщина во всей
Берберии и многие из вице-королей, приезжавших сюда, просили ее себе в жены,
но она не пожелала выйти замуж. Он еще узнал, что у нее была невольница --
христианка, теперь уже умершая, и все это согласовалось с тем, что было
написано в письме. Мы стали тотчас совещаться с ренегатом, какой бы
придумать план, чтобы увезти мавританку и всем нам вернуться в христианские
земли. Наконец было решено, что мы подождем второго письма Сораиды, -- так
звали ту, которая теперь хочет называться Марией, -- так как мы хорошо
понимали, что никто другой и только она одна может указать нам выход из всех
наших затруднений.
Когда мы пришли к этому решению, ренегат просил нас не тревожиться,
потому что он расстанется с жизнью или добудет нам свободу. Четыре дня баньо
был полон народа, вследствие чего палка не появлялась целых четыре дня, но
по истечении этого времени, когда баньо, по обыкновению, опустел, она
появилась с очень пузатым платком, обещавшим счастливейшие роды. Когда палка
вместе с платком спустились ко мне, я нашел в свертке письмо и сто червонцев
одним золотом, а не другими монетами. Ренегат был тут же, мы дали ему
прочесть письмо, когда вернулись в свое помещение, и он сказал, что оно
заключает в себе следующее:
"Не знаю, сеньор мой, как устроить, чтобы нам уехать в Испанию, и Лела
Мариен мне этого не сказала, хотя я просила ее о том. Можно будет вот что
сделать: я дам вам через это окно множество денег золотом; выкупите себя ими
-- вы и ваши друзья, -- и пусть кто-нибудь из вас поедет в христианские
страны, купит там барку и вернется за остальными. Меня он найдет в саду
моего отца, у ворот Бабасона {Babazon, или "Ворота скорби", названые так
потому, что здесь совершались казни. В настоящее время южные ворота Алжира,
близ морского берега, известны под тем же названием.}, близ морского берега,
где я проведу все лето с моим отцом и моими слугами. Оттуда вы можете ночью
похитить меня, ничего не опасаясь, и отвести на барку. Смотри, не забывай,
что ты должен быть моим мужем, потому что иначе я попрошу Мариен наказать
тебя. Если ты никому не можешь доверить ехать за баркой, выкупи себя и
поезжай сам; я знаю, ты скорей всякого другого вернешься, так как ты рыцарь
и христианин. Постарайся узнать, где наш сад; а когда я увижу, что ты будешь
прохаживаться по террасе, я буду знать, что в баньо никого нет, и дам тебе
много денег. Аллах да хранит тебя, сеньор мой".
Вот что заключало в себе второе письмо и что там говорилось. Услыхав в
чем дело, каждый из нас выразил желание выкупиться, обещая поехать и
вернуться со всевозможной точностью; и я тоже вызвался сделать это. Но всему
воспротивился ренегат, говоря, что он ни в каком случае не согласится, чтобы
кто-нибудь из нас один выкупился на свободу, пока мы не выкупимся все
вместе, так как опыт научил его, как плохо освободившиеся исполняют
обещания, данные ими в плену. Не раз знатные пленники прибегали к тому же
способу: выкупят кого-нибудь и посылают с деньгами в Валенсию или на
Майорку, чтобы оснастить там барку и вернуться за теми, кто его выкупил. Но
никогда эти посланцы не возвращались, так как полученная свобода и опасение
снова ее потерять изглаживали из их памяти взятые ими на себя обязательства.
Чтобы подтвердить сказанное им, он в кратких словах сообщил нам случай,
только что происшедший с несколькими христианскими кабальеро, -- один из
самых странных случаев, когда либо приключавшихся в этих местностях, где на
каждом шагу происходят изумительные и достойные удивления вещи. В заключение
ренегат сказал, что то, что можно и следует сделать, -- это отдать ему
предназначавшиеся для выкупа пленного христианина деньги, чтобы он купил в
Алжире барку под предлогом, что сделается купцом и будет вести торговлю с
Тетуаном и всем побережьем. А когда он будет собственником барки, он легко
найдет способ вывести нас всех из баньо и уехать с нами в море, тем более
если еще мавританка, как она говорила, даст денег на выкуп всех, потому что,
как только мы получим свободу, нет ничего легче, чем сесть на корабль хотя
бы среди белого дня. Наибольшее затруднение в том, что мавры не позволяют
никому из ренегатов покупать или держать барку, а только большие корабли для
морских разбоев, так как боятся, что купивший барку -- в особенности испанец
-- делает это, имея в виду бежать в христианскую землю. Впрочем, он устранит
это препятствие тем, что войдет в долю с каким-нибудь мавром-тагарином
{Тагаринами называли мавров, приехавших с границы, т. е. из Арагонии; thagr
в переводе с арабского значит "граница".} как в покупке с ним барки, так и
прибылей с товаров; и под этим прикрытием барка будет в его власти, после
чего он считает, что все будет достижимо. Хотя мне и моим товарищам казалось
предпочтительнее послать за баркой на Майорку, как говорила мавританка, но
мы не смели противоречить ренегату, боясь, что, если мы не согласимся
принять его предложение, он нас выдаст, подвергнет опасности лишиться жизни
и обнаружит наше соглашение с Сораидой, за жизнь которой мы все отдали бы
нашу. Итак, мы решили предать судьбу свою в руки Божьи и ренегата. В то же
время был послан ответ Сораиде, в котором мы сообщали ей, что сделаем все,
что она нам советует, потому что она так хорошо придумала, точно Лела Марией
все ей подсказала; от нее одной зависит, отложить ли это дело или же тотчас
приняться за выполнение его. Я подтвердил ей снова, что сделаюсь ее мужем,
после чего на следующий же день, когда баньо оказался пустым, она
посредством палки и платка дала нам в несколько приемов две тысячи червонцев
золотом и письмо, в котором сообщала, что в первую хума, т. е. пятницу, она
уезжает в сад своего отца, но до отъезда даст нам еще больше денег; в случае
же если и это окажется недостаточным, пусть мы сообщим ей, и она нам даст
столько, сколько мы пожелаем, так как у ее отца так много денег, что он
ничего не заметит, тем более что все ключи в ее руках.
Мы дали ренегату пятьсот червонцев на покупку барки, а за восемьсот
выкупился я, дав деньги одному купцу из Валенсии, который в то время был в
Алжире. Он выкупил меня у короля на слово и взял к себе, обещав с первым же
кораблем, который придет из Валенсии, внести за меня выкуп, потому что если
б он сейчас внес деньги, то возбудил бы в короле подозрение, не была ли эта
сумма уже давно в Алжире, а купец скрыл ее, пустив в оборот. Словом, мой
господин был такой подозрительный, что я ни в каком случае не решился бы
тотчас же выплатить ему деньги. В четверг, накануне той пятницы, когда
прекрасная Сораида должна была ехать в сад, она дала нам еще тысячу
червонцев и сообщила о своем отъезде, прося меня, если я выкуплюсь, сейчас
же разыскать сад ее отца и, во всяком случае, придумать удобный предлог для
того, чтобы пойти туда и повидаться с ней. Я ответил ей в кратких словах,
что так и сделаю и чтобы она не забыла поручить нас Леле Мариен во всех
молитвах, которым научила ее пленная христианка. Сделав это, мы приняли меры
внести выкуп и за остальных трех товарищей, с тем чтоб облегчить им выход из
баньо, а также чтобы они, видя меня выкупленным, а себя нет, хотя и имеются
для этого деньги, не встревожились бы и дьявол не подсказал им сделать
что-либо во вред Сораиде, так как, хотя я и хорошо знал, что это за люди, и
мог быть вполне спокоен на их счет, тем не менее я не желал подвергать все
дело риску. Поэтому я выкупил их тем же способом, как и себя, передав все
деньги купцу, чтобы он с уверенностью и спокойно мог бы поручиться за нас,
хотя мы не открыли ему ни нашего заговора, ни нашей тайны вследствие
опасности, которую это могло бы повлечь за собой.
-- Рассудите, сеньоры, имели ли мы причину удивляться и радоваться
тому, что было написано в этом письме? И действительно, наше изумление и
радость были так велики, что ренегат тотчас же догадался, что письмо найдено
не случайно, а написано одному из нас, и потому он нас просил, если он верно
предполагает, довериться ему и все ему сказать, так как он, чтобы добыть нам
свободу, готов подвергнуть опасности свою жизнь. Говоря это, он вынул
хранившееся у него на груди металлическое распятие и, обливаясь слезами,
поклялся именем изображенного на этом кресте Бога, в которого он, хотя и
грешник, и дурной человек, искренно и беспредельно верит, хранить в строгой
тайне то, что мы пожелали бы сообщить ему, потому что он думает и почти
уверен, что через посредство той, которая написала эти строки и он, и все мы
получим свободу и он добьется того, чего так сильно желает, -- возможности
вернуться в лоно святой матери церкви, от которой он, как гнилой член,
отделен и отторгнут за свое невежество и свою греховность. Ренегат говорил
это, проливая такие обильные слезы и с признаками такого сильного раскаяния,
что мы все единодушно согласились и решили сказать ему правду и дали ему обо
всем подробный отчет, ничего не утаив от него. Мы показали ему окошечко, из
которого появлялась тростниковая палка, и он отметил себе тот дом и обещал
приложить особое и величайшее старание узнать, кто там живет. Вместе с тем
мы решили, что было бы хорошо тотчас же ответить на письмо мавританки, раз у
нас есть, кто может это сделать; и ренегат написал то, что я ему диктовал и
теперь повторю вам слово в слово, так как из всех существенных подробностей
случившегося со мной события ни одна не изгладилась из моей памяти и не
изгладится, пока я буду жив. Словом, мы ответили мавританке следующее:
"Да хранит тебя истинный Аллах, сеньора моя, а также благодатная
Марией, которая есть истинная Матерь Божия; это Она вложила в сердце твое
желание уехать в христианские страны, потому что любит тебя. Попроси Ее, не
будет ли Ей угодно научить тебя, как привести в исполнение Ее приказание:
Она такая добрая, что сделает это. От моего имени и от имени всех тех
христиан, которые здесь со мной, обещаю сделать для тебя все, что только в
наших силах, и даже умереть за тебя. Не оставь написать мне и сообщить, что
ты думаешь делать, и я всегда тебе отвечу, потому что великий Аллах послал
нам пленного христианина, который так хорошо умеет говорить и писать на
твоем языке, как ты это видишь из этих строк. Поэтому можешь без всяких
опасений извещать нас обо всем, о чем желаешь. Относительно же твоих слов,
что, если б ты уехала в христианские страны, ты сделалась бы моей женой, --
это обещаю тебе, как добрый христианин, и знай, что христиане лучше
исполняют свои обещания, чем мавры. Да хранят тебя, моя сеньора, Аллах и
Мариен, Мать Его".
Письмо было написано и запечатано, но мне пришлось ждать еще два дня,
пока баньо не опустел, как обыкновенно, и тотчас же я отправился к обычному
месту на маленькой террасе посмотреть, не появится ли тростниковая палка, --
что и не замедлило случиться. Как только я ее заметил, хотя и не мог видеть,
кто ее держит, я показал письмо, желая дать понять, чтоб привязали нитку; но
она уже оказалась привязанной; и я прикрепил к ней письмо, и вскоре затем
появилась снова наша звезда с белым знаменем мира -- с привязанным на палке
платочком. Палка упала; я ее поднял и нашел в платке серебряными и золотыми
монетами более пятидесяти червонцев, которые в пятьдесят раз увеличили нашу
радость и укрепили в нас надежду добыть себе свободу. В ту же ночь вернулся
наш ренегат и сообщил, что, по собранным им сведениям, в том доме
действительно живет мавр, о котором нам говорили, зовут его Ахи-Мора-то; он
в высшей степени богат и имеет единственную дочь, наследницу всего его
состояния. По общему мнению, в городе она самая красивая женщина во всей
Берберии и многие из вице-королей, приезжавших сюда, просили ее себе в жены,
но она не пожелала выйти замуж. Он еще узнал, что у нее была невольница --
христианка, теперь уже умершая, и все это согласовалось с тем, что было
написано в письме. Мы стали тотчас совещаться с ренегатом, какой бы
придумать план, чтобы увезти мавританку и всем нам вернуться в христианские
земли. Наконец было решено, что мы подождем второго письма Сораиды, -- так
звали ту, которая теперь хочет называться Марией, -- так как мы хорошо
понимали, что никто другой и только она одна может указать нам выход из всех
наших затруднений.
Когда мы пришли к этому решению, ренегат просил нас не тревожиться,
потому что он расстанется с жизнью или добудет нам свободу. Четыре дня баньо
был полон народа, вследствие чего палка не появлялась целых четыре дня, но
по истечении этого времени, когда баньо, по обыкновению, опустел, она
появилась с очень пузатым платком, обещавшим счастливейшие роды. Когда палка
вместе с платком спустились ко мне, я нашел в свертке письмо и сто червонцев
одним золотом, а не другими монетами. Ренегат был тут же, мы дали ему
прочесть письмо, когда вернулись в свое помещение, и он сказал, что оно
заключает в себе следующее:
"Не знаю, сеньор мой, как устроить, чтобы нам уехать в Испанию, и Лела
Мариен мне этого не сказала, хотя я просила ее о том. Можно будет вот что
сделать: я дам вам через это окно множество денег золотом; выкупите себя ими
-- вы и ваши друзья, -- и пусть кто-нибудь из вас поедет в христианские
страны, купит там барку и вернется за остальными. Меня он найдет в саду
моего отца, у ворот Бабасона {Babazon, или "Ворота скорби", названые так
потому, что здесь совершались казни. В настоящее время южные ворота Алжира,
близ морского берега, известны под тем же названием.}, близ морского берега,
где я проведу все лето с моим отцом и моими слугами. Оттуда вы можете ночью
похитить меня, ничего не опасаясь, и отвести на барку. Смотри, не забывай,
что ты должен быть моим мужем, потому что иначе я попрошу Мариен наказать
тебя. Если ты никому не можешь доверить ехать за баркой, выкупи себя и
поезжай сам; я знаю, ты скорей всякого другого вернешься, так как ты рыцарь
и христианин. Постарайся узнать, где наш сад; а когда я увижу, что ты будешь
прохаживаться по террасе, я буду знать, что в баньо никого нет, и дам тебе
много денег. Аллах да хранит тебя, сеньор мой".
Вот что заключало в себе второе письмо и что там говорилось. Услыхав в
чем дело, каждый из нас выразил желание выкупиться, обещая поехать и
вернуться со всевозможной точностью; и я тоже вызвался сделать это. Но всему
воспротивился ренегат, говоря, что он ни в каком случае не согласится, чтобы
кто-нибудь из нас один выкупился на свободу, пока мы не выкупимся все
вместе, так как опыт научил его, как плохо освободившиеся исполняют
обещания, данные ими в плену. Не раз знатные пленники прибегали к тому же
способу: выкупят кого-нибудь и посылают с деньгами в Валенсию или на
Майорку, чтобы оснастить там барку и вернуться за теми, кто его выкупил. Но
никогда эти посланцы не возвращались, так как полученная свобода и опасение
снова ее потерять изглаживали из их памяти взятые ими на себя обязательства.
Чтобы подтвердить сказанное им, он в кратких словах сообщил нам случай,
только что происшедший с несколькими христианскими кабальеро, -- один из
самых странных случаев, когда либо приключавшихся в этих местностях, где на
каждом шагу происходят изумительные и достойные удивления вещи. В заключение
ренегат сказал, что то, что можно и следует сделать, -- это отдать ему
предназначавшиеся для выкупа пленного христианина деньги, чтобы он купил в
Алжире барку под предлогом, что сделается купцом и будет вести торговлю с
Тетуаном и всем побережьем. А когда он будет собственником барки, он легко
найдет способ вывести нас всех из баньо и уехать с нами в море, тем более
если еще мавританка, как она говорила, даст денег на выкуп всех, потому что,
как только мы получим свободу, нет ничего легче, чем сесть на корабль хотя
бы среди белого дня. Наибольшее затруднение в том, что мавры не позволяют
никому из ренегатов покупать или держать барку, а только большие корабли для
морских разбоев, так как боятся, что купивший барку -- в особенности испанец
-- делает это, имея в виду бежать в христианскую землю. Впрочем, он устранит
это препятствие тем, что войдет в долю с каким-нибудь мавром-тагарином
{Тагаринами называли мавров, приехавших с границы, т. е. из Арагонии; thagr
в переводе с арабского значит "граница".} как в покупке с ним барки, так и
прибылей с товаров; и под этим прикрытием барка будет в его власти, после
чего он считает, что все будет достижимо. Хотя мне и моим товарищам казалось
предпочтительнее послать за баркой на Майорку, как говорила мавританка, но
мы не смели противоречить ренегату, боясь, что, если мы не согласимся
принять его предложение, он нас выдаст, подвергнет опасности лишиться жизни
и обнаружит наше соглашение с Сораидой, за жизнь которой мы все отдали бы
нашу. Итак, мы решили предать судьбу свою в руки Божьи и ренегата. В то же
время был послан ответ Сораиде, в котором мы сообщали ей, что сделаем все,
что она нам советует, потому что она так хорошо придумала, точно Лела Марией
все ей подсказала; от нее одной зависит, отложить ли это дело или же тотчас
приняться за выполнение его. Я подтвердил ей снова, что сделаюсь ее мужем,
после чего на следующий же день, когда баньо оказался пустым, она
посредством палки и платка дала нам в несколько приемов две тысячи червонцев
золотом и письмо, в котором сообщала, что в первую хума, т. е. пятницу, она
уезжает в сад своего отца, но до отъезда даст нам еще больше денег; в случае
же если и это окажется недостаточным, пусть мы сообщим ей, и она нам даст
столько, сколько мы пожелаем, так как у ее отца так много денег, что он
ничего не заметит, тем более что все ключи в ее руках.
Мы дали ренегату пятьсот червонцев на покупку барки, а за восемьсот
выкупился я, дав деньги одному купцу из Валенсии, который в то время был в
Алжире. Он выкупил меня у короля на слово и взял к себе, обещав с первым же
кораблем, который придет из Валенсии, внести за меня выкуп, потому что если
б он сейчас внес деньги, то возбудил бы в короле подозрение, не была ли эта
сумма уже давно в Алжире, а купец скрыл ее, пустив в оборот. Словом, мой
господин был такой подозрительный, что я ни в каком случае не решился бы
тотчас же выплатить ему деньги. В четверг, накануне той пятницы, когда
прекрасная Сораида должна была ехать в сад, она дала нам еще тысячу
червонцев и сообщила о своем отъезде, прося меня, если я выкуплюсь, сейчас
же разыскать сад ее отца и, во всяком случае, придумать удобный предлог для
того, чтобы пойти туда и повидаться с ней. Я ответил ей в кратких словах,
что так и сделаю и чтобы она не забыла поручить нас Леле Мариен во всех
молитвах, которым научила ее пленная христианка. Сделав это, мы приняли меры
внести выкуп и за остальных трех товарищей, с тем чтоб облегчить им выход из
баньо, а также чтобы они, видя меня выкупленным, а себя нет, хотя и имеются
для этого деньги, не встревожились бы и дьявол не подсказал им сделать
что-либо во вред Сораиде, так как, хотя я и хорошо знал, что это за люди, и
мог быть вполне спокоен на их счет, тем не менее я не желал подвергать все
дело риску. Поэтому я выкупил их тем же способом, как и себя, передав все
деньги купцу, чтобы он с уверенностью и спокойно мог бы поручиться за нас,
хотя мы не открыли ему ни нашего заговора, ни нашей тайны вследствие
опасности, которую это могло бы повлечь за собой.

 Не прошло и двух недель, как уже наш ренегат купил очень хорошую барку,
которая могла вместить более тридцати человек. Чтобы дело было вернее и
чтобы придать ему подобающую окраску, он решил сделать, и действительно
сделал путешествие в местечко, называемое Сархел, отстоящее от Алжира на
тридцать миль по направлению к Орану, где ведется большая торговля сушеными
винными ягодами. Два или три раза совершил он эту поездку в обществе уже
упомянутого мавра-тагарина. В Берберии называют тагаринами арагонских
мавров, а гренадских -- мудехарес, в королевстве же Фец мудехарес называются
елчес, и тамошний король предпочтительно другим берет их на войну. Итак,
говорю, всякий раз, как ренегат отплывал в своей барке, он бросал якорь в
маленькой бухте, находившейся на расстоянии не более двух выстрелов из лука
от сада, в котором ждала Сораида; ренегат располагался здесь умышленно с
своими гребцами, молодыми маврами, творя молитву {Zola -- молитва, которую
добрый магометанин, где бы он ни находился, творит пять раз на дню.} или
разыгрывая в шутку то, что он собирался сделать в действительности; итак, он
отправлялся в сад Сораиды и просил дать фруктов, а отец ее, не зная его,
давал ему их. И хотя он и желал говорить с Сораидой -- как он потом мне
сообщил -- и сказать ей, что он тот, кому я приказал отвезти ее в
христианскую землю, и пусть она будет спокойна и довольна, -- никогда ему
это не удавалось, потому что мавританки не показываются ни мавру, ни турку,
разве только отец или муж прикажет им это. С христианскими же пленниками им
позволяют разговаривать и быть в общении часто даже более, чем следовало бы.
Да я бы и огорчился, если бы ему удалось говорить с нею, потому что, быть
может, она встревожилась бы, услыхав о своем деле из уст ренегата. Но Бог
распорядился иначе и не дал нашему ренегату возможности привести в
исполнение свое доброе намерение. А увидав, с какой безопасностью он ездит в
Сархел, взад и вперед, и может бросать якорь, когда, как и где ему угодно, и
что тагарин, его компаньон, не имеет другой воли, кроме руководимой им, что
я уже выкуплен, и остается только найти нескольких христиан, чтобы грести на
веслах, -- он просил меня подумать, кого я еще хочу взять с собой, кроме уже
выкупленных, и уговориться с ними ехать в ближайшую пятницу, которую он
назначил для нашего отъезда. Ввиду этого я переговорил с двенадцатью
испанцами -- все прекрасные гребцы и люди, которые могли свободно покинуть
город. Нелегко было найти их именно в это время, потому что как раз двадцать
кораблей ушли крейсировать в море и увезли с собой всех гребцов. И этих тоже
не было бы, если бы их хозяин отправился на пиратство, а не остался дома,
чтобы кончить постройку галиота, находившегося на верфи. Я ничего не сказал
моим гребцам, кроме того, что в следующую пятницу вечером они должны выйти
из города поодиночке, втихомолку, направляясь к саду Ахи-Морато, и там ждать
меня, пока я не приду. Каждому в отдельности дал я это приказание,
предупредив, в случае если бы они увидели там еще других христиан, не
говорить им ничего, исключая того, что я приказал ждать в этом месте.
Когда я сделал это распоряжение, мне оставалось еще сделать нечто
другое и самое важное для меня, а именно: известить Сораиду, в каком
положении находится наше предприятие, чтоб она была подготовлена, поджидала
нас и не испугалась, если б мы появились неожиданно и раньше того времени,
когда, по ее расчетам, могла прибыть барка с христианами. Итак, я решил идти
в сад и посмотреть, не удастся ли мне поговорить с нею. Под предлогом, что
мне нужно собрать некоторые травы, я пошел туда накануне дня, назначенного
для нашего отъезда. Первый, кого я встретил в саду, был отец Сораиды,
заговоривший со мной на языке, на котором мавры говорят с пленными во всей
Берберии, даже в Константинополе. Этот язык не мавританский, не кастильский
и не какого-либо другого народа, а смесь разных языков, но которую мы
понимаем {Так называемая lingua franca, состоящая главным образом из
испанских и итальянских слов, и теперь еще употребляемая на Берберийском
побережье.}. Итак, говорю я, он на этом языке спросил меня, что я ищу в его
саду и чей я слуга. В ответ я сообщил, будто я невольник арнаута Мами
(сказал я это, зная, что Мами был ему близким другом) и ищу разных трав для
салата. Затем он спросил, на выкупе ли я или нет и сколько мой господин
просит за меня. Пока мы так разговаривали, из беседки вышла прекрасная
Сораида, давно уже заметившая меня, и, так как мавританки нимало не
стесняются показываться христианам и не избегают их -- как я уже говорил, --
она не затруднилась подойти туда, где я стоял с ее отцом, и даже отец ее,
видя, что она замедлила шаг, сам позвал ее и велел ей приблизиться. Было бы
излишним, если бы я стал описывать красоту, изящество, богатый и роскошный
наряд, в котором возлюбленная моя Сораида явилась тогда передо мной. Одно
скажу, что вокруг ее прелестной шеи, в ее ушах и косах было больше жемчуга,
чем волос на ее голове. На щиколотках ног, обнаженных по мавританскому
обычаю, у нее были надеты два каркаха (так называются по-мавритански кольца
или браслеты для ног) из чистейшего золота, украшенные таким множеством
бриллиантов, что отец ее -- как она мне потом говорила -- ценил их в десять
тысяч доблас {Мавританская старинная золотая монета, почти равная испанскому
червонцу.}, а те, которые она носила на кистях рук, стоили не меньше того.
Жемчуга на ней было в изобилии, и самого лучшего, так как украшаться
жемчугом -- крупным и мелким -- считается у мавританок наибольшею роскошью и
изысканностью. Поэтому у мавров больше жемчужин и мелкого жемчуга, чем у
всех остальных народов, а отец Сораиды славился тем, что имел их множество и
наилучших в Алжире, а также и тем, что у него было двести тысяч испанских
червонцев, и владела всем этим та, которая теперь моя владычица. Была ли она
во всех этих украшениях прекрасна или нет, можно судить по тому, что
осталось от ее красоты после столь многих ее страданий. Какова же должна
была быть эта красота в ее счастливые дни! Ведь известно, что у некоторых
женщин красота в зависимости от времени и дня и вследствие некоторых
обстоятельств увеличивается или уменьшается; и естественно, что душевные
волнения возвышают или понижают ее, хотя чаще всего они ее разрушают.
Словом, говорю я, Сораида предстала тогда предо мной в таком роскошном
наряде и до того восхитительная, что, по крайней мере, мне она показалась
самой прекрасной из всех женщин, которых я когда-либо видел в жизни, и,
сверх того, когда я принял в соображение еще все, чем я был ей обязан, она
представилась мне богиней, сошедшей на землю для моего счастья и спасения.
Лишь только она подошла к нам, отец сказал ей на своем языке, что я
невольник его друга, арнаута Мами, и пришел набрать зелени для салата. Она
заговорила со мной на той смеси языков, о которой я уже упоминал, спросила:
кабальеро ли я и по какой причине не выкуплен? В ответ я сказал, что уже
внес за себя выкуп и по величине его она может судить о том, как высоко
ценил меня мои бывший господин, потому что мне пришлось уплатить ему тысячу
пятьсот солтанис {Soltanis -- от "султан", как испанский реал -- от rey
("король"): золотая монета стоимостью 36 реалов, т. е. немногим больше, чем
испанский escudo, или червонец.}. На это она ответила:
-- Поистине, если б ты принадлежал моему отцу, я уговорила бы его не
возвращать тебе свободы, хотя бы даже за тебя давали вдвое больше, так как
вы, христиане, всегда лжете в том, что говорите, и представляетесь бедными,
чтобы обмануть мавров.
-- Может быть, это и так, сеньора,-- ответил я, -- но, говоря по
правде, я поступил честно с моим господином, и поступаю, и буду так
поступать со всеми на свете.
-- А когда ты уезжаешь? -- спросила Сораида.
-- Думаю, что завтра, -- ответил я,-- так как здесь французский
корабль, который завтра поднимет паруса, и я намерен ехать на нем.
-- Не лучше ли было бы, -- возразила Сораида, -- подождать, чтобы
пришли корабли из Испании и ехать с испанцами, а не с французами, которые не
друзья ваши?
-- Нет, -- ответил я, -- хотя, если действительно придет сюда, как о
том идет слух, корабль из Испании, я бы его подождал; но все же вернее, что
я поеду завтра, так как мое желание увидеть родину и тех, кого я люблю,
столь сильно, что я не в состоянии ждать другого удобного случая, как бы он
ни был хорош, если б пришлось из-за этого отложить мой отъезд.
-- Должно быть, ты женат у себя на родине, -- сказала Сораида, -- и
потому тебе так хочется ехать повидаться с твоей женой?
-- Нет, -- ответил я. -- Я не женат, но дал слово жениться, когда
вернусь на родину.
-- Красива та дама, которой ты дал слово жениться? -- спросила Сораида.
-- Так красива, -- ответил я, -- что, для того чтобы восхвалить ее
красоту и сказать тебе правду, могу лишь сообщить, что она очень похожа на
тебя.
Над этими словами отец Сораиды от души рассмеялся и сказал:
-- Клянусь Аллахом, христианин, твоя невеста должна быть необыкновенно
красива, если она похожа на мою дочь, которая считается первой красавицей во
всем королевстве. Посмотри на нее хорошенько, и ты увидишь, говорю ли я
правду или нет.
В большей части этого разговора отец Сораиды служил нам переводчиком,
как лучше знавший языки, потому что, хотя Сораида и сама говорила на том
ломаном языке, который, как сказано, был в употреблении там, все же она чаще
объяснялась знаками, чем словами.
Пока мы вели эти и другие разговоры, прибежал мавр и громко крикнул,
что через изгородь сада перескочили четыре турка и рвут фрукты, хотя они еще
не созрели. Старик испугался, а также и Сораида, потому что страх перед
турками у мавров почти всеобщий и как бы прирожденный, в особенности страх
перед солдатами, которые до того дерзки и пользуются такой властью над
подчиненными им маврами, что обращаются с ними хуже, чем если бы они были их
рабы. Итак, говорю я, отец сказал Сораиде:
-- Дочь, иди в дом и запрись там, пока я пойду объясняться с этими
собаками; а ты, христианин, собирай свои травы и уходи себе, в добрый час!
Пусть Аллах возвратит тебя благополучно на твою родину.
Я поклонился ему, и он ушел искать турок, оставив меня наедине с
Сораидой, которая сделала вид, что идет туда, куда ей велел отец, но едва он
успел скрыться за деревьями сада, как она повернулась ко мне с глазами,
полными слез, и сказала:
-- Тамехи христианин, тамехи? (Что означает: "Ты уезжаешь, христианин,
уезжаешь"?)
Я ответил ей:
-- Да, сеньора, уезжаю, но ни в каком случае не без тебя. В первую хуму
{Пятница -- воскресный день у мусульман.} жди меня и не пугайся, когда
увидишь нас, потому что мы, вне всякого сомнения, уедем в христианские
страны.
Я сказал это таким образом, что теперь она хорошо поняла весь разговор,
который произошел между нами, и, обняв рукой меня за шею, она дрожащими
шагами пошла по направлению к дому. Судьбе угодно было, -- и нам могло бы
прийтись очень плохо, если б небо не распорядилось иначе, -- чтобы в то
время, когда мы шли таким образом и в такой позе, -- она, как я говорил,
охватив рукой мою шею,-- ее отец, который уже возвращался, выпроводив турок
из сада, увидел нас и мы тоже заметили, что он нас увидел. Но Сораида, умная
и находчивая, не отняла руки от моей шеи, напротив, еще больше прижалась ко
мне, положила голову мне на грудь, согнула немного колени, -- с явными и
очевидными признаками, что ей делается дурно. С своей стороны, и я сделал
вид, будто против воли поддерживаю ее. Отец Сораиды поспешно бросился к тому
месту, где мы стояли, и, увидав дочь в таком положении, спросил ее, что с
нею. Но так как она ничего не ответила, он сказал:
-- Верно, ее испугало появление этих собак, и она упала в обморок.
Он взял ее из моих объятий и прижал к своей груди, а она, глубоко
вздохнув, с невысохшими еще от слез глазами стала говорить:
-- Амехи, христианин, амехи! (То есть: "Уходи, христианин, уходи! ")
На это отец ее ответил:
-- Нет нужды, дочь, чтобы христианин ушел: он не сделал тебе никакого
зла; а турки уж ушли. Не пугайся же; тебе нет ни малейшей причины
тревожиться, потому что турки, как я уже говорил тебе, ушли по моей просьбе
той же дорогой, какой пришли.
-- Это они, сеньор, напугали ее, как ты предполагал, -- сказал я ее
отцу, -- но, раз она желает, чтобы я ушел, я не хочу огорчать ее. Оставайся
с миром, и, с твоего разрешения, я вернусь, если понадобится, в этот сад
рвать зелень, потому что, по словам моего господина, нигде нет лучшей зелени
для салата, как здесь.
-- Приходи всякий раз, как захочешь, -- ответил Ахи-Морато, -- моя дочь
говорила так не потому, что она недовольна тобой или кем-либо из христиан, а
только, желая сказать, чтоб турки ушли, она вместо того сказала, чтоб ты
ушел, или же, быть может, потому что тебе уже пора собирать свои травы.
После этого я простился с ними обоими, и она, у которой, казалось, как
бы разрывалось сердце, ушла с отцом. Я же под предлогом, что ищу травы,
хорошенько и нимало не стесняясь, обошел весь сад и тщательно осмотрел все
входы и выходы, охранение дома и все, что могло пойти нам на пользу при
выполнении нашего предприятия.
Сделав это, я вернулся и сообщил обо всем, что произошло, ренегату и
моим товарищам, и едва мог дождаться часа, когда без всяких опасений буду
наслаждаться счастьем, которое судьба мне посылала в лице прекрасной и
очаровательной Сораиды. Время шло, и наконец настал столь сильно желанный
день и час, и, так как все точно исполнили план и распоряжения, к которым мы
пришли после долгого обсуждения и зрелого размышления, все и удалось нам как
нельзя лучше. В пятницу, на другой день после моего разговора в саду с
Сораидой, ренегат наш с наступлением ночи бросил якорь почти против того
места, где жила прекраснейшая Сораида. Христиане были предупреждены и
спрятались в окрестностях сада. Все они с беспокойством и волнением ждали
меня, сгорая от нетерпения напасть на барку, стоявшую у них перед глазами,
так как они не знали об уговоре ренегата с нами и думали, что им придется с
оружием в руках добыть и завоевать себе свободу, отняв жизнь у мавров,
бывших на барке. Поэтому, лишь только я и мои товарищи показались, все
остальные, которые были спрятаны, увидав нас, вышли и подошли к нам. Это
было уже в ту пору, когда городские ворота были заперты и во всей
окрестности не было видно ни души. Лишь только мы все соединились, мы стали
обсуждать, что лучше: идти ли нам прежде за Сораидой или же сначала овладеть
маврами багаринос {Bagarinos -- так называли мавров, зарабатывавших себе
хлеб, нанимаясь гребцами на галеры.}, сидевшими у весел на барке. Пока мы
совещались об этом, к нам подошел ренегат и спросил, отчего мы медлим, ведь
теперь как раз время, так как все его мавры ничего не подозревают и
большинство из них спит. Мы сказали ему, в чем у нас задержка, и он ответил,
что самое важное -- овладеть баркой, и это можно сделать с величайшей
легкостью, не подвергая себя никакой опасности. А потом уже мы можем идти за
Сораидой. Совет этот понравился всем нам, и, таким образом, не медля больше,
мы под предводительством ренегата подошли к барке, и он первый, вскочив в
нее, выхватил свой палаш и крикнул на арабском языке: "Пусть никто не
двинется с места, если желает остаться в живых!" Между тем уже почти все
христиане вошли на барку. Мавры, не принадлежавшие к числу отважных, когда
услышали, что так говорит их арраэс {Armez -- капитан алжирского судна.},
страшно перепугались, и ни один из них не взялся за оружие, которого,
впрочем, у них было мало или почти не было; они молча дали христианам
связать себе руки, а те сделали это очень быстро, угрожая маврам, если
только они возвысят голос, тотчас же всех перерубить.
Не прошло и двух недель, как уже наш ренегат купил очень хорошую барку,
которая могла вместить более тридцати человек. Чтобы дело было вернее и
чтобы придать ему подобающую окраску, он решил сделать, и действительно
сделал путешествие в местечко, называемое Сархел, отстоящее от Алжира на
тридцать миль по направлению к Орану, где ведется большая торговля сушеными
винными ягодами. Два или три раза совершил он эту поездку в обществе уже
упомянутого мавра-тагарина. В Берберии называют тагаринами арагонских
мавров, а гренадских -- мудехарес, в королевстве же Фец мудехарес называются
елчес, и тамошний король предпочтительно другим берет их на войну. Итак,
говорю, всякий раз, как ренегат отплывал в своей барке, он бросал якорь в
маленькой бухте, находившейся на расстоянии не более двух выстрелов из лука
от сада, в котором ждала Сораида; ренегат располагался здесь умышленно с
своими гребцами, молодыми маврами, творя молитву {Zola -- молитва, которую
добрый магометанин, где бы он ни находился, творит пять раз на дню.} или
разыгрывая в шутку то, что он собирался сделать в действительности; итак, он
отправлялся в сад Сораиды и просил дать фруктов, а отец ее, не зная его,
давал ему их. И хотя он и желал говорить с Сораидой -- как он потом мне
сообщил -- и сказать ей, что он тот, кому я приказал отвезти ее в
христианскую землю, и пусть она будет спокойна и довольна, -- никогда ему
это не удавалось, потому что мавританки не показываются ни мавру, ни турку,
разве только отец или муж прикажет им это. С христианскими же пленниками им
позволяют разговаривать и быть в общении часто даже более, чем следовало бы.
Да я бы и огорчился, если бы ему удалось говорить с нею, потому что, быть
может, она встревожилась бы, услыхав о своем деле из уст ренегата. Но Бог
распорядился иначе и не дал нашему ренегату возможности привести в
исполнение свое доброе намерение. А увидав, с какой безопасностью он ездит в
Сархел, взад и вперед, и может бросать якорь, когда, как и где ему угодно, и
что тагарин, его компаньон, не имеет другой воли, кроме руководимой им, что
я уже выкуплен, и остается только найти нескольких христиан, чтобы грести на
веслах, -- он просил меня подумать, кого я еще хочу взять с собой, кроме уже
выкупленных, и уговориться с ними ехать в ближайшую пятницу, которую он
назначил для нашего отъезда. Ввиду этого я переговорил с двенадцатью
испанцами -- все прекрасные гребцы и люди, которые могли свободно покинуть
город. Нелегко было найти их именно в это время, потому что как раз двадцать
кораблей ушли крейсировать в море и увезли с собой всех гребцов. И этих тоже
не было бы, если бы их хозяин отправился на пиратство, а не остался дома,
чтобы кончить постройку галиота, находившегося на верфи. Я ничего не сказал
моим гребцам, кроме того, что в следующую пятницу вечером они должны выйти
из города поодиночке, втихомолку, направляясь к саду Ахи-Морато, и там ждать
меня, пока я не приду. Каждому в отдельности дал я это приказание,
предупредив, в случае если бы они увидели там еще других христиан, не
говорить им ничего, исключая того, что я приказал ждать в этом месте.
Когда я сделал это распоряжение, мне оставалось еще сделать нечто
другое и самое важное для меня, а именно: известить Сораиду, в каком
положении находится наше предприятие, чтоб она была подготовлена, поджидала
нас и не испугалась, если б мы появились неожиданно и раньше того времени,
когда, по ее расчетам, могла прибыть барка с христианами. Итак, я решил идти
в сад и посмотреть, не удастся ли мне поговорить с нею. Под предлогом, что
мне нужно собрать некоторые травы, я пошел туда накануне дня, назначенного
для нашего отъезда. Первый, кого я встретил в саду, был отец Сораиды,
заговоривший со мной на языке, на котором мавры говорят с пленными во всей
Берберии, даже в Константинополе. Этот язык не мавританский, не кастильский
и не какого-либо другого народа, а смесь разных языков, но которую мы
понимаем {Так называемая lingua franca, состоящая главным образом из
испанских и итальянских слов, и теперь еще употребляемая на Берберийском
побережье.}. Итак, говорю я, он на этом языке спросил меня, что я ищу в его
саду и чей я слуга. В ответ я сообщил, будто я невольник арнаута Мами
(сказал я это, зная, что Мами был ему близким другом) и ищу разных трав для
салата. Затем он спросил, на выкупе ли я или нет и сколько мой господин
просит за меня. Пока мы так разговаривали, из беседки вышла прекрасная
Сораида, давно уже заметившая меня, и, так как мавританки нимало не
стесняются показываться христианам и не избегают их -- как я уже говорил, --
она не затруднилась подойти туда, где я стоял с ее отцом, и даже отец ее,
видя, что она замедлила шаг, сам позвал ее и велел ей приблизиться. Было бы
излишним, если бы я стал описывать красоту, изящество, богатый и роскошный
наряд, в котором возлюбленная моя Сораида явилась тогда передо мной. Одно
скажу, что вокруг ее прелестной шеи, в ее ушах и косах было больше жемчуга,
чем волос на ее голове. На щиколотках ног, обнаженных по мавританскому
обычаю, у нее были надеты два каркаха (так называются по-мавритански кольца
или браслеты для ног) из чистейшего золота, украшенные таким множеством
бриллиантов, что отец ее -- как она мне потом говорила -- ценил их в десять
тысяч доблас {Мавританская старинная золотая монета, почти равная испанскому
червонцу.}, а те, которые она носила на кистях рук, стоили не меньше того.
Жемчуга на ней было в изобилии, и самого лучшего, так как украшаться
жемчугом -- крупным и мелким -- считается у мавританок наибольшею роскошью и
изысканностью. Поэтому у мавров больше жемчужин и мелкого жемчуга, чем у
всех остальных народов, а отец Сораиды славился тем, что имел их множество и
наилучших в Алжире, а также и тем, что у него было двести тысяч испанских
червонцев, и владела всем этим та, которая теперь моя владычица. Была ли она
во всех этих украшениях прекрасна или нет, можно судить по тому, что
осталось от ее красоты после столь многих ее страданий. Какова же должна
была быть эта красота в ее счастливые дни! Ведь известно, что у некоторых
женщин красота в зависимости от времени и дня и вследствие некоторых
обстоятельств увеличивается или уменьшается; и естественно, что душевные
волнения возвышают или понижают ее, хотя чаще всего они ее разрушают.
Словом, говорю я, Сораида предстала тогда предо мной в таком роскошном
наряде и до того восхитительная, что, по крайней мере, мне она показалась
самой прекрасной из всех женщин, которых я когда-либо видел в жизни, и,
сверх того, когда я принял в соображение еще все, чем я был ей обязан, она
представилась мне богиней, сошедшей на землю для моего счастья и спасения.
Лишь только она подошла к нам, отец сказал ей на своем языке, что я
невольник его друга, арнаута Мами, и пришел набрать зелени для салата. Она
заговорила со мной на той смеси языков, о которой я уже упоминал, спросила:
кабальеро ли я и по какой причине не выкуплен? В ответ я сказал, что уже
внес за себя выкуп и по величине его она может судить о том, как высоко
ценил меня мои бывший господин, потому что мне пришлось уплатить ему тысячу
пятьсот солтанис {Soltanis -- от "султан", как испанский реал -- от rey
("король"): золотая монета стоимостью 36 реалов, т. е. немногим больше, чем
испанский escudo, или червонец.}. На это она ответила:
-- Поистине, если б ты принадлежал моему отцу, я уговорила бы его не
возвращать тебе свободы, хотя бы даже за тебя давали вдвое больше, так как
вы, христиане, всегда лжете в том, что говорите, и представляетесь бедными,
чтобы обмануть мавров.
-- Может быть, это и так, сеньора,-- ответил я, -- но, говоря по
правде, я поступил честно с моим господином, и поступаю, и буду так
поступать со всеми на свете.
-- А когда ты уезжаешь? -- спросила Сораида.
-- Думаю, что завтра, -- ответил я,-- так как здесь французский
корабль, который завтра поднимет паруса, и я намерен ехать на нем.
-- Не лучше ли было бы, -- возразила Сораида, -- подождать, чтобы
пришли корабли из Испании и ехать с испанцами, а не с французами, которые не
друзья ваши?
-- Нет, -- ответил я, -- хотя, если действительно придет сюда, как о
том идет слух, корабль из Испании, я бы его подождал; но все же вернее, что
я поеду завтра, так как мое желание увидеть родину и тех, кого я люблю,
столь сильно, что я не в состоянии ждать другого удобного случая, как бы он
ни был хорош, если б пришлось из-за этого отложить мой отъезд.
-- Должно быть, ты женат у себя на родине, -- сказала Сораида, -- и
потому тебе так хочется ехать повидаться с твоей женой?
-- Нет, -- ответил я. -- Я не женат, но дал слово жениться, когда
вернусь на родину.
-- Красива та дама, которой ты дал слово жениться? -- спросила Сораида.
-- Так красива, -- ответил я, -- что, для того чтобы восхвалить ее
красоту и сказать тебе правду, могу лишь сообщить, что она очень похожа на
тебя.
Над этими словами отец Сораиды от души рассмеялся и сказал:
-- Клянусь Аллахом, христианин, твоя невеста должна быть необыкновенно
красива, если она похожа на мою дочь, которая считается первой красавицей во
всем королевстве. Посмотри на нее хорошенько, и ты увидишь, говорю ли я
правду или нет.
В большей части этого разговора отец Сораиды служил нам переводчиком,
как лучше знавший языки, потому что, хотя Сораида и сама говорила на том
ломаном языке, который, как сказано, был в употреблении там, все же она чаще
объяснялась знаками, чем словами.
Пока мы вели эти и другие разговоры, прибежал мавр и громко крикнул,
что через изгородь сада перескочили четыре турка и рвут фрукты, хотя они еще
не созрели. Старик испугался, а также и Сораида, потому что страх перед
турками у мавров почти всеобщий и как бы прирожденный, в особенности страх
перед солдатами, которые до того дерзки и пользуются такой властью над
подчиненными им маврами, что обращаются с ними хуже, чем если бы они были их
рабы. Итак, говорю я, отец сказал Сораиде:
-- Дочь, иди в дом и запрись там, пока я пойду объясняться с этими
собаками; а ты, христианин, собирай свои травы и уходи себе, в добрый час!
Пусть Аллах возвратит тебя благополучно на твою родину.
Я поклонился ему, и он ушел искать турок, оставив меня наедине с
Сораидой, которая сделала вид, что идет туда, куда ей велел отец, но едва он
успел скрыться за деревьями сада, как она повернулась ко мне с глазами,
полными слез, и сказала:
-- Тамехи христианин, тамехи? (Что означает: "Ты уезжаешь, христианин,
уезжаешь"?)
Я ответил ей:
-- Да, сеньора, уезжаю, но ни в каком случае не без тебя. В первую хуму
{Пятница -- воскресный день у мусульман.} жди меня и не пугайся, когда
увидишь нас, потому что мы, вне всякого сомнения, уедем в христианские
страны.
Я сказал это таким образом, что теперь она хорошо поняла весь разговор,
который произошел между нами, и, обняв рукой меня за шею, она дрожащими
шагами пошла по направлению к дому. Судьбе угодно было, -- и нам могло бы
прийтись очень плохо, если б небо не распорядилось иначе, -- чтобы в то
время, когда мы шли таким образом и в такой позе, -- она, как я говорил,
охватив рукой мою шею,-- ее отец, который уже возвращался, выпроводив турок
из сада, увидел нас и мы тоже заметили, что он нас увидел. Но Сораида, умная
и находчивая, не отняла руки от моей шеи, напротив, еще больше прижалась ко
мне, положила голову мне на грудь, согнула немного колени, -- с явными и
очевидными признаками, что ей делается дурно. С своей стороны, и я сделал
вид, будто против воли поддерживаю ее. Отец Сораиды поспешно бросился к тому
месту, где мы стояли, и, увидав дочь в таком положении, спросил ее, что с
нею. Но так как она ничего не ответила, он сказал:
-- Верно, ее испугало появление этих собак, и она упала в обморок.
Он взял ее из моих объятий и прижал к своей груди, а она, глубоко
вздохнув, с невысохшими еще от слез глазами стала говорить:
-- Амехи, христианин, амехи! (То есть: "Уходи, христианин, уходи! ")
На это отец ее ответил:
-- Нет нужды, дочь, чтобы христианин ушел: он не сделал тебе никакого
зла; а турки уж ушли. Не пугайся же; тебе нет ни малейшей причины
тревожиться, потому что турки, как я уже говорил тебе, ушли по моей просьбе
той же дорогой, какой пришли.
-- Это они, сеньор, напугали ее, как ты предполагал, -- сказал я ее
отцу, -- но, раз она желает, чтобы я ушел, я не хочу огорчать ее. Оставайся
с миром, и, с твоего разрешения, я вернусь, если понадобится, в этот сад
рвать зелень, потому что, по словам моего господина, нигде нет лучшей зелени
для салата, как здесь.
-- Приходи всякий раз, как захочешь, -- ответил Ахи-Морато, -- моя дочь
говорила так не потому, что она недовольна тобой или кем-либо из христиан, а
только, желая сказать, чтоб турки ушли, она вместо того сказала, чтоб ты
ушел, или же, быть может, потому что тебе уже пора собирать свои травы.
После этого я простился с ними обоими, и она, у которой, казалось, как
бы разрывалось сердце, ушла с отцом. Я же под предлогом, что ищу травы,
хорошенько и нимало не стесняясь, обошел весь сад и тщательно осмотрел все
входы и выходы, охранение дома и все, что могло пойти нам на пользу при
выполнении нашего предприятия.
Сделав это, я вернулся и сообщил обо всем, что произошло, ренегату и
моим товарищам, и едва мог дождаться часа, когда без всяких опасений буду
наслаждаться счастьем, которое судьба мне посылала в лице прекрасной и
очаровательной Сораиды. Время шло, и наконец настал столь сильно желанный
день и час, и, так как все точно исполнили план и распоряжения, к которым мы
пришли после долгого обсуждения и зрелого размышления, все и удалось нам как
нельзя лучше. В пятницу, на другой день после моего разговора в саду с
Сораидой, ренегат наш с наступлением ночи бросил якорь почти против того
места, где жила прекраснейшая Сораида. Христиане были предупреждены и
спрятались в окрестностях сада. Все они с беспокойством и волнением ждали
меня, сгорая от нетерпения напасть на барку, стоявшую у них перед глазами,
так как они не знали об уговоре ренегата с нами и думали, что им придется с
оружием в руках добыть и завоевать себе свободу, отняв жизнь у мавров,
бывших на барке. Поэтому, лишь только я и мои товарищи показались, все
остальные, которые были спрятаны, увидав нас, вышли и подошли к нам. Это
было уже в ту пору, когда городские ворота были заперты и во всей
окрестности не было видно ни души. Лишь только мы все соединились, мы стали
обсуждать, что лучше: идти ли нам прежде за Сораидой или же сначала овладеть
маврами багаринос {Bagarinos -- так называли мавров, зарабатывавших себе
хлеб, нанимаясь гребцами на галеры.}, сидевшими у весел на барке. Пока мы
совещались об этом, к нам подошел ренегат и спросил, отчего мы медлим, ведь
теперь как раз время, так как все его мавры ничего не подозревают и
большинство из них спит. Мы сказали ему, в чем у нас задержка, и он ответил,
что самое важное -- овладеть баркой, и это можно сделать с величайшей
легкостью, не подвергая себя никакой опасности. А потом уже мы можем идти за
Сораидой. Совет этот понравился всем нам, и, таким образом, не медля больше,
мы под предводительством ренегата подошли к барке, и он первый, вскочив в
нее, выхватил свой палаш и крикнул на арабском языке: "Пусть никто не
двинется с места, если желает остаться в живых!" Между тем уже почти все
христиане вошли на барку. Мавры, не принадлежавшие к числу отважных, когда
услышали, что так говорит их арраэс {Armez -- капитан алжирского судна.},
страшно перепугались, и ни один из них не взялся за оружие, которого,
впрочем, у них было мало или почти не было; они молча дали христианам
связать себе руки, а те сделали это очень быстро, угрожая маврам, если
только они возвысят голос, тотчас же всех перерубить.
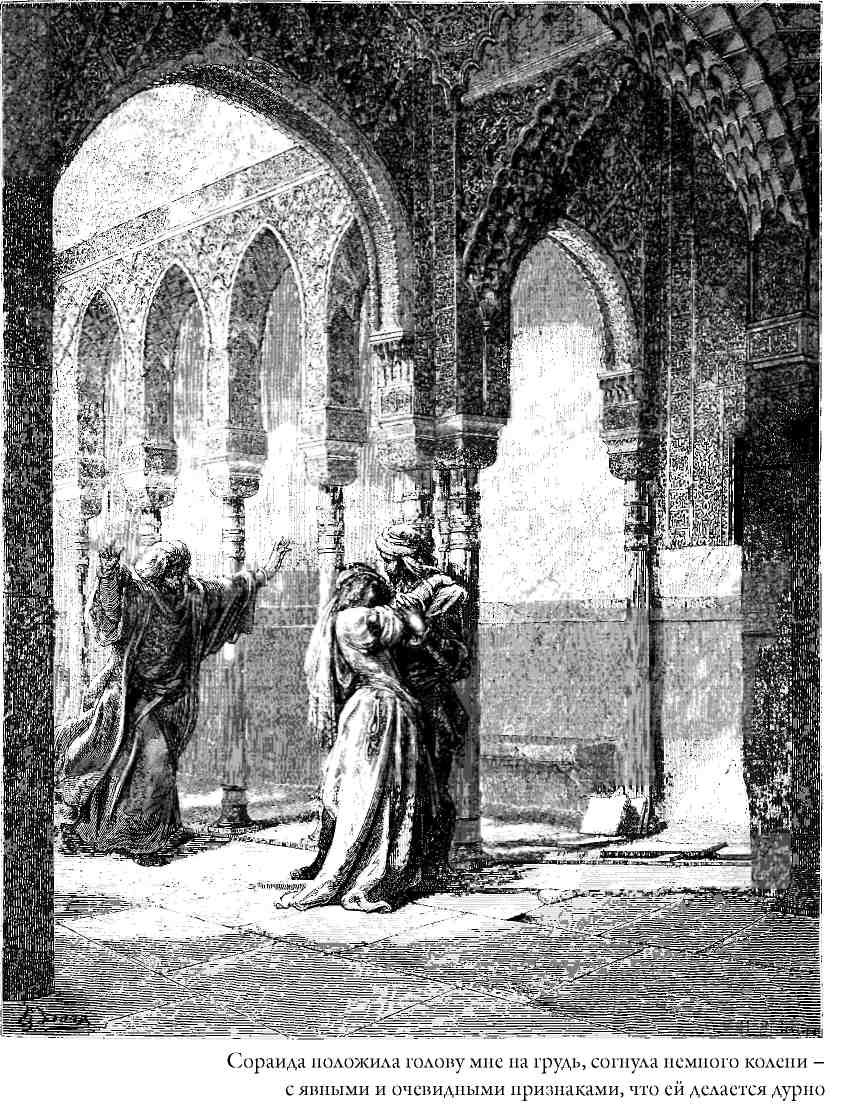 После того, оставив половину наших сторожить на барке, мы, остальные, с
ренегатом во главе, пошли к саду Ахи-Морато, и счастливой судьбе было
угодно, чтобы калитка, когда мы подошли к ней, так легко отворилась, будто и
вовсе не была заперта. Таким образом, молча и в полной тишине, никем не
замеченные, дошли мы до дому. Прекраснейшая Со-раида ждала нас у окна и как
только услышала, что идут люди, спросила тихим голосом, не назаряне ли мы,
желая сказать или спросить, не христиане ли мы. Я ей ответил, что да и чтобы
она сошла вниз. Когда она узнала меня, она не колебалась ни минуты, а, не
ответив ни слова, тотчас же поспешила вниз, открыла дверь и явилась перед
нами такой красивой и роскошно одетой, что я не могу даже пытаться описать
это. Как только я увидел ее, я взял одну из ее рук и стал целовать ее;
ренегат последовал моему примеру, также как и два товарища мои; остальные
же, хотя и не знали о причине, сделали то же, что и мы, так что, казалось,
мы все благодарим и признаем ее владычицей нашего освобождения. Ренегат
спросил Сораиду на арабском языке: в саду ли ее отец? Она ответила, что да и
что он спит.
-- Нужно будет разбудить его, -- сказал ренегат, -- и увезти с собой,
как и все ценное из этого прекрасного сада.
-- Нет, -- ответила она, -- моего отца нельзя никоим образом коснуться,
а в этом доме нет ничего ценного, за исключением того, что я беру с собой, а
беру я столько, что все вы будете богаты и довольны. Подождите немного и
увидите.
С этими словами она вошла опять в дом, говоря, что очень скоро вернется
и чтобы мы стояли и не производили шума. Я спросил ренегата, о чем он с нею
разговаривал, и, когда он сообщил, я сказал ему, что, во всяком случае, надо
делать только лишь то, что желает Сораида. Она вернулась как раз в это
время, обремененная небольшим сундучком, наполненным таким множеством
червонцев, что она с трудом несла его. Между тем, к несчастью, проснулся
отец ее, и, услыхав какой-то шум в саду, он выглянул из окна, тотчас же
увидел, что все бывшие в саду -- христиане, и стал дико и яростно кричать
по-арабски:
-- Христиане, христиане! Воры, воры!
После того, оставив половину наших сторожить на барке, мы, остальные, с
ренегатом во главе, пошли к саду Ахи-Морато, и счастливой судьбе было
угодно, чтобы калитка, когда мы подошли к ней, так легко отворилась, будто и
вовсе не была заперта. Таким образом, молча и в полной тишине, никем не
замеченные, дошли мы до дому. Прекраснейшая Со-раида ждала нас у окна и как
только услышала, что идут люди, спросила тихим голосом, не назаряне ли мы,
желая сказать или спросить, не христиане ли мы. Я ей ответил, что да и чтобы
она сошла вниз. Когда она узнала меня, она не колебалась ни минуты, а, не
ответив ни слова, тотчас же поспешила вниз, открыла дверь и явилась перед
нами такой красивой и роскошно одетой, что я не могу даже пытаться описать
это. Как только я увидел ее, я взял одну из ее рук и стал целовать ее;
ренегат последовал моему примеру, также как и два товарища мои; остальные
же, хотя и не знали о причине, сделали то же, что и мы, так что, казалось,
мы все благодарим и признаем ее владычицей нашего освобождения. Ренегат
спросил Сораиду на арабском языке: в саду ли ее отец? Она ответила, что да и
что он спит.
-- Нужно будет разбудить его, -- сказал ренегат, -- и увезти с собой,
как и все ценное из этого прекрасного сада.
-- Нет, -- ответила она, -- моего отца нельзя никоим образом коснуться,
а в этом доме нет ничего ценного, за исключением того, что я беру с собой, а
беру я столько, что все вы будете богаты и довольны. Подождите немного и
увидите.
С этими словами она вошла опять в дом, говоря, что очень скоро вернется
и чтобы мы стояли и не производили шума. Я спросил ренегата, о чем он с нею
разговаривал, и, когда он сообщил, я сказал ему, что, во всяком случае, надо
делать только лишь то, что желает Сораида. Она вернулась как раз в это
время, обремененная небольшим сундучком, наполненным таким множеством
червонцев, что она с трудом несла его. Между тем, к несчастью, проснулся
отец ее, и, услыхав какой-то шум в саду, он выглянул из окна, тотчас же
увидел, что все бывшие в саду -- христиане, и стал дико и яростно кричать
по-арабски:
-- Христиане, христиане! Воры, воры!
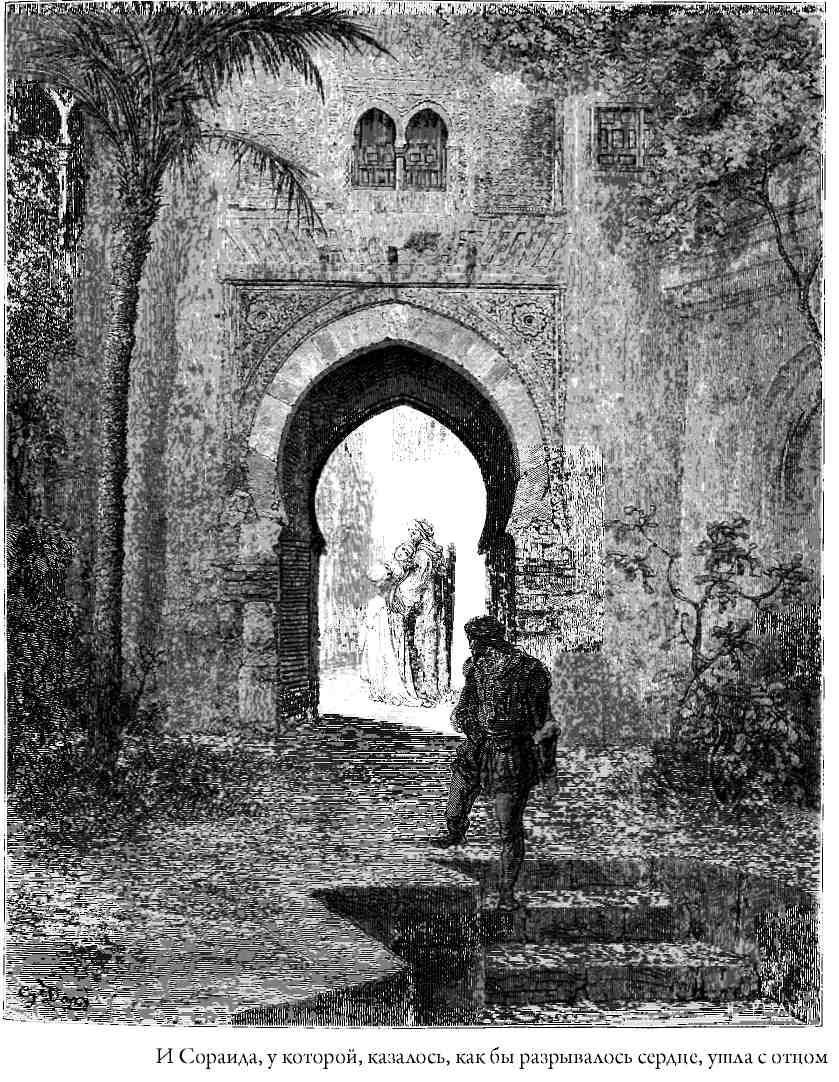 Крики эти привели нас в величайший испуг и смятение; но ренегат, видя
угрожавшую нам опасность и понимая, до какой степени важно кончить эту часть
нашего предприятия, прежде чем произойдет переполох, с величайшей
поспешностью поднялся туда, где находился Ахи-Морато; вместе с ним побежали
и некоторые из наших. Я же не мог оставить Сораиду, которая, почти без
чувств, упала мне на руки. Говоря кратко, те, что поднялись наверх, так
быстро справились со своим делом, что через минуту они уже привели
Ахи-Морато -- со связанными руками, и платком, засунутым ему в рот, не
дававшем ему произнести ни слова,-- угрожая, если он издаст хоть один звук,
лишить его жизни. Когда дочь увидела его, она закрыла глаза, чтоб не
смотреть на отца, а он пришел в ужас, не подозревая, что она добровольно
отдалась нам в руки; но так как ноги были нам тогда всего нужнее, мы как
можно скорее и осторожнее, поспешили на нашу барку, где те, которые там
оставались, нетерпеливо нас ждали, опасаясь, не случилось ли с нами беды.
Едва прошло два часа после наступления ночи, как мы уже все сидели в барке,
где отцу Сораиды развязали руки и вынули платок изо рта, а ренегат опять
предупредил его, чтобы он не произносил ни слова, угрожая в противном случае
убить его. Когда Ахи-Морато увидел тут же свою дочь, он начал тяжко
вздыхать, особенно заметив, что я крепко держу ее в своих объятиях, а она
остается спокойной: не защищается, не сопротивляется, не старается вырваться
от меня. Тем не менее он молчал, боясь, чтобы столь часто повторяемые
ренегатом угрозы не были приведены в исполнение. Лишь только Со-раида
увидела себя в барке, а также и то, что мы взялись за весла, чтобы спустить
их на воду, а отец ее и остальные мавры остаются связанными, она велела
ренегату передать мне ее просьбу: оказать такую милость и отпустить мавров,
а также вернуть свободу ее отцу, потому что она скорее бросится в море, чем
будет свидетельницей, как отца, который так нежно любил ее, у нее на глазах
и по ее вине увозят в плен. Ренегат передал мне ее слова, и я ответил, что с
удовольствием согласен исполнить ее просьбу; но этому воспротивился ренегат,
говоря, что не следует этого делать, так как, если мы вернем им теперь
свободу, они тотчас же переполошат всю окрестность, поднимут тревогу в
городе и добьются того, что за нами пошлют в погоню несколько легких
фрегатов, отрежут нам путь на суше и на море, и нам окажется невозможным
спастись; единственное, что можно будет сделать, -- это выпустить их на
свободу, когда мы причалим к ближайшему христианскому берегу. С этим мнением
все мы согласились, и Сораида, когда ей объяснили причины, почему нельзя
сейчас же исполнить ее желание, удовлетворилась им; и тотчас в радостном
безмолвии и с веселой поспешностью все наши сильные гребцы взялись за весла
и, поручая себя Богу, мы направились к островам Майорки -- ближайшей
христианской земле. Но так как дул небольшой северный ветер и море было
неспокойно, то нельзя было держать курс на Майорку, и мы были вынуждены
плыть вдоль берега, по направлению к Орану, весьма огорченные этим, так как
мы опасались, что нас увидят из местечка Сархел, находящегося на берегу, в
шестидесяти милях от Алжира. Мы боялись также встретить в этих местах
какой-нибудь галиот из тех, которые обыкновенно проходят здесь с товарами из
Тетуана; хотя каждый из нас в отдельности и все мы вместе держались мнения,
что, если нам встретится торговый галиот, -- лишь бы только он не оказался
корсарским судном, -- это не только не повлечет за собой нашей гибели, а,
быть может, мы еще овладеем судном, на котором с большей безопасностью для
себя доведем до конца свое путешествие. Все время, пока мы шли на веслах,
Сораида лежала, спрятав голову в мои руки, чтобы не видеть отца, и я слышал,
как она призывала нам на помощь Лелу Мариен. Сделали мы, должно быть, около
тридцати миль, когда рассвело и мы оказались от земли на расстоянии трех
выстрелов из кремневого ружья, но все кругом было совершенно пустынно, и
некому было заметить нас. Тем не менее, работая веслами изо всех сил, мы
направились в открытое море, теперь уже несколько утихнувшее. После того как
мы прошли около двух миль, было отдано приказание людям разделиться на
четыре смены и поочередно грести, чтоб иметь возможность подкрепить свои
силы едой, так как на барке был обильный запас провизии. Однако гребцы
отказались от этого, говоря, что теперь не время отдыхать и пусть уж лучше
те, которые не гребут, покормят их, потому что они ни в каком случае не
желают выпускать весел из рук. Так и было сделано. Но тут поднялся свежий
ветер, и мы были вынуждены бросить весла, натянуть паруса и взять
направление к Орану, потому что не было возможности держаться другого курса.
Все это было сделано с величайшей быстротой, и таким образом, под парусами,
мы шли больше восьми миль в час, опасаясь лишь одного: встречи с корсарским
кораблем. Связанных мавров накормили, и ренегат утешил их, сообщив им, что
их не оставят в плену, а при первом же удобном случае они получат свободу.
То же было сказано и отцу Сораиды, который ответил:
-- Всего другого я мог бы ждать от вашего великодушия и вашей
правдивости, о христиане, но чтобы вы дали мне свободу, -- не думайте, будто
я так прост, что могу поверить этому. Никогда не подвергали бы вы себя
опасности отнять ее у меня, чтобы так скоро вернуть ее, в особенности зная,
кто я такой и какую большую выгоду для себя вы можете извлечь за мою
свободу. Эту выгоду -- если вы определите ее размеры -- вы получите, и я
предлагаю вам и готов уплатить все, что бы вы ни пожелали, за меня и за эту
несчастную дочь мою или хотя за нее одну, так как она самая большая и лучшая
часть моей души.
Крики эти привели нас в величайший испуг и смятение; но ренегат, видя
угрожавшую нам опасность и понимая, до какой степени важно кончить эту часть
нашего предприятия, прежде чем произойдет переполох, с величайшей
поспешностью поднялся туда, где находился Ахи-Морато; вместе с ним побежали
и некоторые из наших. Я же не мог оставить Сораиду, которая, почти без
чувств, упала мне на руки. Говоря кратко, те, что поднялись наверх, так
быстро справились со своим делом, что через минуту они уже привели
Ахи-Морато -- со связанными руками, и платком, засунутым ему в рот, не
дававшем ему произнести ни слова,-- угрожая, если он издаст хоть один звук,
лишить его жизни. Когда дочь увидела его, она закрыла глаза, чтоб не
смотреть на отца, а он пришел в ужас, не подозревая, что она добровольно
отдалась нам в руки; но так как ноги были нам тогда всего нужнее, мы как
можно скорее и осторожнее, поспешили на нашу барку, где те, которые там
оставались, нетерпеливо нас ждали, опасаясь, не случилось ли с нами беды.
Едва прошло два часа после наступления ночи, как мы уже все сидели в барке,
где отцу Сораиды развязали руки и вынули платок изо рта, а ренегат опять
предупредил его, чтобы он не произносил ни слова, угрожая в противном случае
убить его. Когда Ахи-Морато увидел тут же свою дочь, он начал тяжко
вздыхать, особенно заметив, что я крепко держу ее в своих объятиях, а она
остается спокойной: не защищается, не сопротивляется, не старается вырваться
от меня. Тем не менее он молчал, боясь, чтобы столь часто повторяемые
ренегатом угрозы не были приведены в исполнение. Лишь только Со-раида
увидела себя в барке, а также и то, что мы взялись за весла, чтобы спустить
их на воду, а отец ее и остальные мавры остаются связанными, она велела
ренегату передать мне ее просьбу: оказать такую милость и отпустить мавров,
а также вернуть свободу ее отцу, потому что она скорее бросится в море, чем
будет свидетельницей, как отца, который так нежно любил ее, у нее на глазах
и по ее вине увозят в плен. Ренегат передал мне ее слова, и я ответил, что с
удовольствием согласен исполнить ее просьбу; но этому воспротивился ренегат,
говоря, что не следует этого делать, так как, если мы вернем им теперь
свободу, они тотчас же переполошат всю окрестность, поднимут тревогу в
городе и добьются того, что за нами пошлют в погоню несколько легких
фрегатов, отрежут нам путь на суше и на море, и нам окажется невозможным
спастись; единственное, что можно будет сделать, -- это выпустить их на
свободу, когда мы причалим к ближайшему христианскому берегу. С этим мнением
все мы согласились, и Сораида, когда ей объяснили причины, почему нельзя
сейчас же исполнить ее желание, удовлетворилась им; и тотчас в радостном
безмолвии и с веселой поспешностью все наши сильные гребцы взялись за весла
и, поручая себя Богу, мы направились к островам Майорки -- ближайшей
христианской земле. Но так как дул небольшой северный ветер и море было
неспокойно, то нельзя было держать курс на Майорку, и мы были вынуждены
плыть вдоль берега, по направлению к Орану, весьма огорченные этим, так как
мы опасались, что нас увидят из местечка Сархел, находящегося на берегу, в
шестидесяти милях от Алжира. Мы боялись также встретить в этих местах
какой-нибудь галиот из тех, которые обыкновенно проходят здесь с товарами из
Тетуана; хотя каждый из нас в отдельности и все мы вместе держались мнения,
что, если нам встретится торговый галиот, -- лишь бы только он не оказался
корсарским судном, -- это не только не повлечет за собой нашей гибели, а,
быть может, мы еще овладеем судном, на котором с большей безопасностью для
себя доведем до конца свое путешествие. Все время, пока мы шли на веслах,
Сораида лежала, спрятав голову в мои руки, чтобы не видеть отца, и я слышал,
как она призывала нам на помощь Лелу Мариен. Сделали мы, должно быть, около
тридцати миль, когда рассвело и мы оказались от земли на расстоянии трех
выстрелов из кремневого ружья, но все кругом было совершенно пустынно, и
некому было заметить нас. Тем не менее, работая веслами изо всех сил, мы
направились в открытое море, теперь уже несколько утихнувшее. После того как
мы прошли около двух миль, было отдано приказание людям разделиться на
четыре смены и поочередно грести, чтоб иметь возможность подкрепить свои
силы едой, так как на барке был обильный запас провизии. Однако гребцы
отказались от этого, говоря, что теперь не время отдыхать и пусть уж лучше
те, которые не гребут, покормят их, потому что они ни в каком случае не
желают выпускать весел из рук. Так и было сделано. Но тут поднялся свежий
ветер, и мы были вынуждены бросить весла, натянуть паруса и взять
направление к Орану, потому что не было возможности держаться другого курса.
Все это было сделано с величайшей быстротой, и таким образом, под парусами,
мы шли больше восьми миль в час, опасаясь лишь одного: встречи с корсарским
кораблем. Связанных мавров накормили, и ренегат утешил их, сообщив им, что
их не оставят в плену, а при первом же удобном случае они получат свободу.
То же было сказано и отцу Сораиды, который ответил:
-- Всего другого я мог бы ждать от вашего великодушия и вашей
правдивости, о христиане, но чтобы вы дали мне свободу, -- не думайте, будто
я так прост, что могу поверить этому. Никогда не подвергали бы вы себя
опасности отнять ее у меня, чтобы так скоро вернуть ее, в особенности зная,
кто я такой и какую большую выгоду для себя вы можете извлечь за мою
свободу. Эту выгоду -- если вы определите ее размеры -- вы получите, и я
предлагаю вам и готов уплатить все, что бы вы ни пожелали, за меня и за эту
несчастную дочь мою или хотя за нее одну, так как она самая большая и лучшая
часть моей души.
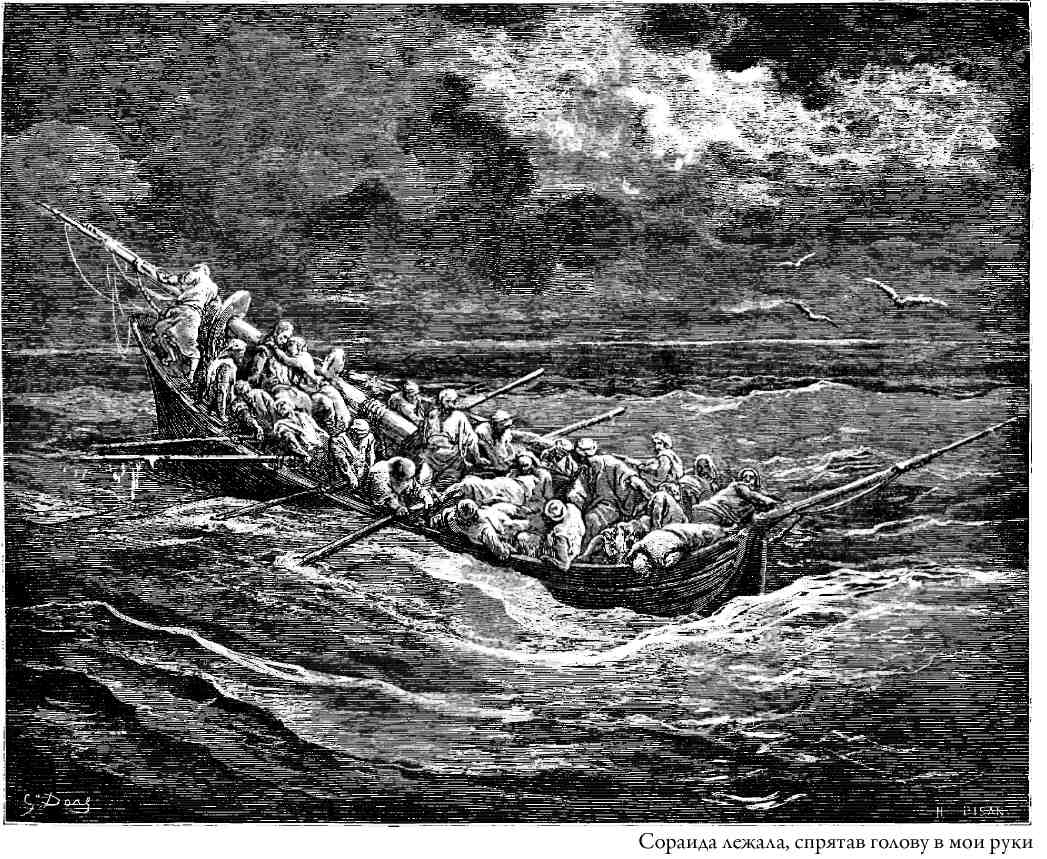 Говоря это, он так горько заплакал, что возбудил во всех нас
сострадание и вынудил Сораиду взглянуть на него. Увидев его слезы, она была
до того растрогана, что, поднявшись -- она лежала у моих ног, -- подошла к
отцу, обняла его, прильнула щекой к его щеке, и оба они залились столь
горючими слезами, что многие из нас тоже последовали их примеру. Но когда
отец ее увидел, что на ней такой роскошный наряд и так много драгоценностей,
он сказал ей на своем языке:
-- Что это значит, дочь моя? Вчера ночью, прежде чем с нами случилось
ужасное наше несчастие, я видел тебя в твоем обычном домашнем платье, а
теперь, когда ты не имела времени переодеться и я не принес тебе радостной
вести, которую ты бы могла праздновать, наряжаясь и украшаясь, я вижу на
тебе самые роскошные одежды, какие я умел и мог дать тебе в то время, когда
счастье более благоприятствовало нам? Ответь мне, потому что это меня
приводит в большее изумление и смущение, чем даже самое несчастие, которое
обрушилось на меня.
Все, что говорил мавр своей дочери, ренегат переводил нам, а она не
отвечала ни слова. Но когда он увидел в углу барки сундучок, в котором дочь
его обыкновенно хранила свои драгоценности и который, как он хорошо помнил,
был оставлен им в Алжире и не перевезен в загородный сад, он еще более
изумился и спросил ее, каким образом попал в наши руки этот сундучок и что
находится в нем. На это ренегат, не дожидаясь, что ответит ему Сораида,
сказал:
-- Не трудись, сеньор, спрашивать дочь свою Сораиду о столь многом,
потому что, сообщив тебе одну вещь, я отвечу на все твои вопросы. Итак,
знай, что она христианка и была пилой, распилившей наши цепи, и
избавительницей нашей из плена. Находится она здесь по доброй своей воле,
столь же довольная, как я думаю, видеть себя в этом положении, как тот, кто
из мрака перешел в свет, от смерти к жизни, от мук к блаженству.
-- Правда ли то, что он говорит, дочь моя? -- спросил мавр.
-- Правда, -- ответила Сораида.
-- Правда ли, -- продолжал старик,-- что ты христианка и предала отца
своего в руки врагов его?
На это Сораида ответила:
-- Правда, что я христианка, но нет, не по моей вине попал ты в свое
теперешнее положение, потому что никогда мое желание не заходило так далеко,
чтобы бросить тебя или сделать тебе зло, а только чтобы сделать добро себе.
-- Какое же ты сделала добро себе, дочь моя? -- спросил мавр.
-- Об этом, -- ответила она, -- узнай у Лелы Марией. Она лучше сумеет
ответить, чем я.
Едва мавр услышал эти слова, как с неимоверной быстротой кинулся
стремглав в море, где бы он непременно утонул, если бы широкое и
обременительное платье, надетое на нем, не поддержало его некоторое время на
воде. Сораида крикнула, чтобы его спасли, и мы все немедленно бросились к
нему на помощь и, схватив его за верхнее одеяние, вытащили из воды
наполовину захлебнувшегося и потерявшего сознание. Это привело в такое
огорчение Сораиду, что она зарыдала над ним самыми горькими и неутешными
слезами, как над мертвым. Мы повернули его лицом вниз, из него вышло много
воды, и через два часа он наконец пришел в себя. Между тем ветер снова
переменился, нас понесло течением к земле, пришлось грести изо всех сил,
чтобы не прибило нас к ней; но счастливой судьбе нашей было угодно, чтобы мы
вошли в бухту, образуемую небольшим мысом, или косой, которую мавры называют
Cava Rumia, что на нашем языке означает "злая христианская женщина". У
мавров есть предание, будто в этом месте похоронена Кава {Местная легенда о
Kava Rumia, не имеющая никакого отношения к Florinda la Cava, или La Cava,
злополучной дочери графа Юлиана, которая была причиной завоевания Испании
маврами, тоже оказалась лишенной всякой исторической основы. Теперь
доказано, что этот памятник -- не что иное, как мавзолей мавританского
короля Иуба II и жены его Клеопатры, дочери царя Антония и знаменитой
египетской королевы. Видевшие этот памятник говорят, что он даже более
величественен, чем египетские пирамиды.}, которая была причиной утраты
Испании, и по-арабски кава -- значит "злая женщина", грумиа -- "христианка".
Они даже считают за дурное предзнаменование приставать здесь и бросать
якорь, когда вынуждены к тому крайней необходимостью, без которой они этого
никогда не делают. Но для нас это место было не убежищем злой женщины, а
верной гаванью нашего спасенья, -- до того разбушевалось море. Мы поставили
на берегу часовых и, не выпуская ни на минуту весел из рук, принялись есть
то, чем запасся ренегат, и от всей души молили Бога и Пресвятую Деву помочь
нам и оказать свое покровительство, чтобы мы могли счастливым концом
увенчать столь счастливое начало нашего предприятия. По настоятельной
просьбе Сораиды было решено высадить здесь на берег ее отца и остальных, все
еще связанных, мавров, потому что у нее уже не хватало сил и ее нежное
сердце не могло более выносить зрелище связанного отца и пленных земляков.
Мы обещали сделать это перед самым нашим отъездом, так как не представляло
ни малейшей опасности выпустить их на берег в этом пустынном и безлюдном
месте. Молитвы наши не были столь тщетными, чтобы небо не услышало их,
потому что ветер переменился на пользу нам и море утихло, приглашая весело
продолжать начатое нами путешествие. Увидав это, мы развязали мавров и
спустили их одного за другим на берег к великому их изумлению. Когда же
очередь дошла до отца Сораиды, который уже совершенно пришел в себя, он
сказал:
-- Как думаете вы, христиане, почему злая эта женщина радуется тому,
что вы мне даете свободу? Думаете ли вы, что она радуется из сострадания ко
мне? Конечно, нет, а только потому, что мое присутствие могло ей быть
помехой в осуществлении ее дурных намерений. Не думайте также, что ее
побудила переменить веру мысль, будто ваша вера лучше нашей; она сделала
это, зная, что в вашей стране можно свободнее предаваться разврату, чем в
нашей. И, обращаясь к Сораиде, в то время как я и другой христианин крепко
держали его за руки, чтобы он не совершил какого-нибудь отчаянного поступка,
он воскликнул:
-- О гнусное создание и введенная в обман девушка! Куда идешь ты,
ослепленная и безумная, отдавшись во власть этих собак, наших естественных
врагов? Да будет проклят час, когда ты была зачата! Да будут прокляты
подарки и роскошь, в которых я взрастил тебя!
Видя, что он не очень скоро собирается кончить, я поспешил высадить его
на берег; он и оттуда продолжал громко выкрикивать жалобы и проклятия,
призывая Магомета, чтобы он просил Аллаха погубить, истребить и уничтожить
нас. Когда же мы отплыли, распустив паруса, и не могли слышать слов его, мы
еще видели его действия, именно: он вырывал себе бороду, рвал волосы на
голове, катался по земле, а раз он сделал такое усилие и так громко возвысил
голос, что мы еще услышали следующие его слова:
-- Вернись, возлюбленная дочь, вернись! Сойди на берег! Я все тебе
прощаю! Отдай деньги этим людям, потому что они уже присвоили их себе, и
вернись утешить несчастного отца, который в этой печальной пустыне лишится
жизни, если ты его покинешь.
Все это слышала Сораида, и все это она глубоко чувствовала и
оплакивала, но ничего не могла сказать и ответить, как только следующее:
-- Дай-то Аллах, отец мой, чтоб Лела Марией, ради которой я сделалась
христианкой, утешила тебя в твоем горе. Аллаху известно, что я не могла
иначе поступить, как поступила, и что эти христиане ничем не обязаны мне за
мое доброе к ним расположение, потому что, хотя бы я и пожелала не ехать
вместе с ними и остаться дома, мне это было бы невозможно, так велико было
стремление моей души привести в исполнение дело, которое мне кажется столь
же добрым, как тебе, возлюбленный отец, оно кажется дурным.
Она говорила это, когда отец ее не мог уже ее слышать, и мы не видели
его больше; итак, утешая Сораиду, мы продолжали свое путешествие, которое
попутный ветер нам очень облегчал, и мы уже наделялись на следующий день
утром добраться до берегов Испании. Но так как счастье редко или же никогда
не бывает полным и ясным, а его сопровождает или за ним следует какое-нибудь
горе, нарушающее или смущающее его, так и теперь, по воле судьбы нашей или,
быть может, благодаря проклятиям, которые мавр послал вслед своей дочери
(потому что их всегда нужно опасаться, от какого бы отца они ни исходили),
вдруг, говорю я, плывя около трех часов ночи в открытом море с распущенными
парусами и сложенными веслами, потому что попутный ветер избавлял нас от
необходимости работать ими, мы увидели при свете ярко сиявшей луны круглое
судно. Оно, натянув все паруса и несколько отклоняясь от ветра в сторону,
шло наперерез нам и уже было так близко, что нам пришлось спустить парус,
чтобы не столкнуться с ним, а они должны были налечь на руль, чтобы дать нам
дорогу. С палубы встретившегося нам корабля нас спросили, кто мы, куда идем
и откуда. Но, так как вопросы были сделаны на французском языке, наш ренегат
сказал:
-- Не отвечайте никто, потому что, несомненно, это французские корсары,
которые всех грабят.
Говоря это, он так горько заплакал, что возбудил во всех нас
сострадание и вынудил Сораиду взглянуть на него. Увидев его слезы, она была
до того растрогана, что, поднявшись -- она лежала у моих ног, -- подошла к
отцу, обняла его, прильнула щекой к его щеке, и оба они залились столь
горючими слезами, что многие из нас тоже последовали их примеру. Но когда
отец ее увидел, что на ней такой роскошный наряд и так много драгоценностей,
он сказал ей на своем языке:
-- Что это значит, дочь моя? Вчера ночью, прежде чем с нами случилось
ужасное наше несчастие, я видел тебя в твоем обычном домашнем платье, а
теперь, когда ты не имела времени переодеться и я не принес тебе радостной
вести, которую ты бы могла праздновать, наряжаясь и украшаясь, я вижу на
тебе самые роскошные одежды, какие я умел и мог дать тебе в то время, когда
счастье более благоприятствовало нам? Ответь мне, потому что это меня
приводит в большее изумление и смущение, чем даже самое несчастие, которое
обрушилось на меня.
Все, что говорил мавр своей дочери, ренегат переводил нам, а она не
отвечала ни слова. Но когда он увидел в углу барки сундучок, в котором дочь
его обыкновенно хранила свои драгоценности и который, как он хорошо помнил,
был оставлен им в Алжире и не перевезен в загородный сад, он еще более
изумился и спросил ее, каким образом попал в наши руки этот сундучок и что
находится в нем. На это ренегат, не дожидаясь, что ответит ему Сораида,
сказал:
-- Не трудись, сеньор, спрашивать дочь свою Сораиду о столь многом,
потому что, сообщив тебе одну вещь, я отвечу на все твои вопросы. Итак,
знай, что она христианка и была пилой, распилившей наши цепи, и
избавительницей нашей из плена. Находится она здесь по доброй своей воле,
столь же довольная, как я думаю, видеть себя в этом положении, как тот, кто
из мрака перешел в свет, от смерти к жизни, от мук к блаженству.
-- Правда ли то, что он говорит, дочь моя? -- спросил мавр.
-- Правда, -- ответила Сораида.
-- Правда ли, -- продолжал старик,-- что ты христианка и предала отца
своего в руки врагов его?
На это Сораида ответила:
-- Правда, что я христианка, но нет, не по моей вине попал ты в свое
теперешнее положение, потому что никогда мое желание не заходило так далеко,
чтобы бросить тебя или сделать тебе зло, а только чтобы сделать добро себе.
-- Какое же ты сделала добро себе, дочь моя? -- спросил мавр.
-- Об этом, -- ответила она, -- узнай у Лелы Марией. Она лучше сумеет
ответить, чем я.
Едва мавр услышал эти слова, как с неимоверной быстротой кинулся
стремглав в море, где бы он непременно утонул, если бы широкое и
обременительное платье, надетое на нем, не поддержало его некоторое время на
воде. Сораида крикнула, чтобы его спасли, и мы все немедленно бросились к
нему на помощь и, схватив его за верхнее одеяние, вытащили из воды
наполовину захлебнувшегося и потерявшего сознание. Это привело в такое
огорчение Сораиду, что она зарыдала над ним самыми горькими и неутешными
слезами, как над мертвым. Мы повернули его лицом вниз, из него вышло много
воды, и через два часа он наконец пришел в себя. Между тем ветер снова
переменился, нас понесло течением к земле, пришлось грести изо всех сил,
чтобы не прибило нас к ней; но счастливой судьбе нашей было угодно, чтобы мы
вошли в бухту, образуемую небольшим мысом, или косой, которую мавры называют
Cava Rumia, что на нашем языке означает "злая христианская женщина". У
мавров есть предание, будто в этом месте похоронена Кава {Местная легенда о
Kava Rumia, не имеющая никакого отношения к Florinda la Cava, или La Cava,
злополучной дочери графа Юлиана, которая была причиной завоевания Испании
маврами, тоже оказалась лишенной всякой исторической основы. Теперь
доказано, что этот памятник -- не что иное, как мавзолей мавританского
короля Иуба II и жены его Клеопатры, дочери царя Антония и знаменитой
египетской королевы. Видевшие этот памятник говорят, что он даже более
величественен, чем египетские пирамиды.}, которая была причиной утраты
Испании, и по-арабски кава -- значит "злая женщина", грумиа -- "христианка".
Они даже считают за дурное предзнаменование приставать здесь и бросать
якорь, когда вынуждены к тому крайней необходимостью, без которой они этого
никогда не делают. Но для нас это место было не убежищем злой женщины, а
верной гаванью нашего спасенья, -- до того разбушевалось море. Мы поставили
на берегу часовых и, не выпуская ни на минуту весел из рук, принялись есть
то, чем запасся ренегат, и от всей души молили Бога и Пресвятую Деву помочь
нам и оказать свое покровительство, чтобы мы могли счастливым концом
увенчать столь счастливое начало нашего предприятия. По настоятельной
просьбе Сораиды было решено высадить здесь на берег ее отца и остальных, все
еще связанных, мавров, потому что у нее уже не хватало сил и ее нежное
сердце не могло более выносить зрелище связанного отца и пленных земляков.
Мы обещали сделать это перед самым нашим отъездом, так как не представляло
ни малейшей опасности выпустить их на берег в этом пустынном и безлюдном
месте. Молитвы наши не были столь тщетными, чтобы небо не услышало их,
потому что ветер переменился на пользу нам и море утихло, приглашая весело
продолжать начатое нами путешествие. Увидав это, мы развязали мавров и
спустили их одного за другим на берег к великому их изумлению. Когда же
очередь дошла до отца Сораиды, который уже совершенно пришел в себя, он
сказал:
-- Как думаете вы, христиане, почему злая эта женщина радуется тому,
что вы мне даете свободу? Думаете ли вы, что она радуется из сострадания ко
мне? Конечно, нет, а только потому, что мое присутствие могло ей быть
помехой в осуществлении ее дурных намерений. Не думайте также, что ее
побудила переменить веру мысль, будто ваша вера лучше нашей; она сделала
это, зная, что в вашей стране можно свободнее предаваться разврату, чем в
нашей. И, обращаясь к Сораиде, в то время как я и другой христианин крепко
держали его за руки, чтобы он не совершил какого-нибудь отчаянного поступка,
он воскликнул:
-- О гнусное создание и введенная в обман девушка! Куда идешь ты,
ослепленная и безумная, отдавшись во власть этих собак, наших естественных
врагов? Да будет проклят час, когда ты была зачата! Да будут прокляты
подарки и роскошь, в которых я взрастил тебя!
Видя, что он не очень скоро собирается кончить, я поспешил высадить его
на берег; он и оттуда продолжал громко выкрикивать жалобы и проклятия,
призывая Магомета, чтобы он просил Аллаха погубить, истребить и уничтожить
нас. Когда же мы отплыли, распустив паруса, и не могли слышать слов его, мы
еще видели его действия, именно: он вырывал себе бороду, рвал волосы на
голове, катался по земле, а раз он сделал такое усилие и так громко возвысил
голос, что мы еще услышали следующие его слова:
-- Вернись, возлюбленная дочь, вернись! Сойди на берег! Я все тебе
прощаю! Отдай деньги этим людям, потому что они уже присвоили их себе, и
вернись утешить несчастного отца, который в этой печальной пустыне лишится
жизни, если ты его покинешь.
Все это слышала Сораида, и все это она глубоко чувствовала и
оплакивала, но ничего не могла сказать и ответить, как только следующее:
-- Дай-то Аллах, отец мой, чтоб Лела Марией, ради которой я сделалась
христианкой, утешила тебя в твоем горе. Аллаху известно, что я не могла
иначе поступить, как поступила, и что эти христиане ничем не обязаны мне за
мое доброе к ним расположение, потому что, хотя бы я и пожелала не ехать
вместе с ними и остаться дома, мне это было бы невозможно, так велико было
стремление моей души привести в исполнение дело, которое мне кажется столь
же добрым, как тебе, возлюбленный отец, оно кажется дурным.
Она говорила это, когда отец ее не мог уже ее слышать, и мы не видели
его больше; итак, утешая Сораиду, мы продолжали свое путешествие, которое
попутный ветер нам очень облегчал, и мы уже наделялись на следующий день
утром добраться до берегов Испании. Но так как счастье редко или же никогда
не бывает полным и ясным, а его сопровождает или за ним следует какое-нибудь
горе, нарушающее или смущающее его, так и теперь, по воле судьбы нашей или,
быть может, благодаря проклятиям, которые мавр послал вслед своей дочери
(потому что их всегда нужно опасаться, от какого бы отца они ни исходили),
вдруг, говорю я, плывя около трех часов ночи в открытом море с распущенными
парусами и сложенными веслами, потому что попутный ветер избавлял нас от
необходимости работать ими, мы увидели при свете ярко сиявшей луны круглое
судно. Оно, натянув все паруса и несколько отклоняясь от ветра в сторону,
шло наперерез нам и уже было так близко, что нам пришлось спустить парус,
чтобы не столкнуться с ним, а они должны были налечь на руль, чтобы дать нам
дорогу. С палубы встретившегося нам корабля нас спросили, кто мы, куда идем
и откуда. Но, так как вопросы были сделаны на французском языке, наш ренегат
сказал:
-- Не отвечайте никто, потому что, несомненно, это французские корсары,
которые всех грабят.
 Вследствие такого предупреждения, никто не ответил ни слова, но едва мы
прошли несколько вперед, оставив под ветром тот корабль, как вдруг они
выстрелили из двух пушек, заряженных, как казалось, цепями, потому что одним
выстрелом срезало нашу мачту, которая и упала вместе с парусами в море, и в
то же мгновенье раздался второй выстрел, и пуля ударила в середину нашей
барки и пробила в ней большую дыру, не причинив другого вреда. Видя, что мы
идем ко дну, мы стали громко звать на помощь и просить находящихся на
корабле взять нас к себе, так как мы тонем. Тотчас же они убрали паруса и
спустили шлюпку, или лодку, в которую вошло около дюжины французов, хорошо
вооруженных аркебузами с зажженными фитилями, и таким образом они подъехали
к нам; но, увидев, что нас так мало и что барка наша тонет, они нас взяли к
себе в лодку, говоря, что это случилось с нами вследствие нашей
невежливости, за то, что мы не ответили им. Ренегат наш взял сундучок с
богатствами Сораиды и бросил его в море, так что никто не заметил этого.
Наконец мы все перебрались на корабль к французам, которые, расспросив
нас обо всем, что они желали узнать, дочиста обобрали нас, точно они были
смертельные наши враги; и у Сораиды отняли все, даже до застежек, которые у
нее были на ногах; но меня не столько огорчало, что они таким образом
обидели Сораиду, как мучил страх, что, сняв с нее богатые и роскошные ее
украшения, они лишат ее наиболее драгоценного сокровища, и которое она сама
ценила выше всего. Однако вожделение этих людей не идет дальше денег, и
алчность их никогда не насыщается ими и на этот раз дошла до того, что они
сняли бы с нас даже нашу невольничью одежду, если б могли извлечь из нее
какую-нибудь пользу. Некоторые из корсаров высказали мнение, что всех нас
следовало бы, завернув в парус, бросить в море, потому что они имели
намерение вести торговлю в некоторых испанских гаванях, выдавая себя за
бретонцев, и, если бы они привезли нас туда живыми, их грабеж открылся бы и
они подвергнулись бы за него наказанию. Но капитан, именно и обобравший мою
возлюбленную Сораиду, объявил, что он довольствуется полученной им добычей и
не желает заходить ни в какой испанский порт, а направится к Гибралтарскому
проливу, который он думает пройти ночью или когда окажется возможным, и
возвратится в Ла-Рошель, откуда они отплыли. Итак, они согласились дать нам
шлюпку со своего корабля, а также и все нужное для короткого путешествия,
предстоявшего нам; это они и сделали на следующий же день уже в виду
испанского берега, взглянув на который, мы совершенно забыли все наши
огорчения и лишения, точно и не испытывали их, -- так велико счастье вернуть
себе утраченную свободу!
Вследствие такого предупреждения, никто не ответил ни слова, но едва мы
прошли несколько вперед, оставив под ветром тот корабль, как вдруг они
выстрелили из двух пушек, заряженных, как казалось, цепями, потому что одним
выстрелом срезало нашу мачту, которая и упала вместе с парусами в море, и в
то же мгновенье раздался второй выстрел, и пуля ударила в середину нашей
барки и пробила в ней большую дыру, не причинив другого вреда. Видя, что мы
идем ко дну, мы стали громко звать на помощь и просить находящихся на
корабле взять нас к себе, так как мы тонем. Тотчас же они убрали паруса и
спустили шлюпку, или лодку, в которую вошло около дюжины французов, хорошо
вооруженных аркебузами с зажженными фитилями, и таким образом они подъехали
к нам; но, увидев, что нас так мало и что барка наша тонет, они нас взяли к
себе в лодку, говоря, что это случилось с нами вследствие нашей
невежливости, за то, что мы не ответили им. Ренегат наш взял сундучок с
богатствами Сораиды и бросил его в море, так что никто не заметил этого.
Наконец мы все перебрались на корабль к французам, которые, расспросив
нас обо всем, что они желали узнать, дочиста обобрали нас, точно они были
смертельные наши враги; и у Сораиды отняли все, даже до застежек, которые у
нее были на ногах; но меня не столько огорчало, что они таким образом
обидели Сораиду, как мучил страх, что, сняв с нее богатые и роскошные ее
украшения, они лишат ее наиболее драгоценного сокровища, и которое она сама
ценила выше всего. Однако вожделение этих людей не идет дальше денег, и
алчность их никогда не насыщается ими и на этот раз дошла до того, что они
сняли бы с нас даже нашу невольничью одежду, если б могли извлечь из нее
какую-нибудь пользу. Некоторые из корсаров высказали мнение, что всех нас
следовало бы, завернув в парус, бросить в море, потому что они имели
намерение вести торговлю в некоторых испанских гаванях, выдавая себя за
бретонцев, и, если бы они привезли нас туда живыми, их грабеж открылся бы и
они подвергнулись бы за него наказанию. Но капитан, именно и обобравший мою
возлюбленную Сораиду, объявил, что он довольствуется полученной им добычей и
не желает заходить ни в какой испанский порт, а направится к Гибралтарскому
проливу, который он думает пройти ночью или когда окажется возможным, и
возвратится в Ла-Рошель, откуда они отплыли. Итак, они согласились дать нам
шлюпку со своего корабля, а также и все нужное для короткого путешествия,
предстоявшего нам; это они и сделали на следующий же день уже в виду
испанского берега, взглянув на который, мы совершенно забыли все наши
огорчения и лишения, точно и не испытывали их, -- так велико счастье вернуть
себе утраченную свободу!
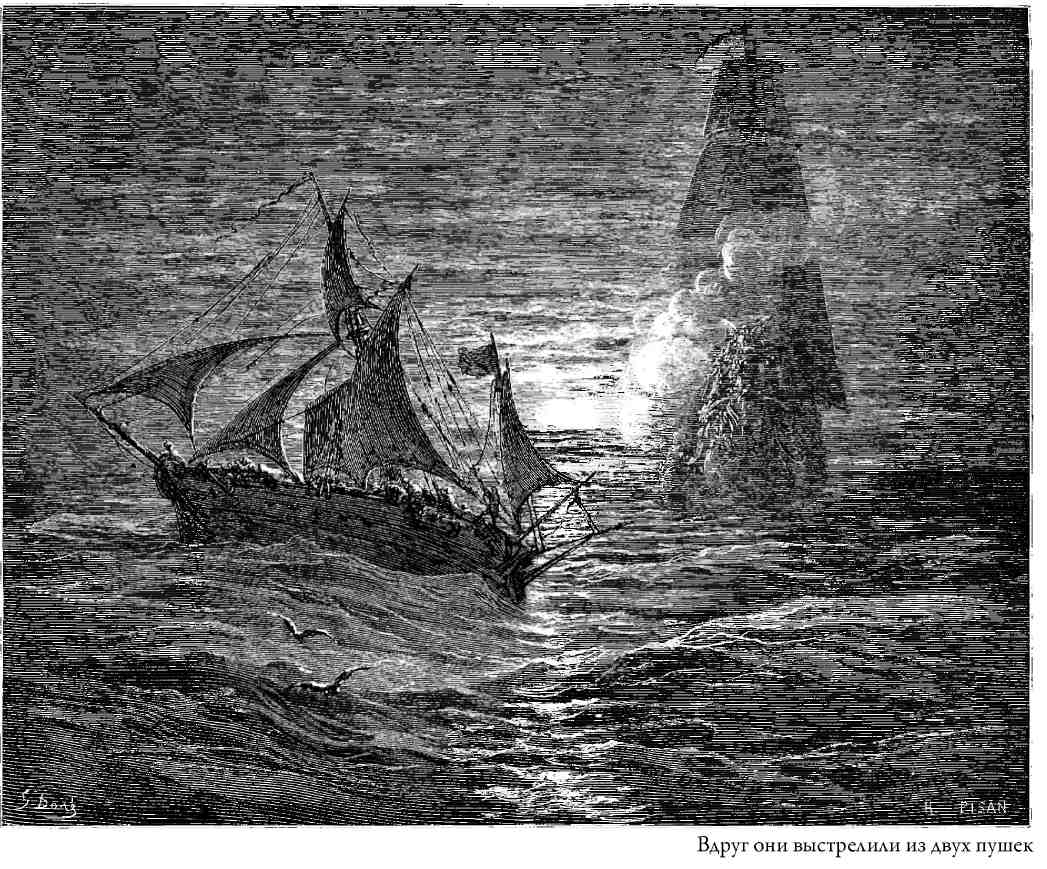 Было около полудня, когда они нас посадили в шлюпку, дали нам с собой
два бочонка воды и немного сухарей, а капитан, движимый, не знаю каким
порывом сострадания, в то время как прекрасная Сораида садилась в шлюпку,
дал ей еще около сорока червонцев и не позволил своим людям снять с нее
мавританское платье, которое вы теперь на ней видите. Мы вошли в шлюпку,
поблагодарив их за добро, которое они нам оказали, и выражая им скорее
признательность, чем злобу. Они ушли в открытое море по направлению к
проливу; мы же, не устремляя взоров ни на какую другую путеводную звезду,
кроме земли, лежавшей перед нами, так усиленно принялись грести туда и
подошли при заходе солнца так близко, что уже надеялись высадиться на берег
еще до полного наступления ночи. Но так как луна не светила, небо было
темное и мы не знали местности, где находились, то нам казалось
неблагоразумным тотчас же выходить на берег. Впрочем, некоторые из наших
держались иного мнения, говоря, что следует пристать даже в том случае, если
бы берег оказался голой скалой, удаленной от всякого человеческого жилья;
таким образом мы избегнем угрожающей нам опасности встретиться с корсарскими
кораблями из Тетуана, которые проводят ночь в Берберии, а на рассвете
оказываются уже у берегов Испании, обыкновенно захватывают здесь добычу и
затем возвращаются спать к себе домой. Но из двух противоположных мнений
было принято то, чтобы мало-помалу подойти к берегу и, если море будет
спокойно и допустит это, высадиться там, где окажется возможным. Так мы и
сделали. Около полуночи подошли мы к подножию громадной и высочайшей горы,
настолько отстоящей от берега, что оставалось маленькое пространство для
того, чтобы удобно высадиться. Мы врезались лодкой в песок, вышли на берег,
поцеловали землю и со слезами сильнейшей радости благодарили Бога, Господа
нашего, за безмерное милосердие, явленное Им во время нашего путешествия. Из
лодки мы вынесли находившиеся там съестные припасы, вытащили ее на берег и
поднялись довольно высоко на гору; но даже и там мы все еще не могли
хорошенько успокоиться и поверить, что земля, на которой мы стоим, --
христианская земля. Рассвело позднее, как мне казалось, чем мы желали бы. Мы
наконец взобрались до вершины горы, чтоб посмотреть, не увидим ли оттуда
деревню или какие-нибудь пастушьи хижины; но сколько мы ни напрягали зрение,
ничего не видели: ни деревни, ни человека, ни тропинки, ни дороги. После
того мы решили идти дальше, вглубь местности, так как не могло быть, чтобы
нам не встретился вскоре кто-нибудь, кто бы дал нам сведения о том, где мы
находимся. Больше всего огорчался я тем, что Сораида принуждена идти пешком
по этим острым скалам, потому что хотя я иногда и брал ее себе на плечи, но
мое утомление утомляло ее больше, чем отдых освежал ее; итак, она решительно
отказалась, чтоб я давал себе этот труд, и с большим терпением и веселым
лицом шла пешком, а я вел ее все время за руку.
Должно быть, мы прошли немного меньше четверти мили, как вдруг до
нашего слуха донесся звук бубенчиков,-- ясный признак того, что где-нибудь
вблизи пасется стадо. Внимательно оглядываясь кругом, не покажется ли оно,
мы увидели мальчика-пастуха, сидевшего под пробковым деревом, где он с
большим спокойствием и беззаботностью строгал своим ножом палочку. Мы
позвали его, и он, быстро вскочив на ноги, увидел, как мы потом узнали,
первыми ренегата и Сораиду, а так как на них была мавританская одежда, то
он, думая, что все мавры Берберии гонятся за ним, с изумительной быстротой
бросился бежать и повернул в лес, крича самым что ни на есть пронзительным
голосом:
-- Мавры, мавры в стране! Мавры, мавры! К оружию, к оружию!
Эти крики привели нас в большое смущение, и мы не знали, что делать. Но
рассудив, что крики пастуха переполошат всю местность и конная береговая
стража {Стража эта была вооружена в те времена копьями и щитами и сидела на
конях по-арабски, налегке.} скоро явится узнать, в чем дело, мы решили,
чтобы ренегат снял с себя турецкое платье и облекся в невольничью куртку
{Gilecuelco -- довольно длинная, обхватывающая талию куртка с короткими и
разрезными до локтей рукавами, открытая спереди.}, которую ему тотчас же
предложил один из наших, хотя сам остался в рубахе. Таким образом, поручив
себя Богу, мы пошли по той же дороге, по которой, как мы видели, убежал
пастух, все время ожидая, что вот-вот нам встретится конная береговая
стража. И мы не ошиблись в своих предположениях. Не прошло и двух часов,
как, выйдя из чащи леса в долину, мы увидели около пятидесяти всадников,
которые быстро, коротким галопом, неслись на нас. Лишь только мы их
заметили, мы остановились, поджидая их, а когда они подъехали и вместо
мавров, которых искали, встретили лишь несколько бедных христиан, они
смутились, и один из них спросил нас, были ли мы причиной того, что пастух
звал к оружию. Я ответил утвердительно и только что собрался рассказать о
своих приключениях, о том, кто мы и откуда, как один из христиан, бывших с
нами, узнал всадника, который обратился к нам с вопросом, и, не дав мне
сказать ни слова больше, воскликнул:
-- Благодарение Богу, сеньоры, за то, что Он нас привел в такое хорошее
место, потому что, если я не ошибаюсь, земля, на которой мы стоим, --
Велес-Малага {Город около восемнадцати миль к востоку от Малаги, у подножия
Сьерра-де-Аламы.}, и если годы, проведенные мною в неволе, не отняли у меня
памяти, мне кажется, что вы, сеньор, спрашивающий нас, кто мы такие, --
Педро де Бустаманте, мой дядя.
Едва пленный христианин произнес эти слова, как всадник соскочил с
лошади и бросился обнимать юношу, говоря:
-- Племянник души моей и жизни моей! Я узнаю тебя, а мы-то уже тебя
оплакивали, считая мертвым, я и сестра моя, твоя мать и все твои родные,
которые еще живы, так как Богу угодно было сохранить им жизнь, чтобы они
могли насладиться радостью свиданья с тобой. Мы уже знали, что ты в Алжире,
а по признакам и приметам твоей одежды и одежды всей вашей компании я вижу,
что вы спаслись каким-то чудом.
-- Оно так и есть, -- ответил юноша, и у нас будет достаточно времени
все это рассказать вам.
Как только всадники узнали, что мы христианские пленники, они сошли с
коней, и каждый из них предлагал нам свою лошадь, чтобы довезти нас до
города Велес-Малага, отстоявшего оттуда мили на полторы. Некоторые из
верховых отправились к тому месту, где, как мы указали, была оставлена нами
лодка, чтобы отвезти ее в город. Другие же посадили нас на круп лошадей
позади себя, а Сораида села позади дяди-христианина. Все население города
вышло нам навстречу, так как некоторые, приехавшие раньше, распространили
весть о нашем прибытии. Они не удивлялись видеть ни освобожденных христиан,
ни пленных мавров, потому что все жители этого побережья привыкли к зрелищу
тех и других, а удивлялись они красоте Сораиды, которая в то время и при тех
обстоятельствах достигла высшего своего блеска как вследствие движения в
дороге, так и от радости, что она уже в стране христианской и ничего ей
больше не угрожает; а это вызвало на ее лице такие краски, что, если меня
только не ввела тогда в заблуждение любовь, я решился бы сказать, что во
всем мире нельзя было найти более прекрасного существа; по крайней мере, я
такого никогда не видел.
Мы прямо пошли в церковь, чтобы благодарить Бога за оказанную Им нам
милость. И лишь только Сораида вошла туда, она сказала, что видит здесь
лица, похожие на лицо Лелы Мариен. Мы объяснили, что все это ее изображения,
и ренегат постарался как можно лучше растолковать мавританке, что такое
значат иконы, а также и то, что ей следует их благоговейно чтить, как
изображения той самой Лелы Мариен, которая говорила с нею. Обладая тонким
умом и способностью быстро и легко все схватывать и воспринимать, Сораида
сразу же поняла то, что ей было сказано относительно икон. Из церкви нас
увели и разместили в городе по разным домам, а христианин, приехавший с
нами, взял ренегата, Сораиду и меня в дом к своим родителям, которые имели
средний достаток и приняли нас также радушно, как и собственного сына. Мы
пробыли в Велесе шесть дней, после чего ренегат, собрав все нужные ему
сведения, уехал в город Гренаду, чтобы там через посредство святой
инквизиции вернуться в святейшее лоно церкви. Остальные же освобожденные
христиане уехали, каждый куда ему казалось лучше. Только мы и остались,
Сораида и я, с одними лишь теми червонцами, которыми учтивость француза
наделила Сораиду. Часть этих денег я употребил на покупку животного, на
котором она едет верхом, и служил ей до сих пор отцом и стремянным, но не
супругом. Мы теперь отправляемся дальше, намереваясь узнать, жив ли мой отец
и посчастливилось ли кому-нибудь из моих братьев больше моего; хотя, раз
небо сделало меня спутником Сораиде, мне кажется, что никакое другое
счастье, как бы оно ни было велико, не может быть столь драгоценным для
меня, как это. Терпение, с каким Сораида переносит неудобства, которые
влечет за собой бедность, и выражаемое ею желание сделаться как можно скорее
христианкой так велики и искренны, что наполняют меня восхищением и
побуждают служить ей всю жизнь; но радость, испытываемая мной при мысли, что
я принадлежу ей, а она -- мне, нарушается и портится тем, что я не знаю,
найду ли я на моей родине уголок, где бы я мог приютить ее, и не внесли ли
время и смерть такие изменения в жизнь и дела моего отца и братьев, что, в
случае если их бы не оказалось в живых, я едва ли найду кого-нибудь, кто бы
меня знал. Больше мне нечего, сеньоры, сообщить вам о моей истории и
предоставляю доброму вашему усмотрению судить о том, нашли ли вы ее
занимательной и приятной. О себе же могу сказать, что желал бы ее рассказать
короче, хотя опасение наскучить вам заставило меня умолчать о многих
подробностях.
Было около полудня, когда они нас посадили в шлюпку, дали нам с собой
два бочонка воды и немного сухарей, а капитан, движимый, не знаю каким
порывом сострадания, в то время как прекрасная Сораида садилась в шлюпку,
дал ей еще около сорока червонцев и не позволил своим людям снять с нее
мавританское платье, которое вы теперь на ней видите. Мы вошли в шлюпку,
поблагодарив их за добро, которое они нам оказали, и выражая им скорее
признательность, чем злобу. Они ушли в открытое море по направлению к
проливу; мы же, не устремляя взоров ни на какую другую путеводную звезду,
кроме земли, лежавшей перед нами, так усиленно принялись грести туда и
подошли при заходе солнца так близко, что уже надеялись высадиться на берег
еще до полного наступления ночи. Но так как луна не светила, небо было
темное и мы не знали местности, где находились, то нам казалось
неблагоразумным тотчас же выходить на берег. Впрочем, некоторые из наших
держались иного мнения, говоря, что следует пристать даже в том случае, если
бы берег оказался голой скалой, удаленной от всякого человеческого жилья;
таким образом мы избегнем угрожающей нам опасности встретиться с корсарскими
кораблями из Тетуана, которые проводят ночь в Берберии, а на рассвете
оказываются уже у берегов Испании, обыкновенно захватывают здесь добычу и
затем возвращаются спать к себе домой. Но из двух противоположных мнений
было принято то, чтобы мало-помалу подойти к берегу и, если море будет
спокойно и допустит это, высадиться там, где окажется возможным. Так мы и
сделали. Около полуночи подошли мы к подножию громадной и высочайшей горы,
настолько отстоящей от берега, что оставалось маленькое пространство для
того, чтобы удобно высадиться. Мы врезались лодкой в песок, вышли на берег,
поцеловали землю и со слезами сильнейшей радости благодарили Бога, Господа
нашего, за безмерное милосердие, явленное Им во время нашего путешествия. Из
лодки мы вынесли находившиеся там съестные припасы, вытащили ее на берег и
поднялись довольно высоко на гору; но даже и там мы все еще не могли
хорошенько успокоиться и поверить, что земля, на которой мы стоим, --
христианская земля. Рассвело позднее, как мне казалось, чем мы желали бы. Мы
наконец взобрались до вершины горы, чтоб посмотреть, не увидим ли оттуда
деревню или какие-нибудь пастушьи хижины; но сколько мы ни напрягали зрение,
ничего не видели: ни деревни, ни человека, ни тропинки, ни дороги. После
того мы решили идти дальше, вглубь местности, так как не могло быть, чтобы
нам не встретился вскоре кто-нибудь, кто бы дал нам сведения о том, где мы
находимся. Больше всего огорчался я тем, что Сораида принуждена идти пешком
по этим острым скалам, потому что хотя я иногда и брал ее себе на плечи, но
мое утомление утомляло ее больше, чем отдых освежал ее; итак, она решительно
отказалась, чтоб я давал себе этот труд, и с большим терпением и веселым
лицом шла пешком, а я вел ее все время за руку.
Должно быть, мы прошли немного меньше четверти мили, как вдруг до
нашего слуха донесся звук бубенчиков,-- ясный признак того, что где-нибудь
вблизи пасется стадо. Внимательно оглядываясь кругом, не покажется ли оно,
мы увидели мальчика-пастуха, сидевшего под пробковым деревом, где он с
большим спокойствием и беззаботностью строгал своим ножом палочку. Мы
позвали его, и он, быстро вскочив на ноги, увидел, как мы потом узнали,
первыми ренегата и Сораиду, а так как на них была мавританская одежда, то
он, думая, что все мавры Берберии гонятся за ним, с изумительной быстротой
бросился бежать и повернул в лес, крича самым что ни на есть пронзительным
голосом:
-- Мавры, мавры в стране! Мавры, мавры! К оружию, к оружию!
Эти крики привели нас в большое смущение, и мы не знали, что делать. Но
рассудив, что крики пастуха переполошат всю местность и конная береговая
стража {Стража эта была вооружена в те времена копьями и щитами и сидела на
конях по-арабски, налегке.} скоро явится узнать, в чем дело, мы решили,
чтобы ренегат снял с себя турецкое платье и облекся в невольничью куртку
{Gilecuelco -- довольно длинная, обхватывающая талию куртка с короткими и
разрезными до локтей рукавами, открытая спереди.}, которую ему тотчас же
предложил один из наших, хотя сам остался в рубахе. Таким образом, поручив
себя Богу, мы пошли по той же дороге, по которой, как мы видели, убежал
пастух, все время ожидая, что вот-вот нам встретится конная береговая
стража. И мы не ошиблись в своих предположениях. Не прошло и двух часов,
как, выйдя из чащи леса в долину, мы увидели около пятидесяти всадников,
которые быстро, коротким галопом, неслись на нас. Лишь только мы их
заметили, мы остановились, поджидая их, а когда они подъехали и вместо
мавров, которых искали, встретили лишь несколько бедных христиан, они
смутились, и один из них спросил нас, были ли мы причиной того, что пастух
звал к оружию. Я ответил утвердительно и только что собрался рассказать о
своих приключениях, о том, кто мы и откуда, как один из христиан, бывших с
нами, узнал всадника, который обратился к нам с вопросом, и, не дав мне
сказать ни слова больше, воскликнул:
-- Благодарение Богу, сеньоры, за то, что Он нас привел в такое хорошее
место, потому что, если я не ошибаюсь, земля, на которой мы стоим, --
Велес-Малага {Город около восемнадцати миль к востоку от Малаги, у подножия
Сьерра-де-Аламы.}, и если годы, проведенные мною в неволе, не отняли у меня
памяти, мне кажется, что вы, сеньор, спрашивающий нас, кто мы такие, --
Педро де Бустаманте, мой дядя.
Едва пленный христианин произнес эти слова, как всадник соскочил с
лошади и бросился обнимать юношу, говоря:
-- Племянник души моей и жизни моей! Я узнаю тебя, а мы-то уже тебя
оплакивали, считая мертвым, я и сестра моя, твоя мать и все твои родные,
которые еще живы, так как Богу угодно было сохранить им жизнь, чтобы они
могли насладиться радостью свиданья с тобой. Мы уже знали, что ты в Алжире,
а по признакам и приметам твоей одежды и одежды всей вашей компании я вижу,
что вы спаслись каким-то чудом.
-- Оно так и есть, -- ответил юноша, и у нас будет достаточно времени
все это рассказать вам.
Как только всадники узнали, что мы христианские пленники, они сошли с
коней, и каждый из них предлагал нам свою лошадь, чтобы довезти нас до
города Велес-Малага, отстоявшего оттуда мили на полторы. Некоторые из
верховых отправились к тому месту, где, как мы указали, была оставлена нами
лодка, чтобы отвезти ее в город. Другие же посадили нас на круп лошадей
позади себя, а Сораида села позади дяди-христианина. Все население города
вышло нам навстречу, так как некоторые, приехавшие раньше, распространили
весть о нашем прибытии. Они не удивлялись видеть ни освобожденных христиан,
ни пленных мавров, потому что все жители этого побережья привыкли к зрелищу
тех и других, а удивлялись они красоте Сораиды, которая в то время и при тех
обстоятельствах достигла высшего своего блеска как вследствие движения в
дороге, так и от радости, что она уже в стране христианской и ничего ей
больше не угрожает; а это вызвало на ее лице такие краски, что, если меня
только не ввела тогда в заблуждение любовь, я решился бы сказать, что во
всем мире нельзя было найти более прекрасного существа; по крайней мере, я
такого никогда не видел.
Мы прямо пошли в церковь, чтобы благодарить Бога за оказанную Им нам
милость. И лишь только Сораида вошла туда, она сказала, что видит здесь
лица, похожие на лицо Лелы Мариен. Мы объяснили, что все это ее изображения,
и ренегат постарался как можно лучше растолковать мавританке, что такое
значат иконы, а также и то, что ей следует их благоговейно чтить, как
изображения той самой Лелы Мариен, которая говорила с нею. Обладая тонким
умом и способностью быстро и легко все схватывать и воспринимать, Сораида
сразу же поняла то, что ей было сказано относительно икон. Из церкви нас
увели и разместили в городе по разным домам, а христианин, приехавший с
нами, взял ренегата, Сораиду и меня в дом к своим родителям, которые имели
средний достаток и приняли нас также радушно, как и собственного сына. Мы
пробыли в Велесе шесть дней, после чего ренегат, собрав все нужные ему
сведения, уехал в город Гренаду, чтобы там через посредство святой
инквизиции вернуться в святейшее лоно церкви. Остальные же освобожденные
христиане уехали, каждый куда ему казалось лучше. Только мы и остались,
Сораида и я, с одними лишь теми червонцами, которыми учтивость француза
наделила Сораиду. Часть этих денег я употребил на покупку животного, на
котором она едет верхом, и служил ей до сих пор отцом и стремянным, но не
супругом. Мы теперь отправляемся дальше, намереваясь узнать, жив ли мой отец
и посчастливилось ли кому-нибудь из моих братьев больше моего; хотя, раз
небо сделало меня спутником Сораиде, мне кажется, что никакое другое
счастье, как бы оно ни было велико, не может быть столь драгоценным для
меня, как это. Терпение, с каким Сораида переносит неудобства, которые
влечет за собой бедность, и выражаемое ею желание сделаться как можно скорее
христианкой так велики и искренны, что наполняют меня восхищением и
побуждают служить ей всю жизнь; но радость, испытываемая мной при мысли, что
я принадлежу ей, а она -- мне, нарушается и портится тем, что я не знаю,
найду ли я на моей родине уголок, где бы я мог приютить ее, и не внесли ли
время и смерть такие изменения в жизнь и дела моего отца и братьев, что, в
случае если их бы не оказалось в живых, я едва ли найду кого-нибудь, кто бы
меня знал. Больше мне нечего, сеньоры, сообщить вам о моей истории и
предоставляю доброму вашему усмотрению судить о том, нашли ли вы ее
занимательной и приятной. О себе же могу сказать, что желал бы ее рассказать
короче, хотя опасение наскучить вам заставило меня умолчать о многих
подробностях.
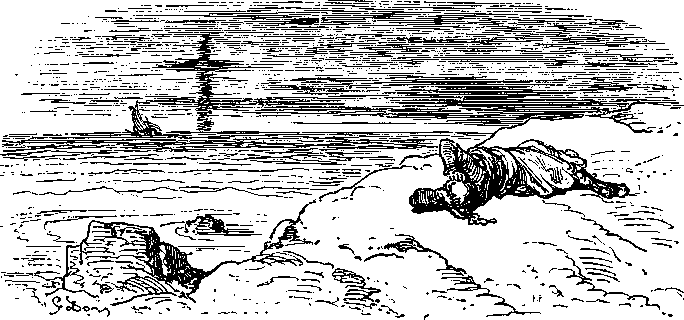
 Закончив этими словами свой рассказ, пленник умолк, а дон Фернандо
сказал ему:
-- Могу вас уверить, сеньор капитан, умение, с которым вы рассказали
эту удивительную историю, равняется новизне и занимательности сообщенных
вами событий. Все тут в высшей степени любопытно, необыкновенно и полно
неожиданностей, изумляющих и поражающих слушателей. Удовольствие,
доставленное вашим рассказом, так велико, что если б утро следующего дня
застало нас еще за тем же занятием, мы были бы рады начать слушать вас
сызнова.
Сказав это, дон Фернандо и все остальные предложили капитану свои
услуги во всем, что в их силах, и в таких искренних и задушевных словах и
выражениях, что он не мог не поверить доброму их расположению. В особенности
же дон Фернандо обещал ему, если он согласится с ним ехать, уговорить своего
брата маркиза быть крестным отцом Сораиды, а он, со своей стороны, снабдит
его всем нужным, чтобы он мог вернуться к себе на родину с подобающими ему
приличием и достоинством. Пленник поблагодарил всех в самых учтивых
выражениях, но не пожелал принять ни одного из их великодушных предложений.
Между тем уже наступила ночь, и, когда совершенно стемнело, к
постоялому двору подъехала карета, а за нею несколько верховых,
потребовавших ночлега. В ответ хозяйка сказала, что на всем постоялом дворе
нет и пяди незанятого места.
-- Как бы то ни было, -- объявил один из верховых, -- но место должно
найтись для сеньора судьи {Oidor, т. е. слушающий -- название судьи в
Испании; audiencia -- так называется суд, в котором он заседает.}, который
прибыл сюда.
Узнав о звании гостя, хозяйка смутилась и сказала:
-- Сеньор, дело в том, что у меня нет постели. Если же его милость,
сеньор судья, везет с собой постель, -- как должно быть это и есть, -- то
пусть он пожалует в добрый час, потому что и муж мой, и я, мы готовы
уступить нашу собственную комнату, чтобы милость его могла устроиться в ней
на ночь.
-- Пусть будет так, в добрый час,-- сказал стремянный.
Но в это время уже вышел из кареты человек, одежда которого тотчас же
выдавала его звание и занимаемую им должность, потому что бывшее на нем
длинное одеяние с круглыми развевающимися рукавами показывало, что он судья,
или оидор, как сказал слуга. Он вел под руку молодую девушку, на вид лет
шестнадцати, одетую по-дорожному, но такую веселую, нарядную и красивую, что
она всех привела в восторг. Если б на постоялом дворе не было Доротеи,
Люсинды и Сораиды, можно было бы подумать, что другую такую красоту, как
красота девушки, трудно было бы отыскать.
Дон Кихот находился тут же, когда приехали судья и молодая девушка, и
как только он их увидел, он сказал:
-- Милость ваша, вы можете спокойно войти и расположиться в этом замке,
потому что, хотя тут и тесно, и неудобно, но нет той тесноты и неудобства в
мире, где бы не нашлось места для оружия и для наук, и тем более если
спутницей и предводительницей их является красота, как мы это видим в
настоящем случае, когда наука в вашем лице является сопровождаемая
прекрасной этой девушкой, перед которой не только должны распахнуться и
открыться двери замков, но и расступиться скалы и сгладиться и склониться
горы, чтобы оказать ей прием. Войдите, милость ваша, говорю я, в этот рай,
так как вы найдете здесь звезды и солнца, чтобы сопутствовать небу, которое
милость ваша привела с собой. Здесь вы найдете оружие на всей его высоте и
красоту во всем ее блеске.
Судья, удивленный речью Дон Кихота, стал пристально рассматривать его и
был столь же изумлен его наружностью, как и словами его. Но прежде чем
нашелся, что ответить ему, он впал в новое удивление, когда увидел перед
собой Люсинду, Доротею и Сораиду, которые, услыхав о приезде новых гостей и
узнав от хозяйки о красоте молодой девушки, пришли посмотреть на нее и
встретить ее. Дон Фернандо, Карденио и священник приветствовали судью более
просто и учтиво, чем Дон Кихот. Сеньор судья вошел в дом смущенный как тем,
что он видел, так и тем, что слышал, а красавицы, бывшие на постоялом дворе,
приветствовали прекрасную девушку. Судья вскоре же разглядел, что все
присутствующие здесь были люди хорошего общества и только фигура, лицо и
манеры Дон Кихота продолжали приводить его в замешательство. После общего
взаимного обмена любезностей и обсуждения удобств постоялого двора пришли
снова к прежнему решению, именно чтобы женщины заняли уже упомянутое
помещение на чердаке, а мужчины оставались вне его, как бы для охраны их.
Судья был очень доволен тем, что его дочь -- так как та девушка была его
дочерью -- поместится с этими сеньорами, и она охотно это сделала; с частью
скудной постели хозяина и половины той, которую привез с собой судья, дамы
устроились на эту ночь лучше, чем думали.
Пленник, который лишь только увидел судью, почувствовал, что у него
сильно забилось сердце при блеснувшей у него в голове мысли, не его ли это
брат, спросил одного из приехавших с ним слуг, как зовут его господина и не
знает ли он, откуда тот родом. Слуга ответил, что его сеньор -- лисенсиат
Хуан Педро де Виэдма и, насколько ему известно, он родом из местечка в
Леонских горах. Эти сведения и то, что он сам видел, окончательно убедили
капитана, что судья -- тот его брат, который по совету отца посвятил себя
изучению словесных наук. Взволнованный и радостный, он отозвал в сторону
дона Фернандо, Карденио и священника и рассказал о случившемся, утверждая,
что этот судья -- его брат. Слуга сообщил ему, что сеньор его едет в Индию,
на должность судьи в Мексике, и, кроме того, что эта молодая девушка -- дочь
судьи, родив которую, мать ее умерла, а отец стал очень богат вследствие
приданого жены, которое вместе с дочерью осталось у него в доме. Капитан
спросил совета, как ему быть: открыться ли сразу брату, или не лучше ли
сначала разузнать, как он его примет, если он ему откроется; не устыдится
ли, видя его в такой бедности, или же встретит с сердечным участием.
-- Предоставьте устроить это испытание мне, -- сказал священник, -- тем
более что нет причины сомневаться в том, чтобы ваш брат, сеньор капитан, не
принял вас самым радушным образом, так как благоразумие и достоинство,
проявляющиеся в его обращении, не дают права считать его ни надменным, ни
неблагородным, или думать, будто он не сумеет, как следует, отнестись к
превратностям судьбы.
-- Тем не менее, -- сказал капитан,-- я бы желал открыться ему не
сразу, а каким-нибудь окольным путем.
-- Говорю вам, -- ответил священник, -- я так поведу дело, что все мы
останемся довольны.
Между тем подали ужинать, и все сели за стол, исключая лишь пленника и
дам, которые ужинали отдельно, в своей комнате. Среди ужина священник
сказал:
-- С такой же фамилией, как и ваша, сеньор судья, был у меня товарищ в
Константинополе, где я провел несколько лет в плену, и товарищ этот -- один
из самых доблестных солдат и капитанов во всей испанской пехоте, но он был
настолько же несчастлив, насколько отважен и храбр.
-- А как звали этого капитана, сеньор мой? -- спросил судья.
-- Звали его, -- ответил священник,-- Руи Перес де Виэдма, и родом он
был из местечка в Леонских горах. Передавал он мне об одном обстоятельстве,
случившемся у него с отцом и братьями, и если бы не сообщил мне о том
человек столь правдивый, как он, я счел бы все это за одну из тех басен,
которые старухи рассказывают зимой, сидя у огня. Он говорил мне, будто его
отец разделил свое состояние между тремя своими сыновьями, причем дал им
некоторые советы, более мудрые, чем изречения Катона. Могу вам сказать, что
совет, которому последовал мой товарищ, когда он ушел на войну, оказался для
него столь удачным, что он через несколько лет благодаря своей храбрости и
отваге без всякой другой поддержки, кроме собственных заслуг, возвысился до
чина пехотного капитана и видел уже впереди себя надежду и прямую дорогу
сделаться вскоре фельд-мейстером {Maestro de campo -- чин выше полкового
командира, так как под командой его было tercio, т. е. два или три полка
пехоты.}. Но судьба вооружилась против него, так как именно там, где он мог
надеяться на счастье и найти его, оно ему изменило, и он все потерял,
потеряв свободу в тот достопамятный день, когда многие приобрели ее, -- в
день сражения при Лепанто. Я был взят в плен в Голете и уже потом, после
разных приключений, мы сделались товарищами в Константинополе. Оттуда он
уехал в Алжир, где, как я знаю, с ним случилось одно из самых странных
приключений, какие только бывали на свете.
Священник, продолжая таким образом, рассказал вкратце все то, что
случилось с Сораидой и капитаном. Судья следил за его рассказом с таким
напряженным вниманием, с каким никогда не следил за показаниями в суде.
Священник довел свой рассказ только до того места, когда французы ограбили
ехавших в лодке христиан, оставив его товарища и прекрасную мавританку в
крайней нужде и бедности. Дальше же будто бы он ничего не слышал о них и не
знает, добрались ли они до Испании, или же французы увезли их во Францию.
Все, что говорил священник, слушал и капитан, стоявший вблизи и
наблюдавший за всеми движениями своего брата. А этот последний, видя, что
священник дошел до конца своего рассказа, глубоко вздохнул и с глазами,
полными слез, воскликнул:
-- О сеньор! Если б вы знали, какие вы мне сообщили вести и как они
глубоко взволновали меня, так что я вынужден обнаружить это слезами,
которые, несмотря на все мое уменье сдерживаться, против воли выступают на
моих глазах. Этот столь доблестный капитан, о котором вы говорите, -- мой
старший брат, и он -- более мужественный и одаренный более высокими
стремлениями, чем я и младший наш брат, -- избрал себе почетное и славное
военное поприще, а это и была одна из трех дорог, указанных нам нашим отцом,
как вам рассказал ваш товарищ, а вам это показалось басней. Я избрал себе
научное поприще, и на нем Бог и труды мои довели меня до положения, в
котором вы меня видите. Младший мой брат живет в Перу и так богат, что
деньгами, которые он выслал мне и моему отцу, он не только вернул полученную
им долю наследства, но дал нам еще столько, что отец мой мог удовлетворить
присущую ему склонность к щедрости, а я мог окончить университетский курс в
более приличной обстановке и с большими удобствами и мог дойти до положения,
в котором вы меня видите. Отец мой еще жив, но умирает от желания узнать,
что сталось с его старшим сыном, и просит Бога в непрерывных молитвах о том,
чтобы смерть не закрыла ему глаза раньше, чем он увидит в живых сына.
Удивляюсь, как мой брат, всегда такой благоразумный, не позаботился в
затруднениях и огорчениях своих или же в счастливых событиях дать знать о
них отцу. Если бы он или кто-нибудь из нас, узнали о случившемся с ним, не
было бы надобности ждать чуда с палкой, чтобы внести за него выкуп. Теперь
меня мучит одна лишь мысль: вернули ли французы ему свободу, или не убили ли
его, чтобы скрыть свой грабеж? Вследствие этого я буду продолжать
путешествие не с той радостью, с какой я его начал, а с горем и печалью. О
добрый мой брат, как бы я хотел знать, где ты теперь, чтобы отыскать тебя и
спасти от страданий хотя бы ценой своих собственных! О, если б кто-нибудь
принес нашему старику отцу известие о том, что ты жив, хотя и находишься в
самых глубоких подземных темницах Берберии, так как и оттуда могли бы тебя
выручить богатства его, мои и брата моего! О прекрасная и великодушная
Сораида! Кто вознаградит тебя за то добро, которое ты оказала моему брату?
Кто будет присутствовать при возрождении твоей души и при этой свадьбе,
которая всем нам доставила бы такое удовольствие!
Такие и тому подобные речи говорил судья и был до такой степени
взволнован известиями, полученными им о брате, что все слушавшие его
старались выразить ему сочувствие к его горю. Священник, видя, как хорошо
ему удался его план и исполнилось то, чего желал капитан, решил не томить
дольше присутствующих, и потому, встав из-за стола и войдя в комнату, где
была Сораида, взял ее за руку, а за ней последовали Люсинда, Доротеа и дочь
судьи. Капитан все еще стоял, выжидая, что хочет сделать священник, а этот
последний, взяв и его также другой рукой, с ними обоими подошел туда, где
был судья и остальные кабальеросы, и сказал:
-- Осушите ваши слезы, сеньор оидор, и да исполнится желание ваше во
всем его объеме, так как перед вами дорогой ваш брат и милая ваша невестка;
взгляните: это вот капитан Виедма, а это -- прекрасная мавританка, оказавшая
ему столько добра; французские корсары, о которых я говорил, довели их до
такого стесненного положения, чтобы вы могли обнаружить великодушие вашего
благородного сердца.
Капитан бросился целовать брата, но тот положил ему обе ладони на
плечи, чтобы на некотором расстоянии лучше разглядеть его, и лишь только он
его узнал, так крепко прижал его к груди, проливая такие нежные и радостные
слезы, что большинство присутствовавших не могли не прослезиться вместе с
ним. Слова, которые говорили друг другу братья, чувства, которые они
испытывали,-- их едва можно вообразить себе, а тем более нельзя их описать.
То они вкратце давали друг другу отчет о своих приключениях, то обменивались
выражениями самой сердечной привязанности, то судья обнимал Сораиду, то
предлагал ей все свое состояние, то заставлял дочь свою целоваться с ней; то
прекрасная христианка, то прекраснейшая мавританка снова вызывали у всех
слезы. Дон Кихот все время стоял, не говоря ни слова, и внимательно следил
за этими столь удивительными событиями, приписывая их химерам странствующего
рыцарства. Наконец они условились, чтобы капитан с Сораидой и с братом
вернулись в Севилью и известили отца о том, что его сын найден и на свободе,
чтобы он мог присутствовать на свадьбе и на крещении Сораиды, потому что
судья не имел возможности отложить свое путешествие, так как он получил
известие, что флот отойдет из Севильи в Новую Испанию через месяц, а
упустить этот случай было бы для него крайне неудобно.
Словом, все были веселы и довольны, радуясь счастью, выпавшему на долю
пленнику; и так как почти две трети ночи прошли, то решили разойтись и
отправиться спать до утра. Дон Кихот предложил стоять на страже у замка,
чтобы какой-нибудь великан или другой разнузданный негодяй не вздумал бы
напасть на них, прельстившись великим сокровищем красоты, которое вмещал в
себе этот замок. Дон Кихота поблагодарили за сделанное им предложение все
те, которые его знали, а судье сообщили о странных его причудах, что очень
позабавило его. Один только Санчо был в отчаянии оттого, что так долго
медлят идти спать, и один он устроился лучше всех, растянувшись на сбруе
своего осла, которая обошлась ему так дорого, как мы это увидим ниже. Дамы
отправились к себе в комнату; остальные же устроились как могли, а Дон Кихот
вышел из постоялого двора, чтобы встать на стражу перед замком, как он
обещал. Случилось, однако, что незадолго до появления зари до слуха дам
донесся такой мелодичный и прекрасный голос, что заставил всех их
внимательно прислушаться, особенно же Доротею, которая не могла заснуть, а
рядом с ней спала Клара де Виэдма,-- так звали дочь судьи. Никто не мог
представить себе, кто так прекрасно поет, и был слышен один только голос,
без аккомпанемента какого бы то ни было инструмента. То им казалось, что
поют на дворе, то словно в конюшне, и, пока сеньоры, недоумевая, внимательно
слушали пение, Карденио подошел к дверям комнаты и сказал:
-- Кто не спит, слушайте: и вы услышите голос погонщика мулов, который
чарует своим пением.
-- Мы слушаем его, сеньор, -- ответила Доротеа, и после этого Карденио
ушел, а Доротеа напрягла все свое внимание и разобрала, что пели следующее.
Закончив этими словами свой рассказ, пленник умолк, а дон Фернандо
сказал ему:
-- Могу вас уверить, сеньор капитан, умение, с которым вы рассказали
эту удивительную историю, равняется новизне и занимательности сообщенных
вами событий. Все тут в высшей степени любопытно, необыкновенно и полно
неожиданностей, изумляющих и поражающих слушателей. Удовольствие,
доставленное вашим рассказом, так велико, что если б утро следующего дня
застало нас еще за тем же занятием, мы были бы рады начать слушать вас
сызнова.
Сказав это, дон Фернандо и все остальные предложили капитану свои
услуги во всем, что в их силах, и в таких искренних и задушевных словах и
выражениях, что он не мог не поверить доброму их расположению. В особенности
же дон Фернандо обещал ему, если он согласится с ним ехать, уговорить своего
брата маркиза быть крестным отцом Сораиды, а он, со своей стороны, снабдит
его всем нужным, чтобы он мог вернуться к себе на родину с подобающими ему
приличием и достоинством. Пленник поблагодарил всех в самых учтивых
выражениях, но не пожелал принять ни одного из их великодушных предложений.
Между тем уже наступила ночь, и, когда совершенно стемнело, к
постоялому двору подъехала карета, а за нею несколько верховых,
потребовавших ночлега. В ответ хозяйка сказала, что на всем постоялом дворе
нет и пяди незанятого места.
-- Как бы то ни было, -- объявил один из верховых, -- но место должно
найтись для сеньора судьи {Oidor, т. е. слушающий -- название судьи в
Испании; audiencia -- так называется суд, в котором он заседает.}, который
прибыл сюда.
Узнав о звании гостя, хозяйка смутилась и сказала:
-- Сеньор, дело в том, что у меня нет постели. Если же его милость,
сеньор судья, везет с собой постель, -- как должно быть это и есть, -- то
пусть он пожалует в добрый час, потому что и муж мой, и я, мы готовы
уступить нашу собственную комнату, чтобы милость его могла устроиться в ней
на ночь.
-- Пусть будет так, в добрый час,-- сказал стремянный.
Но в это время уже вышел из кареты человек, одежда которого тотчас же
выдавала его звание и занимаемую им должность, потому что бывшее на нем
длинное одеяние с круглыми развевающимися рукавами показывало, что он судья,
или оидор, как сказал слуга. Он вел под руку молодую девушку, на вид лет
шестнадцати, одетую по-дорожному, но такую веселую, нарядную и красивую, что
она всех привела в восторг. Если б на постоялом дворе не было Доротеи,
Люсинды и Сораиды, можно было бы подумать, что другую такую красоту, как
красота девушки, трудно было бы отыскать.
Дон Кихот находился тут же, когда приехали судья и молодая девушка, и
как только он их увидел, он сказал:
-- Милость ваша, вы можете спокойно войти и расположиться в этом замке,
потому что, хотя тут и тесно, и неудобно, но нет той тесноты и неудобства в
мире, где бы не нашлось места для оружия и для наук, и тем более если
спутницей и предводительницей их является красота, как мы это видим в
настоящем случае, когда наука в вашем лице является сопровождаемая
прекрасной этой девушкой, перед которой не только должны распахнуться и
открыться двери замков, но и расступиться скалы и сгладиться и склониться
горы, чтобы оказать ей прием. Войдите, милость ваша, говорю я, в этот рай,
так как вы найдете здесь звезды и солнца, чтобы сопутствовать небу, которое
милость ваша привела с собой. Здесь вы найдете оружие на всей его высоте и
красоту во всем ее блеске.
Судья, удивленный речью Дон Кихота, стал пристально рассматривать его и
был столь же изумлен его наружностью, как и словами его. Но прежде чем
нашелся, что ответить ему, он впал в новое удивление, когда увидел перед
собой Люсинду, Доротею и Сораиду, которые, услыхав о приезде новых гостей и
узнав от хозяйки о красоте молодой девушки, пришли посмотреть на нее и
встретить ее. Дон Фернандо, Карденио и священник приветствовали судью более
просто и учтиво, чем Дон Кихот. Сеньор судья вошел в дом смущенный как тем,
что он видел, так и тем, что слышал, а красавицы, бывшие на постоялом дворе,
приветствовали прекрасную девушку. Судья вскоре же разглядел, что все
присутствующие здесь были люди хорошего общества и только фигура, лицо и
манеры Дон Кихота продолжали приводить его в замешательство. После общего
взаимного обмена любезностей и обсуждения удобств постоялого двора пришли
снова к прежнему решению, именно чтобы женщины заняли уже упомянутое
помещение на чердаке, а мужчины оставались вне его, как бы для охраны их.
Судья был очень доволен тем, что его дочь -- так как та девушка была его
дочерью -- поместится с этими сеньорами, и она охотно это сделала; с частью
скудной постели хозяина и половины той, которую привез с собой судья, дамы
устроились на эту ночь лучше, чем думали.
Пленник, который лишь только увидел судью, почувствовал, что у него
сильно забилось сердце при блеснувшей у него в голове мысли, не его ли это
брат, спросил одного из приехавших с ним слуг, как зовут его господина и не
знает ли он, откуда тот родом. Слуга ответил, что его сеньор -- лисенсиат
Хуан Педро де Виэдма и, насколько ему известно, он родом из местечка в
Леонских горах. Эти сведения и то, что он сам видел, окончательно убедили
капитана, что судья -- тот его брат, который по совету отца посвятил себя
изучению словесных наук. Взволнованный и радостный, он отозвал в сторону
дона Фернандо, Карденио и священника и рассказал о случившемся, утверждая,
что этот судья -- его брат. Слуга сообщил ему, что сеньор его едет в Индию,
на должность судьи в Мексике, и, кроме того, что эта молодая девушка -- дочь
судьи, родив которую, мать ее умерла, а отец стал очень богат вследствие
приданого жены, которое вместе с дочерью осталось у него в доме. Капитан
спросил совета, как ему быть: открыться ли сразу брату, или не лучше ли
сначала разузнать, как он его примет, если он ему откроется; не устыдится
ли, видя его в такой бедности, или же встретит с сердечным участием.
-- Предоставьте устроить это испытание мне, -- сказал священник, -- тем
более что нет причины сомневаться в том, чтобы ваш брат, сеньор капитан, не
принял вас самым радушным образом, так как благоразумие и достоинство,
проявляющиеся в его обращении, не дают права считать его ни надменным, ни
неблагородным, или думать, будто он не сумеет, как следует, отнестись к
превратностям судьбы.
-- Тем не менее, -- сказал капитан,-- я бы желал открыться ему не
сразу, а каким-нибудь окольным путем.
-- Говорю вам, -- ответил священник, -- я так поведу дело, что все мы
останемся довольны.
Между тем подали ужинать, и все сели за стол, исключая лишь пленника и
дам, которые ужинали отдельно, в своей комнате. Среди ужина священник
сказал:
-- С такой же фамилией, как и ваша, сеньор судья, был у меня товарищ в
Константинополе, где я провел несколько лет в плену, и товарищ этот -- один
из самых доблестных солдат и капитанов во всей испанской пехоте, но он был
настолько же несчастлив, насколько отважен и храбр.
-- А как звали этого капитана, сеньор мой? -- спросил судья.
-- Звали его, -- ответил священник,-- Руи Перес де Виэдма, и родом он
был из местечка в Леонских горах. Передавал он мне об одном обстоятельстве,
случившемся у него с отцом и братьями, и если бы не сообщил мне о том
человек столь правдивый, как он, я счел бы все это за одну из тех басен,
которые старухи рассказывают зимой, сидя у огня. Он говорил мне, будто его
отец разделил свое состояние между тремя своими сыновьями, причем дал им
некоторые советы, более мудрые, чем изречения Катона. Могу вам сказать, что
совет, которому последовал мой товарищ, когда он ушел на войну, оказался для
него столь удачным, что он через несколько лет благодаря своей храбрости и
отваге без всякой другой поддержки, кроме собственных заслуг, возвысился до
чина пехотного капитана и видел уже впереди себя надежду и прямую дорогу
сделаться вскоре фельд-мейстером {Maestro de campo -- чин выше полкового
командира, так как под командой его было tercio, т. е. два или три полка
пехоты.}. Но судьба вооружилась против него, так как именно там, где он мог
надеяться на счастье и найти его, оно ему изменило, и он все потерял,
потеряв свободу в тот достопамятный день, когда многие приобрели ее, -- в
день сражения при Лепанто. Я был взят в плен в Голете и уже потом, после
разных приключений, мы сделались товарищами в Константинополе. Оттуда он
уехал в Алжир, где, как я знаю, с ним случилось одно из самых странных
приключений, какие только бывали на свете.
Священник, продолжая таким образом, рассказал вкратце все то, что
случилось с Сораидой и капитаном. Судья следил за его рассказом с таким
напряженным вниманием, с каким никогда не следил за показаниями в суде.
Священник довел свой рассказ только до того места, когда французы ограбили
ехавших в лодке христиан, оставив его товарища и прекрасную мавританку в
крайней нужде и бедности. Дальше же будто бы он ничего не слышал о них и не
знает, добрались ли они до Испании, или же французы увезли их во Францию.
Все, что говорил священник, слушал и капитан, стоявший вблизи и
наблюдавший за всеми движениями своего брата. А этот последний, видя, что
священник дошел до конца своего рассказа, глубоко вздохнул и с глазами,
полными слез, воскликнул:
-- О сеньор! Если б вы знали, какие вы мне сообщили вести и как они
глубоко взволновали меня, так что я вынужден обнаружить это слезами,
которые, несмотря на все мое уменье сдерживаться, против воли выступают на
моих глазах. Этот столь доблестный капитан, о котором вы говорите, -- мой
старший брат, и он -- более мужественный и одаренный более высокими
стремлениями, чем я и младший наш брат, -- избрал себе почетное и славное
военное поприще, а это и была одна из трех дорог, указанных нам нашим отцом,
как вам рассказал ваш товарищ, а вам это показалось басней. Я избрал себе
научное поприще, и на нем Бог и труды мои довели меня до положения, в
котором вы меня видите. Младший мой брат живет в Перу и так богат, что
деньгами, которые он выслал мне и моему отцу, он не только вернул полученную
им долю наследства, но дал нам еще столько, что отец мой мог удовлетворить
присущую ему склонность к щедрости, а я мог окончить университетский курс в
более приличной обстановке и с большими удобствами и мог дойти до положения,
в котором вы меня видите. Отец мой еще жив, но умирает от желания узнать,
что сталось с его старшим сыном, и просит Бога в непрерывных молитвах о том,
чтобы смерть не закрыла ему глаза раньше, чем он увидит в живых сына.
Удивляюсь, как мой брат, всегда такой благоразумный, не позаботился в
затруднениях и огорчениях своих или же в счастливых событиях дать знать о
них отцу. Если бы он или кто-нибудь из нас, узнали о случившемся с ним, не
было бы надобности ждать чуда с палкой, чтобы внести за него выкуп. Теперь
меня мучит одна лишь мысль: вернули ли французы ему свободу, или не убили ли
его, чтобы скрыть свой грабеж? Вследствие этого я буду продолжать
путешествие не с той радостью, с какой я его начал, а с горем и печалью. О
добрый мой брат, как бы я хотел знать, где ты теперь, чтобы отыскать тебя и
спасти от страданий хотя бы ценой своих собственных! О, если б кто-нибудь
принес нашему старику отцу известие о том, что ты жив, хотя и находишься в
самых глубоких подземных темницах Берберии, так как и оттуда могли бы тебя
выручить богатства его, мои и брата моего! О прекрасная и великодушная
Сораида! Кто вознаградит тебя за то добро, которое ты оказала моему брату?
Кто будет присутствовать при возрождении твоей души и при этой свадьбе,
которая всем нам доставила бы такое удовольствие!
Такие и тому подобные речи говорил судья и был до такой степени
взволнован известиями, полученными им о брате, что все слушавшие его
старались выразить ему сочувствие к его горю. Священник, видя, как хорошо
ему удался его план и исполнилось то, чего желал капитан, решил не томить
дольше присутствующих, и потому, встав из-за стола и войдя в комнату, где
была Сораида, взял ее за руку, а за ней последовали Люсинда, Доротеа и дочь
судьи. Капитан все еще стоял, выжидая, что хочет сделать священник, а этот
последний, взяв и его также другой рукой, с ними обоими подошел туда, где
был судья и остальные кабальеросы, и сказал:
-- Осушите ваши слезы, сеньор оидор, и да исполнится желание ваше во
всем его объеме, так как перед вами дорогой ваш брат и милая ваша невестка;
взгляните: это вот капитан Виедма, а это -- прекрасная мавританка, оказавшая
ему столько добра; французские корсары, о которых я говорил, довели их до
такого стесненного положения, чтобы вы могли обнаружить великодушие вашего
благородного сердца.
Капитан бросился целовать брата, но тот положил ему обе ладони на
плечи, чтобы на некотором расстоянии лучше разглядеть его, и лишь только он
его узнал, так крепко прижал его к груди, проливая такие нежные и радостные
слезы, что большинство присутствовавших не могли не прослезиться вместе с
ним. Слова, которые говорили друг другу братья, чувства, которые они
испытывали,-- их едва можно вообразить себе, а тем более нельзя их описать.
То они вкратце давали друг другу отчет о своих приключениях, то обменивались
выражениями самой сердечной привязанности, то судья обнимал Сораиду, то
предлагал ей все свое состояние, то заставлял дочь свою целоваться с ней; то
прекрасная христианка, то прекраснейшая мавританка снова вызывали у всех
слезы. Дон Кихот все время стоял, не говоря ни слова, и внимательно следил
за этими столь удивительными событиями, приписывая их химерам странствующего
рыцарства. Наконец они условились, чтобы капитан с Сораидой и с братом
вернулись в Севилью и известили отца о том, что его сын найден и на свободе,
чтобы он мог присутствовать на свадьбе и на крещении Сораиды, потому что
судья не имел возможности отложить свое путешествие, так как он получил
известие, что флот отойдет из Севильи в Новую Испанию через месяц, а
упустить этот случай было бы для него крайне неудобно.
Словом, все были веселы и довольны, радуясь счастью, выпавшему на долю
пленнику; и так как почти две трети ночи прошли, то решили разойтись и
отправиться спать до утра. Дон Кихот предложил стоять на страже у замка,
чтобы какой-нибудь великан или другой разнузданный негодяй не вздумал бы
напасть на них, прельстившись великим сокровищем красоты, которое вмещал в
себе этот замок. Дон Кихота поблагодарили за сделанное им предложение все
те, которые его знали, а судье сообщили о странных его причудах, что очень
позабавило его. Один только Санчо был в отчаянии оттого, что так долго
медлят идти спать, и один он устроился лучше всех, растянувшись на сбруе
своего осла, которая обошлась ему так дорого, как мы это увидим ниже. Дамы
отправились к себе в комнату; остальные же устроились как могли, а Дон Кихот
вышел из постоялого двора, чтобы встать на стражу перед замком, как он
обещал. Случилось, однако, что незадолго до появления зари до слуха дам
донесся такой мелодичный и прекрасный голос, что заставил всех их
внимательно прислушаться, особенно же Доротею, которая не могла заснуть, а
рядом с ней спала Клара де Виэдма,-- так звали дочь судьи. Никто не мог
представить себе, кто так прекрасно поет, и был слышен один только голос,
без аккомпанемента какого бы то ни было инструмента. То им казалось, что
поют на дворе, то словно в конюшне, и, пока сеньоры, недоумевая, внимательно
слушали пение, Карденио подошел к дверям комнаты и сказал:
-- Кто не спит, слушайте: и вы услышите голос погонщика мулов, который
чарует своим пением.
-- Мы слушаем его, сеньор, -- ответила Доротеа, и после этого Карденио
ушел, а Доротеа напрягла все свое внимание и разобрала, что пели следующее.

 Когда тот, кто пел, дошел до этого места, Доротее пришло на мысль, что
было бы жаль, если бы Клара не услышала прекрасного этого голоса. Итак,
толкая ее тихонько, она разбудила ее, сказав:
-- Прости меня, дитя, что я тебя разбудила, но сделала я это, чтобы ты
насладилась лучшим голосом, который, быть может, ты когда-либо слышала в
своей жизни.
Клара проснулась и спросонья не поняла сначала, что ей говорила
Доротеа, и переспросила ее, в чем дело. Та повторила свои слова, после чего
Клара стала внимательно прислушиваться, но едва услышала она две строчки,
спетые певцом, как ее охватила такая странная дрожь, словно с ней
приключился сильнейший припадок перемежающейся лихорадки, и, крепко обняв
Доротею, она сказала:
По любви волнам безбрежным,
Мореход любви, плыву я,
Но не светит мне надежда,
Что могу войти я в гавань.
Путь держу я за звездою,
Что мне издали сияет
Лучезарней и прекрасней,
Чем все звезды Паливуро[1].
Но ведет куда, не знаю,
Та звезда, -- плыву в смятенье:
Беззаботный, полн заботы,
Устремясь к ней всей душою.
Недоступность без предела,
Благонравье через меру --
Облака те, что скрывают
Блеск звезды от алчных взоров.
О звезда! Твоим сияньем
Лишь одним живу, дышу я.
И в тот миг, как ты погаснешь,
В тот же самый миг умру я!..
[1] Кормчий Энея в "Энеиде" Вергилия.
-- Ах, сеньора моей души и моей жизни, зачем вы разбудили меня? Самое
большое счастье, которое теперь судьба могла бы послать мне, было бы закрыть
глаза и уши, чтоб я не видела и не слышала этого несчастного певца.
-- Что ты говоришь, дитя? Подумай: тот, кто поет, как мне говорили, --
погонщик мулов.
-- Нет, он не погонщик мулов, -- ответила Клара, -- а обладатель сел и
местечек, и тем местом, которым он владеет в моем сердце, он владеет так
прочно, что если сам не откажется от него, оно останется за ним навеки.
Доротеа была изумлена страстной речью молодой девушки, так как ей
казалось, что слова эти далеко опередили то, что можно было бы ожидать от ее
столь юных лет, и потому она сказала:
-- Вы так говорите, сеньора Клара, что я не могу вас понять. Выразитесь
яснее и объясните мне, что вы хотели сказать вашими словами о сердце, селах
и местечках и о том певце, голос которого вас так смутил? Впрочем, не
говорите мне ничего теперь, потому что я не хотела бы, занявшись вашими
тревогами, лишиться удовольствия еще раз услышать того, кто так прекрасно
поет. Мне кажется, он запел новую песню и на новый мотив.
-- В добрый час, -- ответила Клара и, чтобы не слышать пения, заткнула
себе уши руками, что тоже очень удивило Доротею. Но, обратив внимание свое
на пение, она услышала следующее:
Надежда сладкая моя!
Когда, преграды все свергая пред собою,
Отвага юная твоя
Ведет тебя тобой начертанной тропою,
Не унывай, -- хотя б кругом
Грозила смерть и над тобой гремел бы гром!
Не тот, кто в неге утопал,
Иль кто главу клонил пугливо в день ненастья,
Восторг победы узнавал,--
Не тот вкусил, не тот и мог изведать счастье,
С судьбой бороться кто не смел,
Чей пленный дух в ленивой, сонной дреме млел.
Любовь права, что покупать
Дары свои ценой высокой заставляет:
Все то, на чем ее печать,--
Богатый клад, наш лучший клад собой являет!
Ведь издавна все знают: то,
Что стоит дешево -- и ценится в ничто.
Устойчивость в любви порой
Берет там верх, где всем казалось невозможно,
И я в борьбе с моей судьбой
Чрез грозный ряд препятствий твердо, непреложно,
И безбоязненно пройду,--
И небо на земле, надеюсь, обрету!
Тут голос умолк, и Клара принялась опять всхлипывать и вздыхать. Все
это разжигало желание Доротеи узнать причину столь сладостного пения и столь
горьких слез; итак, она снова спросила Клару, что хотела та рассказать ей
перед тем. Из опасения, чтобы ее не услышала Люсинда, Клара крепко прижалась
к Доротее, и, приблизив губы свои к ее уху так, чтобы быть уверенной, что
никто другой не услышит ее, она сказала:
-- Тот, кто поет, сеньора моя, -- сын одного кабальеро родом из
Арагонского королевства, владетель двух поместий, а жил он напротив дома
моего отца в столице, и хотя мой отец и занавешивал всегда зимою окна наши
полотном, а летом закрывал створчатыми ставнями, но не знаю, как и когда
этот кабальеро, еще ходивший учиться, увидел меня. Было ли это в церкви или
в другом месте, не могу сказать, но как бы то ни было он влюбился в меня и
дал мне это понять из окон своего дома таким обилием знаков и слез, что я
должна была поверить ему и даже полюбить его, хотя и не знала, чего он хочет
от меня. В числе знаков, которые он мне делал, он часто соединял одну руку с
другой, давая мне этим понять, что желал бы жениться на мне. Хотя я и была
бы очень рада, если б это случилось, но, ввиду того что я была одна, без
матери, я не знала, с кем мне посоветоваться; итак, я оставляла все, как оно
было, не выказывая ему другого благорасположения, кроме того, что в
отсутствие моего и его отца я приподнимала немного занавес или открывала
ставни, так что он мог видеть меня всю, а это приводило его в такой восторг,
что, казалось, он чуть ли не сходит с ума. Между тем подошло время отъезда
моего отца, о чем он узнал, но не от меня, так как я не имела возможности
говорить с ним, и он, как я потом слышала, заболел с горя. Поэтому я не
могла его видеть в день нашего отъезда, чтобы проститься с ним хотя бы
только взглядом. Но после двухдневного путешествия при входе на постоялый
двор в одном селе, отстоящем отсюда на день езды, я вдруг увидела его у
ворот в одежде погонщика мулов, и он сумел так хорошо переодеться, что если
б я не носила в душе его образа, то не могла бы узнать его. Узнав его, я
очень удивилась и обрадовалась, а он взглянул на меня тайком от моего отца,
от которого всегда прячется, когда проходит мимо нас по дороге и на
постоялых дворах, где мы останавливаемся. Но так как я знаю, кто он такой, и
вижу, что из любви ко мне он идет пешком и так утомляется, я умираю от
огорчения, и куда он -- туда и глаза мои. Не знаю, какие у него намерения и
как он убежал от своего отца, который необычайно любит его, потому что он
единственный его наследник и потому что он заслуживает этого, как вы сами,
милость ваша, убедитесь, когда увидите его. Еще могу сказать вам, что все,
что он поет, он берет из своей головы, потому что, я слышала, он очень
ученый и, кроме того, поэт; и вот еще что: всякий раз, как я его вижу или
когда слышу, как он поет, я вся дрожу и всегда ужасно боюсь, чтоб мой отец
не узнал его и наши чувства не стали бы ему известны. Во всю жизнь я не
сказала ему ни слова, но тем не менее люблю его так, что не могу жить без
него. Вот, сеньора моя, все, что я имела вам сообщить об этом певце, голос
которого вас так очаровал. Уже по одному этому вы можете судить, что он не
погонщик мулов, как вы сказали, а властитель душ и местечек, как говорила я.
-- Успокойтесь, сеньора донья Клара, -- сказала тогда Доротеа, целуя ее
тысячу раз. -- Успокойтесь, говорю я, и ждите, когда настанет утро, и тогда
я с помощью божьей надеюсь так устроить ваши дела, что они будут доведены до
счастливого конца, вполне заслуженного добрым их началом.
-- Ах, сеньора! -- сказала донья Клара. -- На какой счастливый конец
можно надеяться, если отец его до того знатен и богат, что не взял бы меня,
пожалуй, и в служанки к своему сыну, а не то что в жены. Выйти же замуж
тайком от моего отца -- этого я не сделаю ни за что на свете и желала бы
только одного: чтобы тот молодой человек вернулся к себе и оставил меня.
Быть может, не видя его, и на таком большом расстоянии, какое поставит между
нами путешествие, которое мы предприняли, теперешнее горе мое облегчится,
хотя я знаю, что это придуманное мною лекарство, о котором я говорю, не
очень-то мне поможет. Не понимаю, что за дьявол это устроил или каким путем
вошла в меня эта моя любовь, раз я еще так молода и он такой юный,-- потому
что в самом деле, я думаю, мы с ним одного возраста, а мне еще нет
шестнадцати лет и отец говорит, что они исполнятся лишь в День святого
Михаила.
Доротеа не могла удержаться от смеха, слушая, как совсем по-детски
говорила донья Клара, и она сказала ей:
-- Давайте уснем, сеньора, на короткое время, которое, как я думаю, еще
осталось от ночи, а Бог пошлет нам утро, и тогда все обернется хорошо, или
же руки мои окажутся плохи.
После этих слов обе заснули, и на постоялом дворе воцарилась глубокая
тишина. Не спали только хозяйская дочь и Мариторнес, ее служанка, так как
они знали о причудах, которыми грешил Дон Кихот, а также и о том, что он
стоит на страже у ворот постоялого двора верхом на коне и во всем
вооружении; и они сговорились сыграть с ним какую-нибудь шутку или, по
крайней мере, хоть несколько развлечься, слушая его нелепости.
Дело в том, что на постоялом дворе не было ни одного окна, которое
выходило бы в поле, исключая отверстия в чердачном помещении для соломы, из
которого ее выбрасывали. У этого-то отверстия встали две полудевы {Semi
doncellas -- в том смысле, что из двух одна лишь девушка, так как Мариторнес
ею не была.} и увидели, что Дон Кихот сидит верхом на лошади, опираясь на
свое копье и испуская время от времени столь глубокие и тяжкие вздохи, что,
казалось, с каждым из них у него разрывается сердце. Одновременно с этим они
услышали, что он говорит нежным, мягким и страстным голосом:
-- О моя сеньора, Дульсинея Тобосская! Венец всякой красоты, цвет и
блеск ума, вместилище изящества, сокровищница добродетели, словом,
олицетворение всего самого достойного, благородного и восхитительного, что
лишь существует на свете! Чем занята теперь милость твоя? Не обращены ли,
быть может, твои мысли на плененного тобою рыцаря, который, только чтобы
служить тебе, подвергается по доброй своей воле столь великим опасностям?
Дай мне весть о ней, о ты, светящая с тремя лицами! {Луна.} Быть может, ты с
завистью смотришь на ее лицо в то время как, прогуливаясь по какой-нибудь
галерее своих роскошных дворцов или прислонившись грудью к одному из
балконов, она обдумывает, каким образом ей, не роняя своей добродетели и
своего величия, облегчить муку, которую из-за нее терпит мое наболевшее
сердце, какою радостью уврачует она мои страданья, заменит спокойствием
тревоги мои, словом, как вернет меня от смерти к жизни и какую награду даст
мне за верную службу ей? И ты, солнце, которое, должно быть, уже торопишься
седлать своих коней, чтобы рано встать и пойти взглянуть на мою
повелительницу, умоляю тебя, лишь только ты ее увидишь, передай ей мой
привет! Но, увидав ее и передав мой привет, берегись поцеловать ее в лицо,
иначе я приревную тебя к ней сильнее, чем ты ревновал ту быстроногую и
неблагодарную {Т. е. Дафну -- по мифологии.}, что заставила тебя так много
бегать и потеть в долинах Фессалии или на берегах Пенея, уж не помню, где ты
тогда бегал, сгорая от любви и ревности.
Дон Кихот дошел до этого места своего столь грустного
разглагольствования, когда хозяйская дочь тихонько позвала его и шепнула:
-- Сеньор мой, подойдите-ка сюда, если вашей милости будет угодно.
На этот голос и обращение Дон Кихот повернул голову и при свете луны,
сиявшей в то время во всем своем блеске, увидел, что его зовут из отверстия
чердачного помещения, но отверстие это показалось ему окном, да еще с
золоченой решеткой, как этому и следовало быть в столь богатом замке, каким
ему казался постоялый двор. В ту же минуту его безумному воображению
представилось, что снова, как и в прошлый раз, красивая девушка, дочь
владетельницы замка, побежденная любовью, старается увлечь его, и с этой
мыслью -- чтобы не показаться невежливым и неблагодарным -- он повернул
Росинанта, подъехал ближе к чердачному отверстию и, лишь только увидел двух
девушек, сказал:
-- Жалею вас, прекрасная сеньора, что вы любовные свои помыслы обратили
туда, где невозможно вам найти такой ответ, какой заслуживали бы великие
ваши достоинства и ваше изящество. Но вы не должны винить в этом
злополучного странствующего рыцаря, которого любовь лишила возможности
отдать свое расположение другой, кроме той, которая с первого же мгновения,
как только его глаза увидели ее, сделалась неограниченной владычицей его
души. Простите же мне, благородная сеньора, удалитесь к себе в комнату и
будьте так добры не обнаруживать мне дальше ваших желаний, чтобы не
заставить меня казаться вам еще более неблагодарным. Если из-за любви,
которую вы ко мне питаете, вы найдете во мне что-либо другое, чем бы я мог
вас удовлетворить, -- только бы это не была ответная любовь, требуйте от
меня всего, и я клянусь сладкой моей отсутствующей неприятельницей
немедленно исполнить вашу просьбу, хотя бы вы просили у меня локон с головы
горгоны Медузы, у которой вместо волос были змеи, или даже солнечные лучи,
собранные в склянку.
-- Моей сеньоре ничего этого не нужно, господин кабальеро, -- сказала
тогда Мариторнес.
-- Что же нужно вашей сеньоре, рассудительная дуэнья? -- спросил Дон
Кихот.
-- Только одну из ваших прекрасных рук, -- ответила Мариторнес, --
чтобы она хоть этим успокоила страстное желание, приведшее ее сюда, к окну,
с такой опасностью для ее чести, так как, если бы отец ее узнал о том, он по
меньшей мере отрезал бы ей ухо.
-- Посмотрел бы я, -- ответил Дон Кихот, -- но пусть он поостережется
это делать, если не желает, чтобы его постиг самый гибельный конец,
когда-либо выпадавший в мире на долю отца за то, что он позволил себе
наложить руку на нежные члены своей влюбленной дочери!
Мариторнес не сомневалась, что Дон Кихот даст руку, которую она у него
просила, и, решив в своем уме, что она сделает с нею, спустилась с чердака и
побежала в конюшню, где взяла недоуздок осла Санчо Пансы и поспешно
вернулась на чердак, как раз в то время, когда Дон Кихот встал ногами на
седло Росинанта, чтобы достать до решетчатого окна, где, как он воображал,
находится раненная им в сердце девушка, и, протягивая ей руку, сказал:
-- Берите, сеньора, эту руку, или, вернее говоря, этот бич всех злодеев
в мире. Берите эту руку, говорю я, к которой не прикасалась еще никакая
женская рука и даже рука той, что владеет всем моим существом. Даю я вам мою
руку не для того, чтобы вы ее целовали, а чтоб посмотрели на сплетение ее
сухожилий, на твердость мускулов, на широту и развитие вен и из всего этого
могли бы вывести заключение, какая сила должна быть в этой руке.
-- Сейчас увидим это, -- сказала Мариторнес и, сделав мертвую петлю на
недоуздке, набросила ее ему на кисть руки и, отойдя от отверстия, привязала
другой конец ремня как можно крепче к засову чердачной двери.
Дон Кихот, почувствовав жесткую веревку вокруг кисти своей руки,
сказал:
-- Ваша милость, вы, кажется, скорее скоблите, чем гладите мою руку. Не
обращайтесь так дурно с нею; не она вина того зла, которое моя воля
причиняет вам. Нехорошо также, что вы на столь маленькую частицу обрушиваете
весь свой гнев. Подумайте и о том, что, кто истинно любит, не мстит так
жестоко.
Но уже некому было слушать все эти укоры Дон Кихота, потому что, лишь
только Мариторнес привязала его, она и другая девушка убежали, умирая со
смеху, оставив его привязанным таким образом, что он никак не мог
освободиться. Стоял он, как было сказано, на спине Росинанта, просунув всю
руку в отверстие помещения для соломы, с кистью руки крепко привязанной к
засову дверей, чувствуя величайший страх и тревогу при мысли, что, если
Росинант двинется в ту или другую сторону, ему придется повиснуть на руке;
итак, Дон Кихот не смел шевельнуться, хотя терпеливый и спокойный нрав
Росинанта давал право надеяться на то, что он простоит не двигаясь целое
столетие. Когда же рыцарь увидел, что он привязан и дамы уже ушли, он
вообразил, что все это дело волшебства, как и в прошлый раз, когда в том же
самом замке его избил очарованный мавр -- погонщик мулов; и он про себя
проклинал свое неразумие и неосторожность, так как, зная, что ему пришлось
плохо в этом замке в первый раз, он решился заехать сюда вторично, между тем
как у странствующих рыцарей правило: если они взялись за приключение и оно
им не удалось, считать это знаком того, что оно предназначено не для них, а
для других рыцарей и им нет надобности браться за него вторично. Тем не
менее Дон Кихот тянул свою руку, чтобы посмотреть, нельзя ли ее освободить,
но она была так хорошо привязана, что все его попытки оказались тщетными.
Правда и то, что он тянул осторожно из опасения, чтобы Росинант не двинулся,
и хотя ему очень хотелось опуститься и сесть в седло, но волей-неволей он
должен был продолжать стоять или оторвать себе руку. То он мечтал для себя о
мече Амадиса, против которого были бессильны всякие очарования; то проклинал
злую свою судьбу; то разрисовывал себе в ярких красках утрату, которую
потерпит мир от отсутствия его за то время, пока он очарован, а что он им
был, в этом он нимало не сомневался. То он снова вспоминал о возлюбленной
своей Дульсинее Тобосской, то он звал доброго своего оруженосца Санчо Пансу,
который, погруженный в сон, растянувшись на вьючном седле своего осла, не
помнил в ту минуту и о матери, которая его родила; то он призывал себе на
помощь волшебников Лиргандео и Алкифа; то молил о поддержке добрую свою
приятельницу Урганду, и, наконец, его застало утро в таком отчаянии и упадке
духа, что он ревел, как бык, потеряв надежду избавиться даже и днем от своей
муки, потому что считал ее вечной, а себя очарованным, в чем еще больше
убеждало его то, что Росинант во все время даже не шевельнулся. Он был
уверен, что ему и его лошади придется, не пивши, не евши и не спавши,
простоять таким образом до тех пор, пока не минует это дурное влияние
созвездий или же пока другой, более мудрый волшебник не снимет с них
очарования.
Когда тот, кто пел, дошел до этого места, Доротее пришло на мысль, что
было бы жаль, если бы Клара не услышала прекрасного этого голоса. Итак,
толкая ее тихонько, она разбудила ее, сказав:
-- Прости меня, дитя, что я тебя разбудила, но сделала я это, чтобы ты
насладилась лучшим голосом, который, быть может, ты когда-либо слышала в
своей жизни.
Клара проснулась и спросонья не поняла сначала, что ей говорила
Доротеа, и переспросила ее, в чем дело. Та повторила свои слова, после чего
Клара стала внимательно прислушиваться, но едва услышала она две строчки,
спетые певцом, как ее охватила такая странная дрожь, словно с ней
приключился сильнейший припадок перемежающейся лихорадки, и, крепко обняв
Доротею, она сказала:
По любви волнам безбрежным,
Мореход любви, плыву я,
Но не светит мне надежда,
Что могу войти я в гавань.
Путь держу я за звездою,
Что мне издали сияет
Лучезарней и прекрасней,
Чем все звезды Паливуро[1].
Но ведет куда, не знаю,
Та звезда, -- плыву в смятенье:
Беззаботный, полн заботы,
Устремясь к ней всей душою.
Недоступность без предела,
Благонравье через меру --
Облака те, что скрывают
Блеск звезды от алчных взоров.
О звезда! Твоим сияньем
Лишь одним живу, дышу я.
И в тот миг, как ты погаснешь,
В тот же самый миг умру я!..
[1] Кормчий Энея в "Энеиде" Вергилия.
-- Ах, сеньора моей души и моей жизни, зачем вы разбудили меня? Самое
большое счастье, которое теперь судьба могла бы послать мне, было бы закрыть
глаза и уши, чтоб я не видела и не слышала этого несчастного певца.
-- Что ты говоришь, дитя? Подумай: тот, кто поет, как мне говорили, --
погонщик мулов.
-- Нет, он не погонщик мулов, -- ответила Клара, -- а обладатель сел и
местечек, и тем местом, которым он владеет в моем сердце, он владеет так
прочно, что если сам не откажется от него, оно останется за ним навеки.
Доротеа была изумлена страстной речью молодой девушки, так как ей
казалось, что слова эти далеко опередили то, что можно было бы ожидать от ее
столь юных лет, и потому она сказала:
-- Вы так говорите, сеньора Клара, что я не могу вас понять. Выразитесь
яснее и объясните мне, что вы хотели сказать вашими словами о сердце, селах
и местечках и о том певце, голос которого вас так смутил? Впрочем, не
говорите мне ничего теперь, потому что я не хотела бы, занявшись вашими
тревогами, лишиться удовольствия еще раз услышать того, кто так прекрасно
поет. Мне кажется, он запел новую песню и на новый мотив.
-- В добрый час, -- ответила Клара и, чтобы не слышать пения, заткнула
себе уши руками, что тоже очень удивило Доротею. Но, обратив внимание свое
на пение, она услышала следующее:
Надежда сладкая моя!
Когда, преграды все свергая пред собою,
Отвага юная твоя
Ведет тебя тобой начертанной тропою,
Не унывай, -- хотя б кругом
Грозила смерть и над тобой гремел бы гром!
Не тот, кто в неге утопал,
Иль кто главу клонил пугливо в день ненастья,
Восторг победы узнавал,--
Не тот вкусил, не тот и мог изведать счастье,
С судьбой бороться кто не смел,
Чей пленный дух в ленивой, сонной дреме млел.
Любовь права, что покупать
Дары свои ценой высокой заставляет:
Все то, на чем ее печать,--
Богатый клад, наш лучший клад собой являет!
Ведь издавна все знают: то,
Что стоит дешево -- и ценится в ничто.
Устойчивость в любви порой
Берет там верх, где всем казалось невозможно,
И я в борьбе с моей судьбой
Чрез грозный ряд препятствий твердо, непреложно,
И безбоязненно пройду,--
И небо на земле, надеюсь, обрету!
Тут голос умолк, и Клара принялась опять всхлипывать и вздыхать. Все
это разжигало желание Доротеи узнать причину столь сладостного пения и столь
горьких слез; итак, она снова спросила Клару, что хотела та рассказать ей
перед тем. Из опасения, чтобы ее не услышала Люсинда, Клара крепко прижалась
к Доротее, и, приблизив губы свои к ее уху так, чтобы быть уверенной, что
никто другой не услышит ее, она сказала:
-- Тот, кто поет, сеньора моя, -- сын одного кабальеро родом из
Арагонского королевства, владетель двух поместий, а жил он напротив дома
моего отца в столице, и хотя мой отец и занавешивал всегда зимою окна наши
полотном, а летом закрывал створчатыми ставнями, но не знаю, как и когда
этот кабальеро, еще ходивший учиться, увидел меня. Было ли это в церкви или
в другом месте, не могу сказать, но как бы то ни было он влюбился в меня и
дал мне это понять из окон своего дома таким обилием знаков и слез, что я
должна была поверить ему и даже полюбить его, хотя и не знала, чего он хочет
от меня. В числе знаков, которые он мне делал, он часто соединял одну руку с
другой, давая мне этим понять, что желал бы жениться на мне. Хотя я и была
бы очень рада, если б это случилось, но, ввиду того что я была одна, без
матери, я не знала, с кем мне посоветоваться; итак, я оставляла все, как оно
было, не выказывая ему другого благорасположения, кроме того, что в
отсутствие моего и его отца я приподнимала немного занавес или открывала
ставни, так что он мог видеть меня всю, а это приводило его в такой восторг,
что, казалось, он чуть ли не сходит с ума. Между тем подошло время отъезда
моего отца, о чем он узнал, но не от меня, так как я не имела возможности
говорить с ним, и он, как я потом слышала, заболел с горя. Поэтому я не
могла его видеть в день нашего отъезда, чтобы проститься с ним хотя бы
только взглядом. Но после двухдневного путешествия при входе на постоялый
двор в одном селе, отстоящем отсюда на день езды, я вдруг увидела его у
ворот в одежде погонщика мулов, и он сумел так хорошо переодеться, что если
б я не носила в душе его образа, то не могла бы узнать его. Узнав его, я
очень удивилась и обрадовалась, а он взглянул на меня тайком от моего отца,
от которого всегда прячется, когда проходит мимо нас по дороге и на
постоялых дворах, где мы останавливаемся. Но так как я знаю, кто он такой, и
вижу, что из любви ко мне он идет пешком и так утомляется, я умираю от
огорчения, и куда он -- туда и глаза мои. Не знаю, какие у него намерения и
как он убежал от своего отца, который необычайно любит его, потому что он
единственный его наследник и потому что он заслуживает этого, как вы сами,
милость ваша, убедитесь, когда увидите его. Еще могу сказать вам, что все,
что он поет, он берет из своей головы, потому что, я слышала, он очень
ученый и, кроме того, поэт; и вот еще что: всякий раз, как я его вижу или
когда слышу, как он поет, я вся дрожу и всегда ужасно боюсь, чтоб мой отец
не узнал его и наши чувства не стали бы ему известны. Во всю жизнь я не
сказала ему ни слова, но тем не менее люблю его так, что не могу жить без
него. Вот, сеньора моя, все, что я имела вам сообщить об этом певце, голос
которого вас так очаровал. Уже по одному этому вы можете судить, что он не
погонщик мулов, как вы сказали, а властитель душ и местечек, как говорила я.
-- Успокойтесь, сеньора донья Клара, -- сказала тогда Доротеа, целуя ее
тысячу раз. -- Успокойтесь, говорю я, и ждите, когда настанет утро, и тогда
я с помощью божьей надеюсь так устроить ваши дела, что они будут доведены до
счастливого конца, вполне заслуженного добрым их началом.
-- Ах, сеньора! -- сказала донья Клара. -- На какой счастливый конец
можно надеяться, если отец его до того знатен и богат, что не взял бы меня,
пожалуй, и в служанки к своему сыну, а не то что в жены. Выйти же замуж
тайком от моего отца -- этого я не сделаю ни за что на свете и желала бы
только одного: чтобы тот молодой человек вернулся к себе и оставил меня.
Быть может, не видя его, и на таком большом расстоянии, какое поставит между
нами путешествие, которое мы предприняли, теперешнее горе мое облегчится,
хотя я знаю, что это придуманное мною лекарство, о котором я говорю, не
очень-то мне поможет. Не понимаю, что за дьявол это устроил или каким путем
вошла в меня эта моя любовь, раз я еще так молода и он такой юный,-- потому
что в самом деле, я думаю, мы с ним одного возраста, а мне еще нет
шестнадцати лет и отец говорит, что они исполнятся лишь в День святого
Михаила.
Доротеа не могла удержаться от смеха, слушая, как совсем по-детски
говорила донья Клара, и она сказала ей:
-- Давайте уснем, сеньора, на короткое время, которое, как я думаю, еще
осталось от ночи, а Бог пошлет нам утро, и тогда все обернется хорошо, или
же руки мои окажутся плохи.
После этих слов обе заснули, и на постоялом дворе воцарилась глубокая
тишина. Не спали только хозяйская дочь и Мариторнес, ее служанка, так как
они знали о причудах, которыми грешил Дон Кихот, а также и о том, что он
стоит на страже у ворот постоялого двора верхом на коне и во всем
вооружении; и они сговорились сыграть с ним какую-нибудь шутку или, по
крайней мере, хоть несколько развлечься, слушая его нелепости.
Дело в том, что на постоялом дворе не было ни одного окна, которое
выходило бы в поле, исключая отверстия в чердачном помещении для соломы, из
которого ее выбрасывали. У этого-то отверстия встали две полудевы {Semi
doncellas -- в том смысле, что из двух одна лишь девушка, так как Мариторнес
ею не была.} и увидели, что Дон Кихот сидит верхом на лошади, опираясь на
свое копье и испуская время от времени столь глубокие и тяжкие вздохи, что,
казалось, с каждым из них у него разрывается сердце. Одновременно с этим они
услышали, что он говорит нежным, мягким и страстным голосом:
-- О моя сеньора, Дульсинея Тобосская! Венец всякой красоты, цвет и
блеск ума, вместилище изящества, сокровищница добродетели, словом,
олицетворение всего самого достойного, благородного и восхитительного, что
лишь существует на свете! Чем занята теперь милость твоя? Не обращены ли,
быть может, твои мысли на плененного тобою рыцаря, который, только чтобы
служить тебе, подвергается по доброй своей воле столь великим опасностям?
Дай мне весть о ней, о ты, светящая с тремя лицами! {Луна.} Быть может, ты с
завистью смотришь на ее лицо в то время как, прогуливаясь по какой-нибудь
галерее своих роскошных дворцов или прислонившись грудью к одному из
балконов, она обдумывает, каким образом ей, не роняя своей добродетели и
своего величия, облегчить муку, которую из-за нее терпит мое наболевшее
сердце, какою радостью уврачует она мои страданья, заменит спокойствием
тревоги мои, словом, как вернет меня от смерти к жизни и какую награду даст
мне за верную службу ей? И ты, солнце, которое, должно быть, уже торопишься
седлать своих коней, чтобы рано встать и пойти взглянуть на мою
повелительницу, умоляю тебя, лишь только ты ее увидишь, передай ей мой
привет! Но, увидав ее и передав мой привет, берегись поцеловать ее в лицо,
иначе я приревную тебя к ней сильнее, чем ты ревновал ту быстроногую и
неблагодарную {Т. е. Дафну -- по мифологии.}, что заставила тебя так много
бегать и потеть в долинах Фессалии или на берегах Пенея, уж не помню, где ты
тогда бегал, сгорая от любви и ревности.
Дон Кихот дошел до этого места своего столь грустного
разглагольствования, когда хозяйская дочь тихонько позвала его и шепнула:
-- Сеньор мой, подойдите-ка сюда, если вашей милости будет угодно.
На этот голос и обращение Дон Кихот повернул голову и при свете луны,
сиявшей в то время во всем своем блеске, увидел, что его зовут из отверстия
чердачного помещения, но отверстие это показалось ему окном, да еще с
золоченой решеткой, как этому и следовало быть в столь богатом замке, каким
ему казался постоялый двор. В ту же минуту его безумному воображению
представилось, что снова, как и в прошлый раз, красивая девушка, дочь
владетельницы замка, побежденная любовью, старается увлечь его, и с этой
мыслью -- чтобы не показаться невежливым и неблагодарным -- он повернул
Росинанта, подъехал ближе к чердачному отверстию и, лишь только увидел двух
девушек, сказал:
-- Жалею вас, прекрасная сеньора, что вы любовные свои помыслы обратили
туда, где невозможно вам найти такой ответ, какой заслуживали бы великие
ваши достоинства и ваше изящество. Но вы не должны винить в этом
злополучного странствующего рыцаря, которого любовь лишила возможности
отдать свое расположение другой, кроме той, которая с первого же мгновения,
как только его глаза увидели ее, сделалась неограниченной владычицей его
души. Простите же мне, благородная сеньора, удалитесь к себе в комнату и
будьте так добры не обнаруживать мне дальше ваших желаний, чтобы не
заставить меня казаться вам еще более неблагодарным. Если из-за любви,
которую вы ко мне питаете, вы найдете во мне что-либо другое, чем бы я мог
вас удовлетворить, -- только бы это не была ответная любовь, требуйте от
меня всего, и я клянусь сладкой моей отсутствующей неприятельницей
немедленно исполнить вашу просьбу, хотя бы вы просили у меня локон с головы
горгоны Медузы, у которой вместо волос были змеи, или даже солнечные лучи,
собранные в склянку.
-- Моей сеньоре ничего этого не нужно, господин кабальеро, -- сказала
тогда Мариторнес.
-- Что же нужно вашей сеньоре, рассудительная дуэнья? -- спросил Дон
Кихот.
-- Только одну из ваших прекрасных рук, -- ответила Мариторнес, --
чтобы она хоть этим успокоила страстное желание, приведшее ее сюда, к окну,
с такой опасностью для ее чести, так как, если бы отец ее узнал о том, он по
меньшей мере отрезал бы ей ухо.
-- Посмотрел бы я, -- ответил Дон Кихот, -- но пусть он поостережется
это делать, если не желает, чтобы его постиг самый гибельный конец,
когда-либо выпадавший в мире на долю отца за то, что он позволил себе
наложить руку на нежные члены своей влюбленной дочери!
Мариторнес не сомневалась, что Дон Кихот даст руку, которую она у него
просила, и, решив в своем уме, что она сделает с нею, спустилась с чердака и
побежала в конюшню, где взяла недоуздок осла Санчо Пансы и поспешно
вернулась на чердак, как раз в то время, когда Дон Кихот встал ногами на
седло Росинанта, чтобы достать до решетчатого окна, где, как он воображал,
находится раненная им в сердце девушка, и, протягивая ей руку, сказал:
-- Берите, сеньора, эту руку, или, вернее говоря, этот бич всех злодеев
в мире. Берите эту руку, говорю я, к которой не прикасалась еще никакая
женская рука и даже рука той, что владеет всем моим существом. Даю я вам мою
руку не для того, чтобы вы ее целовали, а чтоб посмотрели на сплетение ее
сухожилий, на твердость мускулов, на широту и развитие вен и из всего этого
могли бы вывести заключение, какая сила должна быть в этой руке.
-- Сейчас увидим это, -- сказала Мариторнес и, сделав мертвую петлю на
недоуздке, набросила ее ему на кисть руки и, отойдя от отверстия, привязала
другой конец ремня как можно крепче к засову чердачной двери.
Дон Кихот, почувствовав жесткую веревку вокруг кисти своей руки,
сказал:
-- Ваша милость, вы, кажется, скорее скоблите, чем гладите мою руку. Не
обращайтесь так дурно с нею; не она вина того зла, которое моя воля
причиняет вам. Нехорошо также, что вы на столь маленькую частицу обрушиваете
весь свой гнев. Подумайте и о том, что, кто истинно любит, не мстит так
жестоко.
Но уже некому было слушать все эти укоры Дон Кихота, потому что, лишь
только Мариторнес привязала его, она и другая девушка убежали, умирая со
смеху, оставив его привязанным таким образом, что он никак не мог
освободиться. Стоял он, как было сказано, на спине Росинанта, просунув всю
руку в отверстие помещения для соломы, с кистью руки крепко привязанной к
засову дверей, чувствуя величайший страх и тревогу при мысли, что, если
Росинант двинется в ту или другую сторону, ему придется повиснуть на руке;
итак, Дон Кихот не смел шевельнуться, хотя терпеливый и спокойный нрав
Росинанта давал право надеяться на то, что он простоит не двигаясь целое
столетие. Когда же рыцарь увидел, что он привязан и дамы уже ушли, он
вообразил, что все это дело волшебства, как и в прошлый раз, когда в том же
самом замке его избил очарованный мавр -- погонщик мулов; и он про себя
проклинал свое неразумие и неосторожность, так как, зная, что ему пришлось
плохо в этом замке в первый раз, он решился заехать сюда вторично, между тем
как у странствующих рыцарей правило: если они взялись за приключение и оно
им не удалось, считать это знаком того, что оно предназначено не для них, а
для других рыцарей и им нет надобности браться за него вторично. Тем не
менее Дон Кихот тянул свою руку, чтобы посмотреть, нельзя ли ее освободить,
но она была так хорошо привязана, что все его попытки оказались тщетными.
Правда и то, что он тянул осторожно из опасения, чтобы Росинант не двинулся,
и хотя ему очень хотелось опуститься и сесть в седло, но волей-неволей он
должен был продолжать стоять или оторвать себе руку. То он мечтал для себя о
мече Амадиса, против которого были бессильны всякие очарования; то проклинал
злую свою судьбу; то разрисовывал себе в ярких красках утрату, которую
потерпит мир от отсутствия его за то время, пока он очарован, а что он им
был, в этом он нимало не сомневался. То он снова вспоминал о возлюбленной
своей Дульсинее Тобосской, то он звал доброго своего оруженосца Санчо Пансу,
который, погруженный в сон, растянувшись на вьючном седле своего осла, не
помнил в ту минуту и о матери, которая его родила; то он призывал себе на
помощь волшебников Лиргандео и Алкифа; то молил о поддержке добрую свою
приятельницу Урганду, и, наконец, его застало утро в таком отчаянии и упадке
духа, что он ревел, как бык, потеряв надежду избавиться даже и днем от своей
муки, потому что считал ее вечной, а себя очарованным, в чем еще больше
убеждало его то, что Росинант во все время даже не шевельнулся. Он был
уверен, что ему и его лошади придется, не пивши, не евши и не спавши,
простоять таким образом до тех пор, пока не минует это дурное влияние
созвездий или же пока другой, более мудрый волшебник не снимет с них
очарования.
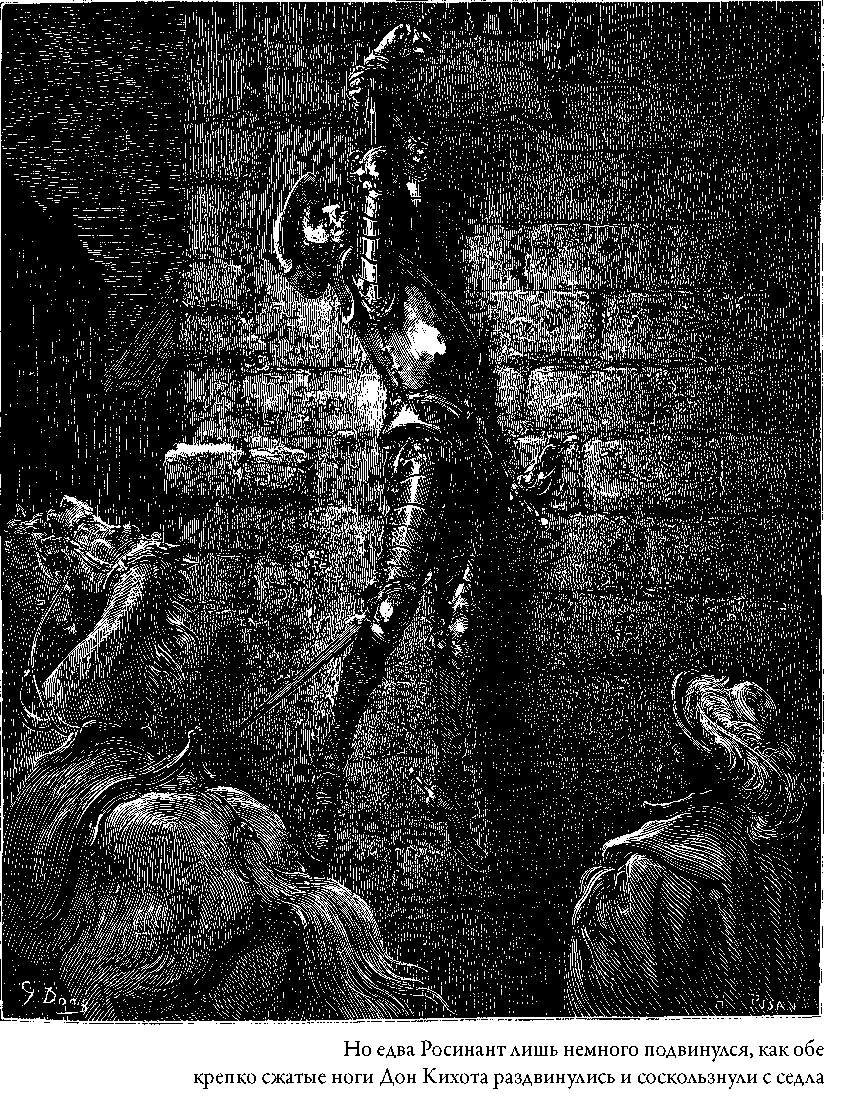 Но он весьма ошибся в своем предположении, потому что едва стало
рассветать, как к постоялому двору подъехало четверо всадников, хорошо
снаряженных и вооруженных, с винтовками на седельной луке. Они стали сильно
стучать в запертые ворота постоялого двора, и Дон Кихот, увидав это со своей
вышки, где он не переставал считать себя стоящим на страже, крикнул громким,
надменным голосом:
-- Рыцари и оруженосцы или кто бы вы ни были! Вы не имеете права
стучать в ворота этого замка, так как достаточно ясно, что в такие часы те,
которые находятся в замке, или спят, или же не имеют обыкновения открывать
ворота крепости прежде, чем солнце не обольет своими лучами всю землю.
Отъезжайте дальше и подождите, когда окончательно рассветет, и тогда увидим,
надо ли или нет открыть вам ворота.
-- Какой, к черту, это замок или какая это крепость, -- сказал один из
всадников, -- чтобы мы должны были соблюдать такие церемонии? Если вы хозяин
постоялого двора, то велите открыть нам. Мы проезжие и желаем только одного
-- покормить наших лошадей и ехать дальше, так как мы торопимся.
-- Неужели вы, рыцари, полагаете, что я похож на хозяина постоялого
двора? -- спросил Дон Кихот.
-- Не знаю, на кого вы похожи, но знаю, что вы говорите вздор, называя
этот постоялый двор замком.
-- Это замок, -- сказал Дон Кихот,-- и один из лучших во всей
провинции, и в этом замке находятся люди, которые держали скипетр в руках и
имели корону на голове.
-- Лучше было бы наоборот, -- сказал путешественник, -- скипетром по
голове и корона на руке {Он намекает на преступников, которым выжигали на
руке клеймо в виде короны.}. Должно быть -- если на то пошло дело, -- здесь
остановилась какая-нибудь труппа актеров, а у них часто бывают эти короны и
скипетры, о которых вы говорите, потому что на таком маленьком постоялом
дворе, где к тому же царит еще полная тишина, как здесь, я не поверю, чтобы
останавливались люди, достойные короны и скипетра.
-- Вы мало знаете свет, -- возразил Дон Кихот, -- так как вам ничего
неизвестно о приключениях, обыкновенно случающихся со странствующими
рыцарями.
Спутникам того, который задавал вопросы Дон Кихоту, прискучил их
разговор; поэтому они снова стали стучать с величайшей яростью, так что все
бывшие на постоялом дворе проснулись, а также и хозяин, который встал, чтобы
пойти узнать, кто там стучит.
Между тем случилось, что одно из верховых животных, на которых приехали
четверо стучавшихся в ворота, подошло обнюхать Росинанта, который с
грустно-задумчивым видом и с опущенными ушами держал, не шелохнувшись, на
своей спине вытянувшегося во весь рост господина своего. Но так как Росинант
хотя и казался из дерева, а все же был из плоти и костей, у него не хватило
сил оставаться непреклонным, и, в свою очередь, он стал обнюхивать того, кто
подошел к нему с этой лаской. Но едва он лишь немного подвинулся, как обе
крепко сжатые ноги Дон Кихота раздвинулись и соскользнули с седла, и он упал
бы на землю, если б не повис на руке. А это причинило ему такую боль, что он
подумал: или ему режут кисть, или же отрывают всю руку до плеча, потому что,
хотя он и повис так близко от земли, что чуть ли не касался ее кончиками
ног, но это обстоятельство служило лишь к ухудшению его положения, так как,
чувствуя, как мало ему остается, чтобы встать всей ступней на землю, он
напрягался и вытягивался изо всех сил, чтобы достать до земли, подобно тем,
которые подвергаются пытке гарруча {Garrucha -- одна из судебных пыток в
Испании, состоявшая в том, что обвиняемый подвешивался на ремнях на одной
руке, иногда на одной ноге, очень близко к земле и оставался в таком
положении столько времени, сколько назначал суд, пока от него не добивались
признания.}: поставленные так, будто касаются земли, они, не касаясь ее в
действительности, сами увеличивают свои страдания, так как напрягают все
силы вытянуться, обманутые льстящей им надеждой, что еще немного, -- и они
достанут до земли.
Но он весьма ошибся в своем предположении, потому что едва стало
рассветать, как к постоялому двору подъехало четверо всадников, хорошо
снаряженных и вооруженных, с винтовками на седельной луке. Они стали сильно
стучать в запертые ворота постоялого двора, и Дон Кихот, увидав это со своей
вышки, где он не переставал считать себя стоящим на страже, крикнул громким,
надменным голосом:
-- Рыцари и оруженосцы или кто бы вы ни были! Вы не имеете права
стучать в ворота этого замка, так как достаточно ясно, что в такие часы те,
которые находятся в замке, или спят, или же не имеют обыкновения открывать
ворота крепости прежде, чем солнце не обольет своими лучами всю землю.
Отъезжайте дальше и подождите, когда окончательно рассветет, и тогда увидим,
надо ли или нет открыть вам ворота.
-- Какой, к черту, это замок или какая это крепость, -- сказал один из
всадников, -- чтобы мы должны были соблюдать такие церемонии? Если вы хозяин
постоялого двора, то велите открыть нам. Мы проезжие и желаем только одного
-- покормить наших лошадей и ехать дальше, так как мы торопимся.
-- Неужели вы, рыцари, полагаете, что я похож на хозяина постоялого
двора? -- спросил Дон Кихот.
-- Не знаю, на кого вы похожи, но знаю, что вы говорите вздор, называя
этот постоялый двор замком.
-- Это замок, -- сказал Дон Кихот,-- и один из лучших во всей
провинции, и в этом замке находятся люди, которые держали скипетр в руках и
имели корону на голове.
-- Лучше было бы наоборот, -- сказал путешественник, -- скипетром по
голове и корона на руке {Он намекает на преступников, которым выжигали на
руке клеймо в виде короны.}. Должно быть -- если на то пошло дело, -- здесь
остановилась какая-нибудь труппа актеров, а у них часто бывают эти короны и
скипетры, о которых вы говорите, потому что на таком маленьком постоялом
дворе, где к тому же царит еще полная тишина, как здесь, я не поверю, чтобы
останавливались люди, достойные короны и скипетра.
-- Вы мало знаете свет, -- возразил Дон Кихот, -- так как вам ничего
неизвестно о приключениях, обыкновенно случающихся со странствующими
рыцарями.
Спутникам того, который задавал вопросы Дон Кихоту, прискучил их
разговор; поэтому они снова стали стучать с величайшей яростью, так что все
бывшие на постоялом дворе проснулись, а также и хозяин, который встал, чтобы
пойти узнать, кто там стучит.
Между тем случилось, что одно из верховых животных, на которых приехали
четверо стучавшихся в ворота, подошло обнюхать Росинанта, который с
грустно-задумчивым видом и с опущенными ушами держал, не шелохнувшись, на
своей спине вытянувшегося во весь рост господина своего. Но так как Росинант
хотя и казался из дерева, а все же был из плоти и костей, у него не хватило
сил оставаться непреклонным, и, в свою очередь, он стал обнюхивать того, кто
подошел к нему с этой лаской. Но едва он лишь немного подвинулся, как обе
крепко сжатые ноги Дон Кихота раздвинулись и соскользнули с седла, и он упал
бы на землю, если б не повис на руке. А это причинило ему такую боль, что он
подумал: или ему режут кисть, или же отрывают всю руку до плеча, потому что,
хотя он и повис так близко от земли, что чуть ли не касался ее кончиками
ног, но это обстоятельство служило лишь к ухудшению его положения, так как,
чувствуя, как мало ему остается, чтобы встать всей ступней на землю, он
напрягался и вытягивался изо всех сил, чтобы достать до земли, подобно тем,
которые подвергаются пытке гарруча {Garrucha -- одна из судебных пыток в
Испании, состоявшая в том, что обвиняемый подвешивался на ремнях на одной
руке, иногда на одной ноге, очень близко к земле и оставался в таком
положении столько времени, сколько назначал суд, пока от него не добивались
признания.}: поставленные так, будто касаются земли, они, не касаясь ее в
действительности, сами увеличивают свои страдания, так как напрягают все
силы вытянуться, обманутые льстящей им надеждой, что еще немного, -- и они
достанут до земли.

 Действительно, Дон Кихот поднял такой крик, что хозяин, поспешно открыв
ворота постоялого двора, в испуге выбежал посмотреть, кто это так громко
кричит, и бывшие за воротами сделали то же самое. Мариторнес, тоже
проснувшаяся от этих криков, догадалась, в чем дело, бросилась на чердак,
где хранилась солома и так, что никто этого не заметил, отвязала недоуздок,
державший Дон Кихота, который тотчас же и свалился на землю на глазах
хозяина и приезжих. Все подбежали к нему спросить, что такое с ним, отчего
он так громко кричал. А Дон Кихот, не говоря ни слова, снял веревку с кисти
руки и, встав на ноги, взобрался на Росинанта, прикрылся щитом, взял
наперевес копье и, отъехав на довольно далекое расстояние, вернулся коротким
галопом, говоря:
-- Всякого, кто бы ни сказал, что я по справедливости был очарован --
лишь бы сеньора принцесса Микомикона дала мне на то разрешение, -- я назову
лжецом, потребую к ответу и вызову на поединок!
Вновь прибывшие путешественники были изумлены словами Дон Кихота, но
хозяин вывел их из этого изумления, объяснив им, кто такой Дон Кихот и что
незачем обращать на него внимание, так как он не в своем уме. Приезжие
спросили хозяина, не заходил ли случайно сюда юноша лет пятнадцати, одетый
погонщиком мулов, с такими и такими-то приметами, и описали все приметы
влюбленного в донью Клару. В ответ хозяин сказал, что на постоялом дворе у
него теперь очень много народу, поэтому он не помнит, видел он или нет того,
о ком они спрашивают; а один из верховых, увидав карету, в которой приехал
судья, сказал:
-- Он непременно должен быть здесь, потому что вот карета, за которой,
как нам сообщали, он идет вслед. Один из нас пусть останется здесь, у ворот,
а остальные войдут на постоялый двор и поищут его. И даже было бы хорошо,
если б один из нас обошел кругом весь постоялый двор, чтоб он не мог уйти со
двора через забор.
-- Давайте так и сделаем, -- сказал один из приезжих. И двое вошли во
двор, один остался у дверей, а четвертый стал ходить вокруг постоялого
двора. Все это видел хозяин, но не мог понять, что означают эти предпринятые
ими меры, хотя он и подумал, не ищут ли того юношу, приметы которого они ему
сообщили.
Между тем уже совсем рассвело, и поэтому, а также из-за шума,
произведенного Дон Кихотом, все проснулись и стали подыматься, особенно же
донья Клара и Доротеа, так как -- одна от волнения, что ее возлюбленный так
близко, а другая из желанья посмотреть на него -- очень плохо спали эту
ночь. Дон Кихот, видя, что никто из четырех приезжих не обращает на него
внимания и не отвечает на сделанный им вызов, изнемогал и неистовствовал от
досады и бешенства, и, если б он мог найти в уставе своего рыцарства, что
странствующему рыцарю дозволяется начать и предпринять другое приключение,
когда он дал слово и обещание не предпринимать ничего, пока не доведет до
конца раньше обещанного, он напал бы на всех четырех и против их воли
заставил бы их дать ему ответ. Но так как он считал несоответствующим и
неприличным для себя начинать новое предприятие, прежде чем он не вернет
Микомиконе ее королевства, ему не оставалось ничего другого, как только
молчать и спокойно ждать, чем кончатся поиски тех приезжих. Один из них
нашел юношу, которого искал, крепко спавшего рядом с погонщиком мулов и
нимало не воображавшего, что его могут искать и тем менее еще -- найти.
Человек тот схватил его за руку, говоря:
-- Несомненно, сеньор дон Люис, одежда, которая на вас, подходит как
нельзя больше к вашему званию, и постель, на которой я вас вижу, -- к той
заботливости, с какою мать ваша воспитала вас.
Юноша, протирая себе заспанные глаза, пристально взглянул на того, кто
держал его, и скоро признал в нем слугу своего отца, и это так сильно его
испугало, что он долгое время не мог или не хотел выговорить ни слова, а
слуга продолжал:
-- Теперь вам остается одно лишь, сеньор дон Люис: взять в руки
терпенье и вместе с нами отправиться домой, если только ваша милость не
желает, чтобы ваш отец и мой господин отправился на тот свет, так как ничего
другого нельзя ждать от того горя, которое причинило ему ваше отсутствие.
-- Но как же отец мой узнал, -- спросил дон Люис, -- что я ушел по этой
дороге и в этой одежде?
-- Студент, которому вы рассказали о своих намерениях, -- ответил
слуга,-- сообщил о них вашему отцу. Сделал он это из чувства сострадания к
горю нашего господина, когда вас не могли нигде найти. Итак, отец ваш послал
за вами четырех верховых, и вот мы все здесь, к вашим услугам, более
довольные, чем можно вообразить себе, успешным выполнением поручения, так
как мы, вернувшись домой, приведем вас на глаза тому, кто так сильно вас
любит.
-- Случится лишь то, что я пожелаю или что будет угодно небу, --
ответил дон Люис.
-- Что можете вы пожелать или что может быть угодно небу, за
исключением того, что вы согласитесь вернуться домой, -- так как ничто
другое немыслимо. Погонщик мулов, рядом с которым лежал дон Люис, слышал
весь этот разговор и, встав, пошел сообщить обо всем, что случилось, дону
Фернандо, Карденио и остальным, а они уже были одеты. Он сообщил им также,
что тот человек называет юношу доном, и передал весь разговор, происшедший
между ними, и то, что слуга настаивает, чтобы он вернулся домой к отцу, а
юноша отказывается. Все это вместе с тем, что им уже было известно о нем,
именно прекрасный голос, которым небо одарило его, вызвало в них сильное
желание подробнее узнать, кто он такой, а также оказать ему поддержку, если
б против него захотели употребить силу. Поэтому они отправились туда, где
молодой человек еще разговаривал и спорил со своим слугою. Между тем вышла
из комнаты Доротеа, а за ней сильно смущенная донья Клара. Отозвав в сторону
Карденио, Доротеа в кратких словах рассказала ему историю певца и доньи
Клары, а он сообщил ей о том, что случилось: о приезде слуг, посланных отцом
юноши разыскивать его. Сказал он это не так тихо, чтоб донья Клара не могла
услышать его слов, и они так взволновали ее, что, если б Доротеа не успела
поддержать ее, она упала бы прямо на пол. Карденио просил Доротею вернуться
с Кларой к себе в комнату, а он постарается все уладить; они так и сделали.
Все четверо слуг, посланных отыскивать Дона Люиса, вошли уже теперь на
постоялый двор и, окружив юношу, настаивали, чтобы он тотчас же, не медля ни
минуты, вернулся домой утешить своего отца. Но он ответил, что никоим
образом не может вернуться, пока не покончит с одним делом, от которого
зависит его честь, жизнь и душа. Слуги стали теснить его, говоря, что ни за
что не вернутся домой без него
и отвезут его туда по доброй его воле или силой.
-- Этого вы не сделаете, -- возразил дон Люис, -- если не хотите увезти
меня мертвым, хотя, как бы вы ни увезли меня, все равно вы лишите меня
жизни.
В это время подошли уже на ссору большинство находившихся на постоялом
дворе, в особенности же Карденио, дон Фернандо, его товарищи, судья,
священник, цирюльник и Дон Кихот, которому казалось, что нет больше нужды
стеречь замок. Карденио, знавший уже историю юноши, спросил тех, которые
желали увезти его, что побуждает их увозить с собой этого молодого человека
против его желания.
-- Нас побуждает к тому, -- ответил один из четырех, -- желание вернуть
жизнь его отцу, которому -- вследствие отсутствия этого кабальеро -- грозит
опасность потерять ее.
На это дон Люис сказал:
-- Считаю излишним, чтобы здесь распространялись о моих делах; я
свободен и вернусь, если пожелаю, а если нет,-- никто из вас не может
принудить меня к тому силой.
-- Вашу милость принудит к тому благоразумие, -- сказал слуга, -- если
же у вашей милости его недостаточно, у нас хватит его настолько, чтобы
исполнить то, для чего мы сюда приехали, и что велит нам наш долг.
-- Давайте исследуем это дело основательно, -- сказал судья.
Но слуга, знавший его, потому что он был их соседом по дому, ответил:
-- Разве, милость ваша сеньор оидор, вы не узнаете этого кабальеро,
сына вашего соседа, бежавшего из дома своего отца в одежде, столь
неприличествующей его званию, как вы это сами можете видеть?
Судья взглянул тогда на юношу внимательнее и, узнав, обнял его и
сказал:
-- Что это за ребяческие выходки, дон Люис? Или же какие столь важные
причины могли заставить вас путешествовать таким образом и в платье, столь
мало подходящем к вашему общественному положению?
Слезы выступили на глазах у юноши, и он не мог ответить ни слова. Судья
велел четырем слугам подождать, сказав им, что все устроится хорошо, и, взяв
за руку дона Люиса, отошел с ним в сторону и спросил его, почему он
предпринял путешествие сюда.
В то время как судья предлагал ему этот и другие вопросы, у ворот
постоялого двора раздались громкие крики, а причина их была та, что двое
приезжих, которые провели ночь на постоялом дворе, видя, что все заняты
желанием узнать, что такое ищут четверо слуг, возымели намерение уйти, не
заплатив за ночлег. Однако хозяин, следивший с гораздо большим вниманием за
своими делами, чем за чужими, задержал их, когда они выходили из ворот,
потребовал с них платы за постой и поносил их нечестное намерение такими
словами, что побудил их ответить ему кулаками; и они принялись за это дело
так усердно, что бедный хозяин был вынужден закричать и просить о помощи.
Хозяйка и ее дочь не видели никого незанятого, кто мог бы им помочь, кроме
Дон Кихота, и потому хозяйская дочь сказала ему:
-- Помогите, ваша милость, сеньор рыцарь, доблестью, дарованной вам
Богом, моему бедному отцу, которого двое злых людей молотят, как сноп хлеба.
На это Дон Кихот очень хладнокровно и с большим спокойствием ответил:
-- Прекрасная девушка, ваша просьба не может быть в настоящее время
принята во внимание, потому что мне воспрещено пускаться в новые
приключения, пока я не доведу до конца одно, исполнить которое я обязался
данным мною словом. Но, чтобы услужить вам, я смогу сделать то, что сейчас
скажу: бегите и передайте вашему отцу, чтобы он выдерживал это сражение
насколько возможно и ни в каком случае не давал бы себя победить, пока я не
испрошу разрешения у принцессы Микомиконы помочь ему в его затруднительном
положении, и, если она даст мне это разрешение, будьте уверены, что я выведу
его из беды.
-- Ах, грешная я! -- воскликнула Мариторнес, стоявшая тут же. Прежде
чем ваша милость получит разрешение, о котором вы говорите, господин мой
окажется уже на том свете!
-- Дозвольте мне только, сеньора, получить разрешение, о котором я
говорю, -- ответил Дон Кихот, -- а когда я его получу, не столь важно, если
ваш господин и окажется на том свете, потому что я и оттуда достану его
наперекор всему миру, если б он воспротивился тому, или же по меньшей мере я
так отомщу за вас тем, которые отправили его туда, что вы останетесь вполне
довольны.
Не сказав больше ни слова, он подошел к Доротее, опустился перед нею на
колени и попросил ее в выражениях рыцарских и отважных, не угодно ли будет
ее величию дать ему разрешение оказать помощь и поддержку начальнику этой
крепости, попавшему в великую беду. Принцесса охотно дала ему просимое
разрешение, и он тотчас же, продев щит на руку, взялся за меч и поспешил к
воротам, где двое постояльцев все еще наносили побои хозяину. Но лишь только
Дон Кихот дошел туда, он вдруг остановился и стоял в недоумении, хотя
Мариторнес и хозяйка спрашивали, отчего он медлит и пусть же скорей окажет
помощь их господину и мужу.
-- Я медлю оттого, -- сказал Дон Кихот, -- что мне не дозволено
обнажать меч против оруженосного люда; но позовите сюда моего оруженосца
Санчо, -- ему подобает и приличествует эта защита и мщение.
Это происходило у ворот постоялого двора, где пинки и кулачные удары
так и сыпались, и все в ущерб хозяину и к величайшему гневу Мариторнес,
хозяйки и ее дочери, приходивших в отчаяние при виде трусости Дон Кихота и
печального положения, в котором оказался их муж, господин и отец.
Но оставим их там, потому что найдется, кто ему поможет, а нет -- пусть
молчит и терпит тот, кто отваживается на большее, чем позволяют ему его
силы, и отойдем на пятьдесят шагов назад послушать, что ответил дон Люис
судье, когда тот отвел его в сторону, спрашивая о причине его путешествия
пешком и в столь жалкой одежде. На это юноша схватил его руки и крепко сжал,
словно в знак того, что сильное горе давит ему сердце, и, проливая обильные
слезы проговорил:
-- Сеньор мой, я могу сказать вам только одно: с той минуты, когда по
воле неба и благодаря нашему соседству я увидел сеньору донью Клару, вашу
дочь и мою повелительницу, с той же минуты она сделалась неограниченной
властительницей над моей волей, и если ваша воля, истинный отец и сеньор
мой, не воспротивится тому, сегодня же она сделается моей супругой. Для нее
покинул я дом отца моего, для нее надел я это платье, чтобы следовать за нею
всюду, как стрела направляется к своей цели или как мореход стремится за
путеводной звездой. Она не знает о моих желаниях более того, что могли
поведать ей иногда издали глаза мои, полные слез. Вам, сеньор, известно о
богатстве и знатности моих родителей и то, что я единственный их наследник.
Если вы думаете, что это достаточные преимущества, чтобы вы могли решиться
вполне осчастливить меня, то примите меня тотчас же своим сыном, потому что,
хотя бы даже мой отец, побуждаемый иными намерениями, отнесся бы
неблагосклонно к тому счастию, которое я сумел себе отыскать, всемогущее
время обладает большею властью переделывать и изменять события, чем
человеческая воля.
Сказав это, влюбленный юноша умолк, а судья, слушавший его, был
поражен, смущен и удивлен как остроумным способом, каким дон Люис открыл ему
свои чувства, так и тем положением, в котором он сам очутился, не зная, как
ему поступить в столь неожиданных для него обстоятельствах. Поэтому он
ничего другого не ответил, как только просил его пока успокоиться и убедить
своих слуг не увозить его сегодня, чтобы иметь время хорошенько обсудить,
что в интересах всех было бы лучше всего сделать. Дон Люис поцеловал ему
руки насильно и даже оросил их слезами, что могло бы смягчить и мраморное
сердце, а не только сердце судьи, который, как умный человек, сразу понял,
насколько этот брак был бы хорош для его дочери, хотя он и желал бы, если б
оказалось возможным, осуществить его с согласия отца дона-Люиса, а этот
последний, как он знал, имел в виду доставить сыну высокое общественное
положение.
Между тем двое проезжих уже помирились с хозяином, так как они скорее
благодаря увещеваниям и добрым словам Дон Кихота, чем вследствие угроз,
заплатили хозяину все, что он требовал от них. Слуги дона Люиса ждали, чем
кончится разговор его с судьей и к какому решению придет молодой их
господин, как вдруг дьявол, который никогда не спит, повел дело таким
образом, что в это самое время на постоялый двор зашел цирюльник, у которого
Дон Кихот отнял шлем Мамбрино, а Санчо Панса -- сбрую его осла, обменяв ее
на сбрую своего Серого. В то время как цирюльник отводил осла своего в
конюшню, он здесь увидел Санчо Пансу, чинившего вьючное седло. Лишь только
он увидел это седло, тотчас же он узнал его и отважно бросился на Санчо,
говоря:
-- А! Дон вор, попались вы мне в руки! Давайте-ка сюда мой таз и мое
вьючное седло со всей сбруей, которую вы у меня украли!
Санчо, видя, что на него так неожиданно напали, и услыхав обращенные к
нему бранные слова, одной рукой схватился за седло, а другой нанес
цирюльнику такой удар, что кровь потекла у него изо рта. Но, несмотря на
это, цирюльник все же не выпустил из рук свою добычу и, крепко держа седло,
закричал таким громким голосом, что все бывшие на постоялом дворе прибежали
на этот шум и ссору.
-- Сюда! Во имя короля и правосудия! -- кричал цирюльник. -- Я желаю
вернуть себе свою собственность, а этот вор, этот грабитель на больших
дорогах хочет убить меня!
-- Ты лжешь, -- ответил Санчо, -- я не грабитель на больших дорогах,
потому что мой господин, Дон Кихот, взял добычу эту в честном бою.
Дон Кихот, присутствовавший тут же, был очень доволен, видя, как хорошо
защищается и нападает его оруженосец, и с этого времени и впредь он стал
считать его человеком храбрым и решил в сердце своем, при первом же
представившемся случае посвятить его в рыцари, так как ему казалось, что он
не осрамит рыцарское звание. В числе остальных доводов в свою защиту
цирюльник во время ссоры, между прочим, сказал:
-- Сеньоры, это вьючное седло так же несомненно мое, как и смерть,
должником которой я состою перед Богом, и я знаю этот вьюк так хорошо, как
если бы я сам его родил, и вот и осел мой в конюшне, который не даст мне
солгать. А не верите -- прикиньте к нему седло, и если оно не придется как
вылитое, пусть я буду подлецом на всю жизнь. И еще вот что: в тот же самый
день, когда у меня отняли вьюк, у меня отняли также и новый медный таз, ни
разу не бывший в употреблении и стоивший добрых полчервонца.
Тут Дон Кихот не мог дольше сдержаться, чтобы не ответить, и, встав
между двумя спорившими и разделив их, положил седло на землю, чтобы все
могли видеть его, пока не выяснится истина, и сказал:
-- Все вы, милости ваши, видите несомненное и очевидное заблуждение, в
которое впал этот добрый оруженосец, так как он называет тазом то, что было,
есть и будет шлемом Мамбрино, который я у него отнял в честном бою и
обладателем которого сделался законным и дозволенным путем. Что же касается
вьючного седла, я в это не вмешиваюсь; и относительно его могу сказать
только то, что мой оруженосец Санчо просил у меня позволения снять сбрую с
коня побежденного этого труса и украсить им своего коня. Я дал ему просимое
разрешение, и он взял сбрую. Что же касается того, что сбруя превратилась во
вьючное седло, не могу указать другой причины, кроме столь обычной, а
именно: такого рода превращения часто случаются в делах рыцарства. А для
подтверждения сказанного беги, Санчо, сын, и принеси сюда шлем, который
добрый этот человек считает тазом.
-- Ей-богу, сеньор, -- сказал Санчо,-- если у нас нет другого
доказательства нашего мнения, чем то, на которое указывает ваша милость, то
шлем Малино {Санчо говорит Малино вместо Мамбрино.}[ ]такой же таз, как и
сбруя этого доброго человека -- вьючное седло.
-- Делай то, что я тебе приказываю, -- ответил Дон Кихот, ведь не все
же вещи в этом замке находятся во власти волшебства.
Санчо пошел за тазом, принес его, и, как только Дон Кихот его увидел,
он взял таз в руки и сказал:
-- Посмотрите, ваши милости, с какими глазами мог этот оруженосец
уверять, будто это вот таз для бритья, а не шлем, как я говорил? Клянусь
рыцарским орденом, к которому принадлежу: это тот самый шлем, который я у
него отнял, и я ничего к нему не прибавлял и не убавлял.
-- В этом не может быть сомнения,-- сказал Санчо, -- так как с тех пор,
что мой господин завоевал этот шлем, он надевал его в одном лишь сражении,
когда освободил несчастных колодников, и не будь тогда у него этого
таза-шлема, ему пришлось бы плохо, потому что в той схватке не было
недостатка в бросании каменьями.
Действительно, Дон Кихот поднял такой крик, что хозяин, поспешно открыв
ворота постоялого двора, в испуге выбежал посмотреть, кто это так громко
кричит, и бывшие за воротами сделали то же самое. Мариторнес, тоже
проснувшаяся от этих криков, догадалась, в чем дело, бросилась на чердак,
где хранилась солома и так, что никто этого не заметил, отвязала недоуздок,
державший Дон Кихота, который тотчас же и свалился на землю на глазах
хозяина и приезжих. Все подбежали к нему спросить, что такое с ним, отчего
он так громко кричал. А Дон Кихот, не говоря ни слова, снял веревку с кисти
руки и, встав на ноги, взобрался на Росинанта, прикрылся щитом, взял
наперевес копье и, отъехав на довольно далекое расстояние, вернулся коротким
галопом, говоря:
-- Всякого, кто бы ни сказал, что я по справедливости был очарован --
лишь бы сеньора принцесса Микомикона дала мне на то разрешение, -- я назову
лжецом, потребую к ответу и вызову на поединок!
Вновь прибывшие путешественники были изумлены словами Дон Кихота, но
хозяин вывел их из этого изумления, объяснив им, кто такой Дон Кихот и что
незачем обращать на него внимание, так как он не в своем уме. Приезжие
спросили хозяина, не заходил ли случайно сюда юноша лет пятнадцати, одетый
погонщиком мулов, с такими и такими-то приметами, и описали все приметы
влюбленного в донью Клару. В ответ хозяин сказал, что на постоялом дворе у
него теперь очень много народу, поэтому он не помнит, видел он или нет того,
о ком они спрашивают; а один из верховых, увидав карету, в которой приехал
судья, сказал:
-- Он непременно должен быть здесь, потому что вот карета, за которой,
как нам сообщали, он идет вслед. Один из нас пусть останется здесь, у ворот,
а остальные войдут на постоялый двор и поищут его. И даже было бы хорошо,
если б один из нас обошел кругом весь постоялый двор, чтоб он не мог уйти со
двора через забор.
-- Давайте так и сделаем, -- сказал один из приезжих. И двое вошли во
двор, один остался у дверей, а четвертый стал ходить вокруг постоялого
двора. Все это видел хозяин, но не мог понять, что означают эти предпринятые
ими меры, хотя он и подумал, не ищут ли того юношу, приметы которого они ему
сообщили.
Между тем уже совсем рассвело, и поэтому, а также из-за шума,
произведенного Дон Кихотом, все проснулись и стали подыматься, особенно же
донья Клара и Доротеа, так как -- одна от волнения, что ее возлюбленный так
близко, а другая из желанья посмотреть на него -- очень плохо спали эту
ночь. Дон Кихот, видя, что никто из четырех приезжих не обращает на него
внимания и не отвечает на сделанный им вызов, изнемогал и неистовствовал от
досады и бешенства, и, если б он мог найти в уставе своего рыцарства, что
странствующему рыцарю дозволяется начать и предпринять другое приключение,
когда он дал слово и обещание не предпринимать ничего, пока не доведет до
конца раньше обещанного, он напал бы на всех четырех и против их воли
заставил бы их дать ему ответ. Но так как он считал несоответствующим и
неприличным для себя начинать новое предприятие, прежде чем он не вернет
Микомиконе ее королевства, ему не оставалось ничего другого, как только
молчать и спокойно ждать, чем кончатся поиски тех приезжих. Один из них
нашел юношу, которого искал, крепко спавшего рядом с погонщиком мулов и
нимало не воображавшего, что его могут искать и тем менее еще -- найти.
Человек тот схватил его за руку, говоря:
-- Несомненно, сеньор дон Люис, одежда, которая на вас, подходит как
нельзя больше к вашему званию, и постель, на которой я вас вижу, -- к той
заботливости, с какою мать ваша воспитала вас.
Юноша, протирая себе заспанные глаза, пристально взглянул на того, кто
держал его, и скоро признал в нем слугу своего отца, и это так сильно его
испугало, что он долгое время не мог или не хотел выговорить ни слова, а
слуга продолжал:
-- Теперь вам остается одно лишь, сеньор дон Люис: взять в руки
терпенье и вместе с нами отправиться домой, если только ваша милость не
желает, чтобы ваш отец и мой господин отправился на тот свет, так как ничего
другого нельзя ждать от того горя, которое причинило ему ваше отсутствие.
-- Но как же отец мой узнал, -- спросил дон Люис, -- что я ушел по этой
дороге и в этой одежде?
-- Студент, которому вы рассказали о своих намерениях, -- ответил
слуга,-- сообщил о них вашему отцу. Сделал он это из чувства сострадания к
горю нашего господина, когда вас не могли нигде найти. Итак, отец ваш послал
за вами четырех верховых, и вот мы все здесь, к вашим услугам, более
довольные, чем можно вообразить себе, успешным выполнением поручения, так
как мы, вернувшись домой, приведем вас на глаза тому, кто так сильно вас
любит.
-- Случится лишь то, что я пожелаю или что будет угодно небу, --
ответил дон Люис.
-- Что можете вы пожелать или что может быть угодно небу, за
исключением того, что вы согласитесь вернуться домой, -- так как ничто
другое немыслимо. Погонщик мулов, рядом с которым лежал дон Люис, слышал
весь этот разговор и, встав, пошел сообщить обо всем, что случилось, дону
Фернандо, Карденио и остальным, а они уже были одеты. Он сообщил им также,
что тот человек называет юношу доном, и передал весь разговор, происшедший
между ними, и то, что слуга настаивает, чтобы он вернулся домой к отцу, а
юноша отказывается. Все это вместе с тем, что им уже было известно о нем,
именно прекрасный голос, которым небо одарило его, вызвало в них сильное
желание подробнее узнать, кто он такой, а также оказать ему поддержку, если
б против него захотели употребить силу. Поэтому они отправились туда, где
молодой человек еще разговаривал и спорил со своим слугою. Между тем вышла
из комнаты Доротеа, а за ней сильно смущенная донья Клара. Отозвав в сторону
Карденио, Доротеа в кратких словах рассказала ему историю певца и доньи
Клары, а он сообщил ей о том, что случилось: о приезде слуг, посланных отцом
юноши разыскивать его. Сказал он это не так тихо, чтоб донья Клара не могла
услышать его слов, и они так взволновали ее, что, если б Доротеа не успела
поддержать ее, она упала бы прямо на пол. Карденио просил Доротею вернуться
с Кларой к себе в комнату, а он постарается все уладить; они так и сделали.
Все четверо слуг, посланных отыскивать Дона Люиса, вошли уже теперь на
постоялый двор и, окружив юношу, настаивали, чтобы он тотчас же, не медля ни
минуты, вернулся домой утешить своего отца. Но он ответил, что никоим
образом не может вернуться, пока не покончит с одним делом, от которого
зависит его честь, жизнь и душа. Слуги стали теснить его, говоря, что ни за
что не вернутся домой без него
и отвезут его туда по доброй его воле или силой.
-- Этого вы не сделаете, -- возразил дон Люис, -- если не хотите увезти
меня мертвым, хотя, как бы вы ни увезли меня, все равно вы лишите меня
жизни.
В это время подошли уже на ссору большинство находившихся на постоялом
дворе, в особенности же Карденио, дон Фернандо, его товарищи, судья,
священник, цирюльник и Дон Кихот, которому казалось, что нет больше нужды
стеречь замок. Карденио, знавший уже историю юноши, спросил тех, которые
желали увезти его, что побуждает их увозить с собой этого молодого человека
против его желания.
-- Нас побуждает к тому, -- ответил один из четырех, -- желание вернуть
жизнь его отцу, которому -- вследствие отсутствия этого кабальеро -- грозит
опасность потерять ее.
На это дон Люис сказал:
-- Считаю излишним, чтобы здесь распространялись о моих делах; я
свободен и вернусь, если пожелаю, а если нет,-- никто из вас не может
принудить меня к тому силой.
-- Вашу милость принудит к тому благоразумие, -- сказал слуга, -- если
же у вашей милости его недостаточно, у нас хватит его настолько, чтобы
исполнить то, для чего мы сюда приехали, и что велит нам наш долг.
-- Давайте исследуем это дело основательно, -- сказал судья.
Но слуга, знавший его, потому что он был их соседом по дому, ответил:
-- Разве, милость ваша сеньор оидор, вы не узнаете этого кабальеро,
сына вашего соседа, бежавшего из дома своего отца в одежде, столь
неприличествующей его званию, как вы это сами можете видеть?
Судья взглянул тогда на юношу внимательнее и, узнав, обнял его и
сказал:
-- Что это за ребяческие выходки, дон Люис? Или же какие столь важные
причины могли заставить вас путешествовать таким образом и в платье, столь
мало подходящем к вашему общественному положению?
Слезы выступили на глазах у юноши, и он не мог ответить ни слова. Судья
велел четырем слугам подождать, сказав им, что все устроится хорошо, и, взяв
за руку дона Люиса, отошел с ним в сторону и спросил его, почему он
предпринял путешествие сюда.
В то время как судья предлагал ему этот и другие вопросы, у ворот
постоялого двора раздались громкие крики, а причина их была та, что двое
приезжих, которые провели ночь на постоялом дворе, видя, что все заняты
желанием узнать, что такое ищут четверо слуг, возымели намерение уйти, не
заплатив за ночлег. Однако хозяин, следивший с гораздо большим вниманием за
своими делами, чем за чужими, задержал их, когда они выходили из ворот,
потребовал с них платы за постой и поносил их нечестное намерение такими
словами, что побудил их ответить ему кулаками; и они принялись за это дело
так усердно, что бедный хозяин был вынужден закричать и просить о помощи.
Хозяйка и ее дочь не видели никого незанятого, кто мог бы им помочь, кроме
Дон Кихота, и потому хозяйская дочь сказала ему:
-- Помогите, ваша милость, сеньор рыцарь, доблестью, дарованной вам
Богом, моему бедному отцу, которого двое злых людей молотят, как сноп хлеба.
На это Дон Кихот очень хладнокровно и с большим спокойствием ответил:
-- Прекрасная девушка, ваша просьба не может быть в настоящее время
принята во внимание, потому что мне воспрещено пускаться в новые
приключения, пока я не доведу до конца одно, исполнить которое я обязался
данным мною словом. Но, чтобы услужить вам, я смогу сделать то, что сейчас
скажу: бегите и передайте вашему отцу, чтобы он выдерживал это сражение
насколько возможно и ни в каком случае не давал бы себя победить, пока я не
испрошу разрешения у принцессы Микомиконы помочь ему в его затруднительном
положении, и, если она даст мне это разрешение, будьте уверены, что я выведу
его из беды.
-- Ах, грешная я! -- воскликнула Мариторнес, стоявшая тут же. Прежде
чем ваша милость получит разрешение, о котором вы говорите, господин мой
окажется уже на том свете!
-- Дозвольте мне только, сеньора, получить разрешение, о котором я
говорю, -- ответил Дон Кихот, -- а когда я его получу, не столь важно, если
ваш господин и окажется на том свете, потому что я и оттуда достану его
наперекор всему миру, если б он воспротивился тому, или же по меньшей мере я
так отомщу за вас тем, которые отправили его туда, что вы останетесь вполне
довольны.
Не сказав больше ни слова, он подошел к Доротее, опустился перед нею на
колени и попросил ее в выражениях рыцарских и отважных, не угодно ли будет
ее величию дать ему разрешение оказать помощь и поддержку начальнику этой
крепости, попавшему в великую беду. Принцесса охотно дала ему просимое
разрешение, и он тотчас же, продев щит на руку, взялся за меч и поспешил к
воротам, где двое постояльцев все еще наносили побои хозяину. Но лишь только
Дон Кихот дошел туда, он вдруг остановился и стоял в недоумении, хотя
Мариторнес и хозяйка спрашивали, отчего он медлит и пусть же скорей окажет
помощь их господину и мужу.
-- Я медлю оттого, -- сказал Дон Кихот, -- что мне не дозволено
обнажать меч против оруженосного люда; но позовите сюда моего оруженосца
Санчо, -- ему подобает и приличествует эта защита и мщение.
Это происходило у ворот постоялого двора, где пинки и кулачные удары
так и сыпались, и все в ущерб хозяину и к величайшему гневу Мариторнес,
хозяйки и ее дочери, приходивших в отчаяние при виде трусости Дон Кихота и
печального положения, в котором оказался их муж, господин и отец.
Но оставим их там, потому что найдется, кто ему поможет, а нет -- пусть
молчит и терпит тот, кто отваживается на большее, чем позволяют ему его
силы, и отойдем на пятьдесят шагов назад послушать, что ответил дон Люис
судье, когда тот отвел его в сторону, спрашивая о причине его путешествия
пешком и в столь жалкой одежде. На это юноша схватил его руки и крепко сжал,
словно в знак того, что сильное горе давит ему сердце, и, проливая обильные
слезы проговорил:
-- Сеньор мой, я могу сказать вам только одно: с той минуты, когда по
воле неба и благодаря нашему соседству я увидел сеньору донью Клару, вашу
дочь и мою повелительницу, с той же минуты она сделалась неограниченной
властительницей над моей волей, и если ваша воля, истинный отец и сеньор
мой, не воспротивится тому, сегодня же она сделается моей супругой. Для нее
покинул я дом отца моего, для нее надел я это платье, чтобы следовать за нею
всюду, как стрела направляется к своей цели или как мореход стремится за
путеводной звездой. Она не знает о моих желаниях более того, что могли
поведать ей иногда издали глаза мои, полные слез. Вам, сеньор, известно о
богатстве и знатности моих родителей и то, что я единственный их наследник.
Если вы думаете, что это достаточные преимущества, чтобы вы могли решиться
вполне осчастливить меня, то примите меня тотчас же своим сыном, потому что,
хотя бы даже мой отец, побуждаемый иными намерениями, отнесся бы
неблагосклонно к тому счастию, которое я сумел себе отыскать, всемогущее
время обладает большею властью переделывать и изменять события, чем
человеческая воля.
Сказав это, влюбленный юноша умолк, а судья, слушавший его, был
поражен, смущен и удивлен как остроумным способом, каким дон Люис открыл ему
свои чувства, так и тем положением, в котором он сам очутился, не зная, как
ему поступить в столь неожиданных для него обстоятельствах. Поэтому он
ничего другого не ответил, как только просил его пока успокоиться и убедить
своих слуг не увозить его сегодня, чтобы иметь время хорошенько обсудить,
что в интересах всех было бы лучше всего сделать. Дон Люис поцеловал ему
руки насильно и даже оросил их слезами, что могло бы смягчить и мраморное
сердце, а не только сердце судьи, который, как умный человек, сразу понял,
насколько этот брак был бы хорош для его дочери, хотя он и желал бы, если б
оказалось возможным, осуществить его с согласия отца дона-Люиса, а этот
последний, как он знал, имел в виду доставить сыну высокое общественное
положение.
Между тем двое проезжих уже помирились с хозяином, так как они скорее
благодаря увещеваниям и добрым словам Дон Кихота, чем вследствие угроз,
заплатили хозяину все, что он требовал от них. Слуги дона Люиса ждали, чем
кончится разговор его с судьей и к какому решению придет молодой их
господин, как вдруг дьявол, который никогда не спит, повел дело таким
образом, что в это самое время на постоялый двор зашел цирюльник, у которого
Дон Кихот отнял шлем Мамбрино, а Санчо Панса -- сбрую его осла, обменяв ее
на сбрую своего Серого. В то время как цирюльник отводил осла своего в
конюшню, он здесь увидел Санчо Пансу, чинившего вьючное седло. Лишь только
он увидел это седло, тотчас же он узнал его и отважно бросился на Санчо,
говоря:
-- А! Дон вор, попались вы мне в руки! Давайте-ка сюда мой таз и мое
вьючное седло со всей сбруей, которую вы у меня украли!
Санчо, видя, что на него так неожиданно напали, и услыхав обращенные к
нему бранные слова, одной рукой схватился за седло, а другой нанес
цирюльнику такой удар, что кровь потекла у него изо рта. Но, несмотря на
это, цирюльник все же не выпустил из рук свою добычу и, крепко держа седло,
закричал таким громким голосом, что все бывшие на постоялом дворе прибежали
на этот шум и ссору.
-- Сюда! Во имя короля и правосудия! -- кричал цирюльник. -- Я желаю
вернуть себе свою собственность, а этот вор, этот грабитель на больших
дорогах хочет убить меня!
-- Ты лжешь, -- ответил Санчо, -- я не грабитель на больших дорогах,
потому что мой господин, Дон Кихот, взял добычу эту в честном бою.
Дон Кихот, присутствовавший тут же, был очень доволен, видя, как хорошо
защищается и нападает его оруженосец, и с этого времени и впредь он стал
считать его человеком храбрым и решил в сердце своем, при первом же
представившемся случае посвятить его в рыцари, так как ему казалось, что он
не осрамит рыцарское звание. В числе остальных доводов в свою защиту
цирюльник во время ссоры, между прочим, сказал:
-- Сеньоры, это вьючное седло так же несомненно мое, как и смерть,
должником которой я состою перед Богом, и я знаю этот вьюк так хорошо, как
если бы я сам его родил, и вот и осел мой в конюшне, который не даст мне
солгать. А не верите -- прикиньте к нему седло, и если оно не придется как
вылитое, пусть я буду подлецом на всю жизнь. И еще вот что: в тот же самый
день, когда у меня отняли вьюк, у меня отняли также и новый медный таз, ни
разу не бывший в употреблении и стоивший добрых полчервонца.
Тут Дон Кихот не мог дольше сдержаться, чтобы не ответить, и, встав
между двумя спорившими и разделив их, положил седло на землю, чтобы все
могли видеть его, пока не выяснится истина, и сказал:
-- Все вы, милости ваши, видите несомненное и очевидное заблуждение, в
которое впал этот добрый оруженосец, так как он называет тазом то, что было,
есть и будет шлемом Мамбрино, который я у него отнял в честном бою и
обладателем которого сделался законным и дозволенным путем. Что же касается
вьючного седла, я в это не вмешиваюсь; и относительно его могу сказать
только то, что мой оруженосец Санчо просил у меня позволения снять сбрую с
коня побежденного этого труса и украсить им своего коня. Я дал ему просимое
разрешение, и он взял сбрую. Что же касается того, что сбруя превратилась во
вьючное седло, не могу указать другой причины, кроме столь обычной, а
именно: такого рода превращения часто случаются в делах рыцарства. А для
подтверждения сказанного беги, Санчо, сын, и принеси сюда шлем, который
добрый этот человек считает тазом.
-- Ей-богу, сеньор, -- сказал Санчо,-- если у нас нет другого
доказательства нашего мнения, чем то, на которое указывает ваша милость, то
шлем Малино {Санчо говорит Малино вместо Мамбрино.}[ ]такой же таз, как и
сбруя этого доброго человека -- вьючное седло.
-- Делай то, что я тебе приказываю, -- ответил Дон Кихот, ведь не все
же вещи в этом замке находятся во власти волшебства.
Санчо пошел за тазом, принес его, и, как только Дон Кихот его увидел,
он взял таз в руки и сказал:
-- Посмотрите, ваши милости, с какими глазами мог этот оруженосец
уверять, будто это вот таз для бритья, а не шлем, как я говорил? Клянусь
рыцарским орденом, к которому принадлежу: это тот самый шлем, который я у
него отнял, и я ничего к нему не прибавлял и не убавлял.
-- В этом не может быть сомнения,-- сказал Санчо, -- так как с тех пор,
что мой господин завоевал этот шлем, он надевал его в одном лишь сражении,
когда освободил несчастных колодников, и не будь тогда у него этого
таза-шлема, ему пришлось бы плохо, потому что в той схватке не было
недостатка в бросании каменьями.

 -- Что скажете вы теперь, милости ваши сеньоры, -- воскликнул
цирюльник, -- на то, что эти высокородные господа утверждают и даже
настаивают, будто бы это не таз для бритья, а шлем?
-- Тому, кто станет утверждать противное, -- сказал Дон Кихот, -- я
докажу, что он лжет, если он рыцарь; а если он оруженосец, -- что он тысячу
раз лжет!
Наш цирюльник, который тоже присутствовал при всем этом, хорошо зная
причуды Дон Кихота, захотел поощрить его сумасбродство и провести дальше
шутку, чтобы заставить всех смеяться, и потому, обращаясь к чужому
цирюльнику, он сказал:
-- Сеньор цирюльник, или кто бы вы ни были, знайте, что и я тоже
принадлежу к вашей профессии, более
двадцати лет имею свидетельство о сдаче экзамена и отлично знаком со
всеми до одного инструментами цирюльничьего ремесла; сверх того, я был в
моей молодости одно время солдатом и знаю также, что такое шлем, что такое
шишак, и шлем с забралом, и другие вещи, относящиеся к военному делу, именно
к разного рода солдатскому оружию, и скажу, с вашего позволения, -- всегда
готовый подчиниться более вескому мнению,-- что вот эта вещь, находящаяся
тут перед нами и которую добрый тот сеньор держит в руках, не только не
цирюльничий таз, но так же далека от того, чтобы им быть, как черное далеко
от белого и правда от лжи. Вместе с тем я скажу, что хотя это и шлем, но не
полный шлем.
-- Действительно, это не полный шлем, -- объявил Дон Кихот, -- потому
что тут недостает половины его, именно всего забрала.
-- Совершенно верно, -- сказал священник, который уже понял намерение
своего приятеля цирюльника; то же самое подтвердил Карденио, дон Фернандо и
его товарищи; и даже судья -- если б дело с доном Люисом не погрузило его в
такое раздумье, -- со своей стороны, поддержал бы эту шутку; но серьезные
мысли, занимавшие его, до того им овладели, что он очень мало или вовсе не
обратил внимания на все затеи.
-- Помоги мне господи! -- воскликнул тогда одураченный цирюльник. --
Возможно ли, чтоб столько почтенных людей утверждали, что это не таз, а
шлем? Это такого рода вещь, которая могла бы привести в изумление целый
университет, как бы он ни был умен. Ну, хорошо, если вот этот таз -- шлем, и
вьючное седло тоже должно быть конской сбруей, как сказал этот сеньор.
-- Мне оно кажется вьючным седлом, -- сказал Дон Кихот, -- но я уже
говорил, что в это я не вмешиваюсь.
-- Вьючное ли это седло или конская сбруя, -- заявил священник, -- этот
вопрос мы предоставляем решить Дон Кихоту, так как в рыцарских делах эти
сеньоры и я, мы должны уступить ему пальму первенства.
-- Клянусь Богом, сеньоры мои,-- сказал Дон Кихот, -- столько и такие
странные вещи приключились со мной в этом замке оба раза, когда я здесь
останавливался, что я не отваживаюсь с уверенностью отвечать на какой бы то
ни было вопрос относительно того, что в нем находится, так как я думаю, что
все происходящее здесь совершается путем волшебства. В первый раз
очарованный мавр, пребывающий здесь, очень досаждал мне, и Санчо также
досталось немало от некоторых из его свиты, а сегодня ночью я почти два часа
провисел на этой руке, не понимая, как и каким образом я попал в такую беду.
И поэтому вмешиваться в столь затруднительное дело и высказать о нем свое
мнение значило бы подвергнуться опасности произнести опрометчивое суждение.
Относительно того, что здесь говорилось, будто вот это таз, а не шлем, я уже
ответил; что же касается решения вопроса, вьючное ли это седло или конская
сбруя, я не осмеливаюсь высказать окончательного мнения, но предоставляю это
благоусмотрению милостей ваших. Быть может, оттого что вы не посвящены в
рыцари, как я посвящен, волшебства этого замка не коснутся вас и вы,
сохранив свободное разумение, будете в состоянии судить о происходящих здесь
вещах, каковы они на самом деле и в действительности, а не так, как они мне
представляются.
-- Нет сомнения, -- ответил на это дон Фернандо, -- сеньор Дон Кихот
сейчас очень хорошо сказал, что решение этого вопроса принадлежит нам; и,
чтобы все было более обосновано, я отберу тайно голоса этих сеньоров, а о
том, что выйдет из этого, дам полный и ясный отчет.
Для всех, знакомых с причудами Дон Кихота, все происходившее казалось в
высшей степени смешным; те же, которым ничего не было известно, сочли это за
величайшую нелепость в мире, особенно же четверо слуг дона Люиса, не менее
их и сам дон Люис, а также еще и трое приезжих, случайно зашедших на
постоялый двор и с виду походивших на куадрильеро {Куадрильеросы --
должностные лица Св. эрмандады; узнавались по тому, что были вооружены
самострелами; они были уполномочены совершать быстрый суд над разбойниками и
грабителями на больших дорогах, пойманных на месте преступления.}, какими
они на самом деле и были. Но тот, кто больше всех пришел в отчаяние, был
цирюльник, таз для бритья которого тут же на глазах у него превратился в
шлем Мамбрино и который не сомневался, что и вьючному седлу его предстоит
превратиться в богатую конскую сбрую. И те и другие смеялись, видя, как дон
Фернандо обходит всех и отбирает голоса, говоря им на ухо, чтобы они
тихонько сказали ему мнение свое, вьючное ли седло или конская сбруя та
драгоценность, о которой было столько препирательств; затем, собрав голоса у
всех, знавших Дон Кихота, он громко заявил:
-- Дело в том, добрый человек, что я уже устал собирать столько мнений,
так как вижу, у кого бы я ни спросил о том,
0 чем желаю узнать, все отвечают мне, что нелепо говорить, будто это
вьючное седло осла, а не конская сбруя, да еще с породистого коня. Итак, вам
придется вооружиться терпением, потому что наперекор вам и вашему ослу это
конская сбруя, а не вьючное седло и вы очень дурно повели свое дело и
потеряли его.
-- Пусть я потеряю и царствие небесное, -- сказал бедный цирюльник, --
если вы все, милости ваши, не ошибаетесь; так же верно, как душа моя
предстанет перед судом Божьим, верно и то, что это вьючное седло, а не
конская сбруя; но законы клонят туда и так далее {Alia van leyes do quieren
Reyes -- "Законы клонят туда, куда желают короли", старинная испанская
пословица, сложившаяся, судя по преданию, во времена короля Алфонса VI
(1085--1109).}, -- больше ничего не скажу; и, право же, я не пьян, так как
сегодня воздержался если не от греха, то от того, чтобы взять что-либо в
рот.
Глупые речи цирюльника вызвали не меньше смеха, чем нелепости Дон
Кихота, который теперь заявил:
-- Здесь нечего больше делать, пусть каждый возьмет то, что ему
принадлежит, и, что кому Бог послал, святой Петр благословит.
Один из четырех слуг сказал:
-- Если это не преднамеренная шутка, никак не могу понять, чтобы люди,
столь рассудительные или кажущиеся ими, как все здесь присутствующие,
осмелились бы говорить и утверждать, что это вот не таз, а то вот не вьючное
седло. Но так как я вижу, что они это и утверждают, и говорят, мне ясно: тут
какая-то тайна в этом упорном настаивании на утверждении, столь
противоречащем тому, чему нас учит сама действительность и опыт; и поэтому
клянусь тем-то (и он отпустил очень крепкое словечко), что никто из всех
живущих на свете не мог бы убедить меня, будто это не цирюльничий таз, а то
не вьючное седло осла.
-- Оно могло бы оказаться седлом ослицы, -- сказал священник.
-- Пусть себе, -- ответил слуга,-- не в этом дело, а в том, вьючное ли
это седло или нет, как вы, ваши милости, утверждаете.
Услыхав это, один из только что прибывших куадрильеро, который
присутствовал при этом споре и переговорах, воскликнул, исполненный гнева и
досады:
-- Так же верно, что это вьючное седло, как и мой отец -- мне отец, и
тот, кто сказал или скажет что-либо иное, должно быть, пьян.
-- Ты лжешь, как последний негодяй, -- крикнул Дон Кихот и, подняв
копье, которое он никогда не выпускал из рук, нанес им по голове куадрильеро
такой удар, что, если б тот не увернулся, он уложил бы его на месте. Копье
разлетелось вдребезги, ударившись о землю; остальные же куадрильеросы, видя,
как плохо обходятся с их товарищем, стали громко звать на помощь Святую
эрмандаду. Хозяин, принадлежавший тоже к этому братству, немедленно побежал
за своим жезлом и мечом и встал рядом со своими товарищами. Слуги дона Люиса
окружили молодого своего сеньора, чтобы он не убежал, воспользовавшись
наставшей суматохой. Цирюльник, видя, что весь дом в таком переполохе, снова
схватился за свой вьюк, то же сделал и Санчо. Дон Кихот обнажил меч и
бросился на куадрильеро; дон Люис приказал своим слугам оставить его и
поспешить на помощь к Дон Кихоту, Карденио и дону Фернандо, которые все
приняли сторону Дон Кихота. Священник кричал, хозяйка вопила, дочь ее
вздыхала, Мариторнес плакала, Доротеа смутилась, Люсинда испугалась, а донья
Клара упала в обморок. Цирюльник бил Санчо, Санчо тузил цирюльника; дон
Люис, которого один из его слуг осмелился схватить за руку, чтобы он не
убежал, нанес слуге такой удар кулаком, что рот у того наполнился кровью;
судья взял его под свою защиту. Один из куадрильеро очутился под ногами у
дона Фернандо, который, не стесняясь, измерял ими все его тело в свое
удовольствие; хозяин стал снова громко звать на помощь Святую эрмандаду, так
что весь постоялый двор превратился в плач, крик, вопль, тревогу, испуг,
ужас, бедствие, тумаки, пинки, удары палками и ногами и кровопролитие. Среди
этого хаоса, шума и сумятицы Дон Кихоту пришла вдруг в голову мысль, что он
окунулся в распри и раздор в лагере Аграманта {Распря в лагере короля
Аграманта, предводителя языческой армии при осаде Парижа, описана в XXVII
песни "Неистового Роланда" Ариосто.}, и поэтому он голосом, прогремевшим по
всему постоялому двору, крикнул:
-- Остановитесь все! Положите оружие, успокойтесь и выслушайте меня,
если только дорожите жизнью!
Услыхав этот громкий возглас, все утихли, и Дон Кихот продолжал:
-- Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот очарован и что, должно
быть, легион демонов обитает в нем? В подтверждение сказанному я бы желал,
чтобы вы собственными глазами своими убедились, что сюда перенесена и
поселилась среди нас распря, бывшая в лагере Аграманта. Смотрите, как там
сражаются из-за меча, здесь -- из-за коня, тут -- из-за орла, дальше --
из-за шлема, и все мы сражаемся, и все не понимаем друг друга. Поэтому идите
сюда, ваша милость, сеньор судья, и вы, милость ваша, сеньор священник,
пусть один из вас изобразит собой короля Аграманта, а другой -- короля
Собрино, и восстановите среди нас мир; так как, клянусь именем всемогущего
Бога, великое преступление, чтобы столько знатных людей, сколько нас здесь,
убивали друг друга из-за таких ничего не стоящих причин.
Куадрильеросы, которые не понимали фразеологии Дон Кихота и видели, что
с ними так сурово обошлись дон Фернандо, Карденио и их товарищи, не захотели
успокоиться; цирюльникже был на все готов, так как во время схватки ему
вырвали бороду и порвали его вьючное седло; Санчо, как верный слуга, при
первом же слове своего господина тотчас же повиновался ему; четверо слуг
дона Люиса тоже оставались спокойны, убедившись, как им мало пользы от
обратного, и лишь один хозяин упорно настаивал, что следует наказать
дерзость этого сумасшедшего, который на каждом шагу вносит переполох в его
постоялый двор. Наконец шум улегся, и вьючное седло так и осталось, в
воображении Дон Кихота до дня Страшного суда конской сбруей, таз -- шлемом и
постоялый двор -- замком.
Теперь, когда был восстановлен мир, и все снова стали друзьями
благодаря увещеваниям судьи и священника, слуги дона Люиса принялись опять
настаивать, чтобы он немедленно ехал с ними домой, а пока он вел с ними
переговоры, судья посоветовался с доном Фернандо, Карденио и священником,
как ему лучше поступить в данном случае, и сообщил им все, что дон Люис
сказал ему. Наконец было решено, что дон Фернандо откроет слугам дона Люиса,
кто он, и сообщит о своем желании, чтобы дон Люис ехал вместе с ним в
Андалузию, где юноша будет принят его братом-маркизом с тем вниманием и
уважением, которые он заслуживает, так как всем известно о решении Дона
Люиса не возвращаться теперь на глаза к своему отцу, хотя бы его и разорвали
на куски. Узнав об общественном положении дона Фернандо и о решении дона
Люиса, слуги так условились между собой: трое из них вернутся домой
рассказать обо всем, что произошло отцу, четвертый же останется служить дону
Люису и будет находиться при нем, пока они все не вернутся за ним или не
узнают, как им прикажет поступить его отец. Таким образом, благодаря
авторитету Аграманта и мудрости короля Собрино {Благодаря значению короля
Аграманта и советам короля Собрино был наконец восстановлен мир в лагере
осаждающих ("Неистовый Роланд", песнь XXVII).}, улеглась эта вереница ссор;
но заклятый враг согласия и противник мира {Т. е. дьявол.}, увидав, как он
посрамлен и осмеян и как мало он извлек выгоды из всего этого лабиринта
смут, в который он завлек их, решил еще раз приложить свою руку и вызвать
новые ссоры и распри. Дело в том, что куадрильеросы, узнав о звании людей, с
которыми у них вышло столкновение, успокоились и устранились от ссоры, так
как хорошо понимали, что, каков бы ни был исход битвы, все равно в проигрыше
остались бы они. Но один из куадрильеро, тот самый, которого топтал и бил
дон Фернандо, вспомнил, что в числе приказов об аресте некоторых
преступников, которые он имел при себе, был также и приказ о Дон Кихоте,
которого Святая эрмандада велела арестовать за то, что он освободил галерных
невольников, как Санчо столь основательно и опасался того. Вспомнив о
приказе, куадрильеро захотел убедиться, подходят ли приметы к Дон Кихоту, и,
вынув из-за пазухи пергаментный сверток, нашел в нем то, что искал, и,
принявшись медленно читать его -- так как он не был искусным грамотеем, --
при каждом слове, которое читал, смотрел на Дон Кихота и, сравнивая приметы
приказа с наружностью рыцаря, убедился, что, несомненно, бумага относится
именно к Дон Кихоту. Лишь только он убедился в этом, как, свернув пергамент,
взял в левую руку приказ, а правой схватил за шиворот Дон Кихота с такой
силой, что тот едва мог дышать, причем куадрильеро громко закричал:
-- На помощь! Во имя Святой эрмандады! И чтобы вы видели, что я не
шучу, прочтите приказ, которым повелевается арестовать этого разбойника на
больших дорогах.
Священник взял приказ и убедился, что куадрильеро говорит правду и что
приметы подходят к Дон Кихоту, который, видя, как плохо обходится с ним этот
низкий негодяй, вспыхнул страшным гневом и изо всех сил обеими руками
схватил куадрильеро за горло так, что, если бы товарищи того не поспели к
нему на помощь, он расстался бы с жизнью прежде, чем Дон Кихот выпустил из
рук свою добычу. Хозяин, который был обязан содействовать своим товарищам по
должности, тотчас же бросился к ним на помощь. Хозяйка, увидав, что ее муж
опять ввязался в ссору, принялась снова кричать, и ей вторили дочь ее и
Мариторнес, прося помощи у неба и у всех, кто там был. Санчо, глядя на то,
что происходит, сказал:
-- Клянусь Богом! Правда то, что господин мой говорит о волшебстве в
этом замке, так как нельзя прожить в нем и часу спокойно.
Дон Фернандо разнял куадрильеро и Дон Кихота и, к обоюдному их
удовольствию, разжал им руки, которыми один крепко ухватился за ворот
камзола, а другой -- за горло своего противника. Но тем не менее
куадрильеросы не переставали требовать своей добычи и содействия
присутствующих, чтобы те связали его и передали бы в их руки, как к тому
обязывает служба, королю и Святой эрмандаде, именем которой они снова просят
о поддержке и помощи для ареста этого грабителя и разбойника по проселочным
и большим дорогам. Дон Кихот рассмеялся, услышав эти слова, и с величайшим
спокойствием сказал:
-- Идите-ка сюда, грязный и подлый люд! Разбоем на больших дорогах
называете вы дать свободу закованным в кандалы, выпустить на волю
заключенных, помочь несчастным, поднять павших, поддержать нуждающихся? Ах,
гнусные люди, заслуживающие своим низменным, жалким пониманием, чтобы небо
скрыло от вас доблесть, заключающуюся в странствующем рыцарстве, и не дало
уразуметь грех и невежество, в которых вы коснеете, не благоговея перед
тенью, а тем более перед действительным присутствием странствующего рыцаря!
Идите-ка сюда вы, братья по воровству, а не члены братства, грабители на
больших дорогах с разрешения Святой эрмандады; скажите мне: кто тот неуч,
подписавший приказ об аресте такого рыцаря, как я? Кто он, не знавший, что
странствующие рыцари не подлежат никаким судебным учреждениям, что их закон
-- меч, их привилегия -- доблесть, их уставы -- собственная их воля? Кто тот
тупоумный, спрашиваю я опять, не ведавший, что нет той дворянской грамоты,
которая давала бы такие права и льготы, какие приобретает странствующий
рыцарь в тот день, когда его посвящают и он вступает в трудное отправление
рыцарских обязанностей? Какой странствующий рыцарь платил подать, налоги,
сбор на булавки королевы {Сбор по случаю бракосочетания короля.}, дань
королю, таможенные пошлины и речной сбор? Какой портной предъявлял ему счет
за шитье платья? Какой кастелян, приняв в свой замок, заставил его платить
за постой? Какой король не приглашал его за свой стол? Какая девушка не
влюблялась в него и не отдавалась ему на полную волю и власть? И, наконец,
какой был, есть и будет странствующий рыцарь на свете, у которого не хватит
отваги и пылу дать четыреста палочных ударов четыремстам куадрильеро, если
они встанут на его дороге?
-- Что скажете вы теперь, милости ваши сеньоры, -- воскликнул
цирюльник, -- на то, что эти высокородные господа утверждают и даже
настаивают, будто бы это не таз для бритья, а шлем?
-- Тому, кто станет утверждать противное, -- сказал Дон Кихот, -- я
докажу, что он лжет, если он рыцарь; а если он оруженосец, -- что он тысячу
раз лжет!
Наш цирюльник, который тоже присутствовал при всем этом, хорошо зная
причуды Дон Кихота, захотел поощрить его сумасбродство и провести дальше
шутку, чтобы заставить всех смеяться, и потому, обращаясь к чужому
цирюльнику, он сказал:
-- Сеньор цирюльник, или кто бы вы ни были, знайте, что и я тоже
принадлежу к вашей профессии, более
двадцати лет имею свидетельство о сдаче экзамена и отлично знаком со
всеми до одного инструментами цирюльничьего ремесла; сверх того, я был в
моей молодости одно время солдатом и знаю также, что такое шлем, что такое
шишак, и шлем с забралом, и другие вещи, относящиеся к военному делу, именно
к разного рода солдатскому оружию, и скажу, с вашего позволения, -- всегда
готовый подчиниться более вескому мнению,-- что вот эта вещь, находящаяся
тут перед нами и которую добрый тот сеньор держит в руках, не только не
цирюльничий таз, но так же далека от того, чтобы им быть, как черное далеко
от белого и правда от лжи. Вместе с тем я скажу, что хотя это и шлем, но не
полный шлем.
-- Действительно, это не полный шлем, -- объявил Дон Кихот, -- потому
что тут недостает половины его, именно всего забрала.
-- Совершенно верно, -- сказал священник, который уже понял намерение
своего приятеля цирюльника; то же самое подтвердил Карденио, дон Фернандо и
его товарищи; и даже судья -- если б дело с доном Люисом не погрузило его в
такое раздумье, -- со своей стороны, поддержал бы эту шутку; но серьезные
мысли, занимавшие его, до того им овладели, что он очень мало или вовсе не
обратил внимания на все затеи.
-- Помоги мне господи! -- воскликнул тогда одураченный цирюльник. --
Возможно ли, чтоб столько почтенных людей утверждали, что это не таз, а
шлем? Это такого рода вещь, которая могла бы привести в изумление целый
университет, как бы он ни был умен. Ну, хорошо, если вот этот таз -- шлем, и
вьючное седло тоже должно быть конской сбруей, как сказал этот сеньор.
-- Мне оно кажется вьючным седлом, -- сказал Дон Кихот, -- но я уже
говорил, что в это я не вмешиваюсь.
-- Вьючное ли это седло или конская сбруя, -- заявил священник, -- этот
вопрос мы предоставляем решить Дон Кихоту, так как в рыцарских делах эти
сеньоры и я, мы должны уступить ему пальму первенства.
-- Клянусь Богом, сеньоры мои,-- сказал Дон Кихот, -- столько и такие
странные вещи приключились со мной в этом замке оба раза, когда я здесь
останавливался, что я не отваживаюсь с уверенностью отвечать на какой бы то
ни было вопрос относительно того, что в нем находится, так как я думаю, что
все происходящее здесь совершается путем волшебства. В первый раз
очарованный мавр, пребывающий здесь, очень досаждал мне, и Санчо также
досталось немало от некоторых из его свиты, а сегодня ночью я почти два часа
провисел на этой руке, не понимая, как и каким образом я попал в такую беду.
И поэтому вмешиваться в столь затруднительное дело и высказать о нем свое
мнение значило бы подвергнуться опасности произнести опрометчивое суждение.
Относительно того, что здесь говорилось, будто вот это таз, а не шлем, я уже
ответил; что же касается решения вопроса, вьючное ли это седло или конская
сбруя, я не осмеливаюсь высказать окончательного мнения, но предоставляю это
благоусмотрению милостей ваших. Быть может, оттого что вы не посвящены в
рыцари, как я посвящен, волшебства этого замка не коснутся вас и вы,
сохранив свободное разумение, будете в состоянии судить о происходящих здесь
вещах, каковы они на самом деле и в действительности, а не так, как они мне
представляются.
-- Нет сомнения, -- ответил на это дон Фернандо, -- сеньор Дон Кихот
сейчас очень хорошо сказал, что решение этого вопроса принадлежит нам; и,
чтобы все было более обосновано, я отберу тайно голоса этих сеньоров, а о
том, что выйдет из этого, дам полный и ясный отчет.
Для всех, знакомых с причудами Дон Кихота, все происходившее казалось в
высшей степени смешным; те же, которым ничего не было известно, сочли это за
величайшую нелепость в мире, особенно же четверо слуг дона Люиса, не менее
их и сам дон Люис, а также еще и трое приезжих, случайно зашедших на
постоялый двор и с виду походивших на куадрильеро {Куадрильеросы --
должностные лица Св. эрмандады; узнавались по тому, что были вооружены
самострелами; они были уполномочены совершать быстрый суд над разбойниками и
грабителями на больших дорогах, пойманных на месте преступления.}, какими
они на самом деле и были. Но тот, кто больше всех пришел в отчаяние, был
цирюльник, таз для бритья которого тут же на глазах у него превратился в
шлем Мамбрино и который не сомневался, что и вьючному седлу его предстоит
превратиться в богатую конскую сбрую. И те и другие смеялись, видя, как дон
Фернандо обходит всех и отбирает голоса, говоря им на ухо, чтобы они
тихонько сказали ему мнение свое, вьючное ли седло или конская сбруя та
драгоценность, о которой было столько препирательств; затем, собрав голоса у
всех, знавших Дон Кихота, он громко заявил:
-- Дело в том, добрый человек, что я уже устал собирать столько мнений,
так как вижу, у кого бы я ни спросил о том,
0 чем желаю узнать, все отвечают мне, что нелепо говорить, будто это
вьючное седло осла, а не конская сбруя, да еще с породистого коня. Итак, вам
придется вооружиться терпением, потому что наперекор вам и вашему ослу это
конская сбруя, а не вьючное седло и вы очень дурно повели свое дело и
потеряли его.
-- Пусть я потеряю и царствие небесное, -- сказал бедный цирюльник, --
если вы все, милости ваши, не ошибаетесь; так же верно, как душа моя
предстанет перед судом Божьим, верно и то, что это вьючное седло, а не
конская сбруя; но законы клонят туда и так далее {Alia van leyes do quieren
Reyes -- "Законы клонят туда, куда желают короли", старинная испанская
пословица, сложившаяся, судя по преданию, во времена короля Алфонса VI
(1085--1109).}, -- больше ничего не скажу; и, право же, я не пьян, так как
сегодня воздержался если не от греха, то от того, чтобы взять что-либо в
рот.
Глупые речи цирюльника вызвали не меньше смеха, чем нелепости Дон
Кихота, который теперь заявил:
-- Здесь нечего больше делать, пусть каждый возьмет то, что ему
принадлежит, и, что кому Бог послал, святой Петр благословит.
Один из четырех слуг сказал:
-- Если это не преднамеренная шутка, никак не могу понять, чтобы люди,
столь рассудительные или кажущиеся ими, как все здесь присутствующие,
осмелились бы говорить и утверждать, что это вот не таз, а то вот не вьючное
седло. Но так как я вижу, что они это и утверждают, и говорят, мне ясно: тут
какая-то тайна в этом упорном настаивании на утверждении, столь
противоречащем тому, чему нас учит сама действительность и опыт; и поэтому
клянусь тем-то (и он отпустил очень крепкое словечко), что никто из всех
живущих на свете не мог бы убедить меня, будто это не цирюльничий таз, а то
не вьючное седло осла.
-- Оно могло бы оказаться седлом ослицы, -- сказал священник.
-- Пусть себе, -- ответил слуга,-- не в этом дело, а в том, вьючное ли
это седло или нет, как вы, ваши милости, утверждаете.
Услыхав это, один из только что прибывших куадрильеро, который
присутствовал при этом споре и переговорах, воскликнул, исполненный гнева и
досады:
-- Так же верно, что это вьючное седло, как и мой отец -- мне отец, и
тот, кто сказал или скажет что-либо иное, должно быть, пьян.
-- Ты лжешь, как последний негодяй, -- крикнул Дон Кихот и, подняв
копье, которое он никогда не выпускал из рук, нанес им по голове куадрильеро
такой удар, что, если б тот не увернулся, он уложил бы его на месте. Копье
разлетелось вдребезги, ударившись о землю; остальные же куадрильеросы, видя,
как плохо обходятся с их товарищем, стали громко звать на помощь Святую
эрмандаду. Хозяин, принадлежавший тоже к этому братству, немедленно побежал
за своим жезлом и мечом и встал рядом со своими товарищами. Слуги дона Люиса
окружили молодого своего сеньора, чтобы он не убежал, воспользовавшись
наставшей суматохой. Цирюльник, видя, что весь дом в таком переполохе, снова
схватился за свой вьюк, то же сделал и Санчо. Дон Кихот обнажил меч и
бросился на куадрильеро; дон Люис приказал своим слугам оставить его и
поспешить на помощь к Дон Кихоту, Карденио и дону Фернандо, которые все
приняли сторону Дон Кихота. Священник кричал, хозяйка вопила, дочь ее
вздыхала, Мариторнес плакала, Доротеа смутилась, Люсинда испугалась, а донья
Клара упала в обморок. Цирюльник бил Санчо, Санчо тузил цирюльника; дон
Люис, которого один из его слуг осмелился схватить за руку, чтобы он не
убежал, нанес слуге такой удар кулаком, что рот у того наполнился кровью;
судья взял его под свою защиту. Один из куадрильеро очутился под ногами у
дона Фернандо, который, не стесняясь, измерял ими все его тело в свое
удовольствие; хозяин стал снова громко звать на помощь Святую эрмандаду, так
что весь постоялый двор превратился в плач, крик, вопль, тревогу, испуг,
ужас, бедствие, тумаки, пинки, удары палками и ногами и кровопролитие. Среди
этого хаоса, шума и сумятицы Дон Кихоту пришла вдруг в голову мысль, что он
окунулся в распри и раздор в лагере Аграманта {Распря в лагере короля
Аграманта, предводителя языческой армии при осаде Парижа, описана в XXVII
песни "Неистового Роланда" Ариосто.}, и поэтому он голосом, прогремевшим по
всему постоялому двору, крикнул:
-- Остановитесь все! Положите оружие, успокойтесь и выслушайте меня,
если только дорожите жизнью!
Услыхав этот громкий возглас, все утихли, и Дон Кихот продолжал:
-- Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот очарован и что, должно
быть, легион демонов обитает в нем? В подтверждение сказанному я бы желал,
чтобы вы собственными глазами своими убедились, что сюда перенесена и
поселилась среди нас распря, бывшая в лагере Аграманта. Смотрите, как там
сражаются из-за меча, здесь -- из-за коня, тут -- из-за орла, дальше --
из-за шлема, и все мы сражаемся, и все не понимаем друг друга. Поэтому идите
сюда, ваша милость, сеньор судья, и вы, милость ваша, сеньор священник,
пусть один из вас изобразит собой короля Аграманта, а другой -- короля
Собрино, и восстановите среди нас мир; так как, клянусь именем всемогущего
Бога, великое преступление, чтобы столько знатных людей, сколько нас здесь,
убивали друг друга из-за таких ничего не стоящих причин.
Куадрильеросы, которые не понимали фразеологии Дон Кихота и видели, что
с ними так сурово обошлись дон Фернандо, Карденио и их товарищи, не захотели
успокоиться; цирюльникже был на все готов, так как во время схватки ему
вырвали бороду и порвали его вьючное седло; Санчо, как верный слуга, при
первом же слове своего господина тотчас же повиновался ему; четверо слуг
дона Люиса тоже оставались спокойны, убедившись, как им мало пользы от
обратного, и лишь один хозяин упорно настаивал, что следует наказать
дерзость этого сумасшедшего, который на каждом шагу вносит переполох в его
постоялый двор. Наконец шум улегся, и вьючное седло так и осталось, в
воображении Дон Кихота до дня Страшного суда конской сбруей, таз -- шлемом и
постоялый двор -- замком.
Теперь, когда был восстановлен мир, и все снова стали друзьями
благодаря увещеваниям судьи и священника, слуги дона Люиса принялись опять
настаивать, чтобы он немедленно ехал с ними домой, а пока он вел с ними
переговоры, судья посоветовался с доном Фернандо, Карденио и священником,
как ему лучше поступить в данном случае, и сообщил им все, что дон Люис
сказал ему. Наконец было решено, что дон Фернандо откроет слугам дона Люиса,
кто он, и сообщит о своем желании, чтобы дон Люис ехал вместе с ним в
Андалузию, где юноша будет принят его братом-маркизом с тем вниманием и
уважением, которые он заслуживает, так как всем известно о решении Дона
Люиса не возвращаться теперь на глаза к своему отцу, хотя бы его и разорвали
на куски. Узнав об общественном положении дона Фернандо и о решении дона
Люиса, слуги так условились между собой: трое из них вернутся домой
рассказать обо всем, что произошло отцу, четвертый же останется служить дону
Люису и будет находиться при нем, пока они все не вернутся за ним или не
узнают, как им прикажет поступить его отец. Таким образом, благодаря
авторитету Аграманта и мудрости короля Собрино {Благодаря значению короля
Аграманта и советам короля Собрино был наконец восстановлен мир в лагере
осаждающих ("Неистовый Роланд", песнь XXVII).}, улеглась эта вереница ссор;
но заклятый враг согласия и противник мира {Т. е. дьявол.}, увидав, как он
посрамлен и осмеян и как мало он извлек выгоды из всего этого лабиринта
смут, в который он завлек их, решил еще раз приложить свою руку и вызвать
новые ссоры и распри. Дело в том, что куадрильеросы, узнав о звании людей, с
которыми у них вышло столкновение, успокоились и устранились от ссоры, так
как хорошо понимали, что, каков бы ни был исход битвы, все равно в проигрыше
остались бы они. Но один из куадрильеро, тот самый, которого топтал и бил
дон Фернандо, вспомнил, что в числе приказов об аресте некоторых
преступников, которые он имел при себе, был также и приказ о Дон Кихоте,
которого Святая эрмандада велела арестовать за то, что он освободил галерных
невольников, как Санчо столь основательно и опасался того. Вспомнив о
приказе, куадрильеро захотел убедиться, подходят ли приметы к Дон Кихоту, и,
вынув из-за пазухи пергаментный сверток, нашел в нем то, что искал, и,
принявшись медленно читать его -- так как он не был искусным грамотеем, --
при каждом слове, которое читал, смотрел на Дон Кихота и, сравнивая приметы
приказа с наружностью рыцаря, убедился, что, несомненно, бумага относится
именно к Дон Кихоту. Лишь только он убедился в этом, как, свернув пергамент,
взял в левую руку приказ, а правой схватил за шиворот Дон Кихота с такой
силой, что тот едва мог дышать, причем куадрильеро громко закричал:
-- На помощь! Во имя Святой эрмандады! И чтобы вы видели, что я не
шучу, прочтите приказ, которым повелевается арестовать этого разбойника на
больших дорогах.
Священник взял приказ и убедился, что куадрильеро говорит правду и что
приметы подходят к Дон Кихоту, который, видя, как плохо обходится с ним этот
низкий негодяй, вспыхнул страшным гневом и изо всех сил обеими руками
схватил куадрильеро за горло так, что, если бы товарищи того не поспели к
нему на помощь, он расстался бы с жизнью прежде, чем Дон Кихот выпустил из
рук свою добычу. Хозяин, который был обязан содействовать своим товарищам по
должности, тотчас же бросился к ним на помощь. Хозяйка, увидав, что ее муж
опять ввязался в ссору, принялась снова кричать, и ей вторили дочь ее и
Мариторнес, прося помощи у неба и у всех, кто там был. Санчо, глядя на то,
что происходит, сказал:
-- Клянусь Богом! Правда то, что господин мой говорит о волшебстве в
этом замке, так как нельзя прожить в нем и часу спокойно.
Дон Фернандо разнял куадрильеро и Дон Кихота и, к обоюдному их
удовольствию, разжал им руки, которыми один крепко ухватился за ворот
камзола, а другой -- за горло своего противника. Но тем не менее
куадрильеросы не переставали требовать своей добычи и содействия
присутствующих, чтобы те связали его и передали бы в их руки, как к тому
обязывает служба, королю и Святой эрмандаде, именем которой они снова просят
о поддержке и помощи для ареста этого грабителя и разбойника по проселочным
и большим дорогам. Дон Кихот рассмеялся, услышав эти слова, и с величайшим
спокойствием сказал:
-- Идите-ка сюда, грязный и подлый люд! Разбоем на больших дорогах
называете вы дать свободу закованным в кандалы, выпустить на волю
заключенных, помочь несчастным, поднять павших, поддержать нуждающихся? Ах,
гнусные люди, заслуживающие своим низменным, жалким пониманием, чтобы небо
скрыло от вас доблесть, заключающуюся в странствующем рыцарстве, и не дало
уразуметь грех и невежество, в которых вы коснеете, не благоговея перед
тенью, а тем более перед действительным присутствием странствующего рыцаря!
Идите-ка сюда вы, братья по воровству, а не члены братства, грабители на
больших дорогах с разрешения Святой эрмандады; скажите мне: кто тот неуч,
подписавший приказ об аресте такого рыцаря, как я? Кто он, не знавший, что
странствующие рыцари не подлежат никаким судебным учреждениям, что их закон
-- меч, их привилегия -- доблесть, их уставы -- собственная их воля? Кто тот
тупоумный, спрашиваю я опять, не ведавший, что нет той дворянской грамоты,
которая давала бы такие права и льготы, какие приобретает странствующий
рыцарь в тот день, когда его посвящают и он вступает в трудное отправление
рыцарских обязанностей? Какой странствующий рыцарь платил подать, налоги,
сбор на булавки королевы {Сбор по случаю бракосочетания короля.}, дань
королю, таможенные пошлины и речной сбор? Какой портной предъявлял ему счет
за шитье платья? Какой кастелян, приняв в свой замок, заставил его платить
за постой? Какой король не приглашал его за свой стол? Какая девушка не
влюблялась в него и не отдавалась ему на полную волю и власть? И, наконец,
какой был, есть и будет странствующий рыцарь на свете, у которого не хватит
отваги и пылу дать четыреста палочных ударов четыремстам куадрильеро, если
они встанут на его дороге?
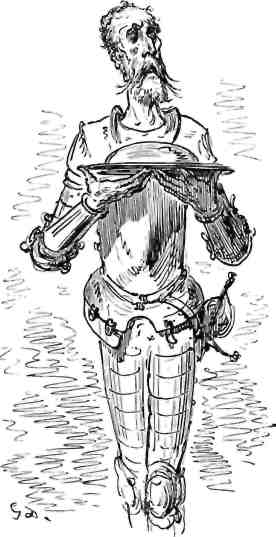
 Пока Дон Кихот это говорил, священник старался убедить куадрильеросов,
что рыцарь не в своем уме, как они сами видят из его слов и поступков, и
незачем продолжать дело, потому что, если они и арестуют его и уведут с
собой, им тотчас же пришлось бы его выпустить, как сумасшедшего.
Куадрильеро, имевший приказ об аресте, возразил, что судить о безумии Дон
Кихота не его дело, а он обязан исполнять приказание своего начальника, и
после того, как он арестует Дон Кихота, пусть себе выпускают его хоть триста
раз.
-- Тем не менее, -- настаивал священник, -- на этот раз вы не должны
его брать, и он и не даст себя взять, насколько я его знаю.
Словом, священник сумел столько наговорить им, а Дон Кихот сумел
натворить столько безумств, что куадрильеросы были бы более безумны, чем он,
если бы не поняли, чего недостает Дон Кихоту; итак, они сочли за лучшее
оставить его в покое и даже согласились быть посредниками в примирении
цирюльника и Санчо Пансы, которые все еще с большим ожесточением продолжали
свою ссору. В качестве служителей правосудия куадрильеросы уладили дело
третейским судом, и обе стороны если и не вполне, по крайней мере кой в чем
были удовлетворены, так как они обменялись вьючными седлами, но не
подпругами и недоуздками. Что же касается шлема Мамбрино, священник
втихомолку -- так, чтобы Дон Кихот не знал, -- заплатил цирюльнику за его
таз восемь реалов, и тот дал ему расписку в получении этих денег с
обязательством ничего больше не вымогать за таз отныне и вовеки, аминь.
После того как эти две ссоры -- самые крупные и значительные -- были
улажены, оставалось только добиться согласия слуг дона Люиса на то, чтобы
трое из них вернулись домой, а один сопровождал дона Люиса туда, куда дон
Фернандо пожелает увезти его. А так как в угоду влюбленным и храбрым, бывшим
на постоялом дворе, благоприятствующие им звезды и смягчившаяся судьба уже
начали ломать копья и устранять все затруднения, судьба пожелала завершить
дело и увенчать его счастливым концом, потому что слуги дона Люиса
согласились исполнить его желание, а это так обрадовало донью Клару, что
всякий, кто взглянул бы тогда ей в лицо, увидел бы, как душа ее ликует. Что
касается Сораиды, хотя она и не вполне понимала происшествия, при которых
она присутствовала, но радовалась и огорчалась судя по тому, что она
подмечала и уловляла на лицах остальных, особенно же на лице своего испанца,
с которого она не сводила глаз и к которому стремилась вся ее душа. Хозяин
постоялого двора, от внимания которого не ускользнули вознаграждение за
убыток и подарок, которые цирюльник получил от священника, предъявил ему
счет Дон Кихота, требуя также и уплату за прорванные бурдюки и пролитое
вино, причем клялся, что не выпустит из постоялого двора ни Росинанта, ни
осла Санчо до тех пор, пока не получит по счету до последнего гроша.
Умиротворил всех священник, а заплатил за все дон Фернандо, хотя и
судья с полнейшей готовностью предлагал это сделать. И, таким образом, все
остались довольны и успокоились, и постоялый двор не напоминал уже собой
раздора в лагере Аграманта, как сказал Дон Кихот, а настоящую тишину и мир
времен Октавиана {Pax Octaviana, или счастливую эпоху императора Августа,
который в свое царствование имел возможность трижды запирать храм Януса.}.
Все это, по общему мнению, было достигнуто благодаря добрым намерениям и
выдающемуся красноречию священника и необычайной щедрости дона Фернандо.
Когда Дон Кихот увидел, что он свободен и избавлен от стольких ссор,
как собственных, так и своего оруженосца, он подумал, что теперь хорошо было
бы продолжать начатое путешествие и довести до конца великое приключение,
совершить которое он был призван и избран. Итак, он с быстрой решимостью
опустился на колени перед Доротеей, которая, однако, не позволила ему
сказать ни слова, пока он не поднимется; повинуясь ей, он встал и сказал:
-- Прекрасная сеньора, общеизвестная пословица говорит, что скорость и
рвение -- источник удачи, и во многих очень важных обстоятельствах опыт
показал, что рвение уполномоченного доводит даже сомнительное дело до
благополучного конца. Нигде, однако, истина эта не подтверждается столь
блистательно, как в военном деле, где быстрота и натиск предупреждают
замыслы неприятеля и одерживают победу прежде, чем противник успеет принять
меры для своей защиты. Все это я говорю потому, высочайшая и драгоценная
сеньора, что, как мне кажется, дальнейшее пребывание наше в этом замке
бесполезно и даже может нам принести такой ущерб, что впоследствии он будет
очень чувствителен для нас. Кто знает, может быть, до сведения вашего
врага-великана через тайных и ловких шпионов дошло уже известие о том, что я
еду истребить его, и промедление наше даст ему удобный случай укрепиться в
каком-нибудь неприступном замке или крепости, против которых все мои
старания и сила неутомимой руки моей могут оказаться бесполезными. Поэтому,
сеньора, предупредим нашей быстротой, как я уже говорил, замыслы врага и
отправимся немедленно в путь на добрую удачу, достижение которой в той
полной мере, какую желает ваше величество, зависит от встречи моей --
которую не следует откладывать -- лицом к лицу с вашим противником.
Дон Кихот умолк, не сказал больше ничего, и стал спокойно ждать ответа
прекрасной инфанты, а она, с величественным видом и подражая слогу Дон
Кихота, сказала следующее:
-- Благодарю вас, сеньор кабальеро, за выказанное вами доброе желание
помочь мне в моем великом горе, что вполне приличествует рыцарю, призвание и
обязанность которого -- оказывать поддержку сиротам и обездоленным; и дай-то
небо, чтобы ваше и мое желание исполнилось для того, чтобы вы видели, что
есть на свете признательные женщины! Что же касается нашего отъезда, пусть
он состоится тотчас же, так как у меня нет другой воли, кроме вашей.
Располагайте мною, как вам будет угодно и как вы найдете нужным; потому что
та, которая вручила вам защиту своей особы и препоручила вашим рукам
восстановление ее в ее владениях, не может желать идти против того, что
повелевает вам ваша мудрость.
-- Именем Бога клянусь, -- сказал Дон Кихот, -- если таким образом
передо мной смиряется сеньора, я не хочу терять случая возвысить ее и
возвести на наследственный ее престол. Пусть же отъезд наш совершится
немедленно, так как меня пришпоривает желание и намерение скорей отправиться
в путь, потому что принято говорить: в промедлении --
опасность. И раз небо не создавало и ад не видел никого, кто мог бы
испугать меня или заставить струсить, -- седлай, Санчо, Росинанта, взнуздай
своего осла, иноходца королевы, простимся с владельцем замка, с этими
сеньорами и тотчас же едем отсюда.
Санчо, бывший тут же, сказал, качая головой:
-- Ах, сеньор, сеньор, насколько еще хуже в деревеньке, чем о том
звонят,-- будь сказано с позволения почтенных чепцов!
-- Что может быть худого в какой бы то ни было деревне или же в городах
всего света, о чем могли бы звонить на посрамление мне, негодяй ты этакий?
-- Если ваша милость сердится, -- ответил Санчо, -- я замолчу и не
скажу того, что как хороший оруженосец обязан и как добрый слуга я должен
сказать своему господину.
-- Говори что хочешь, -- ответил Дон Кихот, -- если твои слова не
клонят к тому, чтобы внушить мне страх, так как, если ты боишься, ты
поступаешь сообразно с тем, что ты такое, и если я не боюсь, я поступаю
сообразно с тем, что я такое.
-- Вовсе не то, грешник я перед Богом! -- ответил Санчо. -- А мне
известно и я наверное знаю, что эта сеньора, которая называет себя королевой
великого королевства Микомикон, королева не больше чем моя мать, так как,
если бы она была тем, за что выдает себя, не стала бы она куда ни поверни
голову и в каждом углу стукаться носом с никем из здешнего общества.
Доротеа покраснела при этих словах Санчо, так как, действительно, ее
супруг, дон Фернандо, тайком от других время от времени собирал с ее уст
часть награды, заслуженной его любовью (это-то и видел Санчо, которому
подобная развязность казалась скорей приличествующей даме легкого поведения,
чем королеве великого королевства), и она не могла и не хотела ничего
ответить Санчо, но предоставила ему продолжать свою речь, что он и сделал
следующим образом:
-- Говорю это, сеньор, потому, что, если в конце концов, после того как
мы пропутешествуем по большим дорогам и всяким тропинкам, проводя плохо ночи
и еще хуже дни, тот, который уже здесь, на постоялом дворе, приятно
развлекается, явится и соберет плоды наших трудов, незачем мне торопиться
седлать Росинанта, вьючить осла и взнуздывать иноходца, а было бы лучше нам
оставаться спокойно, и пусть каждая блудница прядет свою пряжу, и мы будем
обедать.
О великий Боже! Каким ужасным гневом разгорелся Дон Кихот, когда
услышал грубые слова своего оруженосца! Гнев его был так велик, что он
прерывающимся голосом и заплетающимся языком, бросая пламя из глаз,
воскликнул:
-- О! Низкий негодяй, неосмотрительный, неучтивый, пошлый, злоязычный,
наглый невежда, хулитель и клеветник! Такие слова дерзнул ты сказать в моем
присутствии и в присутствии знатных этих сеньор и такие гнусности и дерзости
осмелился представить себе в своем грязном воображении? С глаз моих долой,
чудище природы, склад лжи, скопище обманов, сточная труба мошенничества,
изобретатель мерзостей, распространитель нелепостей, враг должного уважения
к особам королевского дома, с глаз моих долой и не показывайся мне никогда
под страхом моего гнева!
И говоря это, он высоко поднял брови, надул щеки, сверкнул во все
стороны глазами и изо всех сил топнул по земле правой ногой -- все признаки
кипевшего внутри него гнева. Эти бешеные слова и движения Дон Кихота так
смутили и напугали Санчо, что он был бы рад, если бы в ту минуту земля
разверзлась под ним и поглотила бы его; и, не зная, что ему делать, он
повернул спину и удалился с глаз разгневанного своего господина. Но умная
Доротеа, так хорошо понимавшая причуды Дон Кихота, желая смягчить его гнев,
обратилась к нему со следующими словами:
-- Не волнуйтесь, сеньор Рыцарь Печального Образа, из-за вздора,
сказанного вашим добрым оруженосцем, потому что, быть может, он говорил его
не без причины. Приняв во внимание его здравый смысл и христианскую совесть,
нельзя допустить, чтобы он мог лжесвидетельствовать против кого бы то ни
было. Итак, надо думать, нимало в том не сомневаясь, что раз в этом замке --
судя по тому, что вы, сеньор рыцарь, говорили, -- все происходит и
совершается путем волшебства, возможно, говорю я, что и Санчо, обманутый
этим дьявольским наваждением, действительно видел то, что, по его словам, он
видел и что так оскорбительно для моей чести!
-- Клянусь всемогущим Богом, -- ответил на это Дон Кихот, -- ваше
величество попало как раз в точку. Несомненно, какое-нибудь злое видение
предстало перед глазами этого грешника Санчо и было причиной, что он видел
то, что невозможно было видеть не иначе как только путем волшебства; потому
что мне самому хорошо известна доброта и простосердечие этого несчастного,
который неспособен оклеветать кого бы то ни было.
-- Оно так и есть и так и будет, -- сказал дон Фернандо, -- поэтому,
милость ваша, сеньор Дон Кихот, вы должны простить Санчо и вернуть его снова
в лоно вашей благосклонности, sicut erat un principlet {Как это было раньше
(лат.).}, прежде чем эти видения отняли у него здравый рассудок.
Дон Кихот ответил, что он прощает его, и священник пошел за Санчо,
который явился очень смиренный и, встав на колени перед своим господином,
попросил дать ему руку, что тот и сделал, позволив ему поцеловать ее, после
чего рыцарь дал Санчо свое благословение, говоря:
-- Теперь, Санчо, сын, ты окончательно убедился, насколько правда то, о
чем я уже часто тебе говорил, именно: в этом замке все совершается путем
волшебства.
-- И я этому верю, -- сказал Санчо,-- исключая подбрасывание на одеяле,
которое действительно произошло обычным путем.
-- Не верь этому, -- ответил Дон Кихот, -- потому что, если б это было
так, я отомстил бы за тебя тогда и даже и теперь; но ни тогда, ни теперь я
не мог этого сделать и не видел, кому отомстить за нанесенную тебе обиду.
Все пожелали знать, что это за история с подбрасыванием на одеяле, и
хозяин постоялого двора рассказал им в точности все, касавшееся воздушных
полетов Санчо Пансы, над чем они много смеялись, а Санчо сильно бы смутился,
если бы его господин не стал снова уверять, что все было лишь волшебство,
хотя простота Санчо никогда не доходила до того, чтобы он не считал
несомненной и доказанной истиной, без всякой примеси обмана, что его
подбрасывали на одеяле люди из плоти и костей, а не призраки, которые ему
пригрезились или вообразились, как это думал и утверждал его господин.
Прошло уже два дня с тех пор, как все это знатное общество собралось на
постоялом дворе, и, так как им казалось, что уже пора уезжать, они стали
придумывать способ, как бы освободить дона Фернандо и Доротею от труда
сопровождать Дон Кихота до его деревни ради выдумки возвращения королеве
Микомиконе ее престола и дать возможность священнику и цирюльнику увезти
его, как они желали, чтобы постараться излечить его от безумия. И вот что
они придумали. Они вошли в соглашение с крестьянином, случайно проезжавшим
мимо постоялого двора с возом, запряженным волами, повезти Дон Кихота таким
образом: из деревянных прутьев они сделали нечто вроде клетки, достаточно
просторной, чтобы Дон Кихот мог удобно поместиться в ней, и затем дон
Фернандо, его товарищи, слуги дона Люиса и куадрильеросы вместе с хозяином
-- все под руководством и по распоряжению священника -- закрыли себе лицо
масками, нарядились кто так, кто иначе, чтобы они могли показаться Дон
Кихоту совсем другими людьми, чем те, которых он видел раньше в замке.
Сделав это в полнейшей тишине, они вошли туда, где Дон Кихот лежал и спал,
отдыхая от перенесенных им волнений. Подойдя к нему, спокойно спавшему и
нимало не ожидавшему подобного рода нападения, они крепко связали ему руки и
ноги, так что, когда он в смятении проснулся, он не мог ни шевельнуться, ни
сделать что-либо другое, как только удивляться и изумляться, видя перед
собою столько странных лиц. Тотчас же у него родилась мысль, которую вечно
деятельное и расстроенное его воображение постоянно подсказывало ему: он
подумал, что все эти фигуры -- призраки очарованного замка и, без сомнения,
сам он также очарован, так как не может ни двинуться, ни защищаться, --
словом все случилось так, как и предполагал священник, придумавший эту
проделку. Из всех присутствовавших один Санчо был в своем уме и в своем
виде, и, хотя очень немногого недоставало, чтобы и он разделил недуг своего
господина, тем не менее он не преминул узнать, кто все эти ряженые, но не
смел раскрыть рта, пока не увидит, чем кончится плен и нападение на его
господина, который тоже не говорил ни слова, ожидая развязки случившейся с
ним беды.
А развязка была та, что в комнату внесли клетку, посадили Дон Кихота в
нее и так крепко заколотили решетку гвоздями, что нельзя было ее оторвать
даже в два приема. Тотчас же подняли клетку на плечи, и, когда они выходили
из комнаты, послышался страшный голос, насколько сумел изобразить его таким
цирюльник -- не с вьючным седлом, а тот, другой, -- который сказал:
-- О Рыцарь Печального Образа! Не огорчайся заточением, в котором
находишься, -- так должно было случиться, чтобы скорей завершилось
приключение, на которое тебя подвигнула великая твоя отвага. Завершится же
оно тогда, когда яростный лев Ламанчи и белая голубка Тобосы будут соединены
воедино, после того, как они смиренно склонят гордые свои выи под сладкое
ярмо брака и из этого неслыханного союза произойдут на свет божий
мужественные львята, которые будут подражать мощным когтям доблестного
своего отца, и это случится раньше, чем преследователь убегающей нимфы в
своем быстром и естественном течении дважды посетит сияющие светила {Т. е.
созвездия, а преследующий бегущую нимфу -- бог Аполлон, или бог солнца.}. И
ты, о благороднейший и самый покорный из оруженосцев, когда-либо имевших на
перевязи меч, на подбородке бороду и обоняние в носу, не тревожься и не
смущайся, видя, как на глазах у тебя уносят цвет странствующего рыцарства,
потому что скоро, если только ваятелю вселенной будет угодно, ты себя у
видишь так высоко вознесенным и возвеличенным, что сам себя не узнаешь, а
также будут приведены в исполнение обещания, данные тебе твоим добрым
господином. И я заверяю тебя от имени, мудрой Ментиронианы {От глагола
"mentir" -- "лгать".}, что и жалованье ты свое получишь, как это и увидишь
на деле. Шествуй по следам доблестного, но очарованного рыцаря, потому что
необходимо тебе идти туда, где вам обоим надлежит быть. А так как мне больше
ничего не дозволено сказать, -- оставайтесь с богом, я же вернусь туда, куда
знаю.
Оканчивая пророчество, голос зазвенел так высоко и потом спустился
таким нежным переливом, что даже соучастники шутки чуть было не поверили,
что то, что они слышат, -- правда. Дон Кихот был утешен сделанным ему
пророчеством, так как он тотчас же проник в смысл его и понял, что ему
обещано соединиться законным и святым браком с его возлюбленной Дульсинеей
Тобосской, из счастливой утробы которой выйдут львята, сыновья его, для
вековечной славы Ламанчи. Искренно и твердо поверив этому, он возвысил голос
и, испустив глубокий вздох, сказал:
-- О ты, кто бы ты ни был, предсказавший мне столь великое счастье,
умоляю тебя, попроси от моего имени мудрого чародея, который заботится о
моих делах, чтобы он не дал мне погибнуть в той тюрьме, в которой меня
теперь увозят, прежде чем исполнятся столь радостные и несравненные
обещания, как те, которые я здесь слышал. Лишь бы только они исполнились, --
я сочту за блаженство страдания моей тюрьмы, за отраду -- цепи, надетые на
меня, и эти доски, на которые меня кладут, покажутся мне не жестким полем
сражения, а мягкою постелью и счастливым брачным ложем. Что же касается
утешения моего оруженосца Санчо Пансы, я верю в его честность и доброе ко
мне отношение,-- он меня не покинет ни в счастии, ни в несчастии, потому
что, если б даже моя или его злая судьба помешала мне дать ему в дар остров
или что-либо другое равной же ценности, по крайней мере его жалование не
уйдет от него, так как в моем завещании, уже написанном мной, я точно
определяю, сколько ему следует уплатить не соответственно его многочисленным
и добрым услугам, а по моим средствам.
Пока Дон Кихот это говорил, священник старался убедить куадрильеросов,
что рыцарь не в своем уме, как они сами видят из его слов и поступков, и
незачем продолжать дело, потому что, если они и арестуют его и уведут с
собой, им тотчас же пришлось бы его выпустить, как сумасшедшего.
Куадрильеро, имевший приказ об аресте, возразил, что судить о безумии Дон
Кихота не его дело, а он обязан исполнять приказание своего начальника, и
после того, как он арестует Дон Кихота, пусть себе выпускают его хоть триста
раз.
-- Тем не менее, -- настаивал священник, -- на этот раз вы не должны
его брать, и он и не даст себя взять, насколько я его знаю.
Словом, священник сумел столько наговорить им, а Дон Кихот сумел
натворить столько безумств, что куадрильеросы были бы более безумны, чем он,
если бы не поняли, чего недостает Дон Кихоту; итак, они сочли за лучшее
оставить его в покое и даже согласились быть посредниками в примирении
цирюльника и Санчо Пансы, которые все еще с большим ожесточением продолжали
свою ссору. В качестве служителей правосудия куадрильеросы уладили дело
третейским судом, и обе стороны если и не вполне, по крайней мере кой в чем
были удовлетворены, так как они обменялись вьючными седлами, но не
подпругами и недоуздками. Что же касается шлема Мамбрино, священник
втихомолку -- так, чтобы Дон Кихот не знал, -- заплатил цирюльнику за его
таз восемь реалов, и тот дал ему расписку в получении этих денег с
обязательством ничего больше не вымогать за таз отныне и вовеки, аминь.
После того как эти две ссоры -- самые крупные и значительные -- были
улажены, оставалось только добиться согласия слуг дона Люиса на то, чтобы
трое из них вернулись домой, а один сопровождал дона Люиса туда, куда дон
Фернандо пожелает увезти его. А так как в угоду влюбленным и храбрым, бывшим
на постоялом дворе, благоприятствующие им звезды и смягчившаяся судьба уже
начали ломать копья и устранять все затруднения, судьба пожелала завершить
дело и увенчать его счастливым концом, потому что слуги дона Люиса
согласились исполнить его желание, а это так обрадовало донью Клару, что
всякий, кто взглянул бы тогда ей в лицо, увидел бы, как душа ее ликует. Что
касается Сораиды, хотя она и не вполне понимала происшествия, при которых
она присутствовала, но радовалась и огорчалась судя по тому, что она
подмечала и уловляла на лицах остальных, особенно же на лице своего испанца,
с которого она не сводила глаз и к которому стремилась вся ее душа. Хозяин
постоялого двора, от внимания которого не ускользнули вознаграждение за
убыток и подарок, которые цирюльник получил от священника, предъявил ему
счет Дон Кихота, требуя также и уплату за прорванные бурдюки и пролитое
вино, причем клялся, что не выпустит из постоялого двора ни Росинанта, ни
осла Санчо до тех пор, пока не получит по счету до последнего гроша.
Умиротворил всех священник, а заплатил за все дон Фернандо, хотя и
судья с полнейшей готовностью предлагал это сделать. И, таким образом, все
остались довольны и успокоились, и постоялый двор не напоминал уже собой
раздора в лагере Аграманта, как сказал Дон Кихот, а настоящую тишину и мир
времен Октавиана {Pax Octaviana, или счастливую эпоху императора Августа,
который в свое царствование имел возможность трижды запирать храм Януса.}.
Все это, по общему мнению, было достигнуто благодаря добрым намерениям и
выдающемуся красноречию священника и необычайной щедрости дона Фернандо.
Когда Дон Кихот увидел, что он свободен и избавлен от стольких ссор,
как собственных, так и своего оруженосца, он подумал, что теперь хорошо было
бы продолжать начатое путешествие и довести до конца великое приключение,
совершить которое он был призван и избран. Итак, он с быстрой решимостью
опустился на колени перед Доротеей, которая, однако, не позволила ему
сказать ни слова, пока он не поднимется; повинуясь ей, он встал и сказал:
-- Прекрасная сеньора, общеизвестная пословица говорит, что скорость и
рвение -- источник удачи, и во многих очень важных обстоятельствах опыт
показал, что рвение уполномоченного доводит даже сомнительное дело до
благополучного конца. Нигде, однако, истина эта не подтверждается столь
блистательно, как в военном деле, где быстрота и натиск предупреждают
замыслы неприятеля и одерживают победу прежде, чем противник успеет принять
меры для своей защиты. Все это я говорю потому, высочайшая и драгоценная
сеньора, что, как мне кажется, дальнейшее пребывание наше в этом замке
бесполезно и даже может нам принести такой ущерб, что впоследствии он будет
очень чувствителен для нас. Кто знает, может быть, до сведения вашего
врага-великана через тайных и ловких шпионов дошло уже известие о том, что я
еду истребить его, и промедление наше даст ему удобный случай укрепиться в
каком-нибудь неприступном замке или крепости, против которых все мои
старания и сила неутомимой руки моей могут оказаться бесполезными. Поэтому,
сеньора, предупредим нашей быстротой, как я уже говорил, замыслы врага и
отправимся немедленно в путь на добрую удачу, достижение которой в той
полной мере, какую желает ваше величество, зависит от встречи моей --
которую не следует откладывать -- лицом к лицу с вашим противником.
Дон Кихот умолк, не сказал больше ничего, и стал спокойно ждать ответа
прекрасной инфанты, а она, с величественным видом и подражая слогу Дон
Кихота, сказала следующее:
-- Благодарю вас, сеньор кабальеро, за выказанное вами доброе желание
помочь мне в моем великом горе, что вполне приличествует рыцарю, призвание и
обязанность которого -- оказывать поддержку сиротам и обездоленным; и дай-то
небо, чтобы ваше и мое желание исполнилось для того, чтобы вы видели, что
есть на свете признательные женщины! Что же касается нашего отъезда, пусть
он состоится тотчас же, так как у меня нет другой воли, кроме вашей.
Располагайте мною, как вам будет угодно и как вы найдете нужным; потому что
та, которая вручила вам защиту своей особы и препоручила вашим рукам
восстановление ее в ее владениях, не может желать идти против того, что
повелевает вам ваша мудрость.
-- Именем Бога клянусь, -- сказал Дон Кихот, -- если таким образом
передо мной смиряется сеньора, я не хочу терять случая возвысить ее и
возвести на наследственный ее престол. Пусть же отъезд наш совершится
немедленно, так как меня пришпоривает желание и намерение скорей отправиться
в путь, потому что принято говорить: в промедлении --
опасность. И раз небо не создавало и ад не видел никого, кто мог бы
испугать меня или заставить струсить, -- седлай, Санчо, Росинанта, взнуздай
своего осла, иноходца королевы, простимся с владельцем замка, с этими
сеньорами и тотчас же едем отсюда.
Санчо, бывший тут же, сказал, качая головой:
-- Ах, сеньор, сеньор, насколько еще хуже в деревеньке, чем о том
звонят,-- будь сказано с позволения почтенных чепцов!
-- Что может быть худого в какой бы то ни было деревне или же в городах
всего света, о чем могли бы звонить на посрамление мне, негодяй ты этакий?
-- Если ваша милость сердится, -- ответил Санчо, -- я замолчу и не
скажу того, что как хороший оруженосец обязан и как добрый слуга я должен
сказать своему господину.
-- Говори что хочешь, -- ответил Дон Кихот, -- если твои слова не
клонят к тому, чтобы внушить мне страх, так как, если ты боишься, ты
поступаешь сообразно с тем, что ты такое, и если я не боюсь, я поступаю
сообразно с тем, что я такое.
-- Вовсе не то, грешник я перед Богом! -- ответил Санчо. -- А мне
известно и я наверное знаю, что эта сеньора, которая называет себя королевой
великого королевства Микомикон, королева не больше чем моя мать, так как,
если бы она была тем, за что выдает себя, не стала бы она куда ни поверни
голову и в каждом углу стукаться носом с никем из здешнего общества.
Доротеа покраснела при этих словах Санчо, так как, действительно, ее
супруг, дон Фернандо, тайком от других время от времени собирал с ее уст
часть награды, заслуженной его любовью (это-то и видел Санчо, которому
подобная развязность казалась скорей приличествующей даме легкого поведения,
чем королеве великого королевства), и она не могла и не хотела ничего
ответить Санчо, но предоставила ему продолжать свою речь, что он и сделал
следующим образом:
-- Говорю это, сеньор, потому, что, если в конце концов, после того как
мы пропутешествуем по большим дорогам и всяким тропинкам, проводя плохо ночи
и еще хуже дни, тот, который уже здесь, на постоялом дворе, приятно
развлекается, явится и соберет плоды наших трудов, незачем мне торопиться
седлать Росинанта, вьючить осла и взнуздывать иноходца, а было бы лучше нам
оставаться спокойно, и пусть каждая блудница прядет свою пряжу, и мы будем
обедать.
О великий Боже! Каким ужасным гневом разгорелся Дон Кихот, когда
услышал грубые слова своего оруженосца! Гнев его был так велик, что он
прерывающимся голосом и заплетающимся языком, бросая пламя из глаз,
воскликнул:
-- О! Низкий негодяй, неосмотрительный, неучтивый, пошлый, злоязычный,
наглый невежда, хулитель и клеветник! Такие слова дерзнул ты сказать в моем
присутствии и в присутствии знатных этих сеньор и такие гнусности и дерзости
осмелился представить себе в своем грязном воображении? С глаз моих долой,
чудище природы, склад лжи, скопище обманов, сточная труба мошенничества,
изобретатель мерзостей, распространитель нелепостей, враг должного уважения
к особам королевского дома, с глаз моих долой и не показывайся мне никогда
под страхом моего гнева!
И говоря это, он высоко поднял брови, надул щеки, сверкнул во все
стороны глазами и изо всех сил топнул по земле правой ногой -- все признаки
кипевшего внутри него гнева. Эти бешеные слова и движения Дон Кихота так
смутили и напугали Санчо, что он был бы рад, если бы в ту минуту земля
разверзлась под ним и поглотила бы его; и, не зная, что ему делать, он
повернул спину и удалился с глаз разгневанного своего господина. Но умная
Доротеа, так хорошо понимавшая причуды Дон Кихота, желая смягчить его гнев,
обратилась к нему со следующими словами:
-- Не волнуйтесь, сеньор Рыцарь Печального Образа, из-за вздора,
сказанного вашим добрым оруженосцем, потому что, быть может, он говорил его
не без причины. Приняв во внимание его здравый смысл и христианскую совесть,
нельзя допустить, чтобы он мог лжесвидетельствовать против кого бы то ни
было. Итак, надо думать, нимало в том не сомневаясь, что раз в этом замке --
судя по тому, что вы, сеньор рыцарь, говорили, -- все происходит и
совершается путем волшебства, возможно, говорю я, что и Санчо, обманутый
этим дьявольским наваждением, действительно видел то, что, по его словам, он
видел и что так оскорбительно для моей чести!
-- Клянусь всемогущим Богом, -- ответил на это Дон Кихот, -- ваше
величество попало как раз в точку. Несомненно, какое-нибудь злое видение
предстало перед глазами этого грешника Санчо и было причиной, что он видел
то, что невозможно было видеть не иначе как только путем волшебства; потому
что мне самому хорошо известна доброта и простосердечие этого несчастного,
который неспособен оклеветать кого бы то ни было.
-- Оно так и есть и так и будет, -- сказал дон Фернандо, -- поэтому,
милость ваша, сеньор Дон Кихот, вы должны простить Санчо и вернуть его снова
в лоно вашей благосклонности, sicut erat un principlet {Как это было раньше
(лат.).}, прежде чем эти видения отняли у него здравый рассудок.
Дон Кихот ответил, что он прощает его, и священник пошел за Санчо,
который явился очень смиренный и, встав на колени перед своим господином,
попросил дать ему руку, что тот и сделал, позволив ему поцеловать ее, после
чего рыцарь дал Санчо свое благословение, говоря:
-- Теперь, Санчо, сын, ты окончательно убедился, насколько правда то, о
чем я уже часто тебе говорил, именно: в этом замке все совершается путем
волшебства.
-- И я этому верю, -- сказал Санчо,-- исключая подбрасывание на одеяле,
которое действительно произошло обычным путем.
-- Не верь этому, -- ответил Дон Кихот, -- потому что, если б это было
так, я отомстил бы за тебя тогда и даже и теперь; но ни тогда, ни теперь я
не мог этого сделать и не видел, кому отомстить за нанесенную тебе обиду.
Все пожелали знать, что это за история с подбрасыванием на одеяле, и
хозяин постоялого двора рассказал им в точности все, касавшееся воздушных
полетов Санчо Пансы, над чем они много смеялись, а Санчо сильно бы смутился,
если бы его господин не стал снова уверять, что все было лишь волшебство,
хотя простота Санчо никогда не доходила до того, чтобы он не считал
несомненной и доказанной истиной, без всякой примеси обмана, что его
подбрасывали на одеяле люди из плоти и костей, а не призраки, которые ему
пригрезились или вообразились, как это думал и утверждал его господин.
Прошло уже два дня с тех пор, как все это знатное общество собралось на
постоялом дворе, и, так как им казалось, что уже пора уезжать, они стали
придумывать способ, как бы освободить дона Фернандо и Доротею от труда
сопровождать Дон Кихота до его деревни ради выдумки возвращения королеве
Микомиконе ее престола и дать возможность священнику и цирюльнику увезти
его, как они желали, чтобы постараться излечить его от безумия. И вот что
они придумали. Они вошли в соглашение с крестьянином, случайно проезжавшим
мимо постоялого двора с возом, запряженным волами, повезти Дон Кихота таким
образом: из деревянных прутьев они сделали нечто вроде клетки, достаточно
просторной, чтобы Дон Кихот мог удобно поместиться в ней, и затем дон
Фернандо, его товарищи, слуги дона Люиса и куадрильеросы вместе с хозяином
-- все под руководством и по распоряжению священника -- закрыли себе лицо
масками, нарядились кто так, кто иначе, чтобы они могли показаться Дон
Кихоту совсем другими людьми, чем те, которых он видел раньше в замке.
Сделав это в полнейшей тишине, они вошли туда, где Дон Кихот лежал и спал,
отдыхая от перенесенных им волнений. Подойдя к нему, спокойно спавшему и
нимало не ожидавшему подобного рода нападения, они крепко связали ему руки и
ноги, так что, когда он в смятении проснулся, он не мог ни шевельнуться, ни
сделать что-либо другое, как только удивляться и изумляться, видя перед
собою столько странных лиц. Тотчас же у него родилась мысль, которую вечно
деятельное и расстроенное его воображение постоянно подсказывало ему: он
подумал, что все эти фигуры -- призраки очарованного замка и, без сомнения,
сам он также очарован, так как не может ни двинуться, ни защищаться, --
словом все случилось так, как и предполагал священник, придумавший эту
проделку. Из всех присутствовавших один Санчо был в своем уме и в своем
виде, и, хотя очень немногого недоставало, чтобы и он разделил недуг своего
господина, тем не менее он не преминул узнать, кто все эти ряженые, но не
смел раскрыть рта, пока не увидит, чем кончится плен и нападение на его
господина, который тоже не говорил ни слова, ожидая развязки случившейся с
ним беды.
А развязка была та, что в комнату внесли клетку, посадили Дон Кихота в
нее и так крепко заколотили решетку гвоздями, что нельзя было ее оторвать
даже в два приема. Тотчас же подняли клетку на плечи, и, когда они выходили
из комнаты, послышался страшный голос, насколько сумел изобразить его таким
цирюльник -- не с вьючным седлом, а тот, другой, -- который сказал:
-- О Рыцарь Печального Образа! Не огорчайся заточением, в котором
находишься, -- так должно было случиться, чтобы скорей завершилось
приключение, на которое тебя подвигнула великая твоя отвага. Завершится же
оно тогда, когда яростный лев Ламанчи и белая голубка Тобосы будут соединены
воедино, после того, как они смиренно склонят гордые свои выи под сладкое
ярмо брака и из этого неслыханного союза произойдут на свет божий
мужественные львята, которые будут подражать мощным когтям доблестного
своего отца, и это случится раньше, чем преследователь убегающей нимфы в
своем быстром и естественном течении дважды посетит сияющие светила {Т. е.
созвездия, а преследующий бегущую нимфу -- бог Аполлон, или бог солнца.}. И
ты, о благороднейший и самый покорный из оруженосцев, когда-либо имевших на
перевязи меч, на подбородке бороду и обоняние в носу, не тревожься и не
смущайся, видя, как на глазах у тебя уносят цвет странствующего рыцарства,
потому что скоро, если только ваятелю вселенной будет угодно, ты себя у
видишь так высоко вознесенным и возвеличенным, что сам себя не узнаешь, а
также будут приведены в исполнение обещания, данные тебе твоим добрым
господином. И я заверяю тебя от имени, мудрой Ментиронианы {От глагола
"mentir" -- "лгать".}, что и жалованье ты свое получишь, как это и увидишь
на деле. Шествуй по следам доблестного, но очарованного рыцаря, потому что
необходимо тебе идти туда, где вам обоим надлежит быть. А так как мне больше
ничего не дозволено сказать, -- оставайтесь с богом, я же вернусь туда, куда
знаю.
Оканчивая пророчество, голос зазвенел так высоко и потом спустился
таким нежным переливом, что даже соучастники шутки чуть было не поверили,
что то, что они слышат, -- правда. Дон Кихот был утешен сделанным ему
пророчеством, так как он тотчас же проник в смысл его и понял, что ему
обещано соединиться законным и святым браком с его возлюбленной Дульсинеей
Тобосской, из счастливой утробы которой выйдут львята, сыновья его, для
вековечной славы Ламанчи. Искренно и твердо поверив этому, он возвысил голос
и, испустив глубокий вздох, сказал:
-- О ты, кто бы ты ни был, предсказавший мне столь великое счастье,
умоляю тебя, попроси от моего имени мудрого чародея, который заботится о
моих делах, чтобы он не дал мне погибнуть в той тюрьме, в которой меня
теперь увозят, прежде чем исполнятся столь радостные и несравненные
обещания, как те, которые я здесь слышал. Лишь бы только они исполнились, --
я сочту за блаженство страдания моей тюрьмы, за отраду -- цепи, надетые на
меня, и эти доски, на которые меня кладут, покажутся мне не жестким полем
сражения, а мягкою постелью и счастливым брачным ложем. Что же касается
утешения моего оруженосца Санчо Пансы, я верю в его честность и доброе ко
мне отношение,-- он меня не покинет ни в счастии, ни в несчастии, потому
что, если б даже моя или его злая судьба помешала мне дать ему в дар остров
или что-либо другое равной же ценности, по крайней мере его жалование не
уйдет от него, так как в моем завещании, уже написанном мной, я точно
определяю, сколько ему следует уплатить не соответственно его многочисленным
и добрым услугам, а по моим средствам.
 Санчо Панса с большой почтительностью поклонился рыцарю и поцеловал обе
его руки, -- одну он не мог поцеловать, так как они были связаны вместе.
Тотчас же призраки подняли клетку на плечи и установили ее на повозку,
запряженную волами.
Санчо Панса с большой почтительностью поклонился рыцарю и поцеловал обе
его руки, -- одну он не мог поцеловать, так как они были связаны вместе.
Тотчас же призраки подняли клетку на плечи и установили ее на повозку,
запряженную волами.

 Когда Дон Кихот увидел, что он посажен в клетку, а клетка поставлена на
повозку, он сказал:
-- Многие и очень значительные истории прочел я о странствующих
рыцарях, но никогда не читал, не видел и не слышал, чтобы очарованных
рыцарей возили таким образом и с такой медлительностью, как этого можно
ждать от ленивых и тяжелых на подъем волов. Очарованных рыцарей всегда мчали
по воздуху с неимоверной быстротой, окутанных темными облаками, или же на
огненной колеснице, или на каком-нибудь гипогрифе и другом подобном звере,
-- а что теперь меня везут на повозке, запряженной волами, это, как жив бог,
приводит меня в смущение!
Но, быть может, рыцарство и волшебства наших дней идут другим путем,
чем в былые времена, а также, может быть, подобно тому, как я на свете новый
рыцарь и первый, воскресивший уже забытую профессию странствующего
рыцарства, тоже недавно изобрели новый род волшебства и другие способы
возить очарованных. Что ты об этом думаешь, Санчо, сын?
-- Не знаю, что мне думать об этом,-- ответил Санчо, -- потому что я не
так начитан, как ваша милость в странствующих писаниях, но тем не менее я
готов утверждать и клясться, что все эти призраки, которые вертятся вокруг
нас, -- не очень-то добрые католики.
-- Католики? Отец мой! -- ответил Дон Кихот. -- Как могут они быть
католиками, если все они демоны, принявшие фантастические облики, чтоб
сделать мне зло и привести меня в такое положение? Если же ты желаешь
убедиться, что это правда, дотронься до них и пощупай их, и ты увидишь, что
у них нет тела, а только воздух, нет в них вещества, а только призрачность.
-- По чести, сеньор, -- ответил Санчо, -- я уже дотрагивался до них, и
вот тот дьявол, который так хлопочет около нас: у него твердое, крепкое тело
и есть еще другое свойство, совсем непохожее на то, которым, как я слышал,
отличаются демоны; потому что говорят, будто от всех от них несет серой и
другими скверными запахами, а этот на расстоянии полумили благоухает амброй.
Санчо говорил это о доне Фернандо, от которого, как от очень знатного
сеньора, действительно должно было пахнуть, как говорил Санчо.
-- Не удивляйся этому, Санчо, друг,-- ответил Дон Кихот, -- так как я
должен сказать тебе, что дьяволы многое знают, и хотя бы они и
распространяли кругом себя запах, от них ничем не пахнет, потому что они --
духи, а если от них и пахнет, то не может пахнуть чем-либо хорошим, а только
дурным и зловонным. Причина та, что, где бы они ни были, они с собою несут
ад и не могут найти никакого облегчения своим мукам, а так как благоуханье
-- вещь, доставляющая удовольствие и наслаждение, то и невозможно, чтобы от
них благоухало. Если же тебе показалось, что от того демона, о котором ты
говорил, несет амброй, -- или ты ошибаешься, или же он желает обмануть тебя,
чтобы ты его не принимал за демона.
Весь этот разговор слуга и господин вели между собой; и дон Фернандо и
Карденио, опасаясь, чтобы Санчо окончательно не раскрыл их выдумки -- к чему
он уже был очень близок, -- решили поспешить с отъездом. Итак, отозвав в
сторону хозяина постоялого двора, они велели ему оседлать Росинанта и осла
Санчо, что хозяин очень быстро и исполнил. А между тем священник уже
договорился с куадрильеро, чтобы те сопровождали их до села за известную
поденную плату. Карденио повесил к седлу Росинанта с одной стороны лук и
щит, с другой -- таз и приказал знаком Санчо сесть на осла и взять за повод
Росинанта; по обеим же сторонам повозки он поставил двух куадрильеросов с
винтовками. Но прежде чем процессия двинулась, вышла хозяйка постоялого
двора, ее дочь и Мариторнес, чтобы проститься с Дон Кихотом, притворяясь,
что они плачут с горя над его несчастием, -- а Дон Кихот сказал им:
-- Не плачьте, добрые мои сеньоры, такого рода несчастиям подвержены
все рыцари, следующие призванию, которому следую я, и, если б эти бедствия
не случились со мной, я не считал бы себя знаменитым странствующим рыцарем,
потому что с рыцарями малого имени и славы никогда не приключаются подобные
случаи, так как никто в мире не помнит о них. С доблестными же рыцарями это
бывает потому, что заслугам и мужеству их завидуют многие князья и иные
рыцари, которые стараются злыми путями погубить добрых. Но тем не менее
добродетель так могущественна, что она сама по себе, несмотря на все
чернокнижие, которое знал первый изобретатель его, Зороастр, выйдет
победительницей из всех затруднений и прольет свой свет над миром, как
проливает его солнце на небе. Простите мне, прекрасные сеньоры, если я по
оплошности своей причинил вам какое-либо неудовольствие, так как намеренно и
умышлено я никому никогда не причинял его; просите Бога, чтобы Он избавил
меня от этих оков, на которые осудил меня какой-нибудь злонамеренный
чародей, и, если я освобожусь от них, из моей памяти не изгладятся милости,
которые вы мне в этом замке оказывали, и я сумею отблагодарить, служить вам
и вознаградить за них, как они того стоят.
Когда Дон Кихот увидел, что он посажен в клетку, а клетка поставлена на
повозку, он сказал:
-- Многие и очень значительные истории прочел я о странствующих
рыцарях, но никогда не читал, не видел и не слышал, чтобы очарованных
рыцарей возили таким образом и с такой медлительностью, как этого можно
ждать от ленивых и тяжелых на подъем волов. Очарованных рыцарей всегда мчали
по воздуху с неимоверной быстротой, окутанных темными облаками, или же на
огненной колеснице, или на каком-нибудь гипогрифе и другом подобном звере,
-- а что теперь меня везут на повозке, запряженной волами, это, как жив бог,
приводит меня в смущение!
Но, быть может, рыцарство и волшебства наших дней идут другим путем,
чем в былые времена, а также, может быть, подобно тому, как я на свете новый
рыцарь и первый, воскресивший уже забытую профессию странствующего
рыцарства, тоже недавно изобрели новый род волшебства и другие способы
возить очарованных. Что ты об этом думаешь, Санчо, сын?
-- Не знаю, что мне думать об этом,-- ответил Санчо, -- потому что я не
так начитан, как ваша милость в странствующих писаниях, но тем не менее я
готов утверждать и клясться, что все эти призраки, которые вертятся вокруг
нас, -- не очень-то добрые католики.
-- Католики? Отец мой! -- ответил Дон Кихот. -- Как могут они быть
католиками, если все они демоны, принявшие фантастические облики, чтоб
сделать мне зло и привести меня в такое положение? Если же ты желаешь
убедиться, что это правда, дотронься до них и пощупай их, и ты увидишь, что
у них нет тела, а только воздух, нет в них вещества, а только призрачность.
-- По чести, сеньор, -- ответил Санчо, -- я уже дотрагивался до них, и
вот тот дьявол, который так хлопочет около нас: у него твердое, крепкое тело
и есть еще другое свойство, совсем непохожее на то, которым, как я слышал,
отличаются демоны; потому что говорят, будто от всех от них несет серой и
другими скверными запахами, а этот на расстоянии полумили благоухает амброй.
Санчо говорил это о доне Фернандо, от которого, как от очень знатного
сеньора, действительно должно было пахнуть, как говорил Санчо.
-- Не удивляйся этому, Санчо, друг,-- ответил Дон Кихот, -- так как я
должен сказать тебе, что дьяволы многое знают, и хотя бы они и
распространяли кругом себя запах, от них ничем не пахнет, потому что они --
духи, а если от них и пахнет, то не может пахнуть чем-либо хорошим, а только
дурным и зловонным. Причина та, что, где бы они ни были, они с собою несут
ад и не могут найти никакого облегчения своим мукам, а так как благоуханье
-- вещь, доставляющая удовольствие и наслаждение, то и невозможно, чтобы от
них благоухало. Если же тебе показалось, что от того демона, о котором ты
говорил, несет амброй, -- или ты ошибаешься, или же он желает обмануть тебя,
чтобы ты его не принимал за демона.
Весь этот разговор слуга и господин вели между собой; и дон Фернандо и
Карденио, опасаясь, чтобы Санчо окончательно не раскрыл их выдумки -- к чему
он уже был очень близок, -- решили поспешить с отъездом. Итак, отозвав в
сторону хозяина постоялого двора, они велели ему оседлать Росинанта и осла
Санчо, что хозяин очень быстро и исполнил. А между тем священник уже
договорился с куадрильеро, чтобы те сопровождали их до села за известную
поденную плату. Карденио повесил к седлу Росинанта с одной стороны лук и
щит, с другой -- таз и приказал знаком Санчо сесть на осла и взять за повод
Росинанта; по обеим же сторонам повозки он поставил двух куадрильеросов с
винтовками. Но прежде чем процессия двинулась, вышла хозяйка постоялого
двора, ее дочь и Мариторнес, чтобы проститься с Дон Кихотом, притворяясь,
что они плачут с горя над его несчастием, -- а Дон Кихот сказал им:
-- Не плачьте, добрые мои сеньоры, такого рода несчастиям подвержены
все рыцари, следующие призванию, которому следую я, и, если б эти бедствия
не случились со мной, я не считал бы себя знаменитым странствующим рыцарем,
потому что с рыцарями малого имени и славы никогда не приключаются подобные
случаи, так как никто в мире не помнит о них. С доблестными же рыцарями это
бывает потому, что заслугам и мужеству их завидуют многие князья и иные
рыцари, которые стараются злыми путями погубить добрых. Но тем не менее
добродетель так могущественна, что она сама по себе, несмотря на все
чернокнижие, которое знал первый изобретатель его, Зороастр, выйдет
победительницей из всех затруднений и прольет свой свет над миром, как
проливает его солнце на небе. Простите мне, прекрасные сеньоры, если я по
оплошности своей причинил вам какое-либо неудовольствие, так как намеренно и
умышлено я никому никогда не причинял его; просите Бога, чтобы Он избавил
меня от этих оков, на которые осудил меня какой-нибудь злонамеренный
чародей, и, если я освобожусь от них, из моей памяти не изгладятся милости,
которые вы мне в этом замке оказывали, и я сумею отблагодарить, служить вам
и вознаградить за них, как они того стоят.
 Пока этот разговор происходил между дамами замка и Дон Кихотом,
священник и цирюльник прощались с доном Фернандо и его товарищами, с
капитаном и его братом и со всеми столь довольными сеньорами, в особенности
с Доротеей и Люсиндой. Все обнимались друг с другом и обещали извещать о
том, что с ними случится, а дон Фернандо дал священнику адрес, куда ему
писать, чтобы узнать обо всем касающемся Дон Кихота, уверяя его, что нет
вещи, которая доставила бы ему большее удовольствие, чем эти сведения; со
своей стороны, он напишет священнику обо всем, что может ему доставить
удовольствие, -- как о своей свадьбе, так и о крестинах Сораиды, о судьбе
дона Люиса и о возвращении Люсинды к ее родителям. Священник обещал точно
исполнить то, о чем он его просил. Еще раз они обнялись друг с другом и еще
раз взаимно обменялись предложениями услуг. Хозяин подошел к священнику и
подал ему несколько исписанных листов, говоря, что он их нашел в подкладке
чемоданчика, где лежала "Повесть о Безрассудно-любопытном"; и так как
собственник чемоданчика больше не возвращался сюда, то пусть священник
возьмет все это себе, потому что он, хозяин, не умеет читать, и эти бумаги
ему не нужны. Священник поблагодарил, раскрыл рукопись и увидел в самом ее
начале слова: "Повесть о Ринконете и Кортадильо" {"Novella de Rinconete и
Cortadillo" -- одна из повестей самого Сервантеса в "Novelas Exemplares ",
впервые напечатанная им в 1613 г.}, из чего он понял, что это какой-нибудь
рассказ, и вывел заключение: если "Повесть о Безрассудно-любопытном" была
хороша, может, и эта будет такой же и, пожалуй, еще обе написаны одним и тем
же автором. Итак, он взял ее с собой, намереваясь при случае прочесть ее.
Затем он сел верхом, а также и его друг цирюльник, оба в масках, чтобы Дон
Кихот не узнал их сразу, и они поехали позади повозки, причем соблюдался
следующий порядок: впереди ехала повозка, которою правил ее собственник; по
сторонам ее шли, как уже было сказано, куадрильеросы со своими кремневыми
ружьями, тотчас же затем следовал Санчо на осле, ведя в поводу Росинанта; а
позади всех ехали священник и цирюльник на своих могучих мулах, с
прикрытыми, как уже было сказано, лицами и с серьезной и важной осанкой,
подвигаясь не быстрее того, чем это дозволял медлительный шаг волов. Дон
Кихот сидел в клетке со связанными руками, с вытянутыми ногами,
прислонившись спиной к решетке, такой молчаливый и кроткий, точно это был не
человек из плоти и крови, а каменное изваяние. Итак, безмолвно и медленно
проехали они около двух миль, пока не добрались до поляны, которая
показалась возчику удобным местом, чтобы здесь дать отдохнуть волам и
покормить их. Он сказал об этом священнику, но цирюльник посоветовал ехать
несколько дальше, так как он знал, что за холмом, который уже был виден
поблизости, есть другая долина, с более густой и лучшей травой, чем та, где
они хотят остановиться. Совет цирюльника был принят и они снова продолжали
свой путь.
В это время священник повернул голову и увидел, что за ними едет верхом
шесть или семь человек, хорошо одетых и снаряженных, которые быстро их
догнали, потому что они ехали не лениво и медленно, как шли волы, а верхом
на мулах каноников и с желанием поскорее добраться для сиесты на постоялый
двор, отстоявший меньше чем на милю оттуда. Быстрые догнали медленных, и те
и другие вежливо приветствовали друг друга, а один из подъехавших,
оказавшийся каноником из Толедо и господином всех, которые его сопровождали,
видя движущуюся в таком порядке процессию, состоявшую из повозки,
куадрильеросов, Санчо Пансы, Росинанта, священника, цирюльника и главным
образом Дон Кихота, сидевшего в клетке со связанными руками, не мог
удержаться, чтобы не спросить, вследствие чего везут таким образом этого
человека, хотя он уже догадался, увидав отличительные признаки
куадрильеросов, что, должно быть, это какой-нибудь окаянный грабитель с
больших дорог или же другого рода преступник, карать которого надлежало
Святой эрмандаде. Один из куадрильеросов, к которому он обратился с этим
вопросом, ответил следующим образом:
-- Сеньор, о том, почему везут таким образом этого кабальеро, спросите
его самого, так как мы этого не знаем.
Дон Кихот слышал разговор и сказал:
-- Быть может, вы, милости ваши, сеньоры рыцари, люди сведущие и
опытные в делах странствующего рыцарства, и если это так, я вам сообщу о
моих несчастиях, если же нет, -- мне незачем утомлять себя рассказом о них.
Между тем подъехали уже священник и цирюльник, и, увидав, что проезжие
вступили в разговор с Дон Кихотом Ламанчским, они поспешили так ответить,
чтобы их хитрость не была открыта. На вопрос Дон Кихота каноник сказал ему:
-- По правде говоря, брат, я больше знаю толк в рыцарских книгах, чем в
"Sumulas" Вильальпандо {"La Suma de las Sumulas" Гаспара Кардильо де
Вильальпандо, напечатанное в Алькале в 1557 г., было вто время
общераспространенным руководством по первым правилам логики.}, так что, если
суть в этом, вы можете спокойно сообщить мне все, что желаете.
-- В добрый час, -- ответил Дон Кихот, -- раз это так, сеньор
кабальеро, я желаю, чтобы вы знали, что меня везут в этой клетке,
очарованного вследствие зависти и обмана злых чародеев, так как добродетель
больше преследуется злыми, чем ее любят добрые. Я -- странствующий рыцарь, и
не из тех, чьи имена слава никогда не вспомнила, чтобы увековечить их в
своих летописях. Я из тех, что наперекор и назло самой зависти и всем магам,
сколько бы их ни произвела Персия, браминов -- Индия, и гинософистов --
Эфиопия, внесут свое имя в списки храма бессмертия, чтобы оно служило
примером и образцом для грядущих веков и странствующие рыцари знали бы, по
чьим стопам им надо идти, если они желают достигнуть вершины и почетного
апогея оружия.
-- Сеньор Дон Кихот Ламанчский говорит правду, -- сказал тогда
священник, -- потому что везут его очарованным в этой клетке не за его вину
или проступок, а вследствие злобы тех, кого добродетель раздражает, а
доблесть оскорбляет. Это, сеньор. Рыцарь Печального Образа -- если вы, быть
может, уже слышали о нем, -- доблестные подвиги и высокие деяния которого
будут вписаны на твердой бронзе и вековечном мраморе, сколько бы зависть ни
старалась неутомимо омрачить их, а зложелательство -- скрыть их.
Когда каноник услышал, что и пленный и находящийся на свободе говорят
таким языком, он чуть было не сотворил крестного знамения от изумления и не
мог понять, что это с ним приключилось, и изумление его разделяли и все
ехавшие с ним. Но тут Санчо Панса, который приблизился послушать разговор,
сказал, чтобы все разъяснить:
-- Сеньоры, понравится ли вам или не понравится то, что я скажу, но
дело в том, что господин мой Дон Кихот так же очарован, как и моя мать. Он в
полном рассудке, он ест и пьет и отправляет все свои нужды, как и остальные
люди и как он это делал вчера, прежде чем его посадили в клетку. А раз это
так, как же хотят заставить меня поверить, что он очарован? Ведь я слышал от
многих людей, что очарованные не едят, не спят и не разговаривают, а мой
господин -- если дать ему волю -- наговорил бы больше тридцати юристов. -- И
обернувшись, чтобы взглянуть на священника, он продолжал, говоря: -- Ах,
сеньор священник, сеньор священник! Думали ли вы, милость ваша, что я не
узнал вас? Или же что я не понимаю и не догадываюсь, к чему клонят эти новые
очарования? Так знайте же, что я вас узнал, как бы вы ни закрывали себе
лицо, и хорошо вас понимаю, как бы вы ни скрывали ваши хитрости. Одним
словом, где властвует зависть, там не может жить добродетель, и где
скупость, там не уживется щедрость. Проклят будь дьявол, -- и если бы не
ваше преподобие, мой господин был бы теперь женат на инфанте Микомиконе, а я
был бы по крайней мере графом, потому что меньшего я не мог бы ждать ни от
доброты моего сеньора Печального Образа, ни от значительности моих услуг. Но
я вижу теперь, правда то, что у нас здесь говорят, будто колесо судьбы
вертится быстрее мельничьего колеса, и те, что вчера были на верху величия,
сегодня лежат на земле. Я огорчен только из-за моих детей и моей жены: когда
они могли и должны были надеяться, что отец их войдет к ним в двери
губернатором или вице-королем какого-нибудь острова или королевства, они
увидят его входящим простым конюхом. Все это, сеньор священник, я сказал
только потому, чтобы побудить ваше преподобие посовеститься так дурно
обходиться с моим сеньором, и смотрите остерегайтесь, не потребовал бы у вас
в будущей жизни Бог отчета за это заточение моего господина и не обвинил бы
вас за то, что сеньор мой Дон Кихот был лишен возможности оказывать помощь и
делать добро в то время, когда он находился в заключенье.
-- Подправьте-ка мне эти лампы! {AdСbame esos candilos --
простонародное общеупотребительное выражение, означающее нечто вроде
"полно", "довольно".} -- сказал тогда цирюльник. -- Как, и вы тоже, Санчо,
член братства вашего господина? Как жив бог, мне сдается, что и вам придется
сесть заодно с ним в клетку и быть, как и он, очарованным, потому что вы
заразились его причудами и его рыцарством. Не в добрую минуту отяжелели вы
его обещаниями и не в добрый час вбили себе в голову остров, который вы так
сильно желаете.
-- Ничем я не отяжелел, -- ответил Санчо, -- и не такой я человек,
чтобы отяжелеть хотя бы от самого короля; хотя я и беден, я старый
христианин и никому ничего не должен; и если я желаю островов, другие желают
кой-чего другого, да еще похуже; и каждый -- сын своих дел; и, будучи
мужчиной, я могу сделаться папой, а тем более еще губернатором острова; к
тому же и господин мой может завоевать их столько, что не будет знать, кому
раздать их. Обратите внимание, как вы говорите, милость ваша, сеньор
цирюльник; потому что не вся сила в том, чтоб брить бороды, и есть разница
между одним и другим Петром. Говорю это, потому что все мы знаем друг друга
и мне незачем подбрасывать фальшивую игральную кость {Т. е. стараться
провести меня.}; а что касается этого очарования моего господина, правда
известна Богу, и пусть все остается как есть, потому что разворачивать еще
хуже.
Цирюльник не пожелал ответить Санчо, чтобы он простодушными своими
рассуждениями не обнаружил того, что цирюльник и священник так тщательно
старались скрыть. Побуждаемый тем же опасением, священник попросил каноника
проехать с ним немного вперед, и тогда он объяснит ему тайну посаженного в
клетку, а также расскажет и другие вещи, которые его позабавят.
Каноник так и сделал и, проехав с ним и со своими слугами вперед,
внимательно стал слушать все, что ему рассказывал о нравах, жизни, безумии и
привычках Дон Кихота священник, который вкратце сообщил ему о начале и
причине помешательства рыцаря, обо всех случившихся с ним приключениях до
того, как они его усадили в клетку, и об их намерении отвезти его на родину
и посмотреть, не найдется ли какое-нибудь средство для излечения его от его
умопомешательства. Каноник и его слуги снова изумились, слушая странную
историю Дон Кихота, а выслушав ее, каноник сказал:
-- Действительно, сеньор священник, и я, со своей стороны, нахожу, что
книги, называемые рыцарскими, приносят обществу вред, хотя я и сам,
побуждаемый скукой и дурным вкусом, прочел начало почти всех подобных книг,
имеющихся в печати, но никогда не мог решиться которую-нибудь из них
прочесть от начала до конца, потому что мне кажется, что все они более или
менее повторение одного и того же и что и в этой книге не больше
заключается, чем в той, и в той нет лучшего, чем в этой. По моему мнению,
этот род писания и сочинительства очень близко подходит к разряду басен,
называемых милезийскими {О милезийских баснях, положивших начало литературе
вымысла, ничего другого не известно, кроме того что они принадлежали к
разряду "веселых" вещей и что юмор их состоял в непристойности.}, которые
просто нелепые сказки, имеющие в виду только забавить, а не поучать, в
противоположность апологическим басням, которые одновременно и развлекают, и
поучают. И даже если главная цель этих книг -- забавлять, я не знаю, как они
могут достигнуть этого, будучи переполнены столькими и такими чудовищными
нелепостями. Наслаждение, воспринимаемое душой, должно ведь истекать из
красоты и соразмерности, которую мы видим и созерцаем во всем, что глаза или
воображение предъявляют нам; а то, что само в себе заключает безобразие или
несоразмерность, не может доставить нам никакого удовольствия. Но какая же
красота или какая же соразмерность частей с целым и целого с частями может
заключаться в книге или в рассказе, где юноша шестнадцати лет обрушивается
на великана вышиной с башню ударом меча и разрубает его на две половины,
точно он сделан из сахарного теста с миндалем? Или когда нам описывают
битву, говоря, что со стороны неприятеля -- миллион сражающихся, а против
них выступает один лишь герой рассказа, и мы волей-неволей, и как бы нам это
ни было трудно, должны верить, что этот рыцарь одержал победу единственно
лишь благодаря доблести своей руки? Или что можем мы сказать о той легкости,
с которою какая-нибудь королева или наследная императрица бросаются в
объятия странствующего и неведомого ей рыцаря? Какой ум -- если он только не
вполне груб и неразвит -- может удовольствоваться, читая, что высокая башня,
наполненная рыцарями, плывет по морю, как корабль с попутным ветром, и
сегодня ночует в Ломбардии, а завтра утром очутится во владениях священника
Иоанна Индейского {Столь распространенная в Средние века легенда об Иоанне
Индейском была предметом многих споров и исследований. Новейшая теория
отождествляет Иоанна с Veliu Taschi (XII в.), основателем империи Каракитая,
завоевавшего Восточный и Западный Туркестан, столица которого была в
Бала-Сагуне, недалеко от Ташкента.} или в какой-нибудь другой стране,
которую ни Птолемей никогда не открывал, ни Марко Поло не видел. И если мне
на это скажут, что те, которые сочиняют подобные книги, пишут их, выдавая за
вымысел и ложь, и потому не обязаны заботиться о точности и правде, я
отвечу, что ложь тем лучше, чем она более похожа на истину, и тем более
нравится, чем более заключает в себе возможного и вероятного. Вымышленные
рассказы должны подходить к пониманию тех, кто их читает, и быть написаны
так, чтоб, смягчая невозможное, сглаживая чрезмерное, делая доступным
возвышенное, они бы удивляли, интересовали, возбуждали и забавляли таким
образом, чтоб удивление и наслаждение шли рука об руку. А всего этого не
может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания
действительности, в чем именно и заключается совершенство писания. Я не
видел ни одной рыцарской книги с целым остовом вымысла и всеми его членами,
так чтобы середина соответствовала началу, а конец соответствовал началу и
середине, а составляют их из такого множества членов, что скорее кажется,
будто бы имеют намерение создать химеру или чудовище, чем стройный образ.
Сверх того, слог у них жесткий, описываемые подвиги невероятны, любовь
непристойна, любезность нагла, описания битв растянуты, разговоры вздорны,
путешествия нелепы и, наконец, далеки от всякого ума и художественности, и
поэтому они, как бесполезный люд, заслуживают быть изгнанными из
христианского государства.
Священник слушал каноника с большим вниманием, и он показался ему
человеком весьма рассудительным, который совершенно прав в том, что говорил.
Итак, он ему сказал, что, будучи одного с ним мнения и питая злобу к
рыцарским книгам, он сжег все принадлежавшие Дон Кихоту, а было их много; и
сообщил также об устроенном им над книгами следствии и о том, какие из них
он предал огню, каким даровал жизнь. Каноник немало смеялся над этим и
сказал:
-- Несмотря на все дурное, что он говорил о такого рода книгах, он
находит в них одну хорошую сторону, а именно сюжет, дающий возможность
талантливому человеку широко развернуться; здесь ему открывается обширное и
просторное поле, где без всякой помехи может свободно разгуливать перо,
описывая кораблекрушения, бури, состязания, сражения; рисуя доблестного
полководца, одаренного всеми нужными для этого качествами; показывая нам его
проницательным в предупреждении хитрости врагов, красноречивым оратором,
умеющим воспламенять или сдерживать своих солдат; мудрым на совете,
стремительным в исполнении, столь же стойким в обороне, как и в нападении;
изображая то плачевное и трагическое событие, то веселое и неожиданное
происшествие; тут прекраснейшую даму, добродетельную, умную и скромную; там
рыцаря-христианина, храброго и любезного; в одном месте бездушного, наглого
хвастуна, в другом -- учтивого принца, мужественного и мудрого; изображая
верность и преданность вассалов и возвышенность и великодушие сеньоров. Он
может явиться то астрологом, то прекрасным космографом, то музыкантом, то
государственным деятелем; а иногда, если пожелает, ему представится случай
выказать себя и чернокнижником. Он может изобразить хитрости Улисса,
благочестие Энея, доблести Ахилла, несчастия Гектора, измену Синона, дружбу
Эвриала, щедрость Александра, мужество Цезаря, милосердие и справедливость
Трояна, верность Зопира, мудрость Катона, -- словом, все те достоинства,
которые могут довершить образ выдающегося героя, то соединяя их в одном, то
распределяя между многими. И если это будет сделано приятным слогом, при
остроумном вымысле, который как можно ближе подходил бы к правде, автор,
несомненно, создаст ткань, составленную из разнообразных и прекрасных нитей,
и она, как только будет доведена до конца, явит такое совершенство и
красоту, что достигнет высшей цели, к какой стремятся в произведениях,
именно: одновременно и услаждать и поучать, как я уже говорил; потому что
простор, представляемый подобного рода писанием, дает возможность автору
выказать себя эпиком, лириком, трагиком, комиком и проявить себя во всех
областях, которые заключает в себе сладостное и привлекательное искусство
поэзии и красноречия; ведь эпос может также быть написан как прозой, так и
стихами.
Пока этот разговор происходил между дамами замка и Дон Кихотом,
священник и цирюльник прощались с доном Фернандо и его товарищами, с
капитаном и его братом и со всеми столь довольными сеньорами, в особенности
с Доротеей и Люсиндой. Все обнимались друг с другом и обещали извещать о
том, что с ними случится, а дон Фернандо дал священнику адрес, куда ему
писать, чтобы узнать обо всем касающемся Дон Кихота, уверяя его, что нет
вещи, которая доставила бы ему большее удовольствие, чем эти сведения; со
своей стороны, он напишет священнику обо всем, что может ему доставить
удовольствие, -- как о своей свадьбе, так и о крестинах Сораиды, о судьбе
дона Люиса и о возвращении Люсинды к ее родителям. Священник обещал точно
исполнить то, о чем он его просил. Еще раз они обнялись друг с другом и еще
раз взаимно обменялись предложениями услуг. Хозяин подошел к священнику и
подал ему несколько исписанных листов, говоря, что он их нашел в подкладке
чемоданчика, где лежала "Повесть о Безрассудно-любопытном"; и так как
собственник чемоданчика больше не возвращался сюда, то пусть священник
возьмет все это себе, потому что он, хозяин, не умеет читать, и эти бумаги
ему не нужны. Священник поблагодарил, раскрыл рукопись и увидел в самом ее
начале слова: "Повесть о Ринконете и Кортадильо" {"Novella de Rinconete и
Cortadillo" -- одна из повестей самого Сервантеса в "Novelas Exemplares ",
впервые напечатанная им в 1613 г.}, из чего он понял, что это какой-нибудь
рассказ, и вывел заключение: если "Повесть о Безрассудно-любопытном" была
хороша, может, и эта будет такой же и, пожалуй, еще обе написаны одним и тем
же автором. Итак, он взял ее с собой, намереваясь при случае прочесть ее.
Затем он сел верхом, а также и его друг цирюльник, оба в масках, чтобы Дон
Кихот не узнал их сразу, и они поехали позади повозки, причем соблюдался
следующий порядок: впереди ехала повозка, которою правил ее собственник; по
сторонам ее шли, как уже было сказано, куадрильеросы со своими кремневыми
ружьями, тотчас же затем следовал Санчо на осле, ведя в поводу Росинанта; а
позади всех ехали священник и цирюльник на своих могучих мулах, с
прикрытыми, как уже было сказано, лицами и с серьезной и важной осанкой,
подвигаясь не быстрее того, чем это дозволял медлительный шаг волов. Дон
Кихот сидел в клетке со связанными руками, с вытянутыми ногами,
прислонившись спиной к решетке, такой молчаливый и кроткий, точно это был не
человек из плоти и крови, а каменное изваяние. Итак, безмолвно и медленно
проехали они около двух миль, пока не добрались до поляны, которая
показалась возчику удобным местом, чтобы здесь дать отдохнуть волам и
покормить их. Он сказал об этом священнику, но цирюльник посоветовал ехать
несколько дальше, так как он знал, что за холмом, который уже был виден
поблизости, есть другая долина, с более густой и лучшей травой, чем та, где
они хотят остановиться. Совет цирюльника был принят и они снова продолжали
свой путь.
В это время священник повернул голову и увидел, что за ними едет верхом
шесть или семь человек, хорошо одетых и снаряженных, которые быстро их
догнали, потому что они ехали не лениво и медленно, как шли волы, а верхом
на мулах каноников и с желанием поскорее добраться для сиесты на постоялый
двор, отстоявший меньше чем на милю оттуда. Быстрые догнали медленных, и те
и другие вежливо приветствовали друг друга, а один из подъехавших,
оказавшийся каноником из Толедо и господином всех, которые его сопровождали,
видя движущуюся в таком порядке процессию, состоявшую из повозки,
куадрильеросов, Санчо Пансы, Росинанта, священника, цирюльника и главным
образом Дон Кихота, сидевшего в клетке со связанными руками, не мог
удержаться, чтобы не спросить, вследствие чего везут таким образом этого
человека, хотя он уже догадался, увидав отличительные признаки
куадрильеросов, что, должно быть, это какой-нибудь окаянный грабитель с
больших дорог или же другого рода преступник, карать которого надлежало
Святой эрмандаде. Один из куадрильеросов, к которому он обратился с этим
вопросом, ответил следующим образом:
-- Сеньор, о том, почему везут таким образом этого кабальеро, спросите
его самого, так как мы этого не знаем.
Дон Кихот слышал разговор и сказал:
-- Быть может, вы, милости ваши, сеньоры рыцари, люди сведущие и
опытные в делах странствующего рыцарства, и если это так, я вам сообщу о
моих несчастиях, если же нет, -- мне незачем утомлять себя рассказом о них.
Между тем подъехали уже священник и цирюльник, и, увидав, что проезжие
вступили в разговор с Дон Кихотом Ламанчским, они поспешили так ответить,
чтобы их хитрость не была открыта. На вопрос Дон Кихота каноник сказал ему:
-- По правде говоря, брат, я больше знаю толк в рыцарских книгах, чем в
"Sumulas" Вильальпандо {"La Suma de las Sumulas" Гаспара Кардильо де
Вильальпандо, напечатанное в Алькале в 1557 г., было вто время
общераспространенным руководством по первым правилам логики.}, так что, если
суть в этом, вы можете спокойно сообщить мне все, что желаете.
-- В добрый час, -- ответил Дон Кихот, -- раз это так, сеньор
кабальеро, я желаю, чтобы вы знали, что меня везут в этой клетке,
очарованного вследствие зависти и обмана злых чародеев, так как добродетель
больше преследуется злыми, чем ее любят добрые. Я -- странствующий рыцарь, и
не из тех, чьи имена слава никогда не вспомнила, чтобы увековечить их в
своих летописях. Я из тех, что наперекор и назло самой зависти и всем магам,
сколько бы их ни произвела Персия, браминов -- Индия, и гинософистов --
Эфиопия, внесут свое имя в списки храма бессмертия, чтобы оно служило
примером и образцом для грядущих веков и странствующие рыцари знали бы, по
чьим стопам им надо идти, если они желают достигнуть вершины и почетного
апогея оружия.
-- Сеньор Дон Кихот Ламанчский говорит правду, -- сказал тогда
священник, -- потому что везут его очарованным в этой клетке не за его вину
или проступок, а вследствие злобы тех, кого добродетель раздражает, а
доблесть оскорбляет. Это, сеньор. Рыцарь Печального Образа -- если вы, быть
может, уже слышали о нем, -- доблестные подвиги и высокие деяния которого
будут вписаны на твердой бронзе и вековечном мраморе, сколько бы зависть ни
старалась неутомимо омрачить их, а зложелательство -- скрыть их.
Когда каноник услышал, что и пленный и находящийся на свободе говорят
таким языком, он чуть было не сотворил крестного знамения от изумления и не
мог понять, что это с ним приключилось, и изумление его разделяли и все
ехавшие с ним. Но тут Санчо Панса, который приблизился послушать разговор,
сказал, чтобы все разъяснить:
-- Сеньоры, понравится ли вам или не понравится то, что я скажу, но
дело в том, что господин мой Дон Кихот так же очарован, как и моя мать. Он в
полном рассудке, он ест и пьет и отправляет все свои нужды, как и остальные
люди и как он это делал вчера, прежде чем его посадили в клетку. А раз это
так, как же хотят заставить меня поверить, что он очарован? Ведь я слышал от
многих людей, что очарованные не едят, не спят и не разговаривают, а мой
господин -- если дать ему волю -- наговорил бы больше тридцати юристов. -- И
обернувшись, чтобы взглянуть на священника, он продолжал, говоря: -- Ах,
сеньор священник, сеньор священник! Думали ли вы, милость ваша, что я не
узнал вас? Или же что я не понимаю и не догадываюсь, к чему клонят эти новые
очарования? Так знайте же, что я вас узнал, как бы вы ни закрывали себе
лицо, и хорошо вас понимаю, как бы вы ни скрывали ваши хитрости. Одним
словом, где властвует зависть, там не может жить добродетель, и где
скупость, там не уживется щедрость. Проклят будь дьявол, -- и если бы не
ваше преподобие, мой господин был бы теперь женат на инфанте Микомиконе, а я
был бы по крайней мере графом, потому что меньшего я не мог бы ждать ни от
доброты моего сеньора Печального Образа, ни от значительности моих услуг. Но
я вижу теперь, правда то, что у нас здесь говорят, будто колесо судьбы
вертится быстрее мельничьего колеса, и те, что вчера были на верху величия,
сегодня лежат на земле. Я огорчен только из-за моих детей и моей жены: когда
они могли и должны были надеяться, что отец их войдет к ним в двери
губернатором или вице-королем какого-нибудь острова или королевства, они
увидят его входящим простым конюхом. Все это, сеньор священник, я сказал
только потому, чтобы побудить ваше преподобие посовеститься так дурно
обходиться с моим сеньором, и смотрите остерегайтесь, не потребовал бы у вас
в будущей жизни Бог отчета за это заточение моего господина и не обвинил бы
вас за то, что сеньор мой Дон Кихот был лишен возможности оказывать помощь и
делать добро в то время, когда он находился в заключенье.
-- Подправьте-ка мне эти лампы! {AdСbame esos candilos --
простонародное общеупотребительное выражение, означающее нечто вроде
"полно", "довольно".} -- сказал тогда цирюльник. -- Как, и вы тоже, Санчо,
член братства вашего господина? Как жив бог, мне сдается, что и вам придется
сесть заодно с ним в клетку и быть, как и он, очарованным, потому что вы
заразились его причудами и его рыцарством. Не в добрую минуту отяжелели вы
его обещаниями и не в добрый час вбили себе в голову остров, который вы так
сильно желаете.
-- Ничем я не отяжелел, -- ответил Санчо, -- и не такой я человек,
чтобы отяжелеть хотя бы от самого короля; хотя я и беден, я старый
христианин и никому ничего не должен; и если я желаю островов, другие желают
кой-чего другого, да еще похуже; и каждый -- сын своих дел; и, будучи
мужчиной, я могу сделаться папой, а тем более еще губернатором острова; к
тому же и господин мой может завоевать их столько, что не будет знать, кому
раздать их. Обратите внимание, как вы говорите, милость ваша, сеньор
цирюльник; потому что не вся сила в том, чтоб брить бороды, и есть разница
между одним и другим Петром. Говорю это, потому что все мы знаем друг друга
и мне незачем подбрасывать фальшивую игральную кость {Т. е. стараться
провести меня.}; а что касается этого очарования моего господина, правда
известна Богу, и пусть все остается как есть, потому что разворачивать еще
хуже.
Цирюльник не пожелал ответить Санчо, чтобы он простодушными своими
рассуждениями не обнаружил того, что цирюльник и священник так тщательно
старались скрыть. Побуждаемый тем же опасением, священник попросил каноника
проехать с ним немного вперед, и тогда он объяснит ему тайну посаженного в
клетку, а также расскажет и другие вещи, которые его позабавят.
Каноник так и сделал и, проехав с ним и со своими слугами вперед,
внимательно стал слушать все, что ему рассказывал о нравах, жизни, безумии и
привычках Дон Кихота священник, который вкратце сообщил ему о начале и
причине помешательства рыцаря, обо всех случившихся с ним приключениях до
того, как они его усадили в клетку, и об их намерении отвезти его на родину
и посмотреть, не найдется ли какое-нибудь средство для излечения его от его
умопомешательства. Каноник и его слуги снова изумились, слушая странную
историю Дон Кихота, а выслушав ее, каноник сказал:
-- Действительно, сеньор священник, и я, со своей стороны, нахожу, что
книги, называемые рыцарскими, приносят обществу вред, хотя я и сам,
побуждаемый скукой и дурным вкусом, прочел начало почти всех подобных книг,
имеющихся в печати, но никогда не мог решиться которую-нибудь из них
прочесть от начала до конца, потому что мне кажется, что все они более или
менее повторение одного и того же и что и в этой книге не больше
заключается, чем в той, и в той нет лучшего, чем в этой. По моему мнению,
этот род писания и сочинительства очень близко подходит к разряду басен,
называемых милезийскими {О милезийских баснях, положивших начало литературе
вымысла, ничего другого не известно, кроме того что они принадлежали к
разряду "веселых" вещей и что юмор их состоял в непристойности.}, которые
просто нелепые сказки, имеющие в виду только забавить, а не поучать, в
противоположность апологическим басням, которые одновременно и развлекают, и
поучают. И даже если главная цель этих книг -- забавлять, я не знаю, как они
могут достигнуть этого, будучи переполнены столькими и такими чудовищными
нелепостями. Наслаждение, воспринимаемое душой, должно ведь истекать из
красоты и соразмерности, которую мы видим и созерцаем во всем, что глаза или
воображение предъявляют нам; а то, что само в себе заключает безобразие или
несоразмерность, не может доставить нам никакого удовольствия. Но какая же
красота или какая же соразмерность частей с целым и целого с частями может
заключаться в книге или в рассказе, где юноша шестнадцати лет обрушивается
на великана вышиной с башню ударом меча и разрубает его на две половины,
точно он сделан из сахарного теста с миндалем? Или когда нам описывают
битву, говоря, что со стороны неприятеля -- миллион сражающихся, а против
них выступает один лишь герой рассказа, и мы волей-неволей, и как бы нам это
ни было трудно, должны верить, что этот рыцарь одержал победу единственно
лишь благодаря доблести своей руки? Или что можем мы сказать о той легкости,
с которою какая-нибудь королева или наследная императрица бросаются в
объятия странствующего и неведомого ей рыцаря? Какой ум -- если он только не
вполне груб и неразвит -- может удовольствоваться, читая, что высокая башня,
наполненная рыцарями, плывет по морю, как корабль с попутным ветром, и
сегодня ночует в Ломбардии, а завтра утром очутится во владениях священника
Иоанна Индейского {Столь распространенная в Средние века легенда об Иоанне
Индейском была предметом многих споров и исследований. Новейшая теория
отождествляет Иоанна с Veliu Taschi (XII в.), основателем империи Каракитая,
завоевавшего Восточный и Западный Туркестан, столица которого была в
Бала-Сагуне, недалеко от Ташкента.} или в какой-нибудь другой стране,
которую ни Птолемей никогда не открывал, ни Марко Поло не видел. И если мне
на это скажут, что те, которые сочиняют подобные книги, пишут их, выдавая за
вымысел и ложь, и потому не обязаны заботиться о точности и правде, я
отвечу, что ложь тем лучше, чем она более похожа на истину, и тем более
нравится, чем более заключает в себе возможного и вероятного. Вымышленные
рассказы должны подходить к пониманию тех, кто их читает, и быть написаны
так, чтоб, смягчая невозможное, сглаживая чрезмерное, делая доступным
возвышенное, они бы удивляли, интересовали, возбуждали и забавляли таким
образом, чтоб удивление и наслаждение шли рука об руку. А всего этого не
может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания
действительности, в чем именно и заключается совершенство писания. Я не
видел ни одной рыцарской книги с целым остовом вымысла и всеми его членами,
так чтобы середина соответствовала началу, а конец соответствовал началу и
середине, а составляют их из такого множества членов, что скорее кажется,
будто бы имеют намерение создать химеру или чудовище, чем стройный образ.
Сверх того, слог у них жесткий, описываемые подвиги невероятны, любовь
непристойна, любезность нагла, описания битв растянуты, разговоры вздорны,
путешествия нелепы и, наконец, далеки от всякого ума и художественности, и
поэтому они, как бесполезный люд, заслуживают быть изгнанными из
христианского государства.
Священник слушал каноника с большим вниманием, и он показался ему
человеком весьма рассудительным, который совершенно прав в том, что говорил.
Итак, он ему сказал, что, будучи одного с ним мнения и питая злобу к
рыцарским книгам, он сжег все принадлежавшие Дон Кихоту, а было их много; и
сообщил также об устроенном им над книгами следствии и о том, какие из них
он предал огню, каким даровал жизнь. Каноник немало смеялся над этим и
сказал:
-- Несмотря на все дурное, что он говорил о такого рода книгах, он
находит в них одну хорошую сторону, а именно сюжет, дающий возможность
талантливому человеку широко развернуться; здесь ему открывается обширное и
просторное поле, где без всякой помехи может свободно разгуливать перо,
описывая кораблекрушения, бури, состязания, сражения; рисуя доблестного
полководца, одаренного всеми нужными для этого качествами; показывая нам его
проницательным в предупреждении хитрости врагов, красноречивым оратором,
умеющим воспламенять или сдерживать своих солдат; мудрым на совете,
стремительным в исполнении, столь же стойким в обороне, как и в нападении;
изображая то плачевное и трагическое событие, то веселое и неожиданное
происшествие; тут прекраснейшую даму, добродетельную, умную и скромную; там
рыцаря-христианина, храброго и любезного; в одном месте бездушного, наглого
хвастуна, в другом -- учтивого принца, мужественного и мудрого; изображая
верность и преданность вассалов и возвышенность и великодушие сеньоров. Он
может явиться то астрологом, то прекрасным космографом, то музыкантом, то
государственным деятелем; а иногда, если пожелает, ему представится случай
выказать себя и чернокнижником. Он может изобразить хитрости Улисса,
благочестие Энея, доблести Ахилла, несчастия Гектора, измену Синона, дружбу
Эвриала, щедрость Александра, мужество Цезаря, милосердие и справедливость
Трояна, верность Зопира, мудрость Катона, -- словом, все те достоинства,
которые могут довершить образ выдающегося героя, то соединяя их в одном, то
распределяя между многими. И если это будет сделано приятным слогом, при
остроумном вымысле, который как можно ближе подходил бы к правде, автор,
несомненно, создаст ткань, составленную из разнообразных и прекрасных нитей,
и она, как только будет доведена до конца, явит такое совершенство и
красоту, что достигнет высшей цели, к какой стремятся в произведениях,
именно: одновременно и услаждать и поучать, как я уже говорил; потому что
простор, представляемый подобного рода писанием, дает возможность автору
выказать себя эпиком, лириком, трагиком, комиком и проявить себя во всех
областях, которые заключает в себе сладостное и привлекательное искусство
поэзии и красноречия; ведь эпос может также быть написан как прозой, так и
стихами.
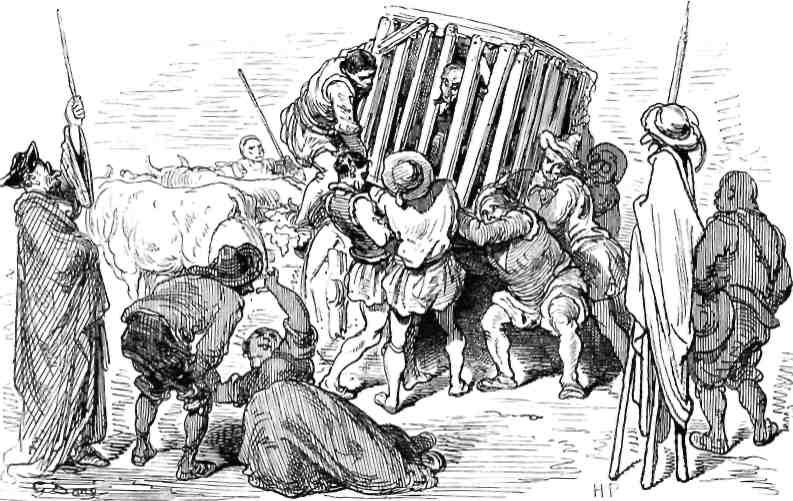
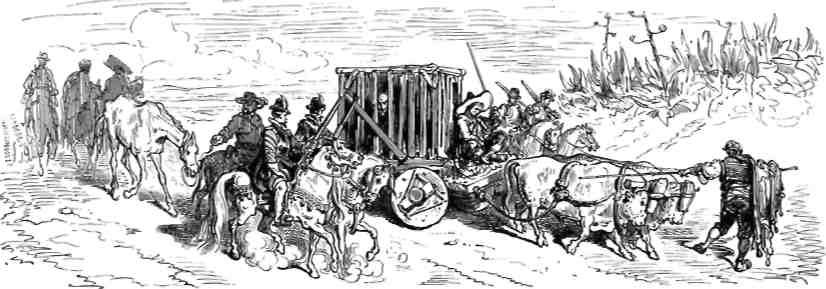 Так оно и есть, как говорит ваша милость сеньор каноник, -- сказал
священник, -- и поэтому заслуживают еще большего порицания те, кто до
настоящего времени сочиняли подобного рода книги, не принимая в соображение
ни здравого смысла, ни искусства и правил, которыми они могли бы
руководствоваться и прославиться в прозе, как прославились в стихах два
князя поэзии -- греческой и латинской.
-- Я, со своей стороны, -- возразил каноник, -- поддался однажды
искушению написать рыцарскую книгу, соблюдая в ней все условия, о которых я
только что упоминал, и, говоря по правде, я написал уже больше ста листов.
Желая испытать, отвечает ли написанное моей собственной оценке, я показал их
людям, страстно увлекающимся такого рода чтением, как ученым и умным, так и
другим -- невеждам, находящим удовольствие лишь в том, чтобы слышать
нелепости, -- и от всех я получил лестное для меня одобрение. Но тем не
менее я не продолжал писать, как потому, что мне это занятие казалось
неподходящим для моего звания, так и убедившись в том, что простаков куда
больше, чем умных, и хотя и лучше быть восхваленным немногими
рассудительными, чем осмеянным многими глупцами, все же я не хочу подвергать
себя сбивчивому суждению надменной толпы, которая по большей части именно и
читает подобного рода книги. Но то, что главным образом побудило меня
отложить эту работу и отказаться от мысли окончить ее, было одно мое
соображение по поводу пьес, которые ставятся у нас на сцене. Если, сказал я
себе, драматические произведения, которые теперь в моде, как основанные на
вымысле, так и исторические, все или большая их часть, -- общеизвестные
нелепости, вещи, не имеющие ни головы, ни ног, а тем не менее публика
слушает их с удовольствием, считая и признавая их хорошими, в то время как
они очень далеки от этого; и если авторы, сочиняющие их, и актеры, играющие
их, говорят, что они должны быть такими, потому что публика требует их
такими, а не иными; и что пьесы, в которых соблюдены все правила и
требования искусства, доставляют удовольствие лишь только трем-четырем
рассудительным людям, которые их поймут, все же остальные неспособны
вникнуть в них и уразуметь их достоинства, и что, со своей стороны, они
предпочитают заработать себе хлеб у многих, чем приобрести известность у
немногих; то же самое случилось бы и с моей книгой после того, как я спалил
бы себе брови, усиливаясь соблюдать вышеупомянутые правила, и оказался бы
похожим на портного из Кантильо {Elsastre del Cantillo queponiadesu
casaagujay hilo ("Портной из Кантильо, отдававший из дому иголки и нитки")
-- пословица, имеющая в виду тех, которые дают работу и материал, не имея
надежды на вознаграждение.}. И хотя я иногда и пытался убеждать актеров, что
они ошибаются, придерживаясь такого рода мнения и могли бы привлекать
гораздо больше публики и приобрели бы больше славы, если бы давали не
теперешние нелепые пьесы, а такие, которые удовлетворяли бы требованиям
искусства, но они так непоколебимо держатся своего мнения, и так срослись с
ним, что никакие доводы и даже сама очевидность не может заставить их
отказаться от него. Как-то однажды я сказал одному из этих упрямых людей:
"Послушайте, не помните ли вы, что несколько лет тому назад в Испании
давались три трагедии, написанные одним знаменитым нашим поэтом, и эти три
трагедии были таковы, что все слушавшие их, как умные, так и глупые, как
простонародье, так и знатные люди, были изумлены, обрадованы и восхищены, и
эти три пьесы дали больше денег актерам, чем тридцать лучших из написанных
после них?" "Ваша милость, -- ответил актер, о котором я говорю, --
подразумевает, без сомнения, "Изабеллу", "Филис" и "Александру V" {Эти три
пьесы написаны Леонардо де Архенсолой -- современником и другом Сервантеса
-- и не заслуживают тех чрезмерных похвал, которые им расточает Сервантес,
равно как и их автор не заслуживал дружбы Сервантеса, за которую он так
плохо отплатил ему.}. Они самые и есть, -- ответил я, -- и посмотрите,
соблюдены ли в них предписания искусства и помешало ли им это соблюдение
казаться тем, чем они были, и всем понравиться; так что виновата не публика,
требующая будто бы нелепостей, а те, которые не умеют изображать ничего
другого. Ведь нет же бессмыслицы ни в "Отомщенной неблагодарности" {Драма
Лопе де Вега.}, ни в "Нумансии" {Трагедия Сервантеса.}, ни в
"Купце-любовнике", ни в "Доброжелательной неприятельнице" {Первая
принадлежит перу Гаспара де Агиляра, вторая -- Франсиско де Тарреги.}, ни в
некоторых других драматических произведениях, написанных несколькими
даровитыми поэтами к чести и славе себе и к выгоде тех, которые играли их
пьесы". К этим моим доводам я добавил еще несколько других и, как мне
казалось, привел его в смущение, но не поколебал и не убедил настолько,
чтобы он отказался от ошибочного своего взгляда.
-- Вы, милость ваша сеньор каноник, -- сказал тогда священник, --
затронули вопрос, пробудивший во мне давнюю мою неприязнь к современным
драмам, не уступающую ненависти моей к рыцарским книгам. Ведь драма, по
мнению Тулио {Изречение Цицерона.}, должна быть зеркалом человеческой жизни,
образцом нравов и изображением истины, -- а теперешние модные драмы являются
зеркалом нелепости, образцом глупости и изображением разврата. Какая может
быть большая несообразность в предмете, о котором мы говорим, когда в первом
явлении первого акта выносят ребенка в пеленках, а во втором акте этот
ребенок уже мужчина с бородой? Какая большая несообразность, как изображение
старика -- храбрецом, юноши -- трусом, лакея -- красноречивым оратором, пажа
-- советником, короля -- поденщиком, принцессы -- судомойкой? А что скажу я
о соблюдении времени и места, когда могли или могут случиться изображаемые
действия, кроме того, что я видел драму, первый акт которой начинался в
Европе, второй происходил в Азии, третий кончался в Африке, и будь пьеса
четырехактная, то четвертый акт кончился бы в Америке, и таким образом драма
разыгралась бы в целых четырех странах света? Если же главная задача драмы
-- подражание действительности, возможно ли, чтобы она удовлетворяла даже и
посредственный ум, когда при изображении действия, происходящего во времена
Пипина и Карла Великого, героем пьесы является император Гераклий,
вступающий с крестом в Иерусалим и завоевывающий Гроб Господний, подобно
Готфриду Бульонскому, в то время как бесконечный ряд лет отделяет одно
событие от другого; или же, если пьеса построена на вымысле, вводить туда
историческую правду, перемешанную с отрывками происшествии, случившихся с
разными лицами в разное время, и все это без малейшей черты правдоподобия, а
с очевидными во всех смыслах непростительными ошибками? {В одной из драм
Лопе де Вега -- "La limpieza no manchada" ("Незапятнанная чистота") --
являются на сцену одновременно патриарх Иов, царь Давид, Иоанн Креститель и
Саламан-ский университет.}[ ]Самое же худшее здесь то, что находятся невежды,
которые говорят, будто это-то и есть совершенство в искусстве, а требовать
чего-либо другого -- значило бы искать только лакомств. Ну а если мы поведем
речь о духовных драмах? Каких чудес там не насочинено и сколько там
апокрифических, непонятных вещей, причем деяния одного святого приписываются
другому! И даже в светских драмах авторы позволяют себе творить чудеса не по
какой другой причине или другому соображению, кроме того что, по мнению их,
такие чудеса или странные явления, как они это называют, -- вещь очень
подходящая, чтобы невежественные люди могли изумляться и посещать театр. Все
это делается в ущерб истине, с презрением к истории и даже к позору
испанских драматургов, так как иностранцы, очень точно соблюдающие
сценические законы, считают нас неучами и варварами, смотря на нелепые и
бессмысленные драмы, которые мы сочиняем. Не было бы также достаточным
оправданием сказать, что главная цель, которую преследуют благоустроенные
общества, разрешая публичные представления, состоит в том, чтобы доставить
народу приличную забаву и отвлечь его от дурных наклонностей, иногда
порождаемых праздностью; а так как эта цель может быть достигнута всякой
пьесой, хороша ли она или дурна, то незачем устанавливать правила, ни
стеснять ими актеров и авторов, принуждая последних писать
Так оно и есть, как говорит ваша милость сеньор каноник, -- сказал
священник, -- и поэтому заслуживают еще большего порицания те, кто до
настоящего времени сочиняли подобного рода книги, не принимая в соображение
ни здравого смысла, ни искусства и правил, которыми они могли бы
руководствоваться и прославиться в прозе, как прославились в стихах два
князя поэзии -- греческой и латинской.
-- Я, со своей стороны, -- возразил каноник, -- поддался однажды
искушению написать рыцарскую книгу, соблюдая в ней все условия, о которых я
только что упоминал, и, говоря по правде, я написал уже больше ста листов.
Желая испытать, отвечает ли написанное моей собственной оценке, я показал их
людям, страстно увлекающимся такого рода чтением, как ученым и умным, так и
другим -- невеждам, находящим удовольствие лишь в том, чтобы слышать
нелепости, -- и от всех я получил лестное для меня одобрение. Но тем не
менее я не продолжал писать, как потому, что мне это занятие казалось
неподходящим для моего звания, так и убедившись в том, что простаков куда
больше, чем умных, и хотя и лучше быть восхваленным немногими
рассудительными, чем осмеянным многими глупцами, все же я не хочу подвергать
себя сбивчивому суждению надменной толпы, которая по большей части именно и
читает подобного рода книги. Но то, что главным образом побудило меня
отложить эту работу и отказаться от мысли окончить ее, было одно мое
соображение по поводу пьес, которые ставятся у нас на сцене. Если, сказал я
себе, драматические произведения, которые теперь в моде, как основанные на
вымысле, так и исторические, все или большая их часть, -- общеизвестные
нелепости, вещи, не имеющие ни головы, ни ног, а тем не менее публика
слушает их с удовольствием, считая и признавая их хорошими, в то время как
они очень далеки от этого; и если авторы, сочиняющие их, и актеры, играющие
их, говорят, что они должны быть такими, потому что публика требует их
такими, а не иными; и что пьесы, в которых соблюдены все правила и
требования искусства, доставляют удовольствие лишь только трем-четырем
рассудительным людям, которые их поймут, все же остальные неспособны
вникнуть в них и уразуметь их достоинства, и что, со своей стороны, они
предпочитают заработать себе хлеб у многих, чем приобрести известность у
немногих; то же самое случилось бы и с моей книгой после того, как я спалил
бы себе брови, усиливаясь соблюдать вышеупомянутые правила, и оказался бы
похожим на портного из Кантильо {Elsastre del Cantillo queponiadesu
casaagujay hilo ("Портной из Кантильо, отдававший из дому иголки и нитки")
-- пословица, имеющая в виду тех, которые дают работу и материал, не имея
надежды на вознаграждение.}. И хотя я иногда и пытался убеждать актеров, что
они ошибаются, придерживаясь такого рода мнения и могли бы привлекать
гораздо больше публики и приобрели бы больше славы, если бы давали не
теперешние нелепые пьесы, а такие, которые удовлетворяли бы требованиям
искусства, но они так непоколебимо держатся своего мнения, и так срослись с
ним, что никакие доводы и даже сама очевидность не может заставить их
отказаться от него. Как-то однажды я сказал одному из этих упрямых людей:
"Послушайте, не помните ли вы, что несколько лет тому назад в Испании
давались три трагедии, написанные одним знаменитым нашим поэтом, и эти три
трагедии были таковы, что все слушавшие их, как умные, так и глупые, как
простонародье, так и знатные люди, были изумлены, обрадованы и восхищены, и
эти три пьесы дали больше денег актерам, чем тридцать лучших из написанных
после них?" "Ваша милость, -- ответил актер, о котором я говорю, --
подразумевает, без сомнения, "Изабеллу", "Филис" и "Александру V" {Эти три
пьесы написаны Леонардо де Архенсолой -- современником и другом Сервантеса
-- и не заслуживают тех чрезмерных похвал, которые им расточает Сервантес,
равно как и их автор не заслуживал дружбы Сервантеса, за которую он так
плохо отплатил ему.}. Они самые и есть, -- ответил я, -- и посмотрите,
соблюдены ли в них предписания искусства и помешало ли им это соблюдение
казаться тем, чем они были, и всем понравиться; так что виновата не публика,
требующая будто бы нелепостей, а те, которые не умеют изображать ничего
другого. Ведь нет же бессмыслицы ни в "Отомщенной неблагодарности" {Драма
Лопе де Вега.}, ни в "Нумансии" {Трагедия Сервантеса.}, ни в
"Купце-любовнике", ни в "Доброжелательной неприятельнице" {Первая
принадлежит перу Гаспара де Агиляра, вторая -- Франсиско де Тарреги.}, ни в
некоторых других драматических произведениях, написанных несколькими
даровитыми поэтами к чести и славе себе и к выгоде тех, которые играли их
пьесы". К этим моим доводам я добавил еще несколько других и, как мне
казалось, привел его в смущение, но не поколебал и не убедил настолько,
чтобы он отказался от ошибочного своего взгляда.
-- Вы, милость ваша сеньор каноник, -- сказал тогда священник, --
затронули вопрос, пробудивший во мне давнюю мою неприязнь к современным
драмам, не уступающую ненависти моей к рыцарским книгам. Ведь драма, по
мнению Тулио {Изречение Цицерона.}, должна быть зеркалом человеческой жизни,
образцом нравов и изображением истины, -- а теперешние модные драмы являются
зеркалом нелепости, образцом глупости и изображением разврата. Какая может
быть большая несообразность в предмете, о котором мы говорим, когда в первом
явлении первого акта выносят ребенка в пеленках, а во втором акте этот
ребенок уже мужчина с бородой? Какая большая несообразность, как изображение
старика -- храбрецом, юноши -- трусом, лакея -- красноречивым оратором, пажа
-- советником, короля -- поденщиком, принцессы -- судомойкой? А что скажу я
о соблюдении времени и места, когда могли или могут случиться изображаемые
действия, кроме того, что я видел драму, первый акт которой начинался в
Европе, второй происходил в Азии, третий кончался в Африке, и будь пьеса
четырехактная, то четвертый акт кончился бы в Америке, и таким образом драма
разыгралась бы в целых четырех странах света? Если же главная задача драмы
-- подражание действительности, возможно ли, чтобы она удовлетворяла даже и
посредственный ум, когда при изображении действия, происходящего во времена
Пипина и Карла Великого, героем пьесы является император Гераклий,
вступающий с крестом в Иерусалим и завоевывающий Гроб Господний, подобно
Готфриду Бульонскому, в то время как бесконечный ряд лет отделяет одно
событие от другого; или же, если пьеса построена на вымысле, вводить туда
историческую правду, перемешанную с отрывками происшествии, случившихся с
разными лицами в разное время, и все это без малейшей черты правдоподобия, а
с очевидными во всех смыслах непростительными ошибками? {В одной из драм
Лопе де Вега -- "La limpieza no manchada" ("Незапятнанная чистота") --
являются на сцену одновременно патриарх Иов, царь Давид, Иоанн Креститель и
Саламан-ский университет.}[ ]Самое же худшее здесь то, что находятся невежды,
которые говорят, будто это-то и есть совершенство в искусстве, а требовать
чего-либо другого -- значило бы искать только лакомств. Ну а если мы поведем
речь о духовных драмах? Каких чудес там не насочинено и сколько там
апокрифических, непонятных вещей, причем деяния одного святого приписываются
другому! И даже в светских драмах авторы позволяют себе творить чудеса не по
какой другой причине или другому соображению, кроме того что, по мнению их,
такие чудеса или странные явления, как они это называют, -- вещь очень
подходящая, чтобы невежественные люди могли изумляться и посещать театр. Все
это делается в ущерб истине, с презрением к истории и даже к позору
испанских драматургов, так как иностранцы, очень точно соблюдающие
сценические законы, считают нас неучами и варварами, смотря на нелепые и
бессмысленные драмы, которые мы сочиняем. Не было бы также достаточным
оправданием сказать, что главная цель, которую преследуют благоустроенные
общества, разрешая публичные представления, состоит в том, чтобы доставить
народу приличную забаву и отвлечь его от дурных наклонностей, иногда
порождаемых праздностью; а так как эта цель может быть достигнута всякой
пьесой, хороша ли она или дурна, то незачем устанавливать правила, ни
стеснять ими актеров и авторов, принуждая последних писать
 466
TOM I
свои пьесы, как того требуют правила, потому что, как я уже говорил,
всякой пьесой, какая бы она ни была, достигается намеченная цель. На это я
ответил бы, что цель эта достигалась бы несравненно лучше хорошими пьесами,
чем плохими, потому что, присутствуя на представлении художественной и
хорошо написанной пьесы, зритель уходил бы из театра восхищенный шутками,
вразумленный истинами, подивившись событиям, поумнев от мудрых изречений,
предостереженный против коварства, наученный примерами, возмущенный
пороками, влюбленный в добродетель, потому что хорошая пьеса возбудит все
эти чувства в зрителе, как бы он ни был груб и непонятлив. И из всех
невозможностей самое невозможное то, чтобы драматическое произведение,
обладающее упомянутыми качествами, не забавляло, не нравилось, не
удовлетворяло и не восхищало зрителя гораздо больше пьес, лишенных этих
достоинств, как лишено их большинство сценических произведений, которые в
настоящее время даются у нас {Эта длинная речь, направленная против
современной драмы, по-видимому, сатирическая выходка Сервантеса против Лопе
де Вега. В своих же пьесах Сервантес не очень-то придерживался правил, а в
"El RufiАn dichoso" ("Счастливом негодяе") -- пьесе, написанной после "Дон
Кихота", но никогда не игранной, -- он очень энергично настаивает на
необходимости для современной драмы освободиться от "пут" столь тяжелых
правил.}. Не виноваты в этом и авторы, так как некоторые из них очень хорошо
понимают, в чем они заблуждаются, и превосходно знают, что им следовало бы
делать, но, вследствие того что пьесы обратились в товар для продажи, авторы
говорят, и говорят справедливо, что актеры не покупали бы пьес, раз они были
бы иного покроя и образца. Итак, поэт старается приноровиться к тому, что
требует актер, который платит ему за его произведения. А что это правда,
видно из многих бесконечных пьес, сочиненных счастливейшим из испанских
гениев с таким изяществом, с таким остроумием, такими великолепными стихами,
увлекательным языком, с таким глубоким чувством, наконец, отличающихся таким
красноречием и возвышенным слогом, что слава поэта распространилась по всему
миру {Счастливый гений -- конечно, Лопе де Вега, бывший тогда в апогее своей
славы и популярности. Слова Сервантеса, что не все пьесы Лопе --
совершенство (хотя пилюля эта достаточно подслащена восторженными
похвалами), показались почитателям Лопе преступлением. Именно эта глава "Дон
Кихота" была, быть может, одной из главных причин ненависти Лопе де Вега к
Сервантесу.}, и только потому, что он приноравливался к вкусам актеров, не
все его пьесы достигли, как некоторые из них, требуемой степени
совершенства. Другие драматурги, сочиняя свои произведения, обращают так
мало внимания на то, что они делают, что после представления актеры
вынуждены бежать и удалиться из страха подвергнуться карам, как это
случалось не раз, за изображение вещей, оскорбительных для королей или для
чести той или иной семьи. Все эти неудобства и многие другие, о которых я
умалчиваю, могли бы быть устранены, если бы было в столице лицо,
образованное и умное, которое рассматривало бы пьесы, предназначенные для
представления, -- и не только те, что даются в столице, но и все имеющие
быть игранными в Испании,-- так что без одобрения, печати и подписи такого
лица местная власть не могла бы разрешать никакой пьесы к представлению.
Таким образом, актеры заботились бы о посылке драматических произведений в
столицу, и после того могли бы совершенно спокойно играть, а драматурги
посвящали бы больше внимания и труда своим пьесам, помня, что они должны
подвергнуть их строгой критике знатока; таким образом, писались бы хорошие
пьесы и было бы наилучшим образом достигнуто то, что требуется от них: и
развлечение народа, и хорошая репутация испанских писателей, и выгода, и
безопасность актеров, и уничтожение заботы о карательных мероприятиях. А
если бы какому-нибудь другому лицу или хотя бы тому же самому поручили и
просмотр рыцарских книг, которые вновь сочиняются, не подлежит сомнению, что
некоторые из них могли бы достигнуть того совершенства, о котором говорила
ваша милость, и обогатить наш язык изящным и драгоценным сокровищем
красноречия, заставив старые книги меркнуть в блеске новых, которые бы
появились для достойного времяпровождения не только праздных людей, но и
самых занятых, потому что невозможно, чтобы лук оставался всегда натянутым,
и не может слабая человеческая природа поддержать себя без какого-нибудь
дозволенного развлечения.
Каноник и священник дошли до этого места своего разговора, когда
цирюльник, догоняя их, подъехал к ним и сказал:
-- Вот то место, сеньор, о котором я говорил, что нам хорошо будет
держать тут сиесту, а волы найдут здесь свежее и обильное пастбище.
-- Мне это тоже кажется, -- сказал священник и спросил каноника, что он
думает делать, а тот ответил, что желает остаться с ними, соблазненный
прекрасной долиной, развернувшейся перед их взорами. Итак, чтобы насладиться
этим видом, а также разговором со священником, к которому он уже чувствовал
расположение, и чтобы подробнее узнать о подвигах Дон Кихота, каноник
приказал нескольким из своих слуг отправиться на постоялый двор, бывший
недалеко оттуда, и принести поесть для всего общества, что там найдется, так
как он решил держать сиесту здесь после обеда. На это один из его слуг
ответил, что на их вьючном осле, высланном вперед и который теперь уже
должен находиться на постоялом дворе, достаточно съестных припасов, так что
не надо им ничего покупать, кроме ячменя для мулов.
-- Если это так, -- сказал каноник,-- отведите туда наших мулов и
приведите оттуда вьючного осла.
Пока это происходило, Санчо, видя, что он может говорить со своим
господином без постоянного присутствия священника и цирюльника, которых он
считал подозрительными людьми, подошел к клетке, где находился его господин,
и сказал:
-- Сеньор, для облегчения моей совести я должен вам сказать кой-что
касающееся вашего очарования, именно что те двое, которые едут с нами в
масках на лице, -- наш приходский священник и цирюльник; и я думаю, они
сговорились между собой увезти вас таким образом из одной лишь зависти к вам
за то, что ваша милость так сильно опередила их своими славными подвигами.
Если же допустить, что дело обстоит именно так, из этого следует, что вы не
очарованы, но обмануты и одурачены; в доказательство чего я бы желал
спросить у вас одну вещь, и если вы мне ответите так, как, думается мне, вы
должны ответить, то вы дотронетесь до этого обмана рукой и убедитесь, что не
в очарованье дело, а в том, что у вас в голове не все дома.
-- Спрашивай все что хочешь, сын Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- и я
удовлетворю тебя и отвечу на всякий твой вопрос. Относительно же твоих слов,
будто те двое, что едут с нами, -- священник и цирюльник, наши земляки и
знакомые, весьма возможно, что они кажутся ими, но чтобы они действительно и
на самом деле ими были, не верь этому ни в каком случае. Вот чему ты должен
верить и что понять: если они, как ты говоришь, кажутся ими, это, вероятно,
происходит оттого, что очаровавшие меня приняли их вид и подобие, так как
волшебникам очень легко принять внешность, которую они пожелали бы. А
приняли они внешность наших друзей, чтобы заставить тебя думать то, что ты
думаешь, и завести в дебри таких предположений, из которых ты уже не
выберешься, если бы и обладал клубком Тезея. Также могли они это сделать и
для того, чтобы поколебать меня в моих понятиях, и я не мог бы сообразить,
откуда на меня налетела эта беда, потому что если, с одной стороны, ты мне
говоришь, что меня сопровождают цирюльник и священник нашего села, а с
другой стороны, я вижу себя засаженного в клетку и знаю о себе, что никакой
человеческой силе, кроме сверхъестественной, не удалось бы засадить меня в
клетку, -- что хочешь ты, чтобы я говорил или думал, кроме того что способ
моего очарования превосходит все, что я читал во всех историях, в которых
речь идет о странствующих рыцарях, подвергшихся очарованиям? Итак, ты можешь
спокойно и уверенно изгнать из своей головы мысль, будто они те, кем они
тебе показались, потому что они так же мало то, что ты говорил, как я турок.
А относительно твоего желания что-то спросить у меня, говори, и я отвечу
тебе, хотя бы ты спрашивал меня до завтрашнего утра.
-- Помоги мне, Пресвятая Богородица, -- крикнул Санчо, возвысив голос,
-- возможно ли, чтобы милость ваша была такая крепкоголовая и так бы у вас
высох мозг, чтобы вы не видели, что сказанное мною -- чистейшая истина и что
в вашем заточении и несчастии больше участвует зложелательство, чем
волшебство? Но раз это так, я докажу вам как нельзя яснее, что вы не
очарованы. Скажите же мне -- и да избавит вас Бог от этой пытки, и приведет
вас в объятья сеньоры Дульсинеи, когда вы всего менее будете ожидать того...
-- Брось заклинать меня, -- сказал Дон Кихот, -- и спрашивай все что
хочешь; я уже говорил тебе, что отвечу со всей возможной точностью.
-- Об этом-то я и прошу вас, -- возразил Санчо, -- а хотел я узнать вот
что: скажите мне, ничего не прибавляя и ничего не убавляя, одну лишь истину,
как ее должны говорить и говорят те, что служат оружию, которому служит и
ваша милость под именем странствующих рыцарей.
-- Повторяю тебе, что я ни в чем не солгу, -- ответил Дон Кихот, --
кончай же спрашивать, так как, право, ты мне наскучил, Санчо, столькими
твоими увертками, упрашиваниями и предисловиями.
-- Я говорю, -- сказал Санчо, -- что уверен в доброте и правдивости
моего господина, и поэтому, раз мой вопрос относится к нашему делу, со всем
должным уважением спрашиваю: с тех пор как ваша милость сидит в клетке и,
как вы думаете, очарована в этой клетке, не приходило ли вам, быть может,
желание и охота сходить за большой или малой нуждой, как принято говорить?
-- Ничего не понимаю, что такое значит "ходить за нуждой", Санчо;
выражайся яснее, если ты желаешь, чтобы я мог точно ответить тебе.
-- Неужели же ваша милость не понимает, что значит ходить за большой
или малой нуждой? Ведь дети в школе знают это. Итак, слушайте, я хотел
спросить вас, не чувствовали ли вы желания сделать то, что никто другой не
может сделать вместо вас?
-- Да, да, теперь я понимаю, Санчо. Много раз уже приходило мне это
желание, и сейчас опять хочется; спаси меня от опасности, а то выйдет не
совсем чистоплотно.
466
TOM I
свои пьесы, как того требуют правила, потому что, как я уже говорил,
всякой пьесой, какая бы она ни была, достигается намеченная цель. На это я
ответил бы, что цель эта достигалась бы несравненно лучше хорошими пьесами,
чем плохими, потому что, присутствуя на представлении художественной и
хорошо написанной пьесы, зритель уходил бы из театра восхищенный шутками,
вразумленный истинами, подивившись событиям, поумнев от мудрых изречений,
предостереженный против коварства, наученный примерами, возмущенный
пороками, влюбленный в добродетель, потому что хорошая пьеса возбудит все
эти чувства в зрителе, как бы он ни был груб и непонятлив. И из всех
невозможностей самое невозможное то, чтобы драматическое произведение,
обладающее упомянутыми качествами, не забавляло, не нравилось, не
удовлетворяло и не восхищало зрителя гораздо больше пьес, лишенных этих
достоинств, как лишено их большинство сценических произведений, которые в
настоящее время даются у нас {Эта длинная речь, направленная против
современной драмы, по-видимому, сатирическая выходка Сервантеса против Лопе
де Вега. В своих же пьесах Сервантес не очень-то придерживался правил, а в
"El RufiАn dichoso" ("Счастливом негодяе") -- пьесе, написанной после "Дон
Кихота", но никогда не игранной, -- он очень энергично настаивает на
необходимости для современной драмы освободиться от "пут" столь тяжелых
правил.}. Не виноваты в этом и авторы, так как некоторые из них очень хорошо
понимают, в чем они заблуждаются, и превосходно знают, что им следовало бы
делать, но, вследствие того что пьесы обратились в товар для продажи, авторы
говорят, и говорят справедливо, что актеры не покупали бы пьес, раз они были
бы иного покроя и образца. Итак, поэт старается приноровиться к тому, что
требует актер, который платит ему за его произведения. А что это правда,
видно из многих бесконечных пьес, сочиненных счастливейшим из испанских
гениев с таким изяществом, с таким остроумием, такими великолепными стихами,
увлекательным языком, с таким глубоким чувством, наконец, отличающихся таким
красноречием и возвышенным слогом, что слава поэта распространилась по всему
миру {Счастливый гений -- конечно, Лопе де Вега, бывший тогда в апогее своей
славы и популярности. Слова Сервантеса, что не все пьесы Лопе --
совершенство (хотя пилюля эта достаточно подслащена восторженными
похвалами), показались почитателям Лопе преступлением. Именно эта глава "Дон
Кихота" была, быть может, одной из главных причин ненависти Лопе де Вега к
Сервантесу.}, и только потому, что он приноравливался к вкусам актеров, не
все его пьесы достигли, как некоторые из них, требуемой степени
совершенства. Другие драматурги, сочиняя свои произведения, обращают так
мало внимания на то, что они делают, что после представления актеры
вынуждены бежать и удалиться из страха подвергнуться карам, как это
случалось не раз, за изображение вещей, оскорбительных для королей или для
чести той или иной семьи. Все эти неудобства и многие другие, о которых я
умалчиваю, могли бы быть устранены, если бы было в столице лицо,
образованное и умное, которое рассматривало бы пьесы, предназначенные для
представления, -- и не только те, что даются в столице, но и все имеющие
быть игранными в Испании,-- так что без одобрения, печати и подписи такого
лица местная власть не могла бы разрешать никакой пьесы к представлению.
Таким образом, актеры заботились бы о посылке драматических произведений в
столицу, и после того могли бы совершенно спокойно играть, а драматурги
посвящали бы больше внимания и труда своим пьесам, помня, что они должны
подвергнуть их строгой критике знатока; таким образом, писались бы хорошие
пьесы и было бы наилучшим образом достигнуто то, что требуется от них: и
развлечение народа, и хорошая репутация испанских писателей, и выгода, и
безопасность актеров, и уничтожение заботы о карательных мероприятиях. А
если бы какому-нибудь другому лицу или хотя бы тому же самому поручили и
просмотр рыцарских книг, которые вновь сочиняются, не подлежит сомнению, что
некоторые из них могли бы достигнуть того совершенства, о котором говорила
ваша милость, и обогатить наш язык изящным и драгоценным сокровищем
красноречия, заставив старые книги меркнуть в блеске новых, которые бы
появились для достойного времяпровождения не только праздных людей, но и
самых занятых, потому что невозможно, чтобы лук оставался всегда натянутым,
и не может слабая человеческая природа поддержать себя без какого-нибудь
дозволенного развлечения.
Каноник и священник дошли до этого места своего разговора, когда
цирюльник, догоняя их, подъехал к ним и сказал:
-- Вот то место, сеньор, о котором я говорил, что нам хорошо будет
держать тут сиесту, а волы найдут здесь свежее и обильное пастбище.
-- Мне это тоже кажется, -- сказал священник и спросил каноника, что он
думает делать, а тот ответил, что желает остаться с ними, соблазненный
прекрасной долиной, развернувшейся перед их взорами. Итак, чтобы насладиться
этим видом, а также разговором со священником, к которому он уже чувствовал
расположение, и чтобы подробнее узнать о подвигах Дон Кихота, каноник
приказал нескольким из своих слуг отправиться на постоялый двор, бывший
недалеко оттуда, и принести поесть для всего общества, что там найдется, так
как он решил держать сиесту здесь после обеда. На это один из его слуг
ответил, что на их вьючном осле, высланном вперед и который теперь уже
должен находиться на постоялом дворе, достаточно съестных припасов, так что
не надо им ничего покупать, кроме ячменя для мулов.
-- Если это так, -- сказал каноник,-- отведите туда наших мулов и
приведите оттуда вьючного осла.
Пока это происходило, Санчо, видя, что он может говорить со своим
господином без постоянного присутствия священника и цирюльника, которых он
считал подозрительными людьми, подошел к клетке, где находился его господин,
и сказал:
-- Сеньор, для облегчения моей совести я должен вам сказать кой-что
касающееся вашего очарования, именно что те двое, которые едут с нами в
масках на лице, -- наш приходский священник и цирюльник; и я думаю, они
сговорились между собой увезти вас таким образом из одной лишь зависти к вам
за то, что ваша милость так сильно опередила их своими славными подвигами.
Если же допустить, что дело обстоит именно так, из этого следует, что вы не
очарованы, но обмануты и одурачены; в доказательство чего я бы желал
спросить у вас одну вещь, и если вы мне ответите так, как, думается мне, вы
должны ответить, то вы дотронетесь до этого обмана рукой и убедитесь, что не
в очарованье дело, а в том, что у вас в голове не все дома.
-- Спрашивай все что хочешь, сын Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- и я
удовлетворю тебя и отвечу на всякий твой вопрос. Относительно же твоих слов,
будто те двое, что едут с нами, -- священник и цирюльник, наши земляки и
знакомые, весьма возможно, что они кажутся ими, но чтобы они действительно и
на самом деле ими были, не верь этому ни в каком случае. Вот чему ты должен
верить и что понять: если они, как ты говоришь, кажутся ими, это, вероятно,
происходит оттого, что очаровавшие меня приняли их вид и подобие, так как
волшебникам очень легко принять внешность, которую они пожелали бы. А
приняли они внешность наших друзей, чтобы заставить тебя думать то, что ты
думаешь, и завести в дебри таких предположений, из которых ты уже не
выберешься, если бы и обладал клубком Тезея. Также могли они это сделать и
для того, чтобы поколебать меня в моих понятиях, и я не мог бы сообразить,
откуда на меня налетела эта беда, потому что если, с одной стороны, ты мне
говоришь, что меня сопровождают цирюльник и священник нашего села, а с
другой стороны, я вижу себя засаженного в клетку и знаю о себе, что никакой
человеческой силе, кроме сверхъестественной, не удалось бы засадить меня в
клетку, -- что хочешь ты, чтобы я говорил или думал, кроме того что способ
моего очарования превосходит все, что я читал во всех историях, в которых
речь идет о странствующих рыцарях, подвергшихся очарованиям? Итак, ты можешь
спокойно и уверенно изгнать из своей головы мысль, будто они те, кем они
тебе показались, потому что они так же мало то, что ты говорил, как я турок.
А относительно твоего желания что-то спросить у меня, говори, и я отвечу
тебе, хотя бы ты спрашивал меня до завтрашнего утра.
-- Помоги мне, Пресвятая Богородица, -- крикнул Санчо, возвысив голос,
-- возможно ли, чтобы милость ваша была такая крепкоголовая и так бы у вас
высох мозг, чтобы вы не видели, что сказанное мною -- чистейшая истина и что
в вашем заточении и несчастии больше участвует зложелательство, чем
волшебство? Но раз это так, я докажу вам как нельзя яснее, что вы не
очарованы. Скажите же мне -- и да избавит вас Бог от этой пытки, и приведет
вас в объятья сеньоры Дульсинеи, когда вы всего менее будете ожидать того...
-- Брось заклинать меня, -- сказал Дон Кихот, -- и спрашивай все что
хочешь; я уже говорил тебе, что отвечу со всей возможной точностью.
-- Об этом-то я и прошу вас, -- возразил Санчо, -- а хотел я узнать вот
что: скажите мне, ничего не прибавляя и ничего не убавляя, одну лишь истину,
как ее должны говорить и говорят те, что служат оружию, которому служит и
ваша милость под именем странствующих рыцарей.
-- Повторяю тебе, что я ни в чем не солгу, -- ответил Дон Кихот, --
кончай же спрашивать, так как, право, ты мне наскучил, Санчо, столькими
твоими увертками, упрашиваниями и предисловиями.
-- Я говорю, -- сказал Санчо, -- что уверен в доброте и правдивости
моего господина, и поэтому, раз мой вопрос относится к нашему делу, со всем
должным уважением спрашиваю: с тех пор как ваша милость сидит в клетке и,
как вы думаете, очарована в этой клетке, не приходило ли вам, быть может,
желание и охота сходить за большой или малой нуждой, как принято говорить?
-- Ничего не понимаю, что такое значит "ходить за нуждой", Санчо;
выражайся яснее, если ты желаешь, чтобы я мог точно ответить тебе.
-- Неужели же ваша милость не понимает, что значит ходить за большой
или малой нуждой? Ведь дети в школе знают это. Итак, слушайте, я хотел
спросить вас, не чувствовали ли вы желания сделать то, что никто другой не
может сделать вместо вас?
-- Да, да, теперь я понимаю, Санчо. Много раз уже приходило мне это
желание, и сейчас опять хочется; спаси меня от опасности, а то выйдет не
совсем чистоплотно.

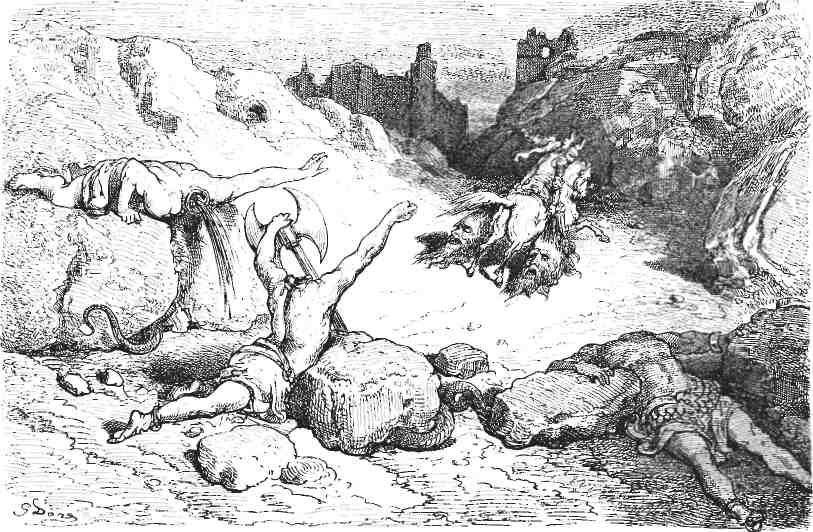


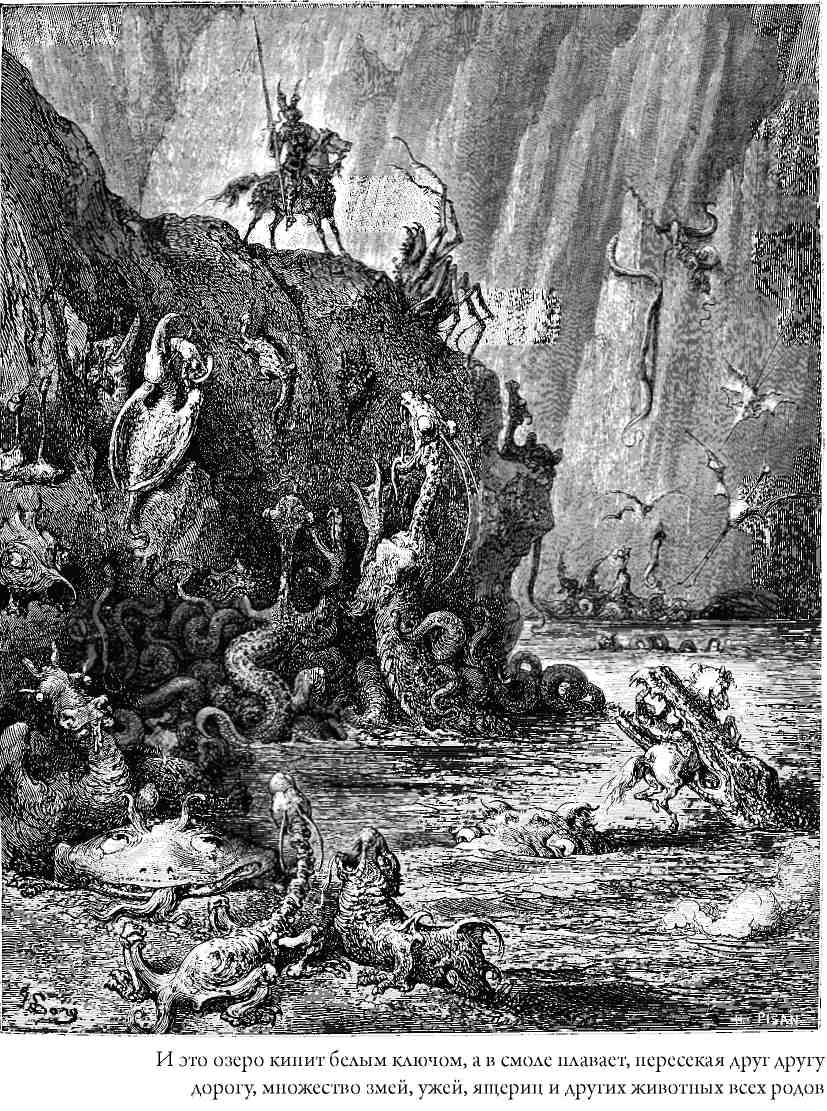 -- Не знаю я этих философий, -- ответил Санчо Панса, -- но знаю только,
что желал бы так скоро получить графство, как сумел бы управлять им, потому
что душа у меня не хуже, чем у всякого другого, а тела больше, чем у многих,
и я был бы настолько же королем в своем государстве, как и всякий другой --
в своем; и, будучи им, я делал бы то, что желаю; делая же то, что желаю, я
доставлял бы себе приятное и, доставляя себе приятное, был бы доволен; если
же кто доволен, ему нечего больше желать, и, если нечего желать, всему тут
конец; лишь бы только явились мои владения, а там с богом и да увидим мы
себя, как говорил один слепой другому.
-- Это не дурные "философии", как ты, Санчо, говоришь, -- заявил
каноник, -- но тем не менее можно было бы еще многое сказать по поводу
графств.
На это Дон Кихот возразил:
-- Не знаю, что еще можно было бы сказать; я руководствуюсь {В третьем
издании "Дон Кихота" (напечатанном в типографии Куэсты в 1608 г.) здесь
вставлен следующий эпизод: "только многими и различными примерами, которые
можно было бы привести среди рыцарей моей профессии, оказывавших --
сообразно с верными и отменными услугами, полученными от своих оруженосцев,
-- им великие милости, делая их державными властителями городов и островов,
а были и такие, чьи заслуги достигали столь высокой степени, что они имели
даже чаяние стать королями. Но к чему я трачу время на это, когда предо мной
столь знаменитый пример, данный великим и никогда достаточно не восхваленным
Амадисом, который..."} только примером великого Амадиса Галльского, который
оруженосца своего сделал графом Insula Firme; итак, я без всякого укора
совести могу сделать графом Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев,
когда-либо бывших у странствующего рыцаря.
Каноник был изумлен столь согласованными нелепостями, изложенными Дон
Кихотом, уменьем, с которым он изобразил приключение рыцаря озера,
впечатлением, произведенным на него умышленной ложью прочитанных им
книг, и, наконец, безрассудством Санчо, который так страстно ожидал
получения графства, обещанного ему его господином.
Между тем слуги каноника ходившие на постоялый двор, чтобы привести
оттуда вьючного мула, вернулись, и, когда они устроили стол из ковра и
зеленой травы луга, все уселись в тени нескольких деревьев и ели тут, чтоб
погонщик волов мог, как уже было сказано, воспользоваться удобствами этих
мест. В то время как они ели, вдруг послышался громкий шелест и звук
бубенчиков, раздавшийся среди терновника и густого кустарника, который рос
вблизи, и в ту же минуту они увидели, как оттуда выскочила премилая коза,
шерсть которой была испещрена черными, белыми и серыми пятнами. За нею шел
пастух, громко звавший ее и манивший обычными в таких случаях словами, чтобы
заставить ее остановиться или вернуться в стадо. Бродяга коза, испуганная и
оробевшая, подбежала к обедавшим, как бы прося у них защиты, и остановилась
здесь. Козопас подошел к ней, взял ее за рога и сказал ей, точно она была
одарена речью и пониманием:
-- Ах, беглянка, беглянка, пегенькая, пегенькая! Как сильно вы все эти
дни прихрамывали? Какие волки пугают вас, дочка? Не скажете ли вы мне, в чем
дело, красавица? Но что же это может быть, кроме того, что вы женского пола
и не можете оставаться спокойной? К черту ваши причуды и причуды всех тех,
кому вы подражаете! Вернитесь, вернитесь, дорогая, потому что, если и не
столь счастливая, по крайней мере, вы будете в безопасности у себя в загоне
или с вашими подругами; и если вы, которая должна присматривать за ними и
показывать им дорогу, блуждаете так без проводника и сбиваетесь с пути, что
же станется с ними?
-- Не знаю я этих философий, -- ответил Санчо Панса, -- но знаю только,
что желал бы так скоро получить графство, как сумел бы управлять им, потому
что душа у меня не хуже, чем у всякого другого, а тела больше, чем у многих,
и я был бы настолько же королем в своем государстве, как и всякий другой --
в своем; и, будучи им, я делал бы то, что желаю; делая же то, что желаю, я
доставлял бы себе приятное и, доставляя себе приятное, был бы доволен; если
же кто доволен, ему нечего больше желать, и, если нечего желать, всему тут
конец; лишь бы только явились мои владения, а там с богом и да увидим мы
себя, как говорил один слепой другому.
-- Это не дурные "философии", как ты, Санчо, говоришь, -- заявил
каноник, -- но тем не менее можно было бы еще многое сказать по поводу
графств.
На это Дон Кихот возразил:
-- Не знаю, что еще можно было бы сказать; я руководствуюсь {В третьем
издании "Дон Кихота" (напечатанном в типографии Куэсты в 1608 г.) здесь
вставлен следующий эпизод: "только многими и различными примерами, которые
можно было бы привести среди рыцарей моей профессии, оказывавших --
сообразно с верными и отменными услугами, полученными от своих оруженосцев,
-- им великие милости, делая их державными властителями городов и островов,
а были и такие, чьи заслуги достигали столь высокой степени, что они имели
даже чаяние стать королями. Но к чему я трачу время на это, когда предо мной
столь знаменитый пример, данный великим и никогда достаточно не восхваленным
Амадисом, который..."} только примером великого Амадиса Галльского, который
оруженосца своего сделал графом Insula Firme; итак, я без всякого укора
совести могу сделать графом Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев,
когда-либо бывших у странствующего рыцаря.
Каноник был изумлен столь согласованными нелепостями, изложенными Дон
Кихотом, уменьем, с которым он изобразил приключение рыцаря озера,
впечатлением, произведенным на него умышленной ложью прочитанных им
книг, и, наконец, безрассудством Санчо, который так страстно ожидал
получения графства, обещанного ему его господином.
Между тем слуги каноника ходившие на постоялый двор, чтобы привести
оттуда вьючного мула, вернулись, и, когда они устроили стол из ковра и
зеленой травы луга, все уселись в тени нескольких деревьев и ели тут, чтоб
погонщик волов мог, как уже было сказано, воспользоваться удобствами этих
мест. В то время как они ели, вдруг послышался громкий шелест и звук
бубенчиков, раздавшийся среди терновника и густого кустарника, который рос
вблизи, и в ту же минуту они увидели, как оттуда выскочила премилая коза,
шерсть которой была испещрена черными, белыми и серыми пятнами. За нею шел
пастух, громко звавший ее и манивший обычными в таких случаях словами, чтобы
заставить ее остановиться или вернуться в стадо. Бродяга коза, испуганная и
оробевшая, подбежала к обедавшим, как бы прося у них защиты, и остановилась
здесь. Козопас подошел к ней, взял ее за рога и сказал ей, точно она была
одарена речью и пониманием:
-- Ах, беглянка, беглянка, пегенькая, пегенькая! Как сильно вы все эти
дни прихрамывали? Какие волки пугают вас, дочка? Не скажете ли вы мне, в чем
дело, красавица? Но что же это может быть, кроме того, что вы женского пола
и не можете оставаться спокойной? К черту ваши причуды и причуды всех тех,
кому вы подражаете! Вернитесь, вернитесь, дорогая, потому что, если и не
столь счастливая, по крайней мере, вы будете в безопасности у себя в загоне
или с вашими подругами; и если вы, которая должна присматривать за ними и
показывать им дорогу, блуждаете так без проводника и сбиваетесь с пути, что
же станется с ними?
 Слова козопаса рассмешили тех, кто их слышал, в особенности же
каноника, который сказал:
-- Прошу вас, брат, жизнью вашей успокойтесь и не слишком торопитесь
отводить эту козу в стадо, потому что если она, как вы говорите, женского
пола, то будет следовать природным своим наклонностям, сколько бы вы ни
старались мешать ей. Возьмите вот этот кусок мяса, выпейте несколько глотков
вина, и ваш гнев смягчится, а коза между тем отдохнет.
Говоря это, каноник подал пастуху на кончике ножа кусок жареного
кролика. Козопас взял жаркое, поблагодарил, выпил вина, успокоился и сказал:
-- Я бы не хотел, чтобы вы, милости ваши, приняли меня за простака,
оттого что я так рассуждал с этим животным, потому что, по правде говоря, в
сказанных мною словах кроется некоторая тайна. Я хотя и крестьянин, но не
такой невежда, чтобы не знать, как надо разговаривать с людьми и как с
животными.
-- Этому я легко поверю, -- сказал священник, -- потому что знаю по
опыту, что горы воспитывают ученых, а в пастушечьих хижинах скрываются
философы.
-- Или же, по крайней мере, сеньор, -- ответил пастух, -- в них находят
пристанище люди, наученные опытом, и чтобы вы могли этому поверить и словно
осязать рукой -- хотя меня и не просили, а я как бы сам напрашиваюсь, --
если вам, сеньоры, не наскучит, и угодно будет на короткое время уделить мне
ваше внимание, я расскажу вам истинное происшествие, подтверждающее и то,
что говорил этот сеньор (он указал на священника), и мои слова.
На это Дон Кихот ответил:
-- Ввиду того что случай этот, как мне кажется, имеет нечто вроде
оттенка рыцарского приключения, я со своей стороны, брат, буду слушать вас
очень охотно, а равно и все эти сеньоры, так как они весьма рассудительные
люди и большие любители занимательных рассказов, которые удивляют,
очаровывают и развлекают, как, несомненно, я думаю, это выйдет и с вашим
рассказом. Итак, начинайте, друг, все мы слушаем вас.
-- Исключая меня, -- сказал Санчо,-- потому что я с этим паштетом
перейду туда, к ручейку, где намерен досыта наесться на три дня, так как я
слышал от моего господина Дон Кихота, что оруженосец странствующего рыцаря
должен есть, когда ему представится случай, до тех пор пока он больше не в
состоянии есть, по той причине, что они нередко попадают в такой дремучий
лес, откуда не удается выбраться раньше шести дней, и, если человек не был
сыт по горло или не имеет при себе сумки, наполненной съестными припасами,
он может остаться там, как это часто и бывает, превращенный в высохшую
мумию.
-- Ты прав, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- ступай себе куда хочешь и
ешь сколько можешь; что до меня, я уже сыт и мне недостает лишь одного --
дать пищу моей душе, что я и сделаю, слушая рассказ доброго этого человека.
-- И мы также дадим пищу душам нашим, -- сказал каноник и просил
козопаса приступить к обещанному рассказу.
Слова козопаса рассмешили тех, кто их слышал, в особенности же
каноника, который сказал:
-- Прошу вас, брат, жизнью вашей успокойтесь и не слишком торопитесь
отводить эту козу в стадо, потому что если она, как вы говорите, женского
пола, то будет следовать природным своим наклонностям, сколько бы вы ни
старались мешать ей. Возьмите вот этот кусок мяса, выпейте несколько глотков
вина, и ваш гнев смягчится, а коза между тем отдохнет.
Говоря это, каноник подал пастуху на кончике ножа кусок жареного
кролика. Козопас взял жаркое, поблагодарил, выпил вина, успокоился и сказал:
-- Я бы не хотел, чтобы вы, милости ваши, приняли меня за простака,
оттого что я так рассуждал с этим животным, потому что, по правде говоря, в
сказанных мною словах кроется некоторая тайна. Я хотя и крестьянин, но не
такой невежда, чтобы не знать, как надо разговаривать с людьми и как с
животными.
-- Этому я легко поверю, -- сказал священник, -- потому что знаю по
опыту, что горы воспитывают ученых, а в пастушечьих хижинах скрываются
философы.
-- Или же, по крайней мере, сеньор, -- ответил пастух, -- в них находят
пристанище люди, наученные опытом, и чтобы вы могли этому поверить и словно
осязать рукой -- хотя меня и не просили, а я как бы сам напрашиваюсь, --
если вам, сеньоры, не наскучит, и угодно будет на короткое время уделить мне
ваше внимание, я расскажу вам истинное происшествие, подтверждающее и то,
что говорил этот сеньор (он указал на священника), и мои слова.
На это Дон Кихот ответил:
-- Ввиду того что случай этот, как мне кажется, имеет нечто вроде
оттенка рыцарского приключения, я со своей стороны, брат, буду слушать вас
очень охотно, а равно и все эти сеньоры, так как они весьма рассудительные
люди и большие любители занимательных рассказов, которые удивляют,
очаровывают и развлекают, как, несомненно, я думаю, это выйдет и с вашим
рассказом. Итак, начинайте, друг, все мы слушаем вас.
-- Исключая меня, -- сказал Санчо,-- потому что я с этим паштетом
перейду туда, к ручейку, где намерен досыта наесться на три дня, так как я
слышал от моего господина Дон Кихота, что оруженосец странствующего рыцаря
должен есть, когда ему представится случай, до тех пор пока он больше не в
состоянии есть, по той причине, что они нередко попадают в такой дремучий
лес, откуда не удается выбраться раньше шести дней, и, если человек не был
сыт по горло или не имеет при себе сумки, наполненной съестными припасами,
он может остаться там, как это часто и бывает, превращенный в высохшую
мумию.
-- Ты прав, Санчо, -- сказал Дон Кихот, -- ступай себе куда хочешь и
ешь сколько можешь; что до меня, я уже сыт и мне недостает лишь одного --
дать пищу моей душе, что я и сделаю, слушая рассказ доброго этого человека.
-- И мы также дадим пищу душам нашим, -- сказал каноник и просил
козопаса приступить к обещанному рассказу.
 Пастух раза два похлопал по спине козу, которую он держал за рога,
говоря:
-- Ложись здесь, возле меня, легенькая, у нас еще довольно времени,
чтобы вернуться в нашу овчарню.
Казалось, что коза поняла его слова, потому что, когда ее господин сел,
она спокойно разлеглась около него, глядя ему в лицо, как бы выражая
этим, что внимательно слушает слова пастуха, который начал свою историю
таким образом.
Пастух раза два похлопал по спине козу, которую он держал за рога,
говоря:
-- Ложись здесь, возле меня, легенькая, у нас еще довольно времени,
чтобы вернуться в нашу овчарню.
Казалось, что коза поняла его слова, потому что, когда ее господин сел,
она спокойно разлеглась около него, глядя ему в лицо, как бы выражая
этим, что внимательно слушает слова пастуха, который начал свою историю
таким образом.


 И вот этого-то солдата, которого я вам описал, этого Висенте де ла
Роса, героя, щеголя, музыканта и поэта, Леандра часто видела и рассматривала
из окна своего дома, выходившего на площадь. Яркие блестки его наряда
пленили ее, сочиненные им стихи, которые он всегда сам раздавал в двух
десятках экземпляров, очаровали ее; до ее слуха дошли рассказы о подвигах,
которые он приписывал себе, -- словом, должно быть, дьявол так устроил, что
она влюбилась в него еще раньше, чем в нем зародилась самонадеянная мысль
домогаться ее. И так как из дел любви легче всех устраиваются те, на стороне
которых желания женщины, Леандра и Висенте сговорились без всяких
затруднений, и прежде чем у кого-либо из многочисленных ее поклонников
зародилось какое-либо подозрение о ее намерении, она привела его уже в
исполнение, покинув дом столь горячо любимого и чтимого ею отца -- матери у
нее не было -- и исчезнув из деревни вместе с солдатом, вышедшим из этого
предприятия с большим торжеством, чем из всех остальных, которыми он так
хвастал. Происшествие это изумило всю деревню и всех тех, до кого дошла
весть о нем. Я был поражен, Ансельмо вне себя, отец пришел в отчаяние,
родственники негодовали, правосудие встревожилось, куадрильеросы были
поставлены на ноги. Они осмотрели все дороги, обыскали леса, побывали везде,
где только было мыслимо; через три дня нашли безрассудную Леандру в горной
пещере в одной лишь сорочке, без того множества денег и драгоценностей,
которые она унесла с собой из дому. Ее привели к огорченному отцу и в его
присутствии расспрашивали о случившемся с нею, и она, не колеблясь,
созналась, что Висенте де ла Роса обманул ее и, дав ей слово жениться на
ней, уговорил покинуть отцовский дом, сказав, что повезет ее в самый богатый
и необычайный во всем мире город, именно в Неаполь. И она, поверив дурным
его советам и еще худшему обману, обобрала своего отца и доверилась солдату
в ту ночь, когда ее хватились; а он ее завел в дикую, гористую местность и
бросил в той пещере, где ее нашли. Она рассказала также, как солдат, не
лишив ее чести, отнял все, что у нее было, и потом оставил ее в этой пещере
и ушел, -- обстоятельство, которое снова всех изумило.
Трудно было поверить в воздержание молодого парня, но она утверждала
это так настойчиво, что в некоторой мере утешила неутешного своего отца,
который не очень огорчился похищенными у него богатствами, так как дочери
его оставили то сокровище, которое, раз оно утрачено, нет надежды когда-либо
вернуть назад. В тот самый день, когда Леандра была найдена, отец ее снова
скрыл ее от наших глаз и увез в монастырь в ближайший город, надеясь, что
время хоть отчасти изгладит дурную славу, которую его дочь навлекла на себя.
Юные годы Леандры послужили оправданием ее вины, по крайней мере, в мнении
тех, которым было безразлично, хороша ли она или дурна, а те, что знали,
насколько она умна и проницательна, не приписали ее греха неопытности, а
легкомыслию и прирожденной наклонности женщин, большая часть которых
обыкновенно бывает безрассудными и непостоянными.
И вот этого-то солдата, которого я вам описал, этого Висенте де ла
Роса, героя, щеголя, музыканта и поэта, Леандра часто видела и рассматривала
из окна своего дома, выходившего на площадь. Яркие блестки его наряда
пленили ее, сочиненные им стихи, которые он всегда сам раздавал в двух
десятках экземпляров, очаровали ее; до ее слуха дошли рассказы о подвигах,
которые он приписывал себе, -- словом, должно быть, дьявол так устроил, что
она влюбилась в него еще раньше, чем в нем зародилась самонадеянная мысль
домогаться ее. И так как из дел любви легче всех устраиваются те, на стороне
которых желания женщины, Леандра и Висенте сговорились без всяких
затруднений, и прежде чем у кого-либо из многочисленных ее поклонников
зародилось какое-либо подозрение о ее намерении, она привела его уже в
исполнение, покинув дом столь горячо любимого и чтимого ею отца -- матери у
нее не было -- и исчезнув из деревни вместе с солдатом, вышедшим из этого
предприятия с большим торжеством, чем из всех остальных, которыми он так
хвастал. Происшествие это изумило всю деревню и всех тех, до кого дошла
весть о нем. Я был поражен, Ансельмо вне себя, отец пришел в отчаяние,
родственники негодовали, правосудие встревожилось, куадрильеросы были
поставлены на ноги. Они осмотрели все дороги, обыскали леса, побывали везде,
где только было мыслимо; через три дня нашли безрассудную Леандру в горной
пещере в одной лишь сорочке, без того множества денег и драгоценностей,
которые она унесла с собой из дому. Ее привели к огорченному отцу и в его
присутствии расспрашивали о случившемся с нею, и она, не колеблясь,
созналась, что Висенте де ла Роса обманул ее и, дав ей слово жениться на
ней, уговорил покинуть отцовский дом, сказав, что повезет ее в самый богатый
и необычайный во всем мире город, именно в Неаполь. И она, поверив дурным
его советам и еще худшему обману, обобрала своего отца и доверилась солдату
в ту ночь, когда ее хватились; а он ее завел в дикую, гористую местность и
бросил в той пещере, где ее нашли. Она рассказала также, как солдат, не
лишив ее чести, отнял все, что у нее было, и потом оставил ее в этой пещере
и ушел, -- обстоятельство, которое снова всех изумило.
Трудно было поверить в воздержание молодого парня, но она утверждала
это так настойчиво, что в некоторой мере утешила неутешного своего отца,
который не очень огорчился похищенными у него богатствами, так как дочери
его оставили то сокровище, которое, раз оно утрачено, нет надежды когда-либо
вернуть назад. В тот самый день, когда Леандра была найдена, отец ее снова
скрыл ее от наших глаз и увез в монастырь в ближайший город, надеясь, что
время хоть отчасти изгладит дурную славу, которую его дочь навлекла на себя.
Юные годы Леандры послужили оправданием ее вины, по крайней мере, в мнении
тех, которым было безразлично, хороша ли она или дурна, а те, что знали,
насколько она умна и проницательна, не приписали ее греха неопытности, а
легкомыслию и прирожденной наклонности женщин, большая часть которых
обыкновенно бывает безрассудными и непостоянными.
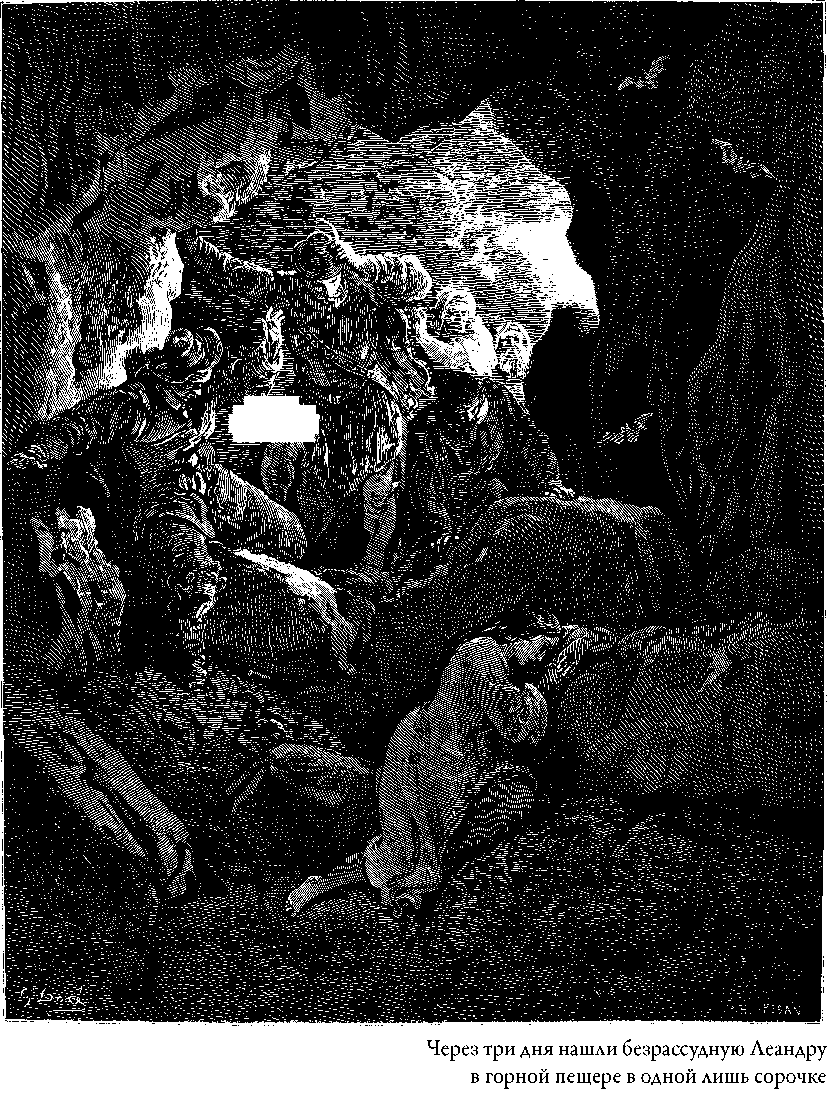 Когда засадили в монастырь Леандру, Ансельмо "ослеп", по крайней мере,
в том смысле, что он перестал видеть что-либо могущее доставить ему
удовольствие, и мои глаза померкли, не видя перед собой ни единого луча
света и радости в отсутствие Леандры. Наше горе усиливалось, терпение
истощалось, мы проклинали щегольство солдата и негодовали на отца Леандры за
недостаток предусмотрительности. Наконец Ансельмо и я, мы сговорились
покинуть деревню и уйти в эту вот долину, где он пасет большое стадо овец,
принадлежащее ему, а я -- не меньшее количество принадлежащих мне коз. Мы
проводим здесь с ним нашу жизнь, среди деревьев, давая свободный выход нашим
чувствам, и вместе поем то хвалу, то осуждение прекрасной Леандре, или же
каждый из нас вздыхает наедине, воссылая к небу свои жалобы. Подражая нашему
примеру, и многие другие поклонники Леандры явились в эти дикие горы и
предаются здесь тем же занятиям, как и мы. Их так много, что эта местность
превратилась в пастушескую Аркадию, до того здесь все полно пастухами и
овчарнями, и всюду раздается лишь имя прекрасной Леандры. Этот проклинает
ее, называя сумасбродной, непостоянной, бесчестной; тот бранит за
легкомыслие и ветреность; один извиняет и прощает ее, другой одновременно и
оправдывает и осуждает, один прославляет ее за красоту, другой возмущается
ее легкомыслием; наконец, все ее осуждают и все ее боготворят. Безумие их
доходит до того, что иной жалуется на ее пренебрежение, не сказав с ней
никогда ни слова, и даже некоторые оплакивают себя и терзаются бешенным
недугом ревности, к которому она не дала ни малейшего повода, так как я уже
говорил, что грех ее сделался известным раньше, чем желание совершить его.
Нет углубления в скале, ни берега ручейка, ни тени под деревом, где бы не
виднелся пастух, оглашающий воздух повестью о своих несчастьях. Эхо
повторяет всюду, где только оно может зародиться, имя Леандры. "Леандра" --
раздается в горах, "Леандра" -- журчат ручейки, и Леандра держит нас всех
сбитых с толку и очарованных, надеющихся без всякой надежды и боящихся, не
зная, чего мы боимся.
Среди этих безумных меньше всех выказывает здравого смысла, а на деле
имеет его больше всех мой соперник Ансельмо, который, имея много других
причин, чтобы жаловаться, жалуется только на разлуку и под звуки рабеля --
на нем он изумительно играет -- поет о грустной своей судьбе стихами,
обнаруживающими замечательный его поэтический талант. Я же иду по другой,
более легкой дороге, а на мой взгляд, самой верной, и браню легкомыслие
женщин, их непостоянство двоедушие, лживость их обещаний, коварное
вероломство и, наконец, неразумие, выказываемое ими при выборе того, на кого
устремляют они свои мысли и чувства. Это-то и был, сеньоры, повод к тем
словам и речам, с которыми я, идя сюда, обратился к своей козе, и о ней, так
как она женского пола, я не высокого мнения, хотя она и лучшая коза из всего
моего стада. Вот история, которую я вам обещал рассказать. Если же я
рассказал вам ее слишком пространно, то не буду скупиться и на то, чтобы
служить вам. Здесь, поблизости, моя овчарня, и там у меня свежее молоко,
вкуснейший сыр и спелые фрукты, столь же приятные на вид, как и на вкус.
Когда засадили в монастырь Леандру, Ансельмо "ослеп", по крайней мере,
в том смысле, что он перестал видеть что-либо могущее доставить ему
удовольствие, и мои глаза померкли, не видя перед собой ни единого луча
света и радости в отсутствие Леандры. Наше горе усиливалось, терпение
истощалось, мы проклинали щегольство солдата и негодовали на отца Леандры за
недостаток предусмотрительности. Наконец Ансельмо и я, мы сговорились
покинуть деревню и уйти в эту вот долину, где он пасет большое стадо овец,
принадлежащее ему, а я -- не меньшее количество принадлежащих мне коз. Мы
проводим здесь с ним нашу жизнь, среди деревьев, давая свободный выход нашим
чувствам, и вместе поем то хвалу, то осуждение прекрасной Леандре, или же
каждый из нас вздыхает наедине, воссылая к небу свои жалобы. Подражая нашему
примеру, и многие другие поклонники Леандры явились в эти дикие горы и
предаются здесь тем же занятиям, как и мы. Их так много, что эта местность
превратилась в пастушескую Аркадию, до того здесь все полно пастухами и
овчарнями, и всюду раздается лишь имя прекрасной Леандры. Этот проклинает
ее, называя сумасбродной, непостоянной, бесчестной; тот бранит за
легкомыслие и ветреность; один извиняет и прощает ее, другой одновременно и
оправдывает и осуждает, один прославляет ее за красоту, другой возмущается
ее легкомыслием; наконец, все ее осуждают и все ее боготворят. Безумие их
доходит до того, что иной жалуется на ее пренебрежение, не сказав с ней
никогда ни слова, и даже некоторые оплакивают себя и терзаются бешенным
недугом ревности, к которому она не дала ни малейшего повода, так как я уже
говорил, что грех ее сделался известным раньше, чем желание совершить его.
Нет углубления в скале, ни берега ручейка, ни тени под деревом, где бы не
виднелся пастух, оглашающий воздух повестью о своих несчастьях. Эхо
повторяет всюду, где только оно может зародиться, имя Леандры. "Леандра" --
раздается в горах, "Леандра" -- журчат ручейки, и Леандра держит нас всех
сбитых с толку и очарованных, надеющихся без всякой надежды и боящихся, не
зная, чего мы боимся.
Среди этих безумных меньше всех выказывает здравого смысла, а на деле
имеет его больше всех мой соперник Ансельмо, который, имея много других
причин, чтобы жаловаться, жалуется только на разлуку и под звуки рабеля --
на нем он изумительно играет -- поет о грустной своей судьбе стихами,
обнаруживающими замечательный его поэтический талант. Я же иду по другой,
более легкой дороге, а на мой взгляд, самой верной, и браню легкомыслие
женщин, их непостоянство двоедушие, лживость их обещаний, коварное
вероломство и, наконец, неразумие, выказываемое ими при выборе того, на кого
устремляют они свои мысли и чувства. Это-то и был, сеньоры, повод к тем
словам и речам, с которыми я, идя сюда, обратился к своей козе, и о ней, так
как она женского пола, я не высокого мнения, хотя она и лучшая коза из всего
моего стада. Вот история, которую я вам обещал рассказать. Если же я
рассказал вам ее слишком пространно, то не буду скупиться и на то, чтобы
служить вам. Здесь, поблизости, моя овчарня, и там у меня свежее молоко,
вкуснейший сыр и спелые фрукты, столь же приятные на вид, как и на вкус.


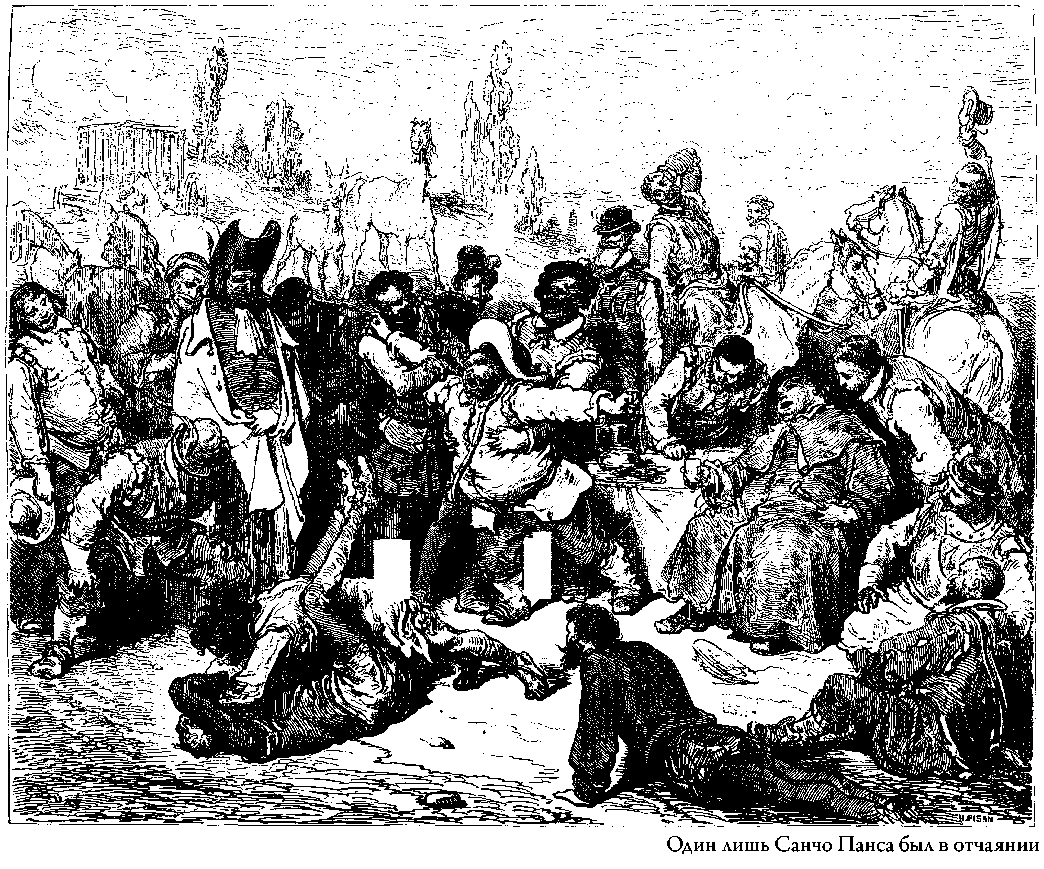 Из этих слов Дон Кихота все, слышавшие их, вывели заключение, что,
должно быть, он сумасшедший, и разразились громким смехом. Но этот смех был
точно порох, брошенный в пламя гнева Дон Кихота, потому что, не говоря ни
слова, он обнажил меч и бросился к носилкам. Один из тех, которые их несли,
оставив ношу товарищам, шагнул вперед навстречу Дон Кихоту, размахивая
вилообразной палкой, или шестом, которым он поддерживал носилки во время
остановок. По этому шесту и пришелся сильный удар, нанесенный Дон Кихотом и
разрубивший шест надвое; но обломком, оставшимся у него в руках, крестьянин
обрушил такой увесистый удар на плечо Дон Кихота, как раз с той стороны, где
был меч, и которое не могло быть защищено против крестьянской силы щитом,
что бедный Дон Кихот упал на землю в очень печальном состоянии. Санчо Панса,
бежавший чуть не задыхаясь за своим господином по пятам, увидав, что тот
упал, крикнул нападавшему на него, чтобы он не бил его больше, так как это
бедный очарованный рыцарь, который во всей своей жизни никому не сделал зла.
Но крестьянина остановил не крик Санчо, а то, что он увидел лежавшего
недвижимо на земле Дон Кихота и подумал, что он его убил, отчего поспешно
подоткнул под пояс длинное свое одеяние и бросился бежать по полю, как
олень. В это время подошли и все остальные из общества Дон Кихота к месту,
где он лежал; но участвовавшие в процессии, видя, что они бегут к ним, а с
ними и куадрильеросы со своими самострелами, боясь, чтобы не вышло чего
худого, собрались в кружок около статуи Божьей Матери и, надев на головы
капюшоны, держа крепко в руках бичи, а священники -- факелы, ждали
нападения, решив защищаться, и если окажется возможным, и напасть на своих
противников. Но судьба отнеслась к ним более благосклонно, чем они думали,
так как Санчо ничего другого не сделал, как только бросился на тело своего
господина и поднял над ним самый горький и уморительный в мире плач, думая,
что Дон Кихот умер. Нашего священника узнал другой священник, бывший в
процессии, и благодаря этому обстоятельству прекратились все опасения со
стороны обоих отрядов. Один священник сообщил в двух словах другому, кто
такой Дон Кихот; и они, так же как и вся толпа бичующихся, подошли
взглянуть, убит ли бедный кабальеро или нет, и услышали, что Санчо Панса, со
слезами на глазах, говорил:
-- О цвет рыцарства, от одного лишь удара дубиной кончивший поприще
столь хорошо потраченных тобою лет! О честь рода своего, гордость и слава
всей Ламанчи и даже всего мира, который, лишившись тебя, переполнится
злодеями, не опасающимися быть наказанными за свои преступления! О ты, более
щедрый, чем все Александры {Александр Македонский.}, так как всего за восемь
месяцев службы, ты дал мне лучший остров, который море опоясывает и
окружает! О ты, смиренный с надменными, горделивый со смиренными, отважный в
опасностях, терпеливо выносивший оскорбления, влюбленный без причины,
подражатель добрых, бич злых, враг всего низкого, -- словом, странствующий
рыцарь, так как этим все сказано, что только можно сказать!
Под вопли и рыдания Санчо Дон Кихот ожил, и первые слова, произнесенные
им, были следующие:
-- Тот, кто живет в разлуке с вами, сладчайшая Дульсинея, испытывает
большие страдания, чем эти! Помоги мне, Санчо, друг, сесть в очарованную
повозку, потому что я не в состоянии держаться на седле Росинанта, так как
все это плечо разбито у меня вдребезги.
-- Это я сделаю с величайшей охотой, сеньор мой, -- ответил Санчо,-- и
вернемтесь в мою деревню в обществе этих сеньоров, желающих вам добра, и там
мы обдумаем план нового выезда, который принес бы нам больше чести и выгоды.
Из этих слов Дон Кихота все, слышавшие их, вывели заключение, что,
должно быть, он сумасшедший, и разразились громким смехом. Но этот смех был
точно порох, брошенный в пламя гнева Дон Кихота, потому что, не говоря ни
слова, он обнажил меч и бросился к носилкам. Один из тех, которые их несли,
оставив ношу товарищам, шагнул вперед навстречу Дон Кихоту, размахивая
вилообразной палкой, или шестом, которым он поддерживал носилки во время
остановок. По этому шесту и пришелся сильный удар, нанесенный Дон Кихотом и
разрубивший шест надвое; но обломком, оставшимся у него в руках, крестьянин
обрушил такой увесистый удар на плечо Дон Кихота, как раз с той стороны, где
был меч, и которое не могло быть защищено против крестьянской силы щитом,
что бедный Дон Кихот упал на землю в очень печальном состоянии. Санчо Панса,
бежавший чуть не задыхаясь за своим господином по пятам, увидав, что тот
упал, крикнул нападавшему на него, чтобы он не бил его больше, так как это
бедный очарованный рыцарь, который во всей своей жизни никому не сделал зла.
Но крестьянина остановил не крик Санчо, а то, что он увидел лежавшего
недвижимо на земле Дон Кихота и подумал, что он его убил, отчего поспешно
подоткнул под пояс длинное свое одеяние и бросился бежать по полю, как
олень. В это время подошли и все остальные из общества Дон Кихота к месту,
где он лежал; но участвовавшие в процессии, видя, что они бегут к ним, а с
ними и куадрильеросы со своими самострелами, боясь, чтобы не вышло чего
худого, собрались в кружок около статуи Божьей Матери и, надев на головы
капюшоны, держа крепко в руках бичи, а священники -- факелы, ждали
нападения, решив защищаться, и если окажется возможным, и напасть на своих
противников. Но судьба отнеслась к ним более благосклонно, чем они думали,
так как Санчо ничего другого не сделал, как только бросился на тело своего
господина и поднял над ним самый горький и уморительный в мире плач, думая,
что Дон Кихот умер. Нашего священника узнал другой священник, бывший в
процессии, и благодаря этому обстоятельству прекратились все опасения со
стороны обоих отрядов. Один священник сообщил в двух словах другому, кто
такой Дон Кихот; и они, так же как и вся толпа бичующихся, подошли
взглянуть, убит ли бедный кабальеро или нет, и услышали, что Санчо Панса, со
слезами на глазах, говорил:
-- О цвет рыцарства, от одного лишь удара дубиной кончивший поприще
столь хорошо потраченных тобою лет! О честь рода своего, гордость и слава
всей Ламанчи и даже всего мира, который, лишившись тебя, переполнится
злодеями, не опасающимися быть наказанными за свои преступления! О ты, более
щедрый, чем все Александры {Александр Македонский.}, так как всего за восемь
месяцев службы, ты дал мне лучший остров, который море опоясывает и
окружает! О ты, смиренный с надменными, горделивый со смиренными, отважный в
опасностях, терпеливо выносивший оскорбления, влюбленный без причины,
подражатель добрых, бич злых, враг всего низкого, -- словом, странствующий
рыцарь, так как этим все сказано, что только можно сказать!
Под вопли и рыдания Санчо Дон Кихот ожил, и первые слова, произнесенные
им, были следующие:
-- Тот, кто живет в разлуке с вами, сладчайшая Дульсинея, испытывает
большие страдания, чем эти! Помоги мне, Санчо, друг, сесть в очарованную
повозку, потому что я не в состоянии держаться на седле Росинанта, так как
все это плечо разбито у меня вдребезги.
-- Это я сделаю с величайшей охотой, сеньор мой, -- ответил Санчо,-- и
вернемтесь в мою деревню в обществе этих сеньоров, желающих вам добра, и там
мы обдумаем план нового выезда, который принес бы нам больше чести и выгоды.
 -- Ты правильно рассудил, Санчо,-- ответил Дон Кихот, -- благоразумнее
всего дать пройти дурному влиянию созвездий, которое теперь тяготит над
нами.
Каноник, священник и цирюльник сказали, что рыцарь как нельзя лучше
поступит, если исполнит то, о чем сейчас говорил; итак, от души
позабавившись над простотой Санчо Пансы, они усадили Дон Кихота в повозку,
как он раньше ехал; процессия выстроилась снова и продолжала свой путь.
Козопас простился со всеми; куадрильеросы отказались идти дальше, и
священник заплатил им то, что было условлено; каноник попросил священника
сообщить ему, что случится с Дон Кихотом: излечится ли он от своего безумия
или останется болен, после чего он простился со священником и продолжал свое
путешествие. Наконец все распрощались, и каждый отправился своей дорогой,
оставив священника и цирюльника одних с Дон Кихотом, Санчо Пансой и добрым
Росинантом, который во всем, что ему пришлось пережить, выказал столько же
терпения, как и его господин.
Возчик запряг своих волов, усадил Дон Кихота на вязанку сена и с
обычною медлительностью поехал по дороге, которую ему указывал священник.
Через шесть дней они добрались до деревни рыцаря, куда въехали в полдень, да
еще в воскресенье, когда весь народ был на площади, через которую и проехала
повозка Дон Кихота. Все сбежались смотреть, что такое в повозке, но когда
они узнали своего земляка, то очень изумились, а один мальчик кинулся со
всех ног к ключнице и племяннице сообщить, что их дядя и господин едет худой
и желтый, растянувшись на связке сена в повозке, запряженной волами. Было
жалостно слышать крики, которыми разразились две добрые сеньоры, звуки
шлепков, какими они себя награждали, проклятия, срывавшиеся с их уст на
окаянные рыцарские книги, и все это возобновилось снова, когда Дон Кихот
въезжал в ворота своего дома.
Услыхав весть о приезде Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы,
знавшая уже теперь что муж ее служил у рыцаря оруженосцем, и лишь только она
увидела Санчо, первым делом спросила его, здоров ли осел. Санчо ответил, что
осел здоровее своего господина.
-- Да будет благодарение богу, -- возразила она, -- который оказал мне
такую великую милость; а теперь скажите мне, друг, какую выгоду извлекли вы
из вашей должности оруженосца? Какое платье привезли вы мне? Какие башмачки
вашим детям?
-- Ничего этого не привез я, жена,-- ответил Санчо, -- а привез другие
вещи, более ценные и значительные.
-- Очень рада этому, -- ответила жена, -- покажите-ка мне вещи, более
ценные и значительные, друг мой, потому что я желаю видеть их, чтобы
возрадовалось это сердце мое, которое было таким печальным и грустным в
долгие века вашего отсутствия.
-- Покажу их вам дома, жена, -- сказал Панса, -- теперь же
довольствуйтесь тем, что, если богу будет угодно и мы еще раз отправимся в
поиски за приключениями, вы увидите меня скоро графом или губернатором
острова, и не такого, как здесь, у нас, а лучшего, какой только можно найти.
-- Дай-то бог, муж мой, нам бы это очень пригодилось. Но скажи же мне,
что это такое насчет островов? Я не понимаю этого.
-- Мед не для ослиного рта, -- ответил Санчо, -- узнаешь все в свое
время, жена, и даже удивишься, когда твои вассалы будут тебя величать ваша
милость, сеньора.
-- Что это ты, Санчо, говоришь о величании сеньорой, островах и
вассалах? -- спросила Хуана Панса (так звали жену Санчо, хотя они и не были
сродни, но потому что в Ламанче обычай, чтобы жены принимали прозвище мужей
{Из этого следует, что в других областях Испании не было в обычае, чтобы
жены принимали фамилию мужей. Даже и теперь жена в дворянских семьях
сохраняет свое девичье имя, к которому присоединяется фамилия мужа уже в
виде добавления. Жена Санчо Пансы -- Мария -- Хуана-Тереса (имя Мария во
времена Сервантеса носили практически все женщины, поэтому часто оно вообще
не учитывалось) Гутиеррес (отчество) Каскахо (фамилия по отцу) Панса
(фамилия по мужу).}).
-- Не трудись, Хуана, узнать все так поспешно; довольно, что я говорю
тебе правду, и зашей себе рот. Могу сказать тебе только одно мимоходом: нет
более приятной вещи в мире, как хорошему человеку служить оруженосцем у
странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, что большая часть
встречающихся приключений выходят не такими, какие бы желал человек, потому
что из ста, которые встретятся, девяносто девять оказываются обыкновенно
неудачными и неблагоприятными. Знаю это по опыту, так как некоторые из них
кончились для меня бросанием вверх на одеяле, другие -- тем, что я был
избит; но все же вещь приятная -- поджидать приключения, проезжая по горам,
бродя по лесам, влезая на скалы, посещая замки и живя на постоялых дворах в
свое удовольствие, не платя ни одного мараведиса, черт возьми!
Пока этот разговор происходил между Санчо Пансой и женой его Хуаной
Панса, ключница и племянница Дон Кихота встретили его, раздели и уложили
на прежнюю его постель. Он смотрел на них искоса и не мог понять, где
он находится. Священник поручил племяннице как можно заботливее ухаживать за
своим дядей и хорошенько присматривать за ним, чтобы он еще раз не сбежал у
них; и затем рассказал все, что нужно было сделать, чтобы привезти его
домой. Тут обе женщины снова подняли крики, то осыпая проклятьями рыцарские
книги, то прося небо низвергнуть в глубину бездны авторов столь великого
множества лжи и нелепостей. Словом, они были смущены и напуганы мыслью, что
могут опять остаться без своего дяди и господина, лишь только он почувствует
себя немного лучше; и так оно и случилось, как они опасались.
Но автор этой истории, хотя и разыскивал с любознательностию и рвением
данные о подвигах, совершенных Дон Кихотом при третьем его выезде, не мог
найти сведений о них, по крайней мере в достоверных сочинениях. Только
предание сохранило в воспоминании жителей Ламанчи, что, выехав в третий раз
из дому, Дон Кихот направился в Сарагосу, где он появился в нескольких
знаменитых турнирах, происходивших в этом городе, и что здесь с ним
случились события, достойные его великого мужества и светлого ума. Наш автор
не мог бы ничего узнать о кончине и смерти Дон Кихота и так бы никогда и не
узнал ничего, если б не встретился благодаря счастливой случайности со
старым доктором, которому принадлежал свинцовый ящик, найденный им, по его
словам, под развалинами фундамента древнего скита, который перестраивали. В
этом ящике оказалось несколько пергаментов, исписанных готическим шрифтом,
но кастильскими стихами, в которых повествовалось о многих подвигах Дон
Кихота, воспевалась красота Дульсинеи Тобосской, вид Росинанта, верность
Санчо Пансы и похороны самого Дон Кихота с разными надгробными надписями и
похвальными стихами на его жизнь и нравы. Те из них, которые можно было
прочесть и разобрать, достойный доверия автор этой новой и никогда не
слыханной истории и приводит здесь. И этот автор просит тех, кто прочтут их,
-- в награду за бесконечный труд, вложенный им на исследование и пересмотр
всех ламанчских архивов для извлечения оттуда на свет божий упомянутых
стихотворений, -- об одном только: отнестись к ним с тем же доверием, с
каким рассудительные люди относятся к рыцарским книгам, так высоко ценимым в
мире. Этим он сочтет себя вполне вознагражденным и удовлетворенным и будет
поощрен искать и отыскивать другие истории, если не столь правдивые, по
крайней мере, столь же хорошо придуманные и занимательные.
Первые слова, написанные на пергаменте, найденном в свинцовом ящике
были следующие:
-- Ты правильно рассудил, Санчо,-- ответил Дон Кихот, -- благоразумнее
всего дать пройти дурному влиянию созвездий, которое теперь тяготит над
нами.
Каноник, священник и цирюльник сказали, что рыцарь как нельзя лучше
поступит, если исполнит то, о чем сейчас говорил; итак, от души
позабавившись над простотой Санчо Пансы, они усадили Дон Кихота в повозку,
как он раньше ехал; процессия выстроилась снова и продолжала свой путь.
Козопас простился со всеми; куадрильеросы отказались идти дальше, и
священник заплатил им то, что было условлено; каноник попросил священника
сообщить ему, что случится с Дон Кихотом: излечится ли он от своего безумия
или останется болен, после чего он простился со священником и продолжал свое
путешествие. Наконец все распрощались, и каждый отправился своей дорогой,
оставив священника и цирюльника одних с Дон Кихотом, Санчо Пансой и добрым
Росинантом, который во всем, что ему пришлось пережить, выказал столько же
терпения, как и его господин.
Возчик запряг своих волов, усадил Дон Кихота на вязанку сена и с
обычною медлительностью поехал по дороге, которую ему указывал священник.
Через шесть дней они добрались до деревни рыцаря, куда въехали в полдень, да
еще в воскресенье, когда весь народ был на площади, через которую и проехала
повозка Дон Кихота. Все сбежались смотреть, что такое в повозке, но когда
они узнали своего земляка, то очень изумились, а один мальчик кинулся со
всех ног к ключнице и племяннице сообщить, что их дядя и господин едет худой
и желтый, растянувшись на связке сена в повозке, запряженной волами. Было
жалостно слышать крики, которыми разразились две добрые сеньоры, звуки
шлепков, какими они себя награждали, проклятия, срывавшиеся с их уст на
окаянные рыцарские книги, и все это возобновилось снова, когда Дон Кихот
въезжал в ворота своего дома.
Услыхав весть о приезде Дон Кихота, прибежала и жена Санчо Пансы,
знавшая уже теперь что муж ее служил у рыцаря оруженосцем, и лишь только она
увидела Санчо, первым делом спросила его, здоров ли осел. Санчо ответил, что
осел здоровее своего господина.
-- Да будет благодарение богу, -- возразила она, -- который оказал мне
такую великую милость; а теперь скажите мне, друг, какую выгоду извлекли вы
из вашей должности оруженосца? Какое платье привезли вы мне? Какие башмачки
вашим детям?
-- Ничего этого не привез я, жена,-- ответил Санчо, -- а привез другие
вещи, более ценные и значительные.
-- Очень рада этому, -- ответила жена, -- покажите-ка мне вещи, более
ценные и значительные, друг мой, потому что я желаю видеть их, чтобы
возрадовалось это сердце мое, которое было таким печальным и грустным в
долгие века вашего отсутствия.
-- Покажу их вам дома, жена, -- сказал Панса, -- теперь же
довольствуйтесь тем, что, если богу будет угодно и мы еще раз отправимся в
поиски за приключениями, вы увидите меня скоро графом или губернатором
острова, и не такого, как здесь, у нас, а лучшего, какой только можно найти.
-- Дай-то бог, муж мой, нам бы это очень пригодилось. Но скажи же мне,
что это такое насчет островов? Я не понимаю этого.
-- Мед не для ослиного рта, -- ответил Санчо, -- узнаешь все в свое
время, жена, и даже удивишься, когда твои вассалы будут тебя величать ваша
милость, сеньора.
-- Что это ты, Санчо, говоришь о величании сеньорой, островах и
вассалах? -- спросила Хуана Панса (так звали жену Санчо, хотя они и не были
сродни, но потому что в Ламанче обычай, чтобы жены принимали прозвище мужей
{Из этого следует, что в других областях Испании не было в обычае, чтобы
жены принимали фамилию мужей. Даже и теперь жена в дворянских семьях
сохраняет свое девичье имя, к которому присоединяется фамилия мужа уже в
виде добавления. Жена Санчо Пансы -- Мария -- Хуана-Тереса (имя Мария во
времена Сервантеса носили практически все женщины, поэтому часто оно вообще
не учитывалось) Гутиеррес (отчество) Каскахо (фамилия по отцу) Панса
(фамилия по мужу).}).
-- Не трудись, Хуана, узнать все так поспешно; довольно, что я говорю
тебе правду, и зашей себе рот. Могу сказать тебе только одно мимоходом: нет
более приятной вещи в мире, как хорошему человеку служить оруженосцем у
странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, что большая часть
встречающихся приключений выходят не такими, какие бы желал человек, потому
что из ста, которые встретятся, девяносто девять оказываются обыкновенно
неудачными и неблагоприятными. Знаю это по опыту, так как некоторые из них
кончились для меня бросанием вверх на одеяле, другие -- тем, что я был
избит; но все же вещь приятная -- поджидать приключения, проезжая по горам,
бродя по лесам, влезая на скалы, посещая замки и живя на постоялых дворах в
свое удовольствие, не платя ни одного мараведиса, черт возьми!
Пока этот разговор происходил между Санчо Пансой и женой его Хуаной
Панса, ключница и племянница Дон Кихота встретили его, раздели и уложили
на прежнюю его постель. Он смотрел на них искоса и не мог понять, где
он находится. Священник поручил племяннице как можно заботливее ухаживать за
своим дядей и хорошенько присматривать за ним, чтобы он еще раз не сбежал у
них; и затем рассказал все, что нужно было сделать, чтобы привезти его
домой. Тут обе женщины снова подняли крики, то осыпая проклятьями рыцарские
книги, то прося небо низвергнуть в глубину бездны авторов столь великого
множества лжи и нелепостей. Словом, они были смущены и напуганы мыслью, что
могут опять остаться без своего дяди и господина, лишь только он почувствует
себя немного лучше; и так оно и случилось, как они опасались.
Но автор этой истории, хотя и разыскивал с любознательностию и рвением
данные о подвигах, совершенных Дон Кихотом при третьем его выезде, не мог
найти сведений о них, по крайней мере в достоверных сочинениях. Только
предание сохранило в воспоминании жителей Ламанчи, что, выехав в третий раз
из дому, Дон Кихот направился в Сарагосу, где он появился в нескольких
знаменитых турнирах, происходивших в этом городе, и что здесь с ним
случились события, достойные его великого мужества и светлого ума. Наш автор
не мог бы ничего узнать о кончине и смерти Дон Кихота и так бы никогда и не
узнал ничего, если б не встретился благодаря счастливой случайности со
старым доктором, которому принадлежал свинцовый ящик, найденный им, по его
словам, под развалинами фундамента древнего скита, который перестраивали. В
этом ящике оказалось несколько пергаментов, исписанных готическим шрифтом,
но кастильскими стихами, в которых повествовалось о многих подвигах Дон
Кихота, воспевалась красота Дульсинеи Тобосской, вид Росинанта, верность
Санчо Пансы и похороны самого Дон Кихота с разными надгробными надписями и
похвальными стихами на его жизнь и нравы. Те из них, которые можно было
прочесть и разобрать, достойный доверия автор этой новой и никогда не
слыханной истории и приводит здесь. И этот автор просит тех, кто прочтут их,
-- в награду за бесконечный труд, вложенный им на исследование и пересмотр
всех ламанчских архивов для извлечения оттуда на свет божий упомянутых
стихотворений, -- об одном только: отнестись к ним с тем же доверием, с
каким рассудительные люди относятся к рыцарским книгам, так высоко ценимым в
мире. Этим он сочтет себя вполне вознагражденным и удовлетворенным и будет
поощрен искать и отыскивать другие истории, если не столь правдивые, по
крайней мере, столь же хорошо придуманные и занимательные.
Первые слова, написанные на пергаменте, найденном в свинцовом ящике
были следующие:
