| Поме-шанных | Тепла | Поме-шанных | Тепла | ||
| Июнь | 2701 | 21°,29 | Октябрь | 1637 | 12°,77 |
| Май | 2642 | 16°,75 | Сентябрь | 1604 | 19°,00 |
| Июль | 2614 | 23°,75 | Декабрь | 1529 | 1°,01 |
| Август | 2261 | 21°,92 | Февраль | 1490 | 5°,73 |
| Апрель | 2237 | 16°,12 | Январь | 1476 | 1°,63 |
| Март | 1829 | 6°,60 | Ноябрь | 1452 | 7°,17 |
| Месяцы | Ламартин | В.Гюго | Мюссе и Беранже | Каркано, Арканжели, Занелла, Кардуччи, Маскерони, Алеарди | Милли | Белли | Байрон | Сумма |
| Январь | 11 | 20 | 8 | 10 | 28 | 21 | 1 | 99 |
| Февраль | 6 | 25 | 6 | 11 | 16 | 13 | 1 | 78 |
| Март | 18 | 19 | 4 | 22 | 16 | 14 | 3 | 96 |
| Апрель | 9 | 46 | 1 | 11 | 35 | 16 | 1 | 122 |
| Май | 16 | 57 | 13 | 16 | 30 | 4 | 1 | 137 |
| Июнь | 5 | 52 | 3 | 11 | 25 | 7 | 3 | 106 |
| Июль | 9 | 38 | 9 | 14 | 24 | 2 | - | 96 |
| Август | 25 | 35 | 9 | 20 | 16 | 4 | - | 109 |
| Сентябрь | 16 | 38 | 4 | 26 | 17 | 17 | 1 | 119 |
| Октябрь | 5 | 40 | 3 | 12 | 12 | 5 | 3 | 80 |
| Ноябрь | 12 | 29 | 8 | 10 | 20 | 22 | - | 101 |
| Декабрь | 10 | 10 | 7 | 12 | 25 | 18 | - | 82 |
| Мелкие планеты | Кометы | |
| В январе | 11 | 24 |
| В феврале | 10 | 10 |
| В марте | 13 | 24 |
| В апреле | 23 | 25 |
| В мае | 14 | 14 |
| В июне | 7 | 15 |
| В июле | 10 | 37 |
| В августе | 19 | 21 |
| В сентябре | 29 | 15 |
| В октябре | 18 | 22 |
| В ноябре | 18 | 22 |
| В декабре | 3 | 17 |
| 175 | 247 |
| Месяцы | Произведения по части изящных искусств и литературы | Открытия в области в астрономии | Изобретения области физики, химии и математики | Сумма | |
| Январь | 101 | 37 | - | 138 | |
| Февраль | 82 | 21 | 1 | 104 | |
| Март | 103 | 45 | 4 | 151 | |
| Апрель | 134 | 52 | 5 | 191 | |
| Май | 149 | 35 | 9 | 193 | |
| Июнь | 125 | 24 | 4 | 153 | |
| Июль | 105 | 52 | 5 | 162 | |
| Август | 113 | 42 | - | 155 | |
| Сентябрь | 138 | 47 | 5 | 190 | |
| Октябрь | 83 | 45 | 4 | 132 | |
| Ноябрь | 103 | 42 | 5 | 150 | |
| Декабрь | 86 | 27 | 2 | 114 | |
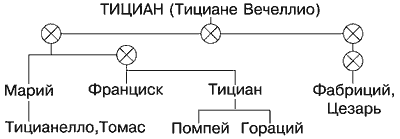 Между поэтами можно указать на Эсхила, у которого два сына и племянники
были также поэты; Свифта -- племянника Драйдена; Лукана -- племянника
Сенеки, Тассо -- сына Бернарда; Ариосто, брат и племянник которого были
поэты; Аристофана с двумя сыновьями, тоже писавшими комедии; Корнеля,
Расина, Софокла, Кольриджа, сыновья и племянники которых обладали
поэтическим талантом.
Из натуралистов составили себе известность члены семейств: Дарвина,
Эйлера, Декандоля, Гука, Гершеля, Жюсье, Жоффруа, Сент-Илера. Сыновья самого
Аристотеля (отец которого был ученый-медик), Никомах и Каллисфен, а также
племянники его известны своей ученостью.
Сын астронома Кассини был тоже знаменитым астрономом, племянник его
22-х лет уже сделался членом Академии наук, внучатый племянник -- директором
обсерватории, а правнучатый племянник составил себе известность как
натуралист и филолог. Затем вот генеалогическая таблица Бернулли начиная с
(см. рис. lombrozo_geni_02.gif)
Между поэтами можно указать на Эсхила, у которого два сына и племянники
были также поэты; Свифта -- племянника Драйдена; Лукана -- племянника
Сенеки, Тассо -- сына Бернарда; Ариосто, брат и племянник которого были
поэты; Аристофана с двумя сыновьями, тоже писавшими комедии; Корнеля,
Расина, Софокла, Кольриджа, сыновья и племянники которых обладали
поэтическим талантом.
Из натуралистов составили себе известность члены семейств: Дарвина,
Эйлера, Декандоля, Гука, Гершеля, Жюсье, Жоффруа, Сент-Илера. Сыновья самого
Аристотеля (отец которого был ученый-медик), Никомах и Каллисфен, а также
племянники его известны своей ученостью.
Сын астронома Кассини был тоже знаменитым астрономом, племянник его
22-х лет уже сделался членом Академии наук, внучатый племянник -- директором
обсерватории, а правнучатый племянник составил себе известность как
натуралист и филолог. Затем вот генеалогическая таблица Бернулли начиная с
(см. рис. lombrozo_geni_02.gif)
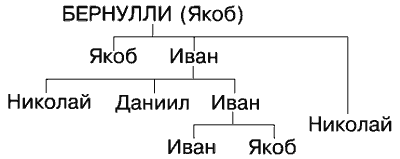 Все они составили себе имя в той или другой отрасли естественных наук.
Еще в 1829 году один из Бернулли был известен как химик, а в 1863 году умер
другой член той же семьи -- Христофор Бернулли, занимавший должность
профессора естественных наук в Базеле.
Гальтон, часто смешивающий талантливость с гениальностью (недостаток,
от которого и я не всегда мог отделаться), говорит в своем прекрасном
исследовании, что шансы родственников знаменитых людей, сделавшихся или
имеющих сделаться выдающимися, относятся как 15,5:100 -- для отцов; 13,5:100
- для братьев; 24:100 -- для сыновей. Или же, если придать этим, равно как и
остальным, отношениям более удобную форму, мы получим следующие результаты.
В первой степени родства: шансы отца -- 1:6; шансы каждого брата --
1:7; каждого сына -- 1:4. Во второй степени: шансы каждого деда -- 1:25,
каждого дяди -- 1:40, каждого внука -- 1:29. В третьей степени: шансы
каждого члена приблизительно 1:200, за исключением двоюродных братьев, для
которых -- 1:100.
Это значит, что из шести случаев в одном отец знаменитого человека
есть, вероятно, и сам человек выдающийся, в одном случае из семи брат
знаменитого человека также отличается выдающимися способностями, в одном
случае из четырех сын наследует выдающиеся над общим уровнем свойства отца и
т.д.
Впрочем, цифры эти, в свою очередь, сильно изменяются, смотря по тому,
применяем ли мы их к гениальным артистам, дипломатам, воинам и пр. Тем не
менее даже эти громадные цифры не могут дать нам новых доказательств в
пользу полной аналогии между влиянием наследственности на развитие
гениальности и помешательства, потому что последнее проявляется, к
сожалению, с гораздо большей силой и напряженностью, чем первое (как 48:80).
Далее, хотя закон, выведенный Гальтоном, вполне верен относительно судей и
государственных людей, но зато под него совсем не подходят артисты и поэты,
у которых влияние наследственности с чрезвычайной силой отражается на
братьях, сыновьях и в особенности на племянниках, тогда как в дедах и дядях
оно менее заметно. Вообще это влияние сказывается в передаче помешательства
вдвое сильнее и напряженнее, чем в передаче гениальных способностей, и
при-том почти в одинаковой степени для обоих полов, тогда как у гениев
наследственные черты переходят к потомкам мужского пола в пропорции 70:30
сравнительно с потомками женского пола. Далее, большинство гениальных людей
не передают своих качеств потомкам еще и потому, что остаются бездетными*,
вследствие вырождения, подобно тому как мы видим это в аристократических
семействах**.
[* Шопенгауэр, Декарт, Лейбниц, Мальбранш, Конт, Кант, Спиноза,
Микеланджело, Ньютон, Фосколо, Альфьери, Лассаль, Гоголь, Лермонтов,
Тургенев остались холостыми, а из женатых многие великие люди были
несчастливы в супружестве, например Сократ, Шекспир, Данте, Байрон, Пушкин,
Мароцло.]
[** Гальтон сам указывает на то, что из числа 31 пэра, возведенного в
это достоинство в конце царствования Георга IV, 12 фамилий прекратились
совершенно, и преимущественно те, члены которых женились на знатных
наследницах. Из 487 семейств, причисленных к бернской буржуазии, с 1583 по
1654 год, к 1783 году остались в живых только 168; точно так же из 112
членов Общинного Совета в 1615 году остались 58. При виде гранда Испании,
говорит Рибо, можно с уверенностью сказать, что видишь перед собою выродка.
Почти все французское, а также итальянское дворянство сделалось теперь
слепым орудием духовенства, что составляет не последнюю причину непрочности
итальянских учреждений. А в числе правителей (королей) Европы как мало
таких, которые походили бы на своих знаменитых когда-то предков и
наследовали бы от них что-нибудь кроме трона да обаяния некогда славного
имени!]
Наконец, за немногими исключениями, вроде фамилий Дарвина, Бернулли,
Кассини, Сент-Илера и Гершеля, какую ничтожную часть своих дарований и
талантов передавали обыкновенно гениальные люди своим потомкам и как еще
преувеличивались эти дарования, благодаря обаянию имени славного предка. Что
значит, например, Тицианелло в сравнении с Тицианом, какой-нибудь Никомах --
с Аристотелем, Гораций Ариосто -- с его дядей, великим поэтом, или скромный
профессор Христофор Бернулли рядом с его знаменитым предком Якобом Бернулли!
Помешательство, напротив, всего чаще передается по наследству все,
целиком... Мало того, оно как будто даже усиливается с каждым новым
поколением. Случаи наследственного умопомешательства у всех сыновей и
племянников -- нередко в той самой форме, как у отца или дяди, --
встречаются на каждом шагу. Так, например, все потомки одного знатного
гамбуржца, причисляемого к великим военным гениям, сходили с ума по
достижении ими 40-летнего возраста; наконец в живых остался только один член
этой несчастной семьи, состоявший на государственной службе, и сенат
запретил ему жениться. В 40 лет он тоже помешался. Рибо рассказывает, что в
Коннектикутскую больницу для умалишенных последовательно поступали 11 членов
одной и той же семьи.
Затем вот еще история семьи одного часовщика, сошедшего с ума
вследствие ужасов революции 1789 года и потом выздоровевшего: сам он
отравился, дочь его помешалась и окончательно сошла с ума, один брат вонзил
себе нож в живот, другой начал пить и умер от белой горячки, третий перестал
принимать пищу и умер от истощения; у здоровой сестры его один сын был
помешанный и эпилептик, другой не брал груди, двое маленьких умерли от
воспаления мозга и дочь, тоже страдавшая умопомешательством, отказалась
принимать пищу.
Наконец, самое неоспоримое доказательство в пользу нашей теории
представляет прилагаемое родословное дерево семьи Берти давшей несравненно
большее число помешанных, чем семья знаменитого Тициана дала гениальных
живописцев (см. родослов. дерево на с.74-75).
Из этой любопытной генеалогической таблицы видно что в четырех
поколениях из 80 потомков одного помешанного меланхолика 10 человек сошли с
ума и почти все страдали той же самой формой психического расстройства --
меланхолией, а 19 человек -- нервными болезнями, следовательно, 36%. Кроме
того, мы замечаем, что болезнь все более развивалась в последующих
поколениях, захватывая самый нежный возраст и проявляясь с особенной силой в
мужской линии, где помешательство явилось уже в первом поколении, тогда как
в женской линии -- только в 3-м и в пропорции едва лишь 1:4. В 1-м и 4-м
колене помешанных и нервозных много во всех семьях во 2-м колене, напротив,
преобладают здоровые члены, которые встречаются и в 3-м, а затем уже
страшная болезнь охватывает все большее число жертв, имеющих ту или другую
форму душевных страданий. Вряд ли у гениальных людей найдется семья
настолько же плодовитая и в такой же степени испытавшая на себе роковое,
прогрессивно возрастающее влияние наследственности
Но есть случаи, когда это влияние проявляется еще с большею силою, что
особенно заметно по отношению к алкоголикам (помешанным от пьянства). Так,
например, от одного родоначальника пьяницы Макса Юке произошли в течение 75
лет 200 человек воров и убийц, 280 несчастных, страдавших слепотой,
идиотизмом, чахоткой, 90 проституток и 300 детей, преждевременно умерших,
так что вся эта семья стоила государству, считая убытки и расходы, более
миллиона долларов.
И это далеко не единичный факт. Напротив, в современных медицинских
исследованиях можно встретить примеры еще более поразительные.
Тарге в своей книге "О наследственности алкоголизма" приводит несколько
подобных случаев. Так, он рассказы-вает, что четыре брата Дюфе были
подвержены несчастной страсти к вину, очевидно вследствие влияния
наследственности; старший из них бросился в воду и утонул, второй повесился,
третий перерезал себе горло и четвертый бросился вниз с третьего этажа.
У Тарге мы заимствуем и еще несколько фактов в том же роде (см. рис.
lombrozo_geni_03.gif ).
Все они составили себе имя в той или другой отрасли естественных наук.
Еще в 1829 году один из Бернулли был известен как химик, а в 1863 году умер
другой член той же семьи -- Христофор Бернулли, занимавший должность
профессора естественных наук в Базеле.
Гальтон, часто смешивающий талантливость с гениальностью (недостаток,
от которого и я не всегда мог отделаться), говорит в своем прекрасном
исследовании, что шансы родственников знаменитых людей, сделавшихся или
имеющих сделаться выдающимися, относятся как 15,5:100 -- для отцов; 13,5:100
- для братьев; 24:100 -- для сыновей. Или же, если придать этим, равно как и
остальным, отношениям более удобную форму, мы получим следующие результаты.
В первой степени родства: шансы отца -- 1:6; шансы каждого брата --
1:7; каждого сына -- 1:4. Во второй степени: шансы каждого деда -- 1:25,
каждого дяди -- 1:40, каждого внука -- 1:29. В третьей степени: шансы
каждого члена приблизительно 1:200, за исключением двоюродных братьев, для
которых -- 1:100.
Это значит, что из шести случаев в одном отец знаменитого человека
есть, вероятно, и сам человек выдающийся, в одном случае из семи брат
знаменитого человека также отличается выдающимися способностями, в одном
случае из четырех сын наследует выдающиеся над общим уровнем свойства отца и
т.д.
Впрочем, цифры эти, в свою очередь, сильно изменяются, смотря по тому,
применяем ли мы их к гениальным артистам, дипломатам, воинам и пр. Тем не
менее даже эти громадные цифры не могут дать нам новых доказательств в
пользу полной аналогии между влиянием наследственности на развитие
гениальности и помешательства, потому что последнее проявляется, к
сожалению, с гораздо большей силой и напряженностью, чем первое (как 48:80).
Далее, хотя закон, выведенный Гальтоном, вполне верен относительно судей и
государственных людей, но зато под него совсем не подходят артисты и поэты,
у которых влияние наследственности с чрезвычайной силой отражается на
братьях, сыновьях и в особенности на племянниках, тогда как в дедах и дядях
оно менее заметно. Вообще это влияние сказывается в передаче помешательства
вдвое сильнее и напряженнее, чем в передаче гениальных способностей, и
при-том почти в одинаковой степени для обоих полов, тогда как у гениев
наследственные черты переходят к потомкам мужского пола в пропорции 70:30
сравнительно с потомками женского пола. Далее, большинство гениальных людей
не передают своих качеств потомкам еще и потому, что остаются бездетными*,
вследствие вырождения, подобно тому как мы видим это в аристократических
семействах**.
[* Шопенгауэр, Декарт, Лейбниц, Мальбранш, Конт, Кант, Спиноза,
Микеланджело, Ньютон, Фосколо, Альфьери, Лассаль, Гоголь, Лермонтов,
Тургенев остались холостыми, а из женатых многие великие люди были
несчастливы в супружестве, например Сократ, Шекспир, Данте, Байрон, Пушкин,
Мароцло.]
[** Гальтон сам указывает на то, что из числа 31 пэра, возведенного в
это достоинство в конце царствования Георга IV, 12 фамилий прекратились
совершенно, и преимущественно те, члены которых женились на знатных
наследницах. Из 487 семейств, причисленных к бернской буржуазии, с 1583 по
1654 год, к 1783 году остались в живых только 168; точно так же из 112
членов Общинного Совета в 1615 году остались 58. При виде гранда Испании,
говорит Рибо, можно с уверенностью сказать, что видишь перед собою выродка.
Почти все французское, а также итальянское дворянство сделалось теперь
слепым орудием духовенства, что составляет не последнюю причину непрочности
итальянских учреждений. А в числе правителей (королей) Европы как мало
таких, которые походили бы на своих знаменитых когда-то предков и
наследовали бы от них что-нибудь кроме трона да обаяния некогда славного
имени!]
Наконец, за немногими исключениями, вроде фамилий Дарвина, Бернулли,
Кассини, Сент-Илера и Гершеля, какую ничтожную часть своих дарований и
талантов передавали обыкновенно гениальные люди своим потомкам и как еще
преувеличивались эти дарования, благодаря обаянию имени славного предка. Что
значит, например, Тицианелло в сравнении с Тицианом, какой-нибудь Никомах --
с Аристотелем, Гораций Ариосто -- с его дядей, великим поэтом, или скромный
профессор Христофор Бернулли рядом с его знаменитым предком Якобом Бернулли!
Помешательство, напротив, всего чаще передается по наследству все,
целиком... Мало того, оно как будто даже усиливается с каждым новым
поколением. Случаи наследственного умопомешательства у всех сыновей и
племянников -- нередко в той самой форме, как у отца или дяди, --
встречаются на каждом шагу. Так, например, все потомки одного знатного
гамбуржца, причисляемого к великим военным гениям, сходили с ума по
достижении ими 40-летнего возраста; наконец в живых остался только один член
этой несчастной семьи, состоявший на государственной службе, и сенат
запретил ему жениться. В 40 лет он тоже помешался. Рибо рассказывает, что в
Коннектикутскую больницу для умалишенных последовательно поступали 11 членов
одной и той же семьи.
Затем вот еще история семьи одного часовщика, сошедшего с ума
вследствие ужасов революции 1789 года и потом выздоровевшего: сам он
отравился, дочь его помешалась и окончательно сошла с ума, один брат вонзил
себе нож в живот, другой начал пить и умер от белой горячки, третий перестал
принимать пищу и умер от истощения; у здоровой сестры его один сын был
помешанный и эпилептик, другой не брал груди, двое маленьких умерли от
воспаления мозга и дочь, тоже страдавшая умопомешательством, отказалась
принимать пищу.
Наконец, самое неоспоримое доказательство в пользу нашей теории
представляет прилагаемое родословное дерево семьи Берти давшей несравненно
большее число помешанных, чем семья знаменитого Тициана дала гениальных
живописцев (см. родослов. дерево на с.74-75).
Из этой любопытной генеалогической таблицы видно что в четырех
поколениях из 80 потомков одного помешанного меланхолика 10 человек сошли с
ума и почти все страдали той же самой формой психического расстройства --
меланхолией, а 19 человек -- нервными болезнями, следовательно, 36%. Кроме
того, мы замечаем, что болезнь все более развивалась в последующих
поколениях, захватывая самый нежный возраст и проявляясь с особенной силой в
мужской линии, где помешательство явилось уже в первом поколении, тогда как
в женской линии -- только в 3-м и в пропорции едва лишь 1:4. В 1-м и 4-м
колене помешанных и нервозных много во всех семьях во 2-м колене, напротив,
преобладают здоровые члены, которые встречаются и в 3-м, а затем уже
страшная болезнь охватывает все большее число жертв, имеющих ту или другую
форму душевных страданий. Вряд ли у гениальных людей найдется семья
настолько же плодовитая и в такой же степени испытавшая на себе роковое,
прогрессивно возрастающее влияние наследственности
Но есть случаи, когда это влияние проявляется еще с большею силою, что
особенно заметно по отношению к алкоголикам (помешанным от пьянства). Так,
например, от одного родоначальника пьяницы Макса Юке произошли в течение 75
лет 200 человек воров и убийц, 280 несчастных, страдавших слепотой,
идиотизмом, чахоткой, 90 проституток и 300 детей, преждевременно умерших,
так что вся эта семья стоила государству, считая убытки и расходы, более
миллиона долларов.
И это далеко не единичный факт. Напротив, в современных медицинских
исследованиях можно встретить примеры еще более поразительные.
Тарге в своей книге "О наследственности алкоголизма" приводит несколько
подобных случаев. Так, он рассказы-вает, что четыре брата Дюфе были
подвержены несчастной страсти к вину, очевидно вследствие влияния
наследственности; старший из них бросился в воду и утонул, второй повесился,
третий перерезал себе горло и четвертый бросился вниз с третьего этажа.
У Тарге мы заимствуем и еще несколько фактов в том же роде (см. рис.
lombrozo_geni_03.gif ).
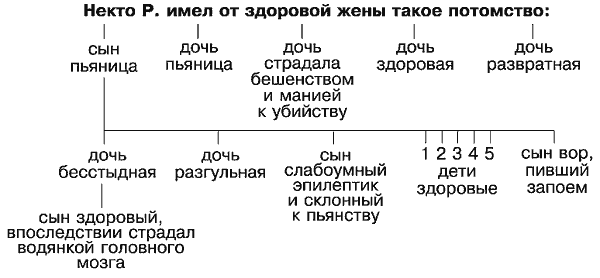 У некоего П.С., умершего от размягчения мозга вследствие пьянства, и
жены его, умершей от брюшной водянки, тоже, может быть, вызванной пьянством,
были дети: (см.рис. lombrozo_geni_04.gif и lombrozo_geni_05.gif).
У некоего П.С., умершего от размягчения мозга вследствие пьянства, и
жены его, умершей от брюшной водянки, тоже, может быть, вызванной пьянством,
были дети: (см.рис. lombrozo_geni_04.gif и lombrozo_geni_05.gif).

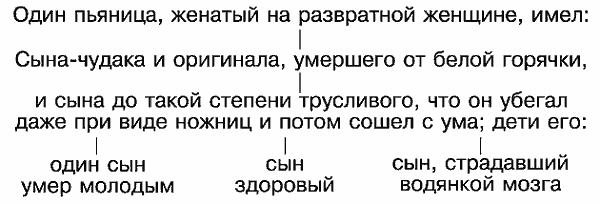 Эти примеры доказывают, что в алкоголизме легко возможен атавизм --
скачок назад через одно поколение, так что дети пьяниц остаются здоровыми, а
болезнь отражается на внуках.
Вот еще последний пример.
У пьяницы Л.Берт, умершего от апоплексии, был один только сын, тоже
пьяница, у которого родились дети: (см. рис. lombrozo_geni_06.gif).
Эти примеры доказывают, что в алкоголизме легко возможен атавизм --
скачок назад через одно поколение, так что дети пьяниц остаются здоровыми, а
болезнь отражается на внуках.
Вот еще последний пример.
У пьяницы Л.Берт, умершего от апоплексии, был один только сын, тоже
пьяница, у которого родились дети: (см. рис. lombrozo_geni_06.gif).
 Морель сообщает об одном пьянице, у которого было семеро детей, что
один из них сошел с ума 22-х лет, другой был идиот, две умерли в детстве,
5-й был чудак и мизантроп, 6-я -- истеричная, 7-й -- хороший работник, но
страдал расстройством нервов. Из 16 детей другого пьяницы 15 умерли в
детстве, а последний, оставшийся в живых, был эпилептик.
Иногда у людей, находящихся, по-видимому, в здравом уме, помешательство
проявляется отдельными чудовищными, безумными поступками.
Так, один судья, немец, выстрелом из револьвера убил свою долгое время
хворавшую жену и уверял потом, что поступил так из любви к ней, желая
избавить ее от страданий, причиняемых болезнью: он был убежден, что не
сделал ничего дурного, и пытался покончить таким же образом со своей
матерью, когда она заболела. Эксперты долгое время колебались, считать ли
этого человека душевнобольным, и пришли к заключению о его умопомешательстве
на основании того, что дед и отец у него были пьяницы.
Не только пьянство запоем, но вообще употребление спиртных напитков
приводит к ужасным последствиям... Флеминг и Демол доказали, что не одни
пьяницы передают своим детям наклонность к помешательству и преступлениям,
но что даже совершенно трезвые мужчины, находившиеся в момент совокупления
под влиянием винных паров, порождали детей -- эпилептиков, паралитиков,
помешанных, идиотов и главным образом микроцефалов или слабоумных, весьма
легко терявших рассудок.
Таким образом, какая-нибудь лишняя рюмка вина может сделаться причиною
величайших бедствий для многих поколений.
Какая же тут возможна аналогия в сравнении с редкой и почти всегда
неполной передачей гениальных способностей даже ближайшему потомству?
Правда, роковое сходство между сумасшествием и гениальностью в этом
случае менее заметно, но зато именно закон наследственности обнаруживает
тесную связь между ними в том факте, что у многих помешанных родственники
обладают гениальными способностями и что у громадного большинства даровитых
людей дети и родные бывают эпилептиками, идиотами, маньяками и наоборот, в
чем читатель может убедиться, просмотрев еще раз родословное дерево
семейства Берти.
Но еще поучительнее в этом отношении биографии великих людей. Отец
Фридриха Великого и мать Джонсона были помешанные, сын Петра Великого был
пьяница и маньяк; сестра Ришелье воображала, что у нее спина стеклянная, а
сестра Гегеля -- что она превратилась в почтовую сумку; сестра Николини
считала себя осужденной на вечные муки за еретические убеждения своего брата
и несколько раз пыталась ранить его. Сестра Ламба убила в припадке бешенства
свою мать; у Карла V мать страдала меланхолией и умопомешательством, у
Циммермана брат был помешанный; у Бетховена отец был пьяница; у Байрона мать
-- помешанная, отец бесстыдный развратник, дед -- знаменитый мореплаватель;
поэтому Рибо имел полное право сказать о Байроне, что "эксцентричность его
характера может быть вполне оправдана наследственностью, так как он
происходил от предков, обладавших всеми пороками, которые способны нарушить
гармоническое развитие характера и отнять все качества, необходимые для
семейного счастья". Дядя и дед Шопенгауэра были помешанные, отец же был
чудак и впоследствии сделался самоубийцей. У Кернера сестра страдала
меланхолией, а дети были помешанные и подвержены сомнамбулизму. Точно так же
расстройством умственных способностей страдали: Карлини, Меркаданте,
Доницетти, Вольта; у Манцони помешанными были сыновья, у Вилльмена -- отец и
братья, у Конта -- сестра, у Пертикари и Пуччинотти -- братья. Дед и брат
д'Азелио отличались такими странностями, что о них говорил весь Турин.
Прусская статистика 1877 года насчитывает на 10676 помешанных 6369
человек, в сумасшествии которых явно выразилось влияние наследственности.
Влияние наследственности в помешательстве гораздо чаще встречается у
гениальных людей, нежели у самоубийц или преступников, и что оно лишь
вдвое-втрое сильнее у пьяниц. Из 22 случаев наследственного помешательства
Обанель и Торе констатировали два случая, когда этой болезнью страдали дети
гениальных людей.
Морель сообщает об одном пьянице, у которого было семеро детей, что
один из них сошел с ума 22-х лет, другой был идиот, две умерли в детстве,
5-й был чудак и мизантроп, 6-я -- истеричная, 7-й -- хороший работник, но
страдал расстройством нервов. Из 16 детей другого пьяницы 15 умерли в
детстве, а последний, оставшийся в живых, был эпилептик.
Иногда у людей, находящихся, по-видимому, в здравом уме, помешательство
проявляется отдельными чудовищными, безумными поступками.
Так, один судья, немец, выстрелом из револьвера убил свою долгое время
хворавшую жену и уверял потом, что поступил так из любви к ней, желая
избавить ее от страданий, причиняемых болезнью: он был убежден, что не
сделал ничего дурного, и пытался покончить таким же образом со своей
матерью, когда она заболела. Эксперты долгое время колебались, считать ли
этого человека душевнобольным, и пришли к заключению о его умопомешательстве
на основании того, что дед и отец у него были пьяницы.
Не только пьянство запоем, но вообще употребление спиртных напитков
приводит к ужасным последствиям... Флеминг и Демол доказали, что не одни
пьяницы передают своим детям наклонность к помешательству и преступлениям,
но что даже совершенно трезвые мужчины, находившиеся в момент совокупления
под влиянием винных паров, порождали детей -- эпилептиков, паралитиков,
помешанных, идиотов и главным образом микроцефалов или слабоумных, весьма
легко терявших рассудок.
Таким образом, какая-нибудь лишняя рюмка вина может сделаться причиною
величайших бедствий для многих поколений.
Какая же тут возможна аналогия в сравнении с редкой и почти всегда
неполной передачей гениальных способностей даже ближайшему потомству?
Правда, роковое сходство между сумасшествием и гениальностью в этом
случае менее заметно, но зато именно закон наследственности обнаруживает
тесную связь между ними в том факте, что у многих помешанных родственники
обладают гениальными способностями и что у громадного большинства даровитых
людей дети и родные бывают эпилептиками, идиотами, маньяками и наоборот, в
чем читатель может убедиться, просмотрев еще раз родословное дерево
семейства Берти.
Но еще поучительнее в этом отношении биографии великих людей. Отец
Фридриха Великого и мать Джонсона были помешанные, сын Петра Великого был
пьяница и маньяк; сестра Ришелье воображала, что у нее спина стеклянная, а
сестра Гегеля -- что она превратилась в почтовую сумку; сестра Николини
считала себя осужденной на вечные муки за еретические убеждения своего брата
и несколько раз пыталась ранить его. Сестра Ламба убила в припадке бешенства
свою мать; у Карла V мать страдала меланхолией и умопомешательством, у
Циммермана брат был помешанный; у Бетховена отец был пьяница; у Байрона мать
-- помешанная, отец бесстыдный развратник, дед -- знаменитый мореплаватель;
поэтому Рибо имел полное право сказать о Байроне, что "эксцентричность его
характера может быть вполне оправдана наследственностью, так как он
происходил от предков, обладавших всеми пороками, которые способны нарушить
гармоническое развитие характера и отнять все качества, необходимые для
семейного счастья". Дядя и дед Шопенгауэра были помешанные, отец же был
чудак и впоследствии сделался самоубийцей. У Кернера сестра страдала
меланхолией, а дети были помешанные и подвержены сомнамбулизму. Точно так же
расстройством умственных способностей страдали: Карлини, Меркаданте,
Доницетти, Вольта; у Манцони помешанными были сыновья, у Вилльмена -- отец и
братья, у Конта -- сестра, у Пертикари и Пуччинотти -- братья. Дед и брат
д'Азелио отличались такими странностями, что о них говорил весь Турин.
Прусская статистика 1877 года насчитывает на 10676 помешанных 6369
человек, в сумасшествии которых явно выразилось влияние наследственности.
Влияние наследственности в помешательстве гораздо чаще встречается у
гениальных людей, нежели у самоубийц или преступников, и что оно лишь
вдвое-втрое сильнее у пьяниц. Из 22 случаев наследственного помешательства
Обанель и Торе констатировали два случая, когда этой болезнью страдали дети
гениальных людей.
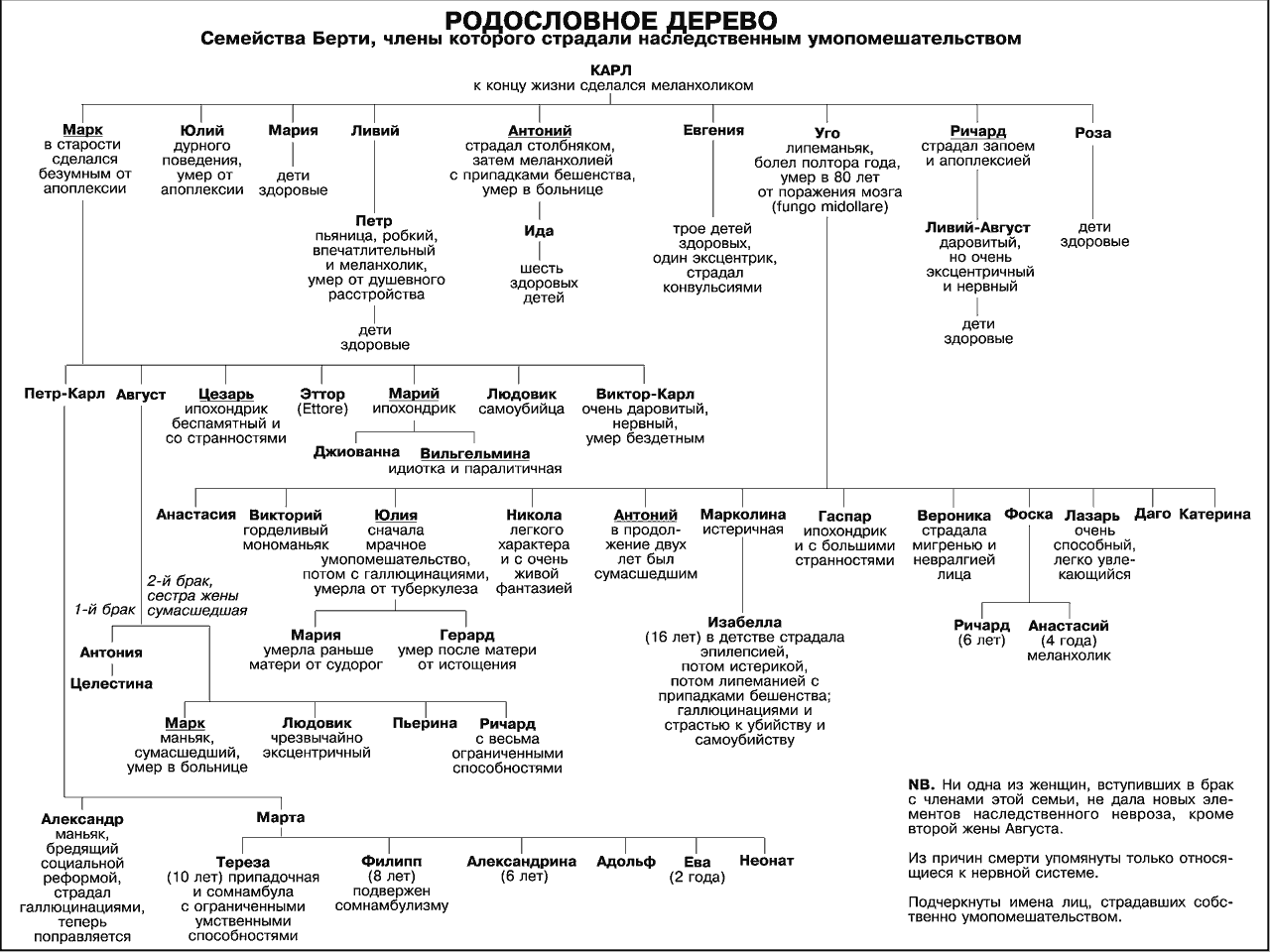
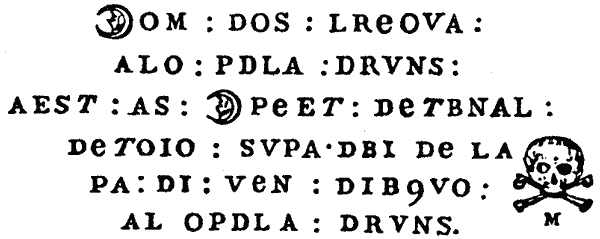 Вместо подписи нарисован был двуглавый орел с лицом на груди -- любимая
эмблема больного, который носил ее даже на шляпе и на платье.
Здесь кроме пропуска некоторых букв, преимущественно гласных, как это
принято у семитов, мы встречаемся еще и с употреблением тех символов,
которые в египетских иероглифах называются определительными (determinativi).
Taк, например, смерть изображена посредством черепа и костей, а председатель
туринского суда -- посредством грубо нарисованного в полумесяце, и притом
вверх ногами, профиля.
В других произведениях того же больного возврат к древним письменам
(атавизм) еще заметнее, так что буквы почти совершенно заменены рисунками.
Например, чтобы сильнее выразить все величие своей власти, больной
нарисовал целый ряд рожиц, служащих эмблемами стихий и близких ему высших
существ, составляющих армию, готовую по первому знаку его ринуться на борьбу
с земными владыками, оспаривающими у него господство над миром. Тут
изображены по порядку: 1) Вечный Отец, 2) Святой Дух, 3) Св. Мартин, 4)
Смерть, 5) Время, 6) Гром, 7) Молния, 8) Землетрясение, 9) Солнце, 10) Луна,
11) Огонь (военный министр), 12) Могущественный человек, живущий от начала
мира, и брат автора письма, 13) Лев ада, 14) Хлеб, 15) Вино. Затем следует
двуглавый орел, который заменяет на рескриптах печать или подпись. Под
каждым изображением находятся, кроме того, буквы, например, под первым --
P.D.Е.I. (Padre Eterno), под вторым -- L.S.P.S. (lo Spirito Santo) и т.д.
Это одновременное употребление букв, рисунков и эмблем представляет
интересный факт в том отношении, что напоминает фоноидеографический период,
наверное, пережитый всеми народами (без всякого сомнения, мексиканцами и
китайцами) до изобретения ими буквенного письма, что доказывается не только
греческим словом grafo для выражения глаголов рисовать или писать, но и
самой формой теперешних письменных знаков, напоминающих звезды и планеты.
У дикарей Америки и Австралии письменные буквы и до сих пор заменяются
грубо сделанными рисунками. Так, чтобы выразить письменно, что кто-нибудь
обладает быстротою птицы, они изображают человека с крыльями вместо рук. Два
челнока с фигуркой внутри (медведь и семь рыб) служат выражением того, что
рыбаки поймали в реке медведя и несколько рыб. Это даже и не письмена, а
скорее связанные одной общей идеей знаки, служащие для напоминания событий,
сохраняющихся в песнях или преданиях.
У некоторых племен существуют еще менее совершенные письменные знаки,
напоминающие наши ребусы; так, американцы племени Майя для обозначения слова
врач рисуют человека с пучком травы в руке и крыльями на ногах, очевидно,
намекая этим на обязанность его поспевать всюду, где нуждаются в его помощи;
эмблемой дождя служит ведро и пр.
Точно так же древние китайцы, чтобы выразить понятие о злости, рисовали
трех женщин, вместо слова свет изображали солнце и луну, а вместо глагола
слушать -- ухо, нарисованное между двух дверей.
Эти грубые эмблематические письмена приводят нас к тому заключению, что
риторические фигуры, составляющие гордость педантов-филологов, доказывают,
скорее, ограниченность ума, чем его высокое развитие; в самом деле,
цветистостью часто отличаются разговоры идиотов и глухонемых, получивших
образование.
После того как эта система письменного выражения идей практиковалась
долгое время, некоторые наиболее цивилизовавшиеся расы, как, например,
мексиканцы и китайцы, сделали шаг вперед: они сгруппировали фигуры,
служившие вместо письменных знаков, и составили из них остроумные
комбинации, которые хотя прямо и не выражали собою данной идеи, но косвенно
напоминали ее, подобно тому, как это мы видим в шарадах. Кроме того, чтобы
читающий не затруднялся в понимании тех или других знаков, впереди или
позади их воспроизводился абрис предмета, о котором шла речь, в чем виден
уже некоторый прогресс сравнительно с древним способом письма, состоявшим
исключительно из одних только рисунков. Это произошло, вероятно, после того,
как установилась устная речь и люди заметили, что многие слова, произносимые
с помощью одних и тех же звуков, могут служить для выражения различных
понятий. Так, чтобы письменно выразить Itzlicoatl, имя мексиканского короля,
рисовали змею, называвшуюся на мексиканском языке Coati, и копье -- Istzli.
Прибегнув к такому способу письма, наш мегаломаньяк (страдающий манией
величия) еще раз доказал, что сумасшедшие, точно так же, как и преступники,
при выражении своих мыслей, часто обнаруживают признаки атавизма,
возвращаясь к доисторической эпохе первобытного человека. В данном случае мы
легко можем проследить, вследствие каких причин и посредством какого
процесса мышления больной пришел к заключению о необходимости употребить
особые письменные знаки. Находясь под влиянием мании величия, считая себя
неизмеримо выше всякой власти, какую только можно вообразить себе, и
располагая по своему произволу даже стихиями, он, понятно, находил простую
речь недостаточно ясной, чтобы ее вполне уразумели невежественные и
неверующие люди. Точно так же и обычный способ письма мог показаться ему
неудовлетворительным для выражения его идей, совершенно новых и необычайных.
Изображение львиных когтей, орлиного клюва, змеиного жала, громоносной
стрелы, солнечного луча или оружия дикарей -- вот письмена, достойные
повелителя мира и способные внушить людям страх и уважение к его особе.
Этот пример -- далеко не единичный; подобный же случай описан у Раджи в
его прекрасном трактате "Письменные произведения сумасшедших" ("Scritti dei
pazzi"). Я сам лечил в Павии одного сумасшедшего башмачника, который
воображал, что в его власти находятся солнце и луна, и каждое утро рисовал
образцы мундиров, в какие он оденет со временем обоих своих подчиненных.
Может быть, здесь играет также большую роль и напряженность известных
галлюцинаций, которых больные не могут выразить с достаточной ясностью ни на
словах, ни письменно, и потому прибегают к рисованию. В самом деле, нам
случалось видеть мономаньяков, почти всегда, впрочем, уже в периоде к
полному безумию, которые постоянно чертили, как умели, предметы своих
галлюцинаций и покрывали такими изображениями целые листы бумаги.
Так, германский профессор Гунц.., лечившийся у нас от мономании
преследования, несколько раз в резких выражениях описывал магнетические
приборы, которыми ухитряются не давать ему покоя коллеги, и наконец составил
чрезвычайно странный чертеж с целью показать нам, каким образом при помощи
известных проводников и батарей враги могут преследовать его из Милана и
Турина в Павианской больнице. Другой мономаньяк, алкоголик, жаловался не
только на магнетические, но и на спиритические преследования некоего Бель...
и в припадке бреда нарисовал своего недруга, вооруженного кинжалом, в
сопровождении его жены, в виде сфинкса или сирены в очках и с торчащим изо
рта таинственным свистком, заключавшим в себе губительные для бедного
маньяка чары. Чтоб пояснить рисунок, к нему были приложены стихи, но они
только затемняли его.
Сам Лазаретти, хотя и лучше владевший пером, прибегал ко множеству
нелепых символов и украшал ими свои знамена, которыми у него был наполнен
целый чемодан. Когда его вскрыли на суде во время процесса, то королевский
прокурор был очень изумлен при виде таких невинных трофеев, тогда как он,
должно быть, думал найти в чемодане разрывные снаряды. На печати и посохе
Лазаретти тоже были вырезаны известные эмблемы, которым, как мы увидим
впоследствии, он придавал большое значение.
Еще более интересный факт в том же роде сообщил мне почтенный профессор
Морселли из своей практики.
"Больной, -- пишет он, -- занимался столярным ремеслом, был искусный
резчик по дереву и делал прекрасную мебель. Семь лет тому назад началась
психическая болезнь -- нечто вроде липемании; он пытался лишить себя жизни,
бросившись с балкона муниципального дворца, но остался жив, хотя сломал себе
ногу и разбил нос. В настоящее время с ним бывают припадки волнения
(ажитации), сопровождающиеся систематизированным бредом, в котором
преобладают политические, республиканские, даже анархистские идеи с примесью
немалой доли тщеславия. Он воображает себя одним из важных государственных
преступников -- то Гаспароне, то Пассаторе, то Пассананте. Рисует и
вырезывает постоянно, но почти всегда одно и то же -- какие-то рисунки;
служащие олицетворением его бреда. По большей части, это -- род трофеев с
гербами, эмблематическими и аллегорическими фигурами со множеством нелепых
надписей -- отрывков из теперешних политических газет или изречений,
сохранившихся у него в памяти еще со времени детства".
"В числе резных работ особенно любопытна одна, изображающая
человеческую фигуру в солдатской форме с крыльями на плечах, стоящую на
пьедестале, испещренном надписями и аллегорическими девизами. На голове у
этой статуэтки помещается какой-то трофей, а кругом нее вырезаны различные
вещи, служащие символами болезненного бреда художника. Так, например, тут
изображена чернильница -- это орудие, посредством которого он когда-нибудь
одолеет тиранов; мундир -- его обычная одежда во время войн за
независимость; крылья служат выражением той идеи, что, уже будучи
сумасшедшим, он продавал на площади Порто Реканати свои резные работы, и в
том числе изображения ангелов, по одному сольдо за штуку; медаль ордена
свиньи -- это знак отличия, который ему хотелось бы повесить на груди всем
богачам и владыкам земного шара в насмешку над ними; шлем с фонарем,
прикрепленным к забралу (что напоминает шайку мошенников в оперетке
Оффенбаха), служит эмблемой карабинеров, доставивших его в больницу;
положенная наискось сигара (обратите внимание на эту подробность) означает
презрение к королю и тиранам, а искривленное положение ноги напоминает о
переломе, бывшем следствием прыжка с балкона.
"Надписи на пьедестале составлены из отрывков стихотворений и газетных
статей политического содержания, которые всегда на устах у нашего больного,
придающего им таинственное значение в смысле намека на рабство, в каком его
держат теперь в больнице, и на возмездие, какое он готовит за это".
"Но самое замечательное из произведений бедного столяра -- это трофей
на голове статуэтки, служащий, так сказать, графическим изображением
песенки*, не знаю, им ли самим сочиненной или только заимствованной из
какого-нибудь сборника народных-песен. Каждому куплету песенки соответствует
особое символическое изображение. Для первой строфы, например, яд
представлен в виде чаши, тут же нарисована и пара кинжалов; саркофаг или
ящик с крышкой служит эмблемой слов окончить жизнь и гроб; любовь
олицетворяется двумя букетиками цветов.
[Вот перевод этой песенки, воспроизведенной проф. Ломброзо по рукописи
автора.
БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
песенка
Яд я теперь для себя приготовил,
Пару кинжалов держу у груди,
С жизнью расстаться я сильно желаю,
С жизнью печали и мрачной тоски.
Буду любить тебя даже за гробом,
Даже и мертвый все буду любить.
Колокол мерно тогда зазвучит,
Смерть всем мою возвещая;
Звон погребальный к тебе долетит,
Станешь ему ты внимать, дорогая.
Буду любить тебя даже за гробом,
Даже и мертвый все буду любить.
Мимо тебя пронесут до могилы
Прах мой в сопутствии пестрой толпы;
Дряхлый священник, взобравшись на вилы,
Вечную память тогда пропоет.
Буду любить тебя даже за гробом,
Даже и мертвый все буду любить.]
Для второй строфы под изображением колокола помещены две скрещенные
трубы, как олицетворение похоронного звона; пестрая толпа третьей строфы и
священник или, скорее, шляпа священника тоже не забыты, так что для полноты
картины недостает только вил. Нужно заметить, что нож и вилка -- любимые
орудия больного: изображение их служит эмблемой того, что он ест и пьет,
находясь в неволе, "на галерах", по его выражению, и потому он всегда носит
эти орудия, сделанные им самим из дерева, в петлице своего платья или на
шапке".
Здесь кстати будет снова припомнить, что у дикарей легенды их пишутся
именно таким способом, т.е. рисунки перемежаются со стихами.
Подобное изобилие эмблем затемняет иногда смысл картин даровитейших
художников, страдающих галлюцинациями.
5) У некоторых, хотя и немногих, душевнобольных является, по замечанию
Тозелли, странная склонность к рисованию арабесок и орнаментов почти
геометрически правильной формы, но в то же время чрезвычайно изящных;
впрочем, особенность такого рода обнаруживают только мономаньяки, у безумных
же и маньяков преобладает хаотический беспорядок, правда, иногда тоже не
лишенный изящества, как это доказывает сообщенная мне Монти и нарисованная
сумасшедшим картинка, с изображением какого-то здания, составленным из
тысячи мельчайших завитков, красиво перепутанных между собою на всевозможные
лады.
6) Далее, у многих, в особенности у эротоманьяков, паралитиков и
безумных, рисунки и поэтические произведе-ния отличаются полнейшей
непристойностью; так, один душевнобольной столяр вырезывал на углах своей
мебели и на верхушках деревьев мужские половые органы, что, впрочем,
опять-таки напоминает скульптуру дикарей и древних народов, в которой
половые органы встречаются повсюду. Другой, капитан из Генуи, постоянно
рисовал неприличные сцены. Иногда такие художники стараются замаскировать
циничность своих рисунков и объяснить ее мнимыми требованиями самого
искусства, как, например, больной, воображавший, что изображает картину
Страшного суда, или патер, который рисовал обнаженные фигуры и потом
затушевывал их так артистически, что детородные органы, груди и пр.
выделялись совершенно ясно, и на упреки в непристойности возражал, что ее
находят лишь люди, враждебно относящиеся к его рисункам. Этот же самый
субъект часто изображал группу из трех лиц -- женщину в объятиях двоих
мужчин, из которых один был в шляпе патера (Раджи).
Маньяк М., писавший иногда, как мы уже видели, такие прелестные
стихотворения, иллюстрировал их множеством рисунков с изображениями каких-то
невозможных животных, монахов или женщин и придавал им всем самые
неприличные позы.
У некоторых, именно у паралитиков, цинизм проявлялся с еще меньшей
сдержанностью. Так, я помню одного старика, который рисовал женские половые
органы и писал самые непристойные двустишия в заголовках писем к своей жене.
Любопытное явление представляли также два живописца, один из Турина, другой
из Реджио, страдавшие манией величия: у обоих было стремление к содомскому
греху, основанное на той безумной идее, что они -- боги, властители мира,
создаваемого ими тем же способом, как птицы несут яйца. Один из них,
обладавший замечательным талантом, даже изобразил себя на картине, писанной
красками, в момент подобного создания мира, совершенно голым, посреди женщин
и различных символов своего могущества. Эта чудовищная картина воспроизводит
перед нами древнее изображение божества египтян, Птифалло, и отчасти служит
объяснением происхождения этого мифа.
7) Общую черту большей части произведений сумасшедших составляет их
бесполезность, ненужность для самих работающих, что вполне подтверждается
изречением Ге-карта: "Трудиться над созданием ни к чему непригодных вещей --
занятие, свойственное только сумасшедшим". Так, одна женщина, страдавшая
манией преследования, работала по целым годам, прелестно разрисовывая
хрупкие яйца и лимоны, но, по-видимому, без всякой цели, потому что всегда
тщательно прятала свои произведения, так что даже мне, которого она считала
своим лучшим другом, удалось увидеть их только после ее смерти. В том же
роде был и труд того больного, который сшил себе только один сапог, о чем мы
говорили раньше. Можно подумать, что сумасшедшие, подобно гениальным
артистам, тоже придерживаются теории искусства для искусства, только в
извращенном смысле.
8) Иногда сумасшедшие создают и чрезвычайно полезные вещи, но
совершенно непригодные для них лично, и притом не по той специальности,
какой они прежде занимались. Например, один помешавшийся интендантский
чиновник придумал и сделал модель кровати для беснующихся больных, до того
практичной, что, по-моему, кровать эту следовало бы ввести в употребление;
двое других чиновников сообща делали прехорошенькие, покрытые резьбой
спичечницы из бычьих костей, хотя пользы не могли извлечь никакой из этой
работы, потому что отказывались продавать свои произведения. Впрочем, мне
случалось видеть и много исключений из этого правила: так, меланхолик,
страдавший манией убийства и самоубийства, устроил себе из костей,
остававшихся от обеда, нож и вилку, что было для него очень полезно, так
как, по приказанию директора, ему не давали металлических ножей и вилок.
Мегаломаньяк, служитель кафе, лечившийся в больнице Колленьо, приготовлял
там превосходную сладкую водку, хотя материалы, доставлявшиеся ему
любителями этого напитка, были самого разнообразного качества.
Пятидесятилетняя женщина, страдавшая припадками бешенства, сшила громадный
ночной чепчик в виде шлема и не могла уснуть иначе, как натянув его себе на
лицо по самую шею; маньяк-преступник из лучинок сделал себе ключ. Я не
говорю здесь о тех, которые устраивали для себя настоящие кирасы из железа
или камешков, так как в этом случае работа вызывалась необходимостью
защититься от воображаемых преследователей, и потому труд вполне
вознаграждался полученными результатами.
9) В художественном творчестве сумасшедших, конечно, преобладают
всевозможные нелепости как относительно колорита, так и самих фигур, но это
особенно сказывается у некоторых маньяков вследствие неравномерной,
преувеличенной ассоциации идей, не дающей места промежуточным оттенкам при
воплощении задуманного художником образа. У безумных же встречаются перерывы
в ассоциации идей, как это видно, например, из того, что один из них, желая
изобразить брак в Кане, превосходно нарисовал всех апостолов, а вместо
фигуры Христа -- огромный букет цветов.
Паралитики обыкновенно не умеют справиться с размерами изображаемых
предметов, вследствие чего куры выходят у них одинаковой величины с
лошадьми, вишни -- с дынями, или же, несмотря на всю тщательность отделки,
рисунок выходит какой-то неаккуратный, точно картинки, нарисованные детьми.
Один помешанный, воображавший себя вторым Верне, для изображения лошадей
проводил только четыре черты, а другой рисовал все фигуры вверх ногами.
В тех случаях, когда умопомешательство сопровождается потерей памяти,
так что больные и в разговорной речи забывают некоторые слова, в рисунках
тоже замечается недостаток существенных частей его. Так, один сумасшедший
отлично нарисовал сидящего генерала, но забыл нарисовать, на чем он сидит.
10) У некоторых, в особенности у мономаньяков, мы видим, наоборот, уже
слишком большое изобилие мелоч-ных подробностей, так что из желания точнее
выразить идею рисунка они делают его совершенно непонятным. На одном
пейзаже, например, помещенном в Турине между не принятыми на выставку
картинами, на видневшемся вдали поле все былинки отчетливо отделялись одна
от другой, или же в громадной картине штриховка была сделана такая же
тонкая, как в маленьком рисунке карандашом.
Иногда, кроме изобилия подробностей, замечается еще полнейшее
отсутствие перспективы, как, например, в рисунке, воспроизведенном здесь
посредством ксилографии, где все отдельные части сделаны совершенно
правильно, но, вследствие полнейшего отсутствия перспективы, в общем выходит
какой-то сумбур. Можно подумать, что это рисовал настоящий художник, но
учившийся в Китае или Древнем Египте.
Я знал троих подобных живописцев, из которых один был мономаньяком,
отличавшийся еще тем, что для письма употреблял печатные буквы, и двое --
помешанных. Кроме того, мне случалось видеть одного французского
капитана-полупаралитика, рисовавшего фигуры угловатыми линиями, точно
египетские профили. Вышеупомянутый мегаломаньяк, сшивший себе один только
сапог, сделал раскрашенный барельеф, на котором фигуры своими
непропорционально большими конечностями и крошечными лицами очень походили
на священные картины XII столетия. Наконец, один больной вырезывал на
трубках и вазах барельефы, совершенно сходные с теми, какие встречаются на
древних орудиях из тесаного камня. Таким образом, эти примеры доказывают
полную аналогию между психическим состоянием человека и внешними
проявлениями его деятельности.
11) Некоторые из сумасшедших выказывают удивительный талант в
подражании, в умении схватить внешний вид предмета, например, они совершенно
точно срисовывают фасад больницы, головы животных; но такие, хотя весьма
тщательные, рисунки бывают обыкновенно лишены изящества и напоминают
младенческое состояние искусства.
Мне случилось видеть, что подобные картины нередко выходят довольно
удачными у идиотов и кретинов, которые, пожалуй, стоят в умственном
отношении на одном уровне с первобытными людьми.
Многие постоянно воспроизводят один и тот же сюжет; так, у Фриджерио
был душевнобольной, всегда рисовавший пчелу, которая отгрызает голову у
муравья; другой, воображавший, что его расстреляли, чертил ружья, третий --
арабески. Иногда это постоянство обусловливается прежними занятиями,
например, у столяров и моряков и пр.
Последнее обстоятельство служит объяснением того факта, что
душевнобольные и даже совершенно помешавшиеся достигают иногда значительной
степени совершенства в своих рисунках вследствие постоянного повторения
известного сюжета. Сумасшедший, вечно рисующий одни корабли, наконец
становится артистом в их изображении. Впрочем, иногда эта способность, как и
внезапное появление поэтического литературного таланта, вызванное потерей
рассудка, -- например, у Фарина -- обусловливается энергией и напряженностью
галлюцинации. Под влиянием их люди, никогда не бравшие кисти в руки, сразу
делаются живописцами и даже художниками, как это случилось с Блэком (о
котором рассказывает Бриер), именно благодаря тому, что давно умершие люди,
ангелы и пр., представлялись ему живо и совершенно отчетливо. Той же
способностью обладал поэт-маттоид Джон Клер; он уверял даже, что был
очевидцем войн давно прошедшего времени и присутствовал при совершении казни
над Карлом I.
Действительно, все эти события он воспроизводил на полотне поразительно
правдиво, хотя не получил никакого образования и, следовательно, не мог
заимствовать ничего из книг.
Впечатлительностью объясняется отчасти и страсть к копированию картин и
списыванию стихов, замечаемая у тех из психически больных, от которых всего
меньше можно было ожидать этого, -- у безумных (démenti).
Тут, очевидно, играет большую роль тот факт, что с потерей рассудка
фантазия приобретает полный простор и больной проникается сочувствием к
произведениям той же фантазии, тогда как у нормальных людей здравый смысл,
не допускающий их до иллюзии или галлюцинаций, в известной степени подавляет
в них эстетические и артистические наклонности. Хорошо копировать можно лишь
то, что хорошо видишь.
Отсюда уже понятно, каким образом самое искусство может, в свою
очередь, способствовать развитию душевных болезней и даже вызывать их.
Вазари рассказывает о живописце Спинелли, что когда он после многих
бесплодных попыток нарисовал наконец Люцифера во всем его безобразии, то
последний явился ему во сне и укорял, зачем он изобразил его таким уродом.
Этот образ потом в продолжение нескольких лет преследовал Спинелли и едва не
довел его до самоубийства. Верга знал другого художника, который, долгое
время упражняясь в рисовании змеевидных линии, стал видеть их перед собою
днем и ночью, под конец даже превратившимися в настоящих змей. Это до такой
степени мучило его, что он пытался утопиться.
Бывают случаи, что страсть к рисованию вызывается не фантазией, но
простым автоматизмом, развивающимся с особенной силой именно тогда, когда
всякие другие проявления психической деятельности начинают слабеть. Нечто
подобное мы видим в детях, которые автоматически рисуют и пишут разные
каракульки.
Что в известной степени тут имеет влияние атавизм, доказывается не
только сходством этих рисунков с монгольскими, но также и страстью
сумасшедших к музыке. Вопрос этот был весьма обстоятельно разработан
известным алиенистом и знатоком музыки Винья (Vigna) в его сочинении
"Intorno all' influenza della musica" ("По поводу влияния музыки"), изданном
в Милане в 1878 году.
Музыкальное искусство у сумасшедших. Музыкальные дарования, подобно
способности к живописи, даже еще в сильнейшей степени, чем эта последняя,
слабеют у тех ду-шевнобольных, которые до заболевания слишком страстно
занимались музыкой. Адриани заметил, что музыканты, лечившиеся у него от
умопомешательства, почти совершенно теряли свои музыкальные способности и
если иногда занимались музыкой, то совершенно машинально, иные же, лишившись
рассудка, постоянно повторяли одну и ту же пьесу или отдельные фразы из них.
Винья говорит, что Доницетти, находясь в последнем периоде сумасшествия,
оставался совершенно равнодушным, когда при нем играли его любимые мелодии.
В последних произведениях этого композитора отразилось роковое влияние
болезни. То же самое замечают музыкальные критики и в симфонии-увертюре к
"Мессинской невесте", написанной Шуманом во время припадков сумасшествия.
Но это нисколько не противоречит высказанному мною положению, что
умопомешательство вызывает артистические способности в субъектах, не имевших
их раньше, а, напротив, только доказывает, как это мы уже видели
относительно живописцев, в какой ничтожной степени сохраняется у музыкантов
прежняя любовь к искусству, злоупотребление которым, может быть, и сделалось
причиною их сумасшествия.
Впрочем, Мазон Кокс, заметивший, что многие виртуозы вместе с потерей
рассудка теряли и музыкальные способности, наблюдал также несколько случаев,
когда под влиянием психоза эти способности усиливались. Несомненно, однако,
что музыкальный талант появляется, иногда почти внезапно, всего чаще у
меланхоликов, затем у маньяков и даже у безумных. Я помню одного больного,
совершенно потерявшего дар слова, но постоянно игравшего à livre ouvert
самые трудные пьесы, и одного очень даровитого математика, который страдал
меланхолией: совершенно не зная ни музыки, ни контрапункта, он
импровизировал на фортепиано арии, достойные великого композитора. Другой
субъект, впавший в безумие вследствие мономании, в молодости учился музыке и
во время болезни постоянно играл или импровизировал до самой смерти своей от
паралича.
Тамбурини лечил одну женщину, сифилитичку, страдавшую мегаломанией; во
время припадков возбуждения она садилась за фортепиано и пела прекрасные
арии, но, вместо того чтобы аккомпанировать себе, импровизировала два
различных мотива, не имевших никакого соотношения ни между собою, ни с
арией, которую она пела при этом.
Один юноша, лечившийся у меня в клинике от миланской проказы, сочинял
новые и прелестные песенки.
Раджи писал мне об одной лечившейся у него даме, страдавшей
меланхолией, что во время припадка она играла нехотя и кое-как, но, по
окончании его, проводила целые дни за роялем и с чисто артистическим
увлечением исполняла труднейшие вещи. Тот же врач наблюдал необыкновенное
развитие музыкальных способностей у другой больной, у которой было острое
горделивое помешательство: она постоянно пела арии Беллини, хотя и
детонировала при этом.
В музыкальном искусстве перевес тоже оказывается, по-видимому, на
стороне мегаломаньяков и паралитиков, по той же самой причине, как и в
живописи, а именно вследствие сильнейшего психического возбуждения. Так, с
одним из паралитиков во все продолжение болезни бывали настоящие музыкальные
пароксизмы, во время которых он подражал всевозможным инструментам и при
исполнении тихих мест (piano) выказывал неописанное увлечение. Другая
паралитичка, воображавшая себя французской императрицей, губами и
прищелкиванием пальцев исполняла марши для своего войска и пела в такт этим
звукам.
Еще один больной-паралитик, считавший себя генерал-адмиралом, тоже
нередко пел какие-то монотонные мелодии. Оригинальный поэт и живописец
мегаломаньяк М., писавший то прелестные, то нелепые стихотворения,
приведенные нами раньше, тоже писал или, скорее, кропал какие-то музыкальные
пьесы по новой, им самим изобретенной системе, ни для кого, впрочем, не
понятной.
Маньяки всегда предпочитают быстрые темпы на высоких нотах, особенно
при веселом настроении, и любят повторять припевы (Раджи). Впрочем, и вообще
все больные, хотя бы ненадолго попадающие в дома умалишенных, обнаруживают
большую склонность к пению, крикам и ко всякому выражению своих чувств
посредством звуков, причем всегда заметен известный размер, ритм. Причина
этого явления, точно так же как и обилия между сумасшедшими поэтов, будет
нам вполне понятна, когда мы припомним мнение Спенсера и Ардиго,
доказывающих, что закон ритма есть наиболее распространенная форма
проявления энергии, присущей всему в природе, начиная от звезд, кристаллов и
кончая животными организмами. Инстинктивно подчиняясь этому закону природы,
человек стремится выразить его всеми способами и тем с большей
напряженностью, чем слабее у него рассудок. Потому-то первобытные народы
всегда до страсти любят музыку. Спенсер слышал от одного миссионера, что для
обучения дикарей он поет им псалмы, и на другой день почти все они уже знают
их на память.
Дикари даже и в разговорной форме употребляют нечто вроде монотонного
пения, напоминающего наши речитативы, а самое слово песня выражало в древнее
время и понятие о поэзии, откуда произошло название поэта -- певец.
Таинственные магические формулы и заклинания древних всегда имели размер
песни, да и в настоящее время в деревнях разговорная речь обилием модуляции
голоса напоминает простые музыкальные арии. Наконец, импровизаторы
произносят свои стихи не иначе как нараспев и жестикулируют при этом всеми
членами.
Спенсер в своем сочинении "Essais de morale el d'esthétique"
(Paris, 1879) прекрасно объясняет это тем, что пение придает особенную силу
естественному выражению чувств и состоит в систематическом комбинировании
голосовых средств, смотря по тому, вызываются ли они радостью или печалью.
"Всякое умственное возбуждение, -- говорит он, -- переходит в мускульное, и
между ними существует неразрывная связь. Ребенок прыгает и скачет при виде
чего-нибудь блестящего. Взрослый начинает жестикулировать под влиянием
ощущений или сильного вол-нения, и чем оно сильнее, тем больше раздражается
мускульная система. Легкая боль вызывает стон, острая -- крик: слабый --
если страдание мимолетно, высокий или низкий -- если оно продолжительно, а в
случае нестерпимых страданий звук голоса повышается на квинту, на октаву и
даже больше. В пении же душевное волнение также проявляется дрожанием
мускульных связок, отчего происходит так называемое тремоло".
Весьма естественно поэтому, что в тех случаях, когда возбуждение
особенно сильно и где нередко даже явление атавизма, как при сумасшествии,
склонность к музыке оказывается преобладающим выражением духовной жизни
человека.
Тот же самый факт служит в свою очередь объяснением, почему среди
гениальных безумцев так много музыкальных знаменитостей, каковы, например,
Моцарт, Латтре, Шуман, Бетховен, Доницетти, Перголези, Феничиа, Риччи,
Рокки, Россо, Гендель, Дюссек, Гофман, Глюк и др.* Кроме того, не следует
забывать, что музыкальные композиции принадлежат к числу самых субъективных
произведений человеческого гения, -- они всего теснее связаны с аффектами и
всего менее с внешними формами проявления мысли, вследствие чего для
создания их необходимо вдохновение самое пламенное, жгучее, наиболее
губительно действующее на организм.
[На громадное количество сумасшедших среди композиторов указал мне
молодой артист Арнальдо Баргони уже много лет тому назад, а в последнее
время много фактов по этому вопросу сообщил Мастриани в своей прекрасной
статье о моей книге "Гениальность и помешательство", изданной в 1881 году.]
Исследование характера артистических наклонностей у сумасшедших, может
быть, принесет пользу не только для изучения их болезней, в которых еще
столько темного, необъяснимого, но также и для самой эстетики или, по
крайней мере, для эстетической критики, доказав ей, что злоупотребление
символами, изобилие мелочных подробностей, хотя и совершенно верных с
действительностью, цветистость слога, противоестественное преобладание
одного какого-нибудь цвета (недостаток, свойственный многим нашим
художникам), циничность сюжетов и слишком преувеличенная оригинальность
принадлежат уже к патологическим явлениями в области искусства.
Вместо подписи нарисован был двуглавый орел с лицом на груди -- любимая
эмблема больного, который носил ее даже на шляпе и на платье.
Здесь кроме пропуска некоторых букв, преимущественно гласных, как это
принято у семитов, мы встречаемся еще и с употреблением тех символов,
которые в египетских иероглифах называются определительными (determinativi).
Taк, например, смерть изображена посредством черепа и костей, а председатель
туринского суда -- посредством грубо нарисованного в полумесяце, и притом
вверх ногами, профиля.
В других произведениях того же больного возврат к древним письменам
(атавизм) еще заметнее, так что буквы почти совершенно заменены рисунками.
Например, чтобы сильнее выразить все величие своей власти, больной
нарисовал целый ряд рожиц, служащих эмблемами стихий и близких ему высших
существ, составляющих армию, готовую по первому знаку его ринуться на борьбу
с земными владыками, оспаривающими у него господство над миром. Тут
изображены по порядку: 1) Вечный Отец, 2) Святой Дух, 3) Св. Мартин, 4)
Смерть, 5) Время, 6) Гром, 7) Молния, 8) Землетрясение, 9) Солнце, 10) Луна,
11) Огонь (военный министр), 12) Могущественный человек, живущий от начала
мира, и брат автора письма, 13) Лев ада, 14) Хлеб, 15) Вино. Затем следует
двуглавый орел, который заменяет на рескриптах печать или подпись. Под
каждым изображением находятся, кроме того, буквы, например, под первым --
P.D.Е.I. (Padre Eterno), под вторым -- L.S.P.S. (lo Spirito Santo) и т.д.
Это одновременное употребление букв, рисунков и эмблем представляет
интересный факт в том отношении, что напоминает фоноидеографический период,
наверное, пережитый всеми народами (без всякого сомнения, мексиканцами и
китайцами) до изобретения ими буквенного письма, что доказывается не только
греческим словом grafo для выражения глаголов рисовать или писать, но и
самой формой теперешних письменных знаков, напоминающих звезды и планеты.
У дикарей Америки и Австралии письменные буквы и до сих пор заменяются
грубо сделанными рисунками. Так, чтобы выразить письменно, что кто-нибудь
обладает быстротою птицы, они изображают человека с крыльями вместо рук. Два
челнока с фигуркой внутри (медведь и семь рыб) служат выражением того, что
рыбаки поймали в реке медведя и несколько рыб. Это даже и не письмена, а
скорее связанные одной общей идеей знаки, служащие для напоминания событий,
сохраняющихся в песнях или преданиях.
У некоторых племен существуют еще менее совершенные письменные знаки,
напоминающие наши ребусы; так, американцы племени Майя для обозначения слова
врач рисуют человека с пучком травы в руке и крыльями на ногах, очевидно,
намекая этим на обязанность его поспевать всюду, где нуждаются в его помощи;
эмблемой дождя служит ведро и пр.
Точно так же древние китайцы, чтобы выразить понятие о злости, рисовали
трех женщин, вместо слова свет изображали солнце и луну, а вместо глагола
слушать -- ухо, нарисованное между двух дверей.
Эти грубые эмблематические письмена приводят нас к тому заключению, что
риторические фигуры, составляющие гордость педантов-филологов, доказывают,
скорее, ограниченность ума, чем его высокое развитие; в самом деле,
цветистостью часто отличаются разговоры идиотов и глухонемых, получивших
образование.
После того как эта система письменного выражения идей практиковалась
долгое время, некоторые наиболее цивилизовавшиеся расы, как, например,
мексиканцы и китайцы, сделали шаг вперед: они сгруппировали фигуры,
служившие вместо письменных знаков, и составили из них остроумные
комбинации, которые хотя прямо и не выражали собою данной идеи, но косвенно
напоминали ее, подобно тому, как это мы видим в шарадах. Кроме того, чтобы
читающий не затруднялся в понимании тех или других знаков, впереди или
позади их воспроизводился абрис предмета, о котором шла речь, в чем виден
уже некоторый прогресс сравнительно с древним способом письма, состоявшим
исключительно из одних только рисунков. Это произошло, вероятно, после того,
как установилась устная речь и люди заметили, что многие слова, произносимые
с помощью одних и тех же звуков, могут служить для выражения различных
понятий. Так, чтобы письменно выразить Itzlicoatl, имя мексиканского короля,
рисовали змею, называвшуюся на мексиканском языке Coati, и копье -- Istzli.
Прибегнув к такому способу письма, наш мегаломаньяк (страдающий манией
величия) еще раз доказал, что сумасшедшие, точно так же, как и преступники,
при выражении своих мыслей, часто обнаруживают признаки атавизма,
возвращаясь к доисторической эпохе первобытного человека. В данном случае мы
легко можем проследить, вследствие каких причин и посредством какого
процесса мышления больной пришел к заключению о необходимости употребить
особые письменные знаки. Находясь под влиянием мании величия, считая себя
неизмеримо выше всякой власти, какую только можно вообразить себе, и
располагая по своему произволу даже стихиями, он, понятно, находил простую
речь недостаточно ясной, чтобы ее вполне уразумели невежественные и
неверующие люди. Точно так же и обычный способ письма мог показаться ему
неудовлетворительным для выражения его идей, совершенно новых и необычайных.
Изображение львиных когтей, орлиного клюва, змеиного жала, громоносной
стрелы, солнечного луча или оружия дикарей -- вот письмена, достойные
повелителя мира и способные внушить людям страх и уважение к его особе.
Этот пример -- далеко не единичный; подобный же случай описан у Раджи в
его прекрасном трактате "Письменные произведения сумасшедших" ("Scritti dei
pazzi"). Я сам лечил в Павии одного сумасшедшего башмачника, который
воображал, что в его власти находятся солнце и луна, и каждое утро рисовал
образцы мундиров, в какие он оденет со временем обоих своих подчиненных.
Может быть, здесь играет также большую роль и напряженность известных
галлюцинаций, которых больные не могут выразить с достаточной ясностью ни на
словах, ни письменно, и потому прибегают к рисованию. В самом деле, нам
случалось видеть мономаньяков, почти всегда, впрочем, уже в периоде к
полному безумию, которые постоянно чертили, как умели, предметы своих
галлюцинаций и покрывали такими изображениями целые листы бумаги.
Так, германский профессор Гунц.., лечившийся у нас от мономании
преследования, несколько раз в резких выражениях описывал магнетические
приборы, которыми ухитряются не давать ему покоя коллеги, и наконец составил
чрезвычайно странный чертеж с целью показать нам, каким образом при помощи
известных проводников и батарей враги могут преследовать его из Милана и
Турина в Павианской больнице. Другой мономаньяк, алкоголик, жаловался не
только на магнетические, но и на спиритические преследования некоего Бель...
и в припадке бреда нарисовал своего недруга, вооруженного кинжалом, в
сопровождении его жены, в виде сфинкса или сирены в очках и с торчащим изо
рта таинственным свистком, заключавшим в себе губительные для бедного
маньяка чары. Чтоб пояснить рисунок, к нему были приложены стихи, но они
только затемняли его.
Сам Лазаретти, хотя и лучше владевший пером, прибегал ко множеству
нелепых символов и украшал ими свои знамена, которыми у него был наполнен
целый чемодан. Когда его вскрыли на суде во время процесса, то королевский
прокурор был очень изумлен при виде таких невинных трофеев, тогда как он,
должно быть, думал найти в чемодане разрывные снаряды. На печати и посохе
Лазаретти тоже были вырезаны известные эмблемы, которым, как мы увидим
впоследствии, он придавал большое значение.
Еще более интересный факт в том же роде сообщил мне почтенный профессор
Морселли из своей практики.
"Больной, -- пишет он, -- занимался столярным ремеслом, был искусный
резчик по дереву и делал прекрасную мебель. Семь лет тому назад началась
психическая болезнь -- нечто вроде липемании; он пытался лишить себя жизни,
бросившись с балкона муниципального дворца, но остался жив, хотя сломал себе
ногу и разбил нос. В настоящее время с ним бывают припадки волнения
(ажитации), сопровождающиеся систематизированным бредом, в котором
преобладают политические, республиканские, даже анархистские идеи с примесью
немалой доли тщеславия. Он воображает себя одним из важных государственных
преступников -- то Гаспароне, то Пассаторе, то Пассананте. Рисует и
вырезывает постоянно, но почти всегда одно и то же -- какие-то рисунки;
служащие олицетворением его бреда. По большей части, это -- род трофеев с
гербами, эмблематическими и аллегорическими фигурами со множеством нелепых
надписей -- отрывков из теперешних политических газет или изречений,
сохранившихся у него в памяти еще со времени детства".
"В числе резных работ особенно любопытна одна, изображающая
человеческую фигуру в солдатской форме с крыльями на плечах, стоящую на
пьедестале, испещренном надписями и аллегорическими девизами. На голове у
этой статуэтки помещается какой-то трофей, а кругом нее вырезаны различные
вещи, служащие символами болезненного бреда художника. Так, например, тут
изображена чернильница -- это орудие, посредством которого он когда-нибудь
одолеет тиранов; мундир -- его обычная одежда во время войн за
независимость; крылья служат выражением той идеи, что, уже будучи
сумасшедшим, он продавал на площади Порто Реканати свои резные работы, и в
том числе изображения ангелов, по одному сольдо за штуку; медаль ордена
свиньи -- это знак отличия, который ему хотелось бы повесить на груди всем
богачам и владыкам земного шара в насмешку над ними; шлем с фонарем,
прикрепленным к забралу (что напоминает шайку мошенников в оперетке
Оффенбаха), служит эмблемой карабинеров, доставивших его в больницу;
положенная наискось сигара (обратите внимание на эту подробность) означает
презрение к королю и тиранам, а искривленное положение ноги напоминает о
переломе, бывшем следствием прыжка с балкона.
"Надписи на пьедестале составлены из отрывков стихотворений и газетных
статей политического содержания, которые всегда на устах у нашего больного,
придающего им таинственное значение в смысле намека на рабство, в каком его
держат теперь в больнице, и на возмездие, какое он готовит за это".
"Но самое замечательное из произведений бедного столяра -- это трофей
на голове статуэтки, служащий, так сказать, графическим изображением
песенки*, не знаю, им ли самим сочиненной или только заимствованной из
какого-нибудь сборника народных-песен. Каждому куплету песенки соответствует
особое символическое изображение. Для первой строфы, например, яд
представлен в виде чаши, тут же нарисована и пара кинжалов; саркофаг или
ящик с крышкой служит эмблемой слов окончить жизнь и гроб; любовь
олицетворяется двумя букетиками цветов.
[Вот перевод этой песенки, воспроизведенной проф. Ломброзо по рукописи
автора.
БУДУ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ
песенка
Яд я теперь для себя приготовил,
Пару кинжалов держу у груди,
С жизнью расстаться я сильно желаю,
С жизнью печали и мрачной тоски.
Буду любить тебя даже за гробом,
Даже и мертвый все буду любить.
Колокол мерно тогда зазвучит,
Смерть всем мою возвещая;
Звон погребальный к тебе долетит,
Станешь ему ты внимать, дорогая.
Буду любить тебя даже за гробом,
Даже и мертвый все буду любить.
Мимо тебя пронесут до могилы
Прах мой в сопутствии пестрой толпы;
Дряхлый священник, взобравшись на вилы,
Вечную память тогда пропоет.
Буду любить тебя даже за гробом,
Даже и мертвый все буду любить.]
Для второй строфы под изображением колокола помещены две скрещенные
трубы, как олицетворение похоронного звона; пестрая толпа третьей строфы и
священник или, скорее, шляпа священника тоже не забыты, так что для полноты
картины недостает только вил. Нужно заметить, что нож и вилка -- любимые
орудия больного: изображение их служит эмблемой того, что он ест и пьет,
находясь в неволе, "на галерах", по его выражению, и потому он всегда носит
эти орудия, сделанные им самим из дерева, в петлице своего платья или на
шапке".
Здесь кстати будет снова припомнить, что у дикарей легенды их пишутся
именно таким способом, т.е. рисунки перемежаются со стихами.
Подобное изобилие эмблем затемняет иногда смысл картин даровитейших
художников, страдающих галлюцинациями.
5) У некоторых, хотя и немногих, душевнобольных является, по замечанию
Тозелли, странная склонность к рисованию арабесок и орнаментов почти
геометрически правильной формы, но в то же время чрезвычайно изящных;
впрочем, особенность такого рода обнаруживают только мономаньяки, у безумных
же и маньяков преобладает хаотический беспорядок, правда, иногда тоже не
лишенный изящества, как это доказывает сообщенная мне Монти и нарисованная
сумасшедшим картинка, с изображением какого-то здания, составленным из
тысячи мельчайших завитков, красиво перепутанных между собою на всевозможные
лады.
6) Далее, у многих, в особенности у эротоманьяков, паралитиков и
безумных, рисунки и поэтические произведе-ния отличаются полнейшей
непристойностью; так, один душевнобольной столяр вырезывал на углах своей
мебели и на верхушках деревьев мужские половые органы, что, впрочем,
опять-таки напоминает скульптуру дикарей и древних народов, в которой
половые органы встречаются повсюду. Другой, капитан из Генуи, постоянно
рисовал неприличные сцены. Иногда такие художники стараются замаскировать
циничность своих рисунков и объяснить ее мнимыми требованиями самого
искусства, как, например, больной, воображавший, что изображает картину
Страшного суда, или патер, который рисовал обнаженные фигуры и потом
затушевывал их так артистически, что детородные органы, груди и пр.
выделялись совершенно ясно, и на упреки в непристойности возражал, что ее
находят лишь люди, враждебно относящиеся к его рисункам. Этот же самый
субъект часто изображал группу из трех лиц -- женщину в объятиях двоих
мужчин, из которых один был в шляпе патера (Раджи).
Маньяк М., писавший иногда, как мы уже видели, такие прелестные
стихотворения, иллюстрировал их множеством рисунков с изображениями каких-то
невозможных животных, монахов или женщин и придавал им всем самые
неприличные позы.
У некоторых, именно у паралитиков, цинизм проявлялся с еще меньшей
сдержанностью. Так, я помню одного старика, который рисовал женские половые
органы и писал самые непристойные двустишия в заголовках писем к своей жене.
Любопытное явление представляли также два живописца, один из Турина, другой
из Реджио, страдавшие манией величия: у обоих было стремление к содомскому
греху, основанное на той безумной идее, что они -- боги, властители мира,
создаваемого ими тем же способом, как птицы несут яйца. Один из них,
обладавший замечательным талантом, даже изобразил себя на картине, писанной
красками, в момент подобного создания мира, совершенно голым, посреди женщин
и различных символов своего могущества. Эта чудовищная картина воспроизводит
перед нами древнее изображение божества египтян, Птифалло, и отчасти служит
объяснением происхождения этого мифа.
7) Общую черту большей части произведений сумасшедших составляет их
бесполезность, ненужность для самих работающих, что вполне подтверждается
изречением Ге-карта: "Трудиться над созданием ни к чему непригодных вещей --
занятие, свойственное только сумасшедшим". Так, одна женщина, страдавшая
манией преследования, работала по целым годам, прелестно разрисовывая
хрупкие яйца и лимоны, но, по-видимому, без всякой цели, потому что всегда
тщательно прятала свои произведения, так что даже мне, которого она считала
своим лучшим другом, удалось увидеть их только после ее смерти. В том же
роде был и труд того больного, который сшил себе только один сапог, о чем мы
говорили раньше. Можно подумать, что сумасшедшие, подобно гениальным
артистам, тоже придерживаются теории искусства для искусства, только в
извращенном смысле.
8) Иногда сумасшедшие создают и чрезвычайно полезные вещи, но
совершенно непригодные для них лично, и притом не по той специальности,
какой они прежде занимались. Например, один помешавшийся интендантский
чиновник придумал и сделал модель кровати для беснующихся больных, до того
практичной, что, по-моему, кровать эту следовало бы ввести в употребление;
двое других чиновников сообща делали прехорошенькие, покрытые резьбой
спичечницы из бычьих костей, хотя пользы не могли извлечь никакой из этой
работы, потому что отказывались продавать свои произведения. Впрочем, мне
случалось видеть и много исключений из этого правила: так, меланхолик,
страдавший манией убийства и самоубийства, устроил себе из костей,
остававшихся от обеда, нож и вилку, что было для него очень полезно, так
как, по приказанию директора, ему не давали металлических ножей и вилок.
Мегаломаньяк, служитель кафе, лечившийся в больнице Колленьо, приготовлял
там превосходную сладкую водку, хотя материалы, доставлявшиеся ему
любителями этого напитка, были самого разнообразного качества.
Пятидесятилетняя женщина, страдавшая припадками бешенства, сшила громадный
ночной чепчик в виде шлема и не могла уснуть иначе, как натянув его себе на
лицо по самую шею; маньяк-преступник из лучинок сделал себе ключ. Я не
говорю здесь о тех, которые устраивали для себя настоящие кирасы из железа
или камешков, так как в этом случае работа вызывалась необходимостью
защититься от воображаемых преследователей, и потому труд вполне
вознаграждался полученными результатами.
9) В художественном творчестве сумасшедших, конечно, преобладают
всевозможные нелепости как относительно колорита, так и самих фигур, но это
особенно сказывается у некоторых маньяков вследствие неравномерной,
преувеличенной ассоциации идей, не дающей места промежуточным оттенкам при
воплощении задуманного художником образа. У безумных же встречаются перерывы
в ассоциации идей, как это видно, например, из того, что один из них, желая
изобразить брак в Кане, превосходно нарисовал всех апостолов, а вместо
фигуры Христа -- огромный букет цветов.
Паралитики обыкновенно не умеют справиться с размерами изображаемых
предметов, вследствие чего куры выходят у них одинаковой величины с
лошадьми, вишни -- с дынями, или же, несмотря на всю тщательность отделки,
рисунок выходит какой-то неаккуратный, точно картинки, нарисованные детьми.
Один помешанный, воображавший себя вторым Верне, для изображения лошадей
проводил только четыре черты, а другой рисовал все фигуры вверх ногами.
В тех случаях, когда умопомешательство сопровождается потерей памяти,
так что больные и в разговорной речи забывают некоторые слова, в рисунках
тоже замечается недостаток существенных частей его. Так, один сумасшедший
отлично нарисовал сидящего генерала, но забыл нарисовать, на чем он сидит.
10) У некоторых, в особенности у мономаньяков, мы видим, наоборот, уже
слишком большое изобилие мелоч-ных подробностей, так что из желания точнее
выразить идею рисунка они делают его совершенно непонятным. На одном
пейзаже, например, помещенном в Турине между не принятыми на выставку
картинами, на видневшемся вдали поле все былинки отчетливо отделялись одна
от другой, или же в громадной картине штриховка была сделана такая же
тонкая, как в маленьком рисунке карандашом.
Иногда, кроме изобилия подробностей, замечается еще полнейшее
отсутствие перспективы, как, например, в рисунке, воспроизведенном здесь
посредством ксилографии, где все отдельные части сделаны совершенно
правильно, но, вследствие полнейшего отсутствия перспективы, в общем выходит
какой-то сумбур. Можно подумать, что это рисовал настоящий художник, но
учившийся в Китае или Древнем Египте.
Я знал троих подобных живописцев, из которых один был мономаньяком,
отличавшийся еще тем, что для письма употреблял печатные буквы, и двое --
помешанных. Кроме того, мне случалось видеть одного французского
капитана-полупаралитика, рисовавшего фигуры угловатыми линиями, точно
египетские профили. Вышеупомянутый мегаломаньяк, сшивший себе один только
сапог, сделал раскрашенный барельеф, на котором фигуры своими
непропорционально большими конечностями и крошечными лицами очень походили
на священные картины XII столетия. Наконец, один больной вырезывал на
трубках и вазах барельефы, совершенно сходные с теми, какие встречаются на
древних орудиях из тесаного камня. Таким образом, эти примеры доказывают
полную аналогию между психическим состоянием человека и внешними
проявлениями его деятельности.
11) Некоторые из сумасшедших выказывают удивительный талант в
подражании, в умении схватить внешний вид предмета, например, они совершенно
точно срисовывают фасад больницы, головы животных; но такие, хотя весьма
тщательные, рисунки бывают обыкновенно лишены изящества и напоминают
младенческое состояние искусства.
Мне случилось видеть, что подобные картины нередко выходят довольно
удачными у идиотов и кретинов, которые, пожалуй, стоят в умственном
отношении на одном уровне с первобытными людьми.
Многие постоянно воспроизводят один и тот же сюжет; так, у Фриджерио
был душевнобольной, всегда рисовавший пчелу, которая отгрызает голову у
муравья; другой, воображавший, что его расстреляли, чертил ружья, третий --
арабески. Иногда это постоянство обусловливается прежними занятиями,
например, у столяров и моряков и пр.
Последнее обстоятельство служит объяснением того факта, что
душевнобольные и даже совершенно помешавшиеся достигают иногда значительной
степени совершенства в своих рисунках вследствие постоянного повторения
известного сюжета. Сумасшедший, вечно рисующий одни корабли, наконец
становится артистом в их изображении. Впрочем, иногда эта способность, как и
внезапное появление поэтического литературного таланта, вызванное потерей
рассудка, -- например, у Фарина -- обусловливается энергией и напряженностью
галлюцинации. Под влиянием их люди, никогда не бравшие кисти в руки, сразу
делаются живописцами и даже художниками, как это случилось с Блэком (о
котором рассказывает Бриер), именно благодаря тому, что давно умершие люди,
ангелы и пр., представлялись ему живо и совершенно отчетливо. Той же
способностью обладал поэт-маттоид Джон Клер; он уверял даже, что был
очевидцем войн давно прошедшего времени и присутствовал при совершении казни
над Карлом I.
Действительно, все эти события он воспроизводил на полотне поразительно
правдиво, хотя не получил никакого образования и, следовательно, не мог
заимствовать ничего из книг.
Впечатлительностью объясняется отчасти и страсть к копированию картин и
списыванию стихов, замечаемая у тех из психически больных, от которых всего
меньше можно было ожидать этого, -- у безумных (démenti).
Тут, очевидно, играет большую роль тот факт, что с потерей рассудка
фантазия приобретает полный простор и больной проникается сочувствием к
произведениям той же фантазии, тогда как у нормальных людей здравый смысл,
не допускающий их до иллюзии или галлюцинаций, в известной степени подавляет
в них эстетические и артистические наклонности. Хорошо копировать можно лишь
то, что хорошо видишь.
Отсюда уже понятно, каким образом самое искусство может, в свою
очередь, способствовать развитию душевных болезней и даже вызывать их.
Вазари рассказывает о живописце Спинелли, что когда он после многих
бесплодных попыток нарисовал наконец Люцифера во всем его безобразии, то
последний явился ему во сне и укорял, зачем он изобразил его таким уродом.
Этот образ потом в продолжение нескольких лет преследовал Спинелли и едва не
довел его до самоубийства. Верга знал другого художника, который, долгое
время упражняясь в рисовании змеевидных линии, стал видеть их перед собою
днем и ночью, под конец даже превратившимися в настоящих змей. Это до такой
степени мучило его, что он пытался утопиться.
Бывают случаи, что страсть к рисованию вызывается не фантазией, но
простым автоматизмом, развивающимся с особенной силой именно тогда, когда
всякие другие проявления психической деятельности начинают слабеть. Нечто
подобное мы видим в детях, которые автоматически рисуют и пишут разные
каракульки.
Что в известной степени тут имеет влияние атавизм, доказывается не
только сходством этих рисунков с монгольскими, но также и страстью
сумасшедших к музыке. Вопрос этот был весьма обстоятельно разработан
известным алиенистом и знатоком музыки Винья (Vigna) в его сочинении
"Intorno all' influenza della musica" ("По поводу влияния музыки"), изданном
в Милане в 1878 году.
Музыкальное искусство у сумасшедших. Музыкальные дарования, подобно
способности к живописи, даже еще в сильнейшей степени, чем эта последняя,
слабеют у тех ду-шевнобольных, которые до заболевания слишком страстно
занимались музыкой. Адриани заметил, что музыканты, лечившиеся у него от
умопомешательства, почти совершенно теряли свои музыкальные способности и
если иногда занимались музыкой, то совершенно машинально, иные же, лишившись
рассудка, постоянно повторяли одну и ту же пьесу или отдельные фразы из них.
Винья говорит, что Доницетти, находясь в последнем периоде сумасшествия,
оставался совершенно равнодушным, когда при нем играли его любимые мелодии.
В последних произведениях этого композитора отразилось роковое влияние
болезни. То же самое замечают музыкальные критики и в симфонии-увертюре к
"Мессинской невесте", написанной Шуманом во время припадков сумасшествия.
Но это нисколько не противоречит высказанному мною положению, что
умопомешательство вызывает артистические способности в субъектах, не имевших
их раньше, а, напротив, только доказывает, как это мы уже видели
относительно живописцев, в какой ничтожной степени сохраняется у музыкантов
прежняя любовь к искусству, злоупотребление которым, может быть, и сделалось
причиною их сумасшествия.
Впрочем, Мазон Кокс, заметивший, что многие виртуозы вместе с потерей
рассудка теряли и музыкальные способности, наблюдал также несколько случаев,
когда под влиянием психоза эти способности усиливались. Несомненно, однако,
что музыкальный талант появляется, иногда почти внезапно, всего чаще у
меланхоликов, затем у маньяков и даже у безумных. Я помню одного больного,
совершенно потерявшего дар слова, но постоянно игравшего à livre ouvert
самые трудные пьесы, и одного очень даровитого математика, который страдал
меланхолией: совершенно не зная ни музыки, ни контрапункта, он
импровизировал на фортепиано арии, достойные великого композитора. Другой
субъект, впавший в безумие вследствие мономании, в молодости учился музыке и
во время болезни постоянно играл или импровизировал до самой смерти своей от
паралича.
Тамбурини лечил одну женщину, сифилитичку, страдавшую мегаломанией; во
время припадков возбуждения она садилась за фортепиано и пела прекрасные
арии, но, вместо того чтобы аккомпанировать себе, импровизировала два
различных мотива, не имевших никакого соотношения ни между собою, ни с
арией, которую она пела при этом.
Один юноша, лечившийся у меня в клинике от миланской проказы, сочинял
новые и прелестные песенки.
Раджи писал мне об одной лечившейся у него даме, страдавшей
меланхолией, что во время припадка она играла нехотя и кое-как, но, по
окончании его, проводила целые дни за роялем и с чисто артистическим
увлечением исполняла труднейшие вещи. Тот же врач наблюдал необыкновенное
развитие музыкальных способностей у другой больной, у которой было острое
горделивое помешательство: она постоянно пела арии Беллини, хотя и
детонировала при этом.
В музыкальном искусстве перевес тоже оказывается, по-видимому, на
стороне мегаломаньяков и паралитиков, по той же самой причине, как и в
живописи, а именно вследствие сильнейшего психического возбуждения. Так, с
одним из паралитиков во все продолжение болезни бывали настоящие музыкальные
пароксизмы, во время которых он подражал всевозможным инструментам и при
исполнении тихих мест (piano) выказывал неописанное увлечение. Другая
паралитичка, воображавшая себя французской императрицей, губами и
прищелкиванием пальцев исполняла марши для своего войска и пела в такт этим
звукам.
Еще один больной-паралитик, считавший себя генерал-адмиралом, тоже
нередко пел какие-то монотонные мелодии. Оригинальный поэт и живописец
мегаломаньяк М., писавший то прелестные, то нелепые стихотворения,
приведенные нами раньше, тоже писал или, скорее, кропал какие-то музыкальные
пьесы по новой, им самим изобретенной системе, ни для кого, впрочем, не
понятной.
Маньяки всегда предпочитают быстрые темпы на высоких нотах, особенно
при веселом настроении, и любят повторять припевы (Раджи). Впрочем, и вообще
все больные, хотя бы ненадолго попадающие в дома умалишенных, обнаруживают
большую склонность к пению, крикам и ко всякому выражению своих чувств
посредством звуков, причем всегда заметен известный размер, ритм. Причина
этого явления, точно так же как и обилия между сумасшедшими поэтов, будет
нам вполне понятна, когда мы припомним мнение Спенсера и Ардиго,
доказывающих, что закон ритма есть наиболее распространенная форма
проявления энергии, присущей всему в природе, начиная от звезд, кристаллов и
кончая животными организмами. Инстинктивно подчиняясь этому закону природы,
человек стремится выразить его всеми способами и тем с большей
напряженностью, чем слабее у него рассудок. Потому-то первобытные народы
всегда до страсти любят музыку. Спенсер слышал от одного миссионера, что для
обучения дикарей он поет им псалмы, и на другой день почти все они уже знают
их на память.
Дикари даже и в разговорной форме употребляют нечто вроде монотонного
пения, напоминающего наши речитативы, а самое слово песня выражало в древнее
время и понятие о поэзии, откуда произошло название поэта -- певец.
Таинственные магические формулы и заклинания древних всегда имели размер
песни, да и в настоящее время в деревнях разговорная речь обилием модуляции
голоса напоминает простые музыкальные арии. Наконец, импровизаторы
произносят свои стихи не иначе как нараспев и жестикулируют при этом всеми
членами.
Спенсер в своем сочинении "Essais de morale el d'esthétique"
(Paris, 1879) прекрасно объясняет это тем, что пение придает особенную силу
естественному выражению чувств и состоит в систематическом комбинировании
голосовых средств, смотря по тому, вызываются ли они радостью или печалью.
"Всякое умственное возбуждение, -- говорит он, -- переходит в мускульное, и
между ними существует неразрывная связь. Ребенок прыгает и скачет при виде
чего-нибудь блестящего. Взрослый начинает жестикулировать под влиянием
ощущений или сильного вол-нения, и чем оно сильнее, тем больше раздражается
мускульная система. Легкая боль вызывает стон, острая -- крик: слабый --
если страдание мимолетно, высокий или низкий -- если оно продолжительно, а в
случае нестерпимых страданий звук голоса повышается на квинту, на октаву и
даже больше. В пении же душевное волнение также проявляется дрожанием
мускульных связок, отчего происходит так называемое тремоло".
Весьма естественно поэтому, что в тех случаях, когда возбуждение
особенно сильно и где нередко даже явление атавизма, как при сумасшествии,
склонность к музыке оказывается преобладающим выражением духовной жизни
человека.
Тот же самый факт служит в свою очередь объяснением, почему среди
гениальных безумцев так много музыкальных знаменитостей, каковы, например,
Моцарт, Латтре, Шуман, Бетховен, Доницетти, Перголези, Феничиа, Риччи,
Рокки, Россо, Гендель, Дюссек, Гофман, Глюк и др.* Кроме того, не следует
забывать, что музыкальные композиции принадлежат к числу самых субъективных
произведений человеческого гения, -- они всего теснее связаны с аффектами и
всего менее с внешними формами проявления мысли, вследствие чего для
создания их необходимо вдохновение самое пламенное, жгучее, наиболее
губительно действующее на организм.
[На громадное количество сумасшедших среди композиторов указал мне
молодой артист Арнальдо Баргони уже много лет тому назад, а в последнее
время много фактов по этому вопросу сообщил Мастриани в своей прекрасной
статье о моей книге "Гениальность и помешательство", изданной в 1881 году.]
Исследование характера артистических наклонностей у сумасшедших, может
быть, принесет пользу не только для изучения их болезней, в которых еще
столько темного, необъяснимого, но также и для самой эстетики или, по
крайней мере, для эстетической критики, доказав ей, что злоупотребление
символами, изобилие мелочных подробностей, хотя и совершенно верных с
действительностью, цветистость слога, противоестественное преобладание
одного какого-нибудь цвета (недостаток, свойственный многим нашим
художникам), циничность сюжетов и слишком преувеличенная оригинальность
принадлежат уже к патологическим явлениями в области искусства.
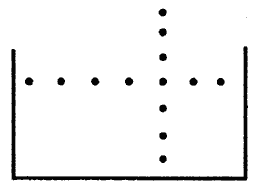 ноги, Лазаретти, как подобает помешанному, придавал таинственное,
чудодейственное значение и считал всю эту татуировку доказательством особого
благоволения Божия (печатью договора с Богом).
С тех пор Лазаретти совершенно переменился, как это обыкновенно
случается с помешанными*: из драчуна, богохульника и кутилы он превратился в
тихого, скромного пустынника и жил некоторое время в горах, почти под
открытым небом, питаясь иногда одним хлебом с водой или же травой,
приправленной солью и уксусом, полентой, постной похлебкой, чесноком с
хлебом и пр. Находясь на острове Монтекристо, в 1870 году, он более месяца
пробавлялся шестью хлебами, с добавлением зелени, а живя во французском
монастыре, съедал только две картофелины в день. Самые сочинения его из
шутовских и неуклюжих сделались вполне порядочными, иногда изящными -- что
должно было особенно сильно поразить и не одних только простолюдинов. Кроме
того, он стал писать более толково, употребляя сильные образные выражения, и
с таким религиозным чувством, какое можно было встретить разве лишь у первых
христиан.
[В Пезаро у меня было несколько душевнобольных монахинь из римских
монастырей. Я не встречал никогда более отвратительных богохульниц, чем они.
Мне случалось лечить также евреев, бывших раньше чрезвычайно религиозными;
первым симптомом помешательства являлось у них желание креститься, но по
выздоровлении они тотчас же возвращались к прежним верованиям.]
Духовенство того местечка, где родился Лазаретти, видя в нем как бы
олицетворение древних пророков, чем он и был в действительности, как мы
увидим дальше, отнеслось к нему с большим уважением, что, по своему обычаю,
решилось эксплуатировать его в своих интересах и воспользоваться им для
сбора пожертвований на постройку церкви.
Народ, уже без того изумлявшийся полной перемене в образе жизни
Лазаретти и его татуировке, еще более изумлялся теперь вдохновенным речам,
его длинной всклокоченной бороде, серьезной наружности и, подстрекаемый
духовенством, толпами бежал послушать нового пророка.
Начались процессии... Окруженный духовенством и знатнейшими из местных
жителей, Лазаретти посетил Арчидоссо, Роккальбенья, Кастель-дель-Пиано и
другие ближайшие города; население повсюду встречало его с восторгом, на
коленях, а священники и духовенство окрестных церквей целовали ему руки и
даже ноги. Приношения сыпались со всех сторон, но были, однако, не особенно
велики, так как жители не могли жертвовать много; поэтому для постройки
церкви решено было воспользоваться их даровым трудом. Место выбрали вблизи
Арчидоссо, и работа закипела. Десятки тысяч верующих, мужчины, женщины, даже
дети, принялись таскать камни, бревна и другие строительные материалы. К
сожалению, как в стихосложении, так и в архитектуре, кроме пророческого
вдохновения, необходимы еще научные познания; а их-то и не было у Лазаретти;
поэтому затеянная постройка оказалась столь же неудачной, как его поэзия:
собранные с таким трудом материалы остались на месте в виде безобразной кучи
мусора, и вся эта затея окончилась настолько же бесплодно, как некогда
сооружение вавилонской башни. В январе 1870 года Лазаретти основал общество
Священной лиги, имевшее целью взаимное вспомоществование и дела милосердия.
В марте того же года, после общей трапезы со своими последователями, он
отправился на остров Монтекристо, где в продолжение нескольких месяцев писал
послания, пророчества и поучения, а потом, вернувшись в Монтелабро, составил
описание видений и пророческих снов, какие были ниспосланы ему во время
пребывания на острове. Вслед за тем его обвинили в подстрекательстве к
бунту, но суд оправдал его. После того Лазаретти основал другое общество,
под названием Христианская Семъя, но был снова арестован по совершенно
неосновательному подозрению, будто это общество организовано с
мошенническими целями; однако, благодаря заступничеству Сальви, его
оправдали и он отделался только 7-месячным предварительным заключением в
тюрьме.
Повинуясь новому велению свыше, Лазаретти предпринял в 1873 году
путешествие и посетил Рим, Неаполь, Турин, затем отправился в гренобльский
картезианский монастырь, где составил правила для Ордена кающихся монахов, а
также и цифрованную азбуку. Там же он написал сочинение под заглавием
"'Небесные цветы", где говорится, между прочим, что "Великий муж сойдет с
гор в сопровождении небольшого отряда горцев"; в этой же книге описаны
видения, сны и божественные заповеди, ниспосланные автору во время его
пребывания в монастыре.
При возвращении в Монтелабро его встретила на дороге громадная толпа
приверженцев и любопытных, которой он сказал проповедь на тему: "Бог видит,
судит нас и воздает каждому по делам его". За эту проповедь его привлекли к
ответственности, обвинив в намерении ниспровергнуть правительство и вызвать
междоусобную войну.
На этот раз эксперты не были спрошены, и суд, не приняв во внимание ни
странной татуировки, ни курьезных сочинений Лазаретти, отнесся к нему точно
к человеку, находившемуся в здравом уме, и приговорил его за плутовство,
соединенное с бродяжничеством, к 15 месяцам тюремного заключения и отдаче на
год под надзор полиции*. Но апелляционная палата отменила это решение, так
что Лазаретти вернулся в августе 1875 года в Монтелабро, где снова
организовал свое распавшееся было общество и поставил во главе его
священника Империуцци. Затем, вследствие расстроенного в тюрьме здоровья, а
может быть также с целью избежать новых арестов или из желания разыграть
роль мученика перед французскими легитимистами, он отправился во Францию.
Около одного из городов, Бургоньи, на него, как он сам говорит, снизошло
божественное вдохновение, результатом которого явилась книга, по
справедливости названная им таинственной, под заглавием "Моя борьба с Богом"
("La mia lotta con Dio"). В это же время он написал сочинение "О семи
печатях с описанием признаков семи вечных городов", заимствованное отчасти
из Библии, отчасти из Апокалипсиса и наполненное самыми нелепыми
рассуждениями. Кроме того, Лазаретти издал еще свою программу, в которой
назвал себя "великим Монархом" и предлагал всем христианским государям
вступить с ним в союз, так как скоро и совершенно неожиданно для всех должен
наступить конец мира, и тогда гонимый теперь пророк явится перед лицом всех
земных владык в качестве судии и полновластного господина. Все эти сочинения
были переписаны священником Империуцци, который исправил при этом и
грубейшие грамматические ошибки, беспрестанно в них встречавшиеся. Многие из
них удостоились чести не только быть напечатанными, но даже Леоном дю Ваша
переведенными на французский язык, благодаря субсидии, а также стараниям
реакционеров Италии и других стран, совершенно серьезно отнесшихся к
безумному бреду несчастного маньяка.
[В статье "Давид Лазаретти", написанной мною вместе с Ночито и
помещенной в "Архиве психиатрии" за 1880 год, указаны причины, вовлекшие
экспертов в эту ошибку, которая стоила государству немалых расходов и, что
еще печальнее, нескольких человеческих жертв.]
Между тем Лазаретти, под влиянием все усиливавшегося бреда, начал
громить духовенство и проповедовать замену тайной исповеди -- публичной,
вследствие чего папа признал все учение его ложным, а сочинения --
еретическими. Тогда этот последний, написавший некогда в защиту папской
власти "Гражданский статут папского владычества в Италии" ("Statute civile
del Regno Pontificio in Italia"), издал в 1878 году послание к своим
братьям-монахам, направленное против "боготворения Папы", которого он назвал
семиглавым чудовищем. Несмотря на то, со свойственной всем помешанным
непоследовательностью, Лазаретти вскоре отправился в Рим, чтобы повергнуть к
подножию Св. Престола свою символическую печать и жезл, а вернувшись в
Монтелабро, начал осуждать уже и самую католическую церковь, называя ее
лавкой, а все духовенство -- атеистами и торгашами, только эксплуатирующими
религиозные чувства своей паствы. Вместе с тем он проповедовал необходимость
реформы в религии и, называя себя новым Христом, властелином и судиею,
убеждал своих последователей отречься от суеты мира сего, а в доказательство
этого отречения требовал, чтобы они воздерживались от пищи и сношений с
женщинами, даже если они женаты, и отказались бы от собранной верующими
довольно значительной суммы денег, более 100 тысяч лир, которая должна была
оставаться без всякого употребления, спрятанною в вазе, -- идея чисто
безумная! Впрочем, часть этих денег получила потом особое назначение: в
ожидании какого-то великого чуда Лазаретти заказал для своих избранников
знамена и одежды с изображением зверей, виденных им во время галлюцинаций,
одежды самого странного покроя, -- в том числе одна, особенно богатая,
предназначалась для него самого; для остальных же последователей были
приготовлены только нагрудники с вышитым на них крестом и двумя буквами С,
из которых одна -- вверх ногами: Э+С. Знак этот служил эмблемою основанного
им общества.
В августе 1878 года, когда народа собралось более обыкновенного,
Лазаретти потребовал от своих последователей, чтобы они провели три дня и
три ночи в посте и молитве, причем произносил проповеди, то общие для всех
верующих, то частные для одних только приближенных, которые подразделялись
на несколько орденов, носивших различные названия -- отшельников духовных,
кающихся и пр. Затем в течение трех дней -- 14, 15 и 16 августа --
происходила так называемая исповедь прощения (confessione di amenda), а
17-го на башне было водружено большое знамя с девизом: "Республика есть
царство Божие". После этого пророк стал у подножия креста, нарочно
воздвигнутого по этому случаю, собрал вокруг себя всех близких и заставил их
поклясться ему в верности и послушании. При этом один из братьев всячески
старался уговорить Лазаретти отказаться от задуманного им опасного
предприятия. Но все было тщетно. Когда ему указывали на возможность
встретить войска на пути, он отвечал: "Завтра же я покажу вам чудо в
доказательство того, что я послан самим Богом в образе Христа, владыки и
судии; следовательно, меня не могут убить -- всякая сила и власть земная
должна преклониться перед моей силой: достаточно одного движения моего
жезла, чтобы уничтожить всех, осмелившихся сопротивляться мне". На чье-то
замечание, что правительство рассеет сборище силою, он возразил: "Я руками
отброшу пули, я сделаю безвредным для себя и для моих последователей каждое
оружие, обращенное против них, даже королевские карабинеры превратятся в мой
почетный караул". Все более и более увлекаясь своей фантастической задачей,
Лазаретти, не скрывавший делаемых им приготовлений даже от папского
делегата, обещал было ему отменить процессию, но потом изменил свое решение
и написал, по-видимому, с полным убеждением: "Я не мог исполнить данного вам
обещания, потому что приказание свыше, от самого Бога, заставило меня
действовать иначе". А неверующим или отказывающимся исполнять его требования
он грозил небесными громами. В таком-то настроении повел Лазаретти утром 18
августа толпу своих приверженцев по дороге из Монтелабро в Арчидоссо. На нем
была надета королевская мантия красного цвета, вышитая золотом, голову
украшала корона в виде тиары, с пучком перьев наверху, а в руках он держал
свой жезл. Хотя и менее богатые, но отличавшиеся разнообразием цветов и
причудливостью покроя одежды его приближенных соответствовали степени, какую
занимал каждый из них в обществе Священной лиги; простые же члены его были в
своем обычном платье, и только описанные выше символические знаки на груди
отличали их от толпы. Семеро из важнейших лиц братства несли столько же
знамен с надписью: "Республика есть царство Божие". При этом все пели
сочиненный Лазаретти гимн, каждая строфа которого оканчивалась припевом:
"Вечная Республика" и пр.
В Италии, вероятно, всем известно, что случилось потом. Лазаретти, еще
так недавно объявлявший себя королем из королей, потомком царя Давида,
держащим в своей власти всех владык земных и совершенно неуязвимым, упал,
сраженный чьей-то рукою, -- может быть, самого же делегата, столько раз
бывшего у него в гостях, или же только по его приказанию. Рассказывают, что,
поглощенный своей последней уже иллюзией, он, падая, воскликнул: "Мы
победили!"
Процессия эта была устроена не только бессмысленно, но даже как бы
нарочно с целью доказать ее неосуществи-мость. Следствие, начатое потом
против последователей Лазаретти, вполне доказало, что созданное им
вероучение было плодом галлюцинаций. Г.Ночито совершенно справедливо говорит
по этому поводу: "В тот день, когда был вскрыт ящик, где хранилось имущество
пророка, и, вместо ожидаемых вещественных доказательств его преступной
деятельности, оттуда вынули изображение Божией Матери и рядом с нею портрет
Давида в военном мундире, умиленно беседующего со Св. Духом; когда из этого
ящика, точно из Ноева ковчега, стали появляться необыкновенные животные,
созданные фантазией пророка для украшения его знамен -- орлы, змеи, голуби,
крылатые лошади, быки, львы, гидры, -- а затем оттуда же вынули
священнические одежды, королевские мантии, венки из оливковых ветвей и
терновые венцы, в тот же день, когда после долгих, тщательных обысков в
квартирах и в карманах панталон лазареттистов полиция ничего не нашла у них,
кроме распятия да четок, и, наконец, в особенности в тот день, когда публика
получила возможность любоваться тою странною обувью, какую носили
последователи святого Давида, и папскими туфлями, которые надевал сам
"пророк" и в которых он едва мог двигаться, -- в этот день никто уже не
сомневался, что правительство приняло мономаньяка за опасного бунтовщика".
Пунктом помешательства Лазаретти послужил тот член символа веры, где
говорится о воскресшем Христе, "сидящем одесную Отца и паки грядущем судити
живых и мертвых".
Так как этот обещанный судия долго не являлся, то Лазаретти вообразил
себя в его роли и во всем старался подражать Христу: у него тоже были свои
12 апостолов и среди них апостол Петр, носивший на груди пару ключей,
искусно вырезанных из картона; он точно так же постился и терпел всякие
лишения, находясь во время суровой зимы на острове Монтекристо, где вел с
Богом беседу, сопровождавшуюся раскатом грома, блеском молнии и
землетрясением. Иисус Христос созвал учеников на тайную вечерю в день Пасхи,
-- и Лазаретти пригласил своих последователей на Троицу 15 января 1870 года,
причем сказал им: "Так угодно было тому, кто руководит всеми моими
поступками. Знайте, что теперь это составляет величайшее таинство;
вспомните, что вы находитесь теперь в том месте, которое Бог избрал для
своего жилища. Скоро, скоро настанет время, когда именно здесь будут
воздвигнуты восхитительные памятники в честь его пресвятого имени, чтобы
служить эмблемой божественного величия".
В сущности, он не установил за этой трапезой никакого таинства; но, для
того чтобы во всем походить на Иисуса Христа, Лазаретти утвердил таинство
своего изобретения -- исповедь прощения -- довольно, впрочем, сходную с
устной.
Но этого мало: ему захотелось также иметь свое преображение,
сопровождаемое землетрясением, и он предсказал, что это событие должно
совершиться 18 августа 1878 года.
Когда врач колебался сделать операцию сыну Лазаретти, у которого была
каменная болезнь, этот последний взял нож и сам вырезал камень. Ребенок
умер; отец же его продолжал твердить, нимало не смущаясь: "Сын Давидов не
может умереть".
При медицинском исследовании трупа Лазаретти на теле его оказался знак
-- изображение креста внутри опрокинутой тиары. Спрошенные по этому поводу
братья пророка объяснили, что он велел сделать во Франции золотую печать,
которую называл императорской, и, обмакнув ее в кипящее масло, оттиснул ею
знаки на теле, сначала себе, а потом жене своей и детям.
Таким способом бедный пророк хотел доказать с полной очевидностью не
только свое высокое происхождение, но также и знатность членов своей семьи,
так как, по его словам, он был прямой потомок императора Константина, хотя,
конечно, доказал этим лишь свое безумие, потому что именно у помешанных мы
замечаем склонность выражать свои нелепые бредни символами и различными
изображениями.
Однако Лазаретти не ограничивался одним лишь сознанием, что в жилах его
течет царская кровь: ему хотелось еще и властвовать над целым миром, хотя
под конец он уже настолько сузил свои требования, что готов был
удовольствоваться передачей своих прав какому-нибудь принцу. В одном из
своих манифестов -- "К христианским государям" -- он сделал следующее
воззвание:
"Я обращаюсь безразлично ко всем христианским государям, католикам,
схизматикам и еретикам, лишь бы они были крещеные.
Не беда, если они не облечены властью и не управляют народами, только
бы в их жилах текла царская кровь. Я призываю их всех, и первый же, кто
явится ко мне -- если ему будет не менее 20 и не более 50 лет и если при
этом у него не окажется никаких физических недостатков, -- будет царствовать
вместо меня".
Курьезнее всего то, что покойный граф Шамбор серьезно отнесся к этому
приглашению и отправил к Лазаретти своего уполномоченного. Чем окончились
совещания короля из дома умалишенных с королем из археологического музея --
неизвестно.
"Мне нужен союзник-христианин, -- говорится далее в манифесте. -- Я
решился теперь ускорить свое великое предприятие, и если они (христианские
государи) не явятся ко мне в течение трех лет со времени опубликования этой
программы, то я покину Европу и отправлюсь в среду неверных, чтобы
достигнуть при их помощи того, чего я не мог сделать, находясь между
верующими.
Но горе, горе тогда всем вам, христианские государи! Вы будете наказаны
семью головами великого антихриста, которые появятся из недр Европы, и в
особенности одним юношей, который после моего удаления придет из северных
стран к центру Франции и будет выдавать себя за Того, кто Я сам".
Отсюда-то явилась у Лазаретти idée fixe, что он царь царей. Когда
городской голова Арчидоссо не хотел исполнять его приказаний, он сказал ему:
"Я -- монарх из монархов. Я ношу на своих плечах государей целого мира.
Сколько у вас ни есть карабинеров и солдат, они все принадлежат мне,
находятся в моей власти, и у вас не хватит веревок, чтобы связать меня". То
же самое он говорил и другим лицам, особенно когда произносил проповеди, что
было подтверждено множеством свидетельских показаний.
Так, например, свидетель Росси, бывший на проповеди 17 августа, слышал,
как Лазаретти называл себя королем королей, Христом, судией, которому будет
подчинен даже король Италии. Он же говорил, что Папа не должен более жить в
Риме и что ему найдут другую резиденцию. Далее свидетель Мецетти показал,
что Давид непременно хотел устроить процессию 18 августа и говорил: "С чего
вы взяли, что нас арестуют? Разве это возможно, чтобы подданные арестовали
своего монарха?" То же показали и другие лица.
Что же касается эмблематического знака Э+С, которому Лазаретти придавал
огромное значение, то он олицетворял, по-видимому, идею о двух Христах,
одном -- сыне Иосифа из Назареи и другом -- сыне Иосифа Лазаретти из
Арчидоссо. Но зато является совершенно непонятным, какое соотношение могло
существовать между Иисусом Христом, императором Константином, псалмопевцем
Давидом и самим Лазаретти. Объяснение этого факта следует искать в
противоречиях и нелепых представлениях, свойственных мономаньякам, которые
не останавливаются ни перед чем, лишь бы доказать истинность своей главной
идеи, -- другими словами, главного пункта своего помешательства, -- и
обнаруживают при этом замечательное умение принять даже внешний вид
изображаемого ими лица. Мне припомнилось, что в Павии была одна больная,
считавшая себя членом семьи Наполеонов: она очень искусно подражала им в
костюме, манерах, разговоре и пр. и в то же время называла себя дочерью
Марии Луизы и Виктора Эммануила.
Вообще, у Лазаретти масса противоречий; сначала он видел в Папе
освободителя Италии, но потом, когда был отлучен им от церкви, стал называть
папство идолопоклонничеством; он готов был умереть за католическую
апостольскую религию и в то же время отрицал устную исповедь -- один из
главных ее догматов; считая себя сыном Давида, назывался также и сыном
императора Константина и пр.
Однако в правительственных сферах сумасшествие Лазаретти отрицалось
самым решительным образом. На суде в Сиене королевский прокурор выражал в
своей речи такого рода соображения, нисколько, впрочем, не разъяснившие
дела. "Возможно ли допустить, -- говорил он, -- чтобы процессия была
устроена с целью посещения святых мест, когда для этого требовалось пройти
24 мили? Мыслимо ли подобное путешествие с толпою, где было так много детей?
На какие же средства стали бы жить члены этой процессии, когда мы знаем, что
уже 18 августа у них не было ни гроша? Затем, как допустить существование
другой нелепой идеи -- путешествия в Рим для того, чтобы вытребовать у
Первосвященника Моисеев жезл, отнятый Львом XIII у Давида Лазаретти?"
Отвечать на все эти вопросы можно лишь тем, что хотя у сумасшедших и бывают
иногда проблески гениальности, но в их уме все-таки преобладают абсурды и
противоречия.
Так, одним из необходимых средств господствовать над миром Лазаретти
считал свой жезл, делившийся на 5 частей -- эмблемы четырех евангелистов и
его самого. Вот почему он устроил процессию, чтобы снова овладеть этим
жезлом, который конфисковали у него в Риме.
Для понимания душевного состояния подобных безумцев необходимо стать на
их точку зрения, надо освоиться с этим болезненным, по большей части
лишенным логики мышлением, где самые ничтожные вещи получают громадное
значение, а самые крупные, напротив, кажутся ничтожными, если только они
идут вразрез с желаниями помешанного субъекта.
Во всяком случае, как ни была нелепа цель путешествия, стремление
министерства внутренних дел (Publico) найти в этом действии ключ ко всему
необъяснимому оказывалось еще нелепее.
Поводом к обвинению Лазаретти в мошенничестве послужили написанные им
на имя неизвестных, ничего не имеющих лиц векселя, которыми он не думал, да
и не мог воспользоваться, но которые сильно компрометировали его. Здесь
опять является вопрос, для какой цели это было сделано, -- и снова
приходится отвечать, что именно бесцельность, бесполезность противозаконных
действий и составляет отличие помешанного от настоящего преступника. Еще
более неосновательны были обвинения Лазаретти в том, что он выманивал у
членов своего общества деньги и брал их себе. "У сумасбродов не бывает
доходов", -- говорит ломбардская пословица, и действительно, Лазаретти
ничего не нажил от своих проповедей и пророчеств, кроме гонений да насмерть
сразившей его пули. Жену и детей он оставил без всяких средств, жизнь вел
самую скромную, изнурял себя покаянием, лишениями всякого рода и сам первый
подавал своим последователям пример соблюдения четырех постов в продолжение
года. Большую часть времени он проводил в монастырях и пещерах, например на
острове Монтекристо или среди мрачных вулканических скал Монтелабро, а
получаемые от француза дю Ваша деньги тратил на постройку церкви и нелепой
башни, представлявшейся его расстроенному воображению каким-то священным
ковчегом, эмблемой нового союза между народами.
Но всего очевиднее выражалось умопомешательство Лазаретти в его
сочинениях.
Во-первых, потому, что все они наполнены описаниями зрительных и
слуховых галлюцинаций, нередко изложенных с такой живостью, что даже самая
богатая фантазия человека, находящегося в здравом уме, не могла бы создать
ничего подобного.
Так, в сочинении "Lotta con Dio" он говорит: "Точно удар грома
разразился надо мною и ослепил меня, вследствие чего я упал на землю как
мертвый. Множество голосов раздались посреди грохота и треска, и я услышал
слова: Повелевай, повелевай, повелевай! Больше я ничего не мог понять. Вновь
послышался грозный голос Бога, говоривший мне"...
На первой же странице предисловия к его "Рескриптам" сказано: "Я
безмолвствовал в продолжение 20 лет... но настало время, когда я должен был
заговорить согласно повелению свыше. Мне было приказано поучать народы, и я
поучал, и впредь буду поучать. Если народы не поверят моему учению, мне
останется только повторять сказанное. Если они сочтут мое учение ложным, я
не поверю, чтоб мои слова могли быть лживыми. Если они заподозрят меня в
притворстве, пусть разберут мое поведение". (Буквально то же самое
высказывал и Савонарола.)
А вот и еще отрывок в том же роде:
"Я слышал громовой потрясающий голос Бога, и с горных вершин в долину
проникал такой грохот, что мне казалось, будто они сталкиваются между
собою".
Предсказания выражались им с полнейшей самоуверенностью и даже иногда в
стихотворной форме, например:
О вы, монархи и цари Европы,
Настанет день, когда рука Господня
В отмщенье вам на головы падет
И сокрушит гордыню вашу,
И вас самих повергнет в прах.
Во-вторых, хаотическая беспорядочность, туманные, напыщенные выражения,
неправильный слог и масса противоречий, составляющие характерную особенность
произведений Лазаретти, в которых лишь крайне редко попадаются художественно
написанные страницы, с полной очевидностью свидетельствуют, что в создании
этих произведений совсем не участвовал гений, всегда более или менее ровный
в своем творчестве, и что они вызваны болезненным психическим состоянием
мозга.
Поэтому Лазаретти был совершенно прав с психиатрической точки зрения,
когда на вопрос, каким образом он, не получивший никакого образования, мог
написать столько книг? -- отвечал: "Бог вдохновлял меня", только вместо
"Бог" следовало бы сказать -- "помешательство". И действительно,
вдохновенный "пророк" сознавался, что он сам не понимает некоторых из своих
сочинений и что, находясь в спокойном состоянии, не может уловить смысл
того, что было написано им во время экстаза.
Следует еще заметить, что священным видениям у Лазаретти почти всегда
предшествовали обмороки, головные боли, полубессознательное состояние и
лихорадочные пароксизмы, продолжавшиеся по 28 часов, а иногда и по целым
месяцам. Вот как описывает он сам эти припадки:
"Мною овладевает дух, происходящий не от человека; он вызывает во мне
мгновенное вдохновение, сопровождаемое сильной головной болью, вызывающей у
меня сонливость и путаницу в мыслях. Когда я засыпаю, мне представляется
видение, и, проснувшись, я сознаю, что оно было чуждо моей природе" (Lotta
con Dio).
На заглавном листе этого сочинения он написал: "Это был экстаз, во
время которого я ничего не сознавал (che tutto mi rapi); он продолжался 33
дня".
В-третьих, ненормальность умственных способностей Лазаретти
подтверждается еще и той неудержимой потребностью проповедовать и писать,
которая совершенно не гармонировала с его специальностью -- извозчика, едва
только грамотного. В этом случае я повторяю уже сказанное мною по поводу
мании писательства у Манжионе и Пассананте, т.е. что если бы какой-нибудь
студент или чиновник вздумали сидеть по целым дням за чтением газет или за
составлением нелепейших статей по разным вопросам, то в этом не было бы
ничего странного, но когда извозчик вдруг обнаруживает особые дарования --
не относительно того, как править лошадьми или чего-нибудь в этом роде, но,
ударившись в сочинительство, придумывает идеальные формы республиканского
правления, за что, пожалуй, не взялся бы даже Мадзини, -- то мы имеем полное
право заключить, что подобный субъект находится гораздо ближе к дому
умалишенных, чем к Валгалле.
В-четвертых, прямым доказательством сумасшествия Лазаретти служат целые
страницы горделивого бреда и самовозвеличения. Вот что говорит, например,
он, разумея себя самого, в "Манифесте к народам": "Узнав, что бедный и
простой человек выдает себя за Христа и объявляет, что он происходит от
племени царя царей, вы, конечно, изумитесь и скажете, что это возмущает
человеческую гордость, а между тем это верно: уже века тому назад событие
это было предсказано, и во всех книгах говорится о том образце добродетели,
который послан в мир".
Горделивое помешательство рассматриваемого нами субъекта уже
проявляется, впрочем, и в том, что он пишет к государям, к папе, точно к
равным себе или даже низшим, хотя общественное положение его было одно из
наиболее скромных.
После высокомерного объяснения со всеми монархами и с Папой Давид прямо
обращается к бывшему королю прусскому, нынешнему императору германскому,
укоряет его за коварные замыслы против Италии и предсказывает ему разные
бедствия. Французам он советует прежде всего разбить нечестивую статую
Вольтера и сжечь его сочинения, а пепел, оставшийся от них, зарыть как яд,
взятый из ада. "На том же самом месте, -- продолжает он, -- вы воздвигнете
статую Искупителя Иисуса Назарянина, держащего под своею пятою Вольтера,
изображенного в виде демона, и пусть Искупитель заградит ему рот крестом,
который тот хватает зубами и руками. Когда это будет сделано -- божественный
гнев смягчится и невзгоды перестанут терзать народ".
Папе он писал, между прочим, следующее: "Прежде всего я обращаюсь к
тебе, преемник Петра, видимый глава Церкви, с целью предупредить тебя, чтобы
ты не доверял чужеземному вмешательству. Знай, что под предлогом защиты прав
Церкви расставляют сети тебе и всей итальянской нации. Замышляется не что
иное, как внести бедствие и разорение среди нас, итальянцев".
Короля Италии Лазаретти третирует еще развязнее. "При дворе у тебя, --
пишет он ему, -- происходит столпотворение вавилонское, управление твое --
тирания, разбойничество, законы и учреждения твои переполнены глупыми,
еретическими, нелепыми и непонятными правилами, возмущающими нравственное
чувство и здравый смысл. Говорю тебе, что хуже не мог бы поступить даже тот,
кто вздумал бы открыто идти против всякой нравственности. Каким же образом
намереваешься ты, король мой, спастись от этих дурных людей? Я знаю, они
довели тебя до крайнего, ужасного положения! Мне очень неприятно будет
видеть твою гибель, которая порадует тех, кто сумел лестью довести тебя до
этого. Не знаю, чем помочь тебе, король мой, но вижу тебя в дурных
обстоятельствах. Если бы я мог быть возле тебя, то, ради твоих предков, я
постарался бы спасти тебя".
Но этого мало. Через несколько страниц Лазаретти начинает
фамильярничать даже с самим Богом. "Я желал бы, -- говорит он, обращаясь к
нему, -- чтобы вы* перестали относиться с таким презрением"... И потом
немного ниже прибавляет: "Я согласен исполнить вашу волю, Господь мой, но
лишь на том условии (условие с Богом!), чтобы я мог передать другим свою
власть и свои громадные владения (у извозчика-то!); а себе я оставлю
бедность, труд" и т.д.
[Сохранено обращение автора к Богу во множественном числе, не принятое
у нас.]
Однако из последующих строк видно, что смирение это было напускное:
"Повторяю вам, что я и мои потомки посвящены вам (vi siamo consacrati), и я,
как кровный родственник, хочу быть в зависимости только от своих же кровных;
этого я требую от вас по праву моих предков. На этих условиях я принимаю
сделанное вами мне предложение повелевать миром". И действительно, в письме
к королю он объявил:
"Мне, ничтожнейшему из людей, вышедшему из народа... Бог обещал всю
землю. В доказательство этого он послал мне дар пророчества и светлый ум для
того, чтобы исправлять законы и делать открытия в науках и искусствах".
Великие открытия эти состоят в смешных толкованиях на первые главы
книги Бытия с прибавлением нелепейшей палеонтологии, которая могла прийти в
голову разве какому-нибудь крестьянину, побывавшему в музее. Вот образчик
научных познаний пророка: "Сначала было 15 видов крупных животных; но они
все погибли, потому что были слишком велики, -- из них 7 жвачных, а 3
амфибии. Строение этих животных было таково, что чешуйчатой шкуры их не
могло пробить никакое железо. Были пресмыкающиеся с ядовитым дыханием,
предназначенные для воды, и люди называли их животными смерти и яда!!!" и
т.д. все в том же роде.
"В эпоху сооружения Вавилонской башни на земном шаре произошел разрыв,
вследствие чего север отделился от запада. И северные народы живут еще во
мраке и нечистотах" (стр. 105).
Вслед за тем автор прибавляет: "Это совсем особенные истины, со времени
потопа и до сих пор лишь остававшиеся в памяти людей; открытие этих истин
было предоставлено полноте времен (pienezza dei tempi). Человек должен
узнать все после снятия этих печатей".
В-пятых, следует еще заметить, что нелепости и противоречия встречаются
почти на каждой странице сочинений Лазаретти. Так, например, после того как
им было уже сказано, что во время потопа погибли все животные, кроме взятых
в ковчег, он прибавляет: "осталось на земле множество животных".
Далее, чем, кроме умопомешательства, можно объяснить себе описание
разных невозможных животных -- быка с 12 и слона с 10 рогами, лошади о 13
ногах и пр., а также громадное значение, какое он придавал происхождению
своего делившегося на пять частей жезла, которому посвящена почти целая
глава сочинения "Lotta con Dio", где без всякого стеснения объясняется, что
жезл зародился в недрах жены Лазаретти от сношений с его же сыновьями и
первыми членами его частей!!!
В-шестых, но если даже и не рассматривать внутреннего содержания
произведений Лазаретти, то уже одна внешняя форма их, особенности в слоге,
составление новых слов или же употребление их в особом смысле и пр. -- все
это может служить доказательством его психического расстройства. Так
знаменитую башню свою он называл "turrisdavidica", сыновей своих --
"Giurisda-vici" и пр.
В приложенном к сочинению "Lotta con Dio" послесловии -- нечто вроде
списка опечаток -- он сам говорит, что слова tempo (время) profeta (пророк),
повторяющиеся бесчисленное множество раз, не следует понимать в общепринятом
значении. Повторений у него вообще масса, и не только отдельных слов, но
даже целых фраз и в особенности цифр. Так, не говоря уже о том, что он,
подобно Пасса-нанте, по 70-80 раз повторяет слова provate и riprovate, в
"Lotta con Dio" по крайней мере столько же раз употреблена фраза "Uomo а те
саrо 7° figlio del 7° figlio dell'uomo" (Дорогой мне человек, 7 сын 7 сына
человека), хотя гораздо проще было прямо сказать Енох и Авраам.
Еще чаще употребляется слово tempo время и (цифра) 7; например, "С неба
упадут камни в 7777 весом из одного веса в 7777 на 47 двойных граммов веса".
Или: "Число жертв будет в 1777 времен, заключающих в себе 17 раз 1777". Или:
"После моего поднятия на небо прошло время из 3 времен, состоящих из 77
часов для каждого времени".
В заключение нашего диагноза напомним, что хотя в молодости Лазаретти
обнаруживал склонность к пьянству и кутежам, но потом, после происшедшей с
ним перемены, он сделался высоконравственным и мог служить образцом
святости, что главным образом и было причиною всеобщего уважения к нему.
Кроме того, он до самой последней минуты горячо любил своих детей и жену,
которой писал самые нежные письма и даже стихи. Между тем сумасшедшие, и в
особенности мономаньяки, лишь в исключительных случаях сохраняют подобную
привязанность к близким после потери рассудка; но зато у них редко
проявляется и та страсть к писательству, какую мы замечаем в маттоидах.
К какой же категории психически больных людей следует причислить
Лазаретти? По-моему, у него была промежуточная между маттоидом и
мономаньяком форма горделивого помешательства, сопровождающегося
галлюцинациями. Душевные болезни бывают до того разнообразны, что установить
для них строгую классификацию не всегда возможно.
С другой стороны, ловкость, с какою Лазаретти успокаивал сомнения
своего покровителя, француза-мецената дю Ваша (тем, например, что если новое
учение приобретает мало сторонников, то это происходит по особой воле
небес), находчивость при объяснении символического зна-чения слов пророк и
время, слишком уж часто употребляемых им (что указывали ему критики), ловко
пущенная в толпу выдумка о том, что татуировка его сделана Св. Петром, тогда
как от некоторых он считал нужным скрывать эту мнимо божественную печать*,
наконец, умение организовать религиозные общества, а также изобретение
шифрованного письма -- все это доказывает, что, несмотря на
умопомешательство, Лазаретти сохранил значительную дозу хитрости и даже
плутовства.
[Если бы Лазаретти не вытравил себе и других знаков на теле, а
присяжные не подтвердили бы, что это -- настоящая татуировка, то можно было
бы допустить у него так называемую стигматизацию, которая появляется в
известных случаях религиозного помешательства, при истерии и каталепсии.
Так, например, одна женщина из Раккониджи могла вызывать у себя красный
рубец вокруг головы после галлюцинаций о терновом венце Иисуса Христа; нечто
подобное проделывала и Роза Тамизье, полусумасшедшая, полуаферистка. Вообще
же, татуирование встречается чаще у здоровых людей, чем у помешанных, и
служит признаком их малой болевой чувствительности.]
Впрочем, эти способности всегда бывают сильно развиты у гениальных
сумасшедших, а тем более в маттоидах, и отрицать это могут лишь люди,
никогда не посещавшие больниц для умалишенных.
Вообще Лазаретти был безумец в полном смысле слова.
Нельзя не изумляться той предусмотрительности, какую обнаруживают
сумасшедшие при исполнении своих замыслов, а также их замечательному умению
притворяться и хитрить, особенно перед теми, кто внушает им страх или
уважение или же от кого они надеются получить какие-нибудь выгоды.
Классический пример в таком роде представляет генерал Мале, который, будучи
мономаньяком и находясь в доме умалишенных, без денег, без солдат, с помощью
двух только союзников -- священника и слуги -- пытался свергнуть Наполеона,
и на один день почти успел в этом: подделав приказы, он убил одного из
министров (главу министерства), арестовал начальника полиции и обманул почти
всех корпусных командиров, уверив их, что Наполеон умер. И это была не
первая проделка его: еще в 1808 году он вздумал произвести восстание
посредством фальшивого декрета от имени сената.
После этого уже не может показаться невероятным тот факт, что одному
мономаньяку удалось произвести восстание тайпинов и в продолжение многих лет
ловко руководить восставшими или что другой вдохновенный безумец поднял весь
народ против деспотизма шаха и вместе с тем пытался создать новую религию,
заимствовать для нее все, что есть лучшего в христианстве и магометанстве.
Наконец, разве безумец Гито не ухитрился лишить Америку ее президента (см.
приложения) и разве та же участь не угрожала Италии по милости полуидиота
Пассананте? Этот последний представляет любопытный экземпляр современного
маттоида-революционера, и потому я займусь им подробно, так как для многих
помешательство его еще остается сомнительным, и вообще этот вопрос не лишен
интереса.
Между родственниками Пассананте нет ни больных, ни сумасшедших. В 29
лет он был ростом 2,5 аршина и весил 128 фунтов, т.е. на 35 фунтов меньше
среднего веса уроженцев Неаполя.
Голова у него почти субмикроцефала, окружность ее 535 миллиметров,
поперечный диаметр -- 148 миллиметров и продольный -- 180, лицевой угол --
82°, высота лба 71 миллиметр, ширина его -- 155, вместимость черепа 1513
кубических сантиметров; черты лица напоминают отчасти монгола, отчасти
кретина, глаза маленькие, глубоко впавшие и расстояние между ними больше
нормального, скулы чрезвычайно выдавшиеся, борода редкая. Зрачок мало
подвижен, половые органы атрофированы, чем обусловливается почти полная
anafrodisia; печень и селезенка, напротив, гипертрофированы, что служит
причиною повышения температуры, колеблющейся от 38° до 37,8° под мышками,
слабости пульса (хотя кривая пульса нормальна) и недостатка физической силы,
которая меньше на правой стороне (68 килограммов), чем на левой (72
килограмма). Это последнее обстоятельство, зависящее, может быть, от
давнишнего ожога правой руки, чрезвычайно важно в том отношении, что оно
делало невероятным нанесение меткого удара ножом, особенно если принять во
внимание плохое качество этого последнего и неудобство положения, в каком
находился Пассананте во время покушения. Болевая чувствительность его была
гораздо слабее обыкновенной. В тюрьме с ним случался бред, сопровождавшийся
галлюцинациями.
Все эти признаки несомненно указывают на болезненное состояние как
брюшной полости, так и центральной нервной системы. Последнее еще яснее
видно из психиатрического исследования. И в самом деле, только при
поверхностном наблюдении душевное состояние и нравственные чувства
Пассананте могли показаться нормальными. Так, он высказывал отвращение к
преступлениям, жизнь вел безукоризненную, совершенно трезвую; будучи то
горячим патриотом, то слишком уже рьяным католиком, он всегда, по-видимому,
предпочитал благо других своему собственному, так что весьма естественно,
если несведущие в психиатрии лица вначале сочли его мучеником зрелой идеи,
выразителем и тайным орудием сильной антиправительственной партии,
человеком, хотя и внушающим отвращение с политической точки зрения, но по
своим личным качествам заслуживающим уважения.
Но ошибочность такого мнения вскоре сделалась очевидной. Не говоря уже
о бреде, который мог быть следствием заключения в тюрьму, многие признаки, и
в особенности знакомство с его сочинениями, заставили предположить, что
Пассананте -- просто маттоид. Что же касается его бережливости и альтруизма,
то эти качества скорее подтверждали такое предположение, чем опровергали
его, потому что, как мы видели выше, они свойственны не только всем
маттоидам, но нередко и прямо сумасшедшим, которые выказывают иногда большую
привязанность к родине и человечеству, чем к своей семье или к себе самим.
Из сочинений же Пассананте видно, что этот ревностный патриот и гуманный
человек совершенно равнодушно и чуть ли даже не с удовольствием описывает
драки, нередко сопровождавшиеся убийством, драки, происходившие между его
земляками, когда иностранцы бросали им деньги в виде милостыни... и находит
забавной возмутительную проделку каких-то озорников, которые утащили из сада
одного бедняка любимое им вишневое деревце и, оборвав с него все ягоды,
принесли обратно. Наконец, ненормальность Пассананте выразилась и в том, что
после совершения преступления он остался совершенно спокойным посреди
взбешенной толпы народа, готовой растерзать его на части, тогда как даже
самые фанатичные из политических убийц, Орсини, Занд, Нобиллинг и др.,
выказывали в таких случаях сильное волнение и покушались на самоубийство.
Доказательством психического расстройства служит и самый мотив
преступления. Пассананте отказали от места за его политические бредни, затем
он был арестован как бродяга и вдобавок еще избит солдатами. Потеряв надежду
удовлетворить своему громадному тщеславию, чувствуя отвращение к жизни и в
то же время не имея мужества убить себя, он вздумал последовать примеру
"героев", похвалы которым слышал в своем кругу (хотя сам всегда относился к
ним недоброжелательно), главным образом для того, чтобы этим способом
покончить все расчеты с жизнью.
Тотчас же после того, как его арестовали, он сказал следователю: "Меня
обидели хозяева, где я служил, жизнь мне опротивела, и я сделал покушение на
короля с целью сгубить самого себя". То же повторил он и судье Азарит-ти: "Я
покушался на жизнь короля в полной уверенности, что меня за это убьют". И
действительно, за два дня перед тем он беспокоился только о том, что его
прогнали с места, совсем не помышляя, по-видимому, о цареубийстве, и на
предварительном допросе старался усилить свою вину напоминанием о давно
забытом уже написанном Им воззвании, где говорилось: "Смерть королю! Да
здравствует республика!" По той же причине он не хотел подавать кассационной
жалобы, а когда узнал о помиловании, то гораздо больше интересовался тем,
что говорится по этому поводу в газетах, нежели своей собственной
будущностью. Очевидно, мы имеем здесь дело с так называемым косвенным
(indiretto) самоубийством, весьма часто встречающимся у помешанных, по
свидетельству Маудели, Крихтона Эскироля и Крафт-Эбинга. Такие преступления
совершаются обыкновенно помешанными или же трусами и безнравственными
людьми. Я считаю Пассананте способным на подобное косвенное самоубийство
именно потому, что оно давало ему возможность удовлетворить кстати и свое
непомерное тщеславие, заглушавшее в нем даже инстинктивную привязанность к
жизни. Кроме того, тщеславные самоубийцы вообще любят, чтобы смерть их была
обставлена насколько возможно торжественнее, как, например, тот англичанин,
который заказал композитору написать обедню, устроил публичное исполнение ее
и застрелился в то время, когда хор пел requiescat.
Хотя Пассананте на последующих допросах и отрицал намерение лишить себя
жизни, стараясь примирить и кое-как пояснить разноречие своих показаний
ссылкой на изречение Робеспьера: "Идеи воспламеняются от крови", но я не
придаю этому факту никакого значения и считаю первое признание, сделанное
сгоряча, наиболее правдивым и искренним. К тому же оно было повторено
несколько раз, и все подробности его оказались вполне достоверными. А
запирательство Пассананте и вообще все его поведение после первых допросов
объясняется чисто безумным политическим тщеславием, которое разыгралось у
него с особенной силой, когда он увидел, что к нему относятся серьезно и что
газеты, судьи, даже врачи видят в нем опасного политического деятеля. Эту
незаслуженную репутацию он и старался поддержать, насколько позволяла ему
его необыкновенная любовь к истине. И так как все окружающие видели в нем
закоренелого революционера или ловкого заговорщика, он мало-помалу забыл
свое прежнее отчаянное положение, когда ради куска насущного хлеба он готов
был пойти на какую угодно черную работу, и вообразил себя политическим
мучеником.
Королевскому прокурору, положим, извинительно, если он увидел
преступление там, где его не было, и с помощью фантазии старался доказать
существование заговора, не имея для этого решительно никаких данных, потому
что как жалкий нож (орудие покушения), так и полное бессилие, а также
крайняя неумелость решившегося на него человека могли служить только
очевидным доказательством, что Пассананте действовал под влиянием психоза и
лишь на свой страх.
Но если бы даже самое тщательное следствие и не подтвердило
неосновательность прокурорского предположения, то врачи-эксперты, эти
наиболее рьяные из судебных следователей (piu fiscali del fisca), должны же
были убедить блюстителя закона в сделанной им ошибке. Я настаиваю на том,
что верно лишь первое показание Пассананте, повторенное, впрочем, три раза,
тем более что оно вполне согласуется с данными судебного следствия, с
письменными произведениями преступника, в которых нет и помина о
цареубийстве, и со всей его скромной, безвестной жизнью до рокового события.
Кроме того, уже будучи в тюрьме, он не только не боялся смерти, но даже
высказывал желание, чтобы его казнили. Наконец, только идея самоубийства и
придает этому преступлению известный смысл; но отнимите ее -- и оно
оказывается нелепым, непонятным. Процесс Пассананте потому и остался для
всех загадкой, что объяснение причины преступления, высказанное прокурором,
было неверно, а верное не было принято.
Первым главным поводом к совершению преступления, без сомнения,
послужила для Пассананте, как впоследствии и для Гито, нищета в соединении с
громадным и ненормально развитым тщеславием. Далее, если он и относится к
чему-нибудь с увлечением, фанатически, то совсем не к политике, но
исключительно лишь к собственным безграмотным, до смешного нелепым
произведениям. Он плачет и беснуется на суде присяжных не в том случае,
когда оскорбляют его партию, но когда ему отказывают в прочтении одного из
сочиненных им писем или чернят его доброе имя помощника повара, указывая на
то, что он неглижировал своею обязанностью мыть посуду и вместо того
постоянно занимался чтением. Пассананте отрицает справедливость этого
показания, хотя оно могло быть ему полезно как доказательство того, что он
-- маттоид.
Ум у него довольно оригинальный, но мелкий; говорит он гораздо живее,
дельнее, чем пишет (отличительная черта маттоидов), так что в письменных
произведениях его редко можно отыскать те меткие, сильные выражения, которые
встречаются даже в сочинениях помешанных. Впрочем, при внимательном чтении
всего, что он написал, нам все-таки удалось найти несколько любопытных
оригинальных суждений.
Так, например, не лишены оригинальности хотя и странные на первый
взгляд, проекты его: по жребию избирать депутатов, чиновников и офицеров,
"чтобы меньше важничали", заставить изнывающих теперь в праздности
заключенных обрабатывать пустыри и пр. Недурна также, правда, несколько
отзывающаяся востоком идея -- устроить в каждой деревне бесплатные помещения
для отдыха путешественников-пешеходов (караван-сараи).
Далее, удачно сделано определение, что разумеют под словом отечество
крестьяне маленьких итальянских общин: "Мы с детства привыкаем считать
отечеством тот клочок земли, где стоит маленькая, простая часовенка".
Не лишены, по-моему, своеобразной дикой прелести некоторые строфы
народного революционного гимна, как говорят, сочиненного Пассананте, хотя
просодия в нем очень плоха.
В заключение вот еще чрезвычайно верная параллель между отдельным
человеком и ассоциацией: "В одиночестве человек слаб и хрупок, точно
стеклянный бокал, но в союзе с товарищами он становится силен, как тысяча
Самсонов".
Более удачными выходили у Пассананте словесные показания, на что я,
впрочем, указывал раньше, поэтому приведу здесь только одно его изречение:
"Народ -- это дирижер истории" и ответ на вопрос о том, что происходит в
сознании преступника, решающегося на дурное дело. "В нем бывает тогда как бы
две воли, -- сказал он, -- одна толкает на преступление, другая удерживает
от него; результат зависит от того, которая сторона возьмет верх".
Но именно в этих-то проблесках или скорее изредка вспыхивающих искорках
гениальности, а также в нелепых стремлениях и заключается доказательство
болезненной аномалии. Когда человек из такой скромной среды, не получивший
специального образования, задается идеями, столь не свойственными его
классу, то, конечно, подобное явление нельзя назвать нормальным; положим,
этот человек может оказаться гением, вроде Джотто, который из пастуха
сделался знаменитым живописцем, но если этот пастух пренебрегает своим
стадом и в то же время царапает одни каракульки, совершенно бессмысленные,
то мы вправе признать в нем отсутствие всякой гениальности. Затем, на
основании психических наблюдений, мы уже прямо заключаем, что перед нами --
один из представителей тех душевнобольных людей, которых я называю
маттоидами. В приложении читатели могут познакомиться еще с несколькими
субъектами, принадлежащими к этому типу.
В сочинениях Пассананте сколько-нибудь здравые мысли составляют лишь
редкое исключение: в общем же это -- пустая болтовня, собрание абсурдов и
противоречий, ничем не объяснимых, так как противоречия встречаются не
только в одной и той же статье, но даже на одной и той же странице. Начав
говорить о бедствиях родины, автор через несколько строк уже толкует о
вишневом дереве, затем переходит к Бисмарку или пускается в длинные
отвлеченные рассуждения, а между тем о своем процессе, где решается его
судьба, упоминает лишь мимоходом.
Характерную особенность произведений Пассананте составляют, после
безграмотности, отрывистые, занумерованные, точно в Библии, периоды (что,
впрочем, часто встречается у маттоидов и сумасшедших) и манера писать в два
столбца. Кроме того, он то и дело повторяет некоторые излюбленные слова и
выражения -- как это делают мономаньяки, -- причем иногда перепутывает их
чрезвычайно курьезно. Так, например, рассуждая о том, как должны поставить
себя слуги и служители (точно это не одно и то же!), он говорит:
"Остерегайтесь требовать себе и жаркое, и дым от него, потому что
несправедливо одному получать и жаркое и дым, а другому -- ничего; поэтому
барин пусть получает дым, а работники -- жаркое".
Как ни нелепа эта кулинарная метафора, однако в ней до сих пор можно
уловить хотя какой-нибудь смысл, но дальше она становится уже совершенно
непонятной: "Правящему классу -- жаркое, народу -- дым, народу -- жаркое,
правящему классу -- дым. Дым -- это почести, слава; жаркое -- это
справедливость, добросовестное отношение ко всем". Никакая логика не поможет
разобраться в этой путанице, так что ключ к подобным загадкам, очевидно,
следует искать в доме умалишенных.
ноги, Лазаретти, как подобает помешанному, придавал таинственное,
чудодейственное значение и считал всю эту татуировку доказательством особого
благоволения Божия (печатью договора с Богом).
С тех пор Лазаретти совершенно переменился, как это обыкновенно
случается с помешанными*: из драчуна, богохульника и кутилы он превратился в
тихого, скромного пустынника и жил некоторое время в горах, почти под
открытым небом, питаясь иногда одним хлебом с водой или же травой,
приправленной солью и уксусом, полентой, постной похлебкой, чесноком с
хлебом и пр. Находясь на острове Монтекристо, в 1870 году, он более месяца
пробавлялся шестью хлебами, с добавлением зелени, а живя во французском
монастыре, съедал только две картофелины в день. Самые сочинения его из
шутовских и неуклюжих сделались вполне порядочными, иногда изящными -- что
должно было особенно сильно поразить и не одних только простолюдинов. Кроме
того, он стал писать более толково, употребляя сильные образные выражения, и
с таким религиозным чувством, какое можно было встретить разве лишь у первых
христиан.
[В Пезаро у меня было несколько душевнобольных монахинь из римских
монастырей. Я не встречал никогда более отвратительных богохульниц, чем они.
Мне случалось лечить также евреев, бывших раньше чрезвычайно религиозными;
первым симптомом помешательства являлось у них желание креститься, но по
выздоровлении они тотчас же возвращались к прежним верованиям.]
Духовенство того местечка, где родился Лазаретти, видя в нем как бы
олицетворение древних пророков, чем он и был в действительности, как мы
увидим дальше, отнеслось к нему с большим уважением, что, по своему обычаю,
решилось эксплуатировать его в своих интересах и воспользоваться им для
сбора пожертвований на постройку церкви.
Народ, уже без того изумлявшийся полной перемене в образе жизни
Лазаретти и его татуировке, еще более изумлялся теперь вдохновенным речам,
его длинной всклокоченной бороде, серьезной наружности и, подстрекаемый
духовенством, толпами бежал послушать нового пророка.
Начались процессии... Окруженный духовенством и знатнейшими из местных
жителей, Лазаретти посетил Арчидоссо, Роккальбенья, Кастель-дель-Пиано и
другие ближайшие города; население повсюду встречало его с восторгом, на
коленях, а священники и духовенство окрестных церквей целовали ему руки и
даже ноги. Приношения сыпались со всех сторон, но были, однако, не особенно
велики, так как жители не могли жертвовать много; поэтому для постройки
церкви решено было воспользоваться их даровым трудом. Место выбрали вблизи
Арчидоссо, и работа закипела. Десятки тысяч верующих, мужчины, женщины, даже
дети, принялись таскать камни, бревна и другие строительные материалы. К
сожалению, как в стихосложении, так и в архитектуре, кроме пророческого
вдохновения, необходимы еще научные познания; а их-то и не было у Лазаретти;
поэтому затеянная постройка оказалась столь же неудачной, как его поэзия:
собранные с таким трудом материалы остались на месте в виде безобразной кучи
мусора, и вся эта затея окончилась настолько же бесплодно, как некогда
сооружение вавилонской башни. В январе 1870 года Лазаретти основал общество
Священной лиги, имевшее целью взаимное вспомоществование и дела милосердия.
В марте того же года, после общей трапезы со своими последователями, он
отправился на остров Монтекристо, где в продолжение нескольких месяцев писал
послания, пророчества и поучения, а потом, вернувшись в Монтелабро, составил
описание видений и пророческих снов, какие были ниспосланы ему во время
пребывания на острове. Вслед за тем его обвинили в подстрекательстве к
бунту, но суд оправдал его. После того Лазаретти основал другое общество,
под названием Христианская Семъя, но был снова арестован по совершенно
неосновательному подозрению, будто это общество организовано с
мошенническими целями; однако, благодаря заступничеству Сальви, его
оправдали и он отделался только 7-месячным предварительным заключением в
тюрьме.
Повинуясь новому велению свыше, Лазаретти предпринял в 1873 году
путешествие и посетил Рим, Неаполь, Турин, затем отправился в гренобльский
картезианский монастырь, где составил правила для Ордена кающихся монахов, а
также и цифрованную азбуку. Там же он написал сочинение под заглавием
"'Небесные цветы", где говорится, между прочим, что "Великий муж сойдет с
гор в сопровождении небольшого отряда горцев"; в этой же книге описаны
видения, сны и божественные заповеди, ниспосланные автору во время его
пребывания в монастыре.
При возвращении в Монтелабро его встретила на дороге громадная толпа
приверженцев и любопытных, которой он сказал проповедь на тему: "Бог видит,
судит нас и воздает каждому по делам его". За эту проповедь его привлекли к
ответственности, обвинив в намерении ниспровергнуть правительство и вызвать
междоусобную войну.
На этот раз эксперты не были спрошены, и суд, не приняв во внимание ни
странной татуировки, ни курьезных сочинений Лазаретти, отнесся к нему точно
к человеку, находившемуся в здравом уме, и приговорил его за плутовство,
соединенное с бродяжничеством, к 15 месяцам тюремного заключения и отдаче на
год под надзор полиции*. Но апелляционная палата отменила это решение, так
что Лазаретти вернулся в августе 1875 года в Монтелабро, где снова
организовал свое распавшееся было общество и поставил во главе его
священника Империуцци. Затем, вследствие расстроенного в тюрьме здоровья, а
может быть также с целью избежать новых арестов или из желания разыграть
роль мученика перед французскими легитимистами, он отправился во Францию.
Около одного из городов, Бургоньи, на него, как он сам говорит, снизошло
божественное вдохновение, результатом которого явилась книга, по
справедливости названная им таинственной, под заглавием "Моя борьба с Богом"
("La mia lotta con Dio"). В это же время он написал сочинение "О семи
печатях с описанием признаков семи вечных городов", заимствованное отчасти
из Библии, отчасти из Апокалипсиса и наполненное самыми нелепыми
рассуждениями. Кроме того, Лазаретти издал еще свою программу, в которой
назвал себя "великим Монархом" и предлагал всем христианским государям
вступить с ним в союз, так как скоро и совершенно неожиданно для всех должен
наступить конец мира, и тогда гонимый теперь пророк явится перед лицом всех
земных владык в качестве судии и полновластного господина. Все эти сочинения
были переписаны священником Империуцци, который исправил при этом и
грубейшие грамматические ошибки, беспрестанно в них встречавшиеся. Многие из
них удостоились чести не только быть напечатанными, но даже Леоном дю Ваша
переведенными на французский язык, благодаря субсидии, а также стараниям
реакционеров Италии и других стран, совершенно серьезно отнесшихся к
безумному бреду несчастного маньяка.
[В статье "Давид Лазаретти", написанной мною вместе с Ночито и
помещенной в "Архиве психиатрии" за 1880 год, указаны причины, вовлекшие
экспертов в эту ошибку, которая стоила государству немалых расходов и, что
еще печальнее, нескольких человеческих жертв.]
Между тем Лазаретти, под влиянием все усиливавшегося бреда, начал
громить духовенство и проповедовать замену тайной исповеди -- публичной,
вследствие чего папа признал все учение его ложным, а сочинения --
еретическими. Тогда этот последний, написавший некогда в защиту папской
власти "Гражданский статут папского владычества в Италии" ("Statute civile
del Regno Pontificio in Italia"), издал в 1878 году послание к своим
братьям-монахам, направленное против "боготворения Папы", которого он назвал
семиглавым чудовищем. Несмотря на то, со свойственной всем помешанным
непоследовательностью, Лазаретти вскоре отправился в Рим, чтобы повергнуть к
подножию Св. Престола свою символическую печать и жезл, а вернувшись в
Монтелабро, начал осуждать уже и самую католическую церковь, называя ее
лавкой, а все духовенство -- атеистами и торгашами, только эксплуатирующими
религиозные чувства своей паствы. Вместе с тем он проповедовал необходимость
реформы в религии и, называя себя новым Христом, властелином и судиею,
убеждал своих последователей отречься от суеты мира сего, а в доказательство
этого отречения требовал, чтобы они воздерживались от пищи и сношений с
женщинами, даже если они женаты, и отказались бы от собранной верующими
довольно значительной суммы денег, более 100 тысяч лир, которая должна была
оставаться без всякого употребления, спрятанною в вазе, -- идея чисто
безумная! Впрочем, часть этих денег получила потом особое назначение: в
ожидании какого-то великого чуда Лазаретти заказал для своих избранников
знамена и одежды с изображением зверей, виденных им во время галлюцинаций,
одежды самого странного покроя, -- в том числе одна, особенно богатая,
предназначалась для него самого; для остальных же последователей были
приготовлены только нагрудники с вышитым на них крестом и двумя буквами С,
из которых одна -- вверх ногами: Э+С. Знак этот служил эмблемою основанного
им общества.
В августе 1878 года, когда народа собралось более обыкновенного,
Лазаретти потребовал от своих последователей, чтобы они провели три дня и
три ночи в посте и молитве, причем произносил проповеди, то общие для всех
верующих, то частные для одних только приближенных, которые подразделялись
на несколько орденов, носивших различные названия -- отшельников духовных,
кающихся и пр. Затем в течение трех дней -- 14, 15 и 16 августа --
происходила так называемая исповедь прощения (confessione di amenda), а
17-го на башне было водружено большое знамя с девизом: "Республика есть
царство Божие". После этого пророк стал у подножия креста, нарочно
воздвигнутого по этому случаю, собрал вокруг себя всех близких и заставил их
поклясться ему в верности и послушании. При этом один из братьев всячески
старался уговорить Лазаретти отказаться от задуманного им опасного
предприятия. Но все было тщетно. Когда ему указывали на возможность
встретить войска на пути, он отвечал: "Завтра же я покажу вам чудо в
доказательство того, что я послан самим Богом в образе Христа, владыки и
судии; следовательно, меня не могут убить -- всякая сила и власть земная
должна преклониться перед моей силой: достаточно одного движения моего
жезла, чтобы уничтожить всех, осмелившихся сопротивляться мне". На чье-то
замечание, что правительство рассеет сборище силою, он возразил: "Я руками
отброшу пули, я сделаю безвредным для себя и для моих последователей каждое
оружие, обращенное против них, даже королевские карабинеры превратятся в мой
почетный караул". Все более и более увлекаясь своей фантастической задачей,
Лазаретти, не скрывавший делаемых им приготовлений даже от папского
делегата, обещал было ему отменить процессию, но потом изменил свое решение
и написал, по-видимому, с полным убеждением: "Я не мог исполнить данного вам
обещания, потому что приказание свыше, от самого Бога, заставило меня
действовать иначе". А неверующим или отказывающимся исполнять его требования
он грозил небесными громами. В таком-то настроении повел Лазаретти утром 18
августа толпу своих приверженцев по дороге из Монтелабро в Арчидоссо. На нем
была надета королевская мантия красного цвета, вышитая золотом, голову
украшала корона в виде тиары, с пучком перьев наверху, а в руках он держал
свой жезл. Хотя и менее богатые, но отличавшиеся разнообразием цветов и
причудливостью покроя одежды его приближенных соответствовали степени, какую
занимал каждый из них в обществе Священной лиги; простые же члены его были в
своем обычном платье, и только описанные выше символические знаки на груди
отличали их от толпы. Семеро из важнейших лиц братства несли столько же
знамен с надписью: "Республика есть царство Божие". При этом все пели
сочиненный Лазаретти гимн, каждая строфа которого оканчивалась припевом:
"Вечная Республика" и пр.
В Италии, вероятно, всем известно, что случилось потом. Лазаретти, еще
так недавно объявлявший себя королем из королей, потомком царя Давида,
держащим в своей власти всех владык земных и совершенно неуязвимым, упал,
сраженный чьей-то рукою, -- может быть, самого же делегата, столько раз
бывшего у него в гостях, или же только по его приказанию. Рассказывают, что,
поглощенный своей последней уже иллюзией, он, падая, воскликнул: "Мы
победили!"
Процессия эта была устроена не только бессмысленно, но даже как бы
нарочно с целью доказать ее неосуществи-мость. Следствие, начатое потом
против последователей Лазаретти, вполне доказало, что созданное им
вероучение было плодом галлюцинаций. Г.Ночито совершенно справедливо говорит
по этому поводу: "В тот день, когда был вскрыт ящик, где хранилось имущество
пророка, и, вместо ожидаемых вещественных доказательств его преступной
деятельности, оттуда вынули изображение Божией Матери и рядом с нею портрет
Давида в военном мундире, умиленно беседующего со Св. Духом; когда из этого
ящика, точно из Ноева ковчега, стали появляться необыкновенные животные,
созданные фантазией пророка для украшения его знамен -- орлы, змеи, голуби,
крылатые лошади, быки, львы, гидры, -- а затем оттуда же вынули
священнические одежды, королевские мантии, венки из оливковых ветвей и
терновые венцы, в тот же день, когда после долгих, тщательных обысков в
квартирах и в карманах панталон лазареттистов полиция ничего не нашла у них,
кроме распятия да четок, и, наконец, в особенности в тот день, когда публика
получила возможность любоваться тою странною обувью, какую носили
последователи святого Давида, и папскими туфлями, которые надевал сам
"пророк" и в которых он едва мог двигаться, -- в этот день никто уже не
сомневался, что правительство приняло мономаньяка за опасного бунтовщика".
Пунктом помешательства Лазаретти послужил тот член символа веры, где
говорится о воскресшем Христе, "сидящем одесную Отца и паки грядущем судити
живых и мертвых".
Так как этот обещанный судия долго не являлся, то Лазаретти вообразил
себя в его роли и во всем старался подражать Христу: у него тоже были свои
12 апостолов и среди них апостол Петр, носивший на груди пару ключей,
искусно вырезанных из картона; он точно так же постился и терпел всякие
лишения, находясь во время суровой зимы на острове Монтекристо, где вел с
Богом беседу, сопровождавшуюся раскатом грома, блеском молнии и
землетрясением. Иисус Христос созвал учеников на тайную вечерю в день Пасхи,
-- и Лазаретти пригласил своих последователей на Троицу 15 января 1870 года,
причем сказал им: "Так угодно было тому, кто руководит всеми моими
поступками. Знайте, что теперь это составляет величайшее таинство;
вспомните, что вы находитесь теперь в том месте, которое Бог избрал для
своего жилища. Скоро, скоро настанет время, когда именно здесь будут
воздвигнуты восхитительные памятники в честь его пресвятого имени, чтобы
служить эмблемой божественного величия".
В сущности, он не установил за этой трапезой никакого таинства; но, для
того чтобы во всем походить на Иисуса Христа, Лазаретти утвердил таинство
своего изобретения -- исповедь прощения -- довольно, впрочем, сходную с
устной.
Но этого мало: ему захотелось также иметь свое преображение,
сопровождаемое землетрясением, и он предсказал, что это событие должно
совершиться 18 августа 1878 года.
Когда врач колебался сделать операцию сыну Лазаретти, у которого была
каменная болезнь, этот последний взял нож и сам вырезал камень. Ребенок
умер; отец же его продолжал твердить, нимало не смущаясь: "Сын Давидов не
может умереть".
При медицинском исследовании трупа Лазаретти на теле его оказался знак
-- изображение креста внутри опрокинутой тиары. Спрошенные по этому поводу
братья пророка объяснили, что он велел сделать во Франции золотую печать,
которую называл императорской, и, обмакнув ее в кипящее масло, оттиснул ею
знаки на теле, сначала себе, а потом жене своей и детям.
Таким способом бедный пророк хотел доказать с полной очевидностью не
только свое высокое происхождение, но также и знатность членов своей семьи,
так как, по его словам, он был прямой потомок императора Константина, хотя,
конечно, доказал этим лишь свое безумие, потому что именно у помешанных мы
замечаем склонность выражать свои нелепые бредни символами и различными
изображениями.
Однако Лазаретти не ограничивался одним лишь сознанием, что в жилах его
течет царская кровь: ему хотелось еще и властвовать над целым миром, хотя
под конец он уже настолько сузил свои требования, что готов был
удовольствоваться передачей своих прав какому-нибудь принцу. В одном из
своих манифестов -- "К христианским государям" -- он сделал следующее
воззвание:
"Я обращаюсь безразлично ко всем христианским государям, католикам,
схизматикам и еретикам, лишь бы они были крещеные.
Не беда, если они не облечены властью и не управляют народами, только
бы в их жилах текла царская кровь. Я призываю их всех, и первый же, кто
явится ко мне -- если ему будет не менее 20 и не более 50 лет и если при
этом у него не окажется никаких физических недостатков, -- будет царствовать
вместо меня".
Курьезнее всего то, что покойный граф Шамбор серьезно отнесся к этому
приглашению и отправил к Лазаретти своего уполномоченного. Чем окончились
совещания короля из дома умалишенных с королем из археологического музея --
неизвестно.
"Мне нужен союзник-христианин, -- говорится далее в манифесте. -- Я
решился теперь ускорить свое великое предприятие, и если они (христианские
государи) не явятся ко мне в течение трех лет со времени опубликования этой
программы, то я покину Европу и отправлюсь в среду неверных, чтобы
достигнуть при их помощи того, чего я не мог сделать, находясь между
верующими.
Но горе, горе тогда всем вам, христианские государи! Вы будете наказаны
семью головами великого антихриста, которые появятся из недр Европы, и в
особенности одним юношей, который после моего удаления придет из северных
стран к центру Франции и будет выдавать себя за Того, кто Я сам".
Отсюда-то явилась у Лазаретти idée fixe, что он царь царей. Когда
городской голова Арчидоссо не хотел исполнять его приказаний, он сказал ему:
"Я -- монарх из монархов. Я ношу на своих плечах государей целого мира.
Сколько у вас ни есть карабинеров и солдат, они все принадлежат мне,
находятся в моей власти, и у вас не хватит веревок, чтобы связать меня". То
же самое он говорил и другим лицам, особенно когда произносил проповеди, что
было подтверждено множеством свидетельских показаний.
Так, например, свидетель Росси, бывший на проповеди 17 августа, слышал,
как Лазаретти называл себя королем королей, Христом, судией, которому будет
подчинен даже король Италии. Он же говорил, что Папа не должен более жить в
Риме и что ему найдут другую резиденцию. Далее свидетель Мецетти показал,
что Давид непременно хотел устроить процессию 18 августа и говорил: "С чего
вы взяли, что нас арестуют? Разве это возможно, чтобы подданные арестовали
своего монарха?" То же показали и другие лица.
Что же касается эмблематического знака Э+С, которому Лазаретти придавал
огромное значение, то он олицетворял, по-видимому, идею о двух Христах,
одном -- сыне Иосифа из Назареи и другом -- сыне Иосифа Лазаретти из
Арчидоссо. Но зато является совершенно непонятным, какое соотношение могло
существовать между Иисусом Христом, императором Константином, псалмопевцем
Давидом и самим Лазаретти. Объяснение этого факта следует искать в
противоречиях и нелепых представлениях, свойственных мономаньякам, которые
не останавливаются ни перед чем, лишь бы доказать истинность своей главной
идеи, -- другими словами, главного пункта своего помешательства, -- и
обнаруживают при этом замечательное умение принять даже внешний вид
изображаемого ими лица. Мне припомнилось, что в Павии была одна больная,
считавшая себя членом семьи Наполеонов: она очень искусно подражала им в
костюме, манерах, разговоре и пр. и в то же время называла себя дочерью
Марии Луизы и Виктора Эммануила.
Вообще, у Лазаретти масса противоречий; сначала он видел в Папе
освободителя Италии, но потом, когда был отлучен им от церкви, стал называть
папство идолопоклонничеством; он готов был умереть за католическую
апостольскую религию и в то же время отрицал устную исповедь -- один из
главных ее догматов; считая себя сыном Давида, назывался также и сыном
императора Константина и пр.
Однако в правительственных сферах сумасшествие Лазаретти отрицалось
самым решительным образом. На суде в Сиене королевский прокурор выражал в
своей речи такого рода соображения, нисколько, впрочем, не разъяснившие
дела. "Возможно ли допустить, -- говорил он, -- чтобы процессия была
устроена с целью посещения святых мест, когда для этого требовалось пройти
24 мили? Мыслимо ли подобное путешествие с толпою, где было так много детей?
На какие же средства стали бы жить члены этой процессии, когда мы знаем, что
уже 18 августа у них не было ни гроша? Затем, как допустить существование
другой нелепой идеи -- путешествия в Рим для того, чтобы вытребовать у
Первосвященника Моисеев жезл, отнятый Львом XIII у Давида Лазаретти?"
Отвечать на все эти вопросы можно лишь тем, что хотя у сумасшедших и бывают
иногда проблески гениальности, но в их уме все-таки преобладают абсурды и
противоречия.
Так, одним из необходимых средств господствовать над миром Лазаретти
считал свой жезл, делившийся на 5 частей -- эмблемы четырех евангелистов и
его самого. Вот почему он устроил процессию, чтобы снова овладеть этим
жезлом, который конфисковали у него в Риме.
Для понимания душевного состояния подобных безумцев необходимо стать на
их точку зрения, надо освоиться с этим болезненным, по большей части
лишенным логики мышлением, где самые ничтожные вещи получают громадное
значение, а самые крупные, напротив, кажутся ничтожными, если только они
идут вразрез с желаниями помешанного субъекта.
Во всяком случае, как ни была нелепа цель путешествия, стремление
министерства внутренних дел (Publico) найти в этом действии ключ ко всему
необъяснимому оказывалось еще нелепее.
Поводом к обвинению Лазаретти в мошенничестве послужили написанные им
на имя неизвестных, ничего не имеющих лиц векселя, которыми он не думал, да
и не мог воспользоваться, но которые сильно компрометировали его. Здесь
опять является вопрос, для какой цели это было сделано, -- и снова
приходится отвечать, что именно бесцельность, бесполезность противозаконных
действий и составляет отличие помешанного от настоящего преступника. Еще
более неосновательны были обвинения Лазаретти в том, что он выманивал у
членов своего общества деньги и брал их себе. "У сумасбродов не бывает
доходов", -- говорит ломбардская пословица, и действительно, Лазаретти
ничего не нажил от своих проповедей и пророчеств, кроме гонений да насмерть
сразившей его пули. Жену и детей он оставил без всяких средств, жизнь вел
самую скромную, изнурял себя покаянием, лишениями всякого рода и сам первый
подавал своим последователям пример соблюдения четырех постов в продолжение
года. Большую часть времени он проводил в монастырях и пещерах, например на
острове Монтекристо или среди мрачных вулканических скал Монтелабро, а
получаемые от француза дю Ваша деньги тратил на постройку церкви и нелепой
башни, представлявшейся его расстроенному воображению каким-то священным
ковчегом, эмблемой нового союза между народами.
Но всего очевиднее выражалось умопомешательство Лазаретти в его
сочинениях.
Во-первых, потому, что все они наполнены описаниями зрительных и
слуховых галлюцинаций, нередко изложенных с такой живостью, что даже самая
богатая фантазия человека, находящегося в здравом уме, не могла бы создать
ничего подобного.
Так, в сочинении "Lotta con Dio" он говорит: "Точно удар грома
разразился надо мною и ослепил меня, вследствие чего я упал на землю как
мертвый. Множество голосов раздались посреди грохота и треска, и я услышал
слова: Повелевай, повелевай, повелевай! Больше я ничего не мог понять. Вновь
послышался грозный голос Бога, говоривший мне"...
На первой же странице предисловия к его "Рескриптам" сказано: "Я
безмолвствовал в продолжение 20 лет... но настало время, когда я должен был
заговорить согласно повелению свыше. Мне было приказано поучать народы, и я
поучал, и впредь буду поучать. Если народы не поверят моему учению, мне
останется только повторять сказанное. Если они сочтут мое учение ложным, я
не поверю, чтоб мои слова могли быть лживыми. Если они заподозрят меня в
притворстве, пусть разберут мое поведение". (Буквально то же самое
высказывал и Савонарола.)
А вот и еще отрывок в том же роде:
"Я слышал громовой потрясающий голос Бога, и с горных вершин в долину
проникал такой грохот, что мне казалось, будто они сталкиваются между
собою".
Предсказания выражались им с полнейшей самоуверенностью и даже иногда в
стихотворной форме, например:
О вы, монархи и цари Европы,
Настанет день, когда рука Господня
В отмщенье вам на головы падет
И сокрушит гордыню вашу,
И вас самих повергнет в прах.
Во-вторых, хаотическая беспорядочность, туманные, напыщенные выражения,
неправильный слог и масса противоречий, составляющие характерную особенность
произведений Лазаретти, в которых лишь крайне редко попадаются художественно
написанные страницы, с полной очевидностью свидетельствуют, что в создании
этих произведений совсем не участвовал гений, всегда более или менее ровный
в своем творчестве, и что они вызваны болезненным психическим состоянием
мозга.
Поэтому Лазаретти был совершенно прав с психиатрической точки зрения,
когда на вопрос, каким образом он, не получивший никакого образования, мог
написать столько книг? -- отвечал: "Бог вдохновлял меня", только вместо
"Бог" следовало бы сказать -- "помешательство". И действительно,
вдохновенный "пророк" сознавался, что он сам не понимает некоторых из своих
сочинений и что, находясь в спокойном состоянии, не может уловить смысл
того, что было написано им во время экстаза.
Следует еще заметить, что священным видениям у Лазаретти почти всегда
предшествовали обмороки, головные боли, полубессознательное состояние и
лихорадочные пароксизмы, продолжавшиеся по 28 часов, а иногда и по целым
месяцам. Вот как описывает он сам эти припадки:
"Мною овладевает дух, происходящий не от человека; он вызывает во мне
мгновенное вдохновение, сопровождаемое сильной головной болью, вызывающей у
меня сонливость и путаницу в мыслях. Когда я засыпаю, мне представляется
видение, и, проснувшись, я сознаю, что оно было чуждо моей природе" (Lotta
con Dio).
На заглавном листе этого сочинения он написал: "Это был экстаз, во
время которого я ничего не сознавал (che tutto mi rapi); он продолжался 33
дня".
В-третьих, ненормальность умственных способностей Лазаретти
подтверждается еще и той неудержимой потребностью проповедовать и писать,
которая совершенно не гармонировала с его специальностью -- извозчика, едва
только грамотного. В этом случае я повторяю уже сказанное мною по поводу
мании писательства у Манжионе и Пассананте, т.е. что если бы какой-нибудь
студент или чиновник вздумали сидеть по целым дням за чтением газет или за
составлением нелепейших статей по разным вопросам, то в этом не было бы
ничего странного, но когда извозчик вдруг обнаруживает особые дарования --
не относительно того, как править лошадьми или чего-нибудь в этом роде, но,
ударившись в сочинительство, придумывает идеальные формы республиканского
правления, за что, пожалуй, не взялся бы даже Мадзини, -- то мы имеем полное
право заключить, что подобный субъект находится гораздо ближе к дому
умалишенных, чем к Валгалле.
В-четвертых, прямым доказательством сумасшествия Лазаретти служат целые
страницы горделивого бреда и самовозвеличения. Вот что говорит, например,
он, разумея себя самого, в "Манифесте к народам": "Узнав, что бедный и
простой человек выдает себя за Христа и объявляет, что он происходит от
племени царя царей, вы, конечно, изумитесь и скажете, что это возмущает
человеческую гордость, а между тем это верно: уже века тому назад событие
это было предсказано, и во всех книгах говорится о том образце добродетели,
который послан в мир".
Горделивое помешательство рассматриваемого нами субъекта уже
проявляется, впрочем, и в том, что он пишет к государям, к папе, точно к
равным себе или даже низшим, хотя общественное положение его было одно из
наиболее скромных.
После высокомерного объяснения со всеми монархами и с Папой Давид прямо
обращается к бывшему королю прусскому, нынешнему императору германскому,
укоряет его за коварные замыслы против Италии и предсказывает ему разные
бедствия. Французам он советует прежде всего разбить нечестивую статую
Вольтера и сжечь его сочинения, а пепел, оставшийся от них, зарыть как яд,
взятый из ада. "На том же самом месте, -- продолжает он, -- вы воздвигнете
статую Искупителя Иисуса Назарянина, держащего под своею пятою Вольтера,
изображенного в виде демона, и пусть Искупитель заградит ему рот крестом,
который тот хватает зубами и руками. Когда это будет сделано -- божественный
гнев смягчится и невзгоды перестанут терзать народ".
Папе он писал, между прочим, следующее: "Прежде всего я обращаюсь к
тебе, преемник Петра, видимый глава Церкви, с целью предупредить тебя, чтобы
ты не доверял чужеземному вмешательству. Знай, что под предлогом защиты прав
Церкви расставляют сети тебе и всей итальянской нации. Замышляется не что
иное, как внести бедствие и разорение среди нас, итальянцев".
Короля Италии Лазаретти третирует еще развязнее. "При дворе у тебя, --
пишет он ему, -- происходит столпотворение вавилонское, управление твое --
тирания, разбойничество, законы и учреждения твои переполнены глупыми,
еретическими, нелепыми и непонятными правилами, возмущающими нравственное
чувство и здравый смысл. Говорю тебе, что хуже не мог бы поступить даже тот,
кто вздумал бы открыто идти против всякой нравственности. Каким же образом
намереваешься ты, король мой, спастись от этих дурных людей? Я знаю, они
довели тебя до крайнего, ужасного положения! Мне очень неприятно будет
видеть твою гибель, которая порадует тех, кто сумел лестью довести тебя до
этого. Не знаю, чем помочь тебе, король мой, но вижу тебя в дурных
обстоятельствах. Если бы я мог быть возле тебя, то, ради твоих предков, я
постарался бы спасти тебя".
Но этого мало. Через несколько страниц Лазаретти начинает
фамильярничать даже с самим Богом. "Я желал бы, -- говорит он, обращаясь к
нему, -- чтобы вы* перестали относиться с таким презрением"... И потом
немного ниже прибавляет: "Я согласен исполнить вашу волю, Господь мой, но
лишь на том условии (условие с Богом!), чтобы я мог передать другим свою
власть и свои громадные владения (у извозчика-то!); а себе я оставлю
бедность, труд" и т.д.
[Сохранено обращение автора к Богу во множественном числе, не принятое
у нас.]
Однако из последующих строк видно, что смирение это было напускное:
"Повторяю вам, что я и мои потомки посвящены вам (vi siamo consacrati), и я,
как кровный родственник, хочу быть в зависимости только от своих же кровных;
этого я требую от вас по праву моих предков. На этих условиях я принимаю
сделанное вами мне предложение повелевать миром". И действительно, в письме
к королю он объявил:
"Мне, ничтожнейшему из людей, вышедшему из народа... Бог обещал всю
землю. В доказательство этого он послал мне дар пророчества и светлый ум для
того, чтобы исправлять законы и делать открытия в науках и искусствах".
Великие открытия эти состоят в смешных толкованиях на первые главы
книги Бытия с прибавлением нелепейшей палеонтологии, которая могла прийти в
голову разве какому-нибудь крестьянину, побывавшему в музее. Вот образчик
научных познаний пророка: "Сначала было 15 видов крупных животных; но они
все погибли, потому что были слишком велики, -- из них 7 жвачных, а 3
амфибии. Строение этих животных было таково, что чешуйчатой шкуры их не
могло пробить никакое железо. Были пресмыкающиеся с ядовитым дыханием,
предназначенные для воды, и люди называли их животными смерти и яда!!!" и
т.д. все в том же роде.
"В эпоху сооружения Вавилонской башни на земном шаре произошел разрыв,
вследствие чего север отделился от запада. И северные народы живут еще во
мраке и нечистотах" (стр. 105).
Вслед за тем автор прибавляет: "Это совсем особенные истины, со времени
потопа и до сих пор лишь остававшиеся в памяти людей; открытие этих истин
было предоставлено полноте времен (pienezza dei tempi). Человек должен
узнать все после снятия этих печатей".
В-пятых, следует еще заметить, что нелепости и противоречия встречаются
почти на каждой странице сочинений Лазаретти. Так, например, после того как
им было уже сказано, что во время потопа погибли все животные, кроме взятых
в ковчег, он прибавляет: "осталось на земле множество животных".
Далее, чем, кроме умопомешательства, можно объяснить себе описание
разных невозможных животных -- быка с 12 и слона с 10 рогами, лошади о 13
ногах и пр., а также громадное значение, какое он придавал происхождению
своего делившегося на пять частей жезла, которому посвящена почти целая
глава сочинения "Lotta con Dio", где без всякого стеснения объясняется, что
жезл зародился в недрах жены Лазаретти от сношений с его же сыновьями и
первыми членами его частей!!!
В-шестых, но если даже и не рассматривать внутреннего содержания
произведений Лазаретти, то уже одна внешняя форма их, особенности в слоге,
составление новых слов или же употребление их в особом смысле и пр. -- все
это может служить доказательством его психического расстройства. Так
знаменитую башню свою он называл "turrisdavidica", сыновей своих --
"Giurisda-vici" и пр.
В приложенном к сочинению "Lotta con Dio" послесловии -- нечто вроде
списка опечаток -- он сам говорит, что слова tempo (время) profeta (пророк),
повторяющиеся бесчисленное множество раз, не следует понимать в общепринятом
значении. Повторений у него вообще масса, и не только отдельных слов, но
даже целых фраз и в особенности цифр. Так, не говоря уже о том, что он,
подобно Пасса-нанте, по 70-80 раз повторяет слова provate и riprovate, в
"Lotta con Dio" по крайней мере столько же раз употреблена фраза "Uomo а те
саrо 7° figlio del 7° figlio dell'uomo" (Дорогой мне человек, 7 сын 7 сына
человека), хотя гораздо проще было прямо сказать Енох и Авраам.
Еще чаще употребляется слово tempo время и (цифра) 7; например, "С неба
упадут камни в 7777 весом из одного веса в 7777 на 47 двойных граммов веса".
Или: "Число жертв будет в 1777 времен, заключающих в себе 17 раз 1777". Или:
"После моего поднятия на небо прошло время из 3 времен, состоящих из 77
часов для каждого времени".
В заключение нашего диагноза напомним, что хотя в молодости Лазаретти
обнаруживал склонность к пьянству и кутежам, но потом, после происшедшей с
ним перемены, он сделался высоконравственным и мог служить образцом
святости, что главным образом и было причиною всеобщего уважения к нему.
Кроме того, он до самой последней минуты горячо любил своих детей и жену,
которой писал самые нежные письма и даже стихи. Между тем сумасшедшие, и в
особенности мономаньяки, лишь в исключительных случаях сохраняют подобную
привязанность к близким после потери рассудка; но зато у них редко
проявляется и та страсть к писательству, какую мы замечаем в маттоидах.
К какой же категории психически больных людей следует причислить
Лазаретти? По-моему, у него была промежуточная между маттоидом и
мономаньяком форма горделивого помешательства, сопровождающегося
галлюцинациями. Душевные болезни бывают до того разнообразны, что установить
для них строгую классификацию не всегда возможно.
С другой стороны, ловкость, с какою Лазаретти успокаивал сомнения
своего покровителя, француза-мецената дю Ваша (тем, например, что если новое
учение приобретает мало сторонников, то это происходит по особой воле
небес), находчивость при объяснении символического зна-чения слов пророк и
время, слишком уж часто употребляемых им (что указывали ему критики), ловко
пущенная в толпу выдумка о том, что татуировка его сделана Св. Петром, тогда
как от некоторых он считал нужным скрывать эту мнимо божественную печать*,
наконец, умение организовать религиозные общества, а также изобретение
шифрованного письма -- все это доказывает, что, несмотря на
умопомешательство, Лазаретти сохранил значительную дозу хитрости и даже
плутовства.
[Если бы Лазаретти не вытравил себе и других знаков на теле, а
присяжные не подтвердили бы, что это -- настоящая татуировка, то можно было
бы допустить у него так называемую стигматизацию, которая появляется в
известных случаях религиозного помешательства, при истерии и каталепсии.
Так, например, одна женщина из Раккониджи могла вызывать у себя красный
рубец вокруг головы после галлюцинаций о терновом венце Иисуса Христа; нечто
подобное проделывала и Роза Тамизье, полусумасшедшая, полуаферистка. Вообще
же, татуирование встречается чаще у здоровых людей, чем у помешанных, и
служит признаком их малой болевой чувствительности.]
Впрочем, эти способности всегда бывают сильно развиты у гениальных
сумасшедших, а тем более в маттоидах, и отрицать это могут лишь люди,
никогда не посещавшие больниц для умалишенных.
Вообще Лазаретти был безумец в полном смысле слова.
Нельзя не изумляться той предусмотрительности, какую обнаруживают
сумасшедшие при исполнении своих замыслов, а также их замечательному умению
притворяться и хитрить, особенно перед теми, кто внушает им страх или
уважение или же от кого они надеются получить какие-нибудь выгоды.
Классический пример в таком роде представляет генерал Мале, который, будучи
мономаньяком и находясь в доме умалишенных, без денег, без солдат, с помощью
двух только союзников -- священника и слуги -- пытался свергнуть Наполеона,
и на один день почти успел в этом: подделав приказы, он убил одного из
министров (главу министерства), арестовал начальника полиции и обманул почти
всех корпусных командиров, уверив их, что Наполеон умер. И это была не
первая проделка его: еще в 1808 году он вздумал произвести восстание
посредством фальшивого декрета от имени сената.
После этого уже не может показаться невероятным тот факт, что одному
мономаньяку удалось произвести восстание тайпинов и в продолжение многих лет
ловко руководить восставшими или что другой вдохновенный безумец поднял весь
народ против деспотизма шаха и вместе с тем пытался создать новую религию,
заимствовать для нее все, что есть лучшего в христианстве и магометанстве.
Наконец, разве безумец Гито не ухитрился лишить Америку ее президента (см.
приложения) и разве та же участь не угрожала Италии по милости полуидиота
Пассананте? Этот последний представляет любопытный экземпляр современного
маттоида-революционера, и потому я займусь им подробно, так как для многих
помешательство его еще остается сомнительным, и вообще этот вопрос не лишен
интереса.
Между родственниками Пассананте нет ни больных, ни сумасшедших. В 29
лет он был ростом 2,5 аршина и весил 128 фунтов, т.е. на 35 фунтов меньше
среднего веса уроженцев Неаполя.
Голова у него почти субмикроцефала, окружность ее 535 миллиметров,
поперечный диаметр -- 148 миллиметров и продольный -- 180, лицевой угол --
82°, высота лба 71 миллиметр, ширина его -- 155, вместимость черепа 1513
кубических сантиметров; черты лица напоминают отчасти монгола, отчасти
кретина, глаза маленькие, глубоко впавшие и расстояние между ними больше
нормального, скулы чрезвычайно выдавшиеся, борода редкая. Зрачок мало
подвижен, половые органы атрофированы, чем обусловливается почти полная
anafrodisia; печень и селезенка, напротив, гипертрофированы, что служит
причиною повышения температуры, колеблющейся от 38° до 37,8° под мышками,
слабости пульса (хотя кривая пульса нормальна) и недостатка физической силы,
которая меньше на правой стороне (68 килограммов), чем на левой (72
килограмма). Это последнее обстоятельство, зависящее, может быть, от
давнишнего ожога правой руки, чрезвычайно важно в том отношении, что оно
делало невероятным нанесение меткого удара ножом, особенно если принять во
внимание плохое качество этого последнего и неудобство положения, в каком
находился Пассананте во время покушения. Болевая чувствительность его была
гораздо слабее обыкновенной. В тюрьме с ним случался бред, сопровождавшийся
галлюцинациями.
Все эти признаки несомненно указывают на болезненное состояние как
брюшной полости, так и центральной нервной системы. Последнее еще яснее
видно из психиатрического исследования. И в самом деле, только при
поверхностном наблюдении душевное состояние и нравственные чувства
Пассананте могли показаться нормальными. Так, он высказывал отвращение к
преступлениям, жизнь вел безукоризненную, совершенно трезвую; будучи то
горячим патриотом, то слишком уже рьяным католиком, он всегда, по-видимому,
предпочитал благо других своему собственному, так что весьма естественно,
если несведущие в психиатрии лица вначале сочли его мучеником зрелой идеи,
выразителем и тайным орудием сильной антиправительственной партии,
человеком, хотя и внушающим отвращение с политической точки зрения, но по
своим личным качествам заслуживающим уважения.
Но ошибочность такого мнения вскоре сделалась очевидной. Не говоря уже
о бреде, который мог быть следствием заключения в тюрьму, многие признаки, и
в особенности знакомство с его сочинениями, заставили предположить, что
Пассананте -- просто маттоид. Что же касается его бережливости и альтруизма,
то эти качества скорее подтверждали такое предположение, чем опровергали
его, потому что, как мы видели выше, они свойственны не только всем
маттоидам, но нередко и прямо сумасшедшим, которые выказывают иногда большую
привязанность к родине и человечеству, чем к своей семье или к себе самим.
Из сочинений же Пассананте видно, что этот ревностный патриот и гуманный
человек совершенно равнодушно и чуть ли даже не с удовольствием описывает
драки, нередко сопровождавшиеся убийством, драки, происходившие между его
земляками, когда иностранцы бросали им деньги в виде милостыни... и находит
забавной возмутительную проделку каких-то озорников, которые утащили из сада
одного бедняка любимое им вишневое деревце и, оборвав с него все ягоды,
принесли обратно. Наконец, ненормальность Пассананте выразилась и в том, что
после совершения преступления он остался совершенно спокойным посреди
взбешенной толпы народа, готовой растерзать его на части, тогда как даже
самые фанатичные из политических убийц, Орсини, Занд, Нобиллинг и др.,
выказывали в таких случаях сильное волнение и покушались на самоубийство.
Доказательством психического расстройства служит и самый мотив
преступления. Пассананте отказали от места за его политические бредни, затем
он был арестован как бродяга и вдобавок еще избит солдатами. Потеряв надежду
удовлетворить своему громадному тщеславию, чувствуя отвращение к жизни и в
то же время не имея мужества убить себя, он вздумал последовать примеру
"героев", похвалы которым слышал в своем кругу (хотя сам всегда относился к
ним недоброжелательно), главным образом для того, чтобы этим способом
покончить все расчеты с жизнью.
Тотчас же после того, как его арестовали, он сказал следователю: "Меня
обидели хозяева, где я служил, жизнь мне опротивела, и я сделал покушение на
короля с целью сгубить самого себя". То же повторил он и судье Азарит-ти: "Я
покушался на жизнь короля в полной уверенности, что меня за это убьют". И
действительно, за два дня перед тем он беспокоился только о том, что его
прогнали с места, совсем не помышляя, по-видимому, о цареубийстве, и на
предварительном допросе старался усилить свою вину напоминанием о давно
забытом уже написанном Им воззвании, где говорилось: "Смерть королю! Да
здравствует республика!" По той же причине он не хотел подавать кассационной
жалобы, а когда узнал о помиловании, то гораздо больше интересовался тем,
что говорится по этому поводу в газетах, нежели своей собственной
будущностью. Очевидно, мы имеем здесь дело с так называемым косвенным
(indiretto) самоубийством, весьма часто встречающимся у помешанных, по
свидетельству Маудели, Крихтона Эскироля и Крафт-Эбинга. Такие преступления
совершаются обыкновенно помешанными или же трусами и безнравственными
людьми. Я считаю Пассананте способным на подобное косвенное самоубийство
именно потому, что оно давало ему возможность удовлетворить кстати и свое
непомерное тщеславие, заглушавшее в нем даже инстинктивную привязанность к
жизни. Кроме того, тщеславные самоубийцы вообще любят, чтобы смерть их была
обставлена насколько возможно торжественнее, как, например, тот англичанин,
который заказал композитору написать обедню, устроил публичное исполнение ее
и застрелился в то время, когда хор пел requiescat.
Хотя Пассананте на последующих допросах и отрицал намерение лишить себя
жизни, стараясь примирить и кое-как пояснить разноречие своих показаний
ссылкой на изречение Робеспьера: "Идеи воспламеняются от крови", но я не
придаю этому факту никакого значения и считаю первое признание, сделанное
сгоряча, наиболее правдивым и искренним. К тому же оно было повторено
несколько раз, и все подробности его оказались вполне достоверными. А
запирательство Пассананте и вообще все его поведение после первых допросов
объясняется чисто безумным политическим тщеславием, которое разыгралось у
него с особенной силой, когда он увидел, что к нему относятся серьезно и что
газеты, судьи, даже врачи видят в нем опасного политического деятеля. Эту
незаслуженную репутацию он и старался поддержать, насколько позволяла ему
его необыкновенная любовь к истине. И так как все окружающие видели в нем
закоренелого революционера или ловкого заговорщика, он мало-помалу забыл
свое прежнее отчаянное положение, когда ради куска насущного хлеба он готов
был пойти на какую угодно черную работу, и вообразил себя политическим
мучеником.
Королевскому прокурору, положим, извинительно, если он увидел
преступление там, где его не было, и с помощью фантазии старался доказать
существование заговора, не имея для этого решительно никаких данных, потому
что как жалкий нож (орудие покушения), так и полное бессилие, а также
крайняя неумелость решившегося на него человека могли служить только
очевидным доказательством, что Пассананте действовал под влиянием психоза и
лишь на свой страх.
Но если бы даже самое тщательное следствие и не подтвердило
неосновательность прокурорского предположения, то врачи-эксперты, эти
наиболее рьяные из судебных следователей (piu fiscali del fisca), должны же
были убедить блюстителя закона в сделанной им ошибке. Я настаиваю на том,
что верно лишь первое показание Пассананте, повторенное, впрочем, три раза,
тем более что оно вполне согласуется с данными судебного следствия, с
письменными произведениями преступника, в которых нет и помина о
цареубийстве, и со всей его скромной, безвестной жизнью до рокового события.
Кроме того, уже будучи в тюрьме, он не только не боялся смерти, но даже
высказывал желание, чтобы его казнили. Наконец, только идея самоубийства и
придает этому преступлению известный смысл; но отнимите ее -- и оно
оказывается нелепым, непонятным. Процесс Пассананте потому и остался для
всех загадкой, что объяснение причины преступления, высказанное прокурором,
было неверно, а верное не было принято.
Первым главным поводом к совершению преступления, без сомнения,
послужила для Пассананте, как впоследствии и для Гито, нищета в соединении с
громадным и ненормально развитым тщеславием. Далее, если он и относится к
чему-нибудь с увлечением, фанатически, то совсем не к политике, но
исключительно лишь к собственным безграмотным, до смешного нелепым
произведениям. Он плачет и беснуется на суде присяжных не в том случае,
когда оскорбляют его партию, но когда ему отказывают в прочтении одного из
сочиненных им писем или чернят его доброе имя помощника повара, указывая на
то, что он неглижировал своею обязанностью мыть посуду и вместо того
постоянно занимался чтением. Пассананте отрицает справедливость этого
показания, хотя оно могло быть ему полезно как доказательство того, что он
-- маттоид.
Ум у него довольно оригинальный, но мелкий; говорит он гораздо живее,
дельнее, чем пишет (отличительная черта маттоидов), так что в письменных
произведениях его редко можно отыскать те меткие, сильные выражения, которые
встречаются даже в сочинениях помешанных. Впрочем, при внимательном чтении
всего, что он написал, нам все-таки удалось найти несколько любопытных
оригинальных суждений.
Так, например, не лишены оригинальности хотя и странные на первый
взгляд, проекты его: по жребию избирать депутатов, чиновников и офицеров,
"чтобы меньше важничали", заставить изнывающих теперь в праздности
заключенных обрабатывать пустыри и пр. Недурна также, правда, несколько
отзывающаяся востоком идея -- устроить в каждой деревне бесплатные помещения
для отдыха путешественников-пешеходов (караван-сараи).
Далее, удачно сделано определение, что разумеют под словом отечество
крестьяне маленьких итальянских общин: "Мы с детства привыкаем считать
отечеством тот клочок земли, где стоит маленькая, простая часовенка".
Не лишены, по-моему, своеобразной дикой прелести некоторые строфы
народного революционного гимна, как говорят, сочиненного Пассананте, хотя
просодия в нем очень плоха.
В заключение вот еще чрезвычайно верная параллель между отдельным
человеком и ассоциацией: "В одиночестве человек слаб и хрупок, точно
стеклянный бокал, но в союзе с товарищами он становится силен, как тысяча
Самсонов".
Более удачными выходили у Пассананте словесные показания, на что я,
впрочем, указывал раньше, поэтому приведу здесь только одно его изречение:
"Народ -- это дирижер истории" и ответ на вопрос о том, что происходит в
сознании преступника, решающегося на дурное дело. "В нем бывает тогда как бы
две воли, -- сказал он, -- одна толкает на преступление, другая удерживает
от него; результат зависит от того, которая сторона возьмет верх".
Но именно в этих-то проблесках или скорее изредка вспыхивающих искорках
гениальности, а также в нелепых стремлениях и заключается доказательство
болезненной аномалии. Когда человек из такой скромной среды, не получивший
специального образования, задается идеями, столь не свойственными его
классу, то, конечно, подобное явление нельзя назвать нормальным; положим,
этот человек может оказаться гением, вроде Джотто, который из пастуха
сделался знаменитым живописцем, но если этот пастух пренебрегает своим
стадом и в то же время царапает одни каракульки, совершенно бессмысленные,
то мы вправе признать в нем отсутствие всякой гениальности. Затем, на
основании психических наблюдений, мы уже прямо заключаем, что перед нами --
один из представителей тех душевнобольных людей, которых я называю
маттоидами. В приложении читатели могут познакомиться еще с несколькими
субъектами, принадлежащими к этому типу.
В сочинениях Пассананте сколько-нибудь здравые мысли составляют лишь
редкое исключение: в общем же это -- пустая болтовня, собрание абсурдов и
противоречий, ничем не объяснимых, так как противоречия встречаются не
только в одной и той же статье, но даже на одной и той же странице. Начав
говорить о бедствиях родины, автор через несколько строк уже толкует о
вишневом дереве, затем переходит к Бисмарку или пускается в длинные
отвлеченные рассуждения, а между тем о своем процессе, где решается его
судьба, упоминает лишь мимоходом.
Характерную особенность произведений Пассананте составляют, после
безграмотности, отрывистые, занумерованные, точно в Библии, периоды (что,
впрочем, часто встречается у маттоидов и сумасшедших) и манера писать в два
столбца. Кроме того, он то и дело повторяет некоторые излюбленные слова и
выражения -- как это делают мономаньяки, -- причем иногда перепутывает их
чрезвычайно курьезно. Так, например, рассуждая о том, как должны поставить
себя слуги и служители (точно это не одно и то же!), он говорит:
"Остерегайтесь требовать себе и жаркое, и дым от него, потому что
несправедливо одному получать и жаркое и дым, а другому -- ничего; поэтому
барин пусть получает дым, а работники -- жаркое".
Как ни нелепа эта кулинарная метафора, однако в ней до сих пор можно
уловить хотя какой-нибудь смысл, но дальше она становится уже совершенно
непонятной: "Правящему классу -- жаркое, народу -- дым, народу -- жаркое,
правящему классу -- дым. Дым -- это почести, слава; жаркое -- это
справедливость, добросовестное отношение ко всем". Никакая логика не поможет
разобраться в этой путанице, так что ключ к подобным загадкам, очевидно,
следует искать в доме умалишенных.
 Многие из врачей психиатров, положительно отрицавших помешательство
Гито, сделали это, конечно, на том основании, что у него не замечалось той
классической формы безумия, которая выражается резко-определенными
признаками, а была лишь промежуточная, свойственная мат-тоидам, степень
душевного расстройства с примесью религиозной и горделивой мономании,
затемненной, однако, склонностью к плутовству, так редко встречающейся у
помешанных в полном смысле слова и так часто у маттоидов. Этой склонностью
Гито обладал в такой сильной степени, что она ни на минуту не изменила ему
как в течение всей его предыдущей жизни авантюриста, так и во время
процесса, что, конечно, могло ввести врачей в заблуждение при постановке
диагноза.
Действительно, нельзя не изумляться находчивости и сообразительности,
обнаруженным Гито на суде. Когда эксперт Диамонд сказал, что для решения
вопроса о том, страдает ли известный субъект умопомешательством, необходимо
очень долго наблюдать за ним и что сам он слишком недостаточно изучал
душевные болезни, чтобы ответить на этот вопрос, не рискуя ошибиться, --
обвиняемый тотчас же заметил ему: "Это самое лучшее из всего, что вы здесь
говорили". Когда после указания Гито на божественное заступничество,
сохранившее его от повешения и расстреляния, его спросили, рассчитывает ли
он и впоследствии избавиться от смертной казни, он отказался отвечать.
Умопомешательство свое он сначала отрицал, а потом начал настаивать на нем;
но убедившись, что то и другое невыгодно для него, стал избегать прямых
ответов и наконец объявил, что предоставляет решение этого вопроса
экспертам. На замечание, что подсудимый не убил бы Гарфильда, если бы тот
назначил его консулом, он возразил: "Нет, убил бы во всяком случае", хотя
раньше говорил противное. Мошеннические и безнравственные проделки свои
Гито, как мы уже видели, считал не заслуживающими внимания пустяками, а
когда ему указали на сделанные им долги, то он, нимало не смущаясь,
воспользовался этим, чтобы подразнить председателя, над которым постоянно
издевался, и сказал ему: "Я открыто просил денег у первого встречного, и он
давал мне, если мог. Когда вам будут нужны деньги, вы также можете занять у
меня".
Основываясь на том факте, что Гито выказал большую ловкость и
корыстолюбие, когда из тюрьмы написал Камерону письмо с просьбой прислать
100 долларов, причем доказывал, что имеет право на вознаграждение,
пожертвовав собою для его партии, эксперт Календер отрицал в подсудимом
всякое умственное расстройство. "Это письмо, -- сказал он, -- служит
несомненным доказательством здравомыслия Гито, так как он выказывает в нем
не только большую сообразительность при выборе лица, у которого просит
денег, но и уменье подкрепить свою просьбу вескими аргументами". Но,
по-моему, ни эта расчетливость, ни прежние мошеннические проделки не
опровергают умопомешательства Гито. В своем журнале "Архив психиатрии" я уже
доказал вместе с Альбертотти и Перотти, как часто психическое расстройство
встречается именно у мошенников и проявляется не во время суда только, но и
гораздо раньше, пример чего мы, впрочем, уже видели в Детомази. Уловки и
хитрости, употребляемые такими субъектами во время судебного разбирательства
всего чаще во вред себе, я, напротив, объясню именно тем, что у них
склонность к притворству не сдерживается рассудком и что вследствие своей
ненормальности они чувствуют и рассуждают обо всем иначе, нежели здоровые
люди. К тому же разряду явлений относится замечаемая у истеричных
полупаралитиков и алкоголиков наклонность ко лжи, притворству и клевете.
Наконец, эксперт Мак-Дональд высказал мнение, что помешанные, считающие себя
вдохновенными, действуют без заранее обдуманного намерения, не заботясь о
последствиях и не стараясь избежать ответственности, а между тем Гито
поступал как раз наоборот.
В опровержение этого мнения достаточно припомнить приведенные нами выше
эпизоды из биографии Мале, Бо-зизио, Детомази, Лазаретти и даже самого
Савонаролы.
Из всех этих примеров читатели, надеюсь, убедились в существовании
особой разновидности помешанных или полупомешанных, людей крайне
раздражительных и до такой степени тщеславных, жаждущих известности, что они
готовы добиваться ее всеми способами, но чаще всего покушением на жизнь
коронованных или важных особ. Впрочем, я не сказал здесь ничего нового. Тем
же вопросом занимались и другие врачи, и я, как мне кажется, только
обстоятельнее разобрал подобные случаи, к сожалению, слишком многочисленные.
Немало приведено их, между прочим, у Тардье в его "Судебно-медицинских
этюдах помешательства". Для большей полноты моего исследования я приведу
несколько примеров из этого сочинения.
Перед нами некто Буш-Гильтон; 59 лет, из хорошей семьи. Один из его
братьев был помешанный. В молодые годы ему пришлось несколько раз сидеть под
арестом за бродяжничество и мошеннические проделки. Во время революции 1831
года он сражался во главе отдельного отряда, причем сам произвел себя в
полковники, а по окончании военных действий потребовал, чтобы за ним
оставили это звание и дали ему вознаграждение в 75 тысяч рублей.
Не добившись ни того, ни другого и желая привлечь к себе общее
внимание, он принялся всячески досаждать правительству и распространял
гнусные сатиры на Людовика Филиппа. С толпою таких же недовольных Гильтон
ходил по улицам, продавал мазь, сделанную из костей и крови убитых на поле
сражения, а затем их трости, зонты и т.п. Арестованный за это два раза, он
таким образом добился желанной известности.
Чтобы избавиться от воображаемых врагов, он поставил у окон дома, где
жил, куклы в солдатских мундирах, а во дворе стал держать своих любимых коз
и колотил каждого, кто осмеливался заявить ему, что так нельзя поступать.
Кроме того, он вздумал возвести стену на чужой земле и, конечно, должен был
сломать ее после целого ряда тяжб; всем соседям своим он задолжал, но платил
им только одними оскорблениями.
Потом Гильтон отправился в Англию и, услыхав, что туда должен приехать
Людовик Филипп, просил у лондонского лорд-мэра позволения арестовать короля
как своего мнимого должника. Когда же приезд короля замедлился, то Гильтон,
вообразив, что Людовик Филипп боится встречи с ним, послал во Францию
формальную жалобу на короля, адресованную его собственному министру
внутренних дел. Главное занятие этого графомана состояло в писании писем,
просьб, петиций, пасквилей и пр.; он писал всегда, везде, по всякому поводу
и без всякого повода, писал королю, в различные правительственные
учреждения, депутатам и даже соседям, причем, конечно, тратил целые горы
бумаги, хотя был так бережлив на нее, что не оставлял неисписанным ни одного
уголка, а строки располагал и вдоль, и поперек, и наискось. Почерк у него
крупный, но четкий, орфографических ошибок много, выражения всегда резкие и
грубые.
Наружность у Гильтона отталкивающая, глаза плутовские, говорит он
плавно и заканчивает фразы громким смехом, постоянно употребляет клятвы и
уверения "честным словом", обвинения умеет ловко парировать. Так, например,
в суде он приводил в свое оправдание такого рода доводы: "У меня было
столько процессов, что теперешний может доставить мне только одно
удовольствие. Я отзывался непочтительно о короле не из личной ненависти, но
чтобы хотя на бумаге излить свой гнев на испытываемые мною несправедливости.
В мошенничестве меня обвинили с тою целью, чтобы лишить награды за услуги,
оказанные отечеству", и т.д.
Заметив, что эксперты склонны признать его умалишенным, Гильтон
заподозрил в них сообщников заговора, устроенного с этой целью против него
королем, и написал ему: "Ваше величество прислали ко мне троих господ, чтобы
убедить меня, будто я сошел с ума, из чего я заключил о существовании
заговора с намерением выдать меня за помешанного. Если сон вашего величества
улучшился с тех пор, как я в тюрьме, то ваше величество будете спать еще
лучше, когда меня казнят". А судье он написал: "Я прибыл во Францию для
того, чтобы досадить Людовику Филиппу, когда он увидит меня среди
сражающихся. Здесь я попался в западню. У вас остается только одно средство
избавиться от меня -- дать мне яду". И мало-помалу он действительно стал
думать, что его хотят отравить.
Талантливый адвокат Санду добился выдающегося положения только
благодаря своим заслугам, но потом за какие-то промахи был уволен от службы.
Он обратился тогда за помощью к министру Бильо, своему бывшему товарищу, и
тот несколько раз давал ему пособия, но, заметив в нем расстройство
умственных способностей, отказался от него совершенно. После этого Санду
начал преследовать министра просьбами, униженными и в то же время
угрожающими, причем ссылался именно на прежнюю помощь как на что-то
обязательное и в будущем. Его поместили в больницу, где после тщательной
экспертизы врачи признали его помешанным. По выходе оттуда он снова стал
подавать то раболепные до крайности, то надменные до безумия прошения:
называя себя в них главою несуществующей партии, жаловался, что его хотят
убить, вследствие чего грозил, что прежде он сам убьет министра, хотя его же
умолял исполнить его последнюю волю и похоронить в назначенном им месте.
Нашлись знаменитые адвокаты, в том числе Фавр, сумевшие придать этому делу
государственное значение. Когда начались общие выборы, Санду вообразил, что
Карно постарается провести его в депутаты от Парижа, затем стал мечтать о
какой-то необыкновенно блестящей женитьбе, которая ему предстоит, и
собирался писать большое сочинение о демократии, чтобы попасть в члены
парижской академии. По временам он жаловался, что крысы обгрызли ему голову,
что одна половина тела у него слабее другой, и покушался на самоубийство.
Характерную особенность его составляет громадное число написанных им в
тюрьме и на свободе сочинений и писем, переполненных постскриптумами,
подчеркнутыми словами и всегда буквально одинаковых по содержанию. Несмотря
на такие явные признаки ненормальности, многие укоряли Бильо за его
равнодушие к судьбе несчастного Санду. Вскрытие обнаружило у него в мозгу
весьма серьезные повреждения, происшедшие от менингита, и тогда только
большинство убедилось в психическом расстройстве бедного адвоката.
Некто М.А. выдавал себя за профессора Оксфордского университета,
одержавшего победу над 300 кандидатами и получающего 20 тысяч рублей
жалованья, хотя совсем не владел английским языком и плохо знал латинский;
но он изобрел такой способ обучения, с помощью которого даже не знающий
английского языка мог преподавать его. Живя в Лондоне, М.А. познакомился с
одной княгиней и вообразил, что она влюблена в него, хотя та вскоре даже
отказала ему от дома. Он издал тогда объемистый том мемуаров, где обвинял
княгиню в похищении у него портфеля; затем писал обличительные статьи против
министра и подавал докладные записки то в парламент, то в палату лордов.
Один из этих последних обещал даже автору сделать по поводу его записки
интерпелляцию, но в это самое время М.А. вдруг переехал в Париж, где его
принял под свое покровительство капеллан императора.
После падения империи М.А. обратился к лиможскому епископу; однако тот
сразу понял, с кем имеет дело, и отправил просителя в больницу для
умалишенных. По выходе оттуда М.А. начал процесс против епископа.
Впоследствии он замешался в какую-то полубонапартистскую,
полуреспубликанскую шайку и, вообразив, что напал на след обширного
заговора, сообщил об этом министру Лефрану, который сначала отнесся к М.А.
серьезно и обещал рассмотреть его тяжбы, но потом, убедившись в
помешательстве мнимого профессора, поместил его в больницу св. Анны. М.А.
ябедничал там директору на всех больных, а выйдя из больницы, стал писать в
правление доносы на директоров.
В заключение приведу еще один любопытный пример, взятый мною из брошюры
профессора Морселли "Гений дома умалишенных".
Виргилий Антонелли считался у себя на родине, в Мар-хии, некоторого
рода литературной знаменитостью, хотя стихи его не отличаются особыми
достоинствами, точно так же как и написанная им автобиография. Жизнь этого
маттои-да-графомана сложилась крайне печально, отчасти по его собственной
вине. Вот как описывает ее Морселли: "Поступив на корабль юнгой в 1861 году,
он через 6 лет был подвергнут дисциплинарному взысканию, а потом в 1867
году, уже будучи матросом, просидел 8 месяцев в тюрьме за самовольную
отлучку с целью побывать в Ментане. На следующий год он опять дезертировал,
но его поймали и приговорили к суровому наказанию, которое, однако, было
отменено судом, признавшим Антонелли экзальтированным.
В 1869 году он присужден был к дисциплинарному взысканию за ругательную
статью против журнала "Dovere" и за дурное поведение. Тут ему часто
усиливали наказание, сажали на цепь, оставляли на хлебе и на воде и,
наконец, предали военному суду, который приговорил его еще к двум годам
тюремного заключения. По дороге к тюрьме Антонелли повздорил с карабинерами,
и по жалобе их Верховный совет адмиралтейства увеличил ему наказание на
шесть месяцев.
Наконец, после целого ряда других дисциплинарных наказаний, он в 1873
году был уволен в чистую отставку и, вообразив себя теперь вполне свободным
гражданином, стал вести жизнь праздношатающегося, нимало не заботясь о
гражданском кодексе законов. Но через несколько месяцев бедняк просидел
опять 6 недель под арестом в Реджио Эмилия, как не имеющий определенных
занятий. Потом его отправили на родину, откуда он ушел в 1874 году и снова
попал в тюрьму Мачерато, где его продержали более полугода. Выпущенный на
свободу, Антонелли отправился в Рим, но там его задержали за бродяжничество
и после непродолжительного ареста вернули домой. Через несколько времени ему
снова пришлось посидеть в тюрьме за оскорбительное письмо, адресованное
супрефекту, после чего суд приговорил его к отдаче под надзор полиции на
полгода. Вслед за тем он, как бродяга и праздношатающийся, попал уже в
последний раз в тюрьму, откуда сам попросил, чтобы его перевели в больницу
для умалишенных. Там он скоро ужасно надоел всем своими дерзкими выходками и
старанием перессорить больных между собою, так что в мае 1877 года его
перевезли в другую больницу".
Здесь-то и наблюдал его проф. Морселли.
"Больной обыкновенно бывает спокоен, -- пишет он, -- и только по
временам обнаруживает сильную ажитацию, но как в том, так и в другом
состоянии у него проявляются одни и те же странные идеи: он считает себя
душевнобольным, окончательно потерявшим рассудок, и в то же время непонятым
гением, первостатейным, неистощимым писателем. Поэтому у него одновременно
существуют как бы два борющихся между собою сознания, из которых каждое
заставляет его думать и действовать различным образом. Когда верх берут
здравые понятия, М.А. сознает, что он человек ненормальный, что
представления его ложны, поведение нелепо, а мрачные мысли составляют
результат болезненного возбуждения; когда же победа остается на стороне
этого последнего, М.А. впадает в мизантропию, бредит своим величием,
начинает в волнении бегать по комнатам и громко бранить всех негодяями,
лицемерами, иезуитами... В продолжение обоих этих периодов он постоянно
пишет обличения на своих врагов, причисляя к ним всякого, кто занимает в
обществе выдающееся положение по своему богатству, титулам или дарованиям.
Как социалист и крайний демократ, М.А. ненавидит аристократов и постоянно
называет себя несчастным гением, терпящим гонения от всех сатрапов,
господствующих в стране. Письменные произведения его чрезвычайно
многочисленны, так как сочинительство -- его главное занятие; в 1882 году он
писал, например, три романа зараз, из которых один назывался "Путешествие из
Анконы в Рим", другой -- "Завещание священника" и третий -- "Убитый граф".
Плодовитость его изумительна: за последние месяцы он написал несколько
эпизодов из своей скитальческой жизни, исследование относительно "обучения
пролетариев-рабочих" и вместе с тем принимал деятельное участие в "Журнале
дома умалишенных в Мачерато", для многих номеров которого составлял
ежедневную хронику больницы с передовыми статьями, шарадами, юмористическими
очерками и пр. Ко всему этому необходимо еще присоединить несметное число
записок, обращенных то к директору, то к членам своей семьи, где
высказывались самые задушевные мысли автора. Кроме того, он сочинял письма,
петиции и прошения от имени других больных и служителей, избравших его своим
секретарем. М.А. обещал написать также комедии и трагедии для нашего
маленького те-атра, устроенного в больнице. Составленный им по моей просьбе
список всех его произведений вышел до того длинен, что я не решаюсь привести
его целиком и укажу лишь на особенно характерные заглавия:
"Тайны чудовищной жестокости в морской службе, или Ретроградный
прогресс XIX столетия" -- соч. в 5 частях.
"Корабельный юнга" -- поэма в рифмованных октавах.
"Романтический сборник" -- один том.
"Избранные письма" -- один том.
"Пауперизм в Италии и средства к его уничтожению" -- поэма.
"Скучающий холостяк" -- юмористическая пьеса в 5 действиях.
Переводы с латинского (?).
Сонеты, эпиграммы, акростихи, шарады, загадки, ребусы и пр.
Статьи, напечатанные в различных журналах, как, например, в "Il Dovere,
Corriere di Marche" и пр.
Автор очень высокого мнения обо всех этих произведениях; и
действительно, хотя в них встречается перефразировка одних и тех же идей,
хотя нередко они оставляют многого желать со стороны ясности изложения, но в
них проявляется иногда увлекательное красноречие и -- что еще удивительнее
-- заметна строгая логичность, свидетельствующая об умении автора достигать
главной цели -- убедить читателя в своих необыкновенных дарованиях и в
роковой силе печальных обстоятельств, омрачивших этот светлый ум. Своими
сочинениями М.А. не только думает прославить себя, но и опозорить своих
бесчисленных воображаемых врагов, ухитрившихся столько времени продержать
его в тюрьмах. При этом он, однако, не скрывает, что ему недостает знаний по
части социологии и что убеждения его шатки; в самом деле, они до того
неустойчивы, что М.А. легко доказать, с помощью логических доводов,
нелепость его поступков и бессмысленность проводимых им идей, например
относительно социализма, интернационализма и пр. Под влиянием таких доводов
он нередко сознает неосновательность своего предположения, будто все
общества вооружились против него, причем даже сам объясняет свои заблуждения
и странные поступки расстройством своих умственных способностей, которое
вызвано роковыми случайностями его жизни, исполненной треволнений всякого
рода".
Многие из врачей психиатров, положительно отрицавших помешательство
Гито, сделали это, конечно, на том основании, что у него не замечалось той
классической формы безумия, которая выражается резко-определенными
признаками, а была лишь промежуточная, свойственная мат-тоидам, степень
душевного расстройства с примесью религиозной и горделивой мономании,
затемненной, однако, склонностью к плутовству, так редко встречающейся у
помешанных в полном смысле слова и так часто у маттоидов. Этой склонностью
Гито обладал в такой сильной степени, что она ни на минуту не изменила ему
как в течение всей его предыдущей жизни авантюриста, так и во время
процесса, что, конечно, могло ввести врачей в заблуждение при постановке
диагноза.
Действительно, нельзя не изумляться находчивости и сообразительности,
обнаруженным Гито на суде. Когда эксперт Диамонд сказал, что для решения
вопроса о том, страдает ли известный субъект умопомешательством, необходимо
очень долго наблюдать за ним и что сам он слишком недостаточно изучал
душевные болезни, чтобы ответить на этот вопрос, не рискуя ошибиться, --
обвиняемый тотчас же заметил ему: "Это самое лучшее из всего, что вы здесь
говорили". Когда после указания Гито на божественное заступничество,
сохранившее его от повешения и расстреляния, его спросили, рассчитывает ли
он и впоследствии избавиться от смертной казни, он отказался отвечать.
Умопомешательство свое он сначала отрицал, а потом начал настаивать на нем;
но убедившись, что то и другое невыгодно для него, стал избегать прямых
ответов и наконец объявил, что предоставляет решение этого вопроса
экспертам. На замечание, что подсудимый не убил бы Гарфильда, если бы тот
назначил его консулом, он возразил: "Нет, убил бы во всяком случае", хотя
раньше говорил противное. Мошеннические и безнравственные проделки свои
Гито, как мы уже видели, считал не заслуживающими внимания пустяками, а
когда ему указали на сделанные им долги, то он, нимало не смущаясь,
воспользовался этим, чтобы подразнить председателя, над которым постоянно
издевался, и сказал ему: "Я открыто просил денег у первого встречного, и он
давал мне, если мог. Когда вам будут нужны деньги, вы также можете занять у
меня".
Основываясь на том факте, что Гито выказал большую ловкость и
корыстолюбие, когда из тюрьмы написал Камерону письмо с просьбой прислать
100 долларов, причем доказывал, что имеет право на вознаграждение,
пожертвовав собою для его партии, эксперт Календер отрицал в подсудимом
всякое умственное расстройство. "Это письмо, -- сказал он, -- служит
несомненным доказательством здравомыслия Гито, так как он выказывает в нем
не только большую сообразительность при выборе лица, у которого просит
денег, но и уменье подкрепить свою просьбу вескими аргументами". Но,
по-моему, ни эта расчетливость, ни прежние мошеннические проделки не
опровергают умопомешательства Гито. В своем журнале "Архив психиатрии" я уже
доказал вместе с Альбертотти и Перотти, как часто психическое расстройство
встречается именно у мошенников и проявляется не во время суда только, но и
гораздо раньше, пример чего мы, впрочем, уже видели в Детомази. Уловки и
хитрости, употребляемые такими субъектами во время судебного разбирательства
всего чаще во вред себе, я, напротив, объясню именно тем, что у них
склонность к притворству не сдерживается рассудком и что вследствие своей
ненормальности они чувствуют и рассуждают обо всем иначе, нежели здоровые
люди. К тому же разряду явлений относится замечаемая у истеричных
полупаралитиков и алкоголиков наклонность ко лжи, притворству и клевете.
Наконец, эксперт Мак-Дональд высказал мнение, что помешанные, считающие себя
вдохновенными, действуют без заранее обдуманного намерения, не заботясь о
последствиях и не стараясь избежать ответственности, а между тем Гито
поступал как раз наоборот.
В опровержение этого мнения достаточно припомнить приведенные нами выше
эпизоды из биографии Мале, Бо-зизио, Детомази, Лазаретти и даже самого
Савонаролы.
Из всех этих примеров читатели, надеюсь, убедились в существовании
особой разновидности помешанных или полупомешанных, людей крайне
раздражительных и до такой степени тщеславных, жаждущих известности, что они
готовы добиваться ее всеми способами, но чаще всего покушением на жизнь
коронованных или важных особ. Впрочем, я не сказал здесь ничего нового. Тем
же вопросом занимались и другие врачи, и я, как мне кажется, только
обстоятельнее разобрал подобные случаи, к сожалению, слишком многочисленные.
Немало приведено их, между прочим, у Тардье в его "Судебно-медицинских
этюдах помешательства". Для большей полноты моего исследования я приведу
несколько примеров из этого сочинения.
Перед нами некто Буш-Гильтон; 59 лет, из хорошей семьи. Один из его
братьев был помешанный. В молодые годы ему пришлось несколько раз сидеть под
арестом за бродяжничество и мошеннические проделки. Во время революции 1831
года он сражался во главе отдельного отряда, причем сам произвел себя в
полковники, а по окончании военных действий потребовал, чтобы за ним
оставили это звание и дали ему вознаграждение в 75 тысяч рублей.
Не добившись ни того, ни другого и желая привлечь к себе общее
внимание, он принялся всячески досаждать правительству и распространял
гнусные сатиры на Людовика Филиппа. С толпою таких же недовольных Гильтон
ходил по улицам, продавал мазь, сделанную из костей и крови убитых на поле
сражения, а затем их трости, зонты и т.п. Арестованный за это два раза, он
таким образом добился желанной известности.
Чтобы избавиться от воображаемых врагов, он поставил у окон дома, где
жил, куклы в солдатских мундирах, а во дворе стал держать своих любимых коз
и колотил каждого, кто осмеливался заявить ему, что так нельзя поступать.
Кроме того, он вздумал возвести стену на чужой земле и, конечно, должен был
сломать ее после целого ряда тяжб; всем соседям своим он задолжал, но платил
им только одними оскорблениями.
Потом Гильтон отправился в Англию и, услыхав, что туда должен приехать
Людовик Филипп, просил у лондонского лорд-мэра позволения арестовать короля
как своего мнимого должника. Когда же приезд короля замедлился, то Гильтон,
вообразив, что Людовик Филипп боится встречи с ним, послал во Францию
формальную жалобу на короля, адресованную его собственному министру
внутренних дел. Главное занятие этого графомана состояло в писании писем,
просьб, петиций, пасквилей и пр.; он писал всегда, везде, по всякому поводу
и без всякого повода, писал королю, в различные правительственные
учреждения, депутатам и даже соседям, причем, конечно, тратил целые горы
бумаги, хотя был так бережлив на нее, что не оставлял неисписанным ни одного
уголка, а строки располагал и вдоль, и поперек, и наискось. Почерк у него
крупный, но четкий, орфографических ошибок много, выражения всегда резкие и
грубые.
Наружность у Гильтона отталкивающая, глаза плутовские, говорит он
плавно и заканчивает фразы громким смехом, постоянно употребляет клятвы и
уверения "честным словом", обвинения умеет ловко парировать. Так, например,
в суде он приводил в свое оправдание такого рода доводы: "У меня было
столько процессов, что теперешний может доставить мне только одно
удовольствие. Я отзывался непочтительно о короле не из личной ненависти, но
чтобы хотя на бумаге излить свой гнев на испытываемые мною несправедливости.
В мошенничестве меня обвинили с тою целью, чтобы лишить награды за услуги,
оказанные отечеству", и т.д.
Заметив, что эксперты склонны признать его умалишенным, Гильтон
заподозрил в них сообщников заговора, устроенного с этой целью против него
королем, и написал ему: "Ваше величество прислали ко мне троих господ, чтобы
убедить меня, будто я сошел с ума, из чего я заключил о существовании
заговора с намерением выдать меня за помешанного. Если сон вашего величества
улучшился с тех пор, как я в тюрьме, то ваше величество будете спать еще
лучше, когда меня казнят". А судье он написал: "Я прибыл во Францию для
того, чтобы досадить Людовику Филиппу, когда он увидит меня среди
сражающихся. Здесь я попался в западню. У вас остается только одно средство
избавиться от меня -- дать мне яду". И мало-помалу он действительно стал
думать, что его хотят отравить.
Талантливый адвокат Санду добился выдающегося положения только
благодаря своим заслугам, но потом за какие-то промахи был уволен от службы.
Он обратился тогда за помощью к министру Бильо, своему бывшему товарищу, и
тот несколько раз давал ему пособия, но, заметив в нем расстройство
умственных способностей, отказался от него совершенно. После этого Санду
начал преследовать министра просьбами, униженными и в то же время
угрожающими, причем ссылался именно на прежнюю помощь как на что-то
обязательное и в будущем. Его поместили в больницу, где после тщательной
экспертизы врачи признали его помешанным. По выходе оттуда он снова стал
подавать то раболепные до крайности, то надменные до безумия прошения:
называя себя в них главою несуществующей партии, жаловался, что его хотят
убить, вследствие чего грозил, что прежде он сам убьет министра, хотя его же
умолял исполнить его последнюю волю и похоронить в назначенном им месте.
Нашлись знаменитые адвокаты, в том числе Фавр, сумевшие придать этому делу
государственное значение. Когда начались общие выборы, Санду вообразил, что
Карно постарается провести его в депутаты от Парижа, затем стал мечтать о
какой-то необыкновенно блестящей женитьбе, которая ему предстоит, и
собирался писать большое сочинение о демократии, чтобы попасть в члены
парижской академии. По временам он жаловался, что крысы обгрызли ему голову,
что одна половина тела у него слабее другой, и покушался на самоубийство.
Характерную особенность его составляет громадное число написанных им в
тюрьме и на свободе сочинений и писем, переполненных постскриптумами,
подчеркнутыми словами и всегда буквально одинаковых по содержанию. Несмотря
на такие явные признаки ненормальности, многие укоряли Бильо за его
равнодушие к судьбе несчастного Санду. Вскрытие обнаружило у него в мозгу
весьма серьезные повреждения, происшедшие от менингита, и тогда только
большинство убедилось в психическом расстройстве бедного адвоката.
Некто М.А. выдавал себя за профессора Оксфордского университета,
одержавшего победу над 300 кандидатами и получающего 20 тысяч рублей
жалованья, хотя совсем не владел английским языком и плохо знал латинский;
но он изобрел такой способ обучения, с помощью которого даже не знающий
английского языка мог преподавать его. Живя в Лондоне, М.А. познакомился с
одной княгиней и вообразил, что она влюблена в него, хотя та вскоре даже
отказала ему от дома. Он издал тогда объемистый том мемуаров, где обвинял
княгиню в похищении у него портфеля; затем писал обличительные статьи против
министра и подавал докладные записки то в парламент, то в палату лордов.
Один из этих последних обещал даже автору сделать по поводу его записки
интерпелляцию, но в это самое время М.А. вдруг переехал в Париж, где его
принял под свое покровительство капеллан императора.
После падения империи М.А. обратился к лиможскому епископу; однако тот
сразу понял, с кем имеет дело, и отправил просителя в больницу для
умалишенных. По выходе оттуда М.А. начал процесс против епископа.
Впоследствии он замешался в какую-то полубонапартистскую,
полуреспубликанскую шайку и, вообразив, что напал на след обширного
заговора, сообщил об этом министру Лефрану, который сначала отнесся к М.А.
серьезно и обещал рассмотреть его тяжбы, но потом, убедившись в
помешательстве мнимого профессора, поместил его в больницу св. Анны. М.А.
ябедничал там директору на всех больных, а выйдя из больницы, стал писать в
правление доносы на директоров.
В заключение приведу еще один любопытный пример, взятый мною из брошюры
профессора Морселли "Гений дома умалишенных".
Виргилий Антонелли считался у себя на родине, в Мар-хии, некоторого
рода литературной знаменитостью, хотя стихи его не отличаются особыми
достоинствами, точно так же как и написанная им автобиография. Жизнь этого
маттои-да-графомана сложилась крайне печально, отчасти по его собственной
вине. Вот как описывает ее Морселли: "Поступив на корабль юнгой в 1861 году,
он через 6 лет был подвергнут дисциплинарному взысканию, а потом в 1867
году, уже будучи матросом, просидел 8 месяцев в тюрьме за самовольную
отлучку с целью побывать в Ментане. На следующий год он опять дезертировал,
но его поймали и приговорили к суровому наказанию, которое, однако, было
отменено судом, признавшим Антонелли экзальтированным.
В 1869 году он присужден был к дисциплинарному взысканию за ругательную
статью против журнала "Dovere" и за дурное поведение. Тут ему часто
усиливали наказание, сажали на цепь, оставляли на хлебе и на воде и,
наконец, предали военному суду, который приговорил его еще к двум годам
тюремного заключения. По дороге к тюрьме Антонелли повздорил с карабинерами,
и по жалобе их Верховный совет адмиралтейства увеличил ему наказание на
шесть месяцев.
Наконец, после целого ряда других дисциплинарных наказаний, он в 1873
году был уволен в чистую отставку и, вообразив себя теперь вполне свободным
гражданином, стал вести жизнь праздношатающегося, нимало не заботясь о
гражданском кодексе законов. Но через несколько месяцев бедняк просидел
опять 6 недель под арестом в Реджио Эмилия, как не имеющий определенных
занятий. Потом его отправили на родину, откуда он ушел в 1874 году и снова
попал в тюрьму Мачерато, где его продержали более полугода. Выпущенный на
свободу, Антонелли отправился в Рим, но там его задержали за бродяжничество
и после непродолжительного ареста вернули домой. Через несколько времени ему
снова пришлось посидеть в тюрьме за оскорбительное письмо, адресованное
супрефекту, после чего суд приговорил его к отдаче под надзор полиции на
полгода. Вслед за тем он, как бродяга и праздношатающийся, попал уже в
последний раз в тюрьму, откуда сам попросил, чтобы его перевели в больницу
для умалишенных. Там он скоро ужасно надоел всем своими дерзкими выходками и
старанием перессорить больных между собою, так что в мае 1877 года его
перевезли в другую больницу".
Здесь-то и наблюдал его проф. Морселли.
"Больной обыкновенно бывает спокоен, -- пишет он, -- и только по
временам обнаруживает сильную ажитацию, но как в том, так и в другом
состоянии у него проявляются одни и те же странные идеи: он считает себя
душевнобольным, окончательно потерявшим рассудок, и в то же время непонятым
гением, первостатейным, неистощимым писателем. Поэтому у него одновременно
существуют как бы два борющихся между собою сознания, из которых каждое
заставляет его думать и действовать различным образом. Когда верх берут
здравые понятия, М.А. сознает, что он человек ненормальный, что
представления его ложны, поведение нелепо, а мрачные мысли составляют
результат болезненного возбуждения; когда же победа остается на стороне
этого последнего, М.А. впадает в мизантропию, бредит своим величием,
начинает в волнении бегать по комнатам и громко бранить всех негодяями,
лицемерами, иезуитами... В продолжение обоих этих периодов он постоянно
пишет обличения на своих врагов, причисляя к ним всякого, кто занимает в
обществе выдающееся положение по своему богатству, титулам или дарованиям.
Как социалист и крайний демократ, М.А. ненавидит аристократов и постоянно
называет себя несчастным гением, терпящим гонения от всех сатрапов,
господствующих в стране. Письменные произведения его чрезвычайно
многочисленны, так как сочинительство -- его главное занятие; в 1882 году он
писал, например, три романа зараз, из которых один назывался "Путешествие из
Анконы в Рим", другой -- "Завещание священника" и третий -- "Убитый граф".
Плодовитость его изумительна: за последние месяцы он написал несколько
эпизодов из своей скитальческой жизни, исследование относительно "обучения
пролетариев-рабочих" и вместе с тем принимал деятельное участие в "Журнале
дома умалишенных в Мачерато", для многих номеров которого составлял
ежедневную хронику больницы с передовыми статьями, шарадами, юмористическими
очерками и пр. Ко всему этому необходимо еще присоединить несметное число
записок, обращенных то к директору, то к членам своей семьи, где
высказывались самые задушевные мысли автора. Кроме того, он сочинял письма,
петиции и прошения от имени других больных и служителей, избравших его своим
секретарем. М.А. обещал написать также комедии и трагедии для нашего
маленького те-атра, устроенного в больнице. Составленный им по моей просьбе
список всех его произведений вышел до того длинен, что я не решаюсь привести
его целиком и укажу лишь на особенно характерные заглавия:
"Тайны чудовищной жестокости в морской службе, или Ретроградный
прогресс XIX столетия" -- соч. в 5 частях.
"Корабельный юнга" -- поэма в рифмованных октавах.
"Романтический сборник" -- один том.
"Избранные письма" -- один том.
"Пауперизм в Италии и средства к его уничтожению" -- поэма.
"Скучающий холостяк" -- юмористическая пьеса в 5 действиях.
Переводы с латинского (?).
Сонеты, эпиграммы, акростихи, шарады, загадки, ребусы и пр.
Статьи, напечатанные в различных журналах, как, например, в "Il Dovere,
Corriere di Marche" и пр.
Автор очень высокого мнения обо всех этих произведениях; и
действительно, хотя в них встречается перефразировка одних и тех же идей,
хотя нередко они оставляют многого желать со стороны ясности изложения, но в
них проявляется иногда увлекательное красноречие и -- что еще удивительнее
-- заметна строгая логичность, свидетельствующая об умении автора достигать
главной цели -- убедить читателя в своих необыкновенных дарованиях и в
роковой силе печальных обстоятельств, омрачивших этот светлый ум. Своими
сочинениями М.А. не только думает прославить себя, но и опозорить своих
бесчисленных воображаемых врагов, ухитрившихся столько времени продержать
его в тюрьмах. При этом он, однако, не скрывает, что ему недостает знаний по
части социологии и что убеждения его шатки; в самом деле, они до того
неустойчивы, что М.А. легко доказать, с помощью логических доводов,
нелепость его поступков и бессмысленность проводимых им идей, например
относительно социализма, интернационализма и пр. Под влиянием таких доводов
он нередко сознает неосновательность своего предположения, будто все
общества вооружились против него, причем даже сам объясняет свои заблуждения
и странные поступки расстройством своих умственных способностей, которое
вызвано роковыми случайностями его жизни, исполненной треволнений всякого
рода".
Популярность: 3, Last-modified: Fri, 23 Nov 2001 09:32:06 GmT